Алексей Ивакин «Здесь начинается ад». От Демянского «котла» до Синявинских высот
Три бестселлера одним томом
Десантура-1942. В ледяном аду
Посвящается поколению победителей.
…Так лучше представь меня мертвого, Такого, чтоб вспомнить добром, Не осенью сорок четвертого, А где-нибудь в сорок втором. Где мужество я обнаруживал, Где строго, как юноша, жил, Где, верно, любви я заслуживал И все-таки не заслужил. Представь себе Север, метельную Полярную ночь на снегу, Представь себе рану смертельную И то, что я встать не могу… К. Симонов «Мы оба с тобою из племени…»1
– Имя, звание? – сказал офицер.
«Хорошо, скотина, шпарит, почти без акцента… Из прибалтийских, что ли?»
– Имя, звание? – повторил немец.
Пленный криво улыбнулся:
– Документы перед тобой. Зачем спрашиваешь?
Немец поднял голову и поморщился:
– Имя? Звание?
«Вот заладил…» – подумал пленный.
– Тарасов. Николай Ефимович. Подполковник.
Офицер кивнул и зачеркал чернильной ручкой по бумаге.
– Должность?
– Командир первой маневренной воздушно-десантной бригады.
Тарасов улыбнулся краешком рта.
Офицер положил ручку:
– Обер-лейтенант Юрген фон Вальдерзее. Я буду вести допрос. И в ваших интересах не молчать, а говорить. Вы согласны?
«А фразы-то не по-русски строит… – Тарасов снова едва улыбнулся. – Ну, черт немецкий… Хочешь, значит, информацию получить? Будет тебе, тонконогий, информация…»
– Родился в Челябинской области. Девятого мая. Четвертого года.
– Значит, вам скоро будет тридцать восемь?
– Вряд ли. Я не доживу до тридцати восьми.
– Почему? – удивился обер-лейтенант, подняв брови. – Война для вас закончена. Вы в плену.
– Война для меня никогда не закончится, – ответил Тарасов.
Немец опять удивился, но сказать ничего не успел, потому что подполковник Тарасов резко побледнел и, закрыв глаза, повалился на левый бок. Обер-лейтенант вскочил и заорал на немецком:
– Der Artz! Schnell! Schnell!!
Но Тарасов пришел в себя и диким усилием воли заставил себя выпрямиться.
– Не ори! – почти шепотом сказал подполковник.
Фон Вальдерзее его не услышал. В избу ввалился караул. Обер-лейтенант что-то рявкнул им. Что – Тарасов не понял. Звуки перемешивались в затуманенном сознании. Немец то двоился, то троился в глазах. Подполковник старался держаться прямо. Ему казалось, что это удается. Он не замечал, как качается на грубо сколоченной табуретке. Из стороны в сторону. Он старался держаться. И Тарасов держался. Хотя со стороны кому-то показалось бы смешным – пьяный мужик сидит и качается из стороны в сторону…
Укол в предплечье. Чуть полегчало. Отрывистая немецкая речь за спиной. Тарасов улавливал только отдельные слова:
– …Дистрофия…..Голод…..Умереть…..Еда…
Он пришел в себя, прямо перед носом образовалась из ниоткуда кружка, пахнущая мясом. Он жадно, не сдерживаясь, схватил ее. Выпил залпом. Через секунду вырвало. После месяца войны и голода организм не принимал еду. Отучился. Перед глазами появился стакан. С красной жидкостью. Вяло он выпил ее. Горячим прокатило по пищеводу. Тарасов вскинул голову.
Вино придало сил. Сознание прояснилось.
– Эншульзиген зи битте, – вытер он рот.
Обер-лейтенант удивился. Пока в первый раз:
– Вы знаете немецкий язык?
– У меня жена немка. Была.
Обер-лейтенант приподнял бровь.
– Ja?
– Я, натюрлих.
– Вам удобнее говорить на русском?
* * *
…По средам они разговаривали с Наденькой на английском. По пятницам – на немецком. Четверг и суббота были заняты греческим и латынью. Вторник – французский день. Она не закончила Смольный. Не успела. Старше его на четыре года – революцию встретила сначала восторженно. Потом настороженно. Потом со страхом…
…Станция орала гудками паровозов. Колчаковцы отступали по всему фронту. Красные давили, давили, давили. Везде. Каппелевцев перебрасывали из Перми на другой участок разваливающегося фронта. Усталые, изможденные, почти без патронов. Они сидели в столыпинских вагонах и безучастно смотрели на беснующуюся толпу, пытавшуюся прорваться через оцепление. Пятнадцатилетний Колька смотрел поверх голов, сжимая в руках заиндевелую винтовку без патронов. Внезапно он зацепился за удивительно-зеленый взгляд. Она стояла, прижавшись спиной к выщербленной стене вокзального здания. Невысокая, худенькая, рыженькая – даже платка на ней не было – она смотрела перед собой и в глубь себя.
Зацепился, оказывается, не он один.
На платформу спрыгнул поручик Товстоногов. Растолкав толпу, он пробрался к барышне, молча схватил ее за руку и потащил к вагону. Та не сопротивлялась. Как кукла. Поручик врезал кому-то по морде, ткнул в бок какую-то визжащую бабу, но вытащил буксиром зеленоглазку к вагону.
– Прими!
Коля неловко схватил зеленоглазку за ледяные руки.
– Под руки хватай! – сердито рявкнул поручик.
Солдаты спохватились, ровно выдернулись из дремотного равнодушия и помогли Коле втащить девчонку в вагон.
Толпа, увидев такое дело, взревела, колыхнулась и порвала тонкую цепочку охранения. Но поезд уже тронулся. Девушку уложили на кучу гнилой соломы, укрыли запасной – дырявой и окровавленной – шинелью.
– Поручик Товстоногов, честь имею! – коротко бросил барышне командир роты. Впрочем, что в той роте-то было? Тридцать штыков…
Она не ответила. Просто смежила веки и уснула. Коля поднял ворот шинели, уткнулся в мерзлый драп холодным носом и уставился на проплывающие бараки пригорода.
«Отче наш… Иже еси на Небеси…» – скорее по привычке, нежели сознательно читал он древние слова.
Каждый мальчик играет в работу своего отца. Так когда-то и Коля играл в Литургию…
«Отче наш… Иже еси на Небеси…»
– Тарасов!
– Я, ваше благородие! – очухался он от некрепкого сна.
– Следи за барышней, а я присплю, – поручик с силой протер красные глаза.
– Так точно, ваше благородие! – не вставая с тряского пола, козырнул вольноопределяющийся Коля Тарасов, мальчик пятнадцати лет.
Товстоногов захрапел, показалось, не коснувшись щекой бурки, на лету.
Коленька же подполз на коленках к девушке. И снова залюбовался ею. Маленький носик, высокие скулы, прыщик на лбу…
Обычная девушка, коих он встречал десятки, а может, и сотни раз.
Пермь, хотя и маленький город, но все же, все же…
И вот она. Нашлась. Маленький ангел на полу в «Столыпине», на охапке грязной соломы, под не менее грязной шинелью…
Ровно Та, которая девятнадцать веков назад…
Коля резко отвернулся, прогоняя кощунственные мысли.
«…Да святится Имя Твое… Да пребудет, пребудет…» – не удержался и вновь посмотрел на нее…
Она открыла глаза, зеленые-презеленые. И улыбнулась.
Коля сухо сглотнул. И кивнул, старательно подражая поручику:
– Вольноопределяющийся Тарасов к вашим услугам!
Вольноопределяющийся звучало как-то солиднее, чем рядовой. По чести говоря, у Коленьки Тарасова и звания-то еще не было. Звание дают после присяги. А кому присягать? Вот этим глазам и надо присягать…
– Надя… – тихо прозвучало в ответ. – Надя Кёллер…
Он осмелился и погладил ее по руке.
– Вы в безопасности, мадемуазель… Вы в эшелоне генерала Каппеля! – и мужественно приподнял подбородок, не знавший бритвы.
Она тихо улыбнулась, не сводя с него глаз.
Потом провела рукой по своей короткой рыжей прическе:
– Тиф… Извините, Николя…
Он знал, что такое тиф. Из семи сестер и братьев выжили только он и младший, Женька, оставшийся с родителями. Пять лет ему. А Коля пошел воевать. За Родину.
Он протянул руку и погладил ее по щеке, едва не падая в обморок от собственной наглости.
Она закрыла глаза и с силой вжалась в его руку.
Кто-то из солдат в углу громко испортил воздух.
Коля закусил губу, а Надин хихикнула.
А потом разорвался снаряд. Паровоз резко стал тормозить. Откуда-то сверху повалились мешки. Коля упал сверху на Надю, прикрывая ее своим телом.
Злая пулеметная очередь прошла по стенке вагона. А он чувствовал только ее горячее дыхание на своей щеке.
Поручика убило сразу. Осколком. В шею.
И совсем некрасиво. Не как в книжках. Он плескал кровью, судорожно дергая руками и ногами, а через него перепрыгивали солдаты и сразу ныряли в придорожные сугробы.
– Прости… Я вернусь! – прошептал Коля. И дернулся было в холодный проем вагона.
– НЕТ! – вскрикнула Надин и схватила его за обшлаг шинели. – Так уже было. Так уже было! – запричитала она. – ТАК УЖЕ БЫЛО! ТЫ СЛЫШИШЬ?
Мальчик ошалело обернулся на нее:
– Что было?!?
– Сейчас нас убьют! – Глаза у нее побелели от страха. Снаружи вагона был слышен крик, рев, мат, стрельба и взрывы.
Коля снова дернулся из ее рук, выронил винтовку – та грохнула об доски громче трехдюймовки, – ударил ее по щеке:
– Отпусти! Я вернусь, слышишь?
– Никто не вернется… – вдруг отпустила она его. Потом твердо так посмотрела ему в глаза, – потому что некуда возвращаться.
– Я вернусь, – сквозь зубы ответил ей мужчина, минуту назад бывший мальчишкой. И бросился к вагонному проему.
– Руки, сволочь белогвардейская!
Трое солдат – один в буденовке с огромной красной звездой, двое в солдатских, еще царских, папахах, на угол перевязанных красной лентой – выставили навстречу ему штыки.
Мальчишка, секунду назад бывший мужчиной, резко остановился. И поднял руки.
– Наши! – вдруг выдохнул голос за спиной. – Господи, наши!
Один из солдат заглянул за спину Коле:
– Эт кто там нашкает?
– Срочно свяжите меня с комиссаром армии, остолопы! – рявкнула вдруг Надя.
– Связать-то свяжем… – ухмыльнулся тот, который в буденовке. – И поиграем как следует!
– Тебя тогда на картинки для детишек порвут, ур-р-род! – рыкнула «барышня». – Быстро связать с комиссаром!
– Да ладно, че ты… – аж попятился от напора красноармеец. – А этого куда? В распыл? – Духонин обождет. Это… Это муж мой!
– Хых! Че-т мелковат для мужа!
– Это у тебя мелковат. У него в самый раз! – отбрила она.
Красные заржали.
Надя спрыгнула из вагона:
– Вот мандат! Читай, коли грамотный!
Красноармеец в буденовке взял бумажку. Перевернул ее вверх ногами и начал старательно делать вид, что читает ее. Даже не забывал шевелить губами.
Наконец он, устав притворяться грамотным, скомандовал:
– Геть энтих в самовозку.
Колю и Надю подвели к легковому автомобилю. Трофейному, еще не успели замазать французские знаки на дверях.
А Коля Тарасов ошалевал…
Надя – красная шпионка? Да не может быть! Это… Это слишком! Она не могла так притворяться! Потому что – это же ОНА!
Она молчала всю дорогу.
Она не обращала никакого внимания на Николеньку.
Он попытался взять ее за руку.
Она просто убрала свою ладонь.
Он заиграл желваками и зажмурился. А потом положил ей руку на колено.
Она никак не отреагировала.
Он открыл глаза и посмотрел на нее.
Ледяной кристалл ее взгляда убил его.
И он умер.
Воскрес только тогда, когда прозвучал выстрел.
Машина вильнула, съехала с дороги и ударилась в дерево.
Когда он пришел в себя – рядом никого не было.
Только труп шофера. И дымящаяся кровь…
* * *
Первая маневренная воздушно-десантная бригада в конце февраля сорок второго года была перекинута в деревню Выползово Демянского района Новгородской области. К линии фронта. Наконец-то! Молодые парни – уроженцы Кировской и Пермской областей – всю зиму ругали начальство. Бригада начала формирование еще осенью сорок первого. Осенью! В самые тяжелые дни немецкого наступления под Москвой, когда под танки Гудериана ложилось народное ополчение, военкомы отбирали самых крепких, самых здоровых в десант. Долгих пять месяцев на глубоко тыловой станции Зуевка парни постигали науку маневренной войны.
Немцы уже получили по зубам в декабре и январе. А десантура все еще бегала на лыжах, прыгала с парашютом, стреляла по мишеням.
Как же это злило!!
А комиссар бригады Мачихин утешал, мол, виды на вас, комсомольцы, Ставка имеет. В Берлин забросят, чтобы фюреру усы оторвали. На том война и закончится! Некоторые, между прочим, верили!
А как ни ждали, как ни просили – отправка на фронт произошла неожиданно. Ночью подняли по тревоге и марш-броском на станцию. Солдату собраться, что подпоясаться, так вроде при старом режиме говорили?
И вот они на войне… Впрочем, нет. Еще в тылу. Еще идут сборы.
Сержант Фомичев тщательно следил, чтобы его отделение было готово к заброске в тыл к фашистам незамедлительно. Боеприпасы, гранаты, оружие, взрывчатка, санпакеты, продукты…
– Ты слышал, что комроты сказал? – ругался кто-то из бойцов Фомичева. – Продуктов брать на три дня. Не больше. А там нас немцы кормить будут!
– Свинцом! – хохотнули в ответ.
– Тоже вариант! Но я предпочитаю мясо!
– Немецкое?
– Свиное!!
Парни весело паковали вещмешки. С хохотками, с шуточками, прибауточками…
Фомичев вдруг увидел, как один из бойцов его отделения стал выкладывать тушенку из вещмешка.
– Не понял… Боец, ты чего? Ты чего делаешь?
– Тяжелый мешок, товарищ сержант, я столько не подниму! Вернее, поднять-то смогу, а вот нести долго…
– Ты туда чего наложил?
– Да я подумал, я ж автоматчик. Мне ж полтыщи патронов мало. Решил тыщу взять. А продукты с фрицев возьмем! – молоденький пацан, с красивым, почти девичьим лицом, невинно хлопал пушистыми ресницами. – Ну что полтыщи? Восемь дисков всего. На пару боев. А когда там еще боеприпасы подкинут? Так что уж лучше патроны, чем тушенка.
Фомичев – ветеран финской, с орденом Красного Знамени на груди, молчал. Рядовой Петя Иванько был прав. Прав стратегически, но вот тактически…
– Бери патроны, – кивнул командир отделения – в просторечии комод. Затем нагнулся, поднял со снега четыре консервные банки и сунул в карманы полушубка.
Война войной… А пожрать не мешает никогда. Фомичев подошел к своему вещмешку, набитому под завязку всякой всячиной – в том числе и сухарями, – дернул за шнурок и начал трамбовать груз неудобными консервами.
– Товарищ сержант, а товарищ сержант? – Иванько растерянно смотрел на сержанта. – А зачем вы это делаете?
– Спасибо потом скажешь, – буркнул в ответ сержант, впихивая последнюю консерву между бруском тола и шерстяными носками.
Иванько хлопал густыми ресницами, глядя, как командир его отделения распихивал тушенку по вещмешку.
Рядовой Иванько прибыл недавно. На замену разбившемуся Ваське Перову. У Васьки парашют не раскрылся. Оставались сутки до фронта. И вот вместо Васьки – пацаненок Иванько.
Фомичев, наконец, распрямился:
– Собирайся, боец. На войну скоро!
2
– …Я предпочитаю говорить на русском, господин обер-лейтенант…
Фон Вальдерзее пожал плечами:
– Дело ваше. Мне все равно, на каком языке вы разговариваете. Итак, вы женились на Надежде Кёллер, урожденной немке?
– Нет.
– Я, кажется, плохо понимаю вас…
– Я сам себя плохо понимаю, герр лейтенант!
Немецкий офицер потряс головой.
– Я ушел лесами и вернулся домой. И снова начал учиться в семинарии.
– Разве церковные школы не были закрыты при Советах?
– Не везде. Мой отец был священником в глухой деревушке. Белохолуницкий уезд. Волость – Сырьяны. До революции я учился в Пермской семинарии. После войны – дома, у отца. Мне сложно это объяснить, герр обер-лейтенант.
– Ничего, это несущественно. В каком году вы стали служить в Красной Армии?
– В двадцать первом.
– Вам было семнадцать лет?
– Да. Мне было семнадцать лет.
– Я не понимаю… – пожал плечами немец и нервно заходил по кабинету. – Вы воевали у Колчака. Вы сын священника. Вы учились в семинарии, когда Христова вера была под запретом. Но вы пошли в Красную Армию? Почему?
Подполковник потер лоб:
«Вот как этому хлыщу объяснить, что я искал Надю?»
– Из чувства самосохранения, герр обер-лейтенант. Да, я сын священника. Священника, – убитого ревкомовцами. Меня могли так же убить как контру. – Тарасов побледнел и слегка качнулся на стуле.
– Как вы себя чувствуете, герр Тарасов? Прикажете подать чаю?
– Лучше сигарету…
* * *
Изба была густо натоплена.
Военсовет Северо-Западного фронта решал последние задачи перед выброской десантников в тыл к немцам.
Начальник штаба фронта, генерал-майор Ватутин, стоял у стены, водя указкой по карте.
– Итак, товарищи командиры, как мы знаем, в результате нашей операции, при участии Калининского фронта, мы заперли в котле части второго армейского корпуса в районе Демянска. Это наше первое окружение противника за эту войну, товарищи! Первое крупное окружение! По данным разведки и партизан, в котле сейчас находятся не менее пятидесяти тысяч немецких оккупантов. Есть два варианта, товарищи командиры. Либо мы ждем, когда фрицы сами вымерзнут в котле, либо делаем гамбит.
– Товарищ Ватутин, можно без загадок? – поморщился командующий фронтом генерал-майор Павел Алексеевич Курочкин.
– Конечно, товарищ генерал-майор! – кивнул Ватутин и продолжил: – Смотрите сами, товарищи командиры, котел похож на колбасу. Вот мы и предлагаем пошинковать ее.
Переждав смешки, Ватутин продолжил:
– Дело в том, что немцы пытаются пробить коридор к окруженным в районе Рамушево, – карандаш скользнул к западной оконечности котла. – А также немцы сформировали воздушный мост снабжения, по которому проходит до двухсот транспортных самолетов в сутки. Задачи, товарищи командиры, просты. Пока фронт будет сдавливать кольцо окружения, первой маневренной воздушно-десантной бригаде под командованием подполковника Тарасова и двести четвертой воздушно-десантной бригаде под командованием подполковника Гринева поручается… С севера котла выйти в район болота Невий Мох, оттуда атаковать цели. Первое – аэродром в деревне Глебовщина. Разрушив аэродром, мы нарушим обеспечение демянской группы войск противника. Второе – атаковать деревню Добросли, где находится штаб второго армейского корпуса немцев. Командующего корпусом зовут…
Ватутин зашелестел бумажками:
– Генерал Брокдорф-Аленфельд. Барон, наверное… Или граф. Неважно. Попутно уничтожать гарнизоны противника в деревнях и селах котла.
Тарасов хмыкнул, представляя картину…
– Что смешного, товарищи командиры? – Генерал-лейтенант даже побагровел, когда услышал фыркание командиров.
– Ничего особенного, товарищ комфронта… – подал голос подполковник Гринёв. – Просто вы посылаете нас…
Павел Алексеевич резко помрачнел:
– Я знаю. Я знаю, мужики, куда и зачем вас посылаю. Буду помогать, чем смогу. Обе бригады обеспечим под завязку всем. Оружие, боеприпасы, продовольствие… Как только выйдете на место сосредоточения – сделаем воздушный мост. А после соединения с двести четвертой – атакуете Добросли. Решать будете по обстановке – блокировать село или захватывать.
– Товарищ генерал-лейтенант… – сжал кулаки Тарасов.
– Начштаба, доложи им результаты разведки…
Ватутин – полноватый и улыбчивый генерал-майор – методично стал рассказывать Тарасову и Гринёву о недавней разведке боем батальоном двести четвертой бригады:
– Пятнадцатого февраля сего года в котел был заброшен третий батальон бригады подполковника Гринёва.
Гринёв кивнул.
– Восемнадцатого же февраля из солдат дивизии СС «Мертвая голова» формируется специальное подразделение для борьбы с парашютистами под командованием бригадефюрера СС Симона. Группа имеет на вооружении бронетехнику, одной из основных задач группы является прикрытие важнейших объектов, включая аэродромы. Это элитная дивизия. Об уровне ее подготовки свидетельствует уже тот факт, что ее солдаты практически никогда не уклоняются от рукопашного боя с нашими войсками, что среди немцев является скорее исключением, чем правилом. Вот примерно так.
– То есть нас уже ждут?
– Не так много и ждут, товарищ подполковник, – продолжил начштаба. – В котле, по данным нашей разведки, около пятидесяти тысяч немцев. Из них не менее сорока пяти на передовой. Внутри же самого котла – не более пяти. Второй армейский корпус и часть десятого армейского корпуса шестнадцатой армии фашистских войск, в составе двенадцатой, тридцатой, тридцать второй, сто двадцать третьей, двести девяностой пехотных дивизий и элитная дивизия СС «Тотенкопф», что значит…
– Мертвая голова… – машинально сказал Тарасов. – Уже говорили.
– Что? – отвлекся Ватутин. – А… Да. «Мертвая голова».
Курочкин резко распрямился:
– Что у вас с вооружением, доложите!
Тарасов встал, одернув кожаную курточку. В доме, где квартировал штаб фронта, было жарко. Но почему-то знобило. Сквозняк, что ли?
– На семьдесят пять процентов вооружены винтовками типа «СВТ». Остальные трехлинейками и «ППШ». Минометный дивизион – три батареи по четыре миномета калибра пятьдесят миллиметров в каждой. Кроме того, в дивизионе два миномета калибра восемьдесят миллиметров. В каждом батальоне по минометной роте по шесть минометов калибра пятьдесят. В бригаде двенадцать противотанковых ружей. Противогазов нет.
– Противогазы вам на хер не нужны… – буркнул Курочкин. – Лучше по лишней обойме возьмете.
– С продовольствием как? – спросил Тарасов.
– Тыловик что скажет? – повернулся Курочкин к интенданту первого ранга Власову.
– Паек на три дня выдан. Остальное зависит уже не от меня… – пожал тот плечами.
– А от кого? – удивился комфронта. – От меня, что ли?
– От авиации, товарищ генерал-лейтенант. Только от авиации.
– Авиация будет. Полковник! Почему в доме холодно?
Дремавший в углу худощавый адъютант вздрогнул как от удара и, просыпаясь на ходу, выскочил из избы. Через минуту за окном послышался его начальственный мат…
– Авиация будет. «ТБ-3» и «уточки». Тридцати самолетов будет достаточно, – продолжил Курочкин. – Подполковник Тарасов, как поняли задачу? Доложите…
Тарасов снова встал:
– Переходим линию фронта. Сосредотачиваемся в районе Малого Опуева на болоте Невий Мох. Соединяемся с двести четвертой бригадой подполковника Гринёва. Затем уничтожаем аэродромы в районе Гринёвщины. После этого атакуем Добросли, где уничтожаем штаб немецкой группировки…
Доклад Тарасова был прерван грохотом дров, брошенных бойцом возле печки.
– Продолжайте, – поморщившись, сказал Курочкин.
– После этого вместе с бригадой подполковника Гринёва двигаемся в сторону реки Бель, где и идем на прорыв. Товарищ генерал-лейтенант… Хотелось бы уточнить вопрос. Кто из нас будет осуществлять общее руководство операцией в тылу противника?
Тарасов понимал, что выглядит сейчас карьеристом и дураком, поднимая такой вопрос первым. Но успех всей операции, как думалось ему, зависел от этого не меньше, чем от проблем снабжения.
Но комфронта понял Тарасова по-своему…
– Подполковник! Что вы себе позволяете! Вы отвечаете за свою бригаду, Гринёв за свою. Координация действий будет осуществляться здесь. Здесь! Понятно? – Генерал-лейтенант ударил кулаком по столешнице.
Словно в ответ на это боец уронил у печки еще одну охапку дров.
– Пшел вон! – рявкнул бойцу Курочкин. – Штаб фронта, а как бордель! Один себе командование выторговывает, другой дровами кидается! Епт! Тарасов, объясните, почему вы отказываетесь от выброски бригады самолетами?
– Павел Алексеевич… Я уже докладывал… В письменном виде, между прочим…
– Дерзите, Тарасов, ой, дерзите…
Тарасов заиграл желваками:
– Зима. Глубина снежного покрова в среднем достигает метра. По такому снегу будет затруднительно собрать бригаду в течение ночи. Поэтому предпочтительнее переходить линию фронта между опорными пунктами немцев.
– Вам, конечно, виднее, – Курочкин слегка остыл. Помолчал. Подумал. И сказал: – Выход бригады назначаем на девятое марта. Послезавтра. Вопросы есть? Вопросов нет. Все свободны.
Тарасов и Гринёв переглянулись. Комбриг приложил руку к голове и, четко развернувшись, почти печатая строевой шаг, вышел из избы вслед за командирами штаба.
* * *
Десантники не всегда падают с неба.
Хотя бригада и готовилась еще в Зуевке к прыжкам, линию фронта бригада переходила на лыжах. Да, по-честному, какая там линия фронта? Все представляли ее огненной дугой, ощетинившейся злыми пулеметными очередями и тявканьем минометов. А тут немцы сидели в опорных пунктах – бывших деревнях. И, как правило, вдоль дорог. Потому как Демянский край – это сплошные болота. Незамерзающие. Только сверху метровый слой снега. Вот по нему десантники и шли на лыжах в рейд по немецким тылам.
Ночь. Мартовский легкий морозец. Белые призраки на белом снегу.
– Витек, постой…
– Ну чего там? – раздраженно обернулся сержант Витька Заборских.
– Крепление, будь оно неладно…
– Почему перед выходом не проверил? – зло спросил командир отделения.
– Да проверил я! – шепотом возмутился рядовой Шевцов. – Пружина натирает чего-то…
– Не ори! – свистяще ответил сержант. – Чего она у тебя там натирает?
– Да пятку…
– Разворачивайся и ползи назад. В расположение! Мне криворукие и косоногие тут не нужны. Сказал же еще вчера – все подогнать! – Сержант окончательно разозлился.
– Да подогнал я, Витек! Ботинки промокли, блин… Внизу вода сплошняком!
– Обратно, говорю, ползи!
– Не поползу! – набычился Шевцов. – У меня, между прочим, взрывчатка. И что я там скажу?
– А что я лейтенанту скажу, если ты, скотина, все отделение тормозишь, а значит, всю роту!
– Еще всю бригаду, скажи… – обозлился Шевцов, дергая что-то под снегом.
– Вань, бригада – это мы!
– Скажешь, тоже…
– А кто еще?
Шевцов ничего не ответил, яростно дергая пружину крепления, впившуюся в промокший задник правого ботинка и натиравшую сухожилие. Кажется, ахиллово? Так его доктор на санподготовке называл?
– Ладно, Вить… Пошли. На привале посмотрю. Поможешь?
– Помогу. Только до привала еще как до Берлина раком.
– Доберемся и до Берлина.
Слева взлетела немецкая ракета.
Немцы их пускали экономно. Все-таки в котле сидели. Обычно не жалели ночью ни освещение, ни патроны. А здесь сидят как мыши. Раз в пятнадцать минут запускают. Еще реже шмальнут куда-то очередью. Или того смешнее – одиночным. Больше намекая нашим – не спим, не спим! Нечего к нам за языками лазать!
А мимо почти три тысячи человек в белых маскхалатах в тыл проходят!
«Блин, как же все-таки тяжело идти!» – подумал Заборских, утирая пот с лица. Шли они на лыжах охотничьих. Широких – с ладонь. По целику на них не бегают. Ходят, высоко поднимая ноги. Колено до пояса. На каждому шагу. И так пятнадцать километров…
Под утро поднялась метель.
Идти стало сложнее. Но зато хоть как-то следы заметало… Впрочем, после такого стада:
– четыре отдельных батальона;
– артминдивизион;
– отдельная разведывательно-самокатная рота;
– отдельная саперно-подрывная;
– рота связи;
– зенитно-пулеметная рота.
Две тысячи шестьсот человек в промежутке между двумя опорными пунктами – Кневицы и Беглово, – а это всего лишь пять-шесть километров поля.
Впрочем, метель не помогла…
Когда рассвело, бригада устроилась на дневку…
– Шевцов, что у тебя с креплением?
– Не только у него, сержант, – откликнулся ефрейтор Коля Норицын. – Почитай, пол-отделения маются. А то и полроты. А стало быть, и полбригады.
Заборских ругнулся про себя. Несмотря на морозную зиму – в феврале до минус сорока двух доходило, – болота так и не замерзли.
Десантники проваливались до самой воды – сами здоровяки и груз у каждого полцентнера.
Сначала думали идти в валенках. Хотя днем и припекало уже по-весеннему, ночью мороз трещал, опускаясь до двадцати пяти, а то и тридцати. Но потом комбриг приказал идти в ботинках. А крепление по ботинку скользит, сволочь, и начинает по сухожилию ездить вверх-вниз. Некоторые уже пластырями потертости заклеивают.
– Все живы? – подошел комвзвода, младший лейтенант со смешной фамилией Юрчик.
– Так точно, товарищ командир! – козырнул Заборских. – Только вот…
– Знаю, – оборвал его комвзвода. – Решим этот вопрос. Пока отдыхайте. Костры не разводить. Не курить. Паек не трогать.
– А как тогда отдыхать? – спросил кто-то из десантников.
Млалей обернулся на голос:
– Можешь посрать сходить. Только бумаги тебе не выдам. Так что пользуйся свежим снежком. Вот тебе и развлечение.
Отделение тихо захихикало. Тихо, потому что все, в немецком тылу уже…
– Воздух! – сдавленно крикнул кто-то.
С северо-запада донесся басовитый гул.
Через несколько минут, едва не касаясь макушек деревьев, над бригадой проползли три огромных самолета.
– Транспортники… – вполголоса, как будто его могли услышать пилоты, сказал Юрчик.
– «Юнкерсы»? Полсотни два? Да, товарищ младший лейтенант? – спросил его самый мелкий в отделении – семнадцать лет, почти сын полка! – Сашка Доценко.
– Да, немцы их тетками кличут…
Последняя «тетушка» уже уползала дальше, в сторону Демянска, как вдруг раздался выстрел, второй, третий!
– Бах! Бах! Бах!
«СВТшка»!
А самолет так же величаво удалился. Как будто бы и не заметил…
– Кто стрелял?! Кто стрелял, твою мать?!
– Писец котенку, срать больше не будет… – меланхолично сказал Шевцов.
Вокруг забегали, засуетились люди.
Минут через пять к командованию бригады потащили провинившегося.
Заборских зло посмотрел на провинившегося косячника. А потом повернулся к своему отделению:
– Стрельнут сейчас паразита. И поделом. Чуть всю бригаду не спалил, урод. Ты, Доценко, скажи-ка мне – кто такой десантник?
– Десантник есть лучший советский воин, товарищ сержант!
– А что значит лучший?
– Значит самый подготовленный в плане стрельбы, рукопашного боя, знания уставов…
– И?
– И дисциплины, а также морально-политической подготовки!
– Молодец, Доценко! Оружие в порядке?
– Обижаете, товарищ командир!
– Немец тебя как бы не обидел.
– Я немца сам обижу, мало не покажется!
Заборских покачал головой:
– Сомневаюсь… Покажи-ка оружие.
Доценко протянул «светку» настырному, как казалось, командиру отделения.
А в небе опять загудело.
– Суки! – чертыхнулся кто-то, когда над лесом пронеслась тройка «Юнкерсов». Но уже не толстых «теток». А лаптежников-пикировщиков.
Правда, в пике они не заходили. Начали, твари, работать по площадям.
Мелкие бомбы сыпались горохом. То тут, то там – бум! бум! бум!
Один особо близкий разрыв накрыл сержанта Заборских снегом, крупицами земли и мелконькими щепочками.
Хорошо, что не видели, куда бомбить, твари!
И так два часа! Одна тройка улетит, другая прилетит! И с места не двинуться…
* * *
– Расстрелять к чертовой матери дурака! – орал Тарасов. – Не успели в котел войти – уже потери! Сколько?
Командир бригады резко повернулся к подошедшему начальнику медицинской службы.
– Девятнадцать убитых. Двадцать шесть раненых. Тяжелых десять, товарищ подполковник.
– Урод! – Тарасов схватил за грудки невысокого белобрысого десантника. – Ты понимаешь, что натворил? Два взвода вывел из строя. Два взвода! Из-за таких, как ты, вся операция под угрозой срыва.
Парень только хлопал белесыми ресницами.
– Расстрелять!
Пацан вдруг заплакал и попытался что-то сказать, но бойцы комендантского взвода подхватили его под руки и потащили в сторону.
– Товарищ подполковник, можно на пару слов? – Комиссар бригады отвел в сторону Тарасова.
– Ну? – требовательно бросил подполковник, когда они отошли в сторону.
– Ефимыч… Не горячись. Не к добру парня сейчас расстреливать.
Тарасов прищурился и посмотрел на военного комиссара бригады Мачихина – крепкого здорового мужика огромного, по сравнению с невысоким командиром, роста. Почти на голову выше. Со стороны смотрелись забавно – маленький, подвижный, похожий на взъерошенного воробья Тарасов и основательный, неторопливый медведь Мачихин.
– Александр Ильич, не понимаю вас! – выдержал официальный тон Тарасов.
– Ефимыч, – не сдался военком. – Сам посуди, ну расстреляем мы парня. Что о нас другие думать будут? Пойдут за тобой в огонь и в воду, зная, что за любую ошибку тебя могут перед строем поставить и петлицы сорвать? А?
– Ильич, тут не просто ошибка. Он всю бригаду, все наше дело под монастырь подвел.
– Ну, положим, еще не подвел. Немцы нас все равно не сегодня, так завтра бы обнаружили. Согласен?
– Это не отменяет девятнадцати, слышишь, Саш, – ДЕВЯТНАДЦАТИ похоронок.
– Понимаю. Но и парня понимаю. Сгоряча. Не выдержал. Первый раз в деле. А тут эти летят, как дома. Я сам, признаюсь, за «наган» схватился.
– Но стрелять-то не начал?
– Ефимыч, парню – семнадцать. Он, кроме мамкиной, больше никаких титек не видел. Отмени расстрел. Прошу тебя. Не как комиссар. Как человек. Помяни мое слово, отработает он и за себя, и за погибших.
Тарасов пожевал губы. Нахмурился.
– Коль… Он сам себя уже наказал. Думаешь, легко знать, что по твоей вине два десятка товарищей погибло, не сделав ни единого выстрела по фрицам?
– Ладно. Уболтал. Черт с тобой. Под твою ответственность.
– Конечно, под мою, товарищ подполковник. А бога нет, кстати.
– Я помню. Лейтенант, приведите этого снайпера, – приказал командиру комендантского взвода Тарасов, когда они подошли обратно. – Скажи-ка мне, любезный, – сказал проштрафившемуся Тарасов. – Ты почему только три выстрела сделал?
– Винтовку заело, товарищ подполковник, – не поднимая глаз, сказал парень.
– Громче. Не слышу.
Парень поднял голову. Слезы уже высохли, оставив разводы на бледных, несмотря на морозец, щеках.
– Винтовку заело. Три выстрела, и все. Не стреляет.
– Так ты и за оружием, значит, не следишь?
– Почему же! Обязательно слежу. Последний раз вчера, перед выходом.
– Дайте винтовку этого обалдуя.
Тарасову протянули «СВТ» виновника. Подполковник снял магазин, достал затвор…
– Так и есть. Масло застыло за ночь. Три выстрела сделал – отпотело, и тут же ледяной корочкой затвор покрылся. Гадство…
– Не последний раз…
– Начштаба! Соберите командиров. Пусть проверят оружие личного состава. Затворы, трубки, все протереть. Чтобы и следа масла не осталось.
– Есть! – козырнул майор Шишкин, начальник штаба бригады.
– А с этим что? – вступил в диалог уполномоченный особого отдела Гриншпун.
– Чей он, вдовинский?
– Да, из батальона Вдовина.
Хмурый комбат стоял рядом.
– Вот что, капитан… Бардак у тебя в батальоне. В следующий раз пойдешь под трибунал ты. А не твои подчиненные. Бери своего обалдуя и с глаз долой.
Вдовин отправился было в свое расположение, но Тарасов остановил его:
– Стой! Вот еще что… Раз у тебя такие горячие джигиты, завтра идешь первым. Детали сообщу вечером. А теперь – свободен!
3
Тарасов побледнел и слегка качнулся на стуле.
– Как вы себя чувствуете, герр Тарасов? Прикажете еще подать чаю?
– Лучше сигарету…
– Вы же не курите?
– Обычно не курю…
– Вы так и не объяснили, господин подполковник, почему пошли служить в Красную Армию? – спросил фон Вальдерзее.
– Мне было семнадцать лет, господин обер-лейтенант. В двадцать первом, после возвращения домой, поехал в губернию. Поступил в училище. А в двадцать четвертом, в звании младшего командира, закончил его с отличием.
– В звании кого?
– Ну… По-сегодняшнему это младший лейтенант.
– Понятно. Продолжайте…
– Меня отправили во Владимир. Там был командиром взвода два года. В двадцать шестом меня отправили в Москву. На курсы усовершенствования.
– Что значит «курсы усовершенствования»?
– Ну… – Тарасов даже растерялся, а потом сообразил: – Переподготовка.
– Долго длилась?
– Четыре года. На второй год был назначен при курсах «Выстрела» командиром роты.
– Какой «Выстрел»? – Фон Вальдерзее был по-немецки педантичен.
– Высшая тактическо-стрелковая школа командного состава РККА имени Коминтерна «Выстрел». Переподготовка командного и политического состава сухопутных войск в области тактики, стрелкового дела, методик тактической и огневой подготовки. Командиром был комкор Стуцка Кирилл Андреевич. Арестован в тридцать седьмом…
– А дальше?
– Дальше не знаю. Наверное, расстрелян.
– Меня интересует ваша жизнь, – строго сказал обер-лейтенант.
– Ах, вот как… Дальше я встретил в Москве Надю, женился, а потом был отправлен на Дальний Восток…
* * *
Так бывает только в романах.
Молодой млалей шагал по весенней, майской Москве, сверкая кубиками на новенькой гимнастерке. Девчонки весело хихикали в ответ на его взгляды. А он хмурил брови и старался казаться серьезным!
– Надя?!
– Извините?
Рыжая короткая прическа вразлет, тот же маленький носик…
– Я Коля… Простите, Николай Тарасов.
И совершенно по-старорежимному кивнул:
– Девятнадцатый. Пермь. Муж. Помните?
Она, испуганно оглянувшись, схватилась за рукав гимнастерки.
– Пойдемте гулять, рука об руку. Вы не против?
И потащила его по асфальтовой дорожке вдоль пруда.
– Вы тот мальчик, да? Коля? С которым в машине ехала?
И почему он тогда не обиделся на мальчика? Может быть, ей было бы легче жить…
– Ваш муж собственной персоной!
Она засмеялась и сжала его локоть.
Какой-то пожилой брюнет, сидящий на скамейке, неодобрительно поджал губы и сжал свою трость. Правый глаз его был черный, левый почему-то зеленый. Сидящий же рядом со стариком лысый мужчина посмотрел на них печально. Впрочем, выходной, на Чистых прудах сегодня половина Москвы отдыхает. Кого только тут нет…
– Вы уж простите меня, Коля, что я так по-хамски себя повела тогда. Ударила вас «наганом»…
– Хм… Хорошо не пристрелили… – улыбнулся он.
Надя виновато посмотрела на лейтенанта. Господи, какие глаза… Батюшка бы велел перекреститься…
– Мороженое, кому мороженое? – внезапно подкравшись, заорала почти в ухо Тарасову тетка с ящиком холодной сладости.
Они взяли по шарику ванильного – оказалось, что ванильное они оба больше любят – и зашагали дальше.
Когда рядом не было людей, Надя рассказывала о себе.
Дочь золотопромышленника Келлера зачем-то вступила в партию эсеров. Хотела освобождать народ от царского ига. Было-то ей всего семнадцать… А вот понесло же за счастье народное… В восемнадцатом расстреляли семью. Маму, отца, двух братьев и сестричку… Из-за нее и расстреляли. В ЧК узнали, что дочь осталась в боевой организации и даже принимала участие в восстании Савинкова в Ярославле. Это были страшные дни…
Город полыхал ровно в аду, обложенный со всех сторон красными войсками. Вырваться удавалось единицам. Наде повезло…
Месяц она отсиживалась в лесах, прячась от чекистов. Иногда притворялась тифозной больной, ради этого пришлось подстричься.
– Да, я помню. Волосы у тебя короткие были. Как у мальчика, – осторожно улыбнулся Николай.
– Да… С тех пор так и не отросли. Хотя сейчас так модно…
Перекладными она отправилась в Сибирь. Где на поезде, где на телегах, а потом на санях, а где и пешком.
Добралась только до Перми, где ее и свалила испанка… А встала на ноги, когда двадцатидевятилетний белый генерал Пепеляев уже отступал обратно, к Уральскому хребту.
– Я помню… Ты тогда грозилась ИМ, – выделил Николай голосом слово – мандатом…
Надя засмеялась:
– Это был листок из «Арифметики» Магницкого…
– Да ладно? – удивился млалей. – Там же печать была! Я же видел!
Девушка захохотала:
– И ты тоже поверил? Это был библиотечный штамп!!
– Поверил! – глупо улыбаясь, ответил он. – А если бы они не поверили? Если бы грамотный среди них оказался бы?
– Если… Тогда бы мы с тобой тут не гуляли!
Он взял ее ладошку и осторожно погладил. Она посмотрела ему в глаза. Но руку не отняла. Мимо пробежала веселая девчушка с воздушным шариком.
– А потом я сбежала. А ты?
– Я тоже… И больше не вернулся к белым.
– Я вернулась в Москву. Как-то жила, сама не понимаю как. Но вот жила.
– А сейчас?
– И сейчас как-то живу. Работаю в паровозной газете «Гудок». А ты?
– А я, как видишь… – Он одернул гимнастерку.
– И что, тебя, бывшего белогвардейца, взяли в Красную Армию?
– Да у нас половина воевала то у красных, то у белых, – настала очередь смеяться Коли.
– Смотри… Церковь открыта… Давай зайдем? Не боишься?
– Кого мне бояться? – удивился Тарасов.
– Ну, ты же красный командир!
– Ну и что? Красный командир не должен никого бояться!
– А меня боишься?
– Немного…
– Пойдем!
Через час они повенчались…
* * *
Младший лейтенант Митя Олешко шепотом материл упавшего на снег бойца. Упавшего и никак не желавшего вставать. Мелкий снег хлестал пургой по щекам, красноармейца заносило снегом.
– Вставай, сука ты такая, вставай! – Командир минометного взвода первого батальона бригады уже собрался снять лыжное крепление и пнуть упавшего бойца, как тот зашевелился, стряхивая снег.
– Я вам не какая и не сука, товарищ командир, и нечего лаяться! Я, между прочим, сюда по призыву комсомола пришла!
Олешко слегка ошалел. Боец оказался девкой.
– Ты кто такая? Откуда, твою м… – Младший лейтенант едва сдержался от ругани.
– Не надо лаяться! Я же просила… – Девка схватила млалея за протянутую руку и встала. – Ну, упала, ну подумаешь…
– Лейтенант, ты идешь? – донесся приглушенный крик из темноты. Взвод уходил по лыжному следу в темноту демянских болот.
– Сейчас, – так же полушепотом крикнул млалей. Пурга пургой, а немцы где-то тут… – Слышь, ты, баба, объясни, кто такая?
– Я не баба, я техник-интендант третьего ранга, Довгаль! – козырнула девчонка и едва опять не упала в сугроб. Млалей ее удержал за руку. – Переводчица я, из первого батальона.
– Митя… Олешко… Младший лейтенант Олешко! Так я тоже из первого. Командир пульвзвода. Ты откуда тут взялась-то? – удивился лейтенант, глядя в карие глаза.
Наташа на мгновение прижалась к груди Мити. Пошатнулась снова? А потом они пошли по лыжне в глубь демянского котла.
– А нас тут четверо! В каждом батальоне переводчица. Любка Манькина вон в четвертом, а я что, хуже, что ли? Нам Тарасов говорил, мол, оставайтесь, а мы – нет! – пошли! А как не пойти? Война же!
– А чего лежала-то? – краешком рта улыбнулся Олешко.
– Споткнулась, а все мимо идут, мимо. А я встать не могу, тяжело, думаю, ну все. Подведу сейчас батальон. Отстану. Ты первый, кто меня поднял, ага!
– А я тебя раньше не видел… – посмотрел на Наташу младший лейтенант.
– А нас подполковник прятал. Вон вас сколько. Красавцы. Все на подбор. Три тыщи почти, а нас всего четверо. Вот и спрятал, чтобы девки не блазнились! Да ты не думай, я не такая! Мы все не такие!
– А я и не думаю, – буркнул Олешко.
Но техник-интендант третьего ранга не услышала его за очередным порывом ветра.
– Ладно, сама я дальше…
Она оторвалась от крепкой руки младшего лейтенанта и побежала вперед, догонять своих, наверное…
4
– Дальше я встретил в Москве Надю, женился, а потом был отправлен на Дальний Восток…
– В каком году вас арестовали? – спросил фон Вальдерзее.
– Летом тридцать седьмого.
– А какова причина?
– На Дальнем Востоке я был адъютантом командующего байкальской группой Дальневосточной армии у полковника Горбачева. Горбачев же до этого работал в военной миссии в Германии. Руководителем ее был соратник Тухачевского Путна.
Немец прошелся по комнате, разминая затекшие мышцы. Подошел к окну. Посмотрел на улицу. И задал неожиданный вопрос:
– Как вы считаете, заговор Тухачевского действительно был? Или это параноидальные страхи Сталина?
Тарасов удивился:
– Лично я не знаю. Тогда я был всего лишь майором.
– Но ведь вы были адъютантом, и какая-то информация до вас все же доходила?
– Герр обер-лейтенант, вы плохо себе представляете нашу жизнь…
Тарасов вдруг задергал щекой.
А Юрген фон Вальдерзее вдруг наклонился над старым столом.
– Не понимаю вас, господин Тарасов.
– И не поймете, герр обер-лейтенант…
– Нихт ферштеен…
Тарасов грустно посмотрел на немца. Шмыгнул. Потер спадающую на левую бровь повязку…
* * *
– А как ты думаешь? Это моя страна! Понимаешь? Ленин, Сталин, Троцкий, даже Николашка! При чем тут эти говнюки, а?
Николай так шарахнул по столу стаканом, что кот сбрызнул с кухни в комнату.
– Коль, ты не горячись так. Ты майор?
– Майор. Что это меняет?
– Все, Коля, все меняет, – полковник Горбачев махом кинул в себя полстакана кваса, запивая горький водочный вкус, горько осевший на корне языка. – Ты – майор. Ты старший. Так это с латыни переводится?
– Так. Дальше-то что?
– Под тобой десятки. Нет. Сотни бойцов. Значит, что?
– Что? – пьяно покачиваясь на табуретке, спросил Тарасов.
– Что ты не один. Понимаешь? – хлопнул его по плечу Горбачев.
– Нет, – качнулся Николай.
– Сейчас я тебе объясню… Вот ты, – полковник положил на кривоногий стол кусок хлеба с тарелки.
– Ну?
– Не нукай, не запряг… Где твой батальон?
– У меня нет батальона. Я ж адъютант твой, забыл, что ли?
Горбачев откинулся на спинку единственного в квартире стула.
– Будет у тебя батальон, когда-нибудь. А может, и полк. Или бригада. Или дивизия. Да хоть отделение. Какая разница? Дело не в количестве! Дело в отношении. Понимаешь?
Тарасов почесал щеку:
– Не понимаю.
– Твою мать… Начну сначала. Какая разница – кто у власти? Кто нынче царь? Ты же не за царя в атаку идешь? Так?
– Так… Ну и что?
– Что? Вот тебе вопрос, – Горбачев оперся локтем на столешницу. – Что такое Родина?
Тарасов взялся за бутылку:
– Бахнем, таарищ полкник?
– Бахнем. Но чуть позже. Ты на вопрос-то ответь. Или слабо?
Тарасов подержал бутылку на весу, подумал… И поставил ее:
– Надя.
– Что Надя?
– Надя – моя родина. А вот еще родит…
– Поздравляю. Но не в этом суть. Значит, Надя – твоя Родина?
– А кто еще?
– Тебе виднее, кто еще…
Как это часто бывает с пьяными, майор Тарасов вдруг нахмурился, поскучнел и двинул граненый стакан к центру стола. Горбачев широко плеснул водкой по стаканам, непременно залив столешницу…
– Мужики, вы спать-то собираетесь? – Надя стояла в дверном проеме, осторожно держа одной рукой тяжелый живот. Второй она держалась за ручку двери.
– Наденька, мы по последней за тебя и спать! Служба ждет! – спас Тарасова Горбачев. Почему-то друзья всегда первыми начинают такой смешной, но острый разговор с женами. Чуют запах беды, что ли?
– Вот еще секундочку, Надин… Коль, думаешь, Тухачевский предатель? Я, когда в Германии работал, понял одну вещь, – почему-то Горбачев казался Тарасову трезвым. – Надо что-то менять. Что и как, не знаю… Но немцы нас сделают. На раз-два сделают. Легко и непринужденно. У них нет ничего. Ни техники, ни солдат обученных, ни идеи. Есть только одно – организация. Они злые. По-хорошему злые. На весь мир. И они выиграют следующую войну. А мы просрем все. У нас есть все – танки, люди, орудия. А они все равно выиграют. Потому что они за Фатерлянд, а мы против Родины. Согласен?
Тарасов покачнулся, почти упав, и на всякий случай решил согласиться – тем паче, что такое Родина, он не знал. Просто пытался не думать. НЕ ДУМАТЬ!
Надя презрительно покачала головой и тяжело унесла беременный живот обратно в комнату. «Завтра опять ругаться будет… Надо бросать пить. А то ведь беда…»
А настоящая беда пришла позже. Под утро…
– Открывайте! НКВД!
Бешеный стук ломал дверь.
Еще пьяные, они открывали двери. Еще пьяные тряслись в открытой полуторке. Еще пьяные весело затянывали: «Черный ворон, чооооорный вороон!»
– Имя, звание?
– Тарасов… Майор…
– Цель заговора?
– Какого еще заговора? Не понял!
Конвоир так двинул прикладом, что все вопросы снялись.
Особая тройка дала пять лет. Полсотни восемь дробь три.
А освободили в сороковом. По бериевской амнистии. Статью не сняли, но хотя бы поражения в правах не было. Живи – где хочешь, работай – кем хочешь. Но не в армии.
В Харькове его встретила Наденька с дочкой на руках. Со Светланкой…
Четыре года он просидел в одиночке. Есть такой город – Ворошиловск. Родина, говорите?
А потом он работал инструктором по парашютному делу. В парке развлечений. Ну, лекции еще читал. Сто семьдесят прыжков! Сто семьдесят! А он – лекции…
А двадцать четвертого июня его снова призвали в армию.
Двадцать четвертого июня сорок первого…
* * *
– Двадцать четвертого я первый раз водку попробовал. Когда батю на войну провожали. Мать тогда как зыркнет… А отец спокойно так ей: «Он сейчас старшой». И в стакан мне плеснул на донышко. Не чокаясь. Как знал. Осенью похоронка пришла. В октябре. Пропал без вести под Киевом. Вот же… Где Киров, а где Киев?
– И что?
– Что, что… – пожал плечами рядовой Шевцов. – Ничто! Унесло меня тогда с того самогона… Батю так и не проводил толком. Полуторка за ними пришла, а я в кустах блевал. Стыдно до сих пор. А после похоронки я в военкомат побежал. Добровольцем, говорю, возьмите. А они говорят – приказа нет такого, чтобы до восемнадцати. А мне восемнадцать в ноябре. В ноябре и ушел. Сначала в запасный полк. А оттуда уже в бригаду.
– За сиську баб так и не подергал в колхозе-то? – засмеялся кто-то из темноты.
– Коров только… – вздохнул Швецов. – Матери когда помогал…
И тут до рядового дошло:
– Что? Что ты сказал? Да наши девки…
– Да не ори ты, – добродушно ответил ему голос. – Бабы, они же и в Турции бабы. Их дергать надо, да. Иначе тебе дергать не будут.
Отделение заржало в полный голос.
– Ошалели совсем? Сейчас у меня кто-то не по сиськам огребет!
Сержант Заборских выскочил из темноты:
– Млять, епишкин корень, вы чего, уху ели? Швецов – три наряда вне очереди!
– А я-то что? – возмутился рядовой. – Это они!
Рядом кто-то прыснул со смеху.
– Норицын! Три наряда!
– Есть три наряда! – придавливая смех, ответил ефрейтор Норицын.
– Заборских, мать твою! – послышался голос отдалече. – Совсем обалдели? Тишину соблюдать! Еще один звук – пять нарядов сержанту.
– Есть, товарищ младший лейтенант! – Сержант Заборских показал отделению кулак.
Парни замолчали, тихо смеясь про себя.
А потом кто-то из них свистнул. Тихонечко так.
– Млять, кто свистит? – зашипел командир взвода.
В ответ свистнули еще раз.
– Удод! Заткнись! Узнаю – хохолок в жопу засуну. Заборских, опять твои хулиганят?
– Никак нет, тащмлалей! – полушепотом крикнул сержант.
За его спиной кто-то засмеялся вполголоса. Отделение зафыркало в рукавицы.
– Лежать! Лежать, я сказал!
В темноте щелкнул затвор.
– Лежать, пристрелю! Вы чего, бойцы, совсем охамели?
Младший лейтенант Юрчик погладил левой рукой дергающуюся щеку – результат летней еще контузии. Ссука… Сколько дней прошло…
– Лежать тихо. Без звука. Чтобы слышно было, как мышка пернет. Что особо не ясного? Почему орем на весь котел, так что в Демянске слышно?
Небо чернело мартовской ночью. А ели почему-то голубели…
– Товарищ младший лейтенант, вы бы пригнулись… Хоть и темно, но демаскируете…
Юрчик заиграл желваками. Сержант явно издевался над ним. Знают, сволочи, что не воевал еще. Хоть и контузия…
…Младший лейтенант Женя Юрчик не всегда был младшим лейтенантом. Раньше он был студентом Гомельского педагогического техникума. Только вот доучиться не успел. Двадцать шестого июня наскоро сформированный из коммунистов и комсомольцев истребительный батальон приступил к охране «Гомсельмаша». Там-то Женя и столкнулся с первым немцем.
– Ваши документы, товарищ командир!
Высокий, ладный артиллерийский капитан с удивлением посмотрел на двоих студентов в кепочках, но с винтовками за плечами.
– Вы еще кто такие?
Женя показал ему красную повязку на рукаве:
– Истребительный батальон Центрального района, товарищ капитан.
– Ну да… Истребительный батальон… Свои документы предъявите для начала!
Студенты смущенно переглянулись. Патрулировать им приходилось в гражданской одежде. Хотя командир батальона – старший лейтенант НКВД товарищ Соловьев – обещал в ближайшее время обеспечить истребителей армейским обмундированием.
Женя закинул винтовку на плечо и полез в карман белой рубашки.
Капитан взял временное удостоверение и стал его изучать:
– Действительно, истребители… А что ж как махновцы одеты? – Капитан добродушно улыбнулся.
– Так не успели еще, товарищ командир. А вы с фронта? – спросил товарищ Юрчика – Коля Савельев.
– С фронта, ребята, с фронта.
– И как там? – жадно спросил Костя. У него даже заблестели глаза, и он подался всем корпусом к капитану так, что тот слегка отодвинулся.
– Нормально! – спокойно кивнул капитан. – Мы давим. Временные трудности есть, но мы их скоро преодолеем. И пойдем вперед.
– Эх… Не успеем повоевать… – грустно вздохнул Женька, поджав губы.
– Не переживайте, – подмигнул артиллерист. – А покажите-ка мне, как к заводоуправлению пройти.
Женька повернулся, показывая дорогу:
– Значит, вот прямо сейчас пойдете, вдоль этого забора, там свернете налево и…
Вдруг он запнулся, будто вспомнил что-то:
– Товарищ командир, а документы все-таки покажите…
– Вы что, ребята, немецкого шпиона во мне разглядели? – развел руками капитан, удивленно улыбаясь.
– Порядок такой, товарищ капитан…
Капитан опять улыбнулся, полез левой рукой в карман гимнастерки и мельком посмотрел за спины ребят.
Юрчик машинально стал оглядываться…
Последнее, что тогда увидел Женя – финка, летящая в горло Косте. А потом сокрушительный удар чем-то тяжелым сзади.
Диверсантов тогда так и не взяли. Это Женя узнал уже в смоленском госпитале. А в октябре его призвали в армию…
– …Заткнитесь, говорю, ироды! – Юрчик вышел из себя от злости. – Немцы рядом!
– Лейтенант, разведка возвращается!
Взвод моментально затих. Послышался скрип снега… А потом появились две фигуры в маскхалатах. Ребята из его взвода, посланные за речку посмотреть – что там да как.
– Ну что там?
– Речка промерзла. А за речкой в перелеске – кабели связи. Тихо, следов нет. Что делать будем?
– Норицын! Бегом до командира роты. Доложи.
– Да, товарищ младший лейтенант.
– Бегом!
Норицын исчез в темноте.
Ребята-разведчики разгребли снег до земли и зажгли там сухой спирт-пасту – синее пламя давало иллюзию уюта и крохи тепла – и торопливо стали грызть гороховый концентрат.
– Эй, вы что это? – возмутился Юрчик. – Это же НЗ. Паек не трогать!
– Товарищ младший лейтенант, сутки уже не ели… – не отрываясь от сухпая, пробурчал один из разведчиков.
– И в самом деле, – поддержал их Заборских. – Кишка кишке бьет по башке. Последний раз перед заброской суп хлебали, силы-то надо восстанавливать.
– Есть приказ по бригаде… – сквозь зубы, зло и решительно сказал Юрчик. – НЗ не трогать. На то он и НЗ. Продукты будем добывать у немцев. Вот возьмем обоз или продуктовый склад, там и поедим. Да и местные жители нам помогут.
– А на кой черт мы тогда жратву с собой тащим, а, товарищ младший лейтенант? – спросил кто-то из темноты и тут же зашуршал фольгой. – Пока до немцев дойдем – копыта отбросим.
Стоявший рядом Заборских ухмыльнулся.
Юрчик же, понимая, что бойцы после суточного перехода хотят есть как волки, махнул рукой. Зимой голодным быть нельзя.
– Черт с вами. Разрешаю по половине брикета горохового концентрата. И по сухарю.
– Вот это дело!
Взвод обрадованно загомонил и моментально стал шуровать в вещмешках.
Сам же млалей сел чуть в стороне, прислонившись к старой березе. И с огромным удовольствием вгрызся в соленущий брикет.
Половины его молодому желудку не хватило. Но он, переборов себя, сунул брикет обратно в мешок. И вовремя. Вернулся ефрейтор Норицын.
– Комбат приказал – уничтожить кабели к эээ…, в общем, к такой-то матери.
– Комбат?
– Да, он в роте сейчас.
– Понятно… Первое отделение! Есть возможность отличиться!
Юрчик торопливо надел вещмешок:
– Смирнов, поведешь дорогу показывать! – бросил он одному из разведчиков.
– Смирнитский я, товарищ младший лейтенант. А чего ее показывать? Мы как слоны лыжню натоптали.
– Не рассуждать! Вперед!
Десантники попрыгали на месте, проверяя – не бренчит ли снаряжение, и пошли на спуск к речке.
Каждый шаг давался с трудом – спуск ночью по берегу, заросшему кустами, чреват опасностями. Полуметровый слой снега скрывал все, что угодно – от валунов до стволов деревьев. Шагать приходилось высоко. Да и шума было, как от стада коров.
Кусты трещали, кто-то упал, сбряцав котелком, кто-то матюгнулся вполголоса.
Наконец спустились на лед реки и зашагали по сугробам. Юрчик шел вторым после разведчика, чью фамилию он так и не мог запомнить.
На противоположный берег поднялись не так шумно – подниматься всегда легче – лесенкой, один за другим.
– Пить хочу, сил нет, – тяжело дышал замыкающий маленькую колонну Миша Иванько. – Товарищ младший лейтенант! Там промоина. На обратном пути наберем водички?
– А что, фляжка пуста уже у тебя? – утирая пот с лица – мороз, а ходьба на широких лыжах по ночному лесу способствует согреванию организма, – ответил вопросом Юрчик.
– Да концентрат этот – соленый, ужас!
– Терпи. На обратном пути попьешь. Далеко до кабеля?
– Километр, примерно.
– Отлично… вперед, вперед, вперед!
Смирнитский протянул свою фляжку Иванько. Тот сделал несколько больших глотков и пошел…
Кабель нашли быстро. Пережгли термитными шариками в четырех местах, куски же выбросили подальше.
Немцы здесь не бродили зимой – целина нетронутая. Так что времени много. Часа два, а может и больше. Не любят немцы ночью по лесам ползать.
Поэтому не спеша тронулись обратно. На речке наполнили фляги ледяной водой. Иванько, как самого легкого, положили на лыжи, и он подполз к промоине. Напился сам, потом и фляжки наполнил.
А через час его скрутило от боли в животе.
Санинструктор Белянин ничего не мог понять – любое прикосновение к животу вызывало у рядового дикие стоны.
– Мама, мама, ой, мамочка!
– Хрен его знает, товарищ младший лейтенант, – растерянно чесал затылок санинструктор. – Живот тугой, как барабан. На аппендицит не похоже. Может, отравился чем?
– Да чем он травануться-то мог? Не водой же из реки?
Пришлось соорудить волокуши и тащить его в батальон.
Еще час прошел в томительном ожидании. И немцев с той стороны, и санинструктора Белянина.
Вернулся он мрачнее тучи.
– Помер Иванько.
– Как?! – всполошился взвод.
– Как, как… Взял да помер. Скрутило парня так, что разогнуть не смогли.
– Сержант Заборских! Вещмешок его дай, – заиграл желваками Юрчик.
Младший лейтенант начал рыться в мешке. Гранаты, патроны, тротил, лыжный ремнабор, смена белья, продукты…
Продукты!
Командир взвода достал шесть пустых бумажных оберток из-под горохового концентрата.
– Батюшки-светы! – изумился Белянин. – Так он что… Шесть упаковок сожрал?
Юрчик хмуро кивнул.
– Так это он, почитай, ведро супа разом умял… Таперича и понятен ход… Заворот кишок у парня случился…
– Все всем понятно? – спросил Юрчик. – Командиры отделений! Довести до личного состава, что продуктовый НЗ не трогать ни под каким предлогом.
А сам стал готовиться к неизбежному вызову к комбату, а то и комбригу. А Тарасов был суров на расправу…
5
– Значит, вас выпустили в сороковом году? Так? – Фон Вальдерзее быстро писал и морщился, когда табачный дым попадал ему в глаза.
– Так. За примерное поведение.
Обер-лейтенант кивнул. И подумал, что это термин «примерное поведение» означает не что иное, как сотрудничество с ГПУ.
– А призвали в Красную Армию с началом войны?
– Да. На третий день. В звании майора.
– Так быстро? И что это значит, по-вашему?
– Значит… Значит, был востребован как специалист.
Немец улыбнулся новому подтверждению своей версии. Стучал десантник на товарищей по камере, ой, стучал…
– А жена с дочерью?
Тарасов вздохнул:
– Арестовали сразу двадцать второго. Как немку. Думаю, что расстреляли.
– Почему так думаете?
«Ну что… Пора закидывать удочку?» – подумал подполковник.
– В июне сорок первого были арестованы все немцы, проживавшие в Москве. И нет никаких известий об их судьбе. Зная нравы НКВД, могу предполагать, что все они были уничтожены.
Фон Вальдерзее не удивился. Он был наслышан о действиях ГПУ, вернее НКВД. Один тридцать седьмой чего стоил. Вот взять этого подполковника – грамотный же специалист, бригадой – надо отдать должное – руководил умело. Немало нервов десантники вермахту потрепали. А вот посадили тогда его ни за что. Просто за связь с «врагами народа». И вот еще жену арестовали и расстреляли. На это и надо, пожалуй, давить. Клиент, кажется, может поплыть. И вербовка высококлассного специалиста принесет огромную пользу и Германии, и лично обер-лейтенанту Юргену фон Вальдерзее, офицеру разведотдела сто двадцать третьей пехотной дивизии.
Конечно, абвер заберет Тарасова к себе, но вслед за подполковником может пойти наверх и обер-лейтенант. Главное сейчас – установить максимально возможное в данной ситуации доверие, чтобы Тарасов не представлял себе дальнейшей жизни без фон Вальдерзее.
– Да… Сложная у вас сложилась жизнь… – посочувствовал немец русскому десантнику.
Тарасов вдруг широко улыбнулся:
– А у кого она сейчас легкая? Война есть война.
– А что вы почувствовали, когда догадались о расстреле жены?
Тарасов помрачнел. А в душе снова улыбнулся. Последнее письмо от Нади и Светланки он получил за несколько дней до выхода бригады на задание.
Они жили у отца Николая – Ефима – в том же Кировском краю. Никто его не убивал. Церковь закрыли, да. Превратили ее в колхозный склад. Отец работал в нем сторожем. И продолжал служить литургию по ночам. Среди пыльных мешков и промасленных запчастей. Единственными участниками литургии были облупленные лики святых со стен. И наглые крысы, таскающие колхозное зерно. Надя писала, что устроилась работать в сельскую школу учительницей немецкого, что живут не сытно, но и не голодно, скучно и спокойно…
– Я почувствовал ненависть, герр обер-лейтенант.
– Почему тогда сразу не перешли на сторону вермахта, господин подполковник? Это бы спасло жизни тысяч ваших и наших солдат…
– Потому что это мой воинский долг. Я давал присягу служить народу.
– Ваша позиция вызывает уважение, но…
– Сталины уходят и приходят, а русский народ остается…
* * *
– Готов блиндаж, товарищ подполковник!
– Готов, это хорошо… – Тарасов кивнул лейтенанту из комендантского взвода.
Блиндаж представлял собой яму в снегу. Сверху настилом – лежали еловые ветки. Снизу – они же – были накиданы на пол. По центру горела свечка. Благодаря ей внутри укрытия было жарко – на улице минус двадцать, внутри минус пять. Можно нормально спать. Правда, чертова влажность…
Военврач третьего ранга Леонид Живаго доложил, что за первые двое суток уже тридцать бойцов обморозили ноги. За месяц так можно треть бригады положить больными…
Да и раненых хватает. Немецкие истребители целый день носятся над расположением бригады.
Очередь рядом проходит – пятисантиметровые дырки в снегу. Тут и легкое ранение в руку или в ногу означает одно – смерть. Выносить никто не будет за линию фронта. Раненых и обмороженных устраивают в лагерях…
– Командование фронта обещало начать ежедневные авиарейсы – подвоз боеприпасов, продовольствия, пополнения и эвакуация раненых, – доложил начальник штаба Шишкин.
– Начать… Еще задачу не начали выполнять, а уже такие потери… – горестно покачал головой комиссар Мачихин. – Слышали? Начштаба первого батальона – Пшеничный – уснул у костра? Обгорел и даже не заметил.
– Товарищ подполковник… – сказал Шишкин. – Если не разрешим вскрыть НЗ – потери возрастут.
Тарасов нахмурил брови, подумал…
– Пиши приказ. Пора. Надеюсь, что фронт не подведет.
Плащ-палатка над входом вдруг приподнялась:
– Товарищи командиры, – в снежный блиндажик заглянул взволнованный начкар. – Тут пленных привели!
– Ого! – приподнялся Мачихин. – Кто отличился?
– Да они сами вышли!
– Как сами? – не понял Тарасов.
– Это наши пленные! – почти крикнул начкар. – Ходят по лесу в чем мать родила, из оружия только один топор…
– Как наши? – переглянулись командиры и по очереди выскочили наружу.
Перед блиндажом сидели семеро красноармейцев в драных шинелях, без пилоток. А один вообще в подштанниках. В двадцатиградусный мороз начала марта…
Увидев перед собой высокое начальство, мужики начали приподниматься. Тарасов махнул рукой:
– Сидите. Кто такие?
Один все-таки встал:
– Рядовой Ефимов – третий эскадрон четвертого кавалерийского полка. Попал в плен в сентябре сорок первого при выходе из окружения.
И упал.
– Так…
– Документов, конечно, нет? – подал голос уполномоченный особого отдела.
Обтрепанные, истощавшие, почерневшие от мороза бойцы промолчали, продолжая тихо грызть сухари, которыми поделились сердобольные десантники.
– Остынь, Гриншпун… Не видишь, что ли? Лейтенант, – повернулся подполковник к начкару, – покормите людей. Выдайте нормальную одежду, табак и… И водки. Только немного.
Через час все семеро стояли перед командирами.
– Значится, товарищ подполковник, в плен я попал…
– Мало меня интересует, где и как ты, боец, в плен попал, – обрезал его Тарасов. – Меня больше интересует, как и откуда ты бежал. И представься для начала…
– Боец Филимонов, товарищ подполковник. А бежали мы с лесозаготовок. Под Демянском сенобаза есть. На Поповом болоте. Не растет ни черта – мох только. Вот. А на той сенобазе – бункеры, штук шашнадцать…
Мачихин вдруг заметил, что у бойца Филимонова нет половины зубов…
– Окон нет, дверей тоже. Норы, только бетонные. Там нас и держат. Вернее, держали, – поправился Филимонов. – Мрут как мухи все. Каждый день тех, кто на ногах стоит, заставляют боеприпасы немцам таскать. Снарядные ящики али с патронами. Еду не доверяют. Кто упал – сразу стреляют. Кто слабые – те крючьями мертвяков по углам лагеря растаскивают, чтобы не мешались. А нас на аэродром бросили – снег расчищать. Вот оттуда мы и дернули. Четверо суток по сугробам, товарищ подполковник…
– Карту читает кто из вас? – спросил начштаба. – Можете показать, где аэродром?
– Неее… – в один почти голос загудели красноармейцы. – Мы ж не обученные…
– Жаль… Населенные пункты – какие рядом были?
– Святкино проходили…
– Понятно, – кивнул Тарасов. – Силантьев, забери бойцов. Нам тут поговорить надо.
Караул вывел бывших пленных из блиндажика.
– Ну что, отцы-командиры, делать будем? – начал Тарасов. – Вот вам и первые разведданные.
– Сомнительные, товарищ подполковник… – подал голос особист.
– Без тебя знаю, особый ты, Гриншпун, уполномоченный, что сомнительные. Других пока не имеем и не предвидится, – отмахнулся командир бригады. – Думаю, в район Гринёвщины надо разведчиков сгонять. Доставай карту…
Еще полчаса командование бригады размышляло над возможностью операции. Опасно, но эффективно. И эффектно. Накрыть силами бригады аэродром, который питал всю – ВСЮ! – окруженную немецкую группировку, цель очень заманчивая…
Очень!
– А с бойцами что делать будем? – спросил в конце разговора осторожный, в соответствии с должностью, Гриншпун.
– В штат зачислим. Лишними не будут.
Гриншпун скривил нос:
– Не по порядку…
Тарасов сильно сузил глаза:
– Не по порядку их сейчас в тыл выводить под конвоем. У меня… У нас, – поправился он – лишних людей нет. Комиссар согласен?
Мачихин, из-за своего медвежачьего роста почти лежавший на лапнике, согласно кивнул:
– Но присмотреть за ними надобно, Ефимыч.
– Это само собой, товарищ комиссар. На это у нас капитан Гриншпун есть. Вот он пусть и приглядывает… А давай-ка посмотрим на этот аэродром поближе, а?
* * *
Заходящее мартовское солнце слепило глаза, отражаясь от наста. Ефрейтор Петров – снайпер первого взвода – не мог ничего разглядеть: что там делалось на крутом правом – западном – берегу Поломети.
– Твою мать… – грустно шептал он, пытаясь рассмотреть – есть там немцы или нет.
Речка – шириной метров десять всего. Но если немцы там поставили хотя бы два-три пулемета – звездец переправе.
Накроют на чистом льду на раз-два. И не спросят, как зовут.
Он пытался разглядывать берег в оптику снайперской «светки» полчаса, не меньше. Но так ничего и не сумев рассмотреть, отполз обратно.
– Ну что? – спросил его младший лейтенант Юрчик.
– Ни черта не видно. Солнце глаза слепит.
– Плохо… С наступлением темноты уже двигаться надо. – Юрчик почесал начавшую отрастать щетину.
– Товарищ командир, а разрешите проверить… – подал голос Заборских. – Мы отделением туда дернем по-быстрому и…
– Отставить… С тебя и твоих ребят ночных приключений хватит. Да и приказа не было переходить. Хотя мысль правильная…
– Может, мои, товарищ младший лейтенант? – подал голос сердитый на вид сержант Рябушка, командир третьего отделения.
– Давай. Только не сейчас, – остановил дернувшегося уже было «комода» Юрчик. – Обождем еще час, когда солнце за деревья зайдет.
На удивление его не вызвали к комбату. Оказывается, Иванько был не единственным таким… Пять человек по всей бригаде точно так же легли в снега демянских болот… И выстрела не успели сделать. Жаль. Бессмысленная смерть. Глупая и бессмысленная. Лучше бы пулю фрицевскую словили. А так просто сожрали продукты и сдохли. А рука не поднимется написать их матерям правду. Матери тут ни при чем. «Пал смертью храбрых». Вот, собственно говоря, и все. Что тут еще сказать, а? Пал смертью храбрых… Хотя бы и так. Теперь нам надо прожить за себя и за него так, чтобы не стыдно было смотреть в глазам нашим внукам. Интересно, а внукам не будет стыдно нам в глаза смотреть? Да вряд ли… Они будут лучше нас. Не смогут жрать в три горла чужое. Ведь они наши внуки будут. Наши, не чьи-нибудь. Но главное сейчас – фрицев изничтожить. А потом и о внуках думать будем…
– Товарищ младший лейтенант, а товарищ младший лейтенант! Проснитесь!
– А? – Юрчик подкинулся, схватившись за винтовку.
– Пора! Солнце садится!
И впрямь. Начинало смеркаться…
– Рябушка! Готовы?
– Давно готовы, – буркнул сержант.
– Тогда вперед. И при любой неожиданности – назад. Понятно?
– Ясен перец, товарищ командир. За дураков-то не держите. Зря, что ли, учились?
– Сейчас и посмотрим…
Третье отделение пошло вперед. И снова – осторожно спуститься по берегу, залечь на снегу, покрывавшему лед Поломети, и цепью двинуться вперед.
Юрчик внимательно разглядывал из кустов в бинокль противоположный берег.
Тишина…
Ребята доползли до середины реки. Несмотря на маскхалаты, их прекрасно было видно на снегу.
И если на том берегу были немцы, то они так же легко видели десантников, как и младший лейтенант.
Сержант Рябушка приподнялся на локте, оглянувшись назад, и показал большой палец – все нормально, командир!
Гулкий выстрел тут же порвал тишину. Голова сержанта лопнула как арбуз, и снег окрасился кровавыми ошметками. Тело его бессильно задергало ногами.
И правый берег зло полыхнул огнем.
Фонтаны пуль – то белые, то красные – взорвали безмятежную ледяную гладь реки.
Кто-то из бойцов бросился назад и тут же рухнул, пробитый очередью пулемета. Кто-то скорчился, вздрагивая при каждом попадании в тело. Кто-то тонко закричал, выстреливая не глядя обойму. Кто-то просто раскинул руки крестом, сгребая судорожными пальцами горячий от крови снег.
Третье отделение умерло за несколько секунд.
А на том берегу закричали что-то гортанно, и лес вдруг ожил. Хлопнул раз-другой миномет – разрывы разбили лед между лежащими трупами десантников, хлынула вода. Чье-то тело, чуть задержавшись на берегу проруби, свалилось в черную воду, чуть мелькнув на поверхности краем маскхалата и поднятой, скрюченной рукой.
Младший лейтенант, приоткрыв рот, смотрел на смерть своих ребят, а потом вдруг завопил:
– Огонь, огонь, огонь! – не замечая, что взвод уже давно палил по противоположному берегу из всего, что может стрелять.
В ответ били немецкие пулеметы, густо хлопали карабины. Еще одна команда – и по всему берегу встали серо-зеленые в страшных касках. И побежали вперед, спрыгивая с обрывчика и огибая воронки во льду. А минометчики немедленно перенесли огонь на берег, где засели русские десантники.
«Не меньше роты!» – мелькнула правильная, но трусливая мысль младшего лейтенанта.
– Отходим! – закричал он. Его бы никто не услышал, но цепь словно дожидалась приказа – рванув назад, в лес, к бригаде…
Как выяснилось позже, немцы не собирались преследовать передовой отряд десантников. Они просто отбросили их с берега Поломети, словно намекнув – «Здесь вам не пройти!». А заодно утопили в реке восемь мертвых и четверых тяжелораненых русских. И еще шутили: «Раки в этом году будут мясистые…»
Этого не знал рядовой Ваня Никифоров. Он просто заблудился. Он не знал, куда идти. Лыжные следы исчеркали весь лес. Они шли вдоль и поперек, крест-накрест. Но куда бы он не шел – везде было пусто. Следы поворачивали, закруглялись, пересекались…
Но людей не было.
А потом он сломал лыжу, наткнувшись на невидимый под снегом корень. Достав дрожащими руками скобы, попытался вогнать их в дерево. Не вышло. Не хватало сил. Тогда он достал суровые нитки и густо перемотал ими лыжу. Вроде бы держало. Но через пару десятков шагов нитка перетерлась об острый наст.
Тогда он сел и заплакал, уткнувшись в коленки. Обычный восемнадцатилетний мальчишка. Ему было страшно. Черное небо равнодушно смотрело на него звездами. Он посмотрел на нее мокрыми глазами. Слезы превращались в льдинки на щеках. Хотелось спать, равнодушное оцепенение мягко обняло кисти и ступни… Стало даже тепло.
Он помотал головой, стряхивая сон.
Поднялся.
И упрямо зашагал, хромая на сломанную лыжу, куда-то вперед, напевая про себя:
– Там вдали, за рекой, разгорались огни… В небе ясном заря догорала…
Через несколько десятков метров он увидел каких-то людей. И скинул непослушными руками винтовку с плеча.
– Хальт! – закричали ему люди.
– Вдруг вдали у реки засверкали штыки – это белогвардейские цепи…
Винтовка словно сама выплюнула свинец. И ослепила Ваню, но он продолжал стрелять по направлению…
– И без страха отряд поскакал на врага…
Люди тоже плевались огнем в ответ.
Но рядовому Никифорову было все равно. Он прислонился спиной к какому-то дереву и стрелял, стрелял, стрелял – лихорадочно меняя обоймы, словно стараясь, чтобы они не попали врагу в руки.
Он не замечал, что несколько немецких пуль уже пробили ему левое плечо, бедра и правое легкое. Он настолько замерз, что ему было все равно. Он не чувствовал ничего, кроме одного:
– Там вдали, за рекой уж погасли огни, в небе ясном заря загоралась… Капли крови густой… Из груди молодой… – ему казалось, что он кричит, но он просто шептал.
Немцы для верности еще несколько раз выстрелили по упавшему большевистскому фанатику. Потом обыскали его и не нашли ничего, кроме двух гранат «Ф-1», десятка обойм для винтовки «СВТ» и пяти рыбных консервов. Табака не было. Ваня так и не научился курить. Он просто пропал без вести. До сих пор никто не знает, попал ли он хоть в кого-нибудь…
6
– Итак, давайте, герр Тарасов перейдем к действиям вашей бригады…
– Не моей…
– А чьей же? – удивился обер-лейтенант.
Тарасов глубоко вздохнул:
– Цель бригаде была поставлена простая. Взять Демянск. По расчетам командования Северо-Западным фронтом, в котле должно находиться пятьдесят тысяч солдат и офицеров второго армейского корпуса. Из них сорок пять тысяч на передовой, пять тысяч в тылу.
Фон Вальдерзее так удивился, что перестал писать:
– Сколько, сколько?
– Пятьдесят тысяч.
Обер-лейтенант покачал головой:
– Военную тайну я не раскрою, если скажу, что ваше командование ошиблось почти в два раза…
Тарасов криво улыбнулся:
– Я уже понял. Примерно девяносто тысяч. Так?
– Вы хороший офицер, господин подполковник… – удивленно покачал головой фон Вальдерзее.
– Наша бригада, а также двести первая должны были рассечь котел на четыре части, взять Демянск и парализовать второй армейский корпус путем уничтожения штаба группировки.
Обер-лейтенант еще больше удивился:
– Ваше командование…
– Генерал-лейтенант Курочкин…
– Он… Представлял себе трудность подобной задачи?
Тарасов засмеялся…
* * *
Февральское небо било гроздьями звезд по земле.
Тарасов стоял на крыльце избы, где располагался штаб фронта, и смотрел в эти звезды. Медведица, Кассиопея, Орион… Он не был романтиком. Он был военным. Надя всегда ворчала на него, что он не видит красоты, а только воображает позиции предполагаемого противника…
– …Коль, смотри, как красиво! Какая излучина…
– Вижу… Вот там и там поставить два пулемета и под фланкирующий огонь…
– Коля! Ну так же нельзя…
– Подполковник! Тарасов! Зайдите ко мне…
Круглолицый и вечно улыбчивый Ватутин махнул Тарасову рукой, приглашая его обратно в дом.
– Николай Ефимович! – начал начштаба фронта, когда они зашли в маленькую спальню. Видимо, здесь обычно и квартировал генерал-майор. Над узкой кроватью висела огромная, исчерканная разноцветными карандашами карта. На маленькой тумбочке и на полу валялись книги.
– Итак, Николай Ефимович, чаю?
Тарасов кивнул.
Ватутин приоткрыл дверь и крикнул:
– Два чая мне. С лимоном. И это… Печенья овсяного!
– Николай Ефимович, задача перед вами стоит архисложная. Вы сами это прекрасно понимаете, – осторожно начал Ватутин.
– Товарищ генерал-майор, я понимаю, – Тарасов никогда не был деликатным. – Вы что-то хотели от меня?
Ватутин почесал нос:
– Тезка, а давайте без иконопочитания? Вы комбриг, а я начштабфронта. Если бы не известные нам обстоятельства, то мы могли бы поменяться местами. Так?
– Вы про колчаковский фронт? Или про арест? Так я был, между прочим, реабилитирован товарищем Берией и войной! – оскалился Тарасов. Не в его характере было играть в игры… – Если не доверяете мне, тогда меняйте на любого другого, но…
Ватутин зло сплюнул на пол:
– Тьфу! Да я совершенно не об этом хотел поговорить!
– А о чем, Николай Федорович? – Тарасов держался ровно и отстраненно, хотя при его взрывном характере это было неимоверно сложно.
– О бригаде! Спасибо! – Дверь приоткрылась, и адъютант, в звании старлея, протянул поднос с двумя стаканами чая и двумя блюдцами. На одном желтел посахаренный лимон, на другом лежало овсяное печенье.
Тарасов взял за ручку подстаканника свой чай и осторожно подул на кипяток. Потом взял печеньку с блюдца. Надя такие любила, да…
– Николай Ефимович! – Ватутин бросил дольку лимона в стакан и зазвенел ложкой. – Ваша бригада идет первой. Идет тихо, осторожно, обеспечивает лагерь в котле у немцев. За вами идет гринёвская – двести четвертая. Параллельно вторая маневренная под Лычково свою задачу выполняет…
– Я уже знаю, Николай Федорович, – отхлебнул Тарасов чай. Крепкий, кстати. И тоже положил в стакан лимон.
– Я волнуюсь за связь, товарищ подполковник. Не будет связи, не будет операции. Сумеете обеспечить?
– А что мне остается делать, товарищ генерал-майор? Конечно, обеспечу!
Ватутин потер красные глаза:
– Ошибка в одну цифру и продукты с боеприпасами будут сброшены немцам. Понимаете?
– За кого вы меня держите-то? – начал вскипать Тарасов.
– За командира бригады, которая может решить исход всей зимней кампании. А значит, всей войны. Это наш первый – слышите? ПЕРВЫЙ! котел! Пятьдесят тысяч немцев там. Пятьдесят! Строем этих сволочей проведем по Москве. А самое главное – дыра тут будет. Смотри! – Ватутин вскочил и рубанул рукой по карте, отсекая весь левый фланг фрицев. – И из этой дыры мы ударим до Прибалтики. До Балтики! И вся группа армий «Север» в Сибирь поедет! Куда они так стремились! Сссуки! Ленинград освободим!
Глаза Ватутина горели яростным огнем.
– Ты, Ефимыч, только свое дело сделай! А мы уж тебя поддержим. Мы сдюжим. А ты сделаешь?
Тарасов дохлебнул чай:
– Сможем, товарищ генерал-майор!
– Коньячку?
– Нет. Спасибо. Я не пью…
– Правильно! Не пей! Связь, главное связь!
Подполковник Тарасов вышел на крыльцо и снова посмотрел в морозное небо. Звезды, звезды… Кому вы светите сегодня, звезды? Кому на погоны упадете завтра? Кому на могилы?
Тарасов открутил крышку фляги. Понюхал. Поморщился. Хлебнул водки. Опять поморщился.
– В бригаду!
– Есть, товарищ подполковник!
Старший сержант Сенников – комвзвода ездовых – нещадно стегнул лошадку по спине. Лошадка мотнула мохнатой головой и потрюхала санями в расположение первой маневренной воздушно…
Лошадка знала, что ее там покормят…
* * *
– Как жрать-то охота… – грустно сказал рядовой Ефимов, безуспешно обыскав в очередной раз свой рюкзак.
– Заткнись, а? – Старшина Шамриков плюнул в снег. – Без тебя тошно.
Странно, но вот такое бывает на фронте.
Старшине было сорок два года. На фоне восемнадцатилетних мальчишек он казался стариком. А вот добился же, чтобы его зачислили в десантную бригаду. Он пришел в Монино, где проходили десантники последние свои обучения, своим ходом, прямо из госпиталя. Наплевав на патрули, на предписание, на все на свете – грея на груди письмо, переданное ему в госпиталь из рук в руки, а потому безцензурное:
«Здравствуй, папа! Наконец-то нас отправляют на фронт. Вскорости будем прыгать на головы немцам. Сейчас заканчиваем тренировки. Маме не пиши ничего. Я сам напишу. Мы сейчас в Монино. Прыгаем с парашютами. Извини за почерк. Спешу. Ты-то как? Как рука? Все, бегу, зовут. Твой сын Артем».
Когда старшина прочитал записку, то понял, что должен повидать сына. Полгода на фронте – от Гомеля до Москвы – смерть, кровь и грязь. И Артемка, глупыш, прыгает туда… В эту смерть, кровь и грязь…
Всеми правдами, под угрозой обвинения в дезертирстве, старшина Шамриков добрался до расположения десантников. И уговорил подполковника Тарасова взять его в бригаду.
Как он орал на старшину….
Перестал после одной фразы Шамрикова:
– Товарищ подполковник… Негоже, когда поперек батьки в пекло…
– Старшина, ты сам посуди… Нелегко ведь будет… – Тарасов чесал в затылке, думая, как избавиться от этого крепкого, сильного, но… Но уже не молодого старшины.
Старшина Шамриков помялся, а потом сказал:
– Вона, говорят, девки с вами идут. Нешто девки меня лучше?
– Девки моложе…
– И глупее.
– Мне, старшина, не ум нужен. А сила и выносливость.
Шамриков шмыгнул носом:
– Ну так спытай…
На всеобщее удивление Шамриков уложился во все нормативы. А по некоторым – укладка парашюта, сборка-разборка «СВТ» – даже опередил некоторых мальчишек. На вопрос, где он так сноровисто парашютом научился владеть, шмыгнул и ответил:
– А я с сыном гулять любил у парашютной вышки.
А последним аргументом для командования бригады стали слова старшины:
– Вот кабы, товарищ подполковник, твой сын был бы, так ты, думаю, вприпрыжку бы побежал за ним…
И Тарасов согласился. Хотя и скрепя сердце…
И вот сейчас старшина Шамриков лежал в снежном окопе – где-то внутри Демянского котла – и выслушивал стоны рядового Ефимова, единственного своего подчиненного из ездового взвода. Смех один. Ездовых на весь батальон – два человека. И без лошадей. Принеси-подай. А вот что ты – штатное расписание! Зато Артемка рядом…
– Дядь Вов… Ну, ведь есть что пожрать у тебя, а?
– Нету. Вчера вечером с тобой последний сухарь дожрали.
– Куркуль ты, дядь Вов… – Ефимов перевернулся на другой бок и подогнул ноги к животу. Так почему-то хотелось есть меньше.
– Снег жри, поди, полегчает… – флегматично ответил старшина Шамриков. – Говорят, скоро продукты сбросят. Вот тогда и пожрешь как следует.
– Злой ты, дядя Вова… – вздохнул Ефимов, снова переворачиваясь на другой бок.
– Ага. Злой. И что?
– Да ничего… Так… Стой, кто идет! – рядовой подскочил, как смог, выставив перед собой трехлинейку.
– Не ори, а? Иди-ка погуляй… – Сержант Шамриков прохрустел снегом мимо рядового, откинув рукой штык винтовки Ефимова.
Тот оглянулся на старшину:
– Гуляй, Вася, гуляй…
– Я Сережа! – воскликнул Ефимов.
– Насрать. Гуляй, боец! – Старшина Шамриков почесал нос. Когда Ефимов скрылся в зарослях, он спросил сына:
– Ну как ты?
– Бать, дай закурить?
– Ты же вроде бросил перед операцией, а?
– Снова начал. Дай закурить, не нуди, а? – Младший Шамриков протянул дрожащую руку к отцу.
– Артемка… Последняя… Сам смотри…
Старшина достал из вещмешка бумажный кулек:
– Ладошки подставь…
Артем сноровисто подставил ковшичком ладони. Старший Шамриков не спеша, аккуратненько, развернул сверток. Затем – так же аккуратно – оторвал кусочек газеты, сложил его пополам, насыпал в него табачные крошки и, лизнув края, свернул цигарочку. Потом не спеша понюхал ее, глубоко вдыхая…
– Бать… Не томи, а?
– Помолчи. Огонь давай, да?
Сержант Шамриков торопливо щелкнул немецкой зажигалкой, подаренной ему старшиной Шамриковым перед выходом бригады в котел.
Дядя Вова глубоко затянулся… Раз… Другой… Потом протянул самокрутку сыну.
– Бля… Хорошо-то как… – дымом промолвил… Именно промолвил, не сказал, не крикнул, а промолвил, почти шепотом тот. – Аж голова кругом…
– Жрать небось хочешь?
Артем, ошалело глядя в синее мартовское небо, только кивнул…
– На… – протянул старший Шамриков сыну сухарь. – Последний, Артемка.
Тот, опьяненный долгожданным никотином, лениво стал его грызть:
– Вот оно, счастье-то… Бать… – По рукам Артема пробежали иголочки, голова зашумела, пальцы онемели.
– Чаво?
– Почему мне так мало надо? Пара затяжек и сухарь… И я счастлив…
– Блевать не вздумай, счастливый. И чинарик отдай.
– На…
Старший Шамриков осторожно вытащил окурок из рук сына и сделал еще пару пыхов:
– Думать чего-то надо, Артемка. Иначе сдохнем тут, и мамка не дождется…
Старшина не успел ответить. По лесу захлопали выстрелы немецких карабинов…
7
– Я не понимаю вашего командования, подполковник! – Обер-лейтенант встал и нервно заходил из стороны в сторону, цокая сапогами по половицам. – Как можно бросать легкую пехоту, пусть и элитную, в тыл армейского корпуса, ставя такие задачи и основываясь на ошибочных разведданных?
Тарасов молчал, следя за разволновавшимся немцем. Тот остановился и, навалившись над столом, непонимающим взглядом уставился на подполковника:
– Поверьте, я потомственный военный. Мой дед – Альфред фон Вальдерзее был начальником генерального штаба Второго рейха! Сам Шлиффен был его преемником! Мой отец был начальником штаба восьмой германской армии, разбившей ваших Самсонова и Рененнкампфа в четырнадцатом году под Танненбергом! Вам, вообще, известны эти имена?
Тарасов ухмыльнулся про себя над каким-то детским высокомерием лейтенанта. Похоже, немец и не осознавал своего отношения к русским.
– Мы, герр обер-лейтенант, академиев не заканчивали…
– Что? Я не понимаю вас!
– Но я прекрасно знаю, что вашего батюшку после поражения на первой стадии операции вместе с командующим генералом Притвицем сняли с должностей. Победу одержали Гинденбург и Людендорф. А вернее, дополнительные два с половиной корпуса, переброшенные из Франции. Не так ли?
Обер-лейтенант онемел от наглости пленного. От наглости и ухмылки.
– Хорошо, – сел фон Вальдерзее. – Если у вас в Красной Армии все такие умные, почему же вас все-таки бросили на верную смерть? Без нормального оружия, без достаточного количества боеприпасов, без продовольствия, наконец?
– Герр обер-лейтенант… Можно вам задать вопрос?
Юрген подумал и кивнул:
– Почему ваш корпус цепляется за эти болота, находясь в окружении, имея огромные проблемы со снабжением? Не лучше ли, с военной точки зрения, прорвать кольцо и, соединившись с армией, вывести дивизии. Какова ценность этих болот?
Обер-лейтенант подумал с минуту. Встал. Опять подошел к окну. И, не глядя на Тарасова, сказал:
– Таков приказ. Приказ фюрера. Крепость Демянск – это пистолет, направленный в сердце России. Нам приказано удерживать эту крепость до последнего человека.
Тарасов молчал. А немец продолжил:
– Я понимаю вас. Приказ есть приказ. И вы его выполняли до последнего. Но ваши генералы…
– Герр обер-лейтенант, вы знаете, как вывести из строя танк?
Вальдерзее удивился вопросу:
– Бронебойно-зажигательным по уязвимым местам…
– А лучше всего сахара в бензобак. Придется чистить карбюратор, а это долгая процедура. Правда, и сахар растворится. Вот наша бригада и есть тот сахар.
Фон Вальдерзее понял метафору:
– Но ваша бригада растворилась, а наш панцер пока стоит непоколебимо! – немец с трудом выговорил последнее слово.
«Именно что – пока…» – подумал про себя Тарасов. А вслух сказал…
* * *
– Вызывай, вызывай, твою мать… – зло ругнулся комбриг на радиста. Тот покосился на Тарасова.
– Земля, Земля, я Небо… – продолжил он бубнить.
Подполковник отошел в сторону и привалился плечом к сосне. Шел третий день операции. Продукты уже закончились. Люди начали просто падать в снег и не вставать. Их поднимали более здоровые, заставляли идти и идти вперед. Скорость движения бригады упала до десяти километров в день. По расчетам штаба, они уже должны были выйти в район сосредоточения на северо-западную оконечность болота Невий Мох. Со всех сторон клевали эсэсовцы. Они опасались нападать на бригаду. Но стычки случались каждый день. Количество раненых и обмороженных росло каждый день. По расчетам Тарасова – к началу активных боевых действий бригада могла потерять треть личного состава.
Просто потому, что нечего было есть.
– Есть! Есть связь, товарищ подполковник! Передавать радиограмму?
– Нет, блин… Задницу себе вытри! Бегом, мать твою!
И через линию фронта полетела шифровка:
«Дайте продовольствие, голодные. Координаты…»
Но ответа не было. Как не будет ответа и на следующий день:
«Вышли в район сброса грузов, продовольствия нет!»
И через два дня:
«Уточняю пункт выброса продовольствия… Юго-западнее Малое Опуево, повторяю координаты для выброски продовольствия – лесная поляна юго-западнее Малое Опуево. Дайте что-нибудь из продовольствия, погибаем, координаты…»
Невероятными усилиями, через мороз, бурелом и стычки с немцами бригада все же продралась на болото Невий Мох. В рюкзаках оставались только по две плитки шоколада. Брать их можно было только по приказу командира. Съел раз в день дольку – вся норма. У тех, кто воевал на финской, сохранился чай. «Чай не пьешь – какая сила? Чай попил – совсем ослаб…»
Продралась бригада на точку встречи с двести четвертой бригадой подполковника Гринёва. Но гринёвцев там не было. Не было и обещанного снабжения.
Тарасов обходил батальоны. Сил не было и у него, но упасть, лечь, уснуть – он не имел права. Пацаны смотрели на него и держались им.
В третьем батальоне его угостили горстью березовых почек. Подполковник похвалил комбата за организацию питания, стараясь скрыть злость на командование фронтом. Где же самолеты??
– Товарищ капитан… Ой, простите! Товарищ подполковник! Разрешите обратиться к товарищу капитану! – подбежал к командирам молодой десантник с рыжей щетиной на щеках.
Тарасов молча кивнул.
– Товарищ капитан… Дозор, похоже, обоз немецкий обнаружил. Пять саней. Еле ползут по дороге на Малое Опуево.
Глаза десантника лихорадочно горели. Командиры переглянулись:
– Действуй, комбат!
Комбат-три молча козырнул и побежал поднимать бойцов.
Лес зашевелился. Из вырытых в снегу ям, укрытых маскхалатами, выбирались по двое, по трое – десантники надевали усталыми, обмороженными руками лыжи и исчезали в кустах.
Тарасов, дождавшись, когда последний из красноармейцев исчезнет в густом подлеске, решил передохнуть. Он спустился в ближайшую яму и прислонился к снежной стене. Едва прикрыл глаза и…
И услышал чьи-то крики.
Ругнувшись про себя, он досчитал до трех, собрался и пружиной выскочил из снежной ямы. Метрах в ста кучка бойцов кричала на все болото.
– Что кричим, а драки нет? – подошел подполковник к скандалистам.
– Смирно! – рявкнул кто-то из бойцов. Тарасов, приглядевшись, узнал в скомандовавшем комиссара третьего батальона.
– Куклин? Ты почему не с батальоном? – удивился комбриг. – Что тут у вас происходит?
– Смотрите сами…
Бойцы расступились.
На снегу лежал десантник. По почерневшему от обморожений лицу его текли слезы. И он грыз какой-то красновато-желтый кусок.
– Не понял…
– Тол жрет, товарищ подполковник! Гранату раскурочил, тол вытащил и жрет!
Тарасов почти без размаха пнул бойца по рукам. Кусок взрывчатки вылетел из ослабевших рук десантника и по большой дуге скрылся где-то за деревьями, сбив с еловой лапы ломоть снега.
Комбриг сунул руку в карман и вытащил кусок сухаря. Потом присел перед десантником:
– Жрать хочешь? На, держи.
Десантник вцепился в сухарь скрюченными пальцами и, почти по-звериному воя, сгрыз его в пару секунд.
– Теперь тащите его к медикам. Промывание ему сделать. Бегом!
– Товарищ подполковник! А что, он с ума сошел? – опасливо спросил Тарасова один из бойцов.
– Нет. Просто с собой не совладал. Тол, он сладковатый на вкус. Вот… держи записку. Военврачу передашь. Бегом! Десантура…
Потом Тарасов подошел к комиссару батальона:
– Непорядок, комиссар, непорядок… Скоро у тебя бойцы друг друга начнут жрать.
Тарасов знал, что это уже пятый случай по бригаде. Но скрывал это от комиссара батальона. Впрочем, Тарасов догадывался, что Куклин в курсе происшествий.
Такое трудно скрыть.
Если вообще возможно…
– Догоняй батальон, комиссар. Обоз берите. От вас сейчас вся бригада зависит…
* * *
Ефрейтор Шемякин грыз еловую веточку, пытаясь заглушить сосущую боль в пустом желудке. И наблюдал сквозь прицел за немецкими обозниками.
Те почему-то остановились прямо напротив него. Слезли с саней, скинув с себя ворохи какого-то тряпья. Достали лопаты и пошли в лес. Прямо на ефрейтора.
Шемякин слегка заволновался, играя пальцем на спусковом крючке.
Немцы гортанно лаялись на весь лес.
Один из обозников был с черной повязкой на глазу.
«Словно пираты Стивенсона…» – вспомнил Шемякин читанную еще в детдоме книжку. И стал отползать назад: «Да где же батальон?»
Дозорных было трое – почти все отделение. Четвертый был послан в расположение батальона за помощью. А немцев было десять…
Шемякин осторожно показал ладонью – назад! назад!
Нельзя себя обнаруживать, сейчас батальон подойдет. Уроем рыла фрицам!
Ефрейтор спрятался за большущей, из-под снега торчащей корягой. Осторожно высунул обмотанный бинтами ствол винтовки между корнями. Немцы были совсем рядом, еще метров пять и…
Немец с повязкой на глазу – Шемякин мысленно назвал его Сильвером, правда, тот был одноногий, но какая разница в принципе-то? – вдруг рявкнул чего-то. Обозники остановились и начали раскидывать снег в стороны.
«Захоронка у них тут, что ли?» – подумал Шемякин. И тут его ожгло мыслью. Посыльный умчал в батальон, чтобы сообщить, что обоз уходит по дороге к Опуево. Наверняка подмога пошла южнее, чтобы перехватить немцев. Кто же знал, что тыловики остановятся тут, прямо напротив дозора ефрейтора Шемякина?
Слева рядовой Юдинцев, справа рядовой Колодкин. Три капризных «светки» в руках и девять гранат в подсумках. И прямо перед ефрейтором немцы какой-то клад копают…
Ждем, ждем, ждем…
Даже есть перехотелось. И жарко стало…
Ага! Вот и клад!
Один из фрицев наткнулся на что-то под снегом. Откинул лопату, встал на коленки и стал выдергивать что-то… Потом крикнул по-своему. Один из немцев, стоявших рядом, вытащил из-за пояса топор и протянул стоящему на коленях. Тот стал яростно рубить это «что-то». По лесу прокатилось глухое эхо ударов, а по снегу полетели странные красные щепки. Немцы засмеялись, показывая на них.
Шемякин приложился поудобнее к прикладу.
Наконец, фриц утер пот со лба и отдал топор. Потом вытащил что-то черное, непонятное из сугроба…
Лошадь! Ей-богу, лошадь!
Фриц держал в руках промерзлую лошадиную ногу.
Одноглазый что-то буркнул, и обозники в ответ ему радостно захлопали друг друга по плечам.
Только сейчас Шемякин заметил, что немцы исхудавшие – впалые щеки, ввалившиеся глаза, острые носы.
«Тоже, суки, жрать хотят…»
– Helmut! Kurt! Hainz! Komm zu mir! Alle, alle! – крикнул одноглазый. С дороги прибежали оставшиеся при санях ездовые.
Немцы сноровисто обдергали сухие ветки с придорожных елок и развели костерок. Один топориком вырезал из лошадиной ноги куски мяса и надевал их на веточки, раздавая своим «фройндам».
«Шашлык, твари, делать будут…» – сглотнул ефрейтор тягучую слюну.
Мясо, съеживаясь, ароматно зашипело на трещащем огне…
Последний раз шашлык он ел в июне сорок первого. И запивал разливным холодным пивом. Первую зарплату с парнями отмечал, ага… Потом еще со Светкой познакомился… Тогда вот в руки не далась, да, а сейчас вот другая «светка» в руках…
Бах! Бах! Бах! – резко хлопнуло откуда-то слева.
Немец, только что тянувший ко рту веточку с мясом, упал, ткнувшись лицом в костер.
Шемякин сначала выстрелил в толпу заоравших немцев. А потом вскочил на колени и снова выстрелил.
Потом присоединился к стрельбе и Колодкин.
В течение секунд двадцати все было кончено. С расстояния в пять метров из «СВТ» промахнуться невозможно. Гансы лежали, окрашивая кроваво-красным паром истоптанный снег. Кто-то из них стонал, кто-то хрипел. Видать, пуля попала в горло. Точно. В горло. Вон, лежит, качается с боку на бок, пытаясь остановить кровь.
Шемякин отопнул фрица, чтоб не мешался.
Выл тот, который упал лицом в костер. Багровые пузыри надувались по щекам. Он пытался стереть их, но лишь размазывал вытекшие глаза по лицу.
Бах! – и обожженный фриц успокоился, разбрызгав мозги по снегу.
– Юдинцев! Скотина! – Шемякин развернулся лицом к здоровяку Сашке Юдинцеву. – Кто стрелять разрешил! Ща как дам!
Двухметровый десантник виновато загудел в ответ:
– Дим, а че они жрать начали…
– Дубина ты, Юдинцев! И ты, Колодкин, дубина! – развернулся командир отделения к Сашке Колодкину.
– А я-то что? – удивился рядовой Колодкин.
С Юдинцевым они были похожи как близнецы – одного роста, косая сажень в плечах. Винтовки в их руках казались пистолетиками из детства.
– Ничего, – буркнул Шемякин и выстрелил в затылок зашевелившемуся было немцу. – Фрицы мясо не дожарили.
А потом присел на корточки и взял из руки убитого немца обгорелую палочку с кониной и, стряхнув его кровь с мяса, стал жевать.
– Соли не хватает… Чего стоим, кого ждем?
Бойцы жадно, почти не жуя, стали сметать полусырое лошадиное мясо.
– Вкусно-то как… – пробурчал набитым ртом Юдинцев.
– Мугуммм… – промычал Колодкин, хватая очередной кусок.
Шемякин утер рот испачканной углем рукой и уселся на еще теплый труп одноглазого немца.
– А вот я настоящий шашлык ел, когда….
Договорить он не успел – прямо перед ним упала немецкая граната с длинной ручкой.
Шемякин успел вспомнить, что у «колотушки» длинный запал, что ее можно схватить и кинуть обратно, и даже протянул руку, чтобы схватить ее. И еще успел услышать шипение запала, и увидеть, что у Юдинцева выпал из открытого рта кусочек мяса – надо бы отматерить его за это! Но сделать ничего не успел, потому как в глазах полыхнуло белым пламенем.
Двое немецких ездовых терпеливо дожидались своей очереди, охраняя сани обоза. На этом месте в ноябре сорок первого года полег эскадрон красных. Конины должно было хватить на целый полк…
Когда вспыхнула стрельба, они скатились на другую сторону зимника. Разглядев, не мудрствуя лукаво, что русских диверсантов всего трое, метнули две гранаты, а потом вскочили – каждый на свои сани – и помчались обратно в расположение.
Третий же батальон, развернувшись на звук выстрелов, прибыл на место боя минут через десять. Захваченных живых лошадей, не раздумывая, пустили на мясо. А потом выкопали и осенних лошадей, стараясь не путать их со всадниками.
«Господи, только бы не сибироязвенные…» – молились про себя в медсанбате… А военврач второго ранга Попов умолял:
– Варите как можно дольше, ребята! Варите как можно дольше!
8
А вслух подполковник Тарасов сказал:
– Понимаю, что вермахт сейчас стоит в Демянске, а не Красная Армия в Танненберге.
– Этого никогда не будет! – презрительно дернул щекой фон Вальдерзее.
– Не знаю, герр обер-лейтенант, будет или нет. Сейчас меня другое интересует. Более насущное, – Тарасов вдохнул полной грудью: «Начнем потихонечку?»
Юрген прищурился:
– Что именно?
– Моя дальнейшая судьба…
Обер-лейтенант помолчал. Внимательно посмотрел на подполковника. Потом тихо так сказал:
– Николай Ефимович… Я не могу вам сейчас обещать ничего. Все зависит от этого, – он приподнял листы бумаги и слегка потряс ими, – понимаете меня?
– Конечно.
– Тогда… Тогда расскажите о принципах взаимодействия с другой бригадой. Со второй, если не ошибаюсь?
– С двести четвертой…
– Да, с двести четвертой. Извините, – тонко улыбнулся лейтенант. А Тарасов едва заметно покачал головой:
– Вторая бригада должна была атаковать Лычково с тыла. Не знаю, как уж у них это получилось…
– Никак. Бригада была разгромлена, – не поднимая головы от протокола допроса, сказал фон Вальдерзее. Спокойно так сказал. Между делом. И почему-то Тарасов ему поверил.
– Двести четвертая бригада под командованием…
– Под командованием?
– Майора Гринёва.
Лейтенант удивленно поднял голову:
– Пленные из двести четвертой показывают, что Гринёв был подполковником…
– Нет. Майор. Его разжаловали осенью прошлого года. За что – не знаю. Не вдавался в подробности.
«Интересно… Поверит или нет?»
Лейтенант вроде бы поверил:
– Так, так… Продолжайте…
– Должна была выйти к месту сосредоточения бригад на болоте Невий Мох. После соединения общее руководство операцией должен был принять Гринёв.
– Что? – опять удивился Вальдерзее. – Майор руководит подполковником?
– Так решило командование фронта, – отрезал Тарасов.
– Вы проиграете эту войну… Русские не умеют воевать, и в этом я убедился только что… И по какой причине майор должен был командовать подполковником?
– Его бригада была больше. И по количественному составу, и по вооружению. Насколько я знаю, гринёвцы вошли в котел с батареей «сорокапяток».
– Господин Тарасов, а что вы почувствовали, когда узнали, что вами будет руководить МАЙОР? – выделил последнее слово обер-лейтенант.
– А вы как думаете?
* * *
Голод – странная штука. Первые три дня голод сначала сосет под ложечкой, потом охватывает все тело – даже пальцы на ногах хотят есть, – а потом раздирает тебя так, что хочется впиться зубами в руки.
И вдруг приходит момент – у кого-то раньше, у кого-то позже – голод пропадает. Кажется, что тело стало чужим, ватным каким-то. Движения замедляются. Сквозь воздух идешь, словно сквозь мягкую стену. Мыслей нет. Вообще нет.
А думать надо… Надо, надо, надо…
Почему не отвечает штаб фронта? Где самолеты снабжения? Где Гринёв со своей бригадой? Что делать? Сил бригады недостаточно даже для выполнения первой задачи – нападения на аэродром в Глебовщине. Не говоря уже о штабе немецкого корпуса… Идти на задание – значит положить бригаду в эти чертовы снега. Возвращаться – значит трибунал. Продолжать ждать – значит тихо вымереть. Деревья уже ободраны. Из хвои отвары пьют, больше нечего… Лошадей – живых и павших – хватило на один неполноценный ужин – стограммовый кусок мяса на бойца.
– Какие будут предложения, товарищи командиры? – Тарасов играл желваками. – Командиры батальонов? С вас начнем…
Встал комбат-один:
– Мое мнение – надо атаковать аэродром. По крайней мере, добудем продуктов.
И сел.
– Немногословен, ты, Иван Иванович… – улыбнулся комиссар бригады. – Жук и есть…
– А что тут еще скажешь? По-моему, больше вариантов нет… – перебил хохоток командиров капитан Жук.
Командиры других батальонов согласились с мнением комбата-один.
– Разведка?
Командир отдельной разведывательно-самокатной роты Паша Малеев – здоровый, белявый – протрубил дьяконским басом на весь лес:
– А нам, разведчикам, как командир прикажет. Надо будет – в Берлин сгоняем и фюрера достанем!
На этот раз никто не засмеялся. Командиры помнили, как Малеев гонял их еще в Зуевке, невзирая на звания и должности. «Строевая подготовка – есть основа армии! Нет строя – нет дисциплины! А командир есть первый пример по дисциплине для бойца!» – выгуливал он лейтенантов и капитанов по плацу. А бойцы у него ходили с зашитыми карманами, полными песка…
– Начштаба?
Майор Шишкин одернул полушубок:
– Я думаю, что надо еще подождать Гринёва. И попытаться наладить связь со штабом фронта. Уточнить детали, получить указания.
– Товарищ майор, – внезапно вступил в разговор начмед бригады. Обычно он отмалчивался, мало что понимая в военных делах и докладывая только о своем царстве. – Товарищ майор, промедлим еще пару дней, и бригада просто ляжет тут. Требуется срочная эвакуация как минимум сотни обмороженных. Гангрена. Операции в этих условиях я делать не могу. Люди…
– Что вы можете, товарищ военврач, дело десятое, – перебил начмеда Тарасов. – Делать будете, что придется.
Шишкин, не обратив на эмоциональный выпад медика, продолжил:
– Товарищ военврач второго ранга прав. Бездействие равно смерти. Необходимо действовать. Наверняка у немцев в деревнях, превращенных ими в опорные пункты, имеются склады и боеприпасов, и продовольствия. Мы все с вами наблюдаем, как транспортные «Юнкерсы», практически вереницей, снабжают фашистов. Николай Ефимович, товарищ комиссар и я посоветовались и предлагаем такой вариант. Разведроте сегодня же ночью проверить ближайшие деревни – Малое и Большое Опуево, а также…
Шишкин стал сыпать названиями деревень и сел, где, по его расчетам, немцы должны были оставить гарнизоны.
– В бой не вступать. Провести визуальное наблюдение, сделать выводы и возвращаться. Утром же выдвинемся к наиболее лакомому кусочку. Как считаете, товарищи командиры?
А командиры были не против. Разве поспоришь с мнением командования? Тем паче, что решение было единственно разумным в данной ситуации…
Совещание закончилось за час до наступления сумерек.
– Малеев, останься, – приказал Тарасов командиру разведчиков. – Задача понятна?
– Обижаете, товарищ подполковник… – забасил тот. – Что я, пень какой?
– Павел Федулович, – обратился Тарасов к старшему лейтенанту. – От тебя жизнь пацанов зависит. И судьба операции в итоге. Понимаешь? Минимум действий, максимум внимания. Придержи своих орлов комнатных.
– Чего это комнатных-то? – привычно обиделся Малеев на привычную шутку командира.
– А то знаю, хоть и ходят, аки тени отца Гамлета, а немцам глотки хотят порезать. Так?
– А как же…
– Вот именно сегодня и не надо резать. Успеете еще.
– Языки?
– Брать. Желательно фона какого-нибудь.
– Будет вам фон. Хотите этого… Как его… Брык… Бряк… – Малеев никак не мог запомнить фамилию командующего окруженной Демянской группировкой.
– Фон Брокдорфа-Алефельда. Тоже неплохо. Но это потом. Ты мне сначала доставь сведения о продуктовых складах. Подкрепимся и будем этого фона по всему графству гонять.
Старший лейтенант не понял:
– По какому графству?
Тарасов засмеялся во все тридцать два зуба:
– А еще разведка… Ты что, не знаешь, что немцы котел «Демянским графством» называют?
Малеев ошеломленно захлопал глазами:
– Первый раз слышу…
– Иди бойцов собирай, Павел Федулович. С богом!
Тарасов похлопал по плечу медведистого разведчика.
Тот козырнул и умчался к своим архаровцам.
Тарасов вздохнул и отправился обратно в свою снежную яму, по недоразумению названную блиндажом.
Но дойти не успел. Его перехватил связист:
– Товарищ командир! Радиограмма из штаба фронта!
* * *
Ночь. Темнота такая, что можно глаз выколоть. По-настоящему глаз выткнуть… Наткнувшись на ветку в буреломе.
Наверное, только русские люди умеют потеть в двадцатиградусный мороз.
А знаете почему?
Все просто.
Русский – это прилагательное. Он приложен к своей стране. Немец, англичанин, американец, француз – они существительные. Пока они существуют – существуют и их страны. Но убей немца – не будет и Германии.
Убей американца – не будет Америки.
Убей русского – не будет русского. А Россия останется. И другой русский придет… Через бурелом, через ночь, через сугробы.
И пот щиплет глаза, стекая из-под шерстяного подшлемника.
Темень такая, что видно только белеющий под ногами снег. Пять километров по бурелому за три часа. Почти каждый шаг – в перелет кустов. Пять километров – и котелок пота с каждого. И еще одна сломанная лыжа – бойца пришлось отправить обратно по следам. Гадство… А ведь надо вернуться с докладом к шести утра. Что там в этом Опуеве?
Малеев сказал командиру разведгруппы, что – возможно! не более! просто возможно! – в Малом Опуеве штаб какой-то там мекленбуржской дивизии.
Деревья внезапно стали расступаться.
– Дорога, командир! Зимник! – остановился вдруг Ваня Кочуров, тот, который тропил снег последние десять минут. – Глеб, позырь!
Отделение рухнуло в сугроб, скрипнув снегом. А потом сержант Глеб Клепиков пополз вперед. Рассмотреть, что там и как…
Глеб подождал в придорожных кустах минут пять. Тишина. Никого. Только звездное небо и тихое потрескивание замороженных веток… Тишина…
Сержант поднялся и боком – лесенкой переставляя лыжи – поднялся на дорогу.
– Наезженная. Машины ходят. И сани! – крикнул он, присев и поглаживая спрессованный снег.
На голове его была шапка, уши которой были плотно подвязаны под подбородком. А сверху был накинут капюшон белого маскхалата. Поэтому он сразу и не услышал, что его спиной появился сначала тонкий, а потом все более басовитый гул автомобиля.
Когда он обернулся, было уже поздно. Легковая машина вывернула из-за поворота. Прыгать за обочину было поздно. И сержант Клепиков принял единственно верное решение – он развернулся лицом к синему, маскировочному свету фар и властно поднял руку, ладонью к машине – «Стоп!».
Бойцы его отделения, уже изготовившиеся к прыжку через дорогу, снова рухнули в снег.
Машина остановилась в метре от сержанта. Стекло опустилось, и немец грубо облаял десантника. Что он говорил – сержант не понял, разобрав только одно слово – «Идиёттен». Водитель даже не понял, что перед ним русский.
Глеб лениво подошел к дверце шофера и, жутко улыбнувшись черным, обмороженным лицом, скомандовал:
– Хенде хох, скотина немецкая! Ком цу мир!
А самым главным аргументом для водителя оказался ледяной ствол «СВТ», нежно коснувшийся арийского носа.
Немец скосил вытаращившиеся глаза на мушку винтовки и выполз из машины. Правда, у него это получилось не сразу. Ручку заело. Пришлось сержанту слегка надавить винтовкой. Немец от страха сморкнулся большим пузырем. И зря. Потому как немедленно примерз к металлу. Глеб, правда, это не сразу заметил. Поэтому, когда он отдернул винтовку, даже удивился реакции фрица, завопившего от боли и схватившегося за лицо.
– Хлипкий какой… – Сержант брезгливо снял с дула кусочки пристывшей кожи.
А десантники уже спористо окружили легковушку.
Клепиков наклонился и заглянул в моментально выстывший кузов. На переднем месте лежал фрицевский автомат. А на заднем – какой-то старик в высокой фуражке с меховыми наушниками.
– Вань, автомат забери…
Рядовой Кочуров вытащил автомат и закинул его за спину. А Клепиков изучал старика. Тот его взгляд понял по-своему – начал суетливо вытаскивать дрожащими руками свои вещи – маленький пистолет, зажигалку, золотые часы, серебряный портсигар… Потом протянул мешок, лежащий рядом.
– Братцы! Консервы! Хлеб! – радостно крикнул кто-то из бойцов. – И шоколад!
Клепиков сорвал витые погоны с плеч старика. Тот тонко вдруг закричал:
– Nein! Nein! Nicht Schiessen! Bitte! Bitte! Der Enkel! – И трясущимися руками стал тыкать открытым портмоне в лицо сержанту.
Клепиков от неожиданности отпрянул, потом уже оттолкнул руки немца.
– Чего он орет? – засмеялся Кочуров.
– Какать хочет… Вот и орет, – буркнул Клепиков. – Ладно, пошли.
– А с этими что?
– Черт с ними. Стрелять не велено. А по лесу его не доведем до наших. Умрет от страха. Да и толку от него… Невзрачный какой-то старикашка.
– И водителя?
– А от него вообще толку нет. Эй, старый! Бери свой портсигар. И зажигалку с часами. Только вот сигареты реквизирую. И консервы. А в остальном комсомольцы дедушку не обидят. Да вот пистолет, извини…
Машина рванула так, что десантники долго смеялись над стариком. Помчался так, как будто вся Красная Армия за ним гналась.
– Вперед, к Опуево! – скомандовал Клепиков. – Времени мало…
И только Ваня Кочуров все жалел о толковой немецкой зажигалке.
А утром, разведав подступы к деревне, бойцы, довольные собой, разбредались по своим снежным норам. А сержант Клепиков пошел с трофеями к капитану Малееву…
Через полчаса все отделение стояло перед начальником особого отдела роты – капитаном Гриншпуном. Тот слегка улыбался помороженными щеками.
– Ну что, бойцы… Молодцы! Трофеи знатные… Особенно пистолетик. Награду заслужили…
– Да что вы, товарищ капитан… – засмеялись десантники. – Мы ж не ради награды…
– Выбирайте сами свою награду. Либо вас прямо сейчас лично расстреляю, либо после после разговора с комбригом.
Бойцы окаменели.
– Вы же, сволочи, генерала отпустили. Может, самого Брокдорфа! Командующего всем корпусом! Уроды!! Пожалели, значит, фрица? А он бы вас пожалел? – У капитана задергалось нервным тиком красивое лицо. Сзади заскрипел снег. Бойцы не смели оглянуться, опустив головы.
– Расстрелять к чертовой матери этих шляп! – раздался голос Тарасова. Подполковник обошел строй штрафников, зло сжимая витые серебряные погоны немецкого генерала. Остановился перед Клепиковым. И без размаха коротко ударил – кулаком с погонами – сержанта под дых. Тот согнулся пополам, беззвучно хватая, как снулая рыба, распахнутым ртом стылый воздух:
– Товарищ подполковник… – вмешался Мачихин.
– Товарищ комиссар! – взвился Тарасов. Потом помолчал и снова повернулся к бойцам.
– Сдать оружие, продовольствие, ремни. Ждать здесь. Сейчас пришлю автоматчиков…
9
Фон Вальдерзее покачал головой:
– И что… Их…
– Да, герр лейтенант. Их расстреляли. Перед строем. А вы как думали?
– Но… Но это же преступление…
– Особисты и комиссары настояли на расстреле. Вы же знаете, что такое НКВД?
Лейтенант откинулся на стуле:
– К счастью, нет. Только слышал со слов пленных.
– Мне ничего не оставалось делать, как только выполнить приказ комиссара. – Тарасов потер покрасневшие от усталости и боли в голове глаза.
– Кстати, герр лейтенант, мы так и не узнали, что это был за генерал…
Лейтенант довольно усмехнулся:
– Не было никакого генерала. Никто из нашего командования не попадал в плен к вам. Ваши солдаты ввели вас в заблуждение!
Тарасов засмеялся:
– Значит, генеральские погоны они нашли на дороге? Не смешите меня, Юрген!
– Николай Ефимович! – Как все немцы, фон Вальдерзее с трудом произносил русский звук «Ч». У него получалось – «Ефимовитч». – Ваши бойцы остановили тогда на дороге одиночную машину, в которой не было никого, кроме водителя, везшего вещи генерал-полковника фон Трауберга – главного интенданта корпуса. Не более.
– И на следующий день вы предприняли атаку прямо на штаб бригады, просочившись сквозь стык боевых охранений батальонов? – спросил подполковник.
– Конечно! Ведь водитель запомнил место, где его остановили ваши незадачливые разведчики. Кстати, господин подполковник… Почему вы все время улыбаетесь?
– Вспоминаю, какие отборные бойцы нас тогда атаковали…
* * *
– Итак, товарищи политработники, приступим. На повестке дня несколько вопросов. Первый – благодушное отношение бойцов бригады к выполняемым боевым обязанностям. Я думаю, все из вас в курсе, что произошло сегодня ночью? – Комиссар бригады обвел строгим взглядом своих подчиненных. Сидели они в свежепостроенном большом шалаше. В углу трещала маленькая печечка-буржуечка, притащенная одним из отделений разведчиков. Тепла давала мало, зато дыма много. Рядовой даже сделал дощечку, которой махал как можно бесшумнее в сторону выхода. Не ахти как, но у него получалось.
– Александр Ильич, – обратился к комиссару политрук разведроты.
– Не перебивай, – обрезал того Мачихин. – С тобой отдельный разговор. Что в других подразделениях? Такие же баптисты воюют или хуже?
Младший политрук Калиничев, военный комиссар отдельной зенитно-пулеметной бригады, встал, покашливая и поправляя полушубок:
– Товарищ… Кхм… Товарищ военком, ну парни необстрелянные. Они фрица живого еще толком не видели. Добрые они, характер у нас такой, вятский…
– Не добрые! Не добрые, товарищ младший политрук! А добренькие! Над нами вся армия, да что там… Весь фронт смеяться будет! Генерала фрицевского упустили по доброте душевной. Невзрачный он показался бойцам, мать их ети за ногу да в голубое небо…
Мачихин матерился редко. Но метко. Как стрелял. Должность обязывала быть примером во всем.
– А это, товарищи политработники, ваша недоработка, что бойцы недооценивают противника. Нет. Не так. Не противника. Врага. Кто из вас был на фронте?
Несколько человек молча подняли руки.
– Деревни сожженные видели? Когда трубы, как пальцы, торчат? Черные такие, богу в харю тычут. Видели?
Фронтовики кивнули.
Мачихин помолчал, обведя взглядом политруков. Потом достал из кармана смятый листок, расправил его и стал читать:
– Ефрейтор Хеккель из дивизии «Мертвая голова» пишет своей жене: «Скоро ты будешь иметь столько славянских рабов, сколько пожелаешь. Мы станем помещиками, у нас будет земли столько, сколько мы пожелаем». Донесите эти слова до бойцов. Слово в слово донесите. Это приказ. Письмо это добыли разведчики младшего лейтенанта Михаила Бурдэ. В следующей ситуации. Группа товарища Бурдэ возвращалась из разведки. Проходя мимо деревни Малый Заход, они обнаружили, что на окраине села немцы приготовили виселицу. И собираются повесить двух человек. Мужчину и женщину. Бойцы младшего лейтенанта не задумались, как отделение сержанта Клепикова. Они просто открыли огонь. И отбили людей. И положили, согласно их докладу, – двадцать фрицев. И никого не потеряли. Эффект неожиданности, так сказать. В кармане у одного из убитых добыли это письмо, которое я вам процитировал. Товарищи Шишкин и Гриншпун также требовали наказания и этих разведчиков. За раскрытие бригады. И по-своему были правы…
– Да что, Шишкин совсем с ума сошел, что ли? – вскочил всегда несдержанный военком четвертого батальона. – У него совесть есть? Это же наши! Это же советские люди!!
– А ты, товарищ Куклин, не кричи на весь лес. Особый отдел мы переубедили. На то мы и комиссары, чтобы воевать за людей не оружием, а словом, прежде всего. Но и оружием тоже, – Мачихин опять потер глаза. – Так что требую от вас, товарищи политработники, донести эти факты до личного состава. И донести так, чтобы каждый, я подчеркиваю, каждый боец понял – зачем мы тут и с какой целью.
– Александр Ильич, что там с газетами?
– Газеты? Газеты будут вместе с продуктами. Когда наладим снабжение. Не забывайте. Мы в самом начале пути. И забота о продуктах лежит, кстати, и на нас. Помогайте командирам. Вся операция на наших плечах держится. Боец в бой идет по приказу командира и смотрит на комиссара – где он и как он. Спать – позже всех, вставать – раньше всех. Вперед идти – первому, есть – последнему. Все понятно?
– А со штрафниками что? Которые генерала упустили? – снова подал голос Куклин.
– Что, что… Отправили их ямы копать. А что с ними еще прикажете делать?
Неожиданный минометный разрыв едва не уронил стенку шалаша.
– К бою! – закричал чей-то хриплый голос снаружи, и политработники один за другим стали выскакивать на воздух.
А дневальный тихо матерился, прикрывая дощечкой продырявленный осколком бок печечки.
* * *
– Ты, сержант, все-таки полный дурак. Нет. Не так. Ты абсолютный дурак. Полный, безнадежный и беспутый дурак. Это же надо… Невзрачный старикашка… еще и зажигалку ему с портсигаром отдал, – ворчал Кочуров на командира отделения, долбя промерзлую землю малой саперной лопаткой.
– И портсигар с часами. Часы золотые, между прочим… – подтвердил Саня Щетнев – молодой пацан из Северодвинска, неведомым путем попавший осенью сорок первого в Кировскую область, где и пошел добровольцем в десантники.
– Заткнитесь, мужики, а? – Сержант Клепиков разогнулся, потирая ноющую поясницу. – И так хреново. Долбим тут, м-мать, сортирную яму…
– А кто виноват? – Щетнев встал с колен. – Кабы ты генерала того не отпустил, так сейчас бы медали получали. Или ордена.
Клепиков виновато поджал губы и снова стал долбить землю.
Минут через двадцать через лед стала сочиться вода. Ледяная. Рука выдерживала ее секунд десять. Потом судорогой начинало схватывать мышцы. Наконец углубились примерно на полметра. Перекурили трофейными сигаретами.
– Ну что, мужики, будем жребий бросать? – устало сказал рядовой Кочуров, передавая сержанту треть окурка.
– Не… По старшинству пойдем. Я первый, – Клепиков жадно затянулся и собрался уже прыгать в ледяную жижу, замерзавшую на глазах.
Щетнев глубоко зевнул. Мартовское солнце хотя и не грело толком, но припекало. И после бессонной ночи хотелось спать, спать, спать…
– Рот закрой, а то ворона насерет! – рявкнул командирским голосом подошедший незаметно военврач. – Готова яма?
– Еще нет, товарищ военврач третьего ранга! – Бойцы подскочили как куклы на веревочках.
Военврач посмотрел на жижу:
– Достаточно. А ты, боец, не вздумай в эту чачу лазать. Понял? – Врач был устал и зол.
– Дык, товарищ военврач, углубить бы надо…
Военврач третьего ранга Николай Попов махнул вместо ответа бойцам, державшим чуть в отдалении тяжелую плащ-палатку, провисшую почти до снега.
Санитары сноровисто подбежали и стали ссыпать в яму валенки с торчащими оттуда обпилками костей и мяса.
Много валенок.
По верху черной торфяной жижи побежали ручейки красного.
Бойцы, не отрывая глаз, смотрели на это.
– Закапывайте, – равнодушно сказал военврач.
Десантники не шевельнулись.
– Закапывайте!
Попов закурил, с присвистом втягивая воздух ощерившимся ртом:
– А если ты, сержант, полезешь в воду в валенках, я лично тебя пристрелю. За измену Родине.
Сержант сглотнул, глядя на тонущие в яме окровавленные кости:
– А Родина-то тут при чем?
Военврач протянул ему окурок:
– Родина – это девка, которая тебя с ногами дома ждет. Понял?
Клепиков кивнул. И мигнул дольше обычного.
– А глаза-то не закрывай. Смотри. И учись. И немца – убей. Встретишь – сразу убей. Иначе не то что ногу, а тебя тут похороню. Или друзей твоих. Понял, сержант?
Клепиков снова кивнул. Но военврач уже не смотрел на него. Он возвращался назад. Его ждали новые ампутации обмороженных ног. Не глядя назад, он кинул:
– Закапывайте эту. И еще одну выкопайте.
Санитары обтерли плащ-палатку о снег и пошли за врачом. Один из них вдруг остановился, подошел к бойцам и сказал:
– Можете поменьше копать. Там десять гангрен осталось. На сегодня все.
И ушли.
А парни молча стояли и смотрели им вслед.
И даже минометный взрыв не сразу уронил их в снег. Спустя несколько секунд, когда комки мерзлой земли посыпались на них.
А потом еще один взрыв. И еще один.
Бестолковой толпой они бросились от ямы сначала направо. А потом налево. А потом опять направо.
– Ложись, ложись!! – заорал сержант Клепиков, снова обнаружив себя командиром отделения.
Бойцы рухнули – кто-где – наземь, разбросав вокруг саперный инвентарь.
Глеб приподнял голову. Из командирского шалаша выскакивали политруки всех рангов и тут же разбегались в разные стороны. Глеб тихо ругнулся про себя. А потом понял, что политруки разбегались каждый по своим местам.
– Гриншпун! Гриншпун! – орал кто-то из бригадного начальства. – Бери своих архаровцев и на левый фланг. Разведка – на левый! Политотдельцы ко мне!
– Мачихин, что ль, командует? – крикнул через грохот разрывов и выстрелов сержанту Клепикову Щетнев. – А Тарасов где?
– А я, млять, у него вторая мама? Слышал команду? Разведка налево!
– Командир! У нас и винтовок-то нет!
– Лопатки есть, понял, рядовой Кочуров? За мной!!
Клепиков вскочил, и отделение рвануло за ним, выходя с линии обстрела. Немцы хлопали из винтовок и пулеметов – нет! одного пулемета! с левого, как раз фланга, тварь! – по суматохе штабного лагеря. И не заметили в этой суматохе рывок на дурь группы пяти десантников. А они проскочили сектор обстрела и рыбкой нырнули за аппендиксовый выступ леса.
– Лопатки у всех? – рявкнул Клепиков. И, не дождавшись ответа, крикнул: – За мной, славяне!
Удмурт Култышев даже не улыбнулся. Не хватало смелости улыбаться.
Наконец фашистам стали отвечать наши стволы.
Клепиков упрямо полз по снегу на злые очереди немецкого пулемета. С малой саперной лопаткой в руке.
За пять метров до пулемета он приподнялся, прицелился и метнул лопаткой в первого номера.
И промазал. Лопатка вскользь звякнула по каске пулеметчика. Тот чуть привстал на локтях и зачем-то повернулся к своему второму номеру. А потом стал оборачиваться, но этой секунды ему не хватило. Сержант Клепиков уже прыгал на него, крича что-то нечленораздельное и, скорее всего, матерное.
А за ним на немецких пулеметчиков бежали четверо рядовых.
Кочуров.
Щетнев.
Кутергин.
Мельник.
Немцы не ждали броска с фланга. И это им стоило жизни. Их зарубили лопатками.
– Подавай!! – заорал сержант на Кутергина.
Тот неумело схватил ленту «тридцатьчетвертого» «машиненгеверка» и стал ее придерживать, пока Клепиков разворачивал пулемет.
Короткими очередями Глеб стал садить по березовой роще, не видя немцев, но предполагая, что они где-то там.
– Ленту! Ленту меняй!!
– Как??? – заорал в ответ Кутергин.
– Бегом!!!!
Рядовой завозился в ранцах убитых фрицев. И достал только пачку сигарет и какую-то банку.
И внезапно, так же как начался, бой кончился. Резко так навалилась тишина. Конечно, не тишина. Только после разрывов мин и гулких хлопков карабинов и винтовок тишина показалась оглушительной.
Мимо вдруг побежали десантники.
– Клепиков? Почему ямы не роешь? – вдруг рявкнул густым басом пробегающий мимо старший лейтенант Малеев. Сержант не успел ответить. Командир разведроты исчез в лесу.
– Фу… Фубля… – заматерился Мельник. – Это что было?
Потом встал, навалился на березу и сполз в снег.
Кутергин кинул ему банку и уселся на труп немца:
– Теплый еще… – нервно засмеялся он, сдвинув шапку-ушанку на лоб. – Открывай консерву, не томи!
Немец тихо обливал дымящейся кровью из рубленых ран истоптанный – весь в гильзах – снег.
Мельник достал финку и в три движения вскрыл банку. Там внутри было нечто густое желто-белого цвета. Не задумываясь, он хлебнул тягучей жидкости.
– Сладко, – хриплым голосом сказал он. – На!
И протянул банку командиру.
Тот равнодушно сделал глоток. Действительно, сладко.
В три приема они прикончили банку.
– Пить хочется… – скрывая дрожь, сказал Кочуров.
– Сгущенка, она такая, – ответил ему Кутергин. И заел сладкую липкость розовым снегом.
Кочуров прикрыл глаза и ответил:
– Чё?
– Сгущенка, говорю. Молоко сгущеное. Сладкое. Я в Москве пробовал, – Кутергина вдруг пробило на разговоры. – Мы на ВДНХ были два года назад, в сороковом, вот тогда и попробовал.
– О! А Култышев где? – встрепенулся кто-то.
– Тут… – ответил ленивый голос. Рядовой Гоша Култышев лежал, раскинув руки крестом, и молча смотрел в мартовское небо.
– Ранен, что ли?
– А нах? – ответил Култышев.
– А пох…
Вдруг зашевелились кусты, и оттуда вышел почему-то немец.
Парни не успели ничего сказать, как тот послушно выбросил карабин в снег и поднял руки:
– Ich bin Kommunisten!
Немая сцена длилась около полминуты. Секунд десять точно.
После этого фрица сбили могучим ударом в спину. Старший лейтенант Малеев потер обмороженный кулак. Оглядел сцену боя и сказал только одно слово:
– Молодцы!
Потом потащил одной лапищей фрица в сторону шалашей. Немец волочился за ним ровно половая тряпка.
Сделав несколько шагов, комроты разведчиков оглянулся:
– Дохликов прикопайте, гляжу, и лопатки есть…
И утащил фрица за собой.
Старались парни не особо. Разгребли снег и уложили изрубленные немецкие тела в ямку. Потом стали заваливать. Молча. Потому как руки ходуном ходили и смотреть друг на друга было почему-то стыдно.
Чтобы скрыть смущение, сержант Клепиков стал разбираться с пулеметом. И только он его взял в руки, как появился Малеев.
– За мной, бойцы.
Все пятеро послушно побрели за командиром.
– Здесь стоять, – остановил он их перед шалашом комбрига. Через минуту оттуда вывели пленного немца.
За фрицем вышел и сам комбриг. Осунувшийся, с рыжей щетиной на почерневшем лице, но с прежним огнем в глазах.
– Выдайте им личное оружие, – скомандовал Тарасов.
Бойцы из взвода охраны сноровисто раздали винтовки отделению сержанта Клепикова.
Тарасов обвел их взглядом. Помолчал. Потом резко произнес:
– Расстрелять фрица.
Машинально бойцы стали поднимать винтовки.
Комбриг напрягся, чуть не отпрыгнув в сторону:
– Да не здесь, долбодятлы! В сторону отведите. И прикопайте там. По исполнении задания доложите командиру роты старшему лейтенанту Малееву. Потом в строй.
Немец тихо плакал, когда они шли в те же березки, откуда он выскочил, потеряв направление в суматохе боя. На голове его была немецкая пилотка, натянутая почти до ушей, а шея обвязана серым старушечьим платком.
– Стой! – скомандовал Малеев, когда они отошли в сторону. – Снимай с фрица!
Разведчик одним движением сдернул с него стеганку.
– Валенки потом снимем… Пусть пока погреется.
Капитан отошел в сторону.
– Целься!
Пацаны подняли винтовки, ставшие почему-то очень тяжелыми.
Ствол ходил. Через мушку все казалось очень четким, даже резким. Кроме фигуры этого трясущегося немца. То ли от холода он трясся, то ли от страха. И что-то бормотал себе под нос…
Расплывался он в прицеле… Ну вот расплывался, и все. И не надо думать, что ты бы смог, пока сам не стрелял. Вот так вот. В безоружного. В глаза в глаза. Во врага.
– Огонь!
Залп хлестанул так, что осыпалась мелкая труха с деревьев. А фрица просто отбросило назад. Он еще сучил ногами, а бойцы комендантского взвода уже стаскивали с него валенки.
– В расположение. Отдыхать. Завтра пообщаемся, – проводил отделение взглядом капитан Малеев.
Десантники шли молча. Опустив головы. Мельник даже не заметил, что комендач, добежав до них, бросил ему на плечо пять ремней.
– Парни, а парни… А я ведь глаза-то закрыл, когда стрелял… – подал голос Ваня Кочуров.
– А я – нет! – Клепиков резко остановился. Развернулся к отделению. Сунул руку за пазуху. Достал оттуда фляжку. Открутил пробку. Хлебанул сам. Передернулся. Потом протянул по кругу. Дождавшись, когда трофейная фляжка ополовинится, сунул ее обратно. Потом развернулся и повел бойцов в расположение роты.
Заканчивалось пятнадцатое марта тысяча девятьсот сорок второго года.
10
Немец сидел и старательно делал вид, что пишет протокол. Сам же украдкой разглядывал подполковника. Тот прикрыл глаза в ожидании следующего вопроса и не замечал, как обер-лейтенант наблюдает за ним. А может быть, и замечал.
Фон Вальдерзее пытался понять этого чертовски уставшего, дважды раненого, грязного человека. Поняв его, он бы понял логику и всей этой безумной операции.
– Скажите, Николай Ефимович… Вас я понимаю. То, что вы до последнего следовали присяге и своему воинскому долгу, вызывает у меня неподдельное восхищение и уважение к вам…
«Как он не по-русски все-таки строит фразы…» – заметил про себя Тарасов, не поднимая век.
– Вы жутко голодали, почему же ваши совсем молодые ребята не сдавались в плен? Ведь они же понимали, что смерть неизбежна? Почему они, как правило, дрались до последнего?
Тарасов удивился и открыл глаза:
– А вы до сих пор этого не поняли?
– Я понимаю, что они были фанатики, практически все до одного…
– Вовсе нет.
– Как вас прикажете понимать?
– Если Красная Армия придет на Одер и Шпрее, вы это поймете, – осторожно подчеркнул слово «если» Тарасов.
Фон Вальдерзее поморщился:
– Я это слышал уже десятки раз, допрашивая пленных. Первый раз еще прошлым летом. Однако почти год с начала русской кампании уже прошел, а мы под Москвой. И давайте не будем придумывать альтернативное будущее. Оно четко предопределено.
– Кем же? – усмехнулся подполковник.
– Германией, конечно же! К концу этого года вы сами это увидите! Когда вермахт возьмет Петербург, Москву и Сталинград!
Тарасов хмуро потер небритую щеку, услышал в словах обер-лейтенанта намек на жизнь:
– Увижу, если вы меня сегодня не расстреляете. Не вы лично, конечно!
– Таких ценных людей мы не расстреливаем, – откинулся на спинку стула обер-лейтенант. – Зачем же расходовать вас так по-глупому?
– А как меня израсходовать по-умному? – Левая щека у Тарасова вдруг слегка задергалась, что случалось с ним только в минуты большой злости…
* * *
– Что ты сказал? Повтори! – Тарасов схватил командира разведроты Малеева за грудки и стал яростно трясти.
– Товарищ подполковник, – руки старший лейтенант пытался держать по швам, сдерживая рефлексы разведчика. Пока получалось. – Товарищ подполковник, разведгруппа не вернулась из-под Малого Опуева. Должны были вернуться к утру, а нету…
– Почему раньше не доложил! С ума сошел? Потери прикрываешь? Немцы бригаду уже ищут из-за твоих лопухов! – Тарасова трясло от злости. И опять стала дергаться левая щека. След той еще, с гражданской войны, контузии.
– Почему это, товарищ подполковник?
– В плен твои орелики попали. Если просто не сдались! Не орелики, а курицы!
– Десантники в плен не сдаются! – набычился здоровенный Малеев. А руки его сжались в пудовые кулаки. – Вы же сами знаете, товарищ командир, что у немцев приказ – русских десантников в плен не брать!
– Ты эти сказки, старший лейтенант, бойцам своим рассказывай! Да почаще! А мне не надо! Немцы за одного пленного десантника сейчас рады десять своих положить! Лишь бы языка взять! Шишкин!
– Слушаю, Николай Ефимович! – Флегматичный начальник штаба бригады был полной противоположностью вспыхивающему как порох Тарасову.
– Сколько у нас на сегодня пропавших без вести?
– К точке сбора после выхода в немецкий тыл не дошли тридцать два бойца. В стычках пропало еще шестеро. Итого, на сегодняшний день, не считая разведгруппы, – тридцать восемь.
– Слышал, Малеев? Тридцать восемь бойцов неизвестно где шляются! Дай бог, чтобы погибли, а не в немецком плену прохлаждались!
– Николай Ефимович! Попридержи коней… – взял комбрига за рукав Мачихин.
– Лучше, комиссар! Лучше! Для всей бригады лучше! Что остальные разведчики докладывают, звуки боя слышали?
– Никак нет!
– Либо заблудились, либо в плен сдались, – вставил свое мнение начштаба.
– Не могли они сдаться! Генерала могли упустить по неопытности да раззявистости, а сдаться не могли! Верю я им! Они же комсомольцы! – почти закричал вконец обидевшийся Малеев.
– А я, старлей, беспартийный, значит, мне веры, по твоей логике, нет? – прищурился Тарасов. – Да еще и репрессированный когда-то! А мне командование поверило. И отправило сюда. Вместе с вами. Только я вот перед тобой стою, а твои комсомольцы – нет. Не в комсомольском билете дело, а в мозгах!
Мачихин покачал головой, чувствуя неизбежный и тяжелый разговор с командиром бригады…
Тарасов же поиграл желваками.
– Что за разведгруппа пропала?
– Отделение сержанта Клепикова…
– Те самые, проштрафившиеся? С генералом?
– Те самые… – совсем убито, почти прошептал Малеев.
Тарасов внезапно успокоился:
– Ладно, деревню возьмем, разберемся. Что остальные докладывают? Шишкин, давай карту!
По наблюдениям разведчиков, в Малом Опуеве немцы действительно сосредоточили какой-то склад. В Большом же Опуеве сосредоточена основная часть немецкого гарнизона. Обе деревни обнесены ледовым заграждением – в снег вкопаны доски и бревна и густо залиты водой. За речкой – да какая речка – так, ручеек! – немецкая минометная батарея. А от Глебовщины – деревни под самим Демянском – может достать артиллерия фрицев.
– Следовательно, операция должна пройти максимально быстро! – подытожил Шишкин. – Немцы даже чихнуть не должны успеть!
В штаб фронта полетела очередная радиограмма:
«Штабу фронта. Бригада выдвигается на позиции перед Малым и Большим Опуево. Просим разрешения на атаку. Иначе погибнем. Где Гринёв? Тарасов. Мачихин».
И когда батальоны уже готовились к выходу, дожидаясь приказа, к Тарасову прибежал взволнованный радист:
– Товарищ подполковник! Шифрограмма из штаба фронта!
Тарасов нервно вырвал листок бумаги из руки сержанта. И прочитал, не веря своим глазам:
«Тарасову, Мачихину. Операцию по захвату Малого и Большого Опуева не разрешаем. Бригаде, не дожидаясь Гринёва, сегодня нанести удар по аэродрому в Глебовщине. Продукты будут сегодня. Себя обозначить ракетами. Курочкин. Ватутин».
Закусив губу, чтобы не обматерить начальство при подчиненном, быстрым шагом подполковник направился к Шишкину.
– Что? – спросил тот, с недоумением смотря на бледное, обросшее рыжей щетиной лицо комбрига.
Тот без слов протянул радиограмму.
– Твою мать, – единственное, что смог сказать начштаба. – И каким же образом?
Тарасов устало сел на снег:
– Вот именно таким, майор, именно таким. По-русски. Через задницу. Срочно комбатов сюда!
Через час, без разведки, батальоны бригады выдвинулись совсем в другую сторону от немецких продуктовых складов. На центральный аэродром всего Демянского котла. Деревня Глебовщина была практически пригородом Демянска – маленького городка, в котором концентрировались все резервы немецкого второго корпуса…
На стоянке остались только санбат, рота охраны штаба и интендантская служба…
* * *
– Ну что, б-б-батя… П-п-повоюем? – Сержант Артем Шамриков шмыгнул носом, вглядываясь в ночную мглу.
– Повоюем, сынок! – Старшина Владимир Шамриков содрал трехпалой рукавицей лед с усов.
Ночью опять здорово подморозило. Промокшие за день валенки стали дубовыми, холод коварно пролазил под истрепанные маскхалаты и порванные полушубки. Небольшие костерки, около которых грелись на стоянке, как правило, были сложены из еловых веток. Они стреляли, разбрасываясь искрами, и стоило только зазеваться, как маленькая искорка могла выжечь огромную дыру в полушубке. И того считай – пиши пропало. А как тут не задремать – замерзающему и голодному? Плевое дело. Но Шамриковым везло. То ли потому, что они следили друг за другом внимательно, то ли потому, что старший Шамриков был многоопытнее салажонков-десантников. Все-таки не один десяток лет по вятским дремучим лесам отшагал с ружьишком.
– Артемка! Что зубами стучишь? – снова провел по усам рукой старшина.
– Х-х-холодно… Вон ветер какой с озера поднялся! – Артема трясло, как бездомного тузика.
– Ветер это хорошо… – хмыкнул старшина.
– Ч-чего хорошего? – пытался тот унять дрожь.
– Ветер на нас. Собаки не учуют раньше дела.
Артем кивнул. На самом деле, в чем он не хотел признаться даже самому себе – тем более самому себе! – он боялся. Он боялся боя, а еще больше боялся, что этот страх увидит его отделение, увидит его отец, увидит комвзвода. Он боялся смерти и боялся стыда. И эти два страха боролись за душу сержанта. Плохой, черный страх и хороший страх, белый. И он не знал, какой же из этих страхов победит, когда начнется бой.
Он не знал, что в душе его отца также боролись два таких же чувства. Страх за сына и за себя.
И оба они не знали, что эта борьба идет в душах всех, кто сейчас лежит в снегу под Демянском.
И никто не знал, что так оно и должно быть. Главное в такой ситуации – помочь нужному тебе страху. А вот который из них нужен тебе?
– Бать, что-то уши заложило! – пожаловался Артем старшему.
– Сейчас немцы шмальнут… Враз отложит, – буркнул тот в ответ. – Запалы в гранаты вставил?
Артем молча кивнул.
Немецкие прожектора внимательно освещали предполье аэродрома. По его периметру ходили часовые, натянув суконные свои пилотки по уши и похлопывая себя по бокам. В конурах, укрытых то ли для маскировки, то ли для тепла лапником, поскуливали собаки.
– Бать… Гудит что-то в небе…
Над головами и впрямь послышался все усиливающийся тяжелый гул.
На аэродроме вдруг тоскливо заныла сирена. Прожектора взметнули свои длинные лучи вверх. Немцы забегали, засуетились. Захлопали зенитки.
– Наши! Смотри! Наши!
В черное, засыпанное звездами небо неожиданно взлетела красная ракета.
– Огонь! – крикнул комвзвода.
И страх сразу закончился.
Десантники открыли яростный огонь по бегающим фрицам. Те растерялись, не ожидав такой подлости, забегали еще быстрее.
Из-за спин взлетели еще несколько ракет, указывая нашим бомбардировщикам цели – взлетную полосу, склады ГСМ, ангары с самолетами, позиции зениток.
– Ну как, Артемка? Отложило ухи? – перекрикивая шум боя, ткнул сына в плеча старшина.
Тот быстро кивнул в ответ, не найдя секунды, чтобы ответить отцу. Артем выцеливал скакавшего туда-сюда зайцем какого-то ошалелого немца. И лишь с третьего выстрела зацепил того. Немец нелепо взмахнул одной рукой и свалился на землю. Рядом бесновалась на цепи раненная осколком овчарка. И не выла, не скулила, а почти кричала, как человек, от боли и ужаса. А на аэродроме рвались, окрашивая небо красным и оранжевым, рвались бомбы.
Внезапно, сбив рогатку заграждения, с аэродрома выскочил, хлопая не прикрепленным тентом, большой грузовик.
Артем рванул к дороге, вытаскивая из-за ремня гранату. Размахнулся и кинул, удачно попав под радиатор машины. Грохнул взрыв, показавшийся Артему почему-то оглушительнее других разрывов. И в ту же секунду сильный удар свалил его в снег…
– Не стой как дурак! – рявкнул ему в ухо навалившийся сверху отец. – А теперь вперед!
Он, сержант и еще несколько бойцов помчались к грузовику.
Из кузова выпрыгнул немец в одном кителе, без шинели. И тут же упал, скошенный автоматной очередью. За ним выскочил еще один. И тоже свалился. Потом еще один. Туда же!
Кто-то из бойцов схватился было за гранату, но старший Шамриков перехватил его руку:
– Погодь! Обглядим кузов для начала. Артемка! Глянь! Я прикрою!
Младший сначала полоснул очередью по тенту, потом, привстав на шипящее пробоиной колесо, заглянул в кузов:
– Нет ни хрена! А не… Есть! – Он перелез через задний борт. И через минуту выставил на задний борт какой-то ящик. – Принимай!
– Бутылки тут! – крикнул кто-то из бойцов его отделения, опустивший ящик на снег.
– Разберемся потом! – крикнул Артем. – Хватайте по одной!
Сам же, отбив прикладом горлышко, понюхал и удивленно сказал:
– Вино, смотри-ка… – и сделал большой глоток.
– Я те дам вино! – рявкнул на него старшина Шамриков. – Все матери расскажу. Вино он тут пьет! Ну-ка дай!
И теплая сладкая жидкость потекла в отвыкший уже от еды желудок.
– Бать! – удивленно сказал Артем. – Ты ж не пьешь!
Старший Шамриков утер усы и солидно ответил:
– А я и не пью. Я ем!
И машинально пригнулся, потому как тяжелый осколок басовито прогудел совсем близко.
– Желтые! Желтые, командир, пошли!
И впрямь, над горящим аэродромом снова взлетели ракеты. На этот раз желтые, обозначающие отход.
А наши бомберы, сбросив смертельный груз, нагло и спокойно возвращались без потерь домой.
Без потерь отходила и бригада, если не считать двух легкораненых…
11
– Да… Тот налет был полной для нас неожиданностью, господин подполковник.
– На то мы и десантники, господин обер-лейтенант.
– Аэродром был практически разгромлен. Но мы его восстановили.
– Я знаю.
– Хотите откушать? – как-то по старорежимному спросил фон Вальдерзее.
– Хочу. Но не буду, – поморщился Тарасов.
– Почему? – удивился немец.
– Если я еще что-нибудь съем, то могу умереть от желудочных колик. После двухмесячного голодания…
– А чаю?
– От чая не откажусь.
Пока дежурный по штабу суетился с чаем – сволочи где-то стащили серебряные подстаканники, не из Германии же их привезли? – фон Вальдерзее снова завел этот ничего не значащий для войны разговор.
– Все-таки я считаю, что вы железные люди, – вздохнул он.
– Почему? – удивился Тарасов, краем глаза наблюдая за суетящимся денщиком.
– Вы забыли обо всем на свете, готовились к неизбежной и, надо сказать, бесполезной смерти и все-таки воевали. И как воевали!
Тарасову это польстило. Признание заслуг – пусть и врагом, а может быть, тем более врагом? – всегда приятно. Но он не показал вида.
– Почему же мы готовились к смерти… Вовсе нет. Вы не правы, господин обер-лейтенант. Мы готовились к победе. И о жизни мы не забывали. Нельзя идти на войну, забыв обо всем на свете.
– Не совсем вас понимаю…
– Все очень просто. Например, во время выполнения бригадой боевого задания мы сыграли свадьбу.
– Что??? – Фон Вальдерзее аж привстал.
– А что? – удивился Тарасов.
– Свадьбу? Это как? Кого? С кем? – В сознании немца не укладывалось то, что на войне можно играть свадьбы. И еще не укладывалось, что Тарасов так спокойно об этом говорит.
– А что такого-то? Жизнь, она и на войне – жизнь! А женился у нас один лейтенант на переводчице второго батальона.
– С вами что, женщины были?
– Девушки, господин обер-лейтенант. Девушки… Десантницы…
* * *
– Товарищ подполковник, а, товарищ подполковник! – Тарасова старательно тряс за плечо адъютант.
– Немцы? – подскочил Тарасов.
– Да не! – отшатнулся младший лейтенант Михайлов. Его и так-то качало на ветру – тощего, черного, грязного, – а тут еще и испугался звериного оскала комбрига.
– Штаб? Связь? Что случилось? Самолеты?
– Товарищ подполковник… Тут до вас Кузнечик… В смысле, лейтенант Олешко… С невестой…
– Даниил… Ты об пень брякнулся? Какая в едрену матерь невеста? – Тарасов старательно протер покрасневшие со сна глаза.
– Ну, товарищ подполковник… Я-то тут при чем… – виновато извиняясь, шагнул назад адъютант. – Они сами…
– Ни черта не понимаю… – Тарасов встал с лежанки под разлапистой елью. Встал с трудом… Сон в промозглой жиже не способствовал нормальному отдыху. Даже и не встал… Выполз…
Перед ним стоял в изгвазданном – когда-то белом – полушубке бывший командир взвода, а сейчас уже и роты, лейтенант Дмитрий Олешко.
Кузнечиком его прозвали за невероятную схожесть… Тощий, длиннорукий, большеногий и большеглазый. По снегу идет и ноги так высоко-высоко поднимает! Как кузнечик, право слово… И все время шмыгающий носом.
Кличка прижилась. Даже в штабе на совещаниях порой прорывалось…
Из-за плеча лейтенанта выглядывала девчонка.
Тарасов нагнулся. Взял горсть чернеющего снега. Протер им с силой лицо. Распрямился. Утерся рукавом кожанки. Только после этого разглядел, что за Кузнечиком осторожно прячется переводчица, техник-интендант третьего ранга Наташа Довгаль. Маленького ростика, с грязными, неровно обкусанными ногтями. Серенькая такая мышка с сияющими глазами. Влюбленными глазами. Влюбленными на войне…
– Что хотели? – сердито спросил Тарасов. – Языка, что ли, достали?
– Не совсем… То есть совсем нет… Товарищ подполковник… – зачем-то снял извазюканную грязью ушанку Олешко.
– Полгода как подполковник! – рявкнул злой от хронического недосыпания Тарасов. – Что случилось?
Олешко совсем оробел:
– Да ничего не случилось…
– Твою ж мать… – Тарасова опять пошатнуло… – Зачем пришли тогда?
– Жениться хотим! – пискнула из-за спины лейтенанта переводчица.
– Что???? – Тарасов едва не упал. То ли от неожиданности, то ли от слабости… Но схватился за еловую лапу и устоял.
– Жениться хотим… – почти прошептал совсем стушевавшийся лейтенант.
– Любовь у нас, товарищ подполковник! – почти крикнула Довгаль.
– Да понял я… – Тарасов, наверное, в первый раз растерялся за весь поход. – Что кричать-то…
Но собрался быстро. И сразу заорал на влюбленных:
– Совсем обалдели? Шутки решили пошутить? Какая, к чертовой матери, женитьба? Вы где, придурки, находитесь? Это война, если вы еще не поняли! Еще и беременная, небось? – заорал Тарасов на переводчицу. – Зов плоти, значит! Я вам покажу, зов плоти, епметь!
– Товарищ подполковник… Не надо матом… – Кузнечик неожиданно покраснел лицом и сделал шаг вперед, закрывая Наташу собой…
А она вдруг заплакала.
И эти слезы вдруг…
Тарасов словно натолкнулся на какую-то не видимую никому, кроме него, стену. И имя этой стене было… Надя… Он вдруг увидел, что эти совсем еще юные – господи! Ей восемнадцать, ему девятнадцать!!! – любят друг друга. Она только и умела, как переводить испуганную речь пленных, он только и умел командовать такими же мальчишками-головорезами. Сердце защемило…
А вслух комбриг сказал:
– Ничего не понимаю! Объясните, лейтенант Олешко!
Тот совершенно по-граждански пожал плечами:
– А что тут объяснять, товарищ подполковник. Мы с Наташей любим друг друга. И хотим пожениться.
– Давно?
– Очень. Уже два дня.
Тарасов прикусил губу. Два дня на войне – это вечность. Да еще и в тылу врага…
– Свадьбу отложу, – ответил он, прищурившись. – Завтра операция. Когда выйдем в наш тыл, тогда и будем вас женить. Всей бригадой.
– Нет! Мы сегодня хотим! – Наташа вышла вперед и упрямо посмотрела на Тарасова. – Завтра может быть поздно.
Подполковник не успел ответить. На его плечо опустилась исхудалая рука Мачихина:
– А они правы, Ефимыч… Завтра может быть поздно… Отойдем?
– Ждите, – бросил влюбленным Тарасов. И отошел с комиссаром шагов на десять, мешая трофейными ботинками грязь и снег новгородских болот…
– Как думаешь? – шепнул Наташе лейтенант Димка Олешко, научившийся целоваться позавчера. Научившийся убивать месяц назад…
– Комиссар уговорит, – шепнула ему переводчица, техник-интендант третьего ранга Наташа Довгаль.
– Думаешь?
– Думаю…
– Люблю…
– И я…
Они яростно сцепились руками, ожидая разговора – нет! Приговора! И смотрели, как подполковник, сложив руки за спиной, молча кивал бурно жестикулирующему комиссару.
Потом буркнул что-то, развернулся и рявкнул на адъютанта:
– Писаря сюда!
А потом резким шагом подошел к Кузнечику с Наташей.
– Рота в курсе?
– Так точно, товарищ подполковник! – вытянулся Олешко. А Довгаль добавила:
– Как же не в курсе-то…
– Как бойцы отнеслись? – спросил подошедший за комбригом Мачихин.
– Ну…. Вроде нормально… – застеснялся Кузнечик.
Тарасов неодобрительно покачал головой. А Мачихин опять положил ему руку на плечо:
– Ты, лейтенант, не «вроде» должен знать, а точно! Как же ты жене своей объяснять будешь – где и с кем задержался? Тоже – «Вроде я тут с ребятами засиделся…» Так?
– Товарищ комиссар! Вы за нашу семейную жизнь не волнуйтесь! – вступила в разговор Наталья.
– Ваша семейная жизнь в тылу у немцев, это моя жизнь! Понятно? – прикрикнул на них Тарасов. Мачихин снова чуть сжал его плечо.
А из-за другого плеча выскочил адъютант Михайлов:
– Как просили, товарищ подполковник, вот печать бригады, вот бланки…
– Хххе, – опять качнул головой Тарасов. И, чуть присев и положив на колено серый лист бумаги, что-то зачеркал на нем карандашом. Потом дыхнул на печать и смачно шлепнул по бланку.
– Первый раз, блин, женю… – ухмыльнулся он. – Что тут говорить-то надо, а комиссар? – повернулся он к Мачихину.
Тот по-доброму улыбнулся:
– Ты женат-то, а не я…
Тарасов улыбчиво повернулся к новобрачным:
– Объявляю вас мужем и женой, в общем! Документ вот, а в книжках красноармейских мы дома штампы поставим. Как вернемся. Договорились?
– Так точно, товарищ подполковник! – А голоса-то у Наташи с Митей дрожали…
– Шагайте по подразделениям. Трехдневный отпуск получите за линией фронта.
– Николай Ефимович… – укоризненно протянул Мачихин. – Ну, нельзя же так…
– Не понял, товарищ комиссар? – развернулся Тарасов к Мачихину.
Вместо ответа тот махнул рукой адъютанту. Тот протянул комбригу вещмешок.
Тарасов засмеялся от неожиданности:
– Вот я старый пень. Забыл совсем…. Держите подарки, ребята!
Кузнечик смущенно взял из рук командира бригады худой мешок.
– Удачи вам. И детишек нарожайте после войны! Лады? Пойдем, комиссар!
Скрипя мокрым мартовским снегом, командир и комиссар бригады удалились в подлесник.
– Комиссар, собери-ка политработников. Пусть объявят по бригаде, что свадьбу играем сегодня.
– Понял тебя, командир, сделаем…
* * *
А Наташка по неистребимому своему женскому любопытству сунула нос в вещмешок.
– Митька! Живем!
В мешке оказалась буханка хлеба, банка каких-то консервов и фляжка с чем-то булькающим…
Свадебный подарок – это самое дорогое, что есть у тебя сегодня.
Это была последняя буханка хлеба, последний спирт и последняя трофейная тушенка.
Если, конечно, не считать госпитальные запасы. Их, как говорят в Одессе, еще есть. Еще…
Тарасов надеялся, что завтра это «еще» считать не будет.
А Митя-Кузнечик и Наташа Довгаль надеялись, что завтра не наступит никогда…
– Увидимся послезавтра? – сказала она ему.
– Конечно, – ответил он. – Хлеб раненым…
– Да, мой хороший…
И они стали целовать друг друга. Первый раз на виду у всех.
Вещмешок упал на грязный снег…
– Товарищ лейтенант, а товарищ лейтенант, – похлопал Кузнечика по плечу сержант Заборских.
Тот оглянулся:
– Отстань, сержант! Не видишь? Мы женимся!
– Вижу… – хмыкнул Заборских. – У нас вам подарок есть. Пойдемте, а?
Подарком оказалась землянка.
Самая настоящая.
Пока лейтенант с Наташей ходили к комбригу, бойцы, оказывается, вырыли на крохотном пригорочке узкую яму. На самое дно – глинистое и мокрое – набросали полушубков, собранных с убитых в последнем бою. Завалили их сосновым, духовитым лапником. Он мягче елового и не такой колючий. Сверху жердями устроили тонкий настил. Укрыли его длиннополыми немецкими шинелями. Соблюли маскировку – забросав их прошлогодней мокрой листвой. Правда, лаз получился узкий. По одному только пробраться можно.
– Извините, товарищ лейтенант, но самое высокое место тут, чтоб не мокро было ночевать, – как обычно хмуро, без тени улыбки сказал сержант.
Наташа почему-то резко отвернулась. И покраснела…
Лейтенант закусил губу. Потом, чуть поколебавшись, протянул вещмешок сержанту:
– Раздели фляжку по взводу. Хлеб и тушенку в госпиталь передай.
Сержант удивленно посмотрел на лейтенанта:
– Откуда?
– Оттуда! – сглотнул слюну лейтенант.
– Дурак ты, лейтенант! – Заборских резко развернулся и почавкал по мартовскому снегу к взводу.
Кузнечик так и остался стоять с вытянутой рукой.
Он попытался что-то сказать, но не успел. Наташа приобняла его сзади:
– Вот и наш первый дом, да?
– Что?
– Хорошие у тебя ребята… Пойдем домой! Не послезавтра, сейчас. Пойдем?
Митя повернулся к ней. Прижался, уткнувшись в теплые, пахнущие молоком и хлебом волосы…
– Пойдем, хорошая моя!
И засмеялся:
– Три дня увольнительных положено! Свадьба же!
Она улыбнулась, взяла его за руку и молча повела в земляночку. Первой забралась она, скрываясь от любопытных, завидующих по-доброму и почему-то грустных солдатских взглядов.
Олешко все же заметил, что взвод его, уже ставший по численности отделением, скрылся за деревьями. И, просунув в лаз мешок с продуктами, полез внутрь.
Укрылись они его полушубком. На ноги бросили ее шинельку. Простынью стал чей-то изорванный маскхалат.
А демянские леса укутывала черным снегом ночь. И где-то ангелы взлетали на боевое задание…
– А я помню тебя… – шепнула она ему, когда они, перестав ворочаться, улеглись лицами друг к другу. – Увидела и сразу-сразу влюбилась.
– Прямо так и сразу? – беззвучно засмеялся лейтенант Олешко.
– Прямо так и сразу. И бесповоротно. И навсегда, – она осторожно коснулась мягкими губами его колючего подбородка. – Колючий мой… Как хорошо, что ты колючий!
– Почему?! – удивился он, слегка отпрянув от ее лица.
– Не знаю… Нравится твоя щетина…
– Глупышка моя…
– Ага! Твоя! Поцелуй меня! Крепко-прекрепко! – Она закрыла глаза и подставила ему губы.
Осторожно, словно касаясь хрустальной драгоценности, Кузнечик прижался к ней.
– Крепче! – выдохнула Наташа.
Вместо ответа он расстегнул дрожащей рукой верхний крючок гимнастерки.
Толком они не умели целоваться. Первый поцелуй он как первый выстрел. Всегда в молоко… Они вообще ничего не умели. Но любовь и война – быстрые учителя.
Руки их, словно ласточки, порхали друг по другу. Словно торопились натрогаться друг друга.
– Муж мой…
– Жена моя…
Она перебирала его волосы, он целовал ее кожу.
Звякнули пряжками ремни…
А потом они перестали говорить. Им было некогда. Они любили. Над лесом, в темной воде облаков пролетали вместо бомбардировщиков тихие ангелы… Никто их не видел, никто. Небо высоко, до него рукой не достать и глазом не увидеть. И утро еще далеко.
– Поешь, мой хороший… – сказала она потом.
Он улыбнулся. Неловко приподнялся. Отломил от буханки кусок и молча протянул ей. Она откусила крохотный кусочек и на открытой ладони поднесла к его лицу.
Аккуратно слизывая каждую крошку, он больше целовал ее ладонь, чем ел. Отталкивал только для того, чтобы она тоже поела. И не было в этом мире вкуснее этого промерзлого, старого куска хлеба.
– Хочешь еще? – потянулся он за буханкой.
– Хочу. Не хлеба…
Он остановился в недоумении, вытащил из вещмешка тушенку и фляжку с водкой.
Наташа засмеялась, как смеются счастливые женщины над смешными своими мужчинами. И потянула Митьку к себе. И вскрикнула неожиданно:
– Ой!
– Что? – испугался Кузнечик и, резко разогнувшись, ударился головой о низкий потолок.
– Меня кто-то за волосы держит… – испуганно сказала она.
– Тише, тише, сейчас… – Он нащупал в темноте ее косу. Провел рукой по ней.
Оказалось, коса просто примерзла к холодной стенке земляночки. Морозы по ночам ударяли все еще не слабо, хотя радостные дни весны сорок второго уже сгоняли черный снег сорок первого.
А молодожены и не замечали этого. На то они и молодожены…
Он подышал на заледеневшие волосы Наташи. Потом непослушными, давно опухшими пальцами осторожно дернул и освободил ее.
– Смешная ты моя…
Вместо ответа она ткнулась ему в грудь.
– Повернись-ка ко мне спинкой, – поцеловал он ее в макушку. Она кивнула молча.
– Чтобы волосы не примерзали к земле, да?
– Да, моя хорошая, да… Какая нежная кожа у тебя!
– Где?
– Везде… Утро еще далеко…
А где-то вставало солнце. Небо серело, низкие облака обнимали друг друга, живая тишина плыла над лесом. Ангелы пошли на посадку.
– Товарищ лейтенант! Подъем! Извините, но приказ! – кто-то дергал лейтенанта Олешко за ногу…
12
– Невероятно! То, что вы рассказываете, – просто невероятно, господин Тарасов. Женщина и война – это нонсенс! Тем более что женщина в подразделении – это всегда путь к моральному разложению!
– Это вы про ваши солдатские публичные дома? – ухмыльнулся Тарасов.
– Нет, – отрезал фон Вальдерзее. – Публичные дома – это необходимость. Солдат должен расслабляться. Иначе он превращается в зверя.
– Что, и тут, в котле, у вас есть проститутки? – удивился подполковник.
– Увы, нет возможности их содержать. И поэтому некоторые солдаты и даже офицеры вынуждены вступать в связи с русскими женщинами. Впрочем, мы на это смотрим без особого осуждения. В конце концов, победители имеют право внести свежую кровь в побежденный народ.
– Вы еще не победители, – ответил Тарасов.
– Это дело времени, – отмахнулся фон Вальдерзее.
– Знаете, герр обер-лейтенант, мы прекрасно знаем, что некоторые женщины вступают в связи с вашими солдатами и офицерами. Более того, мы даже сталкивались с такими женщинами.
– Где?
– В том самом Опуеве.
Обер-лейтенант вдруг заколебался. Он пытался соблюсти грань между разговором по душам и допросом. С одной стороны, чем ближе контакт с допрашиваемым, тем больше он расскажет. С другой стороны, Тарасов – как это говорят русские, тертый калач? – прекрасно знает все уловки и хитрые ходы. Сидит и улыбается. И сравнивает со следователями НКВД.
– Давайте-ка, господин подполковник, перейдем к делу… – решил обер-лейтенант.
– Давайте, – пожал плечами подполковник.
– Расскажите об операции в районе Большого и Малого Опуева…
* * *
Транспортников так и не было. А значит, бригада оставалась без продуктов, боеприпасов и медикаментов еще как минимум на день. А это еще несколько десятков ослабленных, обмороженных и… и умерших без необходимой помощи.
Бригада таяла на глазах. А приказа на атаку немецких продовольственных складов так и не было.
– К черту! – первое, что сказал Тарасов Мачихину после того, как отоспался в своем блиндаже после удачной ночи.
– Что к черту? – удивился комиссар. – Попей-ка чаю.
Чай еще был, да… Им и спасались от голода. Правда, от большого количества жидкости и постоянного холода не выдерживали почки. Минут через десять после очередной кружки мочевой пузырь переполнялся. Причем неожиданно и резко. Главное, успеть расстегнуть штаны. Иначе обжигающая вначале моча моментально замерзала, и белье буквально примораживалось к коже. В обычных условиях – ерунда. Забежал в тепло, отогрелся и нормально. А тут доходило до ампутаций…
Тарасов хлебнул пару раз из поданной комиссаром кружки. А потом сказал:
– Налет мы все-таки провели успешно. Даже слишком успешно. Потерь нет, кое-какие трофеи даже есть. Однако немцы вот-вот сообразят и обложат наше болото эсэсовцами «Мертвой головы». И хана бригаде. Сегодня выходим в атаку на этот Карфаген.
– Какой Карфаген?
– Опуево. Где адъютант?
– Воду греет на умывание.
– Отлично! Умоюсь и за работу.
Тарасов скинул полушубок, снял свитер, гимнастерку и нижнюю рубашку. Полуголый вышел из блиндажа.
А потом долго, на виду у бойцов, плескался, смачно фыркая. От его крепкого, в узлах и переливах мышц, тела шел пар. Затем он взял бритву и так же демонстративно, насвистывая «В парке Чаир», брился. Долго брился. У адъютанта даже руки задрожали. Устал, понимаешь, держать маленькое зеркальце…
– Передай приказ комбатам. Через час построение бригады. Всем привести себя в порядок. Побриться, умыться. А то не бригада военно-воздушных войск, а банда Махно. Смотреть противно…
Десантники и впрямь себя запустили. Если в первые дни операции следили за собой – десантура, как же! крылатая пехота! небесная гвардия! – то в голодные дни на внешний вид махнули рукой. Сил не хватало, чтобы двигаться… Какие уж тут гигиены…
На что врачи сильно ругались. Появились вши. Особенно они доставали раненых. Под повязками так чесалось, что некоторые сдирали бинты, лишь бы избавиться от невыносимого зуда. И раны, уже подживавшие, снова воспалялись.
Через час бригада стояла на импровизированном плацу. Почти вся. Если не считать боевое охранение, раненых, больных, обмороженных и… и убитых с без вести пропавшими.
Почти четверти уже нет. Шестисот с лишним бойцов и командиров…
– Бойцы! Десантники! Поздравляю вас с успешной операцией по ликвидации немецко-фашистского аэродрома в деревне Глебовщина! От лица командования и от себя лично объявляю вам благодарность.
– Ура! Ура! Ура! – негромко, как предупредили комбаты, но от души рявкнули десантники.
– Считайте, что немцы остались без снабжения. Кто-то подумает, что и мы тут тоже без снабжения. Это не так! Получен приказ командования фронтом совершить нападение на немецкие продуктовые склады.
Мачихин и Шишкин переглянулись… На самом деле шифрограммы не было. Комбриг действовал на свой страх и риск. Приказ оставался прежним – ждать двести четвертую бригаду подполковника Гринёва.
– Тем самым мы убьем двух зайцев – и себя накормим, и фрицев без награбленных запасов оставим! – продолжал Тарасов. – А значит, приблизим смерть немецко-фашистских оккупантов. Ребята, – сбился он с официального тона. – Всем тяжело сейчас. И бойцам, и командирам. И всей стране тяжело. Сегодня отдохнем, ребята!
Он замолчал. Молчала и бригада. Слышно было, как падал снег да кто-то из бойцов надсадно кашлял.
– Нас ждет победа, ребята! Бригада… Смирно! Командирам батальонов прибыть на совещание.
– Ты с ума сошел, Коль, – выговорил ему Мачихин, после того как десантники, старательно изображая по мокрому снегу болота парадный шаг, прошли перед командованием бригады. – Ты понимаешь, что фронт тебя не по голове погладит, а снимет ее?
– По мне так лучше, чтобы с меня голову сняли. А бригада бы выполнила свою боевую задачу. Понимаешь?
– Понимаю, Ефимыч. От этого не легче…
– Дальше фронта не пошлют, Ильич, да? А нас вот еще дальше послали.
– Это верно, – вздохнул Мачихин, а потом повторил. – Это верно…
А после они всем командованием готовили самостийную операцию, от которой зависела жизнь бригады…
* * *
Густые ветви вековых сосен накрывали заснеженную поляну. Тишина, изредка лишь комочек снега соскользнет с темно-зеленой лапы. Редкая тишина на войне…
И вдруг из темноты леса шурша снегом выскочил на широких лыжах человек в рваном, в подпалинах маскхалате. За ним еще один, потом еще, еще и еще… Кто-то шел налегке, кто-то тащил волокуши. Это минометчики и пулеметчики, впрягшись, словно ездовые собаки из рассказов Джека Лондона, в лодочки-волокуши, тащили на себе свое оружие. И веревки впивались в грудь, мешая дышать, а промерзлые насквозь валенки до кровоподтеков натирали голени.
Обугленные лица у этих людей. Обугленные морозом. У некоторых тощие, в три волоска, бородки. Щеки впалые. Глаза медлительные, вялые, строгие. Движения, наоборот, резкие. И ни одной улыбки. Только у некоторых слезы на ресницах. Не от боли или от горя. Нет. От ветра. От ветра, которого не замечали сосны. От ветра, который рождается движением в неподвижном воздухе. А через эти слезы они видели такую далекую весну…
Через несколько минут эти люди пересекли поляну, исчертив ее лыжами, и исчезли в лесу.
И снова над соснами повисла зимняя тишина. И через эту тишину летело неслышимое простым человеческим ухом:
«Отсутствие продуктов вынудило атаковать Большое и Малое Опуево. Считаем, что сброшенные вами продукты попали к немцам. Атакуем двадцать два ноль ноль. Поддержите авиацией. Тарасов. Мачихин»
…В темноте вырисовывались темные силуэты русских изб, в которых мирно спали немцы. Лыжники же залегли в ожидании приказа за маленькой речкой Чернорученкой. Впереди было стометровое поле, занесенное снегом.
Младший лейтенант Юрчик внимательно рассматривал это поле. Под пулеметным огнем его надо как-то пробежать. И пробежать быстро.
– Сержант…
– Ну, – ответил Заборских.
– Не нукай. Не запряг. Когда по уставу отвечать научишься?
– Когда по уставу воевать будем. С трехразовым горячим питанием… – буркнул замкомвзвода.
– Это ты после войны у мамки проси трехразовое питание. А сейчас нам одноразовое надо добыть. Понял? Лощину видишь? – показал на ложбинку Юрчик.
– Вижу.
– По ракете дергаем вправо туда. И по ней уже к деревне. Согласен?
– Все лучше, чем по полю…
Заборских не успел договорить.
Взлетела красная ракета.
И два батальона – первый и второй – поднялись в атаку.
Все – и рядовые бойцы, и командиры, и особисты, и политотдельцы.
Юрчик махнул рукой и помчался к высмотренной им неглубокой ложбинке. А немцы, ровно ждавшие ночных гостей, незамедлительно открыли бешеный огонь.
Трассеры пулеметных строчек зафшикали над десантниками, опускаясь все ниже и ниже. В ответ захлопали наши минометы.
Юрчик свалился в ложбину за мгновение до того, как по ее краю взбила белыми фонтанами густая очередь.
Не оглядываясь, помня о том, что лежать нельзя, он бросился вперед:
– За мной, бойцы! За Родину, ежтвойметь!
Некурящий и непьющий, мастер спорта по лыжам, он быстро оторвался от медлительного своего взвода.
Но не заметил этого. Впрочем, немцы тоже не видели его, лупя по плотной темной массе атакующих со всей своей фашистской яростью.
На мгновение он остановился перед невысоким, по пояс, забором. Перелазить через него на лыжах было затруднительно. Через это мгновение недолет нашей мины обрушил хлипкие деревяшки. Младший лейтенант бросился в пролом, крича что-то нечленораздельное.
С чердака ближайшей избы прицельно бил пулеметчик. Юрчик подобрался к дому, приноровился, от старания высунув кончик языка, метнул гранату. Звездец пулеметчику!
– Вперед, ребята! – тонко, захлебываясь, закричал он и выскочил зачем-то на деревенскую улицу.
Три вспышки выстрелов почти в упор ослепили его. Но немцы, оказывается, тоже люди. Не ожидали они лейтенанта и потому промазали. Млалей отскочил обратно, за занимавшуюся огнем избу. Затем высунул ствол автомата и не глядя, по памяти дал несколько коротких очередей. И только после этого краем глаза уловил за спиной какое-то движение. Со звериным вскриком он, как дикий кот, ловко обернулся и срезал еще одной очередью упавшего с чердака немца, зажимавшего руками уши. И только тут понял, что он тут один.
Грохот боя оглушал его, мешая сосредоточиться. Сбросив лыжи и утопая в снегу, он тогда побежал вокруг избы, собираясь то ли обойти немцев с фланга, то ли дать своему взводу сигнал. Но наткнулся за поворотом на какого-то десантника, уперевшись тому стволом в живот.
Тот согнулся от удара, тяжело застонав.
При свете разгорающихся пожаров Юрчик узнал в десантнике начальника строевого отдела бригады капитана Новокрещенова.
– Товарищ капитан? Ранены?
– Нет. Ослаб просто… Почему без штык-ножа? А если бы не я, а немец тут был бы?
И выстрелил три раза из пистолета за спину млалею.
На спину Юрчику навалилось что-то тяжелое и горячее.
Он упал плашмя в снег, сбрасывая с себя дергающийся труп только что живого немца.
Потом обернулся.
На них двоих бежал как минимум взвод немцев.
– Отходим, летеха, отходим! – закричал Новокрещенов, продолжая стрелять из «тэтэхи» по фрицам.
Они бросились обратно к залегшим под плотным огнем цепям бригады…
…Три раза поднимались в атаку десантники. И три раза немцы отбивали их. И сами поднимались в контратаки, сбивая зацепившихся за окраинные дома деревни красноармейцев…
Начинало светать. А бою не было конца. Заработали ледяные фланговые доты, не обнаруженные разведкой. А как их обнаружить? Холмик и холмик… Заснеженный… А вот сейчас из таких холмиков бьют немецкие пулеметы.
Юрчик же орал на свой взвод:
– Что, суки? Зассали за командиром? Я, сука, вам устрою, когда домой вернемся! Спать, сука, не дам, будем учиться работать!
Кроме слова «сука», он другие матерные слова еще не научился говорить…
Впрочем, его не слышали. Артиллерия из Демянска начала долбить по целям, которые давали немецкие корректировщики.
Тогда он встал в полный рост, машинально отряхнув колени от снега…
– За мной, ребята, ну… Пожалуйста, а?
С него тут же сбило шапку пулей. Он ойкнул и сел на снег. По лицу его потекла темная струйка…
– Да что же это мы, мужики… – растерянно крикнул сержант Заборских. – Десантники мы или погулять вышли?
И взвод, те, кто еще не был убит, или тяжело ранен, пошел вперед. А за ними поднялись и другие пацаны. Других взводов.
И в сером свете утреннего неба – да, да! – уже в сером, шел бой. Уже несколько часов, неубиваемые, поднимались и поднимались белые призраки страшных немцу русских лесов. Прав был великий Фридрих. Выстрели в русского, потом толкни. Иначе не упадет. И, на всякий случай, еще прикладом добавь. А все равно не помогает! Встают и снова идут на пулеметы.
Штык-ножи втыкались в шинели цвета фельдграу, маскхалаты окрашивались своей и чужой кровью, гранатные взрывы разрывали тела, выстрелы в упор расплескивали красную смерть по снегу, лопатки страшным звуком разрубали лица, пальцы ломали кадыки и выдавливали глаза.
И десантура победила!
По обеим деревенькам – маленьким, затерянным в лесной глуши России – раздавались одиночные выстрелы. Добро добивало зло…
Младший лейтенант сидел рядом с мертвым телом немецкого офицера, пытаясь стереть засохшую свою кровь с лица. Пуля выдрала кусок волос и кожи с головы да сбила шапку. Повезло! Комвзвода сидел и улыбался.
А вот комбату-два не повезло…
Жизнь медленно вытекала из двух ранений в живот, полученных еще в самом начале боя. Он, лежа в каком-то сарае, старательно царапал карандашом на клочке бумаги, вынутым из эбонитового медальона:
«Ирина, будь счастлива! Не моя вина, что не дожили, не долюбили. Целуй всех. Твой навеки. Алеша».
– Вань… Сунь подальше… – протянул он записку трясущейся рукой санитару.
– Да вытащим мы вас, Алексей Николаевич, товарищ капитан!
– Если что… Съешь, чтобы немцам не досталось…
– Сейчас, сейчас… Потерпите…
Ваня Мелехин сжимал здоровой рукой ладонь комбата. Вторую ему перебило осколком. Но все равно санитар прибил в рукопашной здоровенного немца и отобрал у него автомат. А сейчас сидел рядом с умирающим капитаном Струковым, понимая, что не вытащат его. Немцев-то они победили, а смерть-то нет…
– Вытащим, вытащим мы вас, товарищ капитан!
К комбату подбежал кто-то из командиров рот. Струков уже плохо различал лица, они плыли в каком-то тумане.
– Товарищ капитан. Тут нет никаких продскладов. Что делать?
– Что немцы?
– В контратаку собираются, товарищ капитан!
– Тогда к бою. К комбригу связного. Передать, что деревни взяты. Продовольствия не обнаружено. Много потерь. Уничтожено не менее батальона немцев. Уничтожен склад с боеприпасами. Просим разрешения на отход.
– Все?
– Все… Вань… Дай мне автомат…
– Товарищ капитан!
– Мой давай автомат… Трофей себе оставь…
– Вам в тыл надо, товарищ капитан… – всхлипнул молоденький санитар.
– А я и так в тылу. Врага.
Капитан Струков, превозмогая боль, перевернулся на дырявый перебинтованный живот. Дал очередь по перебегающей цепи немцев очередь. И потерял сознание.
Когда он пришел в себя – в сарае их осталось семеро. Очередную атаку отбили без него.
Без него и пришел приказ об отходе.
Оказывается, он тогда пришел в себя. Приказал отходить всем. И едва не пристрелил тех, кто попытался его на тех самых волокушах утащить в лес.
– Вань, ты почему не ушел?
На спине молоденького санитара дымился вырванный пулей клок полушубка. Мелехин неуклюже и смущенно пожал одним плечом. И здоровой рукой поднял и швырнул обратно шлепнувшуюся рядом с ним немецкую гранату с длинной деревянной ручкой.
– Вань… Веди бойцов на прорыв… Вам победу завоевывать…
Санитар сглотнул свою кровь и утер кровь чужую на щеке капитана:
– Товарищ капитан, мы решили тут… Комсомольцы не оставят вас…
Струков обвел лихорадочным взглядом шестерых пацанов. Все израненные. Бинты в свежей крови. Валенки в дырах. Халаты замызганы. А в глазах немецкая смерть…
– Приказываю… Письмо… Жене…
От боли в глазах желтые круги… Сознание плавает…
– Я прикрою… Мужики… Ребята… Ваня…
И санитар Ваня Мелехин, сглотнув тяжелый, горький ком скомандовал:
– Батальон, вперед!
Шестеро раненых десантников бросились в очередную рукопашную. Один, самый ослабевший, упал под немецким тесаком. Пятеро прорвались! Огрызаясь выстрелами по отбегающим немцам, пятеро десантников прорвались из деревни – перепрыгивая через тела своих товарищей, убитых еще ночью, и через тела врагов, убитых уже днем.
Капитан Струков остался в сарае деревеньки Большое Опуево.
Десантники выскользнули в спасительный лес. Только там Ваня Мелехин оглянулся. На месте бывшего сарая полыхал пожар. Оттуда еще бил несколько секунд автомат. А потом затих…
13
– И как же вы решали проблему с ранеными, господин подполковник? – обер-лейтенант подпер щеку рукой.
– Опуево атаковали только два батальона. Первый и второй. Четвертый и третий прикрывали операцию с флангов. А тыловики в это время оборудовали аэродром на Невьем Моху.
– Прямо на болоте?
– Конечно, герр лейтенант, у нас не было другого выхода. И в ночь после операции командование фронта наконец установило более-менее постоянную связь с нами. В ту ночь…
– На четырнадцатое?
– Да, на четырнадцатое марта… В ту ночь на взлетные полосы сели первые «ушки».
– Кто, простите?
– «У-два».
– Аааа… Ваши «швейные машинки»…
– Почему «швейные машинки»? – удивился Тарасов.
– Стрекочут они как наши «Зингеры». Очень неприятные штучки, господин подполковник. Честно признаюсь.
– Почему? – опять приподнял брови подполковник.
– Их практически невозможно сбить, как ни странно. Самолет можно сбить, а эту летающую мебель… Русская фанера! Разве что убив пилота или попав в мотор, а это, как вы понимаете…
– Конечно, понимаю. Я видел, как они садились на болото… – шмыгнул носом Тарасов. – Не хотел бы я быть на их месте…
Настала очередь удивляться немцу:
– Можно подумать, вашему месту можно завидовать…
– И моему нельзя. На войне вообще нельзя завидовать никому. Впрочем, не только на войне!
* * *
Импровизированный аэродром освещался кострами, расположенными по краям взлетной полосы. Черное небо подсвечивалось их багровым светом. Из этого света медленно и бесшумно, с выключенными моторами, ровно гигантские птицы, планировали один за другим «уточки». Подпрыгивая двухметровыми лыжами на кочках, они неслись по восьмидесятиметровой посадочной полосе, постепенно замедляя скорость. А там к ним подбегали десантники и, хватаясь за крылья, вручную отворачивали легкие самолеты в сторону.
Как ни утаптывай снег – каждую ямку не заровняешь. Летчики рисковали скапотировать или сломать посадочную лыжу, но все же садились друг за другом.
Командиры взводов третьего батальона охрипшими голосами командовали бойцами, спеша разгрузить люльки между крыльев, привешенные вместо бомбовой нагрузки.
Тарасов стоял и смотрел, как они приземляются. «Наконец-то, наконец-то!» – билась в голове единственная мысль. – Наконец-то! – не сдержавшись, он крикнул Мачихину, потом повернулся к нему и схватил его за плечи:
– Ну, сейчас дадим фрицам жару! Слышишь, комиссар!
Мачихин улыбнулся:
– Слышу, командир! Да не тряси ты меня так!
Тарасов с силой хлопнул его по плечу и побежал к первому севшему самолету.
Из открытой кабины «У-два» неуклюже выбирался летчик, замотанный теплым шарфом по самые глаза.
Спрыгнув наконец с крыла на снег, он поднял очки и стащил обледеневший шарф с лица.
Тарасов, не сдерживая себя, с разбегу обнял его и даже попытался приподнять от прилива чувств:
– Ребятки! Молодцы! Спасибо, ребята!
Летчик даже не нашелся сначала, что ответить коренастому мужику без знаков различия, выскочившему из морозной темноты. Лишь потом, когда Тарасов на мгновение прекратил его хлопать по спине, чуть отодвинулся:
– Мне б к подполковнику Тарасову…
– Да я Тарасов! Я! Слышишь, летчик! Вы же всю бригаду мне спасли!
Летчик сделал шаг назад и приложил руку к заледеневшему летному шлему:
– Лейтенант Зиганшин! Эскадрилья доставила грузы продовольствия и медикаментов по приказу генерала Курочкина!
– Сколько вас?
Летчик оглянулся. Пять «уточек» стояли в разных углах полевого аэродрома. С каждого десантники сноровисто таскали в общую кучу мешки.
– Все пять, товарищ подполковник! Прибыли без потерь! Линию фронта пересекли с выключенными моторами…
– Как пять… Всего? Этого же мало… – Тарасов растерянно посмотрел на лейтенанта. – Этого же мне на раз пожрать…
– Постараемся еще рейс сегодня сделать потемну, товарищ подполковник!
– Там чем в штабе думают, а лейтенант? – стал закипать Тарасов. – Мы уже девять дней не жрамши! Они это понимают?
– Товарищ подполковник… Мы и так без бортстрелка все летели, безоружные. По триста кило на самолет нагрузили и вперед.
Тарасов выругался. Полторы тонны на две тысячи человек… Меньше, чем по килограмму продуктов на человека. На один раз поесть… И так захотелось дать в морду этому усатому лейтенанту. Но комбриг сдержался. Летчик-то был тут ни при чем. И так он сделал все что мог – прошел без потерь линию фронта, нашел в огромном лесном массиве посадочную площадку, освещенную кострами, сел без потерь и сейчас ему лететь обратно. И все это в открытой кабине на тридцатиградусном морозе, между прочим!
– Лейтенант, скажи мне как на духу… Почему снабжения нет? Где «тэбехи»? Что у вас там летчики делают? С официантками спят?
– Товарищ подполковник… – обиделся летчик.
– Ладно, ладно, Зиганшин, не обижайся… Пойдем-ка я тебя нашим чаем напою…
Тарасов приобнял летеху за плечи и повел к костерку, рядом с которым сидели Мачихин и Шишкин, прихлебывая густо парящий чай.
– Капитан, плесни летчику. Видишь, замерз в воздухе как собака…
– Спасибо, товарищ подполковник, но я…
– Пей, говорю! – приказным тоном рявкнул на него Тарасов и протянул ему кружку.
Лейтенант Зиганшин взял крагами кружку, осторожно прикоснулся к ней губами… Хлебнул…
– Это ж вода, товарищ подполковник!
– Это по-вашему вода! По-нашему – чай! Пей давай, пей… Тем более, это не просто вода, а вода с брусникой. Выкопали тут пару кустиков. И заварили.
– Правда, мочегонный чай получился, – буркнул майор Шишкин. – Я допить кружку не успеваю, как уже в кусты надо бежать…
– Зато витамины, начштаба… – хохотнул Мачихин.
А лейтенант с тоской подумал, что как бы не обмочиться в полете от такого чая…
– Лейтенант, тебя как зовут? – обратился к Зиганшину Тарасов.
– Сергей…
– А по отчеству?
– Олегович… – растерянно ответил лейтенант. – А что?
– Сергей Олегович, ты мне скажи по душам, что у вас там среди летчиков говорят? Почему снабжения нет?
– Да как же нет, товарищ подполковник! Вчера ночью «ТБ-три» вылет делали. Сбрасывали на парашютах тюки.
– Какие тюки?? – Немногословный Шишкин едва не выронил кружку с «чаем».
– Ну я уж не знаю… Нас комполка предупредил, что, если посадочная оборудована не будет, скидывать по ракетам.
– Что?? – в голос почти крикнули все трое.
– Ну по ракетам. Вы должны были сигналы давать ракетами. Только вот я в полете еще думал. Тут по всему району ракеты бросают. Не пойми кто, то ли вы, то ли партизаны, то ли… Блин… – До лейтенанта начал доходить ужас ситуации. – Неужели немцам сбросили?
Тарасов матерно выругался.
– Мать их за ногу… Ведь каждый день координаты им шлем… Шишкин!
– Я, товарищ подполковник!
– Докладная записка готова?
– Николай Ефимович… Обижаешь… – Начштаба протянул Тарасову запечатанный пакет.
– Лейтенант… Передашь этот пакет лично комфронта. Понял? Лично!
Зиганшин задумчиво почесал затылок:
– Мне бы еще до него добраться, до комфронта-то… Впрочем, наверняка вызовут туда.
– Вот там и передашь.
На Тарасова внезапно дунуло едким еловым дымом от костра. Отвернувшись от него, подполковник увидел бойца, подбегающего к нему:
– Товарищ подполковник, разрешите доложить! Разгрузка закончена. Интенданты сейчас сортировкой занялись. Раненых грузить?
– Само собой. И бегом!
На этот раз чертыхнулся Зиганшин:
– Мы много не увезем, товарищ подполковник! Пять человек только. На местах бортстрелков. Так что только сидячих.
– В люльки лежачих погрузим, – отрезал Тарасов.
– Поморозим же! Ветер, а там фанерка…
– А тут умрут. Не сейчас, так через час. Понимаешь, лейтенант…
– Понимаю, но…
– Но? Но?! Ты, лейтенант, знаешь, какие у нас раненые, какие люди? Ты знаешь, что вчера наши раненые сделали? – Вспыхнувшая ярость Тарасова вдруг вылилась слезами по щекам. – Ты, лейтенант, герой! Спасибо тебе! А моим ребятам кто спасибо скажет? Грузите, я сказал!
Через полчаса «уточки» стали подниматься в ледяное небо, неуверенно покачивая полотняными крылышками…
Провожая их взглядом, Тарасов хрипло спросил, не глядя ни на кого:
– Как думаешь, пацаны еще живы в Малом Опуеве?
Ответом ему было тяжелое молчание…
* * *
Если первый батальон так и не смог удержать Большое Опуево, то второй взял Малое с лету.
Комбат-раз – капитан Иван Жук – приказал атаковать без криков и выстрелов. Более того, десантники его батальона часть пути проползли под настом! Немцы ошалели, когда почти перед их окопами снег взметнулся и белые призраки молча – что самое страшное! – прыгнули на их головы.
Через полчаса, когда под Большим Опуевом еще только разгорался бой, батальон Жука уже зачищал от недобитков деревню.
– Молодцы, мужики! Молодцы! – орал он ребятам, деловито – отделениями – прочесывающим избы.
Из каждой избы приходилось выкуривать фрицев. Гранаты в окна, дверь на прицел…
Внезапно, из крайнего дома басовито застучал трассерами пулемет. Одной очередью срезало сразу троих десантников, перебегавших улицу, освещенную багровым огнем разгорающихся пожаров.
– Подавить пулеметчика! Бегом! – заорал Жук. – Где командир штурмового взвода?
– Убит!
– Мать твою… Морозов! Морозов! – крикнул комбат. – Бегом к штурмовикам, пусть давят пулемет!
– Есть, товарищ капитан! – Комсорг батальона, сержант Ленька Морозов бросился в залегшую первую роту, перепрыгивая через трупы немцев и десантников.
Очередь стеганула совсем рядом, но он каким-то невероятным образом выгнулся, и пули – вместо того, чтобы порвать живую плоть – выщепили дыры по стене избы.
Морозов нырнул рыбкой, уходя из зоны поражения в сугроб. Еще несколько десятков метров, и…
– Товарищ лейтенант… Комбат…
– Да понял я! – Лейтенант Булавченков грыз тесемки шапки-ушанки. – Фомичев штурмовиками сейчас…
Договорить он не успел. Немцы начали минометный обстрел, и комья мерзлой земли ударили ему в лицо. Он ткнулся в снег.
– Тьфу… – Приподнявшись, он выплюнул землю и схватился за правый глаз.
– Ранены?
Лейтенант застонал, держась за лицо.
– Дайте посмотрю. – Морозов осторожно взял руки лейтенанта и отвел в сторону…
– Фингал будет. А глаз вроде цел… Холодное приложить надо…
Новый взрыв заставил ткнуться в «холодное».
И в этот момент немецкий пулемет захлебнулся. А за этим раздались два глухих взрыва, и минометы тоже замолчали.
– Ай, Фомичев, ай, молодец! – вскрикнул лейтенант, вставая на колени. – Рота, вперед!
Десантники бросились в атаку. Впрочем, атаковать было уже некого. Из дома, откуда только что долбил пулеметчик, валил густой дым. А за домом была живописная картина – разбросав конечности и кишки по снегу, валялись дохлые фрицы-минометчики. Тех, кто еще пытался корячиться, десантники штурмового взвода Фомичева спокойно добивали выстрелами в затылок.
– Языка! Языка оставить!
– Некого, товарищ лейтенант! – развернулся к нему вечно улыбчивый старший сержант Фомичев. – Все умерли почему-то!
В этот момент распахнулась дверь дымящего дома и оттуда вывалился надсадно кашляющий немецкий офицер – без штанов и в расстегнутом кителе. Он успел махнуть финкой, пропоров растерявшемуся Морозову маскхалат, но тут же был успокоен ударом приклада в спину.
– Связать и в штаб бригады, – распорядился комроты.
– Скотина… – удрученно разглядывал порезанный полушубок комсорг. – Какую вещь испортил…
– Не-ееет! – закричал вдруг кто-то тонким голосом. – Не трогайте его! Он мой!
Из дымящейся избы выбежала женщина в длинной ночнушке и наброшенной на плечи телогрейке. Тут же споткнулась на ступеньках и упала прямо в ноги лейтенанту Булавченкову.
От неожиданности и лейтенант, и бойцы замерли. Баба же продолжала голосить:
– Не трогайте, ироды! Мой он, мой! Прошу вас… – и зарыдала.
– Это что за явление Христа народу! – грозно рявкнул на бабу подошедший незаметно комбат.
– Товарищ капитан… – начал было лейтенант.
Жук остановил его движением руки и присел перед валяющейся на снегу бабой:
– Эй, ты кто такая?
– Авдотья я… – распрямилась та. Круглое ее лицо покраснело от слез. – Отдайте Вовочку, а?
– Какого еще Вовочку? Ты что, Авдотья, с ума сошла?
– Вольдемара моего отдайте. Он мирный. Он велетинар. Он мне корову сладил…
Жук сдвинул шапку на затылок:
– Вольдемара? Немца, что ли?
– Муж он мне! Христом богом клянусь, муж!
– А что, русского мужа не смогла найти?
Баба вдруг затихла.
– Что молчишь-то? – потряс ее за плечо капитан.
– Без вести пропал в сорок первом… А что ж мне… Одной, тут хоть и немец, а мужик же! Велитинар опять же, велитинар… – и опять зарыдала.
Она почти молитвенно повторяла крестьянски уважаемую профессию пленного, как будто бы это могло помочь ему и ей.
– Велитинар!
По лицу комбата пробежало судорогой презрение:
– Он твоего мужа и убил…
Авдотья затрясла неприкрытой головой:
– Да что ты, что ты… Вовочка и муху не обидит, вона он мне как корову слечил… Что ты, что ты…
Волосы ее, в которых уже блестела седина, немытыми прядями раскидались по плечам.
– Что ты говоришь-то, а? Как же он мужа моего убил? Ты ж советский человек, как такую ерунду говоришь? Он же корову!
Жук сплюнул себе под ноги:
– Корову, говоришь? Корову, это хорошо… Это он молодец! В сарай потаскуху. Этого в штаб.
Баба завыла, вцепившись себе в волосы. Когда двое десантников подхватили ее под руки и потащили в сарай, она извернулась и пнула капитана по ноге. Тот только покачал головой в ответ:
– Советский, значит, человек…
– Нет продуктов, товарищ капитан! Вообще ничего нет. Так, по мелочи насобирали, – подошел нему начштаба батальона. – У кого колбаса, у кого галеты. И у местных тоже ни черта нет. Все выскоблено.
Жук опять сплюнул. На этот раз от досады. Главная цель операции не была достигнута:
– А корова этой бабы?
– Нету коровы. Видимо, немцы увели.
Комбат нахмурился:
– Потери?
– Подсчеты ведем еще. Струков помощи просит. Завязли на подступах.
– Поможем. Кто командир штурмового взвода был?
– Погиб, товарищ капитан… Вместо него старший сержант Фомичев.
– Где он?
– Тут я, товарищ капитан, – откликнулся рядом стоявший Фомичев.
– Твой взвод остается здесь. Занимайте оборону. Раненых оставляем тут. Пусть отогреются ночку-другую в избах.
Фомичев приложил руку к грязной ушанке, но ответить не успел. Со стороны сарая раздался выстрел.
Командиры обернулись на звук. От сарая неторопливо отходили двое десантников.
– Что там, бойцы?
– Да бабу эту… Осколком… Случайно…
Жук поджал губы, подумал…
– Ну и черт с ней! Действуй, Фомичев! Да… Дорогу заминируй чем-нибудь…
Раненых оказалось аж шестьдесят человек.
Их растащили по уцелевшим избам.
А потом, под звуки боя, доносившиеся с той стороны Чернорученки, стали занимать окопы, брошенные немцами.
Комбат двинулся было со своим штабом обратно в лес, но его остановил крик одного из бойцов:
– Товарищ капитан, товарищ капитан! Идите скорее сюда!
Жук оглянулся на крик. Боец стоял возле немецкой траншеи, сняв ушанку и молча смотря себе под ноги.
– Что у тебя, рядовой? – подошел капитан.
Вместо ответа десантник показал себе под ноги. На бруствер. Капитан, посмотрев туда же, побелел от увиденного…
14
– И куда же делся наш офицер?
Тарасов хмыкнул:
– Расстреляли. А куда ж его? Мне и своих-то нечем было кормить.
– Подполковник! Вы понимаете, что нарушили все правила войны? – В голосе обер-лейтенанта звякнул металл. – Вы убили пленного, безоружного человека. Не лично, конечно, но по вашему же приказу! Так?
– Так, – спокойно ответил подполковник. – А вы бы предпочли, чтобы он замерз в первую же ночь? Мне его приволокли в одних подштанниках.
– Согласно Женевской конвенции двадцать девятого года, вы должны были обеспечить ему приемлемые условия содержания! Впрочем, ваша страна ее не подписала, – всем своим видом фон Вальдерзее показывал презрение и отвращение к русским варварам, не умеющим цивилизованно воевать.
– Зато ваша страна ее подписала… – криво усмехнулся Тарасов.
– И мы ее выполняем, между прочим! – гордо сказал обер-лейтенант.
– Да. Мы видели, как вы ее выполняете. Я лично видел.
– На что вы намекаете? – не понял немец.
– Я не намекаю, а прямым текстом говорю, что лично видел трупы попавших к вам в плен наших разведчиков.
– Идет война, и здесь не санаторий, господин подполковник. Они вполне могли скончаться от ран, даже несмотря на высококвалифицированную помощь немецких врачей, – пожал плечами обер-лейтенант.
– Да… Помощь была высококвалифицированная. Даже очень. Это у ваших врачей новейшие методы лечения такие – раздевать догола, укладывать на бруствер окопа и заливать холодной водой? Общеукрепляющая бруствер метода? При этом, чтобы ребята не дергались, их протыкали штыками. Это у вас вместо фиксации?
– Этого не может быть! – возмутился фон Вальдерзее. – Мы воюем по европейским законам, а не по азиатским!
– Да, да… Я помню… Женевскую конвенцию вы подписали, ага…
– Нет, конечно, и у нас бывают воинские преступления… – стал оправдываться обер-лейтенант.
– Ага… Приказ о комиссарах, например. Нам политработники читали его вслух еще осенью, во время формирования бригады.
Немец аж пошел красными пятнами:
– В конце концов, это не вермахт! Это СС! В обоих Опуево стояли эсэсовские части, вы это прекрасно знаете! Солдаты они хорошие, но у них бывают перегибы в отношениях с местным населением и пленными…
– А мне было без разницы, какого-такого ветеринара расстреливать. Эсэсовского или из вермахта…
* * *
– Товарищ подполковник! Там это…
– Что? – раздраженно спросил адъютанта Тарасов.
А причины для раздражения, честно говоря, были. По докладу медсанбата, бригада потеряла уже двести сорок восемь убитых и раненых. А обмороженных – триста сорок девять. Причем это только с тяжелыми обморожениями. Четвертой степени. А что такое четвертая степень обморожения? Это полный звездец, мягко говоря. Это когда холод убивает не только кожу и мясо, но и кости. Тарасов прошелся по лагерю санбата. Среди стонов, воплей и скрежета.
Видел, как молодой пацан с хрустом отламывал гниющие фаланги на руках, удивленно приговаривая:
– Надо же… Не чувствую! Надо же, а?
Были и те, кто не выдерживал. Некоторые стрелялись, нажав сочащимся красно-белесой сукровицей пальцем на спусковой крючок «светочки», зажатой в прикладе гнилыми, воняющими сыром ступнями.
Не рассчитали, блин… Не рассчитали… Кто мог знать наперед, что день солнцем будет растаивать снег, а ночь будет долбать тридцатиградусным морозом? Валенки промокали, утопая в демянских болотах, а потом, ночью, заледеневали, стягивая оголодавшие мышцы. И у одного за другим отрезали ноги…
– Говори уже, Михайлов! – рявкнул Тарасов на адъютанта.
– Там это… Кажись, двести четвертая объявилась…
– Что-о-о? – вскочил Тарасов.
Через сорок минут помороженный, в изорванном маскхалате, красноармеец Комлев стоял, полусогнувшись, в командирском блиндаже. Да одно и название-то – блиндаж. Яма, вырытая в снегу. Сверху деревьями завалили, снегом закидали. А вместо печки – бочка, найденная разведчиками.
– Значится так, товарищи командиры…
– Ты присядь, браток, присядь! – участливо сказал комиссар Мачихин. Тарасов нервно барабанил по самодельному столу. Шишкин же с Гриншпуном молча смотрели на бойца из двести четвертой.
– Мы, значит, как линию фронта перешли, по вашим следам. Все нормально было. Как начали Полометь переходить, так немец и вдарил по нам.
– И?
– И мы вот прорвались с ребятами. Батальон прорвался. Там такое было…
– Сядь, боец, сядь!
Рядовой виновато кивнул и присел, протянув руки к печке.
– Они, главное, долбят. Визг, свист, а куда бить – непонятно. Темно же было! Со всех сторон, сволочь, бьет и бьет! Мы кто куда, а он все равно бьет! Я это… Сам не понял, как на другом берегу оказался. Бегу, значит, стреляю на огни, а они отовсюду – лезут и лезут! Я туда штыком, в мягкое, обратно прикладом – хрустнуло чего-то. А они все равно лезут!
– Боец, успокойся! – рявкнул Гриншпун.
– А? Да… Значит, прорвались мы с комбатом…
– С подполковником Гринёвым? Вдвоем??
– Ну да! То есть нет, конечно! – Рядовой попытался встать, но снова стукнулся головой о потолок землянки.
– Сиди!
– Ага… Посчитались мы потом. Батальон только прорвался. И товарищ подполковник Гринёв. А три других батальона вместе со штабом бригады там остались. На другом берегу реки. Вот он нас дозором послал значит, чтобы вы его встретили, обеспечили питание, медикаменты и, главное, оружие.
Командиры переглянулись. А Тарасов прищурился:
– Что значит оружие?
– Так только у нас у половины винтовки да автоматы. Остальные побросали все, когда патроны закончились, товарищ подполковник сказал, что у вас прибарахлимся…
– Оооот же тварь, сссука, пшел вон! – заорал на рядового Тарасов. Того как ветром сдуло из землянки. А потом пнул по столу. Так что карты Шишкина слетели на пол. Начштаба флегматично вздохнул и полез под стол – собирать бумаги.
– Млять, млять, млять! – ударил Тарасов кулаком по печке. Та глухо зазвенела в ответ и пыхнула дымом. Дневальный аж забился в угол. – Ну и хули будем делать отцы-командиры?
– Ефимыч, не кипяти кипяток, а? – сказал всегда рассудительный и спокойный Мачихин.
– Не кипяти? Не кипяти, да? Я эту сволочь лично пристрелю, когда появится! Мы двумя бригадами должны были… А мы тут одни! Продуктов нет! Медикаментов нет! И, самое главное, боеприпасов нет! А тут еще батальон придурков, млять! Мы прошли, почему Гринёв не смог? Где эта сволочь? Пристрелю!!
Тарасов дернулся было на улицу, но Гриншпун внезапно выставил ногу, и Тарасов упал, споткнувшись.
– Ефимыч, успокойся…
* * *
А красноармеец Комлев сидел у костерка комендантского взвода и взахлеб рассказывал, как они прорывались через речку со странным названием Полометь:
– Так я ж говорю. Мы выползли на посередку речечки, и тут как начало долбать! И кто куда! Все попуталось, бегу куда-то. А там берег крутой такой, сверху стреляют – я ползу. А перед глазами только валенки у Петьки, он ими скребет по снегу. Хераць – Петька на меня падает и кровавым по мне как плеснет. А там по верху фриц, ну я туда гранату со страху – бах! – нету немца, и рука его – шлеп перед носом, я как закричу и себя не помню. Бегу, куда-то бегу. Нна! – прикладом, потом нож в руке, опять нна! Черт его знает как, а вот пробежал, лыжами за деревья цепляюсь, падаю. Лыжи, да… А нам комвзвода сказал, лыжи-то привяжите к поясу на переправе, пешком бежите, а уж потом на лыжи. Вот я через немецкий окоп прыгнул, а лыжи туда падают. И застряли. А я как заору, обернулся, и тут немец. Молоденький такой, глаза, главно, голубые. И тоже орет. Он на меня орет, я на него ору. И ракеты такие, синие. Он как мертвец – я, наверно, тоже ему как мертвец кажусь. Орем, орем… А я первый стрельнул. Прям в грудь. А он не падает! Упасть должон, а не падает. И так тихонечко… Мутер, говорит, мутер… Я еще стрельнул. В башку. Она в разные стороны. А из сердца как штык на меня высунется. Немец падает, а за ним сержант наш орет: «Мать твою мутер, ты ж меня чуть не убил!» А сам весь в кровище немецкой. Только крикнул, и тут на него другой немец прыгнул. А ото первый, который сдох уже, мне штыком работать мешает. Я и так и эдак, а он… Убили, в общем, сержанта, а немец второй встал и на меня. Я глаза зажмурил и как ткну вперед винтовкой. И чую, чую, как штык по костям скрежет. Жутко так стало. Ладно бы мягко. Я ж думал мягко, а тут… Винтовочка рукам моим тот скрежет по кости передала. Как по телеграфу. Ага. Ухами не слышу. А рукой чую. И удивился так он, а потом мне как по каске кто-то как въехал. Я упал мордой в снег. Потом прочухиваюсь – немцев нет, меня тащит кто-то за загривок, как кошку. Я-т винтовку свою потерял, бегу по снегу, бегу. Лыжев тоже нет. Аж по пояс падаю. А где-то опять сознание потерял. Утром уже в себя пришел. В ямке лежу, значит. Пересчет идет. И прошло нас из двух тысяч только четыреста человек. Половина ранетые, половина безоружные, как я. А я, хоть и контуженый, но здоровый, кровища на мене только чужая была, не моя. Вот мне лыжи с умершего дали, напялили «папашу» с полудиском, и вперед, мол, ищи тарасовцев… А пожрать нет ничего у вас, а то я уже вторые сутки нежрамши…
15
– Продолжайте, господин Тарасов!
– А что продолжать-то? Двести четвертая не пробилась. Как объяснил майор Гринёв – не смогли. Вышел только один батальон.
– А остальные?
– А я откуда знаю? Опять же… Со слов Гринёва. Батальон прорвался к нам, батальон ушел в сторону Лычково, где вторая бригада действовала…
– Очень неудачно, надо сказать… еще хуже, чем ваша, господин подполковник…
Тарасов ухмыльнулся про себя. «Ага, хуже, конечно, куда уж хуже?»
– Вторая воздушно-десантная бригада должна была атаковать станцию Лычково. Так? В момент атаки ее должны были поддержать войска вашего фронта, – фон Вальдерзее подошел к карте Демянского котла, висящей на стене. – Отсюда и отсюда.
Он скрипнул карандашом по бумаге.
– Но, увы для вас и к счастью для нас, координации операций вы так и не научились. Бригада атаковала, но мы без труда отразили ее атаки. А потом ваффен-эсэс добили десантников в этих заснеженных болотах. Ваша пехота атаковала на сутки позже. И тоже безрезультатно. Потому как поздно. Интересно, что бы вы сказали вашим гэпэушникам в оправдание?
– НКВД…
– Что? – недоуменно приподнял бровь обер-лейтенант.
– НКВД, говорю, не ГПУ… Ничего бы не стал им объяснять.
– Почему? – удивился фон Вальдерзее.
– А зачем? Они бы сразу меня расстреляли. Кровавые сталинские палачи же, не находите?
* * *
А еще через сорок минут он влепил кулаком прям в харю:
– Ну, здорово, тварь! Здорово, ссука! Сейчас повоюем с тобой по-настоящему!
Гринёв отшатнулся от Тарасова, схватившись за нос.
– Ну что, Гринёв…
– Ефимыч, Ефимыч, стой! – Мачихин и Гриншпун – два здоровущих кабана навалились на маленького Тарасова и повалили его на снег. Тот зарычал под ними, хватая помороженными губами колкий мерзлый наст.
– Сука! Сукааааа! – ревел тот.
А Гринёв, стараясь не испачкать полушубок кровью, хватал комья снега и прикладывал их к носу.
– Ну-ка тихо всем! – Всегда тихий Шишкин неожиданно выхватил пистолет и два раза пальнул в воздух.
Сработало.
Тарасов перестал вырываться, а комиссар с особистом перестали его душить.
А десантники из комендантского взвода старательно отвернулись.
Мгновение спустя Гриншпун и Мачихин встали со снега. А потом и Тарасов, отряхивая свою кожаную курточку, встал. Сначала на колени, потом и в полный свой, маленький, рост. А потом он порывисто – да так, что никто ничего не успел даже и подумать – подскочил к Гринёву и облапил его.
– Привел? Привел, да?
– Вряд ли, Ефимыч… Да успокойся ты… – с трудом вырвавшись из рук маленького, но крепкого Тарасова, произнес Гринёв. – Мы тут одним батальоном вышли к вам. Истрепанные по самые… По пояс.
– Знаю! – кивнул Тарасов. – Уже знаю. А ну-ка, давай подробнее!
И Гринёв, попивая горячий чай, начал рассказывать. Как двести четвертая бригада не смогла пройти через линию фронта. Все проходы немцами были надежно прикрыты. Прорвать удалось один, но фрицы после того, как первый батальон вышел на тактический простор, ударили с флангов силой не менее двух полков. И батальон, в котором Гринёв шел едва ли не в первых цепях, оказался отрезанным. Там осталась и бригада, и штаб ее. Пятеро суток промыкавшись в бескрайних лесах Демянска, они чудом вышли на позиции боевого охранения бригады Тарасова.
– И вот еще… Держи приказ… – Гринёв протянул усталой, дрожащей рукой конверт. Тарасов вскрыл его зубами, прочел… И обомлел.
«Общее командование передается подполковнику Латыпову, в его отсутствие старшим назначается подполковник Гринёв. Комсевзапфронт генерал-майор Курочкин»
– Что за хрень? – не понял Тарасов. – А почему по рации не прислали?
– Вы ж на связь не выходите… – пожал плечами Гринёв.
– Муха же бляха! – Тарасов аж вскочил! – У меня батареи скоро сядут эту чертову «Клумбу» вызывать! Я тюльпан, я ромашка, ага! Развели, блять, ботанический сад!
Гринёв пожал плечами:
– Я-то что могу поделать? Латыпов тут?
– А это-то что еще за хрен с горы? Какой, в пень разлапистый, Латыпов??
– А я знаю? Представитель штаба фронта. Твоим радиограммам не верят. Говорят, панику наводишь. Они самолеты шлют, шлют, снарягу кидают, кидают…
– Шлют? Шлют?? Снарягу??? Да их же мать фронт в дупло по самую дивизию! Каждую ночь, млять, самолеты – мимо, мимо! Как же, мать твою, у меня обморожений скоро будет полбригады! Живаго! Где Живаго?
– Знакомая фамилия… – почесал облупившийся нос Гринев.
– Да насрать, что знакомая! Где Живаго, мать едрить через колено!
– Оперирует, товарищ подполковник! Велел передать, что пока не закончит, посылает всех в третью задницу четвертой мамы Гитлера!
Дневальный втянул, на всякий случай, голову в плечи, а начштаба, особист и комиссар заржали.
– Латыпов тут со дня на день будет. Ну не помнишь его, что ли? Лысый такой!
– Не помню. И не представляю. И представлять не хочу! У меня плохая память на имена и даты.
– Значит, как увидишь, так и вспомнишь, – без тени улыбки сказал комбриг двести четвертой.
– Отлично, мать твою… Значит, я тут сижу уже вторую неделю, прибегают щеглы типа тебя и сразу давай командовать?
Тарасов от обиды едва не плюнул в лицо Гринёву.
– Щеглы, ага… – неожиданно согласился Гринёв. – Давай к делу, а? Атака на Добросли приказана.
Тарасов только ошеломленно закачал головой:
– Штаб всего корпуса? Без поддержки твоей бригады? Тихо! – успокоил он жестом возмутившегося Гринёва.
– Нет у тебя больше бригады!! Нету! Есть триста голодных и безоружных людей. А кормить нам их нечем. И вооружать нечем, ерш твою душу меть!
* * *
Артем Шамриков сидел в засаде.
На лося.
Бригада так и сидела в болотах, ожидая неизвестно чего. Командиры чего-то бегали, суетились. Вечерами пускали ракеты. После чего ротами шарахались по лесу, собирая сброшенные с «ТБ-3» тюки на парашютах. Парашюты, кстати, без промедления шли в медсанбат.
Иногда на импровизированный аэродром садились «уточки». В них запихивали – именно запихивали! – раненых до отказа, так, что бипланы едва поднимались над деревьями.
Иногда Артем смертельно завидовал тем, кто отправляется сейчас на Большую Землю. Но это чувство было мгновенным, хотя и острым. А последней ночью и оно прошло.
Их рота тогда сидела вокруг аэродрома. Десантники готовы были стрелять на каждый шорох в ночном лесу, но чаще всего оглядывались. Оглядывались на фанерные самолетики, увозившие их ребят – раненых, больных, обмороженных – домой.
Оглядывались, пока один из «У-2» внезапно не накренился под порывом ветра и не зацепил краем крыла высоченную сосну на краю поляны. Этого самолету хватило, чтобы его развернуло, перевернуло и… И гулким хлопком бензиновая вспышка обожгла душу Артема. Больше он не смотрел на взлеты.
А на следующий день поступил приказ – начать охоту на местную дичь. В команды были выделены наиболее опытные в этом деле бойцы. К слову сказать, большинство десантников было из таежных районов Кировской области и Удмуртской автономной республики и бывали в лесах, но… Но охота – не война. Тут немного другие навыки нужны. Читать следы зверя, например, а не человека. На людей-то пацаны уже худо-бедно научились охотиться… Звери – они все-таки хитрее. Вона недавно ребята из четвертого батальон аж три дозора немецких положили!
Артем шмыгнул носом и поглубже зарылся в снег. Чтобы зверь не чуял…
Впрочем… Какой уж тут зверь… С сентября в этих лесах война идет! Хотя разведчики и мамой клялись, что свежий лосиный помет видели.
Хорошо, батя старый охотник. Перед войной медведя брал пару раз. Велел тут лежать и не шевелиться, пока он по следам ходит.
Артем не заметил, как начал дремать.
В снегу засыпается хорошо… Хоть и холодно… Да уже и не холодно… Тепло… Странное такое тепло… Нежно… Людка так же обнимала…
Внезапный шорох, сбивший снег с еловых лап, сбил сон. Шамриков еще не успел проснуться, как уже вскочил на колени и выстрелил несколько раз на звук. И лишь потом протер глаза.
За густыми зарослями ельника кто-то грузно шевелился, издавая утробные звуки.
«Вот пожрем! Вот пожрем-то!» – мелькнула радостная мысль. Он, торопясь, натянул лыжи, щелкнув по обледенелым валенкам пружиной, и поморщился – железяка опять ударила по самому протертому месту изъерзанной обувки. А потом скорым шагом побежал к месту, где упал лось.
Шамриков раздвинул ветки и…
Густо обрызгав кровью снег, под ногами Артема лежал отец.
– Батя, батя, батя!! – закричал сержант и упал на колени. Он обхватил руками лицо отца, приподнял голову, заглянул в глаза, почему-то ставшие голубыми. Ровно весеннее небо над ними…
Артем тряс отца, не замечая струйки крови, стекавшей из уголка рта.
Он не заметил и того, как на выстрел сбежались бойцы, как кто-то бил его по мокрым щекам, как санинструктор сноровисто снимал полушубок со старшины…
Он пытался схватиться за винтовку, чтобы убить в себе удушливое чувство вины. Удушливое и колющее прямо в сердце.
Кто-то отопнул винтарь в сторону. Артем привстал на четвереньки и пополз к оружию. Но сильный удар уронил его, потом кто-то навалился на спину, заломив руки и больно замотав их чем-то за спиной.
А потом его волокли по снегу. Жесткий наст обдирал лицо, но он этого не чувствовал.
Он видел поголубевшие, слепые глаза убитого им отца.
Потом кто-то кричал в ухо. Но он этого тоже не слышал. Он слышал только хрипы убитого им отца.
Потом что-то вскипело внутри, злое, яростное, красное. Он попытался встать, но не смог, потому что все вокруг почернело от удара по голове. Его перевернули и начали связывать.
Но он не потерял сознание, нет. Просто все стало черным, мутным, крикливым, громким, стреляющим.
Потом он куда-то поплыл. Медленно так. Слегка раскачиваясь. Это его убаюкивало. Потом кто-то долго – совсем рядом – ругался на два голоса. Это когда земля перестала качаться. А перед глазами снова и снова всплывал отец.
А потом вдруг его приподняло снова. Затрясло, захолодело, заморозело – так что связанные руки и ноги окончательно онемели и перестали чувствовать.
Когда сержант Шамриков открыл глаза, над ним повисло деревянное небо.
Он повернул голову набок. Деревянный горизонт ткнулся трещинками. Артем повернулся в другую сторону…
И увидел храпящего на соседней кровати отца. Тонкая нитка слюны стекала с густой его бороды.
«Приснилось!» – жадно выдохнул сержант. Потом с силой закрыл глаза и снова открыл. А потом сел на своей кровати. В белом исподнем. Чистом… Чистом?
Голова болела и слегка мутилась. «Жарко как натоплено», – подумал он и спустил ноги на пол. И тут же закричал от резкой, сильной боли в ногах, упав на пол.
Отец только вздрогнул и дернул головой, так и не проснувшись. А дверь распахнулась, и к Артему, валявшемуся на полу, подбежала женщина в белом халате.
– Что ты, милый, что ты! – подхватила она его под руки и потащила обратно на кровать.
Артем попытался схватить ее за плечо, но не смог. Вместо пальцев левой руки он увидел культю, замотанную свежим бинтом.
Он онемел. А потом, не обращая внимания на кряхтящую, закидывающую его на кровать санитарку, испуганно посмотрел на правую.
Из-под бинта торчали два черно-синих, обмазанных чем-то желтым, пальца. Указательный, кажется. И средний…
Санитарка закинула на матрас ноги, резко стреляющие где-то в районе голеней.
– Где я? – хрипнул ей сержант.
– В Выползово, солдатик, в тылу. В госпитале. Привезли тебя вчера. В госпитале ты, милый.
Сержант уставился в некрасивое, рябоватое – как у Сталина! – мелькнула дурацкая мысль – лицо санитарки.
– Как в тылу? А батя? Что с ним?
– Живой твой батя, вчера сразу ему операцию сделали, – зачастила санитарка. – Селезенку удалили и из печени пулю достали. Хорошо все у него… Еще спляшет у тебя на свадьбе, заместо… – осеклась вдруг санитарка. Потом неуклюже погладила Артема по щеке: – Вот вас вместе в палате положили, чтоб ты не волновался.
От сердца отлегло. Сержант Шамриков снова посмотрел на отца.
Тот продолжал храпеть, приоткрыв рот.
– Ты тоже поспи, солдатик! – поправила она серое одеяло. А потом встала и пошла к двери. Приоткрыв ее, оглянулась и шепнула: – Завтра к тебе следователь придет. Из особого отдела. Ты поспи, не волнуйся, ничего тебе уже не будет…
Сержант ничего не успел ответить, как женщина закрыла дверь.
Он откинулся на подушку, пропахшую чем-то острым, больничным. И снова по рукам и ногам выстрелила жуткая боль.
Он заплакал. Но больше не от боли. От облегчения, что все хорошо. От памяти, что все плохо.
И лишь после этого вытащил руки из-под одеяла.
А потом стащил локтями одеяло с ног.
Почему-то ноги заканчивались чуть ниже колен.
Он с силой зажмурил глаза. Открыл. Снова зажмурил. Потом прикусил язык, чтобы не закричать.
А потом зубами стал развязывать бинты на кистях.
Долго развязывал. Санитарки бинтовали на совесть. Рычал, сплевывая нитки, но развязывал.
А когда снял бинт – увидел, что кистей нет, а там, где они должны были начинаться – неровные красные, сочащиеся сукровицей свежие, пульсирующие болью швы, стянувшие края обожженной йодом кожи. Кожи, скрывающей под собой неровно опиленные кости ампутированных рук.
Артем замычал от отчаяния и с силой ударил страшными культями по краю кровати. И от боли потерял сознание.
Когда он пришел в себя, то первым делом увидел сидящего рядом сержанта НКВД, внимательного разглядывающего лицо Артема…
16
– Да запил я. Достал НЗ и запил. А что мне делать оставалось? Командование бригадами перешло Гринёву, а затем еще и Латыпов появился. Да еще не забывайте про комиссаров.
– В каком смысле «не забывайте», Николай Ефимович? – Как все немцы, фон Вальдерзее очень четко выделял звук «ч», произнося его как «тч».
– А вот, в прямом, – усмехнулся Тарасов. – Чтобы принять решение по бригаде, необходимо согласовать его с комиссаром. У меня подпись – у него печать. Это еще не все. Бригадой вроде бы командую я. Так?
– А как же!
– А когда вышел на нас батальон из двести четвертой, то уже и не бригада. Уже оперативное соединение. А потом еще Латыпов – как координатор. И получается, что соединением командует майор Гринёв. Приказы по бригаде отдаю я. И все это захерить может комиссар Мачихин.
– Только он?
– К счастью, только он. Комиссар двести четвертой вместе со штабом и остальными батальонами не смогли перейти линию фронта. Вот и сами посудите – три командира, один комиссар. И все должны коллективно принять решение. Одно решение. А в ситуации, когда…
Тарасов нервно себя хлопнул по коленям.
– Да! Я самоустранился! Я получил приказ фронта. Приказ! Передать командование Гринёву! А я тогда зачем? Скажи мне, обер-лейтенант, зачем я тогда нужен?
Фон Вальдерзее положил ручку на стол и поднял взгляд на Тарасова:
– То есть вы утверждаете…
– Да ничего я не утверждаю, – подполковник внезапно успокоился и обреченно махнул рукой, поморщившись. А потом засмеялся: – Тепло у вас тут. Даже муха ожила в избе.
– Где? – непроизвольно оглянулся обер-лейтенант.
– У печки. Так вот… Перед атакой на Добросли я и напился в первый раз. Спиртом. Закусывать было нечем, правда. Мне тогда и пары глотков хватило. С голодухи-то…
– Герр подполковник, давайте перейдем к делу, – немец снова взялся за перо. – Как вы считаете, почему ваша бригада не получала необходимого довольствия?
– Вы же делали радиоперехваты, неужели не догадались? – ухмыльнулся Тарасов.
– Меня интересует ваша точка зрения… – сухо сказал обер-лейтенант.
– Все просто… Все очень просто!
* * *
Начальник штаба бригады майор Шишкин корпел над картой. Корпел, злясь на себя, на штаб армии, немцев и войну вообще.
Вот какой идиот рисовал эту…
Млять, без мата не скажешь.
Ну нет тут дороги. Нету! А на карте есть. И высота 9901 вовсе не здесь должна находиться!
Мать твою, было бы лето, еще можно было бы точнее координаты дать. А сейчас хрен пойми – озеро это или болото? Одинаково снегом занесены. И как проверить, если в этом году сугробы до метра высотой? Хотя похоже, что мы все-таки вот в этом квадрате. Или в этом?
Так…
С юга должно быть озеро, с севера тоже… Хотя нет. Это не озера по карте. Болота. Тогда похоже вроде. Ну вот точно. Смотрим…
Да, мать твою, через горизонт да в седьмое небо! Нет у Чернорученки такого изгиба! По карте нет… В жизни есть.
– Тьфу, блядина ты такая! – Шишкин откинул карандаш, которым он отмечал расположение батальонов, и распрямился.
Спина гудела. Уже третий час он пытался понять, где они находятся. И все не сходилось.
Он выскочил из норы, по недоразумению называемой штабным блиндажом бригады, на воздух.
Штаб, ага… Из всего штаба только он да командиры с комиссарами. Ни тебе толковых данных от разведки, ни тебе оперативного отдела. Адъютант да ты. Да связисты.
Кто гребется в снег и грязь? Наша доблестная… Легки на помине, черт, черт, черт!
– Товарищ майор, через десять минут сеанс связи! – встревоженно напомнил Шишкину начсвязи старший лейтенант Ларионов.
Шишкин кивнул:
– Огня дай!
Ларионов протянул трофейную зажигалку и чиркнул колесиком. Шишкин наклонился. И на секунду дольше, чем обычно, пыхал папиросой над бензиновым огоньком, ловя тепло. А потом засунул руки в карманы штанов. Все-таки хорошо жена придумала – пришить резинку к рукавицам.
– Диктую, старлей! Квадрат… – Шишкин говорил сквозь зубы, держа тлеющую папиросу.
Через пару минут Ларионов шел к радистам, уже развернувшим свой тяжеленный гроб… У старшего лейтенанта Ларионова жены никогда не было. Он, конечно, собирался жениться. До войны. И даже невеста была. С Киева дивчина. Но не успел. После войны, может быть…. Может быть, поэтому он свои двупалые – для стрельбы – рукавицы потерял в первый же день. А потом снимал с убитых и снова терял. И сегодня утром потерял. Вот, блин же, спать ложился – под голову вроде положил обе рукавицы. Проснулся – одной нет. Ну, нет и все! И именно правой!
И когда он записывал на коленке координаты сброса снабжения, рука его чуть-чуть дрогнула. Нет, он, конечно, запомнил, что ему говорил Шишкин. Но когда подошел к радисту – просто отдал ему обрывок оберточной, от пачки патронов, бумаги, на которой было нацарапано:
«Курочкину. Ватутину. Прошу в ночь на 19–20 сбросить продовольствие. Координаты квадрат 9081 и разрешить выполнять задачу (Добросли) после получения продовольствия – голодны, истощены. Гринёв, Латыпов, Тарасов, Мачихин».
– Передавай, – Ларионов протянул листочек радисту. – Связь есть?
– Есть, товарищ старший лейтенант! Две минуты до связи! – ответил сержант Васенин. – Вы это… Отдохните пока.
Лейтенант кивнул и улегся рядом, под старой березой, на которую была закинута антенна. Почему-то, когда долго не ешь, спать хочется, спать… Ларионов прикрыл глаза и тут же вспомнил вкус мороженого в ЦПКиО…
У сержанта Васенина тоже жены не было. И даже девушки, с которой бы поцеловаться, еще не было. Не нашел еще ту, которую целовать хочется. Да все впереди еще!
Он осторожно развязал узелок на руке. Зубами. Второй кисти уже не было. Осталась где-то в демянских болотах. Но сержант Васенин не ушел в санбат. Нету тут санбата. Туда только тяжелораненых, вон Петьку туда уволокли, его крупнокалиберный достал. Прям в пузо. А ведь жив, чертяка, остался! А Васенин, что? Ну, оторвало левую, еще же одна есть! Этак, если все в санбаты бегать будут, кто на рации работать останется?
Забавно как – кожа с обмороженного пальца сползла, как чехольчик. Сволочь эта кожа – цепляется за бинт.
Сержант машинально сунул указательный палец правой руки в рот, пытаясь откусить отмершую кожу. До связи оставалось еще секунд тридцать. И ведь откусил. И даже не больно. Это действительно не больно. Умерла и умерла! Твою мать, а вот теперь больно стало…
Сержант Васенин, разжевывая кусочек своей же кожи со своего же пальца, долбил по ключу указательным мясом:
«КрчкВтут. Прош в ноч на 19–20 брос прдвльстврдинты кадрт 908…»
– Товарищ старший лейтенант, а, товарищ старший лейтенант! – Васенина трясло как цуцика. То ли от холода, то ли от боли в левой руке.
– А? Что? Где? Кто? – вскочил старлей Ларионов, утирая красные с постоянного недосыпа глаза.
– Это семь или единичка? – Культю из-под полушубка сержант Васенин не доставал. Подбородком показал. Обросшим, правда, не по уставу. Палец же «здоровой» руки держал на ключе. Здоровой, ага…
– Семерка. Видишь же – палочка попереком?
– Извините, товарищ старший лейтенант! Не разглядел!
Ларионов махнул рукой и улегся обратно. В снежную яму, служившую ему и постелью и… Господи, да как же ее звали-то? Киевлянку ту? Нина, Ника?
Васенин же закусил губу и… Да что ж так холодно-то? Трясет всего…
«…7 и рзршить вплнять здачу Дбрсл после плученя прдвстлия – глодн, истщен»
Через несколько минут:
«Повторите передачу!»
Васенин зажмурился. Опять зажмурился. Не впервой…
«КурВат… прдв глд рзрш Дбрсл…»
Трясет-то как! Лишь бы точку с тире они там не перепутали!
«Повторите передачу!»
Сосредоточиться… Держи палец над ключом, держи, тварь!
Васенин облизнул кровь с лопнувшей кожи:
«К О О Р Д И Н А Т Ы…»
Вообще-то этот клочок надо было бы сохранить. Так полагается. Для командования, для истории, для потомков… В сейф бригадный, за печатью и подписями. Для истории. А тут «как полагается» нельзя. Тут надо – как сможешь… В баню бы сходить…
«Для истории, для потомков… Но это, потомки… Вы как-нибудь там сами в вашей истории разбирайтесь. Мне бы радиограмму передать…» – Васенин ухмыльнулся, представив себе потомков, обсуждающих его, сержанта-радиста.
«Наверно, при коммунизме будут жить, на планеты летать, этот как его… Марс!»
Ерунда же какая в башку придет! Какие, на фиг, ариели с аэлитами?
Работай, сержант, работай!
Через десять минут радист Васенин передал наконец-то радиограмму. Прямым текстом. Не морзянкой. И наконец-то, получив подтверждение о приеме, поджег бумагу и улегся рядом с лейтенантом. Спиной к нему. И толкнув его локтем, чтобы подвинулся. Тот хмыкнул чего-то. Васенин же бездумно стал смотреть на маленький огонечек, протягивая к нему капающую кровь с указательного пальца. Хорошо, что правой руки, кстати. Вот если бы тогда не левую оторвало. Чего бы тогда сержант Васенин делал бы? Или вон снайпер тогда Мишку. В лоб. Убил. Между бровей. Так же и лежит там, в сугробе. Вернуться бы… Похоронить бы. И сержант Васенин стал вылизывать кусочки кожи, застрявшие между зубов. Жрать хотелось очень.
Этой же ночью «Бостоны» транспортной авиации Северо-Западного фронта сбросили тюки с продовольствием и боеприпасами в темноту демянских болот.
Прямо на позиции немцев…
Еще раз мимо, мимо…
17
– Таким образом, вы, подполковник, утверждаете, что не принимали участие в разработке операции?
– Никак нет, герр обер-лейтенант. Перед атакой бригадами, вернее моей бригадой и остатками бригады Гринёва, деревни Добросли в наше расположение прибыл представитель штаба фронта полковник Латыпов. Формально для проведения инспекции, фактически же он стал руководить соединением.
– Расскажите подробнее о Латыпове.
– А что о нем рассказывать? Полковник и полковник. Смелый, решительный, властный. Оперативник. Вместе с ним прибыли также майоры Решетняк и Степанчиков. Первый – разведчик, второй – авиатор.
– То есть, Николай Ефимович, вас фактически отстранили от командования бригадой? Я правильно понимаю ваши слова? – сказал фон Вальдерзее. – И как вы оцениваете это ммм… положение вещей?
«Все-таки фриц не по-русски фразы строит, не по-русски…»
– А как тут можно оценить? – ответил Тарасов. – Майор Гринёв фактически сорвал всю операцию. Не смог пробиться через Полометь. Батальон его вышел к нам фактически безоружным. Винтовки и автоматы. Да и то не у всех. При этом батальон неизвестно где шатался. Двое суток! За это время гитлеровцы… То есть ваша разведка уже нащупала наш лагерь и стала блокировать его. Еще немного, задержись мы еще на сутки – нам было бы не вырваться из кольца. Так и сдохли бы на болотах. Прибытие представителей штаба фронта расставило все по своим местам. Мы начали действовать, но вы уже были готовы. А ведь сила десантника – в скорости и неожиданности. Действия же соединения стали предсказуемы… К сожалению… Это не учли ни Ватутин, ни Латыпов, ни тем более Гринёв.
– Господин подполковник, а ведь Гринёв не так уж и виноват… – внимательно посмотрел на Тарасова обер-лейтенант.
* * *
За время вынужденного ожидания гринёвской бригады на основной базе саперы выстроили штабной шалаш.
Здоровущий, укрытый сверху парашютным шелком. С легкой руки разведчика Малеева шалаш стали называть шелковым. Так и прижилось. В этом «шелковом шалаше» дневал и ночевал мозговой центр бригады.
После принятия радиограммы из штаба о прибытии полковника Латыпова ждали темноты. Координаторы должны были прыгнуть на парашютах.
И вот уже стремительно темнело. Синее мартовское небо сиреневело, затем чернело, и только красный закат кровавил на западе. «Опять мороз будет, – тоскливо подумал военврач третьего ранга Леонид Живаго. – Опять помороженные будут. Днем все тает, ночью льдом схватывает. Просушиться бы… Да где? В Малом Опуеве только сотню самых тяжелых оставили. А всю ораву только в Демянске можно разместить по домам. А его сначала взять надо. Что там начальство думает?»
Живаго докуривал самокрутку, свернутую из табачной пыли, пополам с прошлогодними листьями. Огонек обжег распухшие пальцы, тогда доктор достал из кармана спички. Взял две палочки и зажал окурочек ими. И снова затянулся.
А из «шелкового шалаша» вылетел с матом кто-то невысокого роста. В сумерках военврач не разглядел, кто это. Но по голосу догадался – комбриг. И Живаго поспешил удалиться – Тарасов был горяч в гневе.
А потому врач не увидел, что за Тарасовым вышел Мачихин.
– На, комиссар, читай!
Тарасов сунул Мачихину клочок бумаги:
«Выполнение задачи вы недопустимо затянули. Будете отвечать лично, Тарасов и Мачихин. 19.03.42 Курочкин».
– Мда… – буркнул гигант Мачихин. – Можно подумать, мы до этого заочно отвечали…
– Ты, Ильич, подумай, а? Сначала этот придурок прорваться не может, затем шляется неизвестно где, мы людей теряем, скоро уже полбригады поморозится, а теперь мы еще и затянули? – Когда Тарасов кипятился, речь его становилась сбивчивой.
– Язык у тебя за головой не поспевает, Ефимыч!
– Расстрелять бы этого Гринёва, к чертовой матери!
Мачихин покачал головой:
– Ох, и кипяток ты, Ефимыч, ох, и кипяток… Теперь понимаю, за что тебя арестовали в тридцать восьмом…
Тарасов прищурился и напрягся.
– За язык твой несдержанный, вот за что. Болтал бы меньше, думал бы больше…
– А ты меня, Ильич, не учи и не лечи! И Родина и партия меня простили. И доверили бригаду, и в тыл к немцам послали. А если бы не простили, разве доверили бы? – зло сказал подполковник.
Мачихин успокаивающе похлопал Тарасова по плечу и загудел басом:
– Ишь, как ты казенно заговорил-то… Родина простила, партия доверила… Теперь нам это прощение и доверие снова заслужить надо!
– Прости, Ильич… Погорячился… – Тарасов быстро отходил от вспышек гнева, случавшихся с ним все чаще и чаще.
Мачихин только хотел предложить Тарасову вернуться в штаб, как в небо над Невьим Мхом взлетели три красные ракеты. А с севера накатывался неспешный гул тяжелых самолетов.
– «Тэбешки»! Никак Латыпов со товарищи прибыли? Не ошиблись координатами, надо же!
Тарасов и Мачихин побежали к аэродрому. Если так можно назвать расчищенную полосу в полторы сотни метров шириной и восемьсот метров длиной. Руками расчищенную, между прочим, помороженными руками саперов, комендачей и всех остальных, кто боевое дежурство не нес. В том числе и легкораненые. Сначала раскидали снег, а затем, накинув веревки на бревна, волокли их по взлетно-посадочной полосе, утрамбовывая снег. Адская работа! Зато сейчас «ушки» садятся легко, и даже особо смелые пилоты на «тэбэшках» умудряются приземляться на пятачок.
Но сегодня пилоты этих трех самолетов не рискнули. Два из них снизились до ста метров, и вниз полетели грузовые контейнеры с привязанными оранжевыми лентами. А третий кружил поодаль. Когда транспортники «отбомбились», третий зашел чуть выше. И над базой бригады раскрылись три парашюта. Хорошо, что ночь была безветренной…
А через час началось совещание комсостава соединения.
– Доложите обстановку, Тарасов! – с места в карьер взял Латыпов.
– На данный момент бригада потеряла пятьсот девять человек обмороженными ранеными. Из них эвакуации требуют двести тридцать семь человек. Убитых и пропавших без вести около трехсот…
– Что значит «около», подполковник? У вас что, учет потерь не ведется?
– Точный подсчет пока невозможен, товарищ полковник! Бригада постоянно ведет боевые действия, и потери несем ежечасно. И больше всего от холода и голода. Пятьсот раненых было на утро. Сейчас я не могу сказать, сколько из них переживет эту ночь и сколько к ним прибавится к утру.
– Значит, вы уже потеряли треть бригады, Тарасов! Бесполезно и бесцельно! Почему не обеспечиваете себя продуктами, как было запланировано штабом фронта? От вас только слезные радиограммы о помощи! У вас тут благородные девицы или советские десантники?
Тарасов опять начал закипать, но смог сдержаться. Лишь зло крикнул:
– Адъютант! Шашлыка принеси. Три порции. Гостям. Они с дороги устали! И чай организуй!
– Ну вот – шашлыком балуетесь, товарищ подполковник! – засмеялся Латыпов, но тут же посерьезнел. – Почему срываете график операции?
– Из-за этого… – кивнул Тарасов на побагровевшего Гринёва. – С ним только в городки играть. Воевать Гринёв не умеет. Бригаду свою проср…
– Выбирай выражения, Тарасов! – вскочил Гринёв и стукнул кулаком по столу.
– А ты лучше мне объясни, где вы шлялись? И почему за твое разгильдяйство должны отвечать мы? – Тарасов тоже вскочил.
Злыми взглядами два комбрига буравили друг друга. Первым отвел взгляд все же Гринёв:
– Я не обязан перед тобой отчитываться!
Тарасов заорал на него:
– А ты перед моими бойцами лучше отчитайся, сволота!
– Что?? – взревел Гринёв и схватился за кобуру.
Назревавшей драке помешал Латыпов:
– Смирно! – рявкнул он, тоже вскочив. – С таким настроением воевать нельзя. Вы погубите и операцию, и бойцов, и друг друга. Приказываю! Прошлое забыть до возвращения домой. Будем разбираться там – кто виноват и что делать. Вольно.
Дождавшись, когда Гринёв и Тарасов сядут, продолжил:
– Эвакуацию я обеспечу, со снабжением вопрос тоже решим. Теперь будем думать над операцией по захвату Доброслей.
– Товарищи командиры, разрешите? – В шалаш вошел адъютант. Перед каждым из гостей поставил крышку от котелка. На каждой крышке лежал прутик с нанизанным мясом, сочным, шипящим – только что с огня.
– Ну вот, а вы говорите… – улыбнулся Латыпов. Взял прутик, поднес ко рту… И тут на его лице возникла гримаса недоумения. А потом, почти мгновенно, он брезгливо поджал нос:
– Что это?
– Шашлык, товарищ полковник.
– Он же, он же…
– Слегка подтухший. Это мясо с павших прошлой осенью лошадей.
И полковник Латыпов, и Решетняк со Степанчиковым положили мясо обратно. И только тут Латыпов увидел, что и Шишкин, и Гриншпун, и Мачихин, не говоря уже об адъютанте и радистах, сидевших в углу тихо, как мыши, стараются не смотреть на воняющий «шашлык десантника». Только непроизвольно сглатывают слюну.
– Чай, пожалуйста, – бесстрастно сказал адъютант, поставив три кружки со странным зеленым напитком, – это сосновый. Есть еще еловый, но этот мягче. Не так смолой отдает. Врачи говорят, от цинги помогает. Так что вы угощайтесь.
Латыпов посмотрел на своих майоров. Кивнул. Те поняли его без слов.
И стали выкладывать из вещмешков богатство – консервы, хлеб, чай, даже круг колбасы.
– Давайте-ка перекусим, товарищи командиры, а потом продолжим. Старший лейтенант! Забери… это! – кивнул полковник на «чай» и «шашлык». Адъютант кивнул.
Через несколько минут стол был накрыт. Жестом фокусника Латыпов достал из своего мешка бутылку коньяка «Двин»:
– Опля! Думаю, не помешает! А только поспособствует… Между прочим, сам комфронта послал!
Совещание шло почти до утра. Утрясали мельчайшие элементы операции. Еще бы… Там, в Доброслях, находился штаб всей окруженной группировки врага. Сам генерал Брокдорф со всей своей поганой свитой! Если операция удастся – паника гитлеровцам обеспечена! И наши войска наконец-то додушат фрицев в Демянском котле!
И, главное, чтобы гарнизон в Малом Опуеве выдержал…
* * *
А в Малом Опуеве гарнизон сержанта Фомичева готовился к очередной атаке фрицев. Пятой. Или шестой?
Фомичев со счета сбился, честно говоря.
Прошло уже четыре дня с того, как десантники выбили немцев из деревни и обустроили тут базу для тяжелораненых.
Бабы разобрали их по домам. Раненые отлеживались в тепле, обмороженные оттаивали с помощью женской ласки – материнской ласки. Пацанам было по восемнадцать-девятнадцать лет, а в деревне жили, в основном, солдатки да матери солдат. Мужиков-то еще летом забрали. А прошлой осенью вся молодежь – ровно по наитию – ушла на восток. Вместе с колхозным стадом.
Вот еще бы кормежка нормальная была бы…
Да где там!
Картошка, свекла да капуста. Вот и весь рацион.
Немцы еще в декабре забрали со дворов всю неэвакуированную живность. Куриц там, коз…
Только Тоньке-агрономше немецкий офицер оставил корову. Мол, больная та корова, сказал. А сам поселился у нее дома.
– Значица, приехали оне. На двух машинах, больших таких. И телеги три. Ходють по дворам, собак стреляют, кошек пинают. А курам башки сворачивают, и в телеги. Коз тоже стреляют, и в кузовы. А мы что, кричим, ругаемся, а они тока ржут в ответ да пинаются. Нюрка как бросится на ахфицера, у нее ж детей пять штуков, солдат ихний – хлоп из ружжа. Нету Нюрки. Детишек-то мы разобрали по хатам. А они собрали мясо и уехали. Вечером вернулися. Ахфицер к Тоньке пошел жить. К солдатке-то… Тьфу!
– Агриппина Матвеевна, дальше-то что? – спросил у старушки сержант Фомичев.
– А што? Она, значитца, корову держит – немцев молочком со смятанкой кормит. Ну и нам продает. Не всем, конешно, а тока тем, кто заплатить могёть. А кто заплатить-то могёт? Вот нам и покупать-то нечем, ак мы в лес ходили, дрова ей делали. Приташшым вязанку – нам-от стаканчик молочка-то, да… Я-то ладно, котейка да я. Муж-то еще девять лет помер, когда голод-то был. А детишек, так и не случилось, не дал господь… Ак я то молочко соседкам, у кого детишки. А Гришка в феврале помер…
– Какой Гришка, тетя Агриппина?
– Да, котейка мой! Залез к Тоньке в хлев, и немец его тамака стрельнул… Он, вишь, в ведро свалился, когда лакал!
– Мать…
– Да ладно, сынок, заведу я еще котейку. А вот детишек-то как бабы заведут, ежели вас на войне поубивают? Охохо… Иди, сынок, чай заботы у тебя военные? Прости старую, каркаю тебе тут под руку…
Агриппина Матвеевна поправила серый платок на голове, повернулась и пошагала, переваливаясь, по своим старушечьим делам.
Сержант Фомичев долго смотрел ей вслед. Потом поглядел, прищурившись, на желтое мартовское солнышко и пошел к позициям.
Хотя весь гарнизон и составлял всего лишь двадцать бойцов, оборону они держали крепко. Спасибо немцам, кстати. На второй день после взятия деревни в одном из сараев Фомичев обнаружил в сарае склад мин. В основном, противопехотных.
Немцы могли атаковать только с одной стороны. С дороги, ведущей к Большому Опуеву. С севера и востока деревню прикрывали поля и леса. С запада – речка Чернорученка и болото Невий Мох. И только с юга вела дорога – узкий зимник. Именно эту дорогу Фомичев и перекрыл противотанковыми, густо пересыпав их противопехотками. И в первую же атаку у немцев подорвался там танк. И запер дорогу напрочь. А по полям танки идти не могли – глубина снежного покрова достигала полутора метров. Зима-то была снежной. Немцы пытались пройти пехотой по полям, но и там Фомичев щедро раскидал мины. Да и атаковать, проваливаясь по пояс в снегу, немцы не умели. Так атаковать никто не умеет. Кроме финнов. Финский лыжный батальон и ударил по десантникам позапрошлой ночью. И только трофейный «МГ» с чердака вовремя ударил по цепи летящих по целине финнов. Ночи-то морозные, лунные… Так цепью и лежат, сволочи.
После чего немцы подозрительно притихли.
Даже авиация не долбит! Впрочем, это понятно. Аэродром-то наши еще в первые дни накрыли.
– Живы, бойцы? – Фомичев спрыгнул в траншею.
– А фиг ли нам, сержант! Еще б табачку с водочкой, можно тут и до Победы прожить!
– Победу нам самим надо сделать, боец… – буркнул Фомичев. – Как тут у вас?
– Тишина, сержант! Солнце греет, птички поют. Весна скоро! Что из штаба, какие вести?
– Никаких пока. А вы тут не расслабляйтесь. Немец, он хитрозадый. Каверзу точно думает. Ежели что… Я в штабе.
Штабом десантники Фомичева называли единственный в деревне полукаменный дом – низ кирпичный в три слоя, верх деревянный в два бревна. Даже минометчики немецкие не могли разбить его стены. И узкие окна первого этажа надежно предохраняли от осколков. Богатей, видать, строил еще до Октября.
Здесь же и жила давеча Тонька со своим «велетинаром»… Сучье вымя…
Коля Фомичев плотно закрыл дверь. В лицо пахнуло сладким теплом и запахом сушеной свеклы. Как дома. Мамка из морквы и свеклы «камфеты» делала, нарезала долечками и сушила на печке. Сладкиеее…
В подвале десантники нашли мешок свеклы. Сначала так по паре сожрали, потом обо… обделались красно-жидким в сортире. Пришлось делать паренки. Это когда свеклу или ту же морковку, или даже репу нарезаешь мелкими кусочками, паришь в чугунке, а потом высушиваешь на печке – вкуснейшая вещь! Камфеты, да… Как ириски, которые сержант Фомичев пробовал только раз. В самом Кирове, на вокзале.
А в избе на этот запах не обращали внимания. Бойцы яростно спорили о чем-то.
– А я не женился! Она хотела! Мать хотела! И ее мать хотела! А я не женился! Понял?
– Ну и дурак!
– Дурак, дурак, да? А вот ты мне скажи, женился бы я, а утром в военкомат!
– Ну…
– Жопу гну! Я в деревне последний парень остался. Только малолетки. Да пацаны постарше домой стали вертаться. Вона мать писала – в феврале Митька вернулся. Сосед. Гармонист первостатейный был. А безрукий сейчас. По плечи вырвано все.
– Ну…
– Не нукай! Не запряг! Рук нет, а мужицкий корень на месте! Бабы-то терпеть не умеют. Женился бы я, распечатал бы… А она к Митьке-безрукому. Ладно-то или как?
– Не ладно. А с чего взял, что она к Митьке-то побежит? Он ж ее даже прижать не сможет.
– Бабы – они такие. Прижать не первое дело. Сила мужицкая в другом месте! – Высокий парень у окна нервно колотил по стене крепко сжатым кулаком. – Вот выберусь отсюда – первым делом в банно-прачечный отряд пойду.
– Корнем трясти? – хохотнул кто-то в темноте далекого угла.
– Дура ты! Дура! Я девку голой только на пруду из кустов выглядывал!
– Сам ты дура, Фофанов. Мог бы и не только поглядеть, а и полапать как следует! Женился бы, и хорошо.
– Ну уж нет! Вернусь – первым делом под подол ей полезу. Проверять. Целая она или нет.
– А ну не целая, тогда как?
– Убью, – сказал Фофанов. Спокойно так сказал. – Ее убью, хахаля убью и председателя убью.
– А председателя-то за что? – удивился голос.
– А что не доглядел…
– Эх… Да разве тут доглядишь… – вздохнул кто-то еще. – Как там в песне-то… «И у детской кровати тайком сульфазин принимаешь…»
– Слышь, Колупаев, я ведь и тебя сейчас прирежу… – Фофанов стал медленно приподниматься.
– Стоять! – Фомичев рявкнул, перекрыв назревающую драку. – Обалдели, что ли? Немец вот-вот атакует, а они тут из-за баб несуществующих решили зубы друг другу посчитать!
– Извини, Фомичев! Тут чего-то Фофанова на воспоминания понесло.
– А ты, зубоскал, и готов поиздеваться, да?
Сержант Паша Колупаев встал из своего угла, тяжело вздохнув:
– Серег, извини, не со зла я!
Фофанов молча кивнул. Потом пожал протянутую руку Колупаева.
– Новости есть?
– Есть, Паш… Выйдем?
Фомичев и Колупаев вышли на воздух. Солнышко яростно наверстывало упущенное зимой, стуча капелью по уцелевшим наличникам.
– Донесение из штаба бригады, Паш. Уходим.
– Куда?
– Обратно на базу. Аэродром готов, эвакуация раненых начинается. Слава богу, отлежались тут в тепле, подкормились немного…
– Картохой вареной…
– В лесу и картохи-то нет.
– Тоже верно. Прислали кого?
– Нет. Сами будем вытаскивать до базы.
– Звездец… Нас тут двадцать здоровых и сотня раненых! По пятерых на брата! Тарасов чем там думает-то?
Колупаев аж схватился за голову, обдумывая, как лучше эвакуировать раненых.
Фомичев вздохнул:
– Паш… Часть раненых своим ходом доберутся. Тут всего пять километров. На полпути встретят, помогут, дотащат ослабевших.
– А если…
– А если немцы… На этот счет надо прикрытие оставить. Человек пять. С пулеметом и «ПТР».
– Понятно…
Потом сержант Колупаев посмотрел в глаза сержанту Фомичеву и…
– Да, понял, Коль, понял. Я останусь.
– Паш… Я бы, но приказ-то мне…
– Нормально все будет, Коль… До темноты выждем и к вам рванем! По рукам?
Они пожали руки и разошлись – каждый по своим делам.
А еще через два часа прощались снова.
– Догоняй!
Фомичев надел веревку от самодельных волокуш на грудь и сделал шаг вперед. На волокушах лежал так и не пришедший в сознание со дня атаки на Опуево какой-то неизвестный Колупаеву боец.
Колонна раненых двинулась в лес. Каждый из здоровых тащил такую же, как сержант Фомичев, волокушу. Рядом с каждым шли, пошатываясь, те, кто мог ходить. Шли на запад. Русские солдаты привыкли ходить на запад. Хоть и темна вода в облаках, но и в эту войну – так они надеялись – дойдут до запада. Никто из них не помнил – как родился, никто не знает – как умрет. А женщины смотрели на их бритые когда-то затылки. Забинтованные, грязные, обросшие затылки. Никто из бойцов не оглядывался. Они отступали на запад.
А какая-то бабушка крестила и кланялась каждому из колонны:
– Святый боже…
Голова забинтована, глаз нет. Но идет сам, держась за плечо товарища. И несет винтовку.
– Святый крепкий…
У этого оторвана рука по локоть. Лицо бледное-бледное. Идет. Оглядывается. За ремнем граната.
– Святый бессмертный…
Лежит на волокуше. Смотрит в небо. Глаза пустые-пустые. Голубые-голубые. Открытые. К небу закрытыми глазами не подняться. А пальцы живые. Почерневшие. Обугленные морозом. Стучат, стучат что-то морзянкой по саням.
Старушка хватает проходящих мимо. Сует вареную картошку в мундире. Десантники – кто может – кивком благодарят ее…
И никто не спросит, как зовут бабушку. Сил нет. Безымянные бабушки войны…
– Опять мужикам кровушку проливать… – шептали бабы вослед.
Колупаев сплюнул три раза через плечо, глядя на уходящую колонну:
– По местам! Трапезников, Коврига – на левый фланг. Противотанковое возьмите. Васильев, Паньков – на правый. Ждем до темноты плюс час. Потом уходим за колонной.
– Лады, командир! А ты где будешь?
– На чердаке за пулеметом. Если немцы атакуют – Васильев!
– Я!
– Бьешь из противотанкового по бронетехнике. Только когда втянутся на поворот, понял?
– Не дурак, Паш… Понял.
– Я пехоту отсекаю. Да продержимся, парни! Не пройдет тут немец!
Колупаев еще раз бросил взгляд назад. Колонна уходила в лес. Медленно уходила. Изо всех сил уходила.
– По местам, ребята…
Звонкая такая тишина… Как будто война где-то там, далеко… За лесным полумраком…
Первый разрыв случился, когда он только-только вошел в бывший их штаб. Сержант рванул на второй этаж. Еще взрыв! Осколки застучали по стенам.
Колупаев упал на пол и пополз к пулемету. Где-то хлопнул миномет, застучали автоматы.
Он осторожно выглянул в узкое окно.
Немцы на этот раз поступили…
На дороге стоял танк и время от времени хлопал по деревне фугасными. Лениво так хлопал. Не спеша.
А в атаку шла пехота. Тоже не спеша. Лениво так. Еще и ржут, сволочи… Видно, как ржут. А перед немцами идут бабы. И дети. Некоторые на руках. Кричат, визжат… Гады! Глаза бы закрыть, нельзя, нельзя.
Колупаев закусил губу. Пацаны молодцы – ждут, не высоваются, терпят. Небо-то как высоко… Рукой не достать… Смотри! Смотри!!
Толпа прошла по воронкам, оставшимся после предыдущих атак. Сейчас ступят на мины… Немцы остановились. Ждут, суки, ждут… Сейчас… Вот уже можно над головами по каскам очередь дать, чуть позже… Чуть…
– Аааааааа!!!! – закричал кто-то в траншеях и бросился вперед с автоматом наперевес. И тут же упал, сбитый метким выстрелом. Махнул рукой, как птица…. Ага… В белых маскхалатах, за дорогой, лежат еще фрицы. Хитрые, сволочи! По месту, откуда выскочил то ли Ванька Паньков, то ли Сашка Васильев, ударил еще одним фугасом танк.
Бабы и дети завизжали и попадали на землю.
Паша не вытерпел и вдарил очередью над толпой в самую гущу фрицев. На, ссуки, на! Как тараканы побежали в разные стороны!
Танк стал разворачивать башню, целясь по дому.
– Трапезников, давай, давай же!
Хлопнуло «ПТР». Пашка увидел, как высекла пуля сноп искр по броне. Смазал, чертяка! Давай еще раз!
Танк дернул чуть назад, пернув синим бензиновым выхлопом.
Колупаев бил короткими очередями по залегшим фрицам, стараясь не задеть визжащую кучу баб. Самые умные из немцев подползали к этой толпе, поняв, что русский пулеметчик бережет своих.
Вдруг, словно какой-то шуткой, Паша Колупаев вспомнил фильм, который показывали им перед самым выходом на задание. «Александр Невский». Там немцы тоже детей в огонь кидали. Песня там была правильная… Как это… Вставайте, люди русские, на эээ… славный бой, на смертный бой, вставайте, люди русские, парам-пам-пам… Как там дальше?
– Давай, Серега! Давай!
Серега Трапезников не успел попасть. Сделал еще выстрел, но пуля опять цвиркнула по квадратной башне немецкого танка. Тот ответил новым выстрелом. Чуть промазал, но… Длинный ствол противотанкового ружья изогнуто упал в нескольких метрах от траншеи.
– Ну, фашисты… – Паша метнулся за стенку – раз-два – смена ствола! Потом метнулся к дальнему окну – ушли наши, ушли! И глупо, очень глупо дал очередь по танку. Надеясь попасть по щелям, что ли?
Заскрипела башня. Немец чуть дернул вверх ствол танковой пушки, потом право-влево…
Бабушка в детстве так крестила перед сном.
А потом упала ночь на глаза.
Закончилась она, когда Пашка открыл глаза. Над ним стоял немецкий офицер и зло улыбался, вытирая кровь, текущую с рассеченного лба.
Вставайте, люди русские?
И Паша попытался встать…
18
– Значит, и в разработке, и в самой операции вы участия не принимали, так, герр подполковник?
– Так, господин обер-лейтенант. Не принимал.
– А руководил операцией…
– Майор Гринёв и полковник Латыпов, господин обер-лейтенант.
Фон Вальдерзее был удивлен. Даже более того… Потрясен!
– В вермахте такое невозможно, герр Тарасов. Снимать командира подразделения во время операции, это… Это, как минимум, безответственно! А чем вы занимались все это время?
– Пил. Можете так и записать в протоколе: «Был в запое».
– Вы не шутите, Николай Ефимович?
– Да какие шутки, господин обер-лейтенант. Фактически я был арестован. Сидел в отдельной землянке, под охраной четырех особистов и глушил водку.
– Вы, русские, любите этот напиток, я знаю! Кстати, не хотите коньяка? Французского! Такой вы вряд ли пили в России.
– С удовольствием, господин обер-лейтенант!
Фон Вальдерзее встал из-за стола и подошел к двери, рявкнув по-офицерски:
– Коньяк. И закуску!
Через минуту появился солдат с подносом, на котором стояла пузатая бутылка коньяка, нарезанный лимон, солонка и сахарница, и тонко порезанная ветчина с черным хлебом. Поджаренным, между прочим! А ведь немец ждал этого момента, психолог, мать его прусскую…
Фон Вальдерзее плеснул коньяка в бокалы. «Интересно, где он в этой деревне бокалы взял? С собой, что ли, таскает?» – подумал Тарасов.
– Прозит, Николай Ефимович!
– Будем здоровы, господин обер-лейтенант.
– Вы можете называть меня просто Юрген. Прозит!
После ареста Тарасов не пил вообще. До самой войны. И только здесь, в демянских снегах, вечерами иногда выпивал водки. Грамм пятьдесят. Перед сном в снегу. А коньяк он вообще терпеть не мог. Но сейчас выпил и поморщился. «Что «Двин», что «Курвуазье» этот хваленый… Однофигственно клопами воняют…»
От лимона Тарасов отказался, а вот ветчиной закусил. Не удержался. Съел аж два куска.
– Николай Ефимович, – фон Вальдерзее с удовольствием закусил посоленной долькой лимона. Даже раскраснелся… – Вернемся к Доброслям… Командование соединением было в курсе, что десантников там ждали?
– Конечно, нет, Юрген. Но я понимал, что атака будет не такой легкой, как ее рисовал Гринёв. К сожалению, я был прав.
– К сожалению? – приподнял брови немец.
– Для меня – да!
* * *
Чувство тревоги не оставляло Мачихина. Вроде все шло по плану – батальоны четырьмя колоннами обходили Добросли – с запада и юго-запада идут первый и второй батальоны. Третий и гринёвцы – с востока. Четвертый прикрывает тыл атакующих. Почти две тысячи десантников скользили по снегу в самое сердце котла.
Но смутная тревога грызла и грызла комиссара. Ссора между Гринёвым и Тарасовым ни к чему хорошему привести не могла. А как примирить их, Мачихин так и не придумал. Впрочем, если операция удастся, все обиды останутся в прошлом.
Должна удастся. Должна! Непременно! Бойцы уже набрались боевого опыта. С продуктами, правда, беда. В лучшем случае две трети нормы получают. Ничего – возьмем Добросли…
Жаль, погода ненастная. Поддержки с воздуха не будет. Как Латыпов и Степанчиков ни просили, штаб фронта ответил, что тучи разгонять не умеют. А вот фрицы летают… Над самыми деревьями транспортники туда-сюда сновали вчера весь день.
Еще один момент серьезно напрягал и Мачихина, и Шишкина, и Тарасова.
Разведгруппа вчера наткнулась на финских лыжников. Опытные звери. Хорошо, без потерь отошли. Один легкораненый не в счет. Но к Доброслям подойти не удалось. Это плохо. Плохо и то, что немцы могут предпринять меры предосторожности. А может, это был просто случайный дозор? Прав Тарасов, ох прав – сила десантника в скорости.
– Товарищ комиссар, слышите? – внезапно остановился Малеев. – Стреляют! И густо стреляют!
– Черт… – выругался Мачихин. – Был же приказ в бой до начала атаки не вступать! До Доброслей еще пять километров! Что там произошло?
Стрельба разгоралась все сильнее и сильнее, она слышалась уже и с других направлений.
Комиссар побежал вперед, ругая себя за то, что не придал вчера значения донесению разведчиков.
– Кукушки! По кукушкам, твою мать, бейте! – Мачихин узнал в суматохе ночного боя голос комбата-два – Ивана Тимошенко.
Автоматная очередь вспорола снег, комиссар рухнул плашмя, выворачивая ступни в лыжных креплениях. Потом пополз дальше.
– Комбат, комбат, Тимошенко! – заорал он дьяконским басом, перекрывая грохот боя. – Какого тут у вас!
– Немцы! Практически кругом. Кукушки на деревьях сидят, головы поднять не дают.
– Может быть, дозоры, комбат? – предположил комиссар, понимая уже, что это не так. Ответом ему были хлопки минометов.
Немцы готовились встречать десантников. «Измена?» – мелькнула мысль. Но комиссар тут же отбросил ее, как нелепую. И пополз обратно, к Тарасову. Пятясь как рак и оглядывая плюющийся огнем и смертью черный лес. Некоторые мины взрывались вверху, задевая толстые ветви, и тем страшнее они были для десантников, залегших в снегу. А некоторые шлепались в сугробы и только шипели паром. Одна такая упала рядом с Мачихиным, обдав лицо снежной пылью. Он замер на несколько мгновений, крепко зажмурившись. А потом снова пополз в тыл. Выбравшись из зоны обстрела, встал и побежал что было сил.
До Тарасова, сидевшего у радиостанции, добрался минут через пятнадцать.
– Ефимыч, что происходит? Второй батальон в засаду попал! Как у других?
– То же самое, первый в огневом мешке застрял на Явони, третий напоролся на линию окопов вдоль дороги. А сволочь эта опять пропал! – резко бросил Тарасов.
– Какая сволочь? – сначала не понял Мачихин. – Гринёв?
– Ползет где-то как черепаха. С Большого Опуева немец тоже ударил. Считай, что в окружение попали.
– Спокойно, подполковник… Разберемся, – подошел Латыпов. – Гринёв посыльного прислал, докладывает, что напоролся на танки.
– А по рации сообщить – не судьба? – зло сказал Тарасов.
– Говорит, батареи сели.
– Мозги у него сели!
– Запрашивай фронт, подполковник! Без авиации ляжем тут. А с Гринёвым позже разберемся!
И в штаб фронта полетела очередная шифрограмма: «Курочкину, Ватутину. Прошу прикрыть авиацией в течение двадцать второго марта район Добросли. Бой затягивается на день. Латыпов. Тарасов».
Мимо потянулись первые раненые. Одни шли сами, других тащили на волокушах.
Вдруг двое десантников, тащивших раненого, увидев командиров, резко взяли в сторону, словно стремясь скрыться в лесу.
Тарасов побагровел от гнева и бросился за дезертирами. За ним побежал и Мачихин.
– А ну стой, стой, кому говорю!
Те прибавили шаг, тогда комбриг выхватил пистолет и выстрелил в воздух.
Десантники остановились, и один из них сказал, дрожа голосом:
– Товарищ подполковник, не подходите, прошу, не подходите…
– Ах, ты! – Тарасов вскинул пистолет, но Мачихин ударил его по руке. А потом кивнул на волокуши.
На них лежал бледный парень, так закусивший губу, что по щеке сползала струйка крови. А из правого бедра торчал хвостовик немецкой мины «пятидесятки».
– Чего бежали-то? – не понял Тарасов.
– Товарищ подполковник, не разорвалась она… Вы уж отойдите, от греха подальше.
И, не дожидаясь приказа, осторожно потащили волокуши в сторону госпиталя.
Тарасов и Мачихин долго смотрели им вслед. Молчали. Только комиссар покачал головой. Захотел что-то сказать, но передумал. Потом синхронно они развернулись и пошли обратно.
Думать. И решать, что делать. Прорываться дальше сквозь заслоны или отходить на базу?
Латыпов же сообщил, что фронт не отвечает, что батальон Жука упрямо прогрызает дорогу вперед и вот-вот пробьется на окраины Доброслей, второй батальон залег в лесу, а третий никак не может дорогу перескочить. Гринёв на связь не выходит. Четвертый продолжает сдерживать атаку немцев от Большого Опуева.
Одного мощного удара не получилось. Операция распалась на несколько отдельных боев, никак не связанных друг с другом. Боев жестоких и кровопролитных…
* * *
Четыре переводчицы сидели у костра, дожидаясь, когда закипит вода в котелке. Хотелось спать, но сон не приходил. Бригада ушла на юг, «Добросли воевать!» – как выразился муж Наташи Довгаль – лейтенант Митя Олешко. А комендантский взвод и переводчиц оставили у бригадного госпиталя. Хотя они и рвались в бой, но комиссар бригады приказал им остаться. Пленных, мол, и потом можно допросить, а ненужный риск ни к чему. «Глазки и ушки вы наши!»
Приятно, конечно, но обидно!
Больше всех волновалась Наташа. Быть замужем – это значит волноваться за двоих, а может и за…
– Наташ, а Наташ! Расскажи, как там…
– Где? – не поняла она, задумавшись.
– Ну… Ну, замужем!
Наташа тихонечко улыбнулась.
– Наташ, не томи! – Глаза Любы Манькиной горели извечным женским любопытством.
– Ласково, Люб, нежно и ласково!
Ветки в костре уютно потрескивали.
– А как вы… Ну это…
– Любопытной Варваре нос оторвали! Замуж выйдешь – узнаешь! Заварку лучше доставай. Чаю пошвыркаем, – отмахнулась от любопытной подружки Наташа.
Манькина запустила руку в вещмешок, пошуршала там и вытащила кисет, в котором, в отличие от мужиков-курильщиков, хранила чай.
– А говорят, первый раз больно, да?
– Люб, отстань от Наташки! – сказала Вера Смешнова, переводчица из третьего батальона. – Ну чего докопалась? Мужик у нее под пули ушел, а ты?
– А я чего, – сыпанула Любка заварки в кипяток. – Наташка вон счастливая какая ходит. А я, поди, мужика и не узнаю никогда. Вон их сколь поубивало уже. Я и влюбляться-то боюсь. Ну, как убьют!
– Когда любишь – самой умирать не страшно. За любимого страшно, Люб! Вот я тут сижу, а он, может быть, уже раненый где-то лежит…
– Тьфу, тьфу! Ты что говоришь-то, Наташ! Накликаешь же! – Манькина постучала по полену. – Нельзя так говорить!
– Ты, Люб, комсомолка, а чего тогда суеверная такая? – сказала Вера.
А Наташа только вздохнула:
– У меня сахар есть, держите, девчата! – протянула она заветный мешочек.
Вдруг молчавшая до этого Зина Лаптева привстала:
– Слышите? Кажется, бой начался!
И впрямь с юга донеслись звуки стрельбы, а потом и разрывов. Грозный грохот войны. И сон пропал совсем. Слишком уж тревожно стучали сердца в такт зловещей музыке далекого боя.
– Что-то рано начали… И слышно хорошо. Близко совсем…
Девушки замолчали, вслушиваясь в канонаду.
– А у меня парень еще летом пропал без вести, в сентябре извещение пришло, – сказала Вера. – Вот я и пошла добровольцем, в тыл просилась к немцам. В разведшколу. Думала, вдруг найду его в плену…
– Ну, вот ты и в тылу немецком…
Вера только вздохнула в ответ. Потом допила чай и сказала:
– Девочки, я в туалет. Кто со мной?
Холод, постоянный холод. Днем и ночью. В результате, как ни спасайся, цистит. Это в лучшем случае, если чего другое, женское, не отморозишь. Достаточно кружки чая выпить – и все, уже прижимает внизу живота. И жжет. А бежать некуда – кругом мужики. И какими шалями ни обматывай живот и поясницу…
– Я с тобой, – сказала Наташа. – Девчат, подождете?
Отошли подальше от лагеря.
– Давай подержу, – Вера взяла Наташкин «ППШ». Неудобно с автоматом в кустиках присаживаться в сугроб. Да еще снимать полушубок, расстегивать комбез, вытаскивать из вещмешка вату…
– Вер, я все. Давай покараулю.
Наташка отошла чуть в сторону, по натоптанной уже девчонками тропинке. Это ее и спасло.
– Хальт! – с разлапистых елей слетел снег, обсыпав вышедших из-за деревьев немцев. В белых маскхалатах, белых касках, с оружием, обмотанным бинтами.
– Верка, немцы! Скорей! Скорей, Верка! – завизжала от испуга Наташка и выпалила очередью одного из автоматов. Конечно, не попала. Держа две тяжеленных железяки, с одной руки редкий мужик бы попал. Пули ушли куда-то вверх. Но немцы попадали, заорав, и открыли пальбу.
Пули свистели и шипели, взбивая снежные фонтанчики. Наташка упала тоже, ткнувшись лицом в сугроб. Потом приподнялась на локтях и дала короткую очередь. Еще одну…
– Верка! Верка!
– Наташка, беги!! Аааа!! – И крик внезапно оборвался. Довгаль встала на колено и от отчаяния выпустила сначала один диск, а потом другой в сторону фашистов, а потом побежала к лагерю. За подмогой.
Она так и не узнала, что случилось с Верой. Потому что этот немецкий взвод был не один. Лагерь раненых атаковали с трех сторон, воспользовавшись тем, что бригада вся ушла на юг.
Немцы знали об операции, как позже сделали вывод старшие командиры. Знали время, знали маршруты, знали силы. Но это будет позже, а сейчас раненые, врачи, фельдшера и комендантский взвод отбивали атаку немецких егерей.
Раненные в руки – стреляли с одной руки.
Раненные в ноги – привалившись к деревьям.
И ведь отбились! Немцы не рассчитывали на такое сопротивление. Рассчитывали, что можно накрыть тыловую базу, пока сама бригада погибает в огневых мешках у Доброслей. Рассчитывали, но…
Но разве может немецкий ум просчитать русский характер? Разве можно учитывать при планировании операции, что ослепший от осколочного ранения в голову сержант Кокорин будет кидать гранаты на слух? Что ходячие раненые могут встать и пойти в штыковую контратаку? А неходячие – с ампутированными ступнями – поползут за ними вслед…
И егеря побежали. Слишком это страшно видеть, как на тебя бежит – бежит? ковыляет, шатаясь! – русский десантник, обнаженный по пояс, со свежеокровавленными бинтами на груди, а по подбородку стекает красная струйка из разорванного пулей рта. И блестит тесак винтовки, ходящей ходуном в ослабевших руках. Это страшно. Правда страшно. Кажется, что прав был великий Фридрих – убей, а потом толкни. Иначе русский не упадет.
И немцы отступили.
И только после этого техник-интендант третьего ранга Наталья Довгаль бросилась туда, где осталась Вера.
Но там ее не было. Снег на поляне был истоптан, кое-где рябиной краснели капли крови.
– В плен попала… – сказал кто-то за спиной.
И напрасно Наташка кричала на бойцов, плакала, рыдала, уговаривала…
Без приказа Тарасова комендантский взвод не мог оставить базу. А комбриг вернулся только к вечеру. Усталый и подавленный. Как и вся бригада. Равнодушно выслушал Наталью и…
– Вернитесь в расположение своего батальона.
А потом отвернулся.
Наташка полночи проревела, уткнувшись в плечо Димке. Она не знала, что было еще не поздно… И это хорошо, что не знала…
…Вера не успела даже натянуть ватные штаны, когда прямо перед ней выскочил немец и сразу прицелился ей в лицо. Но опустил ствол и заржал во всю пасть, обнажив желтые, прокуренные зубы:
– Дитрих! Тут баба русская ссыт!
– Хватай ее!
А потом началась пальба.
– Наташка, беги! – завизжала она, но тут же была сбита ударом кулака в лицо и потеряла сознание.
А пришла в себя на полу в какой-то избе. От пинка под ребра:
– Приехали, большевистская шлюха! – Над ней, склонившись, стоял тот самый немец с лошадиными зубами. – Не люблю трахать бесчувственных девок. Надеюсь, ты горячая кобылка? Не разочаруешь нас?
Ответом ему был гогот других солдат.
Немец подхватил ее и поставил, привалил к стене. А потом достал нож.
– Юрген, не режь ее! Я мертвых баб не люблю! – крикнул кто-то из немцев.
– Заткнись, Дитрих! Я знаю, что делаю!
А потом стал срезать с нее одежду. Она дернулась было, но получила крепкую пощечину.
Она закрыла глаза, тихо сходя с ума от неизбежного кошмара…
– Как капуста! Смотри, сколько одежды! – засмеялся кто-то.
– Вот черт! Она вшивая! – отшатнулся сдиравший с нее белье немец.
– А мы ее помоем, Юрген!
С девчонки стащили остатки белья и потащили ее на улицу. Голую. Прикрывавшую себя только руками. Почему-то ей не плакалось и было тепло. Как тогда, в прошлом мае, когда она целовалась с Юркой под только расцветшей сиренью, мама тогда ругалась до полночи, а она ведь только целовалась и ни-ни…
Ведро ледяной воды обожгло нежную девичью кожу. Потом еще одно. И еще. Со всех сторон. Но она все равно не плакала. Глаза ее смерзлись, как и сердце.
– …Юр, ты меня правда любишь?
– Правда! Вот сдам экзамены, пойдем к председателю – пусть расписывает!
– Может, подождем до октября? Урожай соберем…
– Быстрее хочу…
– Торопыга ты мой…
– …Мой ее тщательнее, Юрген! Я не хочу от нее тиф подхватить!
Окатив еще одним ведром ледяной, только что из колодца, воды, немец удовлетворенно сказал:
– Ну вот, теперь она арийские тела не осквернит! Замерзла? Холодно? – пнул он ее по ноге.
Вера не ответила. Только упала на колени от удара.
– Какая торопливая! Потерпи! – Немец схватил ее за волосы и потащил за собой в избу. Она больно ударилась лицом о дверной косяк. Но чувствовала не боль…
…Боли не было. Было так сладко, так счастливо, что… что слезы текли сами собой. Юрка, сильно испугавшись, утешал ее, гладил по мокрым щекам, целовал, шептал всякие глупости. Самая нежная ночь в году, самая короткая. Самая сумасшедшая. Русские женщины – самые целомудренные в мире. Слишком короткие ночи летом. Слишком холодные – зимой. Но только не сегодня, только не сегодня.
– Хороший мой, иди ко мне…
– Иди сюда, шлюха! – Немец нагнул ее, навалив голой грудью на стол, залязгав пряжками за спиной. Потом навалился телом, прижав к клеенчатой скатерти. Она услышала табачное, зловонное дыхание, открыла глаза и… Увидела брошенный кем-то тесак, с налипшими на него кусочками тушенки. Свиной? Говяжьей? Она схватила этот тесак и молча ударила себя в низ живота, пробив самую нежную свою плоть. Тесак пробил ее и воткнулся в самое вонючее немецкое место.
Убивали ее долго. Сначала просто пинали, потом вытащили на мороз, отрезали тем же тесаком груди, завернули руки за спину и так подвесили. Потом…
А она улыбалась беззубым ртом.
Она вернулась в ту ночь – с двадцать второго на двадцать третье июня. Мама утром не ругалась, когда Вера провожала Юрку на фронт. Мама плакала. Как плакала и в октябре, когда Вера ушла добровольцем. Говорила, что у войны не женское лицо.
Мама была права.
У войны не женское лицо. У нее вообще нет лица.
У войны страшная, кровавая, жестокая харя.
19
– Конечно, мы знали, Николай Ефимович! Ваши частоты нам были известны. Шифры тоже мы читали легко. Увы для вас, к счастью для нас!
– Это да, для вас к счастью… – ответил Тарасов.
– Что же произошло дальше, господин подполковник?
– Во время операции под Доброслями майор Гринёв был легко ранен. После чего был эвакуирован в тыл.
– Вы видели его?
– Нет. Об этом на совещании Латыпову и мне доложил комиссар двести четвертой Никитин. Сам же Гринёв так и не появился.
– Кстати, как вы, господин подполковник, относитесь к институту комиссаров?
– Отрицательно. В армии в основу должен быть положен принцип единоначалия. Если приказ командира может кто-то отменить – это не армия. Это балаган. Хорошо, если у командира с комиссаром взаимопонимание. Но… Этого сложно добиться, понимаете, Юрген?
– Конечно, лично я вижу в институте комиссаров элемент контроля коммунистами над армией, – фон Вальдерзее флегматично жевал бутерброд с ветчиной. – Насколько я понимаю, Сталин так и не доверяет Красной Армии после процессов тридцатых?
– Это вы, герр обер-лейтенант, у Сталина и спросите…
– Еще спросим, господин подполковник, еще спросим…
Тарасов едва сдержал ухмылку:
– Юрген, но вермахт тоже находится под контролем НСДАП? Не так ли?
– Нет. Не так. Конечно, у нас есть политические руководители – они следят за поддержанием национал-социалистического духа, но моей работой из политиков никто не руководит.
– Юрген, вы уверены?
Фон Вальдерзее аж поперхнулся ветчиной:
– Интересно, кто из нас допрашиваемый? Итак, почему ваш военный совет принял решение уйти под Игожево?
Тарасов вздохнул…
* * *
Раздавленные неудачей в главном бою всех операций, десантники разбредались по своим шалашам. А в штабе шел горячий спор. Что делать дальше?
Немцы уже обнаружили расположение лагеря – сегодняшняя атака полевого госпиталя подтвердила это. Понятно, что это была разведка боем. Но отсюда следует, что промедление подобно смерти. Необходимо сниматься и уходить. Но куда уходить, имея на руках двести раненых, из которых половина – тяжело? Тащить на себе? КУДА??
– Гринёв! Тварь! Ты где был, где был? – Тарасов вскочил с березовой чурки, заменявшей стул, когда комбриг-двести четыре вошел в штабной шалаш.
– Подполковник, успокойтесь! – крикнул на него Латыпов.
А Гринёв побледнел и схватился за раненое плечо. Несколько картинно, правда, как показалось Мачихину. Гринёва поддержал его комиссар – Никитин.
– Вы слова подбирайте, Тарасов, – почти крикнул Никитин. – Видите, Георгий Захарович ранен!
Гринёв, поморщившись, сел за дощатый стол. Потом он погладил себя по плечу и бесцветным голосом начал:
– Бригада попала на замаскированные огневые точки – вкопанные танки. И кинжальный фланговый огонь крупнокалиберных пулеметов…
– Положить десантников зазря? Увольте! – рявкнул на Тарасова Никитин.
– Была бы моя воля – уволил бы в расход, товарищ полковой комиссар! Доклады тут не надо докладывать. Надо приказы выполнять!
– Спокойно, подполковник. Все же двести четвертая имеет боевой опыт – и Болград с Кагулом в Молдавии, и бои с белофиннами в составе Пятнадцатой армии, – остановил Тарасова Латыпов.
– А эти тут при чем? – презрительно кивнул в сторону Гринёва и Никитина Тарасов. – Они что, были там?
– Ефимыч, спокойнее… – шепнул ему Мачихин.
А дневальный подбросил еще одну охапочку дров в печку-чугунку. Она защелкала, затрещала, и чайник снова забурлил кипятком.
– Еще раз говорю! – встал Латыпов. – Полеты будем разбирать дома. Давайте решать. Что? Делать? Дальше?
Полковник раздельно, почти по слогам, произнес последние слова:
– Шишкин, доложите обстановку.
– Южный берег реки Явонь немцами сильно укреплен. Дзоты. Закопаны танки. Окопы в полный профиль. Вдоль берега дорога Демянск – Старая Русса. По дороге курсируют бронетранспортеры. В лесистых участках – дозоры по пять-семь солдат. Саму дорогу постоянно чистят мирные жители из Демянска, Доброслей, Игожево и других населенных пунктов. Разведка обнаружила, что в Игожеве расположен штаб восемьдесят девятого полка и семьсот седьмого штрафного батальона. И какой-то генерал…
– Это когда Малеев там генерала обнаружил? – удивился Латыпов.
– Позавчера еще, товарищ полковник! – ответил майор Шишкин. – Лежали в засаде, наблюдали, как старик в штанах с лампасами зарядку делал. Взяли ефрейтора из дозора, но тот помер случайно, прежде чем о генерале рассказал.
– Случайно? – засмеялись командиры.
– Перестарались, – буркнул начштаба. – Виновные наказаны.
– Как? – спросил Латыпов.
– Трое суток гауптической вахты с отсрочкой приговора до окончания операции, – продолжил Шишкин. – В Демянске же, как минимум, два батальона пехоты, плюс полк СС дивизии «Мертвая голова», плюс шесть батарей ПВО у аэродрома… Считаю целесообразным выступать на Игожево.
«Если идем под Игожево – это шанс Гринёву отвертеться от ответственности…» – подумал Мачихин и посмотрел на своего комбрига.
– Демянск нам сейчас не взять, – внезапно сказал Тарасов. – Моральный дух в бригаде – ниже бруствера. Голодные, истощенные, ни одного полноценного победного боя. И вот еще… Что штаб фронта скажет по поводу изменения плана?
– Самодеятельности не будет, – отрезал Латыпов.
– Это хорошо, – буркнул Тарасов и, не удержавшись, покосился на Гринёва. Тот сделал вид, что не заметил намека. Только потер плечо и поморщился.
– Если штаб фронта добро не даст, атакуем Демянск всеми силами с юго-запада, – Латыпов тоже сделал вид, что ничего не заметил.
Добро было получено.
Через час.
Еще через час десантники вышли из лагеря в сторону деревни Игожево. Первым шел батальон под командованием капитана Жука. Батальон должен был оседлать дорогу Демянск – Старая Русса и создать коридор для прохода всей бригады на юг. Усилили его пулеметной ротой и ротой разведки.
А с полевого аэродрома эвакуировали еще пятнадцать человек.
* * *
Коридор пробить удалось. Небольшой – шириной всего восемьсот метров.
И ждали подхода бригады, отбивая одну атаку за другой. На дороге уже горел немецкий танк и три бронетранспортера. Поле было усеяно фрицами. Приданные первому батальону разведчики даже умудрились взять в плен немца, оказавшегося шарфюрером из дивизии СС «Мертвая голова». Ну или «Тотенкопф», если хотите.
Немец был здорово напуган, когда его допрашивали – злые, небритые, осунувшиеся лица русских не обещали ничего хорошего. Выяснить у шарфюрера удалось немного. Атаки здесь немцы не ожидали. Более того, надеялись, что советские десантники уйдут обратно, в болото, где их можно будет блокировать и уничтожить. А тут неожиданный бросок русских там, где их не ждали. Но теперь эсэсовцы подтягивают резервы, силами до одного полка. И ждать их нужно с минуты на минуту.
Поэтому комбат Иван Жук грязно ругался на связь и требовал от радиста вызывать и вызывать штаб бригады. Но Тарасов не отвечал.
На мат Наташа не реагировала. Уже привыкла. И когда немца расстреляли, тоже была спокойна. Просто не обратила внимания на сухой, негромкий выстрел пистолета. А может, и просто не услышала, привыкла к стрельбе.
– Небо светлеет… – опять ругнулся Жук. – День ясный будет, скоро фрицы авиацию кинут.
– Кердык нам тогда, капитан, – спокойно посмотрел на восток комиссар батальона Куклин. – Но без приказа отходить не имеем права.
– Да знаю я, комиссар. Иди лучше бойцам объясни – почему они тут гибнут ни за что!
Куклин, уже пошедший было к позициям, остановился и посмотрел на Жука:
– За Родину, капитан, за Родину.
Капитан отвернулся и зло сплюнул. За Родину не погибать надо. За Родину побеждать надо.
Вдруг с западного рубежа прорыва закричали:
– Комбат! Где комбат? Связной из штаба бригады!
Капитан бросился навстречу бойцу.
Он протянул Жуку лист, вырванный из блокнота, на котором неровными карандашными каракулями было начеркано:
«Батальону отходить на старую базу. Обеспечить эвакуацию раненых с аэродрома. Продолжать громить гарнизоны противника. Мачихин». Подписи Тарасова почему-то не было.
– Что там происходит, комбат, как думаешь? – спросил Жука Куклин, когда батальон стал отходить в лес. Сумерки уже таяли под первыми лучами мартовского солнца.
– А черт его знает. Начальство друг с другом дерется, а мы с врагом. Вот и весь сказ, комиссар.
Куклин попытался что-то сказать, но не успел. Пулеметная очередь разорвала воздух над головами десантников. Жук оглянулся. К месту боя подошла колонна грузовиков, из которых выпрыгивали эсэсовцы в белых куртках. Затем надевали лыжи и бросались в погоню за уходившим батальоном.
«А грамотно в цепь разворачиваются, быстро! – машинально ответил он. – Хорошо, что мы успели с поля уйти…»
– Бегом, бегом, бегом! – закричал комбат, подгоняя усталых десантников. – Олешко, оставь два пулемета, пусть задержат фрицев!
– Есть, товарищ капитан! – Младший лейтенант лихо развернулся на лыжах и, отбежав чуть в сторону, прислонился к сосне. Затем достал карту, сверяясь с местностью, чтобы выбрать пулеметные позиции.
Воздух наполнился грохотом и визгом смертоносного металла. Вы слышали, как страшно стучат осколки по деревьям? Как шипят пули в снегу? А звук попадания пули в плоть человека не описать… Он какой-то глухой, тупой и хлюпающий одновременно. Страшный…
Младший лейтенант сполз по сосне на снег. И дал очередью по немцу, выскочившему из кустов. Потом еще по одному.
– Митька, – закричала Наташа, посчитав, что он ранен, и бросилась к нему.
– Довгаль стой! Стой, кому говорят! – заорал ей вслед Куклин. – А ну, бойцы, на помощь! – Четверо десантников бросились к младшему лейтенанту, но тут же залегли. Между сосной и густым подлесником была полянка метров пять лишь шириной. И эта полянка превратилась в кипящую смертью стену огня.
– Жив? – перекрикнула Наташа грохот стрельбы.
– А что мне будет! – улыбнулся ей муж. – Жив и даже не ранен! Прикрой со спины!
Они развернулись в разные стороны и открыли огонь по окружающим их эсэсовцам. Да и ребята помогли, отстреливая немцев. Теперь уже залегли и фрицы. А когда в них полетели гранаты, те вообще поползли назад.
– Отбились, Наташка! Отбились! – яростно улыбнулся Олешко. – Молодец ты у меня!
– Да ну! Просто надоело эту тяжесть таскать. Вот, только одна осталась, – показала она ему ручную гранату.
– Прибереги, пригодится! – И Митя крепко-крепко поцеловал ее.
– Лейтенант, лейтенант! Отходите, мы прикроем! – закричали им бойцы.
Всего-то пять метров пробежать. И уже спокойных пять метров. Митя разогнулся, встала со снега и Наташа.
Она сделала несколько шагов и вдруг – нет, не услышала. Разве в бою услышишь выстрел снайпера? – почувствовала, что…
Младший лейтенант Олешко лежал, обагривая кровью истоптанный, грязный снег.
– Митька-а-а! – закричала она и бросилась обратно. Споткнулась, запутавшись в лыжах, встала на колени и поползла к нему…
– …Я ей кричу – уходи, мол, уходи! А она кричит, планшетку заберу только. А в глазах ни слезиночки. Сухие глаза-то. А лицо белое, белое.
– Боец, ты мне не стихи читай, а доложи, почему на помощь не пришли? – Жук сидел у костра и старался строго смотреть на бойца. А на душе у капитана скребли кошки. К мужским-то смертям на войне привыкнуть сложно, а уж к девичьим-то…
– А она маскхалат лейтенанту разорвала и кричит: «Помогите кто-нибудь!» Мы только встали, а тут немец минами начал кидаться. Видать, развернулись как раз. И первым же разрывом… Я голову-то приподымаю – нету их. Только яма черная дымит. Ну, шапки поснимали и батальон догонять.
Жук покивал, задумчиво посмотрел на свои руки, зачем-то повертел ими…
– Вот и все, товарищ капитан.
– Иди, Александров, иди.
Потом комбат встал. Посмотрел в ночное небо. Захотелось завыть на луну. Но он пересилил себя и, скрипя мокрыми валенками по снегу, отправился обходить свои роты, вернувшиеся на старую базу, что на болоте Невий Мох.
По официальным данным:
Довгаль Екатерина Ивановна, техник-интендант второго ранга, переводчица, тысяча девятьсот двадцатого года рождения, пропала без вести 27.03.1942 в районе деревни Пекахино Демянского района Ленинградской области. Мать – Довгаль Анастасия Лукинична. Домашний адрес: Ярославская железная дорога. Станция Икша. Поселок Ртищево, дом 11.
По воспоминаниям выживших десантников, ее звали Наталья. Звание – техник-интендант третьего ранга.
Олешко Дмитрий Михайлович, младший лейтенант, командир взвода первого батальона, тысяча девятьсот двадцатого года рождения, убит 27.03.1942 в районе реки Полометь. Призван Щербиновским РВК. Отец – Олешко М.Д. Домашний адрес: Краснодарский край, Щербиновский район, г. Щербиновка.
В тысяча девятьсот девяносто девятом году Митю Олешко и Наташу Довгаль нашли поисковики из Кировской области. Вместе. В одной воронке. Она так и лежала на нем сверху, прикрывая от осколков.
Перезахоронены в городе Демянске Новгородской области.
Коса у нее длинная была… Сохранилась, да…
20
– Перед атакой Игожево я решил отомстить Гринёву, – продолжал Тарасов. – Он сорвал атаку на Добросли – пусть под Игожево отдувается сам. Бойцов у него было около пятисот на тот момент. Мог справиться. А мы ударили на Старое Тарасово.
– Погодите, господин подполковник, вы же говорили, что Гринёв пропал под Доброслями? – наморщил лоб фон Вальдерзее.
– Да? Простите, у меня плохая память на даты. Лично я его не видел после Доброслей. Может быть, он исчез позже, а, может быть, двести четвертой под Игожево командовал комиссар Никитин. Мне не докладывали.
– Понятно… Между прочим, под Игожево ваши атаковали относительно удачно, а вот под Старым Тарасовом, ваша атака опять не получилась. Почему? Объясните сей момент!
– Ну я же говорил, что был фактически отстранен от командования бригадой. Полковник Латынин…
– Фактически. А формально?
– Формально с меня никто ответственности не снимал. Я понимал, что по возвращении в советский тыл мне грозил трибунал. И расстрел, по законам военного времени. В таких случаях всегда ищут козлов отпущения.
Обер-лейтенант задумался. А потом задал неожиданный вопрос:
– Кто же, по-вашему, господин подполковник, истинный виновник провала операции?
– Относительного провала, герр обер-лейтенант! – самолюбиво прищурился Тарасов. – Все-таки наши бригады нанесли вам урон, и урон порой немалый. Тридцатая пехотная дивизия была фактически заперта нами, когда мы блокировали дорогу у Малого Опуева. Уничтожены десятки гарнизонов, складов с боеприпасами, вооружением. К сожалению, мне неизвестны потери ВАШИХ войск.
– Обычные потери, господин подполковник. Неизбежные на войне, – пожал плечами обер-лейтенант.
– Неизбежные, да! То-то вы после Игожева и Тарасова как с цепи сорвались, не давая нам продыху.
– Приоткрою вам тайну. В Игожеве был ранен начальник штаба двенадцатой пехотной дивизии. А командир дивизии…
– Убит? – отрывисто спросил Тарасов.
– Нет… Был эвакуирован в одном нижнем белье, – тонко усмехнулся фон Вальдерзее. – После чего был сильно зол!
Тарасов юмор «эвакуации» оценил:
– Передайте ему мои искренние извинения.
– Обязательно, Николай Ефимович! – засмеялся немец.
– А что вы скажете по поводу разгрома аэродрома в Глебовщине? – вернулся к теме разговора комбриг.
– Это было неприятно, но не смертельно. Утром двадцать первого марта, когда последние ваши парашютисты заканчивали сбор у Малого Опуева, началась немецкая операция «Наведение мостов». Пять дивизий генерала Зейдлица фон Курцбаха медленно, но верно двинулись в восточном направлении от Старой Руссы, чтобы закрыть брешь между шестнадцатой армией и окруженным вторым армейским корпусом. И закрыли. Коридор был восстановлен. Вот так, Николай Ефимович.
Фон Вальдерзее разглядывал поджавшего губы Тарасова.
– Но давайте же продолжим. Итак. Вы осознали, что вам грозит смерть от рук НКВД, и…?
– А? – словно очнулся Тарасов.
– Что решили вы после осознания факта неминуемого расстрела?
– Стал размышлять.
– О чем?
– О вариантах невозвращения…
* * *
На этот раз получалось как нельзя лучше. Двести четвертая ворвалась в Игожево и вела там хотя и тяжелый, но успешный бой.
Немцы бежали как тараканы в своих серо-зеленых шинелях по колхозным заснеженным полям.
Бежали они и из Старого Тарасова, куда ворвалась первая маневренная бригада. Тарасовцы вели бой в Тарасове, уничтожая фрицев…. Символично… «За командира!» – ревела бригада, рубя штык-ножами полуголых немцев.
Цепи шли одна за другой – десантники падали, вставали, снова падали. Некоторые уже не вставали…
Даже взвод танков не смог помочь гансам. Два танка уже горели, подбитые расчетами «ПТР». Два еще отползали, огрызаясь пулеметными очередями и гулкими выхлопами орудий.
Вот и еще один задымил, а последний вдруг рванул неожиданно вперед, вздымая снежную пыль, и скрылся за большой избой.
Тарасов метался среди горящих изб деревни:
– Вперед, сукины дети, орелики мои!
И бригада шла вперед, прочесывая дом за домом.
Они падали, умирая в демянских снегах, но шли вперед.
Но…
Танк выполз из-за избы, поливая свинцом залегших перед бронированной махиной бойцов.
– Противотанкисты! Противотанкисты где? – заорал Тарасов после очередного выстрела.
Особист Гриншпун рванул куда-то в сторону, матерясь на застрявших пэтээрщиков.
Внезапно под танком рванул черно-белый – с клочьями пламени и земли – снег. Боец, кинувший связку, приподнялся, махнул рукой… И тут же осел в снег!
Десантники побежали вперед, кто-то наклонился над бойцом, подорвавшим танк…
– Комиссара убило! Комиссара! – понеслось по цепям.
Тарасов вскинулся, отбросив винтовку:
– Ильич! Ильич, скотина, ты куда полез!
Мачихин чуть приподнялся на локте. Обернулся. Чуть кивнул – хорошо, все хо-ро-шо… И уронил руку.
Руку, которой только что подбил двумя противотанковыми гранатами «трешку», выползшую из-за избы.
А тело его дрогнуло, выбросив еще один фонтанчик крови.
– Тащите его, млять!
Старший лейтенант Миша Бурдэ перекатом рванул к телу комиссара.
– Молдаванин, тащи, ссука, комиссара!
– Есть, товарищ подполк…
Командир четвертой роты третьего батальона ткнулся в тело Мачихина.
Откуда-то бил пулеметчик.
Тарасов яростно закричал:
– Подавить ссуку! Бойцы! Вперед, ребята!
А сам бросился к Мачихину.
Комиссар попытался что-то сказать Тарасову. Получалось плохо…
– Молчи, Ильич, молчи… Сейчас мы тебе… Санитары! Санитары, мать вашу! – подполковник встал на колени и кричал, кричал в грохот боя: – Молчи, говорю! Тебе говорить нельзя. Хватит еще нам с тобой войны! Довоюем, наговоримся!
Комиссар молча улыбался окровавленным ртом, как-то жалобно смотря на Тарасова. А позади горела изба. Горел снег…
– Санитар! Санитар!
А Мачихин шептал что-то..
– Не слышу, комиссар, не слышу!
Близкий разрыв осыпал Тарасова кусками мерзлой земли.
– Ефимыч, слушай, что скажу… Ребята-то у нас…
– Что, ребята? – Тарасов пригнулся опять – очередь из пулемета прошла совсем рядом. Он чертыхнулся, посмотрел на убитого старлея и повернул его на бок, прикрывая мертвым телом еще живого комиссара.
– Богатыри у нас ребята…Смотри…
Ребята же шли вперед…
Падая и вставая. Падая. И не вставая.
– Он шел по болоту. Не глядя назад. Он бога не звал на подмогу. Он просто работал, как русский солдат… – зашептал комиссар.
– Что? Что, Ильич?
Мачихин потерял сознание.
Снег краснел под ним…
– Мачихин! Мачихин!! – орал на него Тарасов. – Это преступление! Командиров не осталось практически! Ты не имеешь права, батальонный комиссар!
– Николай Ефимович! – схватил его кто-то за плечо. – Товарищ подполковник! Жив он, жив!
Тарасов оглянулся:
– Особист? Ты? Ранен?
– Нет еще. Комиссара надо эвакуировать.
Тарасов молча посмотрел на заострившееся лицо Мачихина:
– Действуй!
Гриншпун с двумя бойцами потащили тяжелораненого комиссара за дымящий дом, а Тарасов встал во весь рост. Достал трофейный «вальтер»… Под шквальным огнем встал.
– Ребятки! Вперед! За Родину, орлы! Мать же перемать!
И бригада поднялась. Воздуха не было. Был свинец с прослойками крови.
Штык на штык. Нетвердые ноги. Твердые руки. Скрип зубов. Мат-перемат. Ощеренный рот. Удар прикладом в этот рот.
Кто-то рядом упал.
Кто-то бежит.
Кто-то хрипит.
Кто-то кашляет.
Кто-то рычит.
Теряем бойцов, теряем…
Кровь.
Дым.
Свист.
Снайпер. Снял слева в лоб. Убил. Прыжок. Приклад в плечо. Убит. Сдох. Мимо. Нна гранатку! В полный рост, ребята, в полный рост! Пригнись… Японская мать…
Немцев вышибли из села, вышибли!
Бегут же, сволочи! Бегут!
Тарасов бежал в полный рост, крича что-то матерное вслед убегающим врагам. Матерное и нечленораздельное.
Его обгоняли десантники, продолжая вести огонь.
Русское «ура» неслось над заснеженным Демянским котлом. Из облаков вышло солнце.
– Товарищ подполковник! Товарищ подполковник!
– А? – обернулся он, разгоряченный боем.
– Гринёв пропал! – Радист виновато смотрел на Тарасова.
– Что??? А…
– Бригада отходит к нам. Командование принял комиссар двести четвертой Никитин. А Гринёв исчез с поля боя…
– Скотина… – зашипел Тарасов. Сам на себя зашипел. Надо было Гринёва выводить на чистую воду…
Он повернулся – подозвать адъютанта и дать распоряжения бригаде. Но не успел.
Плечо онемело от тупого удара.
Тарасов удивленно посмотрел на руку. Маскхалат медленно пропитывался кровью. А потом стало жутко больно….
* * *
В подвале мы сидели в тот день. Кругом грохочет, стучит! Боязно как было, ой матушки! Подвал-то у нас хоть и каменный, а все равно страшно. А как же? Еще, когда наши не пришли, немцы пьяные по домам стреляли. Выстроят в комнате, а сами с улицы пуляют. Ну да, через стены. Не глядючи. А потом спорят – чья, мол, пуля кого убила. Наскрозь они через стенки-то пуляли…
Как они пришли в сорок первом, так мы в подвалах и жили. Скотину сразу свели. Собак поубивали. А вот кошек не тронули. Чтоб мышей таскали. Васька у нас остался… Беленький котейко такой… Мне тогда было десять лет, кажись. Вот я с ним спала все время. Он теплый, мыркает – даже кушать меньше хотелось от мырканья его. Он у них колбасы как-то украл. И притащил. Мамка у него кусок тот отобрала и нам с братиком – он совсем махонький, братик-то, был. Пять, что ли, лет? Совсем я стара стала… Запамятовала… Васька урчит в углу – ест, а мы враз слопали. Я уж только после войны колбасу-то попробовала.
А Ваську за это немец убил. Пульнул из пистолета. И братика убил… Губы у братика жирные были. Убил и его немец. Как котейку.
А десантники тогда внезапно появились. Мы с мамой так радовались тогда – наши вернулись! Наши! Я-то, дурочка, думала, что папка тоже с ними вернется…
Грохочет, значит, грохочет. А потом люк открывается, и парень нам кричит – есть кто живой? И гранатой машет. А мамка ему кричит:
– Не убивай, родненький, свои мы! Наши! Русские!
Он гранату-то прячет, улыбается так. Глаза голубые-голубые! Как небо… Помню. Потом руку в карман сует и протягивает нам по сухарю. Вкусный какой был, ой! Я таких сухарей так и не ела с тех пор. А мамка не ест – мне свой отдает и голову мою прячет у себя под мышкой. А там все грохочет, наверху-то. И капает что-то сверху. Горячее. Прямо на мамку и меня.
Потом приутихло все. Но мы все сидели. Сидели, боялись. А потом вылезли из подвала.
Печка жаркая, а окна выбиты. А на полу паренек тот лежит, лицом вниз. Из-под него лужа черная растекается, в половицы затекает. Я, дурочка, мамку спрашиваю – дядя описялся? А она плачет почему-то… Из дырок в стене ветер холодный дует.
На улицу вышли…
А там их видимо-невидимо. И немцы лежат, и наши… Штабелями. И лица синие-синие у всех. Как небо. Но это я уже потом поняла. Когда страшно стало. А тогда не страшно было. Кушать очень хотелось.
А наши уходили по полю. Как сейчас помню – солнышко глаза слепит, я прищуриваюсь, а они уходят в леса. Цепочечками. Друг за другом. А я все равно не плакала. Знала, что вернутся. Оборонялись мы на них.
На излете зимы это было. На излете… Да… Как раз теплеть начало.
Немцы тогда вернулись только на следующий день.
Орали как… Охохонюшки…
Потом взрослые мертвяков таскали.
Немцев в машины. Наших – к элеватору. Там в силосную яму их скидывали. Теть Нина упала там. Так ее тоже в яму кинули. Померла. Сердце не сдержало.
Потом идем обратно. Дом ее дымится. Да какой там дом? Пепелище. Одна печка. И бревна обгорелые кругом. Запах такой…. Горький… А в печке сидит кот. Серый. Это его так теть Нина звала. Серый. Сидит и плачет. Вот, ей-богу, плакал. Как человек. Лапки сложил, голову на них положил… И плачет. Рядом стеклышко лежало. Я подбежала – детенка же совсем была – и давай солнечным зайчиком с ним играть. А он все плачет. И смотрит на меня. И плачет. Я его в охапку, а он вырвался и убежал. Как раз в ту сторону, куда наши ушли. Прям по лыжням ихним и побежал. Помню, солнце от снежного наста блестело. Глаза ажно слепило. А у него хвост такой пушистый был. Так и не вернулся.
Горло что-то заболело…
А один десантник живым оказался. Ранетый был в руку. Видать, сознание потерял, да наши его и не забрали. Война…
Ох, и били его немцы, ох, и били…
Злые они были. Говорят, наши ихнего генерала в Игожево подстрелили. Вот и били.
А он только кряхтел, помню, да плевался кровью.
Потом затих. Убили они его, наверно. А может, и нет. Его забросили в грузовик. Видать, важный был. Ангелов ему за спиной…
А яма та еще шевелилась долго. Землей шевелилась. Вишь, не всех дострелили. Дак да. Они ж каждому еще пулей в голову стреляли, помню. Богородицу им навстречу… Помню – летом уже – шла мимо. А оттуда пальцы торчат. Вот, думаю. Вылезти хотел. Недострелянный… А сейчас там цветочки растут.
Мамка ночью тогда ходила с соседками. Ну, когда еще немцы не вернулись. Собирали у покойников пенальчики. Маленькие такие, черненькие. А там записка внутри – кто таков да откудова. Целый горшок насобирали. Куда дели потом? А закопали в каком-то доме. В подвале. Только я уж не знаю – в каком. Не видела. Мамка так мне и не успела рассказать. Убили мамку. Нет, не немцы. Финны. Когда фашисты тикать начали, тогда и убили.
За что?
А просто так.
Я сейчас думаю за то, что навзничь не упала перед ними.
Тогда не понимала. Мала была. Глупа. И слава богу.
Потом меня в детдом отослали. Ну, когда наши вернулись. Оттудова меня тятька уже в сорок шестом забрал. Когда с войны вернулся. Мне тогда четырнадцать было.
А в сорок девятом и он помер.
Тоже ранетый был. В грудь ранетый, агась. Чахоткой промучился и к мамке ушел.
А я вот осталася.
Одна осталася.
И за братика, и за тятьку с мамкой, и за котиков век тяну. Устала уже… Руки не гнутся, спина болит, глаза не видят, сердце дрожжит. Поди, думаю, приснилось мне все это? Одно лихо и видела в жизни-то. Беду на плечах несла да горе под мышкой подтаскивала.
Так вона там, яма-то. Рядом с элеватором. Там, касатики, лежат. Там. Ну… Много их, много… Двое суток их туда стаскивали. А немцев? Немцев больше. Вся деревня была ими усыпана. Точно немцев больше. Точно! А горшок с медальонами – не знаю где. Ищите, ребятки, ищите…
Повернись-ко на свет!
Похож-то как… Вот как тот парень с сухарями.
Ты, поди, деда своего ищешь?
Разве?
Глаза у тебя такие же, внучок. Голубые.
Как небо.
Господь с тобой, сынок. Господь с тобой…
21
– А потом началась паника.
– В бригадах?
– Да, господин обер-лейтенант. Есть такое выражение – усталость металла. Человеческая прочность тоже имеет границы. Десантники просто вымотались. Ежедневные стычки, голод, холод, движение без конца – нервы начали сдавать. Было принято решение – эвакуировать тяжелораненых, в том числе и комиссара бригады, и начать выход к своим.
– На каком участке фронта, покажите, – фон Вальдерзее пододвинул Тарасову большую карту.
– Вот здесь, – ткнул подполковник карандашом. – Мы должны были ударить одновременно с группой генерала Ксенофонтова. Впрочем, до этих мест еще надо было добраться. А началась оттепель. Снег превратился в жидкую кашу. Шагнешь с лыж сторону – и полные валенки воды. И по-прежнему, не хватало продуктов.
– Как осуществляли эвакуацию раненых? Вы же не могли прорваться на старую базу под Опуево?
– Господин обер-лейтенант… Честное слово, я плохо сейчас понимаю, как летчикам это удавалось. «У-два» садились на поляны, просеки, разбивались некоторые, конечно. Но большинство взлетали.
– Но ведь грузоподьемность ваших «швейных машинок» очень мала! – воскликнул немец.
– Да. Один самолет поднимал двоих в кабине и двоих в грузовых люльках под крыльями. Долго ждать мы не могли, но и бросить раненых тоже не могли. Поэтому им обустроили лагерь на болоте Гладком. Там же соорудили и взлетно-посадочную полосу. Сами же двинулись на юг, в сторону линии фронта…
* * *
– Ильич, передай там… – Тарасов замялся, держа за руку тяжелораненого комиссара бригады.
Что передать? Разве можно передать словами то, что они здесь пережили и все еще переживают?
Курочкину и Ватутину нет дела до осунувшихся, почерневших, изголодавшихся десантников. Им главное – выполнение задачи.
– Передай, что бригада держится и продолжает выполнение боевой задачи.
Мачихин осторожно кивнул, а потом что-то прошептал. Тарасов не расслышал – рядом урчала мотором «уточка». Подполковник наклонился к комиссару, лежавшему на волокуше.
– Гринёв… – расслышал он одно слово.
– Нет, Ильич. Не нашелся. Мы отправили поисковые группы, но пока безрезультатно. А найдется – лично пристрелю. И товарищ Гриншпун мне поможет. Так, особист?
Особист молча кивнул.
– Товарищи командиры! Давайте быстрее! Мне еще пару рейсов надо бы сделать! – подошел высокий усатый летчик.
Тарасов присмотрелся:
– Лейтенант? Видел тебя вроде?
– Так точно, товарищ подполковник. Я вас на Невьем Мху нашел. Помните? Зиганшин моя фамилия. Вы меня тогда чаем угощали. Брусничным.
– Зовут-то тебя как, лейтенант?
– Сергеем, товарищ подполковник.
– Сережа… Ты уж аккуратнее комиссара доставь. Постарайся, – Тарасов положил здоровую руку на плечо лейтенанту.
– Не буду я стараться, товарищ подполковник. Когда стараешься – не получается. Надо – значит, надо. Доставлю, не волнуйтесь. А потом за вами прилечу.
– Что значит за мной? – удивился Тарасов.
– Ну, вы же тоже ранены, – показал летчик на перевязанную руку комбрига.
Тарасов отмахнулся:
– Ерунда! Пуля насквозь прошла. Кость не задета, нервы с сосудами тоже. Царапина!
Летчик замялся:
– А другой подполковник сказал, что есть приказ комфронта, что всех раненых командиров эвакуировать в первую очередь. Даже легкораненых.
Тарасов переглянулся с Гриншпуном:
– Какой подполковник?
– Да я перед вылетом его видел…
– Где?! – почти одновременно крикнули особист и командир бригады.
– На базе! Пока самолет загружали продуктами, я в курилке торчал. И тут смотрю, сверхсрочник садится…
– Кто? – не понял Гриншпун.
– Ой, простите… «Р-5», самолет такой. Мы его «сверхсрочником» называем. Сильно стар, дедушка. Но летает. Я узнать пошел у летчика – что там да как. А оттуда бойца выгружают. Он на всех матом ругается, шипит – особенно, когда рукой пошевелит. Потребовал срочно ко врачу, а потом в штаб фронта его доставить. Назвался подполковником… Как же его…
– Гринёвым? – воскликнул Тарасов, играя желваками.
– Точно. Гринёв. Вот он и сказал про приказ. Товарищи командиры… Мне лететь пора…
– Грузите комиссара! – приказал Тарасов своим бойцам. – А ты, лейтенант, вот что передай – я эвакуироваться не буду. Выйду, как планировалось. Вместе с бригадой.
Летчик пожал плечами:
– Настаивать не буду. Мое дело маленькое, я ведь просто извозчик…
– Ну вот, извозчик, запрягай свою кобылу и вперед!
Тарасов снова наклонился к Мачихину:
– Удачи, Ильич!
Потом осторожно пожал ему кончики пальцев.
Потом отошел в сторону, кивнув Гриншпуну:
– Дезертировал Гринёв? Как думаешь, особист?
– Формально – нет, фактически… – Гриншпун почесал свой горбатый, еврейский нос.
– А меня сейчас формальности не интересуют, – отрезал командир бригады. – Тарасов сбежал? Нет! А Гринёв? Да! Сбежал! Какие могут быть оправдания? А давай, уполномоченный, и я дезертирую! Тьфу! Эвакуируюсь! Кто людьми командовать будет?
– Там разберутся, товарищ подполковник, – хмуро ответил особист. – Там разберутся.
– Как бы нам с тобой не досталось от этих разборов, – вздохнул Тарасов. А потом обернулся: – Погрузили комиссара?
– Так точно, товарищ подполковник, – крикнул лейтенант Зиганшин.
Тарасов молча махнул рукой.
Бойцы облепили фюзеляж и крылья самолета, дождались, когда урчание мотора превратится в рык, и стали его толкать.
Лыжи проваливались, самолет подпрыгивал и снова цеплял брюхом мокрый снег. Десантники же пытались бежать и толкать его. Пытались, потому что сами то и дело падали и проваливались по колено.
Но все же толкали. И вот биплан чуть подпрыгнул, еще… Пацаны на бегу подталкивали его парусиновые крылья вверх…
Взлетел, смахнув крылом с разлапистой елки сугроб, шумно упавший на землю.
Взлетел и, тяжело покачивая крыльями, отправился домой. Для комиссара бригады – товарища Мачихина – война временно закончилась.
Для Тарасова и его измученных бойцов – продолжалась.
* * *
Старшина Василий Кокорин и ефрейтор Коля Петров лежали в подъельнике.
– Вась, я устал по самое не хочу, – вяло сказал ефрейтор, глядя равнодушными глазами в голубое – апрельское уже – небо.
– Я тоже, Коль, – так же вяло ответил рядовой.
Потом они замолчали. Берегли силы на вдох и выдох. А силам браться было уже неоткуда. Последний раз они нормально поели пять дней назад, найдя в ранце убитого ими немца банку сосисок. Мясо, правда, было проморожено насквозь. Шесть сосисок, которые они выковыривали из банки ножами, сидя на еще теплом трупе фашиста. Сосиски крошились на морозе, но мясные крошки бойцы старательно подбирали со снега и отправляли в рот. Колю Кокорина, правда, скрутило потом. С непривычки. Блевал в кустах целый час. Отвык от мяса. Все больше – сухари, овсяный отвар да кипяток. Овес они набрали в какой-то очередной деревне, на которую совершали налет.
– Вась, а Вась?
– М-м?
– А давай к нашим уйдем?
– В лагерь, что ли, Коль?
– Не… За линию фронта. Домой.
Кокорин приподнялся на локте и посмотрел на Колю Петрова:
– Звезданулся? Как мы линию фронта перейдем? Там фрицев туева хуча!
– А сюда мы как переходили, Вася? Немцы на дорогах сидят и на высотках. Мы лесами пройдем, и все!
Старшина Кокорин сел. Осторожно почесал давно небритый подбородок. У девятнадцатилетнего пацана щетина растет долго. И очень долго колет подбородок. Особенно, если этот подбородок обморожен. Волдыри сходят, а под ними нежная, розовая кожа, через которую пробивается юношеская борода. И эта кожа снова обмерзает… А потом снова…
– А нашим чего там скажем? – задумчиво произнес Кокорин.
– Скажем, что отбились, заблудились и вот…
– И пятьдесят восемь дробь шесть, вот чего!
– Сереж, я забыл…
– Шпионаж, придурок, – старшина матернулся на ефрейтора. – Вставай, надо обход квадрата закончить!
Ефрейтор Петров встал, кряхтя, как древний старик, хватаясь за колени. Накинул тощий вещмешок. Поднял винтовку. Оперся на нее. Постоял. Вдохнул. Выдохнул. И поплелся вслед за Кокориным.
Тот, словно неустанная машина, тяжело шагал впереди, разрыхляя снег. Петров глядел с ненавистью в спину рядового. Он ненавидел сейчас все на свете – немцев, войну, зиму, снег, елки и лично старшину Кокорина. Он устал. Он просто устал жить – стрелять, думать о еде, спать на снегу – вся жизнь его состояла только из этого. Другой жизни у него не было. Он не знал другой жизни.
– Стой! – тихо крикнул вдруг Кокорин и остановился сам. – Слышишь?
Петров ничего не слышал. Кроме шума крови в ушах. Но остановился.
Кокорин показал рукой – «ложись!». Петров послушно лег на ненавистный снег.
Кокорин махнул – «за мной!». Ефрейтор напрягся и пополз за ним, неловко выворачивая ступни в мягких креплениях лыж.
Они подползли к маленькой полянке – истоптанной, как будто по ней стадо мамонтов пробежало. И испачканной кровью…
На поляне лежали тела восьми десантников.
В изорванных, грязных маскхалатах.
Без голов. Все без голов. Головы ребят были развешаны на окружающих полянку деревьях.
Кокорин привстал, пытаясь разглядеть страшный пейзаж. Привстал и неожиданно потерял сознание. Не то от ужаса, не то от истощения.
А ефрейтор Петров сглотнул слюну и пополз – как рак – обратно.
Он полз, стараясь не глядеть перед собой. Не видеть. Не смотреть. Забыть. Он цеплял пальцами, выглядывающими из дырявых рукавиц, талый снег и запихивал его в рот, стараясь унять мучительную тошноту в желудке, пытающемся вырваться наружу.
Остановился он только после того, как дуло карабина ткнулось ему в спину.
– Юрген, еще один! – хрипло засмеялся чужой голос.
Петров ткнулся лицом в снег. И расцарапал свежий волдырь колючим настом. Сильная рука сдернула с ефрейтора подшлемник и схватила его за волосы.
– Еще одному конец, Дитрих!
Холодная сталь коснулась горла ефрейтора. И в этот момент он вдруг яростно закричал, выворачиваясь. Он зубами вцепился, рыча как волк, в руку, держащую кинжал, прокусил ее до крови и с наслаждением почуял теплую, солоноватую кровь…
Немец заорал и ударил его второй рукой по затылку.
А когда ефрейтор обмяк, резанул дрожащей рукой по горлу – раз резанул, второй, третий…
– Юрген, хватит! – смеясь, воскликнул второй эсэсовец.
– Он мне руку прокусил! – прорычал ему в ответ обер-шютце Юрген Грубер. А чуть позже поднял голову ефрейтора Петрова и насадил ее на сучок ближайшей березы. – Девять…
– Зато поедешь в отпуск! – ответил ему напарник. – Раненный большевистским зверем…
– Надеюсь, он зубы чистил, – проворчал эсэсовец, зажимая запястье. – Мне еще заразы не хватало. Дитрих, бинт дашь или нет?
– Держи, – напарник протянул раненому пакет. – Ну если и зараза… руку отнимут и вообще на войну не вернешься. А потом как инвалиду тебе землю тут дадут…
– Не хочу я тут. Одни болота. Помнишь, на Украине какие земли? Вот я там надел возьму после войны. И тебе в аренду сдам. Ты мне поможешь или нет? – рявкнул Юрген на Дитриха.
Когда же повязка была наложена, в кустах – откуда выполз сумасшедший русский – послышался стон.
– Еще один? – схватился за карабин Дитрих.
– Сейчас посмотрим… – проворчал Клинсманн.
Они подошли к кустарнику.
– Точно… еще один… Будем резать?
Грубер собрался было достать свой кинжал с выгравированными рунами СС, но тут русский тяжело перевернулся и на ломаном немецком произнес:
– Нет. Не стрелять. Я есть племянник Вячеслав Молотов.
Немцы молча переглянулись. После чего Юрген сунул кинжал в ножны. А через час старшина Василий Кокорин стоял перед каким-то немецким офицером и рассказывал ему, что родная мать Васи Кокорина – Ольга Михайловна Скрябина – родная сестра наркома иностранных дел СССР Вячеслава Михайловича Молотова. А сам Кокорин – не старшина, а порученец командующего фронтом генерал-полковника Курочкина.
А еще через час офицеры штаба дивизии СС «Мертвая голова» вынесли вердикт, сравнивая физиономию старшины Кокорина с газетной фотографией наркома Молотова – похож.
После чего Василий вдохновенно рассказывал немцам о том, что военная политика Советского Союза заключается в том, чтобы оттеснить Германию к границам сорок первого года, затем заключить мир и лет через десять-пятнадцать напасть на немцев и покончить с ними.
Обер-лейтенант Юрген фон Вальдерзее потом сильно удивлялся протоколу допроса. Но когда он повторно допрашивал племянника Молотова, пришел к выводу, что это – возможно! лишь возможно! – старшина Кокорин не врет. Вернее, говорит, что думает. И что он действительно племянник Молотова. Ведь фотографию сына Молотова – Григория, уже год находившегося в плену, он опознал, как и опознал фотографию Якова Джугашвили…
После допроса обер-лейтенант вышел на крыльцо и закурил, вслушиваясь в звуки далекого боя. Это проклятые десантники пытались прорваться к своим. Эх, если бы взять в плен кого-нибудь из русских офицеров… Но на такое чудо обер-лейтенант Юрген фон Вальдерзее рассчитывать не мог.
Интересно, этот старшина и впрямь племянник Молотова?
22
– А я откуда знаю, – удивился Тарасов. – Мне, знаете ли, о родственниках бойцов не докладывали.
– Странно, – насторожился немец. – По крайней мере, он сам мог рассказывать о таком высокопоставленном родственнике. Да и ваше ГПУ должно было следить за ним…
– НКВД, – в очередной раз поправил Тарасов немца.
– Ну да, энкавэдэ, – поправился обер-лейтенант. – Привычка, знаете ли. Так вот, ваши эн-ка-вэ-дэ-чники…
– Энкавэдэшники, – снова поправил немца подполковник.
– Да… Конечно… Спасибо… Так вот, они должны были следить за племянником самого Молотова?
– Конечно, – криво улыбнулся Тарасов. – Должны его под белы ручки водить аж туда, куда царь пешком ходит. И прямо сейчас они наверняка рядом с ним.
– Вы уверены? – немец немного напрягся.
– Конечно! – Уверенность обер-лейтенанта во всесильности НКВД даже рассмешила Тарасова. Нет, конечно же, особисты обладали властью, но не неограниченной, конечно же. Как-то он отчитал Гриншпуна за то, что тот попытался оспорить приказ командира бригады. Так тот только извинился. Правда, дома бы Тарасов, наверное бы, не рискнул, да… Но уж опасения фон Вальдерзее отдают паранойей:
– Точно так же НКВД следит и за Яковом Джугашвили.
Фон Вальдерзее аж привстал:
– Ваши сведения…
– Да шучу я, господин обер-лейтенант! – перебил его ухмыляющийся Тарасов. – Неужели вы думаете, что лапы НКВД действительно так длинны?
– Но они же должны следить за детьми высокопоставленных чиновников? Я вот, честно говоря, не понимаю, как Сталин отпустил своего сына на фронт!
– А дети ваших партийных чиновников воюют?
– Военных – конечно. А у партийных… По-моему, у них нет детей. Вот, кажется, у Геббельса есть, но они еще маленькие, – ответил фон Вальдерзее.
– При социализме все равны – когда речь идет о Родине. И сын Сталина, и сын последнего колхозника. Может быть, это звучит пафосно, но это так. А что там у вас при национал-социализме, я не знаю.
– Я беспартийный, герр Тарасов! – гордо ответил обер-лейтенант. – Мы, военные, стараемся быть вне политики! Конечно, на войне неизбежны страдания, но вермахт всеми путями старается эти страдания минимизировать, если вы об этом…
– Я тоже беспартийный, господин фон Вальдерзее, – прервал его подполковник. – И что это меняет? Германия, ведомая национал-социализмом, напала на Россию, ведомую большевиками. Я уважаю немцев, вы знаете, у меня жена – немка…
– Вы говорили…
– Но я не уважаю политиков, развязавших эту войну, – Тарасов пристально смотрел в глаза немцу. Тот прищурился, помолчал, подумал о чем-то своем. А потом продолжил:
– Итак, комиссара Мачихина ранили и эвакуировали, майор Гринёв дезертировал, как вы выразились. Фактически вы остались единственным командиром соединения, если не считать полковника Латыпова. Каковы были ваши действия?
– Да, собственно говоря, обычные…
* * *
После того как тяжелораненые были отправлены на болото Гладкий Мох, бригада – вернее то, что осталось от соединения первой маневренной и двести четвертой – снова двинулась в свой крестный путь к линии фронта.
То, что осталось…
Около полутора тысяч десантников…
Из запланированных шести тысяч.
Кто-то полег на Поломети, кто-то в Малом Опуеве, кто-то смотрел замерзшими глазами из снегов Доброслей, Игожева, Старого Тарасова… Батальон Жука, так и не пробившийся через дорогу Демянск – Старая Русса, ждал эвакуации с Невьего Мха… Три четверти двести четвертой, рассеянные еще при переходе линии фронта…
Ни подполковник Тарасов, ни комфронта Курочкин, ни тем более рядовые десантники не знали, насколько успешен их рейд по тылам окруженной немецкой группировки.
Они не знали – и знать не могли, – что тридцатая пехотная дивизия вермахта оказалась отрезанной от базы в Демянске, когда десантники оседлали единственную дорогу подвоза боеприпасов и продовольствия.
Они не знали, что благодаря их совместным действиям, вскрывшим тайные аэродромы в котле, транспортный флот «Люфтваффе» потерял уже семьдесят процентов своего состава. И этих разбитых нашими «Илами», «Яками», «Мигами» «Тетушек», «Ю-полсотни два» так отчаянно будет не хватать немцам совсем в другом котле. В далеком отсюда Сталинграде. Но до того котла будет еще долгих и страшных восемь месяцев весны, лета и осени сорок второго года.
И всего через несколько недель в Берлин пойдет панический доклад обергруппенфюрера Теодора Эйке, командира той самой дивизии СС «Мертвая голова», которая сейчас по пятам следует за группой подполковника Тарасова, словно охотничий пес, вцепляющийся в спину раненого, измученного волка, доклад о том, что от дивизии осталось лишь сто семьдесят человек. Из десяти тысяч.
Из десяти тысяч в строю останется лишь сто семьдесят. Вдумайтесь в эти числа.
Сколько из этих эсэсовцев уничтожили голодные, обмороженные, измотанные восемнадцатилетние пацаны во главе с подполковником Тарасовым?
Этого не узнает никто и никогда.
Потому что десантники не считают, сколько перед ними живых врагов. А мертвых им считать некогда.
Они шли и не знали, что своим отчаянным походом, разрезавшим Демянский котел с севера на юг, они выиграли великую войну.
Но они этого не знали. А многие так и не узнают никогда.
– Воздух!
Колонна, двигавшаяся по просеке, почти моментально рассыпалась по лесу и замерла. Это уже были не те мальчики, три недели назад вошедшие в котел. «Это уже настоящие бойцы!» – с удовлетворением отметил про себя Тарасов.
Немецкий самолет на бреющем пронесся над просекой.
Командиры отчаянно кричали:
– Не стрелять, не стрелять!
А десантники молча смотрели в небо, приподняв винтовки. Команды им уже были не нужны. Они знали, что делать.
Но немец заметил их. Он развернулся, сделав петлю, и снова пошел на снижение.
Бригада замерла, выжидая…
И…
Бомболюки раскрылись.
Вместо бомб посыпались какие-то бумажные листочки.
Они закружились снегопадом в апрельском небе, а самолет сделал еще один вираж, зачем-то помахал крыльями и умчался, скрывшись за лесом.
Бумажки весело падали на лес.
Одна из них упала перед Тарасовым.
Он поднял ее.
Там было отпечатано только два слова на русском:
«Тарасов! Сдавайся!»
Подполковник громко засмеялся:
– Фрицы бумажки на самокрутки подкинули!
Засмеялся слишком громко. Чтобы услышали.
Бригада молчала. А потом кто-то сказал:
– Ссуки, а табачка пожалели…
Десантники заржали в ответ командиру:
– Придется по второму назначению использовать!
– Васька, для второго назначения пожрать надо! Ты попроси фрица, чтобы жрачки подкинул. Глядишь и бумажка в пользу пойдет!
– А я к снежку привык! Только надо с елок брать, он там мягче!
– Конечно, снегом воду вытирать – самое то!
– Га-га-га! Гы-гы-гы!
А еще через минуту бригада снова шла вперед, ориентируясь по компасам и апрельскому солнцу.
Шла, развеселенная немцами.
А просека тем временем вышла к полю, которое пересекала наезженная – немцами, а кем же еще-то? – дорога.
Комбриг с начштабом думали недолго.
Судя по карте, надо было преодолеть всего сто метров до дороги, потом двести от нее – и снова в спасительном лесу.
Всего триста метров. Но немцы те еще хитрюги. Наверняка ждут. Тем более рядом деревня.
Было принято выслать передовой дозор в сторону дороги.
Если там немцы, дозор должен успеть предупредить, прежде чем погибнуть. Если мины – опять же гибелью своей предупредить. Смертники, говорите? Это война. Здесь все смертники. Все. Без исключения.
Тарасов смотрел в спину уходящим через открытое пространство десантникам и верил Богу. Что вот сейчас – хотя бы сейчас! – все обойдется.
Трудно не верить Богу, когда отправляешь людей на смерть…
Трудно…
И пусть там Гриншпун что хочет, то и докладывает. Тарасов открыто перекрестился. И почему-то вспомнил отца… «Живый в помощи Вышняго, в крове Бога небесного водворится…»
А особист шептал про себя: «Шма Исраэль, Адонай Элохейну, Адонай эхад…»
И тот и другой не видели, как напряженно шептал, вытирая пот со лба, Ильяс Шарафутдинов, рядовой из двести четвертой – «Бисмилля ар-рахман ар-рахим…». Шептал и младший лейтенант Ваник Степанян: «хАйр мэр, вор хэпкинс ес…»
* * *
Младший лейтенант Юрчик шел со своей группой первым. Он и увидел первым человека, странно стоящего на дороге.
Не шевелясь.
Словно привязанный к чему-то.
Да к чему?
К столбу, блин.
– Заборских, глянь, посмотри!
Былые подшучивания и пререкания с Юрчиком остались где-то под Малым Опуевом, когда млалей в одиночку ножом зарезал двух здоровенных фрицев.
Сержант подозвал жестом бойца из прибившейся гринёвской бригады – имя его Юрчик так еще и не запомнил. Рядовой и рядовой.
Заборских с рядовым сноровисто поползли к дороге.
Буквально через минуту они перемахнули через подтаявший снежный вал.
– Жарко, блин, – шепнул кто-то рядом с Юрчиком. Млалей не оглянулся. Он напряженно смотрел на сержанта с напарником.
Те подошли к человеку у столба. И вдруг замерли. Стянули ушанки… Через мгновение рядовой бросился к дозору, нечленораздельно крича и махая бойцам шапкой.
А еще через несколько мгновений лейтенант сам смотрел на труп женщины, примотанной колючей проволокой к вкопанному столбу. На груди ее висела картонка с надписью:
«Тарасов! Сдавайся!»
Волосы ее свисали на грудь слипшимися от крови сосульками. А на дороге кровью была нарисована большая стрела в сторону чернеющих невдалеке труб.
Юрчик снял мокрую двупалую рукавицу и приподнял ее голову за подбородок.
Веки отрезаны. На щеках вырезаны звезды. На лбу ножом – «СССР».
Внезапно губы ее шевельнулись.
– Жива, лейтенант, жива… – каким-то рыдающим голосом сказал Заборских.
– Воды! – тонким голосом закричал Юрчик.
Он пытался отвести взгляд от этих карих глаз, но почему-то не мог.
– Мы свои, слышишь, бабушка! Мы свои! Мы – советские люди! Да развяжите ее, мать вашу! – закричал он на бойцов, оцепеневших рядом с ним.
Те словно проснулись и начали разматывать колючку, густо завязанную на спине.
– На… Пей, пей! – Юрчик осторожно прислонил фляжку с водой к губам женщины.
Она судорожно сглотнула несколько раз. Вода обмыла ее подбородок, скатываясь за ворот телогрейки, накинутой немцами на голое ее тело. Одной телогрейки. Штанов не было. И валенок не было. Она стояла босая, голоногая. На ногах спеклась кровь.
Она что-то прошептала. Юрчик не понял. Он наклонился поближе к ее страшному лицу.
– Спаси… Опозд… Спасиб… Дждлася… Пришли. В деревню идите…
Последние слова она выдохнула с силой. Так, что услышали ее все бойцы.
Потом она заплакала.
И перестала дышать.
Умерла.
Дотерпела.
Словно пьяный, младший лейтенант Юрчик повернулся к полузнакомому бойцу:
– До бригады… Дуй… Быстро…
А потом заорал на тех, кто мучался, рвя рукавицы и руки о колючку, пытаясь разогнуть железный узел.
– Быстрее!
– Сейчас, сейчас, товарищ лейтенант!
Юрчика затрясло. Он отвернулся. И повернулся лишь тогда, когда бойцы распутали наконец колючку и опустили женщину на мокрый снег. Телогрейка распахнулась.
И Юрчик потерял сознание, когда увидел, что у нее вырезано…
Они видели уже многое. Многое из того, что человек не должен видеть. Не имеет права видеть. Он видел обмороженные ноги и руки, он видел смерть товарищей, он видел больше, чем можно выдержать. Но сейчас…
Темнота перед глазами рассеялась. Младший лейтенант сидел, качаясь на обочине дороги, и мычал, мычал во весь голос. А потом схватил автомат и, бросив лыжи и вещмешок, побежал, крича, в сторону деревни.
Бойцы, онемевшие вокруг трупа женщины, бросились за ним.
Но, как оказалось, она была права.
Они опоздали.
О том, что здесь была когда-то деревня, напоминали только большие полуразрушенные печи, с широко разинутыми ртами и глазницами. А из этих ртов и глазниц торчали обгорелые человеческие ноги. А на боках печек – сквозь копоть – смешные рисунки.
Вот подсолнухи.
Вот котятки с мячом.
Вот хохлятки с цыплятами.
Вот паренек со своей девчоночкой.
А в центре деревни – журавель с высоко поднятым пустым деревянным ведром. Кто-то из бойцов опускает бадью вниз. Она ударяется о что-то твердое. Боец поднимает ведро. Оно полно крови.
В яме лежит женщина. Одна. С младенчиком. У обоих расколоты ударом приклада головы.
– Робёночка не пожалели, – шепчет кто-то. – Робёночка…
Один дом уцелел.
На правой стене дома прибит большой деревянный крест. На нем распят старик. Раздет догола. Руки, ноги и голова прибиты к доскам железными штырями. Грудь изрезана. Лица почти нет. Кровавое месиво вместо лица.
На левой стене повешена старуха. За волосы. Ноги и руки подрублены. Чтобы дольше вытекала кровь?
К двери прибита собачонка.
Смотреть на все это не было сил. Но десантники шли мимо этого, смотрели. Запоминая…
Бочку, в которую свалены были отрезанные головы стариков.
Трупы женщин, исколотые штыками.
Все еще чадящие останки детей…
Десантникам повезло. Они не видели процесса. Они видели только результат.
Они не слышали крик пятилетнего ребенка, сбрасываемого в колодец. Не детский крик. И даже не человеческий.
Они не видели, как распиливают двуручной пилой тело пятнадцатилетнего мальчика. Как бревно…
Они так и не узнали, что той старухе, которую они нашли, примотанной колючкой к столбу у дороги, было всего семнадцать лет.
Семнадцать лет.
СЕМНАДЦАТЬ!
Взвод зольдат ее насиловал поочередно, пока шла экзекуция деревни. Первым был, естественно, гауптшарфюрер. А потом шарфюрер и прочие шютцеэсэс.
Десантники не видели других деревень. А таких деревень было – тысячи. Десантники прошли только через одну. Не имея ни сил, ни времени хоронить, они оставили все как есть. Шли. Смотрели. Матерились. Молились. Запоминали.
Простите их, если сможете.
Десантники прошли через эту деревню и больше не брали пленных.
Никогда.
23
– Вернемся, конечно, господин обер-лейтенант.
– Итак… Вы получили разрешение на прорыв остатков бригады?
– Да, получили. Мы должны были выйти на участке ответственности генерала Ксенофонтова.
– Это Калининский фронт, я правильно понимаю?
– Правильно, господин фон Вальдерзее. Калининский фронт. Две дивизии должны были ударить нам навстречу, когда бригада подойдет вплотную к линии фронта и изготовится к броску.
Тарасов замолчал, глядя на курящего обер-лейтенанта.
Тот помолчал и не выдержал первым:
– И?
– Мы не смогли выйти к назначенному времени на линию атаки.
– Почему? – Обер-лейтенант прекрасно знал причину, но хотел ее услышать от подполковника Тарасова.
– Почему, почему… Бригаду обложили.
– Мы?
– Вы. Егеря и СС. Обложили так, что мы с трудом прорвались из кольца.
– Понятно… – Фон Вальдерзее тяжело потянулся. – На это мы и рассчитывали, герр Тарасов. Жаль, что не просчитали ваш фанатизм.
– Не понял? – удивился подполковник.
– По всем нормальным законам войны вы должны были давно сдаться. Но не сдались даже тогда, когда ваш лагерь эсэсовцы простреливали насквозь.
Тарасов пожал плечами:
– Это наша загадочная русская душа, господин обер-лейтенант.
Фон Вальдерзее скептически усмехнулся. А Тарасов потер заживающую руку…
* * *
– Терпите, товарищ подполковник… еще минуточку… – Военврач третьего ранга Леонид Живаго мочил бинт и тихонечко отдирал слой за слоем.
Делать этого было нельзя по всем санитарным нормам – рану нельзя мочить. Тем более, талой, только что растопленной на костре водой. Инфекция и все такое… Полшага до заражения.
А что делать, если бинтов нет уже как три дня, а рану перебинтовать надо?
– Терпите, товарищ подполковник…
Тарасов тихо заматерился, когда санинструктор стал аккуратно отдирать кусочки ватного тампона от раны.
– Сейчас… Сейчас… – Медик густо сыпанул стрептоцидом на место раны и снова стал бинтовать, смахнув выступившую сукровицу кусочком какой-то тряпки.
– Чистая, товарищ подполковник, не волнуйтесь, я ее каждый день кипячу и в котелок прячу! – успокаивающе сказал санинструктор.
– А жрешь откуда? – грубо, сквозь слезы сказал Тарасов.
– Да я уж три дня не жрал, не волнуйтесь! – машинально ответил тот. – Вот! Все готово!
Повязка снова легла на плечо. Сухим и относительно белым на рану. Заскорузлым сбоку.
– Вы ею старайтесь не шевелить, товарищ командир, заживет быстрее. А еще вот что… Вы это… Как по-лёгонькому пойдете, зовите меня. Я компресс из мочи сделаю, заживет как на собаке! Лучшее средство, ей-богу!
– Прорвемся, – перебил его Тарасов и натянул поверх гимнастерки свитер. – Обойдемся пока без твоих народных средств. Остальных так же лечишь?
Медик вздохнул:
– А больше уже нечем, товарищ подполковник! Когда уже подброс будет? А?
Тарасов молча посмотрел в глаза санинструктору, а потом, все так же морщась, сунул раненую руку в полушубок.
– Остальные как? – спросил он медика.
– Плохо, товарищ подполковник. Медикаменты нужны. А еще лучше – эвакуация.
Потом подошел чуть ближе и сказал уже шепотом:
– Самоубийства начались, товарищ подполковник! Тяжелые стреляться начали…
На лице Тарасова заиграли желваки.
Но ответить он не успел. Воздух зашипел, а потом снег взорвался черно-бело-красными фонтанами.
– Немцы! – закричали сразу со всех сторон.
– Твою же мать… – ругнулся Тарасов и пополз к временному штабному шалашу, в котором сейчас заседал начальник штаба с командиром разведроты и начальником особого отдела.
Немцы били по большой поляне из своих батальонных минометов, не жалея боеприпасов.
Тарасов перебегал с места на место, громко матеря и разведку, и боевое охранение. Фрицы опять подобрались незаметно и стали бить по расположившейся на дневке бригаде. После ряда стычек они уже не рисковали идти в прямую атаку, швыряя смерть из минометов.
До шалаша осталось уже метров двадцать, как оттуда выскочил Гриншпун и помчался к Тарасову. Один раз разрыв почти накрыл его, но особист умудрился выскочить из него здоровым и невредимым.
– Вот же, сволочное твое счастье еврейское… – ругнулся на него Тарасов, когда тот упал рядом с подполковником.
– Ефимыч, – заорал Гриншпун на ухо командиру. – Ефимыч, бригаду поднимай! Положат здесь к чертям собачьим!
– Не ори, не глухой, – зло ответил тот и снова пригнул голову. Очередной разрыв осыпал их обоих мокрой землей. – Что там Шишкин надумал?
Гриншпун не успел ответить. Он навалился на Тарасова, прикрывая его еще от одного разрыва. Подполковник сдавленно заорал:
– Да слезь ты с меня! Озверел совсем без бабы, что ли?
– Шишкин…
Грохот минометного обстрела становился все больше. Свист и грохот. Грохот и свист. Причем свист страшнее. От миномета непонятно, куда упадет мина. Каждая кажется твоей.
– Да слезь ты, – яростно спихнул особиста с себя Тарасов.
Тот молча и как-то вяло сполз с него.
– Эй, ты это… Гриншпун! Борис, мать твою!
Вместо ответа особист кивком показал куда-то за спину Тарасова.
Тот оглянулся.
Шалаша, в котором только что проходило заседание штаба, больше не было. А на его месте дымилась воронка. Маленькая. Совсем не глубокая. Сантиметров тридцать в глубину. А рядом с воронкой лежали валенки. Подшитые кожей.
Начальник штаба Шишкин такие себе сделал несколько дней назад. Подошвы у него совсем расползлись. Вот он и снял ботинки с немца и подшивочку себе сделал. Самостоятельно.
Жаль, не помогло.
– Малеев жив? – задал сам себе глупый вопрос Тарасов.
А потом ответил сам же себе:
– Бригада! А ну вперед, за мной!
И побежал, перепрыгивая замершие тела десантников и ныряя в дым минометных разрывов. Побежал в сторону, откуда должны были лупить немецкие минометчики.
Но обстрел внезапно прекратился. Словно фрицы почуяли отчаянный рывок бригады.
* * *
Редко кто бывает в апрельском лесу.
Март уже не наращивает наст за ночь, а май еще не растопил остатки зимы.
Снег еще глубок, но уже рыхл и мокр. С еловых лап то и дело соскальзывают мокрые сугробы, апрельское солнышко мирно звенит капелью.
Птицы радостно кричат – а как же! Сезон размножения на носу! Звери начинают беспокойно крутить следами по тающим сугробам, выбирая себе пары на лето.
Но это обычно. Когда нет войны.
А когда война, птицы испуганно теряются в стальном дожде, падающем с неба, а звери стараются уйти подальше, подальше – кто на запад, кто на восток. Смотря по какую линию фронта зверь находится.
Молодой медведь – да какой там медведь? Так, медвежонка, всего первую зиму отночевавший, сидел и бережно баюкал правую переднюю лапу, висящую на сухожилиях.
Баюкал и плакал. Слезы на его морде смешивались с кровью – такой же красной, как у человеков. Морда была глубоко поцарапана осколками какой-то круглой железной штуки, на которую медвежонка ненароком наступил. Он раскачивался из стороны в сторону и время от времени взревывал, словно жалуясь небу на боль.
Вдруг он почуял чужой запах. Страшный какой-то запах. Не медвежий. Он привстал, но тут же снова присел. Голова у медведя кружилась от боли и потери крови. Он попытался зарычать, но у него не очень получилось, потому что запах стал еще сильнее. Из ельника вышло двуногое существо белого цвета. Существо что-то залопотало, громко забухтело и сняло с плеча какую-то палку. Медведь снова попытался встать – страх и злость придали ему сил. Но существо не испугалось оскаленной пасти зверя. Оно замахало лапой, и из кустов вышли еще трое таких же. Тоже с палками в руках. От них пахло очень плохо. Как от той круглой штуки, которая сделала больно его лапе.
Первый поднял палку, приложил к плечу.
Медвежонка пошел навстречу существу, стараясь напугать его молодыми зубами. Лапу он все так же баюкал. Было больно.
Вдруг откуда-то слева что-то громыхнуло, у существа разлетелась голова, в воздухе запахло кровью и…
И мишка, смешно ковыляя на правую лапу, побежал дальше, дальше вдаль, до безумия, до расстройства живота, боясь всего на свете, а особенно этих существ, раскидавших по лесу боль, смерть и страх.
Мишка так и не узнал, что все, кто его напугал, упали убитыми на прогалинке, смешав свою кровь с его. Он пробежал всего лишь сто метров и подорвался на мине снова. На этот раз – смертельно.
А еще через полчаса трое десантников, с лихорадочно блестевшими глазами, свежевали тушу молодого медведя.
– Ну ты молодец, Гриш! Как немца завалил! С одного выстрела! – восхищался черноокий рядовой Багиров.
– Мишка помог, Вагиз! Немцы на него отвлеклись, – ответил ему рядовой Гриша Невстроев, командир отделения второй роты третьего батальона. – Да и вы быстро сообразили! Молодцы! Тремя очередями четверых вальнули! А ну, помоги!
Бойцы с трудом перевернули тушу медведя.
– Ты где так резать зверя научился? – облизнул сухие губы тоже рядовой Петя Черепов.
Впрочем, все трое были рядовыми.
Оставшиеся в живых сержанты уже командовали взводами, а некоторые и ротами. А все отделение состояло из трех бойцов.
– Приходилось в мирное время, – без тени усмешки ответил Невстроев.
– На охоту хаживал?
– Угу…
Гриша отрезал от туши кусок свежего мяса. И, сунув его в рот, закрыл глаза от наслаждения:
– Эх, соли бы сейчас… – пробурчал он сквозь набитый рот.
Вагиз и Петя с оторопением смотрели на него.
– Парное, – наконец проглотил он кусок. – Да жрите вы! Чего смотрите!
Невстроев отрезал от лапы кусок побольше и снова начал жевать его. И опять зажмурился.
Вагиз осторожно спросил:
– Гриш, а можно разве сырое-то?
– Можно, – не открывая глаз, ответил тот. – Лучше бы мороженое мясо, конечно. Строганинка называется. И перчика бы с хреном сверху…
Первым не выдержал Петя Черепов. И принялся яростно ковыряться во внутренностях мишки.
– Печень не жри. Там паразитов полно могет быть, – икнул Невстроев.
– А остальное?
– Мясо с лап жри. А ты, Вагиз, что? – спросил он рядового Гайнуллина. – Вера не позволяет?
– Какая еще вера… Комсомолец я! – И тоже принялся кромсать теплое, дымящееся кровью мясо молодого медведя.
За полчаса три молодых организма с успехом умяли лапу медведя, обглодав ее почти до кости. Ссохшиеся желудки уже были полны, но глаза требовали – еще, еще, еще! И они лопали мясо, заедая железистый вкус во рту истоптанным снегом.
Лопали и не заметили, что там, откуда они ушли, оставив свой пост, всего лишь в сотне метров от туши погибшего на мине медведя, за их спинами к бригаде прошла пятерка фрицев. А потом еще одна. А потом еще. До трех взводов, включая две батареи минометов.
Гриша, Вагиз и Петя опомнились уже тогда, когда в тылу началась канонада.
Война вернулась, сорвав пелену сытости и дурмана.
Не сговариваясь, все трое вскочили на лыжи и побежали обратно по своим следам. Стараясь не сходить с лыжни. Мишка, конечно, протоптал по минному полю тропку, вот по ней они и ходили в «лесную столовую», как обозвал медведя Вагиз, а сейчас по ней же спешили обратно.
– Мать твою! – шепотом ругнулся Григорий.
Трупы немцев они оттащили в сторону и закидали их снегом, предварительно обыскав и не найдя ничего съедобного. Там они и валялись, падлы, незаметные для стороннего глаза. А вот на снегу лыжных следов прибавилось. И вели они в ту сторону, откуда шла пальба.
– За мной! – махнул рукой командир отделения. – Вагиз слева, Петя справа!
Сам же пошел по следам.
Им повезло.
Немцы не додумались выставить боевое охранение с тыла. Они выставили егерей вперед, верно зная, что бригада лежит на дневке. Недаром самолеты кружат и кружат над лесом. А вот наших «ястребков», как обычно, не видать!
Один расчет вынесли почти сразу. Немцы даже не поняли сначала, что произошло. Упал один подносчик, другой, потом заряжающий…
А потом немцы забегали, заорали что-то на своем. Из леса тут же подтянулась пехота, залегшая где-то впереди.
Да не простая пехота. Егеря. Очень уж грамотно они начали отжимать от позиций минометчиков отделение рядового Невстроева. Пришлось отползать под огнем. И огнем метким. Почти сразу же замолчал автомат Пети Черепова. От отделения, похоже, осталось лишь двое.
– Вагиз! Вагиз! Слышишь меня? – орал, ткнувшись в снег, Гриша.
– Слышу, командир! – донесся крик азербайджанца. Первый раз, между прочим, командиром назвал…
– Уходи влево! Я вправо дерну! Растащим фрицев!
– Не могу, командир! Я в задницу ранетый! – проорал ему Вагиз.
– Чтоб тебя… – ругнулся Невстроев и пополз в сторону Багирова.
Но тут же замер, застонав. Пуля больно ударила его в левое плечо, отрикошетив от каски. Потом еще одна. Уже сама по себе. Рука тут же онемела.
– Хана мне, командиииир! – раздался вдруг стонущий крик Вагиза. – Подходят, кажетсяаааа…. Аааааааа! Ааааа…
Взрыв разметал остатки крика по лесу.
Еще несколько пуль воткнулись в спину Гриши, выбив из маскхалата красные брызги.
«Ну, все. Убили…» – подумал он, сдергивая кольцо с единственной в его отделении гранаты типа «Ф-1». «Хорошо, хоть пожрать успел…» И потерял сознание. В себя он уже не пришел, но рука его разжалась именно тогда, когда к его телу осторожно подходили трое немцев из ягд-команды эсэсовской дивизии «Мертвая голова».
А Петю Черепова подобрали уже после стычки, когда бригада ворвалась на позиции, оставленные фрицевскими минометчиками. Ему повезло. Единственная пуля вошла ему в висок и вышла из другого, не задев каким-то чудом кости черепа. Его эвакуировали в лагерь раненых на Гладкое болото, где он шутил, приходя время от времени в сознание:
– А нет у меня мозгов! Вот немец и не убьет меня! И фамилия моя сокровенная – Черепов! – А сам все вспоминал Гришку и Вагиза…
Мишку, кстати, съели в тот же вечер. Вместе с костями и печенью.
24
– А вы, Николай Ефимович, поддерживали связь с тем батальоном, который ушел на старую базу?
– С батальоном капитана Жука? Пока была возможность – поддерживали, – ответил Тарасов.
– Каково положение было у них?
– Насколько я знаю, их постепенно эвакуировали оттуда. До наступления оттепели самолеты регулярно садились на болото.
– А когда снег стал таять? – продолжал спрашивать немец.
– А этого я уже не знаю. По объективным причинам, – Тарасов машинально коснулся белой повязки на голове.
– Тогда предположите, герр подполковник! Вы же должны хорошо знать Жука. Что он будет делать, когда самолеты будут не в состоянии приземляться?
Тарасов посмотрел в окно. Снег на улице уже давно превратился в жидкую кашу. Уже при первой попытке прорыва часть десантников побросала лыжи. Действительно, не сегодня завтра Жук останется без связи с Большой землей. И что тогда?
– У Жука есть два варианта. Либо ждать, когда земля высохнет, либо идти на прорыв, – ответил комбриг обер-лейтенанту.
– И то, и другое – самоубийство, – усмехнулся фон Вальдерзее. – В первом случае – медленное, во втором – быстрое. Но есть и третий вариант. Вы можете обратиться к своим солдатам и уговорить их сдаться. Так будет проще всем. Мы относимся к пленным гуманно, вы – живой пример. Гарантируем им медицинскую помощь, еду, безопасность.
Тарасов посмотрел в голубые глаза немецкого аристократа. И вспомнил вдруг ту деревню. И покачал головой:
– Нет.
– Вы отказываетесь помочь своим солдатам? Мне кажется, это ваш прямой долг командира – беречь их!
– Мой долг как командира – выполнение поставленной боевой задачи. Я ее выполнить не смог, а потому я им больше не командир, – жестко ответил Тарасов. – Тем более, это же десантники.
– Фанатики?
– Комсомольцы. Они, скорее, застрелят меня, если я приду к ним с таким предложениям.
– Вы не поняли. Никто вас не собирается отправлять на это болото, – усмехнулся фон Вальдерзее. – Мы сделаем листовку, и с нее вы обратитесь к своим бойцам.
– Нет. Ничего писать я не буду, – снова покачал головой Тарасов.
– Напишем мы. Вы подпишите.
– И подписывать тоже не буду.
– Вы упрямец…
С этим Тарасов согласился.
– Значит, вы отказываетесь сотрудничать с нами? – прищурился обер-лейтенант.
– А вот этого я не говорил… – подполковник улыбнулся. Правда, улыбка получилась кривой. Наверное, из-за ранения. Наверное…
* * *
По какому-то странному совпадению – именно в тот момент, когда подполковник Тарасов и обер-лейтенант фон Вальдерзее обсуждали судьбу первого батальона, капитан Жук обходил своих бойцов.
Раненые отлеживались в своих шалашиках, ожидая ночных «уточек». Они не знали, что самолетов больше не будет. Вообще. Невозможно сесть на перемешанную жижу из стремительно тающего снега и болотной грязи. Разве что на поплавках. Не на лыжах. Только вот не было у авиации Северо-Западного фронта поплавков для «У-два». Последний самолет пару ночей назад так и не смог взлететь, завязнув по брюхо в болоте. Летчик ходил вокруг машины мрачный – все заглядывал под крылья, проверял зачем-то расчалки.
Да и в шалашах спать было уже почти невозможно. Вода протекала через хвойные подстилки, не обращая внимания на мат десантников. На этот же мат не обращали внимания и немцы, сменившие тактику.
По лагерю три раза в день открывала стрельбу какая-то батарея. И ведь ровно по расписанию. В девять, в час и пять пополудни.
«Завтрак, обед и ужин», – мрачно шутили десантники.
Количество раненых и убитых росло.
Необходимо было что-то предпринять. Но что? Идти по этой густой жиже почти сотню километров и с боем прорываться через линию фронта? С ранеными на руках?
– Твою же мать, все руки отбил… – внезапно сказал один из бойцов, когда Жук проходил мимо.
Капитан повернулся к десантнику. Этот был не из его батальона. Легкораненый.
– Фамилия, рядовой? Сиди, не вставай.
– Рядовой Пекахин, товарищ командир, – глядя сверху вниз, ответил боец.
– Почему ругаешься при комбате? – Война войной, а дисциплину поддерживать надо.
– Диск никак не могу зарядить, – пожаловался Пекахин. – Пальцы поморозил, не слушаются.
И впрямь. Диск для «ППШ» на семьдесят два патрона и здоровыми руками зарядить сложно. Пружина так и норовит выскочить и в лоб дать. Собирай потом патроны в снегу, ага… А пальцы у парня и впрямь… Почерневшие, опухшие…
– Это ерунда, боец. Главное, чтобы обмороженными пальцами ширинку вовремя расстегнуть, иначе…
– Иначе что?
– Валенки обледенеют.
И Жук пошел дальше.
Бойцы, слышавшие диалог, немедленно заржали. А ведь и впрямь. Ночью до минусовых температура еще опускается. Уснешь в мокрых – скукоживаются, обледеневают. У большинства валенки уже истерты до дыр. Вон, пацан сидит, пытается из обломка лыжи к дырявой подошве дощечку примотать. Проволочкой.
– Ботинки бы взял с убитых, – сказал ему капитан.
– Не могу, товарищ капитан…
– Да сиди, сиди. Экономь силы. Почему не можешь?
– Мама не велела с мертвых брать, – ответил боец и продолжил свое нелегкое дело.
– А босиком по снегу мама велела бегать?
– Нет, конечно, товарищ капитан. Велела беречь себя.
– Вот и береги, боец. Иди к врачам и подбирай себе обувь с убитых. И не майся херней. Бегом! – рявкнул неожиданно комбат.
Боец аж подпрыгнул от неожиданности. Из положения сидя.
– А у тебя чего, Петряев? – Этого Жук помнил.
– Да вот лыжу поломал… – вздохнул ефрейтор Петряев.
– А на хрена бинтуешь?
– Так больше нечем, товарищ капитан!
– Думаешь, поможет?
– А я не попереком, я вдолем сломал, товарищ капитан, – удрученно вздохнул Петряев.
– Ты как умудрился-то? – удивился комбат.
Вместо ответа ефрейтор только пожал плечами. И продолжил бинтовать длинную трещину, расколовшую лыжу до самого крепления.
– Думаешь, пройдешь по этой чаче? – кивнул Жук на окружающую грязь.
– Имущество-то казенное, товарищ капитан! – хозяйственно ответил ефрейтор. – Как бросить-то?
На это Жук только покачал головой.
И пошел дальше.
Оглядывать свое измученное воинство в грязно-черных, дырявых маскхалатах.
А под утро батальон неожиданно для немцев ударил по позициям, находившимся по другую сторону оттаявшего болота. Как десантники прошли через жижу и топь, волоча за собой раненых, проваливаясь в ледяную топь порой по грудь, никто, кроме них самих, не знает. Боевое охранение немцев тоже об этом рассказать не смогло. Сдохли, сволочи, вырезанные штык-ножами от «СВТ». А не надо спать у костра хваленым эсэсовцам.
И сводный батальон капитана Жука, прорвав окружение, вышел на так называемый «оперативный простор» и пополз к северной дуге Демянского котла.
Не помчался, не понесся, не пошел – именно пополз…
* * *
Раз – шаг, два – шаг, раз – шаг, два – шаг…
Сколько таких шагов надо сделать, чтобы пройти семьдесят километров по мокрому снегу?
Примерно восемьдесят тысяч пятьсот шагов. А по времени? Смотря где и как… Не по мягкой земле, не по горячему асфальту, а по апрельскому снегу, проваливаясь по колено, иногда по пояс…
Раз – шаг, два – шаг…
На шее болтается автомат «ППШ». Бьет в грудь диском. При каждом шаге. В одно и то же место.
Раз – удар. Два – удар.
Грудь болит от этих постоянных ударов.
Андрей попытался поправить ремень волокуши, чтобы удары эти смягчались об него. Не очень помогает. Через несколько шагов ремень сползает. Диск автомата снова бьет по одному и тому же месту.
– Живой? – Андрей хрипит примерно через каждые сто шагов.
– Угум, – мычит в ответ раненный в грудь – навылет и всего лишь пулей – раненный. Андрей не знает, как его зовут. Не удосужился.
Иногда Андрей начинает говорить с ним:
– Интересно, нам послевоенный билет выдадут потом? Хотя я бы его на довоенный лучше бы поменял. Ты как считаешь?
– Угум…
– Понятно…
И еще пару шагов.
– Ты только это… Не расслабляйся. Дорога еще долгая. Не близко мне. Тебя звать-то как?
– Угум…
– Угу, угу… – Андрей подтянул ремень «ППШ». Чтобы бил по другому месту. И снова зашагал.
Иногда падал. Идти по талым сосудам весеннего снега несколько тяжело.
Иногда падал специально, чтобы отдохнуть. Усталое тело все же требовало отдыха.
– Сто грамм бы сейчас. И покурить, да? Впрочем, тебе курить не надобно пока. Угу?
– Угум…
– И хлебушка…
– Угум…
– Нормально чего-нибудь можешь сказать?
– Мммм…
– Тоже не плохо… Идем?
– Угум…
Андрей снова зашагал вперед. Колючие ветки подъельника порой били по лицу. Сначала он оборонял лицо рукой. Потом перестал. Тугая веревка волокуш сильно сдавливала грудь. Он просовывал под нее больные ладони в дырявых рукавицах. Но тут же выдергивал их обратно. Слишком больно веревка елозит по волдырям, сдергивая кожу.
Андрей шагал и шагал по следам батальона, незаметно отставая от него.
На второй день он упал.
– Не могу больше. Отдохну часик. Жив?
Раненый на волокуше молчал.
– Помер?
– Ммммм… – подал голос тот.
– Хрен с тобой, – устало ответил Андрей. – Наши потерялись. Иду по следам, пока. Слышишь?
Ответа не было.
На третий день он подполз к березе. Достал штык-нож. Срезал старую бересту. Потом стал отдирать молодую. Под тонкими одеждами березки обнажилось молодое зеленое тело. Он приник губами к этой зелени, слизывая влагу. Потом вгрызся зубами в эту зелень.
– Вкусно. Хочешь? Я тебе срежу кусочек.
Ответа нет.
Сколько времени прошло? Ни Андрей, ни раненый не знали. Потерялись во времени. Хорошо – не в пространстве. В путь они отправились, когда Андрей съел всю свежую кору с дерева. Вроде насытился. Под зеленью свежей коры была сладкая, но совсем не жующаяся древесина…
– …Ты красивый, – шептала она ему тогда. – Красивый и добрый. Пообещай мне, что вернешься, ладушки?..
Он кивал и делал еще шаг.
– Лен, ты потерпи, я вернусь, ты только жди, ладно?
Она шла перед ним. Маня к себе. Она – шаг. Он за ней. Он – шаг. Она от него.
– Вернись, мой хороший…
Иногда он засыпал.
Потом просыпался и снова полз вперед.
Они должны дождаться. Должны!
Однажды ночью у него здорово прихватило живот. Андрей снял с себя веревку волокуш. Отполз в кусты. Расстегнул маскхалат. Снял его. Потом снял штаны. Сел, навалившись на какое-то дерево. Открыл глаза. Перед ним, мохнато распустившись почками, свисала ветка. «Верба…» – понял он. Помнил из далекого детства, бабушка домой приносила. Верба, да, Вербное воскресенье, да… Острая боль схватила низ живота. Он поднатужился. Не получилось. Он сломал ветку. Не удержался – обглодал мохнатки. Натужился еще. Потом заострил зубами конец ветки. И стал выковыривать из себя вчерашнюю березу. Потом потерял сознание.
Когда пришел в себя – потерял счет дням.
Просто полз.
Раненый на волокуше уже давно не отвечал.
Но Андрей с ним продолжал разговаривать:
– А ты не молчи, не молчи! Помер, поди? И что, это мешает тебе разговаривать? Ты же комсомолец, ты должен!
Иногда он спал. Свернувшись в клубок.
Иногда просто лежал, смотря в голубое апрельское небо.
Иногда просто полз.
Иногда снова терял сознание от боли в животе.
А потом он увидел людей.
Они подходили к нему со всех сторон. Выставив вперед винтовки. «Фрицы… – понял он. – Переодетые. Это они специально в полушубках и ушанках…»
Он стянул со спины автомат. От усталости ткнулся лицом в снег, мокро резавший лицо осколочками льдинок. Прицелился в одну из надвигавшихся фигур. Фигура упала еще до того, как он нажал на спусковой крючок. Автомат почему-то не заработал. «Предохранитель…» – подумал десантник, но сдвинуть кнопочку не смог. Пальцы обессилели. Полез в подсумок за родной «лимоночкой». За последним шансом.
Но лишнее движение обессилило его, и он опять потерял сознание.
Шел день шестой.
А потом он очнулся в госпитале, где-то под Москвой. Вместе с тем раненым, которого, как оказалось, звали Ильшатом. Как и почему тот оказался жив, никому не известно. Только Аллаху, но тот никогда об этом не расскажет…
А батальон капитана Жука вышел из окружения. Почти в полном составе.
Бойцы того стрелкового полка изумленно провожали взглядами тощие, черные тени, тащившие на себе живых и мертвых.
Десант своих не бросает.
– Ильшат? Жив? – Первое, что Андрей увидел – знакомое лицо на соседней койке.
– Жив, Андрюха! Жив! Повоюем еще? – улыбнулся Андрею до боли незнакомый парень.
– А то! – Андрюха показал большой палец. И подмигнул.
– Тьфу, вояки… – заворчал какой-то старик и отвернулся лицом к стенке.
– Повоюем, братка. Повоюем еще! – засмеялся Ильшат. А Андрюха кивнул им обоим и уставился в белый потолок, закинув руки под голову. И улыбнулся. Жизнь продолжалась. Продолжалась и война.
Но война уже где-то там. А они пока в палате госпиталя. Ленка его дождется… Обязательно дождется…. Наверное… Снотворное сработало…
Как оказалось, они вышли четырнадцатого апреля. Спустя полтора месяца после начала операции.
25
– Однако к батальону вашего Жука мы еще вернемся, герр Тарасов. Расскажите мне вот о чем… Что произошло с вашей бригадой под деревней Черной?
– При первой попытке прорыва?
– Да, – ответил фон Вальдерзее.
– Как я уже говорил, бригада должна была выйти к деревне к назначенному сроку, но не смогла. Мы опоздали на сутки. Дивизии генерала Ксенофонтова должны были ударить раньше. Но, насколько я помню, никаких следов боя мы там не обнаружили. Естественно, при атаке деревни из замаскированных блиндажей и дотов по бригаде ударили пулеметы, был интенсивный минометный огонь, с флангов били два орудия. Первая волна десантников была буквально моментально скошена огнем. Мы потеряли, примерно, около сотни бойцов.
– Сто двадцать, если быть точнее.
– При отсутствии поддержки атака была бы губительной. Особенно если учитывать моральное и физическое состояние личного состава, а также дефицит боеприпасов. Но я хорошо помню, что деревня была практически целой. Ни свежих пепелищ, ни воронок – как будто в тылу.
– Это так, как будто в тылу, – подтвердил обер-лейтенант. – Атаки с внешней стороны не было. Более того, между деревней Черной, где форпост нашей обороны, и до линий русских окопов – не менее трех километров.
– И они не сосредотачивались для атаки? – мрачно удивился Тарасов.
– Насколько я знаю – нет.
– Мда… А радиограммы говорили совсем о другом.
– О чем?
– Ну, дословно я сейчас не вспомню, но смысл сводился к следующему…
* * *
– Они обезумели… – покачал Тарасов головой. – Они там точно обезумели…
– Что там, Николай Ефимович?
– На, читай… – Тарасов протянул лист радиограммы Гриншпуну:
Тот читал, и глаза его расширялись с каждой секундой:
«Тарасову: Я продвигаюсь западнее и восточнее Черной. Двадцать третья и сто тридцатая стрелковые дивизии еще не заняли эти населенные пункты. Совместными усилиями мы прорвемся к Черной с запада и востока и обойдем их с севера и северо-запада. Эти действия будут отмечены красной и зеленой сигнальными ракетами. Я готов открыть артиллерийский огонь по Старому Маслову, Новому Маслово, Икандово, Лунево, Пеньково, Старое Тарасово и Новое Тарасово. В ходе марша к Луневу и Осчиди по радиосигналу откроем артогонь по указанным точкам. Ксенофонтов.»
– Господи, да мы уже километрах в двадцати от Черной! – вспомнил бога неверующий, естественно, особист. – Что делать будем, товарищ подполковник?
– Что делать, что делать… Снимать штаны да бегать! Все одно они у нас дырявые. Вот что. Уходим дальше, на север. Если этот поганец не врет… Да не смотри ты так, особист! Я и в лицо ему скажу, что он поганец! Так вот, если он не врет, немцы стянут к месту боя резервы. А мы рванем в обратную сторону.
– На север?
– Да. Прорвемся через дорогу, выйдем на старую базу, а уже оттуда будем выходить к нашим. Как, особист?
– Николай Ефимович, я ж вашей военной тактике не обучен… Мое дело предателей и шпионов отлавливать… – пожал плечами Гриншпун.
– Да знаю я… – тяжело вздохнул Тарасов. – Отвечать-то мне…
– Воздух!
Десантники рассыпались по лесу, мгновенно замерев.
А по небу шли…
Четверка штурмовиков и четверка сопровождавших их «ястребков» – «И-шестнадцать».
– Наши! Наши! – радостно покатилось по бригаде.
Тарасов долго смотрел на самолеты. Наши… На душе стало как-то тепло – вот они, наши, совсем рядом!
– Куда, интересно, они идут? – спросил кто-то рядом.
Тарасов, не отводя взгляда от краснозвездных силуэтов, ответил:
– На штурмовку аэродрома, скорее всего… Как раз в том направлении.
Потом пробормотал:
– Удачи вам, ребята…
Когда самолеты скрылись, десантники – без команд и приказов – снова были готовы двигаться вперед. И пошли. Тарасов и Гриншпун шли впереди колонны.
Зима временно отвоевала свои позиции. Ночью снова были атака морозов, и оттепель отступила куда-то на юг. Каша из снега вновь превратилась в лед. Идти так было легче. Хотя бы ноги не проваливаются в ледяную жижу.
Минут через двадцать боевой дозор доложил, что впереди проселочная дорога. Ненаезженная, хотя следы колес имеются.
Недолго посовещавшись, Тарасов решил двигать по дороге. Если верить карте, оставшейся от Шишкина, дорога должна была вывести к той самой трассе, Демянск – Старая Русса, через которую они с таким трудом совсем недавно прорывались.
И только бригада двинула по ней, как вдруг небо вновь наполнилось гулом моторов.
Опять появились самолеты.
Один «ястребок» и четыре…
Нет, не «Ила». Четыре «мессера». Они обложили нашего с боков, зажали сверху и снизу и, диктуя ему путь пулевыми трассами, отчетливо видными в голубом и прозрачном воздухе, взяли его в двойные «клещи».
– А что он не стреляет-то, а братцы, чего не стреляет? – шептал кто-то. – Патроны, что ли, кончились?
Летчик и правда не отстреливался. Он предпринимал редкие попытки вырваться из «клещей», но пулеметные очереди вновь и вновь преграждали ему путь.
Тарасов понял. Немцы преграждали ему путь. Хотели посадить на свой аэродром.
Вдруг наш самолет резко взял вверх, пытаясь нырнуть под верхнего немца, прижимавшего его к земле. Но не успел, короткая очередь прошила «ишачка». Он задымил и нырнул вниз, полого падая в лес. И рухнул.
«Мессеры» недолго покружили над местом падения советского истребителя и умчались домой.
Тарасов, завороженный безнадежным воздушным боем, вдруг резко очнулся.
– Разведка! Трех бойцов к месту падения! Выяснить и доложить, что с летчиком! И бегом обратно!
Разведчики малеевской роты рванули через заснеженный еще лес в сторону столба дыма…
* * *
Десантники, вроде бы уже привыкшие ко всему, растерянно топтались на краю леса. Осенью прошлого года здесь был страшный бой – видны были занесенные снегом траншеи, блиндажи, огневые точки. Посреди поля, склонив хоботы пушек, чернели несколько танков. А в снег вмерзли тела наших бойцов и немецких солдат – везде. На брустверах, у танков, на опушке.
Вот недалеко, у опушки, возле обезглавленной снарядом толстой сосны, валяются немцы с размозженными черепами, с раздробленными лицами. В центре, поперек одного из врагов, лежит навзничь тело огромного круглолицего большелобого парня без шинели, в одной гимнастерке без пояса, с разорванным воротом, и рядом винтовка со сломанным штыком и окровавленным, избитым прикладом. Под закиданной песком молодой елочкой, наполовину в воронке, также назвничь лежит на ее краю молодой узбек с тонким лицом. За ним под ветвями елки виднеется аккуратная стопка еще не израсходованных гранат, и сам он держит гранату в закинутой назад мертвой руке, как будто, перед тем как ее бросить, решил он глянуть на небо, да так и застыл.
И дальше трупы, трупы, трупы… В грязно-зеленых шинелях и стеганых ватниках. Исклеванные воронами и обглоданные волками. Вот и несколько ворон хрипло каркают над полем боя.
Разведчики подошли к летчику, упавшему прямо здесь, на изорванную войной землю. Он лежал в нескольких метрах от дымящего, так и не взорвавшегося своего истребителя.
– Видать, выбросило из кабины, – шепнул один из разведчиков.
Летчик явно был мертв. Не шевелился, не дышал, не стонал… Десантники проверили его карманы – документов, как полагается, не было. Только «ТТ» – личное оружие пилота. Брать не стали. Лишнюю тяжесть только нести.
Десантники отправились обратно.
И где-то через километр они наткнулись еще на одну страшную картину. В то время как там, на поляне, шел бой, в лощине, в зарослях можжевельника, располагалась, должно быть, санитарная рота. Сюда относили раненых и тут укладывали их на подушках из хвои. Так и лежали они теперь рядами под сенью кустов, полузанесенные и вовсе засыпанные снегом. С первого взгляда стало ясно, что умерли они не от ран. Кто-то ловкими взмахами ножа перерезал им всем горло, и они лежали в одинаковых позах, откинув далеко голову, точно стараясь заглянуть, что делается у них позади. Тут же разъяснилась тайна страшной картины. Под сосной, возле занесенного снегом тела красноармейца, держа его голову у себя на коленях, сидела по пояс в снегу сестра, маленькая, хрупкая девушка в ушанке, завязанной под подбородком тесемками. Меж лопаток торчала у нее рукоять ножа, поблескивающая полировкой. А возле, вцепившись друг другу в горло в последней мертвой схватке, застыли немец с молниями СС на рукаве и красноармеец с головой, забинтованной кровавой марлей.
Так их и похоронила метель – хрупкую девушку в ушанке, прикрывшую своим телом раненого, и этих двоих, палача и мстителя, что вцепились друг в друга у ее ног, обутых в старенькие кирзовые сапожки с широкими голенищами.
Один из разведчиков потянулся к кинжалу, но второй остановил его руку, молча покачав головой.
И так же молча и практически бесшумно разведка скрылась в густых зарослях, унеся память об этих местах в своих обожженных сердцах.
А на дороге шел бой.
Впрочем, боем это назвать было сложно.
Дозор засек два вездехода, неторопливо двигавшихся по проселку. Десантники неторопливо рассыпались по обоим краям дороги и залегли. Когда вездеходы с эсэсовским патрулем втянулись, с обеих сторон ударили пулеметами, и все было кончено за несколько минут.
Каким-то чудом уцелел один офицер, которого сейчас и допрашивали Гриншпун и Тарасов. Как и следовало предполагать, немцы патрулировали все дороги, надеясь перехватить в очередной раз ускользнувших тарасовцев. В общем, ничего нового.
Когда Тарасов отошел в сторону, а Гриншпун кивнул своим автоматчикам, один из прибывших разведчиков вдруг выступил вперед и сказал:
– Товарищ капитан, разрешите нам! Мы…
– А вернулись! – перебил его Тарасов. – Ну что там с летчиком?
– Погиб… А еще… – И разведчики, волнуясь и перебивая друг друга, рассказали о том, что видели.
Тарасов и Гриншпун играли желваками, слушая рассказ. После рассказа о санроте Тарасов махнул рукой, а Гриншпун разрешил:
– Действуйте, только быстро!
С немца стащили шинель, потом штаны. Мундир оставили. Потом в одних подштанниках привязали к дереву. Тот в ужасе вертел головой и что-то лопотал.
– Мутер, мутер… Будет сейчас тебе мутер, да не вертись ты! – Один из бойцов ударил коленом эсэсовца в пах. Тот заскулил от боли, но дергаться перестал. Второй боец в это время вытащил из немецкого френча записную книжку. Вырвав из нее листок бумаги, написал на ней немецким же химическим карандашом:
«За чем придешь – то и найдешь!»
И приколол иголкой над нагрудным карманом.
Затем подумал, вырвал еще один лист и написал крупнее: «СОБАКА!» Приколол рядом.
Когда офицера привязали, третий разведчик подобрал со снега чей-то еще блестящий клинок и прочитал на нем надпись:
– Майне ере хайст тройе… Это что значит, Вань?
– Его честь – его вера. Или верность. Да кто ж этих гансов, Коль, разберет, – ответил Ваня.
– Верность, говоришь? – Разведчик задумчиво повертел кинжалом и внезапно резанул немца этим клинком по горлу. – Эх, фюрера бы ихнего так…
Немец задергался, захрипел…
– Крови-то как со свиньи, – сказал третий, отойдя подальше, чтобы не запачкаться. – Мужики, у меня еще сухари есть. Держите!
Он протянул по сухарю двум своим боевым друзьям. Не заметил, как один из сухарей выпал на землю. И будет этот сухарь там лежать еще пару дней, пока его не найдет тот самый летчик, оказавшийся живым. Он будет ползти эти несколько километров семь дней, потому как у него были раздроблены ступни. Но он доползет, и этот сухарь поможет ему протянуть еще чуть-чуть, пока он не доберется до своих.
Впрочем, это будет через семь дней, а пока трое разведчиков грызли свои сухари и смотрели на дохлого немца, а рядом горела фашистская техника, валялись трупы вражеских солдат. Десантники шагали мимо по дороге, разглядывая их и этих трех своих товарищей.
Шли молча – кто-то навстречу смерти, кто-то навстречу победе, кто-то к безвестию. Но все к вечной славе…
26
– Кстати, господин подполковник, сталкивались ли вы с партизанами? – продолжал допрос фон Вальдерзее.
– Да, связь с ними держали. Но уже в самом конце операции. Они здорово помогли бригаде, сопровождая обессилевших десантников на болото Гладкий Мох, – ответил Тарасов.
– А там?
– А там их эвакуировали авиацией. Надеюсь, всех.
– Как зовут командира партизанского отряда? – Тарасов очень хотел узнать, все ли в порядке с его бойцами, но обер-лейтенант продолжил уточнять данные по партизанам.
– Полкман. Мартын Мартынович.
– Юде? – удивился немец. – Я думал, что евреи у вас сплошь комиссары.
Тарасов засмеялся:
– Комиссар Мачихин точно не еврей. Впрочем, как и другие комиссары – Никитин, Куклин… А вот одна из переводчиц бригады – еврейка. Да и бойцов рядовых немало. Было. У нас, прежде всего, советские люди. А нации, это вторично. Подлецов везде хватает.
Немец только хмыкнул в ответ и продолжил спрашивать:
– Каков состав отряда? Как вооружены?
– Состав? Человек двадцать. В том числе, кстати, два сына Полкмана.
– А каков его возраст, позвольте полюбопытствовать?
– Шестьдесят пять.
Обер-лейтенант аж покачал головой:
– Крепкий старец…
Тарасов засмеялся в ответ:
– Я, когда узнал, тоже не поверил. Выглядит как… Гора, а не человек. И бородища лопатой.
– Вооружение отряда?
– Легкое стрелковое. Винтовки, в основном. Есть автоматы. Пара пулеметов. Ручных. Все.
– А в каком районе вы встретились?
– Примерно здесь. Перед самой попыткой прорыва к старой базе.
– Значит, партизаны базируются в лесах южнее дороги на Старую Руссу западнее Демянска… Так?
– Так, – кивнул Тарасов.
– Это точные сведения?
Тарасов молча развел руками, давая понять, что партизаны на месте не сидят.
Немец быстро написал что-то на белом листе бумаги и, запечатав конверт, вызвал ординарца:
– Передать в штаб дивизии. Бегом!
– Яволь! – щелкнул каблуками ординарец и исчез за дверями.
– Вы нам очень помогли, герр подполковник, – фон Вальдерзее навалился на спинку стула. – Этих бандитов хотя и немного, но они как заноза в пятке. Не смертельно, но ходить больно. А если долго не вытаскивать, то и загноиться может.
Тарасов улыбнулся:
– А мы кем были для вас? Тоже занозой?
– Да. Но очень крупной. Ее мы уже вытащили, вытащим и эту, еврейскую, – улыбнулся в ответ немец.
Фон Вальдерзее не знал, что Тарасов улыбается совсем другому. Он действительно сказал правду – отряд Полкмана им встретился перед самим боем у дороги. Но партизаны очень быстро ушли из того района. К месту прорыва наверняка должны были подойти крупные силы гитлеровцев – верная смерть небольшому – всего в полсотни бойцов – отряду. У которого лишь два миномета и одна «сорокапятка». И снарядов к орудию два фугасных. И десяток минометок…
Впрочем, и Тарасов не знал, чему улыбается фон Вальдерзее.
* * *
Полкман был на две головы выше маленького Тарасова. Даже комиссар Мачихин смотрелся бы рядом с командиром партизанского отряда коротышкой. Действительно, человек-гора. И голосина такой, что любой дьякон позавидует. Эвон, рявкнул на своих бойцов, так некоторые из десантников аж попадали в снег, решив, что мина рванула.
– Ну чем я тебе помогу, подполковник, – гудел Полкман. – Сами с корки на воду перебиваемся. Вот раненых да помороженных могу до вашего лагеря сопроводить. А дальше уж сами.
– Это понятно, Мартын Мартынович, что сами. Мы уже тут месяц – сами. Ну и на том спасибо, а то у меня свободных рук нет. Парни сами бредут группами туда. Железные они у меня. – Тарасов был хмур и, по обыкновению последних дней, зол. На немцев, на штаб фронта и на себя.
– Видел, – пробасил Полкман.
Парни и впрямь были железные. Партизаны – и сами-то не жирующие, – когда проходили через порядки бригады, поражались этим тощим почерневшим суровым лицам. Кто-кто, а партизаны прекрасно знали, что значит воевать в этих нечеловеческих условиях ледяного ада демянской зимы. Однако оружие у десантников было в порядке, а обмороженные, в пузырях обморожений, руки держали это оружие крепко.
– Впрочем, товарищ подполковник, помочь кой-чем могу. Мы тут на гарнизончик налетели маленький. Немцев в капусту положили, конечно. По амбарам – туда-сюда – нет продовольствия у фрицев. А один открыли – там семя льняное. Набили пару мешков себе и амбар сожгли, к чертовой матери.
– Местным бы оставили… – буркнул Тарасов.
– Да каким там местным, – горько махнул рукой Полкман. – Побили там местных. Кого помоложе, угнали в Демянск на работы. Старух же… Эх…
Партизан помолчал, а потом продолжил:
– Оставлю я тебе, товарищ подполковник, эти мешки. Поделите меж собой.
Тарасов хмыкнул:
– Издеваешься? По полгорсти на брата выйдет. Лучше с ранеными отправьте на базу. Врачи рады будут.
– Врачи? – удивился Полкман.
– Врачи, Мартын Мартынович, врачи. Жрать нечего, так раненые придумали кору жрать с деревьев. Как зайцы. А желудок-то не заячий. Человечий. Ну и мучаются запорами. Так что твои семечки в самый раз будут. Вместо касторки. Может, и не помогут, а все одно больше нечем. Гриншпун! – крикнул Тарасов, увидав, что уполномоченный особого отдела приближается к ним. – Гриншпун! Иди сюда, с партизанами познакомлю!
Гриншпун подошел молча и ожег холодным взглядом Полкмана:
– Ваши документы!
Полкман удивился:
– А вот нет документов! Вона два мои документа – сыновья. Один – Мартын, другой – Давид!
– Документов нет? Почему? – прищурился особист.
Тарасов захотел было придержать озлившегося особиста, но придержал сам себя. По-своему Гриншпун был прав. Мало ли кто по лесам шляется…
– Не успел захватить, когда из дома через окно сигал. А пацаны мои – взяли. Успели, – набычился Полкман.
Гриншпун подозвал сыновей партизанского командира. Долго изучал их комсомольские билеты. Сверял фотографии с лицами. Сыновья были в отца. Такие же медведи здоровенные. И суровые.
– Взносы за полгода не уплачены… – задумчиво сказал Гриншпун, вертя в руках комсомольские билеты.
– Кровью платили, – ответил за сыновей Полкман. – И своей, и чужой.
– Кто этот человек? – не обращая внимания на Мартына, спросил парней уполномоченный.
– Отец, – ответил тот, который побольше в размерах. – Полкман Мартын Мартынович. Командир демянского партизанского отряда.
– Давид… – протянул Гриншпун парню его билет. – Больше на Голиафа похож.
Парень не улыбнулся шутке. А документ завернул в тряпочку и сунул за пазуху.
– Значит, подтверждаете? – спросил особист у второго – тоже Мартына.
Тот молча кивнул.
– Ну, ну… – неопределенно ответил Гриншпун. Потом повернулся к Полкману: – Извините. Работа такая… Николай Ефимович, вы закончили с ними? Поговорить надо.
Тарасов вместо ответа шагнул к Полкману:
– Мартын Мартынович, сейчас вас боец проводит к врио начштаба, там решите технические вопросы, лады?
Полкман кивнул.
– Полыгалов! Проводи партизан!
Рядовой Полыгалов, ставший порученцем Тарасова после того, как в штабном шалаше погиб вместе с Шишкиным и лейтенант Михайлов, махнул Полкману и сыновьям рукой. Проходя мимо особиста, Мартын-старший не удержался и буркнул:
– Шлемазл. Поц гойский.
Буркнул тихо. Но так, чтобы Гриншпун услышал.
Тот не удержался от улыбки, когда партизаны скрылись в лесу:
– Надо же, ну никак не думал, что меня тут еврейским матом обложат…
– Борис, – Тарасов улыбку не поддержал. – Ты что за спектакль устроил? Членские взносы приплел какие-то?
– А они, командир, и впрямь не уплачены. Впрочем, это не мое дело…
– Именно! – перебил его подполковник. – У тебя что, паранойя разыгралась? Мужики у нас раненых заберут и на Гладкий Мох на санях отвезут. Понял?
– А ты уверен, что на Гладкий Мох? – перебил Тарасова Гриншпун.
Тот осекся от неожиданности.
– Ты что…
– Идемте, товарищ подполковник…
И Гриншпун зашагал в ту сторону, откуда появился несколько минут назад.
Тарасов поспешил за ним.
Через полчаса они были на месте. Месте происшествия, которое было оцеплено взводом охраны.
– Смотри, подполковник. – Гриншпун сдернул тряпку с котелка, стоявшего рядом с костровищем.
– Ну, котелок… – пожал плечами Тарасов.
– Ближе смотри, – особист осторожно, как что-то противное, взял круглый котелок за проволочную ручку и поднес к лицу комбрига.
– Жирный изнутри. И мясом вроде пахнет. И что?
– Идем дальше, – отбросил котелок особист. Он зашел за кусты. Под ними лежал десантник, укрытый дерюгой.
– Вчера, видать, помер. Вечером. Или ночью.
Гриншпун сдернул дерюгу. Тарасов, привыкший, кажется, ко всему, резко отвернулся.
Штаны и подштанники бойца были разрезаны и стащены до колен. А с обоих бедер срезано мясо до отливающих голубым костей.
– Часть сожрали, паршивцы. А часть бросили в кустах. Видать, засек кто-то. Они и смылись.
– Кто они-то, не темни, особист!
– Из второго батальона ночью пропали двое. Рядовые Топилин и Белоусов.
– Белоусов, Белоусов… Баянист, что ли?
– Ну да. Синенький скромный платочек.
– Вот же…
Тарасов, казалось, растерялся. Что угодно, но только не это! Предательство казалось ему невозможным. Да еще и…
– Вечером они парой были в охранении, около лежки раненых. Смена их не обнаружила. Стали искать, нашли вот это, – кивнул Гриншпун на котелок. – А потом партизаны являются. Месяц не было, а тут взялись. Может, полицаи?
– Не похоже, уполномоченный. Не похоже. Слишком быстро для полицаев они явились.
– Зато как им удобно. Сотню раненых без боя в плен утащат. Подумай, командир. Нельзя им доверять.
Растерянность Тарасова прошла быстро:
– Решим на заседании штаба. Бойца похоронить. И молчок! Не хватало мне еще людоедства, твою мать…
Командиры и комиссары, вопреки мнению Гриншпуна, раненых решили все же отправить с партизанами на Гладкий Мох.
– Зря, товарищ подполковник, зря… Как бы не пожалеть. Потом.
Особист резко развернулся и зашагал к себе. Подполковник долго смотрел ему в спину, догадываясь, что особист считает его главным виновником всех бед бригады…
* * *
Полкман с сыновьями шагал в конце колонны, размышляя над странным поведением этого особиста.
С одной стороны, у него работа такая – всех подозревать.
С другой стороны…
Полкману было немного обидно. Воюешь, воюешь, а тебя вот такие подозревают черт знает в чем.
Молодой еще… Глупый. Совсем шлемазл. За полицаев небось принял? Ага… Так и сунулись бы полицаи в самые зубы десантникам. Да и какой из еврея Полкмана полицай? Смешно…
Да черт с ним, с этим… Как его… Капитаном Гриншпуном. Раненых надо довезти…
Десантников уложили на санях по четыре-пять человек. Самых тяжелых. Остальные – легкораненые шли сами. Шатались, но шли. Сердобольные партизаны делились с ними своими скромными запасами.
Десантники не отказывались.
Полкман поражался этим парням. Молодые же совсем. Большинству и двадцати-то еще нет. Откуда столько сил… Уму непостижимо.
Размышления командира прервал дозорный с левого фланга:
– Мартын Мартынович! Лыжников заметили. Вдоль дороги идут метрах в трехстах.
– Наши? – насторожился Полкман.
– Да кто ж их разберет! В маскхалатах, идут осторожно. Не приближаются. А мы и не спрашивали их…
– Правильно, – буркнул Полкман. – Пойдем-ка глянем.
Он надел старые свои охотничьи лыжи, подбитые мехом, и сноровисто пошел за парнем из дозора.
Ходить зимой по лесу – целое искусство. В кусты не пролезешь, деревья тоже не по линеечке растут. Да и каждую кочку огибать приходится. Лыжу поломаешь – и крантец охоте. На фрицев. Или кто там шастает? Полкман смутно заподозревал, что бдительный особист послал за обозом раненых своих головорезов – проследить, что да как. Заодно и помочь, ежели немцы вдруг вылезут. Егерей немало шляется сейчас по лесам. И эсэсовцев. Этих, говорят, специально обучили на лыжах за десантниками бегать. Да еще, говорят, финны появились. Сам Полкман их еще не встречал, но слухи слыхивал.
– Вона, Мартын Мартыныч! Видите, с елок снег падает? Во, во! – Ванька Фадин, совсем еще молодой пятнадцатилетка, возбужденно тыкал деревянной лыжной палкой в сторону шевеления кустов на противоположном краю просеки.
Полкман приложил палец к губам – тихо, мол, не ори! – и снял карабин с плеча. Немецкий «маузер». Партизан его больше уважал, чем родную трехлинейку. Удобнее, зараза. Прям не снимая с плеча можно затвор передернуть. А треху – пока опустишь, пока передернешь, пока снова прицелишься. А в бою лишняя секунда жизнь отнимает. Свою или чужую. Кто быстрее… Пока быстрее Полкман. И сейчас тоже…
С той стороны просеки с винтовкой, обмотанной белыми тряпками, высунулся солдат. В белом маскхалате. Слишком белом. Десантники все в грязных, прожженных халатах. А этот очень уж чист. За первым вышел второй, третий, четвертый… Пятеро. Небольшой дозор. И двинулись через открытое пространство, пригибаясь.
Полкман прицелился…
– Хальт! Хенде хох! – крикнул он своим мощнейшим басом. И на всякий случай добавил вечный русский матерщинный пароль.
Немцы, а это были именно они, партизан уже не сомневался, почти мгновенно брызнули в стороны, залегли и открыли стрельбу. И стали почему-то отползать!
Полкман не стрелял, удобно устроившись за шикарной толстой сосной.
– Дядь Мартын, дядь Мартын! Чего не стреляем-то, а? Чего не стреляем-то? – волновался Ванька.
Цыц, Ванька! Лежи спокойно!
Немцы палили недолго. Хорошие вояки. А на выстрелы уже бежали партизаны и некоторые десантники. Которые поздоровее.
Немцы приподнялись и рванули обратно.
– Дядь Мартын, дядь Мартын! Ну чего?
– А чего? – улыбнулся сквозь бороду Полкман. – Пусть идут. Потом прищучим. А то сбегут и приведут сюда подмогу.
Ванька нахмурился, решив, что командир струсил. Обычное решение для пятнадцатилетнего мальчишки, рвущегося в бой.
Чтобы пострелять.
И отомстить за повешенную мать.
– У нас, Ванька, сейчас другая задача – раненых довести, а не в бой ввязываться. Понял? Доведем – повоюем. – Полкман подмигнул и потрепал мальчишку по голове. Но тот дуться не перестал. Еще бы. Командир не дал пацаненку вырезать десятую зарубку на прикладе.
– Все нормально, товарищи! Немецкий дозор! – поднялся Полкман навстречу бегущим партизанам и десантникам. – Был, да я на них рявкнул, они и сбежали. Так, Ванька?
Ванька хмуро кивнул.
Кто-то засмеялся. От голоса Полкмана даже лошади приседали.
– А теперь обратно к саням и давайте-ка ходу прибавим. Чтоб гости не пожаловали.
Но без гостей в этот день не обошлось.
Они пожаловали, когда санитарный обоз уже подходил в краю болота Гладкий Мох. Полкман пожалел было, что не попытался кончить тех немцев на просеке. Но жалеть надо было раньше. А сейчас надо было воевать.
И партизаны бой приняли, прикрывая отходящих измученных десантников.
Бой в лесу – страшная штука. Не видно ни черта. Кругом кусты, деревья, и из-за каждого куста, из-за каждого дерева может выскочить враг. Люди больше стреляли куда-то в сторону, откуда лаяли немецкие автоматы, хлопали карабины и басовито гудели короткими очередями пулеметы.
Кто слышал чешущий звук немецкого «МP», тот никогда его забыть не сможет. Как и не сможет забыть, как косит ветки пила немецкого «MG». Но это вспоминается потом, на старости лет, а до этой старости надо еще дожить.
Ванька Фадин о старости не думал. Более того, он был уверен, что до старости не доживет. Не успеет. Он просто стрелял на любой звук, на любое шевеление веток, на любое мелькание белых маскхалатов. От каждого выстрела трехлинейки закладывало уши, хотя Ванька уже научился стрелять с открытым ртом. И очень болело отбитое отдачей плечо. Но и этого он не замечал. Он просто бил, бил, бил по мелькающим фигурам врагов. Кто-то из них падал, но Ванька не считал тех, в которых был не уверен.
А вот этого… Бах! Немец перегнулся в поясе и медленно завалился на бок, нелепо махая руками. Раз! Второй немец пополз к упавшему… Бах! Два! Хороший день!! Больше тут никто не пополз, хотя эти двое еще ворочались, оплескивая теплым снег. Еще два выстрела – упокоились фрицы…
– Ванька, ты как?
Он ошалело оглянулся. К нему подползла Маша Шувалова, санинструктор отряда.
– Цел, уйди отсюдова, дурища! – ломающимся голосом рявкнул на нее Ванька. Ему показалось что грозно, но Маша только улыбнулась. И поползла дальше.
А тем временем позади оборонительной линии партизаны разворачивали свою артиллерию. Снаряды берегли, выжидая удачный момент.
И он пришел. Немцы зачем-то стали небольшой толпой перебегать дорогу. Наводчик сорокапятки словил их удачно, вмазав фугасным снарядом прямо в центр бегущей кучки. И фрицы разлетелись в разные стороны, разбрасывая вокруг руки, ноги, головы и прочие части тела.
Дядька Мирон Авдеев служил еще в царской армии артиллеристом. Пригодилось, вот опять немцев погонять… Без вилки, между прочим! А на вилку снарядов-то и не хватит. Один остался. Эх, руки чешутся еще бахнуть! Но Мирон выжидал… Мало ль чего…
Но фрицы повели себя странно. После первого же отпора подались обратно. А обычно давили и давили.
«Струсили, что ли?» – разочарованно подумал Ванька Фадин, решив, по мальчишеской жадности, что две зарубки это мало.
«Ну, слава тебе господи! Сбёгли!» – облегченно вытер лоб дядька Мирон.
А Полкман решил, что немцы сейчас перегруппируются и снова полезут. И озабоченно думал о десантниках, которые сейчас ползли за проводником по мокрым снегам Гладкого Мха.
А Маша Шувалова ни о чем не думала, перевязывая плечо раненого товарища, и ворковала извечное женское:
– Потерпи, милый, потерпи, все хорошо будет…
«Милый» же ругался на березу:
– Хушь ты и русское дерево, но зачем пулю-то немецкую в меня срикошетила? Обратно б послала… Ушшшш…
– Тише, голубчик, тише, – бинтовала его Маша.
Голубчик Маше в отцы годился. Впрочем, раненый мужик для женщины всегда в ребенка превращается.
Маша осторожно затянула узел и помогла надеть сначала кофту, а потом ватник.
И побежала дальше.
По бедру ее била граната, которую она всегда носила в кармане. «На всякий случай», – невесело шутила она. Навидалась уже в оккупации разного. О чем и вспоминать-то не хочется. Не то что говорить.
И надо же было так случиться…
Какая-то дурная пуля, прилетевшая из глубины леса, когда бой уже и затихал одиночными выстрелами, ударила именно в этот карман.
Маша погибла мгновенно, разорванная взрывом пополам. Единственная погибшая у партизан в этом бою. Бывает такое на войне.
Хоронили ее на следующий день. Без гроба. Не было времени на гроб. Вырыли яму на партизанском кладбище. Сложили куски ее тела на дерюгу. Завернули. Положили в яму. Закопали. Рядом с деревом. На деревце вырезали ножом: «Мария Шувалова. 1922–1942».
Потом выстроились отрядом перед могилой. Речей не говорили. Больше плакали. Ваня только не плакал. Разучился, что ли? Или еще не научился… Полкман вышел из строя. Снял ушанку. Постоял молча. Потом поднял пистолет вверх. Отряд передернул затворами винтовок и карабинов.
Залп! Залп! Залп!
Во время третьего залпа случилось странное. Командир вдруг сделал шаг вперед, покачнулся и упал лицом вперед, прямо на могилу Маши.
И умер.
Как оказалось, от выстрела в спину. Пуля перебила позвоночник, отрикошетила от костей и, разорвав легкие, пробила сердце.
Под грохот салюта Полкмана убил, как выяснилось позже, лазутчик, назвавшийся сбежавшим из плена красноармейцем. Впрочем, он и был бывшим красноармейцем, перешедшим на службу к врагу. Имя его история не сохранила, что, впрочем, и хорошо. Остается только предполагать, как его казнили партизаны, души не чаявшие в грозном медведе Мартыне Полкмане.
Все же паскудная эта штука – война.
27
– Да, кстати, герр подполковник, вы упомянули о том, что к концу операции практически лишились командного состава бригады. Так? – продолжал фон Вальдерзее.
– Так. Погибли практически все командиры батальонов. Кроме командира первого батальона капитана Жука. Батальонами командовали комиссары. Погиб начальник штаба, был ранен комиссар Мачихин. Потери среди командиров рот и командиров взводов были еще больше. Некоторыми взводами, а то и ротами командовали сержанты.
– Двести четвертой кто командовал после эвакуации Гринёва?
– Эвакуации… – горько ответил Тарасов. – Бегства с поля боя. Так вернее.
– Пусть так, – согласился с ним обер-лейтенант. – Так кто командовал?
– Комиссар Никитин.
– И как он в деле?
– Лучше Гринёва. Однозначно лучше. Умнее и храбрее.
– А что с координаторами из штаба фронта?
– Степанчиков погиб. Как погиб, я не знаю. Не видел. Доложили, что это работа кукушки.
– Кукушки? – наморщил лоб обер-лейтенант. – Ах да, вы так называете снайперов. Потому что они сидят на деревьях, так?
– Так, – согласился Тарасов.
– Я вам приоткрою секрет, герр подполковник. Мы не такие дураки, чтобы снайперов сажать на деревья. Снайпер должен быть мобилен и менять позиции после каждого удачного выстрела, – стал читать обер-лейтенант лекцию подполковнику. – А позиция на дереве сводит мобильность на нет, что равнозначно самоубийству. Понимаете?
Тарасов молча согласился. Впрочем, это согласие не отменяло того факта, что десантники время от времени сбивали «кукушек» с этих самых самоубийственных позиций. О чем Тарасов и сказал обер-лейтенанту.
– Наблюдатели и корректоры, герр подполковник. А что с Латыповым?
– На момент прорыва был жив, далее – не знаю. В силу объективных причин. Сами понимаете, каких.
– Вот тогда давайте и поговорим о вашем прорыве.
* * *
Попытка прорыва через шоссе не удалась. Немцы были готовы к атаке, бросив на трассу практически все свои свободные силы, перекрыв возможные пути отхода. Антипартизанская группа оберфюрера СС Симона, полевые батальоны «люфтваффе», артиллеристов, пехотные части, подкрепления, только что прибывшие на самолетах, даже взвод охраны и шум-батальоны.
Ярость и мужество десантников, перехлестнувшие сверхчеловеческие пределы, не смогли преодолеть пятикратное превосходство противника. Измученные парни смогли преодолеть трехметровый снеговой вал, рычащий пулеметами, они смогли переколоть немецкую пехоту в траншеях, они уже стали отжимать фрицев, расширяя коридор прорыва, и некоторые уже вырвались на другую сторону дороги.
Но удара танкового батальона они выдержать уже не могли. А за танками шли лыжники врага. Контратака немцев была настолько мощна, что бригада покатилась обратно, огрызаясь огнем.
Немцы разрезали бригаду почти пополам, а затем дробили и дробили ее на все более маленькие группы. В лучших традициях немецкого блицкрига. К средине дня – атака началась ранним утром – поле было усеяно трупами десантников.
Но оставшиеся в живых продолжали биться, продираясь сквозь немецкие заслоны. Бой развалился на многочисленные стычки, когда в ход шли уже не только винтовки и ножи, а порой даже и кулаки.
Тарасов с группой штабных нарвался на немцев неожиданно. Выскочили навстречу друг другу и бросились враг на врага молча, без криков «Ура!» или «Хох!». С рыком, словно две стаи волков, с хрипом, словно две смерти. Ожесточенность драки была такова, что ни та, ни другая сторона даже не вспомнили про огнестрельное оружие, выхватив ножи и лопатки.
Подполковник поднырнул под удар дюжего немца и без промедления, на одних рефлексах ударил его финкой в бедро, а когда тот споткнулся, той же финкой махнул ему по лицу. И тут же забыл об этом немце, прыгнув на спину другому, душившему нашего бойца. И только успел резануть того по кадыку, как получил удар по голове. Но ушанка смягчила удар, прошедшийся вскользь, и Тарасов не потерял сознание, лишь свалился, перекувыркнувшись, в снег.
И тут же на него прыгнул немец и схватил за шею, ломая горло. Почти теряя сознание, Тарасов ткнул ему пальцами в глаза. В один попал. Немец тут же завизжал от боли и рефлекторно схватился за лицо. Подполковник мощным ударом свалил его с себя и принялся молотить его кулаками, а потом схватил за потные волосы и стал бить о торчащий из-под снега пень. Бил долго, рыча и превращая голову врага в кашу из мозгов и осколков костей – ыхххырррырррр…
И как-то внезапно все затихло.
Время внутри и снаружи – это разные времена. Иногда бой длится минут пять, а кажется, что целый день. Иногда несколько часов, а кажется – несколько секунд. И почему-то он всегда заканчивается внезапно.
Только что орали, хрипели, стонали и вдруг – раз! – все закончилось. Только тяжело дышащие люди, трясущимися руками растирающие по лицам свой пот и чужую кровь.
– Ну ты, Ефимыч, зверюга… – нервно хохотнул полковник Латыпов. – После войны иди работать на рынок, в мясной отдел. Тебе цены не будет. Голыми руками будешь мясо на порции рвать.
Латыпов показал на голову фрица, вернее то, что от нее осталось. Кровавое месиво, из которого торчал безжизненный глаз. Один.
– На себя посмотри… – тяжело дыша, ответил ему Тарасов.
Маскхалат Латыпова был похож на полотно безумного художника, раскрасившего белый холст струями крови.
– Так что, товарищ полковник, мясником меня только после тебя возьмут…
Вместо ответа Латыпов похлопал Тарасова по плечу и поднялся со снега.
– Потери?
– Политотдельцев завалили. Обоих. А так вроде живы остальные… – подал голос адъютант Тарасова – Полыгалов. А сам, сидя рядом с трупом, растирал снегом стремительно наливающуюся фингалом щеку.
– Полыгалов, ты когда к нашим выйдешь, все решат, что ты тут по ресторанам ходил, – вытер кровь, сочащуюся из носа, Тарасов. Успели, видимо, заехать.
– Почему это? – адъютант даже перестал растирать щеку от обиды.
– Да уж очень у тебя синяк кабацкий. Да ты не расстраивайся, с таким фонарем по ночам в сортир ходить удобно. Светить будет хорошо. В дырку не провалишься.
А потом, покряхтывая, командование бригады собралось и отправилось с поля боя дальше на юг. К месту, назначенному на последнем совещании точкой сбора бригады. Назначенному на случай неудачи прорыва.
Но перед этим командиры не позабыли обыскать трупы противников. Несколько банок тушенки, четыре шоколадки, две фляги с водкой – огромная награда за бой. А самая главная – конец войны, приближенный этой маленькой победой еще на несколько минут.
На поляне остались шестеро немцев и двое десантников. Неплохая – как бы цинично это ни казалось – цена за победу.
Жаль, что в других местах той войны бывали другие цены.
Весной сорок четвертого года сюда придет бывший гвардии сержант – да почему бывший-то? Бывших гвардии сержантов не бывает! – ныне однорукий тракторист Иван Пепеляев для того, чтобы распахать колхозное поле под пшеницу. Он будет тут пахать и плакать. Пахать, потому что людям надо есть. Детям и бабам нужен хлеб. Стране нужен хлеб. А будет плакать, вытирая о плечо мокрое лицо, потому что поле будет усеяно белыми костями десантников. Белыми валунами их черепов. И пшеница вырастет на этих костях. И люди будут есть этот хлеб. И отныне – из поколения в поколение – кровь и плоть восемнадцатилетних пацанов будут стучать в сердцах потомков.
Куда уж там воображаемому пеплу Клааса. Здесь не воображение, здесь – правда, которую мы должны помнить.
* * *
Группу младшего лейтенанта Ваника Степаняна немцы отрезали в березовой роще. Десантники пытались дернуться сначала в одну сторону, потом в другую. Но тщетно. Везде немцы встречали плотным огнем.
Степанян наконец прекратил беспорядочные метания, взяв командование на себя. Старше его по званию все одно никого не было. Первым делом – пока эсэсовцы не пошли в атаку – посчитались, заняв круговую оборону в центре рощицы. Оказалось – семьдесят бойцов.
Стали готовиться к последнему бою. Жратвы не было, но зато в боеприпасах голода не было. При переходах бойцы выбрасывали все лишнее – вплоть до запасной пары носков. Но патроны, гранаты, оружие – тащили всегда. Даже здоровенный бронебойщик, оставшийся без второго номера и патронов, все равно тащил на себе здоровенный дрын противотанкового ружья. А на все предложения выбросить неожиданно тонким голосом отвечал: «Пригодится!»
Пока не пригодилось по прямому назначению. Ну не бежать же с пустым ружьем на гавкающий выстрелами немецкий танк? Но все равно не выбросил. И сидит сейчас приклад от крови снегом очищает. Вышел на бой аки древнерусский богатырь с палицей наперевес, сокрушая поганые головы прикладом противотанкового ружья.
Немцы почему-то не атаковали. И даже не начали бросаться минами. А это у них в привычке.
Хотя березовая роща – это вам не хвойный лес. Подлеска нет. Кустов всяко-разных тоже. Все как на ладони. И до темноты еще не близко. А вот не атакуют почему-то.
Все выяснилось через полчаса.
Немцы подтащили свои громкоговорители. И врубили «Катюшу».
– Вот сволота, – ругнулся кто-то из десантников. Кто – Степанян не знал. Из бойцов его подразделения тут никого не было. Все малознакомые.
– Не ругайся, – ответил бойцу младший лейтенант. – Давай-ка подпоем лучше!
Бойцы ошалело посмотрели на млалея. Бой вот-вот пойдет, какие еще песни? Ваник, не обращая внимания на удивленные взгляды десантников, затянул:
– Выходила, песню заводила про степного, сизого орла…
Один за другим бойцы начали подтягивать – сиплыми и хриплыми голосами.
– Про того, чьи письма берегла…
Странный – до фантасмагоричности – хор ревел над березовой рощей рвущуюся к туманному апрельскому солнцу «Катюшу».
Кто ж знает, о чем в этот момент они думали – о своей любимой вспоминали, или просто забивали страх яростью, или плакали перед неизбежной гибелью в безнадежном бою? Вряд ли плакали. Слезы-то давно замерзли.
Ваник приготовился дать команду идти в атаку. В последнюю атаку. В последний бой. Как Чапай, как «Варяг», как тысячи дедов и прадедов под Бородином или на Куликовом. И запеть «Интернационал». Пусть мы погибнем – но погибнем так, что враги содрогнутся от нашей смерти.
«Катюша» закончилась. Ваник вдохнул побольше воздуха в грудь…
И тут немцы каким-то чужим, жестяным голосом вдруг зазвенели в сыром апрельском воздухе:
– Русскье десантник! Здафайтесь. Фаше полошение – безнадешно. Ваше мушество – безупретчно. У нас фас шдут теплый прием. Еда, фино, медитцинская помостч, шенстчины. Русскье десантник! Здафайтесь! Фаше полошение…
Степанян засмеялся пересохшим горлом, черпанул горсть снега, прожевал его и крикнул:
– Я – армянин, дурак ты фашистский!
Бойцы дружно загоготали.
Украинец Пилипченко, белорус Ходасевич, удмурт Култышев, коми Манов, татарин Нуретдинов, мариец Сметанин, азербайджанец Багиров, грузин Каладзе, литовец Нарбековас, узбек Наиров, еврейка Манькина… Ну и русский Кузнецов, конечно. Впрочем, все мы русские. Русский – это не национальность. Это – принадлежность. Родине. России.
Немцы смех услышали, но снова продолжили агитацию, включая и «Синенький платочек», и снова «Катюшу», и даже зачем-то «Три танкиста».
– Награбили пластинок, ироды, – буркнул кто-то, наслаждаясь концертом.
Ваник тоже наслаждался. Но в то же время с надеждой смотрел на снижающееся солнце.
– Мужики! Если до темноты доживем – будем прорываться, – передал он по цепи. – Пока огонь не открываем.
И, хотя он на это не надеялся, до темноты они дожили. Немцы так и не стали долбить рощу минометным и артиллерийским огнем. И на что они надеялись? Что русские десантники сдадутся? Как бы не так…
А как только сумерки окутали землю вечерним одеялом, десантники поползли на звук громкоговорителя.
И, хотя немцы были готовы, удар все равно получился внезапным. Заслон сбили легко. И стреляли, стреляли на звук, на вспышки выстрелов, на любое шевеление и крик. Бежали молча, без криков – берегли силы. Для еще одного удара плоским штыком в оскаленную страхом харю врага. И пнуть по патефону, заодно расколов прикладом стопку советских пластинок, попавших в гитлеровский плен.
А потом, рассыпаясь на небольшие группы, исчезали в безбрежных демянских лесах.
Со Степаняном остались лишь трое – переводчица Люба Манькина, рядовой Гоша Култышев и ефрейтор Мишка Кузнецов.
Шли они всю ночь, практически не разговаривая друг с другом. Двигались на юг, время от времени сверяясь с компасом младшего лейтенанта. Именно на юге сверкала зарницами желанная линия фронта.
Днем отлежались в густом буреломе. Любу положили в серединку, грея ее малым теплом своих тел. Двое спали. Один сидел караулил. И смена раз в час. Девчонку только не трогали. Вечером снова пошли, питаясь лишь талым снегом. Шли без приключений. Скучно, конечно, но зато надежно.
А к рассвету были у немецких фронтовых позиций. У тыловой линии траншей. Дымились трубами блиндажи, время от времени бегали какие-то зольдаты в шинельках. Впереди изредка взлетали султанами взрывы наших снарядов. НАШИХ! Время от времени где-то вспыхивала и тут же затихала пальба.
Степанян со товарищи внимательно разглядывали места, где можно проползти ужом, а где метнуться броском.
– Люб, а Люб!
– Чего, Ваник? – Они уже давно перешли со званий на имена. Звания будут потом. Дома.
– Ну-ка переведи, о чем немцы говорят?
Манькина вслушалась в гортанно-картавую речь немцев.
– Ждут Эрика какого-то. Тот в тыл пошел. За вином. Если не вернется, Вилли очень расстроится.
– Почему?
– У Вилли – день ангела. Вроде так.
– А почему может не вернуться? – настойчиво продолжал расспрашивать Любу Степанян.
– А ты пойди и спроси… – отбрила она. – А… Вот… Подожди… Советские головорезы, мол, в тылу шалят. Десантников поминает, зараза.
– Хорошая идея… – задумчиво сказал Култышев. – Ангелами на башку ему свалиться…
Ваник показал Гоше кулак, и они отползли подальше в лес.
А потом долго лежали без движения и время от времени переговаривались.
– Вернусь – первым делом яичницы нажрусь. Чтобы из полдюжины яиц. Не меньше, – мечтал шепотом Мишка.
– А я – в баню, – в унисон ответила ему Люба.
– На фиг, я сначала высплюсь. Приду в тепло, упаду и высплюсь, – улыбнулся Гоша. – А ты, Ваник?
– А я заявление в партию подам, – вздохнул Степанян. – На восстановление.
– А тебя что, исключали, что ли? – приподнялась на локте Люба.
– Не так. Не приняли. Я заявление подавал…
– За что не приняли-то? – в один голос спросили Култышев и Кузнецов.
– У меня взвод перед выходом сюда две банки спирта выпил. Из НЗ. А виноват кто? Виноват командир. Недосмотрел. Халатность. – В черных глазах младшего лейтенанта засветилась армянская печаль. – Их-то я отругал. А вот на партсобрании мне и отказали. Хорошо, Мачихин, комиссар наш, заступился. Хотели вообще в пехоту перевести. Но в итоге условный срок мне назначили. Мол, после выхода будут зявление рассматривать заново. Дали время для реабилитации. А я вот… Взвод потерял… Эх, какие парни были! Один я остался…
– Ваник, ты не расстраивайся! – осторожно погладила его по плечу Люба. – Мы же с тобой! Мы за тебя поручимся!
– Вы же не партийные, – повернулся к ней Степанян.
– Мы – комсомольцы, Ваник. И мы – десантники. Мы за тебя поручимся.
– Спасибо вам, ребята…
После они замолчали. Просто сил не было говорить. Просто смотреть, как солнце медленно плывет на закат, как капают с еловых лап слезинки весны сорок второго года, как перелетают с ветки на ветку птицы, радуясь новому теплу. И где-то за всем этим стрельба, взрывы и крики войны. Страшной войны. Великой войны. Отечественной войны.
А с наступлением темноты они поползли по заранее намеченному пути, минуя дозорных. А немцы здесь нарыли лабиринтов как кроты. Зарылись в новгородскую землю по самые уши. Иногда траншеи было невозможно обойти. Тогда на свой страх и риск бойцы перепрыгивали их. Им везло как никогда. Немцы сидели в блиндажах, почти не высовывая нос. Правда, один раз какой-то немец выполз из своей ямы и стал мочиться метрах в двух от затаившихся в воронке десантников. Не заметил.
Не заметил и часовой в следующей линии траншей, когда они проползали по крыше блиндажа. Люба даже не удержалась и погрела руки о горячую трубу печки. Совсем секундочку, совсем чуть-чуть. И чуть не уронила шаткое сооружение.
Но обошлось.
И вот подползли к первой линии немецких траншей. Осталось самое опасное. Здесь немцы должны быть настороже.
И точно. Ходили туда-сюда, заразы. Перекрикивались.
Степанян долго лежал в воронке, выглядывая – когда же немецкие часовые разойдутся подальше друг от друга. Не случалось. Тогда он тихонечко сполз вниз и подозвал бойцов к себе. А потом горячо зашептал:
– Гоша, ты слева пойдешь, Миша – справа. А ты, Любонька, за мной. Как только траншею перескочим – беги сломя голову вперед, я прикрывать буду.
– А если мины? – шепнул ему в ответ рассудительный Миша.
– Как там у вас говорят? Свинья не выдаст – бог не съест?
– Наоборот…
– Лучше на мине, чем немцам в руки, – твердо ответила Люба.
– И я про то же, так что бежать всем. А для начала фрицам фейерверк устроим…
Через несколько минут Степанян звонким от напряжения голосом крикнул:
– Хенде хох, дойче швайне!
И гранаты – одна за другой – полетели в немецкие окопы. А потом бойцы рванули вперед, крича что-то нечленораздельное. Кисло запахло сгоревшим тринитротолуолом и сыро – взметнувшейся землей. На пути Ваника из траншеи некстати высунулась фашистская голова. Не раздумывая, младший лейтенант пнул ее ровно футбольный мяч. С головы немца слетела каска, зазвенев железом по изрытой земле. А немец просто хрюкнул и упал в черный зев траншеи.
Перепрыгнув через нее, Ваник развернулся спиной вперед и открыл огонь из своего «ППШ», целясь не столько по суетящимся силуэтам, сколько куда-то в сторону траншеи. И яростно матерился на двух языках, оскалив зубы. Мимо него, задыхаясь, пробежала Люба, где-то мелькнули силуэты Гошки и Мишки. А он бил и бил короткими очередями, пока не опустошил диск. После чего упал, быстро вставил новый и снова открыл огонь, прикрывая товарищей.
Каким-то шестнадцатым, неосознанным чувством вдруг заметил, что его дергают за ногу. Он оглянулся, ободрав волдыри обморожений на щеке о взрыхленную землю. Оказалось, что это Люба.
– Уходи, дурочка, я прикрою! Важел, кин, важел!
– Ползи, бестолковый! А ну ползи, я сказала!
Она даже привстала на колени, чтобы заставить Ваника ползти.
Он вдруг испугался за нее, увидев, как по черному небу чиркают – совсем рядом с Любой – злые трассера немецких пуль. Он пополз к ней, но не успел. Красный трассер вдруг вспыхнул цветком на ее груди. Он приподнялся и ощутил вдруг удар в пятку. Но боли не почувствовал, просто решил, что куском земли от взрыва прилетело. Поэтому он просто вскочил, отбросил автомат и, подхватив Любу Манькину на руки, побежал, крича и ругаясь, перемежая русские и армянские слова.
Он бежал, неся на руках девчонку, перепрыгивая воронки и бугры, перескакивая через тела людей. Что-то сильно било его иногда в спину, в ноги, но он все равно бежал, не разрешая себе спотыкаться.
И потерял сознание только тогда, когда упал на руки бойцов четыреста двадцать седьмого стрелкового полка.
А пришел в себя лишь через несколько дней в прифронтовом госпитале. Шесть ранений – шесть! – не убили веселого армянина. И первым делом он спросил – как там Люба, Миша, Гоша?
Оказалось, что вышли все. Правда, все раненые. С мужиками он встретился позже. Когда смог ходить. А вот Любу так никогда и не смог повидать. Ее переправили далеко в тыл. Ранение было слишком тяжелое. Огненным трассером в ее маленькую грудь. И после они не встретились. Никогда более. Потому что до Победы еще осталось долгих тысяча сто двадцать семь кровавых дней и ночей.
Хотелось бы рассказать о том, что они встретились в одном госпитале. Или после. И что поженились потом. И жили, долго и счастливо… Увы. Это будет неправдой.
А в партию Ваника Степаняна все-таки не приняли.
28
За стенами деревенской избы, в которой обер-лейтенант Юрген фон Вальдерзее допрашивал командира первой маневренной воздушно-десантной бригады подполковника Николая Тарасова, заканчивался восьмой день месяца апреля тысяча девятьсот сорок второго года. Закат кровавил грязно-снежную землю Демянска, убивая свет и рождая тьму. В крови человек рождается. В крови умирает, да… «Из праха ты вышел, в прах войдешь…» – думал Тарасов. А фон Вальдерзее ни о чем не думал. Он просто заканчивал допрос.
– Итак, теперь расскажите, Николай Ефимович, о том, как вы попали в плен.
– А что тут рассказывать? – дернул плечом подполковник. – Все просто. Остатки бригады сконцентрировались у реки Пола. Количеством примерно четыреста-пятьсот человек. Этой же ночью пошли на прорыв.
– Дальше?
– Особисты от меня ни на шаг не отходили. Думали, что могу сбежать. И сдаться в плен.
– Они оказались правы, – ухмыльнулся обер-лейтенант.
– Вовсе нет, – зло дернул щекой Тарасов. – Я шел с бойцами до последнего. Мы прорвали тыловую линию и вышли к реке. Наш берег был пологий. Противоположный – крутой. Мы карабкались на этот берег. Все. Помогая раненым и ослабевшим. Бросая все. Лишь бы спасти личный состав. До реки я шел впереди. И, честно говоря, искал пулю. Но не нашел. Когда мы форсировали реку, я с помощью бойцов поднялся на берег. До наших позиций оставалось буквально с полкилометра. Оттуда уже атаковали – навстречу – красноармейцы Ксенофонтова. Но тут я услышал крик Гриншпуна, – Тарасов не говорил, а почти кричал, вспоминая события вчерашней, всего лишь вчерашней, мать твою, ночи.
– И что? – Обер-лейтенант аж отложил ручку, слушая рассказ Тарасова.
– Штабные сгрудились на льду реки, пытаясь кого-то поднять. Я решил, что ранен полковник Латыпов. И спустился обратно. Когда подбегал к группе, то вдруг увидел, как Гриншпун поднял пистолет и выстрелил в меня. Это последнее, что я помню. К счастью, пуля прошла вскользь. И только поэтому я очнулся уже в санях, на которых меня везли сюда. К вам.
Фон Вальдерзее хмыкнул:
– Странно… Не лучше ли было бы этому еврею доставить вас живым до командования фронтом, чтобы вы предстали пред судом?
– Вы плохо представляете наши реалии, господин обер-лейтенант. Уполномоченный особого отдела имеет право суда во время боевых действий. Он – рука закона. Если он решил, что я – виновник провала операции, то он и приводит приговор в исполнение. Приговор, который он же и оспаривает и приводит в действие. Энкавэдэ – это очень страшная сила.
Обер-лейтенант только покачал головой. Гестапо и фельджандармы не вмешивались в действия войск до такой степени…
– Тогда почему же он оставил вас живым, не удостоверившись в смерти приговоренного?
– Был бой, господин обер-лейтенант, был бой…
* * *
Остатки бригады рвались через реку Полу. Обычную речку, которых в России на каждом десятке километров по две штуки. Так уж вышло, что южный берег речки – обрывистый, а северный – пологий. А выхода нет. Вернее есть – через вот этот самый южный склон. И хорошо, что еще можем бежать по льду. Что весна такая поздняя.
Тарасов кричал, махая пистолетом, подгоняя своих десантников, отстреливающихся по вспышкам в лесу:
– Бегом, бегом, бегом, твою же мать!
Черное небо вспыхивало всполохами трассеров. Грохот стоял такой, что подполковник слышал только себя:
– Да беги ты, господабогадушаматьети! – пнул он споткнувшегося бойца.
Кто-то еще что-то кричал. Но тоже слышал только себя.
Пулеметная очередь прогрохотала осколками речного льда, плеснув фонтаном воды Тарасову в лицо. А споткнувшийся и вставший было боец оплеснул кровью реку. И умер.
Дьявольский визг мин разрывал раны полыней. Кто-то поскальзывался и падал в эти раны, кого-то вытаскивали, кто-то уходил под тяжелый лед.
Тарасов все же добежал до крутого берега. Остановился. Оглядел реку, усеянную телами бойцов. Его бойцов. И стал карабкаться наверх.
– Держите, товарищ подполковник, – закричал ему сверху какой-то десантник. Лицо знакомое, а вот на имена у Тарасова всегда была плохая память. Как и на даты. Боец протянул ему винтовку со свисающим вниз ремнем. Подполковник схватился за него. Еще мгновение и… Тарасов выбрался на верх обрыва.
– Бежимте, товарищ подполковник, – неистребимым вятским акцентом проорал через грохот боя – почти лицом к лицу – боец.
– Ага… – выдохнул Тарасов.
И рядом вдруг рявкнул разрыв немецкой минометки. Парень ойкнул и стал заваливаться на снег, схватившись за бок.
Тарасов подхватил его под мышки и потащил было в сторону наших позиций, но вдруг упал, схваченный кем-то за ногу.
– Товарищ, командир, товарищ командир! Там, кажись, Латыпова убило!
Полыгалов махал руками подполковнику, наполовину вылезши на берег.
Тарасов матюгнулся и рявкнул на адьютанта:
– Тащи бойца! Я сейчас!
– Не могу, не могу, товарищ подполковник, я вас бросить, – испуганно замотал головой Полыгалов.
– Млять… – подполковник обернулся. – Эй, живой?
Лежащий рядом десантник не шевелился.
– Ммать… А ну, стой! – Тарасов рявкнул на пробегавшего мимо бойца. Тот незамедлительно рухнул наземь.
– Тащи парня, – коротко приказал комбриг и стал спускаться обратно к реке.
А у обрыва столпилась небольшая кучка уцелевших командиров и комиссаров бригады. Во главе с Гриншпуном. Они жались под разрывами и очередями над бездыханным телом полковника Латыпова.
– Что стоим, кого ждем? Вытаскивайте его к чертовой матери отсюда! – заорал на растерявшихся командиров Тарасов. – Гриншпун, обеспечивай!
Особист тут же неразборчиво что-то крикнул, и его бойцы – из особого отдела – принялись снимать с себя ремни и обвязывать ими тело координатора фронта.
– Да быстрее, быстрее! Шевелитесь!
Тарасов видел, как Латыпова затаскивают на обрывистый берег, дождался, когда оттуда сверху кивнет ему Гриншпун, а потом уже стал сам, с помощью Полыгалова, снова карабкаться наверх.
Почему-то он запомнил коричневую, всю в дырочках землю, пахнущую весной. И маленькую зеленую травиночку, пережившую первую военную зиму. Удара по голове он не заметил, он в этот момент почему-то захотел коснуться этой травиночки губами. Почему-то эта травиночка вдруг улыбнулась ему Надиной улыбкой и замахала пухленькой ручкой дочери, потом все закружилось, потерялось, небо поменялось местами с заснеженной землей, потом опять поменялось, потом еще раз, потом все это куда-то поехало, мелькнуло лицо Полыгалова с широко раззявленным ртом, потом исчезло и оно, и все потемнело. Но Тарасов не сдавался темноте. Он помнил, что его ждет жена и дочка, что ему надо вернуться. Надо, и все. Он приподнялся, стирая рукой кровь с правой щеки, и пополз на четвереньках домой. Полз долго, пока не уткнулся страшно болящей головой в какую-то стену. Изо рта текла густая слюна, стена кружилась, превращая мир в тюрьму, но он пополз по этой стене куда-то вверх, на встречу удаляющемуся куда-то грохоту. Он хватался за мороженые комья кладбищем пахнущей земли и полз, полз наверх из могилы домой. Он сползал вниз – стена не пускала, – но снова полз. А вот и травинка. Здравствуй, Надя. Я вернулся…
А потом его вдруг швырнуло, перевернуло, ощупало, а потом понесло, разламывая седое небо чужими голосами…
* * *
Во главе стаи бежал крупный волк. Рядом с ним неслась волчица. Неслась уверенно, как будто это место было предназначено для нее. Вожак не рычал и не огрызался на нее, когда случайный прыжок выносил ее вперед. Более того, он был очень расположен к ней и потому старался бежать с ней рядом. Волчице, напротив, это не нравилось. Она рычала и скалила зубы, когда он слишком близко приближался к ней. Иногда даже кусала его за плечо. Но вожак не показывал злобы, а только неуклюже отскакивал в сторону, прижимая уши. Начинался древний танец волков. И волк, и волчица знали, что скоро их брачная песня взлетит к небу. Но прежде вожаку надо доказать, что он дерзок и смел, что готов ради волчицы порвать глотку любому, кто покусится на самку. Судьба такая у самцов – быть в почете, когда ты можешь для своей самки все.
А в этом году потомство будет сильное. Зима была хоть и холодная, но сытная. Даже охотиться не надо было. Мясо было везде. Разве только когда надоедала падаль, тогда сытые ленивые волки гоняли зайцев. Просто из забавы. Правда, приходилось быть настороже. Небо и земля порой грохотали так, что волки неслись прочь, скуля как щенки. Но потом вожак выучил урок – там, где грохочет сильнее всего, потом много свежего мяса. Порой еще теплого, парящего кровью.
Внезапно вожак резко остановился. Волчица не удержалась и сама на него налетела, заодно куснув его за бедро. Просто так. Чтобы знал. Но вожак не обратил внимания на клыки волчицы. Он напрягся всем телом, жадно внюхиваясь в весенний воздух. Вчера здесь грохотало. И опять пахнет мясом. Но еще пахнет дымом, железом и людьми. А это плохо. Вожак помнил, что так пахнет смерть. Прошлой зимой он чудом выскочил из облавы. И навсегда запомнил этот запах. Иногда от мяса тоже пахнет дымом и железом. Но это не страшно. Страшны живые люди.
Стая, тоже почуяв запах, бесшумно улеглась, а вожак сделал несколько шагов вперед, приподняв правую переднюю лапу. И замер, напрягшись всем телом. Так и есть. Люди. Пятеро людей. И страшный огонь, к которому люди протягивают руки. Огонь их тоже боится и вытягивается вверх. Людей меньше, чем волков. Но у людей железо. Волк бесшумно развернулся и повел свою стаю прочь. Незачем нападать на людей, от которых пахнет твоей смертью. Приходит пора волчьих свадеб. Время разбиваться на пары. Время делать волчат. В этом году много нор в земле. Волчица выберет сама себе логово. Волк не знал, что эти ямы называются окопы. Ему важно, чтобы в этих ямах волчата заскулили.
А люди у огня не заметили, как на них смотрел волк. Им было не до этого, они сидели и обсуждали, куда идти.
Можно было идти на юг, но как прорваться впятером сквозь немецкие позиции, когда один из этих пятерых – тяжелораненый. Можно попробовать идти на запад, к санитарному лагерю, но никто из них не представлял, где этот лагерь находится. Знали только, что где-то на Гладком Мху, но это болото огромное – несколько десятков квадратных километров. Где там искать своих?
Был еще вариант – бросить оружие и, подняв руки, уйти туда, где тепло и сытно, как обещали на листовках немцы. Но почему-то этот вариант не то что не обсуждался, но даже не всплывал в головах десантников.
Они спорили долго и все же пошли к лагерю раненых, сделав из ветвей и ремней самодельные волокуши, на которые положили тяжелораненого. И потащили его, кровавя снег горячими солеными каплями.
Им не повезло. Все они не смогли дойти. Раненый умер через несколько часов. Зазубренный осколок, вспоровший ему живот, не оставил ему шансов на долгую жизнь, подарив лишь семь длинных часов лихорадочного забытья.
Оставшиеся четверо не сразу заметили, что раненый затих. Они и сами были измучены до потери сознания. А когда заметили его, то закопали в снегу, забрав смертный медальон и оружие. И побрели дальше, то и дело проваливаясь в мокрый снег, оставляя глубокие следы. Следы… Был человек – и нету. Остались только следы… Пока они не растают…
А дальше им везло. Идя наугад, почти не разговаривая, они удачно проскочили мимо немецких патрулей, отлавливающих рассеявшихся по котлу десантников. И точно так же, на интуиции, они все же вышли на санитарный лагерь тяжелораненых.
Их встретил сердитый окрик:
– Стой, кто идет?
– Свои, браток, свои!
– Ружья на землю, руки в гору! По-быстрому!
Десантники послушно опустили винтовки на снег и подняли руки. Из ельника вышли трое – такие же чумазые, в прожженных маскхалатах и измызганных полушубках.
– Эй ты, а ну-ка… матюгнись, – ткнул винтовкой в сторону самого высокого один из часовых.
Высокий устало ругнулся. Остальные молчали. Сил на проявления радости у них не было. Хотя в душе радовались, да.
– За мной, – двое вернулись в ельник. Третий повел новичков в лагерь. Вел долго. Наконец вывел на большую поляну, на которой ровными рядами стояли небольшие шалаши. Около каждого шалаша горел маленький костерок и сидели такие же бойцы – с перебинтованными руками, ногами, головами. Из каждого же шалаша торчали валенки, как правило, дырявые. Боец подвел их к старшему:
– Военврач третьего ранга Живаго. Кто такие?
– Рядовой Норицын, разведрота.
– Рядовой Карпов, третий батальон.
– Рядовой Накоряков Леонид, третий батальон, вторая рота.
– Рядовой Федор Ардашев. Двести четвертая бригада.
– Все целы? – устало спросил вонврач. Красные глаза его слезились.
– Целы, товарищ военврач третьего ранга. К несению службы готовы, – ответил за всех разведчик Иван Норицын.
– Тогда стройте себе шалаш и подойдете потом к младшему лейтенанту Юрчику, – Живаго показал кивком на стоявшего рядом хмурого млалея с рукой на перевязи и забинтованной головой.
– Жив, Норицын? – сказал Юрчик.
– А что мне? Я же вятский – парень хватский, на полу сижу – не падаю! – повернулся Норицын к своему командиру.
– Иди, Норицын, иди. После побазлаем. Так?
– Так, товарищ младший лейтенант!
Парни вытянулись в струнку. Как их когда-то учили командиры в далекой-далекой вятской Зуевке.
– Шагайте уже, – кивнул военврач.
Сам же снова устало сел. Рядом сел и младший лейтенант Женя Юрчик.
Живаго достал свою тетрадь и карандаш. Подточил его своей финкой. И продолжил писать.
– Ты чего там корябаешь, Лень? – подал голос Юрчик. – Стихи, что ли?
– Почти, Жень. Дневник веду.
– О чем? – хрипло засмеялся лейтенант.
– О нас. О том, как мы тут воевали. – Военврач задумчиво посмотрел в небо, по которому плыли перья облаков.
– Как все воевали. Ничего особенного. О чем тут писать-то?
– Для истории, Жень. Чтобы помнили.
– Думаешь, забудут? – недоверчиво посмотрел Юрчик на врача.
Живаго помолчал, поджав губы. И лишь через несколько минут ответил:
– Если не напишу – забудут.
– Ну пиши, пиши, летописец. Про меня там не забудь. Напиши, что, мол, героем был… – Лейтенант откинулся на снег, закинув руки под голову. У него были более насущные думы – будут ли еще самолеты? Связи-то с Большой землей нет…
Военврач же снова начал черкать карандашом по бумаге.
А облака все плыли и плыли. И тишина была такая, что закладывало уши. И млалей задремал на минутку. А потом проснулся и вдруг подал голос, не открывая глаз:
– Да какая, в сущности, разница – узнают или не узнают? Главное, что мы дело свое сделали.
Живаго кивнул и продолжил писать.
Облака же все плыли и плыли. Плыли… И жили…
29
– Ну что же, – сказал обер-лейтенант Юрген фон Вальдерзее. – Показания я ваши запротоколировал. Допрос закончен. Сейчас, Николай Ефимович, отдыхайте. Завтра отправим вас в Демянск, в штаб корпуса. Туда, куда вы так стремились!
Немец ехидно улыбнулся, завязывая шнурки картонной папки.
Тарасов согласно кивнул: «Да, стремился, да, попаду. А ведь могло случиться и по-другому…»
И подполковник вдруг вспомнил, как совсем недавно допрашивал таких вот… Нет, не таких – щеголеватых, уверенных в себе, немного надменных. А других – испуганных, трясущихся, ободранных немцев. И этого мог бы допросить. А потом в расход.
В комнату вошли двое немецких солдат.
– Фельдфебель, проводите господина подполковника. И выставьте двойной караул.
– Яволь! – Фельдфебель рявкнул так, что у Тарасова опять заболела раненая голова.
– И приготовьте пленному легкий ужин.
Тарасова отвели в соседний дом, где ему выделили отдельную комнату, в которой был только стул и узкая кровать, заправленная с армейской, помноженной на немецкую, педантичностью.
Потом принесли еду. Котелок с жидким супом, несколько ломтей хлеба и кувшин с молоком. Тарасов старался есть не спеша, помня о том, что организм отвык от еды. Но все равно сметал все быстро. И не наелся. Хотя желудок был полон, все тело требовало еще и еще. Он вздохнул и лег на кровать, прикрыв глаза.
За окном было уже темно, но сон не шел. Тарасов думал. Думал о том, как там бригада, смогли ли прорваться те, кто шел с ним, те, кто вырывался из котла самостоятельно? Как там эта еврейская морда – Гриншпун? Смог ли он заменить командира на последних сотнях метров до своих? «Прости меня, Борь, что я тебя таким гадом перед немцем выставил… Пожелай мне там удачи!»
А удача Тарасову была нужна… Кто знает, как там повернется жизнь?
Подполковник привстал на локте, выглянув в единственное в комнате оконце. Там маячила каска охранника. Мелькнула шальная мысль о попытке побега.
А что? Выбить стекло, прыгнуть сверху на фрица, свернуть ему шею и рвануть, пока не опомнились!
Гогот немцев из второй кухни перебил его мысли. Далеко Тарасову не уйти. Наверняка еще несколько часовых вокруг избы. Ну и что? Хотя бы еще парочку с собой забрать! Какая разница, как ты умрешь? Важно то, для чего ты жил. А для чего я жил? Не для того же, чтобы лежать под серым суконным одеялом и слушать смех врага? Тарасов уже спустил ноги на прохладный пол и вдруг занавеска распахнулась. На пороге стоял давешний фельдфебель.
– Герр подполковник!. Это вам от обер-лейтенанта! – Он протянул Тарасову бутылку коньяка, пачку сигарет и яблоко.
– Данке шен, герр фельдфебель! Передайте обер-лейтенанту мою благодарность.
Тарасов поставил бутылку на стол. Распечатал пачку сигарет. Достал одну. Понюхал. Пошарил по карманам. Спичек не было. Подошел, шлепая ступнями, к лампадке, тихо светящей у иконы Казанской Божьей Матери. Долго смотрел на нее, растирая сигарету в труху. Долго смотрел. Очень долго. В глаза ее смотрел. Она же смотрела в его сердце. Крест по себе – вдруг вспомнил он слова отца. Неси крест по себе. А если перед тобой два креста – спросил он тогда батю. Отец долго улыбался, глядя на Коленьку, а потом ответил:
– Выбирай тот, что тяжелее. И пусть, что хотят другие, то и говорят. Ты-то знаешь, что тяжелее.
Тарасов перекрестил себя перед иконой и пошел спать, отряхнув ладони от немецкой табачной трухи. Коньяк он так и не открыл. Просто уснул. Без снов.
Он спал. Звезды кололи демянскую ночь острыми лучами. Над весенней землей тлела пелена апрельского дня.
Спал и уполномоченный Борис Гриншпун, выведший из прорыва четыре сотни бойцов. Спали и эти бойцы в теплых домах, спали и красноармейцы, с ужасом провожавшие призраков демянских лесов – черных, измученных, истощавших, но выполнивших свой долг. Спали и те, кто еще не вышел из котла, но еще выйдут – последняя сотня десантников прорвется лишь в конце мая. Всего их выйдет около полутора тысяч. Из трех. Спал и лагерь раненых на Гладком Мху, выставив боевое охранение.
Спали и сотни бойцов в воронках Глебовщины, Опуева, Доброслей, Игожева, Старого Тарасова, в полях и лесах Демянска. Спали… Они не умерли, нет. Они просто устали.
Спали вечным сном.
И вечная им память!
Эпилог
Над болотами вставал рассветный туман.
Поисковики собирали палатки, упаковывали свои вещи, дежурный у костра доваривал гречневую кашу с мясом. Хороший такой поисковый завтрак. Последний на этой вахте. Удачной вахте. Двенадцать лет мы искали лагерь десантников. Двенадцать лет. Мы исползали весь Демянский котел, а вот нашли только этой весной.
Да, впрочем, что эти двенадцать лет для них?
Лежат сто пятьдесят два бойца в мешках под древней елью, на которую мы приспособили иконку Казанской Божьей Матери.
От большинства осталось немного косточек. Ноги, руки, ребрышки, ключицы. Сейчас придет «ГТТ» – загрузим его под тентованную крышу мешками с бойцами и свои рюкзаки. Сами пойдем пешком. По этим жутким болотам. Даже по следу «ГТТ» идти очень тяжело. То и дело ноги уходят по самые колени.
Как они тут воевали? Уму непостижимо.
Без еды, без тепла, в тридцатиградусные морозы, по пояс в снегу? Как?
Почему они смогли свой долг выполнить, а мы не можем? Почему они свою страну, своих близких спасли, а мы не можем? Ведь им было-то по восемнадцать! Они в два раза младше меня. Или в три раза старше?
Не знаю я…
До трассы Демянск – Старая Русса идем часа четыре. Вокруг – воронки, воронки, воронки. До сих пор не затянуло. Странно. Болота вроде… Каждую бы проверить, наверняка еще бойцы в них есть. Может, на следующий год подымем их, чтобы они свой последний приют нашли?
Может быть, может быть…
На трассе стоит «Урал». Ребята из местного отряда нас встречают. Сами они работали в другом месте. Карабкаемся в кузов. Едем. Я сажусь у заднего борта, смотря на закат. Смотрю и помню войну. Вдоль этой дороги лежат мои друзья, мои боевые товарищи. Они здесь прорастают на полях. Тянутся лесами. До сих пор. Я с вами, ребята, я с вами. Я вернусь. Я еще вернусь в сорок второй, чтобы вытащить с поля боя еще одного бойца. Других дедов у меня нет. Только эти.
Потянулись деревянные домишки Демянска. Приехали. Выпрыгиваем. Стянуть наконец-то болотники. Переодеться. Натянуть сухие носки. Послать гонца в магазин. Дежурные – на кухню, готовить ужин. Последний на этой вахте. А пока суть да дело, садимся вдоль дощатого стола.
Я не говорил?
Я в тот день работал в другой стороне лагеря – поднимал бойца на самом краю леса. Из его спины выросла березка. Пришлось подкапываться под корни, чтобы поднять его. Закопался как крот. Слышу, мужики кричат. Говорю парню – потерпи, я сейчас… Иду к своим. Подняли какого-то бойца, а у него планшетка. А в планшетке тетрадка. Листы склеились. Надо разворачивать очень осторожно. И не в полевых условиях. Укутали в пакеты ее. Придержали до базы. Вот и пришло время. Поужинали, косясь на пакет с тетрадью. Поставили тазик с теплой водой на стол. Развернули пакеты прямо в воде. И булавочками, булавочками стали разворачивать слипшиеся страницы.
Один разворачивает, другой сразу читает, третий записывает. Записывает…
К сожалению, первые страницы не сохранились. Сгнили. Записи начинаются…
…Восьмое апреля тысяча девятьсот сорок второго года.
Сегодня вышли на лагерь еще четверо. Норицын, Карпов. Неразборчиво – Ардашев. Целые. Это хорошо. Бинтов осталось две упаковки. Из лекарств только пила для ампутаций. Больше нет. Отправили их с лейтенантом к караульным.
…Девятое апреля тысяча девятьсот сорок второго года.
Ночью был самолет. Удалось эвакуировать троих. Привезли мешок сухарей, мешок горохового концентрата, мешок чая, ящик патронов и гранаты. Боеприпасы Юрчик распределил сразу. Продукты выделяем по норме. Пачка концентрата на пятерых на день. Сухарь здоровым и легкораненым, тяжелораненым – по два. Раненым в живот ничего не выдаю. Нельзя. Запросил медикаментов. Особенно нужен стрептоцид. Заражения.
…Десятое апреля тысяча девятьсот сорок второго года.
Умерло четверо. Мог бы спасти, но нечем. Немцы не тревожат, и то хорошо. Самолетов не было.
…Одиннадцатое апреля тысяча девятьсот сорок второго года.
Умерло еще пятеро. Все тяжелые с проникающими ранениями в живот и грудь. Начала вытаивать брусника. Сформировали команду для ее сбора. Единственное подспорье. Впрочем, нет. Еще сфагнум. Перекладываю им раны. Самолетов не было. Из леса больше не выходят.
…Двенадцатое апреля тысяча девятьсот сорок второго года.
Оттаскивали умерших в воронки. Одну уже заполнили. Немцы не беспокоят. Видимо, не знают о нас. Еда заканчивается. Самолетов не было.
…Тринадцатое апреля тысяча девятьсот сорок второго года.
Ночью был один самолет. «У-два». Снова есть сухари, мешок гречневой крупы и двадцать банок тушенки. Есть бинт, зеленка, стрептоцид и спирт. Уже хорошо. Делал весь день операции. Жаль, не догадались прислать кежгут. Бойцы распускают на нитки маскхалаты. Умер только один. Хороший день. Эвакуировали троих. Самых тяжелых.
Неразборчиво, вероятнее всего – четырнадцатое апреля тысяча девятьсот сорок второго года.
Был самолет. Еще плюсом тушенка в том же количестве, опять сухари, наконец-то – чай и махорка. Можно было бы жить. Пытались эвакуировать еще троих. Но самолет на взлете зацепил колесами деревья и рухнул. После чего загорелся. Спасли только летчика. Ожоги третьей, местами четвертой степени. Обгорело лицо, кисти рук. Засыпал стрептоцидом. Больше нечем помочь.
…Пятнадцатое апреля тысяча девятьсот сорок второго года.
Летчик умер. Фамилия неизвестна.
Страница не читаема. Бумага расползлась. Отдельные слова – нет, бойцы, Юрчик, кончилось
…Двадцать первое апреля тысяча девятьсот сорок второго года.
Сегодня было ЧП. Вышло двое бойцов. Назвались Белоусовым и Топилиным. Белоусова я помню. Баянист. Интересная сцена произошла. Пришли довольные. Сытые. Сказали, что их послали немцы. Что там кормят и поят. И что знакомые привет передают – назвали фамилии тех бойцов, которые к нам последними пришли, – Карпова, Норицына, Ардашева, Накорякина. Эти бойцы услышали свои фамилии и вышли. Предателей казнили. Бросили в болото. Снег уже почти сошел. Кругом грязь, самолетов не было уже неделю.
…Двадцать первое апреля тысяча девятьсот сорок второго года.
Думаю, что самолетов больше не будет. Им просто некуда сесть. Только на водных лыжах. Закончилась последняя еда. Умирают и умирают. Сил больше нет. Оставшихся в строю Юрчик послал в прорыв. Может быть, дойдут. Остались только лежачие и мы с лейтенантом.
Страница не читаема. Бумага расползлась. Отдельные слова – …нмы…..бой… пхорнли ещ…..умер…
…Двадцать шестое апреля тысяча девятьсот сорок второго года.
…продолжают минометный обстрел. Ранены все. В том числе и я. Но легко. Осколком порвало ахиллово сухожилие на левой ноге. Это не страшно. Уходить я отсюда не собираюсь. Лишь бы в руки не попало. Надо стрелять. Пытаемся стрелять. Не знаю, попал ли я в кого-нибудь. Опять идут.
…Двадцать седьмое апреля тысяча девятьсот сорок второго года.
Затишье. Немцы что-то кричат в громкоговорители. После вчерашнего не лезут пока. Я видел, как безногий вцепился зубами в пах фрицу. Не повезло фрицу. Зубы мы не чистили уже давно. Инфекций накопилось много.
…Двадцать восьмое апреля тысяча девятьсот сорок второго года.
Лейтенант Юрчик ослеп. Дистрофия последней степени. Я чувствую ее по себе. Очень тяжело держать винтовку. Пока еще держу карандаш.
Страница не читаема. Бумага расползлась. Отдельные слова – …цы…..конч…..ср…
…Первое мая.
Праздник. Нас осталось пятеро. Сил больше нет.
…Третье мая.
Я последний. Передайте привет по адресу, город Черкасск, Ставропольского края… Далее неразборчиво – Живаго. У меня еще есть граната. Прощайте.
Мы долго молчим. Очень долго. Потом наливаем водки. Встаем. Выпиваем. Молча. Так нужно. Не знаю почему, но так нужно.
Потом идем курить.
Я затягиваюсь дымом и смотрю то на острые звезды, то на белеющие в темноте мешки под навесом. Где-то в этих мешках лежит человек, который писал эти строчки. Врач с пастернаковской фамилией Живаго. Виноват, военврач. Откуда-то со Ставрополья.
Завтра мы тебя похороним, доктор Живаго. Завтра. Завтра будешь лежать в домовине.
Потерпи еще ночь, солдат.
– Он не подорвался.
– Что? – не понимаю я.
– Он не подорвался, – повторяет Виталик. – Когда мы его поднимали, в руке у него была «лимонка».
– Аааа… А какая разница? – отвечаю я.
– Да никакой, – пожимает плечами Виталик.
И мы идем спать. Потому что завтра предстоит тяжелый день.
Нам надо похоронить военврача Живаго и бойцов первой маневренной воздушно-десантной бригады.
Похоронить победителей.
Поколение победителей.
Я забираюсь в спальник. Кладу под голову рюкзак. Долго смотрю в потолок. Не могу уснуть. Думаю.
Думаю о том, простят ли они меня – слабака из поколения проигравших?
Я родился в семьдесят третьем году, потому что они умерли в сорок втором.
Под маленьким городом Демянском они отстояли страну. Голодные, обмороженные, обессилевшие.
Я – сытый, довольный, красивый – спустил в сортир все, что они для меня сделали.
Они ломали сталь, а я только и умею жрать в три горла.
Они вложили в меня сокровенные мечты, а я что сделал, чтобы эти мечты воплотить?
Поколение победителей – наши предки, наши отцы, деды, прадеды. Уже прадеды, да… У восемнадцатилетних мальчишек растут двадцатилетние правнуки.
Как я позволил разорить дом своих родителей?
Простите меня, деды.
Пожалуйста.
Благодарности
А вот мода такая есть – благодарить за помощь в книге. Ну и я поблагодарю.
В первую очередь наших поисковиков – Виталия Комлева и Юрия Семененко. Это они заставили меня писать. Заставили и помогали в работе с документами.
И, конечно же, коллег по писательскому цеху с сайта «В вихре времен» (forum.amahrov.ru) и с сайта «Окопка» (okopka.ru). Ребята, вы своей поддержкой и критикой сделали эту графоманию книгой.
Спасибо и первому исследователю судьбы десантников в Демянском котле – Толкачу Михаилу Яковлевичу, ветерану войны. На данный момент он еще жив. Мечтаю о том, что когда-нибудь переиздадут его труд «В заданном районе».
А еще огромное спасибо моей жене, ибо это она меня вдохновляла садиться за компьютер и работать, работать, работать.
Но самое большое спасибо тем бойцам, которые дали нам возможность жить.
С Днем Победы, ребята!
Приложения
1. Необходимое, с точки зрения автора, послесловие.
При написании книги я опирался на документы и воспоминания десантников первой маневренной воздушно-десантной бригады. Некоторые из этих документов привожу в приложениях. Некоторые, потому как львиная доля их еще хранится под грифом «Сов. секретно». В чем причина этого – я не знаю. Как и не знаю, какова судьба подполковника Тарасова. Официально он считается пропавшим без вести. В процессе работы над книгой я изменил некоторые имена, некоторые названия, сместил даты. Долго объяснять, для чего, но так посчитал нужным. Тем не менее все события, повторяю, имеют реальную основу. Для чего и привожу следующие документы:
2. Радиопереговоры между командованием Северо-Западного фронта и первой МВДБР
Фонд 1774
Опись 1
Дело 5
Входящие шифротелеграммы 1-й МВД бригады
17 янв. – 29 марта
До 13 марта шифрограмм с координатами и местоположением нет.
13 марта
Продовольствие сброшено в квадрат…
Ватутин
14 марта
Укажите место посадки самолета, обозначьте кострами
Ватутин
14 марта
Ваши телеграммы искажены, куда сбросить, дайте координаты, сообщите сигнал
Курочкин
17 марта
Ввиду обнаружения вас в районе… противником, покидайте район, выполняйте задачу – Добросли, Демянск
Курочкин
Радиста ввиду искажения к работе не допускать
18 марта
Продукты сброшены в достатке в…, где имеется ваша команда.
Курочкин
18 марта
Продовольствие, как вы указывали, сброшено 1 км восточнее отметки…
там же площадка для самолетов вывоза раненых, организуйте срочно вывозку, выставьте охранение.
Курочкин
20 марта
Гринев с 2-мя батальонами отметка…, войдите в связь, дайте продуктов.
Курочкин
Фонд 1774
Опись 1
Дело 4
Исходящие шифротелеграммы 1 МВД Бригады 17 янв. – 29 марта
6 марта 42.
Подать продовольствие 11 марта по координатам…
приняли бой река Полометь координаты…
9 марта
1 батальон в координатах…
Основные силы… вошел в связь с партизанским отрядом Полкмана продолжаю движение по маршруту
11 марта
Дайте продовольствие координаты…, голодные
12 марта вышли в район…
Продовольствия нет
14 марта
Отсутствие продуктов вынудило атаковать
Б. и М. Опуево
14 или 15 марта, без даты
Дайте что-нибудь из продовольствия, погибаем, координаты…, поляна юго-западнее отм…
15 марта
Погибаем, голод, находимся в поясе центральных укреплений. Дальнейшие действия бессмысленны. Авиация не дает подняться. Разрешите отход старым маршрутом.
16 марта,
из района… Из-за сильного воздействия авиации отошли в район… Продукты сбросьте в…, где садился «У-2»
16 марта
Продукты доставлены, распределены, но это явно недостаточно.
17 марта
Получено около полсутдачи, бригада остается голодной. Выступать сегодня не можем. Настоятельно необходимо эвакуировать раненых и обмороженных в кол-ве 250 человек.
18 марта
Гриншпун докладывает в особый отдел НКВД
15 атаковали М. Опуево. Операция проведена без подготовки и тактически безграмотно. Имеется много жертв. Комбриг принял неправильное решение – оставил селение – не подобрав раненых, убитых, в т. ч. комбата и уполн. Крылова
18 марта
Положение части без изменений, продовольствие собираем в координатах…, площадка для сбрасывания грузов координаты…, где б. выложен условный сигнал.
19 марта
Прошу в ночь на 19–20 сбросить продовольствие в те же пункты и разрешить выполнять задачу (Добросли) после получения продовольствия – голодны, истощены.
20 марта прибыли Латыпов и Степанчиков. Подтверждают, что есть подлежащие эвакуации и о начале операции 20 в 19, потом в телеграмме от 21 марта, что в 6-00, потом в 11 часов 21 марта, что атака в 21 час на Добросли.
20 марта
Латыпов сообщает о 509 раненых и обмороженных, из них требуют эвакуации 237.
22 марта
22-00 атаковал Добросли, успеха не имел. Отошел 2,5 км севернее Добросли, Гринев ушел в район с отметкой…
23 марта
Начштаба Шишкин сообщает к 10–00 1 и 204 вышли в район…, буквы зачеркнуты.
23 марта
Вышли в район 3,5 км южнее Аркадово.
Вели бой Атакуем Игожево в 21–00 24 марта.
23 марта сообщает Латыпов
Есть раненые, вышлите самолет связи, сигналы выложены 3,5 км южнее Аркадово.
24 марта
Площадка выброски продуктов в ночь на 24–25 марта координаты… лесная поляна в 4 км юго-западнее Меглино.
24 марта
В 9-00 выступаем в район сосредоточения…
25 марта
Площадка посадки «У-2» – болото Гладкое, сигналы выложены. Надо – продукты, боеприпасы, 50 пар лыж, 20 пар сапог. Имею раненых.
Фонд 1774
Опись 1
Дело 6
Входящие и исходящии шифротелеграммы 1-й МВД Бригады
От 10 марта до 7 апреля
25 марта
Мавричеву – 34 армия
В ночь на 26 атакую Меглино и Стар Тарасово, в случае неуспеха отхожу к высоте… севернее Черной – западной. Имею раненых, прошу транспорт для эвакуации.
Тарасов
Без даты
Курочкину
Вел бой за Меглино, Стар. Тарасово, Тарасово, Игожево на дороге Игожево – Ермаково. Вышел в район отметки… км севернее Черной – западной.
Без даты
Выступаем 20–00 направление между Лунево – Корнево, много тяжелораненых.
Тарасов – Курочкину
Без даты
Бросайте продукты до 24–00 28 марта на площадке 1 км северо-восточнее Корнево, садите самолеты санитарные для эвакуации Гринева, Мачихина.
Курочкину – Тарасов, Латыпов
31 марта
Решетняк – Деревянко
Переходя дорогу Игожево – Ермаково обстреляны автоматчиками.
без даты
Курочкину – Тарасов
Попытка прорваться через демянскую дорогу успеха не имела, отошел в район леса 3 км (3,3) северо-западнее Игожева, просит сбросить продукты и самолет санитарный без указания координат.
5 апреля
Тарасову
Невий Мох отметка… находится батальон Жука. Здоровых 327, легкообмороженных 234, требующих эвакуации 150. Обеспечены продуктами и медикаментами на 5 дней. От него эвакуация самолетами, прошу связаться с Жуком, обеспечить вывоз раненых, продукты и медикаменты подбросить им.
Нач сануправления Шанашинкин.
30 марта
Тарасов – Курочкину
После неуд. прорыва на юг, с потерями, мелкими группами сосредоточился у отм…, в ночь на 31 марта выдвигаюсь в район южной окраины болота Гладкое. Есть раненые, шлите самолеты.
27 марта
Мачихин – Курочкину
После прорыва Лунево – Черная отошел к отм…
31 марта
Тарасов – Курочкину
Необходима 31 посадка самолетов в районе южной окраины болота Гладкое для эвакуации. Срочно – Мачехина.
5 апреля место прежнее.
Прошу посадку санитарных самолетов для вывозки раненых.
6–7 апреля
Мавричеву
В ночь на 7 апреля пытаюсь прорваться между Дубецкий Бор и Андреевское в направлении сарая…
Тарасов – Ватутину
Продукты получил, больше не бросайте.
В ночь с 7 на 8 нахожусь в районе юго-восточной окраины Дивен Мох.
7 апреля
Тарасов – Ватутину
Нахожусь в районе ю-вост. окраины болота Дивен Мох.
Положение очень – 2 раза – тяжелое. Для вывода нужна помощь Самостоятельно охраняю только раненых. Прошу помощь для выхода. Ежесуточное промедление приносит десятки жертв. Предлагаю переход фронта в ночь на 8 апреля на участке Николаевское – Андреевская. Прошу всемерно поддержать.
5 апреля
Ватутин – Тарасову
Мачехин доставлен.
7 апреля
Ватутин – Тарасову
Неоднократно вам посылался приказ выходить избегая боя, минуя населенные пункты. Перейти фронт на участке Погорелицы – Никольское.
3. Протокол допроса военнопленного, захваченного 08. 04. 1942 г. в селе Николаевское под Демянском.
Допрос проводил офицер разведотдела 123-й пехотной дивизии лейтенант Юрген фон Вальдерзее
Персональные данные:
Ф а м и л и я: Тарасов
И м я: Николай
О т ч е с т в о: Ефимович
З в а н и е: подполковник
Д о л ж н о с т ь: командир 1-й воздушно-десантной бригады
Тарасов родился 09.05.1904 года в Челябинской области в семье священника. Он ниже среднего роста, очень подвижен и общителен. По желанию родителей должен был стать священником и посещал семинарию. В 1919 году добровольцем вступил в армию Колчака. После разгрома армии вернулся домой и продолжил обучение. В 1921 году поступил в военное училище в Кирове (Вятка), которое в знании младшего лейтенанта окончил с отличием в 1924 году. Был направлен для прохождения службы командиром взвода в 14-ю московскую дивизию во Владимир.
С 1926 по 1932 годы был командиром роты на офицерских курсах усовершенствования в Москве.
В 1932–35 гг. был адъютантом командующего байкальской группой Дальневосточной армии у полковника Горбачева до момента, когда тот был снят с этой должности, Горбачев работал до того в военной миссии в Германии, и как и большинство офицеров, находившихся в Германии, был в оппозиции к Сталину. К этой оппозиционной группе, возглавляемой Тухачевским, относился и Тарасов. По этой причине Горбачев способствовал продвижению Тарасова. Прежде чем Тарасов получил в свое подчинение десантный полк, он был в подчинении у майора Федько – украинца в байкальской группе. Горбачев был арестован в 1937 году. Бывший военный атташе в Берлине Путна был из-за своей связи с оппозиционной группой расстрелян, а Тарасов арестован. В ходе процесса над Тухачевским, о котором Тарасов подробно рассказал, он был приговорен к трем годам тюрьмы. При этом он подвергался пыткам. Тюремное заключение отбывал в Ворошилове в одиночной камере, где к нему также применяли пытки. После освобождения из тюрьмы в 1940 году он работал специалистом по парашютному делу. Сам он совершил 170 прыжков. Также читал лекции по авиации, что являлось средством к его существованию. В лекциях освещал вопросы прыжков с парашютом и тактики применения десантных подразделений.
24.06.1941 г. он был вновь, как майор, призван в армию. Сразу же после начала войны была арестована его жена, немка, урожденная Келлер, с которой он познакомился в Москве и женился в 1926 году. Она была арестована, так как считалась политически неблагонадежной. Его связь с женой после ареста оборвалась, как, впрочем, через некоторое время и с дочерью. Тарасов подозревает, что его жену расстреляли. Он утверждает, что с началом войны все немцы, проживавшие в Москве, были высланы из города или арестованы.
24 июня он получил назначение в записную воздушно-десантную бригаду под Мелитополь. Оттуда он был направлен в Больничногорск в резервную группу, а затем переведен в Калинин. В среднем возраст солдат в десантных войсках составлял 19–23 года.
Преимущественно это были комсомольцы и члены партии.
Затем Тарасову было поручено формирование новой резервной воздушно-десантной бригады в Зуевке под Кировом, которая в дальнейшем была преобразована в 1 вдбр. Она, как затем и 2 вдбр, была самостоятельной единицей, не входящей в состав какого-либо корпуса. Солдаты бригады были преимущественно из Удмуртии, Кирова (Вятка) и Молотова (Пермь).
Вначале в бригаде был недостаток вооружения. Лишь в Монино, куда бригада была переведена в начале февраля 1942 года, она получила вооружение. К этому времени все воздушно-десантные бригады были сосредоточены под Москвой. В Монино расположен большой аэродром, на котором находятся 200 самолетов различных типов. Там же специальные мастерские по ремонту иностранных самолетов. Тарасов характеризует этот аэродром как хороший объект для авианалета.
В феврале Тарасову было присвоено звание подполковника.
Тарасов характеризует подготовку бригады из-за отсутствия орудия и необходимых самолетов как чрезвычайно недостаточную. Подготовка длится 60 дней. Штатная численность бригады 3000 человек. Его бригада, однако, насчитывала только 2600 человек. Во время подготовки каждый парашютист совершил лишь один прыжок. Вначале десантники изучили винтовку, затем полуавтоматический карабин и, наконец, пулеметы. В отличие от принятой общей подготовки, был взят за основу принцип одиночной подготовки по немецкому образцу. Подготовка проходила одиночная, в составе отделения, а затем и в составе взвода. Только в некоторых случаях использовалась прежняя система обучения.
В конце февраля бригада была направлена из Монина в Вылпозово. Только здесь Тарасову стало известно, что он должен направляться на Северо-Западный фронт. По прибытии он должен был вместе с комиссаром Мачихиным представиться командующему фронтом генерал-майору Курочкину, который в свое время подвергался политическим репрессиям.
Задачи и планирование
В штабе армии ему довели задачу, которая несколько раз менялась. Вначале планировалось десантировать бригаду в район Дно. Однако из-за нехватки самолетов было решено перебросить бригаду в Дно пешим порядком на участке между Старой Руссой и Холмом. В первых числах марта Тарасов вновь был вызван в штаб, где ему было приказано десантироваться в районе Глебовщина под Демянском. Для этой акции ему должны были быть предоставлены 30 самолетов. 4 «ТБ 3» и 26 «Дуглас DC 3». Но из-за их отсутствия план был изменен.
После того как эти планы были отменены, Тарасов получил задачу пробиться со своей бригадой в Демянский котел и рассечь его с севера на юг. В то время ему еще не было известно, что в этой операции должна была принимать участие и 204 вдбр. Предусматривалось рассечь Демянский котел на четыре части. Согласно этому плану вначале необходимо было захватить Добросли, чтобы пленить штаб 16-й армии. Этот приказ был встречен смехом командирами, так как им было известно, что в котле находился усиленный II немецкий корпус. В ходе этих операций Демянск должен был быть окружен. Тарасову было предоставлено право самому принимать решение: окружать вначале Демянск или же сразу же его захватывать.
Остальные приказы он должен был позже получить в сеансе радиосвязи. Позднее он получил приказ окружить также населенные пункты Бель 1 и 2.
Состав и вооружение 1 вдбр:
Бригада насчитывает 2600 человек.
Состав:
4 батальона по 600 человек каждый рота связи 70 чел.
саперная рота 80 чел.
минометный дивизион 120 чел.
Точные цифры Тарасов привести не смог. На вооружении очень высокий процент автоматического оружия. Минометный дивизион состоит из трех батарей по четыре миномета калибра 52 мм в каждой. Кроме того, в дивизионе два миномета калибра 82 мм. В каждом батальоне по минометной роте по 6 минометов калибра 52 мм в каждой. В бригаде 12 противотанковых ружей. В ходе боев большинство из них, а также минометы были утрачены.
Бригада не была оснащена противогазами.
Ход боевых действий
Бригада была направлена из Вылпосова вначале в Валдай, а затем в Гривки. Оттуда на лыжах-снегоступах переправлена в период между 3 и 6 марта на участке отметка 79,0 – Пустынька – через линию фронта. При переходе линии фронта было незначительное огневое соприкосновение с противником. После марша бригада расположилась в лесу в 4 км северо-западнее Опуева. Через 8–9 дней за ней последовала 204-я бригада, численностью лишь в 1000 чел., так как большая ее часть не смогла пробиться через линию фронта. Командовал бригадой майор Гринев. О существовании 204-й бригады в этом районе Тарасов узнал во время своей встречи с Гриневым. Утверждения пленных о том, что 2-й батальон 204-й бригады уже до этого был десантирован с воздуха, по данным Тарасова, не соответствует действительности. Ему также в то время не было известно, что 2 вдбр тоже проникла в котел и должна была с юга атаковать Лычково.
В начале операции общее командование обеими бригадами было возложено на майора Гринева. Тот факт, что майор командовал подполковником, делает правдоподобными утверждения Тарасова о его неблагонадежности. Только позднее полковник Латыпов, специалист по операциям в немецком тылу, взял на себя командование 1-й и 204-й бригадами. Он находился за линией фронта с лыжным батальоном.
Примечательно, что Тарасов не мог назвать точные даты. Поэтому трудно точно проследить временной ход операции.
В атаке на Малое Опуево Тарасов не участвовал, так как ею руководил Латыпов. После того как бригада вынуждена была вновь оставить Малое Опуево, Тарасов был удивлен, что немецкие подразделения не стали продолжать преследование. По его мнению, автоматического оружия хватило бы, чтобы обратить в беспорядочное бегство отступающие подразделения бригады. Такие «упущения» немецких войск констатировал он также и в других случаях.
У Малое Опуево 2-й батальон 1-й вдбр был почти полностью уничтожен. По его словам, число убитых там составило 300 человек. В этом бою участвовала и 204-я бригада.
После того как бригады вновь отошли в лесной лагерь у Малого Опуева, самолетами им было доставлено «достаточное» количество продовольствия. Самолеты садились на специально созданный лесной аэродром, чтобы также забрать раненых.
Другие операции 204-я и 1-я бригады проводили вместе. Предусматривалось вначале, что 1 бригада будет атаковать Добросли, в то время как 204-я вдбр должна была занять Ользи. Но так как 204-я бригада заблудилась в лесу, то она не смогла выполнить свою задачу. Атака на Добросли проводилась в количестве около 2000 человек. После боя обе бригады вновь встретились в районе Малое Опуево. Если у Малое Опуево потери были тяжелыми, то у Добросли они были гораздо меньшими. По тактическим соображениям Тарасов отказался от плана окружения Демянска, на чем настаивал комиссар Мичихин. Возникшие трения привели Латыпова к окончательному решению взять на себя командование 1-й бригадой. По невыясненным соображениям Латыпов также отказался от атаки Демянска. Обе бригады совершили марш из лесов в районе Опуево тремя колоннами на расстоянии 150 метров друг от друга в южном направлении, пересекая дорогу Демянск – Бобково, конкретно между Бобково и Корнево. В то время как 1-я бригада при переходе дороги почти не имела потерь, так как подразделения 1-го батальона, встретив ожесточенное сопротивление противника, сразу же отошли в Малое Опуево, 204-я бригада вновь потеряла ориентир, заблудилась и вышла прямо в Бобково, где в ходе боя имела тяжелые потери. К тому времени в расположении 1 батальона 1 бригады, который согласно радиограммы от 07.04 находился все еще у Малое Опуево, собралось еще 300 раненых и обмороженных десантников. После пересечения дороги в трех км южнее был разбит новый лагерь. Точное место не названо, но по данным других пленных оно установлено и находится на восточной окраине Галоевского болота.
В ночь на 24 марта 204-я бригада атаковала Игожево. Приказ об этом поступил непосредственно из штаба Северо-Западного фронта. Командовал атакой командир батальона в звании майора. Фамилия его неизвестна. План боя разрабатывал лично Латипов.
По словам Тарасова, Латыпов лично составлял планы всех операций. Однако подразделениям стало известно только 5 апреля о существовании Латипова и его функциях как командира бригады.
Точное число потерь Тарасов не смог указать. По его оценкам, у Игожево потери составили около 400 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. После боя от первоначального числа в 800 человек вновь нашлись:
150 чел. под командованием майора,
300 чел. прибыли организованно к указанному пункту сбора на Гладкое болото,
100 чел. группами и поодиночке подошли позже.
Тарасов утверждает, что той же ночью с 1-й бригадой отошел в южном направлении. На возражение, что это противоречит временным параметрам, он признал, что мог ошибиться с датами, так как у него на них плохая память. Существовал принципиальный приказ: марш совершать только в ночное время. Несмотря на запрет, подразделения 1-й бригады пересекли участок дороги Ермиково – Игожево в дневное время. Об этом периоде времени Тарасов не смог привести точных данных. По некоторым его высказываниям можно сделать вывод, что он был в этот момент в состоянии алкогольного опьянения, которое помешало ему также принять участие в бою у Старого Тарасова. Марш 1-й бригады из Игожево в Старое Тарасово должен был быть завершен и течение двух дней. В операции в районе Ст. Тарасово должны были участвовать 1000 человек, хотя наличные силы составляли 1800 чел. В ходе атаки, в частности, были задействованы 1-я рота 1-го батальона, 3-й и 4-й батальоны, которые, однако, из-за потерь были значительно ослаблены. По данным Тарасова, операцией вновь руководил Латыпов. После боя бригады собрались у отметки 80.1 и оставались там также и следующую ночь. Остатки 204-й бригады, которые вновь пополнились за счет подхода заблудившихся групп, получили приказ атаковать Меглино. Но так как в очередной раз подразделения потеряли ориентир, атака была сорвана. Остатки 204-й бригады вернулись в пункт 80.1. Обе бригады получили по радио сообщение от армии, что населенный пункт Черная уже занят русскими войсками, что не соответствовало действительности. Так как первоначальная задача была взять Ст. Тарасово и пробиваться между Лунево и Корнево, то остатки обеих бригад выдвинулись в южном направлении, однако были остановлены на линии фронта. Только одной роте под командованием старшего лейтенанта Рожкова численностью 100 чел. удалось прорваться. Об этом Тарасов узнал из сообщения, доставленного самолетом. Роте удалось пробиться только потому, что прилегающая местность была покрыта кустарником, который удалось преодолеть почти незаметно. После этого неудачного прорыва бригада сосредоточилась в лесу севернее Корнево. Здесь бригада понесла большие потери от артиллерийского обстрела. Тарасов выразился дословно: «Этот артиллерийский огонь был классическим. Стреляли с двух направлений. Очень интенсивным был огонь со стороны Маслово, в то время как со стороны Черная он был менее интенсивным. Потери составили около 200 чел., при этом было выведено из строя очень много офицеров. На вопрос, был ли подбит артогнем самолет «У-2», Тарасов ответил отрицательно.
Машина не могла снова взлететь, так как увязла болоте и была сожжена летчиком. Самолет доставил четыре мешка сухарей и должен был забрать раненого комиссара Мачихина.
Латыпов отдал приказ вновь отойти в район Малое Опуево. К тому времени насчитывалось около 1000 человек личного состава. Они надеялись получить у Малое Опуево подкрепление с воздуха. В ходе обратного марша группа десантников из 201-й бригады в количестве 70 чел. отделилась и попыталась самостоятельно выйти на Масловское болото.
Пробиваясь на север, бригады дважды получали провиант с воздуха на болоте Гладкое и в районе Ермаково. Содержимое продовольственного пайка: сухари, жиры, сухие концентраты, соль, витамин С. По пути наталкивались на заблудившихся десантников, которые к ним присоединялись. Точные данные Тарасов не смог привести.
Тарасов в любом случае должен был быть доставлен живым в Москву. Более точные подробности ему неизвестны.
Потери от артобстрела в районе болота Гладкое были небольшими, подразделения отошли на 1 км в северном направлении. Из-за сильного пулеметного обстрела неудачной оказалась попытки пересечь в северном направлении дорогу Бобково – Аркадово. По данным Тарасова, потери при этом составили 30 человек. Из штаба армии Латыпов получил указание совершить марш в южном направлении и попытаться прорваться на участке между Николаевское и Погорелицы С этой целью с запада в интересах бригад должна была быть совершена атака с задачей перерезать дорогу на Лолу. Этот приказ поступил непосредственно от штаба Северо-Западного фронта, после того как Латыпов доложил о неудачной попытке и попросил дальнейших указаний.
По данным Тарасова, общая численность обеих бригад перед преодолением участка дороги Залесье – Аннино вновь составила около 1000 человек. И в этом случае марш начали тремя колоннами. Потери после боя составили около 125 человек убитыми. После пересчета данные подтвердились. 180 человек из-за артиллерийского огня не смогли пересечь дорогу и отошли назад. Оставшиеся 180 десантников сосредоточились вновь у болота Дивен Мох. Налеты немецкой авиации на лагерь в районе болота Дивен Мох и во время марша Залесье – Аннино он оценил как эффективные. В этом районе бригады приняли радиограмму от 34-й армии, в которой место прорыва было определено между Николаевское и Волбовичи. Контратака с запада была назначена на 2 часа ночи 8 апреля. Бригады начали марш к месту прорыва в 21 час 7 апреля. Численность их составляла 700 человек, из которых 400 были небоеспособными. В завязавшемся там бою приставленный к Тарасову работник НКВД был убит, после того как он выстрелом в руку ранил Тарасова. Вторая пуля, выпущенная подполковником Латыповым, только задела Тарасова. Также и Латыпов погиб в этом бою. У болота Дивен Мох они в течение двух ночей получали достаточное питание. Аэродром находится в северо-восточной части этого болота.
Самолетами были доставлены две новые радиостанции с запасными батареями, так как на обе бригады оставалась лишь одна радиостанция. Эти самолеты забрали раненого комиссара Мачихина и командира 204-й бригады Гринева.
На вопрос, что могут предпринять бригады после неудачной попытки прорыва, Тарасов заявил, что они вернутся к болоту Дивен Мох и после получения продовольствия в соответствии со старым планом будут вновь прорываться к Малое Опуево, если, конечно, от армии не последует нового приказа.
Тарасов подтверждает, что в результате оттепели при сохранении ночных заморозков физическое состояние личного состава бригад еще более ослаблено, чем при сильных морозах. Валенки насквозь промокают, этим объясняется высокий процент обморожений. Даже ночные костры не спасают от обморожений.
4. 1-я МВДБр в Демянской операции 1942 года
Дужинская Е.Н., Злоказов В.В., Комлев В.А. (Печатается с разрешения авторов)
Подготовка Демянской операции
Весной 1942 года командование Северо-Западного фронта (СЗФ) провело крупную десантную операцию в Демянском районе Новгородской области в тылу окруженной 16-й армии вермахта. Целью ее было нарушить тыловую инфраструктуру окруженной группировки немцев и перерезать коммуникации, по которым происходило снабжение немецких частей. Эта героическая страница истории Великой Отечественной войны практически не исследована отечественными историками. Вот как об этом сказал американский историк David M. Glantz: «Удивительно, что, несмотря на большое число военных исследований, сделанных советскими историками начиная с конца войны, и изобилия архивных материалов, опубликованных в последние годы, фактически нет ни одной работы, описывающей эти операции или перечисляющей советских солдат, погибших здесь».
Одним из спецподразделений, участвовавших в Демянской военной операции, была 1-я маневренная воздушно-десантная бригада, которая была сформирована в декабре 1941 года в городе Зуевка Кировской области.
Бригада насчитывала 2600 человек, организованных в 4 батальона по 600–620 человек в каждом, не считая поддержки спецподразделений. На вооружении в бригаде был очень высокий процент автоматического оружия. Минометный дивизион состоял из трех батарей, каждая из которых имела по четыре миномета калибра 50 мм и два миномета калибра 80 мм. В состав каждого батальона входила минометная рота по 6 минометов калибра 50 мм в каждой. В бригаде было 12 противотанковых ружей.
Командиром бригады был назначен подполковник Н.Е. Тарасов. Основой командного состава являлись офицеры 204-й и 211-й ВДБ, а рядовой состав бригады состоял из молодых ребят 18–19 лет, преимущественно жителей Кировской области, а также, в небольшом количестве, жителей Удмуртии и Пермской области.
Обстановка на фронтах осенью 1941 г. была крайне тяжелая, враг наступал на всех направлениях, и ощущалась острая нехватка войск. Но подготовке десантной бригады было уделено большое внимание. В воспоминаниях немецких солдат, изданных в послевоенное время, встречается такое описание десантных подразделений, действующих внутри «котла»: «…наилучшим образом вооруженные и подготовленные воины Красной Армии состояли из фанатично настроенных молодых коммунистов».
Если на подготовку пехотных подразделений в то время уходила одна-две недели, то десантников готовили два месяца. Учеба проходила в интенсивном режиме с изучением различных видов оружия, в том числе и немецкого, с боевыми стрельбами. Солдат обучали парашютному делу, умению ориентироваться на местности, ходить по азимуту, регулярно выполнялись лыжные маршевые броски. Даже такой, казалось, мелочи, как постройка шалашей, было уделено внимание. Тогда никто в бригаде еще не знал, что очень скоро новые знания понадобятся, и от того, как они освоят эту военную науку, будет зависеть их жизнь.
В январе 1942 г. советское командование начинает стратегическую наступательную операцию, которая должна была закончиться выходом наших частей в район Смоленска, с глубоким охватом группы немецких армий «Центр». Составной частью этого плана был удар Северо-Западного фронта в районе озера Ильмень с целью освобождения Старой Руссы, городов Холм и Великие Луки.
29 января 1-й и 2-й гвардейские стрелковые корпуса совместно с частями 11-й армии нанесли удар из района восточнее г. Старая Русса в южном направлении, взломали немецкую оборону и к 15 февраля соединились с частями 3-й ударной армии. Таким образом, в окружении оказались 2-й армейский корпус и часть 10-го армейского корпуса 16-й армии фашистских войск, в составе 12-й, 30-й, 32-й, 123-й, 290-й пехотных дивизий и элитная дивизия SS «Totenkopf» («Мертвая голова»). Попытка разгромить окруженные части в ходе дальнейшего наступления не удалась из-за нехватки сил и трудностей снабжения наступающих войск. К концу февраля была сформирована наружная и внутренняя линии фронта, которые составили части 1-го гвардейского стрелкового корпуса, 34-й армии, 1-я и 3-я ударные армии и группа Ксенофонтова (Калининский фронт).
Гитлер придавал огромное значение удержанию Демянского плацдарма, т. к. считал, что отсюда начнется победное наступление на Москву. Во всех немецких документах окруженная группировка именовалась не иначе как «Демянская крепость», или «Демянская цитадель». Для снабжения окруженных войск была задействована вся транспортная авиация группы армий «Центр» и половина транспортной авиации всего Восточного фронта. Одновременно стала готовиться спасательная операция «Brueckenschlag» («Наведение мостов») под командованием генерал-майора фон Зейдлица. Внутри «котла» немцы, используя непростой рельеф местности, сумели организовать хорошую оборону наружного фронта, а внутри – охрану необходимых им населенных пунктов и дорог, выстроили систему запасных укреплений.
Советское командование, зная о подготовке немцев к проведению деблокирующей военной операции, стремилось быстрее разгромить окруженные фашистские войска, но все попытки Северо-Западного фронта успеха не имели и заканчивались большими потерями личного состава. Тогда было предложено выполнить данную задачу, нанеся противнику удары снаружи силами самого фронта и ударами с тыла силами десантных подразделений.
Выполнение десантной операции было возложено на 1-ю и 2-ю маневренные воздушно-десантные бригады (МВДБр) и 204-ю воздушно-десантную бригаду (ВДБр). 1-я МВДБр и 204-я ВДБр, действуя вместе, должны были добиться следующих целей:
1) уничтожить построенные немцами аэродромы в районе д. Глебовщина, что привело бы к срыву поставок вооружения, боеприпасов и средств жизнеобеспечения;
2) уничтожить штаб окруженных немецких войск, расположенный в д. Добросли, что привело бы к дезорганизации взаимодействия всех окруженных частей.
Далее обе бригады, громя немецкие гарнизоны, должны были двигаться на юг в район д. Бель, а затем прорваться через немецкие позиции к своим войскам.
Задачей 2 МВДБр являлся удар с тыла по станции Лычково, которая расположена на железной дороге, связывающей г. Валдай с г. Старая Русса. Захваченная немцами, станция препятствовала выдвижению вперед советских войск. Так как данное повествование посвящено действиям в основном 1-й МВДБр, забегая вперед, скажем, что из-за слабой организации операции и плохого снабжения продовольствием 2-я МВДБр не смогла захватить ст. Лычково и отступила в расположение наших войск с большими потерями.
Первоначально заброска бригад планировалась десантным способом с самолетов. Но в последний момент руководство Северо-Западного фронта отказалось от этого. Причин было, как минимум, две: во-первых, нехватка транспортной авиации (что впоследствии сказалось на снабжении бригад), во-вторых, зима 1942 г. была снежная, и руководство опасалось, что после выброски десантники не успеют быстро добраться до пункта сбора и будут уничтожены противником по частям. Поэтому пересекать линию фронта десантникам предстояло на лыжах.
Для успеха выполнения десантной операции важную роль играло соотношение сил десанта и противника. По мнению David M. Glantz, советское командование первоначально исходило из ошибочных разведданных. Согласно этим разведданным, окруженная немецкая группировка составляла 50 тыс. человек, т. е. 45 тыс. должны были держать линию фронта, а оставшиеся 5 тыс. охранять внутренние коммуникации и населенные пункты. Общее количество личного состава трех бригад десанта составляет около 10 тыс. человек (2 МВДБр была дополнительно усилена двумя лыжными батальонами). Таким образом, планировалось двукратное превосходство в пользу советской стороны. Однако, по данным David M. Glantz, в окружении находилось не менее 70 тыс. немецких солдат.
С целью разведки, подготовки базы для основных сил десанта и подготовки взлетных полос, 15–18 февраля 1942 г. по воздуху в тыл врага внутрь Демянского «котла» было заброшено десантное подразделение 204-й ВДБр. Эта операция была замечена противником: уже 18 февраля из солдат дивизии SS «Totenkopf» формируется специальное подразделение для борьбы с парашютистами под командованием генерал-майора Симона (группа Симона). Группа имеет на вооружении бронетехнику, одной из основных задач группы является прикрытие важнейших объектов, включая аэродромы. На наш взгляд, не лишним будет отметить, что дивизия SS «Totenkopf» не зря считалась элитной. Об уровне ее подготовки свидетельствует уже тот факт, что ее солдаты практически никогда не уклонялись от рукопашного боя с нашими войсками, что было среди немецких дивизий скорее исключением, чем правилом.
Действия 1-й МВДБр внутри Демянского котла
1-я МВДБР начала выдвижение 5 марта 1942 г. эшелонами на автомашинах из д. Выползово и сосредоточилась в районе деревень Гривка и Веретейки. Уже 5 и 6 марта бригада подверглась бомбардировке противником с воздуха, появились первые потери: 19 человек убито, 26 ранено. В ночь с 7 на 8 марта бригада пересекла линию фронта на лыжах и начала выдвижение в заданный район. Чтобы не быть обнаруженными противником, лыжники двигались в ночное время. Впереди двигались разведчики. Боеприпасы, минометы, военное снаряжение тащили на волокушах по снегу, преодолевая препятствия. Леса Новгородчины представляют собой густые дебри и буреломы, которые перекрывают путь на многие десятки, а то и сотни метров. Обойти их трудно даже днем, а ночью практически невозможно. Положение лыжников осложнялось сильным ночным морозом до 25–30 градусов. Днем проявляли себя мартовские оттепели – до 0 градусов.
На момент выдвижения бригада имела трехсуточный запас продовольствия. Дальнейшее снабжение продуктами должно было осуществляться с воздуха и самолетами на подготовленные площадки.
В ночь с 9 на 10 марта, между д. Весики и ур. Соловьево, десантники пересекли р. Полометь, на которой у немцев была подготовлена запасная линия обороны. Форсирование реки обошлось без потерь. В тот же период была установлена связь с партизанским отрядом Полкмана, базировавшимся на болоте Чертовщина. Двигаясь в заданный район, лыжники сталкивались с группами противника. В результате мелких стычек было убито около 30 солдат противника. Наши потери составили 8 человек.
11 марта бригада достигла заданного района и расположилась на окраине болота Невий Мох. По приказу комбрига Тарасова по разным направлениям была выслана разведка, т. к. бригада нуждалась в информации для выполнения основной задачи. Остро встал вопрос с питанием личного состава. На момент прибытия в заданный район продовольствия не было уже около трех суток. Несмотря на попытки командования Северо-Западного фронта наладить снабжение бригады по воздуху, сделать это в необходимом объеме не удавалось. Связано это было с тем, что наша авиация долго не могла обнаружить места для посадки самолетов, а выброшенный груз не всегда удавалось собрать. Зачастую немцы перехватывали грузы, давая ложные сигналы.
1-я МВДБр согласно приказу командования должна была действовать только совместно с 204-й ВДБр. 204-я ВДБр начала выдвижение 7 марта от п. Пожалеево. Бригаду возглавлял подполковник Гринев.
Немцам было известно о передвижении. В послевоенных изданиях так описана ситуация с немецкой стороны: «…около 2000 воинов 204-й советской воздушно-десантной бригады движутся маршем на Демянск. Разведчики лыжной роты дивизии СС «Мертвая голова» устанавливают, что русские воздушно-десантные подразделения собираются северо-западнее Малого и Большого Опуева, чтобы объединиться с 1-й парашютной бригадой».
Линию фронта бригаде пришлось проходить через приведенные в готовность немецкие подразделения. Немцы открыли беспокоящий огонь, который замедлил ночное передвижение бригады, вынудил ее двигаться ползком и рассеивать батальоны. Понеся потери южнее д. Пустыни, батальоны 204-й бригады попали под огонь артиллерии со стороны немецких позиций в ур. Дедно. Форсировать р. Полометь удалось только одному батальону, в котором находился и командир бригады подполковник Гринев. Остальные батальоны, включая штаб, были вынуждены вернуться на исходные позиции и в дальнейших боевых действиях внутри «котла» не участвовали. Батальон Гринева не успел к намеченному сроку соединиться с 1-й МВДБр.
1-я МВДБр, расположенная на болоте Невий Мох, голодала. Вопрос стоял уже просто о выживании людей, о чем красноречиво говорит текст шифрограмм:
11 марта – «дайте продовольствие, голодные»;
12 марта – «вышли в район сброса грузов, продовольствия нет»;
13 марта – «уточняю пункт выброса продовольствия…. юго-западнее М. Опуево», «координаты для выброски продовольствия – лесная поляна юго-западнее М. Опуево»;
14 марта – «дайте что-нибудь из продовольствия, погибаем, координаты…».
Дело дошло до того, что бойцы выкапывали из-под снега лошадей, погибших осенью 1941 г. при бомбежке одной из отступавших кавалерийских частей, и питались их мясом.
Комбриг Тарасов понимает, что если не сделать запас продуктов питания как минимум на пять дней, то дальнейшие боевые действия бригада выполнять не сможет – невозможно наладить снабжение на марше и во время боев. 14 марта (по немецким данным, 13 марта) 1-я МВДБр атакует д. Малое Опуево и занимает ее. Удается захватить небольшое количество продовольствия, но это не решает вопрос с питанием. Командование СЗФ усиливает авиационное снабжение и в течение 4-х дней положение начинает выправляться.
Другой большой бедой явились тяжелые обморожения. Дневные оттепели приводили к тому, что обмундирование намокало, ночью температура опускалась до –25 градусов. На 17 марта число убитых и раненых составило 248 человек, а количество обмороженных – 349, из них высокий процент составили тяжелые, приводящие к гангрене, обморожения.
Несмотря на все трудности, батальоны бригады вели боевую работу: нападали на колонны немцев, минировали дороги, взрывали мосты, уничтожали патрульные группы врага. В результате немецкая 30-я пехотная дивизия оказалась почти полностью отрезана от всех путей снабжения. Подвоз продуктов и боеприпасов с Демянского аэродрома становился невозможным.
Немцы осознали, что у них в тылу находится крупное спецподразделение, и сделали все, чтобы защитить стратегические объекты. Оборудовали дзоты, вкапывали в землю танки, устраивали минные поля, на путях возможного движения десантников были устроены засады, по примеру финнов на деревьях дежурили снайперы. В воздухе постоянно летали немецкие самолеты, которые в случае обнаружения десантников наносили бомбовые удары и корректировали огонь артиллерийских батарей. Таким образом, был утерян один из основных значимых факторов десантных подразделений – фактор внезапности.
19 марта батальоны нанесли удар по летным полям в д. Глебовщина. Захватить их не удалось, хотя взлетные полосы были повреждены. Несмотря на все усилия наших десантников, немецкая оборона устояла, батальоны были вынуждены отступить. Кроме того, по координатам, указанным десантниками, был нанесен по аэродрому мощный авиаудар. 22 марта комбриг Тарасов приказывает атаковать д. Добросли – вторую главную цель рейда. В этой деревне, расположенной под Демянском, находился штаб 2-го армейского корпуса вермахта. Естественно, что противник сделал все, чтобы обезопасить такой важный объект. Документальных подтверждений того, что немцам стало известно о грядущем нападении на д. Добросли, о направлении удара советских спецподразделений, не обнаружено. Но такими сведениями они явно располагали. Скорее всего, сработала служба радиоперехвата. Ожидая нападения десантников, немецкое командование 21 марта спешно перебросило под Добросли подразделения 12-й и 32-й пехотных дивизий. При нападении на д. Добросли десантные батальоны попали в огненный мешок. По свидетельству участников того боя, немцы вели огонь со всех направлений – спереди, справа, слева, с деревьев. Все это указывает на хорошо подготовленную засаду. Вырвавшись из этого огненного шквала, наши подразделения отошли в северном направлении и сделали стоянку для отдыха, эвакуации раненых в базовый лагерь и подсчета потерь. Понимая, что взять д. Добросли не удастся, Тарасов отдает приказ пересечь демянскую дорогу и двигаться в южном направлении, в район д. Игожево. Надо сказать, что выполнить этот приказ было чрезвычайно сложно, т. к. охране демянской дороги немцы уделяли особое внимание. Связано такое внимание было с тем, что это была единственная дорога, ведущая на запад, в район д. Рамушево, а именно с той стороны должны были прийти войска фон Зейдлица. Вдоль дороги были устроены засады, наблюдательные посты на вышках, по краям дороги устроены снежные валы, которые для трудности преодоления были политы водой и имели ледяные склоны. Дорога патрулировалась маневренными бронегруппами. Чтобы пересечь дорогу с наименьшими потерями, комбриг приказал 1-му батальону капитана Жука нанести отвлекающий удар по д. Пенно.
При выдвижении к дороге десантники уничтожили обнаруженный лагерь немцев у д. Пекахино и офицерский лагерь чуть восточнее, у речки Волочья. 23 марта бригада прорвалась через дорогу между деревнями Пасеки и Бобково. 1-й батальон капитана Жука, отойдя от Пенно, через дорогу прорваться уже не смог – немцы наглухо ее перекрыли. По приказу комиссара бригады А.И. Мачехина, батальон ушел на старую базу, на болото Невий Мох.
С этого момента силы бригады разделились на южную часть, собственно бригаду, и северную, состоящую из батальона капитана Жука и оставленных на старой базе раненых и обмороженных бойцов.
Несмотря на большие потери, общее истощение людей и ранения, бригада (южная часть) все еще представляла собой грозный военный организм. Десантники отошли к болоту Гладкому. Там был организован прием самолетов с боеприпасами и продуктами, оттуда забирали раненых. Бригада продолжала диверсионные действия. Ночью 24 марта, по приказу подполковника Тарасова, батальон 204-й ВДБр атаковал д. Игожево, где располагался штаб 12-й пехотной дивизии немцев. Бой длился всю ночь. Противник понес очень большие потери, был ранен командир немецкой дивизии, начальник штаба этой дивизии убит. Десантники отошли на рассвете, когда на помощь противнику подошли танки.
Видимо, это превысило чашу терпения немецкого командования, тем более что 25 марта фон Зейдлиц пробился к окруженным немецким войскам, создав так называемый «рамушевский коридор». В Демянский котел стали поступать свежие немецкие подразделения. Против южной группы десантников были брошены специальные ударные батальоны, разведгруппы и егерские команды. Согласно воспоминаниям десантников, против них воевали и финские лыжные группы, которые были превосходными специалистами по ведению войны в условиях зимнего леса и в придачу отличались большой жестокостью по отношению к пленным.
26 марта 1-я МВДБр, перекрыв дороги, по которым противник мог доставить подкрепление, нанесла удар по крупному населенному пункту Старое Тарасово. Это было одно из жесточайших сражений, в котором обе стороны понесли большие потери. Была захвачена большая часть поселка, но с рассветом немцы подтянули бронетехнику, подключилась артиллерия и авиация противника. Силы были явно не равные. Подбирая раненых, десантники отступили. Комбриг Тарасов получил ранение в руку.
После боя бригада отошла на запад к заранее запланированному месту сбора около холма 80.1, где соединилась с остатками батальона 204-й ВДБр. Бригада была обременена большим количеством раненых, прорваться через линию фронта с ними было невозможно. Все раненые, не способные самостоятельно передвигаться, были отправлены на болото Гладкое, где была устроена взлетно-посадочная полоса. Их планировалось постепенно эвакуировать. Таким образом, в глухом лесу, на окраине болота образовался лагерь раненых и обмороженных числом около двухсот человек. Он так и не был эвакуирован. Немцы описывают состояние десантных подразделений на тот период таким образом: «…сражения последних недель значительно снизили боевую мощь советских элитных частей. Они отходят в район болот, где наши отряды истребителей дробят их на разрозненные группы и устраивают на них настоящую охоту».
Окончание операции
По согласованию с командованием СЗФ бригада двинулась на юг к месту предполагаемого прорыва. К этому времени обстановка в бригаде с питанием становилась все хуже, личный состав голодал. Валенки изорвались, маскировочные халаты пришли в негодность, стало трудно скрываться от авиации противника.
Первая попытка прорыва произошла 28 марта в районе д. Черная. Противник встретил наступающих плотным огнем из блиндажей. Понеся большие потери, десантники отступили. На следующий день, 29 марта, были сделаны еще две попытки прорыва. Одна попытка восточнее д. Корнева была отбита 12 ПД Kampfqruppe. Вторая попытка (около двухсот десантников) у д. Лунева также отбита немецкими войсками. Над бригадой постоянно висел самолет-корректировщик, направлявший огонь немецкой артиллерии.
Понимая, что прорваться через линию фронта на юг невозможно, Тарасов принимает решение двигаться к своим войскам старым путем на север. Бригада движется на север под постоянными артиллерийскими обстрелами, бомбежками с воздуха и стычками с патрулями противника.
Через демянскую дорогу на север бригада пыталась перейти 1–2 апреля в районе д. Бобкова. Попытка прорыва не увенчалась успехом – немцы наглухо перекрыли дорогу. После этого, пройдя под артиллерийским огнем между деревнями Анино и Залесье, бригада получила по воздуху небольшое количество продуктов на северной оконечности болота Дивен Мох. Затем за ночь осуществила переход на его южную оконечность. Общее число бойцов и командиров на этот момент составляло около 1000 человек истощенных, раненых и обмороженных.
В ночь с 7 на 8 апреля, в районе между деревнями Волбовичи и Никольское (в документах часто называемое Николаевским), бригада внезапным ударом смяла немецкие подразделения и стала форсировать р. Пола, по которой проходила линия фронта. Немцы открыли бешеный огонь, стараясь помешать переправе. Крутой высокий противоположный берег реки создавал большие трудности для прохождения обессиленных людей, многие погибли, часть десантников, прикрывавших переход, прорваться к своим не смогла. Комбриг Тарасов, будучи ранен, попал в плен. По имеющимся сведениям, из тысячи человек, участвовавших в прорыве у Волбовичей, по самым оптимистичным подсчетам, вырваться сумели 432 человека.
По немецким источникам, 9 апреля была попытка прорыва четырехсот десантников, большинство из которых погибло, многие попали в плен. В расположение наших войск еще некоторое время выходили отдельные десантники и даже мелкие группы, но это были единицы. Так, двое прорвавшихся десантников сообщили координаты местонахождения большого количества раненых, находящихся в тылу врага. На поиски раненых и обмороженных командованием 130-й стрелковой дивизии были отправлены разведчики. По указанным ориентирам группа в топях в районе Игожева обнаружила более 150 трупов наших десантников, некогда полевой лагерь раненых.
Часть бойцов 1-го батальона под командованием капитана Жука, ушедшая после боя на демянской дороге на север, взяла под охрану лесной лагерь раненых на болоте Невий Мох. Из этого лагеря была организована эвакуация раненых и обмороженных. С 16 марта по 6 апреля летчики ГВФ вывезли 539 десантников.
Немцы много раз пытались разгромить лагерь, но все их попытки были отбиты. Когда наступившая распутица сделала невозможной посадку самолетов, капитан Жук приказал свернуть лагерь и вывел раненых и обмороженных в расположение 202-й стрелковой дивизии. Сделать это было очень непросто, так как многие раненые не могли передвигаться самостоятельно, их выносили на носилках. Началась распутица, приходилось отбиваться от преследовавших карателей. 14 апреля 1942 г. командир 1-го батальона 1-й МВДБР капитан Жук И.И. вывел к своим остатки бригады в несколько сотен человек.
Заключение
Эта крайне драматичная история Великой Отечественной войны, к сожалению, мало изучена. Материалы по ней не опубликованы. Если говорить точнее, этих материалов почти нет. Обидно, что этой десантной операцией интересуются немцы, американцы, а у нас – молчание. Только поисковики, пытаясь разобраться в делах давно минувших дней, «утюжат» осенью демянские леса и болота, а зимой – архивы. Кто-то может сказать, что бригада не смогла выполнить поставленную задачу. Осмелимся утверждать, что, находясь в тех сложнейших условиях, десантники сделали все, что только можно было сделать. Страшные испытания выпали на долю этих 18–19-летних мальчишек, большинство из которых так и остались навсегда 18–19-летними. Так и лежат они до сих пор в демянских лесах и болотах, где настигла их вражеская пуля или осколок, где оставили их, присыпав снегом, боевые товарищи. Вечная им память!
Источники
1. Документы Центрального архива МО.
2. Гланц Д. Призраки Демянска. Советские воздушно-десантные операции против Демянского котла немцев (6 марта–8 апреля 1942 г.). М., 1998.
3. Толкач М.Я. В заданном районе. Самара, 1991.
4. Васильченко А. Демянский котел. М., 2008.
Прорвать Блокаду! Адские Высоты
Посвящается моей маме, родившейся 18 июня 1941, проклятого, года.
На красной звезде – кровавый закат. Разлетается красными брызгами. В моем подчинении рота солдат. В гимнастерках зеленых, замызганных. Третий день что-то ждем – ни вперед, ни назад. Что за фронт? Третий день без движения. Только Первый сказал – не спеши, лейтенант. Боевое, как Божье, крещение. Вмиг затих певчих птиц золотой перезвон, И по сердцу корябнуло жалостно. Сто юнцов по окопам. Две сотни погон. Началось! Где-то ухнуло яростно! Оглушительный рев, как в чудовищном сне. И земля вдруг взметнулась фонтанами. Это бешеный реквием – ода войне. Вместо нот – пули кляксами рваными. Вот и вся обстановка – солдатский удел. За страну да за родину малую… Взрезав темень небес, белый голубь взлетел, Покружил и исчез за туманами. Дмитрий АрефьевПредисловие
Война никогда не заканчивается.
А когда заканчивается…
Когда война заканчивается – демобилизованные солдаты едут по домам, если, конечно, эти дома сохранились. Уволенные в запас по ранениям офицеры устраиваются учителями и почтальонами. А генералы садятся за мемуары, пытаясь задним числом понять – как они выиграли или проиграли то или иное сражение. Не исключением будут и два полководца, столкнувшиеся друг с другом на высотах Синявино в августе-сентябре сорок второго года.
Один из них – Кирилл Мерецков – будет сухо объяснять читателю, что лесисто-болотистая местность не позволила войскам Волховского фронта прорвать немецкие позиции. Другой из них – Эрих фон Манштейн – тоже будет жаловаться на невероятные природные условия.
«Я редко встречал местность, менее удобную для наступления. У меня навсегда остались в памяти бескрайние лесные дали, болотистые топи, залитые водою торфяные поля и разбитые дороги. Трудной борьбе с противником сопутствовала не менее трудная борьба с природой. Чтобы воевать и жить, войска вынуждены были строить вместо траншей дерево-земляные заборы, вместо стрелковых окопов – насыпные открытые площадки, на протяжении многих километров прокладывать бревенчатые настилы и гати и сооружать для артиллерии и минометов деревянные платформы»[1], – напишет генерал армии Кирилл Мерецков.
Манштейн будет ему вторить: «…весь район котла был покрыт густым лесом (между прочим, мы никогда не организовали бы прорыва на такой местности), всякая попытка с немецкой стороны покончить с противником атаками пехоты повела бы к огромным человеческим жертвам. В связи с этим штаб армии подтянул с Ленинградского фронта мощную артиллерию, которая начала вести по котлу непрерывный огонь, дополнявшийся все новыми воздушными атаками. Благодаря этому огню лесной район в несколько дней был превращен в поле, изрытое воронками, на котором виднелись лишь остатки стволов когда-то гордых деревьев-великанов»[2].
Но когда генерал ссылается на грязь, на болота, на дожди, на леса – это говорит лишь о его непрофессиональном подходе. Как будто бы они не знали, где им предстоит воевать. Ленинград находился в кольце блокады, не переставая сражаться ни на секунду. Было предпринято семь – СЕМЬ! – попыток снятия этой удавки. Синявинская наступательная операция в августе сорок второго была четвертой.
Только что, пару месяцев назад, вторая ударная протиснулась сквозь игольное ушко Мясного Бора. Дорогой смерти называли ее бойцы Красной армии. Просекой «Эрика» – немцы. А какой был красивый план! Выйдя к Любани, вторая ударная перерезала коммуникации группы армий «Север», замкнув в гигантский котел обескровленные дивизии вермахта. Не получилось.
Тогда Мерецков польстился на самое быстрое, как ему показалось, решение. Прорвать блокаду в самом узком месте.
Шестнадцать километров. Такое расстояние отделяло берега Невы от передних окопов Волховского фронта.
Три часа прогулочным шагом. Час на велосипеде. Десять минут на автомобиле. Командующий сконцентрировал три эшелона на узком участке. Сначала шла восьмая армия, затем четвертый гвардейский стрелковый корпус, и добивала немцев многострадальная вторая ударная.
Ее бывший командир генерал Власов, блестя очками, уже начинает создавать армию иуд, так и не пригодившихся в будущем немцам. До будущего, правда, еще дожить надо, но предатель уже создает ярлык, который бросит тень на бойцов и командиров:
– Ты где воевал?
– Во второй ударной!
– Ааа… Власовец!
И даже удар костылем не переубедит.
Но это будет позже, а пока «развивая успех, в бой пошла вторая ударная»…
Как же так получилось, что две армии и гвардейский корпус не смогли преодолеть эти шестнадцать километров?
Это наступление оказалось совершенной неожиданностью для немцев.
Одиннадцатая армия Эриха фон Манштейна должна была высадиться на Таманском полуострове, дабы принять участие в операции «Блау». И кто знает, может быть, «героев Севастополя» не хватило «героям Сталинграда»? Гитлер, обрадованный успехами на южном фланге – еще бы! Кавказ у ног и «Вольга, Вольга, мутер Вольга» практически перерезана. Зачем там еще одна армия? – перебрасывает Манштейна под Ленинград.
На штурм голодного города.
Но Мерецков опережает своего визави на несколько дней, пытаясь отрезать «бутылочное горлышко». Отборные крымские дивизии прямо из вагонов вступают в бой. Только что они добивали моряков на мысе Херсонес, только что купались в кровавых водах Черного моря, только что нежились под южным солнцем, задымленным пожарами. И вот приходится плашмя прыгать в ленинградскую грязь, в которой вязнут даже танки.
Вместо парада на Дворцовой площади пришлось копать могилы у станции Мга.
Немцы не знали о готовящемся наступлении. Но и советское командование не знало о переброске одиннадцатой армии.
Два сюрприза с обеих сторон. Одним не удался прорыв, другие не смогли взять город.
А что было бы, «если бы»?
Если бы Гитлер оставил Манштейна на юге? Смогли бы немцы взять Сталинград, Грозный, Махачкалу, Баку? Вполне возможно. И тогда не было бы Сталинградской победы.
Но тогда была бы снята блокада Ленинграда.
А если бы Мерецков не стал бы атаковать болота Приладожья?
Немцы завязли бы в осажденном городе, как чуть позже завязли в том же Сталинграде. Возможно, бои шли бы на Невском проспекте, на Лиговке, на Марата, дрались бы Петропавловка, Биржа и Зимний.
Но город бы не сдался.
И кто знает, не изучали бы сейчас немецкие историки трагическую судьбу одиннадцатой армии? А Манштейн? Не преподавал бы он тактику глубоких операций вместо Паулюса в академии Генерального штаба РККА?
Да что сейчас гадать… Случилось так, как случилось.
Волховский фронт…
Незнаменитый фронт.
Лишь в сорок четвертом, когда боевые товарищи на юге уже освобождали Украину, когда уже вздохнул с облегчением Киев, когда армия уже выходила к границам страны, лишь тогда волховчане, тяжело шагая по незамерзающей грязи северных болот, стали отодвигать немцев на запад.
Фронт, ставший повторением позиционного кошмара Первой мировой.
Здесь не было стремительных прорывов.
Здесь были бои местного значения.
Ради чего?
Ради тебя, читатель.
Когда ты будешь читать – тебе будет тяжело.
Когда ты будешь читать – помни.
Было еще тяжелее.
Я предупредил.
Это были обычные бои местного значения.
Пролог (Май 2011 года)
Поезда, поезда…
Почему я так люблю поезда?
Именно поезда? Не самолеты, не пароходы… Именно поезда. Почему?
Стук колес? Общежитие плацкарта? Мелькание пейзажей за окном?
Не знаю…
Нравится и все. Лежишь себе на полке и перемещаешься в пространстве. На самолете не то. Самолет – он какой-то весь из себя деловой. Самолет – это символ делаварщины. Сел, поспал, взлетел-прилетел, дела порешал и обратно. Ну, по пути еще уши заложило. И стервадесса прелестями повиляет еще.
А лайнер – он всегда какой-то круизный. Отдыхать не спеша, поплевывая за борт и соблазняя скучающих туристочек.
А в поезде одновременное ощущение и путешествия, и отдыха, и предстоящих дел.
А какие у меня дела сегодня?
Да, собственно говоря, никаких особенных. Через пятнадцать минут поезд прибывает на Ладожский вокзал Города-на-Неве.
Жаль, что не на Московский. Я Московский вокзал больше люблю. Он такой… Питерский он такой. Московский – питерский… А Ладожский – он московский. Смешно, правда?
На Московском как? Идешь через длинный зал, подмигиваешь бюсту Петра, потом выходишь на площадь Восстания. Как правило, там кладут асфальт. Или на ней самой, или на Лиговском проспекте.
Кстати, не могу я в Питере говорить так, как говорят все, – Лиговка, Грибанал, Васька…
Слишком я… Люблю? Уважаю? Застываю в почтении – вот! – перед Питером. Лиговский, канал Грибоедова, Васильевский…
Питер не любит панибратства.
Поэтому он всегда меня встречает солнцем. Вот поди ж ты! Утром проснулся в Тихвине. Сумрачно. Низкие осенние тучи над дикими лесами Заладожья. А вот Волховстрой проехали – солнце стало раздвигать лучами хмарь неба.
Удивительно, но я не видел знаменитых питерских дождей. Только солнце, солнце, солнце!
Мимо меня потянулись к выходу пассажиры вагона.
А мне спешить некуда. Я своим рюкзаком поубиваю тут всех нафиг. Он у меня большой. На сто двадцать литров. В высоту это… Ну… Майклу Джордану по пояс будет. А мне по грудь.
Приехали, кажется?
Поезд замедляет ход…
Затягиваю шнурки на берцах…
Застегиваю молнию на штормовке…
Последняя пассажирка – двадцатилетняя девочка, косившая на меня своими оленьими глазами весь вчерашний вечер, когда я мимо нее ходил курить, – презрительно вильнула круглой попкой, когда прошла к выходу. И нарочно – ну конечно же, нарочно! – задела меня своей спортивной сумкой.
Иди, девочка, иди. Тебя ждет Питер. Тебя ждет Зимний, Ростральные, Петергоф, Невский, Царское Село.
Они меня не ждут.
Меня ждет война.
Выхожу на перрон. Закуриваю…
Ну, здравствуй, Питер! Давно я тебя не видел. Целый год. С прошлой «Вахты Памяти».
Ах да. Я же забыл рассказать. Я – поисковик. Шестнадцать лет я катаюсь на Великую Отечественную.
Синявино, Чудово, Мясной Бор, Демянск, Севастополь, Одесса…
Этой весной опять в Синявино.
Наши уже уехали туда еще в апреле. Двадцатого. Я вот подзадержался. Работа, знаете ли.
Кто-то работает для того, чтобы есть, кто-то ест для того, чтобы работать.
Я работаю – чтобы хоронить.
Сегодня уже первое мая. Сегодня уже буду работать.
Привет, эскалатор!
Нет, все-таки Ладожский – дурацкий вокзал. Надо подняться на второй этаж, потом пройти по нему и спуститься в метро. А чтобы выйти на улицу – необходимо по серпантину лестниц шагать вниз до пота под рюкзаком.
Все же Московский лучше. И красивее.
Иду и по привычке отслеживаю ментов боковым зрением. Главное, на них не смотреть. Они как собаки – прямой взгляд вызывает агрессию и желание укусить, то бишь проверить документы. Впрочем, сейчас мне нечего бояться – я еду ТУДА. От меня еще не пахнет порохом. А будет пахнуть, будет…
– Один жетон, пожалуйста!
Не глядя, продавщица метрожетонов кидает мне в чашечку медный кругляшок. В Москве я боюсь турникетов. Они бахают с таким отвратительным звуком, что я непроизвольно принимаю стойку футболиста, стоящего в стенке, охраняя самое любимое для женщин место.
А в Питере я их не боюсь. Он тут не по принципу гильотины работают. Они тут крутятся.
Из чрева метро меня обдувает теплым ветром. Спускаюсь вниз. Ехать долго – в Питере метро глубокое. А как же? На болотах живут. Я сажусь на ступеньку, достаю книжку, начинаю было читать.
А потом закрываю книгу. Не читается. Встаю. Начинаю разглядывать лица людей, которые поднимаются навстречу. Вы никогда не занимались этим видом спорта – разглядывать лица людей и гадать – кто они? А я люблю.
Вот парочка целуется. Весна! Щепочка на щепочку лезет! Того и гляди, прямо тут упадут! У обоих руки ниже пояса друг друга обнимают. Вжались друг в друга. Срослись. Слиплись. Видно, что невтерпеж им обоим. Улыбаюсь.
Пацан в галстуке. Дела свои решает по телефону. Важный какой. Торговый представитель. Наверняка. Я эту породу за километр чую. Ухмыляюсь.
Женщина с книжкой. Симпатичная, но неухоженная. Волосы цвета вороньего крыла. Немытые. Бледное лицо. Ярко-красно напомаженные губы. Глаза за стеклами очков. Давно на себя махнула рукой, уйдя в мир псевдоинтеллектуалов типа Коэльо. Грустно усмехаюсь.
Старик. Высокий. Сутулый. Смотрит перед собой, но внутрь себя. На груди орденская планка. Лицо морщинистое. Венчик седых волос как нимб. В нем отсвечивают тысячи пережитых дней. Не прожитых. Именно пережитых. Что там в этих днях спрятано? Спросить бы его… Да куда там… Мне вниз, ему вверх. Встречать кого-то едет? На День Победы гостей? Однополчан? Сослуживцев? Внуков? Кого? Я никогда этого не узнаю… Жаль…
Подхожу к краю платформы. Жду поезд до станции «Улица Дыбенко». Всего две остановки. Захожу в первый вагон. Тут обычно народу меньше. Ставлю рюкзак у сиденья. Только хочу сесть – какая-то девчоночка, лет десяти, плюхается рядом с моим монстром. Потом вдруг смотрит на меня и отодвигается, освобождая мне место. Я, придерживая рюкзак, сажусь рядом. Она удивленно смотрит на меня:
– А вы турист? – Очаровательная детская непосредственность в самом разгаре.
– Да, – машинально отвечаю я. А потом спохватываюсь. Ментам вру, детям-то зачем? – То есть нет. Я – поисковик.
– Аааа… – вдруг уважительно отвечает она. – У меня папа тоже поисковик.
Я молча улыбаюсь в ответ.
Потом молчит. И, опасливо кивая на рюкзак:
– А он очень тяжелый?
Я стараюсь сделать серьезный вид, но не получается:
– Очень! Ужас, какой тяжелый!
– У моего папы тоже, – вздыхает она. – Мы с мамой его даже сдвинуть не можем.
Мы разговариваем через шум поезда, склонившись друг к другу головами. Моей – темно-русой с проседью. Ее – беленькой.
Со стороны, наверное, кажется, что разговаривают отец и дочь. Но нет. Мы просто попутчики. Длинный, тощий, бородатый мужик в камуфляже, держащийся за свой рюкзачище, и десятилетняя девочка, положившая ранец на острые свои коленочки. Через несколько минут мы расстанемся и никогда больше не увидимся. Это мегаполис. Это его законы. И этим мне он напоминает…
Да, поезд.
В поезде можно быть любым. Можно изображать из себя кого угодно. Хочешь – будешь обедневшим олигархом в плацкарте, хочешь – начинающей кинозвездой в купе, хочешь – великим писателем земли русской, изучающим жизнь с изнанки в СВ. А чаще всего – остаешься самим собой. Ибо… Ибо зачем врать вот этой вот девочке, без опаски и с любопытством разглядывающей тебя?
А еще он напоминает мне войну. Встречи и расставания.
А через минуту мы расстаемся. Она теряется в толпе выходящих на свежий воздух питерских окраин. Но перед тем как бархатный голос сообщил о прибытии на станцию «Улица Дыбенко. Конечная. Граждане, не забывайте в вагонах свои вещи!», она вдруг сказала мне:
– Спасибо.
А потом схватила свой ранец, весело разукрашенный покемонами – или смешариками? Вечно их путаю, – и умчалась.
А я слегка ошалел. После медленно подкинул рюкзак на колено, потом перехватился, всовывая руки в лямки спиногрыза, и, тяжело ступая, отправился на выход.
Там меня ждал магазин и автобус до «Журавлей».
Нет.
Это не остановка. Остановка называется «Двенадцатый километр». Просто там стоит памятник. Красные звезды, превращающиеся в журавлей. Его поставили ребята из Казахстана. Мы так и называем сейчас эту остановку – «Журавли».
А в магазине…
Два блока сигарет, три литра водки. Да, три литра водки. И не надо тут фарисействовать. А еще я купил десять пар носков. Сухие ноги – в нашем деле самое главное.
Упихиваю все это дело в рюкзак, еще больше потяжелевший. Иду до остановки. Спрашиваю у водилы:
– До Мги?
– До Мги, дорогой, до Мги! – интересно, почему в Питере водители автобусов и маршруток – кавказцы?
– Через сколько поедешь?
– Через пятнадцать минут, брат!
Невольно вспоминается классика – «Не брат ты мне…»
Ухмыляюсь, но опять сдерживаю улыбку. Сегодня я пойду в лес – искать деда вот этого улыбчивого златозубого кавказца. И своего тоже.
Пятнадцать минут. Времени хватит на то, чтобы отлить в платном сортире, покурить и сказать:
– До встречи, Питер! Я еще вернусь! Я обязательно вернусь!
И через пятнадцать минут я еду в автобусе на заднем сиденье. Почти никого нет – разгар выходного дня. Все кому надо – уже уехали по дачам. Передо мной виден горизонт. Мы наплываем на мост через Неву. Здесь когда-то – давным-давно, только вчера – прорывали Блокаду. Мы едем по мосту. Слева стоял полковой оркестр. Весь состав погиб, накрытый крупнокалиберным снарядом. Справа лупили по рабочим поселкам «Катюши». Это с ленинградского берега. А на волховском берегу сейчас музей. По кольцу мы объезжаем танки – КВ, Т-34, Т-37, БТ… Их поднимают со дна Невы. Вместе с танкистами.
Крутимся по городу Кировску. Выезжаем на трассу. Где-то там, если по другой трассе ехать, Невский Пятачок. Земля, на которой до сих пор ничего не растет. Слишком много в ней металла и… И людей.
Но мне дальше. Ребят, простите, моя война нынче в Гайтолово. Это совсем рядом, десять минут на автобусе и еще час пешком.
И три года войны.
Странное ощущение. Какие-то километры, метры, сантиметры… Мелькают за окном как недолеты пуль. А ведь три года поливали их кровью…
Мусорный полигон проезжаем. Следующая остановка – моя.
Выхожу.
Автобус приветливо хлопнул дверью и помчался во Мгу по своим кавказским делам.
А я приехал.
Я приехал на войну.
Сейчас пройти пять километров пешком. Справа – поле. На нем запаханы тысячи моих дедов. Их запахали после войны. Справа – леса и болота, в которых деды воевали… Почему воевали? Они все еще воюют.
А мне, вдоль ЛЭП, до Чертового Моста через речку Черная. И только пыль, пыль, пыль из-под шагающих… Нет. Не сапог. Берцев.
А потом налево еще метров двести. Мимо каски на дереве. Мимо воронок. Мимо исковерканных железяк.
Я приехал на войну.
Я вернулся на войну.
Я живу на войне.
Линия судьбы (Август – сентябрь 1942 года)
Лейтенант Кондрашов лежал на охапке сена, постукивал босой ногой по доскам в такт стучащим колесам вагона и сочинял стихи. Сочинял уже давно. Со вчерашнего вечера. И сочинил уже две строчки – «эшелоны, эшелоны, кто-то плачет, кто-то стонет…». Дальше никак не шло.
Потому как он не видел, кто там стонал за досками того санитарного поезда. Они тогда стояли на станции со смешным названием Пикалево, и лейтенант решил прогуляться – косточки поразмять. Но сделал это зря. Вагон, в котором на фронт отправлялся лейтенант со своим взводом, находился в самом центре эшелона. А тот стоял далеко не на первом пути. Между станцией и их составом стояло несколько поездов. Кондрашов застеснялся на виду у красноармейцев лезть под вагоны. Он вообще был стеснительным мальчиком. Впрочем, в этом он не признавался никому, даже самому себе.
Именно по этой причине он зашагал вдоль поезда. Когда он прошел три-четыре вагона, его вдруг остановил окрик откуда-то сверху:
– Эй, лейтенант!
Кондрашов вздрогнул, остановился и посмотрел наверх. Из открытого окна пассажирского вагона высовывалась голова. Абсолютно лысая и какая-то очень белая. Голова спросила:
– Лейтенант, махорочкой не богат?
А потом из окна донесся чей-то стон.
Лейтенант развел руками:
– Не курю, извините.
Голова беззлобно ругнулась:
– Что ж ты, лейтенант, раненому бойцу Красной армии махорки жалеешь?
– Но… Но я правда не курю! Честное комсомольское! – Кондрашов поправил фуражку, сползшую на затылок.
– Да верю, верю… – как-то без энтузиазма ответила голова. И спряталась в вагоне.
Лейтенант потоптался. Ему почему-то стало стыдно:
– Товарищ! – позвал Кондрашов. – Эй, товарищ!
– А? – снова высунулась голова.
– Я сейчас на станцию иду. Я принесу вам табака.
– Принеси, – голова засмеялась. – А то уже неделю не курим, сил больше нет.
Кондрашов суетливо сказал:
– Ага! – Потом сделал было шаг, но вдруг остановился и спросил голову:
– Как там, на фронте? Давят наши немцев?
– Давят, – вздохнула голова. – Так давят, что я себе ногу отдавил по самое колено.
– Ага… – невпопад ответил лейтенант и побежал вдоль поезда. Он бежал и смотрел в окна. Некоторые были завешены, а в некоторых мелькали лица. Разные лица – усатые и безусые, веселые и грустные, забинтованные целиком или только наполовину.
Потом он споткнулся об какую-то железнодорожную железяку, и ему показалось, что эти лица засмеялись над ним. Тогда он все-таки поднырнул под вагон, потом еще под один, потом еще.
Потом он выскочил на станционный перрон и долго искал махорку у спекулянтов. Наконец, даже не поторговавшись, купил целый стакан и побежал обратно.
Но санитарный поезд уже набирал ход, ехидно подмигивая красным фонариком на последнем вагоне.
Кондрашов наругал сам себя самыми последними словами. Не вслух, конечно. Вслух он ругаться еще не научился. Просто тоскливо посмотрел на пасмурное, почти осеннее небо и зашагал к вагону, стараясь выглядеть настоящим командиром. Подтянутым, строгим и с доброй мудростью во взгляде. И это у него получалось. По крайней мере, никто не смеялся, как на курсах, в первые дни. Тогда он запутался в шинели и упал прямо на плацу, во время строевой подготовки. Да, шинель слишком длинна была. Но понимать же надо – все лучшее фронту. И не надо обижаться на старшину, выдавшего огромную шинель малорослому курсанту Кондрашову. На себя надо обижаться – не справился с первой же трудностью и подвел взвод. Поэтому понял наказание от комвзвода как правильное и с усердием чистил от снега плац целых три дня.
И вот сейчас лейтенант Кондрашов вполне себе идет. Как настоящий красный командир. И снующие мимо бойцы не смеются над ним.
А из головы не выходил тот стон из окна вагона. Жуткий какой-то стон. Утробный какой-то.
И Кондрашов пообещал сам себе, что напишет стихотворение про этот вагон, про этот поезд. А махорку отдаст первому же раненому, которого встретит на своем пути.
Вот он и ехал вместе со своим взводом бить немцев, ехал и сочинял стихи:
Эшелоны, эшелоны… Кто-то плачет, кто-то стонет. Кто-то спит, а кто-то – курит, Кто-то жив, а кто-то умер…Кондрашов поморщился и зачеркнул последние две строчки.
– Товарищ лейтенант, а товарищ лейтенант! – перебил его мысли голос сержанта Пономарева, назначенного помкомвзвода.
– А? Что? – встрепенулся Кондрашов.
– Товарищ лейтенант! Вот рассудите нас! Мы тут спорим…
Пономарев – хитрый и рыжий челябинец – опять спорил с кем-то. Он был одержим спорами. Не важно на что и не важно о чем – лишь бы поспорить. Если выигрывал он, то щедро делил на взвод буханку или банку тушенки, проигрывал – не менее щедро подставлял лоб под щелбаны. И в обоих случаях – смеялся.
Лейтенант, стряхнув сено с шинели, поднялся и подошел к спорщикам.
– Вот рассудите, товарищ лейтенант! Я говорю, что мы в этом году войну закончим, а рядовой Сергеенок – в следующем! А? Кто прав?
Кондрашов почесал лоб, сдвинув свою фуражку:
– А на что спорим?
– На щелбан Гитлеру! – засмеялся Пономарев. – Разбивщику половина выигрыша!
– Это как? – удивился лейтенант.
– Ну… Вы замахиваетесь, а бьет кто-то из нас! – ответил Пономарев.
Белобрысый Сергеенок кивнул.
Кондрашов засмеялся:
– Я тоже не удержусь!
– Да бейте тоже, кому ж жалко-то? – улыбнулся в ответ сержант. – Так когда война-то закончится?
И тут Кондрашов вспомнил…
* * *
…День тот был жарким. Горячим был тот день. Весь выпуск лейтенантов стоял на том самом плацу под июльским солнцем, обливаясь потом. Стоял и слушал комиссара училища.
– Товарищи красные командиры! Сегодня вы уходите на фронт!
Голос комиссара разрывал теплую тишину летнего дня:
– Помните все, чему вас учили. А еще помните, что товарищ Сталин сказал – тысяча девятьсот сорок второй год – это год окончательного разгрома немецко-фашистских захватчиков! Но! Зависит это не только от товарища Сталина! Это зависит от нас с вами! Враг все еще стоит под Москвой! Его железная рука схватила за горло Ленинград! Фашисты рвутся к Кавказу! И только мы можем остановить его! Мы! И больше никто!
По щеке Кондрашова текла капля пота, щекоча его. Где-то жужжала муха. Но он – и не только он – слушал слова комиссара. Нет. Не просто слушал. Он думал над этими словами. Он внимал им. Он переживал их…
* * *
– А это, сержант Пономарев, от нас зависит. Побьем фрицев – закончим войну в этом году. Делов-то.
– А ну как не побьем? – выкрикнул кто-то.
Кондрашов шмыгнул носом:
– Так не бывает. И быть не может. Побьем, товарищи бойцы. От всей души желаю победы в споре сержанту Пономареву и готов ему уступить свою долю.
– Так немцы же уже под Сталинградом… – засомневался тот же голос. Взвод замер.
Лейтенант поправил ремень, подумав, и ответил:
– А вот в первую отечественную войну, тысяча восемьсот двенадцатого года, французы Москву взяли. А потом так побежали, что мы их только в городе Париже, столице Франции, догнали. Чем мы хуже дедов? Значит, и мы Берлин возьмем! Не впервой!
– А что, брали уже?
– Брали! – жестко, внезапно для самого себя, ответил лейтенант. – Брали, берем и брать будем, если на нас опять нападут. А пока отдыхайте, товарищи бойцы, – лейтенант развернулся и шагнул к своей охапке сена. А сам, внутри себя, продолжал сомневаться – правильно ли он сказал? Нашел ли он ключик к сердцам своих бойцов?
Он ведь даже по именам не всех еще запомнил. Они и знакомы всего только неделю. После выпуска новоиспеченный лейтенант получил предписание отправиться в Вологду и добирался туда из далекого Кустаная целую неделю. Прибыл, получил взвод, запомнил сержанта Пономарева, и практически тут же дивизию стали грузить в эшелоны.
До охапки сена лейтенант не успел дойти буквально шаг. Вагон тряхнуло так, что попадало все на свете – котелки, винтовки, лопатки, люди. И Кондрашов упал на спину, больно ударившись затылком. И только потом громыхнуло что-то. Колеса заскрипели, поезд еще раз тряхнуло.
– Воздух! – заорал кто-то.
Потом открылись двери, и бойцы ломанулись к выходу, выпрыгивая из вагона:
– Всем из вагона! Всем из вагона! – орал Пономарев.
Ботинки застучали по полу. Кто-то наступил на руку Кондрашову.
А потом ухнуло. Второй раз, третий.
Лейтенант наконец приподнялся и прыгнул из проема. Ему стало стыдно, что это не он подал команду, что он упал, что ему наступили на ладонь.
– Взвод! – закричал он. – По самолетам противника… Огонь!
И, выхватив револьвер, стал палить вверх. Сначала одна, потом другая, потом третья винтовка стала палить в небо.
– Ууууффффыррррр… – мелькнула крестом тень. Потом еще одна. Рядом что-то грохнуло. Кисло запахло взрывчаткой. Бешеная стрельба во все стороны.
Время от времени лейтенант вжимался в землю, когда бухали взрывы. А потом он щелкал и щелкал наганом в небо, не замечая, что патроны уже давно закончились. Ему казалось, что он попадает, но он не попадал, потому что…
– Виииииуууухххх! – близкий взрыв подкинул лейтенанта вместе с насыпью, щедро сыпанув горстью земли по лицу.
А после все закончилось, так же внезапно, как и началось. Лишь где-то в вечернем небе угасал наглый звук немецких «Юнкерсов».
Лейтенант потряс головой, сбрасывая землю с лица. Потом приподнялся. Снова потряс головой.
– Взвооод! – услышал он сквозь туман. – Отбой воздушной тревоге! Становись!
Он попытался «становиться», но по голове словно било молотком, поэтому лейтенант смог лишь перевернуться и встать на четвереньки.
– Товарищ лейтенант! Живы? – рыжий челябинец вдруг мелькнул перед глазами. – Ранены?
Кондрашов снова потряс головой, вставая:
– Да вроде бы нет…
А голова слегка кружилась.
– Кондрашов? Все целы? – хлопнул его кто-то по плечу, отчего лейтенант пошатнулся.
– А? – оглянулся он.
Перед ним стоял товарищ старший лейтенант Смехов, командир роты. Только почему-то расплывался слегка. Только в этот момент комвзвода понял, что где-то потерял очки.
– Вроде целы…
– Вроде! – крикнул на него старлей. – Доложить о потерях через десять минут.
И тут же умчался к началу состава.
– Что, лейтенант! Познакомились с землей? – беззлобно пошутил сержант и протянул ему очки. – Вот, валялись под ногами. Хорошо, что никто не наступил.
Кондрашов взял свои «велосипеды», протер их рукавом гимнастерки и нацепил на нос. Мир снова стал нормальным. Кроме рук. Они немного дрожали. Совсем немного. Но Кондрашову вдруг показалось, что это дрожание видят все – убежавший комроты, улыбающийся замкомвзвода, ругающиеся бойцы, встающие с земли. Лейтенант засунул руки в карманы галифе, хотя раньше не позволил бы этого ни за что.
– Вы слышали, что командир роты сказал? Проверьте личный состав, – скомандовал комвзвода. Голос тоже дрожал.
– Конечно, товарищ лейтенант, – неуставно улыбнулся Пономарев.
«Странно он как-то улыбается, – подумал Кондрашов, – все время только левой половиной лица. Почему?»
– Взвод! Становись! – отвернулся от командира сержант.
Бойцы, беспрестанно ругаясь на фрицевские самолеты и погоду, начали выстраиваться в две шеренги.
Кондрашов, морщась от боли в голове, полез в вагон за документами.
Пока он ползал, ушлый сержант умудрился уже проверить наличие личного состава. Все были целы и здоровы. Не хватало только одного бойца.
– Рядовой Тиунов пропал, товарищ лейтенант!
– Как пропал? Куда пропал? – забеспокоился Кондрашов. Еще не хватало бойца потерять…
– Командир отделения говорит, что выпрыгивал со всеми, но…
– Надо найти! Непременно найти! – лейтенант сразу забыл и про головную боль и про бомбежку.
– Может, его бомбой… – высказался кто-то из строя. – Бомба-то она совсем рядом легла!
– Взвод! – крикнул лейтенант. – Поотделенно! Цепью! Прочесать…
И только сейчас лейтенант увидел – где они остановились.
Поезд стоял на небольшой насыпи. Они ссыпались из вагона на левую, южную сторону. Буквально метров десять от насыпи – полоса отчуждения с торчащими пеньками вырубленных деревьев. И на этой полосе вонюче дымится воронка. А потом лес. Лес… Одно название. Кривоватые березки на жидкой, болотистой почве. То ли дело дома…
– Прочесать лес в глубину на сто… Нет! На двести метров!
Лейтенант пошел первым. За ним – взвод. Левой рукой Кондрашов держал наган. Правой – доставал патроны и заряжал его на ходу. Руки еще дрожали. Поэтому он уронил парочку.
И никого.
«Сбежал? Сбежал?» – билась лихорадочная мысль. Действительно. Никого нет. И следов нет.
– Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант! – закричал кто-то за спиной.
Кондрашов, не раздумывая, бросился на крик.
Рядовой Тиунов лежал ничком ногами к поезду. По его брючинам растекалось темное пятно.
– Живой? – бросил лейтенант.
– Вроде дышит, – ответил санинструктор взвода, щупая пульс на шее раненого.
– Что с ним? – присел на корточки Кондрашов.
– Сейчас посмотрим… – Санинструктор, Шмелев, кажется? – ловко выхватил нож и вспорол брючину вместе с кальсонами.
– Ух, мать твою! – пронеслось по взводу.
Осколок вошел в правую пятку Тиунова и прошел под кожей, выйдя на пояснице и распоров мышцы голени, бедра, ягодицы.
– В сознании? – спросил комвзвода.
– Не… – качнул головой санинструктор. – В госпиталь надо его.
Тиунова переложили на шинель и потащили к госпитальному вагону.
Зампомкомвзвода горестно качнул головой, провожая взглядом бойцов:
– Вот и отвоевался Ванька.
– Почему отвоевался? – не понял лейтенант.
– Пока он по госпиталям проваляется – мы и войну закончим!
– По вагонам! По вагонаааам! – понесся крик вдоль состава.
Лейтенант Кондрашов и его бойцы побежали к вагону, хлюпая сапогами по канавной жиже.
А сержант Пономарев крикнул на бегу:
– Не волнуйтесь за бойцов! В госпитальном доедут!
Когда эшелон тронулся, Кондрашов внезапно задремал. И в дреме он повторял про себя:
Эшелоны, эшелоны… Тут платформы, там вагоны. Здесь пиликает гармошка, Там в котел кладут картошку. Эшелоны, эшелоны… Кто забудет, кто запомнит? Кто-то ляжет на Неве. Кто-то в дальней стороне. Эшелоны, эшелоны… От Приморья и до Дона Едет на войну Россия. Из Чукотки, из Сибири. Эшелоны, эшелоны… Танки, самолеты, кони. Мужики со всей страны. Эшелоны – кровь войны…Эшелон прибыл ночью.
Взвод стоял, откровенно зевая, перед вагоном и дожидался команды. Лейтенант Кондрашов ходил перед строем и нервничал. Хотелось двигаться куда-то или спать лечь. Хуже нет – встать в три часа ночи и ничего не делать. А скоро рассвет – хоть и август, но это север. Скоро светать будет. А они все стоят и стоят.
– Товарищ лейтенант! Разрешите обратиться! – подал голос один из бойцов. – Куда приехали-то?
Если бы комвзвода знал бы сам – тогда бы непременно ответил.
Но он не знал, поэтому и ответил:
– Куда надо, туда и приехали, товарищ боец!
Сержант Пономарев подошел к лейтенанту и тихонечко сказал:
– Так, может, в вагоне пока посидим? Чего под дождем-то мокнуть? Вона, и гроза сверкает!
Лейтенант заколебался. И впрямь – чего стоять-то?
С другой стороны, был приказ – выйти из вагонов, строиться и ждать. Сомнения прервались мгновенно – после того как вагоны дернулись и поплыли мимо взвода обратно на восток.
– Не курить! – закричал лейтенант, увидев огонек самокрутки.
А вагоны набирали ход. Вот они замелькали мимо… Вот поезд исчез в темноте августовской ночи сорок второго года.
За спинами солдат открылись какие-то дымящиеся развалины. Мимо них по перрону бегали люди в военной форме, что-то где-то гудело, фырчало, лязгало.
– Стоим и ждем, – скомандовал лейтенант. И снова зашагал вдоль строя. Ожидание затягивалось.
Кондрашов ходил туда-сюда и считал шаги. Двадцать туда – двадцать сюда. Он шагал, стараясь не ступать на трещинки асфальта на узком перрончике. Но трещинок было много, а он боялся показаться смешным, поэтому все ступал и ступал на трещинки.
Наконец к нему подбежал адъютант командира роты:
– Товарищ лейтенант! Товарищ старший лейтенант собирает командиров взводов!
– Пономарев! – крикнул лейтенант. – За старшего!
И побежал к месту сбора.
– Здорово, Леха! Как добрался? – засмеялся, увидев однокурсника, лейтенант Москвичев.
– Здравствуй, – сдержанно поприветствовал командира первого взвода Кондрашов. По мнению Кондрашова, Москвичев уж очень фамильярно себя вел. А по мнению Москвичева, Кондрашов уж очень был серьезен.
– Плохо добрался. Раненого сняли после бомбежки, – сказал Кондрашов.
– А у меня все отлично! Представляешь, я немца чуть не сбил! Стреляю в него и чувствую – попал! Ну, ты же знаешь, как я в училище стрелял! И он в сторону. Думаю, сбил, а он…
– Трепло ты, Серега, – мрачно сказал лейтенант Павлов. И тоже Серега. Все трое закончили ускоренные курсы, и всем троим удачно свезло попасть не только в один полк, но даже и в одну роту. – Все бы тебе ржать.
Москвичев подкрутил усы а-ля Буденный и ответил:
– А чего грустить-то?
А вот у Кондрашова усы, как назло, расти не собирались. Так. Пушок цыплячий.
– Товарищи командиры! – прервал их вечную шутливую пикировку командир роты. – Внимаем сюда…
И начал инструктаж.
– Эшелоны дивизии прибывают на станцию Войбокало. Наша задача на сегодня – марш-бросок до деревни… Деревни Гайтолово. Там ожидаем нового приказа.
– Долго идти? – поинтересовался Москвичев.
– А ты за спину посмотри, – прервал комроты новый голос. Командиры оглянулись.
И только сейчас они увидели багровые всполохи по всему западному горизонту. Только сейчас лейтенант Алексей Кондрашов понял, что это не гроза. И только сейчас он услышал глухие звуки канонады.
Лейтенант попытался сглотнуть, но в горле вдруг пересохло.
– Вот туда нам и идти. Объясните бойцам – куда мы идем и зачем идем. Я так думаю, они и сами понимают. Но напомнить – не лишнее. Я, конечно, соберу парторгов и комсоргов ячеек. По всем линиям необходимо работать. Но, товарищи командиры, вы тоже должны следить за моральным состоянием своих бойцов.
Комиссар роты – старший политрук Рысенков – внимательно следил за лицами командиров взводов. А те молчали, не отрывая глаз от полыхающего горизонта.
Через полчаса батальон выступил навстречу этим всполохам.
Шагать пришлось по полю, изрытому воронками, – дороги были забиты танками, грузовиками, повозками, медленно тащившимися на запад. Скорость транспорта была чуть выше, чем у пехотинцев, увязавших в торфяной грязи.
Но идти надо – никому не хотелось утро встретить в чистом поле. От юнкерсов с хейнкелями как укрываться? Это сейчас дождь – а ну как прекратится? Поэтому и ротный, и взводные изо всех сил подгоняли бойцов.
Скользкая глина чавкала, время от времени кто-то не удерживался и падал в грязь. Сначала смеялись, потом перестали обращать внимание. Через несколько километров бойцов невозможно стало отличить друг от друга. Дольше всех держался сержант Пономарев, но и тот умудрился съехать в воронку, полную жижи. Сам же лейтенант споткнулся в темноте одним из первых. Второй раз Кондрашов упал, когда пытался протереть заляпанные грязью очки. Наступил на пятку впереди идущего.
– Поднажмем, ребятки! Поднажмем! – кричал ротный.
Рысенков, словно заводной, мотался вдоль колонны:
– Подтянуться! Дойдем до леса – отдохнем!
Бойцы это понимали и старались изо всех сил. Но ворчать не переставали:
– Эх, хорошо быть танкистом! Едешь себе, поплевываешь на пехоту!
– А если застрянет? Как вытолкать?
– У них и тягачи есть. Вытолкают.
– Не видел ты танкистов в госпиталях, – мрачный голос прервал мечты бойцов.
Кондрашов оглянулся на голос. Так и есть. Этот боец был на особом внимании у комвзвода. Нелюдимый, молчаливый, держался особняком. Во взвод прибыл из госпиталя. Огромного роста, он был невыносимо худ. В личном деле его значилось, что был ранен в декабре сорок первого. Потом вывезен из Ленинграда в Вологду. На вопрос лейтенанта – кем и где воевал? – ответил просто:
– На Пулковских высотах. Пулеметчик.
А о себе ничего толкового не рассказал. Мол, жил как все, воевал как все. И точка. Рядовой Васильев Николай Дмитриевич. Шестнадцатого года рождения. Рабочий. Беспартийный. Вот и все, что знал Кондрашов о бойце.
– А ты видел? – спросил Васильева Пономарев.
– Видел, – коротко ответил тот. Потом добавил: – И слышал.
И больше в разговоры не вступал. Только упрямо шагал и шагал вперед, время от времени поправляя на плече своего «Дегтяря».
– Эй! Махра! Помоги толкнуть! – закричал кто-то с дороги.
Около странно накренившейся полуторки махал руками пехоте невысокий коренастый шофер.
– Поможем, бойцы! – крикнул Кондрашов и первым зашагал к грузовику.
Подойдя ближе, он увидел причину странного наклона машины. Оказывается, дорога представляла из себя настил из бревен, наложенных продольно, а поверху – поперек – лежали жердины. Полуторка съехала с этого настила и правым колесом воткнулась в землю, заднее же левое колесо поднялось в воздухе.
– Ребятушки! Родненькие! Помогите! Муку вот везу в хлебопекарню! Опоздаю, вы же без хлеба останетесь! Я чуть правца принял «эмку» пропустить, а оно тут вон оно как…
– Сейчас, браток, поможем! – успокоил шофера Пономарев. Бойцы поскидывали в грязь вещмешки и…
Первым, растолкав всех у машины, вдруг оказался тот самый Васильев и схватился за бампер:
– Что стоишь! – рявкнул он на водителя. – А ну лезь в кабину!
Шофер суетливо бросился к двери, запрыгнул на сиденье и завел двигатель.
А Васильев стал приподымать грузовик. В одиночку. На лбу его налились синим жилы, он захрипел, оскалив зубы, и…
Всем взводом они бросились на помощь Васильеву, приподнимая и выталкивая полуторку обратно на настил.
– Давай, давай, давай! – орали они друг на друга, приподнимая грузовик. Тот рычал, фыркал, плескал грязью, наконец дернулся назад и выскочил на дорогу, едва не врезавшись задним бортом в такую же полуторку, объезжавшую застрявшего товарища. Сидевший на пассажирском месте командир погрозил бойцам и водителю кулаком и что-то крикнул, но на него никто не обратил внимания.
– Спасибо, братцы! – радостно крикнул шофер, открыв дверцу. – В долгу не останусь!
Когда взвод отошел от дороги, Кондрашов подошел к Васильеву и спросил:
– Товарищ боец, а чего вы в одиночку-то стали поднимать?
Рядовой удивленно посмотрел на лейтенанта. А потом коротко ответил:
– Так хлеб же.
И снова зашагал вперед, не обращая внимания на усилившийся дождь. Хлеб? Надо же…
В лес они вошли уже во время утренних сумерек. Мрачных, серых сумерек. Почти осенних. Впрочем, почему «почти»? Конец августа под Ленинградом уже осень. И это хорошо. Потому как низкие, стремительно несущиеся тучи, поливающие землю дождем, прикрывают собой пехоту от авиации.
На привале рота просто попадала от усталости. Бойцы даже задремали, не обращая внимания на воду сверху и воду снизу.
А Кондрашов пошел к ротному.
– Отдых – полчаса. За это время привести себя в порядок. Не куда-нибудь, в гвардейский корпус прибываем, – сказал старший лейтенант. – Должны выглядеть соответствующе.
– Ого! – удивился Москвичев. – Так мы сейчас что, гвардейцы?
– Еще нет. Доказать надо это звание, понятно, Москвичев?
– Докажем. Без проблем, товарищ старший лейтенант. Почти все бойцы обстрелянные, из госпиталей…
– Ага… Команда выздоравливающих, – буркнул Павлов. – Тащились по полю как стадо.
– Стадо, а дошли! И нормально дошли! – ответил Москвичев. – А ты хотел строевым шагом да с песнями?
Старший лейтенант Смехов прервал их:
– Москвичев прав. Дошли. Павлов прав тоже. Мы красноармейцы, а не банда Махно. Приведите людей в порядок. Всем все понятно?
Сказать, что бойцы были рады – нельзя. Но и что злы – тоже. Опять заворчали, но чистить себя стали.
«Точь-в-точь ворчуны наполеоновские», – подумал Кондрашов, слушая своих подчиненных и вспоминая книгу академика Тарле, читанную еще до войны.
– А пожрать не дадут, конечно…
– Дадут… Все бы тебе дали, Уткин. Солдат должон сам себе еду добывать!
– Я сейчас добуду. Я у тебя из мешка сейчас добуду!
– Я тебе добуду!
Чистились травой и лапами елок. Помогало плохо – больше растирали грязь с шинелей, чем счищали ее. Однако в таких делах процесс важнее результата. Это Кондрашов понял еще по училищу.
И снова – в путь. До расположения они добрались лишь к обеду. Ротный убежал докладываться о прибытии, а взводы, замученные тяжелым переходом, снова улеглись на мокрую, истоптанную сотнями сапог траву.
Лес шумел. Шумел не ветром, не листвой. Он шумел гомоном сотен, а может быть, тысяч голосов, ревом моторов, лязганием гусениц, ржанием лошадей. Дым полевых кухонь огромным полотенцем накрывал лес. Вкусно пахло – соляркой, осиной и кашами. Кондрашов слюну сглатывал что было мочи. Слава богу, ожидание продлилось недолго. Старший лейтенант Смехов вернулся, и первым его приказом было:
– Покормить людей!
Взводы разбрелись по указанным местам и вскоре с удовольствием скребли ложками по котелкам.
– Уткин, а Уткин! – сказал Пономарев, вытирая стенки котелка куском свежего, недавно испеченного хлеба. – Это чего у тебя на ложке выцарапано?
– Имя, фамилия. Адрес еще. А что? – степенно сказал рядовой, тщательно прожевывая гречневую кашу.
– А это ты зачем сделал?
– Мало ли… – Уткин откусил хлеб, пожевал, подумал, добавил: – Мало ли… Потеряю еще. А тут и адрес домашний. Поди, пришлет кто домой?
– Делать нечего полевой почте, как твою ложку домой слать! – гоготнули бойцы.
– Эх… Сейчас бы грамм сто… – вздохнул Пономарев, укладываясь на землю.
– Грамм сто, товарищ сержант, получают бойцы частей, участвующих в боевых действиях, – сказал лейтенант.
– А мы? Можно подумать, мы не действуем? – лениво ответил сержант, подставляя лицо под дождь.
– Еще не действуем. Мы, похоже, в резерве…
– Почта! Почта, мужики!
– Откуда почта? – удивился Кондрашов. Своего полевого номера они еще не знали.
Загадка открылась быстро. Оказывается, Рысенков получил письма на старый номер еще до отправки эшелона и раздавать письма не стал, дожидаясь прибытия на место. Теперь почтальоны бегали и раздавали треугольники и конверты бойцам.
– Степанчиков Иван! Здесь?
– Я!
– Корнеев! В каком взводу Корнеев?
– Здесь я!
– Туи… Туи… Туипбергенов!
– Тута я, таварища пачтальона!
– Васильев!
– Я! – гаркнул над ухом Кондрашова бас ленинградца.
Самому лейтенанту письма не досталось. Ну, ничего… Будут еще. Хотя маленькая обидочка все же царапнула по сердцу. Кондрашов тут же подавил ее. Ну, в самом деле, война же идет! Ну не успело письмо от мамы дойти. Почта же с перебоями работает. Дойдет еще. И от Верочки дойдет. Обязательно дойдет. Только вот… Надо первому ей написать. Он же тогда так и не смог ей сказать САМОЕ ГЛАВНОЕ. Вот она и не пишет. Впрочем, а чего ждать-то? Может быть, прямо сейчас написать?
Алеша Кондрашов схватился за свою командирскую сумку, стал расстегивать ее… Но вдруг передумал. А что ей писать-то? Вот когда в бой сходим, и фрицам наваляем, и медали получим за боевую отвагу и доблесть – вот тогда и напишем. А сейчас-то чего?
Размышления Кондрашова вдруг прервал крик. Страшный, утробный, дикий крик. Лейтенант вскочил, поправляя очки, и увидел…
Тот самый ленинградец Васильев бился на земле, сжимая огромным своим кулаком бумажный листочек:
– Ааааа! Аааа! ААААААА!
Он бил кулаками по земле и выл, выл, как воют только звери. Лейтенант оцепенел, увидав, как Васильев вдруг вскочил, схватил пулемет и побежал куда-то в лес. Сообразить успел лишь сержант, подставивший подножку бойцу. А потом прыгнул ему на спину и закричал:
– Помогайте!
Красноармейцы кинулись на помощь. Через несколько минут борьбы Васильев успокоился и глухо зарыдал, ткнувшись лицом в мокрую землю.
Лейтенант подошел к бойцам, удерживавшим Васильева, и попытался разжать кулак. Получилось это с трудом. Пальцы рядового были сжаты стальной судорогой. Кондрашов пробежался взглядом по первым строчкам, написанным аккуратным девичьим почерком.
Побледнел.
Пономарев крикнул ему. Крикнул, совершенно не соблюдая субординацию:
– Да что там, лейтенант?
– Васильева к медикам. Я сейчас вернусь…
Кондрашов встал и пошел к политруку роты. Пошатываясь. Пономарев недоуменно проводил его взглядом, а потом скомандовал:
– Слышали приказ?
Бойцы связали руки и ноги Васильеву своими ремнями и потащили его в санбат…
Рысенков уже спешил на крики вместе с командиром роты:
– Кондрашов? Ну что тут у вас опять? – раздраженно рявкнул комиссар роты.
На слово «опять» комвзвода не обратил внимания. Он просто молча протянул письмо Рысенкову. Тот его взял, начал читать… Руки его вдруг затряслись.
– Рота! Становись! – голос старшего политрука подстегнул красноармейцев. Они зашевелились, загремели амуницией и оружием, загомонили…
Мимо строя шагали, вглядываясь в лица бойцов, старший лейтенант Смехов и старший политрук Рысенков.
Пройдя мимо всей роты, они вернулись к центру.
– Рррота! Смиррна! – рявкнул Смехов. – Товарищи бойцы!
И замолчал.
– Товарищи бойцы! – повторил за ним Рысенков. И тоже замолчал. Потом из кармана достал тот самый листок бумаги.
Кондрашов закрыл глаза. Он понял, что сейчас будет.
– Товарищи бойцы… – голос старшего политрука, обычно уверенный и спокойный, вдруг показался лейтенанту хриплым и больным. Не в том смысле, что Рысенков вдруг простыл, а в том, что ему больно говорить.
– Товарищи бойцы… Это письмо… Это письмо получил один из наших товарищей. Сейчас я прочитаю его вам.
Рысенков расправил листок и стал читать его…
«Дорогой папочка! Пишу я вам это письмо во время моей болезни когда думала, что умру и пишу из-за того то я жду смерть, а потому что она приходит сама неожиданно и очень тихо. В моей смерти прошу никого нивинить. Сознаться по совести виновата я сома, так-как не слушалась маму. Дорогой папочка я знаю, что вам тяжело будет слышать о моей смерти да и мне-то помирать больно нехотелось но ничего не поделаешь раз судьба такая. Я знаю, что трудно вам будет понять мою болезнь так я пишу вам ниже. Сильно старалась поддержать меня мамочка и поддерживала всем чем могла и что было. Она даже для меня отрывала и от себя и от всех понемного но так-как было очень трудно поддержать пришлось поэтому мне помереть. Папочка болела я в апреле, когда на улице было так хорошо и я плакала, что мне хотелось гулять, а я немогла встать с кровати так спасибо дорогой мамочки она меня одела и вынесла на руках во двор на солнышко погулять. Дорогой папочка вы сильно не расстраивайтесь ведь мне то умирать больно нехотелось потому-что скоро лето да и жизнь цветет впереди. Пишу я вам это письмо и сома плачу, но сильно боюсь расстраиваться так-как руки и ноги начинает сводить судорога, а ведь как не заплакать больно жить хочется…»
В строю кто-то замычал. Сам же Рысенков быстро и, как ему показалось, незаметно утер слезы с глаз, и продолжил:
«Вот какая болезнь была у меня…»
Рысенков остановился. Сглотнул тяжелый, горький ком. И продолжил:
– Подчеркнуто здесь, бойцы. Слышите? Подчеркнуто!
«Вот какая болезнь была у меня. Сильно болели у меня кости и ноги я немогла ходить и поэтому все лежала. Спать я совсем не спала, а только приходила в забытие и мне начинало что-нибудь казаться. Хотелось мне одной тишины. Я сильно старалась, что-нибудь поделать что б не приходить в забытье но нет на это никакого желания лежу и каждый день жду вас, а когда забудусь то вы начинаете мне казаться. Я уже стараюсь ничего не думать, но мысли не выходят из головы. Ну дорогой папочка очень не расстраивайтесь и к словам моей смерти прошу относится похладнокровнее. Очень я благодарна одной только мамочке и сестренкам с братишкой за всю их заботу и уход за мной, а особенно мамочки, которой я не могла высказать словами свою благодарность, спасибо большое ей, ведь они меня поддерживала чем могла.
Прости папочка ваша Таня»[3].
Строй молчал. Только всхлипывал кто-то. И не один кто-то.
– Слышите, красноармейцы! – закричал вдруг Рысенков. – Дочка! Девочка! Прощения просит у нас! За то, что не дождалась! За то, что умерла там! От голода! От дистрофии! – он махнул рукой в сторону Ленинграда. – Умерла и не дождалась! Завтра! Завтра мы пойдем спасать ее сестренок и братишку. И сотни других детей, которые сейчас умирают в Ленинграде! Умирают и просят у нас прощения за то, что умирают!
Потом Рысенков замолчал. Постоял, смотря перед собой в пустоту. И уже обычным, ненадрывным голосом сказал:
– Бойцы… Ребята! Кто готов спасти ленинградских детей от смерти – шаг вперед!
И рота сделала шаг вперед. Вся. А как же иначе-то?
– А теперь, – вступил Смехов. – Всем писать письма домой! В обязательном порядке! Помощники командиров взводов – проследить! Командиры взводов – ко мне! Разойдись!
Кондрашов побежал к командиру роты.
– Товарищи лейтенанты, за мной! – и старший лейтенант зашагал, не оборачиваясь.
Шли молча. Слов не было. И мыслей тоже. Даже у Москвичева.
Пройдя перелесок, они вышли на небольшую полянку. Там сидели, тихо переговариваясь друг с другом, несколько десятков младших, старших и просто лейтенантов.
В центре сидел какой-то коренастый капитан, перебирая бумаги. Увидев Смехова и Рысенкова, он кивнул и подозвал к себе. О чем они говорили – слышно не было. Разговор был короткий и быстрый. Вот капитан спросил чего-то. Вот командир роты кивнул. Вот старший политрук протянул комбату письмо дочки Васильева. Вот капитан взял листок. Осторожно, даже ласково погладил его. Потом спрятал в планшетку. Потом встал и негромко кашлянул:
– Товарищи командиры!
Кто-то стал подниматься.
– Сидите, товарищи. Итак… Первое. Завтра наш корпус идет в бой. Прошу донести это до бойцов. В течение дня роты получат… Письмо получат. От ленинградцев. Комиссар батальона позаботится. А мы сейчас позаботимся о диспозиции, так сказать.
Комбат произвел на Кондрашова впечатление совершенно штатского человека. Командиры в училище были просты по-армейски – тверды и резки. А этот будто не командовал, а разговаривал с командирами рот и взводов.
– В усиление нам придали роту из триста двадцать седьмой стрелковой дивизии, познакомьтесь со старшим лейтенантом Смеховым. Товарищ Смехов! Как у вас бойцы? Не подведут?
– Нет, товарищ капитан, не подведут. Новобранцев только половина. Остальные под Любанью воевали весной.
– Значит, характеристика местности им знакома? Это хорошо. Наступать будем по болоту. Сами понимаете, какие условия. Ночью идем в прорыв, товарищи командиры. Первый эшелон, восьмая армия, выдохлись. Мы усиливаем натиск. За нами пойдет Вторая ударная. Задача батальона… Впрочем, слово начальнику штаба…
Долгий час командиры слушали и зарисовывали на своих картах позиции, направления атак, сектора и прочую военную мудрость. Батальону и роте Смехова предстояло сменить выдохшиеся подразделения восьмой армии в траншеях у «Чертова Моста». Затем внезапным ударом вдоль дороги и ЛЭП прорвать оборону немцев за Черной речкой и занять ее. После чего обеспечивать оборону флангов наступающего к Неве корпуса со стороны Апраксина Бора и Мги. Оборона должна быть активной. Контратаки при возможности. При возможности – взять Апраксин Бор и перерезать железную дорогу.
– Смехов, как у вас с вооружением? – внезапно спросил комбат.
– Все в норме, – пожал плечами старший лейтенант. – Обеспечены всем. Боеприпасы тоже есть.
– С автоматами как?
– Маловато. По два на взвод.
– В течение дня обеспечить роту Смехова автоматическим оружием. Патронов тоже не жалеть, – повернулся комбат к начштаба. Тот кивнул и черканул что-то в своем блокноте.
«О как! – изумился про себя Кондрашов. – А в училище из «ППШ» стреляли только два раза…»
Долго еще обсуждали разные детали. Кто, где, куда, как… Больше всего ушло времени на решение вопросов снабжения. Все-таки война – это не только стрельба. Война в первую очередь именно снабжение. Какой бы ни был героический порыв, а идти в бой с пустой обоймой…
– Не комильфо, товарищ старший лейтенант!
– А? – обернулся Смехов.
– Идти в бой без патронов – не комильфо, говорю! – сказал лейтенант Москвичев. Комроты и три его комвзвода вместе с политруком шагали уже обратно, когда Смехов начал думать вслух. Эта привычка осталась у него еще с завода – разговаривать с самим собой в грохоте станков и лязге железа.
– Москвичев!
– Я! – крикнул лейтенант в спину командиру.
– Вот ты, Москвичев, умный, да?
– Эээ… Надеюсь, а что?
– На учителя учился до войны?
– Да. На учителя русского языка, литературы и истории! Два курса закончил до войны![4]
– Ну и молодец, Москвичев. А родом откуда?
– Из Кирова, товарищ старший лейтенант! Между прочим, Сергей Миронович – мой земляк! Бывали у нас?
– Земляк – это хорошо, – задумчиво сказал Смехов, продолжая месить сапогами грязь. А потом замолчал.
Москвичев удивленно пожал плечами. Помолчал. Потом снова сказал:
– А вы, товарищ старший лейтенант, откудова?
– Не откудова, а откуда, – поправил его немногословный Павлов, смешно пыхтя на ходу. Хотя и холодно было, и дождь шел – Павлов то и дело утирал лоб пилоткой. Комплекция обязывает потеть в любую погоду.
– Ой, ты больно грамотный! – огрызнулся Москвичев.
– Я не очень грамотный, – спокойно выделил голосом слово «очень» Павлов. – Просто у меня мама в книжном магазине работала. Читал много.
– А сейчас не работает уже? – поинтересовался Москвичев.
– В эвакуации сейчас. На фабрике работает, – спокойно ответил Павлов.
– У меня тоже библиотека хорошая была, – вступил в разговор Рысенков. – Три тысячи томов. Сгорела… После войны снова собирать начну.
– Так вы, товарищ лейтенант, откуд… а? – споткнулся на последнем слове Москвичев.
– Я-то? – словно очнулся Смехов. – Издалека я.
И снова опустил голову, упрямо шагая по глиняной жиже.
– Не приставай к командиру, – Павлов ткнул кулаком в бок Москвичеву.
– Дык я тока поспрашивать для интересу!
А Кондрашов шагал позади всех, вглядываясь в каждую деталь, в каждое дерево, в каждое облако. Он старался запомнить все, чтобы потом, после войны, смочь рассказать об этом, смочь нарисовать. Каким-то еще не осознаваемым, бессознательным чувством он понимал: все, что происходит вокруг него сейчас, – это очень важно. Это самое важное, что было в его жизни, а может быть, и самое важное из того, что будет. Внезапно его осенило – а ведь в этом и есть тот самый смысл жизни. Да, вот в этом. В этом мрачном сентябрьском небе Приладожья, в этих воронках, наполненных коричневой жижей, в этих исхлестанных осколками деревьях. Вот в этих вот людях – невысоком, похожем на воробья старшем лейтенанте Смехове, в двух вечно спорящих друг с другом Павлове и Москвичеве, спокойном, мало улыбающемся старшем политруке Рысенкове. И в нем самом сейчас сосредоточена вся жизнь его, Кондрашова, – это ради того, чтобы идти по изувеченному войной лесу, Алексей Кондрашов родился и рос, учился и влюблялся, смеялся и плакал.
Эта мысль – странная и парадоксальная, но от этого еще более острая – так поразила его, что он едва не упал, споткнувшись о незаметный корешок, торчащий из жидкой земли. Но не упал, потому что оперся на плечо шагавшего чуть впереди Смехова.
– Извините, товарищ старший лейтенант…
Но командир роты даже и не заметил толчка в спину, полностью погрузившись в свои думы. Только кивнул и продолжил что-то бормотать себе под нос.
Что именно – Кондрашов не разбирал.
– Осторожнее, ты… Кочетырка! Уронишь командира! – рявкнул командным голосом Москвичев. Кондрашов пожал плечами, а Павлов засмеялся:
– Смешной ты, Сережа…
– Чего это я смешной? – обиделся Москвичев.
– Просто так, – улыбнулся Павлов.
А Рысенков в этот момент думал, улыбаясь про себя: «Какие же они щенята… Им бы еще жить и жить. Кто из них…» – оборвал он мысль.
Старший политрук Рысенков помнил много таких лейтенантов – совсем молоденьких, веселых, уверенных… Раз! И нет лейтенантика… За одну неделю страшного московского октября сорок первого, тогда еще не старший, тогда еще просто политрук Рысенков похоронил трех таких лейтенантов.
Они первыми вставали в атаку, они первыми ложились в землю. Впрочем, нет. Третьего он тогда так и не похоронил. Миной накрыло того лейтенанта. И малым осколочком в спину Рысенкову. Осколок тот так и не достали – врачи не рискнули. Но спина с тех пор болела беспрерывно. Настолько беспрерывно, что Рысенков уже привык к этой боли и не замечал ее. Как привыкла, наверное, и мать того лейтенанта, поймавшего остальные осколки. Если к такому, конечно, можно привыкнуть.
Как, наверное, тяжело жить, понимая, что твой сын поймал пулю, которая предназначалась его матери?
Наверное, Рысенков немало бы удивился, если бы узнал, что почти так же точно думает и лейтенант Павлов.
«Если я погибну… То тогда не погибнет кто-нибудь другой. А значит, мы победим. Потому что у фрицев не хватит металла, чтобы убить всех нас».
Он шел и представлял, как красиво падет в бою, уничтожив гранатой последний фашистский танк в самом Берлине, непременно около рейхстага. А потом война кончится. А лейтенанта Павлова похоронят прямо в самом сердце Берлина. И на памятнике напишут – «Лейтенант Сергей Павлов. Погиб в последнем бою последней войны». И его именем назовут ракету, на которой полетят коммунисты будущего к марсианским Аэлитам. А учитель истории Москвичев будет про него рассказывать на уроках детишкам будущего.
Лейтенант Москвичев, впрочем, не догадывался, что ему предстоит. Он просто шел и старался за шутками спрятать от самого себя страх перед завтрашним боем. Еще он боялся, что этот страх увидят его бойцы, его товарищи. Еще осенью, когда аудитории института перевели под госпиталь, он впервые понял, что война, она не такая, как ее показывали в фильмах. В кино не показывали безногих и безруких, в нем не было запаха гноя в палатах, в нем умирали – красиво. В кино не показывали, как студенты пединститута таскали на себе телеги с умершими через весь город на кладбище. А номера шефских концертов заканчивались не аплодисментами, нет. Деревянным стуком костылей об пол бывших аудиторий заканчивались песни, танцы и декламации студентов. Сергею было и страшно, и стыдно одновременно – страшно за себя, стыдно перед ранеными. Стыд победил, и Москвичев ушел в пехотное училище – учиться побеждать себя и немцев. Но победить себя, похоже, не получилось, ноги подрагивали с той самой минуты, когда лейтенант Москвичев увидел горящий и громыхающий горизонт. Теперь он шел и смертельно завидовал старшему лейтенанту Смехову, который, кажется, не замечал ничего. Только бубнил, бубнил, бубнил…
А бубнил старший лейтенант Смехов по привычке. И бубнил всякую разную ерунду, сосредотачиваясь на подсчете пистолетов-пулеметов Шпагина, которые сейчас надо получить, на том, что бойцов надо перевести на довольствие корпуса, на том, что его раздражала непонятная подвешенность роты – с утра были во второй ударной, а теперь в четвертом гвардейском. Еще с Харьковского тракторного он привык, что техническое задание должно быть четким и понятным для бригады. Иначе – брак получится. А тут – не пойми чего. А еще армия… Впрочем, к армейскому бардаку он уже привык. Привык не в смысле примирился, а в смысле ожидал каждую минуту. Звание лейтенанта Смехов заслужил еще под Киевом в августе проклятого года, когда, будучи сержантом, принял на себя командование целым батальоном. И вывел его в сентябре почти без потерь из окружения. Свезло. Потом бывший слесарь-инструментальщик всю зиму скакал с курсов на курсы, пока в апреле не перевели во вторую ударную. Вот там-то лейтенант Смехов и насмотрелся на смертушку. Думал, и сам погибнет, когда бежал со своими бойцами по просеке, выложенной трупами, возле деревеньки с символическим названием Мясной Бор. Мяса там было… Целый бор… Но Смехов вышел. И вывел свой взвод. Не весь, конечно. Далеко не весь. Но вывел. И стал старшим лейтенантом. В августе же принял роту в той же, второй ударной. За год войны он понял одно – порядок! самое главное – порядок! Не будет порядка и учета – не будет и победы. Смехов не думал о победе над Германией или снятии блокады Ленинграда. Он не думал над победой над собой. Он вообще не думал. Он считал – хватит ли его умения, умения его бойцов, а также боеприпасов и провианта, чтобы победить в одном бою. Завтрашнем. Потому что Большая Победа – она складывается из маленьких побед в маленьких боях.
Так и шли они – командир роты, ее политрук и три взводных. Шли и думали о конце войны. Войны, итог которой зависел от этих пяти человек, шагавших по грязи ленинградских болот и подтягивавших полы шинелей. От этих пяти и еще от миллионов других людей, защищавших свою Родину в других местах. В таких же маленьких, в таких же грязных, в таких же исковерканных полях, лесах, степях.
Такие же маленькие, такие же грязные, такие же исковерканные – рядовые, сержанты, лейтенанты, капитаны, майоры, полковники, генералы, маршалы…
Каждый – по-своему.
Каждому – по-своему.
Утро на войне не обязательно наступает с восходом солнца. Иногда оно начинается вечером. Вот именно в этот день рота старшего лейтенанта Смехова начала свое утро после заката.
Уже были получены пайки и новые автоматы, уже старшина Симбаев оприходовал продукты и спирт, уже санинструкторы в очередной раз проверили свои запасы… Но как ни изворачивайся – времени всегда мало. Вот только улеглись под дождем, только задремали… А что еще солдату надо на войне? В любую свободную минуту – либо поесть, либо поспать. И чтобы баба рыжая приснилась.
Но вот и темнеет.
Каждому, кто открыл глаза после усталой дремы, показалось, что он проснулся последним. Лес, затянутый осенним уже туманом, шумел сотнями голосов, гремел сотнями котелков, лопаток, винтовок, противотанковых ружей.
Рота старшего лейтенанта Смехова зашагала навстречу Чертовому мостику и Ленинграду.
– Товарищ лейтенант, а товарищ лейтенант? – крикнул Кондрашову один из бойцов.
Лейтенант оглянулся. Мелкий, белобрысый солдатик в натянутой по уши пилотке – и все равно не спасавшей от струй дождя, бегущих по лицу, улыбался во весь рот:
– Товарищ лейтенант, а куда мы идем?
Вместо ответа лейтенант махнул рукой в сторону грохочущего горизонта.
Рядовой не отставал:
– Не, ну это понятно… Ленинград там, все дела… А куда конкретно-то?
Кондрашов снова махнул рукой и прикрикнул:
– Разговорчики в строю!
Бойца он помнил. Помнил, как он играл в «буру на интерес» в вагоне, как козырял своими татуировками, как хвастался самодельной «финочкой». На какой-то станции он выменял пайку хлеба на часы. Потом хвалился перед взводом:
– Бум-бил, бум-бом! Уже двенадцать! А в лагере обед дают! Товарищ лейтенант, чо, как у нас с обедом-та?
Почти каждую фразу он начинал со слов: «Вот у нас в лагере…»
Командир взвода помнил, что этот рядовой сел в сороковом году за хулиганство на три года. Что в сорок втором пошел на фронт, добровольно поменяв барак на окоп. А вот как зовут этого «социально близкого» – не помнил. Очень уж у Кондрашова была плохая память на имена.
Белобрысый продолжал болтать:
– Уууу… Начальник! Молчаливый какой! Пономарев! Ты, как приближенный к анпиратору, скажи!
– М-м? – отозвался замкомвзвода.
– Куда идем, грю?
– Знамо дело, на войну. Дыхание береги. Сдохнешь же.
– Да чтобы Сашка Глаз да сдох бы? Вот у нас в лагере все знали: если я за что возьмусь – так сразу дело выгорит! Я удачный, небось не знал? Еще узнаешь!
– Не зуди ты, урка…
Кондрашов вспомнил, как зовут рядового. Глазунов фамилия. Александр. Двадцать третьего года рождения. Вспомнил и опять забыл…
Вдруг свист разорвал черное небо.
– Ложись! – визгливо закричал кто-то впереди.
– Надеть каски! – заорали командиры взводов.
Бойцы бросились в разные стороны, валясь в грязь ничком. А грязь эта взметнулась грохочущими огненными фонтанами.
Артналет фрицев был короток. Пара-тройка разрывов и все. Даже и не зацепило никого. Только у Кондрашова горячим касанием осколка сбило фуражку. Форсанул перед взводом, ага. Пришлось все-таки каску надеть.
И снова рота зашагала к позициям, нервно и зло перешучиваясь. Зашагала, но недолго. Последний километр пришлось ползти, прячась по рытвинам и воронкам. Немец не спал. Он бил и бил по траншеям и окопам нашей передовой минометами, пулеметами, орудиями. Впрочем, наши отвечали тем же.
На передовой спокойной ночи не бывает. Потому как это передовая. Даже в самые тихие дни здесь идет война – разведка боем, охота снайперов, поиск языков… А уж в дни наступления – тем более.
«Чертов мост» оказался просто кучей раскиданных в разные стороны бревен. На черной поверхности Черной речки отражались осветительные ракеты, делавшие ночь – днем. И в этом синем, мертвенном дне изуродованная земля громоздилась могильными холмами.
Рота ползла по этим рытвинам к полоске траншеи, где ее ждали на смену измученные бойцы восьмой армии.
Прыгая в эту траншею, они не смотрели в глаза друг другу. Бойцам роты Смехова было страшно смотреть, а бойцам, продержавшимся в этом аду, было… Все равно им было куда смотреть. В этих глазах плескалась опустошенность и усталость.
– Сядь, лейтенант! – крикнул Кондрашову какой-то сержант. – В ногах жизни нет!
Кондрашов послушно уселся в лужу на дне траншеи, поправляя каску.
– Блиндаж твой – там, – махнул он рукой. – Не блиндаж, одно название, конечно! Связь рвется каждые пять минут! Теперь смотри!
Сержант встал над бруствером:
– Смотри, говорю!
Кондрашов послушно встал, прикрывая каску рукой. Сержант заметил его смешной жест и немедленно засмеялся:
– Первый раз, что ли? Ничего! Тоже первый раз когда-то был! – потом сразу, без перерыва он закричал дальше: – Смотри, пулеметы – там и там. Атака будет – в рост не ходи, ползком. Покрошат иначе.
– А? – не понял сержанта Кондрашов, пригнувшись от близкого разрыва.
– Покрошат, говорю! – крикнул тот в ответ. – И башкой думай! Да не ссы ты! Это у них бывает! Сейчас закончат! Да и слабо чего-то бьют сегодня!
И тут же сержант ловко перемахнул через бруствер и исчез в ночной темноте. И тут же фрицы обстрел закончили, словно ждали, когда незнакомый Кондрашову сержант уйдет с передовой.
Блиндаж действительно оказался одним лишь названием. Один накат бревен поверх прямоугольной ямы. На дне жерди, под которыми хлюпает вода. Сама яма узкая, стены ее не обиты досками – обычная глинистая земля. В проходе между земляными мокрыми выступами, служащими нарами, разойтись могут лишь пара человек и те – боком. На крохотном столике, у противоположной выходу стене, дымила коптилка, внезапно показавшаяся Кондрашову бабушкиной лампадкой. Возле той лампадки стояли три картинки – строгий бородатый дядька, грустная женщина с ребенком на руках и бравый усатый солдат, с заломленной набекрень фуражкой. Бабушка как-то рассказала Алешке, что тот солдат его дед – мамин отец, а та женщина – вторая его мама. А тот дядька – Бог. С тех пор Алешка знал, что Бог живет у них дома, в углу. Перестал он это знать, когда ему в школе объяснили, что Бога нет. И разве может быть две мамы у человека? Ерунда это все.
А вот у этой коптилки никого не было. Только черный дым из гильзы и неровные, бугристые стены блиндажика.
– Товарищ лейтенант! Комроты на КП вызывает! – запыхавшись, крикнул влетевший в дверь связной от Смехова. Да какую там дверь? Так… Дыра из глиняной ямы.
Кондрашов с каким-то облегчением вышел из блиндажа и тут же наткнулся на Пономарева:
– Слышь… Сержант! Приведи тут в порядок все. Я в роту!
Замкомвзвода сунул нос в блиндаж:
– Так в порядке все вроде…
– Дверь хоть сделайте!
– Это мы могём… – кивнул Пономарев.
Когда лейтенант пропал в темноте, Пономарев сделал ему дверь в землянку – быстро и просто. Повесил свою плащ-палатку на вход и все дела. А потом отправился смотреть, как там бойцы взвода устраиваются. За тех, кто повоевал в марте-июне под Любанью, он не волновался. Те, кто прошел ад Мясного Бора, смогут выжить везде. Вот за новобранцами глаз да глаз нужен.
– Ну, чаво, пила на петлицах, скажешь? – Командир первого отделения, ефрейтор Петя Воробченко, сержантом Пономарева звал только при начальстве. Пономарев не обижался. К своему званию он относился легко. Вот повезло стать сержантом, так чего ж, гордиться, что ли, этим? Гордиться будем после войны. Сейчас не до этого.
– Ничаво не скажу, – передразнил Петьку сержант. – Ты лучше расскажи, как устроились?
– Да хреновенько. Вода сверху. Вода снизу. Надо окопы в порядок приводить. Полы перестелить, стенки укрепить.
– Немец тебе укрепит утром.
– Да знаю, – вздохнул ефрейтор. – Чай, не первый раз. На завтрак навалит каши осколочной. Видишь, поле какое?
Сержант кивнул.
– Молодые как?
– Нормально. Только этот… Зэчонок…
– Глазунов?
– Ага…
– А что Глазунов?
– Да не люблю я эту публику. Ходит петухом, хорохорится. Я, мол, не я, черту не брат, богу не сват. Там, вона, пулеметная точка развалена снарядом, послал его в помощь расчету, помочь окопаться, так иду потом, сидит, байки свои лагерные балакает, палец о палец не ударит. Я энтих знавывал, они к честной работе не приучены.
– Поучил бы молодого кулаком! – посоветовал сержант.
– Я ж тебе говорю, я ж их знаю, он же жаловаться побегёт. Потом мне и влетит от политрука. Тьфу! – Воробченко сплюнул в лужу под ногами.
– Пойдем, посмотрим, – кивнул Пономарев.
Картина и впрямь была… Маслом.
В большой воронке копались лопатками первый и второй номер расчета, делая ниши, выравнивая стенки, засыпая лужу в центре.
Глазунов же сидел на корточках и покуривал «козью ножку», часто пыхая табаком:
– Политических мы во как держали! – показал он кулак. – Их в лагере четыреста было! А нас, социально близких, полсотни всего! А они нас боялись! А почему? Потому что мы – народ! Мы – сила! А они все порознь! Вечером как начнут собачиться – троцкисты на бухаринцев, а те на троцкистов. И как начнут – правый склон, да левый склон, да позиции рабочие… Аж башка трещать начинает! А Паршак как рявкнет на них – затыкаются. Паршак – это наш законник был. Как батя вроде. Раз какого-то комиссара привезли. Так Паршак его узнал. Ничего не сказал нам. Ходил смурной. А ночью сам же его и зарезал. Так ничего! Никто не пикнул! А и не пикнут против народа! Потому что сила в нас!
– Что тогда не копаешь, сила? – насмешливо сказал Пономарев.
– А я сюда, гражда… ой, товарищ сержант, звиняйте, – по-клоунски снял пилотку Глазунов и поклонился. – Из лагеря попросился Родину защищать, не землю копать!
– Сидел за что? – спросил Пономарев.
– По бакланке почалился, командир! – ухмыльнулся Глазунов и длинно сплюнул.
– По-русски разговаривай с командиром, – жестко ответил сержант.
– Командир, че ты бычишь на меня? Я в разведку просился! Я лопату на зоне в руки не брал! По воровскому закону не положено! А на воле и…
Пономарев резко пнул, попав сапогом в подбородок рядовому. Ударил слабо, зная силу такого удара.
Не ожидавший такой подлянки Глазунов опрокинулся навзничь и заскулил:
– Командир, командир, ты че, командир!
– За что, сука, сидел, говорю?
– Три года, чека впаяло! Ой! – снова взвизгнул урка, когда Пономарев наступил ему на руку. – Случайно я, по хулиганке залетел.
– Здесь тебе не зона. Понял? По закону военного времени за неисполнение приказа вышестоящего командира я тебя могу шлепнуть прямо здесь. Понял?
– Нету такого закона, товарищ сержант! – завопил Глазунов, свернувшись клубочком и прикрывая лицо локтем.
– Есть, тварь! Лопату в руки! Быстро! – рявкнул сержант и сделал шаг назад, освободив ладонь Глазунова.
Тот, всхлипывая и вытирая кровавые сопельки, дрожащей рукой достал лопатку и стал ковырять землю.
– Интенсивнее, урод! – опять рявкнул сержант и скинул автомат с плеча.
Глазунов стал рыть с такой скоростью, что ему бы позавидовала землеройная машина.
– Еще раз услышу про твой воровской закон, с моим воинским познакомишься, Сашенька. Понял?
– Понял, гражданин сержант… Ой!
Пономарев схватил зэчонка за ухо:
– Не слышу!
– Да понял я, – сквозь слезы крикнул Глазунов. – Ну больно же, гражданин…
– Отвечать по уставу!
– Да, товарищ сержант! Я понял!
– Копай, свинья…
Сержант подмигнул ефрейтору и отправился дальше. Потом вдруг остановился, повернулся к Глазунову и спросил:
– А в разведку почему хочешь?
– Коґтлы, говорят, у немцев дюже богатые, товарищ сержант. Подняться можно на коґтлах-то… – подобострастно поднялся тот.
– Коґтлы? – не понял Пономарев.
– Ну, часы…
– Шакал, – сплюнул замкомвзвода и пошел дальше, проверять другие отделения.
Отойти он не успел. Его догнал Воробченко.
– Ты это… Сержант… Осторожнее… Я эту публику знавывал….
– Слушай меня, Воробченко! – Пономарев схватил ефрейтора за ремень. – Здесь не зона. Здесь Красная Армия. Рабоче-крестьянская, напоминаю. А не воровская. Так что будет так, как я сказал! Понятно?
– Это-то понятно… Я балакаю, эти обид не прощают, мотри`… Исподтишка пырнет ножичком…
– Мотри, мотри… – передразнил ефрейтора Пономарев. – Сам за своим отделением «мотри». И запомни – такие гниды силы боятся.
И зашагал по траншее, сопровождаемый дальним стуком пулеметных очередей и глухими взрывами.
Кондрашов вернулся почти под утро, когда его взвод уже мирно дрых в землянках. Боевое охранение сторожило сон метрах в тридцати от передней линии окопов. Как ни жалко было будить сержанта и командиров отделений – но пришлось. Где-то там, в штабах, решили, что пополнение не должно отсиживаться в окопах. Надо расширить горловину прорыва. Рота Смехова должна была выбить немцев из четвертого эстонского поселка и выйти на железную дорогу в районе Апраксина. Взвод Кондрашова идет с левого фланга – между старой дорогой и речкой Черной. Соседи слева идут на высоты за речкой. Справа – атакуют по полю. Прорвавшись к железной дороге – закрепиться и ждать подкрепления.
– Все понятно, товарищи командиры? – устало сказал лейтенант, то и дело протирая красные глаза.
– Чего тут непонятнее, – пожал плечами Пономарев. – Идем и убиваем немцев.
– Атака назначена на шесть утра. Немцы тут нас не ждут. Основные их силы на острие нашего прорыва. Если мы… – Кондрашов замялся и поправился. – Когда мы железку оседлаем, они не смогут перебрасывать резервы по ней. Задача нашего взвода – во время артподготовки вдоль речки подобраться к позициям немцев и ударить в штыки. Все понятно?
– Да ежу понятно, товарищ лейтенант. Поспите пока, часика полтора, – снова сказал сержант Пономарев. – Мы тут сами пока справимся. И блиндажик ваш готов.
Кондрашов согласился. И почапал в свою земляночку, где, рухнув на нары, уснул не раздеваясь. Ему ничего не снилось. Устал очень за этот дикий день. Проснулся он, как показалось, через минуту. Его потряс за плечо Пономарев:
– Ну, слава богу, – улыбнулся сержант. – Я уж вас минут пять бужу, а вы не просыпаетесь! Думаю, как же без лейтенанта Ленинград освобождать! А тут вы и просыпаетесь!
Кондрашов спустил ноги на пол, поискал сапоги на полу. Не нашел. Обнаружил их на ногах.
– Час который? – хрипло сказал он.
– Половина шестого, товарищ лейтенант.
– Иди во взвод…
Пономарев кивнул и вышел.
Вслед за ним вышел и лейтенант под серое утреннее небо, поднял лицо под мерно падающий дождь. Потом вернулся в землянку, развязал вещмешок, достал баночку зубного порошка и щетку. Снова вышел. Смочил щетку водой, стекающей с крыши блиндажика, макнул ее в порошок и стал чистить зубы, время от времени сплевывая под ноги.
Потом поймал удивленный взгляд какого-то бойца. Сплюнул еще раз и вспомнил, как того зовут:
– Рядовой Сергеенок!
– Я, товарищ командир взвода!
– Зубы чистил? – сплюнул Кондрашов еще раз.
– Так война же… – растерянно сказал Сергеенок.
– Сергеенок… Мы к вечеру в Берлине будем, а у тебя зубы не чищены! Позор!
– Я… Сейчас я, почищу…
Сергеенок засуетился, доставая свои мыльно-рыльные принадлежности.
А лейтенант набрал воды в ладони и с наслаждением умылся, подумав: «Эх… В душ бы сейчас не мешало…»
Потом он пошел по траншее, проверяя взвод. Бойцы пристроились в своих ячейках, прячась от дождя под плащ-палатками. Кто-то курил. Кто-то, накрывшись, спешно черкал карандашом по бумаге. Кто-то торопливо ел тушенку. Кто-то беспрерывно травил байки. Кто-то что-то бормотал под нос. Кто-то вертел в пальцах патрон. Кто-то все время поправлял зеленую каску, сползающую на лоб.
Но у всех у них были одинаковые глаза. По этим глазам было видно, что бойцы где-то не здесь. Они словно не замечали лейтенанта Кондрашова, одновременно кивая ему. Таких глаз Кондрашов не видел еще ни разу. Здесь и не здесь. Сейчас и вчера. Вдруг Кондрашову подумалось, что нельзя вспоминать вчера, что надо быть завтра, и тогда ты…
Додумать эту мысль он не успел. Потому что взлетели, зашипев, три красные ракеты.
И ад начался…
Где-то в далеком тылу громыхнули гаубицы, и первые снаряды начавшегося дня взорвали землю на немецких позициях. Грохот был такой, что дождь стал сильнее. Или это только показалось?
Взвод Кондрашова, оскальзываясь, падая и утопая в жидкой грязи, рванул в атаку. Рванул – громко сказано. Люди больше падали, чем бежали.
И лейтенант Кондрашов, и сержант Пономарев кричали:
– Вперед, вперед, вперед! – пытаясь подстегнуть бойцов, но проклятая грязь Приладожья, жадно чавкая, буквально засасывала сапоги. Каждый шаг давался все с большим и большим трудом. И кругом воронки – свежие и уже подзатянувшиеся. Кругом тела – русские и немецкие вповалку. Кругом груды железа – изогнутого и изорванного чудовищем по имени Война.
Взгляд Кондрашова словно раздвоился. Один взгляд видел, что они уже добрались до неглубокой ложбинки у речки и что сейчас они будут в мертвой зоне для пулеметов, но останавливаться там нельзя, потому что у немцев есть еще и минометы. А для них мертвая зона – это все, что находится в зоне поражения. А другой взгляд был каким-то ненастоящим – словно безумный киномеханик, дергая ленту, показывает не всю фильму, а лишь кадры из нее.
Вот из земли торчит штык. Какой-то боец не замечает его, спотыкается и плашмя, разбрызгивая грязь, шлепается на землю. Другой пытается на ходу отцепить от полы шинели кусок колючей проволоки. Третий, схватив винтовку словно ребенка, очумелым зайцем перепрыгивает небольшую воронку.
Взвод сбежал – нет – свалился и скатился в ложбинку. Шинели, лица, автоматы – все было одного цвета: черно-коричневого.
Кондрашов неожиданно заметил, что вспотел. «А вроде и не жарко», – попытался удивиться он. Но удивляться было некогда.
– Взвод! За мной!
Надо было спешить. Пока боги войны забирают свою кровавую гекатомбу, пока гаубицы бьют – надо подобраться как можно ближе. И когда батальон вместе с ротой Смехова поднимется в атаку, неожиданно ударить немцам почти во фланг.
От взрывов огромных гаубичных снарядов дрожала земля. Осколки уже свистели над головами. Кондрашов очень надеялся, что пушкари не собьют свой прицел и к ним не прилетит подарочек от своих же.
С каждым шагом грохот приближался. Именно поэтому хлопок противопехотной мины остался сначала незамеченным…
* * *
– И все-таки, Николай Александрович, я бы рекомендовал перенести штаб в более безопасное место.
Генерал-майор Николай Александрович Гаген тяжело посмотрел на своего начальника штаба:
– Здесь веселее. Пули свистят, да и музыканты концерты дают. И давайте эту тему более не поднимать. Я не для того генерал, чтобы по тылам отсиживаться.
«Музыкантами» здесь, под Синявинскими высотами, называли немецкие бомбардировщики «Юнкерсы-87». За душераздирающий вой сирен, которые немцы включали, когда падали в пикирование.
Гаген распахнул полог, закрывавший вход в блиндаж.
– Разведку ко мне!
Командир четвертого гвардейского стрелкового корпуса был зол. Зол на командование фронта, на немцев и, конечно же, на себя.
С момента вступления гвардейцев в бой ситуация не улучшилась. Продвинувшись вперед на восемнадцать километров, бойцы восьмой армии и корпуса Гагена остановились. Нет, они не отступали и не лежали в окопах. Они шли в атаку за атакой, уничтожая немцев, но те, словно лернейская гидра, отращивали и отращивали новые ядовитые головы. Самое обидное, что никак не могли взять нормальных пленных.
Гагена это здорово расстраивало. Он, профессиональный военный, понимал, что без разведданных он слеп и глух.
Это он понял еще на Первой мировой. Четырнадцатого января шестнадцатого года в чине прапорщика Николай Гаген был уже на передовых позициях в районе сел Барановичи и Ляховичи в составе Галицкого полка пятой пехотной дивизии Западного фронта. Провоевал там два месяца. А в марте был отравлен немецкой газовой атакой, контужен и оказался в госпитале в Москве, потом под Самарой. В конце июня побывал дома, а в июле вернулся в полк. В декабре он приехал в отпуск уже ротным командиром.
Весь пламенный семнадцатый год прошел на фронте. В ноябре получил чин штабс-капитана, а в декабре был выбран адъютантом дивизии, по-современному – начальником штаба. Положение на фронте было тяжелое, армия разваливалась на глазах. Но пятая дивизия дралась, хотя и отступала. И в феврале вместе со всем штабом попал в плен. Год Гаген провел в плену. Лагерь для военнопленных стал для него школой мужества и школой ненависти. К немцам, державшим русских военнопленных в ужасающих условиях. Сам немец, сын Александра Гагена и внук Карла Гагена, будущий генерал РККА считал себя в первую очередь русским.
А после плена вернулся домой, в ставшее родным село Промзино Симбирской губернии. Революция пощадила семью управляющего имением графа Рибопьера, но лишила их дома. Несколько месяцев Николай отдыхал, восстанавливая здоровье, а потом пошел на службу. Негоже молодому, в девятнадцатом ему, бывшему штабс-капитану, исполнилось двадцать четыре, сидеть на шее родителей в съемной квартире.
Поработав пару недель в народном образовании, вернулся к привычной стезе. Ушел в Красную армию. Поступил в Краснознаменную пехотную школу. Командовал взводом, ротой, потом батальоном. Но душа, отравленная войной, тосковала. Как-то он написал своей сестре Зое: «Празднуем вовсю, а на душе тоскливо. Шестого ноября вечером были орудийные выстрелы. Седьмого утром – народ и хождение по городу. Затем начались концерты, митинги, спектакли и прочее. Около старого памятника выстроили оригинальный памятник-пирамиду. Наши курсанты после призыва одного из ораторов согласились выгрузить с парохода двадцать пять тысяч пудов хлеба: работа тяжелая, но работали хорошо… Восьмого вечером был у нас на курсах концерт-митинг и спектакль. Прошел скучновато. Сегодня вечером пойду смотреть с курсами в театр «На дне»…».
Может быть, от тоски он женился в феврале двадцать первого?
Любит ли его Лиза? А он ее? Вряд ли… Слишком усердно она пилила его насчет продвижения по службе. Когда он вернулся из петропавловских боев с белоказаками, Лиза его не встретила, засидевшись у подруги. И он служил, пропадая в зимних и летних лагерях. Буквально жил на стрельбищах, а когда стал начальником Казанского пехотного училища, порой неделями ночевал в своем кабинете.
К высоким должностям и званиям он не стремился. Просто делал свою работу по-немецки обстоятельно и по-русски от души. Карьеризмом он не страдал. Может быть, поэтому он в партию вступил лишь в мае тридцать девятого, когда в воздухе ощутимо запахло новой войной. Хасан, Халхин-Гол, Финляндия прошли мимо него.
А июнь сорок первого встретил, как и миллионы других, на западной границе. Никому и в голову не пришло снимать его с поста комдива сто пятьдесят третьей стрелковой дивизии. Немец, говорите? Научитесь воевать, как этот немец, тогда и разговоры о снятии заводите. Семь дней он держал тридцать девятый моторизованный корпус немцев на Витебском направлении. Гитлеровцы разбили лоб об упрямого Гагена. Нарушив полевой устав, он занял оборону не сплошным фронтом, а растянул дивизию аж на сорок километров, прикрывая полками и батальонами наиболее возможные места прорыва. Орудия были, но было мало снарядов. Склады остались у границ. Тогда хитрый Гаген вооружил бойцов бутылками с бензином. И не смог корпус сломать дивизию. Жаль, соседи подвели. Через неделю дивизия Гагена оказалась в окружении. Немцы начали кидаться листовками, в которых писали: «Ваш командир – немец! Он специально завел вас в окружение!» Ну и стандартное – сдавайтесь, еда, комфорт и прочие радости плена.
Тогда Николай Александрович собрал расширенное заседание штаба. И рассказал о себе и своем плене. А потом спросил: «Если есть ко мне какие-либо подозрения, готов передать свои полномочия любому из командиров и встать в строй рядовым бойцом!» К вящему сожалению гитлеровцев, командиры дивизии выразили полную поддержку своему командиру. И Гаген повел своих бойцов на восток. Практически без боеприпасов, без продовольствия, под бомбами – почти обычная картина лета сорок первого. За одним исключением. Дивизия вышла практически без потерь и сохранила не только знамя, но и тяжелые орудия. А по сводкам германского командования дивизия числилась уничтоженной. В сентябре сто пятьдесят третья стрелковая стала третьей гвардейской.
В январе же сорок второго Николай Гаген стал командиром четвертого гвардейского корпуса. И теперь вот рвался освобождать Ленинград. Свою родину. Он же родился под Петербургом. В местечке под названием Лахтинское. Отец, Александр Карлович, тогда работал управляющим имением графа Стенбок-Фермора. А потом достраивал Сестрорецкий курорт. Вот такова прихотливая судьба солдата…
– Разведка, почему нет языков? – спокойно спросил генерал-майор у прибывшего в штаб майора Орехова.
Тот пустился в объяснения. Мол, линия фронта неустойчивая, обстановка меняется ежеминутно, людей не хватает…
– Майор, – остановил разведчика Гаген. – Меня не интересуют объяснения. Меня интересует – почему вы свою еду не отрабатываете?
Гаген редко повышал голос. Спокойный, выдержанный, доброжелательный, но памятливый и не прощающий ошибок. Ошибка на войне – это смерть. И чем выше чин, тем больше смертей. Он требовал от людей того же, что требовал от себя. И наоборот. От себя требовал то же, что от людей.
Внезапно воздух взорвался трескотней автоматных очередей. Казалось, что били отовсюду.
– Немцы! Немцы к штабу прорвались! – заорал кто-то рядом с блиндажом генерала.
Офицеры штаба, вслед за своим командиром, стали выскакивать на воздух, хватая свои автоматы.
– Пррррекратить панику! – рявкнул Гаген. Когда надо – его рев мог перекрыть вой «коровушек» – немецких реактивных минометов. На жену вот не мог рявкнуть так. Жена – это оружие массового уничтожения. Неуязвимое и беспощадное.
– Занять оборррррону!
Генерал-майор упал на бруствер, прижав приклад ППШ к плечу.
– Товарищ генерал, Николай Александрович, да уйдите вы отсюда, Христом-богом прошу! – плачуще сказал Гагену старший лейтенант, командир взвода охраны, Витя Пересмешко.
– Цыц! Что же я за генерал, ежели ни одного врага самолично не убил? Учись, боец!
И Гаген выпустил пару коротких очередей в туман, повисший на кривоватых деревьях.
Старший лейтенант сплюнул от отчаяния и тоже прицелился.
– Между прочим, Пересмешко, я коммунист и в бога не верю, – спокойно добавил Гаген.
– Это оборот речи такой, товарищ генерал-майор!
Близкий разрыв минометной мины накрыл их болотной землей. Старлей кинулся на генерала и, навалившись всем телом, уронил того на землю.
– А ну слезь! – заорал Гаген. – Слезай, кому говорят! Я тебе не баба!
– Хуже! Вы наш командир! – заорал в ответ Пересмешко.
Внезапно стрельба закончилась так же, как и началась.
Старший лейтенант наконец слез с генерал-майора. Не удержался и буркнул:
– На бабе я еще успею, а на генерал-майоре когда еще?
– Язык оторву, – погрозил Гаген наглому старлею. В военном быту Николай Александрович мог многое простить. Да и сам шутки соленые любил.
– Товарищ генерал-майор! – внезапно раздался веселый ор майора Орехова. – Языка заказывали?
Гаген приподнялся, машинально отряхнув шинель от глины. Помогло мало – но привычка!
– Какого языка? Ты его где взял, майор?
– Честно сказать? Сам пришел.
Конвоиры из разведчиков спихнули в траншею рыжего и чубатого обер-лейтенанта, очумело глазевшего по сторонам.
– Где взяли, повторяю? – негромко спросил командир корпуса.
– Да я ж говорю – сам пришел. Это из просочившихся автоматчиков, товарищ генерал-майор.
– Просочившихся? – приподнял бровь Гаген. – Это каким же образом? Старший лейтенант – выяснить и доложить. Немедленно! А с этим… Я сам поговорю.
Гаген прекрасно знал немецкий язык, что и неудивительно. Когда штаб собрался в блиндаже, Николай Александрович лично начал допрос.
Собственно, доклада от командира взвода охраны не потребовалось. Оказалось, что с левого фланга, вдоль Черной речки, там, где стояла танковая бригада, произошло обычное разгильдяйство. Командир бригады поставил в боевое охранение…
Танки. И не обеспечил их прикрытие стрелками. Немцы, воспользовавшись случаем, и проползли между бронированными машинами. На свое горе, правда. Не ожидали, что на штаб корпуса наткнутся.
Подобного Гаген не терпел и через посыльного отправил танковому комбригу приказ исправить ситуацию, а затем доложить о выполнении.
Танк в лесу – слеп. Без стрелкового прикрытия это лишь большая пушка на колесах. Повезло, что это была разведка, а не полноценная атака.
Впрочем, обер-лейтенант Курт охотно рассказал и много другого интересного. Как оказалось, буквально несколько дней назад фриц купался в Черном море. После того как Манштейн взял Севастополь, его Одиннадцатую армию перекинули под Ленинград. Вообще-то «севастопольские» немцы готовились к штурму Северной Пальмиры. По крайней мере, таково было настроение в войсках. Однако Мерецков, командующий Волховским фронтом, упредил Манштейна на несколько дней, ударив войсками Восьмой армии в самое узкое место «бутылочного горлышка». Так немцы называли небольшое, в шестнадцать километров шириной, расстояние между Ленинградским и Волховским фронтами.
«Героев Крыма», так обозвал Гитлер своих вояк, пришлось кинуть вместо Ленинграда в эти болота, где русские почти соединились своими фронтами.
Однако на войне – как в любви. На полшишечки – не считается.
Манштейн отчаянно кидал в пекло Синявинских высот дивизию за дивизией. В конце концов русская сталь завязла в немецком мясе. Как застревает отточенный клинок в литых доспехах. Более того, под Ленинград перекинули батарею сверхтяжелых орудий, совсем недавно бомбардировавших Севастополь. И еще… Ходят слухи, что вот-вот прибудут сверхтяжелые танки. С несокрушимой броней и огромным орудием. Вроде как «Тигры». Их в вермахте еще не видели, но говорят, что это настоящее чудо-оружие.
– Вундерваффе, вундерваффе… – пробурчал Гаген. – Налейте немцу водки. Может, еще чего вспомнит?
Увы, не вспомнил. Единственное, что он добавил, что он из пятой горно-егерской дивизии. И нет, нет! Он ненавидит СС, Гитлера, его папа голосовал за коммунистов и он сам считает эту войну крупной ошибкой Гитлера, которому непременно капут.
Гаген хмыкнул:
– Хоть бы раз в плен не антифашиста взять… С июня прошлого года одни коммунисты в плен попадают! Что ты будешь делать…
Полковник Богданов, начальник штаба корпуса, шутку не понял:
– Так, товарищ генерал-майор, фашистам сдаваться в плен оболваненное сознание не дает! Фашисты в плен не любят сдаваться, вот и…
Генерал-майор только усмехнулся на эти слова:
– Вот когда до Берлина дойдем, одни антифашисты и уцелеют. Помянешь мое слово еще на развалинах рейхстага.
– Согласен, – кивнул Богданов. – Пусть только антифашисты и уцелеют.
Гаген покачал головой, вздохнул и отдал приказание:
– Обер-лейтенанта в тыл. Пусть там его трясут насчет подробностей. И водки ему налейте. А мы… А мы будем готовиться к тому, чтобы Манштейну арийскую морду почистить!
* * *
Последние сутки лейтенант Кондрашов помнил плохо. Все переплелось – и день, и ночь, и марш по раскисшим дорогам, и атака по не менее раскисшему от дождей полю. Отчет по действиям взвода и по потерям он, естественно, сдал в роту, но…
Такая вот память человеческая.
Как командир взвода, Кондрашов помнил все прекрасно – как поднялись в атаку, как нарвались на мины, как броском преодолели заминированный участок, как выбили немцев из траншей. Все это он помнил.
Но вот совершенно выпали из памяти детали этого боя.
Хлоп! И рядовой Сергеенок катается по земле, судорожно отыскивая оторванную ступню. Санинструктор взвода бинтует культю, пока другие бойцы держат несчастного Сергеенка. Держат, закрывая ему рот ладонями. И кто-то кричит над ухом:
– Повезло парню, отвоевался!
Лейтенант не помнил этого.
Не помнил и того, как опомнившиеся немцы стали фигачить трассерами поверх голов бойцов, укрывшихся за маленькими, но крутыми берегами речки Черной.
Кондрашов не помнил и как он закричал «Вперед!», когда взлетели ракеты над полем. Мины?
А какой выбор был у взвода? Отползать назад и требовать саперов? Лежать на месте и притворяться ветошью? Но немцы могли вот-вот накрыть их минометами. И тогда никакие берега не смогли бы помочь бойцам.
Кондрашов не помнил, как он высунулся над берегом. Именно в тот момент пошла в атаку остальная рота. И немцы мгновенно перенесли огонь в сторону новой опасности. Осталось лишь подняться и ударить фрицам во фланг.
Лейтенант не помнил, как он бежал по изувеченному полю в сторону небольшого леска, в котором сидели немцы. А за этим леском была та самая железная дорога, по которой гитлеровцы перекидывали подкрепления в горячие места. Апраксин Бор… Вот бы в мирную жизнь дойти до него? Чего там – час прогулочным шагом до электрички… Еще час – и ты в Ленинграде.
А вот когда между тобой и этой электричкой в окопах закопалась смерть? За сколько ты доберешься до жизни?
Лейтенант Кондрашов не помнил – за сколько времени они добежали до траншей? Каждый шаг казался вечностью и мог быть последним. Но добежали как-то! А еще он не помнил, как прыгнул, замахиваясь лопаткой, в немецкую траншею…
– Опять стихи пишешь? – осторожно пнул Кондрашова Москвичев.
– А? Ты… Как у вас?
– Полвзвода как корова языком, – зло сплюнул Москвичев и уселся рядом, навалившись спиной на стенку траншеи. – Если бы не ты – положили бы к херям на этом поле. Курить хочешь?
– Не курю я, знаешь ведь.
– Не волнуйся. Пройдет. Смотри, распогаживает!
– Что? – не понял Кондрашов.
– На небо, говорю, посмотри, звезды видать стало. Как рассветет, музыканты концерт дадут. Зуб даю.
Кондрашов поднял голову. И впрямь – серое питерское небо вдруг разорвалось в облаках. И звезды замелькали в хвостатых обрывках низких туч.
Для пехоты нет лучше погоды – чем дождливая. Хотя бы сверху смерти не будет.
– Ладно… Я к себе во взвод. Думаю, немцы скоро в контратаку пойдут.
Москвичев зашлепал было по глине, но Кондрашов остановил его:
– Сереж, как там Павлов?
– Живой… Что ему будет?
И ушел.
Лейтенант Кондрашов тяжело встал. Надо найти Пономарева и заставить взвод копать щели – укрытия на случай бомбежки. А она будет? Она будет – точно. К бабке не ходи, как сказал бы Москвичев.
– А я ему – на в лобешник! А он с копыт! Ну, я его финочкой и поласкал! На что хочешь забожуся!
– Глазунов? Опять ты хвастаешься?
– Не хвастаюсь, товарищ лейтенант, а опытом делюсь! Самолично пять немцев вот этим ножиком порезал.
Кондрашов хмыкнул.
Если верить этому бывшему зэку – так он половину гитлеровской армии перерезал в одиночку.
– Руки покажь, – внезапно раздался голос из-за плеча лейтенанта.
– Не надо, товарищ сержант, на честного батон крошить, – обиделся Глазунов, но рукава закатал.
– Молодец, – кивнул Пономарев. – Копай дальше.
– Можно, да? – взялся Глазунов за лопатку.
Вместо ответа сержант показал рядовому волосатый кулак.
Тот принялся копать.
– Сержант, ты рукоприкладством не занимайся, – сказал Кондрашов, когда они отошли от бойцов.
– А с этим по-другому – никак, товарищ лейтенант. Хуже немца. За спиной тебе в сапоги нассыт, пока спишь. И зачем эту шушеру в армию берут? Людей, что ли, не хватает? Этих-то зачем?
– Убитых сколько? – вопросом на вопрос ответил Кондрашов.
– Пятеро. И десять раненых, – вздохнул Пономарев.
– Половина взвода, понимаешь сержант?
– А делать-то что было, товарищ лейтенант? Лучше по минам, чем под минами.
Теперь очередь вздыхать пришла Кондрашову. Лейтенант остановился, дожидаясь, когда бойцы выкинут из траншеи очередного ганса. Выкидывали немцев на бруствер. Лишняя защита все-таки. Потом Кондрашов снова зашагал, проверяя свое маленькое взводное хозяйство.
– Под Мясным Бором так же было? – спросил он у помкомвзвода.
Пономарев помолчал и тяжко ответил:
– Хуже было. Там… Не приведи Господь такое увидать. Потом вспомню. После войны.
– Пономарев, тебя как зовут? – внезапно для себя спросил Кондрашов.
– Будто вы не знаете, – хмыкнул рыжий челябинец. – Андреем, а что?
– А меня Лешей, сержант.
– Тоже неплохо. Товарищ лейтенант, а что насчет пожрать? Не мешало бы!
– Пока на трофеях. Как будет кухня, так и пожрать будет.
На том и расстались, если можно, конечно, назвать это расставанием. Взвод лейтенанта Кондрашова занял узкую позицию в сто метров шириной. Справа – Москвичев, слева – Павлов. За спиной – Родина. Впереди – немцы. А за ними, немцами, грохот Ленинградского фронта. Вот, рукой же подать! Сверху над всем этим старший лейтенант Смехов и старший политрук Рысенков. Над ними еще начальство и еще. Вплоть до Господа Бога.
Кондрашов, перекусив трофейной сухой галетой и запив ее трофейным же сухим вином, свернулся клубком в нише, накрывшись шинелью и приказав разбудить его ровно через час, когда светать начнет. Присниться ему ничего не приснилось. Не успел он сны посмотреть.
А вот сержант Пономарев, точно так же укрывшийся от промозглого ветра, сон посмотреть успел. Ему приснилась очередь за пивом. Во сне он вздрагивал и облизывал губы.
Начинался первый день осени – первое сентября. День, как говорится, знаний. Знаний о прошлом, а не о будущем. Кто из бойцов мог знать – чему научит их день грядущий? И только передовые дозоры не думали и не знали. Просто сидели и всматривались в клочья тумана, ползущие по громадному полю, раскинувшемуся между линией электропередач и Апраксиным Бором.
Первая ночь на передовой прошла удивительно тихо. Для опытных бойцов, естественно. Новобранцам ночь казалась сущим адом – то и дело шипяще взлетали ракеты, освещая мертвенно-синим светом жуткий пейзаж искореженного поля, сухо стучали пулеметы, где-то в тылу – и нашем, и немецком, – то и дело гулко бухали взрывы. За полночь отработали «Катюши» – из-за леса с жутким воем взлетели огненные пальцы реактивных снарядов и мгновенно исчезли за горизонтом. После залпа где-то в стороне Мги до самого утра полыхало багровое зарево. Нормальная фронтовая работа. Нормальная боевая тишина. Старший лейтенант Смехов совершенно не слышал всей этой тишины. Он крепко спал в наскоро оборудованном блиндаже.
Немцы – нация работящая, строить умеют. И на этих болотах умудрились целые крепости понастроить. Траншеи они копали так – вбивали по два ряда кольев с обеих сторон в человеческий рост, а между рядами насыпали землю. Дно же выстилали досками. Получалось относительно сухо. И, самое главное, прочно. Не каждый снаряд мог пробить такую фортификацию.
В блиндажах, однако, все равно было сыро. Вода капала с потолка, сочилась со стен, хлюпала под ногами.
Но Смехов спал, укрывшись с головой. Редкие минуты отдыха надо использовать со всей отдачей и на полную катушку:
Проснулся он оттого, что его осторожно подергали за ногу:
– Товарищ старший лейтенант! Тут до вас прибыли! – от голоса ординарца Смехов проснулся моментально.
– Ага… Кто? – протирая глаза, Смехов сел на лавке.
В блиндаж вошли двое. Политрук Рысенков и незнакомый лейтенант.
– Спишь? Смотри, так всю войну проспишь! – улыбнулся политрук.
– С удовольствием бы, – буркнул старший лейтенант. – Кто такой?
– Лейтенант Уткин, товарищ старший лейтенант. Командир взвода отдельного огнеметного батальона. Направлен из штаба армии для усиления обороны.
– Огнеметчики… Огнеметчики – это хорошо. Ну, проходи, лейтенант Уткин. Как зовут?
– Николаем.
– Срочную служил?
– С тридцать седьмого по сороковой. С началом войны снова призвали.
– Чем взвод вооружен?
– Десять фугасных огнеметов, товарищ старший лейтенант. Должно быть по уставу двадцать, но…
– Ого! И как эти бандуры тут ставить собираетесь? Ты на передовой был?
– Приходилось, – коротко ответил лейтенант Уткин.
По лицу лейтенанта было понятно, что да, приходилось. Спокойное такое лицо. И жесткое одновременно. И печать фронтовой усталости на этом лице. Смехов по этому выражению лица сразу угадывал фронтовиков – смеялись ли они, пели ли, рыдали ли, матерились, дрались – неважно. Эта военная усталость въедалась в кости и в жилы. Навсегда въедалась. Намертво.
– А где воевал?
– На Пулковских высотах, товарищ старший лейтенант.
– Так ты изнутри? – поднял брови Смехов. – Как там?
– Держимся. Товарищ старший лейтенант, разрешите осмотреть позиции. Мне до утра огнеметы надо вкопать.
– Рысенков, проводи лейтенанта к Кондрашову. А я еще посплю.
– Если победим – будить? – опять усмехнулся политрук.
– Не… Буди – если немцы барагозить начнут.
Смехов не успел донести голову до вещмешка, служившего командиру роты подушкой, как опять уснул.
А Рысенков и Уткин пошлепали под мелким дождем в сторону передовых позиций роты.
Кондрашову вот прилечь не удалось. Его взводу выпало в эту ночь сидеть в боевом охранении. То и дело он мотался туда-сюда, проверяя секреты. На очередном обходе и наткнулся на политрука роты с огнеметчиком.
– Кондрашов. Алексей.
– Уткин. Николай.
– О как! – удивился командир стрелкового взвода. – А у меня Уткин тоже есть. И тоже Николай. Не родственник, случаем?
– Вряд ли, – сухо ответил огнеметчик. – Давайте позиции осмотрим. А с тезками потом будем знакомиться.
Добрый час они ползали по грязи, высматривая места для огнеметов. А потом началась работа.
Пятидесятидвухкилограммовые цилиндры закапывались в землю. На поверхности оставалось лишь замаскированное сопло. Достаточно было одного осколка, чтобы горючая смесь взметнулась в воздух. Но везло. Огнеметчики телами прикрывали туши своих «поросенков» при близких разрывах. Иначе – смерть. В зарядный стакан укладывали пороховой заряд, а поверх него – зажигательную шашку. В шашке помещали электрозапал. А оттуда уже тянули провода к расчетам.
Лишь под утро огнеметчики закончили свою работу.
– Перекусим? – предложил Уткину Кондрашов. – Чем бог послал, как говорится.
Тот молча согласился. Бог послал на завтрак пару банок тушенки, буханку хлеба и несколько луковиц из запасов одного лейтенанта и шматок сала да термос с теплым чаем из запасов другого.
Кондрашов искоса смотрел на Уткина, удивляясь странной манере еды огнеметчика. Тот ел молча, буквально вгрызаясь, внюхиваясь в хлеб. Сложив ладони лодочкой, он полуоткусывал, полуотщипывал губами хлеб, слизывая с него языком волокна мяса и кусочки жира. Уткин перехватил его взгляд и смущенно отвел глаза:
– Блокадная привычка.
И осторожно высыпал в рот крошки.
Потом он протянул Кондрашову кисет:
– Будешь?
– Я не курю, – мотнул тот головой.
К двум командиром, устроившимся в одном из углублений траншеи, подошел по траншее боец из взвода Кондрашова:
– Товарищ лейтенант! А что там с кухней? Когда горячего привезут? Известно что?
– Жди, Уткин, жди. Подвезут. Обязательно подвезут. О! Кстати! – Кондрашов кивнул лейтенанту-огнеметчику на бойца. – Вот однофамилец твой.
Тот молча кивнул в ответ, даже не улыбнувшись.
– Да? – удивился боец. – А вы откуда родом?
– Из Костромы, – сухо ответил огнеметчик.
– И я тоже! – обрадовался боец. – С самой Костромы?
– Да.
– А я из Рославля. Земляки! – рядовой даже подпрыгнул от радости.
– Да. Земляки, – опять равнодушно согласился лейтенант Уткин.
«Сухарь какой», – неприязненно подумал Кондрашов, но вслух сказал:
– Иди, Уткин, иди.
Тот вздохнул, развернулся и потопал на свое место.
В это же время один из бойцов боевого охранения, осторожно высунувшись, разглядывал раскинувшееся поле. Второй, пряча от мороси бумагу, тщательно выписывал на листке буквы зеленой, под малахит сделанной ручкой, аккуратно окуная ее в чернильницу, бережно поставленную в жидкую грязь.
– Вась, ну что там? – шепотом спросил второй.
– Тишина… – ответил первый.
Если, конечно, можно было назвать тишиной гулкий грохот разрывов, доносящийся со всех сторон. Черное небо полыхало разрывами.
– Ты скоро там?
– Вась, потерпи чуток…
Ни свиста снаряда, ни разрыва они не услышали. Просто мир вспыхнул. Лишь зеленая ручка, чудом уцелев в мгновенном аду, взлетела, перекувыркнулась несколько раз и упала в жидкую землю рядом с телом одного из убитых до того бойцов Красной армии.
Это был первый снаряд, выпущенный немцами в ходе операции «Нордлихт» – что значит – «Северное сияние».
Грохот разрывов прекратился так же резко, как и начался. Не успел Рысенков стряхнуть липкую землю с мокрой плащ-палатки, как над окопами раздался крик:
– Немцы!
– Рота! К бою! – заорал полуоглохший от разрывов Смехов.
И понеслось по роте:
– Взвод! К бою!
– Отделение! К бою!
Бойцы щелкали затворами, проверяя оружие, готовили гранаты и бутылки с зажигательной смесью.
– Ну что, политрук! Повоюем? Давай на левый фланг, к Кондрашову.
– А ты, командир?
– Пробегу до взвода Москвичева. Давай… Работаем, Костя, работаем!
Рысенков побежал по траншее, время от времени выглядывая из нее. Немцы шли медленно, даже не пригибаясь. Перед пехотой шли танки – пять штук. Какие именно – политрук не разглядел. До немцев было еще метров семьсот. А это еще что за хрень? Прямо перед окопами внезапно взметнулся густой оранжевый клубок огня. Весело!
Рысенков терпеть не мог эти минуты перед боем. Сидишь, смотришь, ждешь команды. И тебя колотит от адреналина. Закусываешь ремешок каски, нежно гладишь спусковой крючок винтовки или автомата, трясешь ногой от нетерпения – не помогает. Ждать, ждать. Самое противное на войне – ждать.
Бежать было тяжело – дождь не переставал, поэтому дно траншеи превратилось в коричневую жижу, которую иногда пересекали ярко-красные ручейки – следы артобстрела.
Рысенков бежал и кричал бойцам какие-то ободряющие слова – мол, сейчас мы им всыплем, готовьтесь, ребятки! Иногда он шлепал рукой бойцов по мокрым шинелям, словно показывая им – здесь ваш политрук, здесь.
Зрение отдельными кадрами выхватывало пейзаж:
Вот боец скручивает какой-то проволокой связку гранат.
Вот другой нервно курит самокрутку, а потом передает ее соседу.
Вот санинструктор вытаскивает из траншеи тяжело раненного бойца, хрипящего пробитыми легкими.
Вот второй номер противотанкового расчета суетливо крутит в руках здоровенный патрон.
– Кондрашов! Как у тебя?
– Нормально, товарищ старший политрук!
– Огонь по команде открывай. Метров с трехсот.
– Ага, – кивнул лейтенант совершенно не по уставу. Кондрашова потрясывало, как и всех.
Первыми не выдержали немцы. Один из танков остановился и гулко бахнул. Снаряд пошел выше, но Рысенков и Кондрашов почувствовали теплую волну, толкнувшую их с неба, и за спиной раздался взрыв. Танк взревел и рывком продернулся вперед. Открыла пальбу и пехота. Пули засвистели в воздухе. Одна из них взрыла бруствер между политруком и лейтенантом и воткнулась в заднюю стенку траншеи, тихо зашипев.
Руки нервно сжимали оружие.
– Эх, сейчас бы пушечек… – громко вздохнул кто-то из бойцов.
Увы, но артиллеристы так и не прибыли, завязнув где-то в тылу.
Тучи, казалось, опустились еще ниже, когда в них воткнулась красная ракета.
– Огонь! – заорали одновременно политрук и лейтенант. И траншея немедленно ощетинилась огнем.
Гулко забахали противотанковые ружья. Расчеты целились по уязвимым местам немецких танков – щели, гусеницы. Затарахтели станковые пулеметы, и немцы немедленно попадали в грязь.
Рысенков предпочитал пистолету-пулемету карабин. Вообще-то зрение у него было не очень. Но стрелял он почему-то хорошо. Просто он не целился. Он чувствовал оружие как руку. Он не стрелял, а словно дотягивался рукой до мишени. Раз… Два… Теперь третьего рысьим коготком… А, блин! Промазал! Еще раз!
Немцы тем не менее двигались и двигались вперед. Перебежками. И вот хрен же поймешь – кто сейчас поднимется, а кто вскочит и пробежит несколько метров.
Рядом загрохотал «Дегтярь» – лязг его затвора перекрывал стрельбу.
Немцы падали, спотыкались, шлепались в грязь, но шли и шли вперед. А из серой дымки выходили новые цепи, приближаясь к роте старшего лейтенанта Смехова.
Время от времени кто-то из бойцов падал, хватаясь руками за лицо. Замолчал взводный «Максим». Ненадолго.
– Гранаты к бою! – заорал Кондрашов, когда немцы приблизились к дистанции броска. Их танки вдруг разделились. Два пошли в левую сторону, три в правую. Вот тут-то бронебойщики и врезали. Один из «Т-III» – а это оказались именно они – вдруг закрутился на сбитой гусенице, второй просто остановился, чадно задымив. Рысенков успел снять танкиста, неосторожно высунувшегося из люка.
Немцы уже приблизились метров на сто к позициям роты, когда внезапно полыхнула стена огня. Это лейтенант Уткин привел в действие свои фугасные огнеметы. Зрелище было потрясающим – квадрат сто на семьдесят метров буквально превратился в геенну огненную. Жаль, что сработали не все. Где-то перебило провода. А где-то огнемет разорвало осколком снаряда. Точно. Именно взорвавшийся огнемет был тем самым пламенным облаком, впечатлившим Рысенкова в начале боя.
Отбились?
Пламя не давало немцам подойти к позициям роты. Страшная штука эта зажигательная смесь. Как-то один боец себе случайно капнул на ладонь – так, пока капля не прожгла насквозь мясо и кости, не потухла. Еще дотлевала потом в земле. Обозленные немцы снова начали обстрел. А после того как пламя успокоилось – снова пошли в атаку.
– Танки! Наши! – вдруг пронесся крик по траншее. Старший политрук облегченно выдохнул и обернулся.
Действительно, со стороны Чертового моста, взревая моторами, разворачивалась танковая рота – десять машин с красными звездами на башнях.
И Рысенков громко выругался.
«Т-38».
Экипаж – два человека.
Вооружение – пулемет.
Толщина лобовой брони – восемь миллиметров.
Этакая бронированная тачанка, которую переворачивало даже противопехотными минами. Да и чем она бронированная-то? Бронелисты держат пулю со ста метров – вот и вся броня. И тем не менее немцы развернули свои танки на нового врага. Они подставили борта бронебойщикам роты Смехова, прикрывая собой свою пехоту, упрямо ползущую вперед.
И как на полигоне стали расстреливать «тридцатьвосьмерки».
Бензиновые костры заполыхали один за другим. Один из «Т-38» вдруг замер, и пулемет его заглох. Немецкий «Т-III» остановился и спокойно навел свою короткую пушку на заглохший советский танк…
– Да бейте же его, твою бога душу мать! – вдруг заорал старший политрук.
Бронебойщики, словно расслышав отчаянный крик Рысенкова, зацвинкали по броне немца. Еще мгновение и… И немец вспыхнул от попадания в бензобак. Но перед этим успел выстрелить, и наш танк разлетелся на куски. Как раз в тот момент, когда открылся люк…
Узкие гусеницы советских танков постепенно завязали в жидкой глине. Они останавливались, расстреливаемые как на полигоне, но продолжали поливать из пулеметов залегшую наконец немецкую пехоту.
Ненадолго залегшую.
Со второй немецкой густой цепью шли самоходки. Те, не обращая внимания на своих и чужих танкистов, начали вести огонь по траншее роты.
– Командира убило! – вдруг пронесся крик после очередного разрыва.
Сквозь грохот, лязг и свист Рысенков поднялся во весь рост, не обращая внимания на визг осколков:
– Рота! Слушай мою команду! Примкнуть штыки! Вперед! В атаку!
– Да пошел ты, – взвизгнул кто-то под ногами. Без промедления старший политрук выстрелил в бойца, свернувшегося в калачик на дне окопа.
Рысенков выскочил из траншеи:
– За Родину, сынки! За Ленинград!
Пробежать он успел несколько шагов, когда мощный разрыв приподнял его и обрушил на землю. Поэтому он не увидел, как остатки роты рванули в штыковую, опрокинув немецкую пехоту рукопашным боем.
Странно, но немцы побежали от русского штыка. И ни уцелевшие танки, ни самоходки не помогли им.
Русский штык – страшное оружие. Втыкаешь его в низ живота, чуть доворачиваешь, перемешивая внутренности, и вытаскиваешь обратно. Вроде бы и ранка-то небольшая. Маленькая четырехугольная дырочка. А в животе врага – хаос и мешанина. Очень страшная, мучительная смерть. Недаром на Гаагской конференции девятого года русский штык приравняли к негуманному оружию. Но когда война приходит в твой дом – какое тебе дело до гуманности?
Тяжело контуженного Рысенкова оттащили в траншею уже после боя.
От роты осталось тридцать человек. По странным вывертам судьбы уцелели все три комвзвода. Даже ранены не были.
Рысенков оглох, поэтому доклад в полуразрушенном блиндаже читал по бумажке. Правда, буквы двоились, но это ничего, ничего…
Где-то немцы прорвались. Стрельба слышалась в тылу. Рысенков этого тоже не слышал, но так доложили ему лейтенанты. Окружение…
Дождь не прекращался. Серое небо накрыло ленинградскую землю темнотой.
Приказа отступать не было. Но и держаться было нечем. Еще одна атака – и все.
В конце концов, после долгих раздумий, приказал готовиться к прорыву. Вдоль Черной речки к Чертовому мосту мимо Южной ЛЭП, а там уходить в лес на соединение со своими.
Его под руки вывели из блиндажа. Сильно болела голова. В ней словно колокол бился. Тошнило. И в ушах пульсировало.
Черное небо полыхало, хотя канонады он не слышал.
Полыхало везде.
Старший политрук снял каску и молча ощупал вмятину на своей зеленой каске. И тут его столкнули на дно траншеи, а земля снова брызнула грязью в лицо. Рысенков скорее догадался, чем понял беззвучный крик лейтенанта Москвичева – минометы!
Приказа отступать не было, да. Но и обороняться было уже нечем. Собрав раненых, рота начала ползти в тыл.
Утром же пятая горнострелковая дивизия вермахта пошла в очередную атаку. Но русские внезапно ушли, поэтому горнострелки осторожно стали прочесывать изувеченные воронками траншеи. Время от времени раздавались сухие щелчки выстрелов – немцы стреляли во всех, показавшихся им живыми. На всякий случай. К этому они привыкли еще с прошлого лета. Русские воевали неправильно – идешь себе в атаку на разбитые артогнем, перепаханные бомбежкой, отутюженные панцерами окопы – там уже и нет никого вроде бы. Никто не стреляет – только дымятся воронки. Подходишь… Лежат большевики в тех позах, где нашла их смерть, выкованная тевтонским богом войны. Лежат, не шевелятся, присыпанные землей. Ни одного живого! Идешь дальше – и вдруг выстрел, или разрыв гранаты, или пулеметная очередь по спинам. Сколько Гансов, Куртов, Эрихов остались лежать в русской земле, сраженные предательскими выстрелами в спину… Проклятые фанатики!
Командир взвода Юрген Мильх научился добивать русских в первую же неделю. Арийская жизнь дороже. А под Севастополем он убедился в фанатичности русских. Эти славяне просто не понимали простейшей аксиомы – лучше жить в плену, чем умирать за клочок выжженной земли. Война закончилась бы раньше, если русские понимали бы это. Увы, они слишком тупы для этого.
– Лейтенант! Герр лейтенант! – внезапно раздался крик. – Тут живой и руки поднял!
Надо же… И среди большевиков разумные люди попадаются! Впрочем…
– Стоять! Не подходить к нему! Держать на прицеле!
Странное ощущение дежавю вдруг накрыло лейтенанта Мильха. Это уже было. На Мекензиевых горах в июне сорок второго. Они точно так же прочесывали разбитые русские позиции, когда вдруг из одной воронки встал русский моряк с поднятыми руками. Тельняшка его была изодрана, в левой руке он зажал бескозырку с болтающимися черными ленточками. Солдаты его взвода с шуточками стали подходить к нему. Тот молча скалился в ответ. Мильх споткнулся о вывороченный взрывом камень, что и спасло его, когда моряк уронил бескозырку на каменистую землю. Вместе с гранатой уронил. Себе под ноги. Трое погибших, четверо тяжелораненых.
Держа карабин наперевес, лейтенант осторожно приблизился к русскому солдату. Слава фюреру, у этого в руках ни бескозырки, ни каски не было. Невысокий, белобрысый русский тянул к пасмурному небу трясущиеся грязные руки. Мильх осторожно подошел к нему. Тот чего-то быстро забормотал на своем варварском языке. Говорил он быстро, и лейтенант выхватывал лишь отдельные слова:
– Сталин капут, камрад, великая Германия…
– Связать его. И в тыл!
Сашка Глазунов был несказанно рад, что для него война закончилась. Лагерь был совсем не сказкой, но война оказалась еще хуже. Вместо лихих атак и геройских вылазок в тыл врага бывший зэк внезапно получил бесконечное перекапывание земли и ужас летящей с неба смерти. Лежа под адским грохотом, он внезапно понял, что очень хочет жить. Разве для этого его родила мама? Разве для того, чтобы лежать в болоте и вжиматься от страха в жижу? К чертям собачьим такую жизнь! Сашка не подписывался на такое! Ну вас всех на хрен с вашей войной!
В лагере Сашка плюнул бы любому, кто сказал бы, что Глаз с удовольствием будет подставлять руки, когда его вертухаи крутить будут. А вот поди ж ты – стоит и улыбается. А что такого? Против силы ломить, что ли? Что он, дурак? Не, Сашка Глазунов – не дурак. Немцы – нация культурная. Война закончится – он домой вернется, да еще и Европу посмотрит, может и приподнимется там на бюргерах-то… Матери там отрез какой привезет. Сашка Глаз никому не говорил, что сел он после того, как по пьяни сам же ее и избил. Врал всем, что защищал ее, да крайним оказался для поганых ментов. Так врал, что сам же себе и поверил.
…Рядовой Уткин очнулся, когда рядом услышал гортанные голоса. Он осторожно приоткрыл глаза – и точно. Немцы. Прочесывают позиции. А где же наши-то? Лежат наши… Кто-то где-то стонет. Выстрел. Стон прервался. Внезапно Коле Уткину стало жутко. Неужели война закончилась для него? А даже выстрелить не успел. В самом начале его контузило близким разрывом, а потом засыпало землей. Так засыпало, что ногами невозможно шевельнуть. Вот и вся война. И вся жизнь. Коле стало страшно еще и оттого, что он так глупо, так бессмысленно прожил свою небольшую жизнь. Ну что там было-то этой жизни? Три класса закончил, потом мамке помогал, потом устроился на завод и пошел в «фабзайцы». Только-только успел вступить в комсомол и влюбиться – как тут война. Первый бой и последний. Как же он маме в глаза посмотрит, когда вернется? Спросит его мама: «Ну что, Коленька, сколько ты вражин убил?» И что Коля ответит? Покраснеет и отвернется. Не… Так дело не пойдет. Еще не хватало – перед мамой краснеть.
Немцы осторожно шли в сторону рядового Уткина. А тот так же осторожно подтягивал к себе трехлинейку. Лишь бы не попортилась, родимая!
Внезапно из одной воронки встал какой-то боец. Кто это? Присмотревшись, Коля разглядел Сашку Глазунова – хохмача и весельчака, борзого и наглого на предмет добычи еды. Сашка поднял руки и сам осторожно шагнул навстречу к немцам. Те чего-то заклекотали на своем басурманском, осторожно обходя бойца с разных сторон.
Сначала Уткин не понял – что это Сашка делает? Он же всем хвалился своими подвигами и мечтал о разведке, может, он сейчас…
То, что Глазунов сдается в плен, Уткин понял, когда немцы стали тому вязать руки его же ремнем.
– Ах, и сука же ты, – отчаянно прошептал Уткин и рывком подтянул к себе винтовку. Щелкнул затвором – цела, слава богу. Стал целиться в спину предателя. В глазах немного двоилось. Выстрел! Мимо! Коля передернул затвор и сместил прицелочную планку.
А Сашка, волосы которого взметнула пролетевшая пуля, понял, что вертухаи стреляют по нему. Он вдруг взвизгнул как заяц и побежал, огромными прыжками перескакивая через воронки.
Уткин и какой-то немец выстрелили одновременно.
Кто из них попал – никто никогда не узнает. Глазунова швырнуло ударом пули на землю. Он еще был жив и еще слышал короткую перестрелку, закончившуюся хлопком гранаты. Потом он услышал шаги и зажмурился.
– Шайзе… – последнее, что услышал он перед тем, как его мозги обрызгали сырую землю.
Лейтенант Мильх скомандовал остановку. Надо было перебинтовать плечо одному из солдат. Чертовы русские – пока один отвлекает, изображая сдачу в плен, второй стреляет. Хорошо, что не убил никого.
Лейтенант подошел к очередному русскому трупу и брезгливо посмотрел на него. Удивительно. Как он еще был жив такое долгое время? Ноги оторваны – рядом валяются. А ведь стрелял! Мильх сплюнул: «Когда это все закончится? Скорее бы…»
Легкий ветерок шевельнул светлые волосы на мертвой голове русского и скользнул по стальному шлему немца.
Лейтенант повернулся было к своему взводу, и тут его желание внезапно исполнилось.
В нескольких метрах от него пришел в себя еще один Уткин. У России Уткиных много. На этот раз – лейтенант. У него не было никаких мыслей, кроме одной – два огнемета были разбиты во время артобстрела, один высадил струю в подходящую пехоту противника, а один должен был еще отработать. Расчет его погиб, но лейтенант-то жив! Немец топтался около закопанного как-раз в этом месте ФОГа. «Лишь бы сработало! Лишь бы сработало!» – молился про себя лейтенант Уткин. Наконец немец сделал шаг в сторону, и огнеметчик замкнул контакт.
Чудеса случаются. Огнемет не был поврежден, сохранив в своем могучем теле двести литров зажигательной смеси. И провод не перебило стальным дождем горячих осколков. Осколки достались людям.
Огненная струя мгновенно сожгла немца, доплеснувшись чадным пламенем до скучившейся толпы фашистов.
Дикие крики суетящихся факелов развеселили Уткина, и он хрипло захохотал, радуясь пламени, очищающему это избитое поле от нечисти.
– Горите, суки, горите! – встал он на колени и стал грозить им грязным кулаком.
Из такого же пламени его вытаскивали зимой прошлого года, когда зажигательная бомба вспыхнула на чердаке госпиталя.
Крики сгоравших заживо стали для него еженощным кошмаром. А теперь вот – сладостной музыкой.
Потом он сел на землю, достал кисет и, с трудом свернув самокрутку здоровой рукой, закурил. Синий дым махорки смешивался со сладким запахом догорающих тел. Докурив, он потушил зачем-то дотлевающий уголек о подошву сапога. Встал и побрел в сторону своих позиций. Туда, откуда он пришел всего лишь вчера.
* * *
– Это кто там такой умный? – генерал-майор Гаген с интересом смотрел на небольшой лесок, откуда время от времени лупила «Катюша».
Штабные только пожимали плечами. А удивляться было чему. С утра установилась ясная погода. Ни облачка на небе. Немцы этим, естественно, воспользовались. Эскадрильи Люфтваффе начали долбить по окруженным частям восьмой и второй ударной армий и по гвардейцам Гагена. Аэродромы были недалеко – поэтому, пока одни отрабатывали жуткой воющей каруселью по дымящимся остаткам Синявинского леса, другие успевали заправиться и перевооружиться. В редкие минуты отдыха начинала бить артиллерия немцев.
Однако и советские бойцы не молчали. Одна из уцелевших «Катюш» выезжала на одно и то же место и давала залп по немецким позициям. Буквально через минуту на позиции ракетчиков обрушивался смертоносный шквал. Но спустя какое-то время ракетчики снова давали короткий залп. Так продолжалось несколько раз. Взбешенные наглостью русских, немцы обрушили на рощицу удар сразу двух эскадрилий пикирующих бомбардировщиков. В течение часа бомбы перемешивали землю. Когда налет закончился – «Катюша» снова дала залп. И опять с того же места!
Гаген наконец послал автоматчиков к позициям ракетчиков. Через полчаса перед ним стоял растрепанный и слегка ошалевший лейтенант:
– Лейтенант Горошков, – приложил он руку к голове. Потом, обнаружив, что «голова пустая», покраснел. – Ой, извините…
– Ну, рассказывай, – не обратив внимания на уставное нарушение, добродушно сказал Гаген.
– Что рассказывать? – не понял лейтенант.
– Про стрельбы твои рассказывай.
– А… Так это…
От всего дивизиона уцелела лишь одна установка. Зато снарядов осталось – хоть пятой точкой жуй. При таком интенсивном обстреле склад реактивных снарядов – лакомая цель для противника. Ну и решили выпустить по максимуму. А делали так. Заряжали «Катюшу». Подъезжали на точку. Давали залп в нарушение всех инструкций. Машину надо бы глушить и водителю в укрытие бежать. Но залп давали не глуша мотор и тут же – задний ход и сматывались.
– Немцы наверняка не рассчитывали, что мы с одного и того же места бить будем. Мы же обычно меняем диспозиции.
– А по каким точкам били? – спросил командующий корпусом.
Горошков потупился:
– Ну… Сначала отработали по старым координатам. А потом я поправки внес небольшие и по самой Мге стал работать…
– Сам внес? Без приказа…
Лейтенант молча кивнул.
– Кем на гражданке был?
– Студентом мединститута, товарищ-генерал майор, – не поднимая глаз, ответил Горошков. – Педиатром хотел быть…
– А как в артиллеристы занесло?
Вместо ответа тот пожал плечами. У войны хитрые пути. У военкоматов – тем более.
– Представлю к награде. Весь расчет, – кивнул Гаген. Потом обернулся к своим штабистам и коротко сказал: – Учитесь.
Недаром генерал-майора Гагена называли в корпусе Батей, совершенно не обращая внимания на немецкую фамилию. Впрочем, на этот факт никто внимания не обращал. Ни особисты, ни фронт, ни Ставка. Воюет? И пусть воюет. Тем более что воюет хорошо…
Правда, не без проблем. Перед наступлением его корпус, впрочем, как и вторую ударную, перевооружили с винтовок и карабинов на пистолеты-пулеметы. Оружия – не жалели. Старики, женщины, дети наштамповали «папаш» выше крыши, как говорится. Но внезапно возникла совершенно другая проблема. Расход патронов. И ладно бы для интендантов проблема.
Боец поднимается в атаку и строчит что было сил. Оно и понятно – так в атаку легче бежать. Но буквально в конце первого дня наступления выяснилось, что бойцы остаются без патронов. Тыловики не успевают подтаскивать боеприпасы. А короткими и прицельными очередями работать еще не умеем. Стреляем от пуза – не убьем, так напугаем!
Научимся, конечно. Но…
Но поздно не было бы.
* * *
Три дивизии ударили по горловине прорыва с юга и три с севера. Затем Манштейн стал перепахивать Синявинские леса артиллерией и авиацией. Число самолето-вылетов порой достигало семи тысяч в день! Через несколько дней лесистый массив превратился в выжженную металлом пустыню. Тем не менее советские войска продолжали драться и даже атаковать. Корпус генерал-майора Гагена продвинулся дальше всех. Еще бы чуть-чуть – и гвардейцы соединились бы с Невской оперативной группой. Но вот этого «чуть-чуть» – не хватило.
Немцы тоже на месте не сидели – атакуя и контратакуя советскую пехоту. Бывалые ветераны Первой мировой качали головой, сравнивая болота Синявино с Фландрией, Верденом, Ипром. В течение суток одна и та же траншея переходила из рук в руки десятки раз. Земля стала красной от крови. Впрочем… Какая земля… Мостовая из трупов. Хоронить их было некогда, да и некому. Воевали – все. В конце концов котел превратился в слоеный пирог. В роще Круглой сидели в окружении немцы, на Квадратной поляне – русские. Было совершенно непонятно – кто, где и откуда атакует.
Огромная масса ожесточенных людей, убивающих друг друга…
* * *
Остатки роты старшего политрука Рысенкова, вместе с оставшимися в живых огнеметчиками, закрепились около Чертова моста. Сам политрук пытался установить связь с командованием, однако делегаты связи или не возвращались, или возвращались ни с чем. Повсюду были немцы. Странно, но они на какое-то время оставили в покое роту. В один из тихих моментов бойцы наблюдали, как параллельно их траншее – примерно в километре от речки на запад – куда-то прошли немецкие танки и до пятисот человек пехоты. Затем, где-то вдалеке, разгорелся нешуточный бой.
Первой мыслью Рысенкова было желание ударить атакующим немцам в тыл, но он подавил порыв.
Конечно, порой и соломинка верблюжью спину ломит. И полсотни бойцов могут оказаться очень даже нужными в нужный момент. Так сказать, засадный полк.
Но раненых придется бросить здесь. А это – семьдесят человек, из которых не менее половины – тяжелые.
Рысенков прекрасно понимал, что значит эта канонада со всех сторон. Немцы прорвали фронт и окружили их. Через это он уже проходил под Любанью. Необходимо было немедленно двигаться назад и прорывать пока еще непрочное кольцо. Искать выход к своим. С другой стороны – приказа на отступление еще не было. И приказ «два-два-семь» никто не отменял.
Что же делать, как же быть?
Он собрал своих лейтенантов – Кондрашова, Москвичева, Павлова – и обсудил ситуацию.
Все высказались за удержание обороны в районе моста. Особого смысла для немцев в этом мостике не было. Они спокойно могли перебрасывать свои войска по железной дороге, пересекавшей Черную южнее. Но этот мост мог пригодиться нашим, если бы они возобновили наступление. На том и порешили. Лейтенанты уже собирались расходиться по своим обескровленным взводам, когда бойцы привели четверых человек – двух немцев и двух советских бойцов. Причем немцы тащили на себе оружие. У одного в руках был «МГ» и коробка с патронами, у другого – ящик гранат. Немцы были двумя здоровяками, опасливо поглядывающими на измазанные глиной лица красноармейцев. Те в руках держали винтовки наперевес. Держали твердо, несмотря на зачуханный вид – мокрые шинели, растоптанные сапоги, натянутые до бровей пилотки. Обоим на взгляд было не менее пятидесяти.
Немцев немедленно разоружили и связали, а Рысенков стал расспрашивать красноармейцев. Рассказывать начал один, который побойчее, второй только крутил седые усы «под Буденного» и изредка вставлял уточняющие детали.
Солдаты оказались ездовыми, лишившимися транспорта и начальства в один из первых дней окружения.
– Бонбой лошадев убило, – мрачно пояснил усатый. – Начальство сбегло.
Вот они и шарахались по кустам, пытаясь найти своих.
И вот утром…
– Тутошним утром, – мрачное уточнение.
– И вот утром – слышь? – говор немецкий. Глядь-поглядь – эти верзилы идут, машинку несут и ящики каки-то. Ну, мы из кустов – хенды, мол, в хох! Они все и побросали. Я их стрельнуть хотел…
– А что не стрельнул? – спросил политрук.
– Патронов-то у нас пяток осталося. Жальча на их тратиться. А с машинкой мы не умеем. Взяли, значицца, немцы машинку да ящики и потошшыли, куды им сказано было.
– А как они поняли? – без тени улыбки спросил Рысенков.
– Да у Феди больно кулак тяжел, лошади и те приседали. Как даст, так любой присядет!
– Показать? – буркнул Федя.
– У нас лошадей нет.
– А я на фрицах покажу!
– Позже. Продолжайте, товарищ боец!
– Ну и повели их, куды толы зырят.
– И куда глаза глядели?
– Дык куда надо, коль на вас выползли.
– А если бы на немцев?
– Тогда не судьба была бы.
– За языков, отцы, вам спасибо. И за машинку тоже. Поступайте в распоряжение к лейтенанту Москвичеву. До выхода к нашим. Я доложу о вас начальству.
– Не надо! – испугался Федя. – Мы ж нечаянно!
– Идите, бойцы, – на этот раз Рысенков позволил себе улыбнуться.
Допрос немцев был короток. Собственно, они ничего особенного не сказали. Единственное, что нового узнали командиры – то, что против них свежие дивизии, переброшенные из Крыма.
Шлепнули немцев, отведя за мост. А что с ними делать еще? Нянькаться и делиться остатками продуктов? Вот еще…
И вовремя шлепнули. Потому как внезапно началась атака.
Впрочем, что там этой атаки было?
На грунтовке, ведущей к мосту, внезапно появились несколько мотоциклистов и броневик. Подпустили поближе и ухлопали в несколько залпов.
– А вот теперь немцы полезут по-серьезному, – задумчиво сказал лейтенант Павлов, наблюдая местность в бинокль. Вернее, то, что от него осталось – правый окуляр разбило осколком еще во время первого боя.
«Штатный философ» роты, как в шутку его называл Москвичев, оказался прав. Немцы, обнаружив заслон у моста, взялись за них по-взрослому, как говорится.
Долбать начали с воздуха. Как назло, погода установилась ясная. Более-менее ясная, конечно. Циклон проходил, оставляя за собой тыловые перистые и дезертировавшие кучевые облака, сквозь которые пробивалось к земле солнце.
В первый же налет мост был разбит прямым попаданием бомбы. Обломками досок убило серьезного ездового Федю. Судьба, однако. Военная судьба. После первого налета последовал второй, потом третий. Фрицы не жалели бомб. Но на третьем налете появились наши истребители. Они не дали прицельно отбомбиться фрицам – те порскнули в разные стороны, даже не успев войти в пике. Один из «юнкерсов» задымил, с нарастающим ревом падая на землю. Потом второй. А потом на наших ястребков откуда-то из-за рваных облаков упали «мессеры».
Москвичев впервые в жизни видел воздушный бой, разгорающийся над головой. Порой самолеты пролетали так низко, что лейтенанту казалось, что они вот-вот заденут землю. Он едва успевал крутить головой, пытаясь уследить за виражами и бочками. И наши, и немцы стреляли коротко и осторожно, стараясь приблизиться друг к другу на минимальнейшее расстояние. «Юнкерсы» тем временем выстроились поодаль в большой круг, настороженно выжидая финал боя истребителей.
А те клевали друг друга, роняя на землю куски обшивки. Вот задымил один. Наш? Немец? В кутерьме непонятно!
Немец!
А вот и наш задымил…
Одуванчик купола раскрылся в синем небе прямо над Москвичевым. Раскрылся и тут же потух, смятый воздушной волной от пролетевшего рядом «мессера». Маленький черный комочек с ужасающей скоростью понесся к земле и…
Пикирующие бомбардировщики тем временем не выдержали бесцельного кружения и скинули бомбы по старым позициям. Там, где остался командир роты. Одна из бомб почему-то не разорвалась, воткнувшись здоровенной тушей в мягкую землю. А немецкие истребители тем временем сбили еще одного нашего.
Бой закончился так же внезапно, как и начался. На огромных скоростях пронеслись и исчезли и «мессеры», и «яки».
– Два-один, – выдохнул Москвичев. – Проиграли, блин.
– Дурак, что ли? – раздался за спиной голос Павлова.
– А?
– Они нас защитили. Бомбежку сорвали. Понял?
– Действительно… – буркнул Москвичев. – Сам знаю! А все равно – обидно!
Вот так они и воевали, наши летчики. Ценой своих жизней срывая атаки на свою пехоту. Лучше один летчик, чем похороненный под бомбами взвод. Страшная алгебра войны.
Договорить они не успели. Посыльный от Рысенкова передал приказ – «немедленно уходить от моста всей ротой вдоль речки на север…»
Ушли. И правильно сделали.
Потому как минут через двадцать по мосту стала работать фрицевская артиллерия, перепахивая металлом метр за метром землю Приладожья.
Бойцы отходили, бросая все, что казалось ненужным – противогазы, например. Понятно, что это потеря военного имущества. Но так легче идти, когда не тащишь всякую фигню. Лопатки вот не бросали, прикрепляя их на ремне посередке живота, прикрывая тонким железом мужскую силу. Без руки еще можно домой вернуться. И без ноги тоже. А без силы-то как? Кто детей-то после войны делать будет?
Рота отошла метров на двести от моста, спустившись с откоса берега к реке.
– Неплохо тут! – сказал Рысенков, оглядывая мысок, на который спустилась рота.
– Да… – согласился Кондрашов. – Землянки бы отрыть, отлежаться. Люди устали, товарищ старший политрук.
Рысенков бросил взгляд на бойцов. И впрямь устали люди. Тащат на себе раненых, не жрамши толком который день.
– После войны отдохнут. Лейтенант Павлов! Со своим взводом вперед! Вдоль берега. Привалимся на отдых около северной ЛЭП. Оттуда к нашим рванем. Вперед, бойцы!
Павлов подозвал остатки взвода и…
– Товарищ старший политрук, а тут речка петлю делает, мы как бы на западной стороне, получается…
– Вброд, лейтенант, вброд.
Осенью ленинградские речки подсыхают, несмотря на дожди. Поэтому вода доходила лишь до пояса. Это тоже неприятно, но не смертельно.
Внезапно лейтенант Павлов вспомнил, как в детстве играл в солдатиков. Рос он болезненным пацаном, а иногда и просто хитрил, чтобы не ходить в школу. На сахар йодом капал, как его в классе научили. И горло красное, и температура за тридцать семь.
Когда мама уходила на работу, он и начинал играть.
Из книг он строил крепость. Из шашек сооружал танки. На стенах крепости расставлял шахматные фигурки. В атаку шли бочонки лото. Пулял он сжеванными бумажками. В резинку, натянутую на пальцы, вставлял мокрый снаряд и пулял. Иногда резинка срывалась и больно хлопала по пальцам.
Но чаще шашковые танки разваливались, шахматные защитники падали, опрокидывались лотошки…
Когда бой заканчивался – Сережка начинал все сначала, воскрешая своих солдат.
Эх, если бы все войны были такими…
* * *
Высоко, высоко… За белыми облаками ангелы разжигали ежевечерние свечечки. Души поднимались над разорванными ивами. И слова торопливые…
– Вперед!
– А куда там вперед-то? Вверх да ввысь.
И тоскуют души. И песни поют да молятся. Каждая по-своему. И покоя нет, нету покоя над Синявинской гнилой землей. Мерцает невечерний свет. Вздыхает болото волнами. Зачем все это? Никто свою смерть не видит. Не успевает. Успеть бы место для смертушки заметить – а как? Не принять ее нельзя, и принять ее гостем невозможно.
Стон. Стон… Стоннн… Колоколами над изувеченными деревьями.
Впереди идущий боец вдруг остановился и поднял руку.
Стон.
Откуда-то из-под земли.
И опять пошел дождь. Дождь, дождь, дождь. Взвод Павлова занял оборону по кругу вдоль заваленных взрывами блиндажей.
Остальные принялись копать сырую землю. Лопатками и руками. Увы, но откопали только одного бойца. Остальных немецкие снаряды похоронили в блиндажах полевого госпиталя. Молодой пацан разучился говорить – сильнейшая контузия. А жив он остался только потому, что его накрыло бревнами наката. Ударная волна оставила ему чуть-чуть воздуха для жизни. Последний из санинструкторов сильно забеспокоился, увидав у откопанного струйки крови изо рта и ушей. Типичная картина перелома основания черепа.
Не жилец.
Но не оставлять же его тут? Как же можно оставить-то своего? Сделали носилки из шинели и жердей. Кое-как уложили. И отправились снова в путь. Недолгий путь. Метров через сто – лес закончился, превратившись в дымящуюся пустыню переломанных деревьев.
Рысенков подумал и принял решение – ждать ночи и по темноте прорываться дальше.
Но ночь все не шла и не шла. Рота расползлась по воронкам, покуривая в рукав. Тела убитых выкладывали по периметру, прикрываясь ими от осколков. Немецкие тела, русские тела. Какая разница сейчас? Для живых-то?
И высоко-высоко, за холодными облаками, ангелы продолжали зажигать свои желтые фонари.
Кто-нибудь! Погасите луну!
Никто не слышит… Некому… Некогда ангелам слышать. В неярких отблесках заката стерегут они души павших за Родину.
Роты имя им. Батальоны. Полки. Дивизии.
Волховский фронт – святой фронт.
Густой, серый туман молчаливо повис над огромным полем. Туман пах дымом, сгоревшей взрывчаткой, гарью горелого железа и человеческим посмертием.
Поле было искорежено рваным металлом так, что не было ровного места. Воронки, воронки, траншеи, снова воронки. Здесь, на этом поле, знаменитая солдатская примета – «Снаряд в одну воронку не падает» – не работала. В одни и те же воронки падали и падали новые снаряды, новые мины, новые бомбы, снова и снова переворачивая землю, перемешивая ее с останками людей, лошадей, ящиков, гильз, осколков, винтовок. Лишь обугленные палки, когда-то бывшие деревьями, редко торчали из этой мешанины. Торчали молчаливыми горестными обелисками к небу, которое в ужасе спрятало свои глаза за смрадным туманом.
Противогазные трубки извивались мертвыми червями, изорванные осколками лопатки валялись тут и там, россыпи гильз мрачно блестели ровным ковром, ржавели сотнями брошенные винтовки. Из одного заваленного взрывом окопа вертикально вверх торчал изогнутый ствол противотанкового ружья, на котором глубокими шрамами война высекла свои следы. И каски… Расколотые, пробитые, вывернутые наизнанку.
И тела, тела, тела…
Разорванные, простреленные, а иногда внешне целые. В летних выцветших гимнастерках, в серых фуфайках, в грязных полушубках.
И в серо-зеленых мундирах валяются рядом. Получили ту землю, которую им обещали. И сейчас эта земля постепенно переваривает их.
Кажется, что на этом поле нет никакой жизни. Лишь крысы шныряют между телами.
Но проходит секунда, другая – и в тумане слышится чье-то покашливание, постукивание, переругивание. Постепенно, словно кроты из-под земли, появляются – живые. Они снова берут винтовки и пулеметы и снова готовятся начать бой.
Еще несколько мгновений – и туман колышется от свиста первого в этот день летящего снаряда.
День начинается. Продолжается война.
* * *
– А ну – тихо! – толкнул спящего бойца сержант Пономарев.
– А? – встрепенулся тот и моментально получил по каске ладонью.
– Тихо, говорю! Храпишь тут, как немецкий танк. Ползет кто-то, слышишь?
Боец кивнул и облизал губы – воды кругом полно, а пить хочется. Только вот ту воду, которая вокруг, – пить нельзя. Слишком много трупного яда в ней. Прокипятить бы… А как? Вокруг слоеный пирог – немцы, наши, наши, снова немцы. Откроют огонь по дыму все. Так, на всякий случай. Когда был сухой спирт – кипятили воду в котелках и консервных банках. Но она все равно воняла тухлым мясом. А потом и таблетки закончились.
А к огромной воронке, в которой ночевали остатки взвода лейтенанта Кондрашова, и впрямь кто-то полз. Кто? В клочьях тумана не было видно.
– Смотри! – пихнул сержанта судорожно зевавший боец, с лица которого стекала ручейками жидкая грязь. – Вон ползут!
Сержант прицелился. Его «ППШ» был давно разбит, и он подобрал немецкий «маузер» где-то у Черной речки. Хорошая машинка, кстати. Тяжеловатая, но зато перезаряжать ее быстрее, чем «мосинку». У той ручка затвора торчит в сторону, и при перезарядке приходится винтовку опускать вниз, к поясу. А «маузер» хорош тем, что его затвор можно на бегу, не опуская карабин, передергивать. Скорострельность выше. Не намного, конечно, но… Но в бою выигрывает тот, у кого на полсекунды больше времени. Или хотя бы на четверть.
Сержант прицелился…
– Свинарка! – из тумана донесся тихий голос.
Пономарев ругнулся и так же тихо крикнул в ответ:
– Пастух!
Но винтовку не опустил. Пароль паролем, а береженого бог бережет.
Через несколько минут в воронку свалились Москвичев с одним из своих бойцов.
– А… Сержант, – ухмыльнулся в усы лейтенант. – Кондрашов где?
– В соседней воронке – метров тридцать отсюда. Вон в ту сторону, – махнул рыжий замкомвзвода.
– А что не со взводом? – удивился Москвичев.
– А на всех места в одной яме не хватило, – буркнул челябинец. – Что там, на верхах, слышно, товарищ лейтенант? На прорыв когда идем?
Москвичев усмехнулся:
– Пономарев, тебя как мама звала до войны?
– Ко… Хм… Николаем. А что?
– Вот, Пономарев, назвали тебя в честь святого, можно сказать, человека, а ты вопросы не по уставу задаешь. Когда комроты решит – тогда и пойдем на прорыв.
– Так его ж убило, товарищ лейтенант? – подал голос кто-то из бойцов.
– А заместо него у нас Рысенков ныне, понятно? Так, я дальше пошел…
Москвичев перепрыгнул небольшую коричневую лужу на дне воронки и пополз было по откосу, как Пономарев дернул его за ногу:
– Тихо, товарищ лейтенант! Слышите?
В тумане зашевелился разбуженным медведем гул мотора.
– Танки!
– Этого добра еще не хватало, блин! – выругался Пономарев. – Надеюсь, не сюда!
В тумане звуки разносятся во все стороны и очень далеко. Совершенно было непонятно – откуда и куда двигаются танки. И самое главное – чьи они? Оставалось надеяться, что железные твари пройдут мимо. Но грохот постепенно усиливался. Казалось, он надвигается со всех сторон, отражаясь от горизонта и сталкиваясь волнами в единственной точке земного шара – воронке от полутонной бомбы, в которой скорчились десять бойцов, два ефрейтора, один сержант и один лейтенант – обычный стрелковый взвод РККА образца сорок второго года. Впрочем, то же самое ощущали и в соседней воронке – там, где устроился лейтенант Кондрашов со своими ранеными. А моторы взрыкивали, фырчали, ревели, отдаваясь мурашками по коже.
– Сюда ползут, лейтенант, – у Пономарева внезапно сел голос. И было отчего: гранаты-то противотанковые – закончились. И расчеты ПТР – выбиты. Вместе с ружьями. Пехоту, конечно, отсечь можно. Отсечь и положить. А танки? С ними-то что делать?
Пономарев высунулся из воронки, пытаясь разглядеть…
– Идут!
Туман заколыхался, словно мокрое белье в реке. Постепенно стали проявляться силуэты немецких солдат – шли они, не пригибаясь, слегка опустив стволы карабинов и автоматов.
– Как на фотографии, – шепнул Москвичев.
– Что? – не понял сержант.
– Я до войны фотографией увлекался. Вот кладешь фотобумагу в кювету – это такая посудина с проявителем – и на ней постепенно появляются силуэты…
Москвичев говорил нервно, постоянно облизывая уголки губ, покрытые какой-то белесой пленочкой. Его никто не слушал и не слышал, но он говорил, говорил, говорил, потому что ему так было спокойнее. Он говорил сам себе, пытаясь заглушить грохот, лязг и скрип немецких танков, железными ящерами ползущих по изувеченному болоту. Голос его становился все тише и тише, а лязганье гусениц все громче и громче, а ему казалось, что все наоборот – голосом он перекрикивал войну, и та вдруг становилась все меньше, меньше и меньше…
Из тумана высунулись три орудийных хобота – сначала один по центру, затем два по бокам. А за ними и силуэты.
И если немецкие самоходки типа «Штуг-третий» Пономарев узнал, то центральную черную громадину он видел впервые.
Огромная железная хрень медленно приближалась, покачивая хоботом ствола на выбоинах. Время от времени гигант останавливался, и, вслед за ним, останавливались и «штуги» с пехотинцами. Танк, скрипя железом, словно древний ящер, неторопливо оглядывал башней поле боя и вновь дергался вперед, выфыркивая густые клубы сизого дыма.
– Это, млять, что? – сам у себя спросил Пономарев.
Ему никто не ответил. Бойцы отчаянно смотрели на приближающуюся смерть. Капельки пота стекали на мокрые носы, пробегали по небритым, заросшим щетиной щекам.
Все.
Кажется, все.
– Ну что, сержант, помирать будем? – нехорошо ухмыльнулся Москвичев.
Пономарев кивнул в ответ и крикнул своим бойцам:
– Гранаты есть у кого?
Гранаты нашлись. Обычные РГД, которые такому слону – что дробина.
– Связки делайте! Да хоть ремнями, мать твою! Быстрее! Лейтенант, слышь, что скажу…
– Что? – повернулся к сержанту Москвичев.
– Ты давай, по пехоте шмаляй, плотненько так. А по гробине этой из пулемета фигачь. Только пусть пулеметчик вона в ту воронку отползет. Слышь, Ефимов! Ползи в ту воронку! По команде лейтенанта по смотровым щелям лупи, понял?
– Понял, Коль! Ну, ты это… того… Прощевай, если что!
Пулеметчик, толкая широкой грудью жирную грязь, сноровисто пополз в сторону, указанную Пономаревым.
– Зачем это? – не понял Москвичев.
Сержант, принимая две связки гранат от пожилого усатого ездового, пояснил молодому лейтенанту:
– Он по щелям влупит, а вы пехоту к земле прижмете, ну я на расстояние броска и подползу.
– Так…
– Танк его выцеливать начнет. Ну и остановится. А я подползу. Будь спок, командир.
– Коль! Пономарев! А где щели-то у него? – раздался крик Ефимова.
– Разберешься, не маленький! – гаркнул в ответ сержант.
– Его же убьют, сержант, – внезапно схватил за телогрейку побелевший лейтенант.
– Всех убьют. Его убьют. Меня убьют. Тебя убьют. Только некоторых раньше, а других позже. Живи пока, студент!
Челябинец надел каску на рыжую свою шевелюру, ловко выпрыгнул из воронки и, ужом извиваясь, пополз навстречу громыхающей железной скотине.
Это была первая боевая атака русского пехотинца на немецкий танк «Тигр». Держа в руках две связки гранат, наскоро перемотанных кусками колючей проволоки, в изобилии валявшейся по болотам, он полз, шепча про себя странную помесь церковно-славянских молитв, русского мата и красноармейских песен:
– И от тайги до британских, мать твою, морей, Красная Армия, спаси Блаже, душа наша, всех сильней… Так пусть же, блядота ты такая, Красная, сжимая властно, Господи помилуй, свой штык мозолистой…
Три «Тигра» из четырех не дошли до передовой. Не смогли выдержать густой русской грязи и поломались по дороге. Один вот, в сопровождении пехотной роты и взвода самоходок, осторожно полз, куда его бронированные глаза глядят. А куда они глядят? А вот прямо на Пономарева и глядят. И все бы ничего, да не повезло железной кошке. Сержант Пономарев понятия не имел, что перед ним знаменитый «Тигр». Впрочем, знаменитым он еще не стал. Рыжий челябинец понятия не имел про уязвимые места, про толщину брони, про калибр орудия и количество пулеметов. Он даже про командирскую башенку ничего не знал. Да и знать не хотел. Он просто примеривался – надо обязательно попасть связкой из трех противопехотных гранат под гусеницу этой громадины. А если успеет – то и вторую связку туда же засандалить.
Ефимова жалко. И всех жалко. И себя, честно говоря… Стоп! А вот себя жалеть нельзя. Себя пожалеешь – испугаешься, и тогда всем капец. Он залег, притворяясь трупом среди трупов, наблюдая из-под каски, как мертвые тела пережевывает гусеницами танк. Ничего нет на белом свете. Только вот эта гусеница, вминающая в мягкий грунт когда-то живых людей. Крови-то из них совсем уже нет. Стекла уже в речку Черную. Впору ее Красной называть, да…
Немцы идут рядом со своими железяками. Не спеша идут. Изредка постреливая, так, для порядка. Эти пули не страшны Пономареву. Они поверху идут. Ему вообще больше ничего не страшно. Отбоялся уже свое в Мясном Бору. Пусто в душе, пусто в сердце, в голове. Вот она как смертушка-то приходит. А говорят, что вся жизнь перед глазами. Врут. Очевидно – врут. Вся жизнь нынче – вот эта гусеница. На ней уже прилипшие куски земли с травинками видны…
Ну, Ефимов… Что ж ты молчишь-то? Готов я уже!
Густой воздух внезапно лопнул взорвавшимся стеклом. Сначала взрыв – потом уже свист пролетевшего снаряда. Черная земля фонтаном вздернулась вверх. Пехота фрицев немедленно попадала, кто куда – громадные куски земли зависли в воздухе и… И тупым грохотом обрушились на броню железных чудовищ.
Прямым попаданием разнесло на куски одну из самоходок. Пономарев, приоткрыв рот – нет, не от удивления, чтобы ухи не заложило, – смотрел, как кувыркается подкинутый мощным взрывом ствол ее пушки. Вторая немедленно остановилась, качнув своим стволом. Попыталась развернуться, но один снаряд рванул настолько близко, что та нелепо завалилась набок и сползла в дымящуюся воронку. Попыталась дернуться, но еще один снаряд вдарил ей по корме и, грохотнув где-то внутри, разорвал ее на две части.
Здоровенный танк тем временем резко ускорил свой ход, попытавшись развернуться навстречу опасности. Немецкий же офицер вдруг заорал: «Алярм! Алярм!» Фрицы залегли и открыли густой огонь по сторонам, пытаясь сообразить – откуда ведется артобстрел. Несколько – несколько десятков! – пуль немедленно зацвиркали над Пономаревым.
– Бляди вы все! – с чувством выругался сержант, ткнувшись мордой в грязь.
Танк развернулся и…
И еще один разрыв сбил с него ту самую гусеницу и выбил катки. Железный зверь жалобно взревел, скрипнул и гулко выстрелил в ответ, немедленно получив в морду еще один снаряд.
– Ну вот и наша работа пошла! – ухмыльнулся сержант и, выждав, когда первый танкист спрыгнул на землю, метнул первую связку. И словно по команде бойцы за его спиной наконец открыли свой огонь.
Как выяснилось позже – чудеса на войне случаются.
Экспериментальный немецкий танк, танк, которых еще не появлялось на фронте, пополз проверяться в боевых условиях приладожских болот. Додавливать окруженные советские войска, ага. И нарвался на батарею стодвадцатидвухмиллиметровых орудий, застрявших без транспорта на южной оконечности «Электропросеки» – северной линии ЛЭП. И положили бы батарейцев немецкие пехотинцы, кабы не заблудившаяся к месту стрелковая рота политрука Рысенкова.
Это все выяснили бойцы и артиллеристы, когда весело и нервно обкуривали и обсуждали скоротечный бой – пятнадцать минут всего! – около дымящегося трупа железного чудовища.
– Прямо Змей Горыныч! – дивился кто-то дыму, клубящемуся из ствола орудия вонючей чернотой.
– Тигра, как есть тигра. Я дома на тигров ходил – тоже крадется. Главное – тебе первому его увидеть, а то…
– Да где ты тигров-то видал, аника-воин? В зоопарке, ли чо?
– Дык я с Уссурийска, хаживал на тигру, бывало!
– А ну! Отойти всем! – к махине спешил политрук Рысенков с артиллерийским капитаном. – Рванет, не дай боже!
Рвануть скотина могла. Напоследок, так сказать. По крайней мере, продолжала дымить изо всех щелей, как ломаный утюг. Лениво, правда.
Пехота и артиллеристы отошли подальше от стальной фашистской скотины.
– Москвичев! Кондрашов! Ко мне! – скомандовал Рысенков.
– Товарищ…
– Капитан Непийвода, – кивнул на артиллериста политрук. – Стоптали бы вас, кабы не его орудия.
Кондрашов кивнул. А Москвичев растер по лицу грязь и… И тоже кивнул.
– Что это за хренотень? Знаете? – показал подбородком на дымящийся танк артиллерист.
– Откуда? – удивились одновременно лейтенанты.
– Вот и я говорю, товарищ старший политрук. Экспериментальная техника. Необходимо доставить сведения в штаб фронта о… об этом. Немцы, несомненно, попытаются эвакуировать танк. Нужно держать оборону.
– Понимаю, товарищ капитан, – согласно кивнул Рысенков. – Только вот что… Там в танке должно быть руководство по эксплуатации.
– Думаете, немцы такие идиоты? Посылать в бой экспериментальный экземпляр с полным руководством? – удивился Непийвода.
– Не думаю. Знаю. Не первый день на фронте. И не первый раз в окружении. Мы под Любанью, в мае где-то, немецкого обер-лейтенанта в плен взяли. Так у него в бумагах был приказ о запрете весенней охоты на зайцев, подписанный гебитскомиссаром.
– И что? – поинтересовался Москвичев.
– Приказ в санбат отдали. На подтирку раненым. Поносили они здорово. Вместе с другими бумагами. А лейтенанта того… Ну… В воронке его притопили, после расстрела. Так что – немцы – они идиоты. Проверить надо машинку. Москвичев!
– Я! – лейтенант поскользнулся, но выпрямился.
– Бойцов сколько во взводе осталось?
– Шестеро, товарищ старший политрук!
– Ну, тогда готовься к прорыву. Сейчас обыщем хм… танкетку – если документы какие есть – донеси любой ценой. Понял?
– Так точно!
– Кондрашов!
– Я!
– Обеспечь взвод Кондрашова боеприпасами и… И с танком разберись. Только быстро!
– Есть!
Когда лейтенанты побежали выполнять приказ, Рысенков спросил капитана:
– Курить есть что? А то жрать хочется так, что переночевать негде.
Вместо ответа Непийвода вздохнул и посмотрел на небо:
– Туман расходится. Фрицы сейчас в атаку пойдут… Хрень свою отбивать… А жрать нечего. Два десятка снарядов только.
– Ничего. Поделимся. Мои бойцы уже немчиков пошерстили по карманам.
Артиллерист поморщился.
– Ну не хочешь – не будем делиться! – развел руками Рысенков.
– Пойдем – посмотрим…
…Когда туман окончательно рассеялся, семь человек во главе с лейтенантом Москвичевым отправились в сторону деревни Гайтолово, где должен был находиться штаб Второго Гвардейского корпуса генерал-майора Гагена. Не факт, конечно, что он там находился…
Они несли с собой толстенный том «Руководства по эксплуатации» танка «Тигр».
Взвод Кондрашова улегся боевым охранением вокруг батареи капитана со смешной фамилией. Непийвода, а пей пиво. В нем еще никто не утонул, ага. Больше всех бегал и матерился сержант Пономарев, которого смерть сегодня обошла кривым взглядом два раза – второй раз, когда он лазал в вонючий люк немецкого танка за какими-то бумагами. Найти их было невозможно сложно. Но он нашел! Зряшно ему, что ли, сержанта дали?
Взвод Павлова с приданными ему «приблудами», как выражался Рысенков, занял круговую оборону вокруг «Тигра». А хрен его знает – откуда фрицы атакуют. А они непременно атакуют…
* * *
Он вытер сапоги о подножку «эмки», прежде чем забраться в нее.
Как ординарец ни старался, а смысла не было – глины было столько, что через пару шагов блеск хромовых сапог моментально покрывался коричневой грязью.
Вот и сейчас – пришлось несколько раз скребануть подошвой по подножке «эмки», прежде чем счистить с подошв налипшую землю.
Кирилл Афанасьевич мрачно смотрел на размытую дождями и разбитую снарядами дорогу. И это не тучи, не грязь Волховского фронта раздражали его. Он понимал, что операция деблокирования Ленинграда – провалилась. Он понимал, как понимали это и офицеры штаба фронта. Невесть откуда взявшийся Манштейн просто невероятной массой войск сначала замедлил наступление советской ударной группы, а затем и вовсе отрезал ее от основных частей фронта.
Сценарий повторялся. Полгода назад Вторая Ударная завязла под Любанью и попала в мешок. И вот опять.
А кто будет отвечать за провал операции, за понесенные потери? Он и будет отвечать – Кирилл Афанасьевич Мерецков, генерал армии.
Ответит ли? Может быть, опять пронесет мимо?
Один раз «хитрый ярославец», как назвал его Хрущев, уже глядел в глаза смерти. Нет, это было не на фронте.
Смерть смотрела пистолетным зрачком из глаз следователя в июне сорок первого года. Тогда его и арестовали. После показаний Павлова арестовали. Кирилл Афанасьевич читал их. Павлов, этот веселый крепыш, с которым они тогда выпили немало, все запомнил и все выложил на допросах и на суде:
«Председательствующий. 21 июля 1941 г. вы говорите:
«Поддерживая все время с Мерецковым постоянную связь, последний в неоднократных беседах со мной систематически высказывал свои пораженческие настроения, доказывал неизбежность поражения Красной армии в предстоящей войне с немцами. С момента начала военных действий Германии на Западе Мерецков говорил, что сейчас немцам не до нас, но в случае нападения их на Советский Союз и победы германской армии хуже нам от этого не будет».
Такой разговор у вас с Мерецковым был?
Подсудимый. Да, такой разговор у меня с ним был. Этот разговор происходил у меня с ним в январе месяце 1940 года в Райволе.
Председательствующий. Кому это «нам хуже не будет»?
Подсудимый. Я понял его, что мне и ему.
Председательствующий. Вы соглашались с ним?
Подсудимый. Я не возражал ему, так как этот разговор происходил во время выпивки. В этом я виноват».
Его могли арестовать еще после Испании. На него тогда дали показания сорок человек. Но… но ареста не было. Его не было и в финскую войну. Ленинградский округ, которым Мерецков тогда командовал, не смог сломить линию Маннергейма. Пришлось – вместо северного Халхин-Гола – разворачивать полноценные боевые действия. Только в итоге – не победитель японцев Жуков стал начальником Генерального Штаба, а он – Мерецков. Под его началом и разрабатывали план развертывания Красной армии к лету сорок первого.
Арестовали его летом. После тех самых показаний Павлова, командующего провалившимся Западным фронтом. Северо-Западный – где главкомом был Ворошилов – устоял, медленно отходя к Ленинграду. Юго-Западный – где Кирпоносом командовал Буденный – тоже. А вот Западный – рухнул.
Рухнул и Кирилл Афанасьевич. До сентября рухнул в подвал Лубянки. И лишь тяжелые слова Сталина: «Как вы себя чувствуете, товарищ Мерецков?» – вернули его к жизни.
И был Волховский фронт. Главная цель этого фронта, главная и основная задача – деблокирование Ленинграда. Он старался. Он старался изо всех сил.
Красивая была операция по отсечению противника в Шлиссельбургско-Синявинском выступе. Неожиданный удар в подбрюшье группе армий «Север» – и победа! Увы. Вторая Ударная не смогла дойти до Любани, застряв в болотах. А тут еще этот Власов…
Мерецкову тогда повезло. В самый разгар операции Волховский фронт был ликвидирован. Его превратили в Волховскую оперативную группировку Ленинградского фронта. Увы. Ставка тогда ошиблась. Бывшего командующего фронтом отправили тогда командовать тридцать третьей армией. На фронт – Западный. Впрочем, он сначала должен был быть заместителем Жукова, но сам напросился на армию. Подальше от начальства.
Прокомандовал недолго. Всего полтора месяца.
В эти самые полтора месяца и случилось страшное.
Генерал Хозин, командующий Ленинградским фронтом, не смог нормально руководить из окруженного города бывшим Волховским. Пришлось спасать положение и возвращать Мерецкова обратно.
Но было уже поздно. Кольцо захлопнулось, и Власов сдался в плен.
И вот… Опять…
Снова Вторая Ударная, на этот раз под командованием генерал-лейтенанта Клыкова, в окружении. На этот раз – не одна. С Восьмой армией генерал-майора Старикова и Четвертым гвардейским корпусом под командованием…
А еще там, в кольце, замкнутом Манштейном, – командует гвардейцами генерал-майор Гаген.
Немец.
Если он попадет в плен, фашисты сделают все возможное, чтобы еще один генерал – тем более немец! – был выставлен перебежчиком.
Тогда Мерецкову прощения больше не будет.
Никогда.
Внезапно тряска под колесами «эмки» прекратилась.
– Что такое? – удивился Кирилл Афанасьевич.
«Зубодробилками» называли дороги Приладожья бойцы. Почему? А потому что зубы от тряски выбивало порой…
– А это саперы наши постарались! – повернулся к комфронта командарм Стариков. – Полковник Германович со своим начштаба Софроновым. Раньше ведь как? Просто на грунт жердины бросали. А теперь? А теперь под настил, – продолжил Стариков, – подсыпается грунт. Ложась на него, жерди уже не вибрируют. Если теперь покрыть настил хотя бы тонким слоем гравия с землей, то тряска исчезнет, причем значительно возрастет скорость передвижения.
– Молодцы! А это – тоже работа инженеров? – Мерецков кивнул на тридцатиметровую вышку, возвышавшуюся над штабом армии, к которому подъезжал небольшой – всего три машины – его кортеж.
– Нет, это предложили операторы и артиллеристы, а построили, конечно, инженеры. В хорошую погоду с нее просматривается почти вся местность до Синявина. Мы ее используем для наблюдения за полем боя, корректировки артиллерийского огня и авиационных ударов. Правда, туман и лесные пожары дальность наблюдения снижают…
За разговорами вышли из машины.
Мерецков внезапно остановился и посмотрел на вышку:
– И не бомбят?
– Не без этого, – серьезно ответил Стариков. – Но пока стоит.
Комфронта неуклюже, что было понятно при его комплекции, повернулся к адъютанту:
– Наградные листы на инженеров подготовь. А мы пока хозяйство Старикова посмотрим.
И смотрел. Мерецков добрался и до переднего края, за что всегда ругал своих подчиненных. Не дело командарма и даже комдива по траншеям ползать. Что там можно увидеть? Командующему нужна целостная, объективная картина, а не кусочки поля боя из окопов.
Но Кирилл Афанасьевич не боялся смерти от пули на передовой. Он другого боялся. Поэтому еще до отъезда в войска приказал со Ставкой его не соединять. И даже обрадовался, когда, вернувшись с поля боя, увидел свою «эмку» догоравшей после прямого попадания немецкого снаряда.
В блиндаже он первым делом подписал приказ о снятии генерал-майора Гагена, Николая Александровича, с должности командующего Четвертым гвардейским корпусом. Приказ был продатирован первым сентября. Никто на эту деталь не обратил внимания. Не до этого было. Надо было думать – как войска из «мешка» выводить.
Ставка приказа на отвод войск не давала.
Там еще не знали об окружении. И Ленинград еще не знал.
– Итак, товарищи, сегодня у нас двадцать пятое сентября…
Голос командующего прервал близкий разрыв снаряда. С потолка командирского КП посыпалась земля, которую тут же стряхнули с карт адъютанты.
* * *
– Лес кокой странный, да, товарищ лейтенант? – устало перемешивая глину сапогами, спросил боец Москвичева.
– Кокой… – передразнил бойца лейтенант. – Вологодской, что ли?
– Горьковской, – вздохнул в ответ боец.
Москвичев вдруг споткнулся, зацепившись полой шинели за что-то непонятное. Приглядевшись, понял – кусок пережеванной взрывом колючки вцепился зубцами в мокрую ткань.
– А вы полы-то подберите и зацепите за ремень, – посоветовал лейтенанту второй боец.
Москвичев кивнул, помедлил и сделал по совету бойца. Шагать и впрямь стало легче. Он шмыгнул носом, утерев просыревшим рукавом отросшие усы, и обогнал взвод.
Взвод… Три бойца и он – комвзвода. Остальные там остались. На передовой. Вот и шагают четыре пары сапог по исковерканной земле, обходя воронки да перепрыгивая через траншеи.
Время от времени машинально пригибались, а то и падали в жидкую грязь под серым ситом дождя.
Рысенков отправил лейтенанта с бумагами, найденными в немецком тяжелом танке, на прорыв. Делов-то! Пройти три километра да сдать эти бумаги – два толстенных тома – командованию. А рота? А рота осталась держать оборону вместе с артиллеристами.
Отчего-то Москвичеву было очень стыдно. Будто сбежал он. Но стыд стыдом, а приказ приказом. Идти – надо. Вот и шел, глядя по сторонам и под ноги.
Нет. Не мины.
Люди.
До самой стены тумана, вон до того дерева, на переворочанной земле сотнями лежали вперемешку – люди. Русские люди и немецкие тоже. Несколько дней – а может быть, и часов? – назад – здесь схлестнулись в рукопашной враги, убивая друг друга. И серый дождь над шинелями немецкого покроя и сибирскими ватниками.
Сколько их здесь?
Время от времени над полем смерти пролетает новым богом смерти очередной снаряд и взрывается где-то там – на границе тумана – между тьмой и светом. Чей это был снаряд?
Целых тел практически не попадается. Слишком долго тут идет война. Слишком много стального града упало в человеческое месиво. И падает, падает еще.
Падает и Москвичев, падают и его бойцы.
На земле, в маленьких ямках плещется под каплями дождя скисшая кровь. И Москвичев тыкается в нее носом – потому как хочется жить.
Иногда раздается – то там, то тут – стон. Первое время бойцы, да и сам лейтенант, думали было бросаться на стоны, но…
Приказ.
Четыре волка, крадущиеся по кладбищу.
Не слышать. Не видеть. Красться. Слышать и видеть только опасность.
Упасть! Свист! Успел! Взрыв! На поясницу «что-то» упало. Стряхнуть «что-то» со спины. Подняться и шагать дальше, обтирая от крови руку о грязные галифе. Не от своей крови. От чужой, упавшей на тебя с неба этим самым «что-то». Куском чего и кого «это» было?
В конце концов стон слышен прямо перед бойцами и Москвичевым. Обойти воронку? Опять близкий разрыв и взвод – четыре человека – прыгает в нее. А там сидит уже один.
Немец.
Инстинктивно бойцы хватают ППШ, но…
Молодой такой парнишка. Видно по верхней половине лица. По голубым глазам, мучительно безумным. По светлым волосам, липко распластавшимся по мокрому лбу.
Нижней половины лица – нет.
Кровавая каша, в которой торчат белым фарфором острые осколки зубов и болтается длинный язык, с которого капают красные капли.
Немец тяжело дышит, руки его сжимают грязь, так что она сочится между пальцев. Он что-то пытается сказать, но из груди его – лишь мычание. Утробное такое.
Лейтенант закрыл глаза, чтобы не видеть.
Вот она – смерть. Прямо перед тобой сидит. Сидит и капает кровью на грудь сама себе. Щелкнул сухой выстрел. Такой незаметный на фоне канонады. Из аккуратной дырочки на немецком лбу – потекла черная кровь. Немец замер. А грязь все еще сочилась сквозь сжатые кулаки.
«Горьковской» спрятал трофейный «парабеллум» в карман шинели.
– Идем, идем. Да. Идем, – тоскливо кивнул Москвичев, пряча глаза от внимательных взглядов бойцов.
Война…
«Война никогда не заканчивается», – вдруг понял лейтенант. Разве может она закончиться? Нет. Будет Победа. Она будет. Обязательно будет. Будет же, правда?
Но этот немец… Это поле… Это – все? Разве это все закончится? Как это все забыть? Как потом любить и рожать?
«С нее никто никогда не вернется, – вдруг ясно, с острой тоской, понял лейтенант. – Даже если она зацепила тебя самым краем – ты больше не вернешься. Ты уже обожжен ей навечно. ОбожжЁн и обОжен. Отныне – она живет в тебе».
Он вдруг остановился и стал смотреть в низкое небо, с которого, целясь прямо в глаза, неслись капли сентябрьского дождя. И пусть там где-то чего-то рвется – снаряды, мины, неважно – важны вот эти самые капли, падающие в еще живые глаза.
– Лейтенант! Лейтенант! – дернули его вдруг за рукав. – Землянка там целая! Мотри!
И впрямь. Землянка. Среди обрубков деревьев четко виднелся разверстый черный зев.
– Есть там кто? – спросил вполголоса Москвичев, возвращаясь на землю.
– Не-а, проверили уже, может, пожрем чего?
Землянка была суха, просторна и пуста. Только на одной из нар валялась какая-то накидка.
– Опочки! – удивился «горьковской». – Генеральскоя!
На кожаном плаще и впрямь мрачно темнели генеральские звезды защитного цвета. Однако! Оказывается, на командный пункт чего-то нарвались… То ли армии, то ли корпуса.
Только почему тут пусто?
* * *
Генерал Гаген лежал в воронке уже сутки, ныряя в черно-коричневую жижу с головой. Он нырял, задерживая дыхание, когда слышал рядом знакомые звуки родного языка.
Сдаваться он не собирался. Он не какой-то там Власов. Он – Гаген. Он – русский генерал немецкого происхождения. Он, между прочим, присягу давал. Впрочем, Власов тоже давал присягу. И что?
Нет, Гаген сдаваться не собирался. И без толку бросаться с пистолетом и гранатой на бегающих, а порой и ползающих гитлеровцев тоже не собирался. Потому как он важен для страны именно как командующий корпусом, гвардейским, между прочим. Важен как генерал.
Поэтому и нырял в вонючую жижу, притворяясь трупом. И это не трусость. Это – рациональное и практическое – вполне себе немецкое! – понимание того, что он, генерал-майор, просто не может позволить себе погибнуть, после того как Советская Россия вложила в него столько сил. Он обязан вернуть их Родине сполна.
А нырять… Этому он еще в Первую империалистическую научился. Немцы, кстати, тогда посильнее были. Кайзеровские немцы, в смысле. Два фронта держали и еще умудрялись наступать то там, то тут.
Только вот не надо делать вывод, что РККА образца сорок первого слабее царской армии образца четырнадцатого.
Тогда мы еле-еле держали фронт против австро-венгров, турок да части рейхсвера.
А сейчас? Тут тебе и немцы, и австрийцы, и венгры, и румыны, и итальянцы. Да еще финны. Турок, правда, нет – и то хорошо. Зато есть – французы, норвежцы, датчане, голландцы, фламандцы, эстонцы, латыши, испанцы и прочая сволочь. А на заводах еще и поляки с чехами тыл Гитлеру обеспечивают. Вот как такую силищу сломать?
Как-то надо… И чтобы сломать – надо выжить. Главное на войне – это не убить самому, а выжить. Тогда сможешь убить.
Фрицы же словно сговорились. Шастали туда-сюда мимо воронки, в которой изображал убитого Гаген.
Сначала он прислушивался к их разговорам, но ничего особенного не слышал. Только немецкий мат, злые шуточки да команды фельдфебелей. Время от времени вспыхивала недалеко стрельба, Гаген было напрягался, ожидая того, что вот-вот ударят наши и можно будет выбраться наконец, но стрельба так же быстро затихала, а потом снова, уже в другом месте, возникала с новой силой.
Даже ночью покоя не было – война тут не останавливалась ни на минуту. Какой-то гребаный ракетчик, расположившийся совсем рядом, запускал шипящие ракеты одну за другой, даже не дожидаясь, когда потухнет предыдущая.
Гаген был упрям, как все немцы, поэтому еще и оставался жив, не собираясь рисковать собой. Ну и военная фортуна к нему не поворачивалась задом. Впрочем, с фортуной надо как с другими женщинами: если она отвернулась – надо нагибать ее и пользовать от души. Иначе – обидится.
Опять… Опять голоса. На этот раз они приближаются с запада. И, похоже, направляются именно к этой воронке. Так… Патроны, может, и отсырели – проверить и почистить свой «ТТ» никакой возможности у Гагена не было. Но лимоночке-то что будет? Умирать нельзя, да. Но лучше смерть, чем плен. Что такое немецкий плен – бывший штабс-капитан прекрасно помнил.
Голоса приближались.
Что они говорили – было непонятно. Дождь усилился и барабанил так, что свое дыхание было не слышно.
Ладно, сволочи…
Приближайтесь.
Сейчас вы узнаете, как умеют умирать русские генералы немецкого происхождения.
* * *
– Кажись, уже подходим, товарищ лейтенант!
Лес был так измолочен артиллерией обеих армий, что больше казался похожим на лунный или даже марсианский пейзаж. Но все-таки это был лес. А вот теперь впереди расстилалось небольшое поле. Ну как небольшое? Метров пятьсот в ширину. И его надо как-то пересекать. Что такое пять сотен метров в мирное время? Пять минут прогулочным шагом. А на войне? Одна секунда между жизнью и смертью. И если тебя здесь убьют – никто даже не похоронит. Некому. Тут убивать-то не успевают, когда ж хоронить-то?
Одно хорошо – дождь. Льет как из ведра. Идти, конечно, тяжело. Но зато завеса дождя прикрывает тебя от пулеметчиков и снайперов. Причем от всех пулеметчиков и снайперов. И наших, и фрицевских. Поди разбери, кто там бредет, утопая по уши в грязи?
Но идти – надо.
Ну и пошли. Где ползком, где перебежками. Как бы до наших добраться? И главное – понять, где они, наши-то?
Слышно, что где-то вспыхивают перестрелки – то там, то тут – но…
Тише идешь – дальше придешь.
Перед огромной воронкой от авиабомбы пришлось упасть мордой в грязь. Кто-то решил обстрелять поле – и пара снарядов шлепнулась в грязь рядом с отделением Москвичева. Повезло тем, что первый не взорвался, зашипев белым паром. Поэтому и успели упасть. Второй накрыл комьями жидкой грязи. Осколки куда-то унеслись в разные стороны.
– Вперед! – скомандовал лейтенант.
И поползли было дальше, но из этой самой воронки вдруг послышался спокойный, негромкий, но очень уверенный голос:
– Стой, кто идет?
Москвичев тормознул бойцов, махнув рукой. А потом, лежа на пузе и приподняв голову, сипло крикнул в ответ:
– А ты кто такой?
– Назовите себя! – голос стал требовательнее и суше.
– Лейтенант Москвичев, тысяча триста двадцать седьмой стрелковый полк…
Из воронки выполз невероятно грязный человек в форме… А хрен его знает в какой форме.
– Я генерал-майор Гаген.
– Ахренеть! – ошарашенно сказал кто-то из бойцов.
– Документы предъявите, товарищ генерал-майор!
Один лежащий человек протянул другому лежащему человек удостоверение, замазанное в волховской грязи.
Несколько секунд Москвичев смотрел на фотографию, читал каллиграфические буквы надписей и подписей.
А вот так бывает, что лейтенант у генерала документы проверяет. Это война – здесь бывает все.
– Товарищ генерал-майор, извините… – Москвичев начал было подниматься, но Гаген движением руки остановил его:
– Лежите, лейтенант. И ваши документы покажите!
Москвичев показал свои. Только после этого Гаген обратно зажал усики чеки у «эфки».
– Куда идете? – спросил Гаген.
– Выполняем приказ, товарищ генерал-майор. Временно исполняющий обязанности командира роты политрук Рысенков приказал доставить захваченные у гитлеровцев документы в штаб фронта. Вот, посмотрите!
– Приказал? Доставляйте. А смотреть я не буду. Приказано товарищу Мерецкову доставить? Вот ему и доставляй.
И шмыгнул носом.
Гулко бахнула мина где-то в дождливой мороси. Опять ткнулись мордой в грязь. Полежали.
– Но, товарищ генерал-майор… А вы?
– А я временно прикомандировываю сам себя в состав взвода лейтенанта Москвичева. Или тебе письменный приказ нужен? Извини, у меня ни стенографистки, ни печати нет под рукой. Командуй, лейтенант!
Москвичев несколько смутился. Командовать генералами ему еще не приходилось.
– Но по званию-то…
– Лейтенант, тебя учили командовать взводом? Вот и командуй. Я когда-то тоже так начинал. А теперь разучился. Теперь мне меньше чем дивизию не подавай. Так что давай, работай, лейтенант.
Пришлось взять себя в руки:
– Тогда, товарищ генерал-майор, вот… Вещмешок мой возьмите. Я впереди пойду… поползу, то есть. Два бойца по краям вас прикроют. Третий – тыл прикроет. А вы – в центре. Только вы это… Плащ-то свой возьмите тоже.
– Или так, – покладисто согласился Гаген. – А за плащ – отдельное спасибо.
И поползли. А что? Не лежать же тут до морковкиного заговенья, как выразился боец из города Горького. Кстати, как у него фамилия?
* * *
Мерецков упрямо оставался на КП дивизии, не обращая внимания на артобстрелы. Фрицы иногда так наглели, что подбирались на расстояние минометного залпа. Пока их отбрасывали, но был и случай, что гитлеровцы почти прорвались к штабу. Кирилл Афанасьевич уже нервно сжимал рукоятку пистолета и облизывал сухие губы, готовясь к бою. К последнему в своей жизни бою.
Но немцев отбили.
А жаль. Лучше было бы погибнуть в бою, чем вернуться подследственным на Лубянку. А он вернется. Он опять провалил операцию. Что бы ни говорили потом кабинетные историки, но сейчас-то виноват он – Мерецков. А кто еще? Не бойцы же, которым выдали на руки перед наступлением пистолеты-пулеметы Шпагина, в просторечии «папаши». И три-четыре боекомплекта патронов на каждого – бери, сколько сможешь. И брали. Только в первой же атаке высаживали – ВСЕ патроны. Почему? Ну, если вы ходили в атаку, то поймете, почему непрерывно строчащий ППШ успокаивает душу. Диск за минуту высаживали. От страха. А в диске семьдесят один патрон.
Вот Мерецков и ждал, и ждал, и ждал случайного снаряда, но те все время падали мимо. Бойцы второй ударной, четвертого гвардейского и восьмого стрелкового все еще выходили из окружения, а это значит, что он должен оставаться на командном посту именно здесь, почти на передовой. А Ставка все еще не знает, что войска выходят. Делегатам связи из штаба фронта он только кивал головой. Генштаб, которым Мерецков руководил всего лишь два года назад, требовал отчета, но Кирилл Афанасьевич не мог дать им ответ.
Ему нечего было отвечать, кроме…
Он бы сам себя расстрелял и был бы прав.
Но…
Не все еще потеряно. Не все.
Промозглый ветер Балтики и Ладоги внезапно ворвался в блиндаж.
– Товарищ генерал-лейтенант! Там это…
Мерецков грузно повернулся на голос. На посиневшем, с красными пятнышками, носу адъютанта висела мутноватая сопливая капля.
– Что это, полковник?
– Там это!
– Да что именно? – повысил голос комфронта.
Полковник шмыгнул носом, ровно мальчишка:
– Это… Того…
Мерецков потерял терпение и вышел из блиндажа.
* * *
Поле перешли без особых приключений. Какие там могут быть приключения, когда ползешь по сантиметру мордой в грязь, замирая при любом близком разрыве или пулеметной очереди!
Москвичев никогда не думал, что в мокром тумане так красивы пулеметные очереди, огненными строчками прошивающие воздух.
Вот ты лежишь, утопая в грязи, и шмыгаешь носом, чтобы эта самая грязь в нос не попала. Иначе – захлебнешься. И смотришь перед собой, стараясь не поднимать голову. Впереди – серая промозглая хмарь, через которую несутся навстречу друг другу длинными тире разноцветные смертельные черточки.
И вот стоит тебе приподнять голову – все. Конец всему. Иногда даже хочется встать и пусть все закончится. Пусть они порвут тебя, но лишь бы скорее все закончилось.
И сам себе: «Лежать, сука! Ползи, скотина! Работай давай, работай!»
Особенно страшен звук…
Нет, не звук.
Щемящее шипение горячей пули, упавшей рядом с тобой.
Она могла остыть в твоей крови, но так получилось – кто уж там распорядился? Ангелы-хранители или его величество математическая вероятность? – она зашипела, поднимая струйку пара из лужицы, скопившейся в маленьком следу чьего-то ботинка.
Наконец из тумана показался лесок.
Что там встретит лейтенанта Москвичева и его взвод? А никто ответить не может. Надо просто ползти.
До леска оставалось уже буквально пара десятков метров, когда фрицы зачем-то решили обстрелять минами видимое и не видимое ими пространство. Одна за другой железные хреновины то взрывались, поднимая фонтаны жидкой земли, то просто тонули в ней.
Москвичев не выдержал в какой-то момент, чуть приподнялся, оглянувшись – как там бойцы и генерал? – и крикнул:
– За мной!
Одним рывком, чего бы и нет? Осталось-то – рукой подать! И бойцы, а вместе с ними и Гаген, послушно дернулись за командиром. Буквально пару шагов до спасительного леска оставалось, когда вдруг что-то лопнуло на бедре у лейтенанта и нога перестала слушаться, он было упал. Потом чуть приподнялся, сделал еще шаг и снова упал. Больно не было. Просто нога одеревенела.
Его подхватили под руки бойцы и затащили в лес. А потом стащили с лейтенанта штаны, осматривая окровавленное бедро.
Оно было исполосовано стеклянными осколками поясной фляжки. Некоторые так и торчали из ноги.
Москвичев очень долго ругался плохими словами, когда Гаген своими ручищами вытаскивал эти осколки, а потом бинтовал их, разорвав индпакет. Ругался лейтенант не на генерал-майора, а вообще. Так часто мужчины ругаются. Не на кого-то конкретно, а вообще. На жизнь, что ли?
Потом Гаген снял с себя многострадальный свой плащ, бойцы уложили на него раненого своего лейтенанта Москвичева и вчетвером потащили его дальше. Куда-то на восток.
* * *
– Генерал-майор Гаген из окружения вышел. Управление корпусом потерял. Поставленные задачи не выполнил. Цели не добился.
Упрямый, набычившийся Гаген стоял, смотря исподлобья на Мерецкова. С плаща его стекала под струями дождя кровь потерявшего сознание того лейтенантика, которого утащили в санбат, как только взвод генерала добрался до линии фронта.
Комкор Гаген ждал чего угодно. Трибунала. Пули в лоб. Чего угодно. Но только не внезапного порыва командующего фронтом, обнявшего Гагена при всех.
Генерал-майор снял вещмещок и протянул его генерал-лейтенанту. Тот было протянул руку, но в этот момент подошел полковник и громко, так что Гаген услышал, шепнул:
– Кирилл Афанасьевич, там опять Ставка!
Мерецков помрачнел, но кивнул:
– Передайте, что я сейчас подойду.
«Да, подойти надо. Рано или поздно – надо. И пусть что хотят, то и делают. Не справился. Виноват. Готов понести ответственность».
– Что у вас, генерал-майор?
Гаген, держа в руках вещмешок Москвичева, ответил просто:
– Посмотрите сами…
Через несколько часов последние резервы Волховского фронта пробили коридор к окруженным частям ударной группировки. Коридор узкий, простреливаемый насквозь. Но через этот коридор артиллерийские тягачи умудрились вытащить из трясины болот новейший тяжелый немецкий танк «Тигр». Тяжелый… Тяжеленный! И почти неповрежденный.
Как они это сделали?
Неважно, главное, что сделали.
А через полгода эти же бойцы все-таки прорвут блокаду. А еще через полтора – окончательно снимут ее.
И останется от немцев лишь огромное кладбище во Мге, да следы от осколков на телах бойцов и постаментах под конями Клодта.
И еще изувеченная земля под Синявинскими высотами.
Но это будет потом, а пока…
А пока три бойца, оставшихся так и неизвестными, жадно едят гречневую кашу с прожилками тушенки, а лейтенанта Москвичева оперируют на столе, а генерал-майор Гаген устало спит на лавке, а комфронта Мерецков докладывает в Ставку о срыве немецкого наступления на Ленинград, что, собственно говоря, истине не противоречит.
Потерпите, ленинградцы!
Мы еще вернемся! Мы сможем, хотя и не сразу…
Но будет и над нашей страной утро.
Утро Победы.
Мы – обещаем.
Лейтенанты, майоры, генералы, рядовые…
Мы – обещаем.
И мы – сделаем.
Линия сердца (Май 2011 года)
День первый
В лагере никого нет. Это и понятно. Все в поле. А чего-то дежурных не видать?
А не… Вижу. Чья-то пятая точка торчит из продуктовой землянки.
Да, кстати. Мы живем в землянках. Выкапываем яму, делаем нары, ставим крышу, оборудуем печку. Гораздо теплее, чем в палатке, – это раз. Два – не надо тащить с собой палатки. И под продукты отдельная земляночка. Типа холодильника.
Жилые землянки стоят наверху. Сделали ступеньки вниз, на мысок, вокруг которого течет Черная речка. Черная – название у нее такое. По цвету она сейчас коричневая. Талые воды только сошли. Здесь Вторая ударная армия погибла второй раз. Все знают – что такое Мясной Бор. Никто не знает – что такое Черная речка. А по сути – то же самое. Июнь ничем не отличается от августа. Июнь сорок второго… Август сорок второго…
Я спускаюсь по лесенке к столам. Тишина… Слегка развеваются тенты над ними, трещат дрова в кострах, ржавеет военное железо – стволы, каски, корпуса минометок и гранат, ящики, цинки, котелки, орудийные гильзы…
Отдельно лежат косточки под самодельным киотом. Горит лампадка. Это Рита сооружает. Она у нас командир отряда «Возвращение». А я кто? А я – дед. Нет. Не так. Я – Дед. Это у меня кликуха такая. Потому как давным-давно – в девяносто пятом году – был основателем сего отряда. А потом чего-то жизнь закрутила и некогда стало командирскими делами заниматься. А их очень много… Ну как в жизни и получилось. Мужик сделал и сбег. Баба растит и воспитывает.
Рита же сегодня и дежурит в лагере. Это ее знакомая… кхм… спина торчала из продсклада. Учет и контроль, однако!
– Леха!
Улыбаюсь, иду навстречу. Обнимашки-целовашки. Основной дефицит в лесу – это дефицит новых людей, новых лиц, новой информации.
– Как добрался?
– Нормально! Вы тут как?
– Нормально! Пока десять бойцов подняли.
Меня кормят обедом – овощной суп, макароны с тушенкой. За обедом трындим о всякой чепухе. Тянет в лес.
Быстро распаковываюсь – кидаю коврик и спальник в землянку, устраиваю из запасных теплых вещей подушку. Особо тщательно прячу носки. Сухие ноги важнее сытого желудка. Снимаю берцы. Натягиваю болотники. В рабочий рюкзак складываю банку гречневой каши типа с говядиной. Со смешным названием – «Губернаторская». Интересно было бы посмотреть хотя бы на одного губернатора, который умеет есть такую кашу. Нож. Хороший такой нож. Рабочий. Неподстатейный. Двухсотпятидесятиграммовая фляжка с водкой. Четвертинка буханки серого хлеба. Луковица. Три пачки сигарет. Два бинта. Ампула с промедолом и одноразовый шприц. Да знаю я, что это наркотик. В девяносто восьмом мне этот наркотик очень помог, когда по пальцу… Впрочем, это другая история. И совершенно не героическая. Как я его достаю – история третья и непечатная. Так… Что еще? Смена носков. Презервативы. Ржать не надо, да? В одном презике у меня соль. Во втором – спички. Третий – нераспакованный. Случаи, они разные бывают. Пара полиэтиленовых пакетов – объяснять для чего? Лопатка на поясе. Щуп в руки. Миноискателем я не пользуюсь.
Можно идти.
Я работаю в свободном поиске. Пользуюсь своим дедовским авторитетом и положением. Куда хочу – туда и иду. Сегодня времени мало. Сейчас четырнадцать ноль-ноль. Погуляю до восьми вечера по лесу. Главное – не рассчитывать на удачу. Просто идти и искать.
Перехожу речку по самодельному мосту в три бревна. Все время боюсь с него свалиться. Речка неглубокая. Примерно по грудь в разлив.
А потом по тропе отправляюсь в лес. Тропа растраивается. В смысле, на три дорожки расходится. Налево пойдешь – в баню попадешь. Про баню я потом расскажу. Направо пойдешь – к соседям уйдешь. Про соседей – северодвинский отряд – тоже позже. Мне сейчас не до них. Мне в лес надо.
Прохожу через чавкающую болотину. Поднимаюсь на пригорок. Здесь сухо. Странное тут место. Река в низине – берега до трех метров высотой. На берегах сухо. Чуть от реки отойдешь – и ты в болоте. А по верху болотной жижи… Камни. Да. Просто камни. Следы ледника. Почему эти камни не тонут? Для меня загадка.
Они же и мешают работать.
Беру щуп в руки. Схожу с тропинки в сторону. Речка остается за спиной на западе.
Поехали!
Иду и тыкаю щупом в землю, загоняя его сантиметров на двадцать-тридцать вглубь.
Стук… Стук-стук! Деревяшка. Она пружинит отдачей через щуп. Щуп – это тонкий металлический стержень, который загоняется в деревянную рукоятку. Длиной этот стержень – примерно сантиметров пятьдесят. Есть еще глубинники – длинные такие щупы до двух метров – для работы в воронках, траншеях, окопах… Чтобы найти верхового бойца, достаточно обычного.
Стук. Стук-стук-стук… Камень наверняка. Несколько раз махаю лопаткой – точно камень. Иду дальше. Рука быстро устает. Меняю руку. Дальше иду. Лезу под елки, тыкаю во все ямки.
Пусто, пусто, пусто… Стук-стук!
Осколок, язви его меть. И еще один. И еще. Тут еще ничего. Осколков немного. Вот на ЛЭП – там, где армия прорывалась из окружения обратно, – там да… Земля железная. Как на ней там все растет? А тут немного. О! Еще осколок.
Я иду и размышляю, прислушиваясь к стукам щупа.
Странно как-то мы живем. Рождаемся, учимся, женимся, рождаем вместе – в коллективе так сказать. А перед смертью – пусть даже и на миру – все равно остаемся в одиночестве. Вот как я сейчас. Тишина. Кукушки только разорались – «ку» да «ку». Кукушка, кукушка, сколько я бойцов подниму в этом году?
– Ку-ку… Ку-ку… Ку-ку…
Камень, дерево, дерево, дерево, камень, осколок, осколок, камень… О! А это что за фигня?
Я встаю на колени. В четыре взмаха поднимаю дерн. Делаю квадрат. Достаю нож. Начинаю копаться в земле. Перчатки я не надеваю. Не люблю я в перчатках работать. Не чувствую. Цепляю хрень, вытаскиваю ее из жижи…
Громкий мат виснет на лапах елок.
Камень.
Смотрю на часы. Оказывается, уже два часа брожу. И все впустую.
Сажусь курить. Затягиваюсь, глядя в небо, затягивающее себя платьем из туч. Тут, под Питером, погода меняется чаще, чем настроение у девственницы.
Начинает покрапывать. Да и фиг с ним. Надо было, конечно, плащ ОЗК брать. Ну, помните в школе на уроках начальной военной подготовки – мерили зеленые резиновые плащи? Ах да… У вас уже не было НВП. И что такое ОЗК не знаете… Плащ. Зеленый. Резиновый. В него как в термос можно запаковаться. Только тяжелый, сволочь. Поэтому и не беру с собой.
Посидел. Покурил. Поплелся дальше.
А вот она – поисковая работа. Ходить по лесу и тыкать, тыкать, тыкать щупом. Здесь до меня проходили десятки раз. Но я все равно иду. Потому что…
ЕКЛМН!
Этот звук я никогда не перепутаю!
Сбрасываю рюкзак.
Дождь исчезает. Время исчезает. Только лопатка, нож и звук.
А потом я снова сажусь курить.
Потому что кость, которую я нашел, – лошадиная.
Встаю. Иду дальше. Воронка. Еще… Тут десятки воронок на любой вкус. От огромных – глубиной в рост человека, это тут бомбами кидались. До маленьких, еле заметных, от полтинничков. Полтиннички – это минометные мины. Калибром полсотни два миллиметра. Вона хвостовик от такой валяется.
Дзынь!
Копаю. А вот и еще одна. Откопал минометочку. Ствол прошла. Не взорвалась семь десятков лет назад. И сейчас не взорвется. Складываю ее в рюкзак. Выкину в реку. Ибо… Ибо найдется какой-нибудь отрехолок и начнет взрыватель скручивать, чтобы потом тол выплавить и сувенир домой привезти. Надо – так-то – саперам сообщать. Чтобы они приехали и уничтожили ее. Да ведь не приедут. Лень им. Они забирают только то, что лежит в лагере. А в лагерь нести нельзя, потому что нарушение техники безопасности и статьи двести двадцать второй Уголовного Кодекса Русской, твою мать, Федерации. Ой. Не русской. Российской. Оно мне это надо – с российскими ментами объясняться? Не надо. Я лучше ее в рюкзак, а потом в реку. Нарушение техники безопасности? Да мне пофиг!
Через шаг еще одна. Торчит – как морковка из земли.
Рюкзак сильно потяжелел. Надо облегчить.
Присаживаюсь. Закуриваю. Достаю фляжку. Глотнул разок. Другой.
Мужики, мужики…
Ну, где же вы, мужики?
С неба капает вода.
Это не я вас ищу. Это вы выбираете – кто вас найдет.
С неба капает тишина. Тишина… Даже кукушки заткнулись.
Поворачиваю на север.
Сейчас километр до мелиоративной канавы. Потом сверну на запад к реке, пройдусь вдоль канавы.
Ее в шестидесятых сделали. В отвалах до сих пор кости, медальоны, медали…
Прохожу холмик с крестом. Это не могила. Здесь в прошлом году мы подняли бойца. Это у нас традиция такая – на месте его смерти делать могильный холмик. Делать крест. Под крест складываем вещи бойца. Здесь лежит ржавая лопатка и труба от противогаза. И гильзы, гильзы, гильзы…
Где-то рядом еще лежат.
Но где?
В лагерь я возвращаюсь в восьмом часу.
Так ничего и не нашел. Два полтинника, утопил в реке, море осколков – один из них длиной сантиметров сорок, две трехлинеечные обоймы.
Ну, ничего. Вахта у меня только начинается.
Устал без толку бродить. В лагере уже суета. Все вернулись. Оказывается, не только у меня сегодня день в ноль прошел. Железа – море. Бойцов – нет. Настроение у всех…
Да обычное настроение. Рабочее. День на день не приходится. Нет бойцов? Зато проверена часть территории. Земля, конечно, каждый год выталкивает кости. На одном и том же месте шерстим уже который год – и бойцы, бойцы, бойцы… Надеюсь когда-нибудь приехать на Вахту и не поднять ни одного бойца. Может быть, и доживу до такого.
Иду в землянку – переодеваться-переобуваться. Снимаю болотники. Ноги взопрели в резине. Меняю носки. Надеваю тапочки. Да, да. Тапочки. Дождя уже нет. В тапочках у костра – милое дело посидеть. Старые носки – один день всего походил – вывешиваю проветриваться на березу около землянки. Будет дождь? Постираются. Не будет – высохнут. Да и фиг с ними. Их у меня еще есть.
Иду к костру. Ужин уже готов. Гречка с тушенкой. Рита, в честь моего приезда, расстаралась на салатик. Я, правда, траву не очень люблю. Свою порцию отдаю школьникам. Им все равно чего жрать. А я лучше хлеба с горчичкой и салом.
Сидим, трындим. Я изображаю из себя старого деда, как и полагается. Ем, ворчу, кряхчу. Детям забавно. А мне тоже.
– Завтра Еж приедет, – говорит Ритка.
– Да ты что? – радуюсь я. Со школьниками, конечно, забавно. А с Ежом оно веселее. Еж он же – Еж. Да сами потом узнаете. – А с кем, один, что ли?
– Не. Еще Змей, Дембель, Буденный, Юди… – перечисляет она.
Отлично. Компашка собирается что надо.
Еж – Андрюха Ежов. Мы с ним катаемся в «Поиск» уже лет десять. Ну, или десять с половиной. Про него рассказывать не получится. Его надо видеть и слышать.
Змей – Серега Загарских. Кликуха оттого, что он носит очки. Сначала была Змей Очковый. Потом стала просто Змей. Не потому что – хитрый. А просто так получилось.
Дембель стал Дембелем в прошлом году. Весной. Он тогда и впрямь был дембелем – сержант запаса Шемякин. Из армии приехал домой, переоделся – и на Вахту. Вахта – она не отпускает. Я вечно его фамилию путаю с Шамриковым-младшим. Почему младшим? Да потому что тот ездит в Поиск вместе с отцом – дядей Вовой.
А почему Шамрикова-младшего Буденным называют? А он как-то купил себе буденовку и в одних трусах скакал вечером по лагерю со сменным стволом от немецкого «МГ» в руках. Причем трезвый скакал. А когда выпил – то залез на Дембеля и, изображая из себя конную армию, поскакал на нем в Северодвинск. В смысле, в лагерь ребят из Северодвинска. Не доскакали, ибо упали. Эх… Жаль, что не с моста. Веселее было бы. Просто упали в лужу. Поэтому и прилепилось – Буденный.
Юди – он же Женька Юдинцев. Гора мяса и плоти. Здоровый, как накачанный бегемот. Терминатор рядом с ним – тощий узник Бухенвальда.
А почему клички у них? Да потому что по рации очень неудобно вызывать по именам и фамилиям. Считай, что клички – это позывные.
– Еж, Еж, Змей на связи. Как у вас?
– Змей, прием. Глухо. У вас как?
– Аналогично. Еж, Дембель фляжку достает. Мы у полутонной воронки. Бегом, пока не кончилась.
– Змей, если фляжка кончится до моего прихода…
Дальше идет игра слов. Вполне себе переводимая, но непечатная.
У Ритки позывной – Мать. Очень удобно, кстати. Если что, можно послать к матери по матери.
А у меня какой? Хе… У меня много позывных в Интернете. Зеленый бывает, Годзилка бывает, Зубастый бывает…
А по рации я… Только громко не ржите.
Белоснежка.
Да, да. Белоснежка. Тоже как-то было… Сидим, значит, отдыхаем около раскопа. Перекуриваем. Еж мне и говорит: Лех, ты у нас писатель-сказочник? Расскажи-ка нам какую-нибудь сказку. Ну, я и рассказал порноверсию «Красной Шапочки». А там фантазия у мокрых, грязных, уставших мужиков, конечно же, разыгралась до групповухи с Белоснежкой. Ну, вот кто-то и ляпнул:
– Леха, ты же лучше Золушки с Белоснежкой сказки рассказываешь!
Хрен его знает, рассказывала ли когда-нибудь Белоснежка своим гномам эротические сказки, но позывной так ко мне и прилип. В отместку я их стал называть семь гомов. Именно гомов, а не гномов. Ибо не фиг изгаляться над Дедушкой.
Хорошо, что приедут. Нет, конечно, и с Юркой Семененко интересно, и с дядей Вовой, и с Матерью. В смысле, с Ритой.
Но с этими опездолами забавнее.
– Поезд у них в шесть утра, так что около двенадцати будут, – говорит Рита.
Я молчу, доедая остатки ужина, и киваю:
– Ну, хоть одну ночь нормально поспим. А какие планы на завтра, Мать?
– Так-то выходной решили устроить. Завтра спим до упора. Потом на Лехе едем в Питер.
Леха – командир еще одного нашего отряда.
Блин, я, наверное, всех запутал?
Представлю всех, пожалуй. Здесь, под урочищем Гайтолово, стоят много отрядов. Тамбов стоит, Северодвинск, Киров.
Кировских отрядов несколько. Из самого Кирова пэтэушники под командованием Юры Семененко. Слободской – Мать командует. Еще Котельнич – там Еж. Котельнич и Слободской вместе харчуются. Фаленки – Гоша Култышев, он же Мурзик. Зуевский отряд – их четыре человека – приехали в первый раз. И нолинский отряд Лехи Зыкина. Слободской, Котельнич, Фаленки, Зуевка, Нолинск – это районные центры нашей Кировской области.
Так вот. Нолинск приехал на «Соболе». Ага. Две тысячи километров. Сейчас он вывозит до трассы на машине желающих скататься до Питера. Иногда на нем катаемся за хлебом и за… И еще за хлебом. Значит, завтра выходной… Пойду завтра опять один.
Внезапно Рита говорит мне:
– Дед, завтра до обеда… Пойдем вместе?
Я согласен. Дети пусть скатаются. Да им и отдохнуть надо. Уже десять дней тут без выходных пашут. А я только приехал. Ритке тоже хочется в лес.
Так что идем завтра вместе.
А сейчас пора спать. Хотя еще и светло, но…
Но надо спать. Хочешь ты этого или не хочешь… Поднимаюсь к землянке. Из-за излучины реки, там, где стоит Северодвинск, доносятся крики:
– Горько, горько, горько!
«Свадьба у них, что ли?» – думаю я, переодевая в очередной раз носки. С вечерних на спальные. Дети в землянке уже дрыхнут. Кто-то еще пишет СМС-ки домой. Я подкидываю дров в печку и забираюсь в свой спальник.
Хороший у меня спальник. Теплый. И только решаю перед сном почитать, как внезапно засыпаю…
День второй
Проснулся оттого, что мне жарко. Вылез покурить. Все еще спят. Дети – глупые какие – спят под кучей пуховиков, одетые и у печки. Я в одних трусах у выхода. Лучше всего, конечно, спать в спарках. Это когда спальники сшиваются или пристегиваются один к одному. Тогда в два спальника входит три человека. Лучше спать разнополыми тройками. Девку посередь, по краям мужики. И пошлых тут мыслей – не надо. Бессмысленно. Просто так получается, что разнополые спарки лучше друг другу тепло отдают.
Но тут печка – можно спать в отдельном спальнике. Особенно если в печку дрова дневальный подкидывает. Но, увы. Печка холодная. Никто ночью не вставал и дрова не закидывал. Дети, чо…
А у меня спальник альпинистский. Легкий. Держит комфорт до минус десяти. В смысле – нагишом можно спать на снегу при температуре до минус десяти. При минус пятнадцати уже надо трусы надевать. И фуфайку. Бойцам бы нашим такие… В сорок второй…
Покурил. Растопил печь. Пусть детеныши погреются.
Один из них поднял голову. Тихо рявкнул на него:
– Чего не спишь?
– Я дежурный…
– Чего спишь? Геть на кухню завтрак готовить!
– Маргарита Олеговна сказала…
– Да мне наср… что Мать вчера сказала! – я свирепо прищурил глаза и перехватил топорик. – Я! Хочу! Жрать!
Испуганный дежурный, перепутав обувки с правой на левую, судорожно выскочил из землянки. Я так-то добрый. Но не на вахте. А еще Рита детенышей накрутила, что Дед злой приедет. Приходится соответствовать. Хе-хе.
– Дед… Не ругайся, – из кучи спальников послышался сонный голос Риты.
– Спи-ко, – проворчал я.
– Угум…
Я вышел из землянки. Стою. На небо смотрю. Небо обещает быть дождливым. Тучи низко. Прямо над деревьями ползут. Влажность высокая. Ветер. Да и фиг с ним. Я уже старый и опытный. У меня есть пуховик и штаны. Теплые. Тоже пуховые. И вообще. У меня есть все, что надо в лесу.
Дежурный шебуршит у костра.
– Чего готовишь? – бурчу я.
– Манную кашу… – говорит школьник. Как его зовут? А черт его знает…
– Канную машу, говоришь…
– Что?
– Вари, вари!
От этой манной каши калорий хватает ровно настолько, чтобы ей в сортир сходить. Хорошо, что я вчера «Губернаторскую» гречку не сожрал. Достаю ее. Открываю. И ем ложковилкой. Трофейной. Копаной немецкой ложковилкой. Если я вам когда-нибудь буду рассказывать, что нашел ее воткнутой в глазницу немецкого черепа – не верьте. Это я так пугаю несведущих. На самом деле мне ее подарила Мать. И вообще. Она не немецкая, а финская. Ложковилка, а не Мать.
Ем и давлюсь. Давлюсь, потому что не могу есть с утра. В обычной жизни я нездоровым образом жизни занимаюсь. До обеда только кофе и сигареты. Но сейчас ем. Потому что нужны калории. Нужно топливо. Так что я, в общем-то, не ем. Так. Дрова в печку закидываю. Главное, чтобы оно было калорийное.
Вот на завтрак и получилось. Банка гречки с прожилками мяса. Пара стаканов очень сладкого кофе. Полбуханки хлеба с горчицей. Пятьдесят граммов водки в кофе.
Пока жрал – все проснулись.
А пока ждал Мать – проголодался снова. Она могла бы выиграть чемпионат в поддавки по скорости собирания. В смысле, пока собирается – можно сбегать до китайской границы, покурить там с пограничниками и вернуться обратно. За все это время она сумеет переложить из одной сумочки в другую «очень важную» хренотень. Причем эта самая хренотень так никому и не пригодится потом. Но на всякий случай…
Бабы, чо!
В общем, вышли мы в лес только в десять утра. Сразу после того, как детей отправили в Питер.
– Лех, давай недалеко? – говорит Ритка.
Я согласен:
– Спина?
– Ага. Сил уже нет.
– Стареем, – почему-то в один голос говорим мы и смеемся.
Да. Мы начали поисковую работу пятнадцать лет назад. Только об этом никому не говорим. Да не любим, когда нас поздравляют с юбилеями.
А вот друг с другом разговариваем. Жалуемся друг другу. Вот уже наколенники Ритка носит, чтобы на сырой земле своими костями не стоять. Я – пока! – нет. Вот поэтому я против девок в Поиске. Жалею их. Жалею и ругаюсь. И на Ритку ругаюсь. Только бесполезно. Она упертая. Еще хуже меня.
Ходим там же, где я вчера. Только ближе к речке. Это около двух километров от лагеря.
– Позавчера здесь бойца подняли, – Ритка махнула щупом в сторону свежего, еще белого креста.
– Представляешь? Парни мои возвращались домой. Сели передохнуть. Сидят, в «Города» играют. Один щупом ткнул и в косточку попал.
Я киваю. Бывает. Вона, Леха Винокуров тогда на щуп медальон поднял… Давно это было…
Постояли около холмика.
– Без?
– Пустой.
Это мы о медальоне.
Медальон – главная цель поисковика. Медальон – смысл нашего существования здесь. Медальон – мечта. Медальон…
Как мало их, как мало.
– Рит, давай еще пройдемся вокруг.
И мы начинаем щупами еще раз протыкивать землю вокруг холмика. Машинально. На автомате. Ничего.
Крест стоит на самом обрыве. Внизу пойма. Оттуда пару дней назад ушла вода. Спускаемся в пойму. Снова ищем.
Как обычно – одно железо. Осколки, гильзы. И камни, камни, камни.
И Ритка:
– Дед, посмотри, чего тут?
Ритка держит щуп. Я встаю на колени. Разрываю землю ножом. Потом лезу в раскоп рукой. Что-то острое по краю. Не железо. Плоское. Не камень. Не упругое. Не дерево.
Кость.
– Держи, Мать!
Она разглядывает красноватую, странноугольную – будто обрубленную – плашку в руках.
– Череп.
Да. Кусок черепа. Красно-коричневого цвета. Один из краев обломан неровными краями. Другие ровно зазубрены по швам.
Ну, вот и первый боец в этом году. Нашла его Рита. Начал поднимать я. Да какая, в сущности, разница?
– Мать, Мать. Еж на связи. Прием! – вдруг забубнила рация в кармане Риткиной разгрузки.
– Иди-ко, встречай Ежину, – ворчу я.
Немного пикируемся. По привычке.
Но так и порешили. Она уходит. Я поработаю. Бойца нельзя оставлять тут одного. Если уж он нас нашел. Если он захотел, чтобы мы его нашли… Нельзя оставлять.
Обматерил Ритку и отправил ее в лагерь. Сам остался копать. Она тоже не могла уходить. Обычно так и бывает. Неважно – день, вечер, обед, ужин: пока не поднимешь бойца – не уходишь.
Я опять один. И снимаю землю сантиметрами.
Хорошо, что здесь место сухое. Прямо на склоне обрыва к пойме.
И, бляха муха, опять пусто!
Ничего! Только кусок человеческого черепа и осколки железа.
И проклятые корни. Разрубаю их лопаткой, раздираю плоть земли ножом. Вкапываюсь под корни. Пусто. Иногда корни растаскивают кости по сторонам. Мой раскоп уже идет примерно три на три метра по площади и сантиметров пятьдесят в глубину. Все равно пусто. Ничего нет. Пуля вот нашлась. Злой как черт кидаю ее в реку.
Откуда тут этот кусок черепа?
Могло осколком выбить и откинуть. Могло оттащить землей – за семьдесят-то лет. Могли «черные» выкинуть. Разное могло быть.
В итоге – пусто. Только кусок черепа.
Эх, боец, боец… Хорошо ты над нами пошутил.
Так вот и простоял, извиняюсь, «раком» четыре часа. Время здесь замирает и летит. Лишь часы тикают…
Подавленный, с человеческой косточкой в кармане штормовки, я возвращаюсь домой.
Когда подошел к нашему мосту – увидел Ежа, Змея, Буденного и прочую гоп-компанию.
– Леха! – заорал Еж.
– Белоснежка!!! – а это Дембель.
Я киваю и иду к нашим бойцам. Достаю кость. Подходит Ритка.
– Пусто, Мать… Думаю, что это того бойца, которого твои поднимали.
– Да, скорее всего. У него головы не было. Ноги полностью. Руки. Таз, пара ребрышек. Головы не было.
– Где он?
– Вот в этом мешке.
Я развязываю один из черных полиэтиленовых пакетов. Кладу туда косточку. От этого бойца она или нет? Я думаю, они нам простят, если мы что-то попутаем.
Парни молчат. Вернее, сами с собой разговаривают. Понимают – что к чему.
А я просто перекрестился и завязал мешок.
Ну, вот теперь можно и сесть к столу…
– Как добрались?
– Нормуль, Белоснежка! – ржет Дембель. – Правда, чуть Питер не проехали из-за этого козла.
– А я-то чо? – громко изумляется Юди. – Это все Буденный – давайте еще по пиву, давайте еще…
– Между прочим, – восклицает Шамриков-младший, – никто против не был!
– Все матери расскажу! Будешь знать! – И батя ему всаживает подзатыльник. Оказывается, ДядьВова подошел на разговор у костра. – Что, Артемка, опять нажрался?
ДядьВова только с виду сердит, а сам добрейшей души человек. Артемка, он же Шамриков-младший, он же Буденный – это прекрасно знает. А потому ругается в ответ:
– Я мамке сам расскажу, что ты тут курил!
– Напугал ежа голой задницей… – хмыкает батя. – Я тогда твоей жене расскажу, как ты за девками тут бегал.
– Бегал, так не догнал же, дядьВов! – вступает Еж.
– Ну и дурак! – крякает старший Шамриков.
ДядьВова у нас штатный философ. Работает он трактористом в колхозе. И не пьет, кстати. Вообще. Ничего. Даже пиво. Даже кефир. Хотя, может быть, кефир и пьет. Но я не видел.
– Тут вить как? Бабе неважно – догнал ты или нет. Бабе важно – бегал ты или нет. Баба – она как черепаха из Зеноновской апории. Догнать, может, и не моги, но догонять обязанный.
– Дядь Вов, ты это… – Еж почесал затылок. – Преподом работать не пробовал?
ДядьВова тоже чешет затылок и раскуривает свою трубку:
– Навоз возил, поле пахал, баб и тех на сенокос возил и там их пахал. А переподом не пробовал? Это чо?
Ржач за столом. Еж пускает полулитровую кружку с водкой по кругу:
– За Вахту, мужики!
Ну, вот и встретились. Странное дело. Живем в одной области, в одном городе, а встречаемся только здесь. Судьба? Судьба…
– Завтра Васька со Степкой приедут. Созвонились утром с ними.
А вот это вообще отлично. Васька, Степан. Если бы не они – хрен бы мы тут что накопали. Я так думаю, этим питерским ребятам надо памятник поставить. А еще Сашке Алексееву.
Но с Сашкой мы потом встретимся. Когда встретимся – тогда и расскажу.
А Васька со Степкой завтра! Это же МУЖИКИ!
– Волки приехали? – спрашивает Еж.
– Тамбовские? Да, приехали. Стоят там же. «Ингрии» нет в этом году. Стоят под Синявино.
Синявино от нас в пяти километрах севернее. Час ходьбы по лесу. По городским меркам – рядом. По лесным – еще ближе. По поисковым – день работы. По военным… Три года.
Отгоняю от себя внезапно навалившееся чувство ТОЙ реальности. Я вдруг начинаю слышать разрывы, крики, стоны…
Это продолжается несколько секунд.
И я возвращаюсь. Такое бывает. Не обращайте внимания. И еще не раз будет.
Что-то меняется у меня на физиономии. Ребята старательно не замечают меня. ЭТО и у них бывает.
– Может, в Тамбов сгоняем? – предлагаю я.
– Да ну… – отмахнулся Буденный. – Успеем еще.
Я с ним согласен. Я и сказал-то так. Для проформы.
Вторая кружка пошла по кругу. Так удобнее пить. Вот ребята. Вот кружка. Хочешь – пей ее половину. Хочешь – губы макни. А хочешь – передай другому. Никто никого не принуждает. Главное – чтобы ты не устраивал «пьяные концерты» и утром вышел на работу. А так – пей на здоровье.
– Планы?
– На Квадратную хочу сходить, – подал голос Юди.
– На Квадрат лучше с пацанами, – встрял Буденный.
– Тогда к ЛЭП, там погуляем. А пацаны во сколько будут?
«Пацаны» – это Ванька и Серега. Почему их ждем? Да потому что у них металлоискатели очень хорошие. Это во-первых. А во-вторых – они тут живут. Это мы… приехали-уехали. А они тут живут. Не в Питере живут. В Питере они ночуют и работают. А живут они тут. Приедут сюда и живут.
– Отзвонятся, – ответил Еж, прикуривая от костра. – Прогуляемся пока тут. Давай по третьей.
Третья для нас святая. Нет. Не за любовь. Не за «фил-, гео-, био-» и прочие факи. Не за «тех, кто в море». И даже не за тех, кого с нами нет.
Третья за тех, кто с нами есть. Вы, наверное, не поймете. Да и неважно.
Я передаю кружку Матери. Та просто принюхивается, касается водки губами и передает Буденному.
И в это время с обрыва сваливаются галдящие дети – приехали, понимаешь, из Питера.
– Может, все-таки в Тамбов? – предлагаю я.
Словесного ответа нет. Даже Еж поморщился. Не сегодня. Сегодня дома. Дома. Именно так – Дома. С большой буквы «Д».
А ведь темнеет уже.
Дети жрать не хотят. В «Макдональдсе» отвечеряли, придурки. А мы с утроенной силой начинаем есть их ужин.
– Леха, спой!
Это мне.
– А нахуй не пойдешь?
Нет. Это не фраза моя. Это такой злой взгляд. Не могу. Не хочу. Не буду.
– Как там в Питере?
– А вот в «Икею» скатались и в «Маке» покушали!
– Дети-уроды! – ворчит Еж, отвернувшись к костру. И зло так ухмыляется. – И бабы – уроды!
– Бабы – козлы! – уточняя, сплевываю я и закуриваю.
– Бабы – козлы. Да, – соглашается Еж.
– Еж, вместо того чтобы лаяться, лучше детям лекцию прочитай. Я пока тут штаны зашью ребенку, – флегматично говорит Рита.
– Какую еще лекцию? – удивился Андрюха.
– О Синявино, – отвечает Мать, вдевая нитку в иголку.
– Я чо, историк дипломированный? Вон, Дед пусть рассказывает.
Я смотрю на Ежа и улыбаюсь:
– Я здесь только второй раз. А ты уже лет семь сюда катаешься. Любого историка за пояс заткнешь. Рассказывай давай!
Еж покачал головой и рявкнул на весь лагерь:
– Дети! Ну-ка бегом сюда! Сейчас папа жизни учить будет!
Рявкнул так, что лампочка под тентом закачалась.
Да. У нас есть лампочка. И розетки в землянке. У нас стоит генератор, который заводим вечерами, чтобы был свет над столами и электричество для зарядок мобил. А в этом году и для Риткиного нетбука. Мы крутые, да! Даже в Интернет иногда выходим.
Постепенно дети собрались за столом.
– Телефоны убрали! – между прочим, папа Андрей может выглядеть таким суровым, что даже я его боюсь. – В «Макдаке» что жрали?
– Чикенымакнагетсы, – скороговоркой сказала какая-то девочка. Я их имена не запоминаю. Каждый год они новые. И одинаковые. – Мы и вам привезли, Андрей Евгеньевич!
– Нафнафигсы! Запихни это дерьмо себе в… рот запихни.
– Там, куда ты подумал, оно утром окажется, – флегматично сказал Дембель.
– Именно! Рита, не смотри на меня так!
Рита только покачала головой и продолжила что-то там штопать.
– Значит, так, дети мои… Сколько, Алена, весит твой хренагетс?
– Не знаю, – растерялась Алена. Девочку, оказывается, Алена зовут. Она учится в девятом классе. Это все, что я о ней знаю. – Сто пятьдесят рублей он стоит.
– А коктейль молочный пила?
– Ага… Ааа…
– Бэ. Ты за час сожрала месячную норму блокадного ленинградца. Дети ели по сто двадцать пять грамм хлеба в день.
– А я вообще хлеб не ем! – крикнул кто-то из школьников.
– А у них больше ничего не было. Хлеб только. Иногда еще землю в магазинах давали.
– Зачем землю??
– В сентябре немцы бомбежкой уничтожили Бадаевские склады. Продуктов там было относительно немного. Пять-шесть суточных норм продовольствия для такого города, как Ленинград, – это мелочь. Там было масло, сахар, жиры. Все, что не сгорело, – впиталось в землю. Вот эту землю зимой и выдавали иногда.
Над темнеющим лесом молчание. И только речка журчит, журчит…
Андрей продолжал:
– Продовольствие было подвезти сложно. Практически невозможно. Ладогу простреливали немцы. Самолеты доставляли каплю в море. Поэтому и выдавали только хлеб. Здесь, где мы стоим, пытались прорвать блокаду. Всего было семь попыток. Четыре из них вот здесь, – Еж махнул рукой в сторону воронки, чернеющей метрах в трех от стола. Из воронки растут ивы.
– Здесь самое узкое место – шестнадцать километров от Волховского фронта до Невы. А там уже Ленинградский фронт. Вот и пытались тут прорваться. В августе сорок второго была четвертая попытка. Вторая ударная здесь прорвалась и почти дошла до Невы. Немцы двумя ударами по флангам отрезали ее. А потом методично уничтожали в котле.
– Это когда Власов командовал? – подал голос кто-то из «продвинутых».
– Нет. Власов ею командовал весной сорок второго. В мае-июне.
– Так они же там все на сторону фрицев перешли! – снова «продвинутый»! Я не выдержал:
– Я тебе сейчас болотник вместо гондона на башку натяну!
– Леша! – оборвала мою несуразную тираду Рита.
Я заткнулся и вспомнил Мясной Бор…
Долина смерти…
Долина…
Смерти…
Смерти именно в том, самом страшном воплощении. Место, где не было земли и воды. Кровь и мясо – вот что там было. Солдаты, лежащие слоями. Солдаты, брошенные на убой сначала генералом Мерецковым, а затем и нами всеми, твердившими выдумку «огонькистов» образца восьмидесятых – вторая ударная «власовская» армия, сдавшаяся в полном составе в плен. Полегла она тогда, в полном – почти – составе. А те, которые остались в живых и не загремели по тыловым госпиталям, стали костяком новой, второго формирования, второй ударной армии…
– В итоге ни до Мги, ни до Синявинских высот наши так и не смогли тогда добраться. А с того берега – не смогли прорваться ленинградцы. На Невском Пятачке были?
– Нет, – разнобой голосов.
– Ах да… Вы же свинятину жареную жрать ездили…
– Ну Еж! – снова возмутилась Рита.
– Молчи, Мать! – оборвал ее Еж. – Сама лекцию просила! Значит, Девятого сходите. Кости пособираете.
Да, да. Это не опечатка. Именно так Еж и сказал – Девятого. С заглавной буквы. С большой буквы.
Мы все так говорим. Девятое – это Девятое.
– В смысле пособираем?
А это уже только поисковик понимает. Костями тут никого не удивить. Вон, «продвинутый» – уже трех бойцов поднял тут. «Скелетированные останки» трех человек. И мечтает найти пряжку с «готмитунсом» – носить дома…
Накопать – можно, поднять, да. А вот пособирать – это как? А так, детишки, скоро узнаете, скоро узнаете…
– Речка Черная – естественный рубеж обороны, – продолжил Еж. А наступление шло вдоль ЛЭП. Нет. Не той, которая у поля. У другой. Да, в лесу которая. Копали там? Нет еще? Ну, как-нибудь сходим. А теперь в землянку и спать. Через полчаса приду, кто спать не будет – назначу дежурным у печки. Всем понятно?
Понятно всем. А мы остаемся сидеть. Еще по водочке принять.
– Лех, – говорит Змей.
– М-м?
– А вот объясни смысл, зачем тут четыре раза рваться? Я читал, что немцы выступ этот превратили фактически в крепость. Тут у них аж самый насыщенный войсками участок фронта был – четыре дивизии. На каждую по пять километров фронта. Какой смысл тут-то бить?
– А где? – закуриваю я. – Вот та самая вторая ударная. Она весной пыталась пробиться из-под Чудово. Не получилось. Здесь не получилось тоже. Любая ли атака заканчивается победой?
– Ну, это понятно… Но ведь могли бы подготовиться. Сил подкопить. Зачем так поспешно-то?
– Там дети умирали, Змей, – подал голос Юди.
И тишина махнула нам рукой….
А мы махнули водкой в ответ.
– Лех, слушай чего… – поворачивается ко мне Еж. – Я вот тут читал одну фигню… Есть версия, что блокаду можно было прорвать в сентябре-октябре сорок первого, когда маршал Кулик командовал Волховской группировкой, а Жуков – обороной Ленинграда. Якобы Жуков сознательно саботировал совместные действия с Куликом, использовав на Синявинском направлении всего одну стрелковую дивизию и одну стрелковую бригаду, а остальные части – более восьми расчетных дивизий – в боях под Пулково.
– Ну, блин… И кто такую хрень сказал?
– Не помню уже. Где-то читал. Аргументы примерно такие…
Еж говорил долго, перемежая запомненные канцеляризмы народными эвфемизмами. За это время кружка два раза прошла по кругу.
– Вот смотри… Еще шестого сентября Гитлер отдал директиву, номер тридцать пять, кажется, объявляющую Ленинград «второстепенным театром военных действий». Командующий группой армий «Север» фельдмаршал Риттер Вильгельм фон Лееб должен был ограничиться блокадой города и не позднее 15 сентября передать группе армий «Центр» обе танковые группы и значительную часть авиации для предстоящего генерального наступления на Москву. Так?
– Так…
Действительно, штурм Ленинграда потребовал бы больших жертв и значительного времени, которого у Гитлера в преддверии зимы уже не было. Он решил постараться захватить главную стратегическую цель – Москву, рассчитывая овладеть Ленинградом позднее, когда его защитники будут истощены блокадой.
– Почему тогда Жуков готовился к обороне, а не к блокаде?
Ответить я не успел. Еж поднял руку и продолжил:
– Подожди, не спеши. Далее. Какую задачу поставила Ставка перед Жуковым? Оборонять город или прорвать блокаду?
И тут тоже Андрей прав. Ленинград нуждался в топливе, продовольствии, сырье, а воюющая страна нуждалась в продукции ленинградских заводов и многочисленных НИИ и КБ – тяжелых танках КВ, авиаприборах и радиостанциях, артиллерии и минометах. Задача прорыва блокады становилась первостепенно важной.
– И вот еще… Кулик тогда был маршалом. Это его позже уже разжаловали, не помню за что. А по мемуарам Жукова получается, что маршал действует на второстепенном Синявинском направлении, а генерал срывает захват города на Пулковских высотах. А, да… Еще и Ораниенбаумский, тьфу, язык сломать можно, плацдарм организовывает. Вот теперь – говори!
И что тут говорить? Это теперь просто анализировать – что. Как да почему. А тогда? Когда не знаешь ничего, а времени на принятие решений – минуты. Что делать-то?
Ставим себя на место Жукова.
– Еж, я на память не помню даты и числа, к сожалению, – просто давай логически попробуем рассуждать. Что нам известно из тактики немцев? Ни разу до Ленинграда немецкие войска не практиковали длительное блокирование. Всегда, окружив город, немцы шли на штурм. Варшава, например. Так?
– Ну да, – соглашаются мужики.
– Итак, Жуков узнает, что немцы начинают переброску танковых дивизий на юг. Любому понятно, что под Москву. Бои в городе – это дело пехоты. Перебрасывают и часть авиации. Как ни странно, и это укладывается в логику штурма. Почему? Да потому, что Жуков прекрасно знает, каково состояние войск РККА. Их практически нет. Недаром же ополченцы держали фронт. Далее. Признаком подготовки к штурму служат именно Пулковские высоты. Что бы там безымянный автор ни говорил – бои на этом рубеже были ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ. Немцы атаковали. Брали. Наши их вышибали. И так несколько раз.
Следующее – Жуков был талантливым генералом, и это нельзя отрицать. Он прекрасно понимал, что после падения Ленинграда у фон Лееба развязаны руки для удара в московском направлении. И понимал, что это понимают немцы. Откуда он мог знать о внутренних конфликтах между ОКХ и ОКВ, между вермахтом и Гитлером, между самими генералами? Для Жукова образца сентября сорок первого немецкая машина монолитна. Большей глупости, чем блокирование Ленинграда, немцы не могли придумать. Жуков об этом и подумать не мог.
– Тоже… Логично… – хмыкает Андрей.
– Теперь по поводу армии Кулика. Бутылочное горлышко только-только образовалось. Местность тут, сам видишь, аховая – болота, болота, болота, в которых теоретически невозможно просто так закопаться. Оборону тут приготовить – дело не одного месяца. Согласен?
– А то! Еще плеснуть?
– Давай. Дальше поехали… Естественное решение, которое возможно в этой ситуации, – сбить немцев, не успевших закрепиться в выступе. Что, собственно, Кулик и пытается совершить. Но делает это по-босяцки. Вместо одного мощного удара – два по расходящимся операционным линиям.
– Это как? – не понял Буденный.
– Это когда твоя правая нога к жене домой идет, а левая – к девкам.
– А-а-а. И что дальше?
– Двести восемьдесят шестая стрелковая дивизия идет на Мгу, через эти места, и натыкается там на двенадцатую танковую дивизию немцев. Разницу между советской стрелковой и немецкой танковой надо пояснять? Это юго-западная операционная линия. Левая нога, так сказать. На северо-западной линии – наступление триста десятой и сто двадцать восьмой дивизий в направлении Синявино. Правая нога. Да, прорвать было можно. При условии оголения других участков фронта. Вопрос – каких именно, если ты, Еж, как командующий, уверен в предстоящем штурме?
– Да хер его знает, – чешет репу Еж.
В это время Мать разгоняет своих бойцов умываться и спать.
Мы зачем-то молчим.
Сидим за самодельным столом и смотрим – как дети разбегаются по спальным местам.
Да какой там разбегаются? Расползаются…
Устали за день.
А мы по последней и тоже спать.
И последняя мысль бьется в голове – как же они тут воевали?
День третий
А утром мы собрались на работу. На настоящую работу. Не такую, как дома. Дома – там мы работаем, чтобы жить. Здесь мы работаем – для того, чтобы совесть была чистой. Не все так думают. И все так не говорят. Слишком это пафосно звучит, я знаю. Но мне надоело прятать себя под броней цинизма. Я слишком сед, для того чтобы врать. Времени-то все меньше и меньше. Поэтому надо успеть сказать правду. И делать то, что ты считаешь должным. Считайте это пафосом. Мне наплевать.
С одной стороны – мы живем не будущим, но прошлым. Это страшно. У нас нет будущего. У нас только прошлое. С другой стороны, у многих и прошлого-то нет. Только сегодня. Только «здесь и сейчас». Так и меня когда-то учили на факультете психологии – «живи здесь и сейчас». С точки зрения психолога, это, может быть, и правильно. С точки зрения меня – нет. Потому что человек тем и отличается от зверя, живущего в его душе, – он помнит прошлое и делает будущее. Быть зверем – легко. Быть человеком – тяжелее. Но к этому надо хотя бы стремиться. Иначе всем нам каюк.
Если бы не эти бойцы, которых я пойду сегодня искать, – мы были бы рабами третьего рейха.
Если бы не эти бойцы, я стал бы потреблядью, живущей ради очередного ломтя хлеба повкуснее, телевизора побольше да авто понавороченнее.
Они воюют до сих пор. Воюют за меня. За мою душу…
– Леха, опять книгу сочиняешь? – мощный удар в плечо едва не уронил меня с бревна, на котором я сижу и курю, бездумно глядя на пеплом подернувшиеся угольки утреннего костра…
– Блин, Юди! Я чуть сигарету не сожрал из-за тебя!
– Чего сочиняешь-то?
– Ничего.
Я не соврал. Я не сочиняю. Я вижу костер, морщась от сизого дыма. Я вдыхаю ароматный запах кофе с водкой. Я слышу кукушек, отсчитывающих минуты и часы до домовины тем, кто поливал огнем и кровью речку Черную, урочище Гайтолово, ЛЭП, Синявинские высоты… Кукушка, кукушка, сколько я в этот раз бойцов подниму? Молчит, сволочь…
– Жень, куда идем?
– Белоснежка, ты с нами, что ли? – кричит Дембель, старательно упаковывающий в разгрузку свои причиндалы – нож, лопатка, фонарик, аптечка, фляжка, тушенка. Зачем фонарик? А ни за чем. Темнеть тут начинает аж в десять вечера. А сейчас девять утра. Неужели не вернемся до темноты? Да, конечно, вернемся. Но фонарик взять надо. Потому что Поиск не прощает разгильдяйства. Уходишь на час? Возьми еды на сутки. Сколько раз бывало, когда бойца находили перед тем, как уже время идти в лагерь. И любой поисковик – нормальный поисковик – никогда не уйдет с раскопа, пока не поднимет последнюю махонькую косточку. Ох и орал как-то Еж на Риту, когда она с детьми как-то пришла в час ночи.
И принесли они тогда трех бойцов. В темноте просеивали на ощупь землю. Искали. Дособирали. Утром, когда вернулись на место, чтобы поставить крест ребятам из сорок второго, снова перебрали землю – тяжелую, глинистую. Не нашли ни одной косточки.
И медальон тогда не нашли.
– С вами, Дембель! Куда ж вы без меня-то?
– Без тебя-то? За водкой и по бабам!
– Ну, тогда я точно с вами!
– Дед, – кричит Еж, проверяя рации. – Тебе-то куда по бабам, ты же седой и старый!
– Старый конь, он, детка, борозды не портит, – важно говорю я.
– И глубоко не вспашет, – меланхолично говорит Ритка, заполняя очередной акт эксгумации.
– Что, Рита, и твою борозду Дед глубоко не вспахал? – замирает Еж, изображая удивление.
– Как и твою… – так же меланхолично отбривает Мать.
Еж аж закашлялся.
От смеха.
Вот так у нас всегда. Не подначишь – не поешь.
От души я ему врезаю по спине. Чтобы больше не кашлял.
– Куда идем, Еж?
– Да вот, думаю на Квадратную.
Квадратная поляна…
Страшные там были бои. Очень страшные. Впрочем, как и высота «Огурец», как и «Невский пятачок», как и весь Ленинград.
Кстати, странно… Я этот город называю или Питером, или Ленинградом. Санкт-Петербургом только в кассах вокзалов.
– Туда, где вы в прошлом году нашли штугу.
Штуга – «STUG-III». Немецкая самоходка. Ее прямым попаданием на куски. Ствол мы тащили вшестером два часа километр до дороги. А там загрузили на зыкинский «Соболь». А потом привезли в Киров, где он и валяется сейчас в музее. Посетители нашего музея непременно пинают эту дуру. Правильно и делают.
У меня, внезапно и резко, начинает болеть голова. Странно, обычно в лесу голова у меня не болит. Это дома бывают приступы – остаточные явления инсульта. И снимают их, как правило, либо цитрамон, либо алкоголь. Либо и то, и другое. В лесу ближе алкоголь. Он за пазухой. Во фляжке.
Глоток. Медленно легчает. Только в висках стучит.
– Дай-ка… – протягивает руку Еж.
– Это лекарство, – даю ему фляжку.
– Я знаю.
– Вечером дождь будет.
– Башка?
– Угу.
– Пить надо меньше, – он делает еще глоток. – Как тебя жена терпит?
– Она меня не терпит. Она меня любит, – парирую я.
– Мы тебя тоже полюбим вечером, Белоснежка! – Дембель, подслушав последнюю фразу, внезапно шлепает меня чуть ниже спины, отбирая одновременно фляжку из рук Ежа.
– Старый ты уж со мной рядом спать, – и подмигиваю пацану, рядом с которым сплю в землянке. – Вона, смотри. В этом году Ванька мой любимец!
Тот краснеет и отпрыгивает в сторону. Все ржем. Даже Рита, которая пытается нахмуриться:
– Мужики, идите-ка вы на работу, а?
И мы уходим.
Еж. Я. Дембель. Змей. Буденный. Юди.
До поляны пара километров. От Чертова моста по дороге на восток. Слева лес. Справа поле, потом тоже лес. В лесу мелькают палатки – вот Тамбов, вот Северодвинск. Остальных не видно с дороги. По пути таблички – «Мемориальная Зона! Въезд запрещен!».
Захотел бы – не проехал бы иначе чем на танке. В некоторых местах почти до колена грязи. Инстинкт поисковика заставляет скользить взглядом по обочинам. Кукла «стопиццот»-летнего возраста – типичный пупс из детства восьмидесятников. Автомобильный номер – он-то откуда взялся? Бутылочка из-под йогурта. Пустая полторашка пива. Презерватив. Когда-то и здесь было сухо. Пустой корпус от снаряда. Сто пятьдесят два миллиметра.
Когда-то и здесь была война.
Не верится…
А что тут веровать-то? Вот они – вороночки вдоль дороги.
А вот и она – Квадратная Поляна.
И только входим на нее – сюрприз сразу же. В центре поляны могильный холм. В прошлом году его не было. А на холмике – воткнут кем-то крест. На кресте приколочена табличка.
На табличке фломастером:
«Здесь покоятся останки трех бойцов РККА. Поисковики, похороните их!»
– Мать, Мать… Еж на связи.
– Чо надо? – отвечает рация.
– Не чо надо, а позывной говори, – выключив «прием», Еж добавляет пару неласковых.
– Мать на приеме, скотина колючая!
– Давно бы так. Двух баб на Квадратную нам пошли.
– Еж, ты не уху ел?
– Мать, три бойца.
– Так поднимайте!
– Тут легкие, мы дальше упремся. Девок хватит.
Молчание. Шипение в эфире.
– Мать! Мать, Мать!
– Наташка к вам пойдет с Аней. Еще Катька приехала, тоже к вам пойдет.
– Да мне насрать кто. Через сколько придут?
– Через полчаса.
– Отбой связи.
Еж запихивает рацию в карман своей разгрузки:
– Дед, ты тут остаешься.
– Как же мы без Белоснежки-то? – возмущенно орет Дембель.
– Я-то чо? – возмущенно ору я.
– Ты старый. И ты нас найти сможешь. Примерно в километре на северо-восток. Валим.
И они исчезают в лесу.
Я остаюсь. И правильно остаюсь. Я, хотя тут и второй всего раз, не заблужусь. У меня какое-то идиотское чувство ориентации. В лесу я не теряюсь. А в городе – запросто. Бывает такое. Я – лесной человек. Жена так меня и называет ласково – волк. И как меня ни корми, я смотрю в лес. В Демянский лес, в Новгородский, в Ленинградский…
Блин, как же башка болит. Точно дождь будет. Кидаю плащ от ОЗК. Укладываюсь на него около могилы. Достаю фляжку, дополненную водкой перед выходом. Банку тушенки открываю ножом. Хлебнул водки, не чокаясь. Не потому, что не с кем. А за вас, мужики. Закуриваю.
А вот ведь странное дело. Именно за такой случай нас называют гробокопателями.
Кто-то нашел останки трех человек. Решил, что это бойцы РККА. Принес сюда их. Закопал. Сделал могилу. Ну и оставить их уже в покое? Чего носить-то с места на место?
А кто их нашел? Грибники? Охотники?
Нет.
Ребята их нашли, которых называют «черными». Которые копают хабар. Потом продают и живут на него. А найденных бойцов прикапывают вот на таких местах.
Это нормальные «черные». Я и сам-то «черный». Удивлены? Не удивляйтесь. Официально, по документам, я сейчас нахожусь в Старорусском районе Новгородской области. Здесь меня по документам нет. И если сейчас – вдруг! – приедут русские человеки в голубовато-серых мундирах покроя «а-ля вермахт», то вполне могут посадить меня по двести двадцать второй статье – «Хранение оружия и боеприпасов». И правильно сделают. Потому что у меня в руках сейчас пять патронов тем самым калибром семь и шестьдесят два. Я в обойму ножом попал, после того, как банку открыл и в землю его воткнул. Патроны, правда, гнилые. Но это пока экспертиза докажет… Бывали случаи, бывали…
Да что же так башка-то болит? Точно портится погода. Был дождик – будет дождище. Люблю погоду. Любую. Лишь бы голова не болела. Приходится еще бахнуть. Запивая водкой три таблетки цитрамона.
Цитрамон, цитрамон…
Зачем мы сейчас этих бойцов будем поднимать?
Они же уже похоронены!
Нет.
Там, на мемориале, к ним будут приходить гости. Мы будем приходить. Туристы будут приезжать на мощных автобусах. Не то что тут – глухой лес и никому не добраться.
Кому-то кажется, что никакой разницы в этом нет? Они же мертвые! Они же – ВСЁ!
Ага.
Они-то всё. А мы только начинаем.
Это не мы их ищем. Это они выбирают – с кем из нас лечь в настоящую домовину.
Если я не похороню их – меня тоже выкинут на обочину. С тротуара, где я внезапно умру. Вот иду-иду – взял да умер. Как в Ленинграде зимой сорок второго. Тогда увозили на кладбище. На Пискаревку. Еще куда-то. Много куда.
Да и сейчас бомжей увозят.
Бомжей увозят и закапывают под безымянными, с номерами, железными кольями.
А мужиков этих не увозят.
И не закапывают. Их бросили в лесах и болотах. Мы бросили. Да, да. Мы. И нечего валить на Сталина, Ленина и прочих Берий.
Это я не похоронил их.
Потому что Россия – это я.
Повторюсь.
Россия – это я.
Нет, не государство аки Людовик Какой-То-Там.
Я – это страна. Потому что меня когда-то так учили – если не ты, то кто? Потому что Россия состоит из таких, как я. За единую и неделимую? Тогда не делите ее судьбу на всех. Каждый из нас – это Россия. И каждый из нас – несет ответственность за судьбу России. Ровно в одинаковой степени – что бомж, что президент. Потому что…
Россия – это я.
Я буду хоронить своих отцов и братьев, чего бы мне это ни стоило.
А ты – как хоронил своего отца?
Так же будут хоронить и тебя.
Можете считать это манией величия. Мне все равно.
– Дед! Чего разлегся?
А вот и Наташка с Анькой.
Киваю на крест.
Протягиваю им банку с мясом, хлеб, луковицу. Есть надо всегда, пока есть еда. Иначе – смерть. Джек Лондон, чо. И практика. Эти девки – молодцы. Хотя и дуры. Молодцы, потому что допинывают тушенку, смачно заедая луком. Дуры – потому что ездят сюда. Не бабское это дело…
Пока они доедают мой обед – я начинаю копать, доставая бойцов из земли.
Снимаю дерн.
Потом рыхлую и, что странно, сухую землю.
А вот и…
Полиэтилен.
Мешок, черный такой. Я его немедленно рву лопатой.
А потом мы достаем кости.
Одну за другой.
Бедренные откладываем отдельно. По ним считаем бойцов.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть….
Три бойца.
Шесть бедренных костей.
Здоровые такие. Больше, чем у меня. А у меня рост – сто восемьдесят.
Голени идут. Анька вверх пошла по костям. Хотя тут все перемешано. Ребра вместе со ступнями. Череп – один – в тазовых костях. Наши ли? Может, немцев «черные» прикопали? И пошутили?
Наши, наши…
Фаланги пальцев ног в валенках. «Черные» их так и подняли. Не стали доставать косточки из смеси корней, травы и войлока.
И еще наши пуговицы.
Впрочем, пуговицы – это отдельный рассказ. Не те, которые на шинелях, а те, которые на нижнем белье. Есть с четырьмя дырками, есть с двумя, а есть даже и с тремя.
Какие чьи?
Вы пока погадайте, а мы поднимать будем дальше.
Ребра россыпью.
Череп, более-менее целый, – один. Нижней челюсти нет. В верхней только один зуб. Других нет. Только ямки. Сама голова без повреждений. Даже черепные кости – ой, я знаю, что это не по-патологомедицински – по швам срослись без семидесятилетних проблем разложения. Кажется, вот тут даже хрящик сохранился на шве? Складывай давай! И медальон ищи! Дед, да не бубни ты, ладно? Ладно.
А вот плечевых костей только две. Странно. Обычно тоже сохраняются. «Черные» потеряли? Или в бою от потери крови из выдранных плечевых суставов умерли они?
Мы не плачем по ним.
Мы просто копаем и собираем бойцов по косточкам. Одного за другим.
И не разобрать – где чья?
Но вы не волнуйтесь.
Мы вас всех троих в одном гробу похороним восьмого числа.
А пока вот так – в два черных мешка. В каждый мешок – уже в лагере – засунем бумажку, на которой Рита напишет – «Три бойца. Квадратная. В один».
По этой записке мы потом и разберемся.
А пока мешок с мелкими костями я складываю в полевой рюкзак – маленький такой, литров на тридцать, ношу там все нужное, – а два, с костями большими, на плечи и домой. В лагерь. Потому что две девки не донесут в руках пятьдесят килограммов костей.
А я потом дерну до наших мужиков в лес…
На раскопе время летит незаметно. Только начал работать – глянь, уже три часа прошло. Так что, когда вернулись, внезапно наступил обед. А после обеда – так же внезапно – полил дождь. Затяжной такой, мелкой сеточкой накрывший деревьица.
Лес тут какой-то смешной. Не то что наш. У нас там деревья. Чисто энты толкиновские. Здесь же… Какие-то недоростки, право слово. Редко попадаются высокие деревья. Словно когда-то здесь был лесоповал. А потом на этом лесоповале, густо удобренном человеческим мясом, выросли вот эти вот – тополинки, осинки, елочки…
По ним сейчас и барабанит дождь. Плащ ОЗК я опять не взял. Не люблю я его. Длинный, ходить в нем неудобно. И он резиновый – не дышит. Закутаешься в него – и потеешь как в бане. Для бани мы их и берем. А сейчас я иду сытый и довольный по мокрому снизу и сверху болоту, жирно чавкая сапогами.
Вообще-то по дороге хоть и дальше, но удобнее. Напрямки тут километр. Но местами приходится по колено в болотной жиже шагать.
Но я люблю лес под дождем. Идти легче. Да и работать легче, чем под солнцем. Под солнцем потеешь, как негр на плантациях, – тяжело дышать. А сейчас вот самое то – мелкий такой дождик. Нечастый. Я люблю дождь. Впрочем, я солнце тоже люблю. И снег люблю. И даже морозы люблю. Я вообще погоду люблю. Любую. Потому что еще жив. Перестану ее любить – когда умру. А может, и не перестану.
Умрем – все узнаем. А пока остается только верить.
Пока размышляю над тайнами бытия и погоды, дождик заканчивается. И я выхожу на Квадратную. Мужиков нет.
– Еж, прием. Белоснежка на связи. Я на квадрате, вышел с юго-западного угла.
– Привет, любимая. Метров сто на восток продернись. Услышишь много мата – не подходи.
– Понял. Конец связи.
Много мата я услышал почти сразу. И, конечно же, пошел на этот самый мат.
Ругался Дембель.
Он закопался почти по плечи в землю. Время от времени пропадал в яме. После чего мат раздавался снова и оттуда вылетала мина калибром восемьдесят два миллиметра. Ее ловил Юди, меланхолично покуривая на бруствере раскопа, потом складывал минометку к своим товаркам.
– Чо приперся, старый пень, сказали же не подходи! – Юдинцев возлежал аки турецкий султан, наблюдающий за невольниками на каторге.
– Юди… Ты где видел русского человека, который, увидев надпись «Осторожно, покрашено!», не потрогает пальцем?
– Ты не русский. Ты немец. А немцам положено быть законопослушными.
– Я русский немец. И, значит, подчиняюсь законам тогда, когда хочу. И вообще, от деда у меня только печень.
Дед у меня и впрямь – немец. Самый настоящий немец. Матерый такой. Фашистский. Попал, собака, в плен, и батю моего бабушке заделал.
В это время Дембель вышвыривает еще одну мину.
– Пятьдесят три.
Я сначала не понял, что за калибр такой.
Только потом дошло – это порядковый номер.
Мины лежат в рядок по десять штук. Рядом двенадцать снарядов калибром семьдесят шесть миллиметров.
А Еж со Змеем таскают поросенков по сто пятьдесят два миллиметра. Здоровые. Восемь штук уже стоят рядком.
Все это добро, как выясняется, нестреляное. Артобоз, что ли, тут накрыло? Ну да… Скорее всего. Больше тут ничего нет. Только ВОПы – взрывоопасные предметы.
Вопы, вопы – всем нам… Рифма нам, в общем. Ежели что. Даже хоронить будет нечего. Кроме Буденного. Он копается почти в сотне метров от взрывоопасной полянки.
– Дед, я флягу твоего деда нашел, смотри!
Фляжка и фляжка. Немецкая.
– Деда мне лучше найди.
– Нету тут твоего деда. И моего нет. Только фляжка. А ты ее переверни, переверни…
Я переворачиваю немецкую фляжку. А на ней надпись:
«Отнята у немца в бою».
И звезда.
– Еще есть чего?
– Не-а. Только фляжка.
Вот так бывает. Отобрал у фрица фляжку. В бою. А потом потерял ее. Бывает. Дай бог, если этот боец дожил до Победы.
Нет, не так.
Дай бог, ЧТОБЫ этот боец дожил до Победы.
А если он и погиб тогда – пусть его смерть была красна. Не обязательно на миру. Но обязательно – правильная.
Вот так вот живешь-живешь и вдруг понимаешь – смерть бывает правильная и неправильная. Вот сосед у меня как-то умер. От алкоголя. Два года лежал на кровати и пил. Больше ничего не делал. Потом и вставать перестал, чтобы в магазин сходить. Всех просил. Дружки ему носили. Меня просил. Я по первости брал для него. Потом перестал. Так он схитрил. Говорил мне, что сердце у него болит, врачи мне валокордин прописали. Возьми, а, пару пузырьков, я его в чай капаю. А потом выяснилось, что он их тупо выпивает – конечно, семидесятипроцентный спирт.
Вот так и помер лежа. В загаженной, обосранной комнате. В темноте. В одиночестве. И самое странное, что я не помню – как его зовут? А ведь хоронил в прошлом году. Или позапрошлом? Или?
А вот своих бойцов помню.
Алешка, Витька, Иван,
Калимов. Трошин. Сергеев.
Чудово, Демянск, Демянск.
Архангельск, Воронеж, Чита.
1942, 1942, 1942.
1995, 1998, 2000.
Трех бойцов я нашел, опознанных за пятнадцать лет. Всего трех. Извините, больше не получилось. Пока не получилось.
Вот такие бывают смерти.
Так что после того как Буденный перерыл землю вокруг фляжки, мы возвращаемся на «рыбное» место.
Лучше уж от восьмидесятки, чем от валокордина.
Быстрее и честнее.
А тем временем Дембель идет на рекорд. Уже сотня минометок. Я такого еще не видал. Бывало всякое. Как-то нарыли пулеметное гнездо Гансов – там гильз от французского «Гочкиса» было столько… Что когда собрали их в кучу – куча выросла мне по колено. Такое количество снарядов и мин в одном месте – первый раз вижу.
– Юди, а ты что не копаешь?
– Лень! – флегматично отвечает наш здоровяк.
– Да они, ссуки, вниз идут. Тут вдвоем нечего делать… – Дембель выкидывает еще одну мину – А Юдинцеву тут вообще… Он тут застрянет.
И впрямь. Раскоп похож на шурф. Тоннель к центру земли.
Попеременно мы лазаем туда, сменяя компактного маленького Дембеля. В итоге через два часа все вырыли.
Шестьдесят две мины калибром полсотни два. Сто двенадцать мин калибром восемьдесят два. Снарядов не прибавилось – двенадцать: семь-шесть и восемь поросенков.
А потом мы засекаем координаты GPS. Пусть саперы сами вывозят это барахло. И мы идем в лагерь, с сожалением оглядываясь на кучу убийственного железа. Почему с сожалением? Да потому что мы и сами можем бахнуть. Выкопать хорошую яму. На дно сначала слой хвороста. Потом все это слоями складывается. Вниз поросенки, потом средний калибр, потом полтиннички, между слоями и сверху – снова хворост. Потом это все заливаем бензинчиком. Делаем дорожку метра на три. Поджигаем и… БЕЖИМ!!!
Пока там все прогревается – свалим метров на пятьсот. А там уже и не опасно. Осколки вниз уйдут. Проверено. Зато БАХ! Будет такой, что в Питере услышат. Вот из-за этого и не подрываем. Еще ночного визита ментов нам не хватало…
И выходим домой. Не потому, что темнеет. Тут темно становится после одиннадцати – белые ночи практически. И не потому, что устали. Некогда тут уставать. А потому, что снова пошел дождь. И на этот раз уже сильный. Почти ливень. Согреться у нас, конечно, есть чем. Но вот земля… Мгновенно превращается в болото.
А вот это плохо.
Жаль, что день прошел насмарку…
А в лагере ждал сюрприз. Даже два сюрприза. Во-первых, сегодня – совет командиров. А во-вторых…
Васька со Степаном приехали.
Парни сидели за столом, закидывая в себя топливо – гречку с тушенкой. Ну а потом мы начали обниматься, хлопать друг друга по спинам и жать руки – обычные мужские ритуалы, выражающие радость после годовой разлуки.
Мужчины не любят «выражать эмоции» – мужчины живут. Если мы рады друг другу – мы обнимаемся. Если не рады – оскаливаемся в якобы приветливой улыбке. Впрочем, о чем это я?
Васька достает канистру из-под стола. Пятилитровую:
– По маленькой, мужики?
Еж хмыкает:
– А большая у тебя какая?
– Вот такая! – Степка достает уже десятилитровую. В одной коньяк, в другой водка. В третьей – тоже «маленькой» – наливка для девчонок.
– Идите-ка к палаткам, мужики, сейчас совет командиров тут б-будет. Саша п-приедет, – а вот и наш главнокомандующий появился. Юра Тимофеевич Семененко. Мужик строгий, серьезный, справедливый и…. Непьющий. И к этому делу относящийся сугубо отрицательно. И в этом он абсолютно прав. Пьяные дебоши, ор у костра и кидание патронов в костер – дело весьма неприятное. Самое смешное, что мы – вятские водкохлебы – пьем совершенно по-другому.
Для тепла, расслабления и разговора. А вот пьяных дебошей у нас не бывает. Впрочем, вру. Бывают. Иногда. После таких историй виновник просто выгоняется из отряда. Навсегда. И безоговорочно. Без права апелляции.
Устал пить? Иди спать.
– Думаешь, все выжрут? – с сомнением смотрит Еж на спиртное. – Надо тогда перепрятать.
– Да неудобно просто. Давай сначала дела все решим, а п-потом уже сидите тут.
– На самом деле, мужики, идите-ка в лес!
– Рита, мы только что оттуда, – это Змей подал голос.
– Ладно, мужики, пойдем, правда, посидим у нашей палатки, – Степан – серьезный такой мужик – вставляет свое веское слово.
Парни набирают еды-закуски в свои котелки и отправляются к палатке Васьки и Степки.
Они не входят ни в какой отряд. Они – сами по себе. Прямо как я. Рассказывать я про них не буду. Потому что не знаю про них ничего. Не потому, что они такие все из себя «черные» – а потому, что мне это не надо. Мы встречаемся на Вахте, на Вахте и расстаемся.
Мы просто работаем вместе. Работаем… Воюем. Только у нас вместо автоматов – лопаты в руках. Похоронные команды…
Парни поднимаются на обрыв и исчезают за поворотом. Я и Еж – остаемся. Еж – потому что он все-таки командир. А мне просто интересно.
И еще… я же говорил, что официально меня тут нет? Меня нет ни в одном списке ни одного из отрядов. Я не написал, в двадцатый уже раз, заявление о вступлении в поисковый отряд, который когда-то сам создал! Я не расписываюсь в журнале техники безопасности. Я не подписался под распиской «О существовании статьи двести двадцать второй – предупрежден!». У меня нет справки из областного УВД – «По статье два-два-два не привлекался». Да, да… Для того чтобы искать бойцов – сейчас необходимо доказательство того, что ты не привлекался за хранение боеприпасов и огнестрельного оружия. А если тебе нет восемнадцати – еще и разрешение от родителей, заверенное нотариусом. Я просто приехал и копаю. Меня нет.
А вот и Тамбов пришел. Почти одновременно с ними – Архангельск-Северодвинск. Еще Тула, Рязань, Пермь, Питер…
Наших командиров аж шесть штук.
Юра – командир кировского отряда. Ритка – командир слободского «Возвращения», Ежик – Котельнич. Гоша Култышев – Фаленки. Леха Зыкин – Нолинск. Зуевский еще отряд. Командира пока не знаю, как зовут. Еще толком не познакомился с ним.
А что вы хотели? У нас шестнадцать поисковых отрядов из Кировской области. Из сорока двух районов. Здесь шесть – остальные в Новгородской области.
А я из какого отряда? А не из какого. Я сам по себе. Семнадцатый я.
А вот и Сашка – командир всей синявинской поисковой экспедиции. Наши вятские отряды – все – подчиняются Юре Семененко. Юра за нас за всех перед Сашкой отвечает. Все просто. Как в армии.
Садимся за стол. Мы заводим генератор – лампочка над столом немедленно загорается. Так-то светло еще. Но – пусть будет еще светлее.
– Значит, так, – начинает Сашка, сдвигая фуражку военного образца на затылок. – Есть две новости. Одна плохая…
– А вторая, соответственно, еще хуже… Начинай с ху… С очень плохой, – встревает Еж.
– Чтобы просто плохая – хорошей показалась? – засмеялся Юрка.
Хороших новостей от начальства не бывает. Даже в день зарплаты. А тут у нас зарплат нет. Тут мы платим.
Сашка пожимает плечами:
– Товарищи командиры, начну с просто плохой новости – транспорта на захоронение не будет. Добираться будете сами. Я, конечно, попытаюсь…
Потом Сашка долго рассказывает, где он может достать транспорт для того, чтобы поисковики добрались до похорон. Все ржут. Я улыбаюсь – новость как новость, ничего плохого. Первый раз, что ли? От нашей стоянки до кладбища – всего семь километров по прямой. В прошлом году ходили, в позапрошлом. Сейчас что, не доберемся, что ли?
– Новость очень плохая, – Саша держит паузу как хороший актер, дожидаясь, пока утихнут смешки за столом.
– Захоронение будет шестого числа…
Отлично. Замолкли все. Тишина мертвая.
Обычно захоронения весной всегда восьмого мая. Перед Днем Победы. Вахта заканчивается в этот день.
– А с-смысл в чем? – Юра первым озвучил общий вопрос.
– Смысл, Юрий Тимофеевич, в том, что восьмого числа на торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, приедет кто-то из наших снусмумриков, – и Саша ткнул пальцем в тент.
– В смысле, Валька Матвиенко, что ли? – не понял Еж.
– Нет. Кто-то из президентов. Этот или тот – не знаю. Захоронение переносится на шестое – в целях безопасности. Поисковикам просили передать, чтобы носа не показывали из своих палаток. Иначе будут проблемы. Большие.
– Понятно. Как обычно – мы тут лишние, – это командир из Архангельска-Северодвинска голос подал. – Мы, значит, тут в грязи, сырые, голодные копаем, а эти… Это же нельзя так оставить, он же, они же…
И завел речь на тему, что кто-то предал Россию.
Это он любит.
Зато не любит Саша. И я тоже не люблю эти глупые разговоры. Если тебе не нравится что-то – иди и делай. Что делать? А я откуда знаю? Я тоже не знаю. Но сидеть и возмущаться на нетрезвую голову – более чем глупо. Или закладывай фугас направленного действия. Одного сегодняшнего склада хватит на весь кортеж, вне зависимости от бронированности лимузинов.
И тут меня осеняет.
Они же нас боятся.
Нет, не только снусмумрики. И не только поисковиков. Все они всех нас боятся. Не мы их – они нас. И мне вдруг становится приятно.
Меня – уставшего, грязного, мокрого, – они – довольные, сытые, толстые – они меня боятся. Потому что мне уже нечего терять. Почти нечего. Кроме своей семьи. И мне становится понятно, почему, унижая свой народ правой рукой, левой они поощряют культ семьи – материнский капитал и все такое. Потому что человек, любящий свою семью, будет держаться за нее. Это последний якорь в государстве, которое относится к тебе как к рабу. Они не понимают одного. Того, что мы когда-нибудь снимем и этот якорь – зажмуримся и пойдем отвоевывать для своих сыновей нормальную жизнь.
Жизнь, в которой их внуки не будут искать дедов, брошенных на мусорных свалках. Жизнь, в которой можно работать, а не зарабатывать. Где не нужно быть эффективным, а можно быть полезным. Где можно уметь, а не иметь.
Чего это меня на философствование-то потянуло?
– Машина за останками придет пятого в обед, – продолжает Саша. Мне его жалко. Потому что он сам понимает маразм происходящего, но ничего сделать не может.
– А дальше?
– А дальше оставаться в лагерях…
– Саш, работать-то можно?
Мать твою… Можно ли хоронить людей?
– Разрешения до какого числа?
Администрация Кировского района Ленинградской области выдает разрешения на «земляные работы».
– Пятнадцатое.
– Шестнадцатое.
– Четырнадцатое.
Голоса вразнобой. Командиры сообщают – до какого числа они получили разрешение на поиск. Кто как просил – все, на всякий случай, «на попозже».
– А с найденными что делать?
– Как обычно, времянки.
Времянка… Нашли. Похоронить их не имеем права. Складываем останки в полиэтиленовый мешок. И снова закапываем около стоянки. На следующий год похороним. Когда можно будет. Когда чиновники разрешат.
Теперь понимаете, почему я все «чернею» и «чернею»?
Я не могу, не имею морального права хоронить только тогда, когда мне разрешат. Я имею право похоронить ребят тогда, когда я их нашел. Вернее, не так. Ребята имеют право лечь в домовины в любое время года и суток. Когда ОНИ захотят. А никак не хемули со снусмумриками. Потому что если бы не ребята – лунтики и пунтики сейчас работали бы оскопленными евнухами на фермах тысячелетнего рейха. Если бы вообще родились… Не помнящие родства и помнить не желающие… А ведь у одного из наших Главных деда тут нашли пару лет назад. Именно здесь. Под Синявино. Но ему, похоже, все равно.
А потом разговор идет об обычном – кто, где и как работает. Нормально работаем. Кто-то десять бойцов поднял. Кто-то еще ни одного. Саша подбивает итоги – на второе мая всей экспедицией подняли уже сто двенадцать бойцов. Опознанных мало. Очень мало. Один.
Грустно от этого. С другой стороны – это же не грибы. Они не растут снова и снова. И то, что каждый год их становится все меньше – это наша работа. Только я не представляю – как мы будем жить после этого Дня? Это как с солдатами. Воюешь, мечтаешь вернуться домой, дожить до Победы. Доживаешь. Возвращаешься. А дальше-то что?
А дальше надо жить тихой мирной жизнью. Где места для подвига гораздо больше. Где подвиг – не одноразовый рывок на амбразуру, а нудный и рутинный – ежедневный! – труд. Причем, как правило, никем не оцениваемый.
А ведь многие из тех, кто вернулись – так и не смогли перестроиться. Может быть, потому, что ничего не умели, кроме того, как убивать.
Так-то это страшно. Двадцатилетний пацан, который только и умеет – как правильно убивать. А ведь в мирной жизни нужно совершенно другое… И некому тебя научить этой самой мирной жизни.
У нас всех попроще. На войну мы ездим как в отпуск. Кто-то раз в год, кто-то два. Это здесь мы – Змей, Еж, Буденный, Белоснежка, Мать…
А дома мы – юрист, инженер, журналист, спасатель, педагог…
Так что все нормально с нами будет. Наверное. Если сможем остаться людьми, а не функциями.
Собственно говоря, на этом совет и заканчивается. Командиры разбредаются по своим отрядам, с привычной злобой ругая все и вся.
Сашка остается ночевать у нас. В землянке места достаточно. И мы идем к Ваське со Степой.
Там как раз решают – куда идти завтра.
Питерские предлагают идти на поле за дорогу. У них минаки классные – до пяти метров в глубину берут. А поле это – перепахано было после войны. Вместе со всем железом и людьми.
После первой же вспашки трактористы местного колхоза отказались там работать. После нескольких подрывов.
Если выстроиться цепочкой – можно пройти по этому полю – пять километров в длину, пять в ширину – и просто пособирать кости с земли. В прошлом году прошли через него наискосок. Набрали два десятилитровых мешка костей. Где-то берцовая кость. Где-то лучевая. Где-то нижняя челюсть. Где-то ребро.
Как их всех хоронить? Как учитывать?
Никак.
Это доборы.
Есть такой термин – добор. От слова «добрали». Ну, например. Идешь по лесу – старый раскоп. Прошлогодний. А в отвале земли косточка сереет. Просто вот не заметили в прошлом году. Бывает такое – неаккуратно сработали. Наша вина, я знаю. А бывает, что прямое попадание – и кости по лесу разбросало. Или ногу-руку оторвало-выкинуло. Или перепахали – как на том поле… Вот это все и есть доборы. За бойца мы их не считаем. Просто вместе со всеми и хороним останочки.
– Мы на поле не можем идти, разрешения на него нет, – говорит Еж.
– Мга разрешения не дала, что ли, – удивляется Степан.
– А мы там и не спрашивали ни разу за семь лет.
Поле – в другом районе. Чтобы там поработать, надо получить разрешение уже не в Кировском районе, а в Мгинском. Граница идет прямо по дороге. Все время представляю себе, что вдруг граница бы шла по лесу. И нашли бы мы бойца, ноги которого в Кировском, а голова во Мгинском. И не имеешь права подымать то, что лежит в другой административной единице. А я не шучу. Начальник Мгинского РОВД за этим следит как за своим огородом. Караулит. Да не шучу я! Два года назад его архаровцы остановили нашего парня, только из леса вышедшего и решившего сократить путь через это проклятое поле.
Наряд его там и цепанул.
Особых страстей не было. Отделался часом в «бобике» и заполнением протокола. Слава богу, патронов в карманах не было. Три патрона – основание для задержания. А ежели эти патроны рабочие – основание для пяти лет лишения свободы. Это как экспертиза покажет.
Это мы все прекрасно знаем.
Но решаем идти все же на поле. Почему? Да потому как там мало кто копает. Потрудиться там надо. Не. Не как в лесу. Труднее. В лесу легче работать. И не из-за Этих… На Этих нам наплевать. Там…
– Может, траншею завтра проверим? – подаю я голос, садясь у костра.
– А качать ее как? Там же задница.
– Как-то надо, – пожимаю плечами.
– Траншея? Какая траншея? – Сашка берет из моих рук кружку с водкой.
– Не доходя мелиоративной канавы метров триста. Перпендикулярно к речке выходит.
Сашка хлебает глоток, передает кружку дальше. Отблески костра на лицах. Дым идет вверх. Если бы не питерская природа – я бы сказал, что день завтра будет солнечный.
– А что там?
– В прошлом году двух бойцов на брустверах подняли, гильз куча, как обычно, Дед фляжку немецкую оттуда поднял. Мы тогда пытались ее перекрыть и воду отчерпать ведрами, но там ключи из дна бьют. Она наполняется, зараза, на глазах. Только сел перекурить – снова полная, – это Артем-Буденный голос подал.
– Помпа нужна. Без помпы там делать нехрен, Белоснежка, скажи!
– Нехрен! – соглашаюсь я с Юдинцевым. – Там воды мне почти до средины бедра. Вот странное дело – река ниже. Траншея на холме. А вода в реку не уходит.
– Здесь везде так, – Сашка опять сдвигает фуражку на затылок и открывает свой планшет.
– Копаный? – немедленно прищуривается Еж.
– Нет. Но аутентичный. От деда остался с войны. Руки убери, потом покажу! – Сашка достает блокнот и делает какую-то запись в нем.
– Блокнот тоже аутентичный? – немедленно язвит Еж, слегка обиженный тем, что планшетку в руки не дали.
– Блокнот как раз копаный… – флегматично отвечает Сашка. А потом сразу переходит к делу. – Помпу могу послезавтра привезти. Только с условием – бензин ваш.
– Да у нас дядя на бензиновой фабрике работает. Жрать нечего – один бензин в доме. А он все шлет и шлет, сволочь такая! – Дембель это все говорит так серьезно, что я бы ему поверил. Если бы не знал его. Вот точно так он и девок охмуряет.
Саша нас уже знает, а потому на провокации не поддается.
– Значит, с вас бензин, с меня помпа. Откачаем траншею – покопаемся там. Леха, а ты петь сегодня будешь?
Это уже мне.
Вот блин, опять… Ну не люблю я петь. Хотя и умею. Ну ладно… Все равно от вас не отвязаться. И я беру гитару в руки. Смотрю на костер. На лица моих друзей. На лес. И…
Roter Sand und zwei Patronen: Eine stirbt in PulverkuЯ. Die zweite soll ihr Ziel nicht schonen, Steckt jetzt tief in meiner Brust…– Бля… – потрясенно говорит Еж. – Это вот что ты сейчас сделал?
– Ууу… Немчура проклятая… – протрубил Юдинцев, прикуривая от обугленной веточки из костра.
– Будете смеяться, но это «Раммштайн», – эту песню я выучил на языке предков еще пару месяцев назад.
– Белоснежка, ты бы еще «Хорст Весселя» спел!
Я закрываю глаза и повторяю припев. Теперь уже на русском.
Красный песок и два патрона: Один умрет в поцелуе пороха, Второй же цель не пощадит, И глубоко мне грудь пронзит…А потом, без перерыва:
Если я в болотах от поноса не умру, Если русский мне снайпер не сделает дыру, Если я сам не сдамся в плен, То будем вновь Крутить любовь С тобой, Лили Марлен, С тобой, Лили Марлен.Вот такая я скотина. Ага. Немецкие песни пою. А потом мы все ржем. Над чем ржем? А бог его знает. Над звездами, наверное, которые внезапно высыпали веснушками на ночном лице неба. Днем эти веснушки исчезают…
– Значит, завтра на поле, послезавтра на траншею?
– Вы бы, мужики, не ходили бы туда… – советует Саша.
– Да хрен с имя, – по-вятски отвечает Еж. – Отбрехаемся как-нибудь.
– Ну, как хотите… Мое дело предупредить.
Мы допиваем последнюю кружку. А потом разбредаемся по землянкам и палаткам. Я захожу последним. Пока все заползают в спальники – я забиваю печку дровами. В землянке вроде и так тепло. Но под утро это тепло уйдет. Так что пусть она пока гудит – наша печечка, которую мы притащили за тысячу двести километров из далекого Кирова. Второй раз причем. Первую кто-то стыбздил. Обратно тащить лень – вот и закапываем ее после вахты рядом с землянкой. То ли на чермет сдали, то ли домой утащили. Ну, ничего – еще стыбздят – еще привезем.
Люди все-таки уроды. Это моя последняя мысль на сегодняшний день. После этого я залезаю в свой спальник. Под голову кладу пуховик, вывернутый наизнанку. Я лежу крайний у выхода. Оттуда слегка поддувает. Но мне пофиг. Потому как печка – работает, водка – греет, а спальник сшит из термофайбера.
Ах ты ек-макарек! Носки забыл сменить на ночные, мамой вязанные… Так в обычных хэбэшных и уснул…
И снилась мне почему-то мама. Молодая, красивая…
Линия жизни (Январь 1942 года)
Холод бывает разным…
Кто-то из знаменитых полярников сказал, что к нему нельзя привыкнуть. Когда Вика первый раз прочитала об этом, то сильно удивилась.
Что такого страшного в этом холоде? Оделся потеплее – и все! Вике всегда нравилась зима – елка, горки, мандарины, лыжи и коньки. Это же здорово! Особенно здорово пахла мама, когда возвращалась домой с работы. Свежий запах морозца в теплой квартире.
А папа пах табаком и машинным маслом.
Папа пропал без вести еще осенью. Его самолет сбили за линией фронта.
А потом пришел холод. Настоящий военный холод. Безжалостный.
И разный…
На улице он жесткой балтийской фанерой скребет по лицу, забираясь под шарф, распахивая пальто. Злой и всемогущий.
Дома он другой. Подлый и коварный. Он сочится струйками из заколоченных окон – стекла вылетели еще в сентябре. Он ядовитыми змеями ползет по ледяной батарее парового отопления. Бывшего отопления. Потом крадется по мерзлому полу и бессильно тает около маленькой буржуйки, чадно дымящей вечерами.
Около этой печки теплится жизнь. На ней кипятится суп – кипяток, в котором размочена дневная пайка хлеба. Как-то мама достала сахара. Маленький кулечек. Боже! Как это вкусно! Кипяток, хлеб и чуть-чуть сахара!
Вика уже и забыла, что так вкусно бывает. Впрочем, в ее жизни само это слово «вкусно» – исчезло. Разве может еда быть невкусной? Какая же она была дура, когда до войны не любила овсянку. Разве можно не любить еду? Сейчас бы Вика съела целую кастрюлю – да что там! – целое ведро этой овсянки!
Голод грыз изнутри, разъедая тело, сжирая душу. Холод вцеплялся когтями снаружи. Два врага, которых Вика ненавидела сильнее, чем проклятых немцев. Она уже привыкла к ежедневным обстрелам и бомбежкам. Но к холоду и голоду привыкнуть никак не могла.
Она ругала себя последними словами, укоряла, что готовилась к вступлению в комсомол, а комсомолка должна быть готова к любым лишениям!
Но не могла оторвать взгляда от черненького ломтя кислого хлеба, который мама резала тонкими пластинками на ужин.
Однажды, когда мамы не было дома, а школа была закрыта, Вика, отчаявшись, побрела на кухню – в десятый, а может быть, в сотый раз проверять шкафы и ящики.
Но банки уже давно были вылизаны, а крупинки круп аккуратно собраны. Пальцем их собирали. По одной.
Зачем-то в тот день Вика полезла за кухонную плиту. И нашла там сокровище! Целую картофелину! Засохшую, сморщенную, но картофелину! Вика даже заплакала от счастья. Она представила, как обрадуется мама. Когда она придет, Вика нажарит на печке тоненькие ломтики – и у них будет царский ужин!
Она взялась за нож и начала тоненько-тоненько строгать ее. Вышло пятнадцать ломтиков. Таких прозрачных, что через них можно было смотреть.
Но пятнадцать же не делится на два? Мама будет отдавать этот ломтик Вике, а Вика маме. И жадными глазами будут смотреть на него, сглатывая тягучую слюну. Потом они его уронят, случайно наступят на него, и ломтик испортится и они поссорятся. Нет уж!
Вика осторожно взяла самый маленький пятнадцатый ломтик и положила его в рот. Боже ты мой! Как вкусно! И зачем ее жарить или варить? Когда война закончится, Вика будет есть только сырую картошку! Ведь у нее вкус хлеба! Правда, кожурка немного хрустит, но это даже пикантно, как сказала бы их соседка-артистка со съедобной фамилией Лимонова.
Очнулась она тогда, когда все ломтики закончились.
Как-то вот так взяли и закончились. Сами собой. Неожиданно и бесповоротно. Окончательно. Не помня себя от стыда, Вика снова бросилась на кухню и снова стала искать за плитой, в углах, в столе. Даже попыталась отодвинуть тяжеленный посудный шкаф. Но у нее, конечно, ничего не получилось. Даже папа двигал его вместе с дворником дядей Маратом, когда маме приспичивало вымыть полы под ним.
Но картофелин больше не было.
Этот маленький, сморщенный, коричневый привет из довоенной жизни оказался единственным. Как она туда закатилась, эта картошечка? Как она там не сгнила, дождавшись злого января сорок второго года?
Эх, картошка-тошка-тошка… Пионеров идеал.
Вике было нестерпимо стыдно. Она так и проплакала весь день до прихода мамы. Даже Жюль Верн так и остался сиротливо валяться на ледяном полу.
Вика побоялась признаться в своем преступлении.
Нет. Мама бы ее простила, конечно. И даже похвалила бы – потому что… «Ты еще молодая и тебе надо жить и расти. Поэтому тебе надо кушать больше!»
Но в глазах ее мелькнул бы голод. Это голод рождал в людях зависть и ненависть. Это были не мамины чувства, но они иногда мелькали в ее глазах.
А с едой становилось все хуже.
В январе перестали выдавать хлеб. Совсем.
Вика перестала ходить в школу. Она вставала в четыре утра и брела из дома занимать очередь в магазин, что на бывшей Владимирской площади.
Очередь стояла часами – покорно и безмолвно дожидаясь открытия магазина. Но он не открывался.
Питались они в те дни плиткой столярного клея, которую мама украла с работы. Клей варили и давали ему остыть. Тогда он превращался в студень.
А вчера хлеб дали. Но только за один день. За пропущенные выдавать не стали. Хлеба просто не было.
Сто пятьдесят блокадных грамм Вике как иждивенке и сто пятьдесят маме как служащей.
Это было огромным счастьем, когда двадцать шестого декабря подняли нормы хлеба. На целых двадцать пять грамм! Вот оно какое – счастье!
Жаль, что сестре это не помогло.
Вчера вечером они ели хлеб с остатками клея и смеялись от счастья. «Мама, помнишь, ты мне говорила, чтобы я не налегала на мучное?» «Доча! Я ошибалась!»
Утром же пришел новый холод. Холод, которого Вика еще не знала.
Этот холод тянул из нее иззябшееся тепло. Под тремя одеялами, накрытые маминым пальто, они спали, тесно прижавшись друг к другу. Грели друг друга. Маленький узелочек жизни в море холода. Маленький огонечек двух сердец.
И вдруг этот огонек исчез.
Вика нашла в темноте руку мамы. Ледяную руку.
Тогда девочка выбралась из груды одеял, взяла спички и зажгла небольшой огарочек парафиновой свечи. Взяла подсвечник и поднесла к маме.
Желтый свет пугающе заскакал по истончившемуся лицу женщины. Бледному, тонкому, прозрачному.
Глаза ее были открыты. Большие синие глаза. «В глаза твои я и влюбился! – смеялся когда-то папа. – Они как мое любимое небо!»
Когда пришла война, глаза ее стали еще больше. Потом еще и еще.
Вика не знала, что в веках хранится последний запас жира у человека. Когда эта жировая прослойка исчезает – глаза становятся просто огромными. Это значит то, что человек начинает питаться самим собой. И его уже не спасти. Никакими медикаментами. Никаким усиленным питанием. Ничем. Вика этого не знала. Она поняла только то, что мама умерла.
Девочка выбралась из-под одеял. Изо рта валил пар и растворялся в темном воздухе комнаты.
Она взяла свечку, открыла дверку буржуйки. Начала туда кидать наструганные щепки бывшего стола. Потом вырвала несколько страниц из так и не дочитанных жюль-верновских «Приключений капитана Гаттераса». Зажгла их. И, прислонившись к стене, стала ждать, когда лед в кастрюльке превратится в воду и хоть немного согреется.
Тогда можно будет позавтракать.
Ненароком она глянула в изодранную книжку и машинально пробежала взглядом по строчкам:
«Наступили дни отчаяния. Мысль о смерти, о смерти от холода предстала во всем своем ужасе; последняя горсть угля горела со зловещим треском; огонь готов был погаснуть, температура в помещении заметно понизилась. Но Джонсон пошел за новым топливом, которое добыли из тюленьих туш. Он бросил куски жира в печь, прибавил пакли, пропитанной жиром, и довольно быстро восстановил в кубрике прежнее тепло. Запах горелого сала был отвратителен, но приходилось его терпеть. Джонсон сознавал, что новое топливо оставляет желать лучшего и, конечно, не имело бы успеха в богатых домах Ливерпуля»[5].
Жиром… Они топили жиром печь. Как же можно – едой кормить огонь? Эх, сейчас бы этого тюленьего жира, да намазать на краюшечку хлеба, толсто так намазать…
Внезапный спазм закрутил резью желудок, и Вика, скорчившись от боли, приоткрыла дверку печки и нервно швырнула изодранного Гаттераса в ненасытные челюсти огня. Прости, капитан. Не хлебом единым жив человек? Ну, ну…
Мама всегда оставляла кусочек хлеба себе и Вике на утро.
Теперь Вике достался ее завтрак.
Мама умерла. Ее больше не будет. А Вика будет. Будет есть ее хлеб. До конца месяца еще пятнадцать дней. Значит, целых пятнадцать дней Вика сможет есть мамину долю.
По правилам, эти карточки надо сдать. И тогда кто-то из людей спасется этим дополнительным пайком. Например, раненый с фронта. Но почему не Вика? Почему Вика не должна спастись? Чем она хуже?
Нет. Она не пойдет сдавать карточки. Сейчас она позавтракает и пойдет за хлебом. А потом вернется и покушает еще раз.
Теперь у Вики целых двести пятьдесят граммов хлеба на день! Двести пятьдесят! С одним условием – если маму не везти в покойницкую.
Мама поняла бы и простила бы. И она поступила бы так же.
Вика не плакала. У нее просто не было сил на слезы. Смерть стала таким же привычным явлением, как война.
За полгода с начала блокады их дом опустел.
Кто-то ушел на фронт. Кто-то смог эвакуироваться. Кто-то умирал.
Смерти начались в конце октября.
Нет, до этого тоже умирали. От болезней там. Или от старости.
И погибали. Однажды снаряд попал в трамвай на Невском. Когда Вика выходила из бомбоубежища – дворники уже смывали кровь из шлангов. Их метлы звенели осколками стекла и металла. Сердитая милиционерша, возрастом чуть старше Вики, покрикивала на любопытных. Проходите, мол. Не мешайте! Разорванные взрывом тела были заботливо укрыты белоснежными простынями, моментально намокавшими кровью.
Вот тогда Вике стало очень страшно. Когда она посмотрела на скрюченные женские пальцы, словно пытающиеся вцепиться в асфальт, а на одном из них блестел солнечным зайчиком перстень… Она едва не упала в обморок.
Тогда было страшно. А потом Вика привыкла. Привыкли и ленинградцы.
Первыми от голода начали умирать мужчины. Просто шли и падали. Садились на скамейки и не вставали.
«Потому что мужчины слабее», – объяснила ей мама.
Да. Мама, как всегда, оказалась права. В их доме, что на улице Марата, мужчин не осталось совсем.
Потом стали уходить старики и дети.
Мертвое тело на улице стало обыденностью. Через них просто перешагивали, не обращая внимания. Они могли лежать часами, днями, порой неделями, пока измученные бойцы похоронных команд не подбирали их.
Потом куда-то увозили.
Сложнее всего было с теми, кто умирал на лестницах. У соседей уже не было сил, чтобы просто вытащить труп на улицу. Телефонная связь не работала. В их доме, на площадке третьего этажа, две недели пролежало в декабре тело старого библиотекаря Моисея Рувимовича. Хорошо, что было морозно.
Похоронщики просто спихнули тело в пролет. А потом, осторожно держась за стенки и шатаясь от усталости, еле-еле закинули его в грузовик, набитый такими же счастливцами, вырвавшимися через смерть из блокадного кольца.
Вода закипела.
Вика вздрогнула.
Сняла с печки кастрюльку.
Потом макнула туда промерзшую за ночь корочку хлеба. Потом осторожно сунула ее в рот и начала посасывать. Как младенец.
Позавтракав, пошла за хлебом. С единственной мыслью – хоть бы дали этот хлеб.
Самое сложное для Вики было вот это. Спуститься с четвертого этажа в парадное.
Когда перестали работать водопровод и канализация, ленинградцы стали носить ведра. Наверх с водой. Вниз с отходами. Идти было тяжело. Вода плескалась, когда человека пошатывало. Она стекала по стенам, по ступеням и постепенно намерзала крутыми наледями. Вика сама как-то поскользнулась и уронила тяжелое ведро. Хорошо, что это были нечистоты, а не вода из Невы. Иначе пришлось бы снова идти до проруби.
Скалывать этот лед было уже некому. Дворник дядя Марат погиб в октябре, во время очередного ночного налета, когда сбрасывал зажигалки с крыш. Смешной он был… Все время шутил: «Я потомственный татарин, потомственный дворник и потомственный ленинградец! Поэтому в честь меня и назвали нашу улицу!»
Да и не смог бы он.
Смог бы он долбить ломом лед?
Идти приходилось, вцепившись обеими руками в лестничные перила. Хорошо, что папа подбил маме валенки кожей. Теперь девочка ходила в маминых валенках. А мама – в папиных унтах. Довоенную зимнюю обувь Вики они выменяли на Владимирском рынке. На кусок свиной кожи. Ее потом нарезали как лапшу – так и варили и ели.
Ходить в ботиночках было невозможно. Нет, не потому, что холодно.
Люди пили много воды. Простой воды, лишь бы горячей. Кипяток создавал иллюзию сытости. Но на холоде отказывали почки. Все время хотелось в туалет. И опухали ноги. Они просто набрякали этой водой, становясь похожими на бледные белые бревна.
Однажды, когда еще были силы, Вика и мама пошли в баню. Они все еще работали. В целях экономии одно отделение было закрыто. И мужчины, и женщины теперь мылись в одном.
Сначала Вике было очень стыдно раздеваться.
Во влажной, парящей раздевалке прямо напротив нее сидел какой-то старик и с кряхтением натягивал кальсоны на узловатые, в извилистых синих полосках, ноги.
Старик никакого внимания не обращал на нее, бесстыдно пряча интимное в одежду.
А она стеснялась обнажиться.
Мама же спокойно сняла свою сорочку. Медленно и аккуратно сложила ее в шкафчик. Взяла шайку и, сгорбившись, пошлепала в моечное. Потом оглянулась и хрипло сказала:
– Ну что же ты, доча? Завшиветь хочешь? Это некрасиво!
Краснея, Вика торопливо разделась.
В моечном было чуть теплее. Парилка не работала. Люди стояли в очередь к единственному крану с горячей водой.
Разговоры в банной голой очереди были точно такие, как и в очереди хлебной и одетой.
О войне. О продуктах. О том, что «…Клавка устроилась хлеборезчицей и теперь крошки домой носит! – Повезло! – Да…»
В смутном тумане раздавался густой мужской бас, уверявший всех, что блокаду прорвут не позднее последней декады декабря, к Новому году, это точно, у него знакомый водителем при штабе работает!
Люди обессилевшими руками несли тазики на скамьи. Потом натирались серыми кусочками мыла. Потом тщательно смывали его тряпками, намоченными в воде, выдававшейся по норме. «Одна шайка на одно помытие!» – так сообщала грозная красная надпись над краном.
Никто ни на кого не обращал внимания. Постепенно привыкла и четырнадцатилетняя девочка Вика.
Напротив нее сидела мама. Рядом с мамой какой-то маленький лысый мужчина фыркал, растирая мыло по лицу. Он сидел, широко расставив ноги. От этого Вике стало почему-то противно.
Себя она смогла помыть, когда лысый ушел.
Выступающие ребра. Опухшие животы. Острые локти. Обвисшие груди. Сморщенные лица. Вот там Вика и разглядела свои ноги – большие, неестественно толстые, синие какие-то. Ткни пальцем в нежное девичье бедро – остается белая-белая вмятина, которая постепенно наполняется ленивой кровью и расправляется…
И разговоры, разговоры… Где-то там выли сирены, грохотали разрывы. А тут разговоры. Одна тетка сетовала, что посадила картошку под Сестрорецком и что ее давно уже выкопали. А она дура, а муж ее вдвойне дурак, Царствие ему Небесное, как ушел в ополчение в сторону Луги, так и не вернулся. Почему дурак? Так все уверял – войны, мол, не будет в этом году, а если и будет…
Когда они вышли из моечного в раздевалку, тот старик так и сидел, натянув кальсоны и рубашку. В руках его была зажата гимнастерка. Открытым ртом он уставился в потолок, с которого капала отпотевшая с помытых тел вода. Один зуб старика блестел золотом.
Они уже успели одеться, когда приехали похоронщики.
Больше Вика в баню не ходила. Она готова была дойти с ведром до Невы, но больше никогда-никогда не видеть страшных голых людей, совершенно не похожих на тех атлантов, держащих Эрмитаж.
А еще ноги оборачивали бумагой.
Бумага была большой ценностью. Если ты упадешь с ведром и опрокинешь воду на валенки – это верная смерть. Высушить их почти невозможно. Нужно сидеть около печки и смотреть, чтобы обувь не сгорела. Стоит уснуть – и все. Спасала как раз бумага. Газетная, оберточная, листовочная – любая. Когда немцы кидали листовки – ленинградцы радовались как дети. Листовками можно растопить буржуйку. Можно использовать… Ну… Когда идешь в отхожее ведро. Можно обмотать ногу бумагой вместо портянок. Ну и сушить обувь лучше, когда напихаешь ее внутрь на ночь.
Иллюзия тепла.
Весь Ленинград жил этой иллюзией тепла.
Когда тикает метроном. Когда Ольга Берггольц свои стихи читает. Когда стоишь в очереди или сидишь на уроках. Когда замерзает хлеб за пазухой и чернила в непроливашке. Все время кажется, что где-то совсем рядом у людей горит очаг, там тепло и светло, там стоит борщ на столе и котлеты на второе. Ведь и впрямь – счастье рядом. Как они с мамой радовались, когда наши начали наступление под Тихвином и освободили его… Казалось, что вот-вот наши освободят и Ленинград! Освободят от голода и холода. И станет легче.
Почему-то стало еще тяжелее.
Сегодня хлеб давали.
Вика встала в конец очереди.
Теперь люди молчали в очередях.
До войны ленинградцы были не такими. Они были веселыми, смешливыми, порой легкомысленными.
Сделав уроки, Вика неслась во двор, шептаться со взрослеющими сверстницами и ругаться на бестолковых мальчишек, то и дело норовящих дернуть за косички в перерывах между своими штандерами.
Как только у папы выдавалось время, они обязательно шли в театр! Вике нравился этот свет, этот праздник, эта сцена, эти страсти! А в мае ее старшая сестра Юта завела роман с курсантом из Военно-морской академии.
Он был высок, строен, черняв и остроумен. Вика очень-очень завидовала Юте. Когда в прошлом июне начались белые ночи, они всей компанией, бывало, ходили гулять по ночному Ленинграду.
Ютин моряк брал гитару и пел романсы на Поцелуевом мосту.
Его друзья приглашали на танец Ютиных подруг.
Один раз на вальс пригласили и Вику. Ее плечи вздрагивали под сильными руками улыбчивого курсанта, который рассказывал ей о своем первом походе в море.
Мама потом ругалась на запоздавшую дочь. Папа усмехался в усы. А губы горели от первого поцелуя.
Юта умерла тридцать первого декабря сорок первого года.
А ее курсант ушел на фронт.
А тот, который поцеловал Вику первый раз, – написал ей целых два раза. Последнее письмо было датировано сентябрем. Пришло оно в ноябре. Больше вестей не было.
Продавщица механически взяла деньги и отрезала два квадратика от карточек.
Потом завернула четверть буханки в серую бумагу и протянула Вике.
Девочка спрятала ее за пазуху. Бывали случаи, когда хлеб выдергивали прямо из рук в толчее очереди. Бывали, да…
А теперь долгий путь домой…
Долгий, потому что тяжело идти, держась за стены домов. А еще потому, что нужно бороться с искушением – хлеб!
Мама учила когда-то Вику: «Нельзя есть на ходу. Так поступают лишь животные и опустившиеся люди».
Мама была права.
Опустившиеся – умирали быстрее. Стоило позволить себе расслабиться – и человек моментально превращается в животное. В соседнем подъезде сошла с ума женщина. Она убила своих детей – трехлетнюю дочку и пятилетнего сына. Убила, чтобы жить на их детские карточки. Убила и сошла с ума. Она ходила по двору и кричала шепотливым хрипом: «Машенька! Петюня! Домой! Ужинать!» Карточки не спасли ее при артобстреле.
Артобстрел… Еще одно страшное слово. Впрочем, это слово претерпевало странные метаморфозы.
Первый раз оно было жутковатым, но интересным. Было непривычно сидеть в подвале, спешно переоборудованном под бомбоубежище. В тусклых лампах то накалялись, то угасали желтые ниточки электрического огня. Тряслись стены. От близких взрывов с потолка сыпалась старинная пыль. Старшие ругались, крестились, вскрикивали. А Вике было интересно.
Потом это слово стало страшным. Потом, это когда Вика вышла из убежища. В соседний дом попал немецкий снаряд. Из разбитых окон густо клубился дым, поднимаясь к пасмурному небу Ленинграда. Стены дома зияли дырами, бесстыдно распахнувшими внутренности прошлой жизни. Суетились пожарные, разматывая кишки шлангов. И молчаливая толпа жильцов обреченно стояла возле бывшего своего дома. Куда они пойдут? Но мама не ответила, пряча взгляд. И Вика стала бояться. Не смерти, нет. Не грохота. Не трясущихся стен.
Она боялась прийти к дому, которого больше нет. Боялась стоять и смотреть на огонь, сжирающий твой дом. Боялась превратиться в статую, исполненную молчаливым отчаянием.
А потом слово «артобстрел» стало привычным. Как неизбежная деталь жизненного пейзажа. К тому времени ленинградцы уже научились переходить на безопасную сторону, определять районы, по которым будут бить педантичные гитлеровцы. Ленинградцы выучили военное расписание смерти не хуже довоенного расписания трамваев.
А вот и двор…
Снова карабкаться по леднику подъезда, вцепляясь варежками в заиндевелые стены.
Страшно стучало сердце. Темнело в глазах. Острые иголки кололи изнутри по коже ладоней.
Главное – не поскользнуться. Поскользнешься – не встанешь. Ляжешь – умрешь. А умирать нельзя! Потому что только глупый человек может умереть, когда у него за пазухой целых двести пятьдесят граммов хлеба. Настоящего хлеба! Ну и пусть, что там жмых и целлюлоза. Главное – это хлеб.
В квартире – пусто. Мама так и лежит в кровати, скорбно приоткрыв рот.
Вика тщательно закрыла дверь в комнату.
Снова растопила буржуйку. Снова поставила греться воду.
И только потом достала хлеб, непроизвольно сглотнув слюну. Разрезала кирпичик на две части. Одну она скушает сейчас. Вторую оставит до вечера и разделит еще на две части. Вот тебе ужин, а вот тебе завтрак.
Вика покосилась на маму. Вдруг девочке почему-то стало стыдно, словно отобрала этот кусочек жизни у мамы.
Вот она лежит. Глаза ее закрыты, а рот открыт. Словно она просит хлеба. В какой-то момент Вике вдруг подумалось, что мама не умерла, а просто потеряла сознание, и если ей сейчас дать хлеба, то мама непременно проснется! Конечно же! Она просто не может проснуться! У нее просто нет сил, чтобы проснуться! Вика схватила обеденный кусок и на четвереньках поползла к кровати. Потом вскарабкалась на постель и легла рядом с мамой. Откусила сама кусочек, остальное ткнула маме в синегубый рот.
– Кушай, мамочка! Кушай!
Но мама упрямо не хотела брать хлеб из рук дочери.
«Какая же я дура! – сердито и отчаянно подумала Вика. – Она же спит! А раз спит, она же не может жевать!»
Вика откусила еще кусочек и начала жевать промерзлый хлеб. Не удержалась и проглотила жидкую кашицу, мгновенно провалившуюся в ненасытные глубины тела. Еще раз откусила…
Потом выплюнула – Боже, сколько усилий надо приложить к тому, чтобы выплюнуть хлеб! – разжеванную массу в узкую свою ладошку и осторожно поднесла к лицу мамы. Потом тягучей струйкой влила жизнетворящую густоту в ее рот.
После чего свернулась клубком и обняла маму, ткнувшись ей под бочок.
Девочка грызла хлеб, дожидаясь, когда мама проснется.
Девочка грызла хлеб. По потолку метались тени огня, отбрасываемые буржуйкой. Словно немое кино…
Девочка грызла хлеб и слышала, как кипит вода на печке.
Эти звуки, это бульканье преломлялись в ее дремотном, оголодавшем сознании в звуки человеческой речи, в биение сердца мамы.
А тени превращались в лица, в улыбки, в карусели…
– …На карусели будешь кататься?
– Буду! Папа! Купи мне мороженого! Только пломбир не бери, я крем-брюле люблю!
– Куплю, доча, куплю! А мама что у нас хочет?
– Хлебушка бы мне, Витя…
Эти слова грохотом разорвали дремоту.
Вика резко подняла голову.
Печка уже потухла. А мама так и не проснулась. В руке был зажат недогрызенный кусочек хлеба. Жаль, что горбушка не досталась. Корочка – сытнее…
Вика тяжело села на кровати. Машинально откусила еще кусочек. Потом еще один. Потом последний. Потом аккуратно слизала крошки с ладони. Только после этого снова посмотрела на маму. Все-таки она умерла.
Недавно они поссорились. Мама, словно бы в шутку, сказала Вике: «Когда я умру, сними с меня одежду и продай!» Вика от этих слов заплакала и стала кричать на маму. Кричала, что не надо было Юту отмечать как умершую, что можно было целый месяц жить по ее карточкам. А мама заплакала и сказала вдруг:
– Нельзя наживаться на мертвых!
Потом они обнялись и долго плакали уже вместе, но без слез. На слезы не было сил.
На пальто Юты они смогли выменять кусочек маргарина.
А теперь у Вики есть мамино пальто. Несколько кофт. И даже валенки. А это что? На шее мамы Вика обнаружила веревочку. До войны мама носила цепочку, подаренную на очередную годовщину свадьбы папой. А теперь – веревочку. А на веревочке – кольцо. Обручальное кольцо. Последняя драгоценность. Последнее, что осталось от мамы и папы для Вики.
Мама верила в то, что кольцо надо сохранить. Она не раз говорила Вике:
– Наш папа – летчик. Его сбили за линией фронта и он попал в плен. Когда мы победим – папа вернется домой. Как же он посмотрит на меня, если я его встречу без обручального кольца?
Вика сняла с мамы веревочку. Надела ее на свою шею. Спрятала на своей груди. Потому что пока кольцо с ней, то это значит, что папа – вернется! Он обязательно вернется, если Вика сбережет его. Если она не будет обманывать и наживаться на мертвой маме. Нужно сообщить, что мама умерла, чтобы ее хлеб достался всем, а не только Вике. Иначе папа – не вернется.
Самым трудным оказалось завернуть маму в простынь. Она уже закоченела, и руки-ноги не слушались. А у Вики не хватало сил, чтобы запеленать тело. Изрядно устала, когда снимала кофты и штаны. В конце концов, после нескольких перерывов, получилось.
Девочка, тяжело шаркая, вышла в коридор. Взяла санки. Поставила их у кровати. На этих санках они весело катались с горок прошлой зимой. На этих санках они везли Юту несколько дней назад. Теперь вот маму… Теперь надо примотать к ним веревкой белый кокон. А это еще сложнее. Пришлось даже отрезать еще хлеба, чтобы чуть-чуть восстановить силы.
Папа, папа… Где ты, папа? Почему ты так долго не идешь? Почему ты не спас твоих девочек? Юта – умерла. Мама – умерла. Осталась одна Вика. Где же ты, папа?
А хлеб надо взять с собой. Нельзя его оставить здесь. В пустоте и одиночестве.
Санки заскрипели по каменному полу. Как же тяжело одной тащить…
В прошлый раз их спускали вниз, придерживая, что было сил, вдвоем. Теперь Вика одна, а мама тяжелее Юты. На первом же пролете девочка поскользнулась, и санки с грохотом полетели вниз, хрустко ударившись мамиными ногами о стенку.
Потом еще один пролет. И еще, и еще…
Вика подтаскивала санки по лестничной площадке, а потом просто сталкивала их вниз. Они скакали на ледяных неровностях, и гулкие звуки эхом разлетались по подъезду.
А теперь тоже трудное – выйти во двор. Дверь была на пружине. Мальчишки раньше любили со всей силы оттянуть ее и хлопнуть так, чтобы на верхних этажах было слышно. За это на них все ругались, но особенно дядя Марат. Парадное заколотили еще в октябре. Дядя Марат успел пружину перенести на черный выход.
Вот теперь эта пружина, спасая чуточку тепла, превращалась в целое испытание, когда открываешь дверь с ведром в руках. Или с тяжелыми санками за спиной. Дверь и так задевала нижним краем за наросшую наледь. А тут еще…
Вика открыла дверь и прижалась к ней, с трудом перетягивая санки за порог.
Когда же наконец вытянула маму во двор – долго сидела рядом, тяжело выдыхая морозный пар в январский воздух блокадного Ленинграда.
Теперь уже будет чуточку легче.
Надеть веревку на грудь, чуть наклониться и идти, идти, идти…
Идти придется далеко. Но бросить маму нельзя. Потому что мама бы Вику не бросила. Главное – сделать первый шаг.
Ленинград… Как хорошо, что ты построен на болотах! Как хорошо, что у тебя нет холмов! Как хорошо, что можно тащить санки по ровным как стол твоим улицам! Конечно, хорошо кататься с холмистых ледяных горок… Но ведь на эти холмы еще и подниматься надо.
Под ногами скрипит снег. Веревка впивается в тело. Вика ее пропустила под мышками. И держит, чтобы она не сползала на нежные девичьи холмики. Когда-то она так радовалась, когда начало жечь, начало расти… Она стала превращаться из девочки в женщину. А сейчас она проклинала свою гордую радость. Как же больно, когда обледенелая веревка огненным бичом впивается в нежность. Даже через пальто – больно.
Хорошо, что хоть ежемесячные болезни прекратились. Где-то в середине ноября они были последний раз.
У тела не было сил истекать кровью. Оно – мудрое и красивое создание природы – берегло себя для жизни.
Когда-то Вика испугалась испачканных трусиков, как пугается этого любая девочка, превратившаяся в одночасье в девушку. Мама научила ее не бояться крови – неизбежной спутницы жизни и смерти. «Просто ты так плачешь!» Оказалось, что женщины плачут кровью, когда хотят дать жизнь. Мужчины же кровью не умеют плакать. Они ею истекают, когда отнимают жизнь у других или у себя. Такой вот диалектический материализм…
А город пуст.
Скрипит лед на улице Марата. И этот скрип волнами отражается от старинных домов Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленинграда… Города белых ночей и сумеречных дней.
Город сумраков… Сумраков, которые развеивали фонарями и витринами, смехом и праздниками. До войны этот город был мечтой и праздником. Стал – фронтом и могилой.
Окна слепо щурятся пожелтевшими бумажными крестами. Ветер, вечный балтийский ветер выдувает снежными сугробами из подворотен. Дома словно склонились над улицами, пытаясь закрыть своими телами теплящуюся человеческую жизнь.
Не слышно собак. Кошки не шныряют по своим делам. Голуби больше не украшают памятники.
Только шарканье человеческих ног по заледенелым мостовым – ширк, ширк, ширк…
Это ленинградцы спешат на работу, едва переставляя опухшие ноги. Они идут в библиотеки и музеи, хватаясь за промерзлые стены домов. Они стоят в очередях, слушают черные тарелки, они везут своих мертвых на гигантские кладбища. Еле заметный пульс метронома настойчиво летит сквозь чудовищно морозную зиму:
– Так… Так… Так… Так…
Так – жив странный город. Несмотря ни на что. Он жив. Искры жизни медленно передвигаются по его мостам и проспектам, сталкиваясь на узких тропках, падая в огромные сугробы, падая и поднимаясь. И страшные слова отсчитывают каждый шаг этих людей:
Сто. Двадцать. Пять. Блокадных. Грамм. С огнем. И кровью. Пополам[6].
Они еще не прозвучали в эфире. Они витают над городом, в перекрестье прожекторов. Эти слова уворачиваются от хищных тел чужих самолетов. Их пронизывают насквозь равнодушно смертельные снаряды. Они промерзают инеем сквозь сердца. Их еще нет, они еще не написаны. Но они уже есть, тяжелым стуком отдаваясь в висках:
Сто. Двадцать. Пять. Блокадных. Грамм. С огнем. И кровью. Пополам.
Каждое слово – один шаг в неизвестность. Шаг, который делает девочка, волоча за собой санки с телом матери.
Один шаг.
Очень тяжело поднять ногу. Приходится шаркать по заснеженным камням. Весь город шаркает. Этот звук, неслышимый, затерявшийся в грохоте войны, один из символов блокадного Ленинграда.
Шаркают все.
Мастера и рабочие, несущие на тонких руках к своим станкам болванки снарядов. Пожарные, отчаянно поливающие тонкими струйками дымные очаги смерти. Санитарки, тяжело катящие подносы с белесым горячим киселем по коридорам госпиталей.
И девочка Вика, которая тащит свою маму по заснеженным тротуарам улицы Марата.
На углу Невского Вика свернула в сторону Литейного проспекта. Она, как и многие ленинградцы, так и не привыкла называть главную улицу «проспектом имени двадцать пятого октября». Невский и Невский.
Переименование не изменило его. Его изменила – война.
В первые ее дни на Невском вдруг появились бесчисленные лотки букинистов. Найти можно было все – от дореволюционных учебников латыни и энциклопедий Брокгауза и Ефрона до современнейших изданий Алексея Толстого и Анатоля Франса. На любой вкус, на любой выбор. Тогда Вика купила за бесценок «Аэлиту». Прочитала ее четыре раза. А потом «Аэлита» сгорела в прожорливой пасти буржуйки. И не только она. Книги Ленинграда, создававшие иллюзию других миров, внезапно стали иллюзией тепла. Дым над городом… Дым пожаров, дым взрывов, дым книг…
В июле и августе Невский превратился из беспечного, вечно праздничного проспекта в плац. По нему грохотали траками танки, корежа асфальт, мерно шагали бойцы, и винтовки раскачивались над их головами. Мужчины Ленинграда шли оборонять свой дом.
Затем стали появляться беженцы. Из Эстонии, Пскова, Луги… Сухое равнодушное слово «эвакуация» металось по Невскому, сгущаясь отчаянным облаком вокруг стендов с газетами. А затем эвакуированные стали возвращаться. В глазах их плескался страх, некоторые из них в последние минуты выскальзывали из немецких лап. Так было с соседями Викиной семьи. Их пятилетнего сына эвакуировали вместе с детским садом еще в середине августа. Но в начале сентября дети вернулись.
Автоколонна с детским садом прибыла на станцию Лычково. А там уже шли бои с передовыми отрядами вермахта. Снаряды уже рвались между путями, когда эшелон, куда перегрузили детей, тронулся в сторону Бологого, а оттуда обратно в Ленинград.
Жизнерадостный болтун Ёська после возвращения говорил мало. Не получалось. Ему не нравилось заикаться, и он начинал плакать, когда не мог сказать что-то очень важное для себя и для других. Заикание не проходило, он молчал все чаще и чаще, и слезы уже кончились, когда Ёська замолчал насовсем. На Смоленском кладбище. Потом замолчали и его родители. Отец на Кировском заводе, когда отказался уйти в бомбоубежище. А мама по пути на работу…
Ее зарезали грабители.
Вика больше всего боялась этих крыс в человеческом обличье. Она ни разу не видела грабителей, но представляла их именно так. Как в «Щелкунчике». На балет с волшебной музыкой последний раз они ходили ровно год назад.
Они выходили по ночам и шарили по пустым квартирам, нападали в темных переулках, которыми Ленинград богат, отбирали хлеб, карточки и последние ценные вещи.
А ценностью стало все. От обручальных колец до массивных шкафов. От кусочков сухарей до вязаных носков.
Их убивали, как крыс. На месте преступления. Милиция, военные патрули, порой и сами жители. Но они появлялись снова и снова. По крайней мере, так все говорили.
Вика понимала, что надо вернуться домой до темноты. Если, конечно, получится вернуться. Если хватит сил, если она не попадет под обстрел или бомбу. Если… Как много этих если!
Конечно, путь далек и для мирного времени. Но что стоил бы такой путь в мирное время? Так… Пары мозолей… Это если в туфельках, а не в теннисках. А теперь против Вики не только расстояние… Слишком много врагов для четырнадцатилетней девочки. Слишком много…
Вот и трамвай, занесенный снегом до самых окон. Трамвай… Когда он остановился, Вика шла здесь, мимо кинотеатра «Художественный». Просто закончилось электричество. Совсем. И для всех.
Но трамвай… Трамвай было жальче всех. Человек может зажечь свечу или сидеть у распахнутой печки. А трамвай – он не может ничего.
В тот день Вика ощутила войну всей кожей. Да, взрываются снаряды. Да, по ночам воют сирены. Да, уже ограничены нормы продовольствия. Да, уже мужчин стало меньше. Да, уже папа пропал без вести. Это все война. От нее страх и боль. От нее пустота в груди. Но пока ходили трамваи, война была где-то там.
А теперь она невидимой злой старухой вселилась в Ленинград, щерясь выбитыми зубами обрушенных домов.
Вика любила трамваи. Они весело звенели, мчась по улицам и проспектам, они важно притормаживали на поворотах. Их пропускали вне очереди на перекрестках. На них катались мальчишки, схватившись за резиновую «колбасу» на хвосте. Вика, как и все девчонки, закрывала от волнительного страха лицо ладошками, когда одноклассники гроздьями висели на этой колбасе и на подножках. Но это был другой страх, не военный. Поэтому Вика тихонечко раздвигала пальчики, чтобы подсмотреть – а кто из мальчишек самый смелый?
И вот этот веселый трамвай стоит, замерший под грудой снега.
И вокруг – тишина. Только из репродукторов – метроном.
Да редкие прохожие, держась за стены, куда-то медленно бредут по своим странным делам. Во взглядах – пустота. Кажется, Чапек описал таких странных железных существ, назвав их «роботами»?
Вот такими железными существами и казались Вике встречные. Спокойные. Без-страстные. Уже умирающие, но еще живые.
Кто-то вдруг останавливается.
Сползает по стене и замирает на снегу.
Словно человека выключили.
Через выключенное тело медленно и равнодушно перешагивают другие, еще живые.
Вике сложнее. Она с санками. Ей нельзя перешагивать. Ей приходится обходить.
Раньше она боялась мертвецов. Особенно когда ночью читала Конан Дойля. Под одеялом и с фонариком. Юта всегда ругалась на нее за это, но маме не рассказывала. Самым страшным рассказом Вике казался «Пестрая лента». Там как раз про двух сестер! Думала ли тогда Вика, что она привыкнет к мертвым людям? Она даже и не подозревала, что будет везти маму на кладбище и стараться не задевать санками вытянутые ноги мертвеца, упавшего почти на самом углу с Литейным проспектом. Не задевать – это не от страха. А потому что не будет сил перетащить санки через заледенелые бревна чужих ног.
Человек, говорят, привыкает ко всему. Правильно говорят. С одним небольшим уточнением. Или привыкает, или умирает, или сходит с ума. А впрочем, где здесь разница?
Теперь нужно перейти Невский и отправиться дальше по Литейному. Передохнуть бы… Да нельзя останавливаться. Остановка – это смерть. А если Вика умрет – кто тогда маму похоронит? Как тогда мама с папой встретятся?
А еще надо идти быстрее. Сейчас Вика переходила на опасную сторону. Да, на северной стороне Невского чаще рвались снаряды. Они же летели с юга, от немцев. Конечно, если снаряд пробьет крышу дома на южной стороне – это тоже опасно, но ведь не зря белой краской на синих квадратах написали: «Граждане! Эта сторона наиболее опасна при артиллерийском обстреле!» На Литейном тоже опасно. Он же поперечный проспект. Но каждый шаг на север города – это все дальше и дальше от фрицев.
Немцы…
Они Вике казались какими-то неземными, неестественными чудовищами. Багровое пламя озаряло небосвод – это немецкая злоба. Падающие в обморок учителя – это немцы. Лужи детской крови, занесенные осенними листьями, – и это немцы.
Вика не сомневалась, что если она увидит немца, то вцепится ему в горло изо всех силешек. За папу, за маму, за Юту. Но учитель математики Грабер тут ни при чем. Он немец, но… Но он не немец. Потому что он тоже погиб от осколка, когда дежурил вместе с мальчишками из девятого класса на крыше школы. Он подлежал эвакуации, но не успел на несколько дней.
– Филипп, подвинься чуть-чуть, – вдруг услышала Вика чей-то голос. Она повернулась.
Прямо перед ней стоял какой-то старик и в руках держал кусочек хлеба. Дневную норму.
Вика с трудом отвела взгляд от черного богатства, уместившегося на грязной варежке, и посмотрела на старика.
Лицо того словно стекало с головы, готовясь обнажить белые кости черепа.
– Проходи, девочка, проходи, – перед стариком стоял такой же отекший лицом мужчина, державший в слабых руках тяжелый фотоаппарат.
Вика послушно шагнула, обходя странных мужчин стороной.
Интересно, кто они? Наверное, фотокорреспондент. А зачем они снимают? Разве это можно снимать? Разве можно об этом рассказывать? А что, если этот старик умрет – разве можно его фотографировать? Вот когда она, Вика, умрет, ее тоже будут фотографировать? И рассказывать всем, что она, Вика, умерла прямо тут и лежит сейчас мертвая и никому не нужна?
Кому это нужно? Надо скорее от всего избавиться и все забыть. Забыть – как дурной, очень дурной и страшный кошмар. А если не рассказать и забыть? Избавиться от кошмара – и все!
Вдруг Вика поняла, осознала всем своим существом, что «ЭТО» – забывать нельзя. И если она останется жива, что вряд ли, конечно, она посвятит свою жизнь тому, чтобы помнили. Все помнили. Всегда помнили.
А по Литейному идти еще тяжелее. В начале морозов тут лопнул водопровод. Застоявшаяся в трубах вода залила льдом проспект. Какое-то время жители окрестных, и не только окрестных, домов ходили сюда за водой. Совершенно не обращая внимания, что рядом, вмерзшие в лед, лежат трупы.
Морозы…
Немногочисленные «труповозки» не успевали собирать тела горожан с улиц, дворов, парков Ленинграда. Мороз, убивая одних, спасал других от эпидемий.
Санки скрипят полозьями по льду Литейного. Сил нет, чтобы остановиться. Надо идти, надо идти…
Вдруг Вика вспомнила Джека Лондона. Белое безмолвие… Да… Город превратился в белое безмолвие.
Где-то прогрохочет по льду асфальта полуторка, где-то послышится рев самолетов, где-то заскрипят доски обрушенных пролетов… но все это вместе – безмолвие.
Вдруг Вика вспомнила один из рассказов американца. Там один дядька вез на Аляску пять тысяч яиц. Или не пять? Или не пять тысяч, а пять тысяч дюжин? А какая разница? Вез, вез… А они взяли и протухли. Пять тысяч яиц! Ну пусть и протухших! Ну пусть хотя бы одно!
В ноябре Юта достала овсянки – двести граммов. Они два раза сварили из нее овсяный кисель. Да. Именно так. Два раза. Процедили первый раз – отжали через тряпочку. Оставшееся в тряпке – проварили еще раз. Из оставшейся соломы сделали лепешки. Вот вам и обед из трех блюд.
Если бы она могла, то девочка потрясла бы головой, чтобы отогнать мысли о еде. Но сил не было. Может быть, поэтому, а может быть, потому, что она была закутана в несколько платков так, что торчал только нос да глаза, Вика не услышала, как тот фотограф, сделав несколько нетвердых шагов, щелкнул своей камерой ей в спину.
Она просто шла и шла по Литейному проспекту.
А над ней смыкались крышами дома Ленинграда.
Глазницы окон были перекрещены бельмами газетных полос, были выбиты огнем пожаров, и, вздымая опаленные брови, дома изумлялись людям: «Люди! Что же вы делаете с нами?»
Десятки, сотни, порой тысячи килограммов тротила обрушивали их. Мороз трещал кирпичами и бревнами. Снег продавливал крыши. Но дома держались, как держались люди. На последнем вздохе, на последнем издыхании. Дома принимали удары бомб на себя, порой не выдерживая и погребая под осколками своих тел людей.
Но город… Город держался.
Держалась и Вика, шаг за шагом приближаясь к Литейному мосту через Неву.
Шлагбаум был почему-то закрыт. Она постояла, тяжело выдыхая морозный воздух.
Подошла к часовому, навалившемуся на гранитную стену набережной.
– Дяденька!
Часовой молчал, в светлых глазах его отражалось пасмурное небо Ленинграда.
– Дяденька! На Петроградку бы нам пройти!
Часовой молчал.
– Дяденька, у меня пропуска нет, а маму похоронить надо.
Вика подергала часового за рукав. Тот выронил винтовку и упал на мостовую, гулко стукнувшись затылком, так, что слетела шапка. На замерзшие его глаза тихо падали редкие снежинки. И не таяли.
– Дяденька, вы меня извините, пожалуйста. Вы на меня не ругайтесь.
Вика, тяжело нагнувшись, прошла под шлагбаумом и потащила санки за собой.
Мертвый часовой. Мертвый мост. Мертвый город. Мертвая мама. Живая девочка. Мертвая Нева.
Да такая ли Нева мертвая?
Вот – то тут, то там – пробиты проруби. К ним тянутся бесконечные вереницы ленинградцев.
Чернеет купол Исаакия. Биржа и Ростральные огни на стрелке Васильевского. Вдалеке, у Адмиралтейства, виден вмерзший в лед корпус какого-то крейсера.
Шпиль тоже стал из золотого – черным. Черное и белое – цвета войны для Ленинграда.
На другой стороне горбатого моста Вику встретили живые.
– Эй, бабка! А ну иди сюда! – заорал лейтенант. Если бы Вика не была дочерью летчика, она бы не догадалась, что это разводящий караула.
– Пропуск давай, старая, – рявкнул лейтенант. Возрастом чуть старше Вики.
Она в ответ покачала головой:
– Дяденька лейтенант, у меня нету пропуска.
И стащила платки с лица.
– Я маму на кладбище везу, дяденька лейтенант.
Она внимательно, как смотрят младенцы на пороге жизни и старики на пороге смерти, посмотрела на военного.
Тот осекся. Сглотнул:
– Документы-то есть?
Она молча смотрела на него.
– Сколько лет-то тебе? – у лейтенанта задергалась щека.
– Четырнадцать, товарищ лейтенант. Можно мы пойдем, а то нам некогда…
– Сидорчук… Сидорчук! – опять рявкнул лейтенант.
– Туточки! – отозвался один из бойцов.
– Проводи ее в караулку. Напои хоть кипятком, что ли…
– Дык опять же нарушение… А! – махнул рукой Сидорчук. – Иди сюда, доча, иди за мной. Мамку тока у дверей оставь. Ничо ей уже не сделается.
В караулке было тепло. Так тепло, что Вика стащила платки с головы.
Сидорчук усадил ее около печки. Чего-то пошебуршал в своем сидоре. Вытащил оттуда кубик сахара и протянул его Вике.
– Вприкуску давай. Вприкуску – пользительнее.
И отвернулся, наливая кружку кипятка.
– Спасибо, – прошептала Вика, схватившись за сахар.
Тепло внезапно ударило со всех сторон. Захотелось вдруг спать. Спать, спать, спать…
– Э! – вдруг ударил ее по щеке Сидорчук. – Ну-ка, держи себя в руках. На, пей.
Он протянул ей горячую кружку с обжигающим кипятком.
– Тебя как зовут, девчоночка?
– Вика, – прошептала в ответ Вика.
– Накось, жри давай, Вика, – протянул он ей тоненький кусочек хлеба.
– Спасибо, дяденька, у меня есть, – с этими словами она медленно показала ему свой хлеб.
– На потом оставь. Жри, что дают. Потом – не будет.
– Сержант, ну как она? – распахнулась дверь.
– Квелая совсем, товарищ лейтенант.
– Эй!
– Вика ее зовут, товарищ лейтенант.
– Вика!
Та кивнула, тщательно пережевывая хлеб.
– Вика, маму оставь тут. Послезавтра будет машина. Увезут твою маму до Пискаревки. Я обещаю. Иди домой, девочка.
Она промолчала в ответ. Боялась выронить крошку изо рта. Когда прожевала – ответила:
– Нет, я обещала…
– Кому ты обещала, Вика?
– Маме обещала, Юте, папе. Я одна осталась, товарищ лейтенант… Простите меня, пожалуйста…
– А… А папа?
– Пропал без вести. А Юта – умерла тридцать первого декабря. Я одна осталась, товарищ лейтенант. И часовой ваш умер на той стороне. Извините, пожалуйста.
Тщательно и аккуратно слизнув крошки с ладони, Вика встала, снова закуталась в свои платки и подошла к двери.
Потом остановилась, словно впитывая в себя тепло, посмотрела на солдат. И, еще раз извинившись, исчезла в морозном тумане, белым клубком ввалившемся в караулку.
Потом она было натянула веревки санок и попыталась сделать шаг. Но на плечо ее вдруг опустилась рука.
– Доча, дай-ка я. Мне сподручнее. Провожу тебя маненько.
Сидорчук осторожно перехватил веревки и сам впрягся в санки. Так и пошли по Арсенальной набережной – боец и девочка.
Ленинградский ветер вдруг хлестнул ледяной крупой по бледным щекам.
Вика отвернулась и…
Громадные кучи темнели на площади Финляндского вокзала под ногами у памятника Ленину.
– Что это? Дрова? – шепнула она.
Сидорчук не услышал ее. Нагнувшись, он оттопырил ушанку, завязанную под подбородком:
– Что, доча?
– Это дрова, да?
– Дрова, маленькая моя, дрова… – и сжал губы. И она сжала губы.
Как же так? Город, люди в нем умирают от холода, коптят в буржуйках книги – КНИГИ! – а тут дрова? Почему нельзя эти дрова раздать ленинградцам? Ну почему?
А Сидорчук поспешно прикрыл глаза девочки от ветра, дувшего почему-то с противоположной стороны….
Пусть лучше она щурится от ледяного, пробирающего до костей невского ветра, мчащегося со скоростью «Красной стрелы». Но пусть она не видит горы людей, замерзших около Финляндского вокзала. Чернеющие горы людей.
Они приходили сюда с талончиками эвакуации и ждали. Ждали поезда до Кобоны, а оттуда…
Но поездов было мало. А холода было много. И было много голода, и много бомб и снарядов. И ленинградцы умирали на площади у Финляндского Вокзала Спасения, но не сдавались. Умирали, но не сдавались. Молча умирали, безропотно, покойно. Приходили и умирали. И не сдавались так же – молча, спокойно и уверенно.
Она молчала, глядя под тяжело шаркающие ноги. Сидорчук чего-то бурчал в усы, заледеневающие на глазах. Санки скрипели по льду за спиной.
По Неве бродили в разные стороны люди, черными точками темнея на белом льду. Ветер усилился, и поземка оплетала ноги.
Сидорчук опять что-то буркнул.
– Что? – не поняла Вика.
– Я тебя недолго провожу, чай в карауле мы. Вона до дота того. Видишь?
Вика помотала головой.
– Ну, вона куча у ворот в тюрьму, видишь? Это и есть дот. Знаешь, что тут тюрьма-то?
Вика кивнула. Она знала, что это тюрьма. Кто же не знает – что такое «Кресты»? Раньше здесь томились народовольцы и большевики, потом враги народа. Интересно, а кто сейчас там сидит?
– Не боишься, девочка?
Она удивленно посмотрела на Сидорчука:
– А зачем? Они же в тюрьме!
Сидорчук хмыкнул. Действительно… Бояться надо бандитов, которые на свободе. Да и сажают сейчас не всех. Бандитов и людоедов расстреливают на месте. Нечего на них хлеб переводить. Сидорчук лично расстрелял двух бандюков, которых случайно поймали на месте преступления. Напали на женщину, решив отобрать продукты. Да та успела крикнуть перед смертью. А взвод мимо проходил. Ну и… Не дрогнула рука, и сердце не шевельнулось.
– И правильно, – сказал боец. – Чего их бояться? Они под охраной. Не бойся, доча, не бойся.
Охрана… В те жестокие дни охрану самой знаменитой тюрьмы несли женщины да старики. Остальные – ушли на фронт. Но побегов не было. Всю войну – не было. Или просто некуда было бежать?
У дота они и попрощались.
Сидорчук осторожно обнял девочку, прижавшись к ее щеке ледяными усами. Вика перехватила веревки и пошла дальше в сторону Смоленской набережной и проспекта Ленина, а боец долго стоял, глядя ей вслед.
Девочки, девочки…
Это вы, девочки, выиграли войну и сняли блокаду. Если бы не вы, хватило бы сил и злости у мужчин?
Вика шла и шла по ледяной мостовой, глядя перед собой.
Когда она уставала, то начинала считать шаги. Десять, двадцать, сто, двести, тысяча. Иногда ее бросало в жар, но чаще озноб мерзлым льдом скреб по костям.
Вдруг она споткнулась о какой-то мешок и едва не упала.
Мешок вдруг пошевелился и тихо, как котенок, запищал.
Девочка бросила веревки и нагнулась. Мешок, а вернее мешочек, оказался ребенком лет пяти.
Серое лицо его было почти безжизненным, лишь какая-то синяя жилочка билась на лбу под полупрозрачной бледной кожей.
– Кто ты? Как тебя зовут? – ребенок открыл глаза. Огромные глаза. Он что-то прошептал, но Вика не поняла. Тогда она нагнулась и попыталась поднять ребенка. Сил ее хватило на то, чтобы подтащить к решетке набережной и кое-как навалить его на ажурный чугун.
– Кто ты? Как тебя зовут? – спросила она, высвободив уши из-под платка.
– Миша, – прошептал мальчик.
– Миша, ты куда идешь? Откуда?
– К маме иду…
– А мама где?
– Мама дома…
– А дом где?
– Там, где мама…
Большего добиться от него не получилось. Он просто не мог думать, не мог говорить, он стоять даже не мог.
Хлеб! У нее же осталась вечерняя порция! Она же поела у бойцов! И это нечестно есть, когда другие – голодны. Значит, значит, надо поделиться! Сильный должен помогать слабому, иначе – смерть!
Она стянула варежки с опухших рук. Машинально сунула левую в карман, а правой потянулась за пазуху… Стоп! Что это?
В кармане она нащупала тонкий квадратик, завернутый в фольгу, вытащила его…
Соевый шоколад! Оказывается, Сидорчук на прощание незаметно сунул его ей в пальто. Осьмушка плитки – богатство для тех, кто понимает.
Вика лихорадочно развернула обертку и сунула махонький кусочек шоколадки прямо в лицо мальчику:
– Кушай, Миша!
И он, не поднимая рук, вцепился зубами в шоколадку. Откусил и лихорадочно, почти не прожевывая, стал глотать ее. Он ее ел и ел, словно щенок, словно маленький звереныш. Маленький язычок судорожно облизывал потеки сладкого на синих губах.
Вика закрыла глаза. Ей тяжело было смотреть – как он ест. Исподтишка мелькали гадкие мыслишки: «Стоп! Ему хватит! Он маленький! Ему хватит! Ему много нельзя!» Но она гнала эти мыслишки. Ведь они были гадкими. Открыла она глаза, когда мальчик стал облизывать ее замерзшие пальцы.
– Тетя, дай еще, – попросил мальчик.
Она не удержалась и тоже лизнула свою руку. Там, где остались следы шоколада.
– Больше нету, Мишенька. Иди домой.
Маленькое лицо вдруг сморщилось. Ребенок превратился в старичка.
– Еще дай, дай, дай!
Она прижалась к нему, обхватив руками, и горячо зашептала прямо в кричащее лицо:
– Домой иди, Мишенька, домой, там мама волнуется, Мишенька. У нее еще есть.
Внезапно мальчик успокоился. Что его успокоило? Слово «мама»? Или вспыхнувшая безнадежная вера, что у мамы «еще есть»?
Вика поставила мальчика на ноги. Отряхнула шубку. И подтолкнула его:
– Иди, Миша, иди.
Она шла, не оглядываясь. Она боялась оглянуться. Боялась, что мальчик бредет за ней. А еще больше боялась, что оглянется и увидит, что он снова лежит и умирает. Она даже ускорила, насколько хватало сил, шаг. И санки продолжали скрипеть морозным снегом. Она так и не оглянулась.
Не успела.
Внезапный разрыв белым фонтаном взметнул лед Невы. А потом еще один и еще.
Немцы начали обстрел.
Еще вчера Вика бы не испугалась. Они бы вместе с мамой собрались бы и спустились в подвал, переоборудованный под бомбоубежище. А сегодня?
А сегодня надо бояться. Не за себя. За маму.
Сегодня маму не пустят в убежище. А Вика не сможет ее оставить на улице. Вика будет ее везти на кладбище, чего бы это ей ни стоило. И пусть рвутся снаряды. Пусть даже бомбы падают.
Поэтому – бояться нельзя.
Нельзя бояться снарядов.
Надо бояться оставить маму одну.
Дикий свист. Прямо на глазах в один из домов попал снаряд. Дом вздрогнул, выдохнул клубом пыли, громко заскрипел и грузно осел, сложившись тремя этажами в груду дымящихся обломков.
Почти одновременно завыли сирены тревоги.
А она шла. Шла через грохот и начинающуюся метель, таща за собой санки с мамой. Теплой волной от близкого разрыва ее швырнуло на снег, но Вика, упрямо помотав головой, встала и зашагала дальше.
Надо бояться, тогда ты дойдешь.
Из подворотни выскочила какая-то девушка в синей милицейской шинели и что-то закричала Вике, но за грохотом разрывов ее не было слышно. Девушка упала, когда осколком ее ударило в спину, и Вика пошла дальше.
Налет был недолог. Минут пятнадцать-двадцать. Может быть, даже и тридцать или тридцать пять.
И Вика злорадно подумала, что у фашистов просто кончаются снаряды. Она вдруг поняла, что Ленинград, ценой жителей, ценой своих домов, принимая смертельный металл на свою грудь, – спасает всю страну. Ведь каждый снаряд, выпущенный по ней, по Вике, это снаряд, который не залетит в окоп с нашими бойцами. А это значит, что они останутся живы. И когда у фрицев закончатся снаряды, наши бойцы пойдут к Берлину и возьмут его. Ведь это – наша общая война. И воюют на ней все. Потому что – все для фронта и все для Победы. А ведь Победа будет, правда? Победы не может не быть. Потому что как же без нее-то?
Еще дымились воронки, еще пахло в воздухе сгоревшей взрывчаткой, а ленинградцы снова вышли на улицы.
Кто-то тушил пожары, кто-то отправлялся на работу, кто-то нес службу на постах воздушного наблюдения. А кто-то шел хоронить своих мертвецов.
Не всем в те дни выпадала такая роскошь.
Многих просто подбирали на улицах специальные грузовики. Мимо Вики прогрохотала, тщательно объезжая свежие воронки, такая полуторка. В ее кузове тряслись кучей, наваленной выше бортов, тела умерших. Куча была прикрыта брезентом. На брезенте сидели, съежившись, бойцы похоронной команды. Грузовик не остановился. У них было приказание подбирать бесхозные тела на улицах. А если кого-то везут на санках – значит, еще есть кому позаботиться об умерших. А если не дойдет? Что ж… На обратном пути подберут вместе с санками. И похоронят обоих. А пока…
Иди, Вика, иди. Хорони своих мертвецов. Больше – некому.
Она и шла.
Со Смоленской набережной она свернула на проспект Ленина. Оставалось дойти совсем чуть-чуть. Но уже смеркалось. Ранние зимние сумерки серой шалью окутывали черный купол Исаакия и заколоченных досками сфинксов. Изувеченные набережные, избитые дома, голодные люди – все это скрывалось в серых сумерках черных дней. Белые ночи… Где же вы, белые ночи? Ночи, в которые хочется жить. На смену вам пришли дни, в которые приходится умирать.
А проспект, ведущий к Пискаревскому кладбищу, был заполнен людьми. Одинаковыми людьми – каждый из них тащил за собой сани, ящики, листы фанеры, некоторые даже гробы, в которых лежали дорогие, родные, единственные и любимые.
Шарканье ног под мерное тиканье метронома. Если бы ад существовал – он был бы таким.
Капельки людей смыкаются в ручейки, а затем в общий поток – серый, коричневый, черный от горя поток живых и мертвых. Первые везут вторых. И кто-то завтра повезет первых. Жаль, что Вику некому будет везти.
В Ленинграде было много кладбищ. Смоленское, Малоохтинское, Большеохтинское, Волковское, Серафимовское, Пискаревское… И эта молчаливая людская река была лишь одной из многих.
Если бы Вика могла взлететь в серое, смерзающееся сумерками небо, она бы увидела эти реки. Впрочем, однажды она видела такой сон – люди, безмолвно бредущие по улицам, набережным и проспектам молчаливого, пустого города. Юта, пока еще могла, работала сандружинницей при районном штабе ПВО. Однажды им выдали ведро пива. Юта принесла свою порцию в трехлитровой банке. Это было в конце октября. Или в начале ноября? Впрочем, так ли это важно? Пиво было горьким и ужасно невкусным. Но после него стало тепло и чуть-чуть сытно. Жидкий хлеб все-таки. Тогда Вике и приснился этот сон. Она хотела его занести в свой дневник, который забросила двадцать второго июня. Война началась. Какие тут могут быть дневники? Тетрадка с неуклюжими стихами, разрисованная кружевами розочек, сгорела в прожорливой пасти печки. Вместе с засохшим цветочком – приветом из довоенной жизни. Откуда взялся тот цветочек? Вика не помнила. Какой-то мальчик ей подарил? Или это она сама его сорвала у папиного аэродрома? Цветочек тоже сгорел. Вспыхнул моментально и моментально истлел.
Как все они. Вспыхнули и истлели. В ледяном огне блокады. Ах как хотелось бы в жарком пламени любви…
Почему-то в то мгновение Вику охватила судорожная жалость к себе, к Юте, к маме с папой. И она зарыдала.
Мама обняла ее за плечи и тоже заплакала. Но тихо-тихо. С другой стороны прижалась Юта.
Три женщины плакали в темной комнате, и тени их метались по стене.
– Он вернется, доченьки, он вернется к вам, – шептала мама. О ком она шептала? Об отце. О Ютином курсанте. О мальчиках, которые спасают своих девочек. Спасают и не могут спасти.
Мальчики! Ну где же вы, мальчики?
Молчат ваши мальчики. Мальчики, миллиметр за миллиметром, отодвигают смертельную удавку от горла Ленинграда. Мальчикам некогда.
Мальчики погибали на Лужском рубеже, на Пулковских высотах, под Тихвином и в Ораниенбауме.
Мальчики еще будут погибать в Мясном бору и на Синявинских высотах.
Погибать и убивать.
Потому что лучше умереть, чем оставить своих девочек на развлечение врагу.
Конечно, лучше бы всем остаться живыми. Но война не выбирает.
Ленинград, Ленинград…
Город – символ победы.
Победы жизни над смертью.
Смертию смерть поправший.
Вика не знала и знать не могла, что каждым своим шагом она и другие ленинградцы перечеркивают всю медицинскую науку. По всем законам, по всем расчетам – они должны быть мертвы. Мертвы, потому что нельзя, невозможно жить на ста двадцати пяти граммах хлеба в день. И на ста пятидесяти – невозможно. И на двухстах.
Но они были живы. И не просто живы. Ленинград – работал. Он читал стихи на всю страну. Он делал снаряды. Танки Кировского завода отправлялись на Большую Землю.
Все это было невозможно. Но это – было.
А еще он воевал. Воевал, схватив за руки группу армий «Север», не давая той шагнуть в сторону Москвы.
Ничего этого Вика не знала.
Она просто везла свою мамочку на санках по проспекту Ленина – будущему Пискаревскому.
Она даже не догадывалась, что каждым небольшим своим шагом чуть-чуть, но тоже приближала Победу.
Да.
Она тоже приближала. Просто тем, что все еще была жива.
В ней теплилась капелька жизни, и за эту капельку бились бойцы Ленинградского, Карельского и Волховского фронтов.
Потому что из этой капельки все еще могла расцвести новая жизнь.
Могла бы…
Внезапно Вика пошатнулась, в глазах ее резко потемнело, и она упала в сугроб.
Вставать очень не хотелось. Сердце стучало пойманной птицей о клетку ребер, стремясь вырваться наружу. На лбу выступил липкий, холодный пот. Она закрыла глаза и подумала: «Ну, вот и все. Прости, мамочка. Я не смогла». Мимо нее шли люди. Никто не мог наклониться и спросить – девочка, что с тобой? Потому что им самим нечем было помочь.
Вике вдруг стало тепло. Где-то там, на задворках сознания, вдруг мелькнула слабенькая мысль, что вот опять, как у Джека Лондона, – замерзать не страшно и не больно. И это же хорошо, что она умирает тут. Вместе с мамой. Их подберут. Не сегодня, пусть завтра или послезавтра. Зато похоронят вместе. Хоть кто-то из всей семьи будет лежать рядом друг с другом.
Слабое ее дыхание чуть-чуть подтаяло снег у лица. Напоследок она пожалела, что отдала шоколадку тому мальчику. Но тут же застыдила себя. Застыдила и вспомнила:
Хлеб!
У нее же осталась вечерняя порция!
И эта мысль вдруг так ее обрадовала, что она немедленно перевернулась на спину и села в сугробе. А потом достала из-за пазухи кусочек промерзлой жизни и начала его грызть. Грызла, как волчонок, непрестанно оглядываясь по сторонам.
И с каждым отгрызенным кусочком жизнь стала возвращаться. Медленно, не спеша, чуть-чуть улыбаясь.
А мама лежала рядом… На саночках…
Уже стемнело. Но люди шли и шли. Скрипел под валенками снег. Где-то снова грохотали разрывы снарядов, где-то объявляли воздушную угрозу, где-то шла война, а она все грызла и грызла хлеб.
После кое-как поднялась. Снова нацепила веревку на грудь. И опять пошла.
Как оказалось, она чуть-чуть не дошла до железной дороги, за которой начиналось Пискаревское кладбище.
Странно, но взрывы доносились и оттуда. Но не такие, как снарядные или бомбовые. Глухие. И какие-то… нестрашные.
Вика с трудом перевалила санки через рельсы. А потом повернула налево. Вот уже и кладбище.
Входа с воротами, как на других, старых, кладбищах, тут не было.
Люди просто подходили к ряду ветвистых деревьев. И складывали своих покойников в большую кучу. Разворачивались и уходили обратно. А какие-то бойцы в длинных шинелях собирали трупы в безлошадные сани. А потом, сами впрягаясь в оглобли, тащили их куда-то вглубь кладбища.
Вика подошла к людям в шинелях:
– Дяденьки! А куда мне маму положить?
– Брось тут. Мы увезем, – отрывисто сказал один из могильщиков.
– Я не могу маму бросить, – упрямо ответила Вика.
– Тогда сама тащи! – раздраженно ответил бородатый высокий дядька, повернувшись к девочке. От него чувствительно пахло перегаром.
– А куда?
– Иди прямо. Потом свернешь налево. И еще раз налево, на первом повороте. Потом опять все прямо. Там сама увидишь. А лучше оставь тут.
– Нет, – упрямо ответила девочка. – Я – сама.
Бородач пожал плечами и отвернулся.
Она чуть-чуть подождала. Сани нагрузили покойниками и потащили. Вика пошла за ними.
Но только она сделала несколько шагов, как за спиной загудела машина. Пришлось прислониться к большому, покрытому снегом штабелю дров, образовывавшему целую улицу, концы которой терялись в темноте. Моргнув синими, светомаскировочными щелями фар, полуторка медленно поехала за санями.
«Зачем им столько дров на кладбище?» – удивленно подумала Вика. «Эх, если бы набрать домой… Может быть, попросить у кого-то?»
Она зашагала по узкому коридору между штабелями.
Затем, как и говорили, повернула налево. «Здесь можно заблудиться», – подумала девочка. Но полуторка ехала медленно. Она не могла обогнать сани. Поэтому Вика не теряла ее из вида.
Зимой, даже когда нет света, видно хорошо по ночам. Снег, он же белый…
Веревка, наверное, уже натерла синяк на груди. Но она обещала!
Снова где-то рядом грохнул нестрашный глухой взрыв.
Вика снова повернула.
Сани и грузовик темнели около какой-то большой ямы. Кто-то громко ругался на кого-то. Бойцы начали разгружать сани и грузовик, складывая замерзшие тела около дровяных штабелей. Некоторые покойники были почему-то в гробах. Тогда гроб раскрывали. Доставали оттуда труп и складывали его к остальным. Сам же гроб откладывали в сторону. К нему подходил человек с топором и разрубал его на доски, отбрасывая их в отдельную кучу.
Вика подошла к ругающемуся человеку в шинели и дернула того за рукав.
– Тебе что? Кто ее сюда пустил? – опять заругался дядька.
– Мне бы маму похоронить, – тусклым голосом ответила Вика.
– Дура, что ли? – рявкнул на нее дядька.
– Я – Вика! Мне бы маму похоронить!
– У всех мамы! Иди ко входу, там оставляй!
Вместо ответа Вика села на снег. Никуда она не пойдет. Пока маму не похоронит.
Дядька опять выругался, на этот раз нецензурно.
– Заберите у нее труп и оприходуйте со всеми.
Несколько человек шагнули в сторону девочки.
Тогда она обняла маму, всем видом показывая, что не отдаст последнее дорогое, что у нее пока есть.
– Не дам!
Кто-то ее осторожно взял за руки и оттащил от санок. Она заплакала.
Маму отвязали от санок и белым столбиком положили в штабель. Только теперь Вика поняла, что это не дрова, нет.
Это – люди.
Двухметровая в высоту, бесконечная в длину поленница людей. Ругливый дядька схватил ее за локоть и потащил куда-то.
– Смотри!
Сквозь лед слез она увидела гигантский ров, наполовину заполненный людьми. Здесь были разные. Завернутые, как мама, в простыни, голые без всего, как в бане, вытянутые и скрюченные, молодые и старые, мужчины и женщины. С одного края лежали обрубки и осколки людей – мешанина из рук, ног, голов и туловищ.
Прямо под ногами.
Вытянутая, белая до голубой прозрачности чья-то рука тянулась к Вике, словно пытаясь выбраться из котлована. Словно пытаясь вернуться к жизни. Словно крича ей, ругачему дядьке, Сидорчуку, мальчику с набережной, дяде Марату, Юте – всем! – мы еще живы! Мы еще здесь!
Но бойцы, один за другим, постепенно складывали тела в штабели, а из других штабелей в длинную яму, над которой замер, подняв руку с ковшом, экскаватор, похожий на древнего динозавра.
– Здесь мы твою маму похороним. Документы на нее есть?
Вика помотала головой. Она совсем забыла, что человеку нужны документы даже после смерти.
– А зовут как?
Вика ответила.
– Петрович! Запиши! А ты… Домой иди, девочка. Иди домой.
И опять матерно заругался на кого-то.
Почему-то Вике захотелось прыгнуть в эту яму и лечь там, прижавшись телом к телам ленинградцев, умерших, но живых, тамошних, но здешних, уснувших, но…
Но ее толкнули, сунули в руки веревочку от санок, как-то внезапно полегчавших, и отправили домой.
Она шла между длинных людских штабелей, и каждый шаг ее слабел. Обледенелые лица мертвых людей смотрели на нее со всех сторон. Они тянули к ней руки. Пытались выбраться, высовывая голые пятки, на которых не таял снег.
Она не могла отсюда уйти. Она чувствовала, что ее место здесь. Словно эти штабеля, ее мама, та рука – вцепились в нее и не давали уйти.
Когда она вышла к сортировочной яме, вдруг поняла, что не спросила у ругливого, где похоронят маму. Как она ее будет искать здесь? Куда она будет приходить? Почему она жива, когда все мертвы?
Вика бросила санки прямо на дороге и пошаркала обратно.
Но дойти не смогла.
Просто упала на снег, вытянув руки вперед, словно боец в атаке.
Она просто тянулась к маме.
Линия сердца (Апрель – май 2011)
День четвертый
После завтрака идем нарушать закон. Мать со своими на Гонтовую Липку. Юра туда же. Двух своих бойцов-пэтэушников с нами отправил. Посмотреть, как матерые работают.
А погода жуткая. Ровно осень – низкие тучи несутся с запада. Такое небо у меня почему-то ассоциируется со сценой из фильма «Александр Невский». Нет. Не из новой поделки, а старого шедевра. Это когда псы-рыцари свиньей атаковали нас.
Ну, псы свое получили, и тучи когда-нибудь закончатся.
Идем по полю в сторону железной дороги и станции «Апраксин бор».
Слева – огромная яма, будто копали экскаватором. Рядом с ямой бомба. ФАБ-500. Только почему-то пустая. В смысле, нет ни тола, ни взрывателя. Только один корпус. Кто ее выкопал? Зачем? Как? И как ее обезвредили? Для меня все это загадка, интереса не представляющая. Ну, нашли. Ну, выкопали. Ну, обезвредили. Ну, так и оставили. Ну и мы – мимо идем.
Некогда нам на всякие железяки любоваться.
Правда, пэтэушники Юрины побежали фотографироваться. Да пусть их. Детишки…
Когда-нибудь им это надоест. Мне же надоело!
Юди подходит ко мне и спрашивает:
– Ты чо, срань старая, молчишь?
– Думаю.
– Опять про меня хрень всякую напишешь, сучка бородатая?
– А ты как думал…
– Правильно. Пиши. А то забывается.
А потом ветер и легкий дождь. Слезами на очках.
На поле вышли гуськом. Потому как впереди Васька со Степкой со своими охрененно крутыми минаками. Сколько такие стоят? В смысле аппараты, а не Васька со Степкой. Много такие стоят.
Рублей шестьдесят, наверное. В смысле, шестьдесят тысяч.
Ну…
Понеслась.
Мы идем по полю за парнями, свистящими своими крутыми аппаратами. Идем навстречу ветру, секущему тебя плетьми воды.
Очки постоянно приходится протирать. Ни черта не видно. В конце концов снимаю их и прячу в карман пуховика.
Там, где Васька или Степка останавливаются и начинают крестить невидимыми щупальцами минака землю, – определяя место залегания – кто-то из нас останавливается и начинает копать.
Один, другой, третий…
Минометка, цинк с лентами для «максима», гнутая трехлинейка…
Мне опять достается «семь-шесть», прошедший через ствол. И я опять, пытаясь его выдернуть из земли, влупливаю со всей дури ему по башке – по взрывателю. Почему-то он опять срабатывает. Хорошие у меня ангелы-хранители. Добрые и сильные. Сильные – это точно. Гитлера в свое время заломали. Неужто меня от какого-то снаряда не спасут?
Грязно матерюсь и иду дальше.
Через полчаса все заняты своим делом. Кроме меня и Буденного. Мы закуриваем в очередной раз. Кажется, уже раз пятый за эти полчаса – нормально покурить не успеваем. Дождь убивает огонек сигареты. Руки замерзают. Зажав сигарету в кулак, немножко греемся. Заодно согреваем и внутренности из фляжки.
Говорят, что это алкогольное тепло – субъективная штука. Что на самом деле организму холодно. Да пофигу на организм. Главное, чтобы мне теплее было.
В этот момент Степка вдруг подает голос из-за спины:
– Кто бойца поднимать будет?
Мы оглядываемся.
Степка остановился на звуке минака. И пока мы стояли – поднял сначала диск «Дегтяря», а рядом лопатку саперную. А из-под лопатки торчит бедренная кость.
– Я! – орем мы оба с Буденным и бросаемся к костям.
Время останавливается. Исчезает ветер. Замирает дождь. Есть только ты, нож, лопатка и боец. Степка уходит дальше.
Поисковики делятся по предпочтениям на две категории – одни любят ходить и искать. Другие сидеть и копать. Степка, Тимофеич, Вася – первые. Я из вторых.
Буденный копает ноги. Я начинаю с головы.
Раскоп неглубокий. Всего сантиметров тридцать. И парню повезло – он не перепахан тракторами. Почти целый лежит. Как так получилось?
Под ножом скрежет металла.
Каска.
Осторожно достать ее не получается. Заплыла ленинградской тяжелой глиной. Да еще и прогнила. Половина каски отламывается в руках. Вторая еще там, внизу. Эх, блин… Черепа нет. Череп сгнил. На внутренней стороне каски – волосы. Короткие. Черные.
Сажусь рядом с раскопом на пендель – кусок пенопропиленового коврика – он же пеналь, он же поджопник, он же сидушка, он же геморройка. Геморроя не хочется.
Начинаю разбирать землю – полукруглый холмик из-под каски. Землю, бывшую когда-то человеческой головой. Человеком. Мокрые волосы собираю и складываю в пакет к костям. Складываю? Мокрые, они прилипают к ладоням, к одежде. Складываю вместе с землей.
Семьдесят лет прошло…
А они все еще живые, эти волосы. Ни одного седого…
А костей черепа нет. И челюстей тоже. И зубов нет. Каска. Земля. Волосы.
Постепенно протыкиваю землю ножом, спускаясь ниже. Есть ключичка. Ребро. Второе. Тут очень тщательно, очень! Тут медальон может быть. Тут нагрудные карманы…
Пусто. Ничего.
Артем в это время добрался до тазовых костей. Те раздроблены в хлам. Тоже перебирает жирную землю руками, там карманы брючные. Ничего. Подсумок – пустой. Ничего.
Почти сталкиваясь лбами, разрываем землю еще ниже – под бойцом.
Пусто.
Ищем вправо-влево, взрывая землю сначала лопатой, потом ножом. Ничего.
Ноги полностью, кроме стоп. Руки тоже – кроме кистей. Осколки таза. Несколько ребер. Ключица. Волосы.
Потом пакет с бойцом складываем в мой рюкзак. Легкий он – боец.
А прошло аж два часа, оказывается. Рассказывать об этом быстро. Со стороны наблюдать – долго. Работать – в один вздох время летит.
Два часа стояли раком, подставив свои пятые точки под небесную мокрую кручину. Кручину из кручин. И незаметно-то как. Только спина и штаны все-таки промокли.
Глоток водки за помин души. Плеснули маленько на раскоп. Второй для сугреву. Закуриваем.
– Наши-то где? – когда говорю, идет пар изо рта.
Буденный кивает мне – слепошарому в залитых дождем очках. Наши устраиваются на привал у мусорного отвала.
Мусорный отвал – это кучи земли, столканной зачем-то бульдозерами. Метра по четыре высотой – курганы на поле. За одним из них мужики и устраиваются, укрываясь от ветра. Оказывается, пока мы бойца поднимали – Заяц прискакал.
Заяц – в смысле, поисковик наш. Он наш штатный портной. Учится на модельера. Надеюсь, отучится и станет нормальным модельером, а не как эти… «звезды в шоке…». Он обшивает нас всех – кому камуфляж подогнать, кому разгрузку сшить. Ездит он с батей – с Петровичем. А зовут… От тыж блин! А я не помню, как Зайца зовут! Заяц и Заяц. Ну, пусть так и остается – Зайцем.
– Заяц! Ты чего к взрослым дядям пришел?
По лицу стекает дождь.
– Нельзя, что ли?
– Нельзя, – солидно встревает Степан. – Без водки тут никак нельзя. А ты водки принес?
– А я не пью! – отвечает Заяц.
– Кого ипет чужое горе? Мы-то пьем!
– Ну… Вы б сказали, я б принес… – Заяц еще маленький. Он еще не улавливает тонкую разницу между мужским грубым юмором и мужской грубой злостью. А еще не понимает то, что если мужики в поле под дождем, то водки им все равно не хватит.
– Значит, для того чтобы согреться, мы тебя сейчас женщиной сделаем… – подмигивает Женька Юдинцев Зайцу.
Мне остается метров пять до разлегшихся на земле мужиков. Скоро мы все будем мучиться спинами, коленями и прочими суставами. Но это будет после Вахты. На Вахте болеть некогда.
Делаю еще шаг и вдруг вижу под ногой что-то белое.
Кость.
Берцовая.
Человеческая. Белая-белая.
– Тем, положи в рюкзак, – останавливаюсь я.
– Ага…
Он засовывает кость в пакет с бойцом, торчащий из моего рюкзачишки.
А потом и мы устраиваемся на привал.
– Подняли?
– Подняли.
– Медальон?
– Пусто.
– Тогда водку доставай.
Я достаю фляжку, пустую уже наполовину.
Она и так-то маленькая – двести пятьдесят. Оказывается, взяли все – тушенку, хлеб, лук, сало. А водку забыли в лагере. Васька и Степка притащили свое, конечно. Но мало. Всего пол-литра.
– Дед, у тебя же всегда водка есть! – возмущается Еж.
– А это что? – возмущаюсь я.
– Мало! – рев брутальных мужиков гаснет в дожде.
Надо отправлять гонца в лагерь. Идти никому неохота.
А чуть позже выясняется, что до магазина ближе.
Складываемся по сотне. Рублей, конечно.
Где сей магазин находится – знаем теоретически мы и практически – Васька со Степкой. Но их посылать нельзя – у них аппаратура. Пока гонцы бегают – мы часик еще тут походим.
Посылаем Юриных пэтэушников. На тех смотреть жалко – мокрые, соплястые.
Васька объясняет им, как дойти. Те – тупят. «Ак чо, мы это, того…»
– А им и не продадут. Двадцати одного нету. Нету?
Мелкие облегченно кивают:
– Нету!
Боятся заблудиться, что ли?
В итоге иду я. Самый старый с самыми молодыми.
Ну, во-первых, хоть согреюсь. Во-вторых – посмотрю на этот самый Апраксин. В-третьих – узнаю, где тут магазин. В-четвертых – посмотрю расписание электричек. И, наконец, в-пятых – куплю нормальной водки. И нормально куплю. Не одну бутылку.
Достаю солдата из рюкзака. Оставляю мешок пока тут. Чего его с собой таскать? Поднимаюсь на отвал. Едва не сбрасывает ветром – чего-то он усилился.
И снова нагибаюсь под ноги. Еще одна кость. На этот раз предплечье. А рядом вторая. И берцовочки вниз. И мелкие – от ступней.
Пошли поисковика за водкой – он бойца и поднимет.
– Эээй! – ору. – Кто бойца подымать будет?
Потом встаю на колени, проверяю землю. Дождь стучит по капюшону и козырьку кепки. Рядом с бойцом – чернильная ручка малахитового цвета с латунным пером. На пере – серп и молот и число «1936». Один из мелких – Антон, кажется, – остается тут.
Мы идем дальше.
Вот он – Апраксин Бор. Метрах в пятидесяти от косточек – дачи стоят. На косточках и стоят. Интересно, а когда дачники свои огороды копают – они бойцов находят тут?
И через десять минут мы в центре цивилизации. Асфальт. Машинки проезжают. Музыка из этих машинок. «Тынц, тынц, тынц!» Я – попаданец. Из сорок второго в две тысячи одиннадцатый. На нас – мокрых и очень грязных – не обращают внимания. Бомжи и бомжи. Мало ли тут таких? Ага…
Нормально все, жители двадцать первого века. Мы сейчас вашего спирта купим – обратно в свой двадцатый. Мы живем в прошлом. Не волнуйтесь. Мы тут так – в гостях.
– Здрасьте, барышня! – это я продавщице в магазе. – Водка есть в литровых? Желательно паленая…
– Есть, пожалуйста, «Белуга».
«Белуга» стоит тут восемь сотен за литр. Подозрительно дешево. Пэтэушник едва в обморок не падает от цены.
– А чо эта дорого-то так, эта, а? Чо а?
– А это мы с базы напрямую возим, – машинально отвечает «барышня» и тут же понимает, что фигню сморозила.
– А она точно паленая? – с серьезной миной продолжаю я.
– Да, конечно, еще никто не жаловался…
Я хихикаю про себя.
И беру какой-то «Кедровой» по сто восемьдесят за литр. Пять литров. И флегматично запихиваю бутылки в рюкзак. Потом внезапно вспоминаю старый анекдот и прошу две конфетки. Поворачиваюсь к пэтэушнику и говорю ему:
– Три брать не будем. А то опять стошнит.
Он не знает этого анекдота и замирает от ужаса. А потом берет полторашку пива. Дурак. Пиво на таком ветру нельзя пить. Только водку. Паленую.
Когда я вышел, то пацан спросил. Торжественно так спросил. И как-то сакрально:
– А зачем так много?
– Конфет-то? Так нас же много…
После этого он молчит всю дорогу и о чем-то размышляет.
А я просто возвращаюсь в сорок второй.
Пока ходили – ничего не произошло. Бойца с ручкой добрали. Подняли и еще одного. Зайцу повезло – наткнулся на лимонку. На щуп нашел. А лимоночка – в кармане. И полный набор – крупные кости и даже с черепом. Медальона опять нет.
Ну, вот теперь можно и нормально пожрать.
И только сели за курганом – дождь внезапно закончился. Ангелы решили, что мы заслужили пообедать без воды сверху…
Степка достал две упаковки армейского пайка.
Мы – банку тушенки, пять головок лука, буханку хлеба. И трехлитровый термос с чаем. Его Змей с собой таскает. Ну и сало, само собой. Без сала в такую погоду жить невозможно.
Пэтэушники ничего с собой не взяли. Дети – уроды. Прав Еж. Жрут больше всех, а еду добывать не умеют. Пришлось обматерить. Впрок. Так-то бы, чисто педагогически, оставить их голодными – будут думать в следующий раз.
На пайки молодежь сделала стойку: интересно им – а что там такое? Консерва рыбная, консерва мясная. Галет кучка, пакетик чая, парочка кофе. Витаминный напиток.
И еще таблетки сухого спирта.
Юди делает ямку под него. Степка тем временем открывает банки.
Разводим в ямке огонь. Ставим на него сначала одну банку. Дожидаемся, когда сало растает.
А потом макаем в нее хлеб, передавая банку по кругу. Заедаем дольками лука. Запиваем чаем с водкой. Вот это – самая вкусная на свете еда – макать хлеб в растопленный жир тушенки и запивать его горячим сладким чаем с водкой. И никакие суши с профитролями рядом не стояли.
И разговариваем.
– Слышь, пацан, а ты на кой хрен пиво взял?
– Так вкусно же!
– Ты же обоссышься сейчас со вкусного-то! – лошадино ржем над пареньком.
– А мы водку не пьем…
– Хе… Ты вообще… Первый раз, что ли?
– Ага! – в голосе пэтэушника жизнерадостный восторг щенка.
– Ты вообще зачем сюда поехал? – спрашиваю я, с хрустом пережевывая лук с салом.
– Пряжку хочу найти. Немецкую. Чтобы там надпись – «Гот минс унс».
– Мит унс, – машинально поправляет его Васька и ухмыляется.
А мы замолкаем… Только я продолжаю:
– А нах?
– В городе носить буду! На ремень надену!
– Встречу в городе – уебу лопаткой, – Буденный не смотрит на пацана. Он макает хлеб в горячий жир тушенки. Потом утирает подбородок и повторяет: – Уебу. Понял?
– А чо? А? – удивляется пацан.
– Ничо а, блять ты такая. Просто так.
– Нацик, что ли? – спокойно говорит Еж, хрумкая галетой. Когда Еж спокоен – жди беды.
Парень вдруг теряется.
– Нацик… – констатирует факт Юди. – Тут его прикопаем или?
– Оглянись, что видишь вокруг? – это уже я подал голос.
– Ээээ… Поле.
– А кто на нем лежит?
– Мы вот сейчас лежим…
– Идиот ты, – говорит Дембель.
Я продолжаю разговор, не обращая внимания на реплики:
– Бойцы тут лежат. Русские бойцы. Так?
– Ну… Да…
– А ты хочешь носить пряжку немца, который этих бойцов убивал? Что бы они, эти бойцы, с тобой сделали, если бы встретили в Кирове сорок второго?
Молчание. Только ложки скребут по банкам.
– Позже прикопаем. После захоронения, – опять вздыхает Юди. – И билет сдадим. А бабло пропьем!
Васька ухмыляется. Найти эту пряжку тут – дело тяжелое. А носить ее… Последнее дело.
И, конечно же, начинаем спорить.
Спорить о том, что видим вокруг.
О том, что нужно ли было класть солдат в этих болотах? Так ли был бессмыслен Невский пятачок? Может быть, стоило просто держать оборону, дожидаясь побед под Сталинградом?
– Немцы бы оттащили отсюда резервы, и тогда можно было бы прорывать. Ведь в итоге так и получилось!
– Ага… Получилось бы… Это кто ж в августе сорок второго года знал о Сталинградской победе? Немцы были так уверены в своей победе на юге, что одиннадцатую армию фон Манштейна перекинули не на юг, а именно сюда. Под Питер. И если бы наши тут просто сидели в болотах, что бы было?
– И что? Потерь бы было меньше!
Я не выдерживаю и вставляю свои пять копеек:
– А то же самое, что и во Франции. Сидели себе за линией Мажино – в футбол гоняли. Потери были минимальны. Какого-то капрала шлепнули через два месяца после начала войны. Немцы, наверное, долго извинялись перед родственниками. А потом раз! И нет Франции.
– На войне стреляют, знаешь ли… – это Степка прожевал кусок хлеба с салом.
– Не… Ну, так это понятно. Зачем толпой на пулеметы-то бегать?
– Можно подумать, немцы так не делали. Или англичане с американцами. Леха, скажи!
И я говорю:
– Потери американцев в Первую мировую войну только убитыми – двести тысяч человек. За два месяца. Сто тысяч в месяц. Потери России за три года убитыми – девятьсот тысяч. Двадцать пять тысяч в месяц. Ну ладно, это Первая мировая. Во Второй мировой при высадке на Сицилии янкесы сами себя разбомбили, а потом едва не сбежали, когда их три дивизии немцы одной контратаковали.
– Зато они жизни солдат спасали!
– Зато наши солдаты спасали жизни своих детей.
Спор вечен. Вечен и бесконечен. Солдат, поймавший пулеметную очередь, – жертва бестолкового командира или герой, приблизивший Победу на несколько секунд?
Кто из нас прав – я или мой оппонент?
Да никто. Солдат – прав. Жаль, я никогда не узнаю – что думал он перед боем, чем жил, как чувствовал?
Жить – можно. И нужно. Но если нужно – бывает такое – то надо и умереть. Чтобы другие – жили.
А иногда надо и замолчать.
Перекуриваем обед.
И снова вперед.
Змей и Юди – подымать блиндаж. Васька насвистел им трубу от печки. На помощь им отправляем пэтэушников.
А мы дальше – цепочкой по полю.
Вернее, змейкой. Со стороны забавно, наверное, смотримся. Бегает мужик со странной хренью в руках. Время от времени хрень гулко гудит. Толпа других мужиков отарой бродит за ним. Если отара услышит гудок – ускоряется и бежит с лопатками наперевес. Кто первый – тот копает. Маньяки…
А погода тем временем внезапно улучшается. Тучи ровным строем уходят на восток. И за этим строем ползут – высоко – перистые штабные облака. Впрочем, иногда и кучевые подносчики боеприпасов тоже ползут за фронтом. Низко, кажется, можно щупом достать.
Сыро. Ветрено. Солнечно.
Я улыбаюсь солнышку, скидывая мокрый капюшон.
– Леха! Тут! – Васька крестит миноискателем землю. Буденный пристраивается рядом.
У меня ржавая саперная лопатка в земле. У Буденного – подсумок. Пустой. Кожа хорошая. Отдадим Зайцу – пусть шьет чего-нибудь. А костей опять нет…
Вдруг я слышу за спиной резкий хлопок и машинально падаю мордой в мокрую землю. Потом оборачиваюсь – Артем сидит с побелевшими глазами и матерится. Оказывается, он со всей дури втопил «фискарем» – это лопата такая – в землю, а в ней лежал взрыватель от «эфочки».
Взрыватель взял и хлопнул. Работа у него такая – хлопать.
– Аж лопату подкинуло! – а потом долгая матерная тирада. Забористая такая русская молитва.
Я протягиваю фляжку – адреналин погасить. Артем хлебает лекарство как воду. Потом вытирает вспотевший лоб дрожащей рукой.
– Третий раз уже, бляха муха!
Артем – спасатель. Работает в МЧС. Вроде привыкнуть должен, скажете? Не… К этому не привыкается.
– Идем?
– Идем…
И мы шагаем дальше…
У каждого свои враги на Вахте. У кого-то взрыватели, у меня вот снаряды.
– Хорошо, что не шар ампулометный, – говорит Степан. – Было дело, у нас пацан щупом пробил его. Еле отскочить успел.
– Бахнуло?
– Пыхнуло. Волосы опалило. И хорошо, что не попало на него. Хрен потушишь эту смесь.
– Из чего ее делали-то?
Степка рассказывает. Я не запоминаю. Не хочу знать эту херню.
Случаев таких – много. Но Бог бережет дураков. Дураков, но не идиотов. Если ты будешь подкидывать взрыватель от противотанковой гранаты и долбать по нему лопаткой – рано или поздно ангел подправит осколок в нужную сторону, дабы спасти остатки мозга посредством черепно-мозговой травмы. Хотя одному мудаку каким-то образом в задницу осколок прилетел. Ангел-хранитель явно ругался, спасая своего идиота. Осколок-то горячий – все пальцы обжег. Потом, наверное, крыльями устал махать на ожоги.
Или вот бутылка как-то хлопнула с зажигательной смесью. Тоже тогда парень отскочить успел, только капля на ладонь попала. Мы его втроем держали, когда он руку сунул в зеленую воду болотной воронки. Один хрен – не помогло. Пока капля ладонь не прожгла насквозь – не потухла.
Идем мимо раскопа на блиндаже.
– Дед! На тебе подарок! – Юди протягивает бутылку.
Накаркали.
Вот и он. Тот самый коктейль того самого Молотова. И главное, почему Молотова? Какое отношение к сему химическому продукту нарком иностранных дел имел? А вот вошел же в историю таким странным образом…
И вот куда его девать?
В лагерь – нельзя. Тут оставлять – нельзя. Уничтожать – нельзя.
– А вона саперы шляются. Им и отдадим, – Еж махнул лопатой в сторону дороги.
Пока мы тут ползали – нарисовалась группа разминирования МЧС. Кой черт их принесло? Рояли, блин, из кустов. Посылаем, было, молодого к ним с подарком. И тут же останавливаем его.
Молодого пошлешь – а он или бутылку разобьет по дороге, или его саперы повяжут. Тем более вместе с ними могут быть и менты. А тут – напоминаю – другой район. Мгинский. Разрешения нет… И слово «нашел» – не прокатит.
Идем мы с Ежом. Но только делаем пару шагов, как «уазик» едет к нам. Отлично.
– Плесни-ка на пару пальцев… – Еж достает складной стаканчик. Я – фляжку.
– На пару – вдоль или поперек? – вспоминаю я бородатую шутку. Никто не смеется. И не отвечает. Хлопнули по граммульке…
И ведь никто не пьянеет, что удивительно. Кроме пэтэушников. Те пиво допили и снова послали своего гонца в магазин. Тот им притащил две полторашки какого-то жуткого ядовитого коктейля. По-моему, он еще хуже молотовского. Тот хоть просто горит. А этот еще и пахнет рвотой.
– Здорово, мужики! Чьих будете? – Из «уазика» высовывается какой-то луноликий мужик в форменном комбезе МЧС.
– Кировские мы, а чо? – вятское «чо» «чотко» идентифицирует нас как не местных. Однако стереотипы мышления срабатывают – кировские тут означает «Из Кировска», а не с Вятки.
– Аааа… Есть чего увезти? – интересуется сапер.
– Нна! – внезапно вытягивает руку Еж. Бутылку он прятал за спиной. И теперь, сделав выпад как д'Артаньян, выпучил глаза, пытаясь напугать водилу.
– О! – сапер непроизвольно откидывается на сиденье. – А больше ничего нет?
– Семь-шесть. Вооон около той ямки! – вступаю я, показывая направление щупом.
– Пузырь бери, давай! Бесплатно. Пока добрые! – настаивает Еж.
– Да ну ее… Разбейте где-нибудь, – доносится голос из машины. Там их трое, оказывается. Я сразу и не разглядел.
– Будет сделано, товарищ командир, о крыло можно? – Еж делает вид круглого дурака. Это он умеет.
В машине ржут. И уезжают в сторону моего снаряда.
– Уроды, блин, – смеется Еж им вслед. Это не ругательство. Это он ласково.
В это время из блиндажной ямы выбирается Змей.
– Пусто. Больше нет ни хрена.
Только труба на дне валяется. Ее вытаскивать не стали. Зачем нам труба? Не надо нам трубу.
Вот об нее Еж и разбивает бутылку.
Он успевает сделать несколько шагов в сторону – как раскоп превращается в вулкан. Пламя какое-то… Адское. Бело-желтое. И чадит сильно. Даже в нескольких метрах чувствуется жар. Хорошо. Тепленько стало. Еж приблизил лето на несколько секунд, чуть-чуть нагрев окружающую среду. В яме стало что-то тихо хлопать.
– Там патроны были. Винтовочные, штук двадцать. Гнилые, я даже доставать не стал.
– И ты, Змей, тоже урод, – констатирует, и опять ласково, Еж, глядя на пламя.
Юди ржет.
– И ты, Юдинцев, тоже.
Между прочим, мы сейчас уничтожаем имущество Министерства обороны Российской Федерации. Да. Это все юридически принадлежит армии. Правда, оно ей нафиг не нужно. Тем не менее.
Погревшись, отправляемся дальше. То тут, то там поднимаем всякие железяки и косточки. Железяки отпинываем. Косточки – складываем в пакеты.
Так незаметно приходит вечер.
Пора идти на ужин.
С первых еще Вахт сохранилось правило – после восьми в лес ни ногой. Раньше это делалось, когда саперы прямо в лесу – на месте находки – делали подрывы. Сейчас они увозят барахло, а привычка осталась.
Быстро как время летит. Вроде ничего и не делали особо. Даже и не устали.
А вот потому как не устали – парни пошли в баню после ужина.
Там у нас сделан вигвам. На него плащи ОЗК накинуты. Рядом костер, на котором дежурные греют воду и камни. Когда камни нагреются – их в парилку. Там водой поливают. Холодненькой. Из речки. А горячую воду – в душ. Помост между трех деревьев, на помосте тридцатилитровый мешок. К мешку приделывается шланг, который заканчивается нормальным таким душем. На шланге краник. Я, правда, в лесу не моюсь. По старой туристской привычке. Слишком легко в лесу после бани простудиться. А мужики моются. Как говорится, каждый хозяин – сам себе татарин.
Я сижу у костра, читаю книгу, грею воду и камни. Перевариваю гречку с мясом. Мужики орут, прыгая в речку.
Жить – хорошо.
Только вот – зачем?
День пятый
Утром я просыпаюсь оттого, что чешется левая лопатка. Сильно, блин, чешется. Верчусь и так и эдак, нащупывая чертов прыщ.
Ан нет. Не прыщ. Клещ, скотина, цапнул. Выбираюсь из землянки. Над миром – туман. Подхожу к столу. Дежурные варят овсянку. Прав Еж. Дети – уроды, а бабы – козлы. Рита сидит за столом и чего-то пишет. Остальные еще дрыхнут. Еж храпит так, что труба у печки ходит.
– Рит, я этот клейстер жрать не буду… – угрюмо говорю я, подойдя к столу. – По трем причинам. Я не англичанин, я не Ксюша Собчак, и у меня аллергия на нее.
– На Ксюшу?
– На кашу!
– Ну не жри… – флегматично отвечает Рита. – Хочешь, я тебе «Губернаторской» каши дам?
– Давай. Две, – соглашаюсь я.
– А две за что? – Рита не отрывается от своих бумаг.
– А меня клещ цепанул и у меня этот… как его… бруцеллез. Нет… Ботулизм. А! Менингит!
– Энцефалит у тебя. Подожди, протокол допишу.
Рита заполняет протокола эксгумации. С каждым годом они становятся все больше и больше. В этом – уже на четырех страницах формата «а-четвертый». Каждый год что-то новое. Если внесение координат GPS еще можно понять, то как понять графу «Определение возраста останков по сохранности черепных швов»? Как правило, подобные графы заполняем от балды.
– Я ж сдохну на глазах! – возмущаюсь я для вида. Сам же набираю кипятка и делаю себе кофеек. Чтобы уничтожить поганый вкус обочин бразильских дорог, максимально переслащиваю его. Ну и из фляжки плескаю немного…
– Может, бальзаму тебе?
– Нафиг. Детям оставь. Я все одно сдохну сегодня-завтра. Уже начинаю. Между прочим!
– Ага… – кивает Рита.
– Вы меня прихороните около землянки, ладно? Я буду по ночам приходить, девок щупать.
Рита смеется:
– Мы кол забьем в могилку, чтобы не ползал тут, старый ты хрыч.
– Тебя тоже щипну, не волнуйся.
– Тьфу! Детей бы постыдился! – Рита «как бы» укоризненно смотрит на меня. Сама смеется.
– Кого стыдиться? Этих стыдиться? – киваю я на дежурных. Дежурят сегодня пацан по имени… А и не помню. И Светка – симпатичная девица семнадцати лет. Ничего такая. Глупенькая, правда, но как все в этом возрасте. Подрастет – поумнеет. В дочки мне уже годится.
– Да эти всю ночь шубуршали в своем углу. Вон, у Светки губы до сих пор пухлые и покусанные…
– Чегоооо? – возмущается Света.
Я, сам для себя неожиданно, выдаю:
– Эх ты, Света, Света – губы для минета…
И тут же получаю по лбу ложкой. От Риты:
– Старый ты хрен!
Света краснеет и раздувает ноздри, пацан хихикает, Рита сдерживает смех и изображает гневное лицо, а я ворчу:
– Вот уж… Перед смертью и помечтать нельзя…
– Маргарита Олеговна! – Светка воспринимает мои слова как очередной похабный комплимент и возмущенно смотрит на Ритку, ища спасения. Она машет рукой и продолжает писать.
А я равнодушно пью свой кофей.
И решаю поразвлекаться.
Когда Светка нагибается, чтобы помешать овсянку, – я демонстративно поворачиваюсь к ней лицом и громко цокаю:
– Тц, тц, тц…
– Что?! – оборачивается она.
– Ничто. Красиво.
Девка злится. Отходит в сторону, но туда идет дым. Отходит в другую, снова нагибается, чтобы помешать овсянку. А то пригорит же!
Мне лень сидеть просто так. Поэтому я встаю, захожу с тыла и снова цокаю.
Светка аж подпрыгивает.
– ЧТО?
– Ничто! Некрасиво!
Светка пыхтит изо всех сил, не зная, что сказать.
– Никогда не поворачивайся ко мне задом, – нравоучительно говорю я.
– Почему? – задает наивный вопрос девчоночка.
– Скоро уже узнаешь, – опять ляпаю я.
На этот раз Рита не выдерживает и бросает ручку:
– Иди-ка сюда, Дед, я тебе клеща вытащу. А то завтрак пригорит.
– Вот давно бы так… – удовлетворенно ворчу я и стягиваю свитер с футболкой.
Операция шла ровно минуту. Через эту минуту невинно убиенный клещ был брошен в костер, а ранка замазана зеленкой.
– Рита, – интересуюсь я. – А клеща-то ты живого, поди, в костер кинула? Ему же больно там!
– Он сдох от твоей крови, – немедленно парирует она. И продолжает водить зеленкой по спине.
– Стой так! – командует она мной.
Я покорно стою. Я догадываюсь, что она сейчас сделает. Сфотографирует спину с надписью «Я – козел!». Старый прикол.
Пусть фотографирует.
Это я только делаю вид, что ворчу.
На самом деле я люблю их всех. И если они захотят посмеяться надо мной – пусть смеются. Мне ни капли не обидно. Наоборот. Даже приятно.
– Теперь у меня еще и воспаление легких… – бурчу я, натягивая футболку и свитер.
– Олигофрения у тебя. И старческий маразм, – парирует Рита, опять садясь за свои бумаги.
– И спермотоксикоз. Есть чего-нибудь от него?
– Жена от таких болячек помогает… – вставляет Света и тут же нарывается.
– Ты-то откуда знаешь, дитя порока? – изумляюсь я.
Сразу сообразить она не успевает. Я ей не даю думать:
– Небось Ваньку от него сегодня лечила? – О! Я нечаянно вспомнил имя паренька.
Парень хоть и мелкий, но в игру включается:
– Да что там помогала, всего две процедуры было…
Теперь его очередь настала. Я тут же переношу огонь:
– Что, Вань? Рука устала? Вот такие они девки, да… Помурыжат и в кусты сбегают. А в кустах кто? А в кустах ленивый Дед лежит…
– Дед, я, между прочим, все жене расскажу, – грозится Рита.
– Ей понравится, да! – довольно киваю я.
Жена у меня с замечательным чувством юмора. И эта угроза не имеет никакой силы. Впрочем, Рита это прекрасно знает.
За разговорами я делаю кофе и Ритке. Не в благодарность за клеща. Просто так. Щедро плескаю ей того самого бальзама на сорока травах.
И тут из-за спины Ритки нарисовывается Наташка. Да не просто Наташка. А такая же похабница, как и я. Афоризмы из нее сыплются еще больше, чем из меня.
И тихим таким голосом затягивает песенку из репертуара девяностых. Только со своими словами:
– Женское пьянство – это не излечишь! Рита, ты же жизнь свою калечишь!
– Да тьфу на вас всех! – ржет Рита уже во весь голос. Красивый у нее голос, кстати. И поет она красиво. Вечерами. Как-нибудь надо будет спеть с ней. После Вахты.
Вот так и проходит время от подъема через завтрак.
Мужики снова собираются сходить на поле.
Я – остаюсь в лагере. Жду Сашу с его помпой. Обещался же привезти. Вот и сидим, ждем. Я снова читаю книгу, и курю, курю, курю… Иногда почесываю спину. Скотский клещ… Прививки от энцефалита у меня нет. Да и клещ-то меня кусает второй раз в жизни. За двадцать лет походной жизни. Вру. За двадцать два года. Из них пятнадцать поисковых. Пока пятнадцать, дай бог.
Мужики ушли. Наташка подсаживается рядом:
– Чего читаешь?
Я молча показываю ей обложку. На ней написано: «Константин Симонов. Живые и Мертвые». Другие книги тут не читаются.
– А-а-а… Тебя тут тоже клещ цапнул?
– Угу, – киваю я.
– Меня тоже неделю назад. Дед, а ты знаешь, что клещей никто не ест?
– В смысле? – заинтересовываюсь я.
– В прямом. Их птицы не жрут. Вообще. Они – вершина пищевой цепочки.
Наташка юрист. Она работает в суде и знает много умных слов. Например, что такое УПК. Я, наивный, всегда думал, что эта аббревиатура означает – учебно-производственный комбинат. Ан нет. Это – уголовно-процессуальный кодекс. Во как!
И тут нас обоих осеняет:
– Мы – ЗОМБИИИИИ!!!!! – кричим мы в дурной голос на весь лес.
– Точно, энцефалит, – чешет затылок уходящий в поле Еж и ржет, глядя на нас.
– Лишь бы не триппер, как у некоторых! – а это Натаха пальцем в Ежа ткнула.
Ритка, уходящая в лес, обернулась и выразительно покрутила пальцем у виска.
Экое сегодня утро пошлое.
Саша приехал только в десять часов. К этому времени я вместе с политруком Иваном Синцовым попал во второе окружение.
А Саша привез помпу. Значит, траншею сегодня все же качнем…
Помпа – она тяжелая. Аж полцентнера. Шучу, конечно. Какая там тяжесть? Нести неудобно – километр по лесу. Да еще и ручки ребристые. Придется перчатки надеть пацанам-пэтэушникам. Пусть тащат молодые.
Обратно – мы понесем. Старички. Потому как силы умеем распределять. А эти еще не умеют. Обратно у них сил не будет.
Тащимся по лесу – проходим мимо свежих крестов на могильных холмиках. Тут никого нет.
А вот и Ритка копается.
– Боец, Мать? – кричит кто-то.
– Да фиг знает… Лучевая одна и все.
Бывает… Опять – добор. Удачи вам, девчата! Идем дальше.
На правом плече – «фискарь». На левом – щуп. За спиной – рюкзак с едой, водкой и пакетами.
А может, никакой войны и не было?
Может быть, мне все это снится?
Эти ямы под ногами – может быть, это просто ямы? Не воронки, не блиндажи, не траншеи?
Тропа широкая. Натоптана как следует.
По ней ходим в сторону ЛЭП – основного места прорыва несчастной второй ударной. Там, куда мы идем, – миноискатели не нужны. Они там бесполезны. Там железа больше, чем земли. Ведро осколков с одного квадратного метра. И это только на полштыка лопаты вглубь – не хотите ли?
Вдоль изгибистой Черной речки мы идем по войне, на которую попали спустя шестьдесят пять лет.
Почему-то хочется в голос зарыдать.
Но я об этом не скажу никому. Просто бывает у меня – иногда. Накатывает такое. Иногда я жалею, что жив.
Был бы Еж с пацанами рядом – я бы чего-нибудь спошлил, типа:
– Еж! В рот возьмешь?
И получил бы в ответ дозу отборного мата.
И стало бы легче на душе.
Но Еж снова ушел на поле.
Мы не ангелы. Но мы и не бесы.
Мы – человеки.
– Ставь, – командует Сашка пацанам.
Пришли.
Вот уж лучшей доли себе невозможно пожелать. У нас есть траншея – одна штука. Идет строго с востока на запад. Или с запада на восток? А… Неважно. Траншея неглубокая, воды всего лишь по колено – зимняя. В смысле, ее зимой рыли. Кто? Да хрен его знает. Может – гансы, может – наши.
Тут и немецких гильз, и наших…
В прошлом году на бруствере этой траншеи подняли двух бойцов. И я еще нашел тут фалангу какого-то пальца.
Пока Сашка готовит помпу – бензином заправить, шланги раскатать – мы делаем плотину чуть выше места откачки. Или отсоса. Очень уж эта хреновина забавно сосет, да… Плотину, потому как траншея идет под уклон с холма к реке.
И не спрашивайте меня – почему вода в реку не уходит.
Вот холм. Вот траншея по склону холма. Она спускается к реке. И вот, представьте себе, полна воды. И вода не стекает в речку. Чудо, твою мать.
Вот так! Так же как и камни на болоте, которые не тонут в этой жиже. Люди в ней тонут, а камни – нет.
Помпа заработала. К высасывающему концу поставили паренька Юркиного, чтобы тот следил за всякими ветками, плавающими в траншее. Иначе фильтр забьет.
Ну, все. Опять можно отдыхать. Видите, ничего тут особо напряжного нет. Лежишь на травке и ждешь – когда помпа отфрикционирует воду из траншеи. Это примерно час отдыха.
В прошлом году мы попробовали ее вручную откачать – двое ведрами качали – трое ползали раками по дну траншеи, выбирая кости в ледяной воде.
А сейчас валяемся, курим, ждем – когда чудо техники осушит шрам из прошлого века.
А небо вдруг очистилось.
И солнце греет.
Ветер кончился…
Стало вдруг тепло и лениво.
Лень даже пуховик расстегнуть. Какое сегодня число? Четвертое мая? До этого момента казалось, что четвертое ноября.
Руки не мерзли только благодаря какой-то пчелиной мази. А сейчас даже жарко стало… Я как кот. Разлегся на травке… Дремлю… Клещей ловлю… Опять… Да…
Будит меня запах вишни.
Это ДядьВова рядом сел. ДядьВова – батя Буденного. Именно так. ДядьВова. Слитно и с большой буквы. Потому как он весь цельный, в отличие от нас. И весь – с Большой Буквы.
Как будто он из сорок первого вынырнул…
Вот такие и победили в той войне.
Не выиграли. Именно – победили.
В покер выигрывают. В преферанс. В морской бой.
А на войне – побеждают.
– На-ко, Геннадич, затянись… – протягивает он мне трубку, набитую ароматным табачком.
– Нафиг. Трубка что жена. В чужие руки давать нельзя, – опять пошлю я. Сажусь и достаю свою «Приму». Закуриваю. Первый затяг запиваю водкой. ДядьВове не предлагаю. Он не пьет. Вообще. Как и Юра Тимофеевич. За ДядьВову сын его – Артем – отрывается.
– Нельзя… Вот у нас в деревне случай был… – И ДядьВова начинает рассказывать очередную байку про свою деревню.
ДядьВова у нас как кот Баюн. Слушать его необязательно. Сидишь рядом и дремлешь под урчание матерого такого кота.
– А Ванька тогда нажрался и упал в навозный отстойник…
– Какой отстойник?
– Ну, тудова коровьи говёхи с фермы возят, агась. Утром приходит – от него так дерьмецом пованивает. А он, главно, не помнит. Мы ему – Вань! Ты же обосралси! А он – не… То ты чо та нето базлаешь, я всю ж ночь с чей-то бабой обнималси! А он, понимаешь, кучку себе сгреб да и спал в обнимушку…
ДядьВову можно слушать бесконечно. Нет. Не так. «Безконешно». Как музыку. Он – как кусочек того самого корня, благодаря которому – мы – русские! Мы – русские, да… На развалинах страны… А солнышко всех греет одинаково.
Меня – внука немецкого военнопленного, ДядьВову – сына пропавшего без вести красноармейца…
Нас всех.
Нас.
Всех.
– Готово! – по лесу крик.
Помпа высосала воду из траншеи.
Да как сказать – высосала? Так… На дне траншеи – густая коричневая жижа. Глубиной примерно по щиколотку.
Мы по очереди шлепаемся туда как лягушки. Только с лопатами. И начинаем ковыряться в земле, докапываясь до дна траншеи. Ворочать глину тяжело – не видно, что там в жиже. Одновременно расширяем стенки. Ноги увязают в этой каше. Как же они тут воевали-то?
Через полчаса нас не отличить от чертей. Мы смачно шлепаем пластами земли по брустверам. Там их разбирают в поисках чего-нибудь стоящего.
Ручками, ручками разбирают. Берется комок глины, сжимается в кулаке. Она выползает между пальцев.
За это нас мамы в детстве ругали. Вот, дорвались!
Юрка берет видеокамеру. Поснимать этот процесс.
Тут Антон, сын Тимофеича, садится на бруствер – перекурить. Ноги в траншее. И он ногой нащупал что-то.
Он долго ковыряется в грязи, закатав рукава по локоть.
А потом вытаскивает бедренную кость. Здоровую! Человеческую. Красноватого такого оттенка.
Юрка не успевает снять момент и кричит сыну:
– Антон, положи ее обратно! Сейчас заснимем!
Антон пожимает плечами и кладет ее обратно.
– Дубль два, кадр двадцать восемь! – кричит кто-то.
Съемка снова началась.
Антон, выплюнув сигарету, опять поднимает кость.
Другую. Лучевую.
– Ну, блин… А бедро где?
Начинает шарить в земле. Потом достает это бедро. Потом другое. Потом… Третье. Три бедренных кости. Два бойца.
Азарт снова захватывает нас.
Теперь уже никто не ворчит на грязь.
Один из пацанов загребает жижу в ведро, притащенное из лагеря. Относит его в сторону – выливает. Потом копается там, вылавливая останки или медальон.
Мелких косточек не попадается. Видать, все растворились.
Только конечности. И то не полностью. Три бедра. Две голени. Лучевых четыре штуки. Ребер штук пять. Одно тазовое крыло. Лопатка – одна. И очень маленькая. Словно подростковая или девичья.
А вот бедра огроменные – ясно, что мужские. Впрочем, нет. Мужицкие. Самое длинное бедро сантиметров восемьдесят в длину. Два других – чуть покороче. Не сочетается эта малюсенькая лопатка с бедрами. Так не бывает анатомически.
Ясно, что тут останки трех человек. Но по документам пойдут двое. Хотя… Разберемся. Может быть, еще косточки пойдут.
Антону удается добраться до дна траншеи – земля пошла твердая.
Это дно мы называем – материк. Иногда – Евразия. Там, где война заканчивается – начинается нормальная жизнь. Для нас она заканчивается на дне траншеи. На материке.
Надо же! Пара фаланг нашлась. Тщательно, очень тщательно, буквально по горсточке просеиваем земельку. Просеиваем? Выжимаем!
В ладонь втыкается что-то острое. Патрон. Русский. Винтовочный. Гнилой. Горлышко гильзы тут же ломается, когда я сбоку давлю на пулю. Внутри, к сожалению, порох. А проверять надо. Как-то достали такой патрон, только пуля воткнута в гильзу наконечником внутрь. А в гильзе записка.
Пласт жирной земли медленно отделяется от стенки траншеи и с плюхом шлепается в жижу.
Его немедленно обозвали самыми плохими словами все, кто стоял рядом. Особенно ДядьВова. Этот загнул так забористо, что я не понял и половины. Надо так же научиться. Вдруг пригодится выразить эмоции в культурном обществе? Хотя слово «залуподрищ» явно будет лишним. Его ДядьВова употребляет в особо серьезных случаях. Например, когда брызги грязи гасят папиросу.
Вырыли в итоге большущую яму. Перешерстили жидкую землю по два-три раза.
Все. Больше нет ничего в этом месте.
Продолжаем раскопы в разные стороны по траншее.
Ни фига нет. Кроме военного железа – осколков, пуль, патронов, каких-то пряжек. Я поднимаю фляжку. Немецкую. Долго чищу ее в ближайшей воронке. Под горлышком нахожу две немецкие буквы «о. t».
– Дедушкина, – важно заявляю я, возвращаясь к траншее. – Его звали О.Т. Вот!
– Очень тупой… – флегматично расшифровывает надпись ДядьВова. – Был бы умный, он бы в Союз не поперся.
Я с ДядьВовой согласен, но для веселья продолжаю спорить:
– Молчи, унтерменш! Как ты разговариваешь с настоящим арийцем?
– По-русски, – немедленно парирует ДядьВова. – Как отец научил. Правда, он по-другому с фрицами разговаривал.
– Это как же? – интересуюсь я.
ДядьВова степенно оглядывается:
– Сейчас оглоблину выломаю и по хребтине арийской пройдусь. Это у нас, у русских, в генах.
Я согласен с ДядьВовой.
– А я убегу по традиции, до Берлина!
– Или так, да… Соблюдем заветы предков!
И все это без единого смешка. Кто бы со стороны послушал – решил бы, что поисковики с ума сбежали.
Хрен вам. Это мы смеемся внутри себя. Неслышно так смеемся.
Вот поржали друг над другом – и как-то полегчало.
Юрка все это снимает. Последние кадры в фильм не войдут. Его для тех, кто тут не бывает, снимают. Для чиновников, например.
Я лично этот фильм смотреть не буду. Нет ничего скучнее, чем фильм о поиске. Поиск – дело не зрелищное. Поднятие одного бойца – это трех-четырехчасовое стояние на четвереньках вверх пятой точкой. И ковыряние в земле. Неинтересно, если в этом не участвуешь. О Поиске невозможно рассказать с внешней точки зрения. Его надо пережить изнутри. Как сектанты, блин…
Когда я вернусь – а я непременно вернусь! – меня спросят: «Ну как скатался?» Я пожму плечами и отвечу – нормально скатался.
Будут жаждать рассказов о найденных танках и самолетах, о том, как кто-то где-то подорвался, о черных поисковиках.
Все гораздо обыденнее. Поиск – это центнеры перевернутой земли и тихая боль в груди.
Все остальное – внешнее. И лишнее.
А в траншее так и нет ничего.
– Да б-бросайте это дело! – махает рукой Юра. – Здесь осенью надо копать будет. К-когда вода уйдет.
В принципе, дело говорит. Даже если и дожди будут – грунтовая вода уйдет в реку.
Соглашаемся с ним. Начинаем немедленно валяться на проклевывающейся травке и опять перекуривать.
А потом собираем помпу. Два шланга еще к ней прилагаются. На всякий случай я походил в том месте, куда был кинут шланг, из которого эякулировало сие чудо техники. А ведь пятнадцать лет назад мы касками и ведрами вычерпывали воронки… Походил я там для того, чтобы посмотреть – не выплюнула ли помпа чего-то ценное? Там хоть и сидел паренек на контроле, но мог же пропустить чего-нибудь. Нет. Не пропустил. Нормально все.
А потом тащимся в лагерь.
Теперь уже наша очередь тащить волшебную железяку. Блин… Какой идиот делает ручки не круглыми, а квадратными? Ребра впиваются в ладони. Жалею, что без перчаток хожу.
Ладно… Допрем как-нибудь.
И допираем, пару раз меняя руки.
Самый ответственный момент – перенос помпы через мост. Два бревна перекинуты через Черную. По правую руку перила. Если кто-то е… Если кто-то упадет – не утонет. Глубина тут чуть больше метра. Помпу жалко – дорогая штука. Саша ее купил, собирая копеечку к копеечке.
Вчетвером тут не пройти. Несут Тимофеич и ДядьВова. Самые опытные.
Фу!
Все…
Прошли. А там и мы за ними.
В лагере еще нет никого. Все люди как люди – работают. Мы вот только приперлись. Ужин к восьми, а сейчас только шесть. Как раз есть время, чтобы себя в порядок привести.
Болотники отмыть – ерунда. Три минуты. Куртку вот постирать придется. И штаны. И харю свою.
Только сначала помпу до Сашкиной машины утащить. Впрочем, нет. Сашка решил пока остаться у нас. Посидеть, отдохнуть… И проинструктировать.
– Значит, завтра раскладка по гробам будет. От вятских люди будут?
– Конечно, будут. А как же? Рита поедет наверняка. Ну, еще пара человек. У нас в этом году немного – пока тридцать четыре. К вечеру точное число скажем. Когда все вернутся.
Блин… Вот когда Тимофеич успевает так быстро себя в порядок привести? Он уже умылся и переоделся. А я так и сижу с сигаретой в зубах и с грязью на морде. Курить надо меньше, наверное.
– Значит, завтра за вами придет «Урал» от пайбата…
Пайбат – иначе паебат – Поисковый батальон Министерства обороны. Вояки. Армия включилась в поисковые работы несколько лет назад.
Поисковики их не любят. Хотя сами солдаты тут ни при чем. Генеральские звезды в штабах не понимают, что кости – это не грибы. Они не растут из земли. И если в этом году батальон поднял, например, пятьсот бойцов – то на следующий год им выставляют план – шестьсот. А где их брать-то? А если план не выполнен – начинается традиционная армейская забава. Имение младших старшими. С лишением премий, с выговорами, с выволочками. Надеюсь, хоть до падения звезд с погон не доходит.
В итоге пайбат подымает кости со старых кладбищ. И хоронит останки заново. Вот так безвозвратные потери РККА увеличиваются за счет деревенских кладбищ.
Вот так бывает, да…
– Погрузитесь вместе с Северодвинском и Тамбовом, и вас до места привезут, – продолжает Саша, отхлебывая горячий, почти черный чай.
В парок от кружки залетает комар и, ошпарив крылья, в панике летит в сторону леса.
Первый комар в этом году.
Глядя на комара, вдруг вспоминаю про клеща. Оказывается, все еще болит в месте укуса. Надо посмотреть – нет ли красного пятна вокруг укуса. Ну, сейчас-то есть наверняка. Главное, чтобы к утру это пятно не расширилось. Если расширится – симптом болезни Лайма. Весьма неприятная штука. Рожу перекосит и мочевой пузырь отключит, сволочь такая. Ладно… Утром посмотрим. Главное – не расчесывать.
Вдруг, совершенно спонтанно, решаю завтра ехать.
Да. Поеду. Я еще ни разу не раскладывал кости в гробы.
Решил и пошел смывать с себя траншейную грязь.
Сначала взял переодежду. Потом поперся на стиральный валун – есть у нас такая штука. Валун – огромный такой, весом в двадцать меня – приткнулся после ледника подле берега. В разливы его не видно. Сейчас он торчит из речки как прыщ. На нем удобно стоять и умываться. Снял грязную одежду. Проверил карманы – нет ли там чего? Нашел в карманах десяток патронов. Выбросил их в речку. Завязал штанины узлом – накидал туда камней и пустых, выжженных пятидесяток. Так же поступаю с курткой. Затем грязную одежду кладу на дно реки. Через пару часов будет чистая одежда. Старый дедовский метод. Потом умываюсь, переодеваюсь в сухое и иду к столу. Ужин уже готов, и мы начинаем жрать.
Пока жрали – начинают возвращаться другие. Группа Ежа подняла еще одного бойца. Юдинцев умудрился. И почему-то бросил свое барахло и ушел отчищать какую-то железку к воронке.
Группа Риты подняла двоих, бродя по берегу.
Количество мешков под киотом все увеличивается.
Киот – это уголок с иконами. Где горит лампадка. Это ветки, сложенные помостом. Над ним натянут полиэтилен. На нем стоят несколько образов.
Оттуда печально смотрит Богородица. Мама…
Под иконой черные пластиковые мешки. В мешках – люди.
Вот уже аккуратной кучкой – тридцать девять человек.
И Ей все равно – атеисты ли под Ней, или мусульмане. Все мы Ее дети. Даже те, кто от Нее отказался. Даже те, кто знать Ее не хочет. Она-то нас знает.
Эх, Синявино, Синявино…
Выпить, что ли?
Вовремя кружка подошла. Отхлебываю водку.
Пока заедаю ее салом, луком и хлебом – к столу подходит Юди и кладет ложку на стол.
– Смотрите…
И мы смотрим. Эту ложку он поднял вместе с бойцом. А на ложке выцарапано мелкими-мелкими буквами…
Еда в сторону. Водка тоже. Тут же заводим генератор – включаем свет. Включаем еще и все фонари.
Как хирурги в операционной, склоняемся над солдатской ложкой.
– Л-т… Лейтенант, наверное. Уткин. Николай Алексеевич… – читает, разбирая буковки на алюминии, Тимофеевич. – Один… Девять… Один… Шесть… Тысяча девятьсот шестнадцать. Год рождения, скорее всего. Кострома. Костромской РВК. Ро… Ро… Рославль, что ли? Ленина… Восемьдесят восемь.
Вот мужик – молодец.
Выцарапал на ложке все свои данные. Тут же звоню в Питер. Сереге Москвичеву – другу моему из города на Неве. У него безлимитный Интернет. Нам слишком дорого через нетбук выходить на базу данных…
– Привет, Кислый!
– И тебе не хворать, Зеленый!
Это у нас свои приколы. Объяснять их сложно, долго, нудно и не нужно. Чтобы было проще, на этой линии связи – свои позывные.
– Сереж, нагугли сайт ОБД «Мемориал». Пробей там Уткина Николая Алексеевича.
– Сделаем… Позвоню, как пробью.
Всем не терпится узнать – есть ли какая-нибудь информация по костромичу лейтенанту Уткину.
Пятнадцать минут тянутся резиной.
Звонок.
– Зеленый, записывай!
– Угу!
– Уткин Николай Алексеевич. Шестнадцатого года рождения. Командир взвода двести девяносто шестого полка тринадцатой стрелковой дивизии. Записываешь?
– Пишу, пишу… Еще что есть?
– Это анкета на семью, получающую пособие по приказу заместителя НКО номер сто сорок дробь сорок два. Второй приказ от двадцать восьмого февраля сорок восьмого. Об исключении из списков. Здесь Уткин ваш – командир взвода отдельного огнеметного батальона Седьмой Гвардейской армии. В РККА с тридцать седьмого по сороковой. Потом с сорок первого. Пропал без вести в ноябре сорок третьего. Опять же – шестнадцатого года рождения… Записываешь?
– Угу…
– Костромич. Мать – Уткина Анна Петровна. Рославль. Ленина – восемь-восемь. Понятно? Больше данных нет.
– Записал!
– Как вы там?
– Живы! Спасибо, Кислый!
– Удачи, Зеленый!
Вот и разбирайся сейчас… Где же ты и как воевал, Николай Алексеевич?
Ладно… Разберемся дома. Отправим запросы в военкоматы и архивы. Проверим по Интернетам.
Знаем главное – в одном из мешков для мусора лежат кости Коли Уткина из Рославля.
Я не успеваю сесть на лавку, как телефон снова звонит.
Смотрю – снова Серега.
– Не спишь еще? Тут что-то странное…
– В смысле? – отвечаю я.
– Седьмая гвардейская была сформирована первого мая сорок третьего.
– И чо? Как раз по датам совпадают, – пожимаю я плечами.
– Ничо! Она начала воевать на Курской дуге. В ноябре сорок третьего была на Правобережной Украине. Понял?
– О как! – удивляюсь я.
– Сейчас еще веселее будет. Тринадцатая дивизия не входила в состав Седьмой Гвардейской. В Седьмую входили – 15-я, 36-я, 72-я, 73-я, 78-я и 81-я гвардейские стрелковые дивизии, которые затем были объединены в 24-й и 25-й гвардейские стрелковые корпуса.
– Так… А Тринадцатая?
– А Тринадцатая была под Питером.
– Отлично! Теперь проще…
– Фиг там проще… До декабря сорок третьего Тринадцатая стрелковая находилась в составе Пятьдесят Пятой армии Ленинградского фронта.
– И что? – продолжаю тупить я.
– Ничего. Тринадцатая стрелковая находилась внутри блокадного кольца.
А вот это сюрприз из сюрпризов…
Мы-то работаем с внешней стороны блокады.
– Тринадцатая стрелковая стояла под Пулково.
Еще сюрпризнее… Это западная сторона кольца. Мы – с восточной. И как же лейтенант Уткин попал из своей Тринадцатой стрелковой на Волховский фронт?
Побежал прорывать блокаду в районе «Бутылочного горлышка» со своим огнеметным взводом? Прибежал и умер на позициях…
«Бутылочное горлышко» – это то самое узкое место блокады. Между Волховом и Невой. Между жизнью и смертью.
– Думайте там. Если что – еще позвоню.
Да… И что тут надумаешь? А может, этот солдат вовсе и не Уткин? Может быть, махнулся не глядя, как на фронте говорят?
И тут внезапно на меня накатывает какая-то волна. Мне вдруг кажется – что никакой войны не было. Что все это сон. И никакого поиска нет. И что я занимаюсь нормальным человеческим делом. И пусть мертвые хоронят своих мертвецов.
Что-то меняется в моих глазах. Так, что от взгляда отворачиваются другие – живые.
И вдруг приходит понимание – я тоже мертвый. Именно поэтому я и хороню своих мертвецов.
И неважно. Совершенно неважно, что грудь разрывает болью, а волосы седеют.
И тут же все проходит. И только сердце начинает бешено стучать. Иду вытаскивать простиранные потоком воды камуфляжки. Потом вывешиваю их на сушилке – веревках, натянутых между двух берез.
В это время договариваются – кто поедет на раскладку.
Змей, Мать, Заяц, Мурзик и я.
Вспомнил!
Зайца зовут – Пашка!
А потом иду в землянку и пытаюсь уснуть.
А в голове вертится…
Как?
Ну как он смог погибнуть здесь?
И так вертится до утра… Даже во сне… Как часто я вижу эти сны…
День шестой
Зато выспался. Утром все ушли работать, а я дремал в свое удовольствие.
«Урал» придет не раньше десяти утра. Так что раньше восьми утра можно не вставать.
Разговаривать с утра лень.
Бродим по лагерю, как зимние мухи по старому навозу.
На войне – как на войне. Есть время расслабиться? Расслабляйся. Если есть возможность бежать – беги. Если стоять – стой. Если сидеть – сиди. Если лежать – лежи. Жить? Живи.
Вот я и живу на вытащенном из палатки спальнике. Лежа живу. Кофеек попиваю. Книжку читаю. Покуриваю. Тишина… Красота!
Солнышко светит сквозь веточки полуобнаженных деревьев…
Ну что еще человеку надо?
Какую книжку читаю? А так… Богомолова. «Момент Истины». Совершенно по-другому она воспринимается здесь. Не там, дома, а здесь. Когда ты под голову себе подложил пробитую каску, а босые ноги опустил в холодную воду заплывшей от времени воронки.
Красота…
Вот Ритка бродит вокруг стола, чего-то высчитывает. Вот Змей чего-то на столе вырезает ножиком. Вот Мурзик совершенно невозмутимо смотрит куда-то в лес и курит, курит. И Заяц бегает туда-сюда. Зачем он туда-сюда бегает? А он Заяц – обязанность у него такая. Бегать.
Расслабление… Нирвана… Солнце… Сегодня будет жаркий день… Жаркий… Да…
Вдруг Мурзик из-за пазухи достает пилотку. Надевает ее. Из кармана достает наган. А потом встает и идет в лес. И только желваки на его лице играют. И какой-то он весь переломанный… Еле идет… И холод штыка на теле…
Просыпаюсь я от окрика:
– Подъем, Дед!
– А? – подскакиваю я.
– Машина пришла.
Зашнуровываю берцы. Спальник и книгу тащу в землянку. Хотя небо и без облачка – это Питер. Дождь может налететь внезапно. С Ладоги или с Балтики – какая нам тут, в лесу, разница? А потом идем на дорогу.
Ветерок такой легкий, что даже не гаснет спичка, от которой прикуриваю. Благодать…
Идем. И тащим на себе мешки с костями. Нет. Мешки с бойцами. Сегодня мы их уложим в гробы.
Забираемся в кузов грузовика. Грузим мешки сюда же. И долго – очень долго! – ждем Тамбов. Лена со своими ребятками, как обычно, опаздывает. Тамбовский командир – чемпион по опозданиям.
Прибегают как раз в тот момент, когда у прапора из пайбата заканчивается терпение.
Он только завел машину – эти прибежали.
Ну и поехали.
На дне кузова лежат убитые в сорок первом-втором-третьем.
Мы, живые из одиннадцатого года, сидим на лавках.
Пока живые.
А они, пока, мертвые. Никто более, чем они, не заслужил жить. Но живем мы. А они мертвые.
Ничего.
Это ненадолго.
Едем себе, едем. По заднему борту хлопает тент. Машина прыгает на кочках. Оттого что нечего делать – высовываюсь за тент и начинаю считать столбы линии электропередач.
Одиннадцать… Двадцать семь… Тридцать… Сорок два…
Сорок два столба.
И поворот у «Журавлей». Где-то здесь мы в сорок втором остановились.
Машина вышла на трассу. Стало чуть меньше трясти. «Урал» прибавил скорости.
Скучно… Нет никаких приключений. Ну не считать же приключением то, что мы на ходу привязываем тент к крыше кузова? А то не видно «фольксов» и «тойот», обгоняющих армейский «Урал».
Просто едем.
Вот еще поворот. Машина притормаживает – дорожники шлепают горячим асфальтом по ямам. Кисло пахнет битумом. Точно кто-то из чиновничьих снусмумриков приедет завтра. А мы им шоу обеспечиваем. Готовим кости для пиара.
Солнышко греет лицо. Я млею, как старый кот, подставляя небритую свою морду под горячие лучи. На небе ни облачка.
Еще поворот.
Проехали Молодцово – странная деревенька на краю войны и мира. Три хрущевки и кучки молодых алкоголиков, зорко восседающих у подъездов аки грифы, вожделеющие добычу. Один магазин. Надо будет сюда заехать на обратном пути.
Еще поворот. Въезжаем на мемориал. Машина тормознула. Приехали.
Выпрыгиваем из кузова, щелкая каблуками берцев по асфальту. Блин. Я уже отвык от асфальта.
Мимо идут какие-то люди. В гражданской одежде. В чистой одежде. Я внезапно обнаруживаю, что весь грязный. Руки умудрились в себя впитать прах той войны и почернели. Безымянный и средний пальцы на правой руке вообще желтые – от «Примы». Про одежду и говорить нечего. Вроде бы отстирал вчера? Ан нет. Прошелся от лагеря до машины – вот уже и ботинки в грязи. И на внутренних сторонах штанин – глина.
И вдруг я понимаю: мне эта глина, эта грязь, эта земля – наша земля на моих ногах! – важнее любых наград.
На моих ногах – прах моих предков.
Вот так.
Идем к главной площадке мемориала. Слева и справа – мраморные и гранитные плиты. На плитах имена, звания и даты. ИХ так много… их ТАК много… их так МНОГО…
Синявинские высоты – одно из самых страшных мест на земле.
Странные холмы в центре болот. Здесь сидели немцы и долбили по Дороге Жизни. Сюда шли те, которых мы сегодня привезли сюда в «Урале».
Здесь… Здесь страшно. Даже сейчас, в мирное время.
Мы выгружаем мешки из кузова.
Тащим их к гробам. Саша их уже расставил по порядку.
– Пока двести восемьдесят бойцов со всей экспедиции, – говорит он нам. – Может быть, еще кто поднимет сегодня?
Может, конечно.
Все в этом мире бывает.
Снимаю обтянутую красной тканью крышку с одного из гробов.
Внутри мягонько. По-настоящему сделали.
Крышку складываю на соседний гроб. Их тут ровно сто штук. Обычно складывают троих в одну домовину. А иногда и одного. А иногда и десятерых.
Подтаскиваю мешок. Начинаю выкладывать. На белую подкладку гроба падают кусочки земли.
А потом о дерево стучат кости.
В мешке останки четырех бойцов. Выкладываю большие кости – конечности – так, как они должны лежать у человека. Ноги внизу. Руки вверху. Осколки черепа на подушку. Зубы россыпью чуть ниже. Вместе с землей. Ключички выкладываю – как должны быть. Нотной строкой – ребра. Из одного ребра торчит пуля. Не трогаю ее…
Вдруг за спиной кто-то говорит полушепотом. Но я слышу:
– Мама, смотри… Скелеты!
Резко, словно вынырнув из какого-то липкого сна, я возвращаюсь в реальность. Оглядываюсь. За спиной стоят две женщины. Старшей – лет сорок. Младшей – на двадцать лет меньше. Обе с каким-то суеверным ужасом смотрят на череп в моих руках. К ним подходят еще несколько человек – краснолицый мужик и несколько детей. Подойдя, они замирают, словно споткнувшись о невидимую стену и не дойдя до гробов буквально полшага.
Я отворачиваюсь и продолжаю свое дело. Понятно, очередную экскурсию привезли.
– А, так это поисковики! – со знанием дела говорит мужик. В руке его бутылочка пива. Жарко, понятно. Тоже пива хочу. – Вот новых нарыли и хоронят.
Чувствую себя клоуном на арене.
– Тут наши оборону держали…
Меня едва не подбрасывает от этих слов.
– …а немцы атаковали и никак не могли взять Синявинские высоты.
Очень патриотичненькая версия истории. От которой тошнит.
– Папа, а почему они воевали тут?
Раньше мы спрашивали – за что они воевали…
– А это потому, что два диктатора – Гитлер и Сталин – не могли поделить Европу и стали из-за этого воевать друг с другом.
У меня в руках бедренная кость. Хочется развернуться и вдарить мужику по морде этой костью.
– А они плохие были, да, папа?
– Да, дочка. Очень плохие.
Я не выдерживаю и поворачиваюсь:
– Извините, но вы мешаете.
Мне мешаете. Мужикам мешаете. Всем мешаете.
Я жду типичного наезда: «Да чо, брат, мы посмотрим, брат!»
Не брат ты мне…
Мужик хочет сказать что-то подобное. Но у него не получается. Его за руку дергает дочь:
– Папа, пойдем еще погуляем? А то тут страшно…
Я возвращаюсь к костям своих предков. Мне тоже страшно. За будущее.
Зачем мне это все? Что я тут делаю? Меня называли гробокопателем. Меня называли мародером. А я как тот ныряльщик, знающий цену глотку воздуха. Передо мной… Вокруг меня… Смерть. Поэтому я ценю жизнь. Ту, которая у меня есть.
Кости стучат по дереву.
Один гроб полон, второй, третий… Накрываем их крышками.
Лейтенанта Уткина в отдельный. Пусть даже это и не он… У него на лобовой кости черепа аккуратная дырка. Снайпер работал. Или случай, что на войне часто равнозначно.
Кости у него черные. А зубы белые, молодые. Сколько ему было в сорок третьем? Двадцать семь всего.
Землю, оставшуюся в мешке, высыпаю в гроб – это земля, которой лейтенант Уткин стал. Да. Он стал быть землей. Быть землей. Быть. Стал. Точка.
Накрываю гроб крышкой. Больше я тебя не увижу, лейтенант Уткин. Или кто ты на самом деле?
И так ли это важно?
Какие-то птички щебечут над кладбищем. У них брачный сезон. И солнце жарит что есть мочи.
Как-то даже непривычно.
Сажусь на гроб перекурить. На пустой, естественно. Пока в нем нет людей – это просто ящик. Смотрю на часы. Блин… Опять час исчез. Когда берешь в руки кости – время и пространство сжимаются в какую-то сверхплотную точку. И вне этой точки – ничего нет.
Только сейчас я обнаружил, что Рита и мужики сложили уже всех остальных по своим новым постелям.
Да. Для меня гроб – это постель. Последняя. Не крайняя… Именно последняя.
Ну вот и все. Раскладку закончили. Разложили косточки.
Можно собираться домой. Еще успеем покопать.
Но Сашка просит помощи. Бойцы его отряда работают. Тамбовцы и Северодвинцы все еще со своими найденными разбираются. Казахи из Алматы уже свалили. А ведь надо могилу под сотню гробов копать. Да не вручную! Не! Экскаватор ждет команды на копку. Администрация Кировского района обеспечила. Чиновники обеспечивают все, что касается их репутации. Представьте себе: журналисты с журналюхами приедут завтра – а могилы нет!
Шутка. Мы и сами бы выкопали. Чай, опыт есть. В тех местах, куда чиновники не добираются, сами копаем.
Шайтан-машина ждет отмашки.
И Саша отмашку дает. Каждый вывороченный кусок земли мы быстро проверяем рабочими ножами.
Экскаватор рычит и выворачивает для нас все новые и новые порции.
В одной из них – доска. Пока «поисковый терминатор» заносит ковш над постепенно разрастающейся могилой, мы разглядываем ее. На ней ничего нет. Следующая порция приносит обрубок бревна.
Понятно.
Блин.
Блиндаж, в смысле.
Скорее всего, немецкий. Не потому, что бревно арийское, а потому, что здесь гансы оборону держали почти год.
А наши их тут убивали.
Блин, ты даж твою меть… Как же не хочется гансов-то поднимать. Господи! Ну, пусть блиндаж пустой окажется!
Господь где-то там ухмыляется в седую бороду и делает блиндаж пустым.
Ничего нет, кроме бревен наката и дощатого пола.
Железяки не в счет.
Когда экскаватор выкапывает здоровенную квадратную яму – мы прыгаем туда. Тщательно просматриваем стенки будущей могилы. Еще осколки. И еще. А тут ключом бьет вода. Грунтовые воды, знаете ли. Пока экскаватор делает вход в могилу – по этому пологому входу мы завтра будем носить гробы – таскаем на дно хвойный лапник. Зачем?
Так красивее.
– Стоооой! Стооой, твою мать! – резкий крик за спиной. Я оборачиваюсь.
Очередным гребком экскаватор зацепил бедренную кость. Человеческую, конечно. Она торчит, словно палец из земли. Мужик за рычагами не видит ее. Он замахивается ковшом на следующий копок. За рычанием мотора он не услышал крик Мурзика.
Гоша кинулся к кости. Из кабины его не видно, он распластался по земле, разглядывая находку. Ковш неторопливо опускается на его спину. Гошке все равно. Потому как нам – похоронной команде, опоздавшей на семь десятков лет, – важнее они, чем мы. Как им когда-то. Им дети Ленинграда были важнее своих жизней. Мы берем пример с них. Как уж получается.
И только наш ор, свист, мат и махание руками остановили увлекшегося экскаваторщика.
Он выпрыгивает из кабины.
Молча подходит к яме.
Заглядывает.
Потом кивает и говорит:
– Я отъеду. Когда подымете – свистни, Саш!
Сашка сдвигает фуражку на затылок, вытирает потный лоб:
– Да нормально все, сейчас бойца поднимем – сами тут спуск сделаем. Отдыхай.
Экскаватор – наш поисковый танк – разворачивается, лязгая гусеницами и прочим железом, а потом медленно чапает в гараж. Рокот двигателя постепенно исчезает за березками. Весенняя молодая зелень на них пропитывается запахом сгоревшей соляры.
Но мы этого не замечаем. Нам некогда. Змей бежит за лопатой к ребятам из Питера.
– Замечательно! Значит, пока копайте, я позже подойду, – Александр убегает решать свои дела. У него их море – завтра захоронение.
Я снимаю нож с пояса – протягиваю его Гоше. Кто нашел – тот и поднимает. Это не обязанность. Это привилегия.
Я в этот раз сижу и проверяю отвал.
И снова запах земли, запах сырости, запах жизни после смерти.
Пока мы вытаскиваем одну кость за другой, солнце неуклонно наступает на запад.
Через два часа мы поднимаем семерых бойцов.
Да. Семерых.
Четырнадцать бедренных. Четырнадцать голеней. Четырнадцать предплечий. Семь черепов. Зубы у всех беленькие-целенькие. Лежали тут друг на друге. Наши. Патроны, пуговицы, ремни – наши.
Вот так бывает – копали могилу. Подняли семь бойцов.
Завтра они лягут рядом – буквально в метре от места подъема.
И снова безымянные.
Змей вытирает нож о штаны. Протягивает мне. Я его сую в ножны. Не зря взял. Как знал.
Тащим мешки к гробам. Потом кости складываем в два гроба. Резервные – оставшиеся пустыми. Как будто там, наверху, все знали заранее. Впрочем, почему «как будто»? Знали. Им сверху видно все.
Подходит Сашка:
– Пойдемте, перекусим, ребята.
Мы идем полдничать. Да просто – жрать.
Садимся за столом.
Милая девушка молча наливает нам по паре половников супа. Сашка распоряжается выдать по банке тушенки каждому.
Суп вкусный, но очень горячий. Только что сварился. Нарезаем сало, которое с собой взяли. Лучок, чесночок.
Жду, когда суп подостынет.
Смотрю на длинный, кажется, бесконечный ряд надгробий, которые начинаются метрах в десяти от стола.
Под ними сотни, тысячи мужиков, которые могли бы жить, строить, делать сыновей. Наши деды успели нас родить. А многие из тех, кто тут лежит, – не успели. Не успели ничего, кроме как поймать ту пулю, которая не досталась твоему деду. Большинству из них уже восемнадцать-двадцать. Мне всего лишь тридцать семь.
Вот памятник от армян, вот от казахов. Вот мусульманский полумесяц. Вот православный крест. А над всем этим, невидимые в белом от жары небе, – звезды.
Мои размышления прерывает миленькая повариха:
– Жуй давай, остынет.
Я извиняюсь:
– Очень горячо, милая барышня. Вкусно, но горячо.
– На холодненькой, – протягивает мне кружку Саша.
Ну, когда ж мы отказывались от холодненькой?
Без тоста. Здесь, на кладбище, все тосты – третьи.
Впрочем, здесь везде кладбище.
Помянем же.
Передаю кружку по кругу.
– Саш, завтра какие планы?
– За вами машины придут от паебата. Одна точно. К десяти. В одиннадцать начало. Сначала митинг, потом панихида, потом похороним.
Понятно. Все как обычно.
Сидим, трындим. Всякую хрень собираем. Лишь бы не принимать близко к сердцу то, что вот этими руками, которыми едим сейчас, только что уложили в гробы несколько десятков человек. Что вот тем ножом, которым только что подняли семерых красноармейцев, мы режем хлеб и открываем консервы.
– Ну что, прощаемся? Сейчас ребята подбросят до лагеря вас.
Еще раз прикладываюсь к кружке.
Потом идем к машине. На борту ее смешная надпись – «Бог любит пехоту». Да. Согласен. Бог любит пехоту.
Именно ее он забирает в первую очередь.
Мы загружаемся в машинку. Змей, Рита, Заяц, Мурзик, я.
Тамбовцы – тьфу, тамбовчане – еще остаются тут. Северодвинские закончили раскладку и умчались в магазин.
Так что едем. Белесый, почти альбинос, водитель врубил «Гражданскую Оборону», и мы несемся по асфальту, а потом по грунтовке, подпевая Летову:
– Шла война к тому Берлину!
Да не подпеваем, а орем. Орем, порой так, что не слышно самого Летова. Орем для того, чтобы выораться, чтобы забыть, хотя бы на минуту, костяной стук о дерево гроба.
Орем так, что не слышно двигателя.
На лобовом стекле у нас бумага. На ней – «Вахта Памяти».
Шла война к тому Берлину…
Господи, да когда же она дойдет-то туда?
До лагеря добрались, сорвав глотки. Идем от дороги и смеемся друг над другом, над Сашкой, над землей, под небом.
Натужно смеемся, стараемся смеяться. Но смеемся.
При виде наших землянок меня почему-то оставляют душевные силы. И я, не разговаривая ни с кем, бреду домой. Почитать перед сном. И спать. Завтра очень тяжелый день. Очень.
И только засыпаю, меня дергают за ноги:
– Леха! Нас в Тамбов приглашают!
Матерясь больше для вида, я натягиваю болотники. Почему не берцы? А потому как Тамбов стоит по ту сторону дороги. Во Мгинском районе. Чтобы до них дойти, надо пройти по маленькому болотцу кювета. По разлукам. По горю. По слезам.
Оказывается, к ребятам из Тамбова приехали их земляки – офицеры из бригады ГРУ.
Мы идем втроем – Еж, Ритка и я.
– Еж, как поработали?
– Да никак… Нулевый день…
Бывает.
А потом мы долго знакомимся, пьем, веселимся.
Вот Ритка настраивает гитару.
Вот капитан в полушубке хвастается нам:
– Ботинки сегодня копнул. Немецкие. Качество – супер! Вот надел и не жужжу!
А мы ж вяццкие валенки, мы ж всему верим…
Еж протягивает руку:
– Дай-кось посмотреть, ни разу не видал-от…
– Так-то да… – помогаю я Ежу играть тупого.
Рита пристально смотрит на нас. В глазах ее явно читается: «Э… Мужики… Не наглейте!»
А мы и не наглеем. Мы просто хотим копаные ботинки посмотреть, чо…
Еж крутит в руках левый ботинок.
Я капитану:
– Слушай, дай померить, а? Интересно!
Капитан, ничтоже сумняшеся, снимает второй ботинок, отдает его мне и при этом прикрикивает на Ежа:
– Э! Ты на зуб-то не пробуй!
Когда ботинок оказывается у меня в руках, мы с Ежом смотрим друг на друга и…
– Бежим!!! – орем в один голос и выпрыгиваем из-за стола.
Сначала пауза, а потом Еж протягивает ботинок гэрэушнику и говорит:
– Хучь ты и капитан, а с вяццкими не связывайсо!
А потом все начинают ржать. Свой ботинок я придерживаю. Когда смех утихает, говорю:
– Слушай… А давай махнемся! Ты нам ботинки, мы тебе Ритку. А?
Теперь Рита возмущается уже в голос:
– Э… Мужики! А вы не это??
– А чо а? – перебивает ее Еж. – Ты – замуж, ботинки – нам. Всем – хорошо! Вот ты женат?
– Нет… – ошарашенно говорит капитан.
– Ща женим… Да не тяни ты пакши свои к лаптям! Лучше толы на Ритку разуй! Эвона кака баска девко-то!
Капитан аж в ступоре.
Потом я прекращаю шутку, отдавая ботинок. И мы пьем, пьем и пьем, снимая давление реальности на наши души.
А потом мы стреляем из ракетницы в черное небо, потом поем, потом идем домой, по очереди перенося Ритку через лужи на руках…
И ни разу не роняя ее…
Потом все расползаются по спящим землянкам. А я еще долго сижу у костра, гляжу на пламя, подкидываю дрова, пламя двоится, потом оно охватывает все небо и весь мир, я что-то шепчу про себя… А потом я засыпаю. Прямо у костра и засыпаю.
И снится мне почему-то зима. И горки. И с этих горок катаются люди и смеются. И только я плачу. Без слез, потому как они замерзли ледышками где-то глубоко внутри… Но я плачу.
Потому что так легче дышать…
Линия смерти (Июль 1943 года)
Кашель замучил.
От сырости постоянно першит в горле. Вода везде – на дне траншей мутной жижей, в блиндажах под досками. Она бесконечно падает с низкого неба, словно серая рыболовная сеть. А когда дождь заканчивается – висит в воздухе влажной взвесью.
Самое противное – этот постоянный барабанящий звук капель по каске. Китайская пытка прямо.
И кашель, кашель.
Еще кашлялось от ядреной трофейной махорки, которую солдаты роты предпочитали родному эрзац-табаку. Огонек сигареты – не грел, но создавал иллюзию тепла. Курить приходилось по очереди – один прятался на дне траншеи и, зажимая самокрутку в ладонях, пыхтел как паровоз. Второй в это время продолжал следить за изувеченным лесом.
Русские снайперы не дремали. Они, словно ангелы смерти, подбирались к траншеям и стреляли на любой огонек, на любое шевеление, на любой звук. Их убивали, вызывая огонь минометов на указанный участок. Но русские, словно болотные призраки, появлялись снова и снова.
Иногда Курту казалось, что там, в глубине тумана, живет какая-то огромная гидра, которой отрубают одну голову за другой, но она никак не убивается. Даже наоборот – новые и новые головы лезут и лезут из серой тьмы. Лернейская? Да, кажется, так называл мифологическое чудовище учитель истории. Думал ли Курт, что станет Гераклом? Гераклом не из легенд, а по-настоящему. И русская гидра – реальнее некуда.
Время от времени Курта потрясывало – окопная лихорадка давала о себе знать. Проклятые вши… Бороться с ними было бесполезно. Они, словно русские снайперы, появлялись буквально через несколько часов после бани. А когда Курт последний раз мылся в бане? Недели три назад. На другом краю земли – в Севастополе.
Там тоже были тяжелые бои – очень тяжелые. Но лучше четыре раза взять Севастополь, чем провести один день в этих проклятых болотах. Одно проклятое комарье чего стоит…
Курт уже считался ветераном роты. Впрочем, на русском фронте ветераном становится тот, кто пережил хотя бы один бой. Пусть даже тебе всего лишь девятнадцать лет. За спиной был учебный лагерь в Позене, за спиной была Украина, за спиной был благословенный Крым. Да, там, на Мекензиевых высотах, рота потеряла половину своего состава. Русские моряки дрались как фанатики, не желая сдаваться. Но немецкая машина сломила даже их.
Когда они, победители Севастополя, ехали на север, никто не сомневался в том, что они едут брать Москву. Однако погода портилась, а они все ехали и ехали. Стало понятно, что цель – Ленинград, сердце Советов. Нет, конечно, начальство ничего не говорило, но солдатская молва – она порой умнее генеральных штабов, всех вместе взятых.
Ленинград… Камрады из группы армий «Север» опозорились в прошлом году, не сумев взять его, лишь замкнув кольцо блокады. И теперь парни Манштейна должны их научить, как брать большевистские крепости.
А погода портилась от километра к километру. Портилось и настроение – особенно когда встречались санитарные эшелоны и составы с битым металлоломом. Нет, конечно, Курт уже навидался раненых и разбитой техники насмотрелся. Но одно дело, когда это ты видишь на поле боя – там это привычная деталь пейзажа. Совсем другое дело, когда…
Вот едешь ты, разглядывая бесконечные поля и леса, за спиной пиликает губная гармошка – фельдфебель Шнайдер учится играть. Шульц, Хоффер и Вайнер смачно шлепают картами, на которых голые девки нарисованы, по дощатому ящику, застеленному газетой. Толстый Краузе жрет сало, нарезая его трофейным русским кортиком. И ласковый ветер шевелит волосы.
И на очередной станции напротив твоего вагона останавливается санитарный эшелон. Оттуда выглядывают забинтованные лица, слышны стоны и ругательства. И густой запах гниения и каких-то лекарств.
Или платформа останавливается. На ней искореженные куски разнообразного металла – танкового, самолетного или вообще не пойми какого. И от этих останков пахнет горелым мясом.
Или темной ночью, убаюканный стуком дождя по крыше вагона, вдруг ошалело вскакиваешь под истеричный крик господина лейтенанта:
– Партизанен! Партизанен!
Состав дергается, с верхних нар падают вещмешки и винтовки…
И пулеметная очередь, выщепляя дерево из стенок вагона, подтверждает крик командира взвода.
И чем ближе приближались они к фронту, тем больше мрачнели лица. Вместо парада на Дворцовой площади пришлось прямо с перрона какой-то станции «MGA» идти в бой. Русские прорвали фронт «бутылочного горлышка», замкнувшего Ленинград от Рейха. Героям Севастополя пришлось медленно, метр за метром, ползти по чертовым болотам, зажимая большевиков в смертельное кольцо окружения.
А лейтенант погиб в первый же день, когда взвод выполз на поле у второго эстонского поселка. Чуть приподнялся – и аллес[7]. Русские пули на немецкие каски внимания не обращают.
Потом прислали нового лейтенант по фамилии… А Курт не помнил его фамилию. Смысла нет запоминать. Слишком быстро они тут погибают, лейтенанты. Зачем их запоминать?
Капля упала на нос, и Курт вздрогнул, очнувшись. Потом, не глядя, пнул напарника:
– Фриц! Оставь покурить!
Ответом была тишина.
– Фриц!
– А? – встрепенулся тот.
– Уснул, что ли? – ругнулся Курт.
Фриц был еще совсем мальчиком. В роту он прибыл с пополнением на третий день «сражения в болотах» – так называли между собой солдаты эти безумные дни. Дни… Дни, отличавшиеся от ночей только сумеречным светом, едва проникавшим через низкие тучи. Фрицу повезло – он остался в живых после безумной атаки русских на их позиции. Тогда пришлось отступить – ввязываться в рукопашную с большевиками солдатам строго запрещалось. Это Курт узнал на своей шкуре еще под Севастополем – лопатка какого-то моряка едва не снесла ему череп, скользнув и содрав волосы на левом виске. Говорили, что русских специально годами, начиная с самого детства, учат драться кулаками. Как это… «Stenka na stenku», кажется. Варвары, что с них взять? Если русские доберутся до окопов – это конец. Вы когда-нибудь видели, как русский орудует штыком? Видели и выжили? Тогда вам повезло. Русский штык – четырехгранный. Он легко входит в живот, он не застревает в ребрах. Немножко довернуть его – и кишки перемешиваются, оставляя человеку шанс на мучительную, долгую смерть. Негуманное оружие. Но очень эффективное. И, зараза такая, легко вытаскивается, в отличие от немецких плоских штык-ножей. С другой стороны, им сало нельзя резать. Да и в замкнутых тесных помещениях им не помахаешь.
– Не… Задумался что-то, – вздохнул Фриц. – Держи!
Он протянул самокрутку товарищу. Курт немедленно присел и с наслаждением затянулся могучим табаком.
– Не высовывайся только, – буркнул он Фрицу. Тот послушно хлопнул коровьими пушистыми ресницами и полез к брустверу траншеи.
– Что там?
– Тишина вроде…
Тишина – это хорошо. Это – безопасно. С другой стороны, тишина – это неизвестность. Это – плохо.
Курт навалился на стенку траншеи, коленями упав в мокрую грязь. Сидеть на корточках – не получалось. От местной болотной воды его замучила дизентерия. Понос, попросту. Впрочем, не только его. Кипяти, не кипяти эту жижу – все равно пронесет. А как тут ее кипятить? Хорошо, что сухой спирт еще есть. Вот и сидишь, жрешь сухари, запивая их горячей коричневой водой. Повар, толстая свинья, не появлялся на передовой уже четыре дня. Русские ему не дают. Они – везде. Слева, справа, с тыла, с фронта. Кишкам от этого не легче. Они бурлят водой и сухарями, судорожной резкой болью заставляя скручиваться ужом на дне траншеи.
До отхожего места добраться просто не успеваешь. Приходится не носить нижнее белье – все равно не успеваешь штаны сдернуть. Так под себя и ходишь, словно парализованный старик. Вонь стоит – невыносимая. А от хлорных таблеток еще хуже становится.
Уголек обжег желтые пальцы. Накуриться не успел. Пришлось сворачивать еще одну сигарету. Эх, вот у взводного хорошая машинка есть для заворачивания папирос. Когда его убьют – Курт заберет ее себе. А его убьют. Их всех здесь убьют. Потому что здесь, в этих болотах, нельзя жить.
Мой Бог, как же свербит между ягодицами!
– Курт! Курт! Там ползет кто-то!
Курт недовольно посмотрел на самокрутку и сунул ее в нагрудный карман. Свинская собака…
Потом привстал, испортив вонючий воздух новыми миазмами.
– Смотри! – Фриц кивком показал в сторону огромной воронки, появившейся вчера, после падения чьего-то снаряда, и немедленно наполнившейся темной водой.
Курт осторожно высунулся над бруствером. Точно. Шевеление. Кто-то ползет. Причем вдоль траншеи. Кто? Русские? Немцы?
Хм…
А какая разница? Шевелятся какие-то клубки, перекатываясь по очереди. Ну и пусть перекатываются.
– Ракету давай! – шепнул Курт. Фриц послушно кивнул, сполз на дно траншеи, зарядил ракетницу и пульнул ей в мрачное утреннее небо.
Толку от нее было мало. В принципе, лишь обозначили свой передний край. Силуэты замерли, вжимаясь в землю. Русские, наверное.
Курт передернул затвор и скомандовал:
– Поднимайся!
Фриц послушно встал. Тоже передернул затвор. Сдвинул прицельную планку. Молодец!
– Готов?
– Готов!
– По моей команде…
Когда ракета погасла – силуэты снова зашевелились.
– Огонь!
«Маузеры» внезапно захлопали, разгоняя туманную тишину приладожских болот. Один из силуэтов нелепо дернулся, потом другой, третий…
Из левофланговой ячейки рядовых немедленно поддержал басовитый голос машиненгевера. Пулеметчики не упустили шанс поразвлекаться. Правда, их очереди пошли гораздо выше и левее. Проснулось и охранение с правого фланга – там тоже захлопали карабины
Из блиндажа выскочил заспанный фельдфебель – один из немногих оставшихся в строю севастопольских ветеранов.
– Русские?
– Уже нет, господин фельдфебель! – ухмыльнулся Курт. – Были, но закончились.
– Фу… – потряс головой Шнайдер. – Такой сон оборвали. Баба снилась. Вот с такими сиськами!
Фельдфебель изобразил руками гигантские арбузы.
– А куда стреляли-то?
Курт и Фриц одновременно кивнули в сторону болота. Фельдфебель слегка высунулся над бруствером, разглядывая местность.
– Точно русские?
Тревога его была понятна. В этой мешанине советские и немецкие войска перемешались слоеным тортом «Наполеон».
Ответить Шнайдеру Курт не успел. Тяжелая винтовочная пуля, выпущенная с расстояния в сто метров, обгоняя звук, расколола каску и череп и откинула фельдфебеля на противоположную сторону траншеи. На полсекунды позже прилетел резкий щелчок русской винтовки.
Траншея, в ответ на выстрел, вскипела огнем. Пулеметов и карабинов. Кто-то даже гранатами начал кидаться, отражая русскую атаку.
Свинцовый ураган прервали только свистки лейтенанта Беккера. И то не сразу.
Через несколько минут по нейтральной полосе заработали минометы.
Под их прикрытием фельдфебеля выкинули за тыловой бруствер. Предварительно Курт вытащил из его карманов карты, табак и отцепил трофейную стеклянную фляжку с ромом, которой Шнайдер так гордился. Потом уже сломал медальон, сунув половинку в свой карман. На больной взгляд Фрица он лишь ухмыльнулся и протянул ему фляжку.
Живое – живым.
Потом их сменили.
Расплескивая грязную воду, покрывшую дно блиндажа, Курт и Фриц буквально рухнули на свои места.
– Шнайдер – все, – сообщил Курт.
В ответ кто-то всхрапнул. А Хоффер лишь меланхолично кивнул, продолжая перечитывать письмо. Он его получил прямо перед боем подо Мгой.
Бледный отсвет коптилки желто-красным светом резко выделял грязные разводы на бумаге.
Курт достал из ранца последний кусок хлеба. Открыл прямоугольную баночку с ветчиной и стал есть. Доесть не успел – просто уснул. В одной руке ложковилка, в другой – хлеб.
Сон – это самое важное, что есть у солдата. Еду, ее можно достать. А вот сон…
Увы, поспать не получилось. Орудия большевиков устроили адский концерт на позициях роты. Особой опасности не было – траншеи и блиндажи выдерживали удары артиллерийского молота. Потому как строить надо уметь. Здесь, в этих болотах, закопаться было невозможно – вода, вода, кругом вода. Поэтому траншеи наращивали. Укладывали двойным забором бревна, оставляя метровое пространство между ними, которое засыпали землей. Получалась могучая стена, в которой застревали пули, осколки, мины, даже снаряды.
Нет. Конечно, например, прямое попадание какого-нибудь русского гаубичного снаряда стены не выдерживали. Но, слава богу, у Советов было немного крупнокалиберной артиллерии. Хотя, конечно, и одного снаряда на двенадцать сантиметров блиндажу хватит. Но это военная лотерея. Судьба! А от нее куда денешься? Только в рай. Или в Вальгаллу. Но, говорят, туда только СС попадает. А простой пехоте из вермахта – только в рай.
Курта непроизвольно передернуло от этих мыслей и от близкого разрыва.
«Нет, надо все же подремать» – кое-как он стащил с себя мокрую одежду. Аккуратно расстелил ее на нарах. Под голову положил сапоги. На полу их оставлять нельзя – кто-нибудь пнет, уронит – и на тебе! – полные воды. А носки уже все дырявые. На гвоздик, вбитый в бревно, держащее потолок, повесил свой медальон.
Ну вот, можно укладываться. Лечь на мокрые тряпки цвета грязного фельдграу и подсушить их теплом своего тела. Стоп! Сначала посыпать порошком от вшей. Вонючий, зараза! А что делать? Приходится спать, дыша дерьмом и порошком от вшей. Хотя он не помогает. Проклятые «КВ» ползают и, похоже, питаются этой химией. А иначе отчего они такие толстые?
Проклятая война. Проклятая Россия. Проклятые большевики.
Курт забрался под шинель. Поднатужился. Громко выпустил газы. Так теплее. И это… Своим дерьмом не пахнет.
Зачем они собирались на нас напасть? Что им мешало? И так им отдали половину Польши… Фюрер, Бог нации, тогда сказал, что русские собираются взять сторону Англии. Хотят влезть в европейские дела. Идиоты. Сидели бы в своей Азии… Кому она нужна? Здесь могут жить только русские. Но теперь – нет. Теперь Германия дойдет до Урала, и азиатская угроза больше не будет нависать над Европой. Да еще эти комиссары…
Под каким-то крымским селом их взвод расстрелял комиссара. Тот чего-то кричал по-своему и грозил им кулаком. А потом как все – задергался на пыльной земле. Это был первый выстрел Курта на настоящей войне. А потом был благословенный Крым и чертов упрямый Севастополь.
Тогда Курт думал, что не может быть ничего хуже войны на скальных тропинках Крымских гор. Увы. Ошибался.
Болота, болота… Проклятые болота…
Он почти уже уснул, когда плащ-палатку распахнул Шейдингер и в блиндаж ворвался холодный ветер, крупными каплями мазнувший по лицам солдат.
На него заорали все, и гефрайтор торопливо запахнул вход. Но сон – сорвало.
Курт повернулся лицом к стенке, разглядывая капли влаги, стекающие по лицу какой-то бумажной красотки, выдранной покойным фельдфебелем из журнала и приспособленной на ржавые кнопки. Одна из кнопок красовалась чуть-чуть повыше белых трусов. Почти в центре композиции.
Шейдингер бесцеремонно плюхнулся на нары, двинув Курта локтем в поясницу.
– Двигайся!
– Иди в задницу! – буркнул Курт, но подвинулся. – Как там?
– Жопочка, – ответил гефрайтер, стягивая промокшую майку с мускулистого тела.
– В смысле? – не понял Курт.
– Вода поднимается. В низине у парней ее по колено уже в траншее. Представляешь?
– Угу…
– Ты подвинешься или нет?
– Угу…
Курт подвинулся.
Шейдингер тесно прижался к голой спине Курта своей голой спиной. Накрылся своей шинелью.
Вот теперь – точно можно греться. Два индейца под одним одеялом не мерзнут.
– Болотные солдаты… – хихикнул вдруг Шейдингер.
– М-м? – не понял Курт.
– Песню эту знаешь? Болотные солдаты, несем с собой лопаты!
Курт приподнялся на локте:
– Точно! Про нас же! А ты слова помнишь?
– Ну так… Это вот помню…
И два голых, зябнущих от холода и сырости человека затянули сиплыми голосами:
Auf und nieder gehґn die Posten, keiner, keiner kann hindurch. Flucht wird nur das Leben kosten, vierfach ist umzдunt die Burg.А потом заорали:
Болотные солдаты. Несем с собой лопаты. В лес.Они орали в бревенчатый, грязный потолок блиндажа, с которого им на лица капала коричневая вода и падали комочки земли, встревоженной близкими разрывами.
Однако мы не сетуем, зима не может быть бесконечной. Когда-нибудь мы радостно скажем: наш дом принадлежит снова нам.Они бы и дальше стали орать, но на очередном припеве, где болотные солдаты должны были вернуться домой, в певцов прилетел сапог.
– Эй! Вы охренели, что ли? Может, еще «Интернационал» споете?
– Иди на хер, – опять приподнялся на локте Курт, глядя в глаза Хофферу.
Тот, скомкав письмо, покрывшееся фиолетовыми разводами чернил, и сунув его за пазуху, быстро стрельнул глазами в сторону выхода. А потом выразительно постучал себя по лбу. Легко спрыгнув на грязный пол, он подошел к лежанке Курта и Шейдингера, шлепая пятками по коричневой воде.
– Идиоты! В штрафдивизию хотите? – шепнул он, чуть наклонясь к ним.
– А что? – не понял Курт.
– Идиоты! Вы хоть знаете, что это за песня?
– Да вроде, еще с Той Войны. Мне говорили, что ее во Фландрии пели, в шестнадцатом году…
Хоффер поморщился:
– Это гимн концлагерников-коммунистов, идиоты.
От близкого разрыва снова задрожали стены.
– А ты откуда знаешь?
Вместо ответа Хоффер снова постучал себя по лбу желтым от табака пальцем и ушел на свою лежанку.
Шейдингер пожал плечами и перевернулся на другой бок. И тихонечко, чтобы услышал только Курт, снова запел:
Wir sind die Moorsoldaten Und ziehen mit dem Spaten Ins Moor.– Заткнись на всякий случай, – буркнул Курт.
– А что будет? – поинтересовался Шейдингер и округлил голубые глаза. И без того детская наивность его лица, резко контрастировавшая с язвительностью его же характера, превратилась в какую-то белобрысую… Непосредственность, что ли?
– В штрафдивизию не хочешь попасть?
Да уж… Из штрафдивизий не возвращался никто. Приговор – до конца войны. Выход один оттуда – смерть. Или победа, по случаю которой наверняка объявят амнистию. Ходят слухи, что русские, взяв пример с немцев, завели у себя штрафные подразделения. Курт был более чем уверен, что против их подразделения дерутся как раз штрафники, набранные в ГУЛАГе – этом ледяном отражении ада. Слишком уж упертые они. Наверняка за каждым стоит комиссар с еврейской физиономией и размахивающий «наганом». Только почему они не сдаются? Лучше уж в плен попасть, чем умереть от комиссарской пули в спину.
Впрочем, ходили и другие слухи.
Русские в одной из атак взяли Синявинские высоты. Выбить их послали штрафную дивизию номер 999. Штрафники их выбили. И закрепились там. Но фанатики-большевики продолжали атаковать. В конце концов от немецкой дивизии остался один человек, бывший фельдфебель. Ему повезло, осколком снаряда разбило цепь, которой он был прикован к пулемету. И ночью он ушел. Соображал он плохо – еще бы, три дня непрерывного артобстрела и грохота стрелков. Но Бог хранит дураков и контуженых. А дураком этот бывший фельдфебель точно был – не нашел ничего лучше, как крысить у своих камрадов в учебном лагере. И ладно бы у призывников, все бы поняли. А у других-то фельдфебелей зачем?
Вот контуженый дурак и поперся куда глаза глядят. А так как дурак, поперся вдоль линии фронта на юг. В сторону Кавказа через Москву, ага. Прошел недалеко. Около двухсот километров. И почти дошел до станции «TSCHUDOVO». Это недалеко от города «VELIKIY NOVGOROD». Но на войне, как и в любви, – «почти» не считается. Почти убить – это как на полшишечки всадить девочке из борделя. Что ей полшишечки? Да что русскому пуля рикошетом. Обидится и все дела.
И дошел тот фельдфебель лишь до деревни Лезно, что на берегу русской реки Волхов. Там-то его и повязали.
Случилось так, что весной сорок второго года русские попытались форсировать Волхов. В некоторых местах им это удалось. В том числе и у Богом забытой деревеньки Лезно. Причем русские бросили на тот плацдарм элитный батальон коммунистов-фанатиков и спортсменов. И дрались они до последней капли крови. Говорят, что сами СС там потеряли аж целый полк. И вот угораздило туда этого фельдфебеля прийти в самый конец боев, когда эсэсовцы добивали раненых русских фанатиков на своем берегу. А потом развешивали трупы на древних дубах, помнивших германских варягов и норманнов. Развешивали, чтобы русские испугались, заплакали и по домам ушли. Не ушли. Не заплакали. Не испугались.
Ну а этого фельдфебеля бывшего прямо там и расстреляли. За дезертирство. Ибо сказано: «Ад есть предбанник штрафного подразделения!»
А из ада другого пути нет. Только смерть.
– Не хочу, а что?
– А то, что, Шейдингер, если партийные узнают…
– Да откуда тут партийные? – удивился Шейдингер. – Они же на дух передовой не выносят.
– Мало ли, – пожал плечами Курт.
– Дерьмо! Не толкайся! – взвизгнул гефрайтер. – Я же упаду!
А потом помолчал и шепнул:
– Думаешь, донести кто-то может?
Курт покосился на Шейдингера, подмигнул ему и отвернулся к сырой стенке, наблюдая, как стекают крупные капли воды по серым доскам.
Близко что-то ахнуло, и с потолка опять посыпались жирные шматки земли. Один из них угодил точно в висок. Молча Курт стер его с лица, заодно поймав еще одного вшивого «партизана».
– Фриц! – крикнул Курт.
– Спит он, – отозвался кто-то из ветеранов.
– Фриц! Срать пойдешь?
О! Такое обыденное дело, о котором даже не задумывались там, дома, в Германии, вдруг превратилось в аттракцион. Ежели по легкому можно было просто пометить любой угол или поворот траншеи, то вот посрать…
Отхожим местом служило дырявое и ржавое ведро, которое берегли как зеницу ока. Остроязыкий Шейдингер обозвал его «королевской вазой».
– Фриц!
– М-м? – наконец откликнулся юнец.
– Прикрой меня.
Командир медицинской службы полка заставил вырыть выгребную яму в ста метрах от позиций. Вырыли. И вырыли ход сообщения к ней. Это чтобы дизентерии не случилось. Однако беда заключалась в том, что яму пришлось рыть на вершине холма, и любой, кто подымался из траншеи по ходу сообщения, немедленно попадал под прицел русских. А еще, так же немедленно, выяснилось, что против местной темной воды не помогают ни хлорные таблетки, ни чистые руки, вообще – ничего. Живот крутило по какому-то сатанинскому расписанию – кишки не зависели ни от времени суток, ни от количества еды. Впрочем, одна зависимость была. У Курта начинало крутить живот прямо перед боем. И ни разу, сволочь такая, не ошибся.
Срать приходилось прямо в блиндаже. В ржавое ведро. А потом, чтобы не воняло… Шейдингер как-то обмолвился, что запах дерьма добавляет некую изысканность в атмосферу. «Одна живая струйка свежепереваренной пищи диссонансом оттеняет аромат тухлого мяса и запах гари. Настоящие немецкие духи!» Да… Дерьмо, трупы и порох – вот чем воняет война. А потом, чтобы не воняло, дежурный по блиндажу бежал с этим ведром к сортиру. Посравший же должен был его прикрывать.
Фриц только вздохнул, натягивая сапоги.
Курт ловко спрыгнул ступнями в воду и вытащил ведро из-под лежанки. И присел над ним, стараясь сморщенным от холода и сырости членом не коснуться ржавого края ведра.
Наконец бурление в животе закончилось. Причем так же внезапно, как и началось. Курт встал, подошел к лежанке, шлепая босыми ступнями по воде цвета дерьма, поколебавшись, посмотрел на одежду. А смысл? Смысл ее надевать? Он натянул сапоги на голые ноги, а на голову – стальной шлем.
Застегивая ремешок под щетинистым подбородком, он вдруг поплыл. Ему вдруг привиделось то, что он уже видел. Он вдруг увидел, как Шейдингера раздует воздухом из пробитых легких и он будет лежать на окровавленной земле, раздуваясь с каждым вздохом, и русская пуля будет ворочаться в его груди. А Хоффер будет собирать кишки вместе с грязью и засовывать их в распоротый живот. А Фриц – майн Гот, как же у него фамилия? – лопнет расколотым черепом под русским прикладом. И никто, никто из них никогда не вернется домой, потому что дома – больше нет. Их дом отныне – Россия.
Курт потряс головой, и видение исчезло. Он глянул на висящий на гвозде медальон и вдруг понял: «Надену? Погибну!» И не надел.
– Милый, что тебе приготовить на ужин? – сонно прошептал голый Шейдингер, ежась под мокрой шинелью.
– Куропаток по-французски.
Майн Гот… Мой Бог?
Мой ли этот Бог, засунувший меня, молодого парня, в эти проклятые болота, заставивший меня пятиться по траншее голым с винтовкой наперевес? Мой ли это Бог, заставивший меня прятаться от своего собственного дерьма? Мой ли это Бог, убивший русскими руками моих друзей? Ханс, Петер, Франц – скажите мне – мой ли это Бог?
Или этот Бог – русский?
Ист гот мит унс? Найн. Прав был тот сумасшедший сифилитичный философ. Бог – умер. Нет. Бог – не умер. Он – перебежчик. Он перебежал в тот самый день, когда мы бросили его сами. В тот самый длинный день. А может быть, еще раньше? В тот день, когда дети пошли в школу? А может, еще раньше? Когда стекло хрустело под ногами? Или в тот день, когда ОН стал вместо НЕГО Богом нации?
За спиной журчало выливаемое кишачье из ведра, когда вдруг Курт увидел, как из серого мрака, словно порождения тьмы, освещаемые внезапно выглянувшим закатным, цвета багровой крови, солнцем, вырисовались жидкой цепью силуэты в ненавистных длинных шинелях с трехлинейками наперевес.
– Алярм! Алярм, ферфлюхте швайнехунд![8]
Загрохотали пулеметы боевого охранения с флангов, защелкали редкие – пока редкие! – выстрелы карабинов, но вот уже разворачивают ротные и батальонные минометчики свои машинки, вот уже из блиндажей и землянок начинают выскакивать камрады, срывая длинноручные гранаты…
Вот уже и сам Курт мчится к брустверу, шлепая по мокрым бедрам мужским дос…
Да не было еще у Курта Женщины. Ну не считать же за Женщину ту польскую шлюху из Позена? Он даже не успел толком испугаться тогда, когда все закончилось. Она даже не вспотела. И он навсегда запомнил ее презрительный взгляд.
Как же ее звали? Барбара? Магда?
Нет… Магдой звали ту девочку на Рейне. Ту девочку. На том Рейне. В тот день.
Прости меня, Магда… Жаль, что так и не смог стащить с тебя трусики. Жаль, что ты так и не стала Первой Женщиной. Жаль, что я испугался быть твоим Первым Мужчиной. Жаль… Жаль…
Как жаль… Жаль, что все так случилось. Магда, Магда, как ты, Магда? Какая же у тебя была фамилия? Какая же была у меня фамилия?
Этого всего Курт никак не мог вспомнить. Ему некогда было вспоминать, потому как он вдруг голым выскочил на бруствер траншеи с «Маузером» наперевес и побежал навстречу большевикам. Каска больно била по вискам и затылку, но он бежал.
Бежал, чтобы закончить проклятую войну.
Где-то там, далеко в тылу, обескровленные взводы первой линии поднялись за голым своим собратом в контратаку, такую же бессмысленную и беспощадную, как вся эта война. А еще дальше кто-то в витых погонах начал перебрасывать дополнительные резервы на участок прорыва. А еще дальше – совсем-совсем далеко – кто-то бесноватый орал на своих генералов.
Штык, русский штык, вошел Курту прямо в солнечное сплетение. Последнее, что он услышал в своей короткой жизни, было:
– Совсем фрицы охренели, голыми в атаку бегают.
Он не увидел, как русские взяли первую линию траншей, как вели Шейдингера, поднявшего руки и молившегося про себя – «Аве тебе, Мария, кончилось все!», как дострелили тяжело раненного Хойфера, как врубили саперной лопаткой лейтенанту Беккеру поперек лица, как добили прикладом Фрица…
Майн Гот[9], как фамилия у тебя, Фриц?
Фамилии, фамилии… Семьи, в переводе с немецкого.
Фамилии…
А фамилии в эти минуты собирали посылки. «Вот тебе вязаные носки, Фриц, шерсть мы получили по разнарядке от партайкомитета, как семья фронтовика. Я связала их сама из украинской шерсти…», «Курт, мы тебе посылаем французские оливки, до войны мы не могли себе позволить, но сейчас…», «Дорогой отец! У нас все хорошо, мы ходим в школу и уже получили свои первые отметки, а сосед наш, Хайнц, попал в госпиталь, потому что…»
А потом были черные строки, вымаранные военной цензурой. И строки эти постепенно пухли, пухли, расширяясь, растекаясь чернильным пятном зрачков по белкам глаз.
Фриц, Курт, Франц, Ханс…
Курт же смотрел неживыми глазами в низкое русское небо, серой шинелью раскинувшее свои полы над мертвыми полями.
Кого-то встречают ангелы.
Кого-то – черти.
Никто и никогда не узнает – какая была твоя фамилия, Курт.
Все кончилось, Курт.
Все – кончилось.
Все.
Кончилось.
Магда, Магда… Где ты, Магда?
А Петербург? А нету больше этого Петербурга. И не будет никогда. Только Ленинград и…
И только Магда, Магда…
С кем ты, Магда?
Линия сердца (Май 2011 года)
День седьмой
Ровно к десяти приходит «Урал». Один. Нас тут всех человек семьдесят. В кузов мы ни разу не входим.
Решение принимаем просто и быстро. Сначала мужики набиваются как сельди, и нас везут до трассы. Там мы выгружаемся. Машина возвращается за детьми и женщинами. Мы шагаем в сторону поворота на Синявино. Стоять и ждать автобус неохота. Хочется идти. Потому как хочется побыстрее закончить этот день. Мы его так ждем – захоронение – и почему-то так ненавидим. Одновременно. Солнце щиплет щеки. Мы шагаем по трассе. Время от времени махаем руками.
Странно, но все, у кого есть хотя бы одно место, останавливаются. По одному мы запрыгиваем в «фольксвагены» и «тойоты». Здесь понимают, что такое война и кто мы тут такие, на этой войне.
Останавливается пустая «газелька». Мы нагло оккупируем ее. За рулем кавказец. И тут мы узнаем его.
Этот парень нам возит продукты с оптовой базы. Ритка считает продукты, звонит в Кировск на базу, делает заказ. Этот парень привозит нам его.
– На захоронение едити, да? – с сильным акцентом спрашивает он нас.
– Туда, брат, туда! – перекрикиваем мы грохот раздолбанного кузова и мотора.
– Я вас до Молодцова подкину, дальше дойдете, да?
На это мы даже не рассчитывали.
Там от Молодцова пара-тройка километров до Синявино. До предчувствия бессмертия.
Парень за рулем извиняется и ругается одновременно. Если бы мы позвонили им заранее, то они чего-нибудь придумали и отвезли бы нас всех.
Я ему верю. Потому как каждый год от этой базы нам привозят бесплатно минералку и какие-нибудь плюшки-печенюшки. И тут же наглею:
– Так мы в четыре будем обратно добираться?
– В четыри?? – протягивает кавказец. – Я передам.
Потом мы едем молча, слушая какой-то азербайджанский рэп, долбящий из колонок.
В Молодцово он нас высаживает. На прощание белозубо улыбается:
– У меня тут дедушка ваивал!
– Тут лежит? – спрашиваю я.
– Нэт! На Родина лэжыт!
Потом машина пылит по дороге в сторону Кировска, а мы идем к мемориалу.
Гастарбайтеры, говорите? Ну-ну…
Прошли буквально метров сто. Остановился «КамАЗ». За рулем пацан-сержантик. Просто кивает нам. Без разговоров мы забираемся в крытый кузов. Там какие-то мужики в камуфляжах. Наши, похоже.
– Вологда!
– Вятка!
– Земляки!
Вот и познакомились.
За пять минут уничтожаем фляжку с разведенным спиртом. И тут же приехали. Чего там ехать-то?
Идем по аллее. Снова справа и слева могильные плиты с именами. С десятками, сотнями имен.
Какие-то работяги в оранжевых жилетах все еще докрашивают белилами бордюры. Из колонок, что около могилы, грохочет какая-то невыносимо траурная музыка. Всюду распорядители, направляющие приехавших людей к месту торжественного митинга:
– Какой отряд?
– Киров-Вятка.
– Ваше место там, – нам указывают, где стоять.
Детенышей ставим в строй. Сами сматываемся. Час нам тут делать нечего. Будут речи, будут клятвы, будут стихи.
Мы ушли к роднику – водички попить да ботинки почистить.
Там и сидим. Перебираем всякую фигню. Но думаем все об одном и том же.
– Пару лет назад, – рассказывает Юди, – жара была дикая. Трава в момент высохла. Кто-то окурок кинул – огонь пошел. Мы гробы несем – минометки в логу стали хлопать. Рита-то как орала на Змея…
– А Змей-то тут при чем? – удивляюсь я.
– А этот дурак спасать всех побежал, огонь тушить.
– Да я просто отлить хотел, – смущается Змей.
Где-то мимо нас несутся казенные фразы:
«…священная земля…»
«…ничто не забыто…»
«…победа…»
«…своею смертью искупили…»
Мы стараемся не вникать в смысл этих слов. Потому как его там нет. Смысл в словах есть только тогда, когда говорящий – верит в них.
На этой священной земле строят мусорный полигон.
Ничто не забыто, потому как нельзя забыть то, что не знаешь.
Праздник Победы как способ отмыва и отката, а искупление как повод.
Своей смертью они искупили нашу жизнь. Только мы этого не знаем.
Облака плывут, облака…
Под облаками вдруг несется бархатный бас священника. Началась панихида.
Я возвращаюсь к митингу. В жарком воздухе лениво колыхаются наши флаги – флаги поисковых отрядов. Между ними чего-то делает флаг «Молодой Гвардии».
Я возвращаюсь. Потому что «смертию смерть поправ». Потому как «сущим во гробех – жизнь даровав!».
А если не даровав – работа наша суетна и тщетна. Если бойцы не живы сейчас, если они не стоят сейчас в сторонке и не улыбаются, куря в кулаки по привычке, – какой смысл во всем этом? Какая тогда разница – где их кости: на мусорной свалке или на кладбище? Какая тогда разница – кто победил тогда?
А потому:
– Сущим во гробех – жизнь даровав.
Это мы – сущие во гробах. Они из этих гробов уже вышли, когда легли в них. Все. Православные, мусульмане, атеисты. Вот такая вот неевклидова реальность.
Они – это не кости.
Они – это души наши. Ангелы наши. Хранители наши. Мы живем ими. Свои души мы еще не заслужили.
Спаси, Блаже, душа наша…
Есть очень правильная фраза – это нужно не мертвым, это нужно живым. Живым нужно искать своих мертвых. Наши мертвые давно нашли нас. И смерть их – это наша жизнь.
Они – наши святые.
Они – православные, мусульмане, атеисты.
Они – наши святые.
Ибо крещены они в крови своей.
Когда батюшка отслужил – из строя выходят казахстанцы. Встают на колени перед гробами:
– Бисмилляхи-р-рахмани р-рахим! Аллаху ля иляха илля хВаль-хайуль-каййyум! – начинают они свою, исламскую, молитву. Молодцы, ребята. И почему мы, православные, так стесняемся стоять на коленях перед своими святынями? А ведь это наши, общие святыни!
Они стоят рядом…
Православные… Мусульмане… Атеисты…
Они переминаются в своем невидимом строю с ноги на ногу, подшучивают над нашими девчонками, передают самокрутки друг другу.
– Товарищ лейтенант! А наркомовские?
– После похорон, сержант.
– Ну, товарищ лейтенант…
– Будем приказы обсуждать? В небесную гауптвахту захотели?
– Есть после похорон…
Христос воскресе из мертвых. Иначе нет смысла.
Ну…
Ну вот и все. Ну вот и самое главное.
Поисковики сломали строй, распределяясь по четверо у каждого гроба.
Это – НАШЕ. Только мы имеем право… Да! Именно право! Не обязанность.
Поднимаем гробы на плечи. По очереди несем их в огромную могилу.
Первый, второй, третий, двадцатый…
Гроб необыкновенно легкий. Еще вчера, на раскладке костей, казалось, что они очень тяжелые. А сейчас – как перышко.
Терпеливо ждем очереди.
Рядом рядовой-паибатовец. За спиной двое поисковиков – я их не знаю. За нашим гробом – Еж и Дембель. Где-то еще дальше – Змей, Тимофеич, Антон, Юди, ДядьВова с Буденным, Степка с Васькой, Заяц, Петрович…
Вот и наше отделение начинает спускаться. Шагаем берцами по спуску – вчера здесь мы поднимали семерых. Сегодня они лягут в паре метров от предыдущей постели.
На дне – жижа. Вода набежала за ночь, и даже еловый лапник покрылся водой. Ставим гробы один на другой. Штабелем. Я трижды перекрестился и поклонился. Как на икону. Надо бы встать на колени и поцеловать гроб. Как святые мощи. Но почему-то не решаюсь.
В могиле Сашка помогает укладывать гробы, сдвинув, как обычно, фуражку на затылок.
– Саш, помочь с укладкой? – шепчу я, проходя.
– Справимся, – так же шепотом отвечает он.
Парни на выходе терпеливо ждут.
Я выбираюсь. Потом иду вокруг могилы, вслед за паибатовцем. Мы бросаем по горсти земли на длинный, двухэтажный ряд гробов. Я иду и шепчу:
– Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас!
Меня не слышно. Над нами – над могилой, над гробами – витает мелодия. И только отойдя от костей своих дедов, я вдруг начинаю узнавать ее.
Штраус. Который Иоганн. Который «Младший». Который – «Сказки Венского леса».
– Парам-парам-парам – пам-пам!
Сквозь Штрауса – певчие:
– Веечная паааамять!
– Парам-парам-парам – пам-пам!
– Веечная паааамять!
Прохожу мимо очереди с гробами.
Идем к столикам, где разливают наркомовские. И чашку гречки еще дают и бутерброд с ветчиной.
Я прохожу мимо столика. На столике – ноутбук. К нему прицеплены колонки через усилитель. За компом сидит «диджей». Раскладывает пасьянс. Рядом с буком коробка от диска – «Сто золотых хитов классической музыки». Жду Вагнера и Мендельсона.
Но все еще Штраус:
– Парапара-пам-пам-пам! Парапара-пам-пам-пам! Пам-парарам! Пам-парарам!
За спиной:
– Веечная паааамять…
И стук гробов в могиле.
Хочется ударить по ноутбуку кулаком, палкой, лопатой – да чем угодно.
Но я этого не делаю. Я – трушу. Я ухожу к столикам. Бросьте в меня камень. Обезболивающая жидкость протекает водой. Еще раз подхожу. Еще раз.
А это уже «Маленькая ночная серенада» Моцарта? Тоже ничего.
Все-таки я – трус. Поэтому делаю вид, что все так и надо. Подходят тамбовские офицеры. Мы договариваемся на встречу вечером у них в лагере.
Аве, Мария… Грация плена… Мария, грация плена…
Наконец гробы уложены. Комья земли скинуты. Экскаватор, заглушая «Аве Марию», а потом «Зеленые рукава», рычит ковшами, укладывая могилу аккуратным прямоугольником.
Через несколько минут под звуки шотландской народной музыки – в исполнении Лондонского симфонического оркестра – могила почти готова.
Почти…
Остается малое.
Поисковики в своих поношенных камуфляжах плотным кольцом окружают могильный холм. Плечом к плечу. Без команды встаем на колени. Чиновничья музыка наконец-то выключается. За спиной клацают затворы «калашей».
Запеваем, после трех выстрелов холостыми…
Выпьем за тех, кто командовал ротами, Кто умирал на снегу, Кто в Ленинград пробивался болотами, Горло ломая врагу.Тихо поем…
Слеза сбегает по щеке. Кто-то рядом тоже всхлипывает. Не могу больше. Отхожу в сторону. Сажусь на краю немецкой траншеи, куда они так стремились. Закуриваю. Потрясывает.
Будут навеки в преданьях прославлены Под пулеметной пургой Наши штыки на высотах Синявина, Наши полки подо Мгой.Две сигареты бросаю на могилу. Закуренную – втыкаю в могильный холм.
Солдатская свеча медленно тлеет над свежей землей…
По кругу идут поминальные фляжки. А на следующем куплете кто-то замолкает. Кто-то отворачивается. Кто-то помнит о том, что из песни слов выкидывать нельзя, и продолжает:
Выпьем за тех, кто погиб под Синявино, Всех, кто не сдался живьем, Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, Выпьем и снова нальем![10]– Слава России! – вдруг орет кто-то. Меня словно выдергивают из войны.
– Слава России! Потому что мы – русские!
Пьяный до потери сознания какой-то поисковый козел начинает орать непотребщину про «жидов и масонов».
Майдан Кусаинов, командир алматинского отряда, – тот самый, кто поставил «Журавлей» на повороте, – мягко пытается остановить ужравшегося в хлам придурка:
– Слава и Казахстану тоже… Мы же тоже…
Козел его не слышит, выкрикивая бессвязное:
– Россия! Слава! Смерть всем, кто против!
Я дергаюсь, но чья-то рука останавливает меня.
Ритка держит. И правильно. Убивать на могиле – неправильно. А не убить я сейчас не могу.
И я ей подчиняюсь. И зажмуриваюсь что было сил. И вдруг резко понимаю – зачем нам на Вахте девоньки. Спасать нас и таких вот придурков.
Кто-то пытается перекричать урода:
– Слава СССР!
Но всех перебивает тихим голосом мудрый Майдан:
– Здесь птицы не поют… Деревья не растут…
Идиота уже не слышно за мощным ревом поисковиков:
– А значит, нам нужна одна Победа!
Одна на всех…
Я не выдерживаю и отхожу в сторону.
Сволочи мы все…
Урод – потому как он урод.
И я – потому как просто трус.
Душу выворачивает наизнанку.
И я ухожу подальше от всех. Падаю на траву и курю, курю, глядя в облака. И слезы по щекам. Потом мы набьемся в два «Урала» паибатовцев. Потом мы будем ехать и орать песни, выплескивая бесконечную, тянущую боль. Потом мы пойдем в лагерь тамбовчан. Потом мы забудемся в наркозе хохм и шуток. Это все будет потом. Вечером. А утром мы снова пойдем искать.
А пока мы здесь и сейчас. Провожаем наших ангелов-хранителей, спасающих нас до сих пор. От самих себя…
День восьмой. Крайний
Всю ночь мне снятся какие-то идиотские сны. То Ритка вытаскивает обожженных японцев из блиндажа, то Еж гоняется по полю за «Тигром» и яростно матерится, то Дембель упорно пытается залезть на березу, доказывая, что оттуда он до самого Берлина из снайперки достанет. А потом вдруг пламя вокруг. Одно пламя и больше ничего. И из этого пламени выходит немец с автоматом наперевес. А я падаю на землю и смотрю на него. Немец наводит на меня свой автомат, я гляжу в дуло, гипнотизирующее меня как змея. Вдруг немец нагибается, дергает меня за ногу и говорит женским голосом:
– Вот так живут наши поисковики – герои сегодняшнего дня…
Я аж подскакиваю, отчего немедленно ударяюсь башкой о жердины потолка. Прямо в лицо бьет свет.
– Пару слов для наших телезрителей! – из света возникает рука, держащая чего-то длинное, с круглой черной штукой на конце.
Пару слов я сказать не могу. Я только одно могу сказать. Его и говорю:
– Бл…
После паузы гаснет свет. И я вижу странную пару, неведомым образом оказавшуюся в нашей землянке. Девчоночка в приспущенных джинсах и ярко-красной курточке держит микрофон наперевес. Пацанчик в кожанке с большущей видеокамерой на плече.
– Какого ху… дого! – орет проснувшийся Еж. К Ежу с утра вообще лучше не подходить. Пока он не покурит и не выпьет кофе с ромом. Или с коньяком. Или с водкой. Или со спиртом. Кажется, им мы вчера догонялись? Мы начинаем сонно выбираться из спальников. Девчоночка тем временем задает вопрос:
– А вы тут живете, да?
Нет, блин… Мы тут дискотеки устраиваем.
– Это кто? – спрашивает Ежа Дембель, зевая во всю пасть. Глаза у него красные, морда мятая – идеальный типаж для фильма ужасов. Как, впрочем, и мы все.
– Баба какая-то, – мрачно отвечает Еж.
– Баба? Где? – моментально оживляется Буденный.
– Да вон стоит… – хриплым голосом говорю я. – Кто бабу вызывал?
– Я о ней думал ночью, – включается Юди точно таким же голосом. – Прямо материализация желаний.
Девчонка вертит головой, пытаясь вникнуть в утренний разговор только что проснувшихся мужиков – разговор бессмысленный и беспощадный, как похмелье.
– А мне что не надумал? – спрашивает Змей, сев в спальнике.
– Я тебе мужика с херней на плече надумал…
– Урод ты, Юдинцев! – расстраивается Змей и обратно падает на лежанку…
Изумление девчонки доходит до предела. Она хлопает глазами и не знает, что сказать. А даже если бы и было бы что сказать – она не успела бы. Вятский язык отличается высокой скоростью речи. А когда разговаривают несколько мужиков, озабоченных переполнением мочевых пузырей… Да и просто озабоченных…
– Одной мало… – вздыхает кто-то. В это время откидывается дверной полог – на него пустили плащ-палатку.
– Эй, мужики! Подъем! Вот, журналисты приехали! – в землянку ворвалась Рита, совершенно нечаянно ткнув оператора локтем в область поясницы.
– Какие, в задницу, журналисты! Я же со сна! – орет в ответ Еж.
– Дуб ты, а не сосна! – спокойно язвит Рита. – Завтрак готов.
– Слушайте, бабы… Да, Рита! И ты тоже! Идите все… К костру идите! Мы сейчас.
Рита утаскивает журналистов к столу. Мы же одеваемся, переругиваясь тихонечко.
– Кой черт с такого с ранья их принесло? – ворчу я.
– Дед! Время уже девять! Какое сранье в девять часов?
– Физиологическое…
Через несколько минут из землянки по очереди выползают бледные тени вчерашнего дня и гуськом отправляются в поисковый ватерклозет. А потом ходячие обмороки ополаскиваются в речке. И только после этого превращаются в людей.
И начинают мрачно пить кофе за столом. Журналистка с опаской посматривает на нас. Действительно. Один Еж в шинели на голое тело чего стоит. Да и я не лучше – в пуховике, но без штанов. Буденный – в тельняшке и шортах. На голове у него та самая буденовка. Только Змей более-менее прилично выглядит. В очках. На его лице хотя бы отблески интеллекта, в отличие от наших.
На наших рылах – щетина. В наших рылах – дымящиеся сигареты. В наших руках кофе с чем-то крепким. На наших руках – царапины и ссадины. А в сердцах – вчерашний день. Впрочем, кого это волнует, кроме нас самих?
После первой кружки кофе Еж наконец говорит, тупо глядя на стол:
– Слушаю вас внимательно…
Журналистка тут же оживляется, как воробей, увидавший бесхозную корочку хлеба на заплеванном асфальте:
– Добрый день! Мы, журналисты с канала «Петербург-ТКГ», делаем репортаж о поисковиках. Нам посоветовали приехать к вам, сказали, что вы очень колоритно живете…
– Запихать бы этому советчику… – начинает бурчать Юди. Но тут же замолкает, потому как получает от Риты поварешкой по лбу.
Оператор индифферентен к происходящему. Это у них профессиональное, наверное. Они мир воспринимают только через объектив.
– Делайте, – милостиво разрешает Еж.
И они начинают делать. Снимают землянки. Задают вопросы детишкам, снующим туда-сюда. Вопросы, как правило, дурацкие. Типа, а чем вы здесь занимаетесь? Дети иногда впадают в ступор, но потом все-таки отвечают – типа мы тут работаем. Типа, а как вы тут работаете – а, типа, руками. Расскажите! Очень интересно!
А мы, оказывается, не умеем рассказывать. Да и как тут рассказать? Поиск – это нудная, грязная и кропотливая работа. Это надо изнутри переживать…
– Давайте мы лучше покажем! – дергает меня какой-то черт за язык.
Журналистка немедленно соглашается. Еж закатывает глаза. Буденный стучит себе по лбу указательным пальцем. Тем же пальцем Змей крутит у виска. А Юди показывает мне огромный свой кулак. Однако слово – не воробей. Нагадит – не отмоешься.
Поэтому через полчаса мы отправляемся в лес с полным рабочим снаряжением и журналисточкой. Оператор все так же равнодушен ко всему. Он снимает все, что попадается – старые раскопы блиндажей, траншею, в которой мы недавно ковырялись, окопчики, холмики с крестами.
В одном месте приходится перетаскивать журналисточку на руках. Она приехала в туфлях, а тут ходят люди в сапогах. Очень уж болотисто. Ее с удовольствием хватает в охапку Дембель, немедленно прошедшийся по всем выпуклостям своими лапами. Журналисточка повизгивает, но не вырывается. А куда она денется со своими беленькими туфлями посередь размешанной нашими сапогами грязищи? После трясинки Дембель с видимой неохотой отпускает ее. А потом, отвернувшись от девочки, показывает большой палец и ухмыляется
– Я б ей вдул… – бормочет Змей, завидуя Дембелю. – А ты, Дед?
– Она мне во внучки годится… – ворчу я, а сам рассматриваю обтянутые джинсой полушария ниже ее голой талии. Ничего такие полушария. Выдающиеся.
Наконец мы приходим на место. Небольшая сухая полянка. На ней много железа – осколки. Одни осколки. Проверяли ее десятки раз. Молодняк тут учится на щуп отличать железо от дерева. Хотя чему тут учиться? Элементарные вещи – дерево пружинит, металл звенит. Камни тоже звенят. Но немного глуше. Кости…
Кость!
Пока Еж втирает журналистам про ожесточенность боев под Ленинградом, мой щуп находит косточку.
Все рады. Особенно журналисты. Еще бы…
Мгновенно делаем раскоп. Ищем, ищем, ищем. Я сижу рядом, рассматриваю фалангу пальчика. Именно пальчика. Косточка маленькая. Одновременно трындю в камеру замогильным голосом:
– Кость человеческая, возможно, здесь лежат останки бойца Красной армии. Погиб он не раньше сентября сорок первого и не позже января сорок четвертого…
– Как вы определили? – удивленным голосом спрашивает девица.
Я теряюсь от вопроса. Кто-то подает голос:
– Он экстрасенс!
– Правдааа? – глаза журналисточки становятся больше полушарий.
Историю учить надо!
– Это годы блокады Ленинграда. А здесь места попыток этой блокады… – тоном усталого профессора математики я объясняю, что такое «сложение», первокласснику.
– А скажите, может быть, стоило объявить Ленинград открытым городом, дабы избежать ненужных жертв?
Над полянкой вдруг тишина, которую называют зловещей. Желание втопить саперкой промеж красивых разлетистых бровей, видимо, отражается на моей морде так, что журналистка отшатывается:
– Давай заканчивать, – говорит она оператору. Потом встает полубочком, принимая нужную позу и на фоне нас, ковыряющихся в грязи, говорит:
– Вы смотрели репортаж с места прорыва блокады Санкт-Петербурга. С вами была…
Имя девицы я не расслышал, изумившись новому термину. Ага… А переломная битва была Волгоградской…
– Мальчики! А можно еще вопрос? – спрашивает она.
У всех одна и та же мысль: «Спрашивай и вали уже…» И только Дембель мечтает снова перенести ее через трясину. Это видно по его похабной улыбке.
– Мальчики, а как вы тут отдыхаете, развлекаетесь?
Лежавший на пузе Еж встает на колени. Вытирает грязь с лица. Перегарно выдыхает:
– В бегемотиков играем…
– Это как? – интересуется журналистка и тут же дает знак оператору – «включай, мол, камеру».
– Сейчас покажем… Юдинцев!
– М-м?
– Идем, покажем девушке бегемотиков?
Юди, самый большой и самый тяжелый из нас, понимает все и сразу соглашается:
– Идемте, барышня…
Они подводят ее к воронке, заполненной болотной водой.
– Вот тут вставайте, иначе не поймете…
Они ставят ее на самом краю.
Оператор увлеченно снимает. Мы увлеченно наблюдаем за Ежом и за Юдинцевым. Оба отходят на несколько шагов.
– Три-четыре…
– БЕГЕМОТИКИИИИ!!! – орут они на весь лес и с разбегу плюхаются в воронку. Мощный всплеск окатывает барышню с головы до тех самых туфелек.
Она разевает рот как рыба, а мы ржем на весь лес. Оператор и тот хмыкает. Вот такие у нас тупые шутки. Еж и Юди, словно крокодилы, лезут на берег – все мокрые, в ряске и грязи. Журналистка стирает грязь с лица рукой, потом лезет в сумку, достает салфетку и начинает вытирать личико. И тоже хихикает. Натужно так.
А потом такой дурацкой толпой, смеющейся на весь лес, мы провожаем журналистов до лагеря. Откуда журналисты сматываются еще быстрее, чем приехали.
Но, перед тем как исчезнуть в лесу, она вдруг оборачивается и говорит.
– Спасибо вам!
По-человечески так говорит.
– Я двадцать пять лет в Питере живу, не знала такого…
В глазах ее блестят жемчужинки слез. Настоящих слез.
Надо же…
А потом она исчезает – красивая девушка в грязно-белых туфельках…
А мы ждем, когда Юди и Еж переоденутся, слушаем рассказ Дембеля про «У нее такие булки!».
А костей на той поляне так, кстати, больше и не было. Один пальчик.
Набрав сухпая, вместо обеда, мы снова разбредаемся по лесам. Я иду один. Хочется одному побыть. И я снова в лесу. Бреду от воронки к воронке, от горя к горю. Щуп то по камням стучит, то по осколкам бренчит, то от корней отпрыгивает.
За спиной журчит Черная речка. Мне – тридцать семь. Это моя – Черная речка. У каждого она есть. У Пушкина была своя. У меня эта…
Щуп уткнулся во что-то большое. И какое-то странное. Вроде бы и мягкое, а стучит металл. Странно. Сердце обрадовалось. А потом еще больше обрадовалось. Подсумок. А в подсумке…
Взрыватели в подсумке. Для противотанковых гранат. Ртутные. Осторожненько их в сторону… Так… Значит, надо копать… Размахиваюсь с силой. Втыкаю лопатку в дерн.
Последнее, что я вижу, – вспышку и летящий прямо в лоб черенок малой саперной…
…На голове мокрые волосы. «Кажется, дождь пошел», – думаю я словами Пятачка. Дождь и впрямь идет. Постепенно прихожу в себя. Дерганой болью стучит правый висок. Я машинально прикасаюсь к нему. Потом слизываю кровь с пальцев. Чем это меня? На лопатке небольшая выбоина. Постепенно догадываюсь. Еще один взрыватель был. Был и хлопнул. Достаю фляжку с водкой. Потом бинт. Зубами раздираю упаковку. Нож вытираю о штанину. Плещу водкой на бинт. Протираю им нож. Потом отрезаю этим ножом кусок бинта. Щедро плескаю на этот кусочек. Потом протираю ранку-царапинку. Лоб, блин, болит. Синяк будет, наверно. Ранку на виске щиплет. Иду к речке. Долго умываюсь, фыркая как морж, снова протираю. Снова умываюсь. Потом достаю таблеточки цитрамона. Сжираю сразу шесть штук. Запиваю водкой. А руки-то дрожат… Кровь вроде бы не идет больше. Поэтому достаю из рюкзака банку с кашей и начинаю жрать. Еда в горло не лезет, но я заставляю себя работать челюстями.
А потом трясти начинает. Нет, я не думаю типа: «А если бы на пару сантиметров левее…» Трясет просто так.
Фляжка пуста наполовину. После этого я встаю и иду обратно. Надо досмотреть место. Кстати, а на чем это я так удобно сидел?
Твою мать.
Если бы я читал сейчас книгу – то непременно бы заорал: «Автор! Это перебор! Так не бывает!»
Согласен. Так не бывает в книгах. Так в жизни бывает. Все это время, пока жрал гречку с прослойками мяса, я сидел на противотанковой мине, вымытой недавним паводком из берега. Я смачно плюю на нее и начинаю нервно смеяться. Ну, ежели меня и противотанковые не берут… Не, ну шучу я. Не возьмет, конечно. Веса маловато.
И с каким-то остервенением я снова начинаю копать на месте подрыва. Мой ангел-хранитель, наверное, поседел, перекладывая с раскопа всякие-разные взрывчатые штуки. Поэтому их больше и не было. А я копал и копал, ожесточенно втыкая лопатку в землю.
Ничего там больше не было.
Потом я шел в лагерь, орал песни про трех танкистов и про Катюшу. И ощупывал ранку, беспокоясь, как бы жена дома не заметила вырванный клок волос.
Первыми меня встретили менты. Прямо в лесу. В погонах, бронежилетах и с автоматами. Как их сюда занесло?
– Ваши документы… – небрежно козырнул мне лейтенант. Еще двое стоят по бокам. Блин. Чувствую себя преступником.
Я удивляюсь:
– Эээ… У меня с собой нет. В лесу-то мне зачем? Они – в лагере.
– В каком лагере? – рассматривает мое лицо милиционер.
– Поисковом, отсюда метров двести. Там, где землянки. Видели?
– Рюкзак покажи, – командует он.
Я ухмыляюсь. В рюкзаке ничего нет. Снимаю, протягиваю ему. И тут же думаю: «Блин! Сейчас подкинет чего-нибудь». Но нет. Поковырялись в рюкзаке. Достали зачем-то фляжку, потрясли.
– Распиваешь? – без тени улыбки шутит лейтенант.
– Исключительно по праздникам, товарищ лейтенант! – я продолжаю ухмыляться.
– Ага… Зязев! Проводи до лагеря поисковичка. Документы посмотри у него.
Я надеваю рюкзак, и мы идем по тропе. Рядовой милиции Зязев за спиной. В башке вдруг мелькает дурная мысль – интересно, чего будет, если я побегу?
Я от нее отмахиваюсь, как черт от ладана. Еще не хватало так пошутить.
– Товарищ рядовой, а чего за облава-то? – обернувшись на ходу, я спрашиваю мента. Тот молчит. Только показывает своим укоротом – шагай, шагай!
Переходим через речку. А в лагере суета. Милиции понаехало… Сверка списков, документов. Твою мать, а я в списках не значусь!
На меня никто не обращает внимания. Просто идем до землянки.
– Чего, Дед! В плен попал? – орет заметивший меня Дембель. – Сейчас тебя в концлагерь отправят! Будешь знать, сволочь фашистская!
Достаю свой паспорт, протягиваю рядовому. Он долго и внимательно изучает его. Потом козыряет:
– Оставайтесь здесь, в лагере. В лес не выходить.
Разворачивается и уходит обратно.
Я иду к столу. Ритка, Юра и Еж копаются в своих отрядных документах – списки, заявления, разрешения, справки, инструктажи…
– Чего происходит-то? Шо за ахтунг? Партизанов ловят, что ли?
– Уйди – не мешай! – отмахивается Рита. Я пожимаю плечами и отправляюсь к костру.
Около него стоят мужики и курят.
– Мужики, таки шо происходит с бедными поисковиками? Кому стали нужны наши грязные носочки?
– Снусмумрики завтра приезжают, – говорит ДядьВова, пыхтя трубочкой.
– Который из них?
ДядьВова долго смотрит на меня, а потом выдает:
– Не скажу!
– Это еще почему?
– А ты же немец фашистский! Ну как из фаустпатрона убьешь всех? А? Вот приехали в серых мундирах, ищут тебя.
– Кстати, да. Форма у ментов на немецкую похожа, – встревает Юди.
– Полицаи, одно слово, – фыркает Буденный.
– У немцев – серо-зеленая, – пыхтит ДядьВова.
– Фельдграу, – поправляет его Змей.
– Чего? – переспрашивает его ДядьВова. – Какое еще ельдфрау?
– Фельдграу. Цвет такой, – Змей умным жестом поправляет очки.
– Я такого слова в русском языке не знаю. Серо-зеленый и точка. Фельгравами твоими пусть немцы свою форму называют. А я русский человек – и по-русски называть буду. Они же морпехов наших по-своему называли – шварцентодт. Вот и я буду ихнюю форму серо-зеленой называть. А то удумали… Шпрингминен, фельдграу… Тьфу!
ДядьВова смачно плюет в костер. Тот шипит в ответ.
– Да не ворчи ты, дядьВов… – говорю я. – Толком скажи – чего случилось-то?
– Завтра мероприятия на Синявинском мемориале. Приедет кто-то из этих – тычет он в небо. – Кто – не знаю. Приехали вот, с проверкой. Из лагеря велено не выходить.
– Ну, блин… – сказать, что я расстраиваюсь, – ничего не сказать. Тут меня осеняет:
– А в Питер уехать можно?
– Сегодня – можно. Завтра уже нельзя. Дороги, сказали, перекроют. Мы сейчас на лехином «Соболе» до Кировска махнем. Затаримся на пару суток мясом и…
– …и еще мясом, – заканчивает фразу Дембеля Буденный. – Ты с нами?
– Ага. Оттуда в Питер выберусь.
– На кой фиг тебе с нами тогда? – говорит Юди. – Васька со Степкой собираются тоже ехать. Подбросят тебя до города. Тебе ночевать-то есть где?
– Есть, – киваю я. В Питере у меня много друзей, у которых можно переночевать.
И бегу наверх, к палатке Степана и Васьки. Они уже сложили ее. Укладывают в видавшую виды «шестерку» барахло. Договариваюсь с ними. Потом бегу складывать свою шнягу.
И уже через пятнадцать минут мы выезжаем на грунтовку, ведущую к «Журавлям». Вспоминаю, что не попрощался со всеми. С другой стороны, чего прощаться-то? Десятого в поезде встретимся.
Оглядываюсь на уплывающий лес. Сердце вдруг начинает ныть.
Так бывает, когда ты видишь на улице котенка, гладишь его, кормишь с руки. А потом уходишь от него, а он бежит за тобой и пищит. Вернее, он кричит, просто его крик тебе писком кажется. А тебя дома ждет жена с аллергией на кошачью шерсть.
Оно у меня всегда ноет, когда я уезжаю из леса. Да еще так неожиданно. Как будто я предал всех. Бросил что-то важное. Умом я понимаю, что завтра в лес не удастся выйти, что лучше уж уехать сегодня, что повидаюсь с питерскими друзьями.
А сердцем…
А сердце остается под Синявино…
Я никогда не вернусь с войны. Потому что с войны не возвращаются никогда. Она будет жить в тебе, в твоей крови и в твоих костях. И неважно, что по тебе не стреляли. Ты – обычный солдат похоронной команды.
Внезапно я вздрагиваю и кричу Ваське:
– Стой! Стой, собака злая!
Васька резко давит на тормоз. Так, что я едва не вмазываюсь в низкий потолок «четверки». «Четверки» – не танка. «Четверки» – «жигуленка».
– Мужики, я ложковилку забыл на столе!
– Блин. Что орать-то? – Васька говорит исключительно правильно, по-питерски. Это мы, «вяццкие валенки», чокать привыкли. – Звякни Ежу, он заберет и передаст.
– Стыбздят дети, а ведь подарок же! Мать же… Я сейчас, только туда и обратно!
Ваське возвращаться неохота. Мы уже проехали пару километров от «Чертового моста». Я его понимаю – жена ждет, дочка. Принимаем соломоново решение. Рюкзак едет с ними, а я по-быстрому в лес, да и обратно. Рюкзак у него вечером заберу и поеду отсыпаться-отмываться к друзьям. Только надо решить проблему выбора. А то на части рвут – непонятно, к кому ехать. Толи к Уксусу, то ли к Захару.
Хлопнул дверью, махнул кепкой вслед, перепрыгнул кювет, все еще полный воды, и пошел по прямой до лагеря. Заблудиться тут невозможно. Лишь бы менты не привязались опять.
Через несколько десятков метров, войдя в густой подлесок, я, неожиданно для самого себя, сел на мокрую землю. Жаль, геморройку в рюкзаке оставил. Фиг с ней. Ложусь и смотрю в голубое небо – высокое-высокое.
Где-то там, на облачках, сидят пацаны, которых мы похоронили вчера. Сидят, ногами болтают, махру свою небесную курят после небесных же «наркомовских». Иногда мне кажется, что это они решают – когда нам жить, а когда умирать. Бред, конечно. Ангелы, возьмите меня к себе? И они улыбаются мне в ответ солнечными зайчиками, шепчут что-то листвой деревьев. И курят. Даже запах чувствуется, честное слово.
Запах?
Точно! Дымом тянет. Неужто с лагеря донесло? Да быть не может! Очень уж сильно несет. Близко где-то костерок развели. Встаю, принюхиваюсь – точно костром пахнет. И дымок видно. Блин, какие козлы разожгли?
Громко, очень громко матерюсь и иду по направлению к дыму. Это егерей и прочих спецназеров учат по лесу тихо ходить. А нам, поисковикам, надо ходить шумно. Техника безопасности, знаете ли. Шоб придурки слышали, что рядом люди, и не взрывали всякую фигню.
По идее, мне надо валить отсюда. Охотников сейчас нет – рано еще. Они ближе к вечеру тусуют здесь. Да и ментов сегодня в лесу – полна жопа огурцов, как говаривала покойная бабушка. Но какому придурку приспичило разжигать костер в военном лесу?
Блин, погода – сухая. Вот пойдет пламя по прошлогодней траве – мало никому не покажется. Надеюсь, что все же охотники.
– Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро, тарам-парам, парам-тарам – ну вот уже и утро! – ору я на весь лес. Меня слышно от Мги до Синявино, наверное.
И старательно ломаю ногой сухостоины так, что треск стоит на весь лес. А запах костра все сильнее. Люблю я его. Копченостями пахнет. А чеснок пахнет колбасой, да.
На небольшой прогалинке действительно горит костер. И никого. Костерок недавний, только-только разгораться начал. И два хвостовика торчат из сучьев, объятых пляшущими язычками пламени. Минометных хвостовика. От полтинничков.
Ну, бляха же муха! Ну, японский же городовой! Ну это же вам не глухой Демянск! Отсюда километр до лагеря! А там менты, блин! Рванет – опять же мы виноваты во всем окажемся! Так. Рефлексии на потом оставим.
Машинально поправляю повязку на лбу.
И рывком к костру, занося ногу для пинка по минам. Не руками же их вытаскивать… Стоп! Руками! От пинка и сбарабанить может.
Я нагибаюсь к костру, ругая сам себя за то, что рабочих рукавиц не прихватил, хватаю одну из минометок за крылышко хвостовика… Блять, как горячо!
Внезапно угольки, светя рубиновыми звездами, метнулись мне в глаза, опережая взрывную волну.
Это последнее, что я увидел глазами.
Ну, здравствуйте, ангелы мои, хранители мои.
Вот он весь я. Был да весь вышел и пришел весь.
Здравствуйте.
И до свидания.
Свидимся еще…
Эпилог (Девятое мая. Любого года)
Дембеля спали на своих боковых полках плацкартного вагона, медленно трясущегося между Тихвином и Волховстроем. Сергей Викторович, улыбаясь, посматривал то на них, то в окно. А там, за окном, медленно плыли кривые и корявые деревья болот Приладожья. Вот и Волхов. А деревья не изменились. Такие же – кривые и корявые. И дембеля не изменились – храпят пьяными глотками на весь вагон.
Сергей Викторович опять улыбнулся. И начал одеваться. Делал он это не спеша и со вкусом. До Ленинграда еще два часа – куда спешить? Но… Ему не терпелось. Он должен войти в город как подобает. Впрочем… Еще пара лет и пара болезней – начать придется переобмундирование еще за Тихвином. Иначе просто можно не успеть.
Вы никогда не были стариком? Ничего. Еще успеете. Если успеете. Когда Сергей Викторович застегнул последнюю пуговицу – мимо прошел проводник с криком: «Туалеты закрываю! Подъем!»
Изверг, честное слово. Один из дембелей поднял похмельную головушку и с изумлением увидал… А потом треснулся лысой башкой о верхнюю полку.
– Товарищ…
Сергей Викторович обернулся. Второй дембель приоткрыл левый глаз и едва не сверзился с верхней полки:
– О, бляха муха, виноват, тащ…
Гвардии подполковник запаса Сергей Москвичев осторожно сел на свою нижнюю полку:
– Вольно, ребятки. Собирайтесь уже. Город-то – вот он уже.
И откуда у парней силы взялись? Ведь так вчера нажрались, рассказывая Москвичеву о тяготах военной службы в полку внутренних войск под Череповцом. Ведь целый год караулы несли! Понял, дед? Дед кивал и отнекивался от очередного стакана водяры:
– Сердце, знаете ли.
– Дед, ты че, не служил, что ли?
– Было маленько…
– А мы целый год!
Гвардии подполковник – запаса, конечно – звякнул орденами на очередном толчке вагона. Дембеля же, спешно вернувшись из прокуренного тамбура, торопливо натягивали свои ботфорты, кителя и прочие белые сопли с аксельбантами, с уважением поглядывая на «Отечественную войну», на «Красную Звезду» и даже на «Богдана Хмельницкого».
«Чисто павлины», – усмехнулся про себя подполковник Москвичев. Целый год, да…
А вещи они помогли ему вынести. А что там тех вещей-то? Чемоданчик один. Это нынешние привыкли с баулами ездить, а старому служаке и чемоданчика хватает. Жаль, что прибыли на Ладожский вокзал. Теперь придется долго подниматься, потом долго спускаться разными кривулями. Вот то ли дело на Московском… Вышел – и сразу в городе. А тут еще и в метро надо…
Дембеля помчались к киоску с пивом, а Сергей Викторович спустился в зев метро. На самобеглой лесенке, прямо перед ним, стояли четверо парней с большими рюкзаками на спинах. От парней неуловимо пахло… Молодостью. Да, молодостью Сергея Викторовича. Порохом и тленом.
Один из парней зачем-то вертелся из стороны в сторону, и Москвичев едва успевал уворачиваться от его рюкзака. Один раз по носу все-таки прилетело. Сергей Викторович не выдержал и придержал вертуна в камуфляже за плечо. Тот резко обернулся, приоткрыв рот, но осекся и покраснел:
– Извините, товарищ гвардии подполковник…
Потом парень захотел было еще что-то сказать, но эскалатор внезапно закончился, и толпа, бегущая к вагонам, их разминула. Глаза у него были… Словно он вчера потерял друга. Какое-то время Москвичев даже спиной чувствовал больной и отчаянный взгляд этого парня, но вот он вошел в вагон, и вагон тронулся, и вот уже ласковый голос сообщает: «Станция метро «Достоевская» Следующая станция «Садовая». Переход на станцию…» Ласковый голос не успел договорить, как Сергея Викторовича опять вынесло толпой на перрон станции. Вообще-то Москвичев любил именно здесь выходить. Чтобы пройти до Невского по Марата, а оттуда уже на площадь Восстания. Чтобы… Его вдруг толкнули, и он, не удержавшись, толкнул плечом какую-то девочку лет семидесяти. Да, именно так. Девочку. А вы не знали, что у девочек возраста не бывает?
Виктория Павловна оперлась на трость, чтобы не упасть.
– Умоляю, простите, – неловко улыбнулся ей какой-то гвардии подполковник.
Она сухо, совершенно по-ленинградски, кивнула ему в ответ и тяжело захромала дальше.
Ноги… После Блокады ее ноги так и не восстановились. Каждую весну и каждую осень они опухали, и она с трудом шла в свою библиотеку – выдавать детям Жюля Верна и Конан Дойля. Врачи ей еще в пятидесятых советовали сменить климат. Но как она могла сменить его, когда тут, в Ленинграде, остались Юта и мама?
И четыре раза в год – в день смерти Юты, в день ухода мамы, в день снятия Блокады и в День Победы – она шла по своему маршруту. От старого своего дома по улице Марата до Пискаревского кладбища. Виктория Павловна не знала – там ли Юта? Но там точно лежала мама. Шли годы, и девочка старела, но ходила и ходила вдоль Невы сквозь промозглый город, меняющий имена быстрее человеческой жизни.
Потом она ходила три раза в год – прости, Юта! потом два раза – мамочка, извини! – после один раз – простите, ленинградцы. Все простите! Сил больше нет… Но в День Победы – обязательно. Как бы тебе трудно ни было – пройти тебе, Вика, надо. Ведь тогда ты смогла? Значит – сможешь и сейчас!
– ПОБЕДААААА! – заорал кто-то прямо над головой.
Виктория Павловна вздрогнула – она так и не перестала бояться резких звуков. Может быть, поэтому она выучилась на библиотекаря? Или потому, что так и не успела дочитать «Приключения капитана Гаттераса»? А ведь она так и не смогла ту книжку прочитать… Слишком явственно Вика слышала хруст разрываемых страниц и шелест огня в печке… Слишком жесток был холод, веявший от перелистываемых страниц.
А тот мальчик с погонами подполковника… Как он похож… Да, мальчик. И пусть ему восемьдесят или около того. А вы не знали, что у мальчиков возраста не бывает?
Вика медленно, переваливаясь, словно утка, неспешно перешла Невский проспект. Ровно по тем следам, невидимо впечатавшимся в Ленинград. И пусть память подводит, но следы-то остаются. Они на стенах. Они на душах. Они остаются в глазах детей и внуков. Уцелевших детей и выживших внуков.
Вот словно у тех пареньков в камуфляже и с рюкзаками за спинами. Глаза у них… Как у наших… Такие же… Отчаянно-огнедышащие.
Она слегка улыбнулась – по-девичьи небрежно, и задела одного из них плечом – по-старчески осторожно. Тот вежливо отшагнул в сторону и чуть кивнул, мимолетом глянув.
Парень, возвышаясь над веселящейся толпой на голову, смотрел… Да, Юди больным взглядом смотрел на людей, празднующих Победу. Они – имеют право. Ведь это и их Победа. Да, вот этих вот менеджеров и работяг, журналистов и кассиров, банкиров и сантехников. Это – их Победа. Ведь они – дети, внуки и правнуки пацанов, которые победили. Это наша Победа. Она всегда будет нашей. Но…
– Это не моя Победа, Андрюх, – внезапно сказал Юди. – Я свою войну еще не закончил. И моя Победа – еще впереди.
Бабушка, опершаяся было на поисковика рукой и грустно улыбнувшаяся, уже исчезла в глубине Литейного.
Еж помолчал и хрипло ответил:
– Помолчи, Жень. Пойдем. Присядем.
Парни сели на лавочке, скинув тяжеленные рюкзаки. Змей отцепил фляжку. Нагло глядя в глаза полицаям, отвинтил крышку и глотнул. Потом молча передал Юдинцеву. Тот – Буденному, потом хлебнул Дембель и протянул Ежу. Тот помолчал.
– За Победу, мужики! – крикнул кто-то из толпы, шедшей на парад.
Еж кивнул и сделал большой глоток, звякнув металлической пробкой.
За Победу. И за Белоснежку. Конечно. А как же? Пора. На вокзал, на поезд. И они пошли навстречу толпе, радостно шагающей с георгиевскими ленточками на штанах и шариками в руках на Дворцовую.
Хватит думать. Не надо больше думать. Надо быть в одиночестве. Челюсти сжимаются так, что зубам больно. Идут, расталкивая плечами толпу. Господи, как же нам повезло, что у нас такие деды! Как же нам повезло, что мы живы! Какие же радостные у нас лица сегодня! И какие мелочные проблемы нас ждут завтра. Как же нас еще много! И все благодаря тому подполковнику, которого я задел рюкзаком на эскалаторе «Ладожской» станции. Эх, знать бы… Как он воевал тогда? Где он воевал? А ведь он воевал. Одни нашивки за ранения чего стоят. Вот и площадь Восстания. Вот и Московский вокзал. Пора домой. Пора домой…
Нет, еще надо посидеть. Посидеть, покурить, посмотреть на людей – всем Ленинградом идущих на главную площадь. Праздновать. Да. Праздновать. И правильно.
Парни сели на корточки, закуривая по предпоследней сигарете. Крайняя – будет на перроне. Когда Степка, Васька, Сашка, Захар, Юрка, Уксус и дядьВова привезут «груз двести».
А рядом стоят три старика и обнимаются. Да какие они старики? Мужики! Просто немножко постарели. Вот этот, например, подполковник, который…
О! Так это ж… Еж бросил взгляд на часы. Еще есть время, и он встал, подойдя ближе, чтобы услышать. Рев толпы и грохот музыки перебивают ветеранов, но он попытался слышать, и хоть что-то услышал:
– Серега! А помнишь!
Подполковник, гремя медалями, хлопает по плечам капитана:
– Так точно, товарищ политрук! А ты, Павлов, как?
А потом они стоят, обнявшись втроем, и говорят, говорят о своем, поправляя друг друга:
– Да миной тогда тебя накрыло!
– Снайпер это был, только косой, товарищ политрук, после мины я бы…
– А твой осколок как, лейтенант?
– Да так и похоронят с ним, товарищ политрук…
– Кондрашова жалко…
– Так кабы не лейтенант Кондрашов, мы бы с Павловым…
И вздох тонет в реве толпы:
– Волховскому фронту – ура?
– УРАААААА!!!!
И пусть они кричат, то ли наобум, то ли наугад – совершенно не зная, кто командовал этим самым Волховским фронтом, и где этот фронт был и что он делал – это сегодня не главное. Сегодня главное – УРА. «Имеем полное право», – думал про себя Андрюха Ежов.
Ведь мы – дети и внуки тех, кто победил. И не надо тут вздохов, что не заслужили. Мы многое что не заслужили. Но Победу надо помнить. Чтобы помнить – необязательно служить.
Там, где не помнят Победу, – начинается смерть. Ведь это нас с вами убивали. Шесть миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч сто раз убивали нас на полях боев от Москвы до Берлина. Мы умирали в медсанбатах, сгорали в танках, падали с небес. А еще три миллиона триста девяносто шесть тысяч четыреста раз нас травили собаками и морили газами в Треблинках, Освенцимах, Бухенвальдах и прочих безымянных шталагах. И…
И – тринадцать миллионов шестьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот девяносто два раза нас сжигали в Хатыни, расстреливали в Бабьем Яру, вешали в Смоленске…
Но мы – живы. Ведь русский народ это – мы. Русский народ – это ты.
Я – русский народ. Это меня убивали, морили, сжигали, вешали. Но я – жив. И я помню.
Война приходит туда, где ее забывают. Но я ее помню.
Иначе эта кровавая сука вернется.
И мы закончим эту войну.
А кто, кроме нас?
Мы погибнем вчера
Из дневника («Да, война не такая, какой мы писали ее…»)
Июнь. Интендантство.
Шинель с непривычки длинна.
Мать застыла в дверях.
Что это значит?
Нет, она не заплачет.
Что же делать – война!
«А во сколько твой поезд?»
И все же заплачет.
Синий свет на платформах.
Белорусский вокзал.
Кто-то долго целует.
– Как ты сказал?
Милый, потише… -
И мельканье подножек.
И ответа уже не услышать.
Из объятий, из слез, из недоговоренных слов
Сразу в пекло, на землю.
В заиканье пулеметных стволов.
Только пыль на зубах.
И с убитого каска: бери!
И его же винтовка: бери!
И бомбежка – весь день,
И всю ночь, до рассвета.
Неподвижные, круглые, желтые, как фонари,
Над твоей головою – ракеты…
Да, война не такая, какой мы писали ее, -
Это горькая штука…
К. СимоновПролог
Меня нашли в воронке. Большой такой воронке – полутонка хорошие дыры в земле роет. Меня туда после боя скинули, чтобы лежал и воздух своим существованием больше не портил.
Лето сменилось зимой, зима летом, и так 65 подряд лет. Скучно мне не было, тут много наших, да и гансов по ту сторону дороги тоже хватает. В гости мы, конечно, не ходили друг к другу. Но и стрелять уже не стреляли. Смысла нет. Но и война для нас не закончилась. Все ждем приказа, а он никак не приходит…
А нашли меня осенью. Листва была еще зеленая, но уже готовилась к тому, чтобы укрыть нас очередным одеялом. Хотя мертвые не только сраму не имут, но и холода не боятся. Чего нам бояться то? Только одного…
Нашли меня случайно – молодой парнишка, чуть старше меня, лет двадцати, наверно. Сел на краю воронки, закурил незнакомым ароматным табаком, и с ленцой ткнул длинным щупом в дно. И надо ж, прямо в ногу мне попал.
Он прислушался к стуку металла о кость, ткнул еще несколько раз, и, отплюнув в сторону недокуренную папиросу с желтым мундштуком, спрыгнул вниз. Расточительные у нас потомки. Мы самокрутку на четверых порой делили.
В несколько взмахов саперной лопатки, он снял верхний слой почвы надо мной.
«Есть!» – воскликнул он, когда металл отвратительным звуком ширкнул мне по черепу. Больно мне не было. Было радостно и удивительно – неужели?
Пацан отложил инструмент в сторону и достал немецкий штык-нож. Интересно, где он его взял? На той стороне подобрал? Не похоже, вроде… Блестит, как новенький. Не то, что мой, от трехлинейки. Тот, после последней моей атаки, так и заржавел, нечищеный.
По косточке он начал поднимать меня, а я пытался подсказать ему, где, что лежит. Конечно, мне все равно – подумаешь, зуб тут останется, или там палец, но как-то не хотелось часть себя оставлять.
Ну не хотелось…
Жалко медальон осколком разбило. Хоть бы весточку моим передали, где я да что я. Впрочем, вряд ли бы она дошла. Брату, сейчас наверно уже лет 70… Где он сейчас? Жив ли? Или ждет меня уже там? Ну а Ленка точно не дождалась. И правильно сделала.
Эй, эй! Парень! Куда глину кидаешь? Это ж сердце мое, пусть и бывшее! Не услышал.
Хотя сердце тогда в лохмотья разорвало.
Когда мы бежали по полю, к дороге, земля в крови, кровь на сапогах, тогда и шмальнуло. Я сразу и не понял, пробежал еще метров сто, траншея с фрицами приближалась, хочу прыгнуть уже, смотрю, а винтовки нет, и граната из руки будто выпала…
Оглянулся, а тело мое лежит, голова вдрызг, грудь разворочена и только ноги в ботинках еще дергаются.
Сейчас даже смешно. А тогда страшно было. И чего делать – не знаю. Упал, пополз обратно, пытаюсь винтовку схватить, а не могу. И мычу, мычу…
Мне б, дураку, «Отче наш» вспомнить… А как его вспомнить, если я его и не знал никогда? Комсомольцам религиозный опиум ни к чему. Это мне еще отец объяснил, когда колокола с церкви сбрасывали и крест роняли.
А наши немцев из траншеи тогда все-таки выбили. Покрошили не мало, но и нас полегло – почти весь батальон.
Потом половину оставшихся собрали, и они ушли над лесом на восход.
Как были – с пробитыми касками, в бинтах, оторванными ногами – они шагали над землей. Красиво шли. Молча. Не оглядываясь.
А мы остались.
А парень нашел осколки медальона и матюгнулся так, что с рябинки над ним листочки посыпались. От расстройства снова закурил, разглядывая находку.
И тут подошел второй. Первый молча протянул ему остатки медальона.
Второй только вздохнул: «Эх, блин, еще один неопознанный»
Первый молча кивнул, докурил и снова спустился ко мне.
Да ладно вам, ребята, хотелось мне сказать, не переживайте. Я без вести пропавший, обычный солдат. Таких, как я, много. Только подо мной в воронке еще 10 наших. Из нашего взвода. И все неопознанные рядовые. У кого потерялся медальон, у кого записка сгнила, а кто и просто не заполнил бумажку. Мол, если заполнишь – убьет. А войне по хрену на суеверия. Она убивает, не взирая на документы, ордена, звания и возраст.
Вон рядом совсем, сестричку с нашим лейтенантом накрыло одной миной. Она его раненного уже вытаскивала с нейтралки. У комвзвода, кстати, медальон есть. Я точно знаю.
Мужики! Найдите их! Вместе мы тут воевали, потом лежали вместе. Хотелось бы и после не расставаться.
Так думал я, когда наше отделение пацаны в грязных камуфляжах тащили в мешках к машине.
Так думал я, когда нас привезли на кладбище, в простых сосновых гробах – по одному на троих.
Так думал я, когда нас тут встретили ребята с братских могил. В строю, как полагается.
Так думаю я и сейчас, уже после того, как мы ушли над лесом на восток.
И оглядываясь назад, я прошу – мужики! Найдите тех, кто еще остался!
Глава 1 Снаряд
По краю воронок – березок столбы.
По краю воронок – грибы, да грибы.
Автобус провоет за чахлым леском,
Туман над Невою, как в сердце ком.
А кто здесь с войны сыроежкой пророс?
Так это ж пехота, никак не матрос.
Матрос от снаряда имел поцелуй
И вырос в отдельно стоящий валуй.
Ю. Визбор «По краю воронок»– Есть!
Невысокого роста, слегка рыжеватый парень в камуфляже тыкал щупом в кочку.
– Чего у тебя, Захар, там есть? Кость? – отозвался копающийся рядом второй.
– Не… Металл. Хрень какая-то. Большая. Лех, глянь-ка. – Не убирая щупа с большой кочки, Захар приглашающе махнул.
Тот взял лопатку, воткнул в землю нож, встал с четверенек и подошел к Валерке. Двумя взмахами смахнул слой листвы вокруг и взялся за щуп. Потыкав им вокруг кочки, сказал:
– Минак у кого?
– Леонидыч! – заорал Захар. Крик по безмолвному, еще голому апрельскому лесу прокатился несколько раз. – Леонидыч!
– Да не ори ты, – поморщился Лешка. – Если он в пищалке, хрен чего услышит. Кстати, вон он! – и показал лопаткой на другую сторону оврага. – В кустах шарится.
Леонидыч, командир поискового отряда «Возвращение», крепкий, плотно сбитый мужик 52 лет, майор запаса, действительно был в наушниках. Индукционный металлоискатель и впрямь порой оглушал так, что после шести часов работы с ним свист в ушах продолжался до следующего утра. Поэтому опытные поисковики обычно с ним не работали, полагаясь на опыт, нюх и интуицию.
Однако сегодня все были загружены своей работой. Захар и Лешка шли по краю оврага по траншее, девчонки, Рита с Маринкой, подымали верхового лейтенантика, которого еще вчера нашел Толик, совсем недалеко от лагеря. Остальные мужики – Виталик, Вини и Юра пошли в дальнюю разведку к озеру, искать захоронку десантников. Ёж сидел в лагере дежурным, замученный медвежьей болезнью, случившейся с ним ни с того ни с сего.
– Леонидыч! – Рявкнул снова Захар. Тот продолжал игнорировать, стоя к ним спиной.
– Может кинуть в него чем? – флегматично предложил Лешка, наблюдая, как афганка исчезает в кустах.
– Лопаткой? – предположил Захар.
– Или щупом?
– В задницу, по самые гланды! – хором закончили оба любимой присказкой командира. Которую он, впрочем, при девчонках не высказывал.
Лезть в овраг никак не хотелось. Глина была мокрая, снег сошел совсем недавно, карабкаться по грязи было лень. Лешка уже собрался прыгать, но именно в этот момент Леонидыч оглянулся.
Ребята замахали ему, тот снял, наконец, наушники.
– Леонидыч, иди сюда! Хрень нашли какую-то!
Тот молча кивнул в ответ и скрылся в лесу.
– Куда это он? – Оторопело спросил Захар.
– В обход, наверное. – Пожал плечами Лешка. – Покурим?
Они уселись около березы и вкусно задымили. «Примой». Почему-то другие сигареты в лесу не курились.
Огонек уже обжигал пальцы, когда командир, наконец, вышел из кустов по эту сторону оврага.
– Чего звали? Чего хотели? – бодро сказал он, скидывая минак и рюкзак на землю.
Захар встал на колени около кочки.
– Леонидыч, посмотри, чего за ерунда тут? – Он потыкал щупом в кочку и вокруг нее. Везде был явственно слышен металлический звук.
– Сейчас… – Тот вытащил свою финку и начал квадратами снимать дерн. Земля была явного рыжего цвета. Леонидыч долго возился, но постепенно стал вырисовываться контур огромной остроугольной болванки.
– Снаряд. Гаубица. Похоже наш. – Выпрямившись, он вытер нож о штанину.
– Вот это дура… – почему-то шепотом сказал Лешка.
Снаряд длиной около полутора метров, словно древний крокодил выглядывал из земли.
– Похоже наш. Триста пять миллиметров. – Охлопал ладони Леонидыч.
– Через ствол прошел? – спросил Алексей?
– А кто его знает. – Меланхолично ответил командир. – Не смотрел. Но, скорее всего, прошел. Здесь позиции немцев были, значит, гаубицы такого типа стояли километрах в тридцати отсюда. За Михайловкой как раз. Немцы ее так и не взяли. Лупили по Ивантеевке, скорее всего. Там, в сорок втором, штаб второго армейского корпуса был у гансов.
– А здесь то почему снаряд? – спросил Захар, с уважением разглядывая ржавого поросенка. – Тут с километр же еще до Ивантеевского урочища.
– Недолет… – ответил командир. – Ладно. Воткните тут пару веток с бинтами. Вечером вернемся, бахать будем.
– Как ее бахнешь-то? – удивился Захар. – Тут такой кострище надо разводить.
– А мы с берега оврага подкопаем, внизу нодью разведем, снаряд туда съедет оползнем, сверху еще пару бревен быстро бросим. Полчаса как минимум прогреваться будет. Уйдем за тот пригорок, – он показал в сторону бывшей Ивантеевки. – В мертвой зоне осколки не достанут. Да и вряд ли разброс большой пойдет.
– А может, ну его на хрен, эту балерину? – засомневался Алексей. – Оставим как есть. Вызовем саперов из Демянска, они приедут и взорвут на месте. По медали, заодно заработают.
– Нет в Демянске саперов. Если и поедут, то из Новгорода. Но поедут вряд ли. Места тут глухие, людей нет. А если и приедут, то взрывать не будут. На рыбалку пустят. Тут же на озере и отдохнут. Да и когда они сообразят? А тут, смотри, «черные» тоже, смотри, бродят. В этой дуре центнер живого веса. А тротила не помню сколько. Минимум половина. Так что сегодня вечером взорвем. Нодью умеете делать?
– Ну… Как бы тебе, Леонидыч, сказать… Не пробовал. Может и умею.
– Понятно… А ты, Захарыч?
Тот пожал в ответ плечами.
– Значит так… Срубите шесть сухостоин потолще. На дальней стенке оврага одну разведем, на этой другую. Тут и там, ага, – показал он щупом места. – Положите два бревна на том берегу и повбивайте колышки вдоль бревен. Чтобы не разъезжались. Сверху на два третье бросьте. Чтобы как бы пирамидка получилась. Только прежде чем бревна туда складывать, сделайте из хвороста заготовки для маленьких костров внутри. А бревна понадрубайте с надотколом щепы.
– Понятно?
Парни переглянулись:
– Ну, как тебе сказать, командир? А зачем эта… Байда?
– Нодья. Сильный жар она во все стороны дает, особенно если поджечь бревна одновременно по всей длине. Как раз это и требуется.
– Леонидыч! У нас и топора то нет! – развел руками Лешка.
– Студенты… – матерно вздохнул тот. – Пошли.
Они отошли чуть в сторону и командир, уперевшись прочно в землю, тут же руками свалил древнюю сухую сосенку-недоростка. Корнями та выворотила кусок колючей проволоки и шумно рухнула на землю.
– Учитесь, бойцы, пока я жив! Валите еще. Потом подтаскивайте к оврагу. Я сам уж там сделаю, все что надо…
…Уже через полчаса все было готово. Бревна были свалены и уложены, костры готовы, оставалось только подкопать берег оврага и можно взрывать.
– Ну, пошли! – Командир критически осмотрел дело своих рук, Лешка и Валерка были только «подай-принеси» – Поужинаем, все соберутся и вернемся.
И они, собрав инструменты, отправились через пригорок в сторону бывшей деревни Ивантеевки, где стояли лагерем около позаброшенного немецкого кладбища.
– Слышь, Леонидыч! – спросил Захар, когда они вышли на просеку. – Я вот понять не могу, а чего их не хоронили-то? Немцы своих хоронили, а наши нет… Ну ладно, понимаю, когда отступали. Некогда было. А когда наступали – тоже некогда? А тут вообще – позиционная была. Могли бы и по человечески…
– Не знаю я, Захарыч. – Вздохнул в ответ командир. – Знаю вот только то, что после войны некому было. Города разрушены, деревни сожжены. Ты сюда в кузове «Урала» ехал? Я в кабине двенадцать бывших деревень насчитал только вдоль дороги. А в прошлом году мы под Чудово работали, на Лезнинском плацдарме. Там, где батальон капитана Ерастова полег. Слышал?
– Ага, Юра рассказывал. – Кивнул Захар.
– Это где двое в живых осталось? – спросил Лешка.
– Да, лейтенант, переплывший Волхов с ранением в челюсть и боец, которого через сутки на берегу подобрали. Так вот, когда Чудово освободили в сорок четвертом, во всем поселке осталось в живых около пятисот человек. А до войны было десять тысяч. Ну и кому убирать, если одни бабы, старики да дети, которым даже жить то негде было. Подвалы. А на улицах немцы, наши… Тысячами. В школе просто из окон выбрасывали и тут же в асфальт закатывали всех подряд. Дети так в баскетбол на костях и играют. Единственное здание, которое там уцелело – дом-музей Некрасова. Тетка-экскурсовод с такой гордостью сказала, как будто лично гансов на порог не пускала. Дура. Потом повела нас, после осмотра его спальни, во двор. К могилке его любимой собачки. Жену он на охоту взял в первый раз, она сослепу ли, с хитрости ли ее и пристрелила. Чтобы не шатался там по лесам, пока она дома сидит. Впрочем, это его не остановило. Ушел в депрессию, написал пару стихов трогательных, собачку похоронил, и камушек ей поставил. Гранитный. Пока горевал, жена ему рога ставила с его же другом. Но не суть, в общем, привели нас к этой могилке и тетка напыщенно так, глаза в небо вперла и говорит с придыханием: «Постоим же молча у могилы лучшего друга великого поэта Николая… Алексеевича… Некрасова…» А у нас это уже третья минута молчания за день. Но от неожиданности все заткнулись…
– И чем дело кончилось?
– А ничем особенным. Виталик воздух испортил громко, и у всех просто истерика ржачная случилась. У бабы тоже. Только не смеялась она. Пятнами пошла. И как давай орать! Что именно орала не помню, но, типа, впервые видит таких бескультурных ублюдков, которым недорога память о России.
– Так и сказала? – засмеялся Захар.
– Насчет ублюдков не уверен. Возможно, уродами. – Улыбнулся Леонидыч. – Однако пришли!
У костра стоял, с поварешкой наперевес, Ёж. С лица его уже сошла зелена, но он зачем-то стал прихрамывать, когда пошел навстречу мужикам.
– Ёж, ну чего опять случилось? – с тяжело скрываемым смехом спросил Захар.
– Толик, блин, мне кипятка в болотник налил, ссссс… нехороший человек! – погрозил Ёж Толику поварешкой. – Без супа останешься! Понял?
Большой, склонный к полноте, добродушный Толя Бессонов быстро покраснел и развел руками:
– Да я, блин, дрова ему помогал колоть, когда вернулся. А то этот… по кустам бегает все время, не успевает. Ну, рубанул, от чурки щепа откололась и прямиком в костер по дуге. И главное, кувыркается. А я еще подумал, лишь бы Ежу не в живот. И так болеет.
– Не пи… ври! Ты, вот точно так и подумал! – подпрыгнул на одной ноге возмущенный Ёж, больше похожий на всклокоченного молодого петуха, прыгающего издалека на большого добродушного сенбернара.
«Сенбернар» Толик продолжил:
– А щепа раз – и по ведру попала. А Ёж как раз на кой-то черт наклонился около ведра…
– Я костер поправлял, чтоб горел лучше! – заорал тот в ответ.
– …Кипяток плеснул – не обращал на него внимания Толик – И прямо в болотник ему. А беда то в чем… Сапоги расправлены были. Он орет, валяется, а я понять еще не успел в чем дело. Ну, бегу, снимаю с него сапог…
– Толик, Можно я продолжу? – из палатки выбралась Маринка, – Подходим мы с Ритой, мужика в мешке несем, и тут смотрим – картина. Валяется, значит, Ёж на спине, орёт благим матом, а Толик с него в скоростном режиме штаны снимает…
Минут пять над поляной висел истеричный смех. При этом Толик пытался чего-то сказать, но все его попытки вызывали еще более дикий хохот. Ёж в ответ все махал поварешкой на длинной деревянной ручке, пока не попал сам себе по затылку.
– Блин, – отсмеявшись, сказал командир – Чем дело то кончилось?
– Да нормально все! – Воскликнул Ёж. – Пятку чуть обжег и все.
– Да, Ежина, вот и пойми, везучий ты или нет… – утирая слезы, сказал Леха. – Если тебе гранату в руки дать, то она наверняка взорвется минут через пять. Но ты сам цел останешься, только палец ушибешь.
– Типун тебе на язык! – отбрехнулся тот. – Давайте уже жрать, я суп сварил и макароны с тушенкой. Только мне сначала обезболивающее надо, противовоспалительное и общеукрепляющее.
– Поедим сейчас, а общеукрепляющее, когда мужики с озера вернутся. Кстати, Рита где?
– Умываться до воронки пошла.
Ближайшую воронку от тонной бомбы они проверили в первый же день. Не было там ни останков, ни железа, поэтому оттуда и брали воду на еду, там и умывались.
– Тут я, командир. – Вышла из сумерек Рита. – Ежу не наливай. Я ему уже налила после утех с Толиком.
– Чего ты мне налила? Там было-то двадцать грамм всего. – Возмутился Ёж.
– Не двадцать, а пятьдесят! – строго посмотрела на него Рита, высокая статная шатенка, бывшая штатным медиком и фотографом отряда.
– Тридцать грамм туда, тридцать грамм сюда… – забурчал «раненый».
– Верещал тут как недорезанный, право слово! – не обращая внимания на Ежа, продолжала она.
– Недоваренный, скорее! – хихикнул Лешка, с наслаждением снимая сапоги.
Вставать, куда-то идти не хотелось. Ноги его гудели, ровно два телефонных столба в сильный ветер.
Густо и быстро темнело. Все молча хлебали гороховый суп с незаметными в крапинками мяса, время от времени передавая друг другу, то кусочек хлеба, то горчицу.
Когда дежурный стал накладывать склизкие макароны с тушенкой, из черноты вышли трое оставшихся членов отряда.
С грохотом свалив лопаты и щупы, но, аккуратно поставив миноискатель под тент, они плюхнулись на бревна, лежащие скамейками вокруг тента.
– Ну что, командир – не нашли там ни хе… Ой, простите девочки! – Ничего! – устало, дыша, сказал Виталик Комлев, здоровый битюг под два метра ростом.
Лешка Винокуров, доходящий ему ростом до подмышки, но не уступающий, пожалуй, в массе, солидно кивнул:
– Лошадь только. Но в сбруе. Так что, может, есть кто рядом.
– Там вроде как красноармейский кавкорпус отходил вдоль озера в сорок первом. Они, наверное. – Задумчиво Леонидыч. – Павлов говорил.
– Какой Павлов? – вскинул голову от тарелки Ёж.
– Командир демянского отряда. Собака которого у тебя сало сожрала.
– Аааа… У нас замдекана Павлов. Вот чего-то попутал. А этого кобеля я еще пристрелю. Из «Вальтера». Найду пистолет и пристрелю обязательно.
– Ёж, у замдекана Петров фамилия, к концу первого курса пора и запомнить! – поправил его невидимый за темнотой Захар.
– С-скорее всего, д-да, кавалеристы. – Чуть заикаясь, ответил Юра Семенов. – Железа – море. Гранаты, винтовки, патроны, к-каски. Останков нет.
– Но там есть пара ямочек приметных, похоже на захоронки. Завтра проверить надо. Глубинный щуп возьмем и потыкаем. Ага, спасибо, Марин! – поблагодарил Саша девчонку, передавшую ему тарелку с супом.
– Понятно. У вас девочки как? Бойца добрали?
– Добрали. Медальона, к сожалению, нет. Личных вещей тоже. Ремень, подсумок с патронами, лопатка. Да, в обмотках. Один кубарь, который вчера Толик нашел и все.
– Да, жалко… Толик у тебя?
– Голяк, командир. Железа много, а зацепиться не получилось.
– У нас тоже пусто. Значит, пять дней, пять бойцов, ни одного медальона. Не густо. Правда, мужики отличились под вечер. Похоже гаубичный снаряд триста пять миллиметров.
– Фига себе? Где? – Встрепенулся Юрка, неравнодушный ко всяким железякам и прочим экспонатам.
– За пригорком, на той стороне оврага.
– Слушай, погоди, а как она оказалась то здесь? Это же такая дура! Сорок пять тонн! На гусеничном ходу! Снаряд только три центнера.
– Сколько? – удивился, обычно бесстрастный, командир. – Чего-то мне показалось центнер.
– Может ста пятидесяти двух миллиметровая гаубица? Она все-таки при прорывах применялась из Резерва Главного Командования. Триста пять-то откуда?
– Юр, там свинья метра полтора длиной. – Захар наглядно показал длину снаряда.
– Ну, так что? Надо бахнуть! – важно сказал Вини. – Когда еще такое бахнуть придется?
– Ага, только надо еще перед дорогой бахнуть другого чего-нибудь. – Вставил Виталик.
– Эх, в музей бы поисковый такую… – глаза Юры Семенова горели огнем филателиста, узревшего редкостную марку в чужих руках.
Рита испуганно оглядела лица мужиков, багрово светящихся отблеском костра.
– Да вы чего, обалдели? Оно же тут на воздух подымет все, вместе с нами и Демянском в придачу?
– Рита! Без паники! Лежать ей тут нельзя. Летом пожары бывают, да и мало ли кто вскрывать полезет.
– Какие нафиг пожары? – вскипятилась она. – Сколько лет лежала не взорвалась, а тут они мир решили спасти, видите ли!
– Рита! Все нормально, все под контролем! – Попытался ее успокоить Андрейка Ежов. – Там же командир был. Все посмотрел, все видел, все рассчитал!
– Ёж! Ты бы молчал бы… – Резко развернулась она к парню. – Ты же блин вместе с этим снарядом на сосну взлетишь без штанов!
– Как влезу, так и слезу. – Не удержался он, но все же буркнул под нос себе. – Подумаешь, штаны…
– В общем так. Идут желающие. Там дел немного. – Не обращая внимания на Риту и тихие смешки поисковиков, сказал Леонидыч. – Быстро разжигаем костер, быстро валим снаряд в овраг и бегом обратно. Тут два километра. По темноте пробежим минут за десять-пятнадцать. Пока он прогреется, пока высохнет – уже вернемся, и спать ляжем. Кто идет?
– Так чего, все, наверное… – приподнялся Лешка Винокуров. – Я вот посмотреть хочу.
Рита обессилено села на бревно.
Мужики засобирались все.
Но Леонидыч остановил их.
– Погодите, девочки тут останутся. Кто-то с ними еще. Еж, как везунчик и больной… И?
– Ну чего… Чуть что – сразу Ёж! – Плюнул Андрейка с досады и попал себе в кружку с чаем.
– Можно я еще останусь? – поднял руку Лешка. – Не хочется бегать туда-сюда.
– Ага… И Иванцов остается. Через пять минут выходим.
– Пять минууут, пять минууут… Это много или мало? – запел Еж.
– А я вот все думаю… – внезапно сказал Толик, ворочая угли палкой. – Интересно, а как бы мы себя повели, если бы там оказались?
Риту передернуло:
– Я бы забилась куда-нибудь за печку и до конца войны не вылазила.
– Нет, а если серьезно посмотреть?
– Я б в разведку пошел!
– Т-тебя б-бы, Еж, не взяли.
– Это еще почему, Тимофеич.
– Шумный слишком, – засмеялся Виталик.
– Толика бы в артиллерию взяли! – сказал Вини. – Он здоровый, как раз ему снаряды ворочать.
– А тебя? Ты ж лейтенантом запаса будешь после военной кафедры? – спросила Маринка.
– Ну, вот лейтенантом бы и сунули в пехоту. А Виталика в десантуру и сюда – в Демянск.
– Это ты хочешь меня тут голодом заморить что ли? Хренушки!
– А ты ешь мало и без мяса, тебе как раз.
Виталик действительно мясо не ел. Вообще. Ни в каком виде. И яйца не ел. Зато майонез мог ведрами жрать. Странно…
– Леонидыч, а ты куда бы?
Особо не разговорчивый, тот только пожал плечами.
– В авиацию, куда еще-то… – сказал Захар.
– Был бы я помоложе – да. А так-то максимум в БАО.
– БАО? Что это? – переспросила Маринка.
– Батальон аэродромного обслуживания. Дерьмо бочками возить. Извините за мой джентльменский!
– Не, хеер майор. Это вряд ли, – сказал Еж. – Уж очень ты ценный кадр, чтобы такого терять.
– Т-точно. В н-ночной п-полк. На «уточке» немцев г-гонять
Леонидыч улыбнулся и промолчал.
– А девчонок в медсанбат. Пусть нас, раненых героев, вытаскивают и лечат.
– Я тебя, Еж, вытаскивать не буду, – сказала Рита. – Пусть тебя немцы в плен заберут, ты им мозги так высушишь, что они бросят свои «шмайсеры» и, злобно бормоча проклятия, разойдутся по домам.
Еж засмеялся довольный:
– Договорились. А Маринку в школу радисток, чтобы потом в тыл врагам забросить. Пусть диверсии делает.
– Не, не, не! Не хочу я в тыл к немцам!
– А тебя никто и не спросит. Так, кто следующий?
– Я, – сказал Захар. – Меня, значит, в пехоту заберут. Я первым делом захвачу цистерну с германским антифризом. Нажрусь в хлам и какому-нибудь политруку морду разобью. Ну, меня сразу в штрафбат и все такое.
– Тоже судьба. Тимофеич, а тебя оружейных дел мастером. Пулеметы-минометы чинить.
– С-согласен. – улыбнулся довольный Юра. Чего-чего, а железяки он очень любил, таща из болот всякую редкую вещь. В этот раз нашел ампуломет. Правда, пробитый осколками в нескольких местах, но это только повышало ценность уникального экспоната. Улюлюкал на все болото, когда тащил его в лагерь.
– А мне вот что интересно… – задумчиво сказал Вини. – Смогли бы мы с нашими знаниями сегодняшними, историю повернуть?
– Это как? Чтобы немцы выиграли что ли?
– Нет. Чтобы победу ускорить? Чтобы война закончилась не в сорок пятом, а, хотя бы в, сорок четвертом?
– Ну, ты хватанул… – протянул Леонидыч, качая головой.
– А чего я такого сказал? Вот есть же ключевые точки войны? Хорошо, про двадцать второе июня говорить не будем… Нам бы все равно не поверили. Таких предупреждений было – с первого мая и почти каждый день. А во время самой войны? Поворот Гудериана на юг и Киевский котел? Если бы информация попала к нашим вовремя? Как бы все повернулось?
– Это, Леш, тебе надо до товарища Сталина добраться было бы. А как?
– Можно над этим подумать…
Виталя почесал щетинистый подбородок:
– Шлепнули бы тебя особисты на первом допросе. Или в дурку отправили бы. Сразу после заявления – я, мол, из будущего, здрасте…
– Вот если бы у тебя ноут был бы, мобила, часы электронные, еще чего-нибудь – можно было бы доказать, – сказала Маринка.
– С ноутом и дурак сможет. Ну ладно, не дурак. А мне интересно, вот если бы своими силами без всяких девайсов. А? – идея захватила Винокурова.
– Вини… Ты же историк… П-помнишь, как операция «Б-блау» начиналась?
– Удар Клейста во фланг группе Тимошенко? Вот тоже вариант…
– Там за несколько д-дней самолет немецкий ориентировку п-потерял и сел на наш аэродром. А в самолете – полковник и у него п-портфель с документами. По операции. Д-дезинформация. Так решили. Ждали удара на Москву.
– Хорошо. Моя информация подтвердилась бы. А значит дальше стали бы мне доверять.
– Не ф-факт…
И мужики заспорили – можно или нельзя изменить историю?
– Лех, – обратился ко мне замолчавший Еж. – А ты чего молчишь?
– М?
– А ты бы кем стал?
Иванцов пожал плечами:
– Не знаю. Может Героем Советского Союза. А может быть в плен бы попал и в каком-нибудь лагере сгнил бы. А может быть в полицаи бы пошел. Одно точно знаю. Вряд ли бы кто-то из нас в живых остался.
И только треск костра в ответ…
– Так… Все мужики, выходим, – прервал молчание Леонидыч. – Фантазии фантазиями, а время не ждет. Завтра опять в бой.
Лагерь засуетился, забегал… Кто-то, чертыхаясь, надевал потные, не высохшие носки, кто-то доедал макароны, кто-то, не торопясь, покуривал табачок.
И через пять минут лагерь опустел.
Повисла какая-то тяжелая, но в то же время опустошающая и облегчающая тишина. Тишина, от которой звенит в ушах.
Первым, естественно, не выдержал Ёж.
– Лех, сыграй чего-нибудь?
– Не могу. – Соврал тот в ответ. – Палец чего-то выбил, когда корни рубил.
– Рит, тогда ты?
Рита молча развернулась и ушла в палатку, ровно в какое-то убежище.
– Ну, блин, – ругнулся Ёж. – Марин, может ты?
– Андрюша, – ласково улыбаясь ответила ему Маринка, – я уже сто тысяч лет на гитаре не играла.
Ёж скорчил недовольную физиономию:
– Ну, тогда я буду болеть! – воскликнул он и надуто отвернулся вполоборота к костру.
И в этот момент, южный небосвод озарила вспышка, а через секунду ударил мощный гром. Лешка подпрыгнул на бревне вместе с землей.
– Мля… – только и успел он сказать, как по стволам деревьев, с непередаваемо противным звуком, гулко ударили осколки. Несколько железяк, брошенных тротилом, взбили прошлогоднюю листву совсем-совсем рядом от костра.
Из палатки выскочила Рита:
– Слушайте, прошло-то минут пятнадцать, после того как они ушли.
Ребята стояли и неотрывно вглядывались в темноту, будто что-то могли разглядеть там.
– Чего стоим? Побежали! – Она вытащила за собой медицинскую сумку со всем набором поисковой зеленки да бинтов, дрожащими руками натянула сапоги и бросилась в ночь.
На секунду позже за ней побежали и остальные.
Отбежав несколько метров от костра, Алексей вдруг обнаружил, что побежал босиком. Пока вернулся, пока натягивал сырки и сапоги, ребята уже умчались в темноту.
– Эй! – заорал он вслед. – Вы где?
Но ответом была тишина, тогда он снова помчался в сторону взрыва.
Бежать было тяжело, непросохшая апрельская земля разъезжалась под ногами. Да и кочки то и дело цепляли ноги. Несколько раз он спотыкался, но удерживался, пока не зацепился обо что-то податливо мягкое. И плашмя врезался в глину.
«Твою кочерыжку…» – подумал он, но не успел подняться, как получил сильнейший удар по голове. И потерял сознание.
Глава 2 Первый пошел!
Предательство, предательство,
Предательство, предательство, -
Души не заживающий ожог
Рыдать устал, рыдать устал,
Рыдать устал, рыдать устал,
Рыдать устал над мертвыми рожок
Зовет за тридевять земель
Трубы серебряная трель
И лошади несутся по стерне
На что тебе святая цель,
Когда пробитая шинель
От выстрела дымится на спине?
А. Городницкий. «Предательство»Очнулся он уже днем. Лицо нещадно кололо трухлявое серое сено. Голова болела? Нет, голова раскалывалась как спелый арбуз. С трудом Лешка перевернулся на спину. Очки, как ни странно, были на месте, только оправа вся изогнулась. Постепенно размытое серое небо сфокусировалось и превратилось в крышу сарая. С трудом он перевернулся еще раз и встал на четвереньки. И его тут же вырвало остатками вчерашних макарон.
Пересилив себя, он подполз к стенке и, цепляясь за доски, встал. Несколько минут постоял так, а потом выглянул в щель между досок.
И едва опять не потерял сознание.
По двору ходили немцы.
Самые настоящие. В серых мундирах и касках, которые архетипами остались в подсознании, вколоченные советскими фильмами. Сломав забор, засунул задницу во двор полугусеничный бронетранспортер – Шютценпанцерваген. Кажется, так Юрка говорил.
И говорили фашисты на немецком. Чего-то реготали, над чем-то ржали. Двое курили на завалинке около дома.
Леха сполз по стенке, судорожно хлопая себя по карманам в поисках «Примы».
А хренанас! Сигарет не было. И зажигалки тоже. Стырили, суки арийские.
«Вот я приложился башкой-то» – подумал Лешка. – «Зрительно-слуховые галлюцинации в полном объеме. Впрочем, и тактильные тоже»
В этот момент во двор въехал мотоцикл, судя по звуку. Чихнул и развонялся бензиновым угаром. «И обонятельные еще…» – меланхолично добавил он сам себе.
Во дворе завопили чего-то, забегали туда-сюда.
Лешка привстал до щели. И точно, приехал какой-то сухопарый чувак. С витыми погонами, в фуражке с загнутой вверх тульей. Быстро пробежал в дом, махнув лениво открытой ладонью солдатам. Через минуту оттуда выскочил боец и вприпрыжку побежал к сараю.
«А вот и большой белый писец пришел…» – подумал Алексей.
Дверь, невыносимо скрипя, открылась.
– Raus hier, beweg dich! – немец уточнил свои слова, показав направление стволом карабина.
Лешка на всякий случай поднял руки за голову и вышел из сарая. С каждым шагом его колотило все больше и больше. На ступеньках крыльца вообще едва не упал. В сторону повело как пьяного.
Конвоир жестко, но аккуратно схватил его за шкирку, не дав свалиться. Странно, но гансы не обращали никакого внимания на пленного. Хотя в фильмах обычно показывали, что они должны непременно издеваться над пленным и ржать как дебилы последние.
А эти вели себя совершенно не так. Один чистил шомполом ствол карабина, другой чего-то писал, наверно письмо своей фройляйн, третий вообще дрых под телегой. Никто не играл на гармошке и не гонялся за курицами. Впрочем, может быть, они их уже давно сожрали?
При входе в комнату Лешка едва не хряпнулся о притолоку многострадальной головой.
– Nehmen Sie Platz! – вполне дружелюбно показал ему на табурет в центре комнаты упитанный офицер в расстегнутом кителе. Сам он сидел за большим круглым столом, а тот тощий, что приехал – стоял в углу, слегка справа за спиной.
– Данке шён! – кивнул осторожно Алексей и сел на табурет.
– Sprechen Sie Deutsch? – приподнял бровь сидящий.
– Я. Абер зер шлехт… Ин дер шуле Лере.
– Klar… – И тут в голосе офицера появился металл – Name, Dienstgrad, Truppengattung, Einheit?
– Эээ… Вас?
– Имья, звание, род фойск, фоенная част? – подал голос стоящий.
– Что? Кто? Я? Я не военнослужащий. Я гражданский, не солдат. – Лешка усердно замотал головой.
– Antworte auf die Frage!
– Отвечайт на фопрос!
– Алексей Иванцов. Только я же говорю, я не военнослужащий.
– Warum hast du dann Uniform an?? – уставился на него сидящий офицер.
– Тогда почьему ит. есть ф фоенный форма?
Тут Алексей замялся не зная, что и сказать. Как тут объяснить то, если сам ничего не понимаешь?
– Господин… эээ…
– Herr Hauptman!
– Хер гауптман… – Лешка внутренне ухмыльнулся – Я форму снял с убитого, потому что своя одежда вся уже изорвалась, а ходить-то надо в чем-то?
Стоящий офицер быстро переводил гауптману. Тот кивал, записывал и, почему-то, морщился.
– Was fur ein Toter? Dieses Muster gibts weder bei uns noch bei den Russen?
– С какого убьитого? Такой фоенной формы ньет ни у нас, ни у русских.
– Wie bist du hierher gelangt? Woher kommst du und wo willst du hin? Mit welchem Ziel?
– Как здьесь оказался? Куда и откуда шел? С какой целью?
– Живу я тут, герр гауптман, вернее не тут… Домой иду, в Демянск.
Немцы переглянулись.
– В Демянск? – переспросил длинный.
– Ну да, я там родился, потом родителей посадили и мы переехали в Вятку, потом меня призвали, но я сбежал, потому что не хотел воевать. Я этот… Свидетель Иеговы. Вот.
«Что я несу-то…» – с ужасом подумал Лешка.
– Von welchem Ermordetem? Es gibt keine solche Militarform weder bei uns noch bei den Russen.
– Послушай, Ифанцов, хватьит валять ваньку-встаньку. Нам не надо фрать. Это глюпо и бессмысльенно. С какого убьитого? Такой фоенной формы ньет ни у нас, ни у русских.
«Млять… Чего сказать-то ему?» – пронеслось в голове. И неожиданно выдал единственную фразу на немецком, которую произносил без ошибок.
– Geben sie mir bitte eine Zigaretten!
Немцы переглянулись.
Тощий достал из кармана… Лешкину «Приму» и пластиковую китайскую зажигалку. Не спеша вставил в мундштук, не спеша прикурил и, также не спеша, подошел к пленнику. Затем наклонился вплотную и выпустил в лицо струю дыма.
– У тьебя ньет документов, ти в чужой формье, also… если вьерить тьебе. В карманах нет ничьего кромье этого – он показал «Приму» и зажигалку. – Ты ильи мародьер ильи дивьерсант. В любом случае тебя ждет расстрьел. Verstehst du?
– Ф-ф-ферштеен. – кивнул Лешка.
Немец кивнул в ответ и отошел, так и не дав покурить. Но и сигаретой не ткнул.
– Имья, звание, род войск, военная част? – повторил он свой вопрос. Гауптман громко зевнул.
– Я… Я не помню… Контузия у меня. Не помню ничего. Честное слово.
– Schteit auf! – неожиданно рявкнул в ответ тощий.
Лешка привстал с табурета. Тощий снова подошел к нему и без замаха, коротким тычком пробил в солнечное сплетение. Дыхание мгновенно остановилось, в глазах потемнело от боли и Лешка согнулся буквой «Г». И тут же колено офицера въехало ему в нос.
Пленник упал назад, брызнув кровавым веером из разбитого носа и опрокинув табурет. Очки разломились по дужке, но, слава Богу, не разлетелись на осколки. А то бы остался без глаз, военнопленный студент…
– Der Schweinerne Dussel! – пробормотал немец, с явным огорчением разглядывая кровавое пятно на брюках. – Der regt mich auf……
Гауптман опять зевнул и подошел к окну.
Пока они чего-то там балакали, Лешка кое-как пытался восстановить дыхание. В конце концов, получилось, хотя явно сломанный нос этому не способствовал. Зажав нос рукавом куртки, он встал, сглатывая кровь.
– Жиф? Ничьего… скоро мы тьебя расстрьльяем, польшевистский фанатик.
– Г-г-господин…
– Feldpolizeikomissar.
«И у них комиссары есть?!» – мелькнула удивленная мысль, но тут же уступила место боли и страху.
– Г-господин ф-фелдьп-полицайкомиссар… Я с-скажу в-в-все… – гундосо заикаясь, произнес Лешка.
– Sietzen! – рявкнул тот в ответ.
Лешка, повинуясь приказу, поднял одной рукой табуретку и присел на нее с краюшка:
– Я и в-вправду не з-знаю как здесь оч-чутился. С-скажите, сегодня к-какое ч-число?
– Тридцатое апрьеля тысяча девятьсот сорок второго года.
– А я из т-тридцатого ап-преля д-две тысячи п-первого. Я из-з-з б-будущего…
Фельдполицай поморщился и вмазал Лешке еще раз. По уху. Этого хватило, чтобы тот вновь свалился на пол.
Потом фриц высунулся в окно и чего-то гавкнул. В избу влетели два дюжих солдата, схватили Лешку под мышки и потащили в сарай. По пути пересчитали им все ступеньки и пороги.
Только в сарае уже Лешка несколько оклемался. Хотелось пить, но вот есть почему-то не хотелось. А еще хотелось умыться. Кровавые сопли – вот только теперь он понял, что такое «кровавые сопли» – подсыхали и стягивали кожу. Стреляло в ухе, саднило в носу…
Но больше всего хотелось жить…
Как-нибудь, но жить.
Лешка свернулся калачиком на охапке сена, ровно в детстве и попытался задремать…
– Обычный сумасшедший, герр фельдсполицайкомиссар. Попал на фронт, первый раз под обстрел и тронулся умом.
– Не сомневаюсь, гауптман. Я был под Оршей, когда русские первый раз применили свои «органы». Тех кто, выжил в том аду, списали поголовно. Одного мне даже пришлось пристрелить. Он лежал в траншее, палил в небо из пулемета и орал «огненные черти, огненные черти!». Меня волнует другое… – фельдсполицайкомиссар не заметил, как передернуло толстячка гауптмана. – Меня волнует другое. Его форма. Эти сигареты и эта зажигалка. Видите наклейку на зажигалке? «Сделано в Китайской Народной Республике». Китайской??? Но Китай воюет с Японией… Им не до мелочей. Японский протекторат? Манчжурия? Или Шаньси? Или Синьцзянь? Там черт не только ногу сломает, в этих китайских государствах…. Похоже это японцы. Они, хотя и наши союзники, могут приторговывать с Советами по мелочам. Второго фронта на русском Дальнем Востоке, к сожалению, мы до сих пор не имеем. Далее… Сигареты «Прима. СССР» производства компании «ДЖ. Р. Рейнольдс Тобакко Компани. г. Санкт-Петербург» Американцы штампуют эти сигареты в забытой Богом Флориде и ленд-лизом поставляют русским. В эксклюзивном, экспортном исполнении.
– Почему во Флориде, герр…
– Давайте без чинов. Дитер Майер, к вашим услугам. – Щелкнул каблуками комиссар тайной полевой полиции.
– Хорошо, герр Майер. Рудольф Бреннер. Так причем же тут Флорида? – переспросил гауптман.
– Там у янки есть город. Санкт-Петербург. Один из центров табачной промышленности Юга, между прочим. Дразнят американцы Усатого. – Ухмыльнулся Майер. – Дразнят… Это как раз в духе янки. И только им в голову приходят эти идиотские слова – прима, экстра, королевский размер… И что в итоге мы имеем?
– Что? – не понял Бреннер.
– Японская зажигалка, американский табак, новая форма. Без знаков различия, к тому же… Русские перебрасывают сюда элитные свежие части с Дальнего Востока. Вот что это значит. Парень просто не умеет врать. Можно выбить из него все, что требуется. Но мы же, немцы, интеллигентные люди… Не так ли, Бреннер?
– Так точно, господин фельдсполицайкомиссар! – щелкнул каблуками гауптман и раздраженно подумал: «Ты-то конечно, интеллигент! Не-то что мы мясо окопное…»
– Да перестаньте, Бреннер, мы же договорились с вами…
Майер высунулся в окно:
– Эй, рядовой! Ко мне!
Рыжий немец, сидевший около бронетранспортера, подскочил и бросился к окну:
– Рядовой первого класса Эрих Грубер по вашему приказанию прибыл!
– Рядовой, бегом до местного старосты. Отряду вспомогательной полиции прибыть сюда через полчаса. Приказ понятен? Выполнять!
– Так точно, господин фельдсполицайкомиссар! – рявкнул рядовой, развернулся кругом и побежал за ворота.
– Как мне, Рудольф, надоели эти чинопочитания… – вздохнул Майер. – Хочется чего-то простого, домашнего, человеческого. А вам?
«Конечно» – мрачно подумал гауптман – «С тобой пообщайся по-родственному. Мигом дело заведут и в штрафбат загремишь, павлин расфуфыренный» Но вслух сказал совершенно другое:
– Может быть, отобедаем, герр Майер?
– С удовольствием. Только дайте приказ своим солдатам сопли этого большевика вытереть с пола.
Лешка очнулся от скрипа дверей. Он вздрогнул от предчувствия, но на этот раз пришли не за ним. В сарай влетел от могучего пинка долговязый красноармеец в натянутой до бровей пилотке и ржавой от грязи шинели.
– Вот, суки! – ругнулся он, когда дверь закрылась. – Чего пинаются? Гады…
Потом он перелез по сену к Лешке, улегся рядом и протянул руку.
– Здорово! Ты чьих будешь?
– Наших. – Буркнул Леха в ответ.
– Да вижу, что наших! – Засмеялся красноармеец в ответ. – Тебя как звать-то?
– А ты чего такой жизнерадостный? – Покосился на него Алексей.
– Вадик Зелянин! – вместо ответа протянул руку тот.
– Иванцов. Алексей!
– Слышь, Лех… – Вадик подвинулся поближе. – А ты как сюда-то попал?
– На летающей тарелке прилетел…
– Чего? На какой тарелке?
– Ничего. Сам не помню. Помню, что по полю шел. Ночью. Темно было, как у негра в заднице. Споткнулся. Упал в яму какую-то, а там чем-то по голове накрыли. Днем тут очнулся.
Вадик засмеялся.
– Ты что как кобыла? – разозлился Лешка. – Все ржешь и ржешь…
– Да так, выражение забавное, как у негра в заднице… Не слышал раньше. Агась!
– Дарю, – угрюмо ответил Алексей и осторожно потрогал нос. Кровь уже давно подсохла, но дышать было носом тяжело. – Слышь, Вадик, а у тебя покурить есть чего?
– Откуда… Фрицы все отобрали… – Печально вздохнул «сосарайник». – А меня оглушило. Очнулся – немцы кругом. От полка щепки. Триста двенадцатый стрелковый, двадцать шестая Сталинская дивизия, Первая ударная армия. Слышал?
– Северо-Западный?
– Агась. Под Рамушево бились. То наши надавят, то немцы… Траншеи из рук в руки переходили за день раза по два. А дна в траншеях нет. Кровь да трупы. Да… – Вадик на минуту замолчал, а потом продолжил. – Ну, меня и уволокли. А я сбежал. Агась. Деру на пересылке дал. Лопухнулись фрицы. До вологодских им далече…
Он покрутил головой и хекнул.
– А я то родом из Старой Руссы. Вот туда и пошел.
– Фига себе. А сюда-то как попал?
– Так я это… Неделю у солдатки отлеживался. Вроде затихло, ну я и отправился в путь-дорогу. Нарвался, блин масленичный, на полицаев… Вечером отправят по этапу – в деда, в душу, в мать…
– А меня расстрелять собираются…
– Да ты чего? За что?
– Рожей не вышел.
Вадик хихикнул:
– То-то они тебе нос поправили. А чего за форма такая у тебя? Не видал ни разу.
– Опытные образцы ввели. – Покосился на него Лешка. – А я ночью до ветра пошел. Ну и блуданул малость. Вляпался к фрицам в дозор.
– А ты не из десантуры? Тут, говорят, немцам в котел две бригады закидывали комиссары…
– Да какая десантура… Их же вроде в феврале закинули. А к апрелю вроде как кончили уже. – Сказал Лешка, а сам подумал, что под свитером-то тельняшка…
– Да не… Шарахаются еще где-то, – равнодушно сказал Вадик. – Остатки. Фанатики, блин. Ни еды, ни оружия. А все по болотам бегают. Главное толку от них никакого. Сдохли только без дела…
– Странно ты как-то говоришь… – Лешка искоса посмотрел на Вадика.
– А что тут странного? Уж не знаю, что лучше. По болотам без оружия голодным и раздетым бегать или немцам в плен сдаться. Из плена и бежать можно. А тут куда? Или свои или немцы шлепнут. Немцы дюже десантников не любят. Агась.
– А свои-то за что?
– Знамо дело… – пожал Вадик плечами. – За невыполнение приказа и дезертирство. Они тут должны были двумя бригадами весь котел немецкий в плен взять. А немцев тута тысяч семьдесят. Во как.
– Делааа…
– Лех, слышь чего скажу… У меня папироса есть немецкая. Одна. Заныкал от вертухаев фрицевских. И спички в ботинке. Давай-ка курнем!
– Давай! – обрадовался Лешка. – А ну немцы унюхают?
– А… – Махнул собеседник рукой. – Фингалом больше, фингалом меньше. Подумаешь.
– А давай!
Соблазн, втянуть хотя бы каплю никотина, был больше, чем очередной удар прикладом.
Они устроились в углу сарая и, накрывшись шинелью Вадика, стали по очереди тягать цигарку.
В голове поплыло, по рукам и ногам побежали приятные мурашки…
– Где, говоришь, служил то?
Не задумываясь, Лешка ответил первое, что пришло в голову.
– Триста двадцать вторая стрелковая. Восемьдесят шестой полк. Рядовой.
– Вроде не было тут триста двенадцатой?
– А перекинули недавно. Я вообще первый день на фронте.
– Понятен. Ну, сиди пока.
Тут Вадик откинул шинель, подошел к двери и пнул несколько раз.
– Открывайте, песьи дети! Расколол я его.
Дверь открылась. На пороге стояло три бойца в красноармейских ватниках, с трехлинейками, но без петлиц и белыми повязками на правых руках.
«Полицаи!» – понял Лешка.
– Ну, чего, тезка? Будем знакомы сызнова? – ухмыляясь, сказал «Вадик». – Олексий Глушков, начальник Ивантеевского волостного отряда шютцполицай.
Леха молчал. А что тут скажешь? Он встал, заложив руки за спину.
– Выходи, тезка. Сейчас тебе шиссен делать будем.
Делать нечего. Леха вышел под небо, висящее такой же свинцовой тяжестью над бестолковым миром.
Двое полицаев оттащили его к стенке, а начальник Глушков что-то пояснял фельдсполицкомиссару. Тот уже успел сменить штаны, и стоял безукоризненно чистый в этой грязище.
Потом они подошли к Иванцову.
Немец долго разглядывал опухшее лицо Алексея, а потом сказал:
– У тьебя есть два варианта. Льибо ти умираешь сейтчас, льибо ти жьивешь сейтчас. Что ты виберешь?
Леха молчал. На дурацкий вопрос можно дать только дурацкий ответ. Но такого ответа не было в пустой звенящей голове.
– Молчьишь?
Потом он развернулся и резко бросил, ровно выстрелил:
– Erschiessen.
Рядовые немцы наблюдали молча за происходящим.
Глушков взял винтовку, передернул затвор и спросил:
– Тезка, а ты родом-то откуда?
– Вятка, – Приглушенно сказал Иванцов.
– Молись, коли верующий! И глаза-то закрой. Легче будет.
Леха закрыл глаза. До сих пор ему все это казалось бредом каким-то, сном, фантастикой. А тут вот она правда-то… Несколько секунд – и тебя нет. А смерть вот она. Из глаз полицая смотрит. Пулей дотянется сейчас и все…
Конец…
– НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ!
Леха свалился на колени:
– Ж-жизнь. Жить х-хочу.
А потом зарыдал и упал окровавленной мордой в коричневую жижу.
– Gut! – остановились рядом с ним начищенные сапоги фельдсполицкомиссара Дитера Майера. – Жизнь есть карашо. Но ее надо заслужить. Да? Ты себя плёхо показал на допросе. Сейчас ты докажешь свою преданность жизни, когда съездишь со своими новыми друзьями в деревню Опалево. Говорьят там есть раненый партизан, а можьет твой товарищ. Соратник. Найди и привези его сюда. Поднимите его.
Майер отошел на пару шагов, не желая больше пачкаться.
Двое полицаев подхватили Иванцова под руки и попытались поднять на ноги. Но Лешка был в полуобморочном состоянии, еле стоя даже с помощью.
Полицаи потащили его к телеге и закинули туда как зарезанного поросенка.
«Russische scwiene…Welche sie die Schweine aller…» – потом он, поморщившись посмотрел на небо: «der Arsch der Welt…»
По дороге в Опалево Лешка успокоился, хотя его и потрясывало время от времени. Ему дали какую-то тряпку, он, сколько смог, отчистил форму. Потом нацепил такую же белую повязку, как и у других. Ему что-то говорили, но он не реагировал, не понимая смысла обращенных к нему слов. Точно через туман доносились звуки разговоров, смешки. Кто-то совал в рот сигарету, он механически курил. Потом снова пошла носом кровь. Он сел сзади телеги – время от времени сморкая и харкая красным на дорогу.
Из оцепенения его вывел только сильный толчок в спину.
– Приехали! – больше догадался, нежели услышал Иванцов Алексей. Бывший студент первого курса, бывший поисковик, а ныне предатель и полицай.
Двое полицаев пошли по одной стороне деревни, Глушков потащил его за собой по другой. Еще один остался в телеге.
Они зашли в первый дом, заглянули в подвал, под кровать, залезли на чердак, посмотрели в хлеву. Потом начальник волостной полиции сунул под нос старухи кулак, и они пошли в другой дом.
Потом во второй, в третий…
А в четвертом Глушков увидал то ли дочь, то ли внучку хозяйки. Молоденькую девчонку лет четырнадцати-пятнадцати.
Выпнув тетку на улицу, он рявкнул на Лешку, чтобы тот постоял в сенцах.
Тот повернулся было, но краем глаза успел увидеть, как полицай влепил пару оплеух девчонке и навалил ее на стол.
Винтовку, чтобы не мешалась, тот поставил в угол и теперь, одной рукой задирая ей юбку, судорожно стаскивал с себя штаны. Девка орала благим матом, но отбиваться даже не пыталась от страшной вонючей скотины за спиной.
Впрочем, Алексей этого всего не слышал и не видел.
Он целился из винтовки в спину полицая.
Грохот выстрела снял все. И вату из ушей, и оцепенение в душе, и вялость в теле.
Тело бывшего полицая сползло на пол, а девчонка билась в истерике, залитая его кровью.
Иванцов вышел во двор.
На выстрел уже неслись по улице двое.
Он перезарядил трехлинейку и почти в упор разнес голову одной сволочи.
Второй остановился, задергался и побежал обратно за забор.
Иванцов пошел за ним. Но дойти не успел.
Пуля из немецкого карабина оставшегося в телеге часового пробила ему живот.
А потом двое полицаев добивали его прикладами… А он улыбался: «Два – один, наши ведут…»
Глава 3 Десантура
Автоматы выли,
Как суки в мороз;
Пистолеты били в упор.
И мертвое солнце
На стропах берез
Мешало вести разговор.
И сказал Господь:
– Эй, ключари,
Отворите ворота в Сад!
Даю команду
От зари до зари
В рай пропускать десант.
М.Анчаров.– Смотри! Леха!
– Да ну на хрен…
– Точно, Леха. Кровью сморкается…
– Да не может быть, у них повязки белые. Видишь? Это же полицаи!
Захар с Виталиком лежали в кустах, наблюдая – как по проселочной дороге ковыляла телега с пятью мужиками.
Четверо были одеты как обычные красноармейцы, только один сзади на телеге был в пятнистом камуфляже. И с белыми повязками на рукавах.
Время от времени «камуфляжный» утирал сочившийся кровью нос и сморкался красным на дорожную хлюпающую жижу.
– Значит, не только нас сюда забросило? И его тоже?
– Он же в лагере оставался…
– А сейчас тут…
– Не, не он. Не может быть, чтоб он с полицаями… Да и без очков этот…
Они молча смотрели, как телега удаляется за поворотом лесной дороги.
И тут же, не сговариваясь, броском кинулись на другую сторону леса.
Рывок получился удачный. Хотя и преодоление дорог в тылу врага считается одной из самых опасных тактических операций, но на этот раз им повезло.
Ни связистов, ни танкистов, ни прочих ганомагов с цундапами.
Только одна телега, на которой тряслись пятеро полицаев. И один из них чертовски похож…
Да мало ли что можно увидеть после того, как практически под тобой взорвался снаряд калибром триста пять миллиметров…
У Захара до сих пор уши были заложены. Хотя вроде и взрыва-то он не слышал. Шваркнуло огнем перед глазами и все. Сразу утро. Открываешь глаза, а тебе прямо в нос упираются берцы Виталика. И больше никого рядом нет. И лес другой. Вроде тот же, но другой.
Противогазы, колючка, воронки. И все свежее. Будто бы еще вчера шел бой прямо тут.
Хотя нет… Не вчера. Воронки и ячейки уже слегка осыпались, разнообразное железо покрылось ржавчиной, а осколки в деревьях уже заплывали смолой.
Причем ни оружия, ни трупов. Зато сотни пустых разбитых снарядных ящиков, брошенные противогазы, в том числе огромные лошадиные. Но трупами пахло. Кисло-сладко так…
Особенно из одной воронки. Они обнаружили ее когда, слегка очухавшись, побрели по изодранному лесу в направлении лагеря.
Из черной жижи полуразложившегося прошлой осенью человеческого мяса торчали кости, больше похожие на обуглившиеся деревяшки.
Запах стоял такой плотный, что казалось – воздух можно резать ножом.
После этого уже все стало ясно.
Они на войне.
На той самой, тела бойцов которой они искали в лесах и болотах Демянского котла.
Нашли, млять…
Совсем не так как хотелось.
Однако рефлексии оставим на потом. А сейчас надо выжить. И добраться до своих. Если свои своих узнают…
Обыскав поле боя, им удалось найти более-менее нормальную трехлинейку. Штык, правда, погнут, но шомпол на месте и ствол не пробит. Понятно, что она чуть заржавела – а чистить нечем, понятно, что патроны отсырели – а выход есть?
А еще нашлась одна граната – та самая РГД-33… Там, в «прошлом будущем» они собирали их десятками и, в дождливые дни, с их помощью разводили костер и кипятили воду. Правда надо было предварительно накрыть котел крышкой, иначе тротиловая копоть оседала на воде.
А тут одна, всего лишь. Зато, вроде бы детонатор исправен. Хотя узнать это можно, только кинув ее.
А потом пошли, предположительно, на восток. И там уже наткнулись на просёлок, по которому тряслась телега с полицаями.
Когда те проехали и исчезли, мужики бросились через дорогу.
Пробежав несколько десятков метров в глубь леса, они рухнули за огромной сосной.
Вроде и недалеко, а дышали как лошади. Одно дело на тренировках. Другое дело, когда жить хочется.
Смертельно жить хочется. Странная фраза, правда?
– Ну и что делать будем? – отдышавшись, спросил Захар.
– Думать, блин… – ответил Виталя. – Больше пока ничего не остается.
– Лично у меня два вопроса – как мы сюда попали и где наши?
– Наши – это которые? – покосился Виталик.
– Наши – это отряд. Мне кажется, что мы тут слегка чужие на этом празднике. И других наших тут нет. – Захар лег на спину, устраиваясь поудобнее.
– Я думаю, если мы на первый вопрос ответим, то на остальные ответ сам найдется. – Виталик дергал затвор мосинки, пытаясь разобраться в оружии. Затвор не поддавался. – У меня версии следующие – либо меня шандарахнуло так, что это все галлюцинация…
– И я тоже? – усмехнулся Захар.
– И ты тоже. Вполне убедительная, причем. Визуально-аудиально-кинестетическая.
– А может ты мой глюк? Я же тебя тоже вижу, слышу и обоняю.
– Чем докажешь? – спросил Виталик.
– А ты чем? – ответил Захар. – Неубедительная версия.
– Версия вторая. Ненаучно-фантастическая. Типа там мощная энергия взрыва пробила время и пространство, а нас с тобой закинуло в 1942 год.
– Почему в сорок второй?
– Сейчас весна? Стало быть, весна сорок первого отменяется. А весной сорок третьего эти места уже были освобождены. Значит сорок второй. Однако доказательств тоже нет. – Почесал Виталик щетину.
– Есть еще мистическая. – Добавил Захар. – Смотрел «Мы из будущего»?
– Смотрел, ага. Только вот никаких колдуний мы тут не встречали, это раз…
– А два – это то, что ты в мистику не веришь?
– Не верю. Ни в Бога, ни в черта, ни в теток с волшебными крынками молока.
– И потом, там этих придурков было за что в прошлое посылать. – Прибавил Захар. – Они же черные, глумились над останками там, и все такое…
– Мертвым вот не пофиг? – ухмыльнулся Виталя. – Они мертвые. Им все равно. Лежат себе в воронках и в удобрения перерабатываются.
– Да это ладно… Как твои версии нам помочь могут? – спросил Захар.
– Как, как… Надо в любом случае выходить к нашим. В смысле, к своим.
– В смысле – в Красную армию?
– Да ну на хрен… Воевать придется или вообще энкаведешники шлепнут… – поморщился Захар.
– А немцы шлепнут верняк и без комиссаров. Или в Германию отправят. На сельхозработы к своим бауэрам.
– Тихо! Слышишь? – Захар привстал на локте.
Над лесом катился звук ревущих моторов. Виталик не успел ничего ответить, как прямо над ними мелькнули две тени и с грохотом понеслись на восток.
– На бреющем… – зачем-то сказал Виталя.
– Немцы? – Захар пытался смотреть вслед самолетам, уже невидимым за сплетением веток.
– А я знаю? – И со злостью выкинул винтарь в кусты. – Приржавел затвор, сука.
– Ну и на хрена выкинул? С ней как-то все одно спокойнее. – Захар встал и пошел в сторону кустов. – Мало ли. Попугать кого придется.
– Пугало. – Огрызнулся Виталик. – Ну и сам таскай эту дубину. И улегся на прошлогоднюю листву, сквозь которую уже торчали маленькие зеленые стрелочки травы.
Захар долго шуршал по кустам и трещал ветками, как вдруг затих.
Виталик приподнялся на локте:
– Чего там?
– Виталь, иди сюда. Я какой-то ящик нашел. – Почему-то вполголоса сказал Захар.
Виталик нехотя поднялся и подошел к Захару.
– Сейф! – воскликнул он. – Не фига себе!
– Тяжелый, сука! – тщетно дергал его Захар.
– Да погоди! – Виталя продирался сквозь кусты как медведь, треща на весь лес.
– Чем мы его вскрывать-то будем? Болгарку бы… – вытер вспотевший лоб Захар. – У тебя пить есть?
– Откуда? – Виталя нагнулся к сейфу и подергал его за ручку. – Заперт.
– Знаю, блин… Не, ну точно, «Мы из будущего». Там в сейфе, наверняка, наши документы.
– Угу. И спецзадание – добраться до Сталина и переиграть войну. Путем внедрения технических новинок из будущего и знаний военной истории.
Захар посмотрел на Виталика каким-то ошалевшим взглядом:
– А почему нет? Мы же с тобой горы можем свернуть!
– Какие, нахрен, горы? – постучал ему по лбу грязным пальцем Виталик. – Ты чертежи калашниковские помнишь? Или дату начала наступления под Барвенково?
– Барвенково? А это где?
– Харьков, блин… Июнь сорок второго. Наши там по самые гланды получили.
– А, точно… Тимошенко начал наступление, а немцы под основание фланговым ударом окружили наших. Не то Клейст, не то Паулюс. Хотя Паулюс шестой армией командовал, а она в июне вроде бы не там была…
– А где?
– Не помню…
– Ага… И товарищ Сталин тебе будет премного благодарен за эту бесценную информацию. Да нас с тобой на уровне батальонного комиссара как провокаторов немецких шлепнут. – Криво улыбнулся Виталя.
– Эх, знать бы, так хоть приготовиться можно было бы… – погрустнел от перспективы Захар.
– Толку-то, – фыркнул Виталий. – Всю историю в башку не запихаешь. А Интернета здесь нет. И не предвидится ближайшие лет пятьдесят-шестьдесят.
– Ну, хоть книжку бы взять с собой. Энциклопедию… – Захар здорово приуныл.
– Мечтать иногда полезно. Но не сейчас. Давай думать, как сейф вскрывать будем.
– Так гранатой! Привяжем к дверке и дернем за веревочку, дверь и откроется!
– Ты, блин, серый волк! – скептически посмотрел Виталик. – Ты где веревочку возьмешь? Шнурки с берцев не дам! Да и длины не хватит…
– Ну, хрен его тогда знает. – Обиделся Захар.
– Да ладно тебе. Ляжем за бревном тем и метнем. Я в армии неплохо кидал. Правда, давно это было… Только надо сейф из кустов вытащить и в эту ямку положить.
Минут двадцать они корячились с железякой, а потом отошли метров за пятнадцать и залегли за упавшим толстым стволом древнего тополя.
Виталик снял с гранаты осколочную «рубашку», щелкнул предохранителем, примерился и метнул гранату в сейф.
– Тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре…
И ничего.
– Взрыватель, сволочь, сырой. – Вздохнул Захар.
– Ага… – Ответил Виталик, и в эту же секунду гулко ахнуло.
Тугая взрывная волна кисло пахнула сгоревшим тротилом, просвистела где-то пара осколков.
Парни осторожно высунулись из-за бревна. Они совершенно забыли, что рядом проселок и не увидели, как возница с белой повязкой на рукаве оглянулся на звук разрыва и хлестнул пару раз смирную лошадку. А в повозке, из-под дерюги, торчали три пары босых ног…
Сейф повернуло набок… Они подбежали к нему – дверца была приоткрыта.
Он был набит бумагами, некоторые тлели. Парни быстро погасили их и стали вытаскивать одну за другой – наградные листы, журнал боевых действий, личные дела…
– А это чего? – вытащил Захар какой-то сверток и стал его разворачивать.
– Знамя! – выдохнули они оба через минуту.
На полотнище было вышито золотом: «86-ой полк 180-ая стрелковая дивизия».
– Вот тебе, Виталик, и пропуск для энкаведешников, и медаль «За отвагу»! – наконец произнес Захар после долгого молчания.
– Охренеть можно… – ответил Виталик. Они свернули знамя и снова бросились к сейфу. Однако там остались только бумаги. Красноармейских книжек, к сожалению, не было. Только полковые документы и несколько пачек непривычно больших денег.
– Три червонца… Это как тридцать рублей что ли? – спросил Захар.
– Я откуда знаю… – пожал плечами Виталик. – Наверное… Мне больше интересно – много это или мало? Цены сейчас какие?
– Берем?
– Понятно. Жрать хочется, у меня кишки гражданскую войну уже устроили. Может быть, в деревне какой-нибудь разживемся продуктами.
– И самогончиком… – мечтательно вздохнул Захар.
– С бумагами то чего делать будем? С собой все не утащить…
– Так здесь оставим. Потом к нашим выйдем, разведчики сбегают и притаранят их. Надо только место приметить.
– Знать бы, где мы, так приметил бы… Хоть бы один ориентир. А то лес и поле. Да от дороги метров сто.
Они закидали сейф прошлогодней листвой и сучьями, коих было немало в диком лесу.
– О, слышь, опять чего-то тарахтит! – остановился Захар и присел на корточки.
Тарахтение приближалось. Виталик, пригнувшись, быстрым шагом пошел к дороге.
Из-за поворота выехал грязный немецкий бетеэр.
Виталик немного отполз и тут чудо гансовского автопрома остановилось перед въездом в лес. Из кузова один за другим начали выпрыгивать немцы. Человек десять.
Виталик матюгнулся про себя и на четвереньках побежал обратно к Захару.
– Бегом, мать твою, немцы сюда идут!
Захар аж подпрыгнул:
– Какие немцы?
– Серо-зеленые, млять! Знамя хватай, помчали!
Они бросились в глубь леса, что было сил и дыхания.
– Собаки… Сейчас собак пустят… – прохрипел Захар.
– Заткнись, дыхалку береги!
Собак слышно не было, но команды немецкого офицера походили на гортанный лай овчарки…
А потом тяжело затакал пулемет. Пулеметчик стрелял неприцельно, дал очередь поверху, видимо для острастки.
Немцы их не видели, но, видимо, слышали треск сучьев и ветвей. Время от времени кто-то из них стрелял в сторону Виталия и Захара. Пули то взвизгивали рядом, то щепили деревья белыми ранами.
Земля неожиданно пошла вниз. Шаг-другой и Захар кувыркнулся кубарем, через секунду и Виталик не удержался на ногах.
Пропахав несколько метров мордой, он свалился с небольшого обрывчика в воду.
Рядом плюхнулся, подняв кучу брызг, Захар.
– Все, звиздец! – выдохнул он.
– Не ссать, боец! – утер мокрое лицо Виталя. – Успеем!
И они бросились через небольшую речку.
То ли немцы не особо торопились, то ли им просто повезло, но они уже выбрались на том берегу и нырнули в прибрежные кусты, когда двое фрицев появились на обрывчике.
Один из гансов кинул гранату-колотушку в воду, через несколько секунд столб воды вспучил поверхность.
Второй пару раз пальнул из карабина по противоположному берегу.
Промокшие до нитки ребята молча смотрели на них из укрытия.
Когда же немцы скрылись за деревьями, они упали на землю, закрыв глаза.
– Чего-то они неактивные какие-то… В фильмах вроде бы не так. Собаки там гавкать должны и все такое…
– Благодари Бога, что собак нет и немцы пассивные. Хы. Не егеря, видимо.
– Виталь, ты ж в Бога не веришь? – хрипло засмеялся Захар.
– Пошли, нельзя лежать. Простудимся.
– Куда идти-то? – поднялся Захар и поплелся за Виталиком. С обоих ручьями стекала вода.
– На восток. – Отрезал Виталя.
– Какой на хрен восток. На восток если пойдем, то выйдем прямо в Демянск. В самый центр. Там как раз немцы должны быть. Штаб восемнадцатого корпуса. На юг вроде надо. Там линия фронта.
– Ну, я и тормоз… – резко остановился Виталик. – Точно же. Только вот что странно… Фронта не слышно. Значит до него километров сорок-пятьдесят, минимум.
– Почему?
– Читал где-то…
И они побрели на юг, осторожно обходя открытые пространства и быстро перебегая просеки…
Шли до темноты. Жутко хотелось есть и пить.
Костер разводить не стали, хотя трясло от холода обоих. Наломали лапника, кучей накидали и, завернувшись в найденное знамя полка, уснули в обнимку…
Напоследок Виталик пожалел, что выбросил винтовку…
…Проснулись они от холода. Колотило так, что кажется, ветки на елке тряслись.
– Б-б-бляха м-м-муха! – простучал Захар. – Холодно то как! В палатке теплее, однако…
– Н-не ж-ж-жравши п-просто! – синими губами ответил Виталя.
Они встали кое-как, попрыгали, разгоняя кровь и пытаясь хоть как-то согреться. А потом снова двинули, предположительно, на юг. Предположительно, потому как компаса не было, а по «Командирским» часам Виталика стороны света определить не получалось. Солнца не было.
Через час лес неожиданно расступился.
Они оказались на краю небольшой, в три дома, деревушке. Бывшей деревушке. От домов остались только закопченные трубы печей, горестно указывавшие в пасмурное небо. Лес обступил ее со всех сторон.
Странно, но все деревья на высоту поднятой руки были обглоданы. Коры на них не было.
Мертвая тишина давила на уши, но они все же пролежали минут пятнадцать в лесу.
А потом осмелились и вышли к остаткам деревеньки.
И тут же заорали две сороки на ветвях обугленного тополя.
– Тьфу, сволочи! – погрозил им кулаком Захар.
В ответ каркнула надрывно, ровно предупреждая кого-то, большущая ворона.
Вскоре стали попадаться распухшие трупы лошадей. Земля была всюду перерыта – ни прошлогодней листвы, ни пробивающейся новой травки. Но все больше и больше мертвых лошадок.
У одного дома пожар не задел ветхий забор, голодная кобыла, привязанная к столбу, протянула в дыру голову, чтобы дотянуться до уцелевшего клочка пожухлой травы. Но не дотянулась и сдохла.
Зажимая носы от нестерпимой вони, парни обыскали пепелища, но ничего съестного не нашли. Пришлось снова уходить в лес.
На краю поля обнаружили еще одну лошадь – с нее мясо было практически все срезано, ног не было, только огромные зеленые мухи лениво ползали внутри ребер в черных внутренностях.
Четыре вороны, нахохлив кудлатые головы и опустив хвосты, сидели на дереве. То ли спали, то ли думали о чем-то. Только одна сволочь летала над ними и орала противным голосом: «Кхарр-кха-кха-кхарр!»…
– Меня вырвет сейчас! – буркнул Захар.
– Чем это интересно? – спросил его Виталик, когда они уже отошли от пепелища.
– Не знаю. Попить бы.
– Вон воронка, вроде. Пошли, умоемся и попьем.
Они с наслаждением плюхнулись на краю небольшой воронки.
Долго пили, аж до рези в животе, фыркали, плеща воду во все стороны…
И чуть-чуть заглушили голод.
– Поперли дальше… – не открывая глаза, сказал Виталий.
– Не могу больше… Жрать хочу. Считай, больше суток уже не жрали! – простонал Захар.
– Дерево погрызи. Пошли, млять! – Виталя приподнялся на четвереньки и его тут же стошнило зеленой слизью. Он постоял, помычал, а потом резким движением дернулся вверх.
– Пошлю, говорю, а то сдохнем здесь. Должны же выйти мы куда-нибудь?
– Эх, мама – роди меня скорей обратно! – простонал Захар, но все же заставил себя встать.
Сколько они еще шли, непонятно. На часы не смотрели, экономя каждый вздох и каждое движение.
Вдруг Виталик, шедший первым, резко остановился. Захар, машинально, воткнулся ему лицом в спину.
– Тихо! – прошептал, покачнувшись тот. – Змея! Палку дай, быстрее.
Захар схватил валявшийся сук и тихонько передал его Виталику.
Тот осторожно взял сук в руки, размахнулся, прицелился и несколько раз со всей яростью ударил по голове гадюки.
Трухлявый сук развалился, но змее досталось как следует. По крайней мере, она стала яростно извиваться на одном месте.
– Сдохла? – шепотом спросил Захар
– А хрен его знает… – Также шепотом ответил Виталик. А потом подождал и несколько раз ударил каблуком берца туда, где должна была быть голова гада.
– Костерок разводи. Пожарим. – Внимательно наблюдая за змеюкой сказал Виталя.
– У меня это… Спичек нет… – Виновато сказал Захар. – Не захватил, когда из лагеря шли…
– Твою мать… – Зло выдохнул Виталик. – У меня были, но промокли вчера. В речке. Погоди, посмотрю…
Он достал из кармана горсть палочек без серы на головках. А потом злобно и на весь лес выругался.
А в ответ, совершенно недвусмысленно, щелкнул кто-то затвором, и чей-то голос тихо произнес:
– Руки вверх!
Они медленно подняли руки.
– Обернуться! Медленно! – как-то странно прохрипел голос за спиной.
Они повернулись.
Навалившись на дерево, стоял тощий донельзя парень в черно-зелено-коричнево-сером маскхалате. Винтарь в его руках дрожал, но глаза были спокойны и упрямы, хотя и лихорадочно блестели.
– Вперед! – мотнул он стволом и его слегка шатнуло.
– Эй, мы свои, русские! – осторожно сказал Захар.
В ответ парень снова мотнул стволом – мол, иди куда велено.
Скрестив руки за затылком, они пошли в сторону, куда показал странный боец.
И едва не наступили еще на одного. Тот лежал, приподняв ствол трехлинейки обоими руками.
Виталик и Захар почти мгновенно переглянулись.
Но пошли дальше. Бежать смысла не было. Кажется, дошли до своих. Только эти свои какие-то странные…
И тут Виталик едва не застонал – о легенде-то не договорились, блин! Вот чего сейчас особистам говорить?
По кустам кто-то почти бесшумно зашуршал.
– Эй, парень тебя как зовут-то? – спросил Виталик и тут же получил в ответ чувствительный тычок между лопаток.
– Понятно… – пробормотал он и получил еще один.
Где-то минут через двадцать они вышли на большую поляну. По всей поляне стояли конусами небольшие шалашики. Некоторые, правда, обвалились, но из большинства торчали ноги. Как правило, в дырявых валенках…
Захар выразительно посмотрел на Виталика. Тот понимающе мигнул…
Тем временем, конвоир подвел их к одному из шалашиков.
– Товарищ лейтенант, а товарищ лейтенант! – тихим хриплым голосом позвал он. – Товарищ лейтенант, тут задержанные!
В шалаше послышалось шевеление, а потом оттуда выполз, в буквальном смысле этого слова, человек с лицом земельного цвета.
Он не встал. Конвоир помог ему присесть, подхватив под мышки, и навалил на чурбачок, стоявший рядом.
– Кто такие? – Просипел лейтенант, не глядя на них. Хотя знаков различия не было видно под лоснящимся от грязи полушубком.
– Рядовой Комлев! – ответил Виталик. Захар не растерялся и поддержал его, козырнув к пустой голове:
– Рядовой Захаров, восемьдесят шестой полк сто восьмидесятой стрелковой дивизии!
Виталик одобрительно кивнул, а лейтенант приподнял брови:
– Сто восьмидесятая??? Вы чего тут с осени шарахаетесь? Что-то не похоже…
– Так мы это, товарищ лейтенант, зиму на хуторе просидели… пустом. А сейчас вот к своим пробираемся. – С виноватым видом ответил Захар.
– Сметанин! – вдруг в слабом голосе лейтенанта звякнул металл.
– Я, товарищ лейтенант! – просипел за спиной голос их молчаливого конвоира.
– Расстрелять дезертиров к чертям собачьим!
– Товарищ лейтенант! – Вскрикнул Виталик. – Да какие же мы дезертиры? Мы же вот… Знамя полка вынесли!
А в спину ему ткнулся ствол.
– Захар, покажи!
Тот торопливо стал расстегивать куртку и судорожно вытаскивать красный сверток.
А потом развернул его.
Лейтенант помолчал, а потом добавил:
– Погоди, Сметанин… Успеем еще. Документы!
– Сгорели, товарищ лейтенант… Мы их на печке хранили, а тут немцы с полицаями, мы через овин и ходу в лес. Они дом подожгли и книжки там сгорели…
– Хутор, где находится? Можешь на карте показать? – лейтенант протянул дрожащей рукой планшет.
– Товарищ лейтенант, мы это… картам не обучены. – Соврал Захар, студент четвертого курса естественно-географического факультета.
– Где стояли осенью?
– У Ивантеевки, товарищ лейтенант… А дальше не знаю…
– А оружие то где?
– Так это… В избе осталось. – Понурили они головы.
– Распестяи… Вот из-за таких как вы – немцы до Москвы дошли! – Лейтенант зло сощурил глаза. – Сметанин! Налей им кипятку!
Сметанин, длинный и тощий как жердина, молча козырнул лейтенанту.
– Товарищ лейтенант, а покушать у вас ничего нет? А то мы уже сутки не жрамши! – взмолился Захар.
– Слышь, боец… У меня раненые уже неделю не жрамши – перекривился лейтенант.
– Товарищ лейтенант, – тихо сказал Сметанин, скинувший капюшон маскхалата и внезапно оказавшийся рыжим – Они там змею поймали и забили.
– Молодцы… Змею сварить. Бульон и мясо тяжелораненым. Передай старшине. Сам обратно в дозор.
Сметанин непроизвольно сглотнул, но, справившись с собой, опять кивнул и побрел в лес, держа винтовку как ребенка – прижав к груди. По пути он о чем-то перемолвился с лежащим возле костра мужиком.
– К костру идите. Позже вызову – сказал лейтенант. Похоже, каждое слово давалось ему с трудом.
Ребята пошли к костру и не заметили, как командир с облегчением откинулся на землю.
– Товарищ старшина, нас к вам прислали.
Тот молча, не вставая, кивнул на котел с медленно кипящей водой и кружки.
Они осторожно зачерпнули крутого кипятка и сели рядом.
– Товарищ старшина, а что за часть у вас?
Тот приоткрыл водянистые глаза:
– Первая мобильная воздушно-десантная бригада. – Почти по слогам, еле слышно прошептал он.
Парни переглянулись. Еще бы! Именно этот лагерь они и искали! Тогда не нашли, нашли сейчас. Тощих, обессиленных, больных, но все еще ждущих самолетов с Большой земли.
А ведь самолетов то больше не будет… Командир рассказывал, что последний У-2 садился тут где-то в средине апреля сорок второго. А сегодня?
– Слышь, старшина? А сегодня какое число?
– Двадцать восьмое. – Не открывая глаза и не поднимаясь, ответил тот.
– А самолет когда был последний?
– Пятнадцатого.
– Так вы чего, уже две недели не ели ничего?
Старшина открыл глаза.
– Раненые неделю. Здоровые – три. Как мясо лошадиное протухло так и не ели.
Парни потрясенно замолчали.
– Мешки сейчас вещевые вывариваем. У кого сахар просыпался, у кого сало пятно оставило. Хорошо хоть гранаты перестали есть…
– Гранаты?? Как это?
– Так тринитротолуол-то сладкий на вкус. Некоторые несознательные ели. А потом помирали от отравления.
Старшина смолчал. Он не стал рассказывать, как самолично расстрелял бойца, сошедшего с ума и срезавшего с бедра убитого друга куски мяса…
– Товарищ старшина, а товарищ старшина! – осторожно позвал лежащего Виталик. – Нам бы это… К товарищу лейтенанту…
– Идите. – Шепнул тот в ответ и повернулся на бок.
Они встали и оглядели лагерь. Нигде не было ни одного движения. Только изредка – то справа, то слева – раздавались стоны.
И этот чертов запах смерти и разложения…
Лейтенант лежал, свернувшись калачиком.
– Товарищ командир! – потряс его за плечо Виталик.
Тот внезапно зашипел от боли.
– Не трогай, боец!
– Извините, товарищ лейтенант! – отдернул тот руку. – Ранены?
– Нет. Дистрофия у меня. Мышцы распадаются. Больно. И синяки потом… Чего хотели?
– Извините, товарищ…
– Чего хотели, говорю? – снова в его голосе лязгнул металл.
– Товарищ лейтенант! Мы, это… – Замялся Захар, не зная как сказать. А потом собрался с духом и выпалил. – Самолетов больше не будет.
Тот приоткрыл глаза. Голубого цвета, оказалось. Потом помолчал и тихонечко сказал:
– Не ори. Сам знаю. Ушли наши на прорыв. Неделю назад. Кто мог. Мы остались. Бой был. Слышно было. А потом тишина. Значит, легли, раз самолетов за нами нет.
На этот раз замолчали ребята, зная из прошлой памяти, что часть десантников вышла. Около трехсот человек. А часть раненых и ослабленных осталась где-то в болотах Демянского котла. У лесного аэродрома. Навсегда. Почему их не эвакуировали – осталось загадкой.
– Так ведь погибнете же вы здесь! – не удержался Захар.
– Мы знаем. – Спокойно ответил командир, смотря в небо широко распахнутыми голубыми глазами. – Ну и что? Значит так надо. Еще бы немца хоть одного…
И лейтенант снова прикрыл глаза.
И тут на поляне что-то хлопнуло. Раз, два, три!
Ребята аж подпрыгнули от неожиданности. А над шалашиками поднялись невысокие султанчики взрывов.
Лейтенант приподнялся и хрипло каркнул:
– Бригада в ружье! Немцы! – А потом тихо добавил – Опять, сволочи, минами шмалять начали!
Из шалашей, ровно призраки, стали выползать страшные – с черными, помороженными еще в марте лицами, перебинтованные грязными тряпками, но державшие в костлявых руках оружие – десантники.
Уже пропавшие без вести, но все еще ведущие свой последний бой.
– А вы бойцы вот что… Приказывать не могу. Прошу. Доберитесь до наших. Скажите, что мы еще тут.
Хлопнуло еще несколько раз. Совсем близко. Так что окатило землей.
– Товарищ лейтенант, нам бы оружие какое-нибудь…
– Оружие? Винтовки в куче у болота. Если старшина еще не побросал в воду… Патронов только нет. Держите обойму. – Он достал костлявой рукой из кармана штанов пять патронов, также не глядя на них. – От кучи потом по берегу метров сто пройдете. Там слеги выломайте и по тропе вглубь шагайте. Она вешками отмечена. Осторожно только. Местами по грудь должно быть. Давайте, ребятки.
Потом он отвернулся от них и попытался перекричать хлопки немецких ротных минометов.
– Бригада! На позиции!
Его не было слышно, но десантники знали свое дело сами. Они последними силами, цепляя костями землю, ползли к краю леса.
А Виталик и Захар, пригибаясь при каждом и близком, и далеком разрыве помчались в ту сторону, на которую показал умирающий лейтенант.
Им повезло, старшина не смог дотащиться до винтовок.
Схватив одну, они помчались вдоль болота к тропе.
Пробежав около ста метров, они заметили торчащие из болотной жижи палки.
Не раздумывая, зашагали вглубь, проверяя каждый шаг наскоро выдранными березками.
А за спиной разгорался бой.
Ни лейтенант, ни старшина, никто из десантников не знал, что это последний их бой. Что через два часа немцы, закидав поляну минами, начнут осторожное прочесывание, достреливая раненых и обессилевших.
А лейтенант застрелится, потому что стрелять на звук не умел, а глаза его уже неделю как ослепли.
Потом фрицы соберут трупы десантников, сложат в кучу и сожгут.
Останется в живых только сержант Димка Сметанин, потерявший сознание в самом начале боя, после первого же выстрела. Рыжий, длинный нескладный мариец из деревни Сернур будет принят за арийца поволжского и переживет плен остарбайтером на ферме господина Бруно…
Часа через два, как раз когда закончилась пальба за спиной, они выбрались на сушу. Лейтенант не обманул, порой они и впрямь проваливались по грудь. А маленький Захар по шею пару раз в гнилую, холодную жижу.
Едва отдышавшись, побрели снова в глубь леса.
И буквально через несколько метров Захар напоролся на колючку и разодрал правый болотник вдоль всей ступни.
– Ну, твою же мать! – завопил он на весь лес и тут же получил подзатыльник от Виталика.
– Не ори, урод гребаный. Еще не хватало, млять-перемлять, гансов всполошить.
– А как я сейчас пойду то, блин!
– Не ной, все равно ноги сырые. Пошли, кабель тебе в задницу. Под ноги глядеть надо.
Захар что-то забурчал под нос, в спину уходящему Виталику, и поплелся за ним. Идти было неудобно. При каждом шаге ногу приходилось слегка подворачивать, чтобы подошва не загибалась под ступню.
– Как думаешь, отбились наши? – спросил на очередном привале Захар.
– Вряд ли. Сам видел, в каком они состоянии. Даже если сейчас отбились – в следующий раз все закончится. Не успеем мы. – Осунувшееся лицо Виталика казалось равнодушным.
– Так спокойно об этом говоришь… – осуждающе сказал Захар.
– А мне чего прыгать надо от злости? И чем это им поможет?
– Хрен его знает. Все равно это как-то неправильно.
– А как правильно?
– Не знаю…
– Пошли, и подошву-то примотай хотя бы ремнем, что ли?
– Штаны спадут!
Через полчаса они вышли на полянку, где лежали пятеро мертвых десантников.
– Вот тебе и обувка новая… – кивнул на трупы Виталя. – Иди, выбирай размерчик.
Захар покосился, подумал и сказал:
– Ну, на фиг. Не буду я с мертвецов брать…
– И ходи, тогда как дурак, босиком. – Пожал плечами Виталик и побрел осматривать трупы.
– А ты чего делаешь-то? – поморщился Захар.
– Патроны поищу. С обоймой много не навоюем.
Виталик подошел к трупам и стал обшаривать карманы.
Захар же поколебался немного, но преодолел отвращение и стал выбирать подходящий размер ботинок.
– Слышь, а их сюда вроде как в феврале закинули. Так? – спросил Захар.
– Ага. И чего?
– Как они в ботинках-то зимой?
– Не знаю. Но часть вроде в валенках была. Хрен редьки не слаще. В марте же таять снег начал. А под ним болота незамерзающие.
– Звиздец какой-то… Как они воевали-то?
– А ты не видел сегодня?
– Видел. Во, у этого вроде подходят! Сейчас померяю!
Захар попытался развязать мокрые шнурки. Не поддавались.
– Пальцы замерзли. – Пожаловался он Виталику и дернул за ногу десантника.
Нога отвалилась по щиколотке.
Сгнившие белые волокна сухожилий и куски серого мяса торчали из ботинка.
Захара вырвало зеленой болотной слизью.
Он отбросил ботинок в сторону, упал на четвереньки и пополз к краю полянки, непрерывно издавая рыгающие звуки.
Виталик покосился на него и ничего не сказал, продолжая обыскивать трупы.
Ему повезло. Нашел «лимонку», еще пару обойм для трехлинейки и финку. Еды в вещмешках не было. Естественно.
– Ну, пошли! – проходя мимо блюющего из последних сил Захара, Виталя не удержался и подопнул того под задницу. Затем поправил винтарь и исчез в кустах.
Захар приподнялся и, согнувшись в три погибели и шатаясь из стороны в сторону, побрел вслед за ним.
Глава 4 Унтер-офицер
Слышали деды – война началася,
Бросай своё дело, в поход собирайся.
Мы смело в бой пойдём за Русь Святую,
И, как один, прольём кровь молодую.
Русь наводнили чуждые силы,
Честь опозорена, храм осквернили.
Мы смело в бой пойдём за Русь Святую,
И, как один, прольём кровь молодую.
Автор неизвестен.Вечером, когда уже начало смеркаться они вышли к одинокому рубленому дому с тесовой крышей.
В окнах уже горел тусклый, мерцающий желтый свет. Кто-то был внутри.
Но кто?
Лежали долго в кустах, наблюдая за домом. Никто не выходил.
Виталик молча протянул финку Захару, сам же остался с трехлинейкой. Потом пополз к дому, махнув рукой – мол, давай за мной.
Около забора остановились. Виталик метнул палку через него.
Захар вопросительно кивнул – зачем это?
Виталя подождал минуту, потом шепнул:
– Мало ли собака…
Собаки не оказалось.
Полезли тогда через дыру в заборе, подкрались к окошку, и заглянули в него.
За столом сидел старик в круглых очках и чистил то ли картофелину, то ли луковицу около свечки. Больше, вроде бы, никого не было видно.
Оба непроизвольно сглотнули. И, не сговариваясь, шмыгнули на крыльцо и осторожно постучали в дверь.
Прошла минута-другая…
Но вот зашаркали шаги, послышалось глухое покряхтывание в сенях и старческий дрожащий голос осторожно спросил:
– Кого надо?
– Дед, открой, свои мы, русские!
За дверью помолчали, а потом дверь заскрипела и приоткрылась:
– Кто тут? – Выглянул старик в белом исподнем, с накинутой на сутулые плечи телогрейкой.
– Ох ты, Господи Иисусе Христе! – мелко перекрестился он, увидав две грязные фигуры на своем пороге.
– Дедушка, свои мы! В хате есть кто?
– Нету немцев, сынки. Вот тебе крест! Тут редко они бывают. Заходьте, заходьте… Да скорее, тепло не выпускайте!
Они ввалились в тепло дома и упали возле печки.
– Откуда ж вы, милые? – вздохнул старик, осторожно опускаясь на скобленую добела скамейку.
– Из-под Демянска, дед! Дай поесть чего-нибудь, а?
Старик суетливо бросился к столу, откинул полотенце и отломил от ковриги два больших ломтя хлеба!
Они вцепились в него, словно два голодных волка. И хлеб тут же застрял в сухой глотке, так, что невозможно было проглотить.
Виталик закашлялся, покраснел, а Захар показал на горло и прохрипел:
– Дайте воды! Во-о-о-ды!
Хозяин покачал головой и подал им по кружке молока.
Захлебываясь, пили они кислое теплое молоко.
– Живым – живое! – Пробормотал старик. – Живым – живое…
Но, через несколько минут, у обоих начались дикие рези в животе, спазмы один за другим скручивали внутренности. Сначала Захар, потом Виталик упали на пол, корчась в судорогах.
Старик всполошился, подскочил к печи, открыл рогачем заслонку и достал чугунок, кружкой зачерпнул горячей воды и подал им.
От воды слегка полегчало.
– Полезайте-ка парни на печку. Погреетесь да отоспитесь. А я сейчас прибегу…
– Ты дед куда? – насторожился Виталик, пытаясь подсадить Захара, а второй рукой держа винтовку.
– Ты, сынок, не бойся, не за немцами. Вот тебе крест святой перед иконами! – И старик перекрестился на лики икон, освещенные маленькой лампадкой. – За бабкой Меланьей сбегаю, вишь, чего… Подружка она моей покойницы. Надо же, такая постная еда, а беды столько наделала… А винтовку то ты убери от греха.
– Не дам! – прищурился Виталик. – Со мной будет.
– Ну, с тобой так с тобой! – согласился дед. – Я сынки скоро! Спите пока. – И хлопнул дверью.
– Жрать хочу! – простонал Захар и полез с печки обратно.
Виталя хотел его остановить, но полез вслед за ним.
Под полотенцем на столе они обнаружили картофельный теплый суп, хлеб и крупную соль. И, даже не садясь на лавку, сожрали все это богатство.
А потом кое-как забрались обратно. Стало, наконец, хорошо, пахло теплыми кирпичами и хлебом…
Виталик проснулся через час от начинающихся снова резей в животе. Рядом стонал Захар, похоже, от той же причины:
– Ой, мляаааа! Больно то как!
– Брюхо растирай! – сквозь зубы, преодолевая боль, прошипел Виталя.
– Не помогает…
В этот момент открылась дверь. На пороге стояла маленькая чистенькая старушка. Хозяин дома, из-за ее спины сказал:
– Вот это и есть, Меланья. Сейчас она вам от живота поможет…
Старушка скинула пальтишко, а дед из-за пазухи достал литровую бутылку молока.
Она накапала в ковшик с парным, как оказалось, молоком какого-то снадобья из пузырька и дала попить сначала одному, потом другому болящим. И тихонечко приговаривала при этом:
– Пейте, голубы, пейте. От этого снадобья и молочка вам легче станет, уж я то знаю! Дед-то от душевной доброты накормил вас так, старый. Вы уж простите его, хорошо еще, что еда была вся постная, нежирная, а то могло быть и хуже. Бог, вас милые предостерег… А дед, грешный по незнанию это делал! Желудки-то ссохлись от голода, вот и получилось нехорошо… Маленькими глоточками пейте-то, маленькими…
Постепенно боль стала утихать и они снова уснули.
Время от времени бабка Меланья снова их будила и кормила с ложечки вареной свеклой и морковкой.
Утром, когда рассвело, они проснулись. Животы уже не болели, хотя слабость сильная одолевала.
В избе никого не было. Не было рядом и винтовки…
Виталик заматерился и слез с печки.
В этот момент дверь открылась и вошел дед с охапкой поленьев.
– Проснулись? Ну, слава тебе, Господи! – Он грохнул поленья у печки и опять перекрестился. – А я уж боялся, что воспаление легких подхватили. Стонали уж очень…
– Дед, куда винтовку дел? – грозно двинулся на него Виталя.
– Да, Господь с тобой, в сарай уволок. Мало ли полицаи. Немцев то тут с осени не было, а вот полицаи бывают с проверкой. Недавно вот были, когда ваши из окружения выходили рядом.
– А нас бы увидели, чего бы сказал? – подал голос с печки Захар.
– Так ты мой племянник внучатый с другом. Из Демянска пришли, ага!
– Хитрый ты, дед. А поверили бы?
– А чего бы не поверить, когда до войны племяшка тут со своим сынишкой бывала. Митяй-мукомол за ней гоголем ходил. А сейчас вот начальник полиции местной. Стал им, когда из Красной Армии сбежал. Да и одёжа у вас хоть и странная, но не военная. Чой-то за штаны такие? Не видал ни разу!
И впрямь, тогда вечером перед взрывом они успели переодеться из рабочего камуфляжа в джинсы да свитера.
– Американские штаны, а винтовку-то дед все одно верни!
– Так бери, мне вашего добра не надоть. Только позавтракаете, поди?
Он наплескал им по пол-миски супа.
– Меланья строго наказала вас опять не перекормить.
Они уселись за стол. Дед есть не стал, только глядел на них, горестно облокотившись.
– Молодые, поправитесь. А вот я с вас одежонку то снял, бабка постирала, можете одевать.
Только сейчас парни заметили, что сидят в трусах и футболках за столом.
– А вот ни кресала, ни спичек при вас не было. Что ж вы так? Как же в лесу без костра-то?
– В реке промокли спички. – Буркнул Виталик. Его сильно беспокоило отсутствие оружия.
– Ну, я вам дам зажигалку. Немецкую. Еще с той германской ношу.
– А ты что дед, воевал, что ли? – удивился Захар.
– А как же! – гордо приосанился старик. – Воевал! Унтер-офицер Кирьян Богатырев, отделенный командир четвертого отделения четвертого взвода пятнадцатой роты сто двадцать четвертого пехотного Воронежского полка!
– Небось, и Георгиевский крест имеешь, дед Кирьян? – почему-то не поверил ему Захар.
– Не без этого! Два креста, четвертой и третьей степени имею. Может, и больше было бы, да революция случилась. Первый за разгром батареи австрийской еще в четырнадцатом году под Гнилой Липой, а второй за то, что охотником в тыл ползал и офицера приволок венгерского. Как сейчас помню, как тот полк назывался – Бештерчебаньярский гонведный, прости Господи!
– А после революции куда?
Дед Кирьян спокойно посмотрел на парней:
– А наш полк «череп и кости» в июле семнадцатого надел и на Румынский фронт отправился. А в ноябре хохлы к своим подались А я в бригаду к Михаилу Гордеевичу и на Дон пробиваться.
– К какому Михаилу Гордеевичу? – недоуменно спросил
– Эх, комсомолята вы неграмотные! К Дроздовскому, какому же еще?
Повисла тишина.
Оказывается, перед парнями сидел бывший белый унтер-офицер.
– Чего комсомольцы? Напугались? Не боись, ни немцам, ни полицаям я вас не сдам.
– Да не комсомольцы мы…
– Не комсомольцы, а в Бога не веруете, я уж заметил, ни разу не перекрестились.
А не сдам я вас, потому что, во-первых, все мы русские и с германцами война, а во-вторых, к нынешней Советской власти у меня боле претензий нет. Хоть она и поганая – все одно, от Бога. После гражданской меня не тронули. Офицером я же отродясь не был, так что отпустили на все четыре стороны. Двинул я в Юзовку, ныне Сталино, устроился там на шахту. Году в двадцать третьем это было. Точно. Мне тогда тридцать пять лет стукнуло. Вот там Нюрку-то я и встретил…
Виталик быстро посчитал, получилось, что деду то сейчас всего-то пятьдесят четыре… И никакой он не дед, спрятался за бородой…
Тем временем, хозяин продолжал:
– А в двадцать восьмом у нас аресты начались. Одного за другим инженеров стали арестовывать, мастеров, рабочих некоторых.
– За что? За то, что в белой армии служили? – спросил Захар.
– Ну, тогда у нас пол-страны за это посадить можно было. Некоторые по два-три раза со стороны на сторону переходили. А, между делом, у зеленых хулиганили.
А в Юзовке из-за чего началось? На угольных шахтах ЧП случались, чуть ли не ежедневно. То оборудование сломается, то обвалы, а уж прогулы так постоянно. А почему? А потому, как большая часть рабочих не имела никакой квалификации. Владели лишь ломом и лопатой в совершенстве. Впрочем, новую технику закупали, только работать на ней было некому. А начальство сверху только «давай, давай» и лозунги – пролетарский натиск, да пролетарская смекалка… Начальству «вредительство» и приписали. А кто знает, может и было то вредительство, а может и не было. И меня арестовали. Полгода в Юзовской тюрьме просидел до суда. Потом год дали. И три поражение в правах. Ох, и зол я тогда был. Контрреволюцию мне простили, а вот то, что не сообщил ГПУ о заговоре бывших владельцев, осудили. А я что знал? Ничего, кто-то из своих анонимку написал…
– Каких еще бывших владельцев?
– Я фамилию только одного помню, Колодуб, что ли? Остальных не помню. Но то, что они инженерами работали – это точно. Рабочие на них злы были очень. Они расценки понизили, а нормы выработки подняли. Весной двадцать седьмого. После освобождения мы с Нюркой сюда приехали. Подальше от людей. Я лесником устроился. Он по хозяйству. А в тридцать пятом Советская власть и начала кончаться, Слава, Тебе Боже наш, Слава Тебе!
– Как это кончаться??? – у Захара и Виталика аж челюсти отпали.
– А вот так и начала, когда товарищ Сталин к стенке поставил бандитов революционных да тех, кто церкви разрушал. Тухачевского, сволочь эту расстрелял, Блюхера туда же. Жидов Троцкого, Каменева да Зиновьева туда же, в штаб к Духонину отправил. Да всякой мрази по мелочи.
– Так вроде же всех брали, и белогвардейцев бывших тоже, кулаков там.
– Лес рубят – щепки летят. Так, кажись, в народе говорят? Товарища Сталина бы в четырнадцатый год, вместо царя-батюшки, так мы ту войну-то не проиграли бы.
– Так и сейчас вроде, не у Берлина, дед Кирьян, а?
– Так и германец нынче сильнее и на один фронт воюет, не на два. Я, когда Нюрку осенью хоронил, мимо большака шел полдня. Видел, как колоннами к Москве шли. И все справное у них – не скрипнет, не брякнется. Хари у всех здоровые! Харч богатый имеют. Да и нашим не брезгует. Тогда гуся у меня поймали, литру пшеничной водки нашли. Сидят, жрут и тут же, прости меня грешного, пердят за столом, хохочут и твердят все: «Зонхайт! Зонхайт!» – на здоровье, значит. Мочились, сволочи, прямо в сенях. Неделю их запах поганый отмывал. Потом такой костер в печи устроили, чуть дом не спалили. А перед сном разделись бесстыдно, и давай вшей ловить. Тьфу.
Потом дед помолчал и продолжил:
– Вот и выходит на круг, что сила силу ломит и плакать не велит. Так то… С конца лета все на Москву самолеты шли. Каждый час. Вечером туда, ночью обратно. Во двор выйду, слушаю – много ли обратно-то возвращаются? А пленных-то… Пленных-то сколько было. Колонны длинные. Но ничего. Плен еще не смерть, а дальше смерти уже ничего, окромя Бога нет. С того света не возвращаются, а из плена, бывает, бегут. Пленный вскрикнет, а мертвый никогда. Ничего. Если народ поднимется, немцам Россию не взять. Вот церкви откроют, да погоны вернут, вот тогда и немцев мы погоним обратно.
Парни переглянулись. Дед-то мужик умный оказался. Как в воду глядел в будущее…
– Ладно, дед Кирьян, погостили у тебя ночку – пора и честь знать.
– Какую ж ночку, милок, вы тут двое суток проспали! – ухмыльнулся бывший унтер-офицер.
– Как двое суток??
– Ну так… Спали сначала беспокойно, а потом как убитые. Я уж волновался, подхожу – ан нет, дышат!
– Винтовку, дед верни! – мягко напомнил Виталик.
– Сначала портки надень, Аника-воин! И оружье я вам дам еще. Тут с неделю назад бой был большой. Я после боя ночью сходил, принес кой чего. Давай-ка, стол-то подвинем.
Они отодвинули стол, под ним оказался квадратный люк в погреб. Парни подняли его, а дед Кирьян зажег свечу.
– Ты, Виталий, больно большой, головой там ударишься, постой у окна, посмотри, мало ли чего, а ты, Захарушка, за мной лезь.
В полу погреба, под слоем соломы, оказался еще один люк.
– Спускайся, да выбирай там чего надо.
Дед оказался запасливым воякой.
Тут тебе и пара наганов была, и связка опять же трехлинеек, и лимонок несколько штук, даже ППШ в наличии.
Хозяин словно угадал мысли Захара:
– К автомату патронов на полдиска. Не бери его. Бери карабин.
– Карабин?
– Винтовку, которая короче. Драгунской раньше называлась. Сейчас не знаю как. И чему вас в армии то учат нынче?
– Гражданские мы, дед!
– Ишь ты, гражданские. А чего с оружием шарахаетесь?
– А время-то, какое? – подал голос сверху Виталя.
– А время такое, что ежели с винтовкой в руки к германцам попадетесь – они вас тут же расстреляют или повесят как партизан. А вот если в форме, то шанс есть живым остаться и в плен попасть. Так что, дам я вам еще формы по комплекту. Тут у меня в августе прошлом трое как раз ночевали. Утром переоделись в мое хламье, а свое оставили. Даже подштанники! Хе, хе… Хотя я тут партизан не видал. – Закончил он, выбираясь из своего подземелья. – Но слухи ходят, ага! Так что ж за Россия без слухов-то.
Потом дед ушел за печку и вытащил оттуда три пары галифе и гимнастерок. Поношенных, но чистых.
– Примеряйте, я пока за твоим, Виталий, стволом схожу. – И хлопнул входной дверью, бросив кучу на пол.
– А дед то прав, – сказал Захар. – Да и если к своим выйдем, про джинсы чего скажем?
– Прав-то, прав. Да вот только мне это все маловато будет. – Почесал затылок двухметровый Виталя.
Штаны и, правда, доходили едва до щиколоток, гимнастерки же не застегивались на широкой груди.
– Хрен с ним. Пойду без нее.
– В свитере, что ли? – на Захаре форма с чужого плеча висела как на пугале.
– И в курточке. А что делать?
– Пилотку хотя бы надень.
– Надену.
Дверь открылась, вошел хозяин, неся в одной руке винтовку за цевье, а в другой…
Знамя!
– Захар, придурок! – дал ему подзатыльник Виталя. – Тебе ж ничего доверить нельзя! Спасибо, дедушка, сохранил!
Хозяин только ухмыльнулся, протянув ребятам их сокровища.
И тут в дверь осторожно постучали.
Все замерли от неожиданности. Только дед бросился к окну:
– Девка какая-то… Одна! Ну-ка брысь в светелку!
Парни, собрав барахло, на цыпочках прокрались за ситцевую занавеску.
В щелочку было видно, как старик зашаркал к двери и прокашлял, сгорбив спину:
– Кого там Бог послал?
Из-за двери что-то промычали невнятное.
Тогда хозяин открыл дверь, шагнул в сенки, а через мгновение уже вскрикнул:
– Ах ты, Господи, Боже мой!
Парни, не выдержав, бросились к нему.
Дед держал, рухнувшую на него лицом девчонку.
Втроем, они перетащили ее на лавку, положили…
– РИТКА!!!
Глава 5 Мальчишки
Мы жили под бомбами, мы плыли в понтонах.
Мальчишки зеленые в рубашках зеленых.
Мы лезли на бруствер зелеными лицами,
И в гиблую землю пытались зарыться мы.
Нас в бой поднимали ракеты зеленые.
Давно уж команды ушли похоронные.
А мы в плащ-палатках закопаны наскоро -
Фанерные звезды, пробитые каски.
М. Цыганков. «Мальчишки зеленые»Впереди торчали два холма, а между ними, в болотистой лощинке, бежал ручеек. «Словно женская грудь» – наслаждался пейзажем Захар, лежа с Виталиком на бережку того самого ручейка.
Только вот вершинки этих грудей оседлали опорными пунктами фрицы. Унтер-офицер царской армии Кирьян Богатырев предупредил их перед уходом, что сплошной линии фронта как в первую германскую нет здесь. Болота.
Немцы оседлали дороги и холмы, простреливая пространство между ними. Только что поступившие в войска MG-42 косили все живое на расстоянии километра со скоростью двадцать выстрелов в секунду. Все кочки были, наверняка пристреляны и минометчиками, и снайперами.
– Вряд ли «Сорок второй». – флегматично ответил Виталя, в ответ на размышления Захара. – Скорее «тридцать четвертый» эмгешник.
– Почему это?
– «Сорок вторые» сначала в Африку пошли. К Роммелю. Как экспериментальные образцы. Десятого июня только там должны появиться.
– А ты откуда знаешь? – покосился на него Захар.
– Читал.
– А какая разница «сорок второго» очередь зацепит или «тридцать четвертого». Все одно – кирдык.
– «Тридцать четвертый» медленнее бьет. Но скорость пули одинаковая. Она сквозь тебя ползти со скоростью семьсот пятьдесят пять метров в секунду, что из «сорок второго», что из «тридцать четвертого».
– Вот я и говорю – без разницы.
Поэтому парни и лежали, жуя сухари, и разглядывали лощинку, по которой в темноте поползут к своим.
Колючки не было, вроде бы. С другой стороны, зачем она с тыла? Хотя не… По холмам-то идет колючка по низу. Значит и на выходе ее не должно быть. Хотя отсюда плохо видно.
И потом, воронки есть. Немцы, вроде как должны ракетами все освещать – вот в ямках и будем мертвяками притворяться.
Должны проскочить! Главное не спеша. И к земле прижаться так, как к бабе мягонькой.
– Понял, Захар?
– Виталя, понял я… Ну чего ты мне пятый раз объясняешь?
– Чтобы, когда тебе задницу оторвет осколком, я тебя не тащил на себе!
Сначала они переругивались шепотом, прислушиваясь ко всем звукам, потом замолчали.
А ведь еще вчера утром сидели у деда Кирьяна, слушая его рассказы. А потом откуда-то появилась Ритка.
Грязная, оборванная… И к тому же упавшая в обморок прямо в дверях.
Деду они объяснили, что знают ее.
На что хозяин лесного дома только почесал затылок. А потом велел убираться как можно быстрее.
«Этак вас тут орда соберется! Мало ли полицейские нагрянут. Сейчас за Меланьей опять идти надо. Ну, как заподозрят чего?»
Старик был, конечно, прав. Да и все равно не место им тут. Надо идти. И, молча постояв у кровати с Ритой, отправились в путь. Правда, их дед Кирьян скоро догнал. Притащил им шинели. А куртку Виталика забрал себе. Сказал, что поменяет на лекарства для Ритки.
Они даже не заметили, как он перекрестил их спины, удаляющиеся в лесной чаще.
Один раз, все же пришлось переночевать в лесу, хотя надеялись добраться до линии фронта за день. Однако сумерки падали быстро, и, хотя перестуки пулеметных очередей было слышно совсем близко, они не осмелились ползти неизвестно куда, рискуя нарваться на немецкий дозор.
А к краю леса вышли как назло через час после подъема.
Вот и куковали тут до вечера, время от времени, отползая по нужде. Даже вздремнули по очереди.
Вечер неумолимо надвигался. И почему-то с каждой секундой становилось все страшнее и страшнее.
– Значит, повторим. – Прошептал Виталик. – Полк?
– Восемьдесят шестой полк, сто восьмидесятая стрелковая дивизия.
– Как звали командира?
– Полковник Микрюков.
– Комиссара полка?
– Иванцов.
– Комбат?
– Капитан Семенов.
– Комроты?
– Старший лейтенант Ежов.
– Комвзвода?
– Лейтенант Винокуров. Виталь, а прокатит?
– Документы в сейфе остались. Кто проверит?
– Так документы-то документами… А в штабе армии, наверняка, сведения есть?
– Бог не выдаст, свинья не съест. Да тот полк еще осень пропал. И документы уже не тут, а в Москве.
– Может, все-таки, на контузию спишем? Я зрачками дрожать умею, как при сотрясении бывает… – сообщил Захар.
– Я-то не умею! Да и никто из-за двух окруженцев не будет запрос в Генштаб отправлять.
– Ага. Не будут. Тупо к стенке поставят. Про особистов не читал, что ли?
– Как в плен попал?
– Контузило. Потерял сознание, очнулся – рядом немцы.
– Как бежал?
– С тобой из эшелона ночью выпрыгнул, доску в вагоне вместе оторвали. За нами еще прыгали, но найтись не могли.
– Где знамя нашел?
– После побега через те же места пробирались. В сейфе нашли.
– Почему секретные документы с собой не взял?
– Так там целый сейф. А идти неизвестно сколько. Закидали его листвой. Могу место указать. В углу между дорогой Ивантеевка-Демянск и речкой Полометь.
– Где книжка красноармейская?
– Немцы отобрали.
– Оружие – где взял?
– В лесах подобрали.
– Ладно, более-менее нормальная легенда. Лучше, чем твоя – ничего не помню, сознание потерял, бац и уже ползу к нашим…
– Зато, Виталя, согласись. Правдивее.
– Правдивее. Но для нас, а не для особиста. Ну что, двинули?
Стемнело окончательно. И они очень осторожно выползли на поле.
Немцы, почему-то, ракеты не пускали.
Ребята подползли к первой воронке и съехали в нее по глине. Подышали. Осторожно высунули нос, пытаясь определить расстояние до следующей. Снова поползли. Снова воронка. Снова съехали. Тишина. Еще одна… Потом четвертая…Вот уже между холмами, и слышно как разговаривают гансы наверху.
И тут взлетела первая.
Хорошо, что они лежали в относительно глубокой, не минометной, ямке.
И только они собрались ползти, как со второго холма взлетела вторая ракета.
И так по очереди – слева, справа, слева, справа…
Минут через тридцать Виталик рискнул, махнув рукой Захару – мол, за мной.
Похоже, им чертовски везло. Несмотря на свет, их так и никто не заметил.
Пока они не доползли до конца лощины к выходу на поле перед нашими траншеями.
А вот там то и оказался тот самый ряд колючки с навешанными на нее консервными банками.
– Чего делать будем? – шепнул Захар на ухо Виталику.
– Кино смотрел? – не задумываясь, ответил тот. – Подползаем тихонечко. Я осторожно подымаю проволоку – ты ползешь. Проползаешь – перехватываешь у меня, я ползу – ты держишь. Понял?
Захар кивнул.
– Пошли!
Им опять повезло. Именно в этот момент фрицы перестали бросать свои светюльки.
Очень осторожно… Очень медленно… Очень бесшумно…
Но они переползли через колючку. И свалились в новую воронку.
И гансы опять закидали ракеты.
Виталик беззвучно засмеялся:
– Как будто помогает кто-то! Вот верил бы в Бога, решил бы что ангелы. Передохнем.
Лежали почти час, уже не рискуя на нейтралке ползти под светом.
Как только немцы сделали перерыв – дернулись вперед. Перебежкой. Захар впереди, Виталик сзади.
Виталик!
Тишину уже майской ночи разорвал грохот взрыва.
Захар свалился, подрубленный взрывной волной.
Сзади гортанно заорали что-то, пуская ракеты одну за другой, спереди захлопали десятки одиночных выстрелов.
Захар обернулся и увидел корчащегося, поджавшего ноги Виталика. Подполз обратно и увидел как тот, прокусив губу до струйки крови и вытаращив белые от боли глаза, старается не кричать. Вертясь на одном месте, он обхватил ноги руками и поджал их к себе.
Захар сунулся туда и обомлел, увидев, как вместо правой ступни, торчат сахарно-голубоватые, в свете немецких ракет, осколки костей и хлещет черная кровь.
Он так и не понял, как это смог сделать, взвалив на себя почти центнер, пробежать несколько десятков метров в длиннополой, путающейся под ногами шинели, под обстрелом, по разбитой воронками земле.
Но смог. С разбега прыгнув в нашу траншею…
Он слабо понимал – что происходит, словно пьяный, воспринимая суматоху вокруг. Кто-то потащил Виталика по жирной грязи, кто-то лупил по щекам, чего-то спрашивая…
…Через час, после того как напоили крепким – и сладким! – чаем, Захара привели в командирскую землянку.
Там сидели три мужика – двое с тремя кубиками на малиновых петлицах, а третий с одной шпалой.
В кубиках и шпалах Захар разбирался не больше, чем японских иероглифах. Чего-то помнил, например то, что шпала – это, вроде бы, больше, чем кубик. Но насколько больше одна шпала трех кубиков? И почему у одного звезда на рукаве над углом шеврона? Ладно… Разберемся, по ходу…
Его размышления прервал голос «шпалы»:
– Ну?
– Э? Чего? – удивился Захар.
– Боец, охамел?
Захар вспомнил, что надо представиться.
– Захаров Георгий Анатольевич. Рядовой. – И приложил руку к рыжей от грязи пилотке.
Командиры с кубиками засмеялись, а «шпала» покачал головой:
– А по форме разучился, твою мать?
Захар вспомнил, чему его учил Виталик:
– Рядовой Захаров!
– Откуда, рядовой Захаров?
– Оттуда… – кивнул он в сторону двери.
– Клоун, млять? Или контуженный? – разозлился «шпала».
– Это… Ага. Есть немного…
– Полк какой, идиот?
– Аааа.. Так это… Вот. – Захар лихорадочно, путаясь в петельках, расстегнул шинельку и стащил гимнастерку.
Командиры с любопытством смотрели на его манипуляции.
Размотав полотнище знамени, Захар развернул его перед собой. В сумрачном свете коптилки, красный цвет почернел, ровно запекшаяся кровь, но золотые буквы все одно ярко светились: «86-ой полк 180-ая стрелковая дивизия».
В землянке повисло молчание…
– Ну, рядовой… Ты, где его взял? Полк же еще осенью погиб… Весь.
Захар, вспоминая легенду, объяснил внимательно слушавшим командирам свою «историю».
– Ишь ты… Чего-то ты не очень похож на бежавшего из плена… Толстоват.
– Извините, товарищ э-э-э… командир! – пожал плечами Захар. – Комплекция такая!
– Ну ладно, с этим пусть в особом отделе полка разбираются. Но все равно, молодец, молодец… – «Шпала» подошел к Захару и похлопал его по плечу. – «Отвагу» заслужил! Если бы с документами был. Ну, ничего, особисты разберутся, попрошу тебя к нам вернуть. ВУС какая?
– А? – не понял Захар?
– Специальность, говорю, какая?
– Географ так то, четвертый курс. – Словно извиняясь, сказал Захар.
– Тьфу ты… Воинская какая? – постучал его по лбу желтым от никотина пальцем командир.
– Рядовой!
– Тебе надо фамилию сменить. С Захарова на Швейка. – Подал голос один из «кубиков». Второй засмеялся, а «шпала» пошел обратно к своему чурбаку, заменявшему табурет.
– А я уж хотел спросить, не родственник ли тебе генерал Захаров, Георгий Федорович! Да у генерала таких родственников быть не может!
Захар расслабился, переступил с ноги на ногу и сказал:
– Хы. Да кабы у меня генерал родственником был бы, разве я бы здесь стоял?
Только по окаменевшему лицу «шпалы» он понял, что ляпнул что-то не то!
– Ты что, сука, себе позволяешь… У самого товарища Сталина сыновья воюют! Яков Иосифович погиб в сорок первом, тебя, сволочь, защищая!
Покрасневший командир подскочил к нему и врезал мощную плюху в правое ухо. И выскочил из землянки.
– У капитана сын погиб в Гомеле. 12 лет ему было. Немцы расстреляли, когда он одного из тэтэхи ранил. Вот так. – Отстраненно сказал один из «кубиков».
И тут майор влетел обратно с каким-то бойцом-азиатом:
– Култышев! Посадить его в отдельную землянку и глаз не спускать со сволочи! Хотя нет! Какая на хрен землянка? В щель его. И глаз не спускать. Завтра расстреляем перед строем как дезертира!
Узбек с русской фамилией сделал шаг в сторону и снял ППШ с плеча.
Захар обалдел:
– За что!? Товарищ капитан! Я же не дезертир, я же наоборот!
Но боец Култышев недвусмысленно указал ему путь стволом.
– Эй! – Засуетился Захар. И, тут же получив пинок под зад, вылетел из землянки.
Накрапывал мелкий обложной дождь. Глина чавкала под ногами, ровно голодный пес.
– Слышь! А почему ты Култышев, если ты узбек? – поинтересовался Захар у конвоира.
– Я не узбек, а удмурт. Понял?
– А похож на узбека… – вякнул Захар и получил мощный удар прикладом между лопаток, так что тут же свалился в грязь мордой. – Блин, и пошутить нельзя…
– А еще меня батя научил стрелять. – Невозмутимо добавил боец Култышев. – Если дернешься, я тебя даже из «папаши» достану. Понял?
И усилил аргумент пинком под ребра.
– Больно же… – просипел Захар. – Шуток что ли не понимаешь?
Потом поднялся, счищая куски глины с шинели, и откашлявшись, сказал:
– Култышев… А тот парень с которым я пришел… Его куда дели?
– Так закопали уже.
– В каком смысле закопали?? – Захар остановился, но, получив новый тычок под ребра, почавкал дальше по коричневой грязи.
– В таком. Помер он. Даже до санбата не донесли.
– Как это помер?
– А как помирают? Три пули в спину. Вот и помер.
И тут Захар вспомнил, вернее даже просто осознал, что когда он прыгал в окоп, что-то толкнуло их обоих с сзади, что именно из-за этого толчка он свалился кулем на дно траншеи… А теперь оказалось, что это были три пули, воткнувшиеся в живую плоть Виталика и спасшие его…
Галлюцинация, твою мать…
Он замолчал до самого пункта назначения, который представлял из себя маленький, но глубокий окопчик.
На дне его он и устроился, накрывшись мокрой шинелью. А удмурт Култышев селя рядом, навалившись на березу и немедленно завернув самокрутку.
Захар захотел попросить его пару тяжек, но не успел. Потому как уснул…
Время от времени он просыпался, как бездомный одинокий пес, ожидая то ли опасности, то ли тепла. Однако ни того, ни другого не было. И только черная фигура охранника мрачнела угольком самокрутки.
Лишь под утро он уснул по настоящему. И, как водится, его тут же разбудил грубый окрик.
– Подъем! – и кто-то нежно ткнул прикладом в ребра.
Захар открыл глаза. Прямо перед носом дождевой червяк прятался в склизкую глину.
– Подъем, говорю. – Захар еле выполз из щели.
Над лесом стоял густой туман, казавшийся живым. Везде было шевеление, звяканье металла, кто-то что-то говорил и тихо смеялся. Но никого не было видно. Только здоровенный солдат стоял над ним. Удмурт Култышев, видимо, сменился на этого бугая.
– Шагай! Тебя комбат ждет. – Мотнул он головой.
Беспрестанно зевая, Захар зашлепал по глине траншеи.
В командирском блиндаже сидели эти же трое. Словно и спать не ложились.
– Товарищ капитан! Арестованный Захаров доставлен! – рявкнул над ухом густой голос конвоира.
Капитан подозвал Захара к столу.
– С расстрелом подождем. – Сразу обрадовал он. И это была относительно хорошая новость. – Покажи-ка, придурок, как вы вчера проползли по минному полю.
И ткнул пальцем в замызганную, исчерченную синим химическим карандашом карту.
Захар пригляделся.
– Так чего тут, товарищ капитан показывать. Мы вот между холмов этих и ползли вчера. По ложбинке. Потом колючка была. А что?
– Дуракам везет, говорят в народе… – Задумчиво сказал комбат. – Там мин понатыкано еще с марта. В два слоя. Как вы умудрились, а?
Захар пожал плечами.
– Друг твой помер. В курсе? – спросил капитан.
Захар только вздохнул в ответ.
– Толку от него… – раздраженно сказал кто-то из младших командиров. Скорее всего, это были лейтенанты. Командиры рот. «Надо было запоминать, блин, инструктаж!» – обозлился сам на себя Захар. – «Сейчас бы понимал хотя бы, кто есть кто»
– Черт с тобой… – словно сам к себе обратился комбат. – А теперь слушай меня, боец Захаров. Сегодня надо взять холмы.
– Мне одному? – растерялся тот.
– МНЕ ОДНОМУ! – рявкнул в ответ командир. – И ВСЕМУ БАТАЛЬОНУ! Атака ровно в половине шестого. В тумане, пока не видно ни черта. Через мины поведешь ты.
– Так я же…
– Лебедев! – снова рявкнул комбат и здоровенный конвоир моментом оказался в блиндаже. – С этого цуцика глаз не спускать. Башкой отвечаешь. И этот… Култышев тоже с тобой за ним пусть глядит в оба. Шаг вправо, влево – сами знаете что. А ты, – снова обратился он к Захару – обязан туда провести нас. Живым останешься – будет тебе грудь в крестах. Или честно за Родину погибнешь. Не сможешь – зароем как собаку и скажем, что так и было. А теперь иди и думай – как тебе быть. У тебя полчаса. Лебедев! – и капитан показал конвоиру волосатый кулак. Тот молча козырнул и выпроводил Захара в туман.
– Лебедев, слышь чего скажу… – осторожно спросил Захар, оказавшись на сыром и холодном воздухе. – Может у вас чай есть тут? Или кофе?
– Ххе… – только и ответил Лебедев. Но повел его в направлении кухни, издалека пахнувшей какой-то вкуснятиной. Вкуснятина оказалась овсянкой…
– …Нету шансов, товарищ капитан! – вздохнул в это время один из «кубиков» в блиндаже. Тот, который со звездой на рукаве.
– Политрук, шел бы ты делом занимался. – Зло махнул на него капитан. – Вон в тумане газеты подтащили. Раздай. Пусть новости почитают. Мужики обрадуются бумаге на самокрутки. А ты, комроты, останься. Время еще есть, а совет в Филях мне держать больше не с кем.
Политрук накинул плащ-палатку и вышел.
– Шанс у нас есть один. По туману как можно ближе к высоткам подобраться. Но мины, мины… Потому впереди пойдут сейчас старики. Тихо пойдут. Очень тихо. Сколько смогут, столько снимут. В третьей роте вроде сапер есть бывший?
– Погиб позавчера.
– Тьфу, мать… – ругнулся комбат. – Идиотизм. Сто пятьдесят человек на две высотки без артподдержки. Ляжем все. Смысл? А я уж на этого окруженца понадеялся. А гармонист жив?
– Минут десять назад жив был!
– Ладно, свинья не выдаст…
Мокрый полог плащ-палатки, заменявшей дверь, распахнулся:
– Товарищ капитан, старший лейтенант Кутергин в ваше распоряжение прибыл!
На пороге молодцевато отдал честь в новом, но уже измазанном новгородской грязью обмундировании командир.
– Оп-па… Вот это хрен с горы! – удивился комбат. – Один старшой или как?
– Почему же один? – протянул пакет Кутергин. – Пополнение привел. 200 бойцов.
– И то хорошо. Щедр комполка нынче, щедр… Ну садись, старший лейтенант. Мозговать будем. Чайку?
А в это время Захар тщательно облизывал после ненавистной, но такой вкусной сегодня овсянки ложку.
Рядом сидел молчаливый Лебедев, флегматично жующий чего-то свое. Сухарь, похоже. Вдруг, в молочном тумане, кто-то крикнул высоким голосом, срывающимся на фальцет:
– Первая рота! Политинформация!
Лебедев неожиданно подал голос:
– Давай, комсорг! Поведай нам новости! – И так же лениво продолжил грызть.
Бойцы рядом немного оживились, но даже не подумали подыматься. Вообще-то по фильмам, подумал Захар, они должны обступить политинформатора и жадно интересоваться новостями.
Из тумана показался пацаненок с торчащей из безразмерной шинели цыплячьей головой.
В руках он нес свернутую газету.
Встав в центре лежащих на мокрой земле бойцов, он развернул ее и, смешно прокашлявшись, начал:
– От советского Информбюро!
УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ ОТ 2 МАЯ!
В течение ночи на 1 мая на фронте чего-либо существенного не произошло.
– Удивил! – Засмеялись бойцы! – Вот когда ты, комсорг, самолет пуком собьешь, вот тогда это будет существенное событие! О тебе даже товарищу Сталину сообщат! И сразу в тыл к немцам отправят. Как химическое оружие!
Солдаты в голос заржали, а политинформатор, видимо уже привыкший к насмешкам бойцов продолжил, ни разу не смутившись:
– На одном из участков Западного фронта противник предпринял ряд атак при поддержке танков. Огнём нашей артиллерии и пехоты все атаки гитлеровцев были отбиты. Немцы потеряли убитыми более 400 солдат и офицеров. Уничтожено два танка противника. Захвачены трофеи и пленные.
Снайперы частей, обороняющих Севастополь, за 29 апреля уничтожили 90 солдат и офицеров противника.
– Сюда бы их… Чтоб с высоток гадов посшибали! А то блин ползаем тут как вши беременные… – продолжили комментировать бойцы.
– Пленный солдат 7 роты 176 полка 61 немецкой пехотной дивизии Эрвин Шмоллинг рассказал: «В феврале меня мобилизовали и послали на фронт. У солдат, недавно прибывших из Германии, нет никакого желания воевать. Они думают о своих семьях и стремятся всеми правдами и неправдами вернуться на родину».
– Угу… Заметно. – Кто-то подал голос.
– Администрация одного немецкого госпиталя в г. Вена предложила безногим и безруким солдатам, не закончившим курс лечения, немедленно покинуть госпиталь и выехать на родину. На протесты раненых последовало следующее разъяснение: места в госпитале нужны для солдат, которые после выздоровления могут быть снова отправлены на фронт. В этом же госпитале было много случаев, когда тяжело раненные солдаты были отравлены.
– Да ну на хрен? – удивился кто-то.
– Фашисты, товарищи, способны на все! – оторвался от газеты комсорг. – Вот в этой же сводке… Читаем: Гвардейцы части, где командиром тов. Родимцев, захватив опорный пункт противника, обнаружили три трупа советских бойцов, замученных гитлеровцами. Взятых в плен раненых красноармейцев немцы пытали, а потом привязали проволокой к дереву. В таком положении раненые красноармейцы умерли в страшных мучениях.
Молчание повисло над полянкой. У Захара моментально всплыли перед глазами истощенные десантники, ползущие навстречу фрицам.
– Ты это, комсорг, заворачивай свои страсти. Чего бы хорошее прочитал. А это мы и так видели своими глазами.
– А хорошее вам сейчас товарищ комбат прочитает. Приказ командира полка
– Ого! – Мужики запереглядывались.
– Никак в атаку?
– Ага! Вон и подкрепление подошло. Эй, земляки! Вологодские есть?
– Эх, а техники так и нет…
– Ну, ты комсорг и умеешь обрадовать…
…– Понял, старлей?
– Так мы же там, на хрен, весь батальон положим?
– Процентов тридцать на минах. Еще процентов тридцать немцы на подступах положат. А там уж как Бог даст. И скажи спасибо, что туман. Хоть какой-то шанс. Значит, после построения отправляем саперные группы. Остальные ждут артподготовки. Сколько чего, а боги войны обещали помочь. Минут на десять. За эти десять минут надо как можно дальше рвануть. Тут пятьсот метров от нашего леса по полю. Потом подъем. Пологий. Так что мертвой зоны не будет. Стройте своих, мужики…
– …Товарищи красноармейцы! Есть приказ командования. Выбить немцев с холмов, закрепиться там и держать оборону. Дело не простое. Но напомню вам приказ Народного Комиссара обороны СССР номер сто тридцать.
Капитан обвел суровым взглядом строй бойцов:
– Рядовым бойцам, пулеметчикам, минометчикам – стать мастерами своего дела бить в упор фашистско-немецких захватчиков до полного их истребления! Всей Красной Армии – добиться того, чтобы 1942 год стал годом окончательного разгрома немецко-фашистских войск и освобождения Советской земли от гитлеровских мерзавцев! мы должны разбить немецко-фашистскую армию и истребить немецких оккупантов до последнего человека, поскольку они не будут сдаваться в плен. Других путей нет. Мы это можем сделать, и мы это должны сделать, во что бы то ни стало.
Захар стоял и слушал казенные, обычные, вроде бы, слова, но они, почему-то его цепляли.
Он знал, что война кончится через три года, в мае сорок пятого. Но что бы она закончилась в том мае, а не позже, он должен сейчас вместе со всеми, стоящими рядом мужиками, пойти и убить немцев там, на этих двух высотках, между которыми они с Виталиком еще вчера ползли. А что бы война закончилась еще раньше, ему надо выжить, а потом рассказать всю правду вот этому капитану. И пусть потом он отправляет его в особый отдел или еще куда… жаль, что сейчас не поверит. Решит, что струсил.
– Лебедев! А Лебедев! А мне винтовку дадут? – спросил Захар, уже сидя в траншее.
– А твоя-то где? – приоткрыл один глаз дремлющий Лебедев.
– Не помню. Когда прыгал сюда, куда-то делась…
– Ну и все. Так пойдешь. С лопаткой. Лопатка то есть?
– Нету! – сознался Захар.
– А чего у тебя есть-то вообще? – раздался знакомый голос вчерашнего конвоира.
– Мурзик! – Лениво сказал Лебедев. – Дай бойцу лопатку.
– Хера себе! Чего это я ему свою лопатку должен отдавать? – удивился рядовой Култышев.
– А у него, кроме зубов и пальцев, не с чем в атаку идти.
– Лебедь! Свою ему отдавай. А я не дам! – сел рядом Култышев.
А Захар поинтересовался:
– А почему Мурзик?
Удмурт косо посмотрел на него и сказал:
– Еще один такой вопрос и в атаку пойдешь с руками, а зубы тут оставишь. Понял?
– Чего не понятного-то… – обиделся Захар и замолчал.
– Лебедев. Дай будущему штрафнику штык. – Подал вдруг кто-то голос. – Пусть к палке какой-нибудь примотает.
– А я чего, товарищ лейтенант? – ответил Лебедь.
– А ты и так большой. Тебя фрицы увидят, и пятки салом сразу смажут.
Лебедь вздохнул, отомкнул штык и протянул его Захару.
Тот повертел его в руках. Тогда Лебедь приподнялся и стащил с бруствера длинный сучок. Мурзик же достал из кармана шнурок.
Матерясь про себя, Захар приматывал штык к деревяшке. Лебедь курил, правая его нога почему-то дрожала, а Култышев просто смотрел в молочное небо, вертя в руках складной нож….
Слева и справа вдруг зашевелился народ. Часть бойцов вдруг поднялась полезла через бруствер в сторону немцев.
– А мы чего? – заволновался Захар.
– Сиди и жди. – Спокойно ответил Лебедь. – Сиди и жди.
Где-то в глубине наших позиций вдруг заиграла гармошка. Несколько нестройных голосов заорали: «По полю танки грохотали!».
– А это чего это? – нервно подпрыгнул Захар. – Мужики, чего это?
– Сиди и жди…
Немцы почему-то молчали. Тишина стала казаться невыносимой, как в этот момент где-то что-то ухнуло, засвистело и утро разорвалось – «Бамм! Бамм! Бамм!»
– Рота к бою! – закричал лейтенант.
Мужики медленно, ровно нехотя, встали.
– Да как же я с палкой-то… – простонал Захар, когда крепкая рука Лебедя схватила за шкирку.
– Сейчас в репу дам! – пообещал тот. И зашмыгал носом.
А Мурзик надел каску, прикусил ремешок и чего-то там замычал. На верхней его губе повисла капелька пота.
Взрывы долбили красными вспышками в белизне тумана.
– Батальон! По-пластунски! Вперед!
Спотыкаясь, он перелез через стенку окопа и, словно паук побежал вперед на четвереньках. В сторону раскатов.
Его тут же дернули за ноги и он плюхнулся рожей в грязь.
– Ползи, дура! И перед собой смотри! Мину увидишь – обползай!
– Ага. – Кивнул Захар, хотя мало что понял. Как же ее увидеть-то… Переползая через какие-то рытвины, он старался тыкать в каждый подозрительный бугорок штыком. Везло. Пока везло.
И тут артналет прекратился.
– Батальон! – где-то заорал комбат! – За Родину! Вперед, мужики!
Тут же его кто-то дернул за шкварник и подопнул.
Справа, слева, впереди, сзади раздался многоголосый рев:
– АААААААААААА!!!!!
Заорал и Захар, помчавшись сквозь туман неизвестно куда,
И тут же немчура открыла огонь. Вокруг засвистело, загрохотало, застонало. Краем глаза он успевал замечать, как рядом то и дело падают бойцы. Кто отброшенные назад свинцом, кто, взлетая на воздух.
Чья-то кровь брызнула в лицо теплым дождем. Моментом вдруг казалось, что больше никого не осталось, что он бежит один навстречу смерти. А все пули летят в тебя. Пару раз он споткнулся о мягкие тела убитых. Пару раз свалился в маленькие минометные воронки. И порвал штаны, пробегая через чертову колючку.
И вдруг земля пошла вверх. А в тумане вдруг показались сначала яркие вспышки, а потом и сами силуэты врагов.
Он орал, но бежал, не мигая, вытаращив покрасневшие глаза.
Он один!
А вот хрен! Не один! Кто-то уже прыгал в немецкую траншею, сбивая прикладом каску пулеметчику. Кто-то уже хрипло матюкался, с жутким хлюпом втыкая лопатку поперек гансовского лица.
Захар разбежался и, словно играя в футбол, со всей дури пнул высунувшегося невпопад немца. Тот хрюкнул и, взмахнув руками, упал вниз.
Не удержавшись, Захар свалился на него. И сверху упал кто-то еще. Выбравшись из-под тела, он увидал, что это какой-то незнакомый «кубарь», зажавший в руке наган.
Захар с трудом вытащил пистолет из руки убитого и побежал по траншее. Заскочив в какой-то тупичок, увидел безоружного немца. Тот заорал, подняв руки вверх:
– Рус, нихт шиссен, их бин коммунистен! Их бин нихт дойчен! Их бин остеррайх!
Захар растерялся, постоял пару мгновений, а потом выстрелил в австрийца два раза. И встал.
– Чего встал? – Рявкнул над ухом Лебедь.
– Да вот… немца убил… – растерянно ответил Захар, разглядывая окровавленное, лежащее перед ним тело.
– Ну и хер с ним! Правильно!
А потом прицелился и добавил в него еще пулю.
– Вперед!
И они рванули дальше. Пару раз выскакивали на них еще немцы. И Лебедь обоих кулаком сбивал с ног, а потом смачно добивал прикладом под каску.
И внезапно все кончилось.
Навалилась резкая тишина, прерывающаяся лишь стонами раненых да редкими хлопками выстрелов.
– Землетрясение… – непослушными губами вымолвил Захар.
– Чего?? – повернулся к нему Лебедь.
– Земля, говорю ходуном ходит… Как волны. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Как волны… – и захихикал.
Лебедь посмотрел ему под ноги и, не целясь, выстрелил в землю. Передернул затвор и снова выстрелил.
Что-то шлепнулось Захару на щеку. Он машинально вытер ее и посмотрел на ладонь. Маленький кусочек человеческого мяса.
– Ты на фрица раненого встал. – Засмеялся Лебедь. – Вот тебе и качка морская.
Захар тоже нервно захихикал в ответ и сошел с трупа.
И тут голова Лебедя разлетелась в клочья. Тело его брызнуло фонтаном крови и грузно осело.
К траншее подбегали немцы. Снова началась пальба. А Захар побежал по траншее обратно, на ходу, пытаясь отстреливаться. Только выстрелов получилось два. На бегу он подхватил немецкий карабин и бил, бил по затвору ладонью. Завернув за угол, он вдруг вновь наткнулся на ганса.
Напуганное лицо показалось знакомым. Захар остолбенел:
– Ёж?! Ты?!
– Я… – то ли на русском, то ли на немецком ответил Ёж.
И тут плоский штык немецкого карабина с хрустом вышел из груди Захара.
А в небе появилось солнышко…
Глава 6 Партизаны
Лютей и снежнее зимы
Не будет никогда, -
Эвакуированы мы
Из жизни навсегда.
Ах, мама… Ты едва жива,
Не стой на холоду…
Какая долгая зима
В сорок втором году.
А. Васин. «Холода»Фельдполицайкомиссар Дитер Майер трясся в маленьком «Опеле» и размышлял о внезапно открывающихся перспективах карьерного роста. Обычный допрос этого контуженного русского дал такие неожиданные результаты. Вообще-то, положа руку на сердце, тому гауптману, – как его… Бреннеру, кажется? – полагалось его просто сдать армейской разведке.
Какое счастье, что Майер оказался рядом и решил развлечься. И вот, американские сигареты «СССР. Первые», корейская зажигалка и комплект русского камуфляжа в багажнике могут открыть ему путь наверх, из этих чертовых болот, как минимум в штаб армии.
Жалко, черт побери, что этот русский сошел с ума. Никогда не поймешь, что у них в голове. Одно понятно точно – все они животные. Один Глушков чего стоил. Та еще тварь. Ему бы лишь нажраться и залезть на бабу. Вот и долазился. Тот дурачок шлепнул его прямо на девчонке. Интересно, сошла она с ума тоже или придет еще в себя?
Впрочем, что до нее? Когда он приедет в заслуженный отпуск с Рыцарским Крестом, любая арийка…
…Бам! И тут машину тряхнуло так, что Майер едва не сломал шею о потолок кабины.
– Чертова свинья! – заорал он на водителя, но тот повалился на комиссара, брызгая кровью и обезображенного лица.
Что-то ухнуло, захлопали винтовки, раздалась автоматная очередь. По корпусу машины застучали пули.
Партизаны! Майер лихорадочно задергал дверную ручку, попутно вытаскивая из кобуры «Вальтер».
И едва он вывалился из машины, как в лицо уперся ему ствол. Комиссар поднял взгляд и увидел парня в телогрейке. Вполне, между прочим, арийской внешности. Немец даже не успел пожалеть о Германии, как партизан нажал на спусковой крючок.
– Костя! Дорофеев! Чего там у тебя? – крикнули парню из придорожных кустов.
– Шишка какая-то. С портфелем.
– Кончил?
– Ага!
– На хрена?
– А на хрен?
– Тоже правильно. Пошарь там, может, есть чего?
Партизан Дорофеев заглянул в машину, пошарил в бардачке, потом прошелся по карманам убитых.
Забрал все более-менее ценное и скрылся в деревьях.
– Совсем немцы охамели. – Буркнул он, когда упал на землю рядом с двумя товарищами. – Без охраны ездят, хоть бы что.
– Чего в машине нашел? – спросил один из партизан.
– Ни хрена хорошего. Портфель только. Да карабин с пистолем забрал.
– Ладно, уходим. Дома глянем, чего там.
И они неторопливо, гуськом ушли в глубь леса…
…Портки мне зашей! – проворчал дед Кирьян. – В лес тут ходил, за гвоздь зачепился…
Рита вздохнула и взялась за нитку с иголкой. Помершая прошлой осенью жена деда Кирьяна, похоже, была хозяйственной женщиной. Рукоделья было столько, что сама Рита, наверное, это все вышивала, вязала, пряла и ткала лет сто. Ну не сто, а пару десятков годков точно. По крайней мере, все эти занавесочки, половички и прочие покрывальца явно домашние, не покупные.
– Дедушка, а ты где гвоздь-то в лесу нашел? – спросила она, вдевая нитку в ушко.
– Да наразбрасывали тут… Ходят всякие и бросают, где попало.
Рита вздохнула.
Дед Кирьян покосился на нее и сказал:
– Не вздыхай как кобыла перед пахотой. Все с твоими знакомцами нормально будет. Дойдут. Виталик, вроде, мужик опытный и злой. Точно, дойдут.
– Хочется верить… Но не очень получается, дедушка…
– Думать тебе, внуча, не о них, сейчас надо. А о себе. Полиция прознает – чаво делать будем? Одну в лес тебя выгонять? Тоже не дело. А мне с тобой идти – только кур смешить…
– Дед Кирьян! – решилась вдруг Рита. – А мы ведь с ребятами не местные…
– Удивила… – буркнул тот ответ. – Быдто не знаю…
– Мы совсем не местные…
– Хы… Как немцы, что ли?
– Хуже. То есть, нет…
И она принялась сбивчиво рассказывать.
Дед только покряхтывал во время рассказа.
– Чудны дела твои, Господи! – сказал он, почесав затылок. – Значит две тысячи восьмой год, говоришь? А войну-то наши, когда выиграют?
– Я уже и не знаю – выиграют ли…
– Это как это? – возмутился дед. – Да чтобы наши войну не выиграли? Да быть того не может! Запомни, девка!
– Я тут, дедушка, по улице шла в Москве. Улица Маршала Жукова, называется. А там поперек нее растяжка рекламная. Ну, плакат такой – «Мерседес. Истинно немецкое качество. Порадуй себя».
– Жуков маршалом, значит, станет… – задумчиво ответил Кирьян Богатырев. – А ведь как я, унтером был…
А Рита, ровно не услышав его, продолжила:
– Русского в Москве ничего и нет уже. Только памятники архитектуры.
– А люди?
– А люди вроде бы русские. А посмотришь – так уже и нет. Помесь американцев с французами. На все им наплевать, кроме себя.
– Как же вы дошли-то до этого?
– Не знаю я… Вроде бы эту войну выиграли… Выиграем. В сорок пятом. А Советского Союза больше и нет. И России, похоже, нету. Раша Федераша.
– Это чего еще такое?
– Российская Федерация. Республика демократическая.
Дед Кирьян засмеялся:
– Это как при Сашке Керенском, что ли?
– Вроде того… Украина сама по себе, Белоруссия, Казахстан… Все по своим углам разбежались.
– Так ведь понятно. Вона, в годы гражданской – что ни уезд, так республика, что ни волость, так независимая. А потом пришли большевики и всех к стенке поставили. И у вас так случиться. Не могёт Россия без руки сильной. Вот когда ваши эсеры с кадетами все развалят окончательно – новый царь и придет.
– Вряд ли, дедушка Кирьян. Слишком там совесть с выгодой перемешана. Всем все равно. Война тут с Грузией была – так сидели как болельщики и по телевизору наблюдали, как наших убивают.
– Чего это еще за телевиздер?
– Типа кино. Только в каждом доме свое.
– Аааа… – приподнял левую лохматую бровь дед. – Ихний Ленин говаривал, да, что мол, пока народ безграмотен, важнейшими из искусств для них, большевиков, являются кино и цирк. Это у нас еще на шахте какой-то пропагандист говорил. Я так думаю, потому, чтобы народ не думал, а веселился. Вот вишь и довеселились до того, что немец под Москвой сейчас ходит.
– А у нас уже в Москве…
– А у вас уже в Москве, да… А чего ж вы там ничего не делаете-то?
– Так я же вам говорю, дедушка. Все равно всем. Равнодушные стали.
– Ну, вот ты-то же поехала воинов павших хоронить, значит неравнодушная?
– Так что я одна-то могу сделать.
И тут дед Кирьян не на шутку осерчал:
– Ты мне это брось! Одна она… Уж и не одна, а десять человек, говоришь, неравнодушных? А где десять там и еще, поди есть? Да и одна даже, ну и что? Кабы так рассуждали бы все, так и людей-то на Земле уже не было бы. Ты, вот сюда чудом попала, тоже будешь сидеть, ручки сложив? Нет, ты возьми винтовку и немца убей. Пулей, штыком… Потому как если ты немца не убьешь – он тебя убьет! Или другого кого!
Рита помолчала и ответила:
– А вы-то, что тогда не убиваете их?
Дед Кирьян вдруг осекся, замолчал и как-то искоса посмотрел на девчонку.
А потом уже ласково сказал:
– Не обращай внимания, внучка. Чего-то я сам на себя разозлился, наверное. Тебе-то бабе и впрямь – дома надо сидеть. Не бабье это дело – человеков убивать. Бабье дело человеков рожать.
И тягостно замолчал.
– А у меня вот не случилось детишек… Агась… – после тяжелой паузы продолжил он. – Значится, права ты девка… Пора и мне германцев погонять. Хоть не столь я и уклюж, как в молодости, но кой-чего еще помню. Только вот тебе-то, что делать?
И опять замолчал. А Рита пожала плечами.
– По уму, тебе бы надо тут сидеть, да ждать, пока наши не придут. Тем более, ты тут не одна такая. Вона друзья твои – Виталий да Захар – до наших уже поди добрались. Да и ежели вас троих сюды закинул Господь зачем-то, таки и остальных, наверно тоже? С другой стороны, в экой заварухе все ли дойти-то смогут? А? Так что придется и нам с тобой отсюда уходить. Проведу я тебя через линию-то фронта. Она тута вся в дырочках. Только вот ты думай – зачем тебя сюда Господь перенес?
– Наверно, потому что…
– Да не «потому что», а «зачем»! – перебил ее дед. – Про «потому что» будешь дома рассуждать! – и чего-то там еще подумал, но не сказал, смешно пожевав губы и дернув себя за бороду.
В сенях вдруг что-то загрохотало, раздался забористый мат и распахнулась настежь дверь.
В избу вошли трое вооруженных пацанов.
– Здорово, дед!
– И тебе не чихай! – буркнул тот в ответ. – Чего пришли?
Ритка помертвела. Полицаи?
Тот, который зашел первым, снял фрицевскую кепку и оказался неожиданно лысым. В сочетании с бородой, вид у полицая был достаточно импозантный. Что-то среднее между басмачом из прошлого и скинхедом из будущего.
Ритка невольно прыснула.
«Скинхобасмач» покосился на нее, но ничего не сказал.
– Кирьян Василич! Помощь нужна Ваша!
– Смотри-ко, Маргарита! Коське Дорофееву помощь богомола старого нужна стала… – ухмыльнулся дед Кирьян. – Сидайте, чаво уж. Барахлишко тока на Божью ладонь не кладите. В угол, вон, поставьте.
– Дык Бога то нет, Кирьян Василич! Его ж не видел никто!
– Дык и мозгов твоих, Константин, никто не видел. Значит, мозгов у тебя нет! Чаво приперся?
Парни, а это были совсем молодые пацаны лет шестнадцати-семнадцати, поставили две винтовки и немецкий автомат в угол, около метелки и сели за стол.
– Мы, дед, по делу. Ты же тут все места лесные знаешь?
– И чаво?
– Помоги к нашим выйти.
– К каким это нашим еще? – ехидно улыбнулся дед. – Ваши вроде тут…
Один из гостей было вскочил, но Костя удержал его:
– Ты это дед, думай, что говоришь. Ты хоть и враг Советской власти. А помочь должен! Потому как русский человек!
– А вы кто? – поинтересовался Кирьян Васильевич.
– А мы – это партизанский отряд «Смерть немецко-фашистским оккупантам имени Третьего Интернационала»! – гордо сказал Коська.
– Так сразу и не выговоришь… – проворчал дед Кирьян. – А попроще нельзя было? И чего это за фашисты имени третьего интернационалу?
Константин внезапно смутился.
А у Ритки отлегло – пацаны оказались совсем не полицаями, а наоборот.
Партизаны!
Только какие-то они не такие, как в фильмах показывали.
Совсем молодые пацаны, лет шестнадцати-семнадцати. Один, который Костя, слегка бородатый, другие, похоже, вообще еще не брились ни разу в жизни.
И глаза горят.
– Где стволы-то взяли? – строго спросил дед.
– Ну… Это… В лесу нашли… – как-то виновато, будто на экзамене ответил Костя. – Решили на подпольном комсомольском собрании, что надо Родину от немцев защищать! Пошли в лес, поискали да нашли. У павших товарищей. И поклялись там отомстить за них!
– И автомат немецкий там же?
– Ага… Тоже с нашего бойца сняли…
– Мы сегодня фрица замочили! Важного! – встрял тут один из пареньков.
– А ты, молчи, Кузя, когда командир разговаривает! – рыкнул Дорофеев.
– Говори, Кузьма! – строго сказал унтер-офицерским тоном дед.
– Так это… Машина по большаку ехала. А мы там засаду поставили. Коська – герой! Гранату прямо под днище кинул. Потом фрица и замочил. Вот.
Кузьма положил на стол портфель.
Дед Кирьян помолчал, разглядывая трофей, а потом добавил:
– Дураки вы. Опездолы. В каком звании немец-то был?
– Не знаю… – виновато ответил командир самодеятельного отряда. – Но вроде шишка какая-то. Главное, сигареты у него наши! «СССР»!
Он выложил из кармана зажигалку и сигареты.
Кирьян Васильевич повертел сигареты и рявкнул на Костю:
– В душу мать тебя ититть! Ты соображаешь – чего наделал? Пустая твоя башка! Вот и впрямь ведь мозгов-то нет! Немцы же не сегодня-завтра начнут всех тут трясти! И деревни прочесывать! Ты о матери подумал, дурья задница? Полицаи враз узнают, что вы исчезли! И чего?
– Чего? – растерянно захлопали ресницами парни.
– Ни чего! О матерях подумали??? – а потом дед махнул рукой и повернулся к Ритке. – Видишь, как оно складывается. Значит и впрямь тебя придется к нашим вести…Чего уж сейчас… Вместе с этими!
И он кивнул на трех героических обормотов.
Парни виновато смотрели в пол.
Дед Кирьян достал сигарету из новомодной пачки. Понюхал.
Кузька услужливо чиркнул трофейной зеленой зажигалкой из странного плексигласа.
И тут же от нее отлетело какое-то колесико и выскочила пружинка, прямо в лоб деду.
Все прыснули, а третий, пока безымянный пацан, громко хыкнул.
Дед покосился на него и, не глядя, дал подзатыльник Кузьме:
– Тьфу, срамота! – А потом вытащил древнее кресало и в три удара прикурил от него.
Кузьма же, почесав затылок, повертел сломанную зажигалку и меток бросил ее в поганое ведро.
– Хороший табачок! – выпустив дым из ноздрей, сказал дед. – Мягонькой… Горло не дерет.
Парни тоже вытащили по сигарете из пачки. Дед покосился, но ничего не сказал. А что тут скажешь, когда мальчишки уже убивают в шестнадцать лет?
Рита поморщилась – густая синева «хорошего табачка» повисла в избе.
– Так ты деда, выведешь нас али как? – слегка окосевшими глазами посмотрел на Кирьяна Васильича Костя.
– Куда вас девать-то… – пробурчал тот. – Вас одних-то выпустить, так ведь шлепнут тут же.
– Почему это? – Вскинулся Константин. – Мы вон двух фрицев замочили сегодня, они даже не дернулись!
– Не ждали, потому как. Партизан тут до сегодняшнего дня не было. И вы их тут не ждете сейчас. Часового не оставили. Оружие вон в угол побросали…
– Так вы же сами сказали! – возмутился третий пацан.
– У тебя командир был, вот его и слушать надо, а не старого пердуна…
Костя аж приоткрыл рот:
– Почему это был?
– Потому как ты в армию не призван, а я таки унтер-офицер, хоть и царской, но армии. Понял?
Дед встал из-за стола:
– Смиррррна!
Взгляд бывалого вояки так подстегнул парней, что Кузьма, подпрыгнув, аж ударился головой о низкий потолок и зашипел.
– А сейчас, наверняка, немцы уже лес чешут. Так что руки в ноги! И бегом отсюда! И ты собирайся! – сурово он кивнул Рите…
Однако сразу выйти не получилось.
Пока она собирала всякими «обязательно нужными» тряпками вещмешок, выданный ей дедом, прошло полчаса. Хорошо, что поисковая аптечка, неведомым чудом сохранившаяся у нее, была в сумке на ремне.
Парни истомились ее ждать, допинывая остатки трофейных сигарет…
… А в это время гауптман Рудольф Бреннер командовал двумя взводами недовольных военной судьбой солдат.
Мало того, что вчера они в рукопашной потеряли едва ли не половину боевых товарищей, во время безумной русской атаки, так еще и попали на прочесывание мрачного леса.
А ведь так хорошо начинался день… Пришла смена, и выжившие победители спустились с холмов и отправились в Ивантеевку, где их ждали грузовики. Уставшие, не спавшие и не жравшие – они пели песни, отправляясь в Демянск на отдых. И надо же было случиться, что самонадеянный фельдполицай Майер, непонятно куда спешивший и умчавшийся утром, попал в засаду.
То ли выжившие чудом десантники, то ли невесть откуда взявшиеся партизаны подорвали машину и расстреляли в упор комиссара и водителя. Сопровождавший машины гауптман тут же остановил небольшую колонну и отправил по взводу прочесывать лес. На пять километров в глубину от каждой стороны дороги. Понятно, что бандиты уже ушли, но, во всяком случае, было что сказать начальству о принятых мерах.
Промокая платком потеющий лоб, он тихо ругался про себя на бестолкового Майера, на партизан и на проклятую Россию.
И ведь ровно через час они вышли к одинокому хутору на большой поляне.
Бреннер поколебался, а потом дал приказ двоим солдатам проверить дом.
С карабинами на перевес, пригнувшись, словно волки, те осторожно шли через поле к русской приземистой избе.
Бреннер был уверен, что в избе, наверняка, сидит какая-нибудь вонючая старуха с десятком сопливых детишек, поэтому был спокоен.
И поэтому, когда выстрел плетью ударил по лесу, он вздрогнул так, что выпала сигарета из рук.
Солдаты в поле тут же рухнули наземь и открыли огонь по избе. Те, кто остался в лесу, моментально поддержали товарищей. Грохот стоял такой, что гауптман не слышал свое дыхание.
Под прикрытием оба бойца вплотную приблизились к избе.
Один махнул рукой. Взвод мгновенно прекратил пальбу.
Второй кинул гранату в разбитое уже окно и отскочил. Внутри хлопнуло, изо всех щелей, даже из-под крыши пошел дым.
Еще через пару минут оба бойца, один за другим ворвались в дом.
Гауптман ждал, не рискуя отправлять весь взвод на простреливаемое поле. Наконец, один из фронтовиков высунулся из окна и заорал:
– Здесь никого нет! Они ушли!
Бреннер сплюнул и ругнулся про себя.
Так это егерское дело леса прочесывать! Ну и что, что только пару дней назад русских десантников добили? Это их проблемы! Почему, он гауптман, бывший бухгалтер, ныне исполняющий обязанности индентантурранта Рудольф Бреннер должен гонять каких-то бандитов по этим гиблым лесам?
– Эй, фельдфебель! – рявкнул он.
– Я! – немедленно отозвался тот.
– Бери свое отделение и прочеши лес еще на два километра в ту сторону. – Бреннер махнул рукой на север от дома. – Мы тут ждать будем.
– Игельман! Шванн! За мной!
Гауптман-бухгалтер удивился:
– И это все??
Фельдфебель оскалился уже на бегу:
– Все кто остался!
Через несколько минут в лесу раздалась стрельба…
…Вечером, сидя у костра, новоявленные партизаны дружно смеялись друг над другом.
– А ты-то как сиганул в окно рыбкой!! Я думал башку себе сломаешь!
– Сам-то! Зайцем несся!
– А я смотрю, у Костика глаза бледные-бледные. Думал он в обморок упадёт!
Дед Кирьян только улыбался в бороду, глядя на отходивших после погони парнишек.
А Ритка сидела молча, уткнувшись взглядом в пламя костерка.
– Ты это, чего задумалась? – тихонько спросил ее дед.
– Да немец мне один… Показался похож. На Андрюшку Ежова. Поисковик наш. Был.
– Чего же это был-то? И есть тоже. Поди обозналась?
– Не знаю. – Вздохнула девчонка. – Но похож очень. Если и он, как у немцев-то оказался?
– Помрем – все на свете узнаем! – погладил дед ее по плечу и тут же прикрикнул на пацанов. – А вы чего регочете?
Те тут же притихли.
– Так… – грозно обвел он взглядом троицу. – Стрелял у дома кто?
– Ну, я… – виновато приподнялся Кузьма.
– Сиди-ко… Зачем стрелял?
Тот в ответ только пожал плечами. Сам не знал. Или побоялся сказать, что с перепугу.
– Как же вы того офицера-то в машине шлепнули?
– Так это… Мы в леске с Васькой сидели. А Костя в кустах у дороги. Он гранату кинул, а мы пульнули пару раз по машине.
– И попали?
– Попали! Я, между прочим, на «Ворошиловского стрелка» готовился сдавать осенью. Не успел только. Районный Осоавиахим эвакуировался.
– Ну, ты-то, может, и попал из винтаря. А Васька? Ты, Василий, где автомат-то надыбал?
– Так мы, прежде чем из дома то уйти, готовились же! – вскинулся немногословный дотоле Васька. – Вон с Костиком и Кузьмой в лес ходили. Тут наши осенью много оружия оставили. Даже пушку нашли. Сорокапятку. Только у нее прицела не было. И снарядов.
– Жалко… А то бы вы ее выкатили на дорогу и фрицы бы в штаны наклали с испугу и в Берлин уехали бы. Так, командир партизанский?
Дорофеев молчал.
– А ты, аника-воин, чего по немцам не пулял, когда мы от них по лесу-то бежали?
– Он чего-то перестал стрелять. Я уж потом посмотрел, патроны вроде есть. Там, наверное, перекосило чего-нибудь.
– Перекосило… В мозгах у тебя перекосило. Коли оружие не знаешь, неча в бой брать его!
Потом дед помолчал и продолжил, перебиваемый только треском дровишек:
– Значит вот я вам, чего скажу, вояки хреновы. Отныне. Ни одного шагу без моего разрешения. Тут вам война, а не мамкина сиська. А ты девка, чего хихикаешь? – внезапно повернулся дед Кирьян к Рите.
Та, совсем и не хихикая, недоуменно посмотрела на него.
– Кабы ты собиралась чуть быстрее, немцы нас не застали бы! Что возилась как корова беременная, прости Господи? Тут тебе не этот… не телепиздер… Тут война и шевелиться надо, чтоб товарища не убило и ж… э-э-э… ногу не прострелило!
Рита захлопала заблестевшими глазами. Она же не виновата, что надо было проверить и аптечку, и вещмешок уложить удобно!
– Не виноватая она. Это ты немцам потом объясняла бы. Значит так. Костер тушите. Только не водой, ироды. В сторону головешки откиньте и угли сапогами разгребите. И по костровищу-то потопчитесь, чтоб подостыло – добавил дед, когда парни сделали дело.
– Ты, Ритулька, ложись на костровище. Я одеялко подстелю, другим накроешься. Я справа лягу, а ты, Васька, потолще. С другой стороны. Чаю, не замерзнешь и не простынешь. Земелька-то еще не согрелась…
Глава 7 Девчонки
Ах, война, что ж ты, подлая, сделала:
вместо свадеб – разлуки и дым.
Наши девочки платьица белые
раздарили сестренкам своим.
Сапоги – ну куда от них денешься?
Да зеленые крылья погон…
Вы наплюйте на сплетников, девочки,
мы сведем с ними счеты потом.
Б. Окуджава. «До свидания, мальчики»Дедовский метод не помог. Она все равно зачихала и закашляла утром. То ли нервное напряжение, то ли сырой лес…
Но температура поднялась. И даже немецкий быстрорастворимый аспирин из далекого будущего не мог сбить ее. И, естественно, кипяток, настоянный на прошлогодних листочках брусники.
Ее лихорадило как осинку на промозглом ветру.
Время от времени она открывала глаза и видела, как хмурится дед, как ребята бродят по поляне туда-сюда, маясь бездельем. Вина грызла ее, но ничего сделать с собой Рита не могла.
К вечеру температура усилилась.
Деревья наклонились над ней, качаясь в отблесках пламени. Они трогали друг друга ветками, перешептывались и скрипели о чем-то своем. Иногда Рите казалось, что они переходят с место на место. Тогда она закрывала глаза и, находясь между неявным сном и бессонной явью. Кто-то трогал ее лоб и брал за руку, она пыталась пугаться, но на страх сил не было.
Ей вдруг понадобилось встать и отойти. С трудом поднявшись, она пошла в темноту, но там оказалось еще светлее, чем у костра. Какие-то смутные звуки раздавались впереди, она зашагала навстречу им, то и дело, запинаясь о сброшенные деревьями ненужные сучья, и вышла на прогалинку.
На прогалинке, из черного зева блиндажа, трое каких-то мужиков вытаскивали обожженных солдат. В японской, почему-то, форме. Рита никогда не видела японской формы, но была уверена, что это именно она.
Один из троих обернулся и оказался Виталиком. Он молча махнул ей рукой – раз, другой, третий, словно зовя куда-то. Лиц двоих других не было видно в черноте. Они стояли словно истуканы, почти не шевелясь.
Вдруг из кустов вышел еще один. В красноармейской форме. Издалека он показал девушке медальон – черный эбонитовый пенальчик. Она протянула ему руку. Но он отрицательно покачал головой и шепнул так громко, что закачалась земля и осыпались листочки с деревьев:
«Найди меня! Только всего найди!»
Земля продолжала качаться, закружилась голова, Рита зажмурилась и проснулась.
Голубое, плещущее солнышком небо цвело над ней. Оказалось, что лес уже покрылся легким зеленым облачком. Но мир продолжал качаться. Она приподнялась было, но мозолистая, жесткая рука Кирьяна Василича ласково придержала ее.
Ее куда-то несли. На невесть откуда взявшихся носилках.
Все тело ломило. Казалось, каждая клеточка дрожала. Она попыталась чего-то спросить, но дед прижал палец к своим глазам и сказал:
– Спи… Или не спи. Дремли дрему…
Она послушно закрыла глаза и провалилась в черный омут…
… А пришла в себя в какой-то комнате, когда уже стемнело.
– Проснулась? – улыбнулся ей дед, сидевший рядом.
– Ага… – шепнула она. – Где я?
– А в больничке. Тут у меня… эмн… свояченица одна санитаркой работает.
– А немцы?
– А что немцы? Немцы, они тифа боятся…
Рита расширила глаза:
– Какого еще тифа??
– Брюшной устроит? Немцы заразы боятся как огня. Вот и полежишь недельку здесь. Доктор может чего и поколет. А то в лесу ночевать не надо бы тебе. Холодно еще. И сыро. Ты, внучка, не бойся. Мы рядом будем.
– Дедушка Кирьян, а может у тебя дома полежать? Фрицы, наверное, ушли уже?
– Фрицы-то ушли. А дома больше нету. Сожгли, ититть их гитлеровскую мать по самое по не хочу…
– Совсем сожгли? – слабым голосом спросила девушка.
– Кхм… Ну, пару бревен оставили. Однако побёг я. Пора.
– Дедушка, не уходи… – схватила его за руку Рита. – Пожалуйста.
Дед неожиданно смутился и резко встал:
– Надоть, девонька, надоть! Шура приглядит за тобой. Да и доктор тут хороший. Валерой кличут.
Он поднялся, накинул на плечо винтовку, поправил кепку и пошел из комнаты. В дверях столкнулся с немолодой, крепкой женщиной в белом халате.
– Шурка! – остановился он. – Ты за внучкой присматривай! Не то… – и погрозил кулаком. А потом вдруг шлепнул ее по крупу.
Та только охнула в ответ:
– Иди-ка откудов пришел, охальник старый! – и замолотила его одной рукой по спине. – Совсем ужо, при девке-то…
Во второй она держала поддон, накрытый марлей.
Дед довольно хихикнул и исчез за дверью.
А санитарка Шура покачала головой и подошла к Рите:
– Сейчас Валерий Владимирович подойдет и кольнет тебя, девочка. А потом ложись спать.
– Все готово? – послышался молодой голос в дверях.
– Ага, ага… – отошла в сторону Шура.
– Ну что, больная? Жалуйтесь! – подошел к постели, хромая на правую ногу, доктор. Чем-то он Рите напомнил Чехова. Хотя вместо пенсне были очки.
Рита пожала плечами. Она, собственно говоря, и не знала – на что жаловаться.
Только лихорадит и температурит. А больше ничего не болит.
– Понятно… Давно такое?
Ритка чуть не ляпнула, что с того момента, как попала сюда. Потом подумала, посчитала и получилось что четыре дня уже.
– Ясно… Скорее всего усталость, стресс и легкая простуда. Однако полежишь тут у меня недельку. Лекарств, правда, у меня нет практически. Димедрола я, конечно, тебе вколю. С анальгином. Из неприкосновенного запаса. Для детишек храню. Но очень уж Кирьян Васильевич за тебя просил. И обещал, что лекарствами поможет. А так уход и покой. Поворачивайся!
– Я стесняюсь… – покраснела Рита.
– Стесняется она… А болеть не стесняешься? Быстро! – прикрикнул на нее доктор Валера.
Рита повернулась к стене лицом…
Укол оказался болючим.
Зато, практически сразу, стены куда-то поплыли и она опять уснула.
Так прошло несколько дней. Погода, наконец, установилась. Солнышко высушивало грязь, травка, как на дрожжах, полезла из земли.
Иногда вечерами, почти ночью, появлялся дед Кирьян. Приносил то освежеванную курицу, то кулек сахара, а как-то расстарался и притащил аптечку Риты. Доктор Валера едва ли не запищал от восторга.
Ритина сумка, кстати, оказалась сокровищем в нищей сельской больнице, где кроме марли, шприцов да йода практически ничего и не было. Вместо спирта для дезинфекции – самогон.
А тут тебе и левомицетин, и мазь Вишневского, и даже экзотический в сорок втором году нафтизин. Ну и прочие медицинские радости от но-шпы до баралгина.
Рите целую лекцию пришлось прочитать доктору, не забывая упомянуть, что это типа ленд-лизовские поставки.
А дед Кирьян намекнул доктору, чтоб он не интересовался, как это в немецком тылу оказалась американская аптечка.
Валера только пожал плечами и аккуратненько запрятал свое сокровище подальше от любопытных глаз. Пожалел только, что все в таблетках.
– Вот, ты дохтур, хоть и образованный, а дурак! – ответил на это Кирьян Васильевич. – Как же в лес-то с ампулами? Ну, как побьются?
– Можно было и запаковать, чтоб не побились. Вот этот… Кеторол. Пока таблетка рассосется, сколько времени пройдет? А инъекция удобней. Раз и готово. Правда, дозу не знаю…
– Радуйся, что хоть это Бог послал. А то все ему не так… Ты скажи, когда девоньку на ноги поставишь?
– Уже. Сегодня отоспится еще. И завтра можете уходить, куда глаза глядят.
– Эх-хе-хе… Пока они у нас никуда не глядят. Так ведь, Ритулька?
Она молча прикрыла глаза. А дед-то прав. Чернышевский вопрос до сих пор висел в воздухе.
– Ладно, завтра решать будем. – Сказал дед…
Только завтра наступило совсем не так.
Сначала было все как обычно.
Пришла тетя Шура и принесла завтрак. Потом доктор Валера поинтересовался состоянием «больной».
Состояние было хорошим.
Тётя Шура принялась мыть пол, а Валерий Владимирович куда-то ушел.
А после на улице чего-то загрохотало, заргрохотали пьяным смехом чужие мужские голоса. И заголосили бабы.
Рита подошла к окну и тут же отпрянула.
На центральной площади села, прямо напротив окон больницы, остановился крытый грузовик. Рядом с ним живописно расположился десяток немцев в камуфляже. Кто-то сидел на корточках, кто-то навалился на борт грузовика. Они равнодушно наблюдали, как мужики с белыми повязками на рукавах сгоняли баб и детей на площадь.
Наконец все собрались. Из кабины грузовика вышел к толпе офицер.
Он заложил руки за спину, качнулся на каблуках и что-то заговорил.
Рита не слышала, что он вещал. Но поняла его речь, когда полицаи отделили часть толпы и погнали ее в полуразрушенную, непонятно кем, церковь.
Гансы открыли стрельбу. Короткую. Очередями. Над головами и по земле.
Люди завизжали так, что задрожали стекла.
Немцы у грузовика засмеялись. А офицер зачем-то отряхнул штаны и пошел к своим солдатам. Они лениво приподнялись. Их командир что-то рявкнул и фрицы лениво разбрелись двойками в разные стороны.
А от полицаев отделился человек, прихлебывая по ходу из фляжки, и направился в сторону больницы.
Рита метнулась в кровать и прикрыла глаза.
Накрылась серым шерстяным одеялом и стала ждать. Ожидание было долгим, но быстрым. Секунды неслись, тянувшись.
И вот, наконец, загрохотали сапоги в коридоре. Дверь распахнулась.
На пороге, криво ухмыляясь, стояла женщина.
В грязных сапогах – почти по колено – в ватных штанах, с белой повязкой на руке и немецкой пилотке на голове.
Но женщина.
– Спирт есть? – шаря глазами по углам, спросила она. – Чего молчишь? Где тут главный в этой богадельне?
Рита перестала притворяться и открыла глаза:
– Не знаю… Доктор куда-то ушел…
– Да? – нетрезво ответила гостья и опять хлебнула из фляжки. – Красивый?
– Не знаю… – растерялась Рита. Уж чего-чего, а этого она не ожидала.
– А спирт у него есть? – гостья, явно пьяная уже давно, сползла по выбеленной стене на вторую пустую кровать у окна.
– Тоже не знаю…
– Ну и хер те во все места… – Равнодушно ответила баба. – Меня Танька зовут. А тебя?
– Рита. – Честно ответила Рита.
– Ага… Рита… Будешь, Рита, шнапсику?
– Нее… Мне нельзя.
– Гонорея что ли? Пройдет. У меня тоже гонорея была. И чего? И ничего. Жива. И немножко здорова. Так что – на. Выпей. За меня и за себя.
Баба протянула девочке фляжку.
Рита осторожно высунула руку из-под одеяла. Взяла флягу. Понюхала. Фляга пахла бардой. Но она, задержав дыхание, все-таки, глотнула.
Едкая и сладковатая жидкость обожгла горло. Нос сразу заложило, а глаза заслезились.
– О-ой… – только и смогла сказать Рита.
А Танька довольно засмеялась.
– Крепкий? Ну, это хорошо. Когда шнапс и мужик – не крепкие, это плохо. Мужик он, что шнапс. Должен тебя брать до самого нутра. Ты с мужиком-то была хоть раз?
– Э-э-э… Ну…
– А я была. И не раз. И сегодня буду. Правда не с тем, с кем хотелось бы… Кого хотелось – я того убила.
– Не понимаю…
– А чего тут понимать? Хотя ты – девка. Ты – поймешь. Я санинструктором была. Когда после боя очнулась – он рядом лежал. Я, говорит, Колька Федчук. А ты, говорит, кто? А я ему – я Таня. А мне так холодно было. А кругом трупами пахнет. Я ему в воротник ткнулась, чтобы запах живой. А он давай меня расстегивать везде. Два месяца мы с ним. Я ему портянки в воронках стирала. Руки красные были. А потом говорит: «Знаешь, моя родная деревня неподалеку. Я туда сейчас, у меня жена, дети. Я не мог тебе раньше признаться, ты уж меня прости. Спасибо за компанию» Вот все поняла и простила. А «спасибо за компанию» простить не могу. Выпей! – Протянула она снова фляжку Рите. Какой-то порченый, темный ее взгляд буровил девушку.
Та опять глотнула. Странно, но вторая пошла легче. Танька, чуть расслабив складку между бровей, в ответ махнула фляжкой и глянула под кровать:
– Спирт, интересно, где? … Я долго бродила. Леса, леса… Деревни. Потом меня ЭТИ… – она презрительно кивнула в сторону окна – …нашли. На, говорят, выпей. И стакан в руки. Я выпила. Голова кругом сразу. Они меня выводят. И на, говорят. Пулемет тебе. Стреляй. А я же с детства Анкой-пулеметчицей быть хотела. Вот и стоит кто-то передо мной. А я Кольку вижу. И стреляю по нему, стреляю… Шнапс кончился…
Танька вытрясла в рот остатки из фляжки.
– Еще хочу. До завтра пить можно. Завтра работа. Стрелять буду. Где, твой доктор? Шнапсу хочу!
Она нетрезво встала и пошла к дверям палаты.
Потом обернулась, покачиваясь, и добавила:
– И тебя тоже стрелять буду. Норма у меня – двадцать семь. Двадцать семь. Да… У тебя кофточки есть? Я кофточки люблю. Розовые. И чтобы шелковые.
Рита ошеломленно покачала головой. Не было у нее шелковых розовых кофточек. И вообще кофточек не было.
– Ну и ладно. Лишь бы шнапс был… – сказала Танька и, повернувшись к двери, столкнулась с доктором Валерой. На лице врача наливался под глазом фингал.
– О! Мужик новенький! – обрадовалась Танька, но, покачнувшись, схватилась за дверной косяк и начала сползать вниз.
Валера поморщился и, подтолкнутый стволом в спину, шагнул внутрь. А за ним, ехидно улыбаясь, стоял дед Кирьян.
С той же белой, испачканной чем-то красным, повязкой на левом рукаве.
– Топай, лепила! Лощ ты, а не босяк. Рога цветные носишь. Не дотумкал, что я замастырил? Меня ни один следак расколоть не мог. Куда тебе-то…
– Чё орешь, дед! – пьяно возмутилась Танька.
– Цыц, шмара! Вкатаю в лобешник – враз порченой станешь! Кто такая?
– Я? – удивилась Танька и даже чуток протрезвела. – А ты кто такой?
– Клоун местный! – ответил дед. – Смотри за гавриками. Я сейчас.
И, погрозив кулаком, Валере с Ритой метнулся обратно.
На недоуменный взгляд Риты доктор только пожал плечами и уселся на кровать.
Танька растерянно икнула и развела руками:
– Во как… Сторожить – не моя работа. Моя работа утречком будет. Ты, что ли доктор будешь? – посмотрела она мутным взглядом на Валеру.
Тот кивнул.
– Спирт неси. Быстро!
– Нет спирта. Самогон только. И то немного. – Буркнул тот.
– Давай сколько есть. – Танька-пулеметчица вытащила из кармана маленький пистолетик и ткнула им в сторону доктора.
Тот пожал плечами и вышел из бокса.
– А ничего такой… Симпатичный… – сально ухмыльнулась Танька. – Будешь его?
– В смысле? – Не поняла Рита.
– Если по-доброму не захочет – привяжем к кровати и попользуемся. А?
Ритка скривилась.
– Морду-то не корчи. Не хочешь – не надо. А я попользуюся. Давно мужика нормального не было. Дня четыре уже. Все шибздики какие-то попадаются. А этот, вроде бы, крепенький. Сдюжит и двоих.
Валера вернулся со склянкой. Мрачный как портрет Достоевского. Внутри склянки болталась мутная жидкость, при виде которой Риту начало подташнивать.
– О! – обрадовалась Танька. – А подзакусить чем есть?
– Ни чем нету. Так пей, если хочешь.
– Ты чего так долго ходил-то, лепила с Нижнего Тагила?
С этими словами Танька словно сокровище приняла колбу из рук доктора и жадно приложилась к длинному горлышку, сделав два больших глотка.
– Ууууёё… – Только и смогла она выдавить из себя, потом выпучила глаза, хихикнула и рухнула на пол.
После длинной паузы Рита шепнула:
– Чего это она?
Валера же хмыкнул в ответ. А потом добавил:
– Я твои зеленые таблеточки в самогон ей накрошил. Однако, хорошее обезболивающее у вас делают…
– А ей плохо не будет?
– Надеюсь, что будет очень плохо. – Поморщился Валера. – Я об этой твари слышал. Ничего ей не будет. Проспится. А потом мы с ней посчитаем – сколько она людей на тот свет отправила.
Лицо Валеры на мгновение исказилось. Но он пересилил себя и подошел к Таньке.
– Помоги на кровать забросить.
Ритка подошла, и они с доктором еле-еле подняли пьяную карательницу с пола и кое-как закинули на кровать храпящее и воняющее тело.
– А теперь слушай меня. Сейчас я уйду. Держи ее пистолет. Это «Браунинг». Вот тут слева предохранитель. Мало ли что. Держи его под подушкой. Вот еще свеклой лицо натри.
Он протянул ей маленькую свеклинку.
Рита недоумевающе посмотрела на доктора. Тот ухмыльнулся:
– Эту искать будут. Зайдут – скажешь, что у тебя тиф. Поняла? Немцы не сунутся, а сволочи эти приставать не будут. Но пистолетик под подушкой держи.
– А ты куда? Не оставляй! – Рита вцепилась в рукав доктора. – А если дед вернется?
Тот добро улыбнулся ей:
– Мы с дедом и вернемся. Ночью. Жди. И лицо свеклой натри! Ах да… Если эта падаль проснется – дай ей еще настоечки. Хуже не будет. Только сама не пей, Аленушка! Иванушкой станешь!
Потом он подошел к окну, осторожно огляделся и, махнув на прощание рукой, исчез.
Рита же, мало что понимая, забралась на свою койку с ногами. Натерла лицо разрезанной доктором на две половинки свеклой. Потом засунула бурак под кровать. И принялась ждать.
Минуты тянулись медленно. От нечего делать она иногда выглядывала в окно. На площади была тишина. Только несколько полицаев сидели у церкви и, кажется, играли в карты. Даже не хватились своей боевой подруги. Привыкли, что она напивается так перед работой своей кровавой? И немцев видно. Сидят в какой-нибудь избе. «Матка, курка, матка яйки»
От нечего делать поразглядывала пистолет. Потом опять сунула его под подушку. Чего-то мешало ей, какая-то странная мысль.
А потом вдруг вспомнила, что доктор сказал. «Хорошие лекарства у ВАС там делают…» Что значит у ВАС? Что он имел ввиду? И с дедом не все так понятно… И вообще, мало что понятно.
Так и уснула под мерный храп Таньки.
А проснулась, когда уже стемнело. И лунный свет чертил перевернутый крест рамы на полу.
Проснулась оттого, что кто-то жутко мычал.
Несколько секунд девушка пыталась сообразить – что происходит. Лишь когда в светящемся окне медленно поднялся грузный, покачивающийся силуэт – вспомнила.
– Мнэээ… Пить дайте. – Прокаркал хриплый голос.
Сердце Риты застучало так громко, что показалось его слышно во дворе.
Танька кое-как сползла с кровати и зажарила руками в темноте.
– Пить, говорю, сука, дай мне! – квадратная, черная на фоне окна, с распахнутыми руками и косматой головой, она походила на Вия.
Рита от испуга замолчала, забыв про все наставления доктора.
– Нууу?? – Танька заревела каким-то нечеловечьим басом. Рита чуть слышно пискнула и соскочила с койки.
– В-вот… – Нащупала она в темноте колбу на прикроватной тумбочке и протянула ее дрожащими руками силуэту.
Та тяжело, шумно дышала, словно только что делала какую-то тяжелую, хоть и невидимую работу. Жадно вырвал склянку, Танька приложилась к ней и, не отрываясь, допила остатки.
– Самогон что ли? – Даже не поморщилась она. – Воды бы мне. Голова трещит. Или еще спирту. Нету?
– Нету… – чуть слышно ответила Рита. А Танька грузно уселась на свое место:
– Ну так сыщи! Хотя погоди… Где этот, симпатичный?
– Ушел…
– И его приведи… Иди. Стой! Сядь!
Рита послушно уселась на подушку.
– А ты девка видная. В теле. Иди-ка ко мне, я тебя приголублю. – голос Таньки-пулеметчицы вдруг чуть поласковел.
Рита, не живая ни мертвая, продолжала сидеть
– Иди сюда, не бойся… – продолжала та ворковать и вдруг снова рявкнула. – Иди, кому говорю!
А потом поднялась и, ровно медведица, с рычанием зашагала к Рите.
Та не помня себя от страха, зажмурила глаза. И вдруг ночную тишину разорвал выстрел.
Бах!
И еще…
Бах! Бах!
Танька будто натолкнулась на невидимую стену. Оттолкнулась от нее и упала на спину, ударившись затылком. Из-под нее, заливая перевернутый крест оконной рамы, потекла черная густая жидкость.
И только после этого Рита обнаружила, что держит в руке Танькин пистолет. Она не успела испугаться, как на улице загрохотали – словно в ответ ей – еще выстрелы…
Казалось, они гремели везде, со всех сторон. Рита, как могла быстро, оделась. Лихорадочно путаясь в штанинах и рукавах и стараясь не смотреть на черную лужу на полу.
– О! Ты уже оделась? А я думал тебя подпинывать опять придется! – знакомый голос раздался в дверях. Она обернулась как ужаленная.
– Ежина! Ты? Откуда? – бросилась она к Андрюшке Ежову, волшебным образом оказавшимся в нужное время и в нужном месте.
– Я, Рита, я… Меня дед послал за тобой.
– Еж, ты же немец! – невпопад почти крикнула она.
– Это с какой бани ты упала? – удивился Еж. – Ладно, потом все расскажу, пойдем. А это что за картина маслом на полу?
– Тоже потом… А винтовка откуда?
– Дед дал поносить, – ответил он, когда они уже вышли на улицу. – Пригнись. Еще зацепит…
Из большого, крытого редким железом, дома лихорадочно били в несколько стволов.
Один пулемет и несколько винтовок.
По дому, изредка, кто-то тоже стрелял. Но скупо, не спеша. Рита с Ежом улеглись в кустах прибольничной сирени. Андрей приложился к прикладу, долго выцеливал чего-то в лунном свете, потом пальнул. Трехлинейка бахнула так, что уши с непривычки заложило. Выстрелы «Браунинга» показались Рите детской хлопушкой.
Еж тоже потряс головой:
– Не фига себе… Это как же чего-нибудь покрупнее-то шмаляет?
– Еж, дай тоже пальнуть! – потрясла его за плечо Рита.
– Не фига себе? Обалдела, что ли? Брысь! Доктор говорил – у тебя пистолет есть, из него и пуляй.
– Уже напулялась. – поморщилась Рита. – Дай из винтовки, жадюга…
– Погоди… – Еж поводил куда-то стволом и опять выстрелил. – На…
Он протянул оружие Рите.
– А куда стрелять-то? – почему-то шепотом спросила девушка.
– В сторону дома стреляй, где фрицы сидят. Попадешь в дом-то?
– У меня, между прочим, первый взрослый по стрельбе был в школе. – Обиделась Рита.
– Врешь! – не поверил Андрей.
– Не хочешь – не верь. А тяжелая она!
Ритка долго укладывалась, еще дольше целилась.
Не в дом. Она целилась в Таньку-пулеметчицу. В свой ужас. В свой страх, который не могла показать Андрюшке. И себе…
Еж весь уерзался на одном месте от нетерпения, тихо матерясь. Иногда не про себя.
– Пока ты целишься, немцы домой в Берлин вернутся!
Та не отвечала.
– Рита, отдай ружье! – ворчал он, понимая, впрочем, что не отдаст.
Наконец она нажала, хотя и с трудом, на спусковой крючок.
– Бьется! – потерла она ушибленное плечо.
И тут их заметил пулеметчик и дал очередь по вспышке из темных кустов.
Пули взвизгнули над головами, осыпав головы срезанными ветками.
Оба ткнулись лицом в землю.
А когда приподнялись – в доме что-то хлопнуло три раза подряд и стрельба прекратилась.
Через несколько минут кто-то пронзительно свистнул.
– Рита, отдай винтовку и пойдем, дед собирает. Слышала, свистел? Это условный знак. Говорит, свистну – значит все.
Они выбрались из сирени, и, поднявшись во весь рост, пошли по центральной площади.
От дымящегося дома послышался густой мат деда:
– Пригнитесь, ироды! Жить надоело?
– Кирьян Василич! – Остановился Еж. – Вы же сами сказали, свистну – значит все!
– Бегом сюда, вашу мать!
Они подбежали к деду. Чего-то в его облике было не так. А потом Рита поняла – дед сбрил бороду.
За шкирку он держал оглушенного, чего-то бормотавшего немца. Из ушей того текла кровь.
Тут же из тени появились и Валера с Костей.
– А оболтусы ваши где?
Костя мрачно ответил:
– Пулемет зацепил. Обоих. Ваську в голову, а Кузьме всю грудь разворотило.
– Тьфу. – С досадой плюнул дед и перекрестился.
Впрочем, какой он теперь был дед. Мужик. Крепко сбитый, со злым прищуром.
– Валера, по-немецки разумеешь?
Тот пожал плечами.
– Хенде хох, значит только… А кто разумеет? Никто? Тогда доктор с Костей идите церковь откройте, баб выпускайте. И велите всем на площади собраться. Жива, внучка? – подмигнул он Рите.
– Жива, Кирьян Василич… – улыбнулась она в ответ. Называть его дедом, бритого, как-то не получалось.
– А соседка твоя где?
Рита поморщилась. И вместо ответа показала ему пистолет.
– Ну и правильно. Такой гадюке жить – только воздух портить. Зато вона я тебе какого баского парнишку вчерась отыскал! – воскликнул в ответ Кирьян Васильевич.
– Да ладно… Я сам нашелся, между прочим! – по привычке возмутился Еж.
– Расскажите, чего случилось-то? – не обращая внимания на него, спросила девушка.
– Позже. Сейчас времени мало. Сначала с бабами разберемся. Андрейка, свяжи этого разбойника покрепче.
Площадь и впрямь наполнялась деревенскими жительницами. На удивление они молчали.
В лунном свете их белые лица казались окаменевшими.
Дед забрался на паперть.
– Дорогие товарищи бабы! – начал он, откашлявшись. – Немцев мы сегодня побили. Но завтра или послезавтра они могут вернуться. Потому вот вам какой наказ, от меня Кирьяна Богатырева, командира партизанского отряда имени… кхм… Третьего интернационала, прости Господи.
Рита покосилась на Костю Дорофеева. Тот никак не отреагировал на слова деда.
– Собирайте свои пожитки, детей и уходите по сродственникам. Иначе немцы тут всех расстреляют. Слыхали, что немцы утром говорили? Если, вы не сдадите им укрывающихся партизан – завтра бы на рассвете расстреляли бы всех, кого в церкви заперли…
– В складе… – буркнул Костя.
Хорошо, что буркнул тихо и дед не услышал.
– А когда они вернуться – всех могут расстрелять. Вона, с нами девонька, – махнул он рукой на Риту. – Из Белоруссии беженка. Там немцы деревнями людей сжигают. Уходите, бабоньки!
Толпа шумно задышала, зашевелилась, кто-то запричитал. А один бабий голос взвизгнул:
– Хорошо тебе, черт лесной, рыло обскоблил и обратно на хутор свой. А нам тут за твои грехи отдуваться?
– Нету хутора, надысь немцы сожгли. И твою избу сожгут, коли слухать не будешь.
– Говори, да не заговаривайся. Тебя в лесу, лешак старый, днем с огнем не найти. А я-то куда, с двумя детьми пойду?
– Манька, ты? К свекровке иди, чай приютит с внуками… Все, разговор закончен, бабы. Я вас предупредил.
– Да что же это деется, бабы! – выскочила из толпы худая растрепанная тетка. – Куда ж нам сейчас? Вы воюете, а мы? За ваши грехи страдать должны?
– Цыц, дура! – рявкнул дед на нее. – Немцы у вас коров свели всех, куриц порезали. Мужики ваши воюют за вас. А вы тут под них стелиться вздумали?
Дед рассвирепел так, что аж столкнул бабу со ступеней.
– Дохтур, подай-ко сюды германца…
Валера послушно вытащил связанного немца на паперть.
– Как звать-то тебя? Наме какое?
Немец только тряс головой и чего-то бормотал.
– Нихт, нихт… Ладно, Фрицем будешь. Надо, тебе, Клавдия, Фрица на развод? Бери, даром отдам!
Клавдия только плюнула в обоих. Дед посуровел:
– Ты чаво на храм плюешь, ведьма!
Та не нашлась ответить и, махнув рукой, отвернулась.
Дед остыл:
– Уходите, бабы! Христом Богом прошу!
И толпа постепенно стала рассасываться в темноте.
Глава 8 Каратели
Дымится крошево щебёнки,
Торчит стена с пустым окном.
И от воронки до воронки -
Трава, сожжённая живьём.
Железной гари едкий запах,
Горелых трупов древний чад.
В пыли, багровых дымах запад…
Здесь немцы были день назад.
А. ТвардовскийОказывается, дед успел по лесу силков понаставить. И, хотя он ругался, что война все зверье распугало, зайца все-таки ели на обед. Тощего, правда. Весеннего и жирок еще не нагулявшего.
Костика, как самого молодого, отправили в охранение.
При этом Еж не переставал трещать:
– Ну, значит, очнулся, я когда – сразу подумал, что все. Кранты. Башня уехала напрочь. В смысле, с ума сошел. А потом решил, что помер. Я где-то читал, что, мол, три дня душа тут шатается, а потом куда-то там улетает. Дальше не помню. Думаю, раз я помер, чего мне терять? Решил повоевать как следует. А чего, я всегда мечтал. Как кино смотрю, так и пострелять охота. Я раньше любил в игрушки-стрелялки побегать. «Medal of Honor» там…
– Чего это за игрушки такие? – спросил Валера.
– Потом расскажу, как-нибудь. Интересные.
Первым делом переоделся. Снял с покойничка гимнастерку, галифе подобрал в размер. Даже кирзачи нормальные нашел. С оружием, правда, не сразу хорошо получилось…
– Еж, ты чего, с убитого снял?? – возмутилась Рита.
– А мне чего в джинсах по лесу скакать и в аляске? Для полного совпадения в деталях, так сказать. А вот, когда есть захотел – задумался сильно. Как же это – помер, а есть хочу? И тут вспомнил, что прямо перед отъездом книжку читал, этого… то ли Лошадинского, то ли Кобылинского…
– Овсова! – поддел Ежа внимательно слушавший Валера.
– Да не… А, вспомнил. Конюшевского. «Попытка возврата». Там типа, тоже герой в прошлое попадает. В июнь сорок первого. Правда, он крутой там. Типа спецназовец. Ну и всех мочит вначале, а потом до Сталина добирается.
– В чем мочит? – не понял Валера. – Типа кто?
Дед выразительно провел ребром ладони по горлу:
– Мокрухой занимался. Мокрыми делами. Специального, наверное, назначения человек. И чего там с товарищем Сталиным? Тоже…
– Да не… Он, типа его советником стал. Война в итоге не в сорок пятом закончилась, а в сорок четвертом. В-общем читать надо. Интересная книжка. Ну, я и подумал – а почему бы и со мной не так? Может я тоже – в прошлое попал. Только по-настоящему, не по-книжному. Чтобы изменить его. Ну и пошел на восток…
– Тут он мне и попался. – Встрял Кирьян Васильевич. – Аккурат в тот день, когда мы тебя в больницу отнесли. Сразу понял, что ваш он. Идет по лесу – песни поет, по сторонам не смотрит. Война она быстро учит.
– Это я от голода. – Нисколько не смутившись, ответил Ёж. – Вот мы и встретились, значит, и Кирьян Василич меня первым делом спрашивает…
– Первым делом я тебя на землю уронил.
– Детали пропустим. Так вот, спрашивает – Маргариту, знаешь, фамилия у нее Малых? Если бы я не лежал. Я бы опять упал. А потом оказалось, что и Захар с Виталиком у него бывали.
– Ну а потом я и Валерке Владимировичу рассказал вашу историю… – облизнул ложку дед и сунул ее за голенище.
– Я бы все равно понял – что-то не так здесь. Лекарства незнакомые, потом даты на упаковках посмотрел. Странные какие-то. – Ответил Валера. – Забавно, что у них срок годности аж через шестьдесят шесть лет выйдет.
– А Косте говорили? – спросила Рита.
– Еж! Хватит жрать! Молодому оставь… Нет, ему не говорили. Незачем. Да и не в себе он, друзей-то убили, вишь как получилось. Себя винит, сейчас. Кабы фрица того не убили, глядишь и не приехали бы каратели. И обошлось бы все по-другому. Сглупили по молодости. Так что, умом повредится точно, ежели мы ему вашу историю расскажем. Маргарита когда мне рассказала, так я тоже было подумал про помутнение рассудка. Не то у нее, не то у меня. А потом молитву прочитал – ан нет. Все в порядке. Не грезится…
– Ну а потом за тобой пошли! Дед специально про меня не говорил, чтобы ты не дергалась раньше времени.
Дед остановился. Подумал чего-то, потом достал ложку и треснул Ежа по лбу:
– Не перебивай старшего! – А потом продолжил. – И вот надо было случиться, что фрицы приехали за полчаса до того, как мы за тобой пришли. Сидим значит в перелеске, смотрю, доктор наш задами бежит. Через забор полез, а забор возьми да подломись. Только очки в разные стороны. Подползает – а под глазом фонарь светит на всю округу!
– Бывает! – развел руками Валера и улыбнулся. Правда, одной половиной лица.
– Пошли мы посмотреть, что да как. У меня в мешке простынь нарвата была. Вместо бинтов. Ну, я руку-то обмотал. Поди за своего примут. Обождали, пока там немцы людей распустят и ходу.
– Дедуль, а чего повязка-то красным запачкана была?
– А покойница моя, старуха, чернила красные на нее пролила. Ох, я ей задал тогда… – В глазах деда мелькала лукавинка.
– Старуха… Сорок четыре ей всего было, когда умерла она у тебя. Помню. – Улыбнулся Валера.
– Кирьян Васильевич, а вам сколько? – спросил Еж, помалкивавший до этого после удара ложкой.
– Пятьдесят четыре. – Почесал дед голый подбородок. – Совсем старик…
– А музыке блатной, где научились? Очень натуральное исполнение. – Подал голос доктор.
– Говорю же старый совсем. Пожил много. Пришлось и отдохнуть на киче с музыкантами. Там и наблатыкался. Урка сразу поймет, конечно, а вот фраерам, типа вас, за керю проканаю, – ухмыльнулся дед. – Да мы услышали, как кто-то чужой в боксе твоем разговаривает. Так и сыграли на ходу пьеску. Хотели сразу забрать. Но эта падаль там оказалась.
Дед поморщился:
– Ты как там с ней справилась-то, родненькая?
Теперь поморщилась и Рита:
– Валере спасибо, за пистолет. Маленький, а бьет хорошо.
– Собаке, как говорится…
– Кстати, а вы чего меня сразу не забрали?
– Ну, конечно. Кругом полицаи бегали, немцы. А тут доктор в лес бежит и девицу с собой тащит. А у девицы, от смущения видимо, лицо ярче помидора.
– Хорошо, Рит, я тебя ночью увидел. Иначе заикаться бы начал.
– Лучше бы ты Ёж, заикался. Молчал бы чаще, – огрызнулась Рита.
– Да ладно, зато стреляла метко. Наверное.
Рита показала Ёжу язык.
– Кстати, с чего ты взяла, что я немец-то?
– Мы тогда с хутора Кирьяна Васильевича ноги уносили. В яму какую-то залезли…
– Тайница у меня там вырыта. Еще до войны сделал. Как приехали сюда, так сделал. Большевики они больно жадные, думал, мало ли кулачить опять начнут. Или еще чего. А вот сгодилось от немцев схорониться, – добавил дед.
– Сидим, поглядываем в щелочку под крышкой…
– Какой крышкой? – не понял Ёж.
– Потом покажу, – ответил дед. – Ты Риту-то слушай…
– Немец идет – ну вылитый ты. Лицо один в один, фигура, даже повадки. И все ближе, к яме-то ближе. Думаю, сейчас наступит. Но тут из леса ему закричали. Фамилия такая смешная – Иггельман. Ёж – может это твой дедушка? Ну, типа в плен попал, и того… Дедушкой стал?
Еж возмутился было, но тут Кирьян Василич закряхтел и сказал:
– Смешно как получается… Ман по ихнему- человек, а Иггель – еж… Ежов, значится… Смешно… А я тогда и внимания не обратил!
Валера засмеялся:
– И впрямь, родственник. Наверно и зовут также – Андреас. Отныне будем называть тебя Андреас фон Иггельман!
– Сам ты… Вольфганг Вольдемарович Моцартов.
– Кстати, Вы с немчиком тем, контуженным чего сделали? – перебила их перепалку Маргарита.
– Да к кровати привязали в доме, где у них лежбище было. Не с собой же тащить. Фрицы придут – заберут.
Дед умолчал, что он пристроил между ног немца эфку, а через ее кольцо протянул веревочку, закрепленную на дверной ручке. Двери-то у нас – наружу открываются. Сей хитрый ход подсказал ему, как ни забавно, Андрей.
– Ладно, Ёж, сбегай за Костей. Пусть поест – задание ему дадим потом. Боевое. Сходит до села, посмотрит – чего там и как, – сказал Кирьян Василич.
– Может мне лучше? – сказал Валера.
– Куда ты со своей ногой-то? Ежели бежать придется?
– Ранили? – сочувственно спросила Рита.
– Нее… Я еще в институте учился. В футбол играли. А я голкипером был. Помню удар в рамку по низу. Я бросился и почему-то ногами вперед. Надо бы руками, а я – нет. И лечу. Время медленным таким стало, я только мяч и вижу. И еще вижу как слева их центрфорвард ногой вперед, а справа наш хавбек. И тоже ногой. Я первым успел – мяч выбил, и тут они мне бутсами оба в берцовую – каааак врезали! Попали в ногу, а искры из глаз. Странно. Сначала не понял – достоял в воротах. А после свистка упал и встать не могу.
– Выиграли? – спросил собирающийся Еж.
– Ничья. Два-два. Мы курс на курс играли. Чемпионат факультета. Вот с тех пор и хромаю. В армию даже не взяли. Одно не понимаю – как играл пятнадцать минут? Потом оказалось, что сложный перелом со смещением, – погладил ногу доктор Валера.
– Сила духа. – Вздохнул дед Кирьян. – Помню на гражданской мы Ростов брали. Нас тысяча, а их полный город…
– Интервенты? – остановился Ёж уже уходивший в лес.
– Боец Ежов! – Рявкнул Богатырев. – Кррррыыгом! Бегооооом… Марш!
Ёж повернулся и убежал. Но его тихий матюк дед все равно услышал и погрозил ему вслед кулаком. А потом вздохнул и продолжил:
– Интервенты… Да… Жиды кругом были. Русские жиды, еврейские, латышские и даже китайские… Одни интервенты кругом. И все нехристи… Тяжелое время было. Смутное.
– Так вы, Кирьян Василич, за белых воевали?
– Так я и сейчас за них воюю. Не за красных же.
– Странная логика у вас…
– А чего странная? Немцы вона тоже под красным флагом нынче ходят. Русский человек все равно к белому тянется. К чистому да светлому. Ежели он русский, конечно.
– А что, еврей – не человек, что ли?
– Почему не человек? Еврей – человек. И немец человек. Только он человеком является, пока дома не сжигает и детей не убивает. Иначе он жидом становится.
– Как это?
– Ну, жид ведь откуда пошло? От Иуды! А Иуда чего сделал? Христа убить хотел. Вот, который Бога убить не хочет – тот человек и мне его нация не важна.
– А как же можно Бога-то убить?
– Никак не можно. Не можно, а хочется. А ведь Бог-то в каждом из нас светится. Вот и убивают людей, чтобы до Бога добраться. А кто против Христа – тот и есть Антихрист.
– Так ведь и Вы, дедушка убиваете.
– И я, Маргарита, и я. И ты вчера. Значит, между тобой и Танькой той, разницы нет? Она каждое утро по тридцать – что ли? – человек убивала. И ты ее. Она для удовольствия. А ты для чего?
Рита промолчала. В памяти ее снова всплыла черная лужа, густо растекавшаяся по полу, заливавшая каждую трещинку в досках.
Она и винтовку-то у Ежа выпросила тогда, чтобы не вспоминать этот глухой звук удара затылком об пол. Заглушить пыталась. Только виду не показывала. Боялась показать страх…
С другой стороны, как бы она – Маргарита Малых – обычный педагог из Дома детского творчества, ведущая фотокружок для школьников двадцать первого века – как бы она повела себя в это ситуации? Когда ты голодная и уставшая, брошенная и никому не нужная попадаешь в руки немцам – и они предлагают тебе на выбор. Или убить или быть убитой. Страшно? Незнакомо… И даже знать не хочется…
– Какое число сегодня? – неожиданно спросила она.
– Так вроде девятое. А что? – подал голос Валера.
– День Победы сегодня. Будущей. Скажите мне, Кирьян Васильевич, вот еще пару месяцев и генерал советский немцам сдастся. Власов Андрей Андреевич. В окружение он попал. Любанская, так называемая, операция. Пытались блокаду Ленинграда прорвать. И сами в мешок попали. Дело не в этом. А в том, что он стал с немцами сотрудничать. Армию организовали. Русскую Освободительную. С трехцветным флагом.
Дед попытался сказать что-то, но Рита остановила его:
– А некоторые бывшие белогвардейцы тоже стали против России… против коммунистов воевать. Краснов, Шкуро… Краснов даже официально обратился к белогвардейцам. Что, мол, эта война не против России, а против большевиков и атеистов, торгующих русской кровью. И Бога призвал Гитлеру помочь. Сравнил его даже с царем Александром Первым.
– С императором, – поправил дед.
– Ну, с императором…
– Не нукай. Между императором и царем, наверно, есть разница?
– Какая?
– Сама думай. И вот что я тебе скажу. Краснов всегда под немцев ложился. А Шкуре лишь бы шашкой помахать. Чем они закончили-то?
– Повесили…
– И хрен с имя… А генерал Деникин, Антон Иванович, что сказал?
– Ну… Вроде не поддержал.
– Флаг, говоришь… Флаг – это флаг. Он больше жизни, но меньше веры. Ежели под моим флагом и без спросу в мой дом они войдут – я винтовку все равно возьму.
– А если с крестом?
– Крест-то он тоже от веры зависит. Веришь, что крест – спасение, поможет всегда. Не веришь – так мимо твое спасение и пройдет.
– Как сложно все…
– Просто все. Вот твое небо. Вот твоя земля. Вот ты между ними. И делай, что желаешь. И получишь по желанию. Кто с чем приходит – тот это и получает.
После долгого молчания Валера вдруг озадаченно сказал:
– Дед, ты же Сократ!
– А енто еще кто? – удивился Кирьян Васильевич. Или сделал вид, что удивился.
Валера махнул рукой.
– Вот-то то же… – поднял палец дед – Давайте-ка оружием займемся. Почистить надо бы.
А железного барахла они и впрямь притащили немало.
До самого утра шагали – кто с двумя винтовками, кто с двумя автоматами. Дед тот вообще тащил тонькин пулемет – как ни странно «Дегтярев» – и два вещмешка. Один сзади – набитый гранатами, второй на груди – с пулеметными дисками, масленками, ремнаборами и прочими мужскими радостями. Включая три фляжки со шнапсом. Одну, правда под утро уже выпили. Когда на место пришли. Шнапс оказался, как ни странно, не очень крепким и сладким, отдающим черешней. Кирьян Василич, обозвал его киршвассером и уложил всех спать, а сам остался на карауле, как он выразился. И разбудил только днем, когда зайца приволок.
И принялись они чистить.
– Оружие оно что баба! – философствовал дед. – Не погладишь – обидится. Трехлинейка она хоть и не капризная, но ласку любит. Чистить не будешь – внутри заржавеет. Пульнет, конечно, но разброс выстрела увеличится. Баба такая же. Делать все будет, но все назло и мимо. Да еще и механизмом застучит. Потому чего делать надо? Берем ершик, керосином мочим и туда-сюда, туда-сюда. Рита, видишь будто личинка у затвора? У личинки чашечка такая. Ее обязательно протри. Там из капсюля порох прорывается и газами забивает. Дерево старайся не трогать. Хрупчеет оно от керосину. А так мосинка – баба верная. Рассказывали мне про то как приемку у них делали. Сто винтовок разбирались, значицца до винтика. Детали все в кучу смешают, а потом оружие снова собирают. При контрольном отстреле на сотню сажень разброс каждой винтовки не должен был превышать уставного уровня. Иначе всю партию в несколько тысяч штук бракуют. Во как!
– А вот и мы! – перебил его Андрюшка Ежов. За спиной его стоял хмурый, даже на вид голодный Костик Дорофеев.
– Ну и хорошо. Не спал, Константин?
– Ни как нет, – отрезал тот. – И ничего подозрительного не было. Тихо.
– И вороны не гайкали?
– Даже сороки не трескотали.
– Добро. Садись кушай. А боец Ежов будет пулемет чистить.
– Я же не умею! – растерялся Еж.
– Ак ты ж вроде не в «медали за гонор», прости Господи, ну или в чего там играл-то… А на войне. А на войне чего главное?
– Чего?
– Чтобы тебя твое оружие спасло. А чтобы спасло – надо за ним ухаживать. Потому учись. И не балуй. Автомат положи!
– Да я просто глянуть хотел… – заоправдывался Ёж.
– Пулемет бери. Автоматы я сам погляжу. А ты, товарищ Дорофеев, как покушаешь – подь сюды. Задание тебе дам. Ответственное.
Костя молча кивнул, обгрызая заячьи косточки.
– Пойдешь в село. Но сиди, вначале, на околице. Сиди и смотри. Чего, кто и как. Ежели германцы есть – тикай обратно. Стрелять не вздумай. Ежели нету – посмотри – ушли ли бабы. Посмотришь – уходи обратно, опять же. Твое дело разведка. И больше ничего.
– Кирьян Василич, а у меня эта хрень лишней оказалась!
– Пружина это. Возвратно-боевая. А ты дурень. Причем безвозвратно дурень.
Костя доел свой обед, встал и сказал:
– Ну, я пошел, что ли?
– Иди. И к темноте возвращайся.
Он коротко кивнул и исчез в деревьях…
…Что такое двадцать километров для молодого, шестнадцатилетнего паренька, когда он налегке. Не считая, конечно, трехлинейки на плече да пары колотушек за поясом? И при условии, что в селе, где вчера ночью ты знатно пострелял, тебя ждет твоя любовь, Катька Логинова? Красивая…
Да ничего это расстояние не значит.
Поэтому он даже не запыхался, когда шел по селу. Кирьян старый, а потому трусоватый. Чего высиживать-то в кустах? Видно же сразу – немцев нет. Тишина… Бабы, наверно, дома сидят, глаза не кажут. Дымок вон из некоторых труб идет…
Может быть, дед-то и впрямь трусоват? Зачем бабам из села уходить? Ну пришли партизаны, постреляли. Бабы-то тут причем? Ничего им немцы не сделают.
– Катька! – постучал он в окно дома, – Катька, выходи!
Ответом была тишина.
Костя тогда поднялся на крыльцо. Постучал в дверь и, чуть погодя, толкнул дверь.
Никого. Тепло, чисто, пахнет супом. Костя сглотнул слюну. Шестнадцатилетний пацан, пусть и с бородой уже, всегда хочет есть.
Он вышел обратно во двор. Заскрипела калитка.
– Тьфу, лешак, напугал! – вскрикнула тетя Нина, едва не уронив таз с бельем.
– Теть Нин, а…
– Белье в пруду дополаскивает. Ты бы, вояка, на могилку бы к Ваське и Кузьке сходил сначала. Мы их на погосте похоронили.
– А немцев?
– А немцев за сельсоветом закопали.
– Теть Нин, а почему не ушли-то вы?
– Ну, кто и ушел, а кто и остался. Мы с Катькой завтра уйдем. Дел-то много. По хозяйству дел вона сколько. Две курицы осталось, куды их девать-то? Жалко оставлять…
– Теть Нин, я это…
– Да беги, беги. И Катьке скажи, чтобы домой уже шла. Вечерять пора. Ты тоже приходи, я суп сварила, да яишенку сделаю…
– Хорошо, теть Нин! Мы скоро!
Тетя Нина покачала головой, улыбнулась и скрылась в избе…
…– Окружение села завершено, господин гауптштурмфюрер! С северной стороны в него вошел партизан.
– Один?
– Один. Мы его пропустили. Отделение Лакстиньша прочесало лес в той стороне. Никого. Красный был один.
– Хорошо. Ждем еще пять минут. Оберштурмфюрер, приготовьте своих людей.
Эсесовец козырнул и исчез в придорожных кустах.
Гауптштурмфюрер Герберт Цукурс, командир второго батальона Латышской добровольческой бригады СС, закурил, облизнув губы…
– … Катька! – Костик Дорофеев сбегал по утоптанной тропинке к маленькому пруду.
– Ой! Костя! Ты куда пропал…
Парнишка не дал ей договорить. Налетел, обнял и стал целовать раскрасневшееся лицо. За что и получил мокрой тряпкой по лицу.
– С ума сошел? Люди же увидят!
Костя засмеялся, но чуть отошел.
– А тебе не все равно? Может быть, последний раз видимся! Я же в партизаны ушел!
– Чтоб у тебя чирей на языке вскочил! Дурак!
Она отвернулась. А буквально через мгновение обернулась и сама бросилась ему на шею.
– Дурак ты. Ваську с Кузькой похоронили ночью. Хочешь, чтобы и тебя тоже? Чтобы я вдовой невенчанной осталась? Хочешь, да? – и заревела.
– Ну, Кать, ну чего ты… – испуганно стал он гладить девчонку по мягким русым волосам. – Меня не убьют.
– Васька, наверное, так же думал…
– Да не реви ты! Скоро немцев погоним обратно!
– Ага… Погонщик нашелся… Помоги лучше! – он всхлипнула, оттолкнулась и отерла слезы.
Костя поднял тяжелый таз с бельем.
– К матери пойдешь? – спросила она парня, когда они поднимались от пруда.
– Нее… Дед велел сразу обратно возвращаться. А тут еще крюк делать, семь километров до моих.
– А чего тебе дед-то, вроде ты командир? – Катька лукаво прищурилась.
– Ну, я! – Костя приосанился, поправил винтовку на плече, едва не уронив при этом таз.
– Вот тогда повечеряешь, и жди меня на нашей опушке. Как мать уснет – я прибегу. Ой, что это?
По синему небу проплывала шипящая красная ракета…
Костя оглянулся.
Из леса густой цепью спокойно выходили эсесовцы.
– Костя, беги! – срывающимся голосом закричала Катька.
Он бросил таз с бельем и побежал по улице на противоположную сторону села.
Винтовка била его по спине.
Выскочив через огород на противоположную сторону, он снова увидел цепь.
– Nesaut. Nemt dzivs. – Услышал он незнакомую речь.
Он помчался обратно. За спиной был слышен смех.
Выскочив обратно на улицу, он наткнулся на трех солдат. Один прицелился было, но второй, положив руку на карабин, опустил ствол:
– Nesaut.
А третий поманил пальцем. На рукаве его была красно-бело-красная нашивка. И такая же на каске.
Костик дернулся от них, но в конце улицы увидел еще эсесовцев.
Он остановился и тут же упал в подсохшую грязь, сбитый ударом в спину.
Один из эсесовцев подошел и отшвырнул ногой винтовку. А другой больно ткнул карабином в затылок.
Костя видел перед собой только грязный носок сапога. Но слышал, как где-то закричали бабы.
Лежал он долго.
Враги о чем-то переговаривались на незнакомом языке. Явно не по-немецки. Смеялись, суки…
Внезапно где-то раздался глухой короткий взрыв. Бабы завизжали еще громче. Эсесовцы в ответ заорали тоже. Его конвоиры упали рядом, тот, кто его держал на прицеле, внезапно сказал по-русски, но с сильным акцентом, растягивая гласные и четко выделяя слоги:
– Не дергайся. Пристрелю.
Прошло несколько минут. Костя понял, что гады вошли в бывшее здание сельсовета и подорвались там на дедовом сюрпризе.
Он ухмыльнулся, за что немедленно получил по ребрам от поднявшегося эсесовца.
Внезапно Костю схватили за шкирку, подкинули и подопнули:
– Иди, давай. Большевик.
Его повели к площади. Той самой, где еще вчера они покрошили немецких жандармов и предателей-полицаев.
Сельсовет дымил. Рядом с церковью лежал один эсесовец, накрытый шинелью. Из-под нее торчали сапоги. Еще одному бинтовали руку и голову. Рядом солдаты развели костер, один что-то нагревал на пламени. Причитающие бабы стояли плотной кучкой, окруженные со всех сторон солдатами.
Костю вывели на средину.
– Krievu cuka! – Прошипел ему в спину раненый.
Офицер-эсесовец покосился, но ничего не сказал. Вместо этого он подошел к Константину, внимательно посмотрел в его глаза, а потом бросил в толпу, с тем же акцентом:
– Внимание! С вами говорит гауптштурмфюрер Герберт Цукурс. В вашей деревне прячутся партизаны! Одного мы поймали. Меня интересует, где прячутся остальные! Тем, кто будет сотрудничать с нами – те не понесут никакого наказания. Те, кто будет сопротивляться германской власти – будут уничтожены.
– Вы не немцы, – буркнул Костя.
– Да. Мы не немцы, – повернувшись к нему, сказал офицер. – Мы союзники Рейха. Латышские добровольцы СС. Вся Европа объединилась с Германией. Так что твое геройство, мальчик, бесполезно. Где твои прячутся друзья?
Костя промолчал, не отводя взгляд.
Цукурс кивнул кому-то за спиной Кости.
С парня тут же стащили телогрейку, разрезали тесаком гимнастерку и исподнее и, ударом по ногам, швырнули на землю. Один из эсесовцев уселся на ноги, двое других держали руки.
«Пытать, будут, сволочи… Все равно им ничего не скажу!» – мелькнула мысль. Офицер наклонился над ним, держа щипцами какой-то квадратный металлический предмет, похожий на портсигар. Потом приложил к правой стороне груди.
И страшная боль обожгла тело. В глазах потемнело, запахло паленым…
– Ыыыыааааа!!!!!!!!
Латыш улыбнулся, глядя, как выгибается мальчишка.
– Будешь говорить? – и, не дожидаясь ответа, снова прижег тело уже с левой стороны.
Костю затошнило от запаха собственного горелого мяса и адской боли. В толпе кто-то страшно закричал, но он услышал это как будто сквозь вату.
– Atlaidisiet vinu! – Скомандовал гауптштурмфюрер и латышские эсесовцы отпустили паренька и отошли.
От боли Костя скрючился. Офицер решил, что тот потерял сознание и на парня тут же вылили ведро холодной воды. Он встал на четвереньки, кто-то засмеялся. Потом с трудом приподнялся. По его грязному лицу текли слезы. Он осторожно посмотрел себе на грудь.
Две багровые пятиконечные звезды пульсировали болью. Костю трясло. Но он нашел в себе силы и попытался плюнуть в эсесовца. Жаль, что плевок не долетел.
В это время из толпы ревущих баб выскочила Катька и бросилась к нему.
Один эсесман обхватил ее за талию и попытался швырнуть обратно. Но офицер коротко крикнул:
– Aizcelt! Velciet vinu surp!
Солдат послушался и поволок отбивающуюся девчонку к нему. Толпа завизжала еще больше. Тогда один, а потом второй латыши несколько раз выстрелили в воздух. Затем, поверх голов, дал очередь и пулеметчик.
Костя разглядел сквозь слезы, как Катьку тащат к офицеру. Он попытался дернуться, но его удержали за плечи и заломили руки.
Цукурс отдал щипцы с тавром подручному, а потом подошел к Кате и погладил ее по щеке. Едва коснулся локона, провел пальцем по носу:
– Твоя любовь? Красивая. Жалко будет испортить такую красоту. Cirvis!
Ему тут же дали в руки топор.
– Потом я отрублю ей кисти и ступни. Но это потом. Сначала мы с ней поиграем. Если ты не скажешь, где прячутся бандиты.
Катька завизжала от ужаса, а у Кости пересохло горло. Он только замычал. А потом кивнул.
– Двадцать километров на север. Ровно на север. Почти у болота. – прошептал он.
– Хорошо, – улыбнулся в ответ садист. А его голубые глаза оставались холодными. – Atlaidisiet vinu.
Державшие его солдаты отпустили, и он упал на землю от бессилия и отчаяния.
– Uguns!
Солдаты открыли беспорядочную стрельбу по толпе. Катька присела, захлебываясь в крике и зажав руками уши. Через минуту дети и женщины беспорядочной грудой лежали на земле, кто-то еще стонал, эсесовцы пошли добивать раненых. Патроны не тратили. Штыками и прикладами.
Офицер вздохнул, размахнулся и…
передумав, выбросил топор.
А потом достал пистолет и двумя выстрелами в голову добил сначала Костю, потом воющую Катьку.
Наткнувшись на недоуменный взгляд оберштурмфюрера, Герберт Цукурс пояснил:
– Я их пожалел. Хотя эти азиатские свиньи и не достойны жалости. Выжечь тут все к чертовой матери! – крикнул он.
А потом переступил через тела юноши и девушки, стараясь не испачкаться в крови. Остановился. Посмотрел на них. Подумал о чем-то своем. И добавил:
– Командиры рот ко мне! Спланируем прочесывание леса.
– Стоит ли на ночь идти в лес? – засомневался один из командиров, стоявших все это время рядом.
– Бандиты могут сменить место. И завтра мы их уже не найдем. Война не всегда бывает приятной. Иногда приходится и по ночному лесу походить. Да, и пошлите бойца за взводом кинологов.
Глава 9 Болото
Меня нашли в четверг на минном поле,
в глазах разбилось небо, как стекло.
И все, чему меня учили в школе,
в соседнюю воронку утекло.
Друзья мои по роте и по взводу
ушли назад, оставив рубежи,
и похоронная команда на подводу
меня забыла в среду положить.
Александр ДольскийРитка всерьез начала беспокоиться, когда стемнело.
Мужики же все обсуждали дальнейшие планы:
– Значит, вы у Ивантеевки работали… – думал вслух дед.
– Ну да. И все там и оказались. И я, и Рита. И Захар с Виталиком там же.
– До Ивантеевки идти – километров сорок в обход болота. И так уже неделя прошла. Где остальные ваши сейчас, ума не приложу. Однако сходить надо. Через болото, до островка километров пять. От островка еще километра три. Там бои были, слышал я. Да и Виталий о десантниках говорил. Вроде бы они там должны быть. Валера, дойти сможешь?
– А куда мне деваться-то? – хмыкнул доктор. – Конечно, дойду. Только все равно я смысла не вижу туда идти. Неделя прошла. Ребята уже разбежались как минимум.
– Попытка, так сказать не пытка, – почесал отсутствующую бороду Кирьян Василич. – У тебя другие варианты есть?
– Ага. Сразу к нашим пробиваться. Здесь нам впятером все равно делать нечего. Да и эти субчики важнее двух-трех немцев. А на большее мы все равно не способны.
– Почему это? – возмутился Еж. – Можно мост там взорвать какой-нибудь. Или поезд под откос пустить.
Дед засмеялся, а Валера, приподнявшись, на локте ответил:
– Тут железных дорог нет. А все мосты – через ручейки. Самый большой через Явонь и тот в самом Демянске. Правда, перед самим Демянском на ней плотина еще.
– Во! Плотину можно взорвать! – Еж аж подпрыгнул от радости.
– Зачем? И чем? – осадил его дед.
Рита в это время отошла от костра. Постояла несколько минут в темноте, а потом тихо-тихо позвала:
– Мужики!
Ее вначале не услышали. Дед с Валеркой дружно обсмеивали Ежа, представляя, как он крадется взрывать плотину.
– Мужики! – чуть громче сказала она.
Но гогот Ежа перебил ее.
– Да мужики, вашу мать! – рявкнула она, не выдержав.
– Чего, Рит? – обернулся к ней Еж, пытаясь разглядеть в темноте.
– Идите сюда. От костра плохо видно.
Они поднялись втроем, причем Еж ворчал и кряхтел больше деда.
– Посмотрите! – и она показала на южный свод ночного уже неба.
Красно-багровый свод.
– Ну и чего? – недовольно сказал Еж.
– Зарево, – ответил ему дед. – И очень большое зарево. Кажись, вся деревня горит.
– Где же Костик-то? А? – тихонечко шепнула Рита.
Дед помолчал, пожевал губы и твердо скомандовал:
– Собираемся!
– Вот, кажись, все и решено, – добавил он чуть погодя. – Уходить будем через болото. Немцы туда не сунутся по темноте.
– А может они сюда вообще не пойдут. Ночью-то, – засомневался Еж.- Может сбегать, посмотреть?
Дед так зыркнул на Ежа, что тот немедленно заткнулся.
Солдату собираться – только подпоясаться. А уж партизану и подавно. Только Рита слегка тормозила, как обычно. В конце концов, и она собрала свой вещмешок. А потом сказала:
– Не мужики, но так же не делается? Мы же Костю бросим, если уйдем сейчас.
Дед подумал и ответил:
– Хорошо. Ждем еще десять минут. Может, парнишка не натворил глупостей…
Еж отошел в сторону от костра. Смотреть на зарево. И устроился там, навалившись на здоровенную сосну. Остальные молча сидели и ждали у догорающего костра. Только дед чего-то ходил и выбирал побольше размером палки. Время тянулось медленно, словно патока. Говорить не хотелось.
Собак первым услышал Еж:
– О, слышите, гавкают! Это в селе, что ли?
– Дождались, ититть твою меть… Ноги в руки и бегом! Лишние стволы в болото! Далеко себя бы унести… Уходим!
– А Костя-то как? – почти всхлипнула Ритка.
– Найдется, коли в порядке все. Он эти места знает как ладонь свою. С детства тут бегает.
– А если не в порядке?
– Тем более уходим! Я иду первым. Рита за мной. Валера, потом ты. Андрейка последний. Понесешь «Дегтярь». И назад поглядывай, время от времени. Фонари увидишь – сразу говори.
Еж кивнул.
– Слеги берите. Падать будете – попереком груди выставляйте. Встать легче будет.
Себе же взял самую длинную палку. Метра два. А после дед перекрестился и шагнул в темную жижу. Болото с удовольствием зачавкало.
– Хорошо, хоть что месяц на убыль идет… – проворчал дед.
– И плохо, что погода безоблачная! – ответил из-за спины Риты Валера. – Если подальше не уйдем, они нас как на ладони увидят.
– Тогда шаг прибавили! – приказал дед. – И с тропы не сходить!
Каждый шаг давался огромным трудом. Особенно Рите. Казалось, болото гигантским ртом всасывает ногу в себя. И каждый раз неохотно отпускало.
Чмоох., чмоох, чмохх, чмоох… И между чмоканием – лай собак.
Через полчаса тяжелого чмокания она устала. Впрочем, не она одна. Тяжело дышали все. Даже дед.
– Стоим минуту! Андрей, что там?
– Не видно ни черта. Дымка везде.
– Болото запарило, Кирьян Василич! Туман пошел.
– Хорошо, что туман. Поди не увидят. Вперед, орлы болотные!
И тяжело захлюпал вперед.
– Давай, давай, Рита. Не стой, – подтолкнул ее, опершуюся на слегу, Валера.
– Боже ты мой… – простонала она. – Хорошо комаров нет!
– Ага…
– Фонари! Кирьян Василич! Фонари! – вскрикнул Еж.
Тут же вскинулись вверх парашютики осветительных ракет.
– Ложись! – шепотом, но вскрикнул дед. Все плюхнулись в жижу. Еж, естественно, глотнул ее и стал отплевываться, тихо матерясь.
– Вперед! – пополз дед. Но остановился, оглянулся и сказал. – Минут через двадцать посуше будет. Можно пробежаться. Валерка!
– Чего, дед Кирьян?
– Возьми пулемет у Андрейки. Останься, посмотри. Если гитлеры за нами поползут – придержи. Диск кончится – тикай.
– Понял!
– Кирьян Василич! Может быть, я сам останусь? У доктора нога все-таки…
– Когда, говоришь, немцы под Харьковом ударят?
– 17 мая, вроде бы… А что?
– Ничего. Неделя осталась. За мной! Валера! Долго не сиди тут. Ползи по следу тихонько. Минут через десять. И рачком пяться. Немцы должны по следу пойти.
С далекого уже берега болота застучал пулемет. Рита упала лицом в грязь. Зубы ее стучали – то ли от холода, то ли от страха.
Она подняла голову. Мертвенно-бледный свет висел над топью, превращая ее в странное подобие то ли ада, то ли морга. Дед Кирьян махнул ей рукой и она послушно поползла за ним, раздвигая перед собой упругую грязь.
– Каску надо было взять, – шипел сзади Еж.
«Ничего… Ничего… Ничего… Пуля, сабля, штыки… Все равно… Кто это поет? Еж или я?» – думала она, следя за подошвами сапог деда Кирьяна. – «Господи! Как нам с Ежом повезло, что он с нами оказался, рядом… Что бы мы делали без него, интересно? Лежали бы уже в этих лесах… А мужики сейчас где? Юрка Семененко, Лешка Винокуров, Леонидыч, Толик Бессонов, Маринка… Про Захара с Виталиком хотя бы понятно. Здесь. К нашим ушли. А эти-то где?»
Ответом ей был железный грохот Валеркиного пулемета.
– Ни хера себе лязгает!! – удивленно напугался Еж. – Рита, ходу прибавь!
– Ага, – неожиданно согласилась она.
– Василич! Идут! Ходу, давайте, ходу!
Внезапно жижа потвердела под руками и превратилась в жидкую грязь…
– Встали! Бегом! За мной! – сквозь зубы зарычал, унтер-офицер Богатырев.
– Не могу, я больше… – вдруг вскрикнула ровно птица Рита.
Он подскочил к ней, схватил за вещмешок и толкнул вперед:
– Бегом!
Позади грохотали выстрели немецких карабинов. Изредка взрывался грохотом Валеркин «Дегтярь». И она послушно побежала вперед, удерживаемая за мешок рукой деда.
Бежали, если можно так назвать передвижение по грязи, которая достает всего лишь по щиколотку, минут десять.
– Стой, привал… – и Рита, и Еж, и даже дед дышали уже через раз.
– А чего тихо стало? – вдруг понял Андрей.
Все вдохнули и замерли на выдохе.
И впрямь тишина. Только немцы, но уже вдалеке, шипели ракетами.
А потом кто-то зачавкал в серебристой, подсвеченной сквозь туман луной, темноте.
Они приподняли винтовки, еще сегодня вылизанные под суровым присмотром деда почти до блеска, а теперь извазюканные в торфяной грязи.
Из тумана показался хромающий Валерка.
– Фу ты… Пугаешь, как Фредди Крюгер…
– Это еще кто? – устало спросил Валера и рухнул в мягкую грязь.
– Да так…
– Пулемет где? – шмыгнул носом дед. Видно было, как он тоже измотался.
– Они по следу пошли. Человек десять, может двенадцать. Кучно так. Я их метров на двести подпустил. И влупил очередью длинной. В самую толпу. Не понравилось, сукам. Тут же попадали. Аж брызги по сторонам. От грязи, в смысле. А потом стрелять по мне начали. А я стрельну и отползу тут же, стрельну и отползу… Они пока головы подымают – я уж метрах пяти. А они по выхлопу бьют, дураки! – Валера довольно засмеялся. – Диск кончился, потом второй. Смотрю, обратно поползли. Я подождал, не дурак же. Может обманывают? Неее… Точно ушли. И забрали своих. А пулемет я в промоину бросил. Все одно патроны кончились. А если бы они опять пошли, я бы с этой железякой далеко не ушел.
– А чем воевать-то будешь?
– А найду чего-нибудь. Этот, как его… Хервассер, есть еще?
– Киршвассер, дубина ты, хоть и доктор, – беззлобно подначил его дед. – Черешневая вода, по-нашему.
– Давай черешневую воду. Хлебнуть надо, для поддержки сил.
– Пулемет жалко, блин, – вздохнул Ежина. – Хороший был пулемет…
Валера прищурился было от наступающей злости, но дед вдруг громко зевнул и сказал:
– Пулемет хороший, но Валерий Владимирович лучше! – И достал фляжку из мешка.
– А кто ж спорит то! – распахнул глаза Андрюшка! А про себя подумал: «А я бы не выкинул…»
Валера глотнул из фляжки. И даже его, привыкшего к медицинскому спирту и ядреному деревенскому самогону, передернуло.
– Ух!… – просипел он. – Не фига не черешня. Больше на крапиву смахивает…
Дед понюхал:
– Аааа… Вот это и есть шнапс. Не то, что та водичка! – и довольно гоготнул. – Держи-ка, Ритуля!
– Нее… Я не буду, – слабо запротестовала она. Но фляжку взяла. И глотнула. Хотя и не хотела.
– Вовсе не так уж и крепко… – сказала она, когда откашлялась и утерла слезы…
А когда огонь в пищеводе и желудке слегка утих, вдруг почувствовала прилив сил.
– Еще? – улыбнулся Валера.
Она качнула головой. Мол, хватит.
– Тогда пошли, – сказал дед. – Сейчас самое трудное будет…
Дед, оказалось, не шутил. Если до привала они кое-как, но шли, то сейчас в буквальном смысле пришлось ползти. Метров пятьдесят еще прошли, а дальше болото стало просто затягивать в себя, воняя сероводородом.
Поэтому поводу долго Еж возмущался, но потом и он замолчал, устало продираясь сквозь грязь…
…Гауптштурмфюрер СС Герберт Цукурс внимательно изучал карту. Послать погоню за русскими ночью, по болоту, он, естественно, не рискнул. Шаг в сторону – можно утонуть, а идти прямо по следам партизан – значит постоянно быть на прицеле. Чертов пулеметчик убил еще одного солдата и ранил двоих. А еще днем двое подорвались на сюрпризе в управе. Итого потери – двое убитых, трое раненых. Против одного партизана. Оберштурмфюрер Лакстиньш доложил, что русских на болоте было четверо. Всего четверо! Против батальона! Ну ничего… им чертовски повезло. Не более. И как эти же русские говорят – против лома нет приема?
Значит так…. Партизаны идут по болоту с варварским названием Дивий Мох напрямик, по известной только им тропе. Болото это похоже на крокодила – только вместо пасти у него – длинным и узким языком – полуостровок с выходом на сушу. В обход, по краю болота, до выхода этого гребня около сорока километров. Значит достаточно одного взвода, чтобы перекрыть эту горловину и запечатать их там наглухо. Насмерть! Русские наверняка выйдут на сушу только к утру. И рухнут там без сил. А к утру, в крайнем случае к обеду, мы будем там. И возьмем их тепленькими…
– Господин гауптштурмфюрер! Может быть, следует идти ротой?
– Вы меня пугаете своей трусостью, обер… Их там четверо, всего четверо. Или вы обознались?
– Возможно, мы ранили пулеметчика…
– Значит на трех с половиной русских, вы хотите всем батальоном?
– Может быть, ротой? Может статься, у русских там база и партизан ждут…
– Кто? Кто их там может ждать?
– Их товарищи, конечно…
– Неделю назад наши союзники добили здесь большевистских десантников, фанатиков Сталина. Добили окончательно и бесповоротно. А до этого здесь никто и не слышал о партизанах. Следовательно…
– Что?
– То, что это или недобитки-десантники, или обыкновенные бандиты. Неужели вы, господин оберштурмфюрер, – в голосе Цукурса лязгнул металл, – думаете, что взвод лучших бойцов Латвии не сможет справиться с четырьмя русскими бандитами?
– Конечно, смогут, но…
– Приведите себя в порядок, оберштурмфюрер. И прикажите своим бойцам отдыхать. Выходим с рассветом.
…Через час и пятнадцать минут, вытащив замерзшую и насмерть перепуганную Риту из очередной промоины, они лежали в черной и холодной жиже, отдыхая перед очередным броском вперед. Говорить не было сил, даже дышать не было сил. Но идти надо было. Хочешь не хочешь – а надо. Впрочем – не хочешь идти, можешь тонуть.
Дед закряхтел, вставая с огромным трудом на четвереньки, и вдруг замер:
– Тихо!
Чего тихо, никто так и не понял – стояла обычная ночная тишина. Шумели на ветерке исковерканные болотом маленькие кривые березки, где-то ухала какая-то ночная птица, лягуши орут друг на друга любовными песнями… Все как обычно.
Чего Еж и озвучил.
– Тихо говорю, – рявкнул на него дед. – Дымом пахнет…
– И точно! – удивился Валера. – А я и не заметил. Вернее заметил, но внимания не обратил.
– Костер жгут, твою мать…
– Кто? – спросил Еж. А потом подумал и добавил: – Извините, не подумал!
Дед Кирьян подумал и зло добавил:
– Ладно, пошли вперед. Нас все одно слышно за сто верст. Может это те десантники, о которых Виталий рассказывал? Немцы, вроде как, не должны были вперед нас до острова добраться. Не стреляйте только. Ежели что, лапы в небо. Все одно шансов у нас нету. Положат за два чиха и даже не сморкнутся. А там посмотрим, чего да как.
И они снова тяжело зачапали вперед. Время от времени на четвереньках, а иногда и опять ползком. Уже начинало светать, когда они, грязные как вурдалаки, выползли на твердую землю островка.
Несмотря на то, что их слышно было, наверное, до самого Демянска, никто не окликнул их из кустов, никто не открыл огонь на поражение. Только запах дыма стал еще сильнее.
И точно. Чуть поодаль светились угли.
Дед, пошатываясь от усталости, побрел к костерку, аккуратно обходя воронки. Земля здесь была вся изрыта, словно гигантскими кротами.
– Терминатор, блин… – заворчал Еж и поперся за ним.
Валерка остался на месте – нога пульсировала от боли. А Рита вообще не могла пошевелиться – мышцы, казалось, сжались в едином спазме, а по коже мириадами бегали невидимые мурашки.
– Где-то здесь, красавчики… – пробормотал дед вполголоса, присев у тлеющих головешек. – За нами глядят. Чуешь? – не оборачиваясь, спросил он у Ежа.
Еж подумал и, на всякий случай, сказал:
– Ага, чую…
Впрочем, в ночном лесу всегда кажется, что на тебя кто-то смотрит.
– Не германцы это. Наши, русские, – дед подкинул хворосту в угли и принялся дуть на них.
– Почему? – удивился Еж.
– Костер по-нашему сложен. Аккуратно. Знающий человек делал. Немцы они навалят шалашом, а тут, вишь, домиком складывали…
Хворост полыхнул, наконец, осветив их лица.
– Ежина, мать твою, ты откуда взялся? – раздался крик из кустов.
– Из тех же ворот, что и весь народ! – вскочил Еж и дернул винтарь с плеча. – Выходи, подлый трус, не то стрелять буду!
Кусты зашевелились и оттуда показались два силуэта.
– Юрка! Вини! – вскрикнула раненной птицей Рита и, неожиданно для самой себя, метнулась к мужикам.
– Ваши? – деловито спросил дед Кирьян.
Но Еж не ответил. Бросив винтовку, он уже бежал навстречу к друзьям…
– …А мы думали, кто там по болоту скребется? – улыбаясь после очередного глотка шнапса, говорил Лешка Винокуров.
– Г-главное, вроде не г-гансы, – чуть заикаясь, как обычно, добавил Юра Семененко. Фляжку он пропустил мимо, как совершенно не пьющий человек, что удивительно не только на войне, но даже и в «Поиске». Ежа это радовало всегда, а сейчас тем паче. Ибо больше достанется.
– Рассказывайте, ваша очередь! – сказала Рита, когда закончила свою и Ежовую историю.
– Чего тут рассказывать… Мы снаряд тот едва стронули – и вспышка в глазах. И темнота полнейшая. Я очухался – кругом бойцы наши лежат. Сразу понял – где и что.
Лешку передернуло. Он помолчал и продолжил:
– Побродил, прибарахлился. А через час Юрку встретил. Он пулемет в кустах разбирал.
– М-максим. Жалко кожух пробит. М-мы бы с собой укатили.
– Далеко? – поинтересовался дед.
– Два дня ходу, – ответил Вини.
Дед разочарованно махнул рукой:
– Не к месту.
– А ч-чего?
– Завтра к вечеру тут немцы будут.
– О как! – воскликнул Вини. – С чего бы это? Мы тут неделю по лесам шаримся еще ни одного не видели, понимаешь.
– Ж-живым! Мертвыми навидались.
– Мертвыми – это хорошо, – оскалился Валера. – Хороший фриц – это мертвый фриц.
Вини покосился на его фингал и ничего не сказал.
Дед молчал, присматриваясь к новым бойцам своего отряда. Лешка Винокуров, он же Вини, показался ему парнем бывалым, с едва уловимой военной косточкой.
– Служил ли? – подал дед голос
– Ну, как сказать… – замялся Вини.
– Леш, это Кирьян Васильевич. Он знает все. И Валера, доктор, тоже в курсе всего, – перебила его Рита.
– В смысле в-всего? – спросил Юра.
– В смысле, что мы из будущего.
– О как… – потер подбородок Вини. – Не служил. Хотя лейтенант запаса.
– Это как? – Удивились в один голос Валера и дед.
– Ну, высшее образование получил. И корочки лейтенанта запаса.
Ответом было недоуменное молчание…
– Военная кафедра, называется. Неделю в сапогах походишь – и звание лейтенанта дают.
– Теперь я понимаю, почему страна ваша развалилась… – невесело сказал дед Кирьян.
– Почему это в-ваша? – удивился Юра. – В-вроде и в-ваша тоже. Разве нет?
– Моя развалилась, да заново собралась. Хорошо, что хозяин нашелся. Было кому собирать. А у вас некому. Нет хозяина. Командирские звания, вона, за неделю службы дают. Смешно. А ты, Юрий, как там тебя по батюшке?
– Тимофеевич. Пожарным работал, а теперь спасателем.
– На лодочной станции, что ли?
– Зачем же. Вот представьте – наводнение или, там, дом рухнул. Вот мы людей из зоны затопления вывозим или из-под завалов вытаскиваем.
– Полезная работа. А что, часто дома у вас рушатся?
– Бывает… – неопределенно пожал плечами Юра.
– Бывает… Хе! Немцы к утру тут будут, так что давайте о насущном, – сказал Валера с наслаждением грея разутые ноги у костерка.
– Уходить надо, – сказал Еж. – Чего мы тут навоюем?
– Далеко ли уйдем-то? – сказал Валера, – на Риту вон посмотри…
Та отчаянно пыталась не зевать.
– У вас оружие-то есть? – спросил дед Кирьян.
– К-кой чего насобирали. По карабину имеем, да гранат пара десятков и РГД, и лимонки. Пару колотушек гансовских есть. И бутылок с зажигательной смесью штук десять.
– Запасливые! – уважительно кивнул Кирьян Васильевич.
– Иван-долбай еще, – добавил Вини, улегшись на трофейную плащ-палатку.
– Чего? Какой долбай?- удивился дед.
– Мина от немецкого реактивного миномета. Здоровая дурында, метр с лишним. Упала в болотину аккурат с перешейком. Взрыватель не сработал. В самую жижу воткнулся и торчит.
– Чего с ним делать-то? – спросил Еж. – Пусть и валяется.
– Н-не скажи. Можно пару-тройку лимонок п-привязать и бахнуть.
– Так лучше растяжку сделать.
– Это, дед как ты немцу в деревне привязал…
Дед покосился на Ежа и, выразительно кивнув на Риту, показал ему кулак. Однако та уже спала, навалившись на спину Валеры, и тихо посапывала. А потом, как ни в чем не бывало, сказал:
– Сам знаю. Значит веревочку через тропу кинуть…
– И б-бахнет – мало никому не покажется! – улыбнулся спасатель Юра.
– Погодите, – перебил его Вини. – У гансов наверняка боевое охранение впереди идет. Человек пять-шесть. Они подорвутся и чего? Вообще сколько их?
– Кто его знает. Не считали, – буркнул дед. – За нами по болоту отделение вроде попробовало рыпнуться. Валерка их отпугнул пулеметом.
– У вас п-пулемет есть? Дайте г-глянуть! – обрадовался Юрка.
– Утопил я его. – Сказал Валерка. – Патроны к нему кончились.
– Жалко… – Юра испытывал к оружию прямо фрейдистское влечение. Еще в «прошлом-будущем» мог часами сидеть у костра, разглядывая и расчищая очередную раритетную железяку. Однажды нашел испанский пистолет «Астра» так почти до рассвета сидел, пытаясь его разобрать. Однако не удалось. Слишком уж заржавел тот «эксклюзив».
– Кстати, я в фильме одном видел, – подал свою идею Еж. – Можно бутылки в землю закопать и стрельнуть, когда фрицы проходить будут. Они самовозгорающиеся или с чиркалом?
– С запалом, Еж.
– Так можно бронебойно-зажигательной фигакнуть! – ответил Андрей. – Хотя, мне кажется, и обычной хватит! Огневая засада получится.
– А что? Неплохая идея! Можно попробовать!
– Значит, остаемся и принимаем бой? – дед нахмурился. Сюрпризы сюрпризами, но против роты или двух им все равно не устоять. Да и немцы не дураки. Подтащат минометы и накроют их тут. И поминай как звали.
– До рассвета час. Давайте-ка отдохнем. А там посмотрим.
И ни улеглись вповалку на кучах еловых веток вокруг костра, кое-как стащив грязную, мокрую одежду. А Юра и Вини остались караулить их сон.
Час сна это очень много и очень мало. Только закроешь глаза – и сразу надо их открывать. С другой стороны за этот час ты можешь прожить целую жизнь…Правда, очень короткую. Хотя и яркую.
Хорошо как видно ее…
Вот он опять стоит и медальон протягивает. Уставший молодой боец, лет восемнадцати – «Найди меня!» – шепчет. Тихо так шепчет. Виновато…
И спросить бы – где ты? – но зачем-то ком в горле. И слова любого невозможно сказать. Слезы душат. Только мычать в ответ. Ком в горле. И слезы. И мычать сквозь ком… Солдатик подошел, нагнулся и взял ее за плечо:
– Рита! Рит!
Она открыла глаза. Солнце уже стояло высоко над зеленеющим свежей листвой лесом.
– Который час?
– Двенадцать. – Вини улыбался, глядя на сонную девушку.
– Как двенадцать?? Дед же велел через час разбудить!!
– Так мы мужиков-то и разбудили через час. Потом делами занимались. Тебя трогать не велено было.
– Кем?
– Кем, кем… Дедом, конечно. Кто у нас командир-то? Кстати, грамотный мужик. Леонидыча бы с ним познакомить… Вот они спелись бы.
– Ой, блин… – Рита зевнула так, что едва не вывихнула челюсть. – Погоди, сейчас умоюсь…
В ближайшей воронке она умылась зеленой водой и в очередной раз пожалела о зубной щетке и пасте.
А уже потом оглядела островок посреди болота. Рядом с костром дрых Еж. Чуть поодаль храпел Валера. Юру с дедом видно не было.
– А они на перешейке, – сказал Вини. – Караулят. Дед вообще мужик железный. Все утро по позициям ползал и хоть бы что.
– Чего-то горелым пахнет. Не костром, – поморщилась Рита.
Вини помолчал, нахмурился и показал винтовкой куда-то в сторону:
– Немцы тут кого-то пожгли. Десантников, похоже. Которых мы искали. Помнишь?
Она оглянулась.
Черная груда обугленных костей. Даже издалека видно – не деревяшки, не железо – человеческие кости.
– Помню. Вот и нашли. Надо место запомнить.
– Хы… Главное вернуться. Рит, как думаешь, вернемся?
– Леш… Я не знаю. Нам бы отсюда выбраться.
– Отсюда точно выберемся. Юра с дедом знатные ловушки приготовили. Кстати, он говорил…
– Кто он?
– Кирьян Василич. Говорил, что ты, оказывается, стреляешь хорошо?
– Ему виднее, конечно…
– А чего не говорила раньше?
– А зачем? В кого стрелять-то там было?
– Хы-хы… Верно. Значит, пригодится здесь. Пошли.
– Не хочу пошлить.
– Ну, пойдем…
– Пойдем!
– Зануда ты!
– Сам зануда!
– Осторожно. Ступай за мной. По следам.
– А чего тут?
– Сейчас узнаешь. Кирьян Василич! Проснулась! Привел!
Из кустов послышался голос деда:
– Угу. Погодьте.
Кусты долго шевелились и, наконец, дед Кирьян выполз из них.
– Проснулась? Значит чего… Вона сейчас через засадку прошли?
– Какую? – не поняла еще не проснувшаяся толком Рита.
– Через бутылки. Прикопали мы из тута. Будешь сидеть и ждать. Стрелять по ним будешь.
– По немцам?
– Да нет, по немцам не вздумай стрелять, – осердился мимолетом дед. – По бутылкам. Главное, на всю засадку их запусти. Чтобы положить побольше их тут. Тамака мы ивана ихнего, который долбай, заминировали, а тамака их дозор класть будем. А ты в кустах сиди и жди, когда они сюда зайдут. От тебя много зависит. Поняла? Рука не дрогнет?
Рита пожала плечами.
– Ты тут коромыслами-то не жми! – прикрикнул дед. – Или мы живы, или они!
И воины СС умеют уставать. Как это ни странно. Перед последним рывком к перешейку к Цукурсту буквально подполз оберштурмфюрер.
– Господин гауптштурмфюрер! Люди вымотались. Почти сорок километров – не шутка! И без сна, без отдыха…
Цукурст прищурился, зло посмотрев на обера. Он, герой Латвии – летчик, которому подобно не было в мире! – он не мог позволить себе устать!
Вся страна гордилась им, когда он из Латвии совершил перелет в никому неизвестную Гамбию, а потом в Японию и, наконец, в благословленную Палестину. «Латышский Линдберг и Жюль Верн в одном лице!» – так писали о нем газеты.
Неужели он может устать, Железный Герберт?
– Дайте мне крови, дайте мне крови! – кричал он, подбрасывая еврейских младенцев в воздух и стреляя по ним.
Увы! Не все герои маленькой, но гордой Латвии способны на это. Поэтому людям нужен отдых. Нужен, хотя бы, перекур.
– Охранение вперед, – хрипло дыша, приказал он. – Лакстиньш! Ты старший… Звирбулис! Выдайте солдатам по фляжке на троих…
Толстоватый, чем-то похожий на воробья, Звирбулис послушно стал распаковывать вещмешок, попутно радуясь, что закончилось, наконец, изматывающее бульканье за спиной.
…– Лежи тихо и скромно! Понял?
– Да понял я, дед Кирьян! – слегка раздраженно ответил Вини. – Шумим и убиваем как можно больше.
– А потом?
– А потом бегом за первую линию!
– Правильно. Не сробеешь?
Вини ничего не ответил, прилаживаясь поудобнее к винтовке. Стрелять надо один раз. В цель один раз. Потом можно много и воздух. Чтобы дернулись, суки, и побежали…
…Валера напевал про себя: «Если завтра война, если враг нападет, если темная сила нагрянет, как один человек, весь советский народ…» Напевал и сам этого не замечал, нервно поглаживая цевье винтовки. Не замечал и того, что бросал короткие и быстрые взгляды на Риту…
…А Рита, наоборот, была спокойна. Время от времени она проверяла прицелом едва заметный бугорок в двухстах метрах от кустов, в которых они с Валерой замаскировались. Десяток бутылок с «коктейлем Молотова» ждали своего часа. Главное выдержка! Выдержать и ждать, когда немцы выскочат на импровизированное минное поле…
… Еж закурил, но тут же Юра вырвал сигарету прямо изо рта и показал кулак. Они должны были сидеть как мыши, дожидаясь, когда мимо пробегут дед и Вини, очень быстро натянуть малозаметный шнурочек и нестись, сломя голову. К месту, где были спрятаны два единственных у них немецких автомата. А там уже лежать и ждать, когда Рита устроит гансам огненную баню и ударить оставшимся в живых в спину…
…– Я устал, слышишь, Виктор? Я устал! Давай передохнем, а?
– Заткнись, Эриньш. Знаешь, что будет, если Цукурс нас с тобой застанет валяющимися в тенечке?
– Что?
– Он посадит лично тебя голой задницей на муравейник. Или вставит тебе карабин в нее и повернет раза три. А я ему помогу. Понял?
– Понял, не ори на меня. Но я все равно устал, голоден, хочу водки, женщину и спать.
– От бабы и я не откажусь. Но только, после того, как поем и высплюсь.
– Слушай, почему мы носимся по этим болотам? Я не нанимался в егеря. Я шел в шума-батальон!
– Евреев гонять?
– И евреев, Скамберг, и красную сволочь. Но я не просился бегать за русскими партизанами в гиблых болотах…
Скамберг не успел ответить. Он только приоткрыл рот, поправляя карабин на плече, чтобы сказать, что надо заткнуться и смотреть по сторонам, а не ныть на весь лес, как вдруг в кустах – слева и справа от тропинки – что-то полыхнуло, а потом мир зачем-то стал черным.
Навязчивую тишину теплого майского дня вдруг резко пробили два винтовочных выстрела. Валерка едва не подскочил:
– Идут! Ей Богу, идут!
– Лежи спокойно. Кирьян Васильевич свое дело знает, – обрезала его Рита. – Все идет по плану.
– Ага…- ответил доктор. И тут же застыдил сам себя: «Девка спокойна, а ты чего дергаешься? Роды, блин принимал, с переломами открытыми возился! Да и вчера не так страшно было. Чертов адреналин…»
Рита, наоборот, где-то глубоко внутри удивлялась себе – почему спокойна как удав? Даже сердце не шелохнется.
И тут снова началась пальба. Хлопали трехлинейки. У немецких карабинов звук резче и суше. Это новоявленные партизаны уже выучили наизусть.
Потом выстрелы утихли.
Прошли невероятно долгие пятнадцать минут.
И тут рвануло так, что даже в километре от снайперской лежки заложило уши. Подпрыгнула, пошатнулась и повалилась сосна, удивительным образом выросшая на самом краю болотины. И на том же месте медленно воспарил черный гриб взрыва.
– Как ядерный… – прошептала Рита.
– Что? Какой? Ядреный? – так же шепотом спросил Валера.
– А? – повернулась она к доктору.
– Какой говорю, взрыв?
– Потом расскажу, как-нибудь… Смотри! Лешка бежит! Один, почему-то…
Вини и впрямь бежал один. На участке с закопанными бутылками тормознул. И аккуратно, чтобы не ступить, случаем, на одну из них, стал перешагивать словно маленький журавленок.
– Да что ж он телиться-то… – ругнулся Валера.
– А дед-то где? – затревожилась Рита. – Он же должен был с ним к нам выйти.
Наконец, Винокуров преодолел «минное поле» и снова огромными скачками понесся к вовсю зазеленевшим уже кустам.
Словно вдогонку ему от места взрыва затрещали выстрелы. Стреляли беспорядочно. Слышно было как лупят – во все стороны, не жалея патронов. И также резко пальба прекратилась.
Наконец Вини добежал до них.
– Ну что? Дед где? – одновременно воскликнули Валера и Ритка.
– Нормально все. Кирьян Василич с Ежом и Юркой остался.
– А там то, чего было? Что немцы? Сколько их?
– Пить есть? Дай глоток – в горле пересохло.
Вини забулькал из фляжки брусничный чай. Когда оторвался, сказал, наконец:
– Это не немцы. Латыши.
– Кто?? – удивился Валера.
– Латыши. Флаг у них… Красно-бело-красный на рукаве.
– Вот уроды, – ругнулась Рита. – Недаром памятник сносили…
– Это эстонцы сносили, – поправил ее Лешка.
– Какая разница? Чухонцы, блин…
– Какой еще памятник? – Валера недоумевающее вертел головой.
– Не отсвечивай своим фингалом. На весь лес видно. Потом объясню, – ответила Рита. – Дальше говори!
– А чего дальше? Они бестолковые в охранение двоих отправили придурков. Те даже карабины с плеча не снимали. Шли, ругались чего-то по-своему друг с другом. Сняли их в два выстрела. Жалко без автоматов были.
– А потом?
– А потом дед даже обшмонать их не дал. Пусть, говорит, лежат. Ну, мы и деру. И на ходу назад стреляем. Потом до Ежины с Юркой добежали. Растяжку по-бырому поставили и ходу. До перешейка. Там они и сидят сейчас.
– Кто? Немцы? Тьфу, латыши?
– Да не. Эсесовцы сейчас полчаса не меньше в себя приходить будут. Накрыло их там здорово. Пока раненых оттащат, пока пойдут, каждый шаг проверяя. Дед, Юрка и Еж там сидят.
– Погоди, а если эсэсманы обойдут их? Наверняка командир у них не дурак. После растяжки на тропе – цепью лес прочесывать начнут.
– А вот за этим там дед и остался. А я сюда пришел. Сейчас пострелять надо будет. Только погодите, я до края болотины добегу и рукой махну.
Вини помчался к берегу, снимая на ходу вещмешок.
– Чего они опять задумали? – спросила Рита.
– Сигнал эсесовцам дать. Точно, смотри!
Вини, добежав до конца островка, вытащил три немецких колотушки, чего-то там подергал, похоже, снимая рубашки, и, одну за другой, бросил их в болото.
Однако, хорошая штука терочный запал в такой ситуации. Оказывается семь секунд это много. Можно не спеша прилечь и смотреть – как там чего?
И через семь секунд – по очереди – ухнули глухие взрывы. Даже не взрывы, а так. Взрывики. А потом Вини выстрелил куда-то в сторону леса. И махнул рукой.
К сожалению, ребята не знали, что все это бесполезно.
И что гауптштурмфюрер Цукурс уже давно оставил пятерых тяжелораненых и троих убитых на месте взрыва. Конечно, 40 кило брутто, попади оно в центр эсэсовского взвода, положило бы всех на хрен. Но, увы.
Та самая сосна взяла на себя часть осколков. А еще немалая часть ушло в землю. Ибо вытаскивать эту дуру партизаны так и не решились, резонно сообразив, что может рвануть. Единственное, что сделал обозленный Цукурс, резонно ожидая новых неожиданностей, несколько углубился от тропы в лес. Эсесовцы шли осторожно. Очень осторожно. Каждый шаг грозил смертью. И когда раздались взрывы подалече, и стукнуло несколько выстрелов – они не рванулись вперед. Они знали – никуда большевики не денутся с этого островка. Некуда им деваться. И вот они, аккуратно перешагивая через каждую подозрительную железку, вышли, наконец, к перешейку островка…
– Появились! – шепнул Вини. – Смотри!
Перебежками латыши выскакивали из стены деревьев. Один за другим. Один, другой, третий, четвертый, десятый…
Рита старалась не замечать их. Она концентрировалась на едва заметном бугорке. Больше ничего. Только бугорок посредине тропы. Вот туда мы и целимся. Вот это я, вот это моя винтовка, вот через нее я достану взглядом и рукой. Интересно, маленькое движение указательным пальцем – и сейчас они умрут.
– Давай, давай, Ритуль! – шептал ей кто-то из мужиков, но она не слышала кто. Она ждала своего момента. А палец подрагивал на спусковом крючке…
– Чего-то долго они там… – заругался Еж, когда двое последних эсэсовцев свернули на тропу к последнему лагерю убитых уже десантников. Юра Семененко похлопал его по плечу, мол, тихо, браток, тихо. А Кирьян Васильевич только играл желваками…
…Цукурс приподнял руку. Взводный продублировал его жест. Эсесовцы замерли. Странно… Тишина… Либо они не здесь, либо?
…– Втянулись…- подумала она. И винтовка, словно сама собой, грохнула на весь лес. Фффух! Огонь полыхнул так неожиданно быстро, что латышские эсэсовцы даже не успели шевельнуться. Пламя ревом растеклось, хлопая взрывами бутылок и сжигая человеческие тела.
Рита зажмурилась, припав к прикладу винтовки. И, потому, не увидела. Много чего не увидела. Только слышала многоголосый рев сжигаемых коктейлем Молотова тел.
И привычный запах горелого мяса. Сзади груда сгоревших костей десантников, впереди толпа сгорающих костей эсэсовцев.
– Ссссуки!!! Лови! – встал на колено Вини и, резко дергая затвором, стал стрелять куда-то в бушующую стену огня.
Валерка вскочил и сбил его с ног:
– Пусть горят, сволочи! Пусть горят…!
…Пятеро эсэсманов отскочили назад, натолкнувшись на бушующую стену огня. И крича что-то на странном для славянского уха языке.
– Огонь! – крикнул дед Кирьян.
Три трехи жахнули по ушам. А упало почему-то двое из пятерых.
Юра обругал сам себя и прицелился вроде бы точнее. Выстрел! И опять эта зараза не упала! Зато двое других, по бокам, вальнулись на землю.
– От сволочуга! – удивился дед шустрости латыша, а Юра сказал короткое русское слово, со зла хряснув винтовкой о березу:
– Сбит!
– Кто?
– Прицел!
И пока Еж и Юра кидались словами, дед выскочил, тремя большими шагами допрыгнул до латыша и ухайдакал его прикладом в грудак.
Неожиданно все закончилось.
Хлопали патроны в подсумках, взрывались гранаты, разбрасывая куски мяса по болоту, да хрипел разбитой грудью эсэсман.
Еж наклонился к нему:
– Эй, Раймонд Паулс, говорить то можешь?
Юра засмеялся, утирая дрожащей рукой пот со лба.
Дед покосился на Андрюшку:
– Ты его чего, знаешь что ли?
– Нее… Это единственный латыш, которого я знаю.
– Еще Валдис Пельш, – поправил его Семененко.
– Ах да, эй, Пельш, ты кто?
Тот только хрипел в ответ.
Юрка пригляделся к погонам:
– Два ромба на погонах, три в петлицах… Гаупт! Ребят, да мы гауптштурмфюрера в плен взяли!
– Ого! – Еж обрадовался так, что аж подпрыгнул. – Ни разу еще офицера СС живого не видел!
– Ты недавно вообще фашистов только в кино видел… Эй, имя какое, враг народа? – дед легонько пнул латыша в бок.
– Чего это только в кино-то? Они у нас регулярно попадаются, скинхедами называют, азербайджанцев лупят, на стенах про величие России пишут.
– Еж, помолчи, потом расскажешь. – Юра нагнулся и стал обшаривать карманы офицера. – Есть зольдбух… Гауптштурмфюрер Герберт Цукурс… Лиепая, год рождения тысяча девятисотый… Место службы… Черт разберет этот немецкий!
Второй… батальон, ага! Ди… Леттише фрай… вилли… виллиген… бригаде… Тьфу ты… Чего это такое?
– Доброволец латышский, и так ясно. Ладно, давай пока свяжем и сходим посмотрим, чего там наши-то делают?
Пламя к тому времени уже спало, только кое-где чадили останки эсэсовцев. Пахло жареным мясом. Еж остался караулить пленного, дед же с Юркой пошли на островок по вонючему перешейку.
По пути Юра ругался сам на себя:
– Ну как же так, винтовку то я не проверил… Мушка сбита была… Вот ведь, а? Ведь знаю же, все почистил, в порядок привел, а вот мушку не проверил.
– Так ты что, не стрелял из нее?
– Нет… Пока тут сидели одни, старались не шуметь, когда вы появились – опять не до шума было.
– Наука… Эй, вы там! Целы? – гаркнул дед.
– Ага! – Ответил кто-то, похоже, Вини.
– Сюда давайте, мы тут пленного взяли!
Ритка старалась не смотреть на скрючившиеся обожженные трупы, сквозь обуглившуюся черную корку которых, просвечивало красное мясо. Странно, но какой-то гордости или удовлетворения она не чувствовала. Наоборот, отвращение к самой себе.
Наконец, страшное место осталось позади.
Они подошли к связанному эсэсману, возле которого сидел Еж. Андрейка пояснял тому, что латыш реально неправ. И сейчас не прав и в контексте политическом тоже. И что еще проситься будете обратно к России, но уже поздно будет – не возьмем.
– Чего, Еж, политинформацию ч-читаешь? – спросил Юра.
– Объясняю ему важность момента. Чтобы проникся.
– А смысл? Все равно сейчас в расход пустим, чтоб не дышал. А то вон как ему больно дышать-то…
Гаупт вздрогнул на этих словах деда.
– Глико-чо! – удивился Кирьян Васильевич. – Понимает по-человечьему!
– К-куда он денется…
– Понял? А я тебе, что говорил? Или все расскажешь, или шлепнем на месте! – и Еж убедительно клацнул затвором.
В этот момент подал голос Вини, внимательно изучавший офицерскую книжку гауптштурмфюрера:
– А ведь я его знаю…
– Чего? – удивились все в один голос.
– Это тот самый Герберт Цукурс. Я про него в универе доклад делал…
– В к-каком универе? – переспросил Юра.
– Ребят, вы чего? Я же историк, все-таки. Он летчиком был до войны. Популярный был, как у нас Чкалов. А в июле сорок первого перешел к немцам служить. В команде некоего Виктора Арайса служил. Так что ли?
Вини сел на корточки перед полулежащим Цукурсом.
– Четвертого июля сожгли заживо в рижской Большой хоральной синагоге около полутысячи евреев. Так?
Цукурс зло прищурился, не отводя взгляд от студента, но не говорил ни слова.
– Восьмого декабря расстреляли около трехсот детей в больнице на улице Лудзас. Так? Это же вы с Арайсом на груди у себя новорожденных разрывали руками! Так? К началу декабря 1941 года, согласно отчёту СС-айнзацгруппы «А», в Латвии было уничтожено уже более тридцать пять тысяч евреев, а за всю войну, из более чем восьмидесяти тысяч латышских евреев, уцелеет только сто шестьдесят два человека. Кстати, историки потом долго спорить будут, кто из вас эту знаменитую фразу сказал: «Что за латыш, если он не убил ни одного жида?»
– Вы странные, какие-то… – вдруг прохрипел Цукурс. – Много знаете… Жалко я вас не прибил… Краснопузые сволочи!
– Но, но! – приосанился дед. – Это еще посмотреть надо – кто краснопузый, я или ты, ирод балтийский!
И плюнул ему в лицо:
– Ритулька, девонька отойди-ка… – ласково сказал Кирьян.
Она молча покачала головой. Мол, не пойду.
Латыш чего-то заругался на своем языке, когда дед приставил винтовку к лицу.
Дед крякнул:
– Чего бармишь? Молишься ли чего?
Цукурса аж затрясло. Он вспотел так, что на носу повисла мутная капля пота.
– Не молишься, лаешься… – констатировал факт дед…
– Погоди, Кирьян Васильевич, чего-то эта сука уж очень легко отделаться хочет, – отвел винтовку Валера. – Давай-ка его по-конокрадовски…
– Это как? – заинтересовался Еж.
– А так, – ответил дед, – берешь конокрада – за руки, за ноги – и с размаха о пень. Грудью.
– Нафиг, – ответил Еж. – Я вот читал, может его к двум березкам привязать за ноги. Дугой согнуть и отпустить. Порвут его деревья, как тузик грелку.
– Быстро слишком, – вмешался Валера. – Привязать его задницей голой на муравейник, через три дня сдохнет.
– Да на кол его! – посоветовал Юра, – Правда, тут искусство нужно. Садят человека на кол, и тщательно опускают, стараясь, чтоб деревяшка не задела жизненно важные органы. И вышла в правую подключичную впадину. Мучался чтобы подольше. И снизу подпорку делают. Чтобы не сполз.
– Возиться еще… С ним… На костер его. Или просто прикладами забить.
– Погодите, – встрял Вини. – Вон в «Старшей Эдде» есть описание казни для таких… Викингов. Кровавый орел, называется. Ребра от позвоночника отрубаются, разворачиваются как крылья и легкие вытаскиваются наружу. Ты ж у нас орлов немецких любишь? – нагнулся он к латышу, глядя в его побелевшие от страха глаза. – Вот и сделаем тебе орла! Сам таким орлом будешь всю оставшуюся жизнь. Правда, не долгую. Фу, ты… Обкакался, что ли? Завоняло-то как…
– Мужики! Вы чего, обалдели совсем? – Рита с ужасом переводила взгляд с перекошенных, ужасных лиц ребят. – Так же нельзя! Вы же… Вы же, как он станете! Ну, так же нельзя!
– Да ладно, Рит… Собаке собачья…
Прервал спор дед. Просто и быстро, вновь приставив винтовку к лицу гауптштурмфюрера и выстрелив в лицо фашисту, слегка отвернувшись.
– Тьфу, блин! – Еж отчаянно стал стирать с лица теплые мозг и кровь бывшего эсэсовца, не удержался, согнулся пополам и побежал в кусты. Через пару секунд характерные звуки огласили лес.
– Труп подорвать. Чтобы не опознали и не похоронили. – Дед хмуро отер с рукава остатки Цукурса.
Вечером они заспорили у костра – как этих сволочей убивать? После того, что они делают, как с такими зверями себя вести?
– Как собак бешеных! – горячился Еж. – За руки, за ноги к двум танкам привязать и мееееедленно так в разные стороны.
– Еж, а чем ты тогда лучше их? – возмутилась Рита. – Такой же садист!
– Нет, Рита, не такой! Они мучают, чтобы удовольствие получить, а я предлагаю, чтобы они хоть каплю почувствовали, что и их жертвы. Или я не прав? Мужики, скажите?
Вини согласно кивнул:
– Ты прав, по-моему. Око за око, зуб за зуб. А не фиг. Во-первых, потому, что они сюда пришли с оружием, во-вторых, потому что они и впрямь садисты. Таким жить нельзя на земле.
– Что жить нельзя таким это точно. Это я согласна. Но, мне кажется, их нужно просто убивать. Выпалывать как сорняки. Но без ненависти.
– Ритуль, а к-как без ненависти? М-мы же не м-ашины Если эта с-скотина так детей убивала, какое наказание ему п-придумать? Ведь это же легкая смерть, от пули.
– Смерть, Юра, вообще, легкой не бывает, – вступился Валера. – Никогда. Даже во сне и от старости. Поверь мне как врачу.
– Т-тебе, как врачу, конечно, в-виднее. Но нельзя делать так, чтобы они во сне умирали от старости. Прав, Еж. Убивать зверей надо. Дед, а ты что молчишь?
– А чего говорить-то? – Кирьян Васильевич молча смотрел на пляшущее пламя костра.
– Как чего? Вот по поводу нашего спора.
– А чего спорить-то? Андрейка прав, убивать их надо как собак.
– Вот, а я чего говорю? – вскинулся Еж.
– И Рита права. Когда ТАК будешь убивать – в твоей душе зверь такой же проснется. И тоже крови требовать начнет.
Дед пошарил у себя в мешке и достал кисет с махоркой. Долго сворачивал самокрутку, покашливая, потом пыхнул несколько раз и скрылся в синем густом облаке.
– Ничего не понимаю, какой зверь во мне проснется? – Еже недоуменно хлопал круглыми глазами.
– Кровь, Андрейка, она вкусная. Первый раз страшно убивать, второй привычно, а в третий уже нравится. Алеша, око за око, говоришь? Шкура как-то сказал – «два ока за око, все зубы за зуб». Под Екатеринодаром было то или под Белгородом – не помню. Вошли мы в сельцо небольшое. Все мертвое. Детишек красные прикладами забили, головы разможжены. Баб… Ссильничали их, в общем. И штыками туда, да… От девчоночек да старух. Сколь там мужиков было – шашками руки и ноги поотрубали да так и бросили. Двое еще живых было. Одного я добил, второго друг мой, Антипка Заев, да… А в Храме они священника распяли, прямо на Царских Вратах. Батюшка то ж еще жив был. Глаза ему выкололи, а он все бредит – простите, да простите… А то вдруг вскинется и – будьте вы прокляты! А потом опять – простите…
Догнали мы ту Чеку. Через два дня догнали. Тоже страшно мы их убивали. Потом как пелена красная перед глазами – убивать, сволочей краснопузых, убивать! Расстреливал, ага… Одного за другим. В плен не брали. И нас в плен не брали. Потом в какой-то деревне комбедовца стреляли, а у него семья – восемь ртов. К стенке поставили и детишек его притащили – мол, смотрите, как ваш папка сейчас помирать будет. Смотрите и запоминайте. Он кровищей хлестнул, а я винтовку на плечо, оборачиваюсь – а детишки стоят молча так – ни слезинки из глазок, ни кровинки в лице. Маленькой один, лет пяти смотрит на меня и как будто спрашивает: «За что? Тятька добрый!» Глазыньки чистые, голубые, чисто ангел.
А я стою сам мертвый насквозь. И как зашевелится чего-то внутри – аж больно стало и горячо так. Я на землю упал и давай выть, да грудь себе пальцами драть, чтоб сердце вырвать, чтоб не болело. А то не сердце болело, то я живой стал заново…
И замолчал, сворачивая вторую самокрутку.
– А потом? – после долгой паузы спросил потрясенный даже не рассказом, а спокойным тоном деда, Еж.
– А потом винтовку оставил и ушел ночью – куда глаза глядят. И зарекся оружие в руки брать. А вот зарок нарушил, ага… Так что ты, Андрейка, буди зверя-то в себе, буди. Потом придешь в Латвию, али в Германию и будешь там детишек стрелять и мамок их. А потом их глаза тебе всю жизнь сниться будут. Однако, спать не пора ли? Завтра бросок до вашей Ивантеевки…
Устраивались, как обычно – охапки хвои на землю и мешок под голову. Ритку тоже как обычно – слева Еж, справа дед Кирьян.
Она долго не могла заснуть, хотя мерное дыхание мужиков убаюкивало. Только она закрывала глаза – как сразу вспоминала белое лицо эсэсовца, пар от горячей крови, обугленные грудные клетки карателей. Вдруг ей показалось, что кто-то ее зовет. Она приподняла голову и увидела у костровища того самого бойца, который недавно приходил к ней с медальоном. Он грустно смотрел на тлеющие угли, а потом из леса вышел мальчик в белой, светящейся рубашке до пят. Мальчик подошел к красноармейцу, погладил полупрозрачной, худенькой ручкой по голове, а потом они поднялись и пошли по невидимым ступеням вверх, и зазвучала хрустальная музыка, а потом они обернулись и помахали ей рукой, и боец шепнул – мы еще встретимся, ты же обещала найти меня! – и улыбнулся. А мальчик посмотрел строго-строго и погрозил ей пальчиком, а потом приоткрыл рот и хотел что-то сказать…
Но, его перебил Ёж, заорав:
– Подъем! Рита, вставай, рассвет уже!
Рита вздрогнула и проснулась.
– Еж, скотина, такая! Блин… Такой сон испортил…
– Эротический?
– Да иди ты, – и потянулась, разминая затекшее тело. – Который час?
– Четыре. Через час выходим.
– Гадство какое…
А потом она пошла в лес, по своим женским делам, отчаянно страдая от отсутствия зубной пасты… Ну и прочих необходимых женщине штучек.
«Вот!» – думала Рита, чистя зубы еловой веточкой – «Все удивлялась, как в таких условиях девчонки воевали? Вот так и воевали… Узнала на себе? Вот и терпи!»
Через полчаса, наскоро заправившись крепким чаем с сухарями, отправились в путь. Идти было не далеко, километров двадцать до деревни. Как обычно, делали каждый час привалы минут на десять. По пути Еж рассказывал байки, вычитанные им еще до экспедиции:
– Авиаполк. База неподалеку от озера. В полк приезжает генерал. И среди прочего спрашивает комполка, чего это авиаторы не разнообразят рацион свежей рыбой. В приказном порядке требует организовать улов. А в это самое время группа Ил-2 возвращается с задания. Вылет был не шибко напряженный, кое-что из боеприпасов осталось. Ну, пилоты и сбрасывают оставшиеся неиспользованными бомбы в озеро. Кверху брюхом всплывает рыбешка. На берегу комполка вытягивается по струнке и рапортует: «Товарищ генерал-майор, ваш приказ выполнен!». Генерал смотрит попеременно на озеро и на комполка, бормочет «Бл…, и ведь никто не поверит», садится в «виллис» и уезжает.
– Ёж – это звездёж. Б-бомбы, наверняка не вблизи аэродрома сбрасывали, – Юра скептически ухмыльнулся.
– За что купил, за то и продал! Я тут причем?
– Эх, Леонидыча бы сюда, он бы пояснил… – Вздохнул Вини.
– А чего Леонидыч?
– Так он же в Афгане бомбером летал! Не знал, что ли?
– Неа… Он же не говорил…
– Об этом мало говорят, Еж. У меня батя об Афгане только сильно пьяный говорить может, – сказал Лешка Винокуров.
– Оно и понятно…
Часам к девяти дошли бы…
Но дед, шедший впереди, вдруг остановился, в начале четвертого перехода.
– Тихо! Слышите?
Вини пожал плечами – вроде тишина. Обычные звуки обычного леса, ветерок шумит ветвями, птицы друг дружке песни поют, где-то топором стучат.
Топор!
– Значит так… Мы с Юрой пойдем, глянем – чего там и как. Вы ни с места. И сидеть настороже. Ни звука. Спрячьтесь где-нибудь. Подходить буду – угукну филином. Если кто пойдет другой – не стрелять – пропускайте. Шуметь не надо. Еж, понял?
– А я то чего опять? – Развел руками тот. – Я вообще всегда как рыба молчу!
– Громкая к-какая рыба, – улыбнулся Юрка. – Ну, пошли, что ли?
Они отошли чуть в сторону от тропы, ориентируясь на звук топора, иногда, впрочем, исчезавший. Идти было тяжело, завалы кусты, можжевельник и мелкие елочки. Как ни старайся идти тихо – все равно какая-нибудь ветка да хрустнет.
Наконец, впереди стало светлеть. Стал слышен разноголосый гомон.
Юра и дед, сначала перебежками, а потом ползком, подобрались к краю леса, выходившего на большое поле, усеянное воронками и вытаявшими трупами красноармейцев.
Около десятка немцев сидели на сухом пригорочке, сняв каски и жмурясь под ласковым солнцем. А трупы таскали пленные. Одного за другим они поднимали за конечности и оттаскивали к большим воронкам. От трупов невероятно смердело, но пленные вроде бы не обращали на это внимание. Только двое немцев старались дышать через надушенные, видимо, платочки. Остальные конвоиры были привычнее. По крайней мере, трупный запах не мешал им жевать бутерброды с салом.
Иногда гнилые ноги или руки отрывались, расползаясь в руках похоронщиков. Иногда тело просто разваливалось на склизкие черные куски.
Тогда пленные просто подбирали их и тоже кидали в воронки. А несколько бойцов покрепче рубили высокую березу. Одна уже валялась, с нее обрубал сучья, спиной к деду и Юре, здоровый мужик в летней, относительной чистой форме.
Потом он разогнулся, потер поясницу отошел в сторону и уселся на шинель, вытирая пот со лба…
– Толик! – шепотом крикнул Юра, ткнув деда в плечо. – Точно Толик!
– Ваш?
– Наш, да…
– Мда… Попал, парень… Чего делать будем?
– Выручать б-бы надо!
– А как? Это немцы, не латышские герои. Причем ветераны. Повоевали, видишь – спокойно как жрут? Привыкли к трупам.
– Да… Не ф-фельджандармы… А чего это в-вермахт пленных охраняет?
– А кому тут? В котле все-таки сидят. Не до жиру.
И замолчали, продолжая наблюдать за происходящим.
Тут один немец заметил, что Толик отдыхает:
– Aufzustehen! Schnell! Arbeite, das faule Schwein! – крикнул ганс и показал Толику кулак. Тот приподнялся и снова стал обрубать ветви.
– Свиньей еще об-бзывается… – заворчал Юра. – Чего интересно они деревья тут валят?
– Скоро узнаем.
Скоро случилось примерно через час. Толик к тому времени приготовил уже три березы. Потом четверо лесорубов сели в сторонке, а двое стали распиливать стволы на двухметровые бревна.
– Дрова, видать, заготавливают… – предположил Юра.
– Или строить, чего…
Пилили долго, то и дело меняясь. Двуручка была одна, да и пленные богатырским здоровьем не отличались.
В конце концов, работа была закончена, – одно большое бревно распилили на шесть маленьких – и немцы разрешили им отдохнуть.
Тех же, кто таскал трупы – собрали в кучу. Двоим дали лопаты, закидывать воронки, остальные подошли к бревнам и, разбившись по двое-трое, потащили их к полю.
Немцы пошушукались между собой, потом дружно заржали и пинками заставили пленных выстроиться на одной линии и поставить вертикально бревна.
– Auf die Platze… – крикнул старший среди немцев, встав на пригорок. Пленные присели.
– Fertig… – поднял руку с пистолетом вверх. Мужики встали на четвереньки…
– Los!!! – и выстрелил в воздух.
По выстрелу пленные, с огромным трудом приподымая тяжелые березины, начали трамбовать землю, по шагу продвигаясь дальше от леса.
– Чего п-происходит? Не п-понимаю…
Немцы засвистели, заорали и даже захлопали в ладоши, подбадривая пленных красноармейцев.
– Один черт знает, что там в германскую голову пришло…
Лесорубы мрачно смотрели на соревнование. Толик судорожно сжимал топор.
– Давай-ка сползаем по кустам до них.
Воспользовавшись тем, что немцы смотрели в сторону поля, дед с Юрой украдкой поползли по краю леса.
И почти добрались. Но тут на поле грянул взрыв.
Часть немцев радостно заорали, часть засвистели. А потом стали передавать друг другу сигареты.
А там где был взрыв, разлетелось на щепки бревно – часть пленных лежало вокруг небольшой, дымящейся воронки не подавая признаков жизни. Один пытался встать на руки – оторванные ноги валялись чуть поодаль…
Остальные залегли.
– Aufzustehen! Aufzustehen! – заорал главный фриц. И дал очередь над головами залегших.
Те покорно поднялись и потащили свои бревна дальше – бум, бум, бум – равномерные удары о землю были слышны далеко.
– Разм-минируют что ли? Вот с-сволочи… – прошептал Юра.
Дед молча похлопал его по плечу и махнул рукой – мол, пошли дальше.
Подползли как можно ближе к лесорубам, молча склонившим головы и не смотревшим на поле.
А там двое немцев подошли к месту взрыва. Несколькими выстрелами добили тяжелораненых, а потом ушли обратно на поляну.
– Толик! – яростно зашептал Юрка. – Толик! Б-бессонов!
Толик вздрогнул и медленно оглянулся. Увидев в кустах Юрку, аж приоткрыл рот от удивления:
– Ты??
– Толя, б-быстрей за нами, уходим, там наши все почти!
– Не могу… Немцы расстреляют десять человек за побег.
– Б-бл… Толь, чего тут происходит-то?
– Там поле заминировано. Противотанковыми. Пехотных вроде нет. Суки, придумали себе развлечение, каждый день сюда гоняют.
– Вот и п-пошли, рано или п-поздно ляжешь тут на этом п-поле.
– Эй, контуженный, ты с кем там шепчешься? – сказал один из пленных.
И тут на поле глухо гукнул еще один взрыв, а потом еще два подряд.
Немцы машинально присели, а потом гурьбой, галдя о чем-то своем, пошли к покалеченным людям. Кто-то там закричал тонко, взахлеб. А гансы третьей – последней – бригаде заорали:
– Halt! Halt!
Потом вновь раздались одиночные выстрелы.
Толик тоскливо посмотрел на Юрку и отрицательно покачал головой:
– Не могу, Юр… Десять человек на совести будет, я лучше сам…
И отвернулся.
Юрка, матерясь про себя, отполз обратно.
– Не хочет, твою мать, – сказал он деду. – За его побег десятерых положат.
Дед пожевал губы.
– Ишь, какой, совестливый. Хороший, видать, мужик. Прицел, кстати, не сбит в этот раз?
– Нормально в-все!
– Значит, тогда сделаем так…
…Уже через минуту они лежали на краю леса. Юра за старой упавшей сухостоиной, а Кирьян Васильевич метрах в пятнадцати от него в какой-то ямке. Немцы как раз вернулись с поля и дали команду последним, оставшимся в живых, пленным продолжать. Надрываясь, те сделали еще несколько шагов, и снова прогремел взрыв.
В ту же секунду Юра и дед выстрелили в спины немцев.
С расстояния в пятьдесят метров промахнуться невозможно. Поэтому двое, среди которых был самый горлопанистый – то ли фельдфебель, то просто унтер – медленно завалились на землю.
Немцы сначала не поняли, что случилось – видимо решив, что товарищей зацепило случайными осколками. Хотя на расстоянии в сотню метров получить осколок от мины, пусть и противотанковой, нереально, но чего не бывает на войне? Они сгрудились над своими камрадами, гортанно разоравшись, словно вороны.
И вновь два выстрела, и вновь в цель. Немцы бросились в рассыпную и залегли цепью, немедленно открыв ответный огонь. Но они не понимали – куда стрелять, тогда как Юрка и дед видели их прекрасно.
Лесорубы бросились на землю ничком, побросав топоры и пилы. А Толик, сидевший ближе всех к краю леса, отпрыгнул к самым кустам и отполз за свежий березовый пень.
Партизаны пока перестали стрелять. Выжидали, не желая обнаруживать свои позиции.
Постреляв, немцы немного успокоились и перебежками, по двое с флангов, начали передвигаться к лесу.
Пока пара бежала, остальные открывали огонь из карабинов.
Когда они подбежали метров на тридцать – Семененко приготовил для них сюрприз – пару гранат-толокушек. Юра знал, что задержка запала длинная – аж до восьми секунд, хотя официально четыре-пять. Поэтому бросал не сразу. А через три секунды.
«Тридцать один, тридцать два, тридцать три… На!»
Немец тоже знал о задержке, поэтому, когда граната, подпрыгивая, прикатилась к нему – он ее схватил и попытался метнуть обратно, но не успел, рухнув безголовым и одноруким телом на дымящуюся землю.
– Пять… – флегматично считал дед, дожидаясь оплошности противника. Один заметил, откуда вылетела граната и привстал, прицеливаясь. И тут же, получив пулей в шею, ткнулся в травку, обильно поливая ее кровью. – Четыре…
Немцы растерялись. За какие-то пятнадцать минут потеряли уже шесть человек. А сколько партизан там в лесу? Стреляют редко, но чертовски метко. Назад нельзя – расстреляют как в тире, доннерветтернохайнмаль! Значит вперед – одним рывком!
Старший из оставшихся громко заругался и:
– Ein, zwei… Drei!
Они бросились вперед и тут с левого фланга выскочил с ревом Толик, замахнувшись топором. А за ним с таким же диким ревом неслись пленные!
Немцы опешили буквально на секунду, но этой секунды Толику хватило, чтобы врезать топором под каску ближайшему фрицу. Лезвие разрубило пол-черепа и застряло. Толик выпустил рукоятку – солдат рухнул мешком – и с голыми руками бросился на следующего. Вид его был так ужасен, что немец лишь попятился, и тут же был сбит с ног.
Юрка и дед, воспользовавшись моментом, тут же открыли стрельбу по оставшимся двоим.
Через пару секунд все было закончено.
Красноармейцы стояли, тяжело дыша, на поле боя, недоуменно разглядывая друг друга и бывших конвоиров, словно не веря, что они свободны, что они живы. Юрка с дедом вышли из леса с винтовками на перевес.
Несколько секунд стояли молча друг перед другом. А потом бросились обниматься.
– Оружие соберите, черт вас дери, – рявкнул, наконец, Кирьян Васильевич. – Все собрать, документы, еду, фляги, ремни. Бегом!
– Э? – вдруг остановился Юрка. – А где берсеркер-то наш?
Оказалось, что Толик так и лежит на немце.
Они подбежали к нему, перевернули.
На губах пузырилась розовая пена, а из груди торчал нож.
Успел, таки ганс…
Глава 10 Европейцы, млять…
Окопчик наш – последняя квартира,
Другой не будет, видно, нам дано.
И черные проклятые мундиры
Подходят, как в замедленном Кино.
И солнце жарит, чтоб оно пропало,
Но нет уже судьбы у нас другой,
И я кричу: «Давай, Виталий Палыч!
Давай на всю катушку, дорогой!»
Юрий ВизборВот уже полчаса Толика тащили на импровизированных, сделанных из шинели и двух палок, носилках. Время от времени он приходил в сознание, пытался что-то сказать, но Юрка Семененко каждый раз закрывал ему рот:
– Молчи, Толян, молчи! Нельзя тебе говорить. Вот придем сейчас – у нас там врач есть, он тебя на ноги быстро поставит.
Кинжал они вытаскивать не стали. Понятно было, что легкое пробито, а лезвие перекрывает кровеносные сосуды. Достанешь – и он захлебнется в собственной крови. Путь уж Валерка разбирается.
Шестеро красноармейцев менялись через каждые пять минут. Очень уж тяжел был здоровяк Толя Бессонов – за центнер, а бойцы ослабли на похлебке из брюквы.
Немцы и сами особо не шиковали в котле, подчистую грабя местное население, а на пленных обращали внимание в последнюю очередь.
Но шли, почти бежали.
И успели.
Ритка, когда увидела носилки, даже не заметила незнакомых бойцов. Просто метнулась к ним с криком:
– Кто?
Но ее опередил хромающий Валерка, протирая на ходу очки.
– Толик, Господи, да как же это, Толик, очнись! – Юра с дедом еле оттащили ее от раненого.
– Чего, знакомы, что ли? – поинтересовался долговязый красноармеец, натянувший пилотку до ушей.
– Знакомы, знакомы… Сейчас и с вами знакомиться будем, пока там дохтур колдует. Отряд! Становись! – рявкнул неожиданно Кирьян Васильевич.
И партизаны, и красноармейцы немного замешкались. Первые – совсем не привыкли, вторые несколько отвыкли.
– Рррняйсь! Смирррна! – Кирьян Васильевич прищурился, обходя строй.
Десять человек – это уже серьезно. Это уже отделение.
– Я – командир партизанского отряда унтер-офицер Кирьян Богатырев. Вопросы ко мне?
Красноармейцы недоуменно переглянулись. Долговязый поинтересовался:
– Это какой-такой унтер-офицер?
– Унтер-офицер, отделенный командир четвертого отделения четвертого взвода пятнадцатой роты сто двадцать четвертого пехотного Воронежского полка!
– Царской армии что ли? – долговязый презрительно ухмыльнулся. – Так нет уже царской власти, двадцать пять лет уж как нет.
– Не царской, солдат, армии, а русской. И команды вольно я не давал! Встать смирно!
Боец дернулся, опустив руки.
– Кто такой?
– Младший политрук Двадцатой стрелковой бригады Третьей ударной армии Долгих.
– А звать?
– Дмитрий.
– А как же ты, Дима, в плен-то попал?
Политрук помрачнел:
– Под Ватолино, зимой еще. Проверял боевое охранение. Разведка немецкая…
– Понятно. Разведка, значит… Так что ж тебя не расстреляли-то? Немцы жутко комиссаров не любят. Да и я не очень!
Долгих аж с лица сменился:
– Оно и понятно… Царская держиморда…
Юра с Ежом дернулись было, но дед резким жестом остановил их.
– Царская, царская… Так что не расстреляли-то?
– Так я в красноармейской форме-то был. Старая форма изорвалась, новую никак прислать не могли, вот звездочку не успел перешить на обычную. Да и документов не было с собой…
Один из бойцов хихикнул.
– Вот что, политрук, держать я тебя не буду. Хочешь – иди, куда глаза глядят. Оружие у тебя есть, в бою взял, молодец. Видел я как ты за нашим героем бежал. Иди, да в плен не попадай больше.
Политрук остался стоять в строю, переминаясь с ноги на ногу.
– Чего не идешь? Иди. Ты свободен.
– Разрешите… – слова Дмитрию давались с трудом. – Разрешите остаться?
– А чего так. Тебя же мое командование не устраивает?
Политрук молча взглянул на деда…
– Разрешаю, Дима. Но запомни раз и навсегда. У меня другого звания нет – унтер-офицер я. А, ежели, тебя смущает – просто командиром зови. Или дедом. Ребята вона уже привыкли – и подмигнул Рите. – И помни. У нас тут единоначалие. Безо всяких ваших комиссарских штучек. Понятно?
– Так точно! – вытянулся младший политрук.
– Ты? – обратился командир к следующему
– Старший сержант Олег Таругин! Танкист. Механик-водитель.
– Танков, пока что, не имеем, пехотой повоюешь.
– Придется, товарищ командир!
– Куда ж ты денешься-то… Ты?
– Рядовой Прокашев. Алексей. Пехота. Начал в Первом коммунистическом батальоне.
– Ух ты… Это еще кто?
– Ополченцы. Из студентов и профессуры московских университетов.
– Ишь ты… Профессор, значит?
– Что вы… Студент я. Философ. Третий курс.
– Ого! В плен как попал.
– На высотке оборону держали. Один я остался. И патроны кончились. Ну и…
– И руки в гору?
Прокашев виновато понурился.
– Правильно и сделал, – ответ унтер-офицера был неожидан. – Вот сейчас и отомстишь. Следующий!
– Мальцев я. Тоже Алексей. Рядовой тоже.
– Пехота?
– Ага… рядовой.
– Чего ага? Где служил?
– В пятьдесят девятой… В тех же местах, что и товарищ младший политрук. А в плен попал, когда в атаку шли. До первой траншеи дошли – чем-то оглушило. Очнулся – кругом немцы.
Мальцев ростом вполне оправдывал свою фамилию.
– Удобный у тебя для пехотинца рост. Все пули мимо. Хрен найдут. Ты?
– Сержант Колупаев. Павел. Десантник. Первая мобильная воздушно-десантная бригада.
– Где?
– Под Малым Опуевым. В марте. Контузило. Немцы подобрали после боя.
– Чего делать думаешь?
– Душить, сук голыми руками. Насмотрелся в плену, мама не горюй.
– Успеем еще. Потерпи. Ты?
– Ефрейтор Русов. Андрей, минометчик.
– Цыган, что ли?
– Почему цыган сразу? Не цыган! Русский я! Папа – молдаванин.
– Хм… Где служил?
– Двести первая Латышская стрелковая дивизия.
– Какая-какая?
– Двести первая. А что?
– Я не ослышался? Латышская?
– Ну да… Там половина латышей точно. Хорошо воюют, между прочим. А чего?
– Да так… В плен как попал?
– Контузило тоже… Очнулся – расчет лежит, миномет вдрызг. Пошел к своим – на немцев наткнулся.
– Понятно… Ну вот и познакомились, значится… Теперь слушай мою команду! Равняйсь! Смирно! Вольно… Мы идем на прорыв. К нашим. Вот этим четверым обязательно надо дойти до своих. Обязательно.
– Пятерым, Кирьян Васильевич… – перебила его Рита.
Унтер-офицер Богатырев метнул на нее такой взгляд, что она чуть не упала.
– Вот им дойти надо обязательно. Потому еще раз говорю – анархии и прочего двоевластия не будет. Или вы с нами идете – или сами по себе. Вопросы есть?
– Никак нет! – рявкнули бойцы.
В этот момент к деду подошел доктор Валера и что-то прошептал ему на ухо.
Дед поиграл желваками, подумал и что-то шепнул доктору в ответ.
– Разойтись! Маргарита! Ко мне… – почти ласково, но все же приказал Кирьян Васильевич. – И вы, ребята, тоже!
– Операция нужна, – хмуро сказал Валера. – Инструменты. Трокар. Кислород. Чего я сделаю в таких условиях? Умрет. Нож достану – почти сразу. Не достану – еще пару часов протянет. Гемопневмоторакс.
Еж выругался, А Рита застонала от бессилия.
– Может вколоть чего?
– Чего тут вколешь, говорю же, все.
– Пробуй, Валерий Владимирович. Может получиться чего? Вариантов больше нет. Вытаскивай нож. – Вини с силой протер лицо.
– Д-да, В-валер. Д-делай.
– Я ж убью его, почти сразу.
Дед положил ему руку на плечо:
– Не ты. Немец тот. А ты спасать будешь. Мужик он здоровый. Может и сдюжит.
– Сделать-то сделаю. Пусть даже и сдюжит. А дальше? Ему покой нужен. А тут…
– Погодите… Он в сознании? – воскликнула Рита.
– Пока в сознании… Идите, поговорите. Десять минут. Не больше, а то потом поздно будет.
Они подошли к носилкам. Толик тяжело хрипел кровавой пеной. Сели на землю рядом.
– Толька, ты как? – осторожно взяла его за руку Рита.
Тот чуть улыбнулся в ответ и пожал ее ладошку.
– В-все нормально б-будет. С-сейчас В-валера все с-сделает! – Юра заикался на каждом, практически, слове.
Вини и Еж молчали – не знали, что тут сказать. А что тут скажешь?
А Толик что-то прошептал…
– Что? – Рита наклонилась к нему.
– Лешка…
– Что Лешка? Вини, тебя Толик зовет!
– Ива… Иванцов. Хоронил я его. Как попал сюда. Так на утро хоронил. Там. Най… Найдете потом. Третий дом от ветлы. За домом…
– Иванцов??
– Он был… Точно… Вот и я сейчас… Скоро.
– Вытащит тебя доктор, слышишь? Ты молодец, ты можешь. Ты же нужен нам, Толик, слышишь?
Толик опять чуть-чуть улыбнулся…
– Все, идите отсюда. Юра, останься, помогать будешь, – незаметно подошел Валера.
Юра молча кивнул. Ребята отошли, но тут дед вдруг вмешался.
– Ну-ка брысь, мне еще пару слов сказать надо. Отойдите все.
Доктор в недоумении отошел.
Кирьян Васильевич встал на колени перед Толиком.
Потом сердито оглянулся и махнул рукой, мол, отойдите подальше. Потом наклонился близко-близко к Толе:
– Православный?
Тот прикрыл глаза в знак согласия.
– Я тебе молитовку прочитаю. А ты меня за руку держи. Как услышишь твое – так руку мне жми… Понял?
Толик опять прикрыл глаза.
– Слушай… Неисчислимы, Милосердный Боже, грехи мои – вольные и невольные, ведомые и неведомые, явные и тайные, великие и малые, совершенные словом и делом, умом и помышлением, днем и ночью, и во все часы и минуты жизни моей, до настоящего дня и часа.
Согрешил я пред Господом Богом моим неблагодарностью за Его великие и бесчисленные, содеянные мне, благодеяния и всеблагое Его помышление. От самой юности моей обетов крещения я не соблюдал, но во всем лгал и по своей воле поступал. Согрешил я пренебрежением Господних заповедей и предания святых отцев, согрешил непослушанием, неповиновением, грубостью, дерзостью, самомнением…
…Ребята стояли в стороне и смотрели, как что-то шептал Кирьян Васильевич Анатолию на ухо, а тот почему-то плакал в ответ. И часто так кивал в ответ. Потом дед привстал с колен и перекрестил Толю. А потом молча махнул Валере – приступай.
– Брысь отсюда все! – грубо сказал доктор. – Стой! Рита! Чистые тряпки есть?
Рита молча кивнула и вытащила из вещмешка простынь. Дед только покачал головой. И протянул врачу трофейную фляжку со шнапсом
– Мха еще нарвите. Вместо ваты! – крикнул Валера вслед уходящим, пока Юра рвал на бинты белую ткань.
– Эй, Толя… Готов? Потерпи чуток. Юр, нож достану – сразу рану зажимай. И держи. Ребро сломай – но держи, понял?
– Знаю, Валер. Есть опыт.
– Ну… Поехали? – доктор вытер руки,
Валерка осторожно взялся за рукоятку ножа. И потащил его вверх. Не быстро, но и не медленно. В руке противным скрипом отдавалось движение лезвия по костям. Толя только играл желваками.
– Давай! – гаркнул Валера и дернул нож вверх.
Юра тут же зажал рану тряпками. Прошло несколько секунд, Толя лежал спокойно, но вдруг выгнулся дугой, захрипел, из рта пошла кровавая пена, схватил руками землю, потом несколько раз судорожно вдохнул, в ране забулькало…
И не выдохнул.
– Все… – горько сказал Валера.
А потом тихо встал, отхлебнул из фляжки и, пнув ближайший пень, ушел. А по щеке Юры проползла слеза. Сухая слеза. Мужская.
На могильном холмике поставили крест. И вырезали «Бессонов Анатолий. Русский солдат»
Юра посидел около могилы, дождавшись, когда отряд скроется в кустах, а потом выцарапал, чуть ниже, странные цифры:
«1972-1942»…
…Кирьян Васильевич, заметил, что Валера шагает сам не свой. И так ходок плохой, он еще старался идти чуть позади всех. Поставив впередиидущими Юру и политрука, унтер-офицер, под предлогом портянку перемотать, задержался.
– Говори, Владимирович, чего нос повесил?
– А ты, Кирьян Василич, будто не понимаешь?
– Я-то понимаю, да мне не свое понимание надо, а твое.
– А чего тут понимать? Убил я его…
– По моему приказу, сынок, не по своему желанию. Ну, куда бы мы его потащили, а? А на хвосте вот-вот немцы появились бы.
– Да все я понимаю… А тоскливо. Врач, же я. Спасать должен, не убивать. Надо было мне с ним рядом остаться.
– Чтобы мы без доктора остались, что ли? Скоро на прорыв пойдем. Незаметно, вряд ли удастся. Эвон, орава какая. Боевой подразделение уже, не чих собачий. Ты – ой как! – потребуешься. Так что собирайся с силами. Еще спасать тебе и спасать.
Разговор их перебил подбежавший Еж:
– Дед, там это… Десантник Паша разбушевался. Вперед без твоего приказа не пускает.
– Ну? Чего случилось?
– Дорога там. Говорит, ты должен посмотреть, вначале.
– Ну и правильно делает. Привал! Всем тут оставаться. Не курить и это… Еж! Не разговаривай много.
– Очень надо, – обиделся опять Еж.
А впереди тихо ругались Колупаев и политрук:
– Нету же никого, дорога пустынная, махнули бы уже давно!
– А я говорю, командира жди!
Юра в спор не вмешивался, отдыхая на мху.
– Чего случилось? – вмешался дед.
– Эээ… Товарищ командир, дорога! – ответил ему младший политрук Долгих.
– Ну и дорога, ну и чего?
– А того – вон провод идет по жердям. Значит связь кого-то с кем-то. А это в свою очередь значит, что патрули могут шататься!
– С чего взял?
– Мы когда зимой мотались – немцы аккуратно начали дороги контролировать. Раз в пятнадцать минут – патруль идет. Бронник, как правило. Это зимой. А сейчас и подавно. Куда спешить-то? До темноты можно подождать…
– Ждать-то как раз нам не с руки, боец… Немцы уже наверняк подняли беготню. Но и ломиться вперед, как лоси в гон, тоже не стоит. Лежите, да оглядывайтесь…
– Тихо! Слышите?
С северной стороны дороги, из-за поворота, послышался гул мотора.
Павел молча показал политруку указательный палец:
Партизаны улеглись за деревьями.
Через несколько минут появился…
– П-пепелац! – выдохнул Юра в изумлении. – Сукой буду, п-пепелац!
– Чего? – переспросил так же шепотом десантник.
– Вон чего! Ты гляди!
По дороге тряс железными листами странный грузовик.
Радиатор, мотор и кабина были закрыты листами кровельного железа. Крыши над кузовом не было, зато сверху, из амбразуры в передней стенке, торчал ствол пулемета. Причем сам кузов был деревянным. На борты – сверху – немцы приделали металлические листы.
– Такой же хочу… В музей! – заворожено шептал Юрка.
В бронегрузопепелаце тряслись пятеро немцев. Один из них грозно водил стволом пулемета по проплывающему мимо лесу.
Однако Юра все-таки выдержку проявил. И даже злой, как собака, десантник Паша Колупаев. Когда же вундер-машина скрылась, он сказал:
– Эх, как руки-то чесались снять заразу с пулемета…
– Раз чесались, наломай-ка лапника с елки. Заодно и почешешь. И нос не показывайте, – скомандовал дед.
– Лапник-то зачем? – удивился политрук.
– Д-дорога песчаная тут. Следы з-замести.
– Соображаешь! – одновременно сказали Колупаев и дед.
– Не пальцем д-деланный! – отбрил Семененко.
– Не пальцем все деланы, а соображалка не у всех работает. Некоторые просто газеты туда складывают.
Политрук решил, что это в его сторону намек, открыл рот, но сказать ничего не успел, Юра опередил его:
– Еще и еду.
– Тихо вы! – перебил их Паша. – Опять немцы!
На этот раз немцев было двое и пеших. Шли со стороны, куда уехал броник. Один тащил катушку на горбу, второй чего-то жевал и разглядывал провод.
– Связисты… – шепнул политрук и тут же получил чувствительный тычок в бок от Паши и кулак под нос от деда.
Связистов проводили взглядом, пока и эти не скрылись.
– Ну и д-движение! – шепнул Юра. – Как в час пик…
– Надо было снять их! – загорячился политрук. – Эти же не в танке! Можно было ухлопать!
– Угу. А через час тут будут все кому не лень, – сказал десантник. – Без шума надо уходить!
– Врага надо убивать везде, где бы ты его не встретил!
– Слышь ты… Ты меня еще в лагере своими лозунгами достал. Может заткнешься, а? Чего в плену-то не убивал? Храбрый, блин, стал…
– Цыц, бойцы! – рявкнул дед. Захотел добавить что-то еще, но тут из-за поворота, где скрылись связисты, раздались выстрелы.
– Что за хрень еще? – воскликнул командир. – Долгих, бегом за отрядом. Остальные, за мной!
Вдоль обочины они, изо всех сил стараясь не шуметь, добежали к месту перестрелки.
Связисты лежали в обочине с их стороны дороги. Один стрелял из карабина, второй, скрючившись на дне канавы, неловко бинтовал окровавленное правое плечо и ругался сквозь зубы:
– Himmeldonnerwetter! Verfluchte Schwein!
Его «мучения» были прекращены быстро и безболезненно. Три выстрела почти в упор и два трупа.
– Эй! На той стороне! – крикнул дед. – Кончай палить! Выходи, поговорим!
А в это время Паша-десантник и Юра ужами поползли к канаве.
– А ты кто такой? – раздалось с другой стороны.
– Лесник! – вспомнил Кирьян Васильевич недавно рассказанный Ежом анекдот про партизан и фашистов. – Выходи, давай. Только оружие свое на земельку положи. Ладушки? И не шали. Нас тут много.
Паша быстро прошарил по карманам и ранцам связистов, а Юра высунул ствол винтовки из канавы.
На той стороне помолчали. Потом кусты зашевелились и с поднятыми руками – в одной винтовка – вышел крепко сбитый, невысокий мужик в кожанке.
– Ну, вот и Леонидыч! – хмыкнул Семененко и встал. – Леонидыч! Здорово!
Леонидыч, только собравшийся положить винтовку на землю, разогнулся и, как будто не удивившись совсем, сказал:
– Тимофеич, помоги! Там Маринка ногу подвернула, я уж замаялся второ день на себе ее тащить.
– Сидите там, сейчас п-придем. – ответил ему Юра.
В этот момент за спиной деда затрещали кусты.
Партизаны, запыхавшись, выскочили на обочину.
– Слоны индийские,- буркнул дед. – Вперед!
Отряд рывком перескочил дорогу и скрылся на другой стороне.
Ежа, впрочем, дед удержал за шкирку:
– Погодь, трупы оттащим.
Ухватив немцев под руки, отволокли их в сторону.
– Тяжелые же гады… – ругнулся Еж.
– Жрут много, – ответил Кирьян Василич, когда трупы забросали лапником.
И вовремя. Потому как опять зафыркал мотор. Чудо-хрень возвращалась обратно.
А вот следы на дороге убрать не успели. Водитель через амбразуры, делавшие грузовик похожим на сумасшедшего японца, не успел их разглядеть, но пулеметчик загрохотал кулаком по кабине. Машина загромыхала кровельным железом и остановилась.
– Интересно, п-почему это немцы идиоты такие? Что б-бронелистов не могли снять с разбитых танков? Или хотя б-бы котельного железа найти не могли? – Юра так и не смог перестать удивляться сумрачности гения тевтонов.
– Чего было то и наклепали. Тебе какая разница, железячник чертов? – зло зашипел Паша. – Смотри в оба!
На другой стороне дороги тихо матерился дед. Бронегрузовик умудрился появиться именно в тот момент, когда командир оказался с одной стороны дороги, вместе с Ежом – а отряд с другой.
Из кабины, открыв дверь, высунулся фриц, толстый как Геринг с карикатуры Кукрыниксов. Подозрительно оглядев обочину, спрыгнул на дорогу и что-то рявкнул на своем гортанном. Пулеметчик вытащил ствол из амбразуры и нацелился в сторону, где лежал в кустах весь отряд. Остальные немцы, попрятавшись за полубронированными бортами, выставили стволы карабинов в боковые амбразуры.
Кильян Васильевич не успел ничего сказать, как Еж, размахнувшись от плеча, метнул одну за другой две гранаты в «пепелац»:
– Мать вашу так, забодали, козлы вонючие, домой я хочу!
С обоих сторон дороги раздалась беспорядочная стрельба. Толстый ганс сначала упал сам на землю, потом пополз под машину, но тут же успокоился, получив пулю под каску. Сначала под каску, а потом с другой стороны туловища.
А потом рванул бензобак и грязно заматерился дед:
– Да что ж ты, едрена Матрена, опять пулемет поломали! Ёж, твою мать! Почему без команды, скотина, огонь открыл?
– Так это… Вот… Захотелось…
– Ты у девки своей хотеть проси!
Грузовик полыхал так, что жар опалял лица издалека. Захлопали шины одна за другой. Пришлось обежать поодаль.
– Вперед, времени нет, уходим! – дед не стал ни знакомиться с новоприбывшими бойцами, ни заметать как-то следы. А как тут замести? Только бежать, бежать вглубь болота.
И так такого шороха понаделали – сначала положили взвод латышей, потом перебили охрану пленных, сейчас еще и связистов с дозорной машиной ухлопали.
И это называется идти по-тихому?
Через час всех тыловиков по тревоге подымут! Решат, что остатки десантников – и капец котенку, срать не будет.
Это и озвучил дед на первом привале через час.
– А чего делать-то? Ноги в руки и бегом. Резонно? – спросил Вини, когда, загремев железом, все рухнули на очередную полянку.
– Есть тут заимка одна… – сказал вдруг Валера, до того осматривавший внимательно опухшую и посиневшую ногу Маринки.
Дед покосился на него:
– Это ты про христофоровскую, что ли, лежень?
– Про нее, Кирьян Васильевич. Если уж местные энкаведешники ее найти не смогли в свое время, немцы даже с собаками хрен найдут.
– А ты, Валерий Владимирович, никак дорогу туда знаешь?
– Откуда мне знать-то? Это ты, дед Кирьян наверняка знаешь. Не можешь не знать.
Дед покачал головой. Потом подумал и добавил:
– И впрямь… Светлая голова у тебя. А я вот про христофоровку-то и не вспомнил даже…
Остальные молча слушали разговор местных. Неожиданно подал голос философ рядовой Прокашев:
– Простите, а это местный фольклор такой? Христофоровка?
Доктор сказал:
– Ага!
А дед:
– Вечером узнаешь…
…Через пару часов они ползли по срубленным стволам деревьев, скрытых в чаще и образующих цепочку-тропу над бездонной топью очередного демянского болота…
– Мост скрытников это, – объяснил дед, когда они подошли по чавкающей мокрой земле, покрытой белыми первоцветами, к берегу болотины. – Ползти будем по деревьям. Смотрите под ноги. Да осторожней будьте. Сверзиться как нечего делать, вытаскивать не буду! Эй, девица-красавица, как тебя?
– Марина… – осторожно как-то пискнула новенькая. В отличие от Риты, невысокая брюнетка, но в схожести с Ритой с такими же живыми умными глазами.
– Марина… Ползти сможешь?
– Постараюсь…
– Это… Стараться не надо. Надо ползти на карачках. Валера за тобой приглядит. И вы двое – Молдаванин и Мелкий – замыкающими пойдете.
Рядовые Мальцев и Русов переглянулись и кивнули почти одновременно…
…Уже темнело, когда наконец, «трижды трахнутый об чертову голову», как выразился Еж, мост закончился и они один за другим попрыгали с конца «пути скрытников» на твердую землю. По пути даже никто не свалился со скользких бревен.
– Где это мы? – спросил Вини, утирая пот в очередной раз с грязного лба.
Земля была изрыта черными, заплывшими от времени воронками, в середине которых еще плавал лед. В глубине стоял покосившийся двухэтажный дом.
– Скрытники тут обитали, – сказал дед, переводя дыхание. – Пока НКВД не разогнал их. Может быть и сейчас наведываются… Место для них тут… Святое…
– Что еще за скрытники? – насторожился политрук.
– Староверы. Был у них тут такой толк. Считали себя для мира помершими. Их при жизни отпевали и хоронили.
– Как это? – воскликнули сразу несколько бойцов.
– Гроб, конечно, пустой был. А считались мертвыми… А чего расселись? Сказки потом расскажу, а теперь за дело. Кто могёт рокатулет сделать?
– Чего? – удивился Еж. – Какой рыгалет?
– Рокатулет. – вдруг подал голос молчаливый танкист Таругин. – Меня друг научил еще на фронте. Хлыст валишь – чем длиннее, тем лучше – сверху еловым лапником заваливаешь. Поджигаешь со всех сторон. Горит медленно, но долго. И вокруг спать можно.
– Сибиряк, что ли? – поинтересовался Вини.
– Зачем сибиряк? Из Одессы я.
– О как. А не заметно.
– Почему? – удивился Таругин.
– Песен не поешь, шутки не шутишь, небывальщины не баянишь. – улыбнулся Вини.
– А что, раз одессит, значит шут, что ли?
– Да не… Я так к слову…
– Ну и баянь сам тогда. Или вон, философа попроси. – Сказал Таругин, поднялся и пошел выискивать подходящее дерево для рокатулета.
Через час все расположились у нещадно дымящего костра, разогревая на нежарком пламени немецкую тушенку.
– Дед, расскажи о скрытниках-то?
– А чего рассказывать? Вот тут они и жили. Вона молельня у них. Два этажа над землей и один вырыли как-то вниз.
– Так может туда спать и пойдем, Кирьян Васильевич? – подал голос Юра. – Дым по низу идет, погода портится.
– Не пойду я туда, Юра. И тебе не советую. Место там плохое. Они, вишь, тут смертоубийства учиняли над собой.
– Чего, чего? – не понял спасатель.
– Чаво, чаво… Убивали сами себя. Вона тут лог есть. Каждую весну воды полон. Там они на Пасху и топились. Перед чем десять дней голодали. Мученичество такое у них было. А кто и в бане угорал, кто на костер шел. А затеял это все варнак один… Христофор. Вот и заимка, стало быть христофорова. Хотя в пору ее люциферовой звать…
– Ужас какой… А зачем это все, Кирьян Васильевич? – передернул плечами Еж.
– А чего, ты милай, у меня-то спрашиваешь? У Христофорки и спроси. К болотине подойди и спроси. Может выйдет да ответит. Его, говорят, прямо тут и шлепнули без суда и следствия.
– Кто?
– Так в тридцать шестом оперативники НКВД их тут нашли, Христофорку расстреляли, а скрытников и скрытниц, которые живые остались куда-то увезли. В старое бы время по монастырям отправили, а нынче… Кого в лагерь, а кого в больницу. Доктор, Машку-то Пестрикову помнишь?
– Помню… Пропала тогда весной, месяц искали. Пришла и двух слов сказать не может – трясется, зрачки страшные, большие. Не глаза, а зрачки. А в зрачках словно огонь пляшет,- задумчиво произнес Валера.
– Топили ее, да вырвалась. Обряд испортила. Заперли, значит, еще дён на десять, в подпол. А она сбежала как-то. Вот дорогу и показала сюда. До войны сюда парни ползали. Слухи ходили, что Христофор казну тут где-то попрятал. Да так никто и не нашел. А пара человек так и не вернулась. Агась…
– Это ж до чего людей религия доводит, Господи ты Боже мой! – воскликнул студент-философ Прокашев.
– А причем тут религия? Это не религия, а человек себя так доводит до греха.
– Да все одно, бабьи сказки. Что староверы, что нововеры. Какая разница?
– А такая, милок, что мы с тобой сейчас с винтовками в руках на болоте сидим, а свидетель, там какой, Иеговы оружие в руках держать ни под каким предлогом не хочет и лучше под Гитлера ляжет, чем Родину оборонит.
– А помню я… – вдруг подал голос младший политрук Долгих. – Ага. Во взвод прибыло пополнение. Парень один дикий, косматый. Лейтенант где-то бегал, я значит, документы спрашиваю. Все люди как люди, а он мне тетрадный лист протягивает. А на тетрадном листе каракулями: «Дан сей паспорт из града Вышнего, из полиции Сионской, из квартала Голгофского, отроку Афанасию, сыну Петрову. И дан сей паспорт на один век, а явлен сей паспорт в части святых, и в книгу животну под номером будущего века записан». Я себе даже в блокнот для смеху записал, почему и запомнил.
– И как?
– Погиб отрок Афанасий. В первом же бою погиб. Миной накрыло, – задумчиво сказал политрук. – Разные люди какие бывают…
– Открыл, понимаешь, открытие… Однако, отбой! Девки наши уже сопят вовсю! Даже лясы поточить не сумели! – Девки – Рита с Мариной – и впрямь уже спали, так и не успев поговорить – намаялись за тяжелый день. И даже дедовы страшилки не помешали сну.
– Русов, Мальцев!
– Я!
– Я!
– Службу помним… Первые у моста часовыми. Через два часа подымайте Алешку Винокурова и Юру. Потом меня будите. Я с тобой подежурю… как тебя?
– Майор запаса Микрюков. – отрапортовал тот. А потом добавил, уже мягче. – Володя.
– Бают Леонидом отца звали?
– Так точно, товарищ командир. – Леонидыч аккуратно выбирал остатки жира и мяса из банки.
– По комиссии что ли списали? А войска какие? – поинтересовался политрук, укладываясь головой к костру.
– Ты это, Дима, лучше ногами к костру ляг. Голова болеть не будет. А так да… По комиссии.
Долгих почесал подбородок смущенно, но перевернулся все же:
– А род войск?
– ВВС. Стратегическая. Дальняя.
– Ого! Голованова небось знаешь?
– Типа того…
– А Берлин бомбил?
– Ну… – Леонидыч облизал ложку.
Дед не выдержал:
– Всем спать, едрена мать! Приказ по отряду. За нарушение три наряда вне очереди! И хучь ты генерал-майором будешь, а пока тут моя власть!
Из темноты кто-то хихикнул.
– Ежов! Пять нарядов!
С совсем другой стороны раздался сонный, но возмущенный голос:
– А я-то чего опять?
– За компанию, ититть! Спать всем!
И Леонидыч, и дед проснулись одновременно. Еще до того, как их начали будить Вини и Семененко.
– Куришь? – спросил Кирьян Васильевич, когда они устроились у в корнях поваленных сосен.
– Нет.
– А я вот балуюсь… – сворачивая «козью ножку» сказал дед. – Ну, рассказывай…
– А что рассказывать-то? – в тон ему прищурился Леонидыч. – Сбили. Упал. Ранило в плечо. В деревне Маринка выходила. Потом…
– Не звизди мне. Я уж ваших всех знаю… Сбили его… Я, мил человек, уже в курсе что такое «аська».
– Что?
– И про компутеры с тырнетом знаю. Еж бараголистый, много рассказал. Да и скрывать ни к чему. Все равно – глаз режете, сразу понятно – не здешние. Валера было шпионов заподозрил, да он человек материалистический – в правду таким сложно поверить.
– Я, Василич, сам не знаю – что такое «аська» и Интернетом пользоваться не особо умею. Нет в моей деревне Интернета. А ты с чего поверил-то нам?
– Леонидыч, давай-ка о другом поговорим… Ты ведь у них командиром был? Там, в мирном времени?
– Так точно, товарищ командир! – улыбнулся майор запаса.
– Вот и принимай командование. Не возраст мне тут по болотам скакать. До фронта я вас выведу. А дальше…
– Василич… Тебе лет-то сколько?
– Пятьдесят четыре, а что?
– А мне пятьдесят пять, Василич. И мне не с руки по болотам бегать. Как и ТАМ было не с руки в воронках сидеть по пояс в воде да кости солдатиков доставать. А кому с руки? Давай уйдем, прямо сейчас, и чего эти пацаны наделают?
Унтер-офицер смущенно крякнул, затянулся и опять почесал седую щетину:
– Вот ведь… А они все, майор, командир… Майоры, они вроде моложе бывают. Али как? Так чего делать-то будем?
– Знаешь, Василич… Когда я тут очнулся… На поле очнулся. А кругом трупы наших. Сотни. Жижей по земле уже растекаются парни. Первым делом я подумал – вот помер я. Слышал – где и как ты погиб, так по той смерти тебе и воздаяние? Вот и подумал, – не дожидаясь ответа деда, продолжил Леонидыч. – Значит судьба мне, не в той войне, так в этой долг отдать. По настоящему отдать. С винтовкой. Чтобы хоть одного… А через полчаса Маринку подобрал. Лежит и в голос рыдает в канаве. От страха. Ну, думаю, значит не помер. Не может же быть, чтобы сразу мы померли и в одном месте очутились? И опять же, жрать охота… Ладно, ее успокою сейчас, пристрою, а потом хоть трава не расти. В одну деревню сунулись, в другую… И везде – или немцы, или полицаи. Или местные не пускают. Картошку в руки и гонят. Страшно им. Вчера уходили из деревеньки, забыл, как называется, – Пехово, что ли? – полицаи нагрянули. Мы огородами и в лес. Один был бы – стрелять бы стал. А тут как? Через плетень лезли – ногу она растянула. Как ее бросить? А сейчас? Уже не одна она у меня…
– Вот и веди к своим!
– А там что? Опять доказывать, что ты не враг? Особый отдел, тройка и все такое?
– А что делать-то?
– Устал я, Василич, устал я доказывать. Еще там. У себя. Я ведь бомбером был. В Афганистане. Работали нормально. Духов пластали. А потом сюда вернулись – и на тебе. Я оказывается палач, по мирным жителям бомбы бросал. Убивал детей и женщин, понимаешь? А эти дети сорока лет и женщины с бородами – стреляли там внизу… А кто говорил, знаешь? Власть говорила. Которая меня туда и послала. И медали с орденами давала вначале. А потом врагом оказался – хуже немца. И вот выйдем сейчас за линию, к нашим – что я им скажу? Что я знаю – через несколько дней немцы фронт будут рвать на юге? Что через полгода под Сталинградом будут? Так меня же шлепнут через полчаса за пораженческие настроения? Или нет? Или как там у них? И ведь не только меня. Всех. Чтобы под ногами не мешались.
– Да уж… – дед опять засмолил духовитый свой табак. – Дилемма, как наш хвылософ говорит. И как ты энту дилемму рубить будешь? Аки Сашка Македонский?
– Да, – коротко отрезал Леонидыч. – Сон это или смерть- какая разница? Человеком надо быть. Значит, что? Пойдем завтра – то есть сегодня уже – к нашим. На прорыв. А там как фишка ляжет.
– Какая фишка? – не понял дед.
– Есть такая игра рулетка…
– Знаю, ага… Офицеры у нас баловались во время оно.
– Фишку кидаешь – на красное, на черное или на ноль. Жизнь или смерть. Или ноль.
– А ноль чего?
– Ноль это ноль. Значит ни жизни, ни смерти. Вот как у нас сейчас. Если я тут – значит, я тут нужен, так?
– Вроде как…
– А значит выбор между жизнью и смертью – есть всегда. Даже сейчас. Тем более сейчас, – поправил себя Леонидыч.
– Ишь как загнул… Я вот тебе что отвечу… Выбор между совестью и грехом даже после смерти есть. Когда мытарства будут – проверишь. А сейчас сам свою душу за волосы вытащи. Как этот… барон… Забыл!
– Мюнхгаузен!
– Точно! Мухгамазин… Делай, Володя Леонидыч, что должен и все дела…
Дед замолчал. А потом тихо добавил:
– Эко я сам себе ответил-то… Надо записать, чтобы не забыть!
– Марк Аврелий… – шмыгнул носом подошедший рядовой коммунистического батальона, студент-философ Лешка Прокашев. – Это Марк Аврелий сказал. Делай что должно и будь что будет.
– Чего не спишь-то, Марк Аврелий?
Тот пожал плечами:
– Выспался. Я, вообще мало сплю. У меня до войны хомячок жил. Так он по утрам рано просыпался. И скребся все время. Вот я и привык, а что?
– Да ничего… Раз проснулся… – сказал дед и вопросительно посмотрел на Леонидыча.
– Вали за дровами, тогда! Понял? – тон Леонидыча был строг, но сам он улыбался. Глазами.
– Пошли, Василич, кашу варить?
– Какую еще кашу, Леонидыч? У нас из еды только консервы. Да чай.
– Вот чай и сварим. А кашу березовую. Пора бойцов к дисциплине приучать. Чего там с нами получится – неважно. Важно, чтоб хоть одного немца каждый из нас убил. Глядишь, война чуть раньше и закончится. Хоть на полчаса, унтер-офицер!
– Тоже верно, майор. Эй, солдат!
– А? – оглянулся Прокашев. – Чего?
– Ты до плена убил немца одного?
– Не знаю… – пожал плечами философ, обдирая бересту. – Стрелял. Все стреляли. Может и попал. Может и убил. А что?
– Да ничего… – ответил ему Леонидыч, зевая. Потом потянулся и неожиданно рявкнул:
– Ррррррота! Подъем!
А потом не спеша подошел к спокойно спящим девчонкам и положил каждой цветочек на щеку:
– Барышни! Утро красит нежным светом…
– Стены древнего кре… Мля! Кто мне в сапог лягушу запихал? – немедленно заорал Еж, едва протерев глаза.
– Два наряда! – рявкнул дед.
– И что? – поинтересовался Еж. – Мне, может, наряды нравятся!
По лесу прогрохотал эхом гогот просыпающегося отряда.
А унтер-офицер Богатырев хитро ухмыльнулся и ответил:
– А кто ж спорит… Наряд первый: стираешь бабам портки!
– Не, не, не… – застеснялась Ритка. – Я ему не доверю! Он все сломает!
– Рита, у тебя есть чего ломать? – захихикал Вини.
– Похабщик!
– А чего! Я постираю! Подумаешь? – Андрей решительно пошел к девчонкам.
– Еж, иди на фиг! Уйди, поганец! – завизжала Маринка, когда Еж стал активно стаскивать с нее носки. – Щекотно!
Веселье прервал рокот самолетов, приближающийся к заимке.
– Воздух! – заорал кто-то из красноармейцев. Они моментально упали на землю и ящерицами расползлись по кустам и яминкам.
Прыгнули в сторону и дед с Леонидычем.
А вот партизаны – кто как сидел или стоял – так и остались.
Упали только после того, как две краснозвездные тени пронеслись над поляной.
– Наши… – благоговейно произнес кто-то.
– Наши-не наши, а вот идти все равно придется, – заругался дед с края поляны. – Какого рожна стояли как…
– Горцы! – подал голос Еж.
– Козлы, а не горцы! Какие, к черту, горцы?
– Матричные, епметь…. – сказал Вини, отряхивая грязь с колен.
– Епметь… Слово-то какое выдумал. – Этот… Мелков, тьфу, Мальцев и ты… Молдаванин…
– Рядовой Русов!
– И Русов… По тропе вчерашней выйдете на большую землю. Посмотрите – чего там и как. Потом один назад, если все нормально с вами пойдем.
– А если…
– А если не бывает! Крррыгом! – с каждым днем дед все больше вспоминал свое унтер-офицерское прошлое. – Табачку вот возьмите…
…– Не хочу я больше! Надоело! – пробормотал Мальцев. По странному совпадению тоже звавшийся Алексеем.
– Дышать, что ли устал? – ответил ему ефрейтор Русов, перелазя через очередную ветку валежины, висящей в метре от зыбкой зелены болота. – Ползи давай!
– Не дышать, я… Жить устал!
– Ну и прыгай вон в трясину. Русалки рады будут. – Русов утер потный лоб.
– Не хочу я к русалкам! – сказал Мальцев, прислонившись грязной щекой к сучку. – Я ведь жить хочу. Чтобы домик, чтобы жена, чтобы пять кошек и больше никого.
– А я тебе что? За жену, что ли, сойду? Ползи, скотина!
– Андрюх…
– Чего?
– Я к немцам обратно хочу…
Русов замолчал. Мальцев только и видел перед собой – то стертые почти до дыр подошвы сапог, то рваные на заднице галифе. Больше ничего не видел. Не хотел.
– Ну, Андрюх…
Ефрейтор молчал.
– Ну, Андрюх, ну чего молчишь?
– Заткнись, сука!
– Чего сука-то? Там хоть кормят… А тут чего? А на прорыв пойдем? Ты чего? Ухлопают и все – прощай, родина-мать? Неее… Я жить хочу. Хватит с меня. Загребли, как барана в прошлом году. Даже не спросили.
– Немцы тоже не спросили!
– Правильно и сделали! Сейчас бы пиво с тобой баварское с тобой пили и сосиски бы ели…
– Много ты сосисок в лагере ел? Брюква да мины. Вот и все твои сосиски!
– Ну и что? Немцы в этом году войну закончат. Слышал, эти, между собой – Сталинград, Сталинград? Все, ребя, хана. Отвоевался я.
Глухой всплеск перебил их разговор:
– Млять… – сказал рядовой, грустно смотря на жижу под собой.
– Скот, ты меня достал! – Русов извернулся на стволе старой березе как смог – Чего опять?
– Я винтовку уронил…
– … … … … – когда мат закончился, Русов пополз дальше.
– Ну, Андрюх, ну не виноват я, она сама. Я же маленький, а она вон какая большая…
– Не ной, сука, достал ты меня, – ответил Мальцеву ефрейтор Русов, спрыгнув, наконец, на землю, когда мост из наваленных друг на друга деревьев закончился. – И чего ты немцам скажешь? У тебя побег из лагеря, дура!
– А я чего… Нападение было. Заставили. А вот момент улучшил и… Чего ты ак на меня смотришь?
– Думаю.
– Чего ты…
– Думаю, что шансов больше с немцами, чем с большевиками.
Мальцев с облегчением вздохнул. Хотя с Русовым и вели они подобные разговоры еще в лагере, но дальше осторожных намеков дело не шло. Опасно было. Леха Мальцев сам видел, как за такие беседы придушили одного парня. Намеки, намеки… Немцам только? Да и как немцам было предложить? Будь Мальцев, хотя бы, капитан или полковник там… Или еще лучше – генерал! – вот бы здорово! Можно было бы армию создать… Типа Российская армия свободы! Или нет… РАС-педераст дразнить будут. Лучше так – российская освободительная армия генерала Мальцева… РОА. Почему бы нет?
– Чего?
– Чего-чего… – передразнил его ефрейтор. – Пошли немцев искать. Мне тоже все надоело. Давно уже.
– Андрюха… А этих сдадим, немцам, что ли? – Мальцев догнал высокого черноволосого Руссова и как-то подобострастно посмотрел ему в глаза. – Все-таки расклад наш будет… А?
– Не канючь. Давай покурим.
Мальцев с готовностью подсел рядом и вытащил тряпку, набитую дедовским табаком, из кармана.
Закурить они не успели:
– Halt!
Из кустов вышли несколько немцев в пятнистых мундирах, с зелеными ветками по ободкам касок.
Русов приподнялся, но, не успев сказать ни слова, получил очередь поперек груди.
А вот Мальцев сказал, подняв руки и перепутав слова:
– Хайль Гитлер капут…
И тоже получил долю свинца.
Старший из немцев махнул рукой. По лесу ожили кусты цепью таких же пятнистых. Один из них небрежно отопнул винтовку бывшего ефрейтора Русова, наступил ему на руку и зашагал дальше, вдоль болота на юг…
… Долго они чего-то… – Кирьян Василич мрачно смотрел в сторону «моста».
– Чего долго то, Василич? Три часа прошло. Час туда – час там – час обратно.
– Долго… Сердце чует долго. Командуй, майор, пора.
– Маринка! Нога как? – спросил девушку Леонидыч.
– Да уже, хорошо… Идти могу.
Леонидыч внимательно посмотрел на деда. А делать-то, собственно говоря, нечего. Отправлять еще пару на разведку? А потом еще?
– Отряд! Собраны? Все?
– Так точно, хер майор! – отозвался…
Политрука аж перекосило от очередной выходки Ежа. Но он все-таки смолчал пока. А вот Еж, как обычно, не заметил.
Зато он первый заметил, когда вышли – на большую, типа, землю – рваные ботинки в кустах.
Деду с Леонидычем хватило минуты, чтобы понять ситуацию.
И отряду хватило, чтобы постоять над телами погибших друзей. По-быстрому закидали их лапником, дед перекрестил их, прошептал отходную молитву, а политрук изобразил салют, щелкнув невесть откуда взявшимся разряженным пистолетом.
– Вперед!
Отряд рванул за командирами вдоль болота на север.
– Оппа! Слышите? – воскликнул Еж.
– Чего еще? – Рявкнул сердитый дед. – Чего встал? Немцы рядом!
– Не… Слышите?
Еж аж дышать перестал. Отряд остановился.
– Ничего не понимаю…- буркнул политрук Долгих.
– Да гудит чего-то…
И точно! Прямо впереди – по ходу движения – что-то гулко стучало. А ведь и не заметили сначала.
– Гудит и гудит. Фронт идет, – пожал плечами десантник. – Будто первый раз слышишь?
– Ну не первый… – смутился Еж. – Просто услышал… Вот и говорю – близко мы уже.
И они зашагали вперед. Навстречу гулу орудий с каждым шагом превращавшимся в грохот канонады. Северо-Западный фронт продолжал наступление, сжимая удавкой первый наш советский котел, в котором сидел, получивший по зубам немецкий корпус.
– Таругин, Колупаев! – вперед охранением! – спокойно сказал Леонидыч. – Долгих… и ты философ…
– Прокашев я, товарищ майор…
– Замыкаете. И смотрите в оба. Немцы тут где-то шарахаются.
Леонидыч знать не знал, как не знали это и другие партизаны и красноармейцы, что эсэсовцы уже ушли далеко в другую сторону, прочесывая весь лес от дороги до болота, а потом они будут идти обратно, но так и не найдут отряд. И злые как собаки, после суточного ползания туда-сюда, расстреляют баб в еще одной деревне как сообщников бандитов…
А еще через сутки партизаны будут лежать в сыром логу. Лежать и ждать…
Ждать ночи – фронт грохотал разрывами снарядов и трещал пулеметными очередями.
Прямо перед ними находился опорный пункт немцев на холме. До войны тут была деревня, сказал дед. Сейчас от нее ничего не осталось, кроме каменной часовенки на вершине холма. Изувеченная снарядами, она все же упрямо стояла, вытянув непокорную, хоть и разбитую, голову в небо. И там наверняка у немцев сидел какой-нибудь снайпер или корректировщик.
Поле тоже было изрыто воронками. Мужики – Леонидыч, дед и Паша Колупаев – выбирали маршрут для прохождения ночью через нейтралку. Хотя на самом деле нейтралки тут и не было.
Искореженная высотка, поля, изрытые воронками, с трех сторон лес похож на пасть старого людоеда – черные редкие стволы, уцелевшие в мешанине боев.
И постоянная долбежка по холму. Неужели там еще кто-то жив? Высотка была похожа на вулкан, извергающийся дымом и огнем. Вдруг внезапно артобстрел прекратился. Где-то за холмом, с противоположной отряду стороны, послышалось протяжное:
– А-а-а-а!
Наши! Ей-Богу, наши! – возбужденно воскликнул Паша.
Холм, внезапно, ожил. Затарахтели пулеметы, стук винтовок слился в единый треск, а со стороны партизан, ровно из-под земли, захлопали минометы.
– Вот черт… – ругнулся десантник. – Как у них там все… Организовано, твою мать. Нор понарыли. Помню мы Малое Опуево брали зимой. Так вот также. Лупишь, лупишь – все вроде – ан нет. Эти суки водой брустверы залили, что в танках сидят. Мины даже не берут.
– Потом вспомнишь… Поползли обратно.
– Погоди-ка, Василич! Может Ритку сюда? А? Она стреляет, говоришь, здорово? Может накрыть минометчиков? Видно же их отсюда… – сказал Леонидыч.
– Накрыть бы, да… Только мы в самом тылу этого холма. А значит тут-то подносчики, то связисты, то еще какая шушера должна шастать. И, ежели, мы пальбу тут откроем – немцы сразу поймут, что в тылу у них завелся кто-то. Вот и все – конец нашим странствиям. Понял? На войне у каждого своя задача должна быть. Иначе – кирдык.
– Это ты, верно, мыслишь, господин унтер-офицер, – улыбнулся Леонидыч. – тебе пехоте видней снизу, чем нам летчикам…
А на стоянке отряда их ждал сюрприз.
Партизаны валялись на травке, а в центре валялся на спине связанный ремнями немец с окровавленной головой. Перед ним стоял в немецкой каске Еж. Он приложил два пальца к верхней губе, изображая, видимо. Фюрера.
– Эй… Швайне! Их бин фюрер твой. Встать смирно! Эй! Не понимаешь, что ли? Их бин фюрер! Гитлер все равно капут. Во ист дер зайне часть? Нихт ферштеен, что ли? Идиот, блин!
– Эй! Что тут происходит?
– Товарищи отцы-командиры! – развернулся к деду и Леонидычу Еж. – И вы, товарищ рядовой десантник! Не далее чем полчаса назад, нами – лично мной и Юрой Тимофеевичем Семененко – был обнаружен гитлер в лесу. В результате проведенной операции гитлер обезврежен, а мы ждем благодарности в виде ста грамм наркомовских!
Дед подошел к немцу, внимательно посмотрел на него и сказал:
– Ну и на хрена он нам нужен?
– Ну… В хозяйстве сгодится, а чего?
– Прирезали бы по-тихому и дело с концом.
Рита подала голос:
– Может быть, нашим язык нужен? Мы бы вышли и вот, пожалуйста, плюсик в личное дело.
– А у меня ножа не было, – сказал Еж. – Я бы зарезал.
А Марина почему-то позеленела слегка.
– Д-да мы по д-делу отошли. Еж только п-рисел, а тут этот п-прется. Я его по г-голове и пригладил. П-прикладом. – сказал Юрка.
– И чего говорит? – полюбопытствовал Леонидыч.
– Ничего не говорит, – подал голос танкист. – Вернее говорит, но как-то странно.
Еж пнул по ребрам пленного:
– Ну-ка повтори свою тарабарщину?
Немец завопил:
– Du ma ikke skyde, skal du!
– Эко! – удивился дед. – Я такого языка не ведаю, а ты Леонидыч?
Тот удивленно пожал плечами и спросил немца:
– Дойчер? Ду зинд дойчер?
Тот усиленно замотал головой:
– Jeg er ikke tysk. Jeg er dansker.
– Данскер? Чего еще за данскер?
– Датчанин это, я понял. Тут в этих краях датский добровольческий корпус СС воевал. «Нордланд», кажется. – подал глосс Вини.
– Вот ни чего себе? Эй, хоккеист, тебя как сюда занесло? – спросил Еж.
– Что еще за хоккеист? – спросил младший политрук Долгих.
– А… сам не знаю Игра такая там надо шайбу по льду гонять, но датчане в нее не играют. Шведы вот играют. Финны тоже. А эти не умеют. А какая разница? Скандинав, одним словом.
– Еж, ты, все-таки, идиот… – вздохнул Кирьян Семеныч.
– Чего опять я-то?
– Да помолчи ты! Валера, доктор, ты его смотрел?
– Смотрел, ага. Жив будет. Кожу рассадили и сотрясения мозга, зрачки вон ходунами ходят.
– Жив, говоришь, будет? – дед задумчиво смотрел на датчанина.
– Ну, если и помрет – то Юра тут не причем.
– Ж-жаль.
– Вини! А ты про этих датчан, что еще знаешь?
– У них командир – русский, – сказал Винокуров.
– Что?? – удивились практически все.
– Ну, как русский… Фон… Фон Шальбург, ага.
Датчанин дернулся и, несмотря на сотрясение мозга, яростно закивал.
– Константин Федорович. Бывший русский офицер царской армии. Даже не офицер, кадет. В семнадцатом году ему одиннадцать было. Семья эмигрировала в Данию. Там в королевской Гвардии служил. В финскую войну добровольцем пошел. За финнов, конечно. А как немцы Данию оккупировали – пошел добровольцем в танковую дивизию «Викинг».
– Сука белогвардейская… – зашипел политрук. – Все они одним миром мазаны. Одним фронтом решили на страну рабочих напасть. Под корень надо гадину давить, под корень!
– Не давить тогда, а резать, – флегматично ответил дед, но глаза его загорелись недобрым огнем. – Ты, милай, знаешь ли, что значит одним миром мазаны?
– Чего? – переспросил Долгих. – Ну, типа в одном мире живут, а что?
– Того. Не мир, а миро – масло такое, в церкви им мажут. Миропомазание. А ты, милок, откель это церковные обряды знаешь? Небось, похаживал в церковь, а?
– Побойтесь Бога, Кирьян Васильевич! Чтобы я, комсомолец, да в церковь ходил…
– Я-то Бога побоюсь, мне стесняться нечего. И так старый как пень трухлявый. А вот тебе бы стоило Его тоже побояться. Ибо клевету возводишь на честных людей.
– На кого это? – возмутился Долгих. – На фона вашего, что ли?
– Зачем на фона? На меня!
Политрук резко заткнулся. А Вини сказал:
– Между прочим, Антон Иванович Деникин… Да-да. Тот самый. Отказался сотрудничать с немцами. А некоторые эмигранты сейчас во французском подполье. Например, некая княгиня. Вера Оболенская, подпольная кличка «Вика».
Дед даже приосанился при этих словах. Ему, что ни говори, было приятно знать, что он не один такой. Что старая гвардия хоть и разделилась между коммунистами и нацистами, но все же часть – и какая часть! Сам Антон Иванович! – не пошли служить под немцев за кусок пирога.
– А ты-то откуда знаешь? – недоверчиво спросил политрук.
Голос Вини вдруг зазвенел металлом:
– Работа у меня такая. Знать много. А тебе я и так лишнего сказал. Понял, МЛАДШИЙ политрук?
Слово младший Вини выделил так, что тому показалось – вот-вот и Долгих станет младшим рядовым навечно.
– А потому, дорогой ТОВАРИЩ, – в тон Лешке сказал Кирьян Василич, – ты с этого датчанина или с того глаз сводить не будешь. И потащишь его на себе, и сдашь нашим безо всяких экивоков. Понял?
– Так точно, товарищ командир.
– Хы…
Тут подал голос Леонидыч:
– Василич, Леша, отойдем? Дело есть.
Они отошли подальше, чтобы слышно их не было.
– Ты бы, товарищ Винокуров, языком-то поменьше поболтал… – сказал майор, почему-то не командирским голосом.
– Да ладно, чего такого?
– Ложку потерял… – невпопад заметил дед.
– Какую ложку? – почти в один голос недоуменно спросили мужики.
– Обычную. Оченно я люблю по лбу ложкой кому-нибудь…
Леонидыч засмеялся. А Лешка виновато пожал плечами.
– Чего там про твоего фон-барона, дальше знаешь? – спросил майор.
– Граф он…
– Мальчик, девочка… Какая в попу разница? Ну чего с ним?
– Где-то в начале июня погибнет. На мине подорвется. Когда будет раненого из-под огня вытаскивать. Потом его накроет прямым попаданием. По кусочкам соберут и домой, в Данию. А летом сорок третьего его именем Датско-Германский корпус СС назовут. А что?
– Вот значит как… А вот что. На этом холме датчане, значит сидят. Так?
– Ну… Не тяни резину, и чего?
– Сколько их тут?
– Бригада вроде. Точно не помню. Что из этого-то?
– Значит, штаб где-то недалеко…
– Леонидыч, это авантюра!
– Зато какие козыри на руках, а?
– Мужики, вы умом не тронулись? Если там штаб бригады – там же наверняка, рота охраны, – дед ошарашено смотрел то на Леонидыча, то на Вини.
– Вряд ли, Кирьян Васильевич. Наши тут еще долго атаковать будут. Немцы и так все практически резервы на фронт кидают. Включая обозников. Даром что ли этот фон сам вытаскивать будет раненых? – ответил Вини. – В конце концов, посмотрим, чего и как. Если что – свалим по тихому.
Леонидыч долго молчал, а потом сказал:
– Все верно. Раз уж мы тут – попробуем. Может быть, это и есть наш шанс? Если этот генерал…
– Штурмбанфюрер.
– Или так, да… Все одно через пару недель дуба даст. Так? А если мы его сейчас хлопнем или, вдруг вытащим, – это же какая паника может начаться, м? И если наши прорвут тут фронт…
– Капец котлу, – продолжил Вини.
– Не совсем. Коридор-то гансы под Рамушево пробили. Но тем не менее, будут вынуждены сюда резервы тащить. А откуда? – думал Леонидыч.
– С юга. Больше им неоткуда.
– И, значит, может не быть прорыва на Кавказ. Чтобы эту дыру заткнуть им, как минимум, корпус нужен. Этого корпуса и не хватит где-то…
– Ну, мужики… – потрясенно сказал дед. – Вам бы в Генштаб…
– Погоди, Леонидыч, – сказа Вини. – Но если не будет прорыва к Сталинграду, например, значит и котла не будет?
– Не будет Сталинградского, какой-нибудь другой будет. Донецкий, например. Так твой Марк Аврелий говорил, а Кирьян Василич?
– Чего это сразу мой-то… Студента нашего он. Я-то тут причем.
Тут засомневался Вини:
– Погодите, а вдруг мы хуже сделаем?
– Куда уж хуже-то… – вздохнул Леонидыч. – Сколько людей живы останутся, подумал?
– Может быть и останутся. А может быть… – Он подумал и продолжил. – Гарантии-то нет.
– Гарантия на войне одна, мил человек – винтовка чистая, да патронов побольше. А все остальное… Пошли датскую сволочь поспрашиваем, где ихний генерал сидит.
– Штурмбанфюрер!
– Мальчик, девочка… Правильно, Леонидыч?
Когда они вернулись к отряду – снова забухала артиллерия по высотке. На этот раз включилось что-то тяжелое. После каждого разрыва земля вздрагивала даже здесь.
Но на это ни кто не обращал внимания. Даже девчонки, что удивительно. Хотя Рита уже привыкла к запаху железа и грохоту выстрелов, но вот Маринка-то почему совершенно спокойно переносила близкий бой?
– Эй, данскер! Моя-твоя понимать? – подошел к нему Вини. – Никто датским не владеет? А?
– Если штаны снять – овладеем…
– Тьфу, на тебя Еж! – рассердилась Рита. – Сколько можно пошлить-то а?
– Да ладно, не хочешь не бери… Вон какой красивый у нас данскер. Маринка, хочешь данскера?
– Да нет наверное, – засмеялась та. – Спасибо тебе большое за заботу. Сам его бери.
– Не. Мне тоже не надо.
– Политрук! Смени-ка десантника на часах. Пусть сюда дует.
– Есть… – без энтузиазма сказал Долгих и отправился в чащу. Через пару минут десантник был на месте.
– Прокашев!
– А? То есть я!
– Ты по-датски кумекаешь?
– Одно слово только. Кьеркегор.
– Ну, господи… А что это?
– Это философ датский. Развивал иррационалистические воззрения. В противовес немецкому классическому идеализму настаивал на вторичности рациональности и первичности чистого существования, то есть экзистенциальности, которое после сложного диалектического пути развития личности может найти свой смысл в вере.
– Это вот чего ты сейчас сказал? – подал голос Еж.
– Не обращайте внимания, Андрей. Издержки образования, – ответил ему Прокашев, раскладывая на тряпке детали затвора трехлинейки.
– Нет, ты вот мне все-таки поясни, чего ты сейчас сказал, а?
– Ну… Вот смотрите, Андрей, как вас по батюшке?
– Не важно.
– Хорошо. Разум нас все время обманывает. Например, когда разумом слышишь как свистят пули – надо помнить, что они не твои. Они уже пролетели. Но разум все равно заставляет тебя кланяться им. А твоя пуля – ты ее не услышишь, она летит вперед свиста – является окончательной и бесповоротной точкой твоей экзистенции. То есть существования. Отсюда следует вывод – разум вторичен, а существование первично.
– Это и ежу понятно. То есть мне. – А зачем такими сложными словами говорить?
– А вот отсюда и следует неизбежный вывод, что даже временное прекращение разумной деятельности не является прекращением существования.
– Ну, бляха-муха… Этому на философском факультете учат что ли? – Еж старательно пытался понять ход мысли философа.
– Этому жизнь учит. Я знаю, что та пуля, которая прекратит мою рациональную деятельность, не сможет прекратить мое существование. Ибо она в другой плоскости…
Их разговор неожиданно оборвал мощный взрыв, ухнувший где-то недалеко так, что осколки тут же застучали по стволам деревьев.
– Какой противный стук… – сказал Прокашев и продолжил. – Когда эта моя жизнь закончится, я обязательно стану греком. Там тепло, виноград и оливки.
– Ну ты еще себе имя выбери заранее.
– А чего его выбирать? Уже выбрал. Мне бы хотелось, чтобы меня звали Конхисом. А если не получиться греком, я бы хотел быть хомячком…
– Эй, Хомячок! – крикнул дед. – Подь-ка сюды!
Прокашев-Конхис вздохнул, положил винтовку и масленку и пошел к командирам.
– Переводить будешь! – сказал Леонидыч.
– Я? Я же не знаю датского!
– Зато ты умный!
– А я тут зачем? – спросил Колупаев.
– А ты страшные морды корчи. Они у тебя получаются, – велел дед. – Эй, данскер, штаб твой нужен. Штаб! Понял? Штаб где?
Тот пожал плечами – не понимаю!
– Валер! Подь сюды! – крикнул дед, раскуривая самокруточку. – И бинты немецкие прихвати. Ага?
– Сейчас, – откликнулся Валера. Через минуту подошел и протянул деду.
– Не… Ты сядь рядом и приготовь, как будто рану бинтовать.
– Ага…
– Готов? Паша отстрели этому говнюку палец на ноге.
– Подождите! Вы чего? Дайте я попробую сначала! – воскликнул Прокашев.
– Паша, погодь… Ну попробуй, хомячок или как там, Комхис?
– Конихс. Эй! Я – Леша. Ты? Наме как?
Датчанина потрясывало:
– E… Eric…
– Эрик. Гут, чего уж там. – Прокашев разгреб хвою под ногами. – Смотри, Эрик. Мы – тут, – ткнул он пальцем в землю и положил на это место шишку. – Вир хир. Понял?
До эсесовца дошло. Он опять закивал головой.
– Во хир фон… Как его?
– Шальбург! – подал голос Вини, навалившийся на сосну и чего-то жующий
– Во хир фон Шальбург? И чего я сказал?
Однако Эрик понял. Он провел пальцем замысловатую линию от шишки к другой шишке, которую воткнул вертикально. А потом, поперек линии положил палку. И горячо что-то заговорил на своем.
Рядовой Прокашев нахмурил лоб, долго слушая излияния датчанина.
– Ничего не понимаю. Вроде знакомые слова, а не понимаю.
– Undefined! – тыкал пальцем пленный в палку. А потом в вертикальную шишку – Schalburg, Schalburg…
– Ага… Вот, говорит штаб, а вот мы. А тут не пойми чего. Может дорога, а может овраг… Вас ист дас? Бррр-фрррр… Я?
Эрик закивал головой. Потом ткнул пальцем в веточку и изобразил, что как будто едет за рулем – ? Бррр-фрррр… Я! Я!
– Километер? Айн, цвай драй вифиль? – Прокашев показывал ему пальцы.
Эсесовец подумал и показал – от шишки, изображавшей партизан до щепки, изображавшей дорогу – три километра. От дороги до штаба – половина километра – Эрик загнул один палец.
– Понятно… Тащим его с собой. Проводником. Там кончим его. Паша справишься?
– А то!
– Товарищ унтер-офицер Богатырев! – Прокашев встал с колен. – А за что его кончать-то?
– Ты это… ответил ему дед, почесав уже отросшую бороду. – Пролетарскую мягкотелость тут не проявляй. Эта сука твою землю топчет и ты на войне.
– Женевская конвенция есть, все-таки, – заупорствовал Алеша Прокашев. – Он же пленный!
– И чего? Это враг и все тут. Ладно, посмотрим. Как на месте будет. Хороший ты человек, Конхис!
Леонидыч только покачал головой. А Вини сказал странную фразу:
– Знал бы ты, Хомячок, знал бы ты…
Паша Колупаев только пожал плечами.
А в это же самое время Рита с Маринкой уединились, шепча о чем-то своем, секретном, женском…
…Девчонки отошли чуть в сторону, захватив кусочек душистого мыла, найденного Юрой в ранце одного из немцев. Поплескаться в воронке с талой водой. Девочки…
– Парни, блин, им бы лишь в войнушку поиграть! – сказала Ритка. – Генерала решили в плен взять….
– Мальчишки! – отозвалась Маринка. – Даже дед и тот – мальчишка.
– Угу… А после этих игр нам с тобой их выхаживать, между прочим! Фу, какая вода холодная!
– Ага… Только вот знаешь…
– Что, Марин?
– Мне они такими больше нравятся. Не то, что наши…
– В смысле, наши? Юра с Ежом, что ли?
– Нет… Наши, которые там. В прошлой жизни. У них же только деньги да прибыль… Понимаешь, Рит?
– А говорят, что только у нас деньги на уме!
– С больной головы… Друг друга обманывают, нам врут и все ради чего? Чтобы вместо финского сервелата брауншвейгскую колбасу есть? Смешно…
– Можно подумать мы с тобой предпочитаем свеклой вместо какого-нибудь … пользоваться…
– Да это понятно, Рит. Только вот тут как-то по-настоящему… А там, дома…
– Дома… – Ритка вдруг заплакала.
– Ритуль, ты чего?
– Домой хочу… И ногу расцарапала… От коленки до ступни… Вон посмотри…
– Ой, а чего… Валерке покажи! А когда ты так?
– Да по мосту этому ползли. А чего Валерку отвлекать? Вон – посмотри, чего делается, а я тут с царапиной…
Ритка зарыдала во весь голос, Маринка же присела рядом и обняла ее:
– Да хорошо все будет, Риточка, хорошо…
– Домой хочу…
Глава 11 Прорыв
Один патрончик на двоих,
Двоим стреляться – горький стих.
И почему-то неохота
Спорить зря.
Один сказал – уже идут.
Другой кивнул – да. Пять минут.
Теперь все можно,
Только шесть минут – нельзя.
А. КлимнюкДесантник Паша зашел за спину к эсэсовцу, достал нож, подобранный им еще во время побега, потом – двигаясь мягко, чуть слышно, как кошка, – подошел к датчанину сзади. Похлопал его по плечу – тот обернулся, улыбнувшись… И полоснул ножом поперек горла. Фонтан крови ударил такой струей, что обрызгал рядом стоящего Ежа. Тот матюгнулся шепотом:
– Паш, ты бы предупреждал, хотя бы, а?
– Чего предупреждать-то… – буркнул Паша в ответ. – Командир приказ дал… А потом лизнул свою руку:
– Такая же… Как у немцев.
– Что такая же? – не понял Вини.
– Кровь такая же. Соленая. И у наших такая же…
– Можно п-подумать ты дегустируешь в-виды! – хохотнул Юра. – Доктор Лектор, б-блин…
Паша посмотрел в глаза Юре:
– …Взводному нашему когда голову снесло осколком, я рядом был. Мозгами и кровью прямо в лицо плеснуло. Теплые. Главное, мозги пресные, а кровь соленая. Потом я в атаке немца в упор пристрелил. Прямо в затылок, он в другана шыком… И тоже – мозги пресные, кровь соленая. Кости его мне щеки поцарапали. А потом, в лагере уже политрука нашего – Мишку Зильберштейна – расстреляли. Немец. Сразу. В упор. Из «Вальтера». Он рядом стоял…. Мозги пресные, кровь соленая…
Он уставился в одну точку и замер, побелев глазами…
– Паш, а Паш! – осторожно коснулся его плеча Еж.
– М? – дернулся тот.
– Пора!
…Пришлось сделать крюк. Сначала отвели девчонок и Валеру в тыл. Велели сидеть тихо – как мыши. Передовая рядом – немцы должны шариться туда-сюда – санитары всякие, подносчики боеприпасов, связные и прочая тыловая шваль.
Когда вышли к штабу датской бригады – Паша и прирезал пленного. А куда его девать?
Весь штаб представлял собой всего лишь землянку на краю небольшой полянки. У входа стоял часовой. Выскочил посыльный, потом другой – и исчезли в лесу.
– Василич! Командуй! – шепнул майор. – Ты в этих делах способнее.
– Юра, Вини! И ты политрук, – шепнул Кирьян Васильевич. – Слева обойдите. Танкист, Хомяк, Еж, – тьфу, блин зверинец! – справа обойдете. Мы с Леонидычем и ты, Паша – напрямки пойдем. Ждите. Десантура, нож метнешь в часового?
Тот равнодушно кивнул.
– Как только Колупаев часового положит – идем к землянке. Только без выстрелов. Тихонечко идем… Ясно?
Вини показал большой палец, а Еж просто кивнул. И расползлись в разные стороны.
Двадцать минут лежали молча. Дед чуть заметно кивнул Леонидычу, а тот хлопнул по плечу Пашу. Десантник моргнул в ответ, неожиданно встал во весь рост и… И вышел из кустов, подняв руки. А потом свистнул.
Часовой резко повернулся и обомлел от вида вышедшего из леса русского десантника. Тот жевал еловую веточку, подняв руки вверх. Без оружия, между прочим. Немец резко сдернул с плеча карабин. Через секунду он сполз с ножом, торчащим в глазнице. А Паша так и остался стоять с поднятыми руками. Только чуть обернулся с ухмылочкой и показал пальцами – вперед!
Партизаны медленно приподнялись и пошли к землянке.
И вот невезуха!
Только они вышли из леса – по тропинке вышел немец. Или датчанин? Да хрен разберешь!
Автоматная очередь пропорола фашисту грудь. Таругин не успел отжать спусковой крючок, как из землянки, на звук выстрелов, выскочил еще один фриц.
И получил в лобешник пулю от Юры:
– Не сбит п-рицел, на этот раз, – криво ухмыльнулся он. – О, еще один!
Этого сняли все сразу, аж серо-красные ошметки брызнули во все стороны.
– Интересно, – буркнул Паша. – А где у них тут боевое охранение?
Боевое охранение не замедлило выскочить из леса. И тут же легло, в количестве двух человек, под пулями партизан.
– Лежать, бляха муха, всем! – крикнул дед – из узкого окна землянки высунулся ствол автомата, – гранатой его!
– Нельзя, Василич, там же генерал датский! – крикнул Вини.
– Да хер на него, гранатой! Уй, млять твою побоку… – и дед высадил всю обойму трехлинейки, то и дела передергивая затвор, в щель. Автоматчик в ответ шмальнул длинной очередью. Однако обзора ему не было никакого – все пули ушли верхом. В этот момент к входу подползли Юра Семененко и политрук. Тимофеич красный лицом, а Долгих, наоборот, побледнел:
– Ой, мать ой мать, – громко шептал политрук, вытаскивая гранату дрожащими руками. – Ой, мать! – и киданул ее в проем двери блиндажа.
Грохот еще стучал по деревьям, когда Юра и политрук рванули внутрь. Дверь внесло разрывом внутрь, размазав по полу какого-то фрица. Еще один лежал у телефона, растекаясь темной лужей из-под живота. Третий, схватившись за ухо, пальнул из пистолета.
Промазал!
И тут же получил кулаком в арийское таблище, немедленно потеряв сознание.
– Этот? – спросил непонятно кого дед.
– А кто ж знает! – подал голос Еж снаружи. – Быстрее давайте!
– Эт… Эт…
– Чего? – оглянулся
– Эт-тот… – просипел Юра, зажав рукой окровавленный живот, и улыбнулся. – Шт… Штурм…
– Юра! Твою…
Он сглотнул кровавую слюну:
– Попал, сволочь, надо же…
– Валера! Млять, Валеру давай!
– С девками он остался! – почти крикнул Вини, склонившись над Юркой.
Тот попытался приподняться, опершись рукой на земляной пол.
– Сиди уже! – Леха осторожно положил ему руки на плечи. – Сильно?
– Т-терпимо. Ф-фрица…
– Да хер с ним… Куда тебя?
Вместо ответа Юра протянул окровавленную руку:
– Б-богом клян-нусь… Арии…
– Юра! – суетились вокруг него товарищи. – Понятно, что арийцы, кто ж еще то! Ты лежи, лежи!
Тот мотнул головой и вытянутым пальцем:
– Арисака! – выдохнул он. – Ей-Богу, ар… арисака.
– Юра, чего ты городишь? Парни, наверх его тащим! Быстро!
О притолоку входа стукнулись каждый по очереди – Еж, тащивший Юру под руки, Хомяк-Прокашев – взявший раненого за ноги, и даже маленький Вини, взявший винтовку Юры.
– Там это… – Шептал Семененко, улыбаясь кровью и как-то виновато смотря на друзей, – там арисака, на стене арисака!
– Да понятно, Юр, понятно! Ты лежи, давай, не дергайся! – наперебой говорили Вини и Еж. Леонидыч в стороне кусал губы. Дед мрачно смотрел на раненого. Прокашев вытер лоб, оставив кровавый размазанный след. Политрук с танкистом вязали оглушенного штурмбанфюрера. Паша стоял чуть поодаль с винтовкой наперевес, вслушиваясь в лес.
– Ух-ходите… Слышите меня? Уходите, а?
– Тихо, Юра, тихо… – Вини прижал тампон к ране, придерживая Юру за шею, а Еж бинтовал.
– Немцы! – вдруг крикнул Паша и пальнул куда-то в лес, упав плашмя. В ответ раздался резкий стук немецких карабинов и крик, видимо офицера:
– Fremad, hurtigt, hurtigt!
Дед рявкнул:
– Уходим! Леха! Философ! С политруком Юру! Ганса, ганса, млять, вперед!! Еж, твою меть!
Юра вытащил лимонку из кармана и резким движением, давшимся ему с огромным трудом вырвал зубами кольцо:
– Уходите! Зад-держу я их! Б-бегом, мать вашу!
Вини отшатнулся:
– Ититть твою!
– Сил нет… Разожму сейчас!
Вини прикусил губу до крови, пятясь задом к лесу, дед кивнул, Еж отвернулся, а Леонидыч зажмурился…
…Надо же как бывает! Ведь не больно совсем. Жарит только. Сердце – раз! – и плеск жара по животу – два! – и снова волна по глазам. Странно? Почему в живот, а красно в глазах? Почему пить-то хочется? Фильмы смотрел, помнишь? – раненые в живот пить хотят все время. Почему? Теперь понимаешь, почему? Пить, хочется, да. Во рту сухо и железом отдает. Да, что же слюны-то сколько? Слюны много, а пить хочется… Почему, интересно? Ушли, ли мои? А почему я не заикаюсь? А откуда «Арисака» на стене, наверно с наших складов, до войны еще… остатки… ополчение… сапоги… тридцать три гвоздя… тут уже… на носке травинка прилипла…
Отошли они не далеко, Взрыв резанул по ушам.
– Да идите вы на хер! – вскрикнул вдруг Еж и рванул обратно, но получил удар кулаком в лицо и рухнул в траву.
– Тащи эту суку! Понял?! – Паша Колупаев отер руку о штаны. – Идите. Я останусь.
– Я с вами, если не возражаете! – тяжело дышавший Прокашев снял пилотку.
И оба посмотрели на командиров – на унтер-офицера царской армии и майора запаса армии советской.
Не сговариваясь, те кивнули. И отряд пошел дальше. Оглянулся лишь Вини…Не сговариваясь, те кивнули. И отряд пошел дальше. Оглянулся лишь Вини…
– …Лежи. Не стреляй. И по сторонам смотри! Понял? С флангов прикрывай. Сейчас я этим сволочам…
Паша не стал прицеливаться. Чего тут прицеливаться? Оппа! Первый пошел!
Десантник дернул веревочку немецкой колотушки и аккуратно бросил ее под ноги первому эсэсовцу, выскочившему из кустов.
– Видал? Обе ноги в разные стороны!
– Ага… – флегматично ответил философ, приноравливаясь к стрельбе.
Раненый фриц заорал, что есть мочи, оплескивая зеленую молодую травку датской – или какой там еще? – кровью из оторванных ног…
…Через несколько десятков метров опять заистерил Еж:
– Да не может, млять, такого быть! Я не тут! Я не тут, слышите? Не Юра это. Это не я! Млять, дома я! Сон это все! Слышите? Это все сон! Так, нах, не может быть! Я назад! Я лучше в лицо…
…– Фланги, фланги держи! Эх, пулемет бы! Фланги держи, самка собаки!
– Чем держать! У меня еще обойма и аллес капут!
– А мне похер! Зубами держи! Я больше в плен не пойду, учти!
– Сам учти! Я тоже не пойду! На, фриц, гостинец!
– Уй, мляааа…
– Что???
– В плечо, суки…
– Держись, философ, держись! Недолго уже…
– Иди, скотина, иди, неси эту сволочь! Терпи, Ежина ты кучерявая, мне, думаешь, легко, – орал Леонидыч на ревущего в голос Андрюху Ежова. – Из-за этой млядины мы Юрку потеряли! Тащи эту суку, тащи, я сказал!
– Эй, Хомяк! Жив?
– Жив, а ты?
– Глупый вопрос, не считаешь?
– Ага… У меня патроны кончились.
– У меня тоже.
– Гранаты, Паш, есть?
– Кончились. Увлекся. А курить есть, Лех?
– Нету. Не курю я так-то. Мама ругается. Хотя сейчас бы я покурил… О! патрончик есть. Один.
– Один на двоих.
– Ага…
– Ну и че?
– Че, че… Плечо!
– Че плечо?
– Болит…
– Отпусти ты меня, Леонидыч, сил моих больше нет. Назад… К пацанам, отпусти, а? Не могу я так больше.
– Тащи… Тащи! Тащи! – Сквозь зубы, но тащи! Вини, продернись вперед! Бабы пусть подымаются!
– Лех…
– М?
– А ты женат?
– Не… Все думали успеем… Детишек планировали…
– И чего?
– Ничего, Паш. Не успели. Дооткладывали. Война, какие дети?
– А я успел… Сынишка – Андрюшка. Стреляться кто будет? Ты или я?
– Стреляйся. Я не буду…
– И я не буду! Лучше по этим кабанам. Как на охоте, млять…
– Бегом, девки, бегом! Да хер на твою сумку положи! Уходим! Валера, волоки ты свою ногу!
– … Эй! Их бин капут!
– Унд их тоже! – заржал в ответ десантник.
Из кустов, в ответ, чего-то проорали.
– Чего говорят?
– Хрен его знает. Я бы сказал, мол, будьте любезны, положите свое оружие вон туда и медленно-медленно подойдите…
– Пойдем?
– Пойдем! Интересно, сколько мы положили?
– Одного точно! Который ногами раскинул. Больше не видел.
– Эх, покурить, бы!
– Ты ж не куришь?
– Сейчас можно…
Два бойца со штыками наперевес бросились навстречу кустам, в которых лежали эсэсовцы. Добежать, конечно, не успели…
– Погоди, Василич… Куда бежим-то? Да стой ты, скотина датская! – Леонидыч дал тумака связанному штурмбанфюреру, который только-только пришел в себя. Пилотка, забитая ему в рот кляпом, медленно окрашивалась кровью из разбитого носа. Из ушей тоже скатывались красные струйки, впрочем, уже подсыхавшие.
– Куда, куда… Темнеть где-то через час будет? Значит к передовой. И сразу на прорыв. Германцы нас там в последнюю очередь искать будут.
– Не факт, Василич! Подумают разведка и…
– А в тылу эсэс гуляет! – сказал Еж.
– Мужики, а Юра-то где? И этот… философ с Пашей-десантником? – спросила Маринка. А Рита уже все поняла и только прикусила нижнюю губу.
Вместо ответа дед посмотрел на Марину, потом похлопал ее по плечу:
– Пошли, девочка! Самое главное у тебя сейчас впереди. А все остальное… Потом все остальное! Таругин! Немца тащи, твоя очередь! Вперед!
– На передовую все-таки? – засомневался на ходу уже Леонидыч. Хотя дед ему, вроде бы и сдал, командование, но летчик понимал, что авторитет унтер-офицера гораздо выше, и потому, даже с удовольствием, следовал за ним.
– Володя, если мы сейчас в тыл рванем – то уже не выберемся отсюда. Никогда и ни за что! – проговорил дед уже на бегу, тяжело дыша.
К краю леса выскочили, когда начало темнеть. Передовая успокоилась – наши уже не долбили по высотке и фашисты тоже сидели тихо. То ли ужинали по режиму дня, то ли просто не решались дразнить наших лишними передвижениями.
– Лежим, не шумим и внимательно слушаем!
– Есть, – отозвался политрук, тащивший немца последние пятнадцать минут. – Лежим и слушаем…
– Тихо-то как… – после паузы сказал Еж.
– Еж! Ты чего? Какая тишина? – спросила Маринка. – Пулеметы, вон долбят вовсю…
– Это тишина, Марин… Лех! Вини!
– М? – подал тот голос.
– А ты чего гитару с собой не захватил?
– Епметь… Вот еще гитары мне сейчас не хватает, – погладил Вини винтовку.
– Жалко… Спел бы. Вон звезды уже, видишь?
– Еж, ты пьян, что ли? Какая гитара, какие звезды?
– Песню хочется… Лех, спой, а?
– Еж! -после паузы сказал Вини. – Иди-ка ты на х… на хутор. Бабочек ловить.
– Заткнитесь оба, а? – подал голос политрук., но дед перебил его:
– А стихи знаешь?
– Не… Только песни… Я блюзы пою.
– Чаво?
– Ну, блюз это такая песня… Когда все плохо, на душе кошки скребут и поговорить не с кем.
Дед почесал бороду:
– Молитва, что ли?
– А? – не понял Вини.
– Когда плохо в теле – лечатся, когда на душе молятся. А поют – когда весело. Али нет?
– Хм… А вот так, если:
Над весенней землей тлеет дня пелена… Здесь полвека назад рыла землю война. Здесь полвека назад балом правила смерть. Как безумный художник красит кровью мольберт. Вот в воронке лежат – кости русских солдат. И полвека спустя отдает их земля… Отдает их земля. Над болотами стелет предрассветный туман. Здесь полвека назад щелкнул пастью капкан. Обрубив сотни жизней, овдовив сотни жен. И полвека рыдает Божья Матерь с икон… Вот в воронке лежат – кости русских солдат. И полвека спустя отдает их земля… Над весенним костром греет руки закат Может, завтра подымем больше наших ребят? И полвека спустя свой последний приют Души русских бойцов, наконец-то, найдут…Дед помолчал. А потом сказал:
– Так молитва и есть… Стихи хорошие. Сердцем писал…
– Это не я, – ответил Вини, – Друг у меня написал. Тошка Сизов. Я не умею так…
В ответ засмеялся Леонидыч:
– Ну, надо же! Лежим тут… В сорок втором, на небо смотрим, пулеметы… Кто бы знать мог… Лешка Винокуров стихи читает! Обалдеть!
– Я аптечку потеряла… – вдруг грустно сказала Рита.
– Ну, блин! – ругнулся Еж – А вдруг у меня живот схватит?
– Немцам тебя отдадим тогда… В качестве биологического оружия.
– Да иди ты, товарищ младший политрук…
– Чтоооо?
– Ой, это не ты, что ли, Долгих сказал?
Леонидыч засмеялся, а потом спросил доктора:
– Валер, а ты куда смотрел?
Тот виновато развел руками, мол, не доследил… Некогда было.
– Кончайте базлать! Разорались на весь лес. Таругин!
– Я, товарищ командир…
– Вытащи этому…
– Метису! – встрял Еж.
– Чего?
– Ну метис… Как у Майн Рида – ни то ни се. Русский датчанин на службе Германии. Смешно же!
– Все бы тебе ржать только… – Танкист вытащи кляп, спросить хочу.
Таругин вытащил пилотку вместе с выбитым, вернее вбитым в рот Шальберга зубом.
Фон немедленно закашлял кровью.
– Не перхай, не перхай… – примирительно сказал дед. – Чего-то перхаешь-то?
– Что? – выговорил с трудом фон Шальберг. – Я вас не понимать…
– Не кашляй, говорю, на весь лес, а то остатки зубов в горло вобью.
– Я помогу!
– Ежина, ты когда молчать научишь свой рот, а?
– У нас демократия или чего?
И тут же получил кулаком под нос от Леонидыча.
Дед на Ежа не обратил ни какого внимания, впрочем, как обычно:
– Константин Федорович?
– Ich fertee niht!
– Ишь чего… Не понимает он…
– Кирьян Василич! Дай-ка я попробую, – неожиданно подал голос Таругин.
– Давай!
– Слышь ты… Костя фон Шальбург…
– Ich fertee niht!
– Да мне это… Девочки, ушки! Малоебучий фактор – ферштеешь ты или нет. Сейчас мы тебя тащить будем. Через нейтралку, понял? А при любой попытке малейшего сопротивления тебя будем мало-мало резать. С ушей начнем, яйцами продолжим. Не смертельно, но очень болезненно и…. И безперспективно для будущего? Усек?
Русский датчанин кивнул.
– Понимает, надо же… Где твои бойцы сейчас породистые? Почему своего геройского командира не спасают?
– Не есть кому, геррр… Все есть на передофая…
– Не фига ты не русский, – Таругин поморщился. – Дать бы тебе сапожищем в еблище…
– Олег…. Успокойся. Все-таки дамы тут!
– Товарищ майор, дамы то того…. Дремлют!
– Буди тогда! Этому снова кляп. И ноги ему развяжите.
Таругин достал немецкий штык-нож и, глядя в глаза фон Шальбургу, перерезал ему веревки на ногах.
– Смотри, фон, вредить будешь – яйца отрежу и в сторону Германии им выстрелю, тварь. Ферштеен?
Тот попытался что-то сказать, но тут же получил пилоткой в рот. Старую – всю в крови и слюнях – Таругин побрезговал брать. Снял свою. И распорол звездочкой датчанину щеку. Не до уха, конечно. Но рот у эсэсовца чуть увеличился. Тот замычал в ответ от боли. Олег-танкист улыбнулся и похлопал штурмбанфюрера по здоровой щеке.
– Олег! Вытащи у него пилотку изо рта! Задохнется ведь! Нос-то сломан, похоже, – сказал доктор.
– Да хрен с ним… – ругнулся танкист, но пилотку все-таки вытащил и похлопал датчанина по плечу – Жив, скотина? Дышать можешь?
Тот снова молча кивнул в ответ.
– Погодите, мы же идиоты! – вдруг вскрикнул Еж, – Документы! Может это и не Шальбург?
– Шальбург не Шальбург… – буркнул дед. – Какая в задницу разница.Фюрер и есть фюрер. Хоть штурм, хоть бан. Главное офицер ихний.
Таругин охлопал фашиста по карманам:
– Ага… Есть!
Он достал из нагрудного кармана фрица книжицу размером с ладонь и в несколько страниц толщиной:
– Так… Кристиан фон Шальбург… – продрался он по слогам сквозь тевтонские буквы. – Год рождения тысяча девятьсот шестой… Карточка только не очень похожа. Он вон какой тут в документике… Породистый!
– А кто ему физиономию разрисовал? – хихикнул Вини. – Ты еще разик ему прикладом засвети – вообще на Геринга похож будет.
– Эй, ду ист фон Шальбург?
Датчанин помолчал, зло глядя в глаза Таругину, а потом опять кивнул.
– Отлично… – обрадовался, играя желваками Еж. – Юра хоть не зря погиб… Тварь немецкая.
Фон Шальбург внезапно вскинул голову:
– Я русский! И русским умру!
– Хы… Русский… Фон Шальбург… Хы… А я тогда папа римский! – немедленно ответил Ежина.
– Да, я русский! – Обернулся к нему штурмбанфюрер.
Дед Кирьян подошел к нему молча, взял за подбородок повернул к себе, посмотрел долгим прищуром…
И плюнул ему лицо. А потом сказал всем, не отводя взгляда:
– Пора! Стемнело уже.
Шальбург чуть побелел от волчьих глаз унтер-офицера, но в ответ лишь промолчал.
– На коленочках, задницу прижимаем к земельке и вперед! Фрица берегите! – сказал дед. И прибавил очень тихо, перекрестившись: – И себя…
И они поползли по изрытому воронками полю…
Глава 12 Наши!
И мы припомним как бывало
В ночь шагали без привала
Рвали проволоку брали языка
Как ходили мы в атаку
Как делили с другом флягу
И последнюю щепотку табака
И. Морозов– Петер!
– Чего?
– Смотри, кто-то ползет.
Второй часовой осторожно высунулся над избитым бруствером. Луна хотя и шла на убыль, но освещала нейтралку хорошо.
– Пейзаж как в аду. Ни одного ровного места. Где и кто ползет?
– Вон смотри! – первый показал куда-то вдаль.
Из воронки в воронку и впрямь перебегали несколько фигур.
– Раз, два, три… – стал считать второй. – …девять, десять… Словно блохи.
– Кого-то вроде тащат.
– Раненый? Или язык?
– Не поймешь на таком расстоянии.
– Слышишь, Йорген! Дай-ка по ним очередь. Русская разведка, наверное. В их сторону ползут.
– Не дам. У меня патронов мало. Две ленты всего. И стволов сменных пара. Если очень хочешь можешь из карабина пострелять.
– Ты короткую, ну, Йорген!
– Отстань, Петер! Звони лучше обершарфюреру. Может, дадут пару залпов минометами.
– Как скажешь…
– Петер, я вот тебя еще с Копенгагена помню, ты, как был идиотом, так им и остался…
– Да ладно тебе! Герр обершарфюрер? Западный пост. Тут, кажется русские ползут. Нет не сюда. Мимо. К своим позициям. Координаты…
…Больше всего деду хотелось пристрелить сначала упрямого эсэсовца, за то, что тот старательно падал на каждой выбоинке, а потом чертов месяц, который нагло улыбался в половину лунной хари. Однако пока обходилось. Пыхтели, но все-таки волокли оберштурмбанфюрера. По-армейски подполковник, между прочим. Жирная птичка.
Да и на высотке, несмотря на предательство безоблачного неба, немцы сидели тихо. Не замечали, видимо. Тьфу, тьфу! Никогда не бывший суеверным, но верующим, дед все-таки поплевал за левое плечо. Когда втроем – он, Рита и Марина – нырнули в очередную воронку поглубже.
– Что, девчат, запыхались?
– Есть немного, – тяжело дыша, сказала Маринка.
Ритка только размазала грязный пот по лицу.
За ними Леонидыч и танкист, мужики крепкие, волокли фон Шальбурга.
Замыкали группу Еж, Вини, политрук и хромающий доктор. Валера был, как никогда, сердит сам на себя – ломаная нога тормозила всех. Но нейтралка есть нейтралка – первые две группы ушли чуть дальше.
– Все, вперед, курить и спать у наших будем. Терпите, девоньки… – Они по очереди выползли наверх и двинулись дальше.
А Леонидыч и компания скатились как раз в эту.
Дед чуть-чуть подзадержался:
– Как вы? – шепнул он.
– Порядок в танковых частях! – ответил, и тоже шепотом, Таругин, уважавший эту поговорку и старавшийся жить по ней. – Скотина упирается, я уже всю ногу о его задницу отбил.
В этот момент в ночной тишине заматерился в полголоса Еж:
– Какая сволочь противотанковых мин накидала! Я палец сломал!
«Чтобы ты башку себе сломал, скотина колючая!» – Яростно подумал дед. И не только дед…
С высотки хлопнул залп минометов в ответ. Одновременно взлетела и ракета, полнеба залившая ярким светом. Совершенно не думая, инстинктом понимая, что в ближайшей воронке им будет опасно вшестером и, заметив, метрах в пяти воронку поглубже, огромными шагами он прыгнул туда. Вместе с девчонками, подхваченными за шиворот.
И тут же взметнулись фонтаны небольших разрывов.
– Гаубицы? – невпопад спросила Марина.
– Минометы. Маленькие. Будем сидеть тихо – не заденут.
– А я на чего-то мягкое упала… – сказала Ритка. А потом ойкнула…
Дед посмотрел под ноги.
На дне воронки лежали тела пяти убитых наших солдат. Безоружные, но остальная амуниция на месте. Маринка с Ритой попытались, было, подняться чуть повыше, чтобы не наступать на трупы. Но особо близкий разрыв – и они обе взвизгнули и снова свалились на дно.
Дед снял с убитых каски и протянул девочкам. Маринка замотала головой:
– Не, не, не… Я с убитого не возьму, нельзя! – в черных глазах ее плескался страх перед минами и ужас перед мертвыми.
Опять хлопнуло рядом и сверху полетели ошметки грязи. Рита поколебалась и каску одела, а вслед за ней и Марина. Дед тоже взял себе стальной шлем, валявшийся у ноги в глине, и нахлобучил на голову. Что-то там мешалось. Он шлепнул по каске. По лицу и по шее потекли какие-то струйки. Кирьян Василич снял ее, посмотрел внутрь. А внутри, словно в котелке, перемолотой кашей плюхалась грязь с осколками костей, волос и мозга. Он утер лицо и в свете гаснущей уже ракеты увидел на ладони чужую кровь. Хорошо, девоньки не видят. Те сидели, спасая друг друга древним женским способом – обнявшись и уткнувшись друг другу в плечи.
Унтер взял другую каску, положив эту аккуратно на место.
– Петер!
– Чего?
– Ну шо там?
– Ничего.
– Як цэ ничого?
– Значит ничего. Сам посмотри.
Второй часовой высунулся из окопа:
– Якось дывно цэ…
– Чего?
– Чого, чого… Ни чого! Чого воны по одному мисцю бьють и бьють?
– Не знаю, я, Петер…
– Пэтро, сэло ты латышськэ! Знаешь, шо… – сказал старший сержант Слюсаренко.
– Чего? – флегматично ответил латыш Петер с революционной фамилией Райнис.
– Та ничого! Нэ дратуй мэнэ, чухонэць!
– Сам-то хохол! – пожал плечами рядовой.
– Погукай лэйтенанта. Скажы – нимци минамы жбурляють по одному й тому мисци вжэ мынут пъятнадцять. Нэхай сам идэ глянэ. Запамъятав?
– Запомнил.
– Хэй! Стий!
– Чего?
– На махры, покурыш там… Дылда нерусская…
Кирьян Василич в этот момент тоже сворачивал козью ногу, озабоченный двумя заботами – как бы не прямое попадание и как там дурак Ежов. Хотя чего он дурак-то? Немцы, наверняка, высмотрели их сразу. Под таким-то светом… Подпустили на пристрелянное место и давай лупить, сволочи.
Немцы долбили долго, с полчаса, не меньше. Но прекратили. Дед тихим голосом позвал:
– Эй, майор! Жив ли?
Из воронки, где отлеживались Леонидыч, танкист и фон Шальбург, ответили:
– Живы. Все. И целы. Олег как на невесту навалился на фрица.
– У нас тоже все ладненько. Как там ежиная шайка?
– Не знаю… Отстали они. Ну что, дернемся?
– Погоди. Подождем еще минут двадцать. Немцы все свои цейсы сейчас прозыривают.
– Тоже верно. Олег, да слезь ты с него. Придушишь ведь.
В воронке Леонидыча послышалась возня, потом кто-то застонал.
Дед встревожено спросил:
– Чего еще?
– Да ничего… Олег фону руку отдавил.
– Ерундовина… – успокоился дед. – Нам сейчас его ноги целые нужны, да башка.
– А остальное? – из темноты доносился приглушенный голос Микрюкова.
– Позвоночник еще. Как несущая конструкция… Чтобы башка его дурная в трусы не упала. А вот руки ему ни к чему. Бесполезный инструмент. И даже вредный, я бы сказал.
В этот момент разговора, заведенного более ради поддержания измученных девчонок, находившихся уже в полукоматозном состоянии от всего происходящего с ними, в небе что-то застрекотало, зашуршало, а потом мелькнула гигантская черная тень.
– Мамочки! – вздрогнула Рита.
– Это еще чего? – удивился дед.
Стрекотание внезапно оборвалось.
– Ведьмы… – подал голос Леонидыч.
– Чего? Майор, ты это… – озаботился душевным состоянием Микрюкова Кирьян Васильевич.
Из соседней воронки раздался смешок.
– Это немцы так наши ПО-2 прозвали – «Ночные ведьмы». Учебный самолетик из фанеры. Скорость – сто двадцать, максимум сто сорок километров в час. А ежели сильный встречный ветер – в воздухе зависает.
– Ночными ведьмами немцы женский авиаполк называли… А самолет – швейной машинкой, – внезапно подала голос Рита.
– Разве бабы летать умеют? – еще больше удивился дед. – Я думал только на метлах.
Месяц вдруг решил спрятаться в облаке. Дед, сразу посерьезнев, не мог этот упустить момент:
– Так, бабы… Как летаете – потом покажете. А сейчас ножками, ножками да по земельке!
Они выползли из воронки и, согнувшись в три погибели, побежали дальше, перепрыгивая и спотыкаясь об издолбленную землю.
Кирьян Васильевич бежал первый. Именно он со всей дури и влетел грудью и животом в натянутую колючку. Сначала, правда, не понял – удар, спружинило, затрещало тонким железом справа и слева и вцепилось в телогрейку.
Девки налетели в темноте прямо на него.
А с той стороны колючки кто-то закричал:
– Стой, кто идет?
– Наши! Девчат, наши!
А потом уже вдаль:
– Свои мы! Сынки! Свои! Партизаны мы!
Девчонки же старательно выпутывали когтистые крючья из телогрейки и ватных штанов деда. А по тому месту – откуда они уже выскочили опять забили минометы немцев.
– Какие еще, туды твою в качель, свои? Пароль!
– Да какой пароль, не знаем мы! Свои мы, сынок! – какая то ниточка у деда внутри готова была вот-вот лопнуть. Он, от чего-то, едва держался от радости на ногах. Колючая проволока еще помогала.
– Стрельну сейчас! – пригрозили из окопов.
– Не стреляйте! – крикнула тонким голосом Маринка. – Мы, правда, свои! Мы партизаны!
– Тю… Баба! – удивился голос. – Эй, а ну матюгом загни!
– Я не умею! – крикнула Маринка в ответ
– Чего?
– Я! Не! Умею!
– Я умею… -
Дед не стал просить затыкать уши на этот раз. Он матюгнулся так, что могли бы покраснеть листья на деревьях, если бы деревья тут были. Упомянул он непременную мать, и прочие фольклорные слова:
– Подхвостие ты дьяволие, курвенный долдон, персидского царя клоповская шелупина, вошь отшмаренная, прибитый рваной титькою куродрищ!
Некоторые загибы были такими, что с той стороны раздавалось только удивленное кряхтение.
Дед ругался с минуту, не больше. За эту минуту пропали и слезы из глаз.
– Ишь ты… Моряк, что ли?
– С печки бряк!
– Тогда руки в небо и стой спокойно!
Из траншеи выскочили несколько бойцов и оттащили рогатины с колючкой, так, что образовался проход.
– Вот и ладушки, – сказал дед, спрыгивая в траншею. – Кто у вас тут старший?
– Лейтенант Костяев. Вы кто такие?
– Лейтенант, ты это… Девочек покорми. Да от оглоедов своих побереги. Дело у нас важно. А я назад.
– Чего? – поднял брови лейтенант. – Куда еще назад?
– Дорогой ты мой. Там у меня еще семь человек.
– И тэж бабы? – насмешливо подал кто-то голос из темноты.
– Слюсаренко!
– А я чого! Я мовчу!
Дед продолжил:
– Немец там. Важный. Командир бригады. Которая против вас оборону тут держит. Дай пару бойцов тогда, коли не веришь. А?
Лейтенант подумал, покрутил черный ус…
– Слюсаренко! Петерс!
– Чего? – отозвался латыш.
От прибалтийского акцента, четко выделявшего согласные и слога, Рита вздрогнула.
– Пойдете с партизаном… Как тебя?
– Дедом зови… – пожал плечами унтер-офицер.
– С дедом в общем.
Рита вцепилась в изорванную телогрейку Кирьяна Васильевича:
– Дедушка, не бросай нас тут!
– Девоньки, у своих мы, у своих!
– Кирьян Васильевич! Вы же ранены! – забеспокоилась Маринка, заметив кровь неизвестного бойца на лице деда.
– Ерунда на ерунде ерундила да ерундой поерундовывала! – отшутился дед. – Ладошку о колючку раскровянил. Лейтенант, звать-то тебя как?
– Го… Игорь.
– А по батюшке?
– Геннадьевич, а чего? Тьфу ты…
– Слышь, Геннадич. Покорми девочек моих, да спать уложи. – А потом повернулся к Рите:
– Скоро мы, скоро!
И исчез в темноте вместе с двумя бойцами.
Лейтенант опять покрутил смоляные усы, от чего стал похожим на кота, и отрывисто приказал:
– За мной!
Чавкая по болотной грязи усталыми ногами, они через несколько минут были в его натопленной землянке. По пути лейтенант Костяев выцепил какого-то бойца и приказал ему доставить каши с ужина. Рита с Мариной уселись на укрытые одеялом нары, а лейтенант плеснул им из своей фляги чего-то остро пахнущего. Чего – они не узнали. Потому как немедленно уснули в тепле и не слышали, как усатый лейтенант улыбнулся, отчего стал похожим на кота еще больше, и накрыл их своей шинелью. А потом долго ругался на припозднившегося красноармейца с холодной овсянкой и в наказание послал того на НП батальона.
А дед с бойцами в это время полз по земле навстречу хлопкам минометных мин. Внезапно на немецкой высоте что-то взорвалось, и она моментально вспыхнула грохотом выстрелов.
– Илюминация прям… – сказал хохол Слюсаренко, видавший однажды подобное в детстве, на ярмарке в Полтаве.
– Фейерверк! – поправил его Петер.
– Дужэ вумный…… – огрызнулся украинец.
– Огненная работа – так, кажись, с немецкого переводится… – сказал дед Кирьян, внимательно оглядывая поле перед собой.
– Правильно! – с удивлением Райнис посмотрел на заросшего седой бородой и опять похожего на старика Кирьяна Васильевича.
– Ты чи нимэць? – подозрительно спросил Слюсаренко. Он и так-то всех подозревал, а уж тут…
– Общался с ними раньше. Опять вот пришлось…
– Это они по самолету, видать, работают, – сказал Райнис.
– По бабам стреляют, сволочи… – ругнулся Богатырев.
– Почему по бабам? – опять удивился Райнис.
– Да говорили, что бабы летают в стрекозах энтих…
– Да ну? Не слышал… Не бабская это работа, по ночам летать.
– На юге они воевать будут… Формируются еще… – вдруг прозвучал знакомый деду голос Леонидыча из темноты.
Украинец с латышом схватились за винтовки.
– Свои, – успокоил их дед. – Как вы!
– Хреново… Олегу осколок в спину. Под лопатку ушел.
– А фон? – пополз навстречу Леонидычу дед со товарищи.
– Хана фону. Когда гансы вторую серию начали, он как-то выкрутился хитро и побежал в сторону высотки. Мы за ним. И прямым попаданием. Куски в разные стороны, хоть в ведро собирай. А танкисту от той же мины…
– Таругин, а Таругин… – потряс Олега дед.
– Ммм? – тихо промычал тот.
– Живой?
– Металл, масло, солярка и порох… так пахнет танк, так пахнет победа… – пробормотал тот в ответ, не открывая глаз.
– Чего? – не понял латыш.
– Та стулы пэльку… – ругнулся Слюсаренко. – Допомогы товаришам.
– Понял… – Латыш аккуратно подхватил танкиста за ноги, Леонидыч за руки и боком, боком, ровно крабы, которых Олег в детстве ловил на своих одесских пляжах, потащили раненого к своим.
И снова на высотке что-то грохнуло. И, почти одновременно, прекратился минометный обстрел.
– Нияк батарэю лётчыкы накрылы! – воодушевился Слюсаренко. – От вона зараза нам дыхаты не давала! Тилькы мы в атаку – так почынають… Артылэрия лупыть, йим всэ до одного мисця. Накопалы там катакомбив…
– Катакомб, – зачем-то поправил украинца дед.
– Я и кажу, катакомбив. Можэ зараз накрылы, га?
– Надежда – сестра веры и дочь мудрости! – внезапно сказал Кирьян Васильевич.
Слюсаренко замолчал, огибая очередную дырку в земле. А потом спросил:
– Ты бува нэ вируючый?
– Есть такое…
– Я тэж. А як тут бэз цёго. Мина ця чортова, днив зо три прям пидо мною… Штаны розирвало, аж срам налюды. Вэсь взвод рэготав. Хто жыви лышылысь. А на мэни ани подряпыны. От вони янголы…
– Смотри-ка… – показал Кирьян Васильевич куда-то в темноту.
– Чого? – откликнулся хохол. – Тьфу ты! Пэтька, поганэць, усю роту свойим «чого» заразыв
!Месяц услужливо выполз из длинного облака. По нейтралке бежали трое и волокли в плащ-палатке кого-то четвертого.
– Твойи? – спросил Слюсаренко, но к винтовке приладился.
Дед никого не разглядел, но услышал голос костерящего весь свет Ежа.
– Мои…
– Кого? Кинулся он им навстречу.
– Валерку в ногу цепануло минометкой. В тоже место, говорит… – на бегу кинул Еж.
Дед и старший сержант Слюсаренко схватились за ткань и побежали тоже, стараясь не спотыкаться и не падать. Получалось не всегда.
– Где раздобыли-то?
– Кого? – по-еврейски ответил неугомонный Еж.
– Плащ-палатку…
– Да сняли там с кого-то… Вся дырявая. Как бы не разъехалась.
– Габардынова, – сказал Слюсаренко. – Дэбэла значыть. З нашого комвзвода. Позапрошлого. Тры дни и повоював. Мы на поли пид кулэмэтамы позалягалы, вин встав, «За Родину!», крычыть, «За Сталина». Пацан зовсим. Я хвамылию його так и нэ запамъятав… Мы й пробиглы метрив из дэсять. И впъять полягалы. А от його… Там и лэжыть?
– Ага, – ответил Еж, понятия не имея, где это там. Вернее «там», где была подобрана плащ-палатка и «там», где погиб неизвестный лейтенант, это, как оказалось, совершенно разные вещи. Война, она совсем не такая, как в компьютерных играх…
Дотащили злобно матерящегося Валеру без приключений. А в окопах встретили бойцы и Валерку утащили в санбат, а остальных проводили до лейтенанта Костяева.
– Ну? Как? – спросил тот, встречая партизан у входа в свою землянку. – Все целы?
– Двое раненых у них, утащили уже.
– А немца накрыло, значит… Жалко… Ладно, ныряйте в землянку, чаю попейте и я вас до батальона провожу. Машина должна за вами прийти. В полк.
– Кстати, товарищ лейтенант, а число сегодня какое? – спросил Вини.
– Уже пятнадцатое. А что?
– Нам надо срочно доставить информацию государственной важности до командования.
Лейтенант пожал плечами и ответил:
– Я и говорю, машина в пути. А пока чай пейте!
Машина прибыла через час, когда умаянные лесом они закимарили вповалку, напившись сладкого чаю.
– Ширшиблев! – заорал кто-то на улице. – Где тебя черт носит?
– Дороги, товарищ лейтенант… Танками все разбито, еле тащился.
– Дороги у него… У всех дороги! – плащ-палатка, навешенная на дверь распахнулась, впустив холодный воздух:
– Эй, партизаны, подъем!
Дольше всех будили девчонок. Просыпаться они никак не желали.
Встали только после угрозы Ежова облить их водой.
Метрах в трехстах от землянки их ждала полуторка, заляпанная грязью по крышу с двумя бойцами в кузове. Возле машины стоял какой-то старший лейтенант и ругался на бойцов:
– Да будьте вы людьми! У меня раненых пол-батальона, машин нет, хотя б троих в полк заберите.
– Не положено… – лениво процедил один боец. – Велено только окруженцев вывезти…
– А… комбат… тут уже?
– Да уговариваю этих храпоидолов раненых забрать. А они ни в какую. Приказ, говорят, долдоны, твою мать…
– Эй! бойцы, у партизан тоже двое раненых, – крикнул Костяев.
– Велено всех забирать. Тащите…
Таругина притащили в бессознательном состоянии. Валера допрыгал сам на костыле.
– Осколок у него между лопаткой и ребрами застрял. Операцию надо делать, – буркнул сердитый Валера, когда танкиста осторожно грузили в кузов. – Так и так в тыл…
– Сам-то как?
– Жив, чего мне.
В кузов заглянул водитель со смешной фамилией Ширшиблев:
– Раненых в дороге держите. Растрясет к фигам…
Под Таругина сгребли все солому, которая была в кузове. Сами устроились на мешках, шинелях и телогрейках.
Дорога и впрямь была ужасная. Машина на каждой ухабине накренялась так, что казалось еще чуть-чуть и все вывалятся в грязь. В паре мест пришлось вылезти и толкнуть засевший по средину колес грузовик. И потому девять километров до штаба полка они добирались аж целый час.
Зато по прибытии их сразу же накормили горячим кулешом и разместили в каком-то сарае с сеном. Правда, заставили почему-то сдать оружие. И поставили часового у дверей. А раненых Валерку и Олега унесли в полковой госпиталь.
Самое удивительное, что дали выспаться. Подняли, когда солнце уже стояло в зените.
Дверь открылась и часовой сказал:
– Которые тут из плена бежали?
Встал политрук Долгих.
– За мной…
– А куда меня?
– Узнаешь…
Его привели в большой деревенский дом, в светлую, совсем недавно побеленную комнату. Из мебели был только стол и два табурета. За столом сидел рослый старлей НКВД.
– Проходите, гражданин предатель!
– Почему это я предатель? – возмутился Долгих.
– А кто вы? – флегматично разглядывал ногти старлей.
– Младший политрук Долгих Дмитрий!
– Да что ты говоришь! – удивился энкаведешник. – Политрук, да еще и младший!
– Ну да… Между прочим, бежал из плена, оружие раздобыл, с боем через линию фронта перешел!
– Молодец… – протянул старлей. – Ай, молодец! Надо тебе медаль дать. А где твои документы, младший политрук? А то оформлять наградной лист не с руки без документов-то…
Долгих сник:
– Потерял я… В лесу. Не помню где…
– Ах, потерял… И знаки различия потерял, да?
– Я это…
– Что это? Немцы расстреливают всех комиссаров и политруков. Это ты знаешь. Вот и сорвал с себя знаки и документы разорвал и выбросил. Так?
– Страшно было, товарищ старший лейтенант…
– Гражданин.
– Что?
– Гражданин старший лейтенант.
– Простите, гражданин старший лейтенант… – почти шепотом ответил Долгих.
– А, может быть, ты немцам сдался сам? Перешел на сторону врага, а они тебя подучили и к нам с заданием?
– Что, вы, гражданин…
– Какое задание? – рявкнул на него старлей. – Быстро! Имена, явки, пароли!
Долгих сглотнул слюну, вдруг ставшую тягучей…
– Я не предатель, я трус, но не предатель. Я сам бежал, когда партизаны напали…
– Из трусов, гражданин Долгих, и получаются предатели. Но я тебе почему-то верю. Вечером трибунал твое дело рассмотрит и – по законам военного времени…
– Что? – помертвел Долгих.
– Расстрел, что ж еще-то… Впрочем, если сдашь мне немецкую агентуру – будешь жить.
– Нету никакой агентуры, тов… гражданин старший лейтенант. Честное слово, нету! Сталиным клянусь!
– Ишь ты… Сталина он вспомнил. А когда в плен драпал, вспоминал его? Или трясущимися руками звезду с рукава сдирал?
– Ничего я не сдирал. Меня под Ватолино немцы, разведка их утащила, я боевое охранение проверял. А обмундирование свое я в землянке оставил, чтоб не испачкать. Старое одел. Обычное. Красноармейскую форму…
– Проверим. Какая часть, ты говорил, я записать не успел?
– Я не говорил…
– Так говори.
– Двадцатая стрелковая бригада Третьей ударной армии…
– Проверим. Эй! Как тебя… Сердюк! Уведи арестованного и посади в отдельный погреб. До вечера. А там посмотрим. И следующего из пленных веди.
– Товарищ старший лейтенант. А пленные закончились.
– В смысле закончились?
– Ну есть один, но тяжело раненый…
– С ним потом. А что остальные?
– А остальные партизаны из местных.
– Тогда веди командира.
– Есть!
– Стоять! Этого… Долгих… Раздень догола. И всю одежду принеси сюда. Смотреть будем.
– И исподнее что ли?
– И его тоже. Дай ему… Шинельку какую-нибудь. На время… И веди командира партизанского!
Пока допрашивали политрука, в сарае шло бурное обсуждение. Обговаривали план, который родился позапрошлой ночью у Леонидыча.
Девчонки оставались сами собой, только не трындели, что, мол, из будущего. Инвалидности еще не хватало… Подруги, приехали Кирьяна Васильевича навестить в июне сорок первого. Потом так выбраться и не смогли. А Рита деду внучкой будет. Все документы сгорели в избе, когда каратели деревни жгли.
Вот с мужиками сложнее… Пойди, объясни – почему здоровые парни призывного возраста и не в армии?
Решили так… Все трое из того же Демянска. Леонидыча вообще не призывали с его-то возрастом… А Ежа и Вини не успели.
– Ага, не успели… Нам с Лехой, между прочим, по двадцать два. Мы перед войной должны отслужить были…
– Мне двадцать пять, между прочим! – сказал Вини.
– Чем докажешь? – спросил Леонидыч.
– Ну… Это…
– Вот-вот. Документов-то нет? Значит что?
– Что? – хором воскликнули Вини и Еж.
– Вам по семнадцать было на начало войны…Сейчас, конечно, восемнадцать уже. А жили вы в Минске…
– Почему в Минске-то?
– А почему нет?
– Акцент не бульбашский. Может быть, все же из Демянска? Я хоть там улицы знаю…
– Левая какая-то версия… – задумчиво сказал Еж.
– Андрюш, а давай ты шизофреником будешь. Или там туберкулезником. Вон какой худой, – высказалась Маринка.
– Угу… Сейчас, разбежалась… Меня ж лечиться отправят. И после первых анализов… Нет уж. Восемнадцать так восемнадцать!
Скриплая дверь распахнулась:
– Эй, старче, давай на выход!
– Это ты мне, что ли? – после секундной паузы спросил дед.
– Тебе, тебе… Подымайся, пошли. Старший лейтенант приглашает на беседу.
– Грозный какой, ты распорядись-ка, чтоб накормили нас.
– Не мое дело. Командир прикажет…
– А ты инициативу прояви, боец!
– Инициатива, дедуся, наказуема! Потому – шагай давай!
– Ёшкин кот тебе дедуся! – обозлился унтер-офицер.
– Шагай давай…. – подоткнул деда стволом автомата конвоир…
…Богатырев Кирьян Семеныч, одна тысяча восемьсот девяностого года рождения… – прочитал обтрепанный паспорт деда энкаведешник.
– Так точно, ваше благородие!
Старший лейтенант широко открыл глаза:
– Из бывших, что ли?
– Почему же из бывших? Из настоящих. Бывшим я буду когда помру.
– Интересный разговор…
– Ты, гражданин старший лейтенант, – выделил голосом слово «гражданин» Кирьян Васильевич, – Сразу запиши, чтобы вопросов на эту тему больше не было. Воевал я за белую армию под началом полковника Дроздовского. В звании унтер-офицера прошагал и великую войну и гражданскую. Потом меня по процессу «Промпартии» осудили – так что я есть самый настоящий враг советской власти. Еще вопросы есть?
Старший лейтенант аж опешил от такого откровения. Но потом взял себя в руки и продолжил:
– И что ж это вы, враг советской власти, вдруг воюете за эту самую власть?
– А я за нее и не воюю.
– За кого тогда?
– За Родину.
– За какую еще родину?
– За русскую. Давай-ка, гражданин-товарищ, ближе к телу. Хотел разузнать с какой диверсией мы сюда вышли? Ни с какой. Вот у меня там в отряде есть боец, его порасспроси на эту тему.
– Какой боец, какая тема?
– Звать его Володей, а отчество Леонидыч. Он тебе больше расскажет – чего и почему. Мое дело его сюда было довести. А заодно… На-ко, посмотри!
С этими словами дед достал из кармана два немецких зольдбуха и аккуратно положил их на стол.
Старший лейтенант взял их и внимательно стал пролистывать:
– Цукурс Герберт, Константин фон Шальбург… Это что? Ничего не понимаю…
– А то, что мы этих сук вальнули. И если б не дело у Леонидыча, я бы там еще фрицев гонял. Первый командир латышской бригады СС, а второй – датской. Датчане, а не немцы перед твоим полком оборону держат.
– Это-то мы знаем, Чай не пальцем… Стой! А других документов? Карты, журнал боевых действий?
– Извини уж, гражданин…
– Александр я, Кирьян Василич. Александр Калинин. Давайте уж без званий, без регалий… Хорошо? По именам? Пойдет?
Дед хмыкнул:
– Давай… Сродственник, что ли старосте-то всесоюзному?
– Даже не однофамилец.
– Хе, епметь… – вспомнил дед любимое винокуровское ругательство. – Так вот, Саша, этих двух мы положили. И вместе с ними еще парочку. Десятков. Фона этого довести хотели, не срослось. Германской же миной и накрыло. Даже разрешения не спросили…
– Давайте по порядку, Кирьян Васильевич. Отряд как собирать начали?
– Как, как… Этим самым об косяк. Внука ко мне приехала. Риточка. Да ты еще поговоришь с ней. Летом приехала прошлым. В июне. Аккурат перед войной.
– Откуда приехала?
– Знамо откуда, из Вятки, то есть Кирова по-вашему, по-советски.
– У вас там сын, дочь?
– Нее… Никого нету. Я ее подобрал в начале двадцатых. Малость повозился и в детдом отдал. Времена тогда голодные были, чай думаю, государство все ж таки лучше позаботятся. А я и загреметь мог под распыл как белогвардеец. Ну ты, старшой, сам понимаешь. Ну вот она там и выросла, а я ей помогал чем мо. Она ко мне на лето приезжала, да… А вот война началась – тут и осталась, уехать никак не могла. Дороги забиты были. Да и беда-то – приехала не одна, с подружкой, тоже детдомовка, Маринка.
Дед врал так вдохновенно, аж всплакнул:
– Немцы потом пришли, я девок прятал. Красивые они у меня. Хорошо хоть хутором жил, не в деревне…
– А в партизаны почему пошли?
Дед помолчал, а потом добавил ржавым каким-то голосом:
– Сожгли немцы деревню. И дом мой сожгли к херям.
– За что?
– За просто так. Чтобы жизнь под ними медом не казалась.
– Понятно… А покажи-ка, Кирьян Васильевич, на карте ваши путешествия!
– Я, мил человек, хоть и унтер-офицер, а в картах мало соображаю. Вызови-ка сюда бойца моего, Андрюшку Ежова, он в картах больше моего понимает. На географа учился, все-таки. Он тебе больше покажет. И вот еще чего. Прикажи-ка чтоб моих накормили. А то ведь без завтрака сидим.
– Тоже верно, – задумчиво сказал старший лейтенант НКВД Калинин. – Сердюк!
– Я! – выскочил здоровенный боец с ППШ., казавшимся легкой игрушкой на широкой груди.
– Приведи сюда Ежова. И дай команду покормить партизан.
– Есть!
– Стой! Еще начштаба сюда позови. И чай тут организуй.
Целый час они ползали по карте пальцами и карандашами. Еж даже охрип немного, показывая и доказывая, что вот тут пройти можно, а вот тут полная задница. Начштаба – майор Хацкилевич – был, конечно, доволен информацией, а вот старлей больше сидел, отмалчиваясь, наблюдая за дедом и Ежом. К какому выводу он пришел не понятно, но когда майор, неся свою карту как драгоценное сокровище, ушел, то добавил тяжело:
– Ну, мужики…Ждем результатов наступления. Мы с этой высоткой уже как неделю бьемся. Если что не так показали, не обессудьте… Даже думать не буду о поводе, чтобы к стенке поставить…
– Да за кого вы нас держите! – возмутился Еж. – Мы же свои, советские, так сказать, люди!
– Вот именно! Так сказать… Сердюк! Уведи Кирьяна Васильевича! А вы, Ежов, останьтесь…
– А чо, а?
– Почему добровольцем не пошел, Андрей? – грустно посмотрел на Ежа Калинин.
– Я ходил! – честными глазами сказал Еж. – только меня не взяли сразу. А потом немец пришел.
– Когда? В средине августа где-то! А что?
– Военкомат-то в Демянске так и стоял на Ленина?
– Ой… товарищ старший лейтенант… – несколько разочарованно посмотрел на старлея Еж. – Вот не надо меня на такие смешные штучки ловить… На улице Первого Мая он стоит. Дом шестьдесят пять. Стоял, вернее. Сейчас пока нету там военкомата. Гестапо там.
– А чего там гестапо делает? – внимательно смотрел на Ежа особист.
– А там сплошное гестапо, товарищ старший лейтенант! – Еже даже нагнулся к столу. – Куда ни плюнь – везде гестапо. На улицу после комендантского часа вышел – расстрел. Картоху не сдал – расстрел, косо на ганса посмотрел – расстрел. Чем не гестапо?
– И почему же тебя не расстреляли?
– А я хитрый, товарищ старший лейтенант!
– Оно и заметно… Из Демянска, говоришь, родом?
– А чо?
– Да так… Сердюк! Следующего давай!
Старший лейтенант НКВД Калинин подошел к окну и закурил. «Странная какая братия… Все гладенько так, все хорошо. А вот что-то тут не так. Что-то не клеится. Без документов? Не то… Мало ли кто без документов сейчас шатается. Какой он документ должен был сохранить? Аусвайс, что ли…»
– Боец Винокуров по вашему приказанию прибыл.
– Садись, боец… В армии что ли служил?
– Никак нет! Батя военный.
– Во как… И где сейчас твой батя?
– Не знаю, товарищ старший лейтенант, – честно сказа Вини. – Я сам-то не знаю, где я через пять минут буду. Как война началась, так и весточки нет от него.
– А от тебя?
– А куда писать-то?
– А куда до войны писал? Где батя-то служил?
Вини чуть замялся… В принципе, до этого он говорил правду. Батя у него действительно воевал в Афгане, был прапорщиком, только вот не будешь же говорить такое здесь и сейчас? Хотя…. Сам-то Лешка родился в Чехословакии, может прокатит?
– Последнее место службы у него было подо Львовом.
– Где служит-то он? Часть назови.
– Четвертый механизированный… – сказал Вини и подумал: «Вот ведь… На каких мелочах колятся» И спешно добавил – Финансист он был. Ага.
– Проверим… Куришь?
– Нее… Курить – здоровью вредить!
– В здоровом теле – здоровый дух, да? Кто сказал, помнишь?
– Поэт какой-то, римский, точно не помню…
– Геббельс это сказал. – Тяжело посмотрел Калинин на Винокурова.
– Ну, епметь, не может быть. Я точно помню, что какой-то римлянин. Ювенал, кажется. Причем еще переврали после него. Он сказал – «Если б в здоровом теле был еще и здоровый дух!» Вот как!
– Да ты что? Буду знать теперь. Куда поступать-то хотел?
– На исторический! – Вини улыбнулся. – Товарищ старший лейтенант, а можно просьбу?
– Какую?
– В туалет очень хочется! – просительно сказал Вини.
– Потерпи. Четвертый мехкорпус, говоришь…
Лейтенант задумался о чем-то своем. Подошел к окну, грызя карандаш… Помолчал, глядя как пара бойцов колют дрова. Потом добавил отсутствующим голосом:
– Брат у меня там служил. Механиком. Вот ведь как судьба свела… Бывал там? – обернулся он к Вини.
– Нет, не успел, собирались, но…
Старлей кивнул:
– А родня где сейчас?
На этот раз Вини сказал честно:
– Не знаю.
Энкаведешник снова кивнул.
– Комкор там у них хороший был, генерал Власов. Андрей Андреевич. Брат его хвалил в письмах…
У Вини аж пересохло во рту. А потом он вспомнил, что Власов еще герой, и что он еще не перешел на сторону немцев, и вторая ударная еще рвется к Любани. И от сердца отлегло. Чуть-чуть.
– Дальше-то что думаешь делать? – спросил после паузы Калинин.
Винокуров пожал плечами:
– Не знаю, товарищ старший лейтенант… На фронт меня возьмут?
– В каком смысле? – удивился тот.
– Как в каком? – в ответ удивился Вини. – Я ж подозрительная личность, без документов, безо всего…
– Ты, парень, с винтовкой из тыла немецкого вышел. Вот это и сеть твой главный документ.
– А…
– А шпионы немецкие с такими замечательными документами попадаются, что только держи ухо востро! Ладно, понятно с тобой все. Отца твоего мы попробуем разыскать, а вот получиться или нет… Не обещаю. Но запрос сегодня же отошлю.
Вини аж поперхнулся:
– Спасибо, конечно, товарищ старший лейтенант…
– Сердюк! Следующего давай!
– Есть!
Вини шагал обратно в сарай немного ошарашенный. Во-первых, потому, что «кровавый гэбист» оказался нормальным человеком. Усталым, замотанным, со своими проблемами, но нормальным. Не жаждущим пожарить на костре первого попавшегося окруженца или партизана как немецкого «шпиёна». Хотя… Кто знает, что у него на уме?
А во-вторых… Возникла неожиданная проблема – если старлей и впрямь пошлет запрос? Это же… Семь лет расстрела без права переписки, епметь!
Дверь снова скрипнула, ударил острый запах залежалого сена.
– Следующий, – буркнул Сердюк, явно уставший бродить туда-сюда.
Поднялся Леонидыч. Он одернул кожанку, стряхнул с плеча пару сухих травинок
Дед перекрестил его спину, незаметно для зевающего конвоира.
Прямо с порога Владимир Леонидович, едва успев кивнуть, произнес, глядя на кубики энкаведешника:
– Товарищ старший лейтенант… Или гражданин, все-таки?
– Пока товарищ, а дальше посмотрим, – сухо ответил старлей, не отрываясь от какой-то писанины.
– У меня есть сведения государственной важности, товарищ старший лейтенант. Мне срочно необходимо встретиться с командованием фронта.
– Имя, фамилия? – продолжая чиркать карандашом, перебил его Калинин. – Звание? Номер части?
– Микрюков Владимир Леонидович. Так-то я, товарищ старший лейтенант, гражданский…
– Зачем же вам комфронта, товарищ гражданский? Давайте, я прямо сейчас товарищу Сталину позвоню.
Калинин снял трубку «тапика» – полевого телефона, покрутил ручку и слегка поморщился:
– Кто там? Сержант Попова? Можешь ли меня с товарищем Сталиным соединить? Нет? Ну, тогда генерал-лейтенантом Курочкиным? И с ним не можешь? И хватит смеяться – когда старший по званию с тобой разговаривает. Нет, с комдивом пока не надо. А зачем тебе в дивизию? В военторг? Может и поеду. А может быть и не поеду. Все от твоего поведения зависеть будет. Ладно, потом поговорим, солнышко…
Он положил трубку, улыбнулся и сказал:
– Видишь, какие у нас связистки капризные. Не хотят соединять – ни с товарищем Сталиным, ни с товарищем Курочкиным. Не положено, говорят. Так какие у тебя сведения?
– Государственные, товарищ старший лейтенант.
– Владимир Леонидыч. Государство здесь – это я. Ну и комсостав полка.
Леонидыч несколько секунд подумал – а что бы на его месте сделал настоящий фронтовой разведчик? Сказал бы пароль, наверное… Показал бы шелковый секретный платочек из потайного шва… Стал бы орать на особиста…
Ни то, ни другое, ни третье Леонидыч делать не стал. Он просто сказал:
– Сегодня пятнадцатое мая?
– С утра календарь не отрывали.
– Послезавтра, семнадцатого мая, на южном участке фронта, где сейчас идет наступление на Харьков, под командованием маршала Тимошенко, немцы ударят в тыл нашим войскам. Первая танковая группа генерала фон Клейста. Слышали о таком? Наши потери могут достичь двухсот пятидесяти тысяч человек.
Лицо Калинина слегка вытянулось…
– Откуда сведения?
Леонидыч промолчал, нахмурившись…
– Интересные дела… – протянул старлей. Потом повозился чего-то под столом и… выставил оттуда сапоги с портянками.
А потом, слегка извиняясь, сказал:
– Ноги устали, мочи нет, – и прошелся, с наслаждением шлепая босыми ступнями по дощатому полу, нагретому сквозь чистые окна теплым майским солнышком.
– А почему я вам верить должен? Владимир Леонидыч? Из уважения к возрасту? Сколько, говорите, вам?
– Полсотни пять. Это имеет значение?
– Конечно.
– Какое? – удивился Леонидыч.
– Все имеет значение. Вы в армии служили?
Микрюков чуть подумал и ответил:
– Приходилось как-то.
– Вместе с унтер-офицером Богатыревым?
– Южнее несколько. И в другой армии. Остальное, товарищ старший лейтенант… Или гражданин уже?
– Ну почему же… Гражданин еще рано, а геноссе не с руки… – внимательно смотрел на Леонидыча Калинин.
– Кем? – не понял Микрюков.
– Не важно… – махнул рукой энкаведешник. – Сердюк. Увести!
– Подождите, а…
– А вы, Владимир Леонидович, соберите вещи, оправьтесь. Через сорок минут выезжаем.
– У меня всех вещей – то, что на себе.
– Ну, вот и ладушки. А мне еще кой-чего собрать надо. Сердюк!
– Я!
– Там остался еще кто?
– Бабы еще. Две штуки.
– Не бабы, Сердюк, а женщины.
– А какая разница? – удивился Сердюк.
– Ты, Сердюк, личность серая и неграмотная. А потому тебе никогда не узнать разницу между бабой и женщиной. Увести… – подумал Калинин и добавил, – задержанного. А с женщинами мы разговаривать завтра будем. Вернее, я!
Леонидыч закусил губу, заложил руки за спину и зашагал из дома. А Сердюк снял винтовку с плеча…
Старлей долго смотрел в окно. Минут пять. Больше он не мог себе позволить. Но за эти пять минут успел передумать многое.
Как ни странно, он думал не о том, что сказал ему – разведчик? – Микрюков. Он думал о том, как странно выглядят эти двое, Ежов и Винокуров. Что-то такое, непонятное, отличало их от всех тех, с кем встречался на допросах, да и просто в жизни, старший лейтенант НКВД Александр Сергеевич Калинин. Что-то странное, да…
Но что?
Он развернулся к столу, подошел, намотал портянки, морщась от потного запаха:
– Сердюк!
– Я!
– Слушай, Сердюк… Если к вечеру свежих не будет – я тебе их за пазуху засуну и на передовую. Немцы в Берлин от тебя сами убегут. Куда пошел? Стоять! Машину иди готовь. В дивизию поедем.
– Какую машину? У меня нету…
– Дуболом ты, Сердюк. Любую. БЕГОМ!
Старлей обулся и пошел в штаб полка.
По пути заглянул к связистам:
– Сержант Попова? Одуванчик вам от всей сердцы! – протянул он ей чудом не затоптанный у свежей поленницы желтоголовый цветочек.
– Ой, товарищ старший лейтенант… Спасибо… – заулыбалась в ответ ему невысокая, обаятельная блондиночка с кокетливо заломленной пилоткой.
– Тебе в военторг надо было?
– Да, очень… – широко распахнула она глаза. – А что, машина будет?
– Будет. Быстро давай собирайся. Через полчаса едем. Ждать не буду.
– А у меня дежурство только через час закончится, – жалобно посмотрела сержант на старлея.
– Ириш, ну ты уж реши эту проблему. Я ж с Ширшиблевым поеду, – старлей подмигнул ей. – А с начальством твоим я договорюсь.
– А Сережка здесь? – вспыхнула она. – Даже не заглянул, вот зараза!
– Сержант… Служба у Сережки! – старлей снова подмигнул ей и вышел из землянки
А в штаб зашел уже совсем другой человек:
– Товарищ полковник, разрешите обратиться!
– Заходи, Александр Сергеич дорогой, заходи… – Полковник сидел с задернутыми до колен штанами и грел ноги в тазике с горячей водой. Ревматизм мучал его давно. А по сырой демянской весне обострялся вдвойне. Белая рубашка обтягивала его большой живот, а по бокам висели подтяжки.
– Чего там у тебя, старшой? Разобрался с партизанами?
– Так точно.
– И?
– Политрук, который с ними вышел – под трибунал.
– За что?
– Документов нет, в чужой форме. Что тут еще? Обстоятельства попадания в плен тоже неясны.
– Правильно. Остальные?
– Одного я в дивизию увезу. Троих можно в строй. Парни неплохие.
– А не засланцы немецкие? – улыбнулся полковник.
– Не похоже. Парням по восемнадцать, молодые еще. У одного батя в корпусе генерал-лейтенанта Власова служил. Финансистом.
– Да ты что? Запрос отправь. Хотя, вряд ли найдут… Там такая заваруха была, старлей…
Полковник почесал пузо и налил себе в стакан чая из дымящегося на горячей печке чайника, – Саш, чай будешь? С медом и мятой! Жена медок прислала!
– Спасибо, ехать надо! Один из них на карте кой-чего интересное показал.
– Знаю, мы с начштаба уже глянули. Остальные-то что, молчат?
– Остальных пока не допросил. Завтра.
– А кто там еще остался у тебя?
– Две девчонки и раненые.
– С этими понятно… Вернешься когда?
– Пока доеду, пока сдам в дивизию задержанного, пока обратно… К ночи вернусь.
– Тогда и трибунал завтра. Точно чая не будешь?
– Спасибо. Разрешите идти?
– Тебе не разрешишь… Иди, конечно. Поедешь на чем?
– А на Ширшиблеве и поеду.
– Тоже верно. Тогда обратно помчишься – газет захвати для комиссара. Только свежих. Лады?
– Лады, товарищ полковник!
Старший лейтенант вышел на крылечко, сел и опять закурил. Хотя от поганых немецких сигарет щипало язык, но махру курить он совсем не мог. А нормальных папирос не привозили уже давно. «Надо Иринке в военторге заказать „Казбека“, пусть купит пачек десять, пока я этого Микрюкова коллегам сдаю» – мелькнула ленивая мысль. Он откинулся на прогретые доски дома и немедленно задремал от усталости. За последнюю неделю он спал не больше трех-четырех часов в сутки – постоянное пополнение состава, отслеживание настроений в полку, работа с разведчиками, немца недавно кололи всю ночь, да так расколоть и не смогли, ни хрена не знает, самострел вот был еще, а во втором батальоне драка на почве… а хрен его знает на какой почве подрался узбек с евреем? Шебутной вообще батальон, хотя воюют как полагается, а у старухи в деревне свинью украли. А после каждой атаки в полку пропавшие без вести – то ли убило и никто не видел, а кто видел, тот тоже погиб, теперь вот еще окруженцы эти, хорошо не сорок первый, тогда тысячами выходили, как каждого-то проверить, ущучил млалей тогда Калинин одного, да, ущучил, все люди как люди, а у этого документики с иголочки, месяц в окружении а скрепочки не заржавели, рожа сытая, а все-таки какие-то странные эти партизаны, взгляд странный, да…
– Товарищ старший лейтенант, а товарищ старший лейтенант!
– А? – подскочил Калинин, хватаясь за кобуру.
Сердюк аж отскочил с перепуга. Слышал он, как в соседнем полку так командир ординарца пристрелил спросонья. Погрезилось капитану, что немец пришел.
– Это… готова машина-то!
– Ага… – старший лейтенант с силой протер красные глаза. – Веди задержанного. В кузов посади.
– Понятно. А…
– А ты тут останешься. Я с ним в кузове поеду.
– Эээ…
– Не экай. В кабине сержант Попова поедет. Пусть поженихаются малость. Да и мне поговорить надо. С задержанным.
– А остальные?
– Остальные пусть сидят. Вернусь – решим чего и как. Выполнять!
– Есть! – вытянулся Сердюк и помчался к сараю с партизанами.
Старлей же потянулся и пошел к грузовику. Рядовой Ширшиблев уже завел мотор и внимательно прислушивался к рычащему мотору. Чего-то ему не нравилось. А рядом сидела сержант Иришка Попова с такой счастливой улыбкой, что Калинин сам невзначай улыбнулся.
Она помахала ему рукой, с зажатым в пальцах одуванчиком. А потом, вдруг сообразив, выскочила из кабины:
– Товарищ старший лейтенант, вы садитесь, я в кузове поеду!
– Сиди уже. Задержанного, кто охранять будет?
– А он очень опасный, да? – понизила голос связистка.
– Очень, – серьезно ответил Калинин. – Каждый день он съедает двух симпатичных связисток на завтрак, трех на обед и одну санитарку на ужин.
– Почему только одну? – захлопала ресничками Ирина.
– Потому что все санитарки толстые!
– Да ну вас, товарищ старший лейтенант! Вечно вы шутите! Ой, а у вас щека в складочку! – снова улыбнулась она.
Старлей потер щеку:
– Мама у меня говорила – это снюлька приходила и натоптала!
– Кто?
– Ну, снюлька… Фея сна!
– Сами Вы, Ирина, фея! Сердюк, твою мать! Ты скоро? – резко оборвал он ненужный разговор.
– Это… – пробасил тот. – Все уже. Задержанный в кузове.
– Понятно… – старлей поправил портупею, еще раз протер глаза и, встав одной ногой на колесо, запрыгнул в кузов. А потом постучал по кабине:
– Поехали!
Машина тронулась. Дорога была уже лучше, чем от роты лейтенанта Костяева до штаба полка. По крайней мере, не кидало из стороны в сторону как мешки с картошкой.
И потому Леонидыч и Калинин могли спокойно поговорить.
– Ну, рассказывай, дорогой ты мой, – сказал старший лейтенант, едва они отъехали.
– Что рассказывать?
– Откуда такая информация-то у тебя?
– Откуда надо, старлей.
– Ты, Владимир Леонидыч, давай-ка хвостом-то не крути. Мы с тобой сейчас где? На Северо-Западном фронте. А против нас группа армий «Север». А ты мне про Харьков рассказываешь. Никак пешком оттуда сюда шел, чтобы немцы не поймали?
– Товарищ старший лейтенант…
– Давай на ты? Меня Александром зовут! Володей мне тебя не с руки звать, в два раза меня старше, я тебя Леонидычем буду. Сойдет?
– Договорились. Так вот. Откуда такая информация, как я ее получил и чего с ней делать – я доложу только в штабе фронта. А ты об этом и не узнаешь никогда.
– Осназ? – после минутной паузы уточнил Калинин.
– Будешь смеяться – ВВС.
– О как! – удивился энкаведешник. И едва не прикусил язык оттого, что машина в очередной раз прыгнула на кочке. А потом помолчал, но все же спросил. Из чистого любопытства, конечно:
– А звание? В твоих годах уже по штабам надо сидеть… ВВС…
– Майора хватит тебе?
– Мне хоть маршал, – вздохнул старлей. – В моей полосе ответственности все равны.
Леонидыч промолчал. Минут через десять старлей сказал, как будто совершенно не в тему:
– Эх, знать бы, когда война закончиться…
– Не скоро.
– Думаешь через год только?
– Думаю, через три.
– Вот не фига себе! – удивился старший лейтенант. – Это как же через три, если товарищ Сталин сказал еще зимой, что сорок второй год будет годом окончательного разгрома немецко-фашистских захватчиков?
Леонидыч покосился на старлея, обхватил себя руками и ответил:
– Керченское наступление уже захлебнулось. И немцы сейчас добивают остатки пятьдесят второй, кажется, армии на полуострове. А летом и Севастополь возьмут. А у соседей, на Волховском, Вторая ударная уже в окружении. И через тоненькую ниточку выползает из болот у деревни Мясной Бор. Власов только вот не выйдет. В плен попадет и на немцев служить будет. А вот под Харьковом через неделю такая дыра откроется – немцы попрут до Сталинграда и Грозного. И только оттуда мы тихонечко пойдем на запад. Немцев убивая и сами по сопатке получая. И не раз. Вот тебе и три года.
Особист помолчал, а потом сказал так, что в его голосе звякнул металл:
– А ты в курсе, Владимир Леонидович, что сейчас пораженческие настроения тут разжигаешь и антисоветские разговоры плетешь?
– В курсе, Саша, в курсе… Только от этого ничего не меняется. А может быть изменится, если ты меня в штаб фронта доставишь. А еще если там гэбня ваша кровавая – такими же нормальными людьми как ты окажется…
– Кто кровавая? Не понял?
– Не бери, старлей, в голову… – сказал Леонидыч. А про себя подумал, что Еж обязательно бы добавил – бери чуть ниже… Интересно, как они там?
А они там только что поужинали. И разговорились вовсю:
– Интересный какой этот… Энкаведешник, – сказал Еж. – Нормальный мужик. Уставший только как собака.
– Угу. А глаза такие добрые-добрые! – вспомнил старый анекдот Вини.
– Нее… Нормальный. Я думал, сразу под расстрел. Они же такие.
– Какие-такие? – подала голос Рита. У девчонок-то допрос был еще впереди.
– Ну что обязательно всех окруженцев сразу в штрафбаты, что там пристрелить каждого несогласного с политикой партии и правительства…
– Еж! Штрафбаты только через месяц, примерно, появятся, – сказал Вини.
– А сейчас чего?
– Не помню.
– Интересно, чего с нами будет?
– На передовую отправят. А тебя в тыл к немцам обратно.
– Зачем это?
– Ты там все наши военный тайны откроешь, но непременно все перепутаешь. И тогда немцы войну проиграют.
– Они и так ее проиграют.
– А с тобой во главе – еще быстрее, – буркнул дед.
– Девки! А чего вы там шепчетесь? – спросил Еж, резко обернувшись к Рите с Маринкой, которые закопались в серое сено чуть поодаль.
– Еж! Гуляй лесом, а? – раздраженно сказала Рита.
– Отстань от девчонок, – одернул Андрея Вини.
– Ну и ладно. Шепчитесь. Я и так знаю – о чем они. О мужиках.
Маринка приглушенно засмеялась, а Ритка на этот раз уже рявкнула:
– Еж – ты дурак!
– Андрюха, ты и впрямь, отстань от них.
– Да я чего… Ты, вот дед, скажи мне лучше – я так и не понял, почему ты нам с Вини не разрешил открыться. Сейчас бы ехали все с Леонидычем вместе. И Леха он, вообще, историк. От него пользы много. А хер майор один разве справиться без нас?
Дед почесал бороду:
– А тебе не понятно, что ли?
– Не совсем…
– Это вот я, старый балбес, сразу вам поверил. А вот старшой этот, хоть мужик и хороший, всех вас за шкирку и в «желтый дом». А того лучше – тоже под трибунал. За симуляцию. Вот Леонидыч доберется до начальства. Кому надо сообщит – вот тогда и за вами приедут.
– Это точно. Не поверят, – кивнул Вини. – Случай был. Точно не помню когда. Может, уже и случился здесь. А может быть и нет. «Шторх» немецкий приземлился на нашем аэродроме. А в «Шторхе» немецкий майор из оперативного отдела какой-то танковой дивизии. Так вот. При нем была копия немецкого плана «Блау» – удары на Кавказ и Сталинград. Так вот… Ставка наша не поверила документам. Слишком ценный приз достался. Так не бывает. Решили, что дезинформация, что, на самом деле, немцы будут опять наступать на Москву. Укрепили центр. Даром, что ли, наши Ржев пытаются взять и тот же Демянск? Упреждают инициативу. Вот теперь сравни – бумага за подписями фюрера и всей его шайки – и мы. Три оболтуса без документов. Так что Кирьян Василич прав. Если Леонидыч там докажет нашу важность – за нами приедут в два счета. А нет…
– А что тогда?
– А ничего. Своими руками будем историю переделывать. Может быть и впрямь на день раньше удастся войну закончить. Шальбурга же хлопнули на пару недель раньше? Ты, кстати, на карте показал все начальнику штаба?
– А как же! – загордился Еж. – Все что запомнил. Где у них минометы, как обойти лучше. Я ж карты умею читать. Стоп! Дед Кирьян а почему ты сказал, что только за нами приедут? А ты?
– А я-то им на какой ляд? Я свое дело сделал. Пользу больше тут принесу.
– А… Кирьян Васильевич, а что ты делать-то собрался?
– В армию попрошусь. Поди возьмут еще, а? Старый конь хоть глубоко не пашет, но и не испортит борозду-то… Ритуль, как ты думаешь?
– Я думаю, как там Леонидыч…
…А Леонидыч в это время дрых в полуторке как сурок, несмотря на разбитую дорогу.
Старший лейтенант Калинин же, время от времени поглядывая через заднее стекло в кабину, где заразительно смеялась сержант Иринка Попова, думал над странностями поведения партизан.
Чего же в них не то?
Калинин посмотрел на беспечно храпящего Леонидыча.
И тут его осенило!
Ёк-макарек!
Глаза!
Глаза у них не такие!
Обычно все смотрят с опаской, некоторые со страхом. Очень редко – с ненавистью. Большинство с настороженностью.
А эти… Эти с любопытством. Богатырев с легкой усмешкой. Микрюков – с удивлением каким-то радостным. А вот пацаны – именно с любопытством. Как будто кино смотрят. С таким взглядом Калинин сталкивался еще в Москве, когда сопровождал, еще будучи сержантом НКВД, делегацию американцев. Только те свои эмоции не скрывали – бурно радовались всему как дети. Особенно в метро. Решили, что их в музей привели. Неужели эти – шпионы? Чьи? Немецкие? Непохоже. Англия, Франция? Но более идиотского способа заброски и придумать сложно. Может быть это дети эмигрантов? Заговор? А этот унтер, пошедший ва-банк, чтобы отвлечь внимание – проводник? А на кой черт им командование фронта? Думай, Саша, думай!
Он с силой заколотил кулаком по фанерной кабине:
– Стой!
Ширшиблев приоткрыл дверь и обеспокоено спросил:
– Что случилось, товарищ старший лейтенант?
– Разворачиваемся! Едем в полк! Быстро!
Рядовой Ширшиблев пожал плечами и скрылся в кабине.
Леонидыч проснулся и с недоумением спросил у Калинина:
– Товарищ старший лейтенант, что-то случилось?
– Еще нет, – отрезал тот. А потом подумал: «Больше надо спать… Быстрее соображать буду». И посмотрел на закатное майское солнышко. И не увидел, но скорее догадался:
– Воздух!!!
Но грохот пулеметов и пушек двух «Мессеров» взбили грязь дороги и в мгновение ока раздербанили кузов полуторки.
Ширшиблев толчком успел выкинуть связистку из кабины и сам выпрыгнул в сторону. Вовремя, потому как двадцатимиллиметровые снаряды моментально превратили грузовичок в полыхающую груду.
Откуда взялся эта пара «Мессеров»?!
Пожалуй, это не знал и сам пилот чертова «Фридриха» – ведущий звена.
Небо над Демянским котлом было почти полностью советским. До прорыва котла все «ягды» только и делали, что патрулировали коридор, по которому тяжелые «тетушки» Ю-52 несли оружие, боеприпасы и продовольствие мужественным бойцам Демянского котла. А обратно – раненых.
Правда, и потери несли от атак советских истребителей, огромные. К десятому мая Германия лишилась ста шестнадцати «тетушек». Но вот пришло время, и снова началась «свободная охота». Но, тем не менее, превосходство русских было подавляющим. Потому ведущий, увидев одинокий грузовичок на дороге, решил ее атаковать, пока была возможность.
И, надо признать, удачно. И безопасно. И к черту, русских истребителей. Можно уходить!
Качнув крыльями в знак победы, немцы унеслись на запад, скрываясь в закатном солнце.
Сергей Ширшиблев поднял голову. Искореженная машина горела. Хлопнула одна шина, другая… Похоже старлею с задержанным кранты. А Иришка?
Он бросился на другую сторону дороги.
Иринка лежала на животе, неловко подогнув руку под себя. Из ушей текла кровь. Белоснежный подворотничок наливался темно-бордовым. Он осторожно перевернул ее. Посмотрел на разбитое о придорожные камни родное лицо. Потом закрыл ей глаза. А потом прижался к теплой еще руке, в которой был зажат умирающий желтый, в красных брызгах, одуванчик. Он долго стоял на коленях перед её телом. Потом накрыл лицо девушки своей пилоткой.
Его взгляд упал на чудом уцелевшее, едва помятое ведро. Машинально он собрал в него чьи-то разбросанные по дороге куски. А то, что не вошло – рука с плечом в кожанке, вырванная из спины лопатка с обгорелыми лохмотьями гимнастерки – сложил в кучу на обочине. Рядом положил фуражку особиста. Васильковый околыш и расколотый козырек. Рубиновой каплей светилась окровавленная звезда…
И зашагал обратно по дороге, пошатываясь как пьяный. В полк. Убивать…
Война все спишет? Война есть война? Жертв не бывает лишних?
Тогда посмотри в эти глаза. Сними пилотку с ее лица, подыми ее веки и посмотри. Она все еще улыбается. И улыбается для тебя. Вечно будет улыбаться.
Война все спишет? Наверное, все – кроме этой улыбки.
Почему ты жив, а она нет?
…– Да, товарищ генерал-майор. Да. Да. Нет. Есть. Задача будет выполнена. Товарищ генерал-майор на нашем участке партизаны прорвались. Утверждают, что командир этой чертовой бригады погиб. На карте кое-что показали, да. Одного к вам в дивизию везут. Да.
Полковник положил трубку и тут же рявкнул на адъютанта, пришивавшего пуговицу:
– Всех комбатов сюда и начштаба Бегом!
Сам же склонился над картой.
Буквально через три минуты адъютант вернулся обратно:
– Товарищ полковник, комбата-два ранило!
– Вот черт… Серьезно?
– Плечо разворотило. Снайпер похоже.
Полковник ругнулся:
– Черт, черт… Кто там из командиров в строю?
– Лейтенант Костяев.
– Костяев? Нормальный мужик. ВРИО командира батальона пусть побудет. Тащи его сюда.
– Есть!
…– Чего-то забегали туда-сюда. Вини, смотри! – сказал Еж, глядя в щели сарая.
– Точно, да. – Вини присел рядышком. – Кирьян Василич! Чего они бегают как будто их блохи покусали?
– Ежели в штабе бегают, значит, заварушка будет. Тебя там расстрелять, например…
– А меня? – хихикнул Еж.
– И тебя тоже.
– О, смотри, лейтенант тот усатый! В нашу сторону идет. И чувак какой-то толстый рядом…
– Дверь сарая противно заскрипела, открываясь:
– Вот, товарищ полковник, эти субчики.
– Вижу… Выходи строиться. Быстро.
Пятеро партизан вышли на улицу. Еж довольно потянулся:
– Эх, хорошо-то как…
Полковник изумленно посмотрел на него:
– Чего это хорошо?
– Воздух свежий, красота!
– Навозом только провоняло все, а так да свежий… Смирно!
Потом полковник прошелся вдоль короткой шеренги:
– Присягу никто не принимал?
– Никак нет, товарищ полковник! – ответил за всех Кирьян Василич.
– Понятно. Костяев, дай-ка бумажку… Тебя как зовут?
– Вини… В смысле, Винокуров Алексей Дмитриевич!
– Читай, Алексей Дмитриевич, вслух.
Вини взял лист:
– Я, Винокуров Алексей Дмитриевич, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным бойцом, строго хранить военную и государственную тайну, беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров, комиссаров и начальников.
Я клянусь добросовестно изучать военное дело, всемерно беречь военное имущество и до последнего дыхания быть преданным своему народу, своей советской Родине и рабоче-крестьянскому правительству.
Я всегда готов по приказу рабоче-крестьянского правительства выступить на защиту моей Родины – Союза Советских Социалистических Республик, и, как воин Рабоче-крестьянской Красной армии, я клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагом.
Если же по злому умыслу я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся.
– Молодец… Силантьев!
Адъютант неслышно вышел из-за спины, неся на вытянутых руках вчетверо сложенную красную ткань:
– Целуй!
Вини встал на колено и поцеловал знамя, пахнущее пылью, как будто его не разворачивали уже давно-давно.
– Распишись тут. А Теперь ты!
Андрей Ежов вышел из строя и тоже прочитал текст присяги вслух. На этот раз обошлось без швыркания носом и прочих Ежиных выходок. Осознал важность момента.
– Отлично, боец. А ты, старик, что стоишь?
Кирьян Васильевич аж оробел немного:
– Мне тоже можно?
– Нужно дед, нужно. Вся страна в строю, ты чем хуже?
Унтер кивнул как-то судорожно, а потом полез мелко дрожащими руками за пазуху. Вытащил оттуда тряпицу, развернул ее… И прицепил на грудь два Георгиевских креста.
– Ого! – с уважением сказа полковник. – Бывалый вояка?
– Так точно, ваше бла… товарищ полковник.
– Где? – кивнул тот на кресты:
– В великую войну немцев погонял маленько.
– Ну эта война тоже великая. И к тому, же отечественная. Звание-то какой имел?
– Унтер-офицер.
– Пока в рядовых походишь. А там видно будет. Принимай, унтер-офицер рабоче-крестьянскую присягу.
Когда дед читал текст и целовал знамя – в уголках глаз блестели слезинки. Но этого никто не заметил.
– А теперь, товарищи бойцы, поступаете в распоряжение командира второго батальона лейтенанта Костяева. – Полковник развернулся и пошел в избу.
– Подождите, товарищ полковник, а как же мы? – воскликнула Маринка – Мы-то куда?
Полковник развернулся, посмотрел на них:
– Куда, куда… В сарай обратно. Старший лейтенант приедет – разберется.
Рита подбежала к полковнику и вцепилась в рукав:
– Товарищ полковник, не оставляйте нас в сарае одних. Страшно же!
– Чего бояться, мышей что ли? Эвон, какой гигант мысли вас охраняет, – махнул он в сторону Сердюка.
А потом чуть подумал и сказал:
– В госпиталь шуруйте. Там лишние руки никогда не помешают.
Глава 13 Атака
На горе на горушке стоит колоколенка,
А с неё по полюшку лупит пулемёт,
И лежит на полюшке сапогами к солнышку
С растакой-то матерью наш геройский взвод.
Мы землицу хапаем скрючеными пальцами.
Пули как воробушки плещутся в пыли…
Митрия Горохова да сержанта Мохова
Эти вот воробушки взяли да нашли.
Л. СергеевОружие им вернули. Выдали новое обмундирование. Новое, конечно, относительно – застиранное до белизны и штопанное не раз. Но, все же, лучше, чем те обноски, в которых были партизаны. Выдали еще и каски, лопатки, котелки, фляжки. Причем, Ежу досталась стеклянная фляжка, которую дед тут же отобрал, мотивируя, что Еж непременно ее сломает и отрежет себе, как минимум, палец.
Когда дошли до позиций роты стало уже смеркаться – солнце тихонечко садилось в мутную дымку.
Еж заметил, что дождь ночью будет.
– Оно и к лучшему, – кивнул дед.
– Почему?
– Похоже ночью в атаку пойдем. Сердцем чую.
Добравшись до второй линии окопов, нашли свою роту, где им тут же набили щедрой рукой повара полные котелки гречневой каши с мясом. И по буханке хлеба в руки.
Еж удивился:
– Куда мне столько, я ж маленький, много не ем.
– Сунь в мешок, пригодится. Да заверни во что-нибудь.
– Эй, боец, где газету можно взять? – дернул за штаны проходящего мимо бойца в телогрейке.
Тот остановился, внимательно посмотрел на Ежа и спросил:
– Кому боец, а кому сержант Прощин. Кто такой?
Еж вытер рот рукавом, встал и заорал во всю дурь:
– Боец Ежов по Вашему приказанию прибыл!
– Господи, ты чего орешь? Куда прибыл? По чьему приказанию? Я тебе ничего не приказывал!
– Сюда прибыл. Во второй батальон определили, первая рота.
– Взвод какой?
– Не знаем мы еще, товарищ сержант. Ротного вот ждем. Куда определит, – подал голос Кирьян Васильевич.
– Ко мне и определит. У меня от всего взвода двенадцать бойцов осталось. Ладно, кушайте.
– Погодите, товарищ сержант, а может быть будет газетка, а?
– Приспичило, что ли?
– Не… Хлеб завернуть.
– В тряпку заверни.
– Нету тряпки!
Сержант вздохнул и вытащил откуда-то из-за пазухи газету.
– На, старая уже. Пользуй, – и ушел по своим делам
– Нам каждая газета сейчас свежая. Спасибо, товарищ сержант!
Еж снова уселся и, жуя кашу, принялся читать газету вслух:
– Девятое мая тысяча девятьсот сорок второго года… Сейчас посмотри, чего у нас тут новенького… В смысле старенького…
– Еж, прожуй сначала, а то подавишься. Я тебя спасать не буду! – сказал дед.
– Да ладно… – отмахнулся Андрей. – О! Макаки янкам наваляли! «Последний оплот американского сопротивления на Филиппинах – крепость Коррехидор капитулировала перед японцами. В плен попало 12 тысяч солдат». А бритты в Мадагаскаре высадились. Ну, блин. А чего им там надо?
– Там безопасно и не стреляют, – ответил Вини. – Про Киров есть что-нибудь?
– Неа. Список награжденных… Стихи… Сводка…
– Чего пишут?
– В течение восьмого мая на фронте ничего существенного не произошло. А почему восьмого? Газета же от девятого?
– Еж, тут технологии немного другие. Чего еще?
– Да ничего, сотни уничтоженных гитлеровцев, десятки танков, тридцать шесть немецких самолетов. Наши потери – шестнадцать самолетов. Вот это прикольно: «Пленный солдат второй роты одиннадцатого мотополка Гейнц Ветер сообщил: „Во Франции я служил в составе восемьдесят первой дивизии, которая сейчас находится на центральном участке советско-германского фронта. Незадолго до отправки в Россию в частях дивизии вспыхнули волнения. Солдаты потребовали, чтобы их отпустили домой. Командование жестоко расправилось с зачинщиками волнений и расстреляло сто двадцать пять человек. Среди расстрелянных – двадцать пять человек из моей роты“». Правда, что ли?
– Вряд ли, – подал голос дед. – Это тебе не семнадцатый год, когда братания были.
– И я не слышал, чтобы в вермахте бунты были. – сказал Вини.
– Прибыли? – внезапно раздался голос сверху. Вини поднял голову:
Наверху стоял лейтенант Костяев:
– Богатырев! За мной. Вы оба – в расположение первого взвода. Там вас уже знакомец дожидается…
– Какой еще знакомец? – удивились в один голос Еж и Вини.
– Скоро узнаете…
Знакомцем оказался… младший политрук Долгих.
– Эй, Долгих! Чего такой унылый? – крикнул ему Еж.
– Под трибунал отдали, – мрачно сказал тот.
– О как… За что?
– За то, что без документов и знаков различия.
– А тут тогда, что делаешь?
– Полковник выпустил. Сказал, что ему каждый штык нужен. После боя, мол, разберемся.
– Ну… Повезло тебе, брат, – похлопал его по плечу Вини.
– Эй, махновцы! – раздался голос взводного. – Ну-ка, геть в землянку. Посмотрю, оружие в каком состоянии…
А дед скромненько сидел у самого выхода из блиндажа комбата. Лейтенант Костяев объяснял командирам рот боевую задачу:
– Итак… Задача батальона – с наступлением темноты обойти высоту с левого фланга. Там, где в наше расположение вышел партизанский отряд – пятьсот метров по полю до леса. Там по краю нужно выйти за высотку. Дождаться атаки полка в лоб. Через пять минут после начала атаки полком – бьем их с тыла. Партизаны утверждают, что немцы лес не прикрыли. А вот разведка утверждала, что немцы там есть. Разведка, так?
– Лейтенант, да пробовали мы там ползать! – воскликнул здоровый как медведь старлей с медалью «За отвагу» и орденом «Боевого красного знамени» на широченной груди. – Немец на немце – дозоры сплошные.
– Не горячись, Семен. Сейчас мы у командира партизанского и спросим как там дела. Кирьян… эээ… Васильевич?
Дед кивнул.
– Расскажите товарищу Гырдымову и нам, в том числе, – как вы там прошли и почему на немцев не наткнулись?
– Так это, товарищи командиры. Мы же перед этим у них шорох в тылу не маленький устроили. Командира ихнего в плен взяли. Правда, шлепнуло его…
– А мины, заграждения?
– Специально не искали, но вроде как нету.
– Вроде как… Вы десятком человек прошли, а у нас тут двести пятьдесят душ. Если лес заминирован – хана батальону. Гырдымов, что скажешь? Ты – разведка, хитромудрым должен быть.
– На мины тоже не натыкались. Завалов тоже нет. Лес, конечно, исковеркан – то там, то тут деревья побиты. Но пройти по-тихому можно. Правда, малыми группами. Если весь батальон пойдет – шум обязательно будет.
– Думаем, мужики, думаем…
– Чего тут думать… Надо приказ выполнять! – воскликнул комиссар батальона Рафаевич.
– Оно понятно, товарищ комиссар. Как?
– Как сказано в уставе, товарищ лейтенант. А в уставе сказано, что никаких сложных маневров в ночной атаке оборонительной полосы не допускается. Войска наступают прямо перед собой.
– Я устав хорошо знаю, товарищ батальонный комиссар, – ответил Костяев. Только в нашем случае такая атака приведет к неоправданным потерям и невыполнению боевого задания.
– Войны без потерь не бывает! – воскликнул Рафаевич. – Пора бы это осознать за год. Если бы мы это понимали сразу, то не отступили бы до Москвы.
– Кхм… – кашлянул кто-то. За спиной комиссара разведчик Гырдымов выразительно постучал себе по лбу пальцем.
– Товарищ комиссар, может быть, перейдем к делу? – попытался успокоить Рафаевича Костяев.
– А выполнение приказа – это и есть самое главное дело!
– Это… – пробасил Коган. – Может, мы разведкой вперед пойдем? С партизаном?
– Боец Богатырев уже не партизан. С сегодняшнего дня зачислен бойцом.
Кирьян Васильевич смущенно кашлянул.
А комиссар побагровел:
– Это что такое? Что за бирюльки неуставные? – почти взвизгнул он, разглядев, наконец, на груди Богатырева кресты. – Немедленно снять!
Дед набычился, но снимать кресты не стал.
Комиссар подскочил и потянулся было сорвать «Георгиев», но дед ударил его по руке и тихо сказал:
– Не тобой дадено, не тебе и снимать!
Побелевший лицом Рафаевич схватился за кобуру:
– Арестовать! Под трибунал! Расстрелять мерзавца!
– Товарищ комиссар… – облапил его Гырдымов. – Успокойся…
Рафаевич бурно задышал, а потом заорал на молоденького связиста:
– Эй, Якшин, быстро соедини меня с полком! Я доложу об этой белогвардейщине! Я не потерплю!
– Есть связь, товарищ батальонный комиссар!
Тот подскочил к аппарату:
– Товарищ полковник на меня совершено нападение белогвардейским выкормышем бойцом Богатыревым! Что? Я требую немедленного ареста!
В ответ полковник сказал что-то такое, от чего комиссар сдулся как воздушный шарик и стал похож посеревшим лицом на серую тряпку.
А потом положил трубку, потоптался растерянно на месте, а потом, надев фуражку, выскочил из блиндажа, крикнув напоследок:
– Я этого так не оставлю!
После небольшой паузы, Гырдымов пробормотал:
– Да, обрел ты врага, дед. И какого.
– Разберемся. Так… Чего ты там говорил, про разведку?
– Значит, мы выходим за час, прочесываем сколько успеваем лес, смотрим – как и чего. Если немцы есть – даем сигнал. Если только дозоры – тихо снимаем. Если нет – идете за нами.
– Согласен. Ровно в одиннадцать выходите. Если до ноля часов – тишина. Мы выходим. Сигнал для выхода – стук саперных лопаток. Без ракет и свистков. Бойцам передать – никаких разговоров, перекуров и бряцаний. Понятно? Свободны. А с комиссаром я поговорю, Кирьян Васильевич.
– Ну, пошли, дед к нам. Сходим сейчас в первую линию. Покажешь на местности – как вы шли… Кстати, комбат, есть идейка…
…– Где, интересно, дед застрял? – размышлял вслух Еж.
– Черт его знает… Давай у взводного спросим?
– Товарищ сержант?
– Ну?
– А куда нашего деда дели?
– Какого деда? Аааа… Ротный сказал, дед с разведчиками чаи гонять остался.
– Ничего себе? – удивился Еж. – Он там чаи, а мы?
– А мы сидим и бамбук курим.
– Мне вот еще интересно, как там Леонидыч. Докладывает, наверное, уже в штабе дивизии, как думаешь, Вини?
– Наверное… Ой, закапало, епметь… – Вини поднял голову. На ночном небе ни звезд, ни месяца.
– Хорошо… Немцы летать не будут.
– Они и так особо не летают. Не видел, что ли?
– Все равно хорошо. О, гитара где-то играет? В землянке вон той. Вини, пойдем, сыграешь что-нибудь! «Мальчишек зеленых» давай!
– Обалдел, что ли? Какие еще «Мальчишки зеленые»?
– Ну это… «Мы жили под бомбами, мы плыли в понтонах, мальчишки зеленые в рубашках зеленых. Мы просто зарыты в земле изувеченной, спасенной земле и придумывать нечего…» Чего, не помнишь, что ли?
– Еж, ты совсем обалдел?
– Не понял…
Вини оглянулся по сторонам, никого вроде близко не было:
– Сейчас нам и этим мальчишкам в атаку идти, я им чего петь буду, как в землю зароют?
– Тогда спой… «Бьется в тесной печурке огонь»
– Позже. Чего-то потрясывает…
– Заболел, что ли?
– Взвод! Приготовиться! – раздался голос комвзвода Прощина.
Гитара тут же замолчала. Бойцы разбежались по своим местам.
– Тишину соблюдать!
Лежали долго. Минут десять. Но они почему-то показались часом. Вини уже в который раз пожалел, что тогда оставил «Командирские» часы – подарок отца в палатке. Боже, как давно это было… В другой жизни…
Где-то в дали раздались три удара саперных лопаток друг о друга.
– Вперед!
– А почему лопатками сигнал был? – спросил Еж у Вини после очередной перебежки.
– Не знаю. У взводного спроси! – шепнул Вини в ответ.
Еж подполз к комвзвода:
– Товарищ сержант, а товарищ сержант… – И получил легкий тычок кулаком под каску!
Еж спешно отполз обратно.
Казалось, что темнота вот-вот взорвется огнем.
И темнота взорвалась.
Музыкой.
Где-то в тылу несколько баянов вдруг заиграли «Катюшу». А потом грянул нестройный хор.
– Это еще чего? – обернулся Еж.
– Это чтобы враг не догадался… Вперед!
Немцы, вернее датчане, на высотке никак не отреагировали. Только пустили пару ракет в сторону певцов.
После «Катюши» баянисты исполнили «Трех танкистов», «Лизавету», а на «Синем платочке» рота уже была в лесу.
А вот тут отсутствие луны дало о себе знать. То и дело то кто-нибудь падал, споткнувшись о торчащие корни, то шипел, натыкаясь на сучки.
Взводные и ротные матерились сквозь зубы. Словно стадо лосей батальон перся через лес, хотя и прореженый артобстрелами.
Эсэсовцы, впрочем, никак не реагировали. Непонятно почему…
Тем не менее, к точке сбора подошли аккурат по назначенному времени.
Новоиспеченный комбат Игорь Костяев и командир взвода разведки Николай Гырдымов лежали, тихо обсуждая дальнейший план действий:
– Сняли мы две пары. Шатаются немцы по леску время от времени. Ветками закидали, но когда смена пойдет – они шум подымут.
– Надеюсь успеем. Ровно через пять минут после начала атаки полка твой взвод вперед идет. За ним батальон. Ровно через пять минуты после вашего броска. Тут метров триста, примерно. Постарайтесь броском – без криков и пальбы -ворваться на позиции минометчиков.
– Богатырев говорил, что прошлой ночью минометчиков, вроде как, наши ночники достали.
– За день могли новые подтащить. На позиции врываетесь, а тут и мы пойдем. Держитесь там. Минут за пять мы проскочим поле.
– Удержимся, комбат…
– Я по ротам.
– Давай. Игорь, а ты чего послал бы ординарца, ротных собрал бы…
– Самому надо посмотреть. И себя бойцам показать. Комиссара уже послал моральный дух подымать.
– Он наподнимает…
– Да перестань ты, нормальный мужик. Правильный только.
– Слишком правильный. Богатырев – мужик что надо. Оставишь у меня в разведке?
– Старый же он. Куда ему с твоими бугаями бегать? Я его вообще хотел в ездовые отправить после боя.
– Старый, старый, а по лесу ходит – веточка не хрустнет. И первую пару немцев он заметил. Сюда дошли – мои бугаи взопрели как слоны, а он хоть бы что!
– Посмотрим. Ездовым и от комиссара подальше будет.
– Тоже верно…
– Я ушел…
Как выяснилось, отставших и потерявшихся не было. Зато были первые потери. В первой роте боец наткнулся ногой на острый сучок и теперь еле шел. Ротный выделил двух бойцов ему в помощь. Отправлять обратно не стали. Короче через высотку добираться. Поэтому решили, что боец идет со всеми позади. Как раз доберется к концу атаки.
Костяев посмотрел на часы. Пять минут до атаки полка по фронту.
Подошел комиссар:
– Ну что, готовы бойцы, Костяев? – комиссар по привычке разговаривал с бывшим командиром роты начальственно. Да и звание батальонного комиссара соответствовало армейскому майору.
– Готовы, товарищ батальонный комиссар.
– Да ладно тебе, не обижайся. Я ведь, Костяев, за порядок. Без порядка это уже не армия, а банда Махно. Боец должен выглядеть согласно уставу!
– Согласен, товарищ батальонный комиссар.
– Как там этот… Богатырев? – себя показал?
– Гырдымов хвалит его.
– Ну раз Гырдымов хвалит… Посмотрим после боя. Поговорю еще с ним.
– Боец он опытный сразу видно. Да и «Георгиев» так просто не давали. Семен Михайлович, между прочим, четырежды им награжден. Полный кавалер.
– Какой Семен Михайлович?
– Буденный.
– Тьфу ты… Совсем голова не думает. Знаю. Но ведь он их не носит на показ?
– Не носит.
– Ну и говорю, посмотрим после боя. Если хорошо себя покажет – пусть носит, так сказать, «явочным порядком».
В этот момент небо по другую сторону холма осветилось красными разрывами. Батальоны пошли в атаку.
Высотка сразу ожила ответным огнем, как будто немцы дожидались атаки.
– Гырдымов! Вперед!
Разведчики понеслись вперед.
Костяев смотрел на часы.
Секундная стрелочка отсчитывала кому-то последние минуты жизни.
– Пить хочу! – шепнул Еж. – Чего медлим?
– Жди! Не твое дело, чего медлим, – ответил Прощин.
Снова застучали лопатки.
Бойцы поднялись и ринулись вперед. Спотыкаясь, падая в воронки. Но вперед!
Атака – страшная штука, а ночная вдвойне. Куда бежишь, сам не знаешь, куда стрелять – не видно, рядом только хриплое дыхание товарищей. Упал – кто-то подхватил, помог подняться. Споткнулся об кого-то – помог подняться другому.
Впереди хлопнуло несколько выстрелов. Раздались автоматные очереди. Кажется, разведчики напоролись на немцев.
– Батальон! Вперед! За Родину! Ураааа!! – закричал комиссар – За мной!
– Ура! – Закричал Еж и побежал еще быстрее, яростно выставив перед собой винтовку со штыком.
За ним скакал большими шагами невысокий Вини. Каска у него то и дело сползала на нос. Он уже несколько раз пожалел, что забыл застегнуть ремешок, но остановиться никак нельзя было.
– ААААААА!
Говорят, что рев русской пехоты, идущей в штыковую атаку – один из самых страшных в мире звуков. Правда, рассказать об этом могут не многие.
– Свои! – рявкнул Гырдымов. – Свои, ититть!
Он ловко увернулся от штыка, перехватил за ствол винтовку, сделал подсечку и сбил обезумевшего Ежа на землю.
– Свои, боец! – осклабился разведчик. – Фрицы там!
Он показал на белеющую в темноте церковку, затем поднял Ежа за шиворот и подопнул его:
– Вперед!
В этот момент с высотки ударил короткими очередями пулемет. Хорошо, что в темноте бил не прицельно, да и вспышки очередей ослепляли пулеметчика. Но первые раненые и убитые появились. Кто-то застонал совсем рядом с Ежом. А одна очередь прошла почти по ногам Вини – тот даже подпрыгнул выше своего роста.
– Вперед! Вперед! Не ложиться! – орали на все голоса взводные и ротные.
Земля стала подыматься под ногами – склон пошел вверх.
– Йэх! Понеслась душа в рай! – крикнул Гырдымов, карабкаясь вверх. Дождь сыграл злую шутку – глина скользила, люди падали – продвижение вперед замедлилось.
Фрицы этим незамедлительно воспользовались – сверху полетели гранаты.
Вини встал на колено и стал стрелять куда-то вверх.
– Ноги! – заорал кто-то из командиров. – Ноги ставить поперек склона! Вперед! Оказалось, это батальонный комиссар:
– Братцы, пуля дура – штык молодец! – и тут же выстрелил из нагана, разглядев в темноте силуэт эсэсовца. – Да и пуля ничего, если умелой рукой выпущена!
Однако батальон залег.
Пулеметчик бил и бил. Достать его было трудно. Хотя по вспышке бойцы били, но тот сидел в узком окне церкви, словно в амбразуре.
Еж вздрагивал каждый раз когда очередь ложилась рядом. Пули шлепались в грязь и шипели. А те, что попадали в тела – стучали глухо…
– Мужики! Да перебьют нас здесь! Вперед! Где комбат? – закричал комиссар.
– Ранен, товарищ батальонный комиссар! – подал голос связист.
– Черт! Серьезно?
– Как сказать… Щеки пробиты.
– Понятно… А ну-ка мужики… Вставай, проклятьем заклейменный, весь мир голодных и рабов…
Сначала несколько голосов, а потом все больше, больше и, наконец, весь батальон подхватил гимн:
– Кипит наш разум возмущенный и в смертный бой идти готов…
Комиссар встал во весь рост и зашагал вверх, продолжая петь «Интернационал».
– Это есть наш последний и решительный бой, с Интернационалом воспрянет род людской!
Глядя на него, бойцы стали подыматься под пулями и зашагали вверх по скользкому склону. Многие падали, некоторые не подымались.
И тут в траншее фашистов раздались несколько глухих взрывов, а потом стал слышен шум рукопашной свалки.
– УРАААА!!! – батальон бросился вперед.
Через несколько минут красноармейцы ворвались в траншеи.
Еще через несколько минут все было кончено.
Еж сидел рядом с еще теплым трупом гансюка, которого он заколол прыгая в окоп, и нервно курил.
– Дай тягу… – плюхнулся рядом Вини.
Еж молча протянул Винокурову самокрутку. Тот глубоко затянулся и закашлялся.
– Не умеешь, не берись… – флегматично сказал Еж. – Дай обратно.
Вини прокашлялся и просипел:
– Водки бы сейчас…
– Водка, братцы после боя будет. А бой еще не кончился, – подошел к ним комвзвода Прощин. – Сейчас наша рота будет церковку брать.
– А другие чего?
– А другие пойдут на ту сторону деревушки, немцев подчищать. Дед ваш -молоток, кстати, да и вы не подкачали.
– А где Кирьян Васильевич? – встрепенулся Еж.
– Сейчас придет… Это он под шумок кустами с десятком бойцов к немцам в гости нагрянул. Нежданчиком. Бой закончится, буду ему представление на «Отвагу» писать. А вот и он!
Дед шел по траншее перешагивая окровавленными сапогами через трупы фрицев.
– Дед, ты как! – подскочили ребята.
– Жив, чего мне сделается… – буркнул тот. – Вы как?
– Вроде живы…
– Ну вот, вернулся за вами приглядывать, хлопчики.
Только тут Вини заметил, что дед обхватил левое предплечье, а по гимнастерке расползается темное пятно.
– Кирьян Василич, да ты ранен!
– Сам знаю. Немец, не подумавши, финкой полоснул.
– Давай забинтую…
– А если б немец подумал? – улыбнулся Прощин.
– Могёть в плен бы попал…
– Оп-па-па… А у фрица во фляжке чего-то есть… – воскликнул Ежина.
– Ежов! – прикрикнул комвзвода – Что за мародерство!
– А я чего… Я для антисептики… – Еж открутил пробку, глотнул… И выругался:
– Кофе, причем гадский! И без сахара. Фу… – Еж выкинул флягу за бруствер, куда-то в сторону немцев.
Там сразу чего-то заорали по-вражьему и открыли огонь.
Вини заржал, присев в траншею:
– Еж, они собственного кофе боятся!
– Нее… – ответил тот. – Это они решили, что я их гранатой!
– Ладно, гранатометчики, за мной!
В траншеях взводы и роты перепутались. Взводные бегали и орали, собирая своих бойцов. А ротные забились с раненым комбатом в блиндаж, решая там свои командирские дела.
Пробираясь по траншее, Кирьян Васильевич вдруг увидел командирскую фуражку, валяющуюся в грязи.
– Погодь-ка… – не обращая внимание на свист пуль, он выбрался из траншеи. А потом крикнул из темноты:
– Комиссара ранило! Мужики, подмогните-ка!
Еж, Вини и Прощин вылезли из траншеи на крик деда.
Комиссар лежал на животе.
Осторожно они перевернули его. Автоматная очередь скосила его перед самой траншеей. Но он дышал, несмотря на три пулевых ранения в грудь.
– Потащили!
Осторожно спустили его вниз и понесли в ближайший блиндаж. Именно там и сидели командиры. При виде тела батальонного комиссара все вскочили:
– Убит?
– Ранен… – буркнул дед. – Примайте. Санинструктора надоть. И в госпиталь.
Они положили комиссара на топчан, застеленный шерстяным немецким одеялом.
Ротные столпились возле лежанки. Здоровяк Гырдымов зашуршал индивидуальным пакетом.
– А… Георгиевский кавалер… Вытащил комиссара, хоть он тебя облаял. Молодец!
– Он хучь и комиссар, но человек все ж. Разрешите идти?
Комбат, замотанный бинтом по самый нос, кивнул.
Наконец они, собирая по дороге взвод, добрались до края траншеи, откуда до церкви было шагом сто.
Вблизи она оказалась не такой уж и маленькой. Могучая древняя громадина, уцелевшая в огне и разрывах снарядов, избитая, но устоявшая, когда все дома села были снесены.
Откуда-то сверху зло бил пулеметчик, не давая ротам подняться из траншей.
– Где ротный-то?
– Кончился ротный, – кто-то подал голос из темноты. – В рукопашной его фриц свалил.
– Даже запоминать не успеваю… – сказал Прощин. – И чего сейчас?
– Командуй сержант, тебя тут все уважают.
– Кто это там такой уважительный, в темноте не вижу!
– Ефрейтор Русских…
– Дуй-ка, ефрейтор до комбата, доложи, как и чего. Скажи командиров нету.
– Ага…
Русских бросился было по траншее обратно, но натолкнулся на запыхавшегося связного от комбата:
– У вас ротного убило?
– Ну!
– Баранки гну… Кто старший по званию?
– Вроде я… Сержанты! Кто живой есть?
– Коновалов! Заборских!
– Все что ли? Слышь, боец… Одни сержанты.
– Вот и выбирайте себе командира.
Дед хмыкнул.
– Чего, Кирьян Василич? – спросил Еж, держащийся деда в неразберихе.
– Да ничего… Семнадцатый год вспомнил. Как офицеров себе выбирали и приказы обсуждали. Известно чем дело кончилось…
– Прощин, командуй!
– Мужики, бойцов посчитайте, – попросил сержант. По окопам пошла перекличка: – Богатырев!
– Я…
– Возьми-ка мой взвод, ты боец грамотный, как погляжу.
– Так точно!
– Ну, дед ты растешь. Дня не прошло, а ты уже комвзвода, – уважительно сказал Вини.
– На войне бывает…
Связной потоптался…
– Это… Значит ты комроты? Комбат тебе приказал церковь взять.
– Знаю уже. Когда атаковать?
– Сейчас прямо. Лупят оттуда – не подняться из траншеи.
– Понятно. Сейчас так сейчас. Посчитались?
– Третий взвод – двенадцать! Второй – тринадцать! Четвертый – одиннадцать!
– Богатырев, у тебя сколько?
– Десять, извини ротный, я их еще по лицам не знаю…
– Сорок шесть штыков… Негусто… Рота! Слушай мою команду! Третий взвод, Русских ты там за старшего?
– Ага!
– Весь огонь по окнам и особенно по пулеметчику. Четвертый – ползком в обход церкви и гранаты во все дырки. Первый, второй… Приготовились… За мной!
Удобно же немцы придумали – ступенечки, чтобы из траншеи выбегать! Правда проход узкий. Потому сначала Еж подсадил Вини, а потом Леха подал ему руку. И побежали к церкви. Та ощетинилась огнем. Кто-то рядом ойкнул и упал. Дед подскочил к ним:
– Меня держитесь. В церкву позади заскочите. И не высовываться, ироды!
Потеряв на броске подстреленными пятерых, добежали до паперти и прижались к стене. Железная дверь в храм была закрыта.
– Вот гадство… И на окнах решетки!
– Без паники… Бинт есть у кого?
Несколько рук протянули деду бинты.
– Одного хватит… Гранаты есть у кого? Эти, с ручками, которые…
– Ргдэшки…
– Во-во. Штук пять дайте, Сейчас я германцам связку замастырю.
Сноровисто открутив ручки у четырех гранат и сняв рубашки, он примотал бинтом цилиндры друг к другу. Связка получилась увесистой.
– Эй, Богатырев, чего там ждешь! – раздался голос Прощина.
– Погодь, сержант… А ну-ка, бойцы… К земельке прижались!
Кирьян Василич размахнулся, примерился и метнул связку.
Взрыв прогрохотал такой силы, что стены вздрогнули. Дед высунулся из-за паперти. Двери выбило вместе с кусками стены.
– Гранатами! И вперед!
Еще несколько гранат влетели в церковь.
– За мной!
Дед побежал первым. Как-то по звериному он почуял неладное, извернулся и упал, в самих дверях. А, может быть, просто споткнулся. Потому очередь из алтаря прошла мимо. Кто-то из наших рухнул, захрипев. Автоматчик же в алтаре получил винтовочный залп и очередь из «Дегтяря». С хоров и окон попрыгали немцы. Завязалась рукопашная.
Еж перехватил винтовку как дубину и махал ей, словно великан деревом, матюгаясь на каждом вздохе.
За его спиной присел Вини, стреляя по скачущим теням и молясь про себя:
«Только бы не в своего, только бы не в своего!»
Увлекся. И, получив по каске автоматом, рухнул на каменный пол.
Еж краем глаза успел заметить эсэсовца за спиной. Винтовка с размаха так треснула немца по арийской голове, что приклад треснул. А голова фрица лопнула как арбуз.
Он бросил винтовку, сорвал лопатку с пояса, огляделся. На какого-то нашего бойца навалились сразу два ганса. Первому Еж саданул по шее, перерубив позвоночник. Второй успел отскочить, поднырнул под размах и прыгнул на Ежа, свалив его на пол.
И стал душить, ломая кадык.
Еж захрипел, забил ганса по спине кулаками. В глазах помутнело, Еж потерял сознание…
– Андрюх, вставай. Все! Все! – кто-то бил его по щекам.
Он помотал головой, приходя в себя. Невыносимо болело горло.
– Ну, ты зверюга! – Дед с уважением разглядывал убитого. – Нос ему откусил и глаза выдавил.
– Фу… – Ежа передернуло.
– Молодец, молодец. А теперь собрались все. Бой еще не закончен. Сейчас пулеметчика выкурим – и отдыхаем. Раненых перевязать. Двое со мной. Вини, ты как?
Тот сидел на полу, обхватив голову и покачиваясь из стороны в сторону.
– Порядок, в танковых частях… Только шатает и тошнит.
– Контузия… Сиди пока. Отдыхай. Еж, зверюга, ты со мной. В колокола позвоним… Кто еще. Вот ты, ага. Фамилия?
– Рядовой Кашин. Цел?
– Целее не бывает, товарищ командир.
– Тогда вперед! – дед подобрал брошенный автомат.
Пулеметчик все еще лупил с площадки колокольни.
Осторожно ступая по крутым, изношенным временем и избитым войной ступеням они подымались наверх.
Дед, шедший впереди, за очередным поворотом остановился.
– Стоять! Германцев там двое, как минимум. Так, что на шару их взять не получится. Стойте тут. Один пойду… Ежели что, Еж, кидай гранату туда и дело с концом.
– Может сейчас гранату?
– Пулемет хочу ихний целиком…
– У нас есть.
– Этот вроде помощнее. Немцам хочу радость устроить. Ночную и неожиданную.
Дед осторожно пошел дальше, заглядывая за повороты. Вот и люк…
А немцев и впрямь было двое. Один лихорадочно набивал ленты, второй выцеливал по траншее красноармейцев.
Дед прицелился… Второй номер поднял голову и лихорадочно заорал:
– ПЕТЕЕР!!!
И получил очередь грудь.
Первый номер оглянуться не успел.
Дед вылез на площадку, высунулся из окна и заорал:
– Братцы! Все!
Батальон тут же поднялся в атаку – сметая на своем пути гитлеровцев, зажатых между двух огней – с фронта и тыла.
– Еж, подь-ка сюды!
Еж вместе с Кашиным вылез на колокольню:
– Ленты подавай. А ты помоги пулемет перетащить. Они переставили МГ в другой проем:
– Ну, чудо немецкой техники… – Кирьян Василич дал длинную очередь по траншее, хорошо видимой по вспышкам выстрелов. – Хорошо… А вот еще!
После третье очереди пулемет почему-то заклинило.
– Ешкин кот… Чего это он?
– Кирьян Василич, у него стволы надо менять. – сказал Еж. Патроны у него то и дело выпадали из дрожащих рук.
– Тьфу, ек-макарек… А как, кто знает?
И Еж, и Кашин пожали плечами.
А дед выглянул на улицу:
– Уже и не надо. Наши в траншеи ворвались. Завтра с трофеем разберемся. Пошли вниз. Отдохнем.
– А который час? – спросил Еж.
Кашин посмотрел на часы:
– Двадцать минут второго.
– Всего? Я думал уже утро…
– В бою всегда так. Ладно, хватит трындеть. Пошли вниз.
Глава 14 Победа
Давай сыграем в ту войну,
Где мы с тобою не бывали,
Давай поверим в то кино,
Где нас с тобой не убивали.
Из трехлинейки не спугнуть -
От танков пули не спасали.
Не отменить, не зачеркнуть,
Что тут про них понаписали.
Шамиль АбряровПервую половину дня таскали трупы. Эсэсовцев засыпали в воронках и притаптывали землю.
Нашим делали холмики и втыкали столбы с дощечками, где писали количество бойцов. Имена просто не входили. Список погибших составлял по смертным медальонам командир роты Прощин.
Список получился большой.
Из роты осталось живыми и не ранеными двадцать восемь человек. Взвод.
А с утра их поднял командир полка.
– Рота, подъем! – сонные, грязные, окровавленные, небритые, в изодранной форме бойцы выходили из церкви. Они там и спали рядом с трупами немцев, не в силах их вытащить после боя.
– Орлы… – сказал полковник. – Вот если в порядок себя приведете – соколами станете! А в порядок себя привести надо. Корреспонденты приедут, героев снимать будут. А вы, эвон какие басмачи. Кто командир роты?
– Сержант Прощин!
– Сержант… А ротой командуешь! Молодец!
– От всей роты двадцать семь штыков, товарищ полковник.
– Пополнение я тебе обещаю, сержант. И повышение в звании обещаю. А ты мне пообещай, что к обеду тут все чистенько будет. Пару немцев оставь, фотографы это любят. И еще мне пообещай, наградные листы к вечеру сделать, на особо отличившихся.
– У нас, товарищ полковник, все отличились.
– А ты лучших из лучших выбери.
– Тогда боец Богатырев у нас лучший из лучших.
– Это который? Покажи! Аааа… Георгиевский кавалер? А комиссар-то на тебя орал… Говорит, не по уставу. Ранили комиссара-то слышал? Чего скажешь? – похлопал Богатырева по плечу полковник
– Товарищ полковник, так боец и вытащил товарища батальонного комиссара!
– Вот даже как? Герой… Ну и пиши тогда представление, как врио командира роты. Подпишем и отправим в Военный Совет армии. В царской армии в каком чине служил, боец? – спросил у Кирьяна Васильевича комполка.
– Унтер-офицер Богатырев, ваше… товарищ полковник, – вытянулся тот во фрунт.
– А я рядовым начинал! А в гражданскую?
Кирьян Василич помедлил… И резанул:
– Полк Дроздовского.
– Хе… Хорошо дрались! – неожиданно засмеялся комполка. – Помню, да… Прощин! Приказ помнишь?
– Произвести уборку территории, подготовиться к приезду корреспондентов и написать представления!
– Молодец. А еще чего тебе делать надобно?
Прощин замялся…
– Поддерживать подразделение в боевой готовности. А какая боевая готовность, если вы тут грязные как…
Сержант смолчал.
– Парикмахера я вам привез. Всем стричься, бриться! Еще не хватало, чтобы вы во фронтовой газете экими охламонами пропечатались. Интендант!
– Я, товарищ полковник! – подскочил тот к полковнику.
– Слышь, Дроздов… Выдай роте по двойной норме водки.
– По какому списку?
– До списочному составу на вчерашний день. Сколько вас там было, а?
Прощин не успел ответить, как комполка продолжил:
– Полсотни штыков. Вот на полсотни штыков и выдавай двойную норму.
Дроздов замялся:
– Товарищ полковник. Не положено же. В нарушение…
– Слышь ты, интендант третьего ранга! Кому положено, а у кого в штаны наложено! Ты еще со мной поторгуйся. Прошлого раза мало? Еще раз услышу подобные антисоветские высказывания, на передовую пойдешь, немцев нюхать, а не накладные подписывать.
– Есть, товарищ полковник! Я ж за порядок!
– Порядок у тебя какой-то все время куркульский… Поехали.
Полковник, недовольно ворча на Дроздова, пошел к коляске, запряженной парой лошадей.
– Чего это он, а? – шепнул Вини стоящему рядом сержанту Заборских.
– Кто?
– Полковник.
– Аааа… Да слухи ходили, что интендант наш с местным населением торговал. Он им спирт, продукты, они ему – рублями да услугами. Разницу списывал за счет убыли. Полковник делу ход не дал – интендант по-божески делал. И местные не в накладе, и полку прибыль бывала. Только мы крайние были. Воюем, а он там барыши крутит.
– И чего?
– Ничего. Полковник мужик стоящий. Фамилия у него солдатская и сам он…
– А как фамилия-то, я до сих пор не знаю!
– Махров фамилия ихняя.
– Не понял, а почему солдатская?
– Дурында ты, хоть и образованный. Первое дело, в окопе что? Покурить. Вот нас махрой и называют.
– Интересно…
А Еж в это же самое время удивлялся:
– Надо же, полковник, а на телеге ездит. Чего у него «эмки» нет что ли?
– Сам ты телега! – откликнулся дед. – Что машина, ее то чинить, то бензином поить. Лошадь лучше. Да и в гору эту, разве он на авто въехал бы?
– Понятно…
– Рота! Смирно! – Прощин отпечатал, как смог, по мокрой глине несколько шагов навстречу девушке, вышедшей из коляски полковника.
– Товарищ…. Военный парикмахер! Рота к подстрижке готова. Временно исполняющий обязанности командира роты сержант Прощин.
– Здравствуйте, я Таня! – слегка покраснев, она протянула руку Прощину.
Рота вдохнула полной грудью и…
– Здравия желаем, товарищ Таня!
Она хихикнула в кулачок, засмущавшись и поморщившись от ора.
– Так, бойцы! У нас три часа. Чтобы через три часа все были пострижены, побриты и выглажены. Первая тройка к товарищу Тане на поклон, остальные на приборку по территории…
Вот и прибирались, складывая немецкий «мусор» и наших бойцов по разным воронкам.
Ежа с Вини послали на колокольню – стащить два тела. Площадка у пулемета была залита вытекшей кровью.
– Фига себе, сколько они тут напачкали…
– Это дед напачкал, – возразил Вини. – Немцами.
– Датчанами!
– Да какая разница – датчане, латыши, валлонцы, французы, испанцы, венгры, румыны, итальянцы… Все одинаковые – немцы.
– Финнов забыл.
– Ага… Еще словаков, хорватов и голландцев
– А эти наркоманы тоже воевали что ли? – удивился Еж.
– Воюют. Раз, два…. Взяли!
И первый труп полетел вниз с пятнадцатиметровой высоты.
Снизу раздались возмущенные вопли. Еж высунулся из проема:
– Не орите-ка! Мы тут прибираемся! Второй пошел!
Вини захихикал:
– Никого не прибили?
– Не… Первый просто развалился и Таньке-парикмахерше передник забрызгал.
– Ну и хрен с ней…
– Агась, как дед говорит. Хрен ей не помешает. Смотри, как глаз по мужикам бегает!
– Еж, вот и займись барышней!
– Не, Лех, она не в моем вкусе!
Разговаривали они, пока не спустились.
И уже выходили из церкви, как Еж вдруг остановился.
– Погоди-ка…
– Чего?
– Плачет кто-то!
– Ежина, это вроде я контуженный, а у тебя горло должно болеть. То есть ты молчишь, а я голоса слышу! – ухмыльнулся Вини.
– Да, помолчи ты…. Точно плачет кто-то.
Еж снял трофейный автомат с плеча.
Они вошли в правый придел, где был выход в подвал, и осторожно стали спускаться вниз.
– Посвети! – шепнул Еж Винокурову, когда они спустились туда.
На каких-то тряпках, рядом с мертвым немцем, сидел ребенок лет шести-семи и тихонечко выл.
Увидав сквозь кулачки свет от зажженной спички, он с тихой такой надеждой сказал:
– Дядя Альфред спит! Не будите его!
Еж с трудом сглотнул застрявшее «Хенде Хох»:
– Не будем будить… Мы тихонечко… Ты кто?
– Ваня
– Ваня… Иди-ко мне, Ваня! Лех…
– Да понял я…
– Ребенка не напугай.
А ребенок почему-то вскочил, побежал и ткнулся головой в живот Ежу.
И заревел.
– Тише, тише, Иванко, тише… Все хорошо… Тише… – Еж погладил пацана по голове.
– Я тут посмотрю. Иди наверх, – сказал Вини. – Дай спички.
– В левом кармане, – тихо ответил Еж, успокаивая мальчика. – Да от меня в левом, извращенец, всего меня общупал!
– Иди уже. И парня там… Накорми!
– Без сопливых обойдемся! – отрезал Еж, взял пацана на руки и понес вверх.
Пацан обхватил его за шею и засопел в ухо, шмыгая холодным носом.
Левой рукой Андрей придерживал Ванюшку, в правой – держал автомат.
Когда они вышли из церкви, его ослепила вспышка.
Еж извернулся за долю секунды, прикрывая ребенка телом, а в спину ему прозвучало:
– Какой кадр… Я гениальна!
«Вот стерва» – подумал ослепленный Еж. – «Но голос красивый!»
– А теперь боком повернитесь, товарищ боец… Минуточку…
Рыжая красавица в звании младшего политрука еще раз щелкнула «лейкой».
– Добрый день, корреспондент фронтовой газеты «За Родину!» Анна Леденева.
– Боец Ежов… Дед! Кирьян Василич! Я тут мальца нашел, покормить бы его! Иванко, кушать хочешь?
Мальчик кивнул. Слезы на его чумазых щеках уже высохли, оставив светлые разводы.
Пацаненку дали ломоть хлеба, сыр и полбанки немецкого колбасного фарша – трофеи, целая груда которых была унесена в пустой блиндаж, возле которого Прощин уже поставил часового.
Пока парикмахер приводила в порядок бойцов, Леденева ходила и снимала живописные виды освобожденного села – закопченные трубы сгоревших домов, трупы немцев в разнообразных позах, шрамы от осколков на стенах древнего храма. И жалела, что нет подбитых танков.
– А где я их возьму? – разводил руками Прощин. – Не было тут танков у них.
– Совсем-совсем никакой техники?
– Товарищ сержант, там грузовик немецкий есть разбитый. Может подойдет?
Анна подумала и согласилась. Лучше, чем ничего.
– Вот ты, Винокуров, и проводи.
Остов грузовика валялся метрах в сорока от церкви.
Фотограф посадила Лешку на кабину и побегала, вокруг, ища подходящий ракурс и приговаривая:
– Тэээкс… Подбородок чуть выше… улыбнуться… не так широко… Отлично! А теперь с этой точки посмотрим… Э! Боец, куда?
А Вини спрыгнул с разбитого грузовика и побежал навстречу Маринке и Рите.
Полуторка остановилась под холмом – по скользкой дороге ей было не подняться. Девчонки пошли вверх сами.
– Вини! Жив? Не ранен? – кинулись они обниматься-целоваться.
– Да чего нам сделается! – засмеялся Вини. – Мы же терминаторы, посланы спасать цивилизацию. Забыли, что ли?
– Еж как? А дед?
– Живы все. Пойдемте. Сами посмотрите. Вы-то как?
Девчонки наперебой стали рассказывать.
В госпиталь их определили как вольнонаемных. Санитарок не хватало, поэтому и тяжелораненых помогали в машины грузить, и бинты стирать, и воду кипятить. А Маринке пришлось помогать при ампутации. Ногу держала.
– Я чуть сознание не потеряла. Потом говорят – выноси. А я не знаю, куда. Мне показали – там за палатками яма вырыта. Туда руки-ноги складывают и хлорной известью засыпают.
– А ночью раненые пошли. Один за другим. Я чуть не с ума не сошла, к каждому кидалась – вдруг кто из вас… Ежина, привет! – крикнула Рита.
– Знакомься, Иванко – тетя Рита.
Мальчик посмотрел на тетю Риту и что-то сказал набитым ртом, при этом крошки хлеба и колбасы выпали на грудь.
– Ну что ты свинюшка-то такой, – заботливо отряхнул мальчика Еж. – Сначала прожуй, потом разговаривай.
Вместо ответа Ваня откусил еще сыра.
– Еж, чего сидишь, машину разгружать!
– Кирьян Василич! Вы ранены… – воскликнула Маринка.
– Пустяк. Царапнулся. Идите-ко сюды, челомкну.
Дед бережно расцеловал обеих девчонок в щеки.
– Вы тут с мальцом посидите, а мы пока машину разгрузим. Опосля побалакаем. Надолго отпустили?
– До вечера. К десяти надо вернуться.
– Надолго, значитца… Ну, отдыхайте. Мы скоро.
«Скоро» затянулось на целый час. Таскали ящики с боеприпасами, сухпай, пол-ящика водки, медикаменты… А в одном из ящиков оказалась странная штуковина. Вроде миномета – железная труба на треноге. Но вместо мин к нему прилагались охотничьи патроны двенадцатого калибра и стеклянные шары с горючкой «КС».
– Ампуломет, – заявил один из бойцов. – Я с такой дуры стрелял под Ленинградом. Патрон снизу загоняешь, а сверху шар.
– И далеко фигачит? – Поинтересовался Вини.
– Прицельно – метров на сто, сто двадцать. Но можно и на двести пятьдесят закинуть. Только куда полетит – непонятно…
– Смешная какая штукенция… – покачал головой Вини.
– Не скажи. В обороне хорошая штука. Вот в атаку с ним несподручно. Расчет сразу вышибают. А если пуля в ящик с шарами попала… Все. Приплыли.
– Смотри-ка… Связисты провод тянут. Эй, маркони, куда тащитесь? – крикнул Еж.
– Штаб сюда перебирается. Велено КП оборудовать. А почему, Маркони-то?
– А кто еще?
– Еж, Маркони – так радистов называют. И то на флоте. А эти линейщики, кабели прокладывают…
– Буду знать. Кстати, а мы куда, интересно.
Молодой связист остановился:
– Я почем знаю… У вас командир есть его и спрашивайте.
– Кабель, не дури. Уж кто-то, а ты-то все знаешь.
Связист оглянулся зачем-то, а потом уже ответил:
– В полк пополнение пришло. И усиление танковой ротой. В наступление пойдем. А вы тут остаетесь, пока комендантский взвод не примет работу. Ну а потом ждете пополнения и вперед.
– Вот гадство… – ругнулся Еж. – Значит, мы тут на дядю работаем?
– Это армия, сынок! – похлопал его по плечу Вини. – Надо трофеи заныкать. Хватайся за ящик, потащили.
Пыхтя, матерясь, потея и падая время от времени в скользкую грязь, они вскарабкались на холм.
Оттуда уже увидели как полк, обходя высоту, змеей втягивался на лесную дорогу, направляясь в сторону Демянска.
Параллельно пехоте ползли по полю танки. Две тридцатьчетверки и три каких-то мелких танка.
Еж говорил, что это «Т-70», а Вини – «Т-60». Спор разрешили, подбросив трофейную датскую монетку. Та упала в грязь, воткнувшись ребром.
Вини заржал:
– Будем считать, что это недоделанные «КВ».
Наконец, танки, вонь от которых дошла и до высоты, свернули в лес и спор затих сам собой.
– Эх, Олега бы сюда, он бы пояснил. Надо у девок узнать, как он там.
Когда ампуломет дотащили, пошли к девчонкам, которые возились с мальчишкой, пытаясь его умыть. Пацан успешно отбивался.
– Эй, дочки-матери. Расскажите, хоть, как там Валера с танкистом.
– Валера злой с костылем скачет по всему госпиталю. Лежать категорически отказался, врачам помогает. Говорит там и останется после лечения.
– А Таругин?
– Сделали операцию, осколок вытащили. Ожил. Привет передавал.
– Жив, значит, курилка… Куда дед подевался?
– А его насчет подвигов корреспондент допрашивает.
Парикмахерша деда постригла и побрила, оставив усы. Правда, они коротковаты еще были, поэтому, как красноармеец Богатырев ни старался их подкрутить по просьбе Леденевой, залихватского вида не получалось.
Зато два «Георгия» на груди смотрелись очень колоритно.
– Эй! – крикнул им комроты. – Вы чего лоботрясничаете. Вперед, раненых грузить.
Легкораненые, кто мог передвигаться, ушли еще ночью. Часть тяжелораненых с поля унесли санитары других рот. На высоте в блиндаже осталось человек десять. Их в полуторку и потащили.
А на севере от высоты, куда ушел полк – загрохотал бой.
– Наступление… – флегматично сказал какой-то боец, затягиваясь трофейной сигаретой.
– Товарищ Леденева, сейчас машина в полк пойдет. Вы готовы? – спросил корреспондента Прощин.
– Вроде бы да. Ну, до свидания, товарищи бойцы! Ждите про вашу геройскую роту репортаж.
Рота ответила веселым:
– Ура! Приезжайте еще, товарищ младший политрук!
– А это, мальчики, уже от вас зависит. Если так же воевать будете обязательно приеду. Только танк подбейте обязательно.
– Непременно подобьем. Даже два!
– Ловлю на слове! – очаровательно улыбнулась младший политрук.
– А это вам! – протянул ей сверток сержант. И такой же протянул Тане. – Трофейный коньяк и шпроты. Чем богаты, как говориться!
Таня опять покраснела и промолчала. А Леденева чмокнула под одобряющий гул бойцов Прощина в свежевыбритую щеку. Отчего смутился уже сержант.
– До свидания, мальчики!
– Девчонки, а вы чего не едете? – спросил Риту с Маринкой Еж.
– Мы вечером своим ходом.
– Тогда милости прошу к столу! Эти оглоеды при вас хоть культурно себя вести будут, – засмеялся командир роты.
Оказывается, двое бойцов по приказу сержанта сколотили на скорую руку стол, поставив его в церкви, и расставили там еду.
Посреди стола красовался термос с борщом, вокруг располагались бутылки, открытые консервы, хлеб, нарезанный сыр в крышках от котелков, сало толстыми кусками. Сержант Заборских, назначенный Прощиным старшиной роты расстарался на славу.
– Иванко, спишь что ли?
Мальчик улыбнулся и покачал головой.
– Разговорчивый какой, весь в меня… – сказал Еж. – Ритулька, заберете его с собой. Нам не с руки с ним таскаться.
– Заберу, конечно. Ваня, хочешь с нами?
Ваня опять покачал головой.
– Ишь какой… А что тогда хочешь? – спросила Маринка
– Кушать… – неожиданно ответил тот.
– Заговорил, слава Богу, а я уж думал – контузия. Тогда пойдем кушать!
– Натерпелся малец, вот и молчал. Не бойся, Ванька! Мы свои, русские люди! Православные! – подмигнул ему дед. – Ребенка не обидим!
Когда все разместились за столом, сержант Прощин поднял кружку с водкой:
– Ну что ж, бойцы, говорить я много не умею. За победу!
– Ура! Ура! Ура! – вполголоса рявкнули двадцать три мужских глотки. Двоих бойцов Прощин снарядил на колокольню. Смотреть в обе стороны. Не нагрянет ли начальство. Или супостат вдруг вылезет.
– Тише вы, ироды… – сказал Еж, после того как выпил. – Ребенка напугаете.
– Еж, а из тебя хороший папа получится. Заботливый, – улыбнулась Маринка.
– Не… Я еще слишком молод для этого. Ты кушай, Иванко, кушай.
А дед чего-то черкал в трофейном блокнотике, время от времени грызя карандаш. Потом повернулся к Марине:
– У тебя глазки помоложе – напиши-ка в поминальничек всех ваших.
– В смысле всех?
– Которые в вашем отряде-то были сначала.
– Поняла… Сейчас, Кирьян Васильевич, напишу…
– Так… Между первой и второй… – поднялся снова Прощин. – А теперь как полагается, за товарища Сталина.
Чокнулись и выпили за Сталина. Мужики водку, девчонки красного мозельского вина.
– Чего-то от Леонидыча вестей нет… – задумчиво сказал Вини.
– Поди в Москве уже, – ответил дед.
– Ага… А нас тогда чего не дергают? Особист в покое оставил, странно.
– Чего уж тут странного. Мы ему зачем?
И в этот момент с колокольни раздалась короткая пулеметная очередь.
Бойцы вскочили, расхватав автоматы и винтовки.
С колокольни спустился один боец:
– Воздух!
– Черт, – ругнулся Прощин, – пожрать не дали, сволочи.
Дед крякнул, вытер усы и побежал наверх.
Первый разрыв ударил рядом со зданием. Затем второй, третий.
– Эх, ты… Главное, чтобы в купол бомбой не попали. Хана нам тогда.
Стены ходили ходуном от близких взрывов. Время от времени осколки залетали внутрь, кроша кирпич. Один пробил термос с супом и разбил пару бутылок.
– Уууу… гадские сволочи… – злобно прошипел Еж.
А сержант Прощин улучил момент и выскочил из церкви, помчавшись к блиндажу, который хотели сделать штабным.
– Куда это он? – спросил кто-то.
– Связисты, наверное, телефон уже поставили…
И точно, сержант, петляя зайцем по открытому пространству, буквально нырнул в блиндаж.
– Связь есть? – гаркнул он на связиста
– Была, товарищ сержант.
– Соединяй, быстро.
Связист покрутил ручку:
– Клумба, клумба! Я – тюльпан. Я – тюльпан. Ответьте. Клумба!
Бубнил долго. Потом посмотрел на сержанта:
– Не отвечают, товарищ сержант. Обрыв. Или свернулись уже.
– Как фамилия, рядовой?
– Якшин.
– А зовут?
– Герман.
– Хе… Ну ты себе и имечко выбрал, прямо сказать не подходящее на текущую политическую ситуацию.
Якшин пожал плечами.
– Значит так, Гера. Мчись в штаб. Передай – немцы начали бомбежку. Значит атака будет. Нам подкрепления нужны.
– Какие подкрепления? Полк-то в наступление ушел, за нами никого. Госпиталь да штаб.
– Слышь ты, стратег фуев. Мы тут минут пятнадцать продержимся, если немцы как следует попрут. Так что хана будет и штабу и госпиталю. Понятно? Давай, Гер… Не подведи. Да подожди, сейчас немцы улетят и молнией беги.
– Есть!
А дед, тем временем, сидел на колокольне и ругался на фрицевские самолеты. Заходили те из крутого пике, стрелять по ним не было никакой возможности – приклад пулемета упирался в пол. Вдруг деда осенило:
– Слышь, боец…
– Колодкин.
– Вставай-ка на четвереньки…
– Зачем это?
– Вставай, вставай…
Тот встал в коленно-локтевую позу. Дед поставил ему на спину «МГ» и сказал:
– А теперь приподымись на руках. Только башку не подымай. И не дыши, замри!
Дед стал выцеливать «Юнкерсы». Они как раз заходили на второй удар по траншеям, слава Богу, пустым. Один пошел в пике, второй, третий, четвертый…
Первый бомбы сбросил, стал выходить… Второй через ту же точку…
Когда замыкающий стал выходить – дед пустил длинную очередь в место выхода.
И «Юнкерс» влетел в эту смертельную струю!
Мотор его задымил и заглох. Немец пошел боком в сторону леса, но выровнялся. Стал планировать, видимо, в сторону своего аэродрома. Но высоты не хватило. Рухнул в лес, зацепившись крылом о высокую сосну.
Остальные шарахнулись в рассыпную.
Дед им погрозил кулаком:
– Тевтоны чертовы! Вы мне еще в ту войну своими тарахтелками кровь попортили. Все мечтал сбить хоть одного.
– Можно дышать-то? – сказал «лафет».
– Дыши, – снял пулемет с Колодкина дед. Самолеты же сбросили остаток бомб в поле и пошли, набирая высоту домой. Оказалось, что хваленые немецкие летчики очень не любили когда по ним стреляли и попадали.
Дед уже начал спускаться вниз, как красноармеец заорал:
– Немцы! Немцы идут! С танками!
Из леса и впрямь выходили густой толпой фрицы.
– Мать моя женщина… Сколько же их…
Танки же выруливали как раз с той дороги, куда недавно ушли наши «тридцатьчетверки».
– Странно, как же так-то… – прошептал Колодкин.
– Отрезали с флангов. Чего странного-то…Как кура в ощип залезли, иттить… Вниз давай
Прощин уже видел немцев, подбегая к церкви:
– Рота к бою! Все целы?
– Заборского ранило вроде… Витек, ты как?
– Нормалек… Локоть левый…
– Хреново. Кто самолет сбил?
Колодкин показал на деда.
– Ну, Кирьян Василич… – С уважением посмотрел на деда Прощин. – Тебе уже «Красная Звезда» полагается. Ты этак через неделю боев в генералы выбьешься…
– Ему «Звезду» выпиши, – показал дед на Колодкина. – Я без него бы не справился.
– А мне-то за что? – удивился тот.
– Значит ты и… ты, Кашин. За ампуломет. Живо. Бабы! Пацана в охапку и в тыл. Пулеметчики, по флангам. Кирьян Василич. Лезь обратно на колокольню. Только за танками следи. Всё.
Бойцы выскочили из церкви и бросились занимать немецкие траншеи.
Немцы рыли качественно, зигзагами. Поэтому бомбежка повредила только часть окопов.
Двадцать четыре бойца заняли свои места.
А фрицы не торопились. Шли спокойно, покуривали. Некоторые даже карабины с плеча не снимали. А на расстоянии метров в двести от холма вообще залегли. Встали и танки, чего-то ожидая.
– Чего это они? – спросил Еж.
– Думают. То ли сразу сдаться, то ли до сорок пятого потерпеть. – пробормотал Вини, выбирая винтовкой из толпы немцев офицера.
– Почему до сорок пятого? – поинтересовался какой-то боец. Кажется, Юдинцев, по фамилии. Ему, как самому крепкому из бойцов, досталось противотанковое ружье. Второй его номер, боец Русских, сидел на дне траншеи, держа наготове патроны.
– Почему, почему… Так… К слову пришлось… – ответил Вини. – Ушастый ты больно, как я погляжу.
– Слух хороший…
За лесом что-то прогрохотало. Пронзительный свист…
…Рита, Марина и Иванко отбежали уже на противоположную сторону холма. И тут Рита подумала, что надо было бы взять оружие с собой. Тот пистолет, который ее спас от Таньки-пулеметчицы ей так и не вернули.
Увидев свежую огромную воронку от авиабомбы, она сказала:
– Марин, посидите пока тут с Ванькой. Я назад сейчас мотнусь, автомат выпрошу…
– Ритуль, может не надо…
– В одну воронку, говорят, снаряд дважды не падает… Я мигом. Ванечка, тебе принести чего-нибудь?
Тот кивнул.
– Чего, Ванюш?
– Хлеба и мяска вкусного…
Ритка потрепала его по белокурой голове. И побежала обратно.
Марина же спустилась с Ваней вниз.
– Страшно, Ванюш? – прижала она его к себе
– Нее… Я привык.
– Как же ты тут жил-то бедненький?
– Хорошо. Меня дяди-немцы кормили и песни пели. И у меня кот был. Он мне тоже песни пел. Его в ножку ранило, дяди-немцы его перевязали. Потом он куда-то делся.
– А мама у тебя где с папой?
– Тятька в прошлом году ушел на войну. А мамка зимой по воду пошла и не вернулась.
– А братишка или сестренка у тебя есть?
– Они тоже ушли куда-то. Тётя, а что такое война?
Риту ударило взрывом в спину так, что она пролетела несколько метров и на несколько секунд потеряла сознание от удара о землю.
Она оглянулась…
Снаряд в одну и ту же воронку два раза не падает? А если весь холм изрыт воронками и ровного места больше нет?
Время замедлилось. С неба падали жирные комья грязи. Девушка встала во весь рост и мертвенно пошла к воронке, не обращая внимания на взрывы.
Мыслей не было. Не было чувств. Ничего не было. Только вонь сгоревшего тола.
«Это я виновата, это я виновата, это я виновата… Ничего не слышу….как в детстве, когда болела и уши закладывало, мама что-то говорит, а ты ее как сквозь вату…»
Сильным ударом кто-то сбил ее с ног и навалился сверху.
– Рита, епметь!.. Вам что сказали… – заорал Вини. Потом стал ее лупить по бледным, помертвевшим щекам.
– Ванька с Маринкой… – смотрела она сквозь него.
– Что? – он бросил злой взгляд в сторону опадающего облака дыма. – Идем!
Он поволок ее по земле за руки. Рита, наконец, встала и, покачиваясь, как пьяная, поплелась за Вини.
– Бегом, млять!
Гаубицы дали всего три залпа. Видимо, у немцев снарядов было не очень много.
Пехота поднялась и снова пошла вперед, пропустив вперед шесть танков.
– Придурки… – сказал Прощин. – Не могли в лесу конца обстрела обождать? Приготовиться…
– Четверки… Фигово… – сказал Юдинцев.
– Ты еще «Тигров» не видел, – ответил Еж.
Тут в траншею свалился Вини с Риткой.
– Оппа… Явление Христа народу… Ты откуда? – удивился Еж.
– Ампулометчики! Огонь!
Пуух – смешно хлопнуло за спиной.
Медленно летящий по кривой шар было хорошо видно. Немцы отбежали в сторону от него. Шар шлепнулся в жидкую грязь и… И не разбился!
– Вот тварь! – ругнулся Прощин. – Огонь!
Траншея ощетинилась огнем.
Несколько гансов упали, переломившись и падая назад. Остальные тут же залегли и открыли огонь.
Хлопнула пэтэерка., сбив одному танку гусеницу. Он завертелся на месте.
Пуух!
На этот раз шар разбился. Несколько немцев катались, объятые пламенем.
Дед с колокольни открыл огонь короткими злыми очередями.
Один из танков остановился. Повернул башню, стал поднимать орудие.
– Юдинцев, бей его!
– Угу… пробормотал тот. Хлоп! Пуля чиркнула по броне пучком искр.
– Сука… Патрон!
Хлоп!
– По щелям бей, сукин сын!
– Угу…
Хлоп!
Танк выстрелил по колокольне. Попал чуть выше проема, но пулемет захлебнулся.
– Патрон, богадедадушумать!
Хлоп!
– Есть!
Танк задымил.
Остальные поперли на холм.
Грохот стоял такой, будто земля разверзлась.
Винтовки, автоматы, карабины, пулеметы, гранаты, снаряды…
– Да сколько же их…
– Танков четыре осталось, товарищ серж…
Юдинцев сполз по стенке траншеи. Пуля пробила каску прямо посредине.
Еж подскочил и схватился за ружье. Выстрел! Ежа откинуло к противоположной стенке.
– Вот это отдача… – глаза его побелели от боли. – Я, кажется, ключицу сломал.
– Рита! – пнул ее сапогом, не церемонясь, Прощин, продолжая стрелять по немцам.
– Сейчас… – она встала на четвереньки и подползла к Ежу.
– Еженька… Ты как?
Еж попытался ответить, но близкий разрыв плеснул ему землей в лицо.
– Тьфу, гадство какое… Нормально, Ритуль. Рит! Эй! Ты это чего?
Ритка лежала у его ног свернувшись, как кошка, клубочком.
Он присел над ней и потряс здоровой левой рукой.
– Ежик… А Ежик. Давай споем.
– Споем, споем… – он перевернул ее на спину.
Она зажала окровавленный живот руками.
Осколок вошел в спину и, пробив насквозь ее тело, дымился, воткнувшийся в землю.
– Ежик… Давай споем… Что это, что это, ай-яй-яй-яй… Ну-ка скорее пойди, угадай… – шептала она.
Андрей, сглатывая слезы, запел тихонечко в ответ:
– Это не кит, не селеееееееееедка, это подводная лооооооодка…
– Лодочка, лодочка, ай-яй-яй-яй, ну-ка скорее скорей покатай… – улыбалась ему Рита.
– И полети на простооооооооооре… – гладил он ее по щеке грязной рукой.
– Ах, как волнуется моооооре…
Небо почему-то стало голубым-голубым. Как море, видимое в ясный летний день откуда-нибудь с горы. Стало тихо-тихо. По траншее шел тот солдат из снов. А рядом плыл над земле голоногий мальчишка в тонкой белой рубашке.
Солдат протянул Рите руку и улыбнулся. Она взялась за нее и боль куда-то исчезла. Он протянул ей свой смертный медальон.
А мальчик серьезно так сказал им обоим:
– Смерти нет ребята. Смерти нет…
– Отходим! К церкви отходим! – заорал Прощин, долбя из лязгяющего «Дегтяря» по фрицам.
Танки пытались влезть на холм, но грязь, сегодня была на стороне русских бойцов.
Из перемолотой огнем танков траншеи, их выскочило всего десять человек.
Пуух!
Еще одна ампула улетела в сторону немцев.
Еж, оглянувшись, успел увидеть, что шар багровым пламенем накрыл еще один танк.
Тот же, у которого в самом начале сбили гусеницу, развернул башню и глухо выстрелил.
Снаряд чуть не долетел до позиции ампулометчиков. Но одного осколка хватило, чтобы пламя с диким ревом охватило Колодкина и Кашина. Они заметались факелами, кто-то из них страшно закричал. Прощин, ни секунды не колеблясь, дал очередь по ним.
В церковь заскочить успели почти все.
Только Витьку Заборских снял в спину осколок из очередного снаряда.
– Ежов! Посмотри, чего там с дедом! Остальные к окнам!
Еж, с болтающейся плетью правой рукой, побежал на колокольню.
Все же хорошо строили наши предки. Церковь – она словно крепость. Окна узкие, как бойницы, решетками коваными прикрыты. Третий взвод вчера с ними замучался. Гранату – хрен кинешь.
– Вход держать! – рявкнул Прощин.
– Хана деду, похоже. Завалило все к чертям собачьим. Нет прохода наверх, – прискакал запыхавшийся Еж.
– Как рука?
– Хреново. Онемела. И горло болит после вчерашнего.
– Водки хлебни.
– Это я завсегда… О, а Вини где?
– Тут я, Еж!
Отозвался Винокуров, стоявший возле одного окна.
Еж присел на груду деревянных обломков, полчаса назад бывших столом:
– Ты меня так больше не пугай.
– Что-то немцы не торопятся…
А фашисты и не собирались торопиться. После того, как танки не смогли забраться по крутому склону, они стали бить по церкви из тяжелых минометов.
Мины стены не пробивали. Но красноармейцам от этого было не легче. Куски кирпичей и штукатурки с внутренней стороны отлетали и били не хуже осколков.
Второму сержанту – Коновалову – прилетело в голову таким куском, что тот потерял сознание минут на пять.
Наконец, одна из мин пробила крышу, положив еще двоих бойцов.
Осколком второй у Прощина выбило пулемет из рук, изогнув ствол.
Матерясь, он отбросил его, а потом долго тряс отбитыми до синяков кистями.
– Положат нас сейчас, сержант… – подал голос Вини.
– В алтарь уходим. Там меньше достают.
Шестеро бойцов, пригибаясь, бросились на свой последний рубеж.
– Еж, скотина, ты чего там лежишь? – заорал ему на бегу комроты.
А Еж улыбался, глядя в потолок остекленевшими глазами. Прямо в лицо уцелевшему каким-то чудом, исщербленному войной, архангелу с пылающим мечом.
Осколок вошел Андрею в подбородок.
Наконец обстрел прекратился.
– Чего, вернемся? – спросил Прощина мало знакомый Винокурову боец. Вроде бы, Сизов.
– Тихо… Ждем…
И правильно сделали.
Потому как через минуту через дверь и те окна, где выбиты были решетки, в храм полетели гранаты.
Одна залетела и в алтарь.
Несмотря на взрывы, Лешка Винокуров явственно услышал ее стук о каменный пол и мгновенно представил, что может сейчас произойти и уже чуть присел, чтобы прыгнуть на нее…
Но его опередил тот самый «…вроде бы, Сизов».
Граната глухо хлопнула под ним, подбросив тело.
Ротный страшно поиграл желваками.
– Вперед, мужики!
И…
И перекрестился на голубой до бездны глаз, один уцелевший из всей росписи.
А потом пошел из алтаря к выходу, держа наперевес винтовку с приткнутым штыком.
– Помирать-то как не охота… – вздохнул кто-то рядом с Вини.
И мужики пошли вперед.
Вини закусив губу, зашагал к выходу.
Неужели это все? Вот сейчас он умрет и все? Нет… Не все… Точно, не все!
– Ротный! А куда медальоны девать? – весело спросил он.
– В жопу немцу засунь!
– Тоже дело!
Их встретила пулеметная очередь почти в упор.
Но Лешка Винокуров успел выстрелить и даже успел увидеть – как его пуля пробила второму номеру каску, выбросив красный фонтанчик из арийской поганой головы.
А потом он умер, еще не успев упасть…
…Снаряд не падает в одну и ту же воронку дважды.
Да.
Но эта воронка была от авиабомбы.
Маринка и Ваня успели отбежать от нее метров на десять, когда снаряд ударил в нее.
Ударная волна свалила их обоих на землю. Ванютка заплакал. А Маринка, правильно рассудив, что надо бы отбежать чуть-чуть дальше, без слов подхватила его под руки, поставила на ноги и они побежали. Дальше от этого ада.
Маринка прыгнула в траншею, окольцовывавшую холм. А потом взяла Ваню и спустила его на землю.
– Страшно? – Крикнула она сквозь грохот зареванному мальчику
Он покачал головой и что-то прошептал.
– Что? Не слышу! – она машинально стряхнула с волос землю.
Она наклонилась к шепчущим что-то губам Ванечки:
– Больно…
– Где?! – встрепенулась Маринка.
Кровь уже промочила штанину – зазубренный край осколка торчал из правого бедра.
– Маленький ты мой… – вскрикнула она раненой птицей. Потом лихорадочно сняла с парнишки брючный ремень и перетянула им ногу чуть выше раны.
– Идти можешь? А ну-ка, ступи…
Иванко попробовал привстать. И упал…
– Горюшко ты мое, солнышко… А ну! Цепляйся за шею! – присела она перед ним. Ваня забрался ей на спину. – Сейчас я тебя покатаю! Ой!
Рядом снова разорвался снаряд.
– Ванюшка! Песни петь умеешь?
– Умею… – сквозь слезы прошептал он.
– Ты пой, а я побегу. Ты пой мне в ухо, хорошо?
Тот кивнул, а потом тихо так запел:
– Там вдали, за рекой догорали огни…
Взрыв! Не зацепило!
– В небе ясном заря догорала…
– Пой, Ванюшка, пой!
– Сотня юных бойцов… – шептал тот.
«Лишь бы не в спину ему» – Маринка тяжело дышала, перепрыгивая – нет! – перешагивая бугры и яминки новгородской земли.
А падать приходилось:
– Ванюшка, терпи! – кричала Маринка, когда снаряд рвался близко от них. И она падала в грязь плашмя.
А когда они спустились вниз и отошли метров на двести, она оглянулась.
Холм был похож на взорвавшийся вулкан.
– Выбрались, кажется… – прошептала Маринка. – Ванютка, ты как себя чувствуешь?
Он уже не плакал. Он просто закрыл глаза, а лицо его было мертвенно бледным.
– Ваня… Ванечка! – потрясла она его за плечо.
Он приоткрыл одно веко и улыбнулся уголком губ.
– Жив… – Она лихорадочно ощупала его тело. Нет. Больше не ранен. Только штанина промокла кровью до сапожек.
Марина глубоко вдохнула… Выдохнула…
– Ыыыыыааааах! – девчонка взвалила мальчишку на плечи и понесла дальше.
Шаг – раз. Шаг – два. Шаг – раз. Шаг – два. Колючку обойти. Наши траншеи. Сто лет назад сюда прыгали. Не помню когда. Шаг – раз. Шаг – два…
– Ванютка, сказки знаешь?
Он едва кивнул.
Она положила его на землю. Спрыгнула в окоп. Потом стащила вниз.
– Ванечка, расскажи мне сказку!
– Жили-были…
– Жили, Иванко, жили… Кто жил? – Маринка почесала зудящую щеку. Грязь налипла. Брызгами.
– Дед и баба… – сонно сказал Иванко. – Тетя Марина, у меня ножка болит…
– Терпи, Ванечка, терпи… Только терпи.
Она снова стала его поднимать на плечи и вдруг заметила, краем глаза, вещмешок, оставленный кем-то из бойцов.
– Подожди… – она подползла к мешку. Открыла его. Бинт! Пошарила еще. Стрептоцид!! Вывернула мешок наизнанку. Больше ничего…
«Рояль в кустах…» – подумала она. – «Везение в разных фантастических книжках? Невероятное? Читала, читала… А вот на те вам, маленькое чудо! Мы дойдем, обязательно дойдем! И насрать на ваши рояли!»
Вернулась к Ване, потом достала маленький ножик, подаренный ей где-то и кем-то, распорола брючину. Засыпала рану, с виднеющимся оттуда осколком, порошком. Потом стала бинтовать. Осторожно бинтовать. Стоило задеть железку, как мальчишка начинал дергать ногой.
– Терпи, Ванечка, терпи, хороший мой, – погладила Марина мальчика по мокрым волосикам. – А теперь, снова покатаемся. Так кто там жил-был?
Растревоженная рана сильно, видимо, болела. Пацан только ревел в голос. А потом чуть тише, тише… И совсем затих.
В глазах уже темнело. Ползти – сил нет. Идти – тем более.
Шаг – раз. Шаг – два… Шаг – раз. Шаг – два…
Она рухнула без сил, не дойдя метров пятьдесят до ближайшей палатки.
Ее заметил часовой.
Пост он бросил, закричав:
– Санитары!
А потом она пришла в себя, когда под нос сунули нашатырный спирт.
– Ванечка… – Первое было ее слово.
– К операции готовят. Девочка, ты молодец.
Марина отмахнулась:
– Где?
Пожилой санитар показал ей, куда идти.
Пошатываясь, она побрела в сторону зеленой брезентовой палатки. Вокруг бегали люди. Что-то кричали. Она плохо слышала их.
– Надеюсь, артерию не пробил… Скальпель! Тебя как зовут?
– Дядя Еж меня Иванко звал. А дядя Петер – Ханс…
– А мама?
– Ванюткой…
– Ванютка… Ты потерпи сейчас… Чуточку потерпи… Ладушки?
– Оладушки…
– Что?
– Дяденька, не убивайте меня…
– Ванечка, да что ты! Валера, ты?
– Марин, держи его. Гладь по голове и разговаривай.
– Привяжите его, хотя бы…
– Уже.
– ААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!
– Баю-баюшки-баю…
– МАМАААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!
– Не ложися на краю…
Что-то звякнуло в кювету.
– Зажим…
– ААААА… АААА… ААА… – взахлеб, вскриками…
– Тампон…
– АА…
– Шьем!
– Аааа… Аааа…
Не видеть бы этого никогда больше. На живую. Пацана восьми лет. Не делать бы никогда…
– Бинтуем. Сестра, хлеба ему.
Медсестра оторвала мякиш от буханки, облила его спиртом, обернула тряпочкой и сунула Ванютке в рот.
Валера стащил маску. В окровавленном, когда-то белом, халате, опираясь на костыль, он присел на чурбан, вытянув раненую ногу.
– Жить будет. Бедренная не задета. Ты как?
– Цела, как ни странно…
– Понятно. Ты где его взяла?
– Мужики, Валер, подобрали где-то…
– А Ритка?
– Там осталась.
– В каком смысле?
Маринка не успела ответить.
– Осколочное в живот. Валерий Владимирович, вы готовы? – втащили следующего.
– Отнесите пацана. Марин, побудь рядом, пока не уснет. И живо назад. Рук не хватает…
Ванька хныкал даже сквозь сон. Когда, наконец, он перестал ворочаться – Марина вернулась обратно в операционную палатку.
И только она вошла внутрь, вдохнув спертый воздух, где запаха крови и гноя было больше, чем кислорода, рядом разорвался снаряд. Осколки глухо застучали по деревьям, срывая ветви наземь.
– Кипятка! – дала Марине пустое ведро старшая сестра.
Маринка выскочила на улицу. И увидела как три немецких танка ползут к палаткам. А за ними немцы в проклятых серо-зеленых мундирах. С закатанными рукавами.
Она уронила ведро и заскочила в палатку:
– Немцы!
– Еще скрепку, – буднично ответил Валера. – Ваньку в лес тащи.
– Что?
– БЕГОМ! – рявкнул на нее Валера. – Ваньку в руки и бегом!
Она выскочила из операционной.
Немцы были уже рядом.
– Мамочки! – Маринка взвизгнула и побежала туда, где оставила мальчишку.
Споткнувшись о растяжку палатки, она оглянулась. Головной танк переехал одну из палаток с ранеными.
Грохот. Взрывы. Огненные всплески. Люди, бегающие между всполохами. Падающие под огнем автоматов.
Зарычав как-то по-звериному, она на четвереньках быстро поползла к Ванютке. Ухнула танковое орудие. Где-то слева фукнул теплой волной снаряд.
Пожилой санитар, оттащивший Ванюшку из операционной, махнул Маринке рукой:
– Сюда! Сюда беги!
Она опять взвизгнула и под пулями, свистевшими вокруг, почти прыгнула в канаву, где лежали Ванечка и боец с винтовкой.
– Доча, ты беги с ним. Я прикрою…
Осколком ему срезало полголовы и теплой кровью плеснуло на телогрейку уснувшему в этом грохоте Ване.
«Горячий какой…» – подумала она, взяв мальчишку на руки. И побежала в лес.
Споткнувшись о корень, она упала, чудом вывернувшись, как кошка, чтобы не зашибить парнишку. И уронила его на себя.
Он приоткрыл измученные глазенки и пробормотал:
– Мама…
И снова закрыл глаза.
Она попыталась встать, но споткнулась о какую-то железку.
Кто-то дернул ее за штанину:
– Олег!! Ты?
– Я… Что с пацаном? Как мужики?
– Ранен. Живы.
– Как вы там говорили?
– Что?
– Оке… Океюшки?
– Олег…
– Беги!
Таругин, тяжело дыша, приспособился к пулемету. Вовремя его вынесли подышать. Ой, вовремя. Положили, так сказать, на травку отдохнуть… Пулеметчика из взвода охраны накрыло сразу. Только что с ним курили. В кулак. Чтобы врач не видел…
Два диска, а ты, Олег, один. А немцев считать не будем.
Суки!
Идут и стреляют по палаткам. Терпи… Терпи, Олег, зубы сожми, а терпи. Пусть Маринка с мальцом дальше уйдут. Мужики – кто там сейчас умирает – простите!
Ух ты! Валерка то еще жив! Выскочил из операционной!
Валерка, шатаясь от усталости и боли, заканчивал операцию, когда в палатку заскочил немец и крикнул:
– Halt! Hende hoh!
Валерка, не глядя, махнул скальпелем и попал, аккурат, по глазам гитлеровца.
Тот вскрикнул, заваливаясь на пол.
– Ножницы… Готово. – Он отстригнул суровую нить, завязал узел рядом с кровавым швом, и про себя отметил: «Смотреть в первую очередь»
А потом снял повязку и, опершись на костыль, подхватил автомат зажавшего лицо и воющего от ужаса и боли немца.
В первого пробегавшего мимо фрица он выстрелил еще из тамбура палатки:
– Как вы мне надоели все… – проворчал он. И успел выстрелить еще в одного, стоявшего на фоне сгорающего отделения лежачих. Улыбающегося под их нечеловеческие крики.
Танк рывком продернул несколько метров, размазывая то, что секунду назад было человеком.
Таругин зажмурился.
Немецкий танк крутанулся по Валерке и снес своей тушей операционную.
Кровь потекла из прикушенной губы.
Терпи, тварь! Терпи!
«Пусть девка с мальцом уйдут подальше… Да что ж так спина-то болит… Вдохнуть не можно… Не могу больше!»
Короткая очередь сняла пробегающего между сгорающих палаток немца. А потом еще одного. Того, в черной форме, который высунулся из башни чертового «Т-IV».
Танк стал разворачиваться.
Олег дал длинную очередь, стараясь попасть по щелям.
Пули высверкнули искрами по крупповской броне.
«Все! Конец!» – зажмурился Таругин
Раздался взрыв…
У танка слетела башня. Немцы заорали, лихорадочно паля куда-то.
Теряя сознание, Олег увидел как мимо бегут бойцы с трехлинейками. Он крикнул им:
– Мужики!
Но, среди грохота боя, его шепот потерялся в лязгании траков десятка «тридцатьчетверок» и одного «КВ».
Мужики бежали мимо лежащей в кустах Маринки, накрывшей собой Ванюшку.
Она открыла глаза и встала на колени.
– Мужики!
Потом, напрягшись изо всех оставшихся сил, попыталась поднять Ваню.
Он вдруг открыл глаза и сказал тихим голосом, перекрывшим звуки боя
– Мама, я сам…
Маринка пригладила ему вихры и улыбнулась.
В спину ей толкнуло чем-то горячим. Она не поняла, чем. Просто голова закружилась, мир завертелся черной воронкой, и все закончилось.
Стрельнувшего не глядя фрица, положил в русскую землю Таругин. А после потерял сознание.
А Ваня вздохнул. Мальчик, привычный к смерти в восемь лет. Он встал на здоровое колено.
А мимо бежали бойцы.
Один за другим. Некоторые с автоматами, некоторые с пулеметами. Большинство с винтовками. Пролязгал мимо один танк. Другой. Третий…
Ваня погладил Марину по руке и привстал. Сначала на колено здоровой ноги. Потом с трудом распрямился. Встал. Заковылял к дороге. Один из бойцов, пробегавших мимо остановился. Сунул мальчишке сухарь и побежал дальше. На запад. На Берлин.
Война для Ваньки закончилась.
А жизнь еще только начиналась.
Ему многое надо было сделать. Восстановить Днепрогэс. Засеять целину. Снять «Летят журавли». Построить БАМ. Слетать в космос…
И разрушить церкви. Растить кукурузу. Написать «Ледокол». Устроить Новочеркасск. Взорвать Семипалатинск…
Ему многое надо сделать.
Это его будущее. И только он вправе решать – что с ним сделать.
А мы, твои дети, Иванко, будем расти в твоем будущем. И мечтать исправить прошлое. Забывая, что будущее начинается сегодня. А, заодно, просрем то, что есть в настоящем.
…– Капитан Сипачев, ваши документы! – козырнул черноглазый брюнет с комендантской повязкой на рукаве.
Старшина протянул ему солдатскую книжку и увольнительную.
– Куда направляемся?
– До рейхстага хочу дойти, поглядеть, так сказать, на логово фашистского зверя, товарищ капитан.
Капитан с седыми висками, двумя красными нашивками и орденской планкой отдал книжку обратно и козырнул в ответ:
– По этой улице не ходите. Там еще разминирование не закончилось. Лучше в обход вот тут, товарищ старшина.
Капитан с уважением посмотрел на награды старшины, слегка зацепившись взглядом за два георгиевских креста. И за золотую нашивку – тяжелое ранение.
Старшина Богатырев зашагал туда, куда показал начальник патруля.
Чуть дальше, ну что ж… Война уже закончилась. Спешить больше некуда. Шестнадцатое мая тысяча девятьсот сорок пятого года. Война закончилась уже как неделю.
Ровно три года прошло…
…Дед тогда очнулся, сброшенный на груду кирпичей взрывом, только под вечер.
Уже темнело.
На улице переговаривались в полголоса какие-то мужики.
Он перевалился через дыру в стене, свалившись на землю кулем.
– Смотри-ка… Живой!
Наши подошли, как позже выяснилось, часа через два. Уже после того, как фашисты раздавили танками госпиталь и штаб полка. Дед так и не узнал, что Валера, превозмогая боль в ноге, оперировал до последнего. Что на крик немца, ворвавшегося в операционную палатку доктор полоснул фрица скальпелем по глазам и был, почти тут же, раздавлен танком. Что Маринка упала под очередью пробегавшего мимо автоматчика. Что Таругин тогда чудом остался в живых. А погиб через два года, сгорев в «тридцатьчетверке», освобождая свой родной город – жемчужину у моря.
А все-таки выбили фашистов с той высоты. Со всех высот мы их выбили…
За тот бой Богатырева наградили медалью «За отвагу». Жаль, фотографии не попали в печать. А кто его знает – почему? Может быть потому, что та незнаменитая операция так и закончилась – ничем?
А потом был госпиталь, снова фронт, снова госпиталь, еще награды…
Орден «Славы», «Красная звезда», еще одна «Отважная», непременная «ЗБЗ»…
Какое это имеет значение?
Имеет значение то, что командир взвода ездовых отдельного четыреста тридцать второго ИПТАПА шел к рейхстагу.
Пленные немцы угрюмо закидывали каменным мусором воронки.
Дед поднялся по ступеням. Оглядел расписанные стены.
Зашел внутрь. Нашел местечко. Достал мелок.
И нарисовал на стене большого колючего ежа.
Посмотрел на него, достал свой блокнотик и стал писать под рисунком:
Рита
Еж
Марина
Вини
Леонидыч
Юра
Толик
Захар
Виталя
Демянск. Май тысяча девятьсот сорок второго года.
Потом подумал и дописал еще одно, не знаемое им имя:
Алеша
Перевернул страницу блокнотика.
Посмотрел на следующий список.
Сел на ступени и тихо заплакал…
Глава 15 Возвращение
Я солдат – недоношенный ребёнок войны
Я солдат. Мама залечи мои раны!
Я солдат. Солдат забытой богом страны
Я герой… Скажите мне какого романа?
«Пятница»Из воронки выползла голубая лягушка. Черт его знает почему, но в новгородских болотах много лягушек голубого цвета.
Она вспрыгнула на снарядный ящик, квакнула, перепрыгнула в лежащую на боку пробитую каску. Посидела там, разглядывая что-то свое.
Подпрыгала к штыку, воткнутому в землю. Потом обнаружила сапог и залезла туда, замерев в ожидании…
– Рота, подъем!
Палатки зашевелились.
Я потянулся в спальнике. Сегодня домой. Надоели эти болота, эта сырость вечная. Даже если солнце светит – все равно все отсыревшее. Такое ощущение, что спишь в невидимой луже. А солнца так и не было все три недели.
– Твою мать! – раздался крик на улице, – как меня эти лягуши достали! Чего они в мои сапоги-то все время лезут!
– Это потому, Еж, что родственную душу чувствуют, – ответил Толик Бессонов. – Ты вчера тоже как лягуша по воронкам скакал.
– Все по воронкам скачут. А лезут ко мне.
– Т-ты же ж-животное. Еж. Вот и лезут.
– Плечо правое болит. Отлежал, что ли?
Я выбрался из палатки и проверил свои сапоги. У меня лягушек не оказалось. Пошел к воронке умываться. Из нее мы брали воду на приготовление еды, гигиену и все такое прочее.
Воронка была чистая. Мы ее еще в прошлом году проверили. Железки звенят, но косточек нет.
Еж все порывался ее проверить еще раз. Не щупом, и не минаком – а отчерпать и покопать. Однако это занятие ему рекомендовали оставить на последний день.
Смешно, болото – а воды нет. Торфяная жижа. А ближайшая большая воронка – в полукилометре. Таскаться туда за водой никому неохота. Поэтому Леонидыч и попросил Ежа оставить эту в покое.
Юрка и Вини сегодня дежурили – готовили завтрак на костре – манка на сухом молоке. Зато с изюмом. И чаек-кофеек.
Настроение у всех подавленное. Оно и понятно. Устали как собаки, а лагерь десантников так и не нашли. Где-то они здесь, на болотах. Тех, кого вывезти не успели, когда подмерзшая почва в апреле превратилась в эту чачу и самолеты уже не могли сесть. А выйти уже не могли – раненые, голодные, обессиленные.
Я попробовал представить себя на их месте. Не получилось. Невозможно это представить.
– Так мужики… Быстро собираемся. Где-то к обеду Степаныч должен подъехать. С ним и Герман Василич подъедет.
– Якшин? – спросил Захар.
– Да.
– Он же, вроде как, под Старой Руссой копал? – удивился Виталя.
– Интересно – сколько он накопал?
Герман Васильевич – личность уникальная. Фронтовик. Связистом был. Закончил где-то под Кёнигсбергом войну. А вот до сих пор в отличной форме. Выезжает на вахту в средине апреля. Возвращается – в конце октября. Он один поднял и похоронил тысячу бойцов. Это не преувеличение. Тысяча. Полк.
Я как-то поработал с ним в паре. Чуть не сдох. Бегает по лесу как лось, практически не останавливается. А если остановился – точно бойца нашел. Потыкаешь щупом – где он показал. Есть. Косточки. Пока подымаешь – он еще одного, а то и двух нашел.
Железный мужик. Сейчас таких не делают. Мы уже не такие.
Перекусили. Оставили девчонкам вымыть наши «КЛМН» – кружка, ложка, миска, нож. Только у Ежа другой набор – «ЁКЛМН».
Стали собирать рюкзаки и палатки. Собрались быстро – за полчаса, не больше. Рюкзаки оттащили к «дороге» – колее от ГТТ – гусеничного тягача-транспортера, на котором Степаныч, командир местного поискового отряда привез нас сюда. Туда же оттащили мешки с останками бойцов. Четыре мешка. Десять бойцов. Опознать не удалось никого. Ни одного медальона. На одной ложке только выцарапано – «Андрей». Ну что ж… Так и похороним. Степаныч добавит на памятнике еще одно имя – «боец РККА – Андрей» и поправит число «И – 682 неизвестных бойца».
Одна из тысяч братских могил.
Потом сели у костра. Перекурить.
– Командир! Может остограмимся? – предложил Захар.
Леонидыч секунду подумал и кивнул. Потом снял с пояса фляжку. Открутил крышку:
– За победу! – глотнул и передал по кругу.
Глотнули и Рита с Маринкой. Юрка только подержал фляжку. Он не пьет. Никогда не пил. Даже шампанского. Еж над ним ржет – «Тимофеич, помрешь здоровым!». Юра приводит ему в ответ пример Германа Васильевича. Еж затыкается.
Семененко только понюхал водку:
– За победу!
– Зря, все-таки гитару на базе оставили… Вини, ты зачем гитару не взял?
– Еж, она в этой сырости разложилась бы быстрее, чем твои носки.
– Леха! – это он ко мне обратился – Ну что вы такие скучные?
– Тебе сплясать?
– Пойдем воронку качнем?
Я согласился. Хотя больше хотелось просто сидеть и бездумно смотреть на пляшущий огонь костра.
Но сначала пустили фляжку по второму кругу.
– За поиск! Чтоб удачный был.
– Пойдем?
– Еж, чего ты все кипешишь? – сказал Захар. – Третью сначала примем.
– Третья, мужики!
Мы встали. Молча сделали еще по глотку. Остатки Леонидыч плеснул на землю.
Я закурил и пошел к воронке.
Еж взял ведро. Я каску. Натянули болотники. Встали с краю на колени. И начали черпать воду.
Нагнулся, зачерпнул, разогнулся, выплеснул в сторону. Нагнулся, зачерпнул, разогнулся, выплеснул в сторону. Нагнулся, зачерпнул, разогнулся, выплеснул в сторону…
Как автомат.
Наконец, уровень воды понизился так, что можно спускаться вниз. Воды по колено. Продолжаем.
Нагнулся, зачерпнул, разогнулся, выплеснул в сторону…
– Вини! – крикнул Еж. – Ты поближе. Дай щуп!
– Давай кину, – отозвался тот.
– Иди в пень…
– Глубинный или такой?
– Обычный…
– Два давай. Я с этой стороны пощупаю.
Вини принес нам щупы. Сам распаковал миноискатель.
– Давай-ка посвищу…
Он сунул вниз «кочергу» минака, одел наушники, щелкнул тумблером:
– Еж, сунь щупом…
Андрей приблизил металлический прут к «кочерге»:
– Сигнал есть.
Мы подняли щупы вверх. Вини аккуратно прошелся по стенкам воронки:
– Тишина…
– Внизу?
– Сейчас…
Он сунул минак в грязь:
– Вот тут что-то вроде есть… Сигнал усиливается.
Еж потыкал щупом в коричневую грязь.
– Ага… Что-то мягкое… Пружинит. Противогаз что ли?
Я зачерпнул с этого места полведра грязи и вылил ее на краю воронки.
– Бесполезно. Снова натекает.
Я закатал рукав телогрейки и сунул руку в жижу сантиметров на сорок вглубь.
– Перчатку бы надел, дурила.
– Не люблю в перчатках. Плохо чувствую… Ага… Противогаз. Трубка в глубь уходит.
– Давай грязюку черпать.
Снова как на качелях. Черпаешь грязь, выливаешь ее по краям воронки. Вини сидит и копается в этой жиже, пропуская ее сквозь пальцы. Со стороны смотрится, будто бы взрослый мужик куличики лепит.
Еще через полчаса вокруг воронки вырос внушительный вал. На дне грязи стало чуть поменьше по щиколотку.
Еж взял лопатку и копнул под противогаз. Выкинул его на верх. Снова взяли щупы, стали протыкивать дно.
– Оп-па… – Сказал Вини. – Позвонок.
– А я чего говорил? Копали они ее в прошлом году, ага… – заворчал Еж.
– Фигня-война, главное – маневры. Я помню, в позапрошлом году, копали на высотке. И не фига. День ходили – хоть бы что. Железо только на камнях. Наши траншеи там камнем выложили, где только взяли столько… непонятно. Юра тогда сапоги о колючку изорвал. На следующий год приехали – Степаныч нас снова туда повез. И кому-то в голову пришло – камни поднять. В итоге семь человек. Три медальона. Как потом выяснилось – первый коммунистический батальон из добровольцев – студентов и преподавателей московских ВУЗов.
– Есть. Еще один позвонок. Еж, ты откуда черпал, когда сюда выливал? Еж показал щупом:
– Отсюда примерно…
– Покопайся там еще.
– Ага. Давай минак.
– Сейчас. – Вини вытер руки о штаны. – Есть что-то крупное. Копай.
Еж заработал лопаткой с одной стороны. Я с другой. И почти тут же скребнул по металлу.
– Подсумок, похоже… Ага. С гранатами, – я вытащил две «лимонки». С заглушками, слава Богу. Взрыватели отдельно, значит.
Еж чего-то запыхтел за моей спиной, а потом матюгнулся:
– Чего там?
– Череп. Я ему лопаткой заехал. Нехорошо-то как.
– Ему не больно уже.
Еж откинулся и навалился на стенку воронки:
– Вини, у тебя руки сухие?
– Относительно твоих – да.
– Будь другом, сунь мне сигарету в рот. В нагрудном кармане. Слева. Спички там же.
– Лех, мне тоже… – попросил я.
Попыхтели как паровозы. Еж «Балканкой», я – «Примой». Не могу в лесу с фильтром курить.
Тяжка, другая, третья… выплюнул. Сигарета зашипела в коричневой гуще.
– Поехали дальше.
Еж запыхтел, вытаскивая череп. Я наткнулся на россыпь винтовочных патронов. Ржавые до невозможности – переламывались в руках как веточки.
– Есть! – воскликнул я.
– Чего?
– Бедро. И второе.
– Отлично…Эй! У костра! – заорал Еж. – Пакет тащите!
Мирно болтавшие о чем-то своем поисковики подбежали к воронке
– Что у вас?
– Боец… Два позвонка, череп в каске и два бедра.
– Железо есть?
– Противогаз, каска, две лимонки с заглушками и патроны. Я их под кустик сложил кучкой.
– Ну что, мальчики-девочки… Работаем! – сказал Леонидыч. В глазах его появился азарт.
Отряд рассредоточился по периметру воронки, снова и снова прощупывая грязь.
Толик сел ломать патроны. Бывали случаи, когда бойцы вкладывали смертные записки в патроны. Бывало, находили такие, да…
Кстати, вы знаете, что найденным боец считается, если найдена, по крайней мере, одна бедренная кость? Ну и остальные в наборе…
Мелкие кости быстро растворяются в болотах. Череп тоже. А бедренные сохраняются долго.
Хотя раз на раз не приходится.
Возле ампуломета нашли бойца, от которого косточек осталось на пригоршню. Не понятно каких. Обгорели и крошились в руках. И треугольничек один. И больше ничего. Младший сержант, как минимум. Остальное сгорело.
А тут полноценный боец, можно сказать.
Когда работаешь – время летит незаметно. Ничего не замечаешь. Ни боли в пояснице и коленях, ни то, что руки окоченели. Курить и то забываешь.
Подняли одну берцовую. Кусочки таза. Еж поднял левые лопатку и плечо. Правых не было. Как не было и остального. Даже ребер не было. Не было и медальона. Каждый сантиметр в районе груди и таза прощупали. Нету. Я разогнулся и со злости вогнал лопатку в дно воронки. Там что-то хлопнуло и грязь фонтанчиком плеснула мне в харю.
Я машинально отдернулся.
– Лех! Цел?
– Скотство какое… – отплевался я, утерев лицо рукавом. – Цел.
Угораздило же попасть во взрыватель для гранаты. Еще и не гнилой.
Я нагнулся, пошарил в грязи. Точно. А рядом еще один. Значит еще один подсумок. Но медальона все равно нет.
Послышалось тарахтение где-то вдалеке, с каждой минутой превращающееся, сначала в рокот, а потом в грохот.
– Степаныч… Ну что, мужики, закругляемся?
Я выбрался из воронки. Сел. Закурил. Жаль… Еще один неопознанный. Выбрался и Еж.
– Дай-ка я еще посмотрю, – задумчиво сказал Вини. И прыгнул вниз.
А мы пошли на вторую воронку. Умываться.
Леонидыч пошел встречать Степаныча.
Плескались не долго. Руки вымыли, да лицо. От остального грязь так отпадет. Когда постираем на базе.
А Вини, – молодчина! – все-таки нашел медальон!
Везунчик, черт побери…
Правда, медальон был разбит. Может быть осколком. А может быть пулей.
Вини собрал черные осколочки и бросил их в мешок, куда сложили косточки бойца.
Из тягача вышел улыбающийся Герман Василич:
– Ну, как поработали!
– Одиннадцать бойцов. Медальон один, но разбитый.
– Ай-яй-яй… Жалко как…
– Здравствуйте, Герман Васильевич! – поздоровались девчонки.
– Добрый день, родненькие! Намаялись?
– Не очень! – улыбнулась Марина.
– Молодцы. Ну, грузитесь… Сейчас сразу на кладбище поедем. Ребята там могилу уже подготовили. Гробы тоже ждут.
– Батюшка будет?
– Я ему позвоню, когда подъезжать будем, – сказал Степаныч.
Девчонок посадили к Степанычу в кабину. Сами закинули вначале рюкзаки, лопаты и щупы. Потом мешки с косточками. После уже сами. Закрыли полог. Иначе вся грязь с гусениц жирными шматками полетит внутрь.
И тронулись.
В тряске и грохоте разговаривать очень сложно. Остается только думать.
Вот я и думаю.
А зачем мы это делаем?
Кому это надо?
Бойцам? Они уже мертвы и им все равно. Или нет? Или они вот прямо так сидят и ждут, когда их найдут? Вряд ли… Они своими смертями искупили все свои грехи. А, может быть, и не только свои. По крайней мере, благодаря им, мы и живем. Пусть нет уже той страны, за которую они воевали. Но это уже не их вина. А исключительно наша. И надо в рожу плевать, как минимум, тем, кто утверждает, что их смерти были бессмысленны. Даже если кто-то из них не успел даже выстрелить. В любой смерти есть смысл. Даже в такой. А то, что мы его не понимаем – это опять же, только наша глупость.
Они уже все отпеты – мусульмане, баптисты, староверы, православные и, даже атеисты. Перед Богом все равны. И перед смертью тоже.
А, может быть, это надо стране? Типа, народная память, и все такое. Сейчас приедем, народ соберется. Какой-нибудь чиновник произнесет пафосную речь, о том, что никто не забыт и ничто не забыто. Потом сядет и уедет по своим чиновничьим делам. Нет, ошибся. Не кто-то. Все так скажут. ВСЕ!
Если бы не такие как Степаныч – памятники уже давно обветшали бы и рухнули. Сгнили бы. Как это происходит у нас, в тылу. Стелу у Вечного огня красят каждый год.
А сколько кладбищ зарастает крапивой по бывшим деревням? Бывшим – потому, что мужики туда не вернулись. Да что там деревни… На кладбище построили дом культуры. Дискотеки проводят…. Пляски на костях… «Давайте поаплодируем нашим ветеранам!» Давай, скотина аплодируй. А назавтра ты подпишешь документ, по которому эти ветераны лишаются последних крох. И появляются боевые награды на черных рынках. Это мы – их дети и внуки – ими торгуем. Продаем свою память…
Может быть, это надо только нам, поисковикам? Типа, экстремальный вид отдыха и не более? Приехали, так сказать… Покопали. А знаете, как мы копаем? Мат-перемат через слово. Косточки достаешь – поссать захотел. Отошел в сторону – ноги замерзли, в воронке-то лед пополам с водой – и на сапоги себе струей. Тепла чуть-чуть.
Не место бабам в поиске. Не место. Не удобно им ноги греть…
И ржешь постоянно. Над ними и ржешь – «А давай ему пачку сигарет положим, сфоткаем, прикольно, гы-гы».
Зато приедем и будем хвастать – мы такие святые-пресвятые. Защитников Родины хороним. Можем речь сказать, песню спеть, статью написать, слезу пустить. Это мы умеем.
Гы-гы, млять…
Мы – поисковики, что ты! Красивые, молодые, в камуфляже все в парадном. В медальках жестяных. Сами себе рисуем медальки…
Вернули долг своей совести. Заодно патрончиков в костер покидали, да мины повзрывали. Ну и песни у костра попеть, тоже святое дело, как же…
Ненавижу песни у костра.
Да, да… Хвалите нас, что мы великое дело делаем. Можете еще одну грамоту подписать. Хотя лучше деньгами. Что? Нет денег? Как обычно… Епметь… Мы не святые. И в работе нашей ничего гордого нет. Она позорная, эта работа. Потому что страна, которая не хоронит своих мертвых…
Это моя страна. Я в ней живу. Я часть этой страны. А значит и мне гордиться тут нечем.
Вам понятно?
Мне нет.
Нельзя этим гордиться. Надо забить медальки в дупло себе – и молчать. Молчать о том, что ты поисковик. А не получается…
Так все-таки, зачем мы сюда ездим?
ГТТ дернулся, взрычал и остановился:
– Приехали, – спокойно сказал Степаныч. Он, вообще-то, всегда с виду спокойный. И злой, на первый взгляд. А на самом деле – очень душевный человек.
Мы повыпрыгивали на землю. Оказывается, приехали не в Демянск. А в какую-то деревушку. Остановились возле кладбища. Здесь же и стоял «Урал» демянских поисковиков. Они курили и громко хохотали у вырытой могилы. Рядом стояли небольшой кучкой местные старушки.
Мы же оттащили мешки в сарайчик.
Аккуратно разложили черные кости по сосновым гробам. Места хватило всем.
Потом вынесли их к могиле. Рядом с ней уже стоял высокий, седой батюшка с косматой бородой. В каждый гроб он положил по иконке.
И начал отпевание:
– Благословен Бог наш всегда, ныне, и присно, и во веки веков!
– Аминь! – запели дребезжащими голосами старушки
– Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится…
Бабушки затеплили свечки, которые раздал священник. А то стал кадить ладаном над гробами.
Герман Васильевич, как истый коммунист и атеист отошел в сторону, о чем-то разговаривая со Степанычем.
Отошли и Виталик с Захаром. За ними Еж. Ну и я тоже.
– Смешно это все… – сказал Захар.
– Что?
– Да религия ваша.
– Точно-точно, – сказал Виталик. – Тут почти все атеисты лежат. Комсомольцы. А, может быть, и мусульмане есть.
Я не стал спорить. Не люблю спорить о таких вещах. Да еще в такой момент.
Я просто закурил. А Еж пошел смотреть могилы.
– Будешь? – протянул мне Захар фляжку.
Я глотнул, почти не чувствуя горечи водки. Какая-то другая горечь из сердца забивала все остальные чувства.
Я подошел к ограде кладбища. Совсем рядом столя черный, покосившийся дом. Но жилой. Дым шел из трубы. А на столбы, державшие забор, были надеты каски…
– Сынок, закурить, ёксель, есть? – тронул меня кто-то за плечо.
Я оглянулся. Передо мной стоял старичок в смешной кепке, делавшей его похожим на гриб. Он улыбался стальными зубами. Двух, кстати, не было.
– Держи, – протянул я ему пачку.
– Две можно, ёксель?
Я кивнул.
Он аккуратно спрятал одну за ухо. Вторую прикурил от моей. Потом протянул руку:
– Иван.
– А по батюшке?
– Иваныч. Хотя батюшки-то, ёксель, не знаю… Найденыш я. И фамилию дали – Найденов.
– Почему найденыш?
– Ак это, ёксель, меня во время войны нашли тут. Поди думаю местный же, раз тут нашли…
– Да кто нашел-то?
– Ак наши, ёксель и нашли… Тута рядом село было. Бои там были…. Жуть. Мелкой я был. Мамку-папку не помню. Помню, немцы ходили. Подкармливали, да… Потом наши пришли. Немцев побили. А потом их всех там в селе и положили.
Иван Иваныч всплакнул:
– Молодые все были, сильные, красивые… Полегли там ни за понюшку…
– А вы-то как живы остались, Иван Иваныч?
– Ак это… Ёксель… Девка меня молоденькая из-под огня вытащила. Санитарка, видать, была. Красивая, да. Тадысь меня в ногу и обранило. Вон, глянь…
Иван Иваныч стал стаскивать штаны. Обнажив сатиновые трусы, не первой свежести, он показал кривой шрам на бедре:
– Вишь как, ёксель? Опосля их немец там и побил всех. А я, вишь жив, благодаря девке-то…
Я согласно промычал.
– А я, вишь, все думаю с тех пор, ёксель. Зачем я жив-то остался? Лучше б та девка жива осталася.
– А что, убили ее?
– Агась… Убило ее…
Я помялся и сказал ему:
– Может так надо, чтоб именно Вы, Иван Иванович в живых остались?
– На кой? Вот я трех детей родил. Старшой у меня тута и работал, пьяный напился и под комбайн угодил, средний – в Чечню эту проклятую поехал за деньгами да таки и невернулси, а последыш в Москве бизнесом деньги крутит. Переводы нам с мамкой шлет по праздникам. Тыщу пришлет – мы и рады, все ж помощь. А его ругаем, пусть себе оставляет – жизнь-то дорогая, сам, поди знаешь, и мы ему помочь стараемся. То картошечки пошлем с оказией. То огурчиков… На него вся надёжа.
– Внуки-то есть, Иваныч?
– Поди будут… Сынок, а выпить есть чего, за помин души? Я тебе картошечки отсыплю, а?
– Сейчас…
Я подошел к Захару, молча взял у него фляжку, наплескал крышку от котелка. Отнес деду.
Тот чуть поклонился, принимая водку:
– Благодарствую! Ну, ёксель… За помин души…
Выпил, не отрываясь. Втянул воздух носом. И на выдохе:
– Вкусно… Старуха разорется, ну да ладно. Не в первой. Спасибо, тебе солдатик.
Я провел по камуфляжу грязной рукой:
– Иван Иваныч, я поисковик.
– Знаю я… Все одно – солдатик. Похоронная команда. Ты мне вот, что скажи, солдатик, простит она меня, ёксель, али как?
– Кто? – удивился я.
– Санитарка-та, что меня вытащила? А? Я, вишь как… Жил, ёксель, работал, хлеб растил, а всё бестолочью вышло. На последыша надёжа, на последыша.
Я смешался, не зная, что сказать.
– Солдатик, а плесни водочки еще, а?
Я кивнул и снова пошел к Захару с Виталиком.
От толпы старушек вдруг отошла бабулька. Молча подошла к Иван Иванычу, дала ему подзатыльник и погнала его с кладбища. Напоследок он мне улыбнулся щербато-железным ртом. Виновато так улыбнулся. Мол, не судьба…
– Придите, последнее целование дадим, братие, умершему!
Я вернулся к могиле.
– Вземше мощи отходим ко гробу…
Батюшка положил в гробы бумажный листок с молитвой.
А потом мужики гробы заколотили и молча стали опускать на веревках в яму.
Один… Второй… Третий… Четвертый…
Мы кинули по горсточке сырой земли.
Потом взяли лопаты. Минут через пятнадцать могила была готова. Мы охлопали ее лопатами, подровняли бока. Через год Степаныч поставит здесь крест.
А памятник стоит в центре.
Подошел Еж:
– Интересную могилу видел. Старик на фотке. Боевой такой. Два «Георгия», две «Отваги», «Слава», «Звезда» и «За боевые заслуги». Жалко, что надпись стерлась. Разобрал только «1953». Интересно…
– Что?
– Да лицо, почему-то, знакомо.
– Покажи, где?
– Да где-то там, в зарослях на том конце. Или в ту сторону? Забыл…
– Вечная память! – запел священник. – Вечная память.
Дождик усилился. Словно кто-то там заплакал. Нет, не по бойцам.
По мне. По нам.
Вечная память!
Прощайте, мужики.
Нет. До встречи.
Вечная вам память.
А мы домой.
Смотреть чужие сны о чужой войне. И менять ту реальность, в которой мы находимся.
Эпилог
Мне снился сон – меня нашли в воронке. По косточкам подняли из земли. Мне снился сон – приходит похоронка К той девочке, с которой мы росли. И я подымаюсь с винтовкой в руке. Со ржавою кровью на ржавом штыке. Последний окопчик, последний покой. Дойти до могилы – Последний мой бой. Мне снился сон – меня не опознали, Мой медальон был пулею разбит. Мне снился сон – осколки доставали. Из сердца моего – куска земли. Кровавое солнце над лесом встает. И рота за ротой на небо идет. Пробитые каски, на ребрах бинты. Истлевшие письма – живые мечты. Мне снился сон, где мы дойти сумели – Землей в крови. И кровь на сапогах. Мне снился сон, что, умирая телом. Мы пробуем душой атаковать. Мне снился сон – наш взвод встает из праха. И где-то слышен погребальный стон. Мне снился сон – не знающие страха, Мы знаем ужас безымянных похорон. И черные кости в замерзших руках… Лежим мы повзводно в сосновых гробах… Патроны в подсумках, в глазницах вода. Я без вести павший обычный солдат… Мне снился сон…Послесловие
Совершенно необходимое на взгляд автора.
Дописал. Домучил. Добил. И понеслась душа в рай. Произведение начало жить своей жизнью, хотя окончательная редактура еще закончена.
Вчера позвонил журналист знакомый. Оказывается, внимательно читал те куски, которые я выкладывал в сеть. Сейчас хочет сделать интервью со мной. Я отказался. Вот выйдет в бумажном варианте, вот тогда и будем интервью давать. Но вопросы, которые он мне задал меня озадачили…
Вопрос первый:
Почему? В смысле, почему я написал ЭТО?
Почему, почему…
Спать не мог по ночам. Я после «Вахты» приезжаю – и снятся сны о войне. Каждую ночь в течение месяца. Вот такая я натура сентиментальная. Ночью просыпаешься – ком в горле, подушка мокрая и сказать ничего не можешь. Шлепаешь на кухню, сидишь там пьешь чего-нибудь безалкогольное и куришь, куришь… Вот и попытался избавиться от этого. Кажется не получилось…
А, может быть, это идет из детства, как говорят психоаналитики. Ну, кто из нас не сжимал кулаки, смотря «Горячий Снег» или читая «Брестскую крепость»? Кто не делал деревянные автоматы? И, попадая туда, где каски валяются на земле, где земля избита воронками, где сапоги рвутся о колючку, где костер нельзя разводить на непроверенном месте… Невозможно не представит себя – ТАМ.
Вопрос второй – как я это писал?
Садился и писал. Как еще-то… Включал военные песни и писал. Только не те, которые пели в войну. А уже современные. Не «Марш артиллеристов», а «По краю воронок» Визбора, «На братских могилах» Высоцкого, «Настоящий солдат» Розенбаума… Потому как те, старые, песни – поднимали в бой. А послевоенные – неофициозные – песни о войне, более личностны, более эмоциональны в плане человеческом. Они о человеке, о его судьбе.
«Судьба человека» – лучший фильм о войне. Символ, на котором я вырос. Кстати, да… Иногда включал на втором компе военные фильмы. Наши, немецкие, один раз даже китайский. Взрывы, свист пуль, грохот танков… Ых! Способствует аутентичности.
Вопрос третий – зачем я это писал? Прошу не путать с вопросом – «Почему?»
Начну издалека…
Еду я как-то из Севастополя. Работали там на Мекензиевых горах. А так получилось, что ехал один. Скууучно!!!
Добрался до Москвы, дела там свои поделал. Бросил рюкзак в камеру хранения и поперся в «Олимпийский», на книжную ярмарку. Хотел там поискать по обороне Севастополя что-нибудь.
В итоге купил двухтомник Конюшевского «Попытка Возврата», Буркатовского «Вчера будет война», Дойникова «Варяг-Победитель».
Вернулся на вокзал. До поезда еще восемь часов. Думаю, надо погулять. Книжки сдам в камеру хранения и пойду. Только кофейку бахну.
В итоге все восемь часов так и просидел в баре, перейдя от кофе к водке. И на поезд едва не опоздал. Очнулся минут за пятнадцать до отхода.
Ну а как приехал, как прочитал…
Так и сел писать сам.
Ну, написал. И чего?
Сюжет избит. Герои – типичны. Разговоры – обыденны. Смерти их обычны. Нет геройства. Кого спасли – так мир тоже не перевернул тот мальчишка. Ничего не изменилось.
Сначала пройдусь по коллегам:
Влад Конюшевский. «Попытка Возврата».
Классный приключенческий боевик. Без чернухи. Без порнухи. Можно рекомендовать детям старших классов как внеклассное чтение в качестве подготовки к урокам истории. Впрочем, возрастных ограничений тут нет. Ну а где вы еще найдете в такой увлекательной форме, например, описание действий милиции в годы ВОВ? Война – как приключение. Опасное, кровавое, но приключение. Не удивлюсь, если «Попытка возврата» станет бестселлером у многих поколений пацанов.
Да и чисто по человечески – Лисов мне очень симпатичен. Добрый «звэрь». Я б с ним бахнул. Но по причине не возможности, буду надеяться на совместную попойку с Владом.
Сергей Буркатовский «Вчера будет война».
А вот это чистая альтернативная история. Причем с грамотным, очень верным подходом. Любое изменение реальности приводит к адекватной отдаче этой самой реальностью. Принесли мы товарищу Сталину плеер с Высоцким, рассказали о 22 июня, о 5 марта и о 19 августа. И что?
Да ничего. Немцы в итоге нападают на неделю позже. Вместо Киевского котла – удар на Москву. Но главное в книге – судьба «собачьего парикмахера». Сильно. Соблюдено грамотное и правильное равновесие между судьбой человека и альтеристорическими картинами. И первая, на моей памяти, книга, где главный герой погибает. Безо всякого боевого «героизма», но с героизмом обычным, повседневным, военным… Прорвавшаяся полуторка с грузом снарядов – и вот Андрей все-таки изменяет ход войны. Не знаниями из будущего. Не артефактами и девайсами. А поступком.
Глеб Дойников «Варяг-победитель».
ООО!!!! А это технотриллер для железячников. Я гуманитарий и плохо отличаю шимозу от пироксилина (Я ничего не попутал?). Однако приключения главного героя – крейсера «Варяга» – захватили меня надолго. Я продирался сквозь описания, искал в инете карты. Пришлось отобрать у сынишки «Книгу будущего адмирала» – не старое советское издание, а новое. В двух томах. С таблицами сигналов и прочими мальчишескими радостями.
Сказать, что впечатлен – ничего не сказать. И с огромным нетерпением жду «проды».
Кто-то скажет, что книга Дойникова не блистает литературными достоинствами. А у Глеба и цель была другая. Это технический справочник в художественной форме. И точка.
Таким образом, мы имеем три направления в АИ:
1. Приключения человека.
2. Приключения истории.
3. Приключения железа.
Сразу предупреждаю – в слове «приключения» здесь нет ничего легковесного.
Но вот мне все равно, что-то не хватало в этих книгах.
Я понимаю, как человек, что «попаданец» в годы войны – имеет минимальные шансы выжить.
Я понимаю, как историк, что свернуть огромную махину государства и общества одному человеку – практически не реально.
Я понимаю, как психолог – что главная цель человека на войне – сначала выжить. А потом уже победить.
Вот и написал, уничтожая ГГ на каждом шагу, где только возможно. И единственное, что смог добиться – показать реалии войны. Из окопа. Из болота. Из-за пулемета.
И ведь добился того, что читатели стали обсуждать и критиковать – да не было латышских СС в сорок втором, да не могли они в Демянском котле быть… Ребят, вы забыли – это худлит.
Не знаю, смог ли я добиться того, чтобы человек, прочитавший «Воронку» понял и осознал одну вещь. Всего одну – будущее начинается сегодня. И менять его надо сейчас. А не вчера…
Извините за сумбурность мыслей.
С уважением, Ивакин Алексей.
З.Ы. Совсем забыл, что начал я этот сюжет в себе носить давно. Года эдак с двухтысячного. Когда песню написал «Мне снился сон». А потом уж вот… выродил и глобальнее…
Примечания
1
Мерецков К.А. На службе народу.
(обратно)2
Манштейн Э.Ф. Утерянные победы.
(обратно)3
Гранин Д., Адамович А. Блокадная книга. Письмо реальное и приведено без орфографической и грамматической правки. Документ эпохи.
(обратно)4
Действительно, до войны эти дисциплины изучали на одном факультете – историко-филологическом. Впрочем, многое зависело от конкретного вуза.
(обратно)5
Жюль Верн. Приключения капитана Гаттераса.
(обратно)6
Цит. по: Берггольц О. Ленинградская поэма.
(обратно)7
Все. Капец. Звездец.
(обратно)8
Тревога! Тревога! Свинские собаки! (Швайнехунд – свинские собаки – одно из самых излюбленных ругательств у немцев. Очень обидное, кстати.)
(обратно)9
Мой Бог (нем.).
(обратно)10
Шубин П. Волховская застольная.
(обратно)
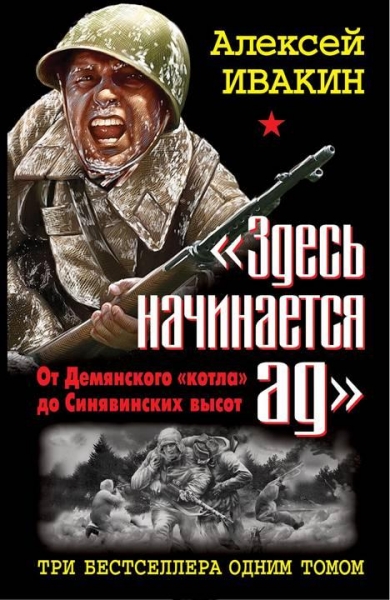


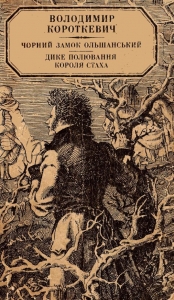

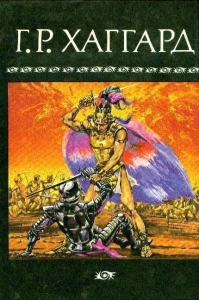
Комментарии к книге ««Здесь начинается ад»», Алексей Геннадьевич Ивакин
Всего 0 комментариев