Вениамин Лазаревич Вахман Проделки морского беса
Глава 1 ВРАЖДЕБНЫЕ ФЛАГИ
Ранней весной 1713 года русский военный корабль осторожно пробирался вдоль неприветливых берегов Голштинии. Все утро над морем висел туман, и корабль двигался медленно, неся лишь самые необходимые паруса. Но после полудня распогодилось, туман рассеялся, кое-где в просветах туч стали полосами пробиваться лучи солнца. Море покрылось серебристой рябью, у берега стали отчетливо видны желтоватые пятна над отмелями.
Стоявший на высокой корме капитан корабля приказал прибавить парусов, затем вынул из футляра раздвижную зрительную трубу и принялся наблюдать берег. Находившийся возле него лоцман из местных жителей, судя по внешности — рыбак, вопросительно поглядывал то на офицера, то, щуря стариковские, выцветшие глаза, пытался разглядеть песчаные береговые дюны.
— В этих местах хорошо ловится салака, — сказал он на жестком местном наречии — смеси немецкого и датского языков — и вздохнул. — А вот там дальше, за мысом, в устье реки Эйдер, водятся угри. Когда идет рыба, здесь полным-полно чаек. Носятся над самыми мачтами и, чуть зазеваешься, воруют рыбу прямо с лодки.
Капитан опустил трубу, спросил по-немецки:
— Деревни на берегу есть?
Лоцман махнул рукой.
— Никого здесь нет, господин. Теперь никто не может жить в этих местах. Шведы взорвали защитные насыпи, и во время прилива, да и в шторм, море вливается на прибрежные пустоши, и они давно уже превратились в болота.
— Где вход в реку? За этим мысом? — продолжал расспрашивать капитан.
— Да, милостивый господин. Но нам бы следовало обойти еще островок, он немного дальше. Рыбачьи лодки — те идут напрямик между мысом и островом и там дожидаются прилива, чтоб войти в реку.
Капитан внимательно посмотрел на небо, на рваные клочья облаков, на поддуваемый ветром вымпел на мачте. При повороте, если ветер дует в спину, следует соблюдать осторожность, а то корабль на ходу может развернуть кормой вперед.
Лоцман тем временем вглядывался в береговые приметы, повторял вслух, показывая вдаль пальцем:
— Вон сосна без ветвей, а на вершине прибита перекладина. Здесь надо держать к норду. А дальше будет столб с полосами, там снова станем ложиться на ост. Оттуда уже видно устье; оно очень широкое.
Был дан приказ к повороту, и тотчас на мачты по веревочным лестницам полезли матрозы работать на парусах. Корабль медленно отвернул тупой, круглый нос, увенчанный острым клювом, в сторону моря. У бортов забурлило, раза два брызги плеснули на палубу. Теперь корабль шел параллельно мысу. Впереди стал виден каменистый островок, за которым, по словам лоцмана, начинался уже речной фарватер.
И вдруг откуда-то из-за мыса донесся гулкий, как гром, пушечный залп и покатился вдаль по воде. За первым залпом грянул второй, третий… Это было так неожиданно, что оба, и капитан и лоцман, вздрогнули и посмотрели друг на друга.
— Что это?.. Что это?.. — испуганно забормотал рыбак. — Кто стреляет? Кто ведет такое большое сражение?
Жесткие полы его непромокаемого плаща из вощеной парусины трепыхались, как крылья перепуганной птицы.
Весь корабль наполнился топотом бегущих людей. Матрозы и офицеры без команды ринулись по своим местам: офицеры — на корму, матрозы — на палубу, ждали капитанских приказаний. Все напряженно вглядывались, стараясь понять, откуда стреляют и куда ложатся ядра. Но островерхие сосны на мысу все так же спокойно качали кронами, уступая ветру. Летевшая низко над водой белокрылая чайка на мгновенье взмыла повыше и снова ринулась к воде, заметив рыбешку.
Залпы продолжали следовать один за другим. Казалось, некоторые ударяли совсем рядом, другие доносились издали, приглушенно.
— Становись на якорь! — приказал капитан. — Схоронимся здесь за мысом.
— Может, сходить на шлюпке разведать? — предложил один из офицеров.
— Погоди… — отмахнулся капитан. Он напряженно глядел в трубу на устье Эйдера. Там, над речным плесом, медленно вспухали, поднимались все выше и выше клубы порохового дыма. Дым, сносимый ветерком, полз уже и над болотом. Капитан соображал: судя по всему, там дерется целая эскадра. Но кто и с кем дерется? Городок Эйдер, занятый русскими войсками, выше по реке. Оттуда пальба не доносилась бы так отчетливо.
Вдруг грохнуло так, что с сосен попадали мелкие ветки. Взрывную волну донесло и до стоявшего за мысом корабля. Пахнуло душным запахом горелого пороха, вымпел на мачте резко хлопнул, отметенный в сторону. Реи со свернутыми парусами чуть отвернуло, а сам корабль качнулся, будто ударило в борт штормом. За болотами, над рекой, взлетел кверху огненный столб, посыпались пылающие обломки.
— Господи, упокой души гибнущих моряков! — вскричал рыбак, стаскивая с головы вязаную шапку. — Чей же это корабль взорвался?
Никто ему не ответил. Капитан поглядел на марс, куда загодя были посланы два матроза наблюдать. Матрозы стояли, держась за ванты, по-гусиному вытянув шеи, исправно несли вахту.
После взрыва пальба прекратилась, наступила тревожная тишина. Слышно было только, как плещут о борта набегающие волны.
— Идут! — вдруг донеслось с марса.
Вдали, над болотом, медленно двигались корабельные мачты. Затем из устья реки Эйдер выдвинулся, прошел мимо сигнальной башни на берегу нос корабля, борт и, наконец, показался весь корабль. По сравнению с русским судном это был великан: высокий, трехпалубный, с богато украшенной кормой. На мачте бился синий шведский флаг. Корабль, неся только самые нижние паруса, медленно двигался вперед. За ним появился второй такой же, потом третий, с перешибленной ядром средней мачтой. Дым волочился за ним, медленно приникая к воде.
Первый из шведских кораблей прошел мимо островка и остановился. С него плюхнули в воду сначала носовые якоря, затем дополнительно еще один — кормовой. За первым встал второй корабль. Третий долго маневрировал: волочащиеся по воде сбитые ядрами снасти задерживали ход и мешали управляться. Наконец бросил якоря и он. Горящий фрегат не дотянул до остальных — приткнулся к прибрежной мели, и тотчас с остальных судов пошли к нему шлюпки с людьми — помогать.
На море случается нередко: стоят рядом или проходят на противных галсах два судна. Казалось бы, если первое видит второе, так и второе должно заметить его, ан нет! Так посветит солнце, так протянется зеркальная дорожка бликов, так налетит облачко тумана: я тебя вижу как на ладони, а ты и не подозреваешь, что я — вон он, тут.
Капитан русского корабля внимательно разглядывал вражескую эскадру. В окуляре зрительной трубы все словно рвалось навстречу глазу, становилось близким: и коричневые выпуклые борты с более светлыми полосами там, где прорезаны пушечные порты, и рваные, обвисшие снасти, и даже следы пороховой копоти.
Шведы же не обратили на медленно движущееся судно никакого внимания, точно его и не было.
— Нам сии враждебные флаги не переждать, — сказал капитан, обращаясь к офицерам, стоявшим рядом. — Подождем темноты и уйдем. Надобно поспешать. Мы повинны доставить со всяким тороп- лением господину фельдмаршалу Меншикову наиважнейшее известие, с коим мы посланы.
Глава 2 ЧЕСТЬ РОССИЯНИНА
Наутро тот же русский корабль подошел к маленькому рыбачьему городку Фишгаф. Если судить по ландкарте, отсюда было около десяти немецких миль до Эйдера. Корабль лег в дрейф. Тотчас с него спустили шлюпку. Как только днище шлюпки ударилось о поверхность воды, матрозы в рабочих бастрогах и в войлочных, похожих на гречишники шляпах разобрали весла, подвели шлюпку к штормтрапу. По штормтрапу осторожно спустились четверо людей в зеленых с красными воротниками и обшлагами Преображенских мундирах, треугольных шляпах и тяжелых ботфортах. Двое из них были младшие офицеры — фенрихи, или, по-русски, прапорщики; двое — простые матрозы.
Мундиры любимого царем Петром Преображенского полка носили в то время и моряки, специальной формы для них еще не придумали. Только на работы надевали короткие канифасные бастроги — голландские куртки — да широкие штаны пузырями. В длиннополом мундире по мачтам не полазишь.
Шлюпка, отвалив от корабля, ходко пошла к берегу. Обошла старинную башню, выстроенную на конце мола, сложенного из тесаных камней. В башне когда-то жила береговая стража, охранявшая городок от морских пиратов. Теперь она стояла пустая и полуразрушенная, а возле мола вместо купеческих ганзейских кораблей качались лишь убогие рыбачьи лодки.
Передний из гребцов, положив весло, схватил лежавший возле него багор, ловко зацепил за расселину в каменной кладке, причалил шлюпку к молу. Четверо приезжих, один за другим, выбрались на сушу.
— Ну, бог вам в помощь, господа волонтеры, — крикнул из шлюпки сидевший у румпеля старший урядник унтер-офицерского звания, ходивший на корабле боцманом. — Скоро свидимся.
— Спасибо на добром слове, — отозвался один из фенрихов. Другой только помахал на прощанье рукой.
Шлюпка отчалила и пошла назад к кораблю.
— Ух, наконец-то под ногами земля, а не палуба! Однако с отвычки меня и тут качает, — весело сказал тот, что махал рукой на прощанье. Он был невысок ростом, голубоглаз и волосы имел светлые. — Ежели будет на то моя воля, николи больше не ступлю ни на один корабль. Я с детства маюсь кружением головы. С палубы на воду глядеть и то сердце заходится. А тут страх какой! Гоняют тебя на мачты, как матроза холопского звания!
Второй фенрих, рослый, плечистый, дружески хлопнул товарища по спине.
— Ну уж, Акимушка, не гневи бога. Тебя-то не больно гоняли. Всем известно, кому ты гостинцы носил, только б не посылали на реи.
Аким Яблоков засмеялся.
— Ну, носил, ну и что? Ты, Елизарка, прирожденный мореходец, ты и служи. А я уж тяте домой отписал: так, мол, и так, выручай, отхлопочи. Пущай назначают назад в пехоту, а лучше в кавалерию. Лошадей я страсть как люблю.
— Терпи, моряк, сам царь начинал флотскую службу с каютного хлопца и матроза, — сказал Елизар. — Однако надо нам поспешать в здешний ратхауз, раздобывать лошадей. Едем-то по важной казенной надобности.
Ратхауз, городская ратуша, помещалась неподалеку, на рыночной площади. Моряки подивились на шпиль лютеранской кирхи, где вместо креста крутился по ветру железный петух, потолкались между торговцами, посмотрели, чем торгуют. Торговали преимущественно салакой, лишь на некоторых ларьках лежали грудки овощей. Небогато жили немцы.
Двухэтажное здание ратхауза с вычурным крыльцом выглядело пустынным. Стекла на окнах пыльные, на ступеньках крыльца всякий сор. Но тяжелая дверь, окованная железными полосами, была отворена.
В небольшой готической зальце, под гербом города, за столом сидел муниципальный чиновник — пожилой, тучный мужчина в седом парике. На груди у него красовалась большая медная бляха, тоже с гербом, висевшая на плоской, широкой цепи. У стены за высоким пюпитром конторки стоял тощий писец. Писец вместо галстука обмотал шею старым шерстяным чулком.
При появлении военных писец от неожиданности уронил перо на пол и замер, не смея наклониться за ним. Чиновник уставился на вошедших. Оба офицера отсалютовали по форме, затем Елизар вынул из-за обшлага казенную бумагу с печатью и протянул советнику.
— Die Fahnriche der Russischen Flotte: Owt… Owtshina-Schub- nikoff, Eleasar und Ja… Ja… Jablokoff, Joachim, — запинаясь прочел чиновник, — mit Bedinungsmannshaft… [1] следуют в российскую армию…
Чиновник положил бумагу, вздохнул, почесал ухо.
— Ехать unmoglich. Невозможно! — сказал он. — Вчера там так стреляли пушки… Стекла в окнах дрожали.
— Одно лопнуло! — добавил писец. — У госпожи Марты в гостиной.
— Францель! Помолчи! — строго прикрикнул чиновник. — Пиши, что тебе приказано.
— Ну и что с того, что стреляли? — вскинулся Аким. — Мы люди военные.
Чиновник недовольно взглянул на него. Что он мелет?
— Я не могу посылать городских лошадей туда, где они могут быть убиты.
— Так сегодня же не стреляют… — миролюбиво заметил Елизар.
— Ах, господа капитаны! — чиновник возвел глаза к потолку. — В городе остались всего четыре лошади: две на водовозке, две в пекарне. Остальных забрал господин русский фельдмаршал фон Мен- шиков.
— Вот этих и давайте, — спокойно сказал Елизар. — Тут не столь уж далеко : лошади завтра вернутся.
Чиновник от расстройства чувств даже в ухе пальцем засверлил :
— Найн, найн, нельзя! Тут уже дожидаются господа голштинские и датские полковники… И господин князь… Им надц добраться до датских войск…
— Ну и файн, отлично! Пусть сначала едут к нам в гости: мы же союзники… Отправляйте нас всех оптом… ан-гро, господин советник; за лошадей мы уплатим, да еще охранную записку дадим, что мы вернем их…
— Вернете, вернете! — чиновник явно приободрился. — Вон у меня — гора расписок! Все говорят «вернем», а лошадей нет…
— Как? Что? — вышел из себя пылкий Аким. — Да вы русских офицеров оскорбляете?! Что мы — воры? Вы знаете, что полагается за оскорбление чести?
— Соглашайтесь, господин советник! — захныкал писец, шмыгая носом. — Они вас вызовут на дуэль и убьют!
Чиновник вытер вспотевший лоб громадным платком.
— Я уступаю силе… Слышишь, Францель! Я уступаю этим господам, потому что у меня нет другого выхода. Я не военный, не дуэлянт. Господа, идите в гостиницу, пообедайте, а ты, Францель, беги к почтмейстеру, пусть даст самую большую карету. Отправим всех сразу к господину фельдмаршалу фон Меншиков.
Городская гостиница и трактир при ней помещались тут же на площади в старинном доме с необыкновенно островерхой крышей. Ее скат начинался где-то на уровне второго этажа и поднимался вверх еще на один этаж и на два чердачных. Под самым щипцем кровли поперек улицы торчала массивная балка с прикрепленным к ней блоком для подъема тяжестей. Видимо, оба чердачных этажа служили торговыми складами для товаров.
В отличие от ратхауза гостиница оказалась закрыта намертво. Аким Яблоков долго стучал дверным молотком, прислушивался и снова стучал. Внутри здания слышались голоса, кто-то пел, но открывать не шли.
— А ну, Тимофей! — приказал Аким матрозу. — Давай постучи ты. Да погромче!
Высоченный Тимофей не заставил себя просить. Дверной молоток ему не понадобился. Он огляделся, чтобы не зашибить товарищей, примерился и так трахнул в дверь огромным ботфортом, что, казалось, все здание вздрогнуло. Трахнул раз, потом еще. После третьего раза послышались торопливые шаги, скрип отодвигаемого засова, дверь приотворилась, и оттуда высунулась голова слуги в свисающем на ухо колпаке.
— Сегодня у нас закрыто, сегодня здесь пируют господа дворяне. Никого пускать не велено, — торопливо сказал он и попытался затворить дверь перед носом посетителей. Но не тут-то было. Тимофей надавил плечом, створка двери распахнулась, и слуга оказался притиснутым ею к стене.
— Хозяин! — завопил он, силясь высвободиться. — Хозяин! Разбойники!
Выбежавший на крик хозяин гостиницы, увидев форменные мундиры, смутился, затем отвесил низкий поклон.
— Милости просим. Для таких гостей мое заведение открыто всегда! Глупый парень подумал, что ломятся какие-нибудь рыбаки или крестьяне, потому и не торопился открывать дверь. Сейчас господа будут устроены. Кроме залы, где сегодня собрались наши окрестные помещики, есть еще свободная горница.
Помещение, куда хозяин провел моряков, на русский глаз выглядело непривычно. Посередине просторной трактирной залы была массивная дубовая лестница, которая вела на антресоли. Оттуда слышались шум и голоса. С потолка на закопченной цепи свисало обычное тележное колесо, утыканное гвоздями. На гвозди были насажены свечи. Таким образом колесо служило своеобразной люстрой.
Второй матроз, Иван, человек бывалый, да и постарше возрастом, оглядев помещение, хмыкнул.
— Эге, и тут берут налог за окна! Я такое уже видывал в голландских землях и в аглицких. Снаружи вроде один этаж, внутри получается как два, а окна посередке. Платить за одну пару. Хитры люди!
Исчезнувший было трактирщик появился в сопровождении двух слуг. Расторопные слуги поспешно накрыли скатертью один из столов под антресолями, подвинули стулья. Трактирщик вопросительно посмотрел на фенрихов.
— Господа будут обедать?
— Будем, — ответил Аким. — Тащи всякой еды, а вина не неси. За питие вина с нас строго спрашивают!
Он первым подвинул себе стул и удобно уселся. Елизар сел на второй. Матрозы потоптались было, поглядели на дверь кухни.
— Садитесь с нами, — разрешил Елизар. — Время военное, чего чиниться.
Матрозы составили к стене сундучки, примостили там же свертки с одеялами, перекрестились на угол, где вместо иконы на полке стоял расписной горшок с колючим мясистым растением, видно привезенным из-за дальних морей, и осторожно присели на самые краешки стульев.
Теперь, когда глаза привыкли к полумраку и к неверному свету свечей, горевших наверху на антресолях, путники увидели, что по другую сторону лестницы за столом сидят четверо военных в иностранных мундирах. На двоих они были канареечного цвета: такие мундиры носили голштинцы. Третий был в красном, значит, датчанин, а самый последний, сидевший в верхнем конце стола, в темном кафтане. Иностранцы ели молча, молча наливали вино в бокалы, молча пили. Русские офицеры, привстав, вежливо поклонились, иностранцы наклонили головы не вставая,
— Ишь важничают, — вполголоса сказал Аким Елизару. — Может, не возьмем их с собой в карету? Пусть сидят тут.
Матрозы весело заржали. Елизар махнул рукой.
— Ладно, свезем, нам не жалко.
Обед подали невкусный: капустный суп, жилистую говядину, кувшин жидкого пива. Нарезая мясо, Елизар машинально прислушивался к тому, что творилось наверху. Потолок хорошо отражал звуки. Пирушка на антресолях была в самом разгаре. Слышались нескладное пение, выкрики, громкий, пьяный смех. Кто-то, сидевший, очевидно, с краю, долго и очень обстоятельно объяснял соседу, что, несмотря на войну, он не намерен в этом году снижать арендную плату. Крестьянам только дай волю, они вообще ничего платить не станут! Его собеседник соглашался, поддакивал.
Вдруг чей-то громкий голос перекрыл весь многоголосый шум:
— Господа! Господа! Внимание! Господа, я предлагаю выпить за здоровье короля!
— Какого короля? — крикнул другой голос. — Король сгинул.
— Выпьем за здоровье короля Швеции, Карла Двенадцатого, которому мы все дали верноподданническую присягу. Выпьем за здоровье короля-рыцаря!
— К черту! — прервал провозглашавшего здравницу чей-то грубый, хрипловатый бас. — С какой это стати мы, дворяне, станем пить за здоровье этого легкомысленного мальчишки!
— Король великий полководец! — не унимался первый. — Шведские львы покорят весь мир.
— Замолчите, юнкер! Ваш лев сидит в турецкой клетке, исклеванный русским орлом.
— Я предлагаю выпить за царя Петра! Он ценит дворянство! — крикнул новый голос.
— Перестаньте, сосед! Царь Петр сам неотесанный мужлан, и придворные его — мужики. Разве царское дело — самому плотничать!
Спор все больше и больше разгорался.
— Аким! — тихо сказал Елизар. — Ешь быстрее. Надо бы нам отседа уйти. Негоже офицерам российского флота слушать такие речи.
Аким кивнул, отправил в рот огромный кусище мяса и только собирался запить его пивом, как сверху вниз по лестнице с грохотом простучали чьи-то тяжелые башмаки.
— Юнкер, вернитесь! — кричали сверху.
— Нет! — твердил немецкий дворянчик, пошатываясь и повисая на перилах. — Нет, я оскорблен! Моя честь уязвлена!
Снова по лестнице прогрохотали шаги — спускались еще несколько человек.
Аким, запрокинув голову, пил, стараясь скорее прожевать и проглотить жесткую еду. Вдруг перед столом, за которым сидели русские моряки, появилась странная фигура, в съехавшем набок парике, в расстегнутом камзоле и жилете и с задранными до локтей рукавами верхней одежды, так что за пышными кружевными манжетами видна была старая, разлезшаяся на локте рубаха.
— Оге! — закричал немец. — Охотники, сюда! Я вижу крупную дичь! Московиты, азиатские свиньи, дикари…
Аким грохнул на стол кружку, с усилием проглотил застрявший во рту комок еды. Лицо его пошло багровыми пятнами.
— Близарушка! — сказал он просительно. — Елизарушка, не стерпеть мне! Дозволь… Я его один только разок…
Сильная рука Елизара придавила Акима к стулу.
— Сиди, Аким. За поносную брань разочтемся в другой раз, а сейчас нам драка не с руки. Мы при службе…
Между тем пьяного немца окружили спустившиеся с антресолей собутыльники.
— Вон отсюда этих солдат! Дворяне не желают дышать одним воздухом с русскими мужиками! С азиатами! — выкрикивали они, грозя кулаками,
Аким ловко вывернулся, так что рука Елизара шлепнулась на стол, вскочил, повернулся к обидчикам. Кровь в нем взыграла.
— Это мы «швайнэ»?! — сдавленным голосом спросил он. — Это мы азиаты? А кто на нас лается? Немецкие кабаны, вонючие пивные бочки, колбасники! А ну, брысь отсюда!
Он схватился за эфес шпаги, потянул клинок из ножен. Немцы шарахнулись и тотчас тоже выхватили шпаги.
Елизар обхватил друга сзади, придавил, оттянул назад*
— Сказано — нельзя, и не ершись! Им-то что? Они гуляют! А по нашему воинскому артикулу офицерские дуэли запрещены, виновных — в железо да на каторгу; а за убийство и повесить могут.
Аким пыхтел, пытаясь высвободиться. Елизар мигнул Тимофею, Акимову денщику: подсоби, мол. И как только Тимофей перехватил упирающегося барина, Елизар схватил стул, примерился и ловко запустил им в самый центр группы. Тяжелый, грубо сработанный стул мог основательно зашибить, и немцы инстинктивно сделали то, на что толкнуло их чувство самосохранения — выставили навстречу шпаги. Несколько клинков воткнулись в сиденье, у одной шпаги со звоном отломился конец.
— Господа! — спокойно сказал Елизар. — Странный обычай в здешних краях встречать гостей! Мы проезжие люди, мы офицеры, следующие по государевой надобности.
Наступило замешательство. Немцы немного отрезвели, смущенно переминались. Наиболее благоразумные потихоньку оттесняли задир.
Вдруг между обеими группами появился высокий иностранец в темном кафтане и пышном парике цвета воронова крыла, тот самый, что обедал за соседним столом. Он протянул вперед руку, как бы требуя прекратить ссору.
— О! Фуй, шанде! [2] — произнес он укоризненно. — Фи! Так поступают мужланы, простолюдины! Дворянам следует всегда помнить: шпага — младшая сестра рыцарского меча. Ее нельзя обнажать в кабаках. А вы играете вашими шпагами и рапирами как тросточками. Прошу разойтись, господа!
Неизвестно почему, но этот вельможный, уверенный голос и произнесенные слова подействовали на забияк как приказ. Немцы, толкаясь, торопясь, выдергивали клинки из сиденья стула, поспешно заталкивали шпаги в ножны и один за другим спешили к выходу. Выбежавший из кухни перепуганный трактирщик с низкими поклонами провожал их.
Иностранец церемонно поклонился Елизару.
— Вы обладаете завидным хладнокровием, — произнес он с усмешкой. Это можно было понять как комплимент и как замаскированную издевку: по понятиям дуэлянтов тех дней, сражаясь на шпагах, кидаться стулом неприлично.
Елизар вспыхнул, но сдержался. Он взглянул прямо в лицо иностранцу и спокойно ответил:
— Нам сносить незаслуженные обиды и этакую неучтивость столь же непривычно, как и вам. Были б мы вольные люди, а не на службе, сумели б постоять за себя. Но честь россиянина не в том, чтоб напрасно петушиную спесь показывать, а в том, чтоб честно и с пользой служить отечеству.
Глава 3 ПОСЛАННИК ЦЕЗАРЯ
Обещанная советником карета вскоре прибыла. Это была ветхая семейная берлина, вероятно долго служившая какому-нибудь помещику и вмещавшая в себя все его многочисленное семейство. Кроме мест внутри кареты, сзади имелись еще запятки для слуг. Карету волокли четыре лошади: две очень рослые, но тощие водовозные клячи и две разномастные низенькие крестьянские лошаденки, видимо принадлежавшие пекарю.
— Мне приказано отвезти господ в город Эйдер, — важно объявил с козел кучер.
— Почему в Эйдер? — закричали голштинцы.
— Почему в Эйдер? — подхватил датчанин. — Мне надо в Гузум, там стоит наша армия.
— Карета поедет в Эйдер и больше никуда, — властно перебил спорящих все тот же высокий незнакомец в черном кафтане и пышном парике. — В Эйдер следуют трое пассажиров: я и вот эти двое молодых людей, — он указал на Елизара и Акима. — С ними еще двое слуг. Моего слугу я оставляю здесь с багажом. А вы как желаете, господа? Можете присоединиться к нам и просить у князя Меншикова уже в Эйдере лошадей для дальнейшего следования.
Датчанин и оба голштинца отошли в сторону, посовещались, затем объявили, что согласны. Лучше добраться до русских, чем сидеть здесь и проедать подорожные деньги.
— Позвольте узнать, — решительно спросил Елизар незнакомца в черном, — с кем мы имеем честь?
— И позвольте представиться, — добавил Аким, — офицеры российского флота, фон Яблоков и фон Овчина-Шубников.
Глаза Елизара лукаво блеснули. Ишь какой Акимка резвец! Сразу перенял манеру немцев каждому дворянину вешать к фамилии «фон».
Черный церемонно поклонился, снял маленькую, сплюснутую с боков шляпу, выставил вперед правую ногу, помахал шляпой, словно подметая пыль перед собой. Полы его длинного кафтана оттопырились в стороны, шпага просунулась сзади в разрез, поднялась торчком, как хвост.
— Граф Штерн фон Штернфельд, дипломат. Его цезарское величество, мой повелитель, и ваш император и царь Петр Первый питают друг к другу сердечную симпатию, и я спешу выполнить возложенную на меня миссию.
Пришлось и фенрихам тоже снять шляпы и поклониться согласно европейскому политесу, то есть учтивости. Захотели представиться и датчанин с голштинцами. Эти были в невысоких чинах: датчанин капитан, а голштинцы подлейтенанты.
Графу предложили первому занять место в карете. Он, не торопясь, поставил ногу на подножку, ловким движением поднял кончиком шпаги край плаща, который набросил ему на плечи слуга, и легко впорхнул в карету, точно в светскую гостиную. За ним полез капитан и оба голштинца; последними поднялись русские фенрихи. Матрозы вскарабкались на запятки, примостили в ногах сундучки и свертки. Кучер щелкнул длинным бичом, мальчишка почтальон протрубил в почтовый рожок, и скрипучий экипаж тронулся.
Елизар и Аким с любопытством глядели на проплывающую мимо каретных окон незнакомую страну. За городской околицей потянулась ровная, как тарелка, равнина. Только по краям дороги торчали могучие, очень старые, покореженные ветрами, словно уставшие от долгой жизни грабы и дубы. Лишь кое-где на межах между полями торчали чахлые кустики, обглоданные козами. По полям, там, где не было пашни или огорода, важно разгуливали тучные, круторогие коровы, охраняемые собаками.
Ехали быстро, хотя огромные колеса экипажа поворачивались словно неохотно и скрипели, точно жалуясь на непосильный труд. И лошади вразнобой стучали копытами, нагоняя сон.
Пассажиры в карете молчали. Голштинцы сперва пялили остекленелые, как видно с сильного перепоя, глаза, старались держаться перед русскими молодцевато, но медленное покачивание кареты скоро сморило их. Оба доблестных воина привалились друг к другу и захрапели. Датчанин не отставал: запрокинув назад голову, он храпел с присвистом, причмокивал и во сне что-то бормотал. Только граф сидел выпрямившись и неторопливо перебирал длинными, полуприкрытыми кружевом манжет пальцами кипарисовые четки. Даже издали от четок пахло чем-то пряным.
Елизар нет-нет да поглядывал на графа. С левой стороны груди у того орденская звезда какого-то иностранного ордена; рукоять шпаги тонкой работы. А примечательнее всего лицо дипломата. Таких лиц на Руси вроде бы и не встретишь. Лицо узкое, с длинным массивным подбородком, с ложбинкой посередине; губы тонкие, плотно сжатые, с пренебрежительно опущенными вниз уголками. Под носом усики, пробритые в ниточку сверху и снизу, топорщатся щеточкой. Концы усов напомажены, торчат кверху острыми иголочками. Нос крупный, горбатый, хищный, как клюв ястреба. Брови широкие, почти сходятся на переносице, а глаза небольшие, серые, с кремнистым блеском, взгляд острый. Но глаза граф прячет под полуприкрытыми веками. Высок или низок лоб, не поймешь: к самым бровям свисают кудряшки-букли от парика.
Матрозы, Иван и Тимофей, сидевшие снаружи, видно, заскучали, вполголоса затянули песню про родную сторону, да про луга и леса, да про зазнобушку, полонившую сердце молодецкое. Знатный иностранец пошевелил бровями, но ничего не сказал, только чуть быстрее стал перебирать свои четки.
Прошло еще полчаса. Голштинцы и датчанин храпели, граф кончил перебирать четки, спрятал их в карман, извлек из жилета золотые часы на золотой же цепи, отколупнул крышку, поглядел, который час, спрятал, достал другие часы, сверил с первыми.
Аким не выдержал, тяжело вздохнул — позавидовал. В Европах всякий знатный человек носит при себе не одну пару часов, потому что едины часы могут время неверно показывать, а коли имеешь две или три штуки, тут уж не ошибешься. А у них с Елизаром на двоих одни часы, да и не в золоте, а в свинцовом футляре; спрятаны в Елизаровом сундучке. И этих бы не было, кабы не морская служба. Попробуй добудь у нас в торговых рядах такие часики, как у этого графа! Ни за что не найдешь.
Карета продолжала так же быстро катиться вперед. Кучер изредка щелкал бичом, да мальчик почтальон иногда трубил, дразня любопытных собак. После этого овчарки долго заходились усердным лаем. Налетавший порывами с моря ветерок шелестел листвой придорожных деревьев.
Проехали несколько деревень. Деревни были чудные, не похожи на русские. Дома каменные, заборы тоже. Многие дома крыты черепицей, а у бедняков соломой, так же как на Руси, только солома добрая, не подгнившая и не раздерганная голодной скотиной. В последней деревне напоили лошадей, дали им отдых. Пассажиры вышли из кареты поразмять ноги.
— Как вам здесь живется? — снисходительно спросил граф у толстой немки в ушастом чепце, которая принесла крынку молока и кружки. — Солдаты не обижают?
Женщина вздохнула.
— И так и этак бывает, милостивый господин. Натерпелись немало. Не дай бог шведов или голштинцев. Цсе хватают, все крадут… *
Елизар взглянул на голштинских подлейтенантов. Те пили молоко, уписывали ломти хлеба и будто не слышали.
— Датчане-то иногда платят, — продолжала крестьянка. — Вот русские ничего не берут без спросу [3].
Подошел старик, снял рваную шляпу, издали стал кланяться. Потом опасливо спросил, отчего вчера учинилась такая страшная стрельба? Кто с кем сражался? Кто кого победил?
Граф не ответил, небрежно вернул глиняную кружку, швырнул на землю монетку. Крестьянка нагнулась, подняла, долго приседала, благодарила.
За деревней дорога стала хуже, вся в ухабинах. Карета заколыхалась, как на морских волнах, заскрипела, стекла задребезжали. Кучер поминутно щелкал бичом, покрикивал на лошадей. Въехали в лес, сразу стало темнее и прохладнее. Вдруг карета с ходу ткнулась в колдобину так, что под полом что-то хрястнуло. Матрозы соскочили с запяток, подсобили, колымага было выбралась из ямы и вдруг осела, завалилась одним углом.
— Выходите, господа! — закричал кучер. — Надо посмотреть, что случилось!
Случилось наихудшее из того, что могло случиться, — лопнула задняя ось. Дальше ехать было невозможно. Кучер глядел на сломанную ось, качал головой.
— Ай-яй-яй! Что мы будем делать, Ганс? Тут без кузнеца не обойтись.
Подросток почтальон решительно закинул свой рожок за спину.
— Может быть, сходить в деревню?
— В этой деревне кузнеца нет, — причитал кучер. — Надо идти в следующую…
— Нам недосуг ждать, — решил Елизар. — Придется идти пешим.
— Ясное дело, — согласился Аким.
Матрозы поспешно выгрузили багаж, сняли кушаки, прихватили за скобки сундучки, чтобы удобнее было нести. Стоявший неподалеку граф вдруг рывком скинул свой широкий плащ, свернул его, взял под мышку.
— Я с вами, господа, если вы не станете возражать, — обратился он к фенрихам. — Мое дело тоже не терпит отлагательства.
Молодые люди переглянулись.
— Так ведь идти немалое расстояние. Дай бог ночью добраться, — нерешительно сказал Аким. — Не лучше ли вам… abwarten… Обождать?
— Я хороший ходок, — усмехнулся граф. — Поверьте, лишний спутник, вернее, лишняя^'шпага и пара пистолетов при нынешних обстоятельствах не помешают.
Голштинцы и датчанин продолжали топтаться возле кареты.
— Мы, пожалуй, вернемся, — заявил датский капитан. — Я слишком дорого заплатил нашему королю за свой офицерский патент, ухнул на это почти все состояние, даже приданое сестры. Я не могу рисковать. Мне надо сначала дослужиться до командира роты, чтобы вернуть затраченные деньги…
— На солдатских харчах вернуть! — шепнул матроз Иван Тимофею. — Знаю я, как у немцев солдаты живут: хуже наших колодников в острогах.
— Ну что ж, сударь, ежели так, то мешкать нечего, пошли! — предложил Елизар.
Зашагали гуськом по обочине дороги. Моряки не привыкли к большим переходам, и вскоре оба матроза, тащившие сундучки, и коротышка Аким начали отставать, только граф и рослый Елизар шагали бодро.
После долгого пребывания на корабле русские радовались зелени, траве, пряному запаху леса. Правда, лес был не такой, как на Руси, где леса густые, нетронутые, всякого зверья пропасть. Здесь, в неметчине, лес не тот, даже птиц и то вроде мало; не слышно их гомона.
Прошли верст пять. Вдруг на повороте дороги увидели расчищенную площадку, а на ней колодец, обложенный камнем, над колодцем бадья на блоке, на земле деревянная колоДа — поить скотину. Увидев колодец, уставшие матрозы припустили быстрее, так хотелось глотнуть студеной воды, обтереть потное лицо.
Елизар, шедший первым, раздвинул кусты возле площадки и вдруг попятился назад, услышав цоканье копыт на дороге.
— Хоронись! Может, шведы!
Матрозы, как лесные кабаны, шарахнулись назад, попадали на землю. И в тот же миг из-за поворота показалась лошадиная морда и синяя грудь шведского солдата. Швед привстал на стременах, огляделся, крикнул что-то назад. Рядом с первой лошадью показалась вторая. Шведы о чем-то посовещались, потом спешились и повели лошадей к колодцу. Почти тотчас к ним присоединились еще четверо драгун. Старший, прибывший первым, продолжал поглядывать в ту сторону, откуда ему послышался шум и где лежали, притаившись, наши путники. Второй солдат подошел к колодцу, распутал веревку, начал спускать бадью. Несмазанный блок противно скрипел. Слышно было, как бадья плюхнулась в воду, заплескала, потом снова заскрипело. Солдат подхватил поднятую бадью за дужку, припал к краю, начал жадно пить, дал напиться товарищам. Затем шведы, напоив лошадей, достали из сумок какую-то снедь, расселись на траве закусывать.
— Ишь дьяволы! — зашептал прямо в ухо Елизару проголодавшийся Аким. — Словно дразнится.
Елизар пнул приятеля в бок:
— Нишкни… услышат.
Но солдаты, рассевшиеся у колодца, видимо, не подозревали о том, что так близко от них залег неприятель. Между драгунами возник спор.
Граф подполз к Елизару, наклонившись так, что космы парика щекотнули щеку, зашептал:
— Нам нужны лошади… Они спорят по поводу карточного проигрыша… удобный момент.
Елизар быстро соображал: «Тех шесть, а нас пять… у шведов пистолеты в седельных кобурах, лошади привязаны у колодца, пьют… Ай да граф!»
Он наклонился к Акиму.
— Слышь, граф предлагает забрать лошадей. Ты как?
— Да чего, возьмем! — обрадовался Аким. — Скажу Тимошке и Ваньке. Как мы их станем брать?
— Как брать? Да просто: выскочим с пистолетами, а потом повяжем.
— Шпаги возьмите в зубы, — подсказал граф, — на одни пистолеты не надейтесь. Я покомандую.
Елизар вытянул из-за пояса пистолеты, попробовал кремни, подсыпал на полки пороха из лядунки, потянул из ножен шпагу. Тяжелую казенную шпагу не больно удобно было держать зубами, однако возможно. Сзади зашуршало, подползли Аким и оба матроза. У каждого в руках по два пистолета, только тяжелые матрозские полусабли прихватить зубами оказалось невозможно; парни повесили их на грудь, чтоб сподручнее доставать.
Граф шепотом скомандовал:
— Ейнц, цвей… дрей!
И вскочил первым. Русские моряки разом вскинулись, ломая кусты, ринулись вперед. Матрозы привычно гаркнули, словно шли на абордаж:
— Ур-ра!.. Бей!..
Испуганно заржали лошади, рванулись, натягивая поводья. Шведы обалдело глядели на вырвавшихся из кустов русских с пистолетами. Один, опомнившись, попытался вскочить, но подоспевший Тимошка огрел его кулаком, и швед, охнув, осел.
Шведский вахмистр первым поднял вверх ладони, за ним сда лись и остальные. Только тот швед, которого огрел Тимофей, не сразу прочухался, осоловело качался из стороны в сторону, как пьяный. Аким собрал шведские шпаги, освободил их от портупей. Портупейными ремнями связали пленным руки и ноги.
— Откуда тут взялись русские? — растерянно бормотал шведский вахмистр. — Русские в городе Эйдере…
— А ну, давай выкладывай, что знаешь! Учиняю допрос, как положено. — Елизар приставил к груди вахмистра кончик шпаги. — Ежели станешь брехать ложь, проткну, не пожалею!
Швед испуганно затих, злобно сверкнул глазами.
— Я вас плохо понимаю, — попытался было он увильнуть.
— Не трудись выкручиваться, любезнейший, — спокойно сказал граф. — Здесь есть лица, говорящие по-шведски не хуже тебя. Однако оттащим их в лес и спрячем лошадей, Может быть, за этими следуют еще драгуны.
Фенрихи согласились. Связанных шведов сволокли подальше от дороги, в глубь леса. Напоенных лошадей стреножили, нашли для них полянку с сочной травой, пущай попасутся. Елизар и граф направились к шведскому вахмистру.
— Ну, мы слушаем, — сказал граф, присаживаясь на траву возле шведа. — Первый вопрос: куда вы ехали?
— Я не стану отвечать, — чуть слышно пробормотал швед. — Не стану! — повторил он громче.
— Не говори пустяков, — пригрозил Елизар, — жить-то тебе хочется. А мы люди терпеливые, но только до времени.
— Можете меня убить! — выкрикнул вахмистр, силясь приподняться.
— Остальных тоже? Всех шестерых? Погляди, тот крайний совсем еще юнец, наверно, ни разу не брился.
Граф перевел слова Елизара. Шведы зароптали, видимо, уговаривали старшего не упрямиться. Но вахмистр только отвернул голову.
— Сейчас он у меня заговорит, мужицкое отродье! — рассердился граф. — Заставляешь ждать дворян! — Он проворно вскочил и с силой пнул ногой шведа в бок. Швед застонал. Граф, распалясь, снова размахнулся, чтоб ударить кованым каблуком в лицо. Но Елизар оттолкнул его, ухватив за локти.
— Стыдитесь! У сего солдата на груди военный крест, заслуженный в сражениях. У нас орденских кавалеров не бьют, это запрещено царем. Даже самого последнего пьяницу пороть не станут, отдадут на суд кавалерской думе…
Швед прислушивался к словам Елизара, — видно, соврал, что не говорит по-немецки. Потом тяжело вздохнул и неожиданно сказал:
— Спрашивайте… буду отвечать.
Глава 4 СЕКРЕТНОЕ ДОНЕСЕНИЕ
Швед назвался Юргеном Кранцем, из драгунского полка Реншильда.
— Где стоит этот ваш полк?
Вахмистр усмехнулся:
— Полк-то стоит в деревне, в трех милях от Маргаретенштадта… А вы лучше спросите, кто в Маргаретенштадте…
— Ну, говори, кто?
— В городе разместился корпус фельдмаршала Штейнбока, командующего шведскими войсками в Померании.
— Ого! — Елизар даже присвистнул. — Далеко ли Маргаретенштадт от Эйдера?
— Если напрямую через болота, то один день пути. Только этой дорогой войско не пройдет. Мало что болота, так еще надо форсировать три рукава реки Эйдер. Мы дали большой крюк.
— Сколько же войска у Штейнбока?
— Точно не знаю. Разве сосчитаешь…
Граф, слушавший молча, сделал нетерпеливый жест, сказал на ломаном русском языке, чтоб не понял швед:
— Этот негодяй не можно верить. Зольдат мало знает…
Елизар пожал плечами, ответил графу:
— Поживем — увидим… — Потом снова по-немецки обратился к пленному: — С какой целью послали вас сюда? Прогуляться, что ли?
Швед беспокойно зашевелился.
— Мы посланы в разведку. Послано несколько разъездов. Нужно выяснить, что здесь происходило. Вчера слышна была сильная пальба.
— Так чего ж вы так далеко заехали? — спросил Аким. — Ведь Эйдер ближе к вам?
Швед смутился, отвел глаза.
— Что ж нам было делать? Не могли же мы сунуться в лагерь Меншикова. Вот и пытались выяснить по деревням.
— Что ж вы выяснили?
— Пока ничего… Крестьяне сами ничего не знают.
— Врешь! — крикнул граф. — Все путаешь! То не знаешь, сколько у Штейнбока войска, то у крестьян ничего не можешь узнать. Говори правду, а то будет хуже…
— Я не боюсь! — вскинулся вахмистр. — Угрозами ничего не добьетесь. Отвечаю я добровольно. Сколько у Штейнбока войска, установить трудно, потому что кавалерия стоит по деревням, там легче с фуражом. Часть солдат не в городе, а в укрепленном замке, еще часть занята на оборонительных работах, восстанавливают укрепления форштадта, предместья перед замком.
— А город разве не укреплен? — спросил Елизар.
Швед отрицательно помотал головой.
— Говорят, когда-то Маргаретенштадт имел высокие стены. Но отец нынешнего шведского короля наказал город за непослушание, велел пробить в стенах бреши и снести все башни. Теперь укрепить город труднее, чем строить стены заново.
— Так что ж, крестьяне не знают, из-за чего учинилась пальба? — настаивал граф.
— Нет, в тех деревнях, где мы были, никто не знает. Я так полагаю, что господин Меншиков имел сражение с нашим генералом Крассовым, который должен был соединиться со Штейнбоком. У Крассова войск вдвое или втрое больше, чем у нас.
Больше ничего существенного у шведа узнать не удалось, — видимо, он действительно был мало осведомлен.
— Надо прикончить этих болванов и ехать дальше, — предложил граф.
— Зачем же кончать? — возразил Елизар. — Связать потуже — и пусть лежат, пока сами не сдохнут. Эй, Тимоша! — крикнул он матрозу. — Отвяжи веревку от бадьи в колодце да стяни покрепче этих гусаков. Узлы сделай морские, чтоб не развязались.
Когда граф отошел к лошадям, Елизар, оглянувшись, шепнул:
— Тимоха! Морскими узлами не надо, так вяжи, для виду… И ремни ослабь. Ночью от росы кожа еще поразмякнет. Нам-то все едино, мы уж далеко будем. Неча на свою душу лишний грех брать, все же живые люди.
Ехали по лесу снова гуськом. Граф сунулся было первым, но Елизар опередил его, стал головным. В глубине души он что-то все меньше и меньше доверял чужестранцу.
Начало смеркаться. С земли вставал легкий туман, тропинка стала сырее, кое-где попадались лужи. Река явно была недалече. Решили выехать на дорогу, чтобы не заплутаться.
Вдруг впереди из кустов кто-то сердито крикнул по-русски:
— Стой! Кто такие?!
В то же мгновение лошадь Елизара чуть не наткнулась на загораживающую путь рогатку.
— Свои! — крикнул Елизар, натягивая повод. — Мы русские, офицеры.
— Стой кто где есть! — приказали из кустов. — Каки таки ахвицеры? Шатаетесь тут! Ежели ты ахвицер, так изволь объявить пароль. Без этого не пустим. И удирать не пробуйте, пристрелим.
— Ты, служба, поменьше рассуждай! — рассердился Елизар. — Зови старшего по караулу, с ним и потолкуем.
В кустах зашевелились, зашептались. Потом вытащили, верно из ямки, зажженный фонарь. Человек с фонарем в руке вышел на тропинку, приблизился не сразу, посветил на Елизара издали. Разглядев Преображенский мундир, начал подходить шаг за шагом.
— А кони откуда? Сбруя не наша… — спросил он.
— Будет разглядывать, наша, не наша! Говорят, давай старшего! Некогда нам…
— Гляди-кось, какие сторожкие! — рассмеялся Аким. — Елизарка, они нас в обхват взяли! Пока с тобой толковали, целое капральство кругом зашло.
Гвардейский унтер-офицер саженного роста теперь уж подошел без опаски, взял Елизарову лошадь под уздцы.
— Ты не серчай, господин фенрих, чай, не у себя дома. Наш-то мундир могли и шведы напялить. Откуда путь держите?
— Нас высадили с россейского корабля в Фишгафе, — сказал Елизар.
Унтер кивнул.
— Фишгаф слыхивали. Ну что ж, слезайте с коней, отведем вас к начальству, пущай разберутся.
В темноте не заметили, как дорога постепенно перешла в улицу. Ущербная луна то и дело окуналась в резво несущиеся облака. Выныривая из облаков, на миг освещала неверным светом крыши и стены домов, закрытые ставни, штыки шагавших сбоку солдат. У кирхи с пробитым шпилем на земле рядами лежали убитые с прикрытыми лицами: шведы с одной стороны, русские и датчане с другой. Это были жертвы боя с эскадрой, который фенрихи наблюдали с корабля. Перед прислоненной к стене иконкой горела свеча. Фенрихи и матрозы сняли шляпы, перекрестились. Граф только склонил голову; выпростав из-под плаща руку, странно простер ее, перекрестив тела мелким, чуть заметным крестом.
Впереди из-за неплотно прикрытой ставни мелькнул свет. У крыльца стояли парные часовые в надвинутых на лоб треуголках. Увидев идущих, шевельнулись было, один перехватил ружье, выставил вперед штык. Но шедший первым унтер что-то сказал вполголоса — и часовые посторонились.
В просторном, с низким потолком покойчике было душно. На столе оплывала толстая сальная свеча, воткнутая в фигурный бронзовый подсвечник. Стояли тарелки с недоеденными кусками разной снеди, кружки, стаканы, порожний кувшин. За столом, уронив голову в шляпе на руки, дремал дежурный офицер; у стен люди спали прямо на полу. Оттуда несся густой храп.
Услышав шаги, офицер мигом проснулся, кулаком протер глаза, поправил шляпу и офицерский шарф, чтоб видели: человек при исполнении обязанностей. Унтер, как положено по артикулу, стукнул каблуками, доложил:
— Так что задержаны караулом два господина фенриха. Говорят, будто наши. При них какой-то немец да два матроза услужающие.
Елизар и Аким шагнули вперед, вытащили подорожные, положили на стол перед офицером. Граф стоял неподвижно, как статуя, весь черный от шляпы до пят, закутанный в плащ. Дежурный офицер поглядел на него с любопытством и смущением, но сразу поспешил придать лицу строгое выражение, пальцем поманил Елизара, чтоб подошел поближе.
— А это кто с вами? Лютерский поп?
— Нет… — Елизар наклонился к нему, сказал на ухо: — Сие граф, цесарец…
— О-о!.. — удивился дежурный. — Вон как!
— Слушай, господин поручик, — продолжал Елизар шепотом. — Ты этого цесарца определи куда-нибудь на постой. А то мы с секретным… при нем не скажешь.
Поручик кивнул, встал, подошел к графу, церемонно раскланялся. Граф снял шляпу, ответил таким же поклоном.
— Сейчас вас проводят в дом самого богатого купца, герра Брандта, где вы сможете отдохнуть, — сказал дежурный и, подозвав караульного унтер-офицера, приказал нарядить с графом солдат для сопровождения и охраны.
Когда граф уже двинулся к двери, поручик ухватил унтера за плечо, шепотом наказал:
— Пусть солдаты покараулят возле дома. Персона важная, нужно его оберегать да приглядывать.
После ухода графа стало как-то свободнее. Елизар и Аким уселись на табуретки, устало облокотились на край стола.
— Ну, чего у вас, господа фенрихи? — строго спросил дежурный.
— Мы с секретным донесением господину фельдмаршалу.
— Ну уж, к фельдмаршалу! — насупился поручик. — Станут для вас светлейшего тревожить посеред ночи. Докладайте мне.
— Не дозволено! — решительно отрезал Елизар.
Дежурный прошелся по горнице, вернулся.
— А кого ж вам тогда? Генерала хватит? Вон спит генерал- квартирмейстер, может, его разбудить? Он утречком светлейшему доложит.
Елизар с Акимом посовещались. Генерал-квартирмейстер начальствует в штабе; пожалуй, этому можно.
— Ладно, буди!
— А может, весть не стоит того? Подождете до утра?
— Приказано передать немедля. Мы и то припоздали.
— Он же умаявшись. Ездил целый день по работам, даже домой не дотянул, тут свалился, — не решался дежурный, поглядывая в глубь покойчика.
— Ну, как знаешь… Однако же теперь ты будешь в ответе. Мы прибыли, — устало сказал Елизар, и Аким, подтверждая, мотнул головой.
— Погодите тут… Доложу, — вздохнул дежурный и, прошагав в угол, стал кого-то будить. На лавке началось шевеление, зевки, соскользнул на пол заячий тулупчик, коим укрывались. Потом человек спустил ноги, потянулся аж до хруста в костях, хрипло спросонья спросил:
— Ну, чего будишь? .. Отдыху не даешь, кровопийца…
Офицер, почтительно нагнувшись, что-то тихо доложил. Разбуженный, подавляя новый зевок, переспросил:
— Кто? Морские фенрихи? Откуда? Ну, зови сюда…
Дежурный побежал звать, но Елизар и Аким уже сами вскочили,
вытянулись по-строевому. Генерал в одних чулках, мягко ступая, подошел ближе. Голова его была по-бабьи замотана платком из опасенья простуды. Он взглянул на фенрихов запухшими от сна глазами, поманил рукой, взяв со стола запасную свечу, зажег ее и молча прошел в соседнюю пустую горницу. Фенрихи за ним, стараясь ступать по- уставному, но не больно греметь сапожищами.
Генерал поставил свечу на пол.
— Ну? Докладывайте, чего у вас?
— Докладывают фенрихи флота российского, Елизар Овчина-Шубников и Аким Яблоков, — чеканил Елизар. — Отнаряжены с караульной эскадры, потому как посланный с донесением к светлейшему князю Меншикову корабль не смог дойти, встретив в устье Эйдера свейскую эскадру.
— Это вчера, что ли? — прищурился генерал. — Точно. Свей наткнулись на датчан, которые шли к нам с военными грузами. Ну, датские моряки и наши батареи свеям нос маленько раскровянили.
Он протянул руку.
— Давайте бумагу…
— Бумаги нет! — отрапортовал Елизар. — Из опасения, как бы о том не проведал враг, приказано на словах. — И, понизив голос, доложил : — Голландские корабли с пороховым припасом и прочими грузами не придут, потому как перехвачены французской эскадрой и побраны в плен.
Сон с генерала мигом слетел. Он схватил Елизара за плечо, бсгль- но стиснул.
— А ты не брешешь? Не путаешь?! Кто шлет-то донесение?
— Капитан-поручик Синявин разведал про то в Англии и с тем известием приплыл в Зунд, где ходит наша караульная эскадра.
— Вот оно как! — Генерал медленно разматывал платок. Под платком оказалась солидная плешь. — Вот оно как неладно! А мы-то с Александром Данилычем ждем ме дождемся. Датчане артиллерию доставили, а с пороховым запасом у них у самих не шибко. Да… Ну, раз Синявин сию весть привез, — значит, верить можно. Эх ты, вот незадача!..
Он прошелся по комнате, заложив руки за спину, на ходу бросил:
— Голландский порох доброго изделия; умеют голландцы…
Потом, вздохнув, взял с подоконника брошенный туда платок,
поднял с пола шандал со свечой.
— Ну ладно… Рано утром я все доложу. А вы, молодцы, лягте где-нибудь там, возле дежурного. В молодости-то крепко спится, все равно на чем.
Глава 5 КАПИТАНЫ ЛАСТОВЫХ ЭКИПАЖЕЙ
Утром, чуть свет, генерал-квартирмейстер повел молодых офицеров к дому бургомистра, где жил светлейший князь и граф, губернатор Питерсбурха да всех завоеванных у шведов областей, царский любимец, фельдмаршал российской армии, Александр Данилович Меншиков. Генерал-квартирмейстер перед докладом принарядился, приказал себя побрить, напудрить, плешь прикрыл солидным париком, живот перетянул форменным шарфом, сбоку привесил шпагу.
Шел он упругой, быстрой походкой и уж не казался стариком, как ночью, а военным средних лет, хорошо сохранившимся и рано вышедшим в чины.
В полутемном вестибюле он велел фенрихам подождать; если понадобятся, то их кликнут. Сам же поднялся наверх, в жилые покои.
Некоторое время было тихо, потом сверху донеслись сердитые раскаты низкого мужского голоса, и по лестнице раздались торопливые шаги. Генерал-квартирмейстер спустился красный, потный, злой. Махнув рукой, чтобы следовали за ним, он вышел на улицу и торопливо зашагал прочь. Фенрихи, как положено младшим по чинам, шли сзади. На углу генерал-квартирмейстер остановился, снял шляпу, обмахнулся ею, как веером.
— Слыхали? — спросил он. — Это светлейший голландцев и французов ругал нехорошими словами. Ну и мне заодно досталось. Взял манеру лаяться…
Он снова надел шляпу, вздохнул.
— Вас решено определить покедова капитанами ластовых экипажей. Сейчас у нас важнее дела нет, как разгрузить датские корабли. Датчане все-таки молодцы, геройски сразились со свейской эскадрой. Пошли, приставлю вас к делу.
— Елизарка! — не то обиженно, не то на смех прошептал Аким. — Ну чего я такой разнесчастный? Только порадовался, что с корабля живой ушел, меня снова на другую посудину гонят…
Елизар обнял товарища, встряхнул для подбодрения.
— Ладно, не робей, чего-нибудь придумаем.
На пристани, где хозяйствовал злой, охрипший от ругани интендантский полковник, выяснилось, что пока на ходу есть только один ластбоот — одномачтовый пузатый тендер для перевозки больших тяжестей. Управлять им вызвался Елизар. Аким остался на пристани и как-то сразу включился в общее дело. Вместе с полковником стал сверять накладные, орал на затурканных обозных солдат, таскавших с пристани на подводы ящики и бочки.
Ластовые команды, говоря по-простому, — это команды грузчиков. В их ведении небольшие портовые суда для хождения между берегом и стоящими на рейде кораблями.
Река чуть колыхалась, лизала сваи, шевелила плавающий у пристани мусор. Ниже пристани, на середине широкого плеса, на сверкающей глади, друг около друга стояли округлые, широкие галиоты и купецкие корабли. А вдали тонкими прутиками поднялись кверху мачты военных судов конвоя, Там-то и произошел бой. Между кораблями и берегом, туда и обратно, ходил резвый табунок гребных шлюпок, свозивших грузы полегче. Широкий, словно распиленный пополам грецкий орех, ластбоот тоже уже несколько раз сходил к галиотам и возвращался к пристани с грузом пушечных ядер.
Вдруг на набережной произошло шевеление. Шагавший мимо взвод солдат с великой поспешностью выстроился й шеренгу, разом вскинул ружья на караул. Писарь на мостках выронил листок бумаги и, не смея нагнуться за ним, стянул с головы шляпенку, впопыхах вместе с париком.
К мосткам подъехал на белой как сметана лошади всадник в малиновом плаще, в шляпе, не только обшитой по полям золотым позументом, но и украшенной страусовыми перьями. За всадником, теснясь, ехали генералы и полковники. Всадник зорко оглядел пристань и корабли, затем, не торопясь, слез с седла. Лошадь тотчас кто-то подхватил под уздцы. Сопровождавшая всадника в малиновом плаще свита тоже стала торопливо спешиваться. Приехавший, широко шагая, направился к спуску, на ходу сбросил свой великолепный плащ, который, вопреки законам естества, не упал наземь, а был услужливо подхвачен дородным военным в больших чинах.
— Сам светлейший! — из-за паруса выкрикнул матроз.
Елизар узнал всесильного царского любимца, князя Александра
Даниловича Меншикова. Меншиков, в голубом военном кафтане, сверкая орденскими звездами и крестами, сбежал по насыпи, мимоходом пальцами в бриллиантовых перстнях щелкнул по плеши перепуганного писца, который так и не заметил отсутствия парика на голове. Светлейший был выше всех вокруг: известно было — одного роста с царем! Он на мгновенье остановился, чтобы подтянуть кверху щегольские, морковного цвета ботфорты, выпрямившись, откинул прядь серебристого парика. Ветер колыхал и развевал пышный плюмаж на шляпе.
— Эй, зееманы! — зычно крикнул он. Меншиков, как и царь, любил употреблять голландские слова. — Мореходы! Вы, как я погляжу, малость зачухались! Этак с одним ластбоотом мы, чай, месяц провозимся. Надо иначе… Как пойдет в реку морской прилив, корабли тащите к пристани, пущай там разгрузят артиллерию. Ветра не будет — шлюпками буксировать корабли. Глубину реки меряли?
— Так точно! — ответил интендантский полковник.
Меншиков подмигнул голубым веселым глазом Акиму:
— Ты, фенрих, нынче ночью прибыл?
— Так точно, господин светлейший генерал… — спутался заробевший Яблоков.
Меншиков раскатисто захохотал:
— Эх ты! Титуловать не знаешь! Ладно, не обижусь… — Он подтолкнул Акима. — Пошли со мной на сей боот…
Елизар, как находящийся при службе, продолжал одной рукой держать румпель, другой — шляпу. Меншиков подошел к ластбооту, поставил ногу на борт, хозяйственно оглядел суденышко — корпус, мачту, одобрительно кивнул.
— Ладная посудина, надежная, голландцы строили. Ихние суда не спешно ходят, зато крепки.
Обернулся к свите, небрежно бросил:
— Погодите здесь… Хочу пройтись к кораблям. Мы с его величеством, государем Петром Алексеичем, чай, тоже в морской службе.
Легко перепрыгнув через борт, взял у Елизара рукоять румпеля.
— А ты чего мешкаешь, береговая выдра? — это относилось к Акиму.
Аким засуетился, неловко перелез на палубу. Хоть по натуре был не пужливого десятка, даже храбрый, но сейчас заробел. У светлейшего, как он встал ногой на палубу, словно весь облик поменялся: сразу стал похож на царя Петра. Так же, как Петр, сердито ощерил рот, сощурил глаза, даже ус у него дернулся, как у царя, который страдал нервным тиком.
— Отдай конец! — капитанским голосом скомандовал Менши- ков. — Матрозы, становись к месту. Со штирборта киль в воду. Пойдем правым галсом.
Матрозы Иван и Тимофей работали привычно: вывалили в воду один из бортовых килей, похожих на тюленьи ласты, ухватясь за канат, повисли на нем всей своей тяжестью, поддернули верхний рей, чтоб парус брал больше ветра. Боот плавно отошел. Меншиков взглянул назад на воду — велико ли расстояние от пристани, сунул румпель Елизару, присел на кормовую скамью, вытянул из кармана кисет и коротенькую матрозскую трубку.
— Ну, господа фенрихи, который из вас Яблоков, а который Овчина?
— Я есть Елизар Овчина-Шубников, — вскинулся Елизар.
— А я Аким Яблоков, — Аким уже несколько приободрился, доложился громко, отчетливо.
Меншиков поглядел на Елизара.
— Не круто ли, парень, к ветру берешь?
— В самый раз, — уверенно ответил Елизар. — Сей боот рысклив из-за малой длины.
Вельможа кивнул.
— Верно. Скажи, Елизар… как по батюшке-то?
— Артамонов…
— Так вот, Елизар Артамонов, есть, окромя тебя, кто из Шубниковых на государевой службе? Али ты один?
— Да почитай что один, — грустно ответил Елизар. — Брат еще недолеток, отец в вотчине проживает по причине хромоты. Крымской стрелой ему ногу повредило. Вот с материнской стороны родной дядя, генерал-инженер в Питерсбурхе, Талызин, вам известный.
Меншиков прищурился.
— Хромота для боярина службе не помеха. Что, не хочет отец служить, так, что ли? Вон Яблоковы служат, воевода отец-то твоего приятеля.
Елизар отвел глаза.
— Отец-то, может, хочет… Захудали мы…
— A-а, вот в чем дело, — светлейший понимающе кивнул. — Сия причина понятна. Мы, Меншиковы, как и вы, тоже древних кровей, да тоже захирели по бедности. Вот только с моей персоны опять в рост пошли. Так-то, фенрих. Служи справно, за царем служба не пропадет, даст бог, и вы в рост пойдете.
Оба фенриха в душе подивились: про светлейшего было точно известно, что он сын пьяницы Данилы Меншикова, царского конюшего. Дворянин-то дворянин, да из худородных, таких, у кого крепостной челяди всего-навсего одна стряпуха, скотины — две курицы да петух, а земли — только двор возле крыльца. Но промолчали. Нынче светлейший самая близкая к царю персона и богат несметно.
Меншиков вдруг перестал набивать трубку, сунул ее в кисет, строго спросил:
— Ответствуйте мне, камрады, где и каким маниром вы эту черную цезарскую ворону поймали? Вы, часом, ему в дороге не наболтали, что, мол, голландский порох французы побрали и все такое? ..
— Да что мы, пьяные были? — воскликнул Аким. — Разве ж о таком можно!
— Во те крест! Чем угодно побожусь да клятву дам, если надобно, что мы молчком молчали, зачем посланы! Дело государево. Разве может про такое офицер сболтнуть! — обиделся Елизар.
Меншиков кивнул.
— Ну, то-то ж… Никому, кроме меня, об этом знать не след. Генералу-квартирмейстеру — это особо дело…
Фенрихи подробно рассказали, как встретились с графом в фишгафском гастхаузе, про то, как вместе путешествовали, как повязали шведских драгун и захватили их лошадей, и про то, что узнали от шведского вахмистра.
Выслушав молодых людей, Меншиков не то засмеялся глухо, не то выругался про себя.
— Ай да граф! Значит, сия важная особа путешествует в почтовой карете, без слуг и без пожитков. Ой, ловок! Выходит, налегке порхает. Сегодня поутру завез ко мне рекомендательные письма от цезарских министров и католицких кардиналов.
— А чего ему надо? — простодушно вырвалось у Акима.
Меншиков снова оскалился, переспросил:
— Чего ему надо? Ты, паря, женат?
— Нет… — смутился Аким.
— А ты? — Меншиков ткнул в бок Елизара.
— Не… — буркнул Елизар. — Я моряк, моряку жениться не след.
— Но-о, так и не след! — насмешливо протянул Меншиков. — Придет пора, женишься. Моряки не монахи. Ну так вот, робята! Прежде чем сватов засылать к невестиным родителям, умные люди подсылают какую бабку побойчее али старика знакомого выведать, что за невестой дадут, каково приданое? Вот такой бабкой и явился к нам цезарский граф. Шведы вроде не прочь мириться. Под Полтавой мы им крепко всыпали, да и сейчас колотим. Однако свейский сенат с нами в переговоры вступать стесняется, ихний король Каролус Двенадцатый пребывает в отъезде, все еще гостит у турок. А без него нельзя. Опять же прочие иностранные державы. Им, вроде, мира и хочется, и не хочется. Одни рассуждают так: пусть-ка русский со шведом друг другу носы расквасят, да оба и обессилят; нам от того выгода. А другим державам солдаты нужны, потому как шведы свои полки завсегда отдавали внаем французам, и немецкие князья тем же занимались. Эти державы миру хотят.
— Так, значит, граф мир станет предлагать? — спросил Елизар.
— Эх, кабы сразу так. Нет, он начнет хвостом крутить, вертеть: что, де-мол, цезарю дадут, если тот миротворцем заделается? А цезарь мало не захочет…
Меншиков поглядел на воду, помолчал, потом нехотя добавил:
— Царь в отъезде, дельцов из посольского приказа тут нету, мне одному за всех отдувайся. Раскидываю так: граф прикатил на случай. Ежели швед Штейнбок нас поколотит, мы посговорчивее станем, он тут и начнет меня склонять, чтоб я его величеству, Петру Алексеичу, мириться присоветовал.
Фенрихи недоумевали, с какой стати этот важный вельможа, главнокомандующий, можно сказать, заместитель самого царя в здешних местах, с ними разоткровенничался. Меншиков, верно, догадался, пристально поглядел на одного, на другого, привстал, уверился, что матрозы на носу, за парусом, не слышат.
— Я вам к тому все это толкую, — сказал он серьезно, — что может случиться, сей цезарец начнет вас к себе в гости зазывать.
— Нас? — в один голос воскликнули Елизар и Аким.
— Ну, вас, а то кого же? Граф не захочет здесь сиднем сидеть, он приехал дело делать. Русские для него народ незнакомый, своеобычный. Желательно ему, к примеру, с каким-нибудь нашим генералом или другим важным человеком поближе знаться. Как в таком разе быть? На чай, кофей к себе не зазовешь, не пойдут. Записочку, как, скажем, на ассамблее, с любовным изъяснением не пошлешь. А вы оба из знатных родов. Акимкин батя в чинах, при большом деле, а бояре Овчина-Шубниковы некогда в боярской думе заседали из первых. Во как! По французским али испанским обычаям, да и по австрийским, не столь важно, богат дворянин али беден, важно, каких он кровей. Там знатный дворянин повсюду вхож, со всеми знается. Так что цесарец беспременно с вами захочет свидеться, чтобы через вас с другими знакомство свести или узнать что.
— Так мы ж при службе, — возразил Елизар, — мы ж офицеры и присягу давали.
— То-то и оно! — Меншиков назидательно поднял кверху палец. — Об этом всегда помнить след. Ежели граф в гости зазовет, ходите, не отказывайтесь, пусть не считает нас за варваров. Ежели о чем расспрашивать начнет, отвечайте, но с умом, лишнего чтоб не наболтать. Уразумели?
— Да не так, чтоб… — признался Аким.
— Но, ты не прикидывайся телком деревенским! — строго одернул светлейший. — Служить отечеству всегда надобно с головой. И для чести вашей тут ущерба не будет. Вы оба ребята сметливые, о том мне известно. Ежели он вас в чем уговаривать будет, вы сразу не отказывайтесь, а с дельным человеком потолкуйте. Таковой для сего случая найдется. Ну, однако, мы про дело забыли, — прервал себя Меншиков. — Время-то не ждет. Надо корабли подводить к причалам. Пущай перетягиваются. — Он приказал: — Лево руля. Пойдем вон к тому, пузатому.
Тяжелый боот нехотя перевалился, пошел другим галсом, к галиоту. Матроз Тимошка на ходу ухватил конец веревочного штормтрапа, удержал ход. Иван отвел парус от ветра. Наверху через борт перевесился испуганный чуть не до обморока датский капитан. В бортах поспешно открывались тяжеленные крышки пушечных портов, поднимались кверху, словно ставни либо веки на глазах. Из темного корабельного нутра пятились круглые бронзовые зенки пушек, около них суетилась прислуга. Упал в воду и, прежде чем утонуть, зло пошипел обрывок горящего фитиля. Галиот приготовился салютовать высокому гостю.
— Угорели они, что ли? Или перепились! — ругнулся светлейший. — Этаким салютом нам башку оторвут. — Зычно крикнул по- немецки наверх: — Отставить салют! Капитан! Всех своих ставь заводить верп! Верп, говорю! Малый якорь! Станете на том якорю к берегу подтягиваться, к пристаням; ездить до вас далеко!
Датчанин, кажется, понял, закивал и исчез. На палубе залились свистки, затопали.
— Пошли к шнявам! — распорядился Меншиков.
Шнявам было приказано спускать все шлюпки, артелью взять на буксир первую шняву, тащить ее к причалу. Затем возвращаться за остальными. Потом поплыли к купецким кораблям, повторять то же. ?
Тем временем с галиота погрузили один из якорей в шлюпку, отвезя подальше, спихнули в воду. На баке с заунывной песней пошли матрозы вокруг кабестана — накручивать канат. На кабестане приплясывал разбойничьего вида боцман, босой, в широченных штанах, в шляпе, но без рубахи. Покрикивал:
— Ай-я!.. Ай-я!..
Показывал рукой — ходи веселей! Нос галиота с далеко выставленными вперед утлегаром и бугшпритом, с раскинувшей на стороны руки бронзовой девой, по колена ушедшей в воду, стал поворачиваться. Опять плотно затворились пушечные порты на нижних палубах.
Елизар вдруг увидел, что с берега идут большие рыбачьи баркасы. Хозяева сами стояли на руле, а рядом с каждым хозяином стоял усатый гвардейский унтер-офицер, пальцем указывал, куда плыть.
«Ай да светлейший! — с восхищением подумал фенрих. — Даром что разрядился в шелк да бархат, словно баба на куртаге Моряцкое дело знает до всей тонкости!»
Меншиков словно угадал эти мысли, повернулся и подмигнул.
— Вот так держать, господин фенрих! Сам зря не мельтешись, не хватайся за все, начальствуй. Чин твой мал — приказывай от моего имени! К вечеру еще раз наеду, погляжу. Ежели замешкаетесь, с вас обоих спрошу, камрады, моряки флота российского!
Глава 6 ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОЛИТИКА
К вечеру оба фенриха сдали вахту на пристанях пожилым, пышноусым, степенным сержантам. Таких сержантов в Петровском войске теперь было много, опытных, грамотных, гожих на всякие дела. Не чуя под собой ног от усталости, Елизар и Аким медленно побрели по узкой проулочке, со сточной канавой посредине мостовой. Уж неизвестно, что лучше: московская ли грязь, в которой иной прохожий рискует оставить сапоги, либо немецкие мостовые, горбатые, щербатые, скользкие оттого, что жители привыкли выплескивать на них помои прямо из окон.
Проулок кончился, влившись в главную городскую улицу. Впереди ехали верхом пьяные казачки в бараньих шапках, столь лихо заломленных на ухо, что непонятно было, как они удерживаются на голове и не падают. Да и сами казачки сидели в седлах скособочившись, развалясь, будто в удобных креслах. Вдруг казачки, не в лад горланившие песню, разом шарахнулись в стороны к самым домам, пропуская карету. Карета, запряженная четверней, подкатила к дому как раз напротив проулка, и кучер осадил лошадей так, что они чуть не присели на хвосты.
— Дура! — заорал один из казаков, грозя кулаком. — Немец- перец безмозглый! Рази так с коням можно? Губы порвешь!
С запяток кареты спрыгнули два ливрейных лакея в серых кафтанах и клюквенного цвета чулках. На спинах у лакеев были вышиты гербы, изображавшие щит с графской короной, а на щите серебряные и золотые звезды по лазоревому полю. Такой же щит с короной и звездами красовался на дверцах кареты, хотя сам экипаж был весь укутан от пыли и грязи кожаными фартуками, так что оставались незакрытыми лишь дверцы и окошки над ними. Судя по дверцам и по колесам, экипаж был богатый, весь расписанный гирляндами цветов, которые обвивали и гербы.
Лакей распахнул дверцу, другой откинул каретную подножку, затем оба помогли, бережно поддерживая его под локотки, сойти приехавшему господину. Елизар и Аким едва не ахнули от удивления. Это был цезарский граф. Ну и преобразился же он! Знать, багаж его прибыл.
Весь от шеи до ажурных чулок в шелковом а камзол, жилет, штаны цвета морской воды; при каждом движении шелк шуршит и словно струится, переливается. Башмаки со стразовыми пряжками, на высоченных каблуках. Подбородок подперт застывшей пеной из дорогих кружев, такая же пена течет из рукавов, закрывает кисти рук почти до кончиков пальцев. На графской голове, на вершине круто завитого парика, шляпа из лоснящегося фетра излюбленного графом фасона, не треугольная, а сплюснутая с боков лодочкой. Поля с бахромкой из стриженых перышек; при каждом движении или дуновении ветерка бахромка колышется, будто птичий гребень.
Граф сделал было шаг к подъезду, но задержался, поднял к носу висевший поверх жилета золотой лорнет в форме ножниц, поглядел сквозь стеклышки, небрежно уронил лорнет, повисший на цепке, и словно в изумлении всплеснул руками.
— Какая встреча! Мои храбрые и любезные попутники! О молодые люди, сердечно рад свидеться!
Аким, любивший наряды, от восхищения даже приоткрыл рот. Куда как вельможен иностранец! Не уступит самому светлейшему. Елизар дивился орденам. На левой половине груди вышита звезда со многими лучами. В центре пылающей звезды — алмазный крест. Наискось» поперек жилета, алая орденская лента, а на кружевном шейном платке — золотой ягненок на цепочке из золотых бляшек. Елизар видел такое на печатных листах, сиречь гравюрах. Царь приказал завезти эти листы для образования молодых дворян, чтоб не росли неучами. На одном из листов был изображен прославленный в истории испанский дюк, а пояснительная надпись толковала, что золотой ягненок на шее дюка есть величайший в той стране наградной знак-орден для особо благородных персон. И зовется сей орден «Золотое руно». Почему-то только ягненок был похож на дохлую скотинку: голова и ножки бессильно поникли, спинка выгнута, как если б ее держало не кольцо для цепки, а зубы волка, уносящего добычу.
Граф снял шляпу, галантно отвел руку, любезно поклонился и, перейдя на немецкий язык, пригласил молодых людей оказать ему честь — вместе отужинать.
Чудной был этот графский ужин, по российским понятиям. Кабы не перекусили в корчме возле пристаней, пришлось бы ложиться голодными.
Лакей в клюквенных чулках, но сменивший ливрею на домашнюю куртку, принес сначала мясную кашу, именуемую паштетом. Граф небрежно пояснил, что сей деликатес изготовлен во французском городе Страсбурге и прислан ему в подарок. Услышав о таком, Аким было поперхнулся и чуть не выплюнул. Нашел чем угощать! Ведь пока этот паштет везли, почитай, через всю Европу, он, верно, протух. Но, вспомнив утренний наказ светлейшего, превозмог себя и храбро проглотил заморское лакомство. Ничего оказалось — с душком, но не чересчур.
Запили вином из высоких, словно свечки, узких бокалов. Потом ели дичь и запивали другим вином. А на заедки подали сыр в горшочках и некий чудной овощ — каштан, жаренный в скорлупе. К сему — сладкий-сладкий ликер, густой, как сливки.
Фенрихи опасались, каждой еды брали помалу, ели аккуратно, а в вине только мочили губы, дабы не охмелеть. Граф же уплетал с аппетитом за обе щеки; подобрав повыше кружевные манжеты, чтоб не замарать, с хрустом глодал птичьи косточки. И вином не стеснялся. Лицо его покраснело, набрякло.
Сначала беседовали о разных пустяках, больше о погоде. Но постепенно от вина графа начало разбирать, заговорил с досадой:
— Ангел мира с пальмовой ветвью в руках давно и напрасно кружит над распаленными народами. Европа жаждет покоя и сладостного отдохновения. Но дальновидные монархи не могут обрести беззаботность и заняться благополучием своих подданных, пока демон войны не укрощен окончательно…
Фенрихи вспомнили светлейшего; покивали согласно.
Граф налил себе еще вина, на этот раз в круглый, как стеклянный шар со срезанной вершиной, бокал. Он разом втянул в себя опаловую влагу, утерся салфеткой, удобно откинулся в кресле.
— Сегодя я имел конфиденц со светлейшим князем Александром фон Меншиков, — сказал он и поиграл пальцами по скатерти. — Князь фон Меншиков большой политик, ясный ум. Но — слишком осторожен! Затем я визитировал другую важную персону, генерал- квартирмейстера, который управляет штабом русских войск. Меня и тут приняли любезно, но не сразу. Генерал-квартирмейстер был очень занят, беседовал со своими генералами. Я долго ждал в карете…
Он снова поиграл перстами, вздохнул.
— Как человек военный, я не могу не видеть горестных признаков подготовки к походу, к новым военным действиям…›
Елизар и Аким не выдержали пронзительного взгляда, отвели глаза. Хитрить с таким человеком, как граф, опасно: опростоволосишься. Елизар двинул в ход спасительное:
— Мы люди маленькие, в чины еще не вошли. Нам что прикажут, то и делаем. А рассуждать не нам…
Граф тонко усмехнулся.
— Сегодня поутру светлейший князь предпринял морскую прогулку именно в вашем обществе. Может быть, он удостоил вас доверительной беседы…
— Да мы — что? Мы только ямщики… — поспешил на помощь другу Аким. — Приказал светлейший покатать, мы катали…
Тяжелый сапог Елизара придавил носок Акимова ботфорта, да так, что Аким чуть не охнул. Граф погрозил пальцем, шевельнул остриями усов.
— Молодые люди, — сказал он умильно. — Австрия и Россия волей судеб должны следовать по тропе истории общим путем. И у вас, и у нас один и тот же смертельный враг — Турция. Турецкие полчища и подданные султана, крымские татары, всегда грозят югу России. Так же грозят они и нашим венгерским границам. О нет, я не намерен расспрашивать вас о делах военных: меня просто, как человека, как дипломата, как автора будущих мемуаров, интересует сама особа блистательного вельможи фон Меншиков. О нем много говорят в Европе. Но дипломаты видят официальную, парадую сторону, которую он хочет им казать. Вы же сегодня имели возможность запросто беседовать с ним, наблюдать его как моряка. Ведь все близкие к его величеству Петру Первому отличные моряки.
— Да, моряк он хороший, получше меня, — согласился Аким.
Елизар, казалось, с интересом разглядывал узоры на скатерти.
— И лучше вас тоже, господин Елисар? — поддел граф.
— Не знаю, в деле не видал, — неохотно ответил фенрих. — Хороший моряк узнается не сразу. Надобно поглядеть, как он поведет себя в бурю да при экзертициях, когда ставят и убирают паруса. Сегодня с нами фельдмаршал просто изволил прогуливаться по воде, пожелал подышать морским воздухом. И беседовали мы про родных, кто как живет.
— Вы с ним в родстве? — оживился граф.
Фенрихи даже перепугались.
— И не в родстве, и не в свойстве… Он о нашей родне расспрашивал.
— Понимаю… Князь здесь скучает без семьи, без близких. Наверно, для этого он затеял большое строительство, строит дворец, где будет проживать его очаровательная супруга и милые детки.
— Дворец? — удивился Аким. — Да ведь он сегодня здесь, а завтра царь его в другое место пошлет. У нас подолгу на одном месте не засиживаются.
— Значит, я ошибся, — улыбнулся граф. — Значит, строят не дворец, а военные укрепления. О-о, понимаю: об этом расспрашивать не полагается.
— Почему вы полагаете, ваше сиятельство, что вообще здесь что-то строят? — изумился Елизар. — Городишко-то небольшой. Кабы что строилось, сразу бы увидали.
Граф мгновенье помедлил, подумал, вертя в пальцах бокал.
— Такое мнение у меня сложилось потому, что не только в Фишгафе нельзя достать лошадей, но и нигде вокруг, ни в одной деревне. Мой человек искал повсюду, хотел купить за любую цену. У меня две лошади из четверых никуда не годятся, только на живодерню. Надорвались в пути на здешних отвратительных дорогах. Поэтому мне пришлось оставить карету и весь багаж и присоединиться к вам. Лишь сегодня утром карета прибыла. Мой слуга купил, наконец, лошадей за баснословную цену в каком-то медвежьем углу. Зачем же нужны были все эти лошади фон Меншикову? Оказалось, возили бревна, всю зиму возили. И только теперь лошадей стали возвращать владельцам. Согласитесь, друзья, бревна могут понадобиться, только чтобы из них строить.
— Так это, поди, пристани ставили! — воскликнул Елизар. — Пристани тут все или недавно ставлены, или чинены. Лес-то новый, кое-где даже смола не просохла.
— Пристани? — граф задумался. — Может быть, пристани… Но я вижу, что вы устали, молодые люди, вам нужен освежающий сон. Не смею вас больше задерживать и похищать драгоценные часы отдыха.
Он хлопнул в ладоши. Вошел человек средних лет, одетый прилично, как немецкий бюргер с достатком. Граф удивился.
— Вы, Бонифатий? ..
Вошедший с достоинством поклонился.
— С вашего разрешения, граф, я отпустил хлопов.
— Это мой секретарь и письмоводитель, Бонифатий Лех-Кру- жальский, — представил его граф. — Бонифатий шляхтич, и хоть небогат, но в жилах его течет кровь польских магнатов.
Бонифатий склонил голову.
— С вашего разрешения я провожу панов офицеров, — сказал он скрипуче.
Он и проводил их, но только до крыльца.
После незатемненных свечей, горевших на столе, улица показалась особенно темной. С моря дул пронзительный ветер, слышно было, как шумят, набегая на берег, волны. Фенрихи дошли до угла, остановились, соображая, в какую сторону к дому? Вдруг рядом скрипнула калитка, вышел кто-то в низко надвинутой шляпе, в плаще, позвал шепотом:
— Сюда… приказ Александра Даниловича…
Елизар и Аким на всякий случай потянули шпаги, но повиновались. Человек провел их в какое-то помещение, вроде как в сторожку для привратника. На столе стоял потайной фонарь. Человек отодвинул шторку фонаря, посветил себе на лицо, потом на лицо второго, сидевшего за столом. Мелькнул красный воротник, офицерское золотое шитье.
Сидящий за столом добродушно сказал:
— Зря себя кажешь людям. Откуда им знать всех фискалов?
Фенрихам стало не по себе. Официальная должность фискала,
то есть доносчика, была учреждена царем при всех полках. Фискалы ведали тяжкими государственными проступками, ежели таковые приключатся. Начальствовал над ними страшный, но безгранично преданный царю генерал-прокурор Ягужинский.
Незнакомец достал из-за обшлага записку, дал прочесть. Записка была от Меншикова.
«Камрады, — писал светлейший. — Сии люди будут вместо меня. От них не таитесь. Нам этот граф как болячка: мешает, а сколупнуть нельзя».
— Я не фискал, — обиженно сказал человек в плаще и стянул с головы шляпу. — Зря ты дразнишься, господин майор. Шпагой научился махать, а проказлив, ровно дитя.
Сидевший за столом рассмеялся.
— Ладно… В общем, знайте: меня зовут Логинов Яков, чином майор гвардии. А сия канцелярская крыса Павлов Федор; был подъячий, теперь именуют чиновником военным. Оба мы при штабе. Дело такое: негоже, чтоб вас часто видели со светлейшим, да и недосуг ему. А мы ему все как есть передадим, ничего не переврем. Так что рассказывайте: о чем у вас велась беседа с цесарским графом?
Логинов и Павлов оказались люди дотошные; заставили повторить всю беседу, все припомнить. Кое-что Павлов записывал в памятную книжицу. При упоминании о том, что граф интересуется каким-то строительством, Логинов встревожился.
— Ишь собака какая, куда нос сует! Его песье дело, что мы тут строим? Про пристани ты ловко ему ввернул, господин фенрих. Пущай побегает вдоль реки да посчитает, сколько на что леса пошло. Пристани впрямь чинили, да и новые ставили. Ну, а ты что скажешь, умная голова? — обратился он к Павлову.
— Что скажу? Скажу, что граф шельма первостатейная. Значит, так: дипломатия, разные переговоры — это одно, а второе графское занятие — тайным видоком за нами быть: все вынюхать и выследить. И может, не только для цезаря, но и для кого другого. Ох, за ним нужен глаз да глаз!
Глава 7 БАГИНЕТЫ ВПЕРЕД!
Датские корабли разгрузились, ушли вместе со своим конвоем. После их ухода было объявлено, что войскам скоро в поход.
В городе среди русских солдат неожиданно появилась целая рота матрозов, неизвестно откуда взявшаяся. Матрозы были бравые, опытные, все как один хорошие мастеровые. Командовал ими морской капитан Огарков.
Прошлым летом мушкетной пулей его сильно контузило в висок. С тех пор он постоянно ощущал нудный треск в голове от сырости. А так как в морской службе без сырости невозможно, ежели кругом вода и дуют злые ветры, капитан лечил подобное подобным; от внешней влаги спасался другой влагой, принимаемой внутрь. Цил огненный ром или голландский джин, а то и обычную российскую) водку, настоенную на перце. От этих лекарств шум проходил и Огарков чувствовал себя молодым, задорным, сильным, способным единым махом взбежать с палубы на мачту любой высоты, и не токмо по веревочным лестницам, но, ежели надобно, то и прямо по канату. Однако для бережения от простуды завел он привычку повязывать голову алым фуляровым платком, а концы платка спускать из-под шляпы на плечо на пиратский манер. В левом ухе он носил цыганскую серьгу, видно, заговоренную.
Елизара и Акима, вместе с вестовыми Ивашкой и Тимошкой, назначили в огарковскую роту. Против остальных матрозов роты Иван и Тимофей выглядели куда как щеголевато. У тех форменное обмундирование поизодралось: кто ходил в рабочих штанах при мундире, кто не имел и мундира, остался в одном расходном бастроге. Иные имели Преображенские шляпы, у других на головах красовались разляпистые, потерявшие форму шляпенки из войлока, хуже крестьянских.
Накануне похода Елизару снова довелось встретиться с графом. Елизар шел по улице, вдруг из-за угла навстречу вывернулся граф в сопровождении своего Бонифатия.
— Мой дорогой! — воскликнул граф, широко разводя руки, как бы для объятия. — Милый юноша, я уже начал скучать без вас. Но, быть может, скоро мы будем видеться чаще. Фельдмаршал фон Меншиков пригласил меня участвовать в походе. Я уже рассчитал своих слуг, оставил только кучера и вот пана JIex-Кружальского.
Бонифатий, услышав свою фамилию, неуклюже раскланялся. Елизар с интересом поглядел на этого человека. Ростом тот был невысок, но чрезвычайно широкоплеч. Лицо его выражало мрачную
1 Смотри примечание в конце книги* сосредоточенность, будто Лex-Кружальский непрерывно размышлял о чем-то весьма трудном. Обликом он теперь был похож на лютерского пастора.
— Мы снова пройдем прежней дорогой, — продолжал граф, — и, наверно, будем ночевать в Фишгафе. С ночлегом, конечно, будет трудно, все офицеры ринутся в тамошнюю гостиницу. Но хозяин этой гостиницы меня знает, я хорошо платил за все услуги. Надеюсь, он предоставит нам приличную комнату. Приглашаю вас и вашего друга ночевать вместе со мной. Мы поужинаем и приятно проведем вечер за беседой.
Елизару не больно-то хотелось пользоваться гостеприимством графа, но и отказаться было неловко. Он пообещал за себя и за Акима, разумеется, если дела службы разрешат офицерам отлучиться от своих солдат. На этом они расстались.
Было еще темно, когда улицы огласил треск барабанов. Войска сходились на главную площадь строиться в походную колонну. Первым в колонне должен был идти батальон преображенцев. Любимый полк царя в то время был настолько велик, что по численности равнялся целой дивизии. Большая часть полка осталась при царе, Мен- шикову отделили один батальон.
За преображенцами ехал командующий с офицерами штаба и кавалерийским эскортом. Затем шли пехотные полки, а в интервалах между пехотой везли пушки, санитарные фуры и обоз. Матрозы, несмотря на их неприглядный вид, шли первыми в пехоте. На одном из поворотов Елизар заметил сзади, среди обозных телег, карету графа.
Чтобы выйти на фишгафскую дорогу, следовало свернуть возле кирхи. Но преображенцы прошагали дальше, и вся колонна потянулась за ними.
Граф, верно, мечется в своей карете, как обезьяна в клетке, — злорадно подумал Елизар. — Пущай, так ему и надо».
У городской околицы барабаны смолкли. Огарков, шагавший впереди матрозов, повернулся, скомандовал:
— Песенники, вперед!
И тотчас из рядов стали выбегать самые голосистые. Запевала подбоченился, этак величаво поглядел на остальных, словно хотел сказать: «Ну, други, покажем себя!» — и начал высоким тенором:
Как во городе во Санкт-Питере,
На Васильевом славном острове,
Молодой матроз корабли снастил.
Ехавший возле Меншикова генерал что-то крикнул, и тотчас от штаба во весь мах понесся конный вдоль колонны с приказанием не шуметь. Певцы, набравшие было в грудь воздуха, чтоб разом подхватить припев, стали сконфуженно пробираться на свои места в рядах.
Войска шагали молча вдоль долины реки. Скоро окончательно рассвело, стало видно, что колонна с боков окружена двумя цепями конного и пешего охранения.
Шли долго, солдаты уж было притомились, как вдруг впереди показался наплавной мост на медных понтонах. Возле моста стояли пушки, а на той стороне были выстроены небольшие временные укрепления. Шеренги растянулись, солдаты цепочкой стали быстро перебегать мост. На той стороне скомандовали привал: все равно надо было ждать, пока переправятся обозы.
Елизар вдруг снова увидел графа. Он брел между лежавшими людьми, то и дело перешагивая через брошенные ранцы и другие вещи. Время от времени длинная черная фигура скрывалась за дымом костра, на котором варилась солдатская еда. Граф остановился, огляделся и вдруг, увидев фенрихов, направился к ним. Лицо у него было сердитое и встревоженное.
— Что это? — воскликнул он, приблизясь. — Что это все значит? Куда нас влекут? Вас влекут… — поправился он. — По ландкарте впереди надо переправляться еще через два рукава Эйдера. И все для того, чтобы завязнуть в болоте. Поглядите, на ландкарте здесь обозначены непроходимые топи.
Он потянул из кармана сложенную гармошкой карту.
— А мы чего знаем?.. — лениво отозвался развалившийся на плаще Аким. — Наше дело — иди, куда прикажут!
— О-о! — выдохнул граф. — А если вам прикажут идти в ад?
— Ну и пойдем, — невозмутимо изрек Огарков, поправляя на плече длинные концы головного платка. Граф с изумлением поглядел на этого разбойничьего вида офицера — горбоносого, с провалившимися щеками, в платке вместо парика и шляпы. Вдобавок из-за пояса у Огаркова торчали рукояти пистолетов, а на груди, так же как у матрозов, висел нож внушительной длины.
— Как пройти к штабу? Где штаб? Где господин фельдмаршал? — требовательно спросил граф. — Все лежат, спят…
— А штаб, по-моему, вон там… — ответил Огарков, показывая на противоположный берег реки. — Они ждут, пока все переправятся.
— Как так? Но ведь я оттуда!
Огарков закрыл глаза и притворился спящим. Граф огляделся и неуверенно пошел назад к переправе.
— Ишь какой гусь! — ехидно осклабился, глядя ему вслед, Аким. — В болото, говорит, лезем. Уж будто мы такие дурни…
Елизар промолчал, приподнялся на локте, поглядел, как граф толкается на мосту. Пехота и обозные телеги отжимали его все время к самым канатам, заменявшим поручни. Но он упрямо пробирался наперекор течению людского потока.
Еще до полудня переправились через два других рукава реки, и тут граф воочию мог увидеть, какой «дворец» всю зиму тайком строил русский командующий. По болотистой равнине тянулась гать, уложенная на бревенчатые лежни. А дальше, где болото переходило в сплошной водный разлив, гать превращалась в мост на сваях.
Шведы были настолько уверены в непроходимости болотистой поймы реки, что даже не держали здесь постов наблюдения. Им в голову не могло прийти, что неприятель выстроит гати и мосты длиной в четыре немецких мили и что нижние, глинистые слои почвы способны держать сваи.
При подходе к этому месту огарковские матрозы совсем смешали ряды. Все переглядывались, перемигивались, толкали друг друга локтями в бок, хлопали по плечу. А сам капитан Огарков выступал важный, как павлин, даже вытащил из ножен короткую шпажонку и держал ее наголо, словно на параде.
— Наша работа, господин фенрих, чуешь? — подмигнул Елизару усатый боцман. — Скажи, что не орлы! Тут до сих пор наши ребята стерегут.
И действительно, при приближении колонны то тут, то там вылезали из-под моста или поднимались от перил измазанные грязью и тиной матрозы с топорами в руках.
Командир преображенцев велел принести из обоза ендову с водкой. Каждого матроза сначала потчевали чарочкой, а затем уже отсылали к Огаркову.
— Вот бы сейчас поглядеть на цезарца, — весело сказал Аким. — Его, верно, всего перекосило. Рожу повело на сторону от злости!
Четырехмильная гать и мостовые переходы вывели войско к насыпи канала. Узкая насыпь, ограниченная с одной стороны глубоким каналом, с другой разливом, была самым опасным местом, где шведы могли оказать сопротивление. Но синих мундиров нигде не было видно.
— Багинеты вперед! — скомандовал командир Преображенского батальона.
Солдаты, которые могли тут идти человек по шесть в ряд, быстро сбросили с плеч ружья, выставили вперед штыки, по старинке еще называвшиеся багинетами, и батальон беглым шагом заспешил вперед, не ожидая остальной колонны.
Но кто-то успел предупредить шведов. Вдали, на кирхе, остроконечный шпиль которой только-только показался за деревьями у конца насыпи, тревожно затренькал колокол, потом донесся треск барабанов — и на насыпи показались синие мундиры. Они не шли, а бежали к старым, поросшим мхом шлюзам, полезли на шлюзные ворота, стали оттуда стрелять. Другие кинулись перекапывать насыпь.
Преображенцы лавиной хлынули вперед. Над сонными водами раскатилось грозное «ура-а!» С деревьев за болотом стремительно взмыла ввысь стая галок. Синие и зеленые мундиры столкнулись, смешались, несколько секунд слышался лязг оружия, исступленные крики и проклятья. Шведы отхлынули, стали спрыгивать со шлюзов;; несколько убитых и раненых остались лежать на земле.
Преображенцы и матрозы живо заровняли перекоп. Второй перекоп взяли также с налету. Дальнейшее сопротивление прекратилось, шведы торопливо отошли.
Меншиков, горяча коня, вырвался вперед, подскакал к строившимся уже на высоком бугре преображенцам, сорвал шляпу, подкинул ее в воздух, поймал. Пышный плюмаж на шляпе растрепался, страусовые перья развились, шевелились на ветру. Фельдмаршал привстал на стременах, неистово махал шпагой, кричал что-то веселое. Суровые, в темных париках, высоченные ростом преображенцы дружно раскрывали рты, вопили: «Ура-а!», а некоторые: «Ви-ва-ат!» — по-иноземному.
Грязные, оборванные огарковские матрозы тоже орали, махали плотничьими топорами, кидали в воздух шапчонки, один даже пустился в пляс. Меншиков подъехал к Огаркову, перегнулся с седла, обхватил за шею тощего капитана, вставшего на носки, облобызал. Лошадь под командующим была высокая, и сам он не мал ростом; как ни пригибался, все же так потянул за шею Огаркова, что чуть не оторвал ему голову. Красный пиратский платок соскользнул сначала на плечо, затем на землю…
Меншиков отпустил капитана, выпрямился, повернул лошадь, стал глядеть, как идет остальная колонна. Серый из-за выгоревшего сукна на мундирах мушкетерский полк уже лез по откосу. Офицеры суетились, строили солдат. Мушкетеры липли к колесам пушек, помогали надрывающимся лошадям выкатить их наверх. Конные скакали вдоль колонны, что-то кричали солдатам, кое-кого стегали, чтоб не так перли, не создавали толчеи…
Пока все съезжали с дамбы и взбирались на высокий берег, прошло немало времени. Притомившийся авангард отдыхал, ожидая обозов. Вдруг чей-то знакомый голос произнес над самым ухом Елизара:
— Господин фенрих, очнись! Неча дремать… Глядь, каретка нашего цезарца подъезжает. Сходил бы к нему, проведал; узнал бы, как граф перенес этакую дорогу.
Елизар поднял голову. Рядом, низко надвинув шляпу, кутаясь все в тот же длинный плащ, присел на корточки фискал Павлов.
— Ладно, сейчас… — неохотно согласился молодой моряк. — Только скажусь командиру, куда иду.
— Погодь, — остановил его Павлов. — Я, господин фенрих, тебя не зря прошу. Графский прихвостень, Бонифатька, вздумал было в дороге улепетнуть. Заприметил тропинку на болоте. Он, значит, тишком, тишком из кареты выбрался и — как уж в осоку. А там его часовой хвать! Куда, господин хороший? За какой надобностью?
Бонифатька ему на брюхо кажет, мол, приспичило. Ну, часовой его отвел в сторонку и стал караулить. А потом назад поволок. Мы ведь не лыком шиты. Коли пустили к себе соглядатая, так за ним приглядываем, чтоб не нашкодил. Вот это поимей в виду.
Елизар, прихватив Акима, без всякой радости побрел туда, куда указывал Павлов. Аким с досадой расталкивал суетившихся солдат. Обозного ездового, силившегося поворотить коней, чтоб объехать пень, чуть было не огрел ни с того ни с сего по шее. Елизар насилу удержал друга.
— Ну, ты! Чего на людей кидаешься! Последнее дело на невинных свою злобу срывать.
Карету графа разыскали не сразу, ее не легко было отличить от обозных фургонов. Пыль и комья грязи густо залепили кожаные фартуки, плотно укрывавшие дорогой экипаж. Толстый, неуклюжий кучер, видно, недавно распряг лошадей, увел поить. Дышло кареты лежало на земле. Хозяйственный Аким не выдержал, покачал головой.
— Надо бы поднять. Неровен час, кто споткнется, а то наедут и поломают. Каретка венская, дорогая.
Обе дверцы были распахнуты настежь. Граф сидел на раскладном стульчике возле своего экипажа, что-то жевал. У ног его стояли бутылка и стакан. Возле графа, прислуживая ему, суетился Бони- фатий.
Увидев обоих офицеров, граф передал Бонифатию серебряный кубок, поднялся со стульца. Лицо его излучало радость и восторг.
— О друзья мои! — воскликнул он. — Это бесподобно! Это замечательная военная хитрость! Старый Штейнбок, конечно, ждет наступления с фронта, левый фланг своей армии он считал, безусловно, надежно прикрытым. Ох, этот Штейнбок! Старый каменный козел! Не зря он носит столь символическую фамилию.
— Штейн-бок… — раздельно повторил Бонифатий. — «Штейн» по-немецки «камень», «бок» — «козел».
Елизар подивился. Слуге вроде не подобает встревать в разговор господ. Но вовремя вспомнил, что Бонифатий не просто слуга, а родовитый шляхтич, по бедности поступивший в услужение к богатому и знатному графу. Тогда понятно.
— Когда я вернусь в Австрию, — продолжал граф, — я расскажу всем и напишу в своих мемуарах, какие у русских великолепные военные инженеры. Интересно, где они обучались? За границей? В какой стране?
— Какие там инженеры, — пожал плечами Аким. — Все это сделали обыкновенные мужики, мастеровые. У нас каждый мужик топором и ложку из чурбака вырежет, и избу построит, и вообще на любое дело мастер, господин граф. И, кроме топора, в другом инструменте не нуждается.
Граф вздернул брови.
— И никакой официр им не указывал, не научал?
— Ну, офицер-то у них был. Солдат одних оставлять нельзя, — пояснил Елизар. — А вообще господин Яблоков правду говорит.
— Сегодня русское войско в город входить не станет, — размышлял вслух граф. — Военная стратегия это считает неблагоразумным. Войска теряют мощь, сражаясь в узких улицах. Значит, бой будет завтра с утра. Шведы без боя не отдадут столь богатый город. Маргаретенбург славится своими ежегодными ярмарками и великолепными мастерами. Прежде он даже соперничал со знаменитым городом Нюренбергом.
— Что ж, по-вашему, сражение будет в поле? — усумнился Аким.
— Разумеется, — сказал граф. — И я опасаюсь за его исход. Штейнбок силен. У него целая армия против вашего корпуса.
Последние телеги обоза подтянулись. Снова забили барабаны, затрубили военные рожки. Войска, развернувшись в боевом порядке, осторожно двинулись вперед, чтобы поскорее пройти небольшую рощу и выйти на ровное место. Когда ее миновали, открылись возделанные поля, огороды и мелькавшие вдали огоньки города. Последовала команда остановиться, стать биваком, но лагерь не разбивать.
Командующий с генералами выехали на бугор, оттуда обозревали окрестность в зрительную трубу. Наступившие сумерки не позволяли разглядеть многое, но ясно было одно: неприятельского войска впереди нет; Штейнбок не вышел из города, не хочет дать бой в открытом поле. Только на дороге то появлялись, то скрывались за деревьями и кустами фонари быстро несущейся кареты. Перед каретой скакали двое верховых с факелами.
Большая карета, запряженная цугом, вынеслась из пшеничного поля, завернула, наклонившись так, что чуть не опрокинулась, встала перед бугром, с которого наблюдали русские генералы. Из кареты неуклюже вылезли люди в длинных, темных одеждах. Путаясь в полах, заспешили наверх.
— Попы, что ли?.. — сказал кто-то из меншиковской свиты.
Но оказалось, что прибыли не попы, а депутация от городского
магистрата, во главе с самим бургомистром. Бургомистр в длинной до пят официальной мантии, в парадном парике, но в съехавшей набок шляпе нес в вытянутых руках шелковую подушку с символическими ключами города. Подойдя к Меншикову, он опустился на одно колено, протянул подушку. Меншиков слез с лошади, взял большой кованый ключ, полюбовался тонкой ковкой, передал подушку с ключом кому-то из свиты.
Граф Штернфельд не сказал ни слова. Он только крепко сжал руки, точно в них были четки, и смотрел на генералиссимуса не отрываясь.
Потом он повернулся и скрылся в карете.
Глава 8 ДОМ СТАРШЕЙ ГИЛЬДИИ
Близко к полуночи Елизара и Акима разбудили. Со стороны потухающего костра шло тепло, но второй бок коченел: ночь была свежая, и от близкого болота тянуло сыростью.
— Ну, чего там еще? — Елизар, по морской привычке, вскочил разом. Аким поднялся медленнее, все еще не в силах стряхнуть с себя лютого сна.
Все вокруг выглядело странно, призрачно. Землю, как в вату, укутал туман, а над туманом все было залито ярким лунным светом. Луна, чистая, что твое серебряное блюдо, висела на озаренном ее светом небе. Отчетливо был виден зубчатый силуэт города, за городом что-то горело, колеблющийся красноватый отблеск то разгорался, то пропадал. Часовые стояли погруженные по пояс в туман, словно русалки в воду.
— Вот напасть! Выспаться не дадут, — ворчал Аким, вздрагивая от холода. — Ну и места! Все тут не по-людски…
Фенрихов вызывал командир преображенцев. Он сидел перед ярко пылающим костром на чурбаке. Рядом вместо стола поставлен был барабан. На барабане стояла фляга, прижимавшая бумаги. Около командира толпились офицеры, среди них Огарков в своем неизменном пиратском платке.
Командир зевнул, прикрывая рот ладонью, тряхнул головой, чтобы согнать сонливость.
— Не было хлопот, — сказал он хрипло. — Придется оберегать здешних жителей. Швед Штейнбок с войском ушел дальше и заперся в крепости за городом. Решили отсидеться, авось подойдет помощь. А в городе грабят жителей шведские дезертиры. Их надобно выловить или хотя прогнать прочь. Господа офицеры, приказываю каждому выделить команду для патрульной службы и не мешкая идти выручать сих бюргеров.
Пешие и конные патрули свели вместе под команду одного полу- полковника. Отряд с барабанным боем скорым шагом двинулся к Маргаретенбургу, пехота впереди, кавалерия — драгуны и гусары — трусили сзади. Провожатым ехал немецкий магистратский чиновник. Он сидел верхом на невиданном русскими солдатами осляти, именуемом мулом. С виду сей мул конь, а уши и хвост ослиные, потому как рождаются они от ослов и кобылиц. Нрава они тихого, хотя и гораздо упрямы, как их отцы-ослы. И все же мул смирнее коня; потому и держат их пасторы, купцы да чиновники, — словом, люди немолодые, степенные.
Поначалу город показался вымершим. В узких уличках тишина, все окна наглухо закрыты ставнями, ворота и двери заперты. Тишину нарушал только треск барабана: двое барабанщиков старались вовсю — знай, мол, наших да понимай, кто идет!
Полуполковник, начальствующий над патрулями, сердито поглядел на сопровождающего.
— Чего ж тут охранять? Тишь да гладь, да божья…
И тотчас из боковой улички донесся истошный крик и стуки, будто швыряли тяжелое из окон. Полуполковник свистнул, приказал подскакавшему кавалеристу:
— Пять человек конных… а мы подождем.
Конные умчались в темную щель, и сразу же оттуда послышался громкий говор, ругань, лязг оружия. Немного подождали. Кавалеристы вернулись, гоня перед собой шайку оборванцев в истрепанных солдатских мундирах. Барабанщики снова ударили марш, патруль двинулся дальше к центру.
То и дело попадались то разбитая лавка, то брошенный посреди мостовой открытый сундук: содержимое выгребли, а ненужную тяжесть бросили. Перед кабаком валялись битые бутылки и пивной бочонок. Бочонок, как горестные слезы, ронял последние капли в лужу пива.
Немец-чиновник повернулся на скрипучем седле, назидательно сказал по-русски:
— Здесь, господин офицер, время терять не стоит. Тут живут люди поплоше, беднота… Вам следует спешить в купеческие кварталы, оберегать лучших людей. v
— А для меня все ваши люди одинаковы… — сердито проворчал командир. — Сказано оберегать слобожан, будем оберегать всех.
Он остановил отряд, начал распределять команды, кому в каком направлении следовать, назначил место встречи перед возвращением в лагерь. С оставшимися двинулся дальше. Немец сидел на своем полуконе, полуосле, всем своим видом выражая неодобрение. И мул стриг ушами, словно тоже не одобрял.
— А чего это там горит? — поинтересовался Елизар.
— Не горит, а жгут нарочно, — ответил полуполковник. — Перед укрепленным форштадтом шведы освобождают пространство. Мы туда сейчас не пойдем, там Штейнбок сам держит охрану.
Отряд вышел на центральную городскую площадь. Площадь была неправильной формы, от нее лучами расходились несколько улиц и целая сеть переулков. Посредине торчал какой-то нелепый каменный столб, от него на мостовую ложилась полоса густой тени.
Вдруг откуда-то издали донесся приглушенный хлопок пистолетного выстрела. Невозмутимого немца словно кольнули, он буквально подпрыгнул в седле.
— Майн готт! — воскликнул он. — Это в доме старшей гильдии! Господа офицеры, господа солдаты, надо скорей туда, выручать господ членов гильдии.
Полуполковник ухватил его за рукав:
— Чего ты шебаршишься?! Где тот дом?
— Вон, вон!.. — показывал немец на массивный серый каменный дом, стоявший отдельно. Нижний этаж был глухой, без окон, дверь вся окована железом.
— Что это за гильдия? — допытывался начальник патруля.
— О-о! — чиновник поднял кверху руку. — Это ювелиры, это богатые купцы, самые богатые. В других гильдиях кузнецы, столяры, пивовары. Самая младшая — мясники и кожевники…
Его прервал отчаянный женский вопль. Вопль несся с противоположной стороны. За первым криком послышались еще крики, удары, детский жалобный плач.
— Шубников и Яблоков! — крикнул полуполковник. — Бегите в дом гильдии, а мы туда… г
Команда Елизара и Акима была одной из самых малочисленных. Огарков то ли пожалел своих матрозов, то ли застыдился, что многие из них плохо одеты, отобрал в патруль всего пять человек, кроме двух ‘фенрихов. Тут были Иван и Тимофей, да еще трое, но зато все ребята дюжие и не робкого десятка.
Моряки принялись стучать рукоятями пистолетов в дверь. Внутри либо не слышали, либо не желали отворять. Попробовали дергать за кольцо, служившее дверной ручкой. Кольцо было здоровенное, кованое, но дверь не поддавалась, даже когда просунули в кольцо ствол мушкета и действовали им, как рычагом.
Елизар, оставив Акима у дверей, кинулся с двумя матрозами во двор. Ворота были отворены, но во дворе пустота, только одна дверь вела в подвал. В подвале оказалась кухня, но и оттуда хода наверх не было, блюда поднимались в столовую палату специальным подъемником.
— Ну и законопатились купчишки! — в сердцах воскликнул один из матрозов. — Домину отгрохали, словно крепость, и даже дверей не понаделали, кроме одной главной. Ну и народец!
— А вона, гляди! — перебил приятеля другой матроз, показывая на крышу соседнего дома. Крыша была остроконечная, очень высокая, поверх черепицы была уложена длинная лестница.
Елизар выбежал на улицу, кинулся к тому дому, со всей силы затряс дверной молоток. Где-то наверху отворилось окошко, испуганный старческий голос спросил:
— Что надо? Кто вы?
— Русский патруль во главе с офицером! — крикнул Елизар. — Мы в дом не войдем, нам нужна только лестница с крыши.
Он отошел, стал так, что сверху могли его разглядеть. Увидев аккуратного русского офицера при шпаге и двух матрозов в белых ремнях, немцы поверили. Слышно было, как стали отодвигать засовы, потом появился вялый парень в спущенных чулках, повел матрозов наверх. Елизар с улицы глядел, как два матроза вылезли в слуховое окно, осторожно по карнизу дошли до лестницы, отвязали, начали спускать вниз. Внизу ее приняли, понесли к дому гильдии, прислонили к одному из окон.
Первым вызвался лезть Аким, но Елизар не пустил.
— Уж коли лезть первому, так мне! У тебя ведь от высоты кружение головы, сам говорил.
Дубовая ставня имела фигурную прорезь в виде сердечка. Елизар заглянул через эту прорезь.
Внутри большой сводчатой палаты происходило невообразимое. У стола стоял здоровенный шведский кирасир в стальной каске и кирасе. Перед ним громоздилась куча золотых дукатов, драгоценных украшений, часов, золотых и серебряных кубков. По палате метались еще люди в шведских мундирах. А у стенки, чинно подняв ладошки, стояли благообразные немецкие купцы в темном, и у всех были вывернуты наружу карманы, так и свисали холщовыми язычками. Кирасир, видно он был предводитель, распоряжался: показал на резной шкаф, какой-то солдат сунул в щель шпагу, приналег, дверца соскочила и повисла на одной петле. В шкафу лежали аккуратно сложенные скатерти и салфетки.
Елизар понял, что мародеры увлечены грабежом, тихонько отодвинул задвижку ставни, распахнул окно настежь, прыгнул внутрь. За ним, не мешкая, кинулись матрозы и Аким.
Предводитель грабителей озадаченно смахнул было каску на затылок и, вдруг сообразив, выхватил палаш. Кирасирский палаш был тяжелее и длиннее русской шпаги. Елизар, ощутив в груди холодок бешенства, молниеносно кинулся на кирасира, скользнув подошвами по вощеному паркету, рубанул что было силы. Клинки высекли искры, стукнулись чашками.
— Ах ты, вражина!
Елизар проворно отшатнулся и ткнул шпагой вперед. Клинок мягко вошел между кирасой и кожаным ремнем, пронзил тело и воткнулся в дерево. Кирасир беспомощно взмахнул палашом, выронил его и бессильно обмяк. Елизар вытащил шпагу. Хоть и приучили рубиться, а все же стало муторно; не так-то просто заколоть человека. Кирасир скребанул грязными ногтями по столешнице и рухнул.
Елизар, успев овладеть собой, нагнулся, выдернул у грабителя из-за пояса пистолеты, потряс за плечо.
— Эй, зольдат, как вы сюда залезли?
Длинная рука с рваным манжетом поднялась, показала в угол.
— Он открыл дзерь… вон тот поп зазвал…
Глаза раненого закатывались, зрачки скрылись под веками, оста- лась только белая полоска. Елизар оглянулся, увидел на миг знако-мое лицо прячущегося за чужие спины человека. Не поверил глазам, крикнул:
— Пан Бонифатий?!
И кинулся к нему. Но в это время кто-то из мародеров распахнул двери на улицу — и вся шайка кинулась удирать. Матрозы бросились их преследовать, но вскоре вернулись, никого не догнав.
Елизар поглядел на купчишек. Народ упитанный, в теле. Мужики по преимуществу не старые. Чего ж они так празднуют труса, жмутся к стене, подняв кверху руки, и пальцы дрожат? Равно как и щеки трясутся и прыгают?
— Господа купцы, — Аким, упираясь концом шпаги в пол, иcкaл^ немецкие слова. — Попрошу больше не иметь страху. Вас охраняют воины Российской державы. Соберитесь с духом. Возьмите ваше имущество: нам оно не нужно.
Елизар вдруг почувствовал, что кто-то дергает его за ножны шпаги, оглянулся, увидел мальчика-поваренка. Поваренок показывал в темный коридор. Округлив глаза, он кричал:
— Шнелль! Шнелль!..
— Чего тебе шнелль? — переспросил Елизар, схватил со стола золотой дукат, сунул мальцу, Монета тотчас же исчезла, спрятанная за щеку. Но поваренок не отставал, тащил за рукав. Елизар прислушался, сообразил — в коридоре все еще дерутся. Крикнул своим:
— Эй! Морские служители! За мной! Наружную дверь запереть, никого не впущать и не выпущать!
Сводчатый коридор был не прямой, а с загогулинами, вправо, влево, две ступеньки вверх, одна вниз. В глубине коридора метались огоньки, кто-то размахивал канделябром, скамьей били в закрытую дверь, несокрушимо прочную, как все в этом здании. Один из мародеров обернулся, выпалил из пистолета. Пуля, просвистев над ухом, ткнулась в стену.
— Сдавайся, кто жить хочет! Хенде хох! Лапы вверх! Выходи по одному! — гневно воскликнул Елизар.
Шведы не стали медлить: побросали на пол оружие, прижимаясь спинами к стене, высоко поднимая над головами ладони, медленно стали пробираться мимо этого страшного русского, осатанелого от ярости. Шпага в Елизаровой руке тряслась, вот-вот пырнет кого- нибудь.
— Вяжи их! — распорядился Аким. — Судить вас, негодяев, будем как корсаров и грабителей!
Пленных связали и увели. Елизар подошел к двери, в которую ломились грабители, подергал дверную ручку. Дверь была заперта на замок. Попробовал постучать, объяснил, кто стучит. За дверью было все так же тихо. Подошел Аким.
— А може, и не надо туда?
Елизар поскреб затылок.
— Ну как не надо?! Ежели мы этот гильдийский дом берем под охрану, так надобно знать, кто в тех комнатах. Может, там все со страху перемерли, а может, там злодеи… Аким, спроси ключи у купчишек.
Купцы только переглядывались, ключей у них не было. Подошел один матроз, видно — мастак по слесарному делу, присел, поглядел в скважинку, что-то прикинул, вытащил из кармана гвоздь, согнул, как надо. Просунул гвоздь в скважину, поднатужился, повернул. В замке щелкнуло.
— Вот так, — сказал матроз, — можно входить.
Елизар толкнул дверь. За дверью была комната, ярко освещенная. Прямо против двери бледная дева с пистолетом в руке, видно, готовилась дорого продать жизнь. Другая женщина, пожилая, застыла на коленях в углу перед распятием. Елизар шагнул, пистолет поднялся, черная дырка ствола оказалась на высоте его глаз.
— Ну кроку далей, пан жолнеж! [4] — отчаянно крикнула дева. — Пальну!
— Погоди!.. — начал было Елизар, но дева годить не стала, надавила пальцем, курок щелкнул, высек искру. Выстрела не последовало, потому что пистолет дал осечку, — видно, на полку не подсыпали пороху.
— Ах ты, такая-сякая! — рассердился Елизар. — Тебя же, дуру, спасают, а ты палить!
Он схватил пистолет за ствол, загнул кверху. Женщина у распятия со стоном повалилась, верно, без чувств. Но дева не хотела выпускать оружия, стала бороться. Сила у нее оказалась не девичья, может, удвоилась с отчаяния. Елизар не без труда выдернул изящный, хорошей работы пистолет из судорожно вцепившихся пальцев и все время видел перед собой странные глаза: широко открытые, бесстрашные и непонятного цвета — не то синие, не то зеленые. От борьбы у девы свалился с головы плат, разметалась коса с сильной рыжиной.
Овладев пистолетом, Елизар сунул его в карман, но тут дева, полыхнув глазами, выхватила из-за пазухи длинный, острый стилет, замахнулась:
— Забйе, матка боска!..
Елизар инстинктивно отшатнулся, а Аким кинулся оборонять друга.
— Дура! Коза бодлива! — возмущенно завопил он. — Чего машешь?! Мы ж тебя спасаем!
Рука со стилетом опустилась. Стилет пропорол угол воротника Акимова мундира, завяз, упершись концом в ушко пуговицы. Дева дернула оружие, чтобы высвободить и ударить вторично. Елизар сообразил и, раньше чем сие совершилось, в сердцах влепил деве пощечину, чтоб опомнилась. Дева ахнула и схватилась за щеку. Аким, ругаясь, отбежал, бережно вытащил стилет.
— Ишь ты! Чуть не зарезала, словно порося! За мундир-то четыре целковых плачено, сукно аглицкое, а она, гляди, как ворот пропорола…
Елизар взял у него стилет, сокрушенно покачал головой.
— Острый, бриться можно…
Поглядел, куда бы зашвырнуть, размахнулся, кинул вверх, в потолочную балку. Стилет воткнулся в дерево, задрожал. Пусть теперь достает, со стула и то не дотянешься.
Больше делать в комнате было нечего. Окна крепкие, забраны решетками, с улицы не влезешь. Другого хода нет. Пущай баба бесится, не опасно…
Выходя, стукнул дверью.
В большой зале поваренок приволок всем фарфоровые кружки с пивом, предлагал вина мозельского. От вина отказались: на кой оно ляд, вино, жажду не утолит, а пиво хоть прохладное! Выпили. Купцы благодарили, трясли руки, называли спасителями, благородными рыцарями. Матрозы конфузились: эко слово — лыцари! Это они-то?! Ишь!
Фенрихи стояли у дубового сундука, медленно тянули горькую влагу.
— А все-таки срам, — угрюмо сказал Елизар. — Я ее здорово огрел. Может, оттого вся ее краса теперь погибнет?
— Сама виновата, коза бодлива, — все еще сердясь, повторял Аким, трогая распоротый воротник. — Какая краса? .. Нашел, чего жалеть! Красивая девка должна быть собой дородна. Поглядел бы на московских невест. А эта — что? Длинна, тоща да зла! Из платья чуть не вся вылезает, аж плечи голые. Нет, у нас в Москве таких худящих не жалуют.
Елизар вздохнул: верно, пава не величава. Ни румянца во всю щеку, ни полноты. Наоборот, тонка, как былинка. И волосы рыжие, как у ведьмы. А щемит — пошто обидел? Он нахмурился и, не глядя на друга, сказал:
— Аким, погляди тута, чтоб во всем порядок, а я — мигом.
На стук дверь медленно приоткрылась. Встретила баба в чепце, прислужница, та, что перед распятием валялась. Увидев рослого гвардейца, поклонилась в пояс.
— Проше пана добродея… проше вейсть…
Девица полулежала в креслах. Увидев, как Елизар, стянув шляпу, кланяется, залилась краской.
— Ой, пан коханы! Hex мне пан пшебачи! — и по-немецки: — › Простите, пан!
Теперь законфузился Елизар.
— Что тям прощать… ясное дело, испужались! Откуда знать, что не грабители.
Вынул отнятый у девицы пистолет, деликатно положил на столик. Глянул вверх, стилет все еще торчал в потолочной балке. Надо приказать матрозам, чтоб достали.
Девица стояла ни жива ни мертва, опустив очи, теребила конец косы. Елизар быстро глянул: платье как платье, все немки такие носят. Это у нас был обычай девку пеленать, словно младенца, чтоб нигде кусочка кожи живой не показалось. Слава те богу, царь Петр отменил сей варварский уклад.
Девица подняла взор. И тут Елизара словно ошпарило — те же смелые очи, ясные, большие, только теперь не гневные, а, наоборот, смущенные, робкие.
— Слушай… — Елизар неловко переступил с ноги на ногу, поправился. — Слушайте, благородная фрейлейн. Произошла ошибка. Мы — патруль Российской державы. Наше дело охранять мирных жителей. Ежели что, скажем, помочь надобно, так мы… Пошлите служанку сказать об этом соседям…
Только он стал задом пятиться к двери, как девица всплеснула руками, прижала ладони к щекам, вдруг вихрем пронеслась через комнату, повисла на Елизаровой шее и — реветь! От неожиданности моряк растерялся, стоял столбом, как во фрунте. Нянька поодаль тоже начала голосить:
— Панна, серота, бэз радйцув… ёдна на свете. Брат едыны в неволе москальскек…
Елизар почувствовал, что грудь мундира промокает горячим. Он осторожно потрогал сначала косу, потом и головку приникшей к нему девушки.
— Ну чего, чего… ну чего горюнишься. Мы ж не обидчики… ну чего ты, козочка? — ласково приговаривал он уже по-русски. — Да перестань ты реветь, дурешка, побереги глазы… Пригодятся!
Дева, видно, поняла, хоть и по-русски: не отнимая рук, откинулась, взглянула прямо в глаза. Куда делась ее дикость. У Елизара сердце сжалось.
— Ты уж меня прости, — сказал он испуганно, — я… не драчлив… я за Акимку перепугался.
Неизвестно, поняла ли дева или только догадалась, но вдруг отступила на шаг, принялась быстро крестить парня издали, рванулась, схватила руку, хотела поцеловать, Елизар отдернул руку.
— Да что ты, очумела! Да рази можно! — И, сам не понимая, как это вышло, ухватил красавицу за щеки, вытянув губы хоботком, чмокнул, уж куда пришлось, то ли в лоб, то ли в глаз. Затем, топоча ботфортами, ринулся прочь. Пропадешь тут с такими делами!
Глава 9 ГОРОДСКОЙ СИНДИК
Шведский фельдмаршал Штейнбок был старый, опытный воитель, весьма осторожный. Неожиданное появление русских на фланге армии, их смелый бросок через болото и затопленные поля привели старика в полнейшее смущение. Штейнбок счел самым разумным, не начиная сражения, отступить, занять близлежащий замок- крепость, расположенный верстах в десяти от города, и там дожидаться подхода другой шведской армии, которой командовал граф Крассов.
Старинный замок несколько лет назад был заново укреплен французскими инженерами согласно новейшим требованиям военной науки. Французские инженеры обнесли стенами и предместье перед замком, так называемый форштадт.
Гарнизон замка, вместе с корпусом Штейнбока, состоял более чем из пятнадцати тысяч конного и пешего войска, с трудом разместившегося на тесных замковых дворах и узких уличках форштадта.
Союзные армии русских, датчан, голштинцев и саксонцев обложили крепость со всех сторон.
… Утро только начиналось. Солдаты умывались, чистили оружие и коней, менялись караулы, на кострах закипали котлы. Елизар и Аким, квартировавшие вместе с другими офицерами в полуразрушенном амбаре, были неожиданно вызваны в штаб.
— Может, уважили тятину просьбу о переводе меня из флотских в драгуны, — волновался Аким, на ходу поправляя мундир, шпагу, подкручивая маленькие белокурые усики. — А тебя, наверно, назначат ротным. Говорят, в соседней роте много офицеров занемогло животами. Вода больно плоха. Приказано не черпать воду из рва, да не слушаются.
Штаб расположился в единственном уцелевшем доме. На скамеечке у входа дремал майор Логинов. Увидев обоих друзей, он поднялся, сладко потянулся, пошел им навстречу.
— Вот и снова свиделись, — сказал он, посмеиваясь. — Это я за вами послал. Нужны вы мне оба. Собирайтесь живенько — и поедем.
— Куда поедем? — всполошился Аким. — Я не могу, меня вот- вот в драгуны переведут…
Логинов снова зевнул.
— Ладно, кем ты там потом будешь, моряком али драгуном, дело второе. А первое — вот тебе приказ. Прочти и уверься, что оба вы поступаете в мое распоряжение. Так-то.
Пока тряская тележка везла всех троих по разбитой дороге назад в город, Логинов о делах не говорил. Навстречу тянулись фуры с сеном, с мукой, с кольями, с хворостом, связанным в тугие пучки наподобие снопов. Это были фашины, коими наступающие станут забрасывать ров, ежели пойдут на приступ.
Елизар только дивился: экую прорву всякой всячины требует себе армия. День только начался, а уж везут и везут и будут возить до глубокой ночи. И завтра тоже, и послезавтра^:.
Брела команда усталых солдат, с заступами вместо мушкетов. Верно, зарывали убитых да умерших от болезней.
Наконец колеса повозки загромыхали по неровным камням городской мостовой, проехали одну улочку, другую, остановились перед богатым домом.
— Ну вот… — сказал Логинов, вылезая. — Ехали, ехали да приехали. В сем доме я нынче квартирую. Принадлежит же сия хоромина синдику, весьма почтенной персоне.
— Что такое синдик? — поинтересовался Елизар, — У нас на Руси такой должности нет, али я не слыхивал?
— Синдик есть сословный старшина, — пояснил Логинов, входя во двор. — Здесь так положено: ежели, значит, кузнецы, так все кузнецы и их подмастерья живут кучно, на одной ли, на двух или трех улицах, сколько места понадобится по людям. И каждый мастер своим товаром не торгует, сдает же тот товар старшине цеха — синдику. Синдик сам ищет покупателей и сам подписывает запродажные. Вот как у них устроено. А этот герр Вольфрам Гешке есть наиглавнейший в городе, старшина всех синдиков. Ну, да вы его сейчас признаете, он вам, можно сказать, жизнью своей обязан и сохранением всего капитала, не токмо своего, но и того, что ему доверили.
В низеньком, отделанном по стенам дубовыми панелями покой- чике, ждал толстый, уже очень немолодой человек. При входе русских офицеров он поспешил подняться с кресел, но шаркать по полу ногами и изгибаться не стал, лишь с достоинством наклонил голову. Фенрихи в самом деле тотчас признали в нем одного из прятавшихся в доме старшей гильдии купцов, как раз того, которому предводитель мародеров грозил своим палашом, когда Елизар распахнул оконную ставню и кинулся на выручку.
— Ну, господин Вольфрам, — сказал Логинов по-немецки, — вот и привез я, кого обещал.
— Вы желанные гости в моем доме, — ответил купец, снова наклонив голову. — За обедом я представлю вас своей супруге и моим дочерям, Анне-Марии и Грете. А сейчас прошу садиться, поговорим о деле.
Он дернул за висевшую на стене возле его кресел тканую ленту с кисточкой. Где-то в глубине дома задребезжал колокольчик. Вошел слуга, такой же степенный и толстый, как хозяин.
— Мартин, — сказал купец, — подай вина мозельского и пива, как кто из господ пожелает. Потом пригласишь сюда мастера Иоахима.
Вино было легким, приятным, но Логинов разрешил налить только по одному бокалу, да и то выбрал поменьше, а затем решительно отставил бутылку в сторону. Себе нацедил полкружки пива из пузатого жбана.
— Занимаясь делами, горячительного не пьют, — назидательно произнес он. — Господа фенрихи, выбрал я вас среди других офицеров потому, как вы оба про нашу пороховую беду знаете. Разглашать ее нельзя. Шестой день стоим мы перед крепостью, роем апроши и траншеи, то же делают и датчане и также голштинцы. Артиллерийской же пальбы не ведем либо палим весьма умеренно.
Он просунул палец за тугой шейный платок, оттянул его, чтобы было просторнее.
— У нас пороху мало. У датчан и у голштинцев его предовольно. Ежели б дружно взяться да начать пальбу со всех сторон, Штейнбок при той тесноте, что в крепости и форпггадте, скоро бы завыл.
— Так чего ж союзники с нами не поделятся?! — негодуя, воскликнул Елизар. — Ежели, скажем, у меня много чего, а у Акимки, к примеру, нет, так я ему с милой душой, потому как — друзья!
Купец улыбнулся, — видно, знал по-русски; Логинов же строго постучал пальцем по столу.
— Не твоего ума дело! Тут все посложнее. Крепость, вишь ты, была прежде голштинская — наследственное владение ихнего малолетнего герцога. Вот опекун и требует, когда шведов побьют, при дележе вернуть ему ту крепость. А вернуть нужно целую, развалины-то никому не нужны. Датский король с голштинцами в солидарности, герцог ему свойственником приходится, а он за малолетка поручитель: должен следить, чтоб сам опекун або кто другой герцогское имущество к себе не прибрал. В общем, наш светлейший сам ездил и к датчанину, и к голштинцам, просил, уговаривал, даже полаялся. Те ни в какую. Говорят: при таком гарнизоне в крепости харчей не надолго хватит и шведы сами пардона запросят.
Купец Вольфрам снова улыбнулся и покачал головой.
— Вот он не военный, — Логинов ткнул в купца пальцем, — а умом востер. Конечно, можно сидеть и ждать, только чего дождешься? Шведского генерала Крассова дождешься, вот чего дождешься. Крассов нас по загривку, а Штейнбок вылезет из крепости и по зубам вдарит.
— Да, это не расчетливо, — степенно сказал купец Вольфрам. — В любом деле — в коммерции ли, в военном ли деле — расчет прежде всего. Лучше потратиться на ремонт после бомбардировки, чем потерять вообще все.
«Неужто пошлют в Россию за порохом? — размышлял Елизар. — А если пошлют, то как? Морем или сушей?»
Но оказалось, что дело обстоит иначе. До опалы город Маргаре- тенбург имел не только стены и башни, но и артиллерию, и пороховой запас, и мастеров, умевших делать превосходный порох. Укрепления шведы разрушили, пушки, что поновее, вывезли, а про порох забыли. Не то чтоб совсем забыли, а просто решили вывезти позже, на том дело и замерло.
Тут купец Вольфрам велел ввести старейшего порохового мастера, доживавшего на покое, маленького, седенького, ссохшегося от прожитых лет старичка в кожаной ермолке. Мастер Иоахим — так звали старичка — весьма толково объяснил, что пороховые мюльни, сиречь мельницы для размола пороха, существуют и находятся в исправности, кроме одной, которую шведы сожгли. Что же касается порохового запаса, то порох от времени давно пришел в негодность, слежался в комья, селитра из него выдохлась. Но он, Иоахим, знает секрет, как порох восстановить. Надобно его заново перемолоть и добавить, чего недостает. А все материалы в городе есть.
Логинов, очень довольный, налил мастеру вина, сам стал потчевать, вежливо — уже по-немецки — попросил хозяина поселить поро- ховщика тут же в доме.
Пороховых дел мастер засмеялся старческим, дребезжащим смешком.
— Вольфрам, слышишь? Они не знают, что я твой родной дядя и что у меня здесь и так есть своя постоянная комната на случай, если я приеду навестить внучек. Ну, пойдемте обедать, я давно не видел деточек. А после обеда отправимся осматривать мельницы и пороховые погреба.
Обед тянулся долго. Ели вкусно и сытно, как подобает в купеческом доме. Жена синдика, моложавая, дебелая женщина, в огромном накрахмаленном чепце, распоряжалась толпой слуг и горничных, как главнокомандующий. Две вольфрамовы дочки были пышные, смазливенькие, подчеркнуто благонравные немецкие девицы на выданье. Акиму они обе понравились, он даже успел шепнуть Елизару:
— Видишь, из порядочных семейств девы и румяны, и белы, и этак вальяжны, не то, что твоя коза бодливая, которая меня чуть не заколола.
А Елизар думал как раз о той «козе». Где она теперь? Выехала из города или все еще тут? А если в городе — у кого квартирует?
На рассвете той памятной ночи, когда в Маргаретенбурге уже был восстановлен порядок и патрульные войска возвращались в лагерь, Елизар еще раз зашел к той паненке попрощаться.
Тяжелая дверь открылась, едва он успел стукнуть в нее костяшками пальцев. Отворила дверь сама паненка. Увидев фенриха, зарделась, присела, выставив вперед носочек туфельки и, щепотно приподняв кончиками пальцев длинную юбку, развела ее в стороны. Елизар от смущения даже забыл, как отвечают по-приличному.
— День добрый, — чуть слышно сказала девица по-немецки. — Не знаю, как вас и благодарить. У нас с Катажинкой, — ока пальчиком показала на свою горничную, — нет здесь никаких друзей. Мы — проезжие чужестранки,#и неизвестно, пустят ли нас еще в Московию или хотя бы в Прибалтийские земли, завоеванные русскими. Мой единственный брат, Михалек, был ранен и оказался в плену. Я продала наше имение — все, что осталось от родителей, чтобы выкупить брата. Вот его письмо…
Она сунула руку за корсаж, достала листок.
— Михал пишет, что русские приветливы, не обижают плен- ных, что он при деле. А еще пишет, что собирается с экспедицией в Персию. Эту экспедицию посылает ваш царь. Скажите, пан, как вы думаете: ехать в Персию опасно? Я так боюсь за брата.
Елизар растерянно развел руками.
— Вот чего не знаю, того не знаю… Надо поспрошать. Я сам долго был в море, даже курантов не читал — листков, кои у французов зовутся газетами. А у вас в Польше? — Он и сам не знал, что говорит.
— Наверно, тоже так, — глянула на него паненка, — не знаю… У нас война…
— Вы русских не бойтесь, — утешил Елизар. — Про нас зря говорят, будто мы варвары. Мы никого не обижаем. В Москве премного иностранцев проживает, и давно, и никому обид не чинят. А в Питерсбурхе иностранцам вовсе вольготно. Наш царь всех, кто с добрыми намерениями, привечает. Он и сам по заграницам немало поездил, нагляделся на всякие обычаи.
И вдруг, осмелев, спросил:
— А как вас зовут, пани?
Девица, опустив глаза, ответила:
— Мое имя Анна-Ядвига-Елена, мы шляхетского роду Стшелец- ких. Если пан услышит что про моего брата, Михала-Казимира-Яна Стшелецкого…
Елизар растерялся.
— Это как лее? Зачем же три имени для одной персоны?
Паненка рассмеялась. Смех у нее был звонкий, серебристый.
— Ой, пане! Три имени у нас даются при крещении; а звали меня дома Анелькой.
— Анелька… — повторил Елизар. — Это хорошее имя. И по- русски есть похоже — Анюта. А я Елизар Артамонов Овчина-Шубников. Запомнишь? Елизар!..
— Елизар… — повторила Анелька. — Это тоже хорошее имя…
Эх, куда этим толстым телкам против его Анельки. И чего
только Акиму в них приглянулось? Вот разыскать бы теперь ту Аннушку!
Глава 10 ПОРОХОВАЯ МЮЛЬНЯ
Мастер Иоахим, несмотря на свой более чем преклонный возраст — было ему без малого девяносто лет, оказался деятельным и даже резвым старичком. Одетый по-старомодному — так, как давно уж не одевались, — с седенькой бородкой эспаньолкой — таких тоже уже не носили, — Иоахим словно помолодел, занявшись делом.
Майор Логинов, Елизар и Аким с ног сбились, лазая в пороховые погреба под остатками крепостных стен. Мастер с ног не сбился, потому что его большей частью носили на руках: уж больно круты и скользки были полуобрушенные ступени. Порох старик испытывал на вкус, запах и цвет, как повар или кондитер. Вытащит щепотку или комочек из бочки, долго нюхает, лизнет раз-другой, поднесет к свету, начнет разминать в пальцах. Иной раз бросит на землю, сердито прошамкав:
— Дрэк… раус!
Это означало — выноси и выкидывай, никуда не годится.
В другой раз заведет к потолку выцветшие стариковские глаза, подумает и скажет:
— Добавим сюда сальпетер, то есть селитру, перемелем… Тогда поглядим, что выйдет.
В этот день мастеру с утра понадобилось съездить на мюльню. По дороге терпеливые майор и Елизар уже в который раз выслушивали рассказ старика о том, как в молодости он был искусным литейщиком и пушкарем, владел собственной пушкой-кулевриной, длинной, как бревно, весящей не менее трехсот пудов без станка. В то время пушкари составляли отдельное ремесленное сословие. Мастер, владевший пушкой, со своими подмастерьями нанимался в войско любой воюющей страны. Иоахиму тоже довелось повидать свет: служил и в Нидерландах, и во многих немецких княжествах, участвовал в осаде крепостей и городов, пока однажды красавица кулеврина не разорвалась по всей своей длине, оттого что неопытный подмастерье заложил в нее слишком большой заряд. Ах, какая это была пушка! Звали ее «Рыкающий лев», об этом свидетельствовала надпись, отлитая на стволе. Кроме того, ствол был украшен изображением львиной морды и двух дев, держащих лавровый венок. Вот в те годы Иоахим и научился пороховому делу и изготовлению ядер.
Перед мюльней исправные часовые остановили повозку, поглядели, кто едет, затем пропустили во двор. По требованию мастера тут же на дворе все разулись, выложили шпаги, пистолеты, и даже ключи, у кого они были. С металлическими предметами на мюльню входить было нельзя из опасения случайно высечь искру. Мало ли за что заденешь шпагой или подбитым каблуком?
Внутри мюльни, возле жерновов, работали пороховщики, с головы до ног одетые в подошвенную кожу, словно рыцари в доспехи. На ногах у них были мягкие войлочные обувки, и оттого двигались они неслышно и плавно, как коты. Толстую кожу носили, чтоб хоть малость предохранить себя на случай пожара. Всем известно, что порох взрывается, только когда он укупорен, а россыпью просто горит сильным и жарким пламенем.
От мелкой и едкой пыли на Акима напал чих. Расчихался хуже, чем если б от нюхательного табака. Старик нетерпеливо махнул на него рукой, показал на дверь: выйди, мол, мешаешь!
Аким послушался, тихо ступая в одних чулках, вышел на волю, огляделся. Ласково пригревало солнышко, равномерно стуча, словно бы прачки били вальками, вращалось в лотке водяное колесо.
Аким выбрал себе уютное местечко в тени, прилег на травку и тотчас не заснул, а как бы погрузился в сладкую дрему. Привиделось ему, будто он не здесь, а дома, под Рязанью, и не взрослый офицер, а еще мальчонка. Так же, как дома, пахла трава, так же журчала вода — дома-то сквозь сад протекал родник. Вот сейчас мать позовет полдничать.
Вдруг что-то прошуршало возле самого лица. Змея! Аким вскочил, как подброшенный, попятился, поднял с земли прутик — гадюку лучше всего бить гибким. Всмотрелся и от изумления чуть не ахнул! Вместо змеи увидел серый жгут, уходящий дальше в траву. Он живо присел на корточки, схватил жгут, потянул, понюхал. Вот те раз! Так это ж фитиль! Кто-то, видно, метнул клубок фитиля так, чтоб тот, размотавшись, достал до дырки воздушного продуха в землянке, где хранились бочки с готовым порохом.
Аким, что было силы крикнул:
— Караул! Бежи сюда!..
И сам, не выпуская фитиля, кинулся к водяному лотку, откуда, должно быть, метнули клубок. По лотку кто-то убегал, разбрызгивая воду, торопясь; на той стороне зашуршали кусты.
На Акима набежал растерянный, ошалевший от неожиданной тревоги караульный солдат. Аким ткнул ему прямо в лицо фитиль, показал на кусты, крикнул:
— Глядь! Вон он убегает!..
Солдат поднял было ружье, но, вспомнив, что стрелять возле мюльни нельзя, кинулся догонять злодея. Услышав крики, из мюльни выбежали Елизар и Логинов, в караульной сторожке забили тревогу, бежали солдаты, выставив вперед штыки.
Елизар, не размышляя, как был без сапог, схватил свою шпагу, вскочил на коня конвойного драгуна, сопровождавшего их повозку, погнал через мельничью канаву, выскочил на тот берег. В кустах мелькали солдатские треуголки, а впереди, намного обогнав преследователей, прытко бежали двое в крестьянском платье. Елизар припустил за ними. Грохнул выстрел, кто-то из солдат, видно меткий стрелок, приложился и свалил того, кто бежал задним. Елизар хлестнул коня, испуганный конь чуть не сбросил его, потом рванулся вперед тряским, торопливым галопом.
Как ни быстро бежал злоумышленник, с конным состязаться ему было не под силу. Бежавший человек оглянулся, и Елизар узнал графского слугу Бонифатия. Фенрих крикнул:
— Стой! Стой, не уйдешь! Я тебя узнал, Бонифатька!.,
Бонифатий вильнул в сторону, остановился, вскинул пистолет и выстрелил. Лошадь под Елизаром на всем скаку вдруг качнулась и рухнула. Елизар вместе с ней грохнулся на землю, еле успел высвободить ногу и отползти от раненой лошади, чтобы не зашибла копытом. Шпага завалилась в траву, он не сразу ее отыскал. Вскочил, но тут же вынужден был прислониться к дереву, — видно, падая, сильно ударился.
Погоня промчалась мимо. Последним бежал Аким, под мышкой нес Елизаровы сапоги. Увидев друга, ахнул:
— Елизарка! Ты раненый?
— Поди ты!.. — с досадой выкрикнул Елизар и в сердцах рубанул шпагой ни в чем не повинное тоненькое деревцо. — Ушел Боии- фатька!. .
— Какой Бонифатька? — Аким вытаращил глазд.
— Да тот, графский! Пристрели коня, Аким; тяжело смотреть, как мучается животина.
Аким подошел к лошади, поглядел, вернулся.
— Сама околела!.. Обувайся да пойдем.
Мастеру Иоахиму не стали говорить в чем дело, чтоб зря не волновать старика. Суматоху объяснили тем, что на караульных, мол, набежал олень, а может, и не олень, просто чей-то козел. Солдаты от великого старания могли и перепутать. Старичок долго смеялся, повторял:
— Козел… хи-хи… козел напугал!..
Но караульному офицеру от майора досталось. Приказано было с сего часа выставлять двойные караулы да завести собак.
После обеда в доме синдика появился Федор Павлов. Недавно его произвели в новое звание, из военного фискала он превратился в гевалтигера. В переводе на русский это значило либо человек, имеющий право распоряжаться, либо имеющий право принуждать. Однако сам Павлов от нового звания нисколько не переменился, остался таким же добродушно въедливым, дотошным, каким и был.
— Так, так, — сказал он, выслушав рассказ Елизара. — Бонифатька, говоришь? Графов прислужник? Только он давно уж не графов. Цезарец, видишь ли, им недоволен, прогнал, взял другого камердинера…
Он поглядел на Елизара и Акима.
— Вот так-то, господа фенрихи. Теперь каждый из них сам по себе. А больше вы этого Бонифатьку нигде не встречали, кроме как в гильдийском доме? Вот господин синдик мне тут рассказывал, будто тот дом уж не раз был убежищем здешнему купечеству, его чуть не штурмом пробовали брать, да стены и двери больно крепки. Дверь- то, помните, какая? Вся железом окована. Грабители бы в тот дом нипошто не проникли, кабы им дверь не отворил опять же тот злодей и вор Бонифатька.
Аким ухмыльнулся.
— Это-то мы знаем, господин гевалтигер, мы ж за ним гнались, да он и в тот раз ушел. Мы опосля патрульному начальнику все доложили.
Павлов кивнул.
— Верно, доложили. Теперь я вам расскажу, как сам Бонифатька в тот дом вошел. Дверь ему отворила Катажинка. А Катажинка есть горничная девка твоей паненки, Елизар Артамонов, господин Овчина-Шубников.
Елизар побледнел.
— Не может того быть! — горячо воскликнул он. — Неужто тая паненка у вас? Может, вы ее и в остроге томите?!
На узком лице Павлова появилась тень улыбки.
— Эге, господин фенрих, видно, ты ранен стрелой бога Амура, купидона крылатого; пронзил он твое чувствительное сердце. Не пужайся, не трону я твою прелестницу, никакой за ней вины нет. Да и за ее дворовой девкой тоже. Катажинка та знаешь что показала? Что злодей и вор Бонифатька был крыжацким 1 ксендзом, ее духовным наставником. И панна Анеля поведала, что проживал он, дескать, в монастыре. Имение же семьи панов Стшелецких было в соседстве с сим монастырем.
— Да как же так может быть? — Елизар обращался не столько к Павлову, сколько к майору, с которым успел подружиться и которому верил. — Разве ж отпустят монаха или попа на волю?
— Отпустят. Да и не только отпустят, пошлют, — спокойно ответил майор. — Иезуитский орден всюду, во все страны, во все мирские дела свой нос сует и всякое средство для них хорошо. Прикажет генерал ордена — монах снимет рясу, пойдет на бал плясать, прикажут — пойдет убивать аль грабить. Ну, а шпионство — их первейшее занятие.
— А где эта панна Анеля теперь проживает? — с невинным видом спросил Аким, подмигивая Елизару.
— Уехала, — сказал Павлов. — Вам же, господа фенрихи, тоже надобно ехать к войску. С порохом без вас теперь обойдутся. Пока вы по городским улицам ездите, Бонифатька будет сидеть притаясь, а вас не станет, может, и вылезет из своего потаенного места. У него тоже дела, не зря ведь пожаловал. Перестанет опасаться быть узнанным, осмелеет. Тут мы его и ухватим.
Глава 11 ПЕРЕБЕЖЧИК
Похоже было, что осада крепости Кронборг затянется надолго. Русский лагерь принял вид обжитого поселка. Солдаты разместились в землянках и палатках, бойко торговали лавочки маркитантов, возле них всегда толпились свободные от службы люди. Никто уже не обращал внимания на возникавшую иногда перестрелку. Шведы пытались помешать осадным работам, обстреливали апроши — глубокие траншеи, которые начали подходить уже к самому рву. Тогда им отвечала русская артиллерия.
Однажды, когда взводы Рлизара и Акима назначены были на земляные работы, вдруг неожиданно заскрипели блоки подъемного устройства — и мост стал опускаться.
'Крыжаки — в старорусском языке — католики.
— Бросай лопаты! Отходи! — истошным голосом закричал ротный. — Мушкеты готовь!
Между палатками тревожно запела труба, забили барабаны. Весь лагерь пришел в движение.
Мост с грохотом рухнул на другой берег рва, и тотчас по нему лавиной понеслась кавалерия. Стук копыт по гулкому настилу был подобен обвалу.
До сих пор гарнизон осажденной крепости еще ни разу не отваживался на вылазку. Тем страшнее и опаснее казалось то, что происходит сейчас.
Елизар бежал впереди своего взвода по глубокому апрошу, не видя ничего, кроме набросанных с обеих сторон траншеи высоких куч земли. Трайшея была длинная, несколько раз загибалась, чтобы ход не простреливался со стен. На мосту все еще грохотала лавина.
«Беда… За конницей кинется пехота… Отрежут!.. — бились в голове тревожные мысли. — Ох, только бы не плен!»
Вдруг бежавшие впереди солдаты замедлили, пошли шагом. Елизар с ходу наткнулся на солдатскую спину, поскользнулся, оба чуть не упали. Упершись рукой в осыпающуюся земляную стенку, с трудом удержался на ногах и тут услышал непонятное — подъемный механизм снова скрипел, мост вновь поднимали.
— Стойте! — задержал фенрих своих солдат. — А ну, подсади, надо поглядеть!
Ему помогли вскарабкаться наверх, выглянуть из-за земляной насыпи. Никакого сомнения быть не могло — мост действительно поднимался. На берегу рва сбились в табун несколько десятков лошадей. Елизар не поверил глазам — лошади были без всадников! Он взглянул на лагерь — лошади носились повсюду, сотни лошадей и все, все без всадников! Вот те на, что же это такое? Фенрих спрыгнул на дно траншеи.
Апрош впереди освободился, можно было спешить к выходу. Со стен крепости выстрелили картечью, картечь с визгом пронеслась над головами, и сразу же раздалось испуганное ржанье и всхрапы, визг, стоны раненых животных.
Траншея кончилась, люди выбежали на поверхность. Около самого выхода лежала убитая лошадь, рядом билась другая, силилась подняться, хрипела. Весь лагерь словно дымился от пыли. Солдаты остановились в растерянности.
— Не толпись, не толпись! — торопил Елизар. — Беги дальше…
Солдаты побежали, чтоб не попасть под картечь. Впереди, где стояла русская батарея, приготовленная на случай вылазки шведов, потный канонир, вскочив на туру — высокую корзину без дна, набитую землей, банником отбивался от коней. Лошади с перепугу натыкались на туры, закрывавшие батарею, грозили их повалить. Остальные артиллеристы пытались спасти картузы с порохом, нехитрое солдатское имущество, свои землянки.
Рушились солдатские палатки, опрокидывались повозки. Навстречу Елизару катился пробитый барабан, за ним волочился ремень.
— Ровно татары напали, все крушат и рубят… — с веселым ужасом воскликнул молодой солдатик и охнул. Кто-то поддал ему в потылицу…
— Тебе смешки, безголовому, а у людей душа болит. Ведь сколько хороших коней губят… Людям пахать не на чем, а тут…
На месте, где стояла палатка фенрихов, трепыхалось одно палаточное полотно. Из-под полотна торчали толстые икры матроза Ивашки, пытавшегося поднять колья. Тимофей складывал в ящик кружки, помятые оловянные миски, туда же сунул измазанную в пыли нательную рубаху.
Палатку общими усилиями подняли, подперли. По лагерю с гиканьем скакали верхами русские драгуны и казаки, сбивали шведских коней в одно место, в табун. Табун отогнали к лесу.
Прибежал запыхавшийся солдат с приказом от майора. Обоим взводам без лопат, но с мушкетами, вернуться, занять позицию против моста. Туда спешили и другие взводы.
Стоя в поперечной траншее, отрытой параллельно рву, Елизар разглядывал крепостные стены, точно видел их впервые. Заходящее солнце освещало все косыми лучами, камень казался розовым, теплым. За вершинами стен, на которых то и дело мелькали головы любопытных шведов, высились щипцы крыш, дымовые трубы, шпиль часовни, такие мирные в этот благодатный вечерний час. На флагштоке лениво шевелилось чуть поддуваемое ветерком огромное синее полотнище флага. Это было так красиво, что Елизар невольно залюбовался. Флаг, очевидно, вывесили здесь назло русским, чтобы он лучше был виден из лагеря. Настоящее место для флага, конечно, на вершине стен внутренней крепостной цитадели. Эта цитадель — старинный рыцарский замок — была выше и внушительнее, чем стены форштадта.
Справа от русского лагеря — там, где стояли датчане, голштинцы и саксонцы, запели флейты, играли вечернюю зорю и тотчас затрубили горны, забили барабаны у русских.
Елизар вдруг заметил всадника, русского офицера, на красивой, хорошо вычищенной лошади. Всадник бесстрашно разъезжал на самом виду у шведов, останавливался у каждого апроша, что-то спрашивал, затем посылал коня вперед, перескакивал через траншеи.
— Митька! — радостно закричал Аким и полез наверх.
Всадник осадил коня и вдруг кубарем скатился, кинулся навстречу Акиму. Елизар тоже знал этого щеголеватого штабного офицера, славного парня, но недалекого. Митьку держали при штабе за расторопность.
— Аким! Елизар! — на бегу кричал штабник. — Так я ж за вами! Все обыскал, даже к маркитантам ездил. А ну, давай быстрее, ждут!
— Кто ждет?
— Поспешайте! — Митька, преисполненный важности, не желал вдаваться в объяснения. — Полковник приказал сдать солдат под команду старшему унтеру.
… Елизар и Аким едва поспевали за всадником, аж запыхались. На опушке леса стояла войлочная кибитка, похожая на огромный белый кулич. В кибитке с удобствами расположился начальник первой линии осадной армии, тот самый генерал-квартирмейстер, с которым фенрихи уже успели познакомиться в первую ночь прибытия.
Генерал сидел на складном стульце, удобно вытянув ноги, поигрывал тростью, вроде — отдыхал. Перед ним на двух ящиках был устроен стол, на столе стояли две свечи, разложены были какие-то карты и планы. Рядом, присев на корточки, что-то озабоченно записывал в памятную книжку военный инженер из кукуйских немцев, родившийся и выросший в Москве. Оглянувшись на вошедших фен- рихов, он сердито проворчал:
— Когда надобно, не дозовешься… — Потом непонятно спросил по-немецки: — Они?
— Да, господин майор! — ответил кто-то хриплым голосом. — Вот тот высокий — офицер, у него доброе, благородное сердце.
Генерал, поигрывавший тростью, усмехнулся, сказал:
— Приятель ваш прибежал в гости, захотел свидеться. Поглядите: признаете али нет?
Сердитый майор схватил со стола свечу, шагнул в сторону, и тут из мрака около стены выявилась высокая, тощая фигура шведского солдата. С обеих сторон стояли два русских усача гренадера, конвойные. Раздражительный майор поднес свечу так близко, что швед невольно отшатнулся.
— Так это ж… это ж тот вахмистр, которого мы тогда повязали в лесу! Только оброс да потощал… — воскликнул Елизар.
— Точно, он, — подтвердил Аким.
— Ну, хорошо, Юрген Кранц, значит, ты сказал, что Штейнбок ждет нашего штурма? Потому, значит, и выгнал коней из крепости, чтоб ему посвободнее было. Так, что ли? — продолжал прерванный допрос генерал.
— О, да, экселенц! В крепости такая теснота, что лошади стояли прямо на улицах.
— Чудно… — пожевал губами генерал. — С чего бы это шведскому фельдмаршалу так переполошиться? Кажись, мы его пока не прижимаем.
Перебежчик, как застоявшийся конь, переступил ногами.
— Если позволите сказать, экселенц, так фельдмаршал Штейнбок обеспокоился, наверно, по поводу плохих вестей, доставленных лазутчиком.
— Э-э-э! Вот оно что!.. — генерал и инженер переглянулись. — Значит, в крепость ходят лазутчики. Слышишь, Иван Иванович? Выходит, мы с тобой рохли. Думаем, что мимо наших дозорных и мышь не прошмыгнет, а тут вона что.
— Да, Иоганн Шенк слышит то, что говорит этот солдат, но не очень ему верит! — вскинулся инженер. — Разве что есть подземный ход.
Он повторил свой вопрос пленному* Нет, про подземный ход пленный не слышал. Лазутчик появился совсем с другой стороны, подъехал на лодке к тому полукруглому бастиону, который глядит на море. Юрген Кранц как раз стоял на часах. Туда, на тот барби- кан, ставят штрафных солдат. Под утро с моря дуют сильные ветры — и часовые очень мерзнут. Прошлой ночью, когда Юрген только заступил, вдруг вблизи стен с моря кто-то три раза мигнуА фонарем. Часовой не обратил на это внимания. Мелькание повторилось снова, а затем и в третий раз. Тогда Юрген вызвал подчаска и послал его за комендантом. К удивлению часового, комендант прибежал немедля и привел с собой еще двух офицеров. Одним из них был полковник, адъютант самого фельдмаршала. Этот полковник поднял над головой потайной фонарь и тоже три раза открыл и закрыл шторку. С моря ответили. Комендант тотчас распорядился послать за лестницей. Принесли пожарную лестницу, спустили ее вниз прямо в воду, и тогда Юрген увидел приближающуюся лодку. Человек торопливо греб, подогнал лодку к лестнице, встал одной ногой на нижнюю ступеньку, затем ловко опрокинул лодку, несколько раз ударил по днищу тесаком и оттолкнул ее от себя. Лодка с пробитым дном затонула. Тогда этот человек вскарабкался по лестнице на стену.
— Я помогал ему, подхватил за локоть, когда он перелезал через каменную ограду… — закончил рассказ Кранц.
— Так, так… — генерал нетерпеливо постукал тростью по носку своего башмака. — Ну, а дальше?
— Адъютант, увидев лицо этого человека, чуть не уронил фонарь, воскликнул: «Как, это вы, господин Кружальский? Почему вы сами?..»
Елизар шагнул вперед, хотел сказать, но генерал нетерпеливо махнул — потом.
— Еще о чем они говорили? Что ты слышал? Что ответил приезжий?
Кранц снова переступил ногами.
— Приезжий сказал: «Иначе нельзя было. Важное известие, которое я послал с голубиной почтой, опоздало. У русских есть по-рох!» — О чем они говорили дальше, я не слышал, они спустились на казематный двор и ушли.
В кибитке наступило молчание. Генерал что-то обдумывал.
— Что ж они впали в такую безмерную печаль? — сказал он рассеянно. — Какой дурень пойдет воевать без пороха. Уж коли мы сюда приступили, стало быть, пороха у нас хватает.
Фенрихов так и подмывало вмешаться, разъяснить в чем дело, да было боязно. Младшему не след говорить, пока старший не спросит.
Военный инженер принялся расспрашивать Юргена: все ли бастионы с приморской стороны стоят в воде? Развернул на столе план крепости. Швед подошел ближе, покосился на генерала, присел на корточки, чтоб удобнее было водить пальцем по бумаге. Елизар и Аким, вытянув шеи, пытались разглядеть, что он там показывает.
Швед объяснял: не все бастионы с приморской стороны одинаковы. Полукруглый бастион-барбикан очень старый, ровесник замку. Остальные, видно, построены позже, когда укрепляли форштадт.' Море подступает к самым стенам. В непогоду брызги летят наверх, попадают даже на двор.
— А ты плохой солдат, вахмистр Юрген Кранц, — вдруг неожиданно сказал генерал. — Я твоей брехне верить не собираюсь. Солдат, который бежит к неприятелю, забыв воинскую честь, просто дезертир и трус.
Перебежчик вскочил, словно его подбросило пружиной. Оба гренадера крепко схватили его за руки.
— Я не трус! — сдавленным голосом сказал Кранц. — Я никогда не был плохим солдатом. Меня наградили медалью за храбрость. Но шведскому королю я служить не обязан. Мы, весь полк, куплены; мы не шведы, а гессенцы; нас насильно захватили, насильно сдали в солдаты, а потом князь продал нас шведам.
— Вот как! — генерал казался очень заинтересованным. — Рань- ше-то было иначе. Раньше шведы своих людишек отдавали внаем. Их солдаты дрались за французов и за других. Выходит, оскудне- ли… Так, так, Юрген Кранц. Но отчего ж ты все-таки к нам подался?
— У вас кавалеров не бьют. У вас чтят военные заслуги. А у нас меня дважды стегали плетью, дважды с тех пор, как я вернулся после того случая, когда нас связали и милостиво оставили в лесу. Вот они! — он подбородком кивнул на фенрихов. — С разведки вернулся только наш разъезд, а два других дезертировали. Я давно решил бежать и вот воспользовался суматохой, когда выгоняли лошадей. Вскочил на своего вороного, ну и…
Генерал встал.
— Ладно, Кранц! Пойдешь в обоз к шведскому табуну, подсобишь. А дальше видно будет. Захочешь служить — примем, не обидим. — Он махнул гренадерам. — Отведите его, да не держите, словно колодника. Пусть живет на свободе.
Пленного увели.
— Это ты, что ли, ему сказал, что у нас кавалеров не бьют? [5] — спросил генерал у Елизара и усмехнулся.
Правдивый от природы Елизар почувствовал себя неловко, точно бы ребенка обманывал.
«Неужто этот верзила так уж поверил ему, что есть армия, где солдат не учат и кулаком, и батогами, и розгой? Как же без этого: забалуются, как их заставишь воевать? Даже в любимом царевом Преображенском полку недели не проходило, чтобы солдат-другой не выл истошным голосом, прикрученный к деревянной кобыле… Драли не только рекрутов, — случалось, доставалось и старослуживым».
— Я не говорил, что вовсе не бьют… Я сказал — кавалеров орденских… по царскому указу…
— Ну так что ж ты закраснелся, словно девка? — засмеялся генерал. — Правду же сказал: есть такой указ… Ты другое ответь мне: чего все в разговор встрять норовил? Я видел…
— Да знаем мы toro лазутчика. То не просто Кружальский, — Лех-Кружальский, Бонифатька! Это цесарского графа человек, — не вытерпел Аким.
Генерал даже в лице переменился, сразу стал серьезным.
— А вы не обознались, молодчики?
Елизар и Аким наперебой стали рассказывать обо всех происшествиях в Маргаретенштадте — как Бонифатий дважды из рук ушел и у них и у гевалтигера Павлова.
— Да, злодей изрядный… Такого голыми руками не возьмешь, — покачал головой инженер. — Это весьма нам досадно, что он убег к шведам.
— Иваныч, — перебил его генерал, — а ведь это мы с тобой маху дали. За морской стороной не глядим. Вот и ездят там всякие.
— Так как за морем уследишь? Галер нет, людей нет…
— Ан, есть. Вон они, двое моряков. Да и огарковские матрозы тут болтаются. Вот что, господа фенрихи, сей же час сбирайте пожитки, а я наряжу подводу. Поедете в ближний тыл, заберете команду. Там у нас есть людишки, вернулись из гофшпиталей, да из обоза я приказал лишних отчислить. С ними займете рыбачью деревню, что там на берегу, да вообще всю береговую линию. И разведайте заодно, нет ли с той стороны слабины, может, мы не одного этого Леха не доглядели? Может, и еще Кружальские пожалуют.
Глава 12 ВЕЛИКА ФЕДОРА, ДА ДУРА
С вечера в крепости полыхал пожар. Мечущиеся отблески пламени выхватывали из тьмы то остроконечный готический шпиль лютеранской кирхи, то мрачный контур башни, черепичные кровли, трубы, зубцы на стенах.
У осаждающих стреляла только одна мортирная батарея. Огненные дуги то и дело прочерчивали темное небо. Раскаленные добела в кузнечных горнах[6] ядра падали на крыши домов, казарм, складов, вызывая новые пожары, а иногда и взрывы.
С моря натянуло густой туман. В тумане утонул лагерь, разбитые дома окружавшего крепость поселка, деревья. Только высокие крепостные бастионы выпирали над зыбкой пеленой, да еще кое-где торчали кроны сосен.
Но лагерь жил, глухо шумел. В промежутках между выстрелами мортир доносился то стук топора, то сердитая отрывистая команда или чавкание грязи под ногами бредущих куда-то людей.
По одной из улиц прибрежного поселка вразброд шагала рота солдат. Впереди ехали трое конных драгун — проводники. Люди шли медленно, с трудом вытягивая ноги из липкой грязи, конным то и дело приходилось останавливаться, поджидать пехоту. Возле какого-то полуразрушенного дома с проваленной кровлей драгуны свернули. Шедший за ними Елизар в плаще и надвинутой на самые глаза шляпе с обвислыми от сырости полями обернулся к солдатам, хрипло скомандовал:
— А ну, подберись, веселей ходи, государева служба! Господа капралы, не зевать! Глядеть в оба.
Шли еще долго. Мимо смутно видневшихся в туманном мареве телег, палаток, размазанных светлых пятен костров. Навстречу потянуло влажным морским ветром. Ветер словно подтолкнул туман, он заклубился, сдвинулся. На миг мелькнуло небо, темная полоса моря, какие-то развалины. Под ногами грязь сменилась мокрым песком, идти стало легче. Прыткая волна с шуршанием доползла чуть не до самой тропинки, немного не дойдя, схлынула назад.
Старший из драгун остановился. С тем превосходством, с которым конники всегда обращаются к пехоте, фамильярно сказал:
— Вот здеся, господин ахфицер, караульный пост у пяхотных. Вона в той будке.
Офицер огляделся. Пузатые, не русского облика рыбачьи лодки из-за мелкой воды лежали, повалившись набок. Некоторые были вытащены на песок, стояли на килях, подпертые со всех сторон жердями, похожие на водяных пауков. Торчали вбитые в землю и в воду сваи. Стал виден сложенный из крупных булыжников волнолом и возле него — полузатопленный трехмачтовый корабль. Корабль выдвинулся кормой на песок. Высокую корму украшала затейливая резьба,, выпуклые фигуры морских богинь. Богини держали воздетые к небу кованые фонари, напоминающие вазы. Средний из трех фонарей был заметно погнут.
Драгун снова придержал лошадь, плеткой показал на корабль.
— Наши, когда заскочили в здешнюю слободу, кинулись сюда, а шведы их с того корабля из пушки…
Он покрутил головой.
— Народу не побили, а лошадей перепужали. А опосля пришлось им корабль бросить, самим спасаться в крепость. Ну, драгуны да казаки, \если что в клетях на том корабле было да внутри, в чреве, прибрали к рукам. Начальству и не дознаться.
— Знаю вас, иродов, — сердито сказал Елизар. — Тянете, что надо и что не надо. А этот корабль есть добрый трехмачтовый флейт. Для государевой службы сие судно ох как сгодится. Таким флейтам положено ходить за боевой эскадрой. На флейтах лишний припас держат, харчи там и порох, канаты да паруса.
— Выходит, вроде обоза при войске, — сказал драгун и поскреб под шапкой. — Значит, жаль, что у этой флейты перед малость пообгорел в пожаре, чулан жилой й болван золоченый, что на воду глядеть поставлен. Говорят, иноземный морской бог Тритун.
— Тритон! — поправил фенрих и распорядился: — Первое капральство, пять человек, оставайся тут. Глядеть за кораблем и за лодками, не спуская глаз. Ежели что приключится, не токмо передо мной и ротным командиром в ответе будете, но и перед самим фельдмаршалом, Александром Данилычем, а с ним шутки плохи. И чтоб хмельного в рот — ни капли!
Про этот брошенный корабль, видимо доставлявший в крепость припасы, Елизар узнал от майора Логинова. С Логиновым довелось встретиться при приемке команды. Логинов находился на сборном пункте по своим многочисленным обязанностям. Фенриху обрадовался, как родному.
— Елизарушка, сынок! Живой! Здоровый!..
Зазвал в корчму выпить пива. Узнав, что обоих друзей назначили на береговой участок, в самый крайний фланг осадной армии, обложившей крепость полукольцом, радостно хмыкнул:
— Вот, как говорят люди, на ловца и зверь бежит! Как же это я про вас-то запамятовал! Мне моряки нужны позарез…
— А куда плыть? — деловито осведомился Елизар, уже предвкушая радость от возможности снова служить на море.
Логинов зашелся смехом, аж до слез.
— Плыть?! Ох-хо-хо… Плыть!.. Да нет, сынок, какое тут плаванье. Корабль там шведы покинули, надо сие судно сберечь, а позже, когда возьмем крепость, оснастить и снарядить. Вот тогда и поплывешь. Я, признаться, все своего давнишнего друга, Федьку Огаркова, вспоминаю! Вот мастак по корабельной части!
Майор запустил руку за борт кафтана, начал искать в кармане.
— А где ныне капитан Огарков? — полюбопытствовал Елизар.
— Плох Федька… Ревматизма его скрутила, здешние болота доконали. Боюсь, как бы ему полный абшид не вышел — отставка от службы. Без дела старик-то заскучает, загрустит. А мы с Федькой Огарковым ведь с детства друзья.
Он, наконец, нашел то, что искал, вытащил и развернул на столе листок бумаги, бережно разгладил.
— Федино письмо с дороги… Есть тут кое-что и до тебя ка- саемое.
' Отставив письмо подальше от глаз, прищурившись, начал читать:
«Друг любезней, Яков Степаныч! Многие лета тебе быть в здравии и в силах для службы на пользу отечества. А меня, грешного, везут ныне лежачего, как колоду, до того скрутила проклятая немочь…»
Далее в письме капитан Огарков писал приятелю о каких-то оставленных тому на сохранение вещах, о том, как живет он в приморском городке в частном доме, снимает квартиру в ожидании морского каравана, который зайдет, чтоб взять больных и раненых, отправляемых в Россию.
— А вот то, что до тебя касается, — Логинов подмигнул Елизару. — «В моем несчастье большое мне утешение — в заботы о ми, грешном, доброй и попечительной о всех страждущих некой польской панны Анели, тебе известной, — писал далее Огарков. — Мы с ней как родные стали и каждый день подолгу беседуем о всяком разном. Чает она найти своего братца Михала в живых, в чем, однако, я сильно сумлеваюсь, ибо Персия далека и по слухам места тамошние зело гибельны. Я же ей в том деле от всей силы помощник. И жить в Питерсбурхе она будет у нас в доме. Моим трем девкам от такой подружки будет, чаю, не малая польза; пообтешутся да привыкнут к европейскому политесу и галантному обхождению. А еще, скажу тебе, друг Яков, по великой конфиденции, что той паненке, видать, приглянулся наш рассейский фенрих, Овчина- Шубников Елизарка. Ты фенриха должон знать. Как начнет о нем говорить, словно цветик расцветет. Эх, молодо-зелено, а все ведь такие были!»
Елизар слушал, боясь дышать. Сердце стучало как кузнечный молот. И верить не смел в свое счастье. До сего мига думал: полюбил токмо он один и безответно…
Майор сложил письмо, спрятал в карман.
— Мы с Федькой еще в потешных вместе служили, — сказал он с прискорбием, думая о давних временах, — а нынче вот… Старики! ..
За разбитой деревней потянулись высокие дюны с одной стороны, с другой — торфяники, поросшие чахлой травой и невысокими, искореженными вечными ветрами кустиками. Неприветливые места и неудобные для стоянки войска.
Дорога свернула в сторону, к крепостным воротам. Солдаты ворчали, кляли песок.
Аким и двое матрозов, Тимофей и Ивашка, поджидали возле самого крепостного рва. Все трое сидели рядышком на опрокинутой и порядком увязшей в глубоком песке лодчонке.
— Ох, Елизар, было худо, стало еще хуже, — пожаловался Аким. — Ни тебе землянки вырыть, ни тебе туру поставить. Как воевать-то будем? Тимошка! — приказал Аким матрозу. — Чего сидишь? Проводи команду к тому месту, которое мы с тобой облюбовали. Там за пригорком хоть палатки можно раскинуть.
Тимофей проворно вскочил. Елизар узнал его в темноте не только по высокому росту, но и по особой манере надевать шляпу задом наперед. Тимофей объяснял, что так-де лучше: в случае дождя льет со шляпы не на нос, а в стороны.
Елизар устало опустился на освободившееся место, спросил:
— Досчаник-то припасли? Или, может, на этой лодке поплывем?
Аким усмехнулся.
— А ты встань да погляди, на чем тут плыть? Одно название, что море. Как залезешь на воду, отовсюду из воды камни торчат* Знать, неглубоко. Да и луна светит : как на ладони все…
Долго сидели в раздумье. Вернулся Тимофей, принес поесть. Подкрепившись, Елизар уныло побрел к тому месту, где крепостной ров соединялся с заливом. Берег рва был обрывист, укреплен сваями. Стоячая вода от зарева пожара за стеной казалась желтой, как медная полоса. Туман рассеялся, висевшая на темном небе яркая луна серебрила поверхность моря. Черная крепостная стена ночью казалась еще выше и еще неприступнее, чем днем.
Да, Аким оказался прав. Повсюду, на всей водной поверхности около крепости, из воды торчали черные, округлые горбы каменных валунов, словно спины стада спящих китов. Вот почему шведы так небрежно охраняют эту сторону. По глубокой воде можно подойти на тех рыбачьих лодках, что стоят возле корабля, или на понтонах, на каких ставят мосты, а по такой не пройдешь ни на чем, разве что на рыбачьем челночке. На таком, верно, и приплыл Бонифатька. Но то — один человек, не войско!
Сзади послышались шаги, подошли Аким с матрозами.
— Раков здесь ловить, в этой канаве, — мрачно сказал Аким. — Раки такие места любят. В ров-то накидано всякой пакости, от нее и дух тяжелый.
Елизара вдруг осенило. Аким прав, пахнет скверно. Но если б морская вода свободно вливалась в ров, этого бы не было. Значит, устье рва занесло песком.
Он подтянул повыше голенища ботфортов, велел матрозам поискать жердь или сук подлиннее. Иван вскоре нашел обломок весла. Гуськом пошли вдоль рва, перелезли через сыпучую дюну, осторожно, стараясь не плескать, вошли в воду. Море, ряд за рядом, катило на берег невысокие, сердито шипевшие волны. На гребнях этих крохотных валов, как и на штормовой волне, курчавилась пена. Елизар тыкал в дно обломком весла. Вот сейчас они перед рвом. Верно раньше здесь был глубокий прокоп, как полагается в таких случаях по военной науке, а теперь нету: все занесло, глубина только- только до колен.
Елизар, ощупывая дно, прежде чем сделать шаг, все брел и брел вперед. Низкорослый Аким тащился сзади, возился, подбирал повыше полы мундира; в ботфорты у него давно натекло.
Дно стало повышаться, подходили к берегу и к крепостной стене. Здесь тень была чернильно черной. Елизар споткнулся, ударив- ьшись ногой о сваю, вытянул руку, рука уперлась в наклонное подножие стены углового бастиона. Сзади на него натолкнулся Аким. Елизар обхватил друга за плечи, нагнулся, прошептал:
— Гляди, подобрались к самой стене…
— Ну и что? — также шепотом спросил Аким. — А как залезть?
Оба поглядели наверх. Стена не только была построена с уклоном, чтоб нельзя было прислонить лестницу, но наверху еще навис каменный парапет, словно козырек.
— Но Бонифатька-то по лестнице — лез.. —
Снова пошли уже вдоль стены, осторожно рассчитывая каждое движение, чтобы не плеснуть. Чем дальше от рва, тем становилось мельче. Море намело песок.
Новая стена кончилась, пошла старая, шероховатая, строенная невесть когда, — верно, еще рыцарями. Камни стены были неровные, расшатанные волнами во время осенних и зимних непогод. Здесь не было защитного парапета, штормовую лестницу установить было нетрудно.
Дошли до полукруглого барбикана, тоже ветхого. Дальше идти не имело смысла. Стали осторожно пробираться назад. Вдруг Елизар почувствовал, что кто-то дергает его за рукав, угадал: это матроз Иван.
— Господин фенрих…
Елизар нагнулся.
— Еще ниже присядь; — попросил Иван, — да погляди вон туда. Смекаешь?
Елизар глядел на темное небо, на освещенные догорающим пожаром стены замка, стоящего внутри крепости, и не понимал, что нужно Ивану.
— Замок видишь?
— Ну, вижу…
— А амбразуры?
— Ну?
— Так ведь они ж глубиной чуть не в сажень. Из этих амбразур стрелять можно только в дальнюю даль. И со стен тоже. Значит, велика Федора, да дура! А погляд грозный: посмотришь, испугаешься.
Наутро Аким, как хороший наездник, поскакал к генералу с донесением. Во-первых — ров у устья проходим, во-вторых — можно забраться по стене, прислонить лестницы с той стороны, откуда шведы не ждут. А в-третьих — это казалось ему и Елизару самым важным — из-за чрезмерно толстых стен грозный замок фактически лишен возможности применить в дело свои пушки. Разве что ударить по крепостному валу, по своим же шведам.
Глава 13 ШТУРМ ТВЕРДЫНИ
Началось перед рассветом. Лохматая ракета, роняя снопы искр, неторопливо взвилась к облакам, лопнула, рассыпала множество маленьких ярких звезд. И через полминуты, — ровно столько, сколько потребно было, чтобы вздуть огонь на фитилях да поднести пальники к заряженным пушкам, — загремело, загрохотало, будто небесный гром упал на землю и принялся задувать плясовую. Набухли облака серого порохового дыма, заволокли крепостной ров. И наверху, на стенах, тоже заполыхало, задымилось; переваливая через зубцы и парапеты, заклубились серые пороховые тучи.
Чугунные ядра ударяли в камень, камень брызгал осколками. Штурмующие забрасывали ров фашинами — туго стянутыми связками хвороста, — на фашины валили мешки с землей. Вода прыскала из-под фашин, мешки сразу темнели, проваливались, на них швыряли новые и снова валили фашины. Наконец кое-где ров удалось запрудить, и вот, колеблясь, стали подниматься кверху узкие деревянные лестницы. Шведы их отпихивали, но лестницы прижимались к стенам и по ним лезли люди в закопченных, разодранных мундирах, люди с перекошенными от бешенства лицами. Сверху, со стен и с двух мрачных древних башен по обеим сторонам ворот, обрушили на штурмующих бревна, камни, лили горячую смолу, расплавленный свинец, швыряли гранаты.
По-прежнему неумолчно ревели пушки, дым, валивший со стен, слился с клубами порохового дыма внизу. И снова из дыма потянулись кверху колеблющиеся лестницы.
На стенах уже дрались врукопашную, кололи, рубились, в упор стреляли из солдатских мушкетов. А снизу все лезли и лезли…
И все же шведы еще надеялись отбить штурм. По крепостному двору и улицам форштадта бежала подмога, волокли пушки, катили бочки с порохом.
Внизу под стенами топталась русская пехота, ждала очереди, когда прикажут лезть. Но лестниц не хватало, многие из тех, что удалось приставить, были разбиты ядрами, опрокинуты, изломаны гранатами. Те, кто ворвались первыми на стены, стали изнемогать, пятиться.
Но вдруг что-то произошло, невидимое, непонятное. Шведские подкрепления повернули, ринулись назад в лабиринт дворов. Где-то со стороны моря стали гулко лопаться гранаты, раскатилась ружейная перестрелка. Раза два бухнули орудия, и потом все примолкло. Но шведы все устремлялись во дворы, а на стены теперь почти беспрепятственно лезли и лезли русские солдаты в зеленых мундирах. И синих с желтой грудью шведов становилось на стенах все меньше. А затем, дрогнув, покачнулся и лег через ров подъемный мост, поднялась закрывавшая ворота решетка и затопотала, помчалась под гулкую арку конница, побежала пехота, верхами мчались офицеры. Даже обозные телеги стали подтягиваться ближе.
Шум сражения примолк. Успокоились пушки, стал оседать, растекаться удушливый пороховой дым. Едко запахло уксусом — пушкари студили уксусом разогретые пушечные стволы. Еще где-то внутри крепости слышался лязг, крики, а через подъемный мост уже шли и ехали не торопясь. Деловито спускали шведские флаги на бастионах, заменяли русскими. Перед комендантским домом, на высоком крыльце, стали четверо барабанщиков, вынули из ременных кармашков, что на перевязях, палочки, дружно ударили отбой.
К комендантскому крыльцу сходились старшие офицеры — победители. Тучный, низко перепоясанный форменным шарфом генерал, главный командующий первой линии, обтирал потные ладони о топорщащиеся полы мундира, весело поглядывал, приосанивался. Как-никак дела вершатся исторические: победителю же подобает величавость, вельможность.
Подошел иноземный генерал-инженер, состоявший при осадном артиллерийском парке, сухой как вобла, снял шляпу с пышным плюмажем, церемонно раскланялся. Подъехал и со звоном спрыг
нул с коня кавалерист в медной кирасе. Подошли полковники. Старший из полковников, командовавший первой волной штурма, все еще разгоряченный, потный, злой, но буйно-веселый, ни с того ни с сего обнюхал один рукав своего мундира с огромным, чуть не по локоть обшлагом, понюхал другой рукав и даже полу. Вздохнул, стянул с головы пышный, круто завитой парик, тоже понюхал и сунул в карман. Генерал — ха-ха-ха! — знал, в чем дело. Осажденные швыряли со стен не только гранаты, лили не одну смолу или свинец. Случалось, опрокидывали и бадью со всякой пахучей дрянью. Значит, и господину полковнику досталось: окатили навозной жижей. Что ж, бывает, на то и война!
Подбежал рослый солдат, почтительно положил к ногам командующего личный комендантский штандарт. Дородный генерал пошевелил плотный шелк носком ботфорта, спросил:
— А где сами господа шведы? Чегой-то не видно. Али стыдятся, как девицы на выданье?
Вокруг засмеялись. Громче всех смеялся припахивающий полковник, прямо заходился. Усатый, сурового вида, саженного роста капрал вытянулся столбом, гаркнул:
— Сидят запершись в цитадели. Сами себя в острог определили, вместе с колодниками, дабы чего с ними не приключилось.
— Ну и пущай сидят, — генерал махнул рукой. — Самое для них место.
Вдруг все задрали головы кверху, посторонились с крыльца. Около главного флагштока над комендантским домом возилось несколько военных, предостерегающе что-то кричали вниз. И огромный, величаво расправлявшийся и опадавший на ветру крепостной флаг отделился, выгнулся парусом и медленно опустился, упал на мостовую. Флаг был так велик, что прикрыл чуть не треть двора, примыкавшего к площади. Все устремились к нему, стали разглядывать. Генерал-командующий оглянулся, поискал кого-то глазами.
— А ну, потеснись, господа офицеры. Большие чины меньших затерли. Кто у нас сегодня именинники? Подите, подите сюда, господа морские фенрихи, покажитесь всем.
Из задних рядов протискались вперед высокий, сутулившийся от застенчивости Елизар и маленький, раскрасневшийся, выпятивший грудь, как гоголь-утка, Аким. Мундиры у обоих были порваны, забрызганы, видно, — жарко пришлось. Оба сняли мятые шляпы.
— Сей офицер, усердный к службе, первый усмотрел, как со стороны моря учинить неожиданную диверсию. А этот добрый молодец, — генерал похлопал по плечу еще больше зардевшегося Акима, — другу своему наипервейший помощник и отважен в бою, аки лев. А ну, молодцы, назовитесь. Да погромче, чтобы все слышали.
— Фенрих флоту рассейского, Елизар Артамонов Овчина-Шуб- ников! — охрипшим голосом выкрикнул Елизар.
— Фенрих флоту рассейского… — начал Аким, но генерал перебил :
— Не фенрих флота, а отныне корнет конного полка. Уважили просьбу твоего родителя, да и твое хотение, Аким Яблоков. Что, рад небось? В награду за доблесть и острость ума повезете в Питерсбурх трофеи и регалии…
Генерал не успел кончить. К комендантскому дому, как всегда, на белом коне подъезжал уже возбужденный, веселый главнокомандующий, фельдмаршал Меншиков. В руке он держал обнаженную шпагу. Шляпа сбилась набок, плюмаж обвис на плечо. Статный конь горячился, шел боком, закидывал голову, силясь выйти из повиновения у всадника. Рядом с Меншиковым степенно ехал длиннолицый датский король в красном мундире и сверкающих орденах. Меншиков вроде как пропускал его вперед, как венценосное державное величество, но не больно: делал вид, что непокорный конь мешает выказать почтение. За ними ехала многочисленная свита, в желтых голштинских мундирах, красных датских, но все же больше всего было темно-зеленых русских.
Шведы, запершиеся в цитадели, не вытерпели, выпалили из пушки. Как и предполагали Елизар и матроз Иван, картечь с визгом и звоном пронеслась над головами, обрушила град битой черепицы с ближайшей крыши. Датский король испуганно вжал голову в плечи, опекун голштинского герцога загородил своего малолетнего питомца конем и собой. Только Меншиков, привстав на стременах, угрожающе помахал незадачливым артиллеристам шпагой, во весь голос крикнул:
— Дурни! Ослы безмозглые! Сидите смирно, коли заперлись в сундуке!
Вся роскошная кавалькада повернула назад. Меншиков галопом догнал и снова поехал рядом с королем.
Глава 14 КАПИТАН БАНГ И ОТЕЦ КСАВЕРИЙ
Хитры, ох как хитры были эти русские! Истинные азиаты! И лукавы безмерно. Граф Штерн фон Штернфельд как посланец дружеской, или по крайней мере нейтральной европейской державы был окружен подобающим почетом. Ему отвели для жилья домик садовника на той же помещичьей мызе, где размещался Меншиков со своим штабом, приглашали на торжественные обеды, разрешали беспрепятственно осматривать лагерь, конечно не одному, а в сопровождении русских офицеров, дававших объяснения.
Граф, бывалый воин, в молодости caiyi начинавший карьеру на военной службе, а затем пребывавший наблюдателем в войсках прославленного полководца Мальбрука, командовавшего континентальной армией Великой Британии, жадно ловил взглядом и брал на заметку все те незначительные признаки, которые свидетельствовали бы об изменении военной обстановки.
В войсках герцога Мальборо, маркиза Черчилля, взявшего осадой и штурмом многие фландрские крепости, офицеры всегда охотно толковали о предстоящей военной операции. Пили за успех, давали торжественные клятвы прославить свою дворянскую честь и позолотить потускневшее золото на родовом гербе, отличившись в ближайшем бою. У русских здесь такого и в заводе не было. На обедах и ужинах пили вино, но умеренно. Ежели кто хмелел и бахвалился, того изгоняли из-за стола, а денщики тотчас волокли его во внутренние покои отсыпаться.
Разъезжая по лагерю, граф, разумеется, видел, как далеко продвинулись апроши, видел приготовленные фашины, наблюдал, как сколачивают впрок штурмовые лестницы. Он отметил, что артиллерийская стрельба весьма усилилась, особенно из мортир. Все это были явные признаки предстоящего события, но штурм мог быть завтра, послезавтра, а то и через неделю. Эх, если б только знать, если бы он мог предвидеть точный день и час и как все это произойдет! Ведь существует голубиная почта. Отец Ксаверий, капеллан в саксонской армии, большой любитель голубей. Голуби — святая птица, и их во множестве прикармливают при храмах.
В день штурма граф, привыкший безмятежно спать под пушечную канонаду, проснулся в холодном поту. Прислушался. Не вызывая камердинера, стал торопливо одеваться. Руки так дрожали и дергались, что пуговицы не попадали в петли. Схватив под мышку шпагу, налил в бокал вина, проглотил залпом. Вино немножко взбодрило, вернуло ясность мыслям. Ну что ж, эти негодяи перехитрили! Остается по-прежнему играть роль благожелательного созерцателя. Еще не все потеряно. Старик Штейнбок опытный воин, выигравший десятки сражений, он, конечно, хорошо приготовился к отражению атак.
В саду было пусто. Исчезли верховые лошади, всегда привязанные к коновязям, даже часовых поубавилось. Лошадь графа одна стояла у пустой кормушки, неоседланная, кожа на лошадиной спине то и дело нервно вздрагивала, морда испуганно дергалась, когда шум боя усиливался.
Граф сам принес седло, сам взвалил его на спину коня, подтянул подпругу, без посторонней помощи взобрался на лошадь, пришпорил, не заботясь об осанке, мешковато подпрыгивая, поскакал.
Меншиков со штабом стоял на опушке леса, глядел в подзорную трубу. Главный командующий, видно, сам был горяч и азартен до драки: то и дело белоснежный конь вырывался вперед и, осаженный безжалостно, пятился, роняя хлопья пены. Командующий неистово ругался, тряс кулаком, при всяком признаке удачи срывал шляпу и, яростно размахивая ею, кричал ура! Но при всем том он ни на минуту не упускал из вида главной линии в руководстве боем: по чему и узнается истинный полководец.
Графа заметили, несколько знакомцев тотчас двинулись ему навстречу, окружили своими конями, не дали стать столь близко, чтоб слышны были разговоры главных начальствующих генералов и приказы, отдаваемые ими конным ординарцам.
Фортуна не больно благоприятствовала штурмующим. Шведы дрались стойко. На место каждого убитого или раненого тотчас становился другой солдат. Граф со злорадством отметил, что вдали алой лентой переливается со склона на склон колонна датчан, а еще дальше неподвижной линией замерла желтая стена голштинцев. Союзники не проявляли излишней прыти. Граф мысленно прикидывал, какие силы Штейнбок может непосредственно употребить в дело. На стенах тесно, значит, резервы стоят на улочках и дворах форштадта, томятся и несут напрасные потери.
Увлеченный этими размышлениями, он даже пропустил перелом в ходе боя, очнулся от задумчивости, когда эдруг все неистово закричали, стали подкидывать вверх шляпы и вся конная группа, сдерживая коней, неторопливой рысью двинулась с холма.
Облако дыма редело, видно было, как Цепочкой лезут на стены русские солдаты, лезут уже не стреляя. Затем отворились ворота, понеслась кавалерия, открылись другие ворота, впустили подошедших датчан и голштинцев.
Граф был в свите Меншикова, когда тот въехал на площадь форштадта, заметил Елизара и Акима, смущенных и сияющих, видел, как их обнял и расцеловал генерал, как остальные старшиэ офицеры поощрительно хлопают их по спинам и по плечам. Иные хлопали так, что даже сильный Елизар невольно подавался вперед, а Аким — тот просто каждый раз приседал. В душе графа закипело, злость словно обожгла. Ах, проклятые мальчишки, вечно они выскакивают перед ним, как чертики из голландских табакерок, встревают, портят ему настроение. Видно, отличились в сегодняшнем деле! Ну, ладно, он их не забудет!..
… На следующий день, едва успели убрать трупы, служили благодарственные молебны. Графу, как иностранцу, может, и любопытно было посмотреть на русских попов в золотых ризах, понаблюдать весь варварский обряд, но ему было недосуг: следовало спешить к саксонцам. В армии короля Августа, который одновременно король Польши и курфюрст Саксонии, много католиков. Об их душах печется отец Ксаверий.
Маленькая древняя капелла была ярко освещена, пел хор. На площадке перед крыльцом стояли на коленях солдаты, крестились. Графу, как знатному, очистили проход, пропустили внутрь храма. Здесь молились офицеры. Граф выбрал себе место у стены, возле капитана в датском мундире. Капитан, видимо, был из немцев, но из тех княжеств, где население исповедует католическую религию. Окажись здесь в храме случайно Елизар или Аким, они бы признали в этом капитане своего попутчика, выехавшего вместе с ними в одной карете из Фишгафа. Но граф, казалось, не узнал капитана.
Месса была торжественная и долгая. Хор пел согласно и вдохновенно, вознося к небесам благодарственные молитвы. Маленький молитвенник в сафьяновом переплете, который граф держал в руках, вдруг выскользнул и упал на пол. За ним склонились одновременно оба: граф и его сосед. И цезарский дипломат чуть слышно, почти не шевеля губами произнес:
— После мессы в ризнице…
В заалтарном помещении было темновато, пахло сыростью. Отец Ксаверий переоблачался. Увидев вошедших, он приветливо улыбнулся и выслал прочь помогавшего ему солдата прислужника. Все втроем сели рядышком на тяжелую дубовую скамью.
— Приветствую вас, дом Альберт, — сказал отец Ксаверий. — И вас, дом Иоханес.
Слово «дом», сокращенное латинское «доминус», то есть «господин, отец», было принято как обращение в католических монастырях. Так обращались монахи друг к другу.
Оба гостя поклонились и осенили себя крестным знаменем. Затем священник совершил нечто несообразное с его саном, взял графскую руку и поцеловал. То же самое сделал и капитан Банг.
— Шведы заперлись во внутренней цитадели, — вздохнул отец Ксаверий. — Бедняги! Я не военный человек и не могу судить, долго ли продержится замок. С виду он кажется неприступным.
Граф нахмурился.
— Он был неприступным три столетия тому назад. Времена изменились. Когда я ехал сюда, через мост волокли в форштадт огромные русские мортиры, весом в сотни пудов. Каждая такая мортира швыряет ядра больше того валуна, что лежит здесь у входа.
Отец Ксаверий всплеснул руками.
— Бог да поможет несчастным!
— Они не несчастные, — жестко возразил граф, — они олухи! Старый дурак Штейнбок опростоволосился, как мальчишка! Но не все потеряно. Несчастье может обернуться прибылью. Если хотя бы авангард генерала Крассова появился в ближайшие дни, русские окажутся между двух огней. Где сейчас находится Крассов? Почему он медлит? Разве ваши гонцы еще не вернулись? — спросил граф у датчанина.
Капитан Банг опустил голову.
— Я посылал очень надежных людей, — сказал он тихо. — Тех двух, которых вы сами наставляли в гостинице в Фишгафе. Я приказал им покинуть ряды голштинского войска и скакать день и ночь во весь опор.
— Ну и что?
— Крассов не придет, дом Альберт, он не желает выручать Штейнбока. Наоборот, он двинулся к границам Польши, следовательно, удаляется от нас.
— Что он — помутился умом?! — вскричал граф.
— Нет, он откровенный карьерист, этот граф Крассов. Он завидует Штейнбоку, завидует его чину фельдмаршала, потому что сам он только генерал-лейтенант.
Наступило молчание. Взгляд отца Ксаверия настороженно перебегал с одного лица на другое. Альберт Штерн фон-Штернфельд встал, одернул камзол, поправил перевязь.
— Придушите ваших голубей, отец Ксаверий, тех, что вы держите в клетке и выдаете за больных. Нам нечего больше сообщать в замок. Мне придется скоро покинуть вас, вернуться в Вену, так и не выполнив поручения кабинета министров и нашего святого ордена. Я не дурак. Я не могу предлагать победителям, чтобы они за ненужное им посредничество при заключении мира отдали всю Прибалтику нашей Австрии. Не могу я настаивать и на том, чтобы братьям нашего иезуитского ордена русские попы разрешили иметь свои школы и монастыри в Москве. Вчерашнее поражение шведов разрушило все наши планы.
Глава 15 ЗИГЗАГИ СУДЬБЫ
Шведы сидели в замке уже две недели. Русские установили батареи, заложили мешками с песком внутренность некоторых домов в форпггадте, тех, что выходили к замковым воротам. Теперь эти дома стали надежным укрытием от замковой артиллерии. Однако от бомбардировки замка осаждающие воздерживались. Опекун голштинского герцога упрямо гнул свою линию, — герцогское достояние не должно понести ни малейшего урона!
Через две недели из узкой стрельчатой амбразуры над замковыми воротами высунули длинный шест, стали им трясти и вертеть, чтобы развернуть белое полотнище, обмотанное вокруг древка. На замковую башню вылез трубач, со всей силы затрубил. Штейнбок желал вступить в переговоры.
Ему ответили ме маханием белого флага и игранием на трубе.
Старинные ворота замка начали медленно отворяться, затем поднялась горда — массивная стальная решетка, тоже прикрывавшая ворота, — пропустила шведского офицера с белым платком в руках и трубача, следующего за ним. Офицер вздел платок на острие шпаги, трубач упер раструб трубы в бок. Оба браво прошагали до середины площади, остановились против комендантского дома. Трубач снова затрубил.
Навстречу вышел русский офицер, тоже с белым платком на шпаге.
— Наш фельдмаршал желает знать условия, на каких ваш фельдмаршал согласен принять замок. Мы уходим, — сказал швед.
— То есть как это? — удивился русский офицер. — А кто ж вас выпустит?
Швед вышел из себя. Путая русские и шведские слова, понес о воинской чести, о доблести — невесть что, не имеющее прямого отношения к делу. Русский терпеливо слушал. Так ни до чего не договорились, снова протрубили и разошлись.
На следующий день шведы опять выкинули белый флаг. Парламентер сказал, что фельдмаршал Штейнбок сам согласен выйти для переговоров, если ему гарантируют безопасность и свободу возвращения к своему войску, сидящему в замке. Безопасность гарантировали.
Штейнбок вышел с двумя генерал-майорами по бокам. Сзади шли два трубача и непрерывно трубили. Впереди шведский капитан нес белый флаг.
Меншиков спешил, вышел договариваться, прихватив только двух полковников и одного трубача. Штейнбок предложил капитуляцию с тем условием, что шведы, сдав все оружие и артиллерию, будут отпущены на родину. Но знамена и литавры им оставят.
— Ишь чего захотели! — рассердился Меншиков и, обращаясь к своему полковнику, говорившему по-шведски, приказал: — Растолкуй старому бирюку, что знамена и литавры мы у них обязательно должны забрать, чтоб было чем погордиться, ибо сие есть — трофеи. А их отпустим за выкуп, ежели шведская казна таковой внесет.
Договорились на том, что Штейнбок сдаст замок, оружие и знамена с литаврами, но людей пусть содержат в плену не русские, а датчане. Как-никак Дания ближе к Швеции.
На следующий день утром со стороны замка раздались медленные удары барабану словно хоронили кого. Прискакали генералы, приказали полкам строиться в поле перед лагерем.
Ворота замка отворились, появился печальный кортеж сдающегося войска. Первым ехал фельдмаршал со шпагой наголо, глава опущена на перси. За ним шагали драбанты, несли знамена. Литаврщики мерно били в литавры-кавалерийские барабаны, похожие на котлы. Два таких котла повешены были с двух сторон от седла. Литаврщик бухал правой рукой по одной литавре, левой по другой. Было печально и горестно. На полковые барабаны накинули по куску траурного крепа, в них вовсе не били.
Поравнявшись с Меншиковым, Штейнбок остановил костлявого коня, поддерживаемый адъютантом, слез, подошел к русскому полководцу, встав на одно колено, поцеловал шпагу, положил ее к передним копытам меншиковского жеребца. Александр Данилович сидел как истукан, бровью не повел. И остальные русские держались так же надменно.
Адъютант поднял Штейнбока, поддерживая, повел назад, помог взгромоздиться в седло. Подошли шведские знаменщики, поцеловали шелк, потуже свернули и обмотали траурным крепом знамена, положили на землю и побрели прочь. Литаврщики и барабанщики повозились, расстегивая пряжки, понесли свои инструменты к рядам пре- ображенцев. Швыряя на землю, многие пробивали туго натянутую кожу, чтоб барабанами нельзя было больше пользоваться, ломали палочки. Преображенский батальон стоял как литой, мушкеты на караул, багинеты блестят на солнце, рукояти тесаков будто не из меди, а из золота. И солдатские лица все как одно злые, усатые, темноволосые. У кого свой волос был светлый, напялили поверх парики, усы и брови нафабрили.
Затем потянулись ряды нижних чинов. Шведские кирасиры, драгуны, мушкетеры и гренадеры громоздили перед русскими кучи оружия, поспешно отходили. Последние батальоны шведов брели вразброд, не держа рядов. Оружие побросали по дороге.
Аким, теперь уже не моряк, а корнет конного полка, сидел на шведской лошади, из тех, что тогда выгнали, во главе эскадрона, искал глазами, нет ли среди шведов злодея Бонифатьки. Может и был, проходили похожие на него, да нельзя было выехать из строя, поглядеть поближе. Жалел, что нет Елизара, у того взор острее, может, он бы и различил.
Елизар уже две недели как пребывал на корабле. Вместе с огар- ковскими матрозами и своими двумя, Ивашкой и Тимофеем, хлопотал по корабельным делам.
Из брошенного флейта пумпами откачали всю воду, выгребли из трюмов всякий размокший хлам. Потом корабль отвели на глубокое место, как положено, поставили на якорь. Теперь занялись починкой: оторвали обгорелые доски, — к счастью, их было немного, горело-то всего в носовой каюте, там, где жили боцман, тиммерман — корабельный плотник и констапель — старший артиллерийский служитель. Начали вытягивать такелаж. Покосившиеся было мачты выровняли, поставили прямо. Внизу, в трюме, там, где конец мачты, именуемый шпором, упирается в киль, загнали дубовые клинья.
Майор Логинов заказал шить новые паруса: старые уволокли окрестные рыбаки, тащившие с корабля все, что могло им пригодиться. Напоследок занялись конопаткой и смолением бортов.
Одному Елизару со всей этой уймищей работы, конечно, было бы не управиться. Одна пара глаз за всем не доглядит,. Выручали Иван и Тимофей, произведенные в урядники, то есть в старшие. Сам Елизар тоже получил повышение. За славную викторию над шведами Меншиков многих отличившихся офицеров повысил в чине. Елизара из фенрихов произвели в мичманы флота, а Акима — в корнеты по кавалерии. Повысили только младших; старших офицеров, начиная от майоров и полуполковников, имел право отличать только сам царь.
Вечно озабоченный, таскавший с собой множество бумаг, различных товарных перечней и счетов, Яков Логинов стал кораблю вроде как крестным отцом. В скорости должен был прибыть выписанный им из Штеттина шхипер — немец Иоганн Тыш. Тот Иоганн Тыш не раз уже ходил кораблями в Архангельск, а также и в Санхт-Питерс- бурх. Его знали. Да и синдик Вольфрам Гешке, отписав к штеттинским купцам, получил от них весьма лестные рекомендации сему честному мореходу. Пока же Логинов нашел в помощники Елизару другого моряка, гамбуржца, отрекомендованного датчанами. Гам- буржский подшкипер, Ганс-Карл, с фамилией такой, что не сразу и произнесешь, что-то вроде Шупеншоллер, предъявил письмо от датского артиллерийского капитана Банга, в котором Банг свидетельствовал, что давно знает Ганса-Карла и ручается за него всей своей офицерской честью. В плаванье этого Ганса-Карла брать не собирались — ни к чему там сверхкомплектные, но при починочных работах, а затем при погрузке, был он весьма полезе’к, ибо плавал прежде на купецких кораблях и знал, как что уложить в трюмах.
Елизару этот человек был не по душе: льстивый, угодливый, будто не моряк, а церковный служка. Матрозы же дивились: неизвестно зачем гамбуржец напяливал на себя две пары штанов сразу. Одни — очень широкие и короткие: если б застегнуть пуговицу у колен, стали бы пузырями, как у голландцев. Из-под них торчали другие, прикрывавшие до половины голенища смазных сапог. Штаны были разного цвета — синие и коричневые, а кожаный жилет ярко-красный и на голове шляпа зюйдвестка, тоже кожаная, желтая. Попугай да и только!
' Однажды произошло такое, что озадачило и насторожило Елизара. Стоя на шканцах своего «Диаманта», так назывался корабль и так должен был зваться впредь, ибо царь Петр строжайше повелел сохранять у отбитых шведских кораблей их прежние имена, дабы враг от этого впадал в удручение, мичман вдруг увидел на берегу того самого старого рыбака, который некогда был лоцманом на русском сторожевом фрегате и вел их корабль к устью Эйдера. Елизар обрадовался, подозвал: может, тот знает что про прежних товарищей, с которыми довелось служить на корабле. Старик тоже признал Елизара, стал улыбаться, кивать, закричал:
— Герр лейтенант, ви лебст? — значит — как поживаешь?
Но вдруг начал пятиться, с мостков сбежал на берег, повернулся и замешался среди прохожих. Елизар поискал глазами, что же напугало старика? Увидел только Ганса-Карла. Тот стоял, нагло ухмыляясь, щуря свои водянистые, навыкате глаза.
— О, мы рыбу никогда не покупали, — сказал он Елизару. — Бывало, идешь на корабле, увидишь рыбачью лодку, велишь подойти. Рыбу заберем, а их гоним прочь. Поймают еще, в море-то рыбы много! . .
Елизара передернуло. Гнать бы в шею этого морского грабителя! Да теперь уж не стоит, завтра приедет Иоганн Тыш. Пусть новый капитан сам решает.
Глава 16 ГНЕВ СТИХИИ
Ветер ровно взбесился. Хотя с вечера успели взять все рифы, да лишние с мачт убрали, паруса надулись до крайней возможности. Туго натянутая материя аж звенела, да и дерево мачт, и смоленые снасти гудели и ныли с натуги.
На корме, укрывшись за высоким фальшбортом, вцепившись руками в поперечные перильца, устоять кое-как удавалось. Вот внизу на палубе, пожалуй, на ногах не удержишься. Мохнатые валы легко прыгают и через пушки вдоль бортов, вода бурлит над досками, сдвигает с места аккуратно уложенные тяжелые бухты канатов, норовит утащить в море, смыть все, что полегче. Одним словом, шторм, и не шуточный.
Мичман Елизар Овчина-Шубников стоял вахту второй срок — за себя и за командира. Командир флейта «Диамант», немец Иоганн Фридрих Тыш занемог. Мичман несколько раз посылал матрозов вниз, в горницу, по-флотскому — в каюту, узнать, как и что. Ответы были разные, не весьма понятные. Сначала командир читал библию, потом принялся пить холодный грог.
«Чтоб те разорвало, пузатого, с того грогу! — мысленно посулил немцу Елизар. — Нашел времячко напиваться. Тут голова кругом идет, а он лакает хмельное».
Голова у мичмана истинно шла кругом. В моряках он числился недавно. Одну полную навигацию прослужил на галерах, другую на кораблях. Большого умения и моряцких знаний мичману не хватает. Ладно, что сейчас определять положение корабля в море нет надобности, берег все время видно, когда в трубу, а когда и просто глазом. Одна забота — держи курс все время на ориент, на ост, или проще, по-русски, на восток. Только с парусами треклятыми морока. Зачем столько всяких парусов напридумано, да такую путаницу снастей для управления ими. Несли бы сейчас полную парусность, мичман никак бы за себя не поручился. Вполне легко можно спутаться. Даже теперь, когда стоят одни нижние паруса, гляди в оба.
Мичман еще раз мысленно ругнул пьяного командира и тут же с удовольствием подумал, что под командирской койкой к полу привинчен массивный, окованный железом сундук, а в том сундуке крепостной штандарт и пудовые ключи от ворот, кои ему поручено спешно доставить в столицу, город Санхт-Питерсбурх, а может и самому царю.
Ветер вроде как стал заходить с другого боку. Мичман достал из кармана складную зрительную трубу, на мгновение задумался, чем бы протереть окуляры. Сухого на нем ничего и нет. Потом выпростал из-под камзола конец шейного платка, протер им стекло.
Берег подходил к морю поросшим соснами мыском. Легко могло получиться, что завихрение атмосфер происходит от наличия поблизости именно означенной земной суши. Подобное Елизар наблюдал. Навигация в финских шхерах весьма отлична от навигации в открытом море. Однако же, как бы там ни было, а парусный маневр производить придется, надо ложиться на другой галс.
Мичман поддернул намокшие алые обшлага на рукавах зеленого мундира, крепче надвинул на лоб войлочную шляпу треугол. Шляпу, чтоб не сорвало, пришлось подхватить под подбородком тонкой веревкой-шкертиком. Напрягая голос, скомандовал:
— Штюрман, держи полны паруса! Рур анли!
Покосился в сторону штурвала, как там рулевые. У колеса стояли свои, Иван и Тимофей. Оба повисли на рожках колеса, медленно-медленно, с натугой ворочали. Елизар строго покрикивал :
— Ре! Ре!
«Рур анли» и «ре-ре» тоже с голландского, взамен русского «ладно» и «так-так», в общем, значит, одобрительно. Затем, схватив рупор, заорал в медный раструб, чтоб слышали у мачт:
— Притяни формарсиль-брасс с ветреной стороны! Отдай ма- гарман! Магарман, говорю, отдай, экой рохля! . . Натяни опять формарсиль с подветренной стороны! Отдай немного фока- булинь…
Вахтенные матрозы, промокшие, прокалевшие от стужи, живо ринулись из-под кормы, как кошки полезли по веревочным лестницам на мотающцеся мачты. Стоявшие внизу на палубе вцепились, повисли всей тяжестью на канатах.
— Крепи! Еще повытяни галсы и булини!.
И, наконец, успокоенно:
— Ладно… Прибирай все веревки.
Корабль валко мотнулся, боднул раз-другой набежавший вал, так что впереди полетела стена брызг, ухнув всеми креплениями, перевалился на другой бок. Матрозы стали слезать, зашлепали мокрыми башмаками назад под укрытие.
Теперь Елизар оказался с наветренного борта. Бешеный ветер сразу в него вцепился так, будто вознамерился напрочь оторвать полы Преображенского мундира. Короткая флотская шпага, именуемая кортик, отлетела, зацепилась за раструб высокого ботфорта. Чтобы не мешала, мичман рывком дернул за перевязь, отодвинул кортик на спину, левой рукой погладил короткие, щетинистые, как у царя Петра, усики.
Видать, усилившаяся во время парусного маневра качка разбудила спавшего внизу капитана. Тыш наконец соблаговолил выбраться из каюты. Ох, и хорош же он был! Голова под шляпой замотана платком для тепла, поверх мундира от сырости напялен кожаный чапан.
Однако и под хмельком Иоганнка Тыш все же, видно, дело разумел. Придирчивым взглядом проследил за матрозами, цепляющимися за мачты. Поднимаясь на корму, начальственно ткнул кулаком урядника, поощрительно пробормотал:
— Зо, зо, старый шорт! Все есть рихтиг, абсолют правльн…
На груди у урядника болтался нож в кожаных ножнах. Обычно
рядом с ножом висела берестяная коробка с табаком, вареным на меду. Оба, и боцман, и командир, любили жевать такой табак. На этот раз берестяной коробки не было. Тыш с неудовольствием посмотрел на болтающийся одинокий нож, по привычке хотел сплюнуть несуществующую жвачку, но воздержался. Плевать за борт моряку не положено, особенно в такую погоду. Можно обидеть морского бога Нептуна.
— Иди спать, шипман… я пришел, — тяжело вздохнув, сказал Иоганн Тыш. — За этим косой должен быть открыться остров Кот- лин, а против Котлина российская императорская фортеция Крон- шлот. Подойдем к Кроншлоту, сделаем им нужный сигнал. Коли разрешат, поплывем дальше к устью Нейва.
В каюте было душновато, воздух основательно застоялся. Пахло горелым маслом от недавно притушенного фонаря под подволоком. Но мятая холстина и подушка на командирской койке еще хранили тепло и валявшийся в ногах тулупчик обещал быстрый разогрев.
Мичман вытащил из гнезда полки квадратную бутыль мутного стекла, встряхнул. Конечно, бутыль была пустая. Не такая натура у командира, чтоб оставлять спиртное.
Повесив на крюк мокрую шляпу, мундир и камзол, стянув с ног пудовые сапожища, Елизар испытал полнейшее блаженство. Мысли сразу потухли, как только лег. Последней была мысль, что хорошо бы скорей добежать до Кроншлота, да отстояться на якоре. Но и эту не успел додумать до конца, уснул…
То, что произошло потом, сразу понять и уяснить казалось невозможным. Толчок, треск… еще толчок… Потом будто куда-то летишь и здоровенный удар плашмя по спине и по затылку. Все закружилось, в голове шум, звон, в глазах не то золотые круги, не то полосы, вроде бы огненный дождь… Когда прекратилось мельтешение в глазах и осталась только боль от удара, мичман осознал, что лежит не на койке, а на полу. Вся каюта как-то странно перекошена, будто все выгнулось и один угол задрался кверху. А из щелей между палубными досками сама собой выпирает конопатка, и где ее выпрет, там сразу начинает бить плоский фонтанчик холодню- щей воды.
— Господи! Да что же это?! Никак тонем! . .
Ошеломления как не бывало, мысли снова явились ясные, разумные, властные. Первое дело для воина — долг! А долг: спасать вверенные попечению трофейные регалий, документы и карты — все, что надобно передать. Запечатанный сундук с секретным запором принесли от коменданта перед самым отплытием.
Присев на корточки, мичман ухватился за кованую скобку сундука, дернул что было силы… еще… еще раз! Сундук даже не шевельнулся. Тогда Елизар ударом ноги сшиб койку, чтоб не мешала, увидел: казенный сундучище весь окован железом, опечатан снаружи. Чем же сшибить крышку? Бежать за топором? Не поспеть… Кортик?!
Он выдернул кортик из ножен, попытался просунуть лезвие в щель, нажал. Сталь сначала согнулась и вдруг со звоном лопнула, клинок разломался. Чертыхнувшись, хотя в такой недобрый миг и не следовало, мичман отшвырнул бесполезную рукоять, схватил ботфорты, полные воды, кое-как вбил в них ноги, сорвал с крюка мундир, офицерский шарф, шляпу треуголку. Мундир надеть не успел, нахлобучил только шляпу.
Тем временем вода в каюте подбиралась уже к животу. Держа мундир под мышкой, огляделся. Прежде чем спасать себя, надо убедиться, нет ли чего поважнее, государственного. Ударом кулака выбил дверь стенного шкафа, прихватил с полки шкатулку, не зная, что в ней.
В это мгновенье дверь каюты отлетела, вышибленная ударом. Подымая перед собой бурун, вкатился коренастый Ивашка.
— Слава те господи, живой! — заорал он на весь Финский залив. — Ты что, сдурел, господин мичман! Ведь тонем! Не мешкай, бежим!
Он вцепился в Елизара, с силой рванул из каюты, потащил вверх по трапу.
Флейт одним бортом лежал в воде. На другом, угрожающе натянув цепи и канаты, висели пушки со станками. Одна из пушек завалилась, стояла поперек. Мичман невольно вжал голову в плечи, пробираясь под ними. Пробираться-то было нелегко, палуба скользкая, как ледяная горка для катания на салазках. За лохмотьями разорванного паруса сразу и не разглядел шлюпку.
Шлюпка стояла на воде, упершись кормовым транцем прямо в палубный настил. А рядом торчали еще какие-то лодки, не казенной аккуратной постройки, а корявые, неуклюжие, облепленные смолой, и в них толклись шумные, напуганные мужики. Крепкая лапища Тимофея схватила мичмана за плечо.
— Давай сюда! .. Иван, подсоби…
Матрозы схватили Елизара, насильно втянули в шлюпку.
Уже в шлюпке, вдевая руки в рукава мундира, мичман сообразил, что не очень качает. Шторм то ли приутих, то ли уже вошли в Невскую губу и в узкости волнение не столь сильно, как в море. Только ливень хлещет так, что в десяти шагах ничего не разглядишь. Откуда рыбачьи лодки?
Напрягая зрение, вдруг понял: берег-то вот он, рядом! Верста, а то и две, не боле. Темная полоса — это лес. Вот, значит, отчего возле гибнущего «Диаманта» рыбаки на своих лодчонках. Как же так! Выходит, командир загнал корабль на берег, на мель!
— Шлюпки вег! Лодки прочь! Отходить! Мужики! . . Давай, давай, мужики, убирайсь!..
Только теперь, услышав этот голос, Елизар увидел, где капитан. Капитан стоял на другой казенной шлюпке, приставив ко рту медный раструб рупора, приказывая всем отойти от тонущего корабля.
Рыбаки торопливо замахали веслами. Матроз на корме той шлюпки, в которой был мичман, вопросительно взглянул на молодого офицера, но багра, которым он цеплялся за мачту, не отпустил.
— Как так отходить! — не своим голосом закричал ^лизар. — А корабль? А присяга отечеству? Да что мы, бабы?! Неужто бежать, задрав подолы!
— Выполняйт мой приказ! — визгливо орал немец. — Тотчас выполняйт! Отходить скорей, шнелль, шнелль!
И схватив рупор за горловину, погрозил им, будто собирался швырнуть в Елизара.
— Матрозы, слушай приказ! Отходить! Я есть старый моряк, я есть капитан} Я знай, что делать! Днище корабля гнилой, все развалился, спасать нельзя!
Матроз на корме с силой надавил на древко багра, затем выдернул острый конец из дерева мачты. Остальные матрозы быстро рассаживались по банкам, разбирали весла.
Шлюпка, описав широкий полукруг, отошла от гибнущего корабля и, обогнав рыбачьи лодки, вскоре с ходу воткнулась в песок. От неожиданности Елизар не устоял на ногах, повалился вперед на ближайшего гребца. А когда привстал, увидел: «Диаманта» над водой уже нет, только хлыстами ложатся на серую воду кургузые мачты с обвисшими парусами. А потом и мачты ушли.
Тяжелые военные шлюпки вплотную подойти к берегу не могли. Пришлось приказать вытащить их подальше на отмель, оставить дежурных и брести к суше, разбрасывая воду тяжелыми ботфортами. Все это не имело значения после того, что произошло. И холода мичман не чувствовал, и даже возбуждения или злости, ничего не было, была пустота и какая-то обида…
А потом сидели в душной избе у рыбаков, хлебали уху… К вечеру подошел вельбот, заявились два строгих офицера с Кроншлота. Долго, подробно, придирчиво выспрашивали, сердились. Капитану приказали отдать кортик и объявили его усаженным под арест. А пуще всего выговаривали даже не за то, что погиб корабль, военный флейт, боевой трофей, а за то, что, когда гибель уже приключилась, капитан плохо действовал, не спасал казенного имущества, даже не вспомнил про спящего в каюте мичмана. И людей всех затормошил.
Бывший капитан медленно вытянул из кармана большой клетчатый платок, устало провел им по лицу, верно хотел скрыть слезы. Потом грустно сказал:
— Бог так захотел. Человек сам ничего не может. Я есть бедный, честный шкипер, много плавал, хорошо знайт свое ремесло. Думал, буду служить русским, заработай денег на старость. Военный официр — почет, хорошая плата, много гельд… Судьба рассудил не так. Одно верно: что море берет, назад не отдаст.
Потом уронил платок и, не таясь, заплакал жалкими, стариковскими слезами. А Елизар, превозмогая жалость к Иоганну Тышу размышлял: неужели так-таки море никогда ничего не отдает? Ведь
у самого берега! Эх, авезли-то что! Частицу славы российской! Везли, да не уберегли! Пусть* по воинскому артикулу он сам к этой беде не причастен, даже вроде и в авантаже, сумел спасти документы в шкатулке, донесения и реляции. А все равно душу саднит, будто виноват.
Глава 17 АДМИРАЛТЕЙСКАЯ ФОРТЕЦИЯ
Прежде Елизару нравился чудной городок Санхт-Питерсбурх, новая столица государства Российского, возникшая на Невских берегах, по воле упрямого царя и в силу государственной пользы. Не беда, что между улицами топкое мелколесье, что дворы не токмо простого люда, но и вельмож, выходят в ольшаник, что в наспех ставленных домах отовсюду дует, а весной и осенью река Нева имеет обычай затоплять берега. Даже зимой во влажном питерсбурхском климате не всегда есть годный санный путь, а чаще грязь и распутица. Вязнут в грязи телеги и кареты, бывает, если неосторожно ступишь, так засосет сапог, что лучше выдергивай ногу, а уж потом выручай обувь.
Но есть в Питерсбурхе красота и невиданная, непривычная русскому человеку. Такой простор, такая ширь, так вальяжно катит свои серые, недобрые волны красавица Нева, что заглядишься! А небо, особенно весной и ранним летом — светлая чаша веницейского стекла. И не поймешь, какие краски играют в небе: багряная ли зорька, водянистая ли голубизна, травяная ли зелень. И не только днем, но и ночью. Питерсбуржцы зовут сию пору «белыми ночами», не устают дивиться на такое чудо севера, когда ночью светло, словно днем, а синий сосновый лесок на другом берегу кажется волшебным пологом. Раздвинь тот полог и войдешь в сказочное царство невиданных зверей и птиц.
И еще нравилось Елизару, что ставили новую столицу по точному расчету, но не так, как ставят военную фортецию, не токмо для обороны, а с прикидкой, чтоб удобно было жить и строиться многие годы и столетия.
Однако, хоть Елизар и хорошо знал Питер, на сей раз не мог сразу сообразить, куда его привезли. Низкая, крытая рогожей кибитка, в которой ездок может только лежать, так увалялась на рытвинах и колдобинах, хуже самой сильной морской зыби. По бокам* для обережения подследственного, сидели отяжелевшие старики солдаты, нарочно заслоняя спинами все, что можно подглядеть в пути. Его провели в угловую камору, просторную, чистую, но сырую. В два окошка каморы, выходившие на две стороны, в одном видна была Невская першпектива, в другом — Нева, крепость Петра и Павла, медный, вонзившийся в небо Трезиньевский шпиль, да идущие по реке барки. У Елизара малость отлегло от сердца. Опасных государственных преступников запирают в крепость; значит, он не из самых опасных. Куда ж все-таки его посадили? Вдруг сообразил: да в Адмиралтейство! Иначе говоря, в Адмиралтейскую фортецию, в камору для нерадивых работных людей, которым неохота быть при государевой службе.
Адмиралтейство, в сущности, работное место, корабельная верфь для строения кораблей. Царь пожелал строить здесь фрегаты, корветы, бриги, а дойдет дело, так и большие линейные корабли. Выбрали площадку с уклоном к Неве, так чтобы готовый корабль легко было спустить, или сволочь в воду. Работное место — верфь — обстроили зданиями, складскими и казарменными. Строения ставлены покоем, потому что четвертой стороны не должно быть, там спусковой эллинг. А для красы возвел над зданиями тот же маэстро Трезини медный же шпиль, вроде Петропавловского, только пониже. На шпиле, вместо флюгера, утвердили медный корабль под всеми парусами. Куда дует ветер, туда кажет и нос корабля.
Для пущей осторожности (шведы-то под боком) новую верфь укрепили, окружили валами и рвом, и стало Адмиралтейство форте- цией, второй крепостью.
Сюда-то как раз и посадили Елизара. Ну что ж, в общем все, как положено. Покуда на нем подозрение в нерадивости при исполнении служебного и воинского долга, должен он сидеть под караулом. А в Адмиралтейство его засадили, потому что моряк. Да тут же в конференц-зале заседает и Адмиралтейц-коллегия, вершительница всех корабельных дел и судеб.
Ночь прошла спокойно. По молодости Елизар как лег после ужина, так очнулся, лишь когда караульный солдат стал пинать его в ногу, приговаривая:
— Проснись, дядя… Проснись, господин офицер, говорю… А то рожу не успеешь сполоснуть да поесть. Господа Адмиралтейц-коллегия уже изволют съезжаться. Президентская карета опять за фонарный столб зачепилась, насилу ослобонили…
Елизар успел и вымыться, и поесть, и даже выкурить трубочку табаку. Табак и трубка были припасены на столе от казны. А за ним все не присылали. В окно доносилось стуканье топоров, скрип блоков да мирное клохтанье курочек. Их, верно, держала какая-нибудь ма- трозская жинка лйбо жена мастерового.
Наконец засов у двери скрипнул, дверь распахнулась, вошел караульный сержант с белыми ремнями крест-накрест, выставил вперед протазан, чтоб показать, что при службе, стукнул концом протазана по полу.
— Идем, господин мичман, требують…
Протазаны — парадное оружие. Елизар удивился и опечалился, значит, предстоит не простой допрос, а вроде как официальный суд.
Сержант шагал впереди по длинному коридору, Елизар за ним. Перед дубовой дверью сержант остановился, трижды топнул протазаном об пол и тогда уже отворил.
После плохо освещенного коридора судейская горница показалась светлой, как фонарь. Елизар едва переступил порог, как навстречу качнулся штеттинский капитан Иоганн Тыш, без накладных волос, с костяного цвета плешью во всю голову. Только над ушами висели жидкие, седые косицы. Тыш вцепился в Елизарово плечо, уткнулся мокрым мягким носом в локоть.
— Майн готт! — простонал старик. — О, майн либер готт! Мой любезный господь бог! Верой и правдой служил я, делал все, как учили и как сам разумел. Я ведь плавал на корабле даже в Вест- Индию… А они не верят.
Сержант с протазаном бережно взял старика под локотки, повел к выходу.
Только теперь Елизар огляделся. За длинным столом в середине, на президентском месте, сидит председатель Адмиралтейц-коллегии Кикин, мордастый, здоровущий дядька в пышном парике. Про Ки- кина известно было, что он бывший царев денщик, мальчонкой спал на пороге царской опочивальни. Потом отхватил выгодный откуп на право взымать подать со всех рыбных ловель по всей Руси. Этого Меншиков ему никак простить не может. Но вот он — Кикин; председательствует в Адмиралтейц-коллегии — ближний царский человек!
С правой руки от Кикина уже подлинный царев помощник, ученый человек Яков Брюс. Брюс шотландского королевского рода, но родился в Москве на Кукуе, в немецкой слободе. Царь его любит и чтит. Брюс похож на бульдога, хмурого, но доброго.
А слева от президента — увидев это, Елизар едва не всплеснул руками — торчит тощая, пылающая физиономия капитана Огаркова, но уже не в капитан-поручицком, а в капитан-командорском платье. По всему видно, Огарков и здесь не изменил своей привычке влагу из костей гнать другой влагой.
— Эге! — сказал Огарков хрипло, увидев Елизара. — Этого господина мичмана я, кажись, знаю. Будь моя воля, сейчас бы взял его к себе на корабль первым лейтенантом. У него душа соленая.
Кикин лениво взял со стола большой деревянный молоток, два раза стукнул.
— Заседание Адмиралтейц-коллегии! — произнес он торжественно. И так как Огарков еще что-то бубнил, сердито прикрикнул: — Капитан-командор! Надобно делом заниматься, а не солеными душами.
Брюс листал какие-то бумаги, внимательно вчитывался. Сидевший по левую сторону у стены писец подобострастно вскочил:
— Как прикажете, господа адмиралтейцы, читать все сначала, какого числа и в каком месте потоп казенный флейт «Диамант», али как?
Кикин вельможно махнул рукой.
— Чего ему читать, он при том был, сам знает. — И уже обращаясь к Елизару, добавил: — Господин мичман, ты нам вот что скажи. Немец, приписанный к мореходам ганзейского города Штеттина и покеда числящийся капитаном флота российского для купецких надобностей, Иоганн-Фридрих-Эммануил-Гот… — он вгляделся в запись, махнул рукой. — Не могу разобрать, имя больно заковыристое… А по-простому Иоганн сын Тышев, наплел тут такого, что и спьяну не приснится. Будто ваш флейт, трехмачтовый корабль, ни с того ни с сего начало распирать изнутри. При том он, Иоганн Тыш, находясь на мостике, никакого дыму либо пламени, как при взрыве, не обнаружил. Брехня это, верно, господин мичман?
Елизар выпрямился.
— Никак нет, господин президент Адмиралтейц-коллегии, не брехня! Я точно, своими глазами видел, как переднюю палубу выперло горбом. Бугшприт и утлегар повалились вперед, а утвержденный на утлегаре малый парус магерман сорвало ветром и унесло.
Кикин потер подбородок, поглядел на темя Брюса, все еще углубленного в чтение, и на Огаркова, скрестившего руки на столе, и снова поднял молоток.
— Ну как, господа морской суд? Станем мы этакую ерунду писать али нет? Дело ясное. Выперло их корабль на мель, а с перепугу, чтоб отвести с себя всякую вину, корабельные служители сговорились показывать, будто их изнутри морской бес распер.
— А что? — вскинулся Огарков. — В море бывает всякое…
Кикин стукнул молотком.
— Помолчи, господин судья. Ты, капитан-командор, мягкой души человек; то в нашем деле вред. Да и какое тут море! До острова Котлина, на котором строится морская фортеция Кронштадт, и вода-то пресная, невская.
Брюс наконец кончил читать, вздохнул.
— Да… что-то не есть похоже. Однако насчет сговора я не верю. Обознались; это соответствует натуре.
Огарков всплеснул руками.
— Что ты плетешь, Яков Вилимович?! До генерал-фельтцейх- мейстера дожил, ученый человек, многие искусства превзошел, день и ночь книги грызешь, а простых вещей не понимаешь. Давай я тебе напомню. Помнишь, как в Голландии на Ост-Индском дворе ты по приказу государеву купил морского зверя дохлого, именуемого кор- кодил? И еще чудо морское, тоже дохлое, сверт-фиш, по-нашему меч-рыба или рыба-шпага. У ней нос такой длиннющий! Плачено за те кунштуки сто шестьдесят пять ефимков. Был послан с теми чудами морскими в Рассею солдат, который всю дорогу по многу раз в день их нюхал — боялся, чтоб не протухли. Почему такой ехидный сверт-фиш не мог, скажем, совершить нападение на российский флейт и его пробуравить? И еще скажи, Яков, не ты ль мне давал читать книгу, англицкую али голландскую, где есть гравюра морского чудища восьминога, именуемого также кракеном. Как тот восьминог не только корабль, целую эскадру жрет, как на той гравюре изображено.
Брюс кивал головой, будто соглашался, потом спокойно поглядел на распаленного Огаркова, негромко спросил:
— А вот ты, капитан-командор, ты больше моего поплавал, видал ты на севере этих кракенов и сверт-фишей?
Огарков поперхнулся.
— Да нет, откровенно — пока не приходилось. Вот акул ловили. Здоровущие, стервы, но какие-то не те, на людей не нападают, а лопают треску.
Кикину, видно, скучно стало сидеть — надоело, поднялся, вышел из-за стола.
— Ну мне, господа судьи, недосуг, у меня дела государственные. Я покеда отъеду. А вы разберитесь с им. На другом заседании потолкуем, как окончательно решать.
Несмотря на солидную комплекцию, он легко выпорхнул за дверь.
Писец пододвинул Елизару табурет.
— Садись, господин мичман, — разрешил Огарков. — В ногах правды мало. — И для наглядности хрустнул ревматическими суставами.
Брюс неторопливо водрузил на короткий нос очки, пристально посмотрел на Елизара. Лицо его было по-прежнему невозмутимым и грустным.
— Любопытно мне, — сказал он медленно, стараясь тщательно выговаривать слова, — какое явление натуры могло произойти? Мы низших корабельных служителей, матрозов да урядников, тоже поспрошали. Все твердят одно: расперло, мол, и все… Какого морского беса ты погрузил в трюм? Может, хотел тайно провезти какую заморскую живность размером со слона элефанта? Ведь ты ведал погрузкой?
Елизар помотал головой.
— Никакого чудища я не брал и не видывал. Погружено в крюйт-камеру пороха три бочки да ядра к пушкам. Ну это, сами знаете, зачем! Порох добрый, шведский. А еще премьер-майор Логинов дал приказ погрузить столько всего разного: и мушкеты, и пистоли, и палашные клинки, и позумент на шляпы, и букна, и всего, всего, — что я, признаться, не знал, как все уместить. И тогда господин премьер-майор наняли моряка, званием стивидор, али сюрвейер, точно чин не припомню. Тот немчин на гружении судов руку набил. Я с матрозами хотя чинил такелаж, палубы, но за всем приглядывал. И за погрузкой тоже, без меня немчин ничего не грузил. А вот что вверх гружено, что вниз, какую кладь в какой трюм клали, это евонное дело было.
Огарков и Брюс переглянулись.
— Ну что ж, господин офицер, поступлено умно. Так и надобно поступать. Когда сам чего не знаешь, у сведущего человека поучиться не стыдно.
Елизара отпустили. Придя в свою камору, он немало удивился, увидев кого-то, сидящего на койке. Человек сидел спиной к свету. При входе Елизара вскочил, кинулся к нему, схватил за щеки, чмокнул.
— Акимка! — Елизар прижал друга к себе. — Ой, Акимушка, сердешный!
Аким с трудом высвободился.
— Пусти, медведь, ребра поломаешь офицеру конной пехоты! Мне с неделю назад сам царь вон какой фонарь под глазом повесил. Гляди!
Аким повернулся к свету. Левый глаз действительно запух, под припухлостью рдел разными цветами, от вишневого до легкой желтизны, здоровенный синячище.
— Пошто он тебя? — удивился Елизар*
— За побег от морского дела к конскому! Александр Данилыч Меншиков. верно, шепнул за меня словечко, ведь они с моим батей в кумпанстве. Вот царь и вызвал. Как, говорит, ты такой-сякой посмел? Обскажи мне весь такелаж линейного корабля. Ну, я начал прытко, а потом заврался. Тогда, говорит, обскажи мне галеру! Я и тут чегой-то перепутал. Царь был хмельной, сердитый! Как приложит мне своей царственной десницей, так я за дверь улетел. А назавтра на ученье пришел глядеть и похвалил за лихость. Я на ходу платок с земли подхватил. А уж эскадрон у меня ходил, всем иностранцам на загляденье. Вот и оставлен я в драгунах, а проще в конной пехоте, потому что мы и пехота тоже. Ой, да что я про себя, да про себя!..
Аким запустил руку за пазуху, достал сложенную записку, припечатанную зеленым сургучом.
— На, получай, от польской твоей Анютки. Брата своего, пана Михала, в живых не нашла. Дозналась, что умер он от тифуса, когда ехал к персам. Стоит твоя любушка у капитана Огаркова, дружбу завела с его дочерьми, ну, водой не разольешь! И все о тебе тревожится, даже слезы льет: как мой пан, морской хоронжий, #сйвет- поживает? Где он? Помнит ли свою Анельку?
Елизар вспыхнул от нечаянной радости, кинулся с запиской к окну, развернул. То, что писала сама Анелька, разобрать было сложно, хоть и писано русекими буквами. А остальное выводила ка- кая-то другая дева. Ничего особенного в записке не было, девичья скромность не позволяет говорить о том, что на сердце лежит. Одно понял Елизар, что любит его польская панна. Не только не забыла, но считает вроде как самым близким человеком. Из-за него и осталась в Питерсбурхе, будет ждать-дожидаться своего коханого.
Глава 18 ОСТАВИТЬ В ПОДОЗРЕНИИ
Адмиралтейский суд медленно, но упорно продолжал продираться сквозь дебри непонятного, чтобы докопаться до истины. Для честолюбца Кикина важнее всего было найти виноватого и наказать его по всей строгости морского артикула.
Главный виновник, капитан Иоганн Тыш, и не отрицал своей вины. Он призвал лютеранского пастора, заперся с ним и долго исповедовался в грехах. Грехи у Тыша были немалые, случалось ему есть скоромное в постные дни, случалось дремать в церкви во время богослужения. Будучи однажды в голландских колониях, тайком ходил вместе с другими матрозами в языческое капище — глядеть, как танцуют индийские девчонки жрицы.
Пастор глубокомысленно хмурился, осуждающе качал головой. Но грехи эти признал прощенными: надо только побольше денег пожертвовать на лютеранскую общину,
Яков Брюс, фактически забравший все следствие в свои руки, усердно изучал судовые документы. На счастье, Елизар, покидая каюту, прихватил из шкафа кованую укладку со шканечным журналом и прочими важными бумагами. За свою ученость Яков Вилимо- вич Брюс слыл в народе чернокнижником, но, несмотря на это, что-то не больно верил он в чудеса, а вое доискивался какого-нибудь понятного объяснения совершившегося.
При журнале нашлась подробная опись всех грузов, заверенная интендантской печатью, и даже нечто вроде чертежика, грубо набросанного рукой Елизара, где он пометил, куда, в какой трюм или чулан клали различные вещи.
Разглядывая чертеж, Брюс стойко выдерживал нападки Огар- кова.
— Не туда глядишь! — яростно вопил Огарков, тыча в чертеж кривым пальцем. — Вот тута есть погибель! Глядь, помечены бочки с пивом и полупивом и с квашеной капустой. Сие есть опасный груз!
Яков Брюс равнодушно отодвигал мешавший ему огарковский палец*
— Не шуми, Федор. Пиво и полпйво запасены против цынги, именуемой скорбутом, и притом уложен сей опасный груз в корме. А пучить флейт начало с носу. Давай глядеть, что в носу, в носовом трюме. Мука — раз. Горох — два. Бобы…
Огарков выразительно вздохнул.
— Вот уж, действительно, страшная кладь. Как это нас с тобой, Яков Вилимович, до сего времени не разорвало, почитай каждый день едим пироги,
— Господа адмиралтейцы, — прервал спор Кикин. — Замолкните малость. Ответствуй, господин мичман, по всей правде — знал ли ты злодея, вора и пакостного лазутчика JIex-Кружальского?
— Бонифатия! — Елизар сжал кулаки. — Попадись мне этот аспид, змея подколодная, собственными руками я б его задушил! Бо- нифатьку-то я хорошо знаю.
Кикин сосредоточенно кивал париком, слушая рассказ Елизара.
— Во-во… Армейский обер-гевалдигер Федька Павлов про то ж пишет.
Вельможный Кикин, хоть Федькой именул, рад был на место поставить простого подьячего, выбившегося в полковничий ранг. Затем стал читать вслух из присланной бумаги:
— «Дознано, что сей Бонифатька Лех-Кружальский точно проник в купецкий гильденхауз, дом старшей гильдии, чтоб впустить туда грабителей, дабы возбудить неудовольство против честных россиян. Мол, они учинили грабеж самых богатых купчишек. Дознано также, что Бонифатька со товарищи имел злое намерение поджечь и учинить взрыв на пороховых мюльнях. А когда он в сем злодейском намерении преуспеть не сумел, то перебежал к ^свеям в крепость, дабы поднять в них павший дух раскрытием российских военных тайн. Сей Бонифатька подсудобил своего Иисусова воина, Ганса-Карла, для гружения военного флейта «Диамант» флота российского. Как тому Гансу-Карлу его воровской и злодейский умысел совершить удалось, пока не дознано, ибо обе означенные персоны покеда пребывают в нетях и не изловлены. Выяснено, что в цеховых списках мореходов и морских служителей славных торговых городов Гамбурга, Любека и Бремена никакого человечишки но имени Ганс-Карл не значится. Прозвание то не есть его настоящее имя, а обманная выдумка».
Кикин бросил на стол бумагу,
— Вот, господа морской суд, что пишет нам Федька Павлов. Выходит, обмишурили сего господина мичмана и капитана Тыша лихие иезуиты. Но и сам обер-гевалдигер тоже хорош. После сдачи Штейнбока приказал никого из пленных не отпущать, нарочно привез людишек, которые того Бонифатьку знают в лицо. Всю крепость обыскали, никого не нашли. А оный Бонифатька, как потом установили, все время прятался в рыцарском камине в старой башне.
А тот камин такой, что в его с конем въехать можно. Охо-хо!.. Вот и въехали…
Он вздохнул.
— Ты-то как, Елизар, на тую башню забрался? Расскажи.
Елизар начал рассказывать, как брели по воде, как прислонили
лестницы и по ним на барбикан залезли мушкетеры и гренадеры и стали швырять гранаты с зажженными фитилями. Шведы от сей неожиданной диверсии растерялись, повернули против них резервы. А это только и надо было.
Сытое лицо Кикина вроде даже помолодело, он ерзал в кресле, несколько раз одобрительно хлопал кулаком по столешнице. Видно, смолоду сам был лихой вояка, любил молодецкую драку. Пылкий Огарков весь изнемог, прямо навалился на хладнокровного Брюса, в азарте теребил его за плечо, чуть не сронил с Брюсова носа очки.
— Ну что ж, господа морской суд, — сказал Брюс. — Порешим: сего мичмана считать обеленным и возвернем его на службу.
— Э, нет! — Кикин вдруг словно очнулся. — Э, нет, Яков! Так нельзя. Царь гибель военного корабля так не оставит, сам станет читать судейские бумаги. Вот нам всем и всыпет. Виновный должон быть. Ну, кто виноват, ясно: перво-наперво капитан. Да, кстати, он малость и в уме помешался. А мичмана мы ни к чему не приговорим, но оставим в подозрении. Иначе, господа адмиралтейцы, никак нельзя, с нас же спросится.
Глава 19 ИСТИННЫЙ МОРСКОЙ БЕС
Елизара Овчину-Шубникова велено было определить помощником к его родному дяде с материнской стороны, инженер-генералу Никите Талызину.
Талызин был в Питерсбурхе не малой персоной. Без генерал- инженера не предпринималось ни одно большое строение. Но умный, весьма образованный, знающий иностранные языки Талызин не стремился выдвинуться вперед других. Пускай дворцы и церкви возводят выписанные из заморских краев прославленные зодчие. Его, талы- зинское дело — укреплять набережные, чтоб не ползли и не осыпались, возводить причалы для кораблей, ставить батареи для обороны города.
Свою семью генерал в Питерсбурх не взял, схитрил, побаивался, что супруга, женщина властная, своевольная, приверженная старым укладам, может ненароком подвести. Где-нибудь на ассамблее у вельможи возьмется срамить знатную иностранку, зачем оголила плечи и посыпала власы пудрой. Или кавалеров, галантно беседующих с дамами, разгонит кого куда… Разве видано или слыхано на Руси, чтоб мужчины знатных родов точили лясы с бабенками, да еще с мужними женами. Срамота!
Талызин скромненько объяснял:
— Жена у меня хворая, сырая; бывает, по неделям с печи не слезает. Я уж ее везти боюсь, как бы не преставилась дорогой.
К племяннику Никита Васильевич приглядывался недолго. Чутьем бывалого человека скоро распознал его, полюбил, привязался всей душой. И Елизар полюбил дядю. После диковатого, вечно обиженного на всех и на все отца, этот человек поразил его воображение. О чем ни заговоришь, все дядя знает и понимает, обо всем имеет свое суждение.
Как водится по пословице «сапожник без сапог», так и Никита Талызин не нашел времени достроить для себя хороший дом. Начал, возвел первый этаж и половину второго, а далее забросил, отложил до иных более свободных времен.
Так и стояли окна, зашитые досками, кровля наполовину покрыта, а с другого конца одни стропила.
По вечерам, намаявшись за день на морозе, оба, дядя и племянник, любили посидеть не в прохладной зальце, а в теплой, уютной поварне. Талызин рассматривал чертежи, то и дело что-то в них исправляя и делая пометки, читал пузатенькие книжки, то на немецком, то на английском и даже на гишпанском языках. Гишпанский язык изучил на всякий случай. Елизар тоже читал, учился, все больше интересовался морскими науками.
Надежды вернуться на флот было мало. Осторожный Кикин не разрешил Елизару даже работать на Адмиралтействе, где в то время строились разом три корабля. Баас — так на голландский манер прозывали главного смотрителя корабельного строения — сам ходил кланяться, очень хотел заполучить себе дельного, а, главное, любящего море молодого помощника. Ничего не вышло: Кикин не уступил. Не удалось Елизару устроиться и в Новую Голландию, где делали галеры. Лишь изредка ходил поглядеть, как осторожно выводят каналами ходкие, узкие суда, как изящно расправляют они паруса и, разведя в стороны десятки весел, разом берут ими воду, оттолкнутся и летят, будто скользят с горы.
Не больно весело обстояли и Елизаровы амурные дела. В первый же день после выхода из Адмиралтейской фортеции к недостроенным талызинским палатам подскакал в сопровождении солдата живописный, как картина, Аким Яблоков, нарочно вздыбил каракового жеребца, заставил поплясать на тонких, словно точеных, задних ногах. Затем бросил повод солдату, легко соскочил и, распахнув настежь дверь, ввалился в темные сени. Метнулась между кадками с солениями перепуганная кошка, из поварни выглянула завязанная платком голова стряпухи.
— Чего тебе? — крикнула стряпуха. — Чего ломишься, как оглашенный?
— А где Елизар? — спросил Аким. С недавних пор он усвоил себе манеру чуть гнусавить на иностранный лад, будто не привык изъясняться ио-русски.
— А я откель знаю! — рассердилась стряпуха и захлопнула дверь.
Аким постоял в темноте, подумал, потом кончиком хлыста постучал в дверь поварни.
— Эй, бабка, на те куверт. Скажи, приезжал господин корнет Яблоков замест вестника амура. В сим куверте сердешный жар и ку- пидонова стрела.
Стряпуха недоверчиво взяла конверт, покрутила в руках, даже понюхала. От бумаги сладко пахло цветами.
— Ладно, отдам… Какая такая стрела? Я вострого боюсь…
Аким, не разъясняя, махнул рукой и вышел. Чего с дурой толковать : все равно не поймет.
В розовом, надушенном конверте лежало приглашение капитан- командора Огаркова посетить его дом, где квартирует известная Елизару особа.
В положенный час Елизар в вычищенном мундире, расчесанный да припомаженный, сменив смазные ботфорты на чулки и башмаки с пряжками, чуть не на цыпках побежал на Невскую першпективу, где неподалеку от Адмиралтейства в дворовом флигеле разместился со своим семейством канитан-командор. Капитан встретил Елизара приветливо, облобызал, предложил выпить с ним водки, горячего грогу или на худой конец заморской романеи. Елизар деликатно отказался. Капитан хватил маленькую стопочку перцовки, крякнул, сказал:
— Ну, ладно, вьюнош. Дело твое молодое… Пойдем на ту половину, там тебя ждут не дождутся.
Свидание вышло умилительным и сердечным, хотя и не совсем таким, как представлялось Елизару. Воинственный капитан и его супруга, дама солидных размеров, одетая по-новомодному, но повязанная платком вместо накладных волос, оба сели в кресла с обеих сторон узкой горнички, образовав собой как бы непреодолимый барьер. По другую сторону четы Старковых тоже стояли стулья. Первой влетела в комнату Анелька, увидев Елизара, кинулась было к нему, йо жена Огаркова бесцеремонно ухватила ее за платье и удержала. Вслед за Анютой-Анелькой одна за другой впорхнули все три огар- ковских девы: сперва старшая, за ней средняя и младшенькая. Девы были хорошенькие, славные, хохотушки, но жестокий политес обязывал. Девицы принялись приседать, растопырив в стороны юбки, обмахивались веерами, нюхали принесенные с собой цветочки и томно закатывали глаза. Маленькая сидела набычившись, скучала.
Одна Анеля была естественна. Путая русские, польские и немецкие слова, рассказала о своем несчастном брате Михале, расплакалась, потом сказала, что в Польшу не вернется, никого там у нее нет, и выжидательно посмотрела на Елизара.
— Не возвращайся! — забывшись, крикнул Елизар, вскакивая со стульца и шагнув к ней. — Чего тебе твоя Польша! Годи немного… Вот распутаюсь со своими делами, сватов зашлю.
— Что это значит — сватов? — спросила Анелька, широко распахнув глаза. — Поцо [7] мне сваты?
У Елизара опять холодно стало под сердцем, до того яркие, изумрудные, глубокие были у нее глаза. А волосы — золотая кудель. И не пудренные, просто свитые в длинные, тугие косы. Эх, обнял бы,
да прижал к сердцу. Но костлявый Огарков впился, как клещ, дергал за локоть.
— Сядь, сядь, на то стулец дан. Ишь, каки прытки! Ты сначала домой отпиши, получи благословение батюшки да матушки. И Анютке надо из их веры в нашу переходить, тогда и свадьбу сыграем. Ох, молодежь, все-то вам объясняй да разъясняй…
… В тот день у Талызиных были затеяны пироги. Сам Никита Васильевич особо любил пироги с горохом: и сытно, и удобно… Возьмешь с собой на работу, сядешь в сторонке, да и перекусишь. И вкусно и чисто — никакой лишней сырости.
Вечером в талызинской поварне дядя и племянник сели в сторонке разобраться с кое-какими делами, да «Куранты» почитать.
Пока Никита Василич считал что-то, Елизар «Курантов» не раскрывал, глядел, как стряпуха сажает в печь противни. И что-то больно зорко глядел. Кухарь какой нашелся. Потом он вдруг встал и тихонько подошел к самой печи.
— Что я тебя хочу спросить, Пелагеюшка, — каким-то особенным голосом заговорил он. — Как это так? Вот ты при мне давеча горох в горшок засыпала… Сам я видел — маловато, полгоршка не было? Так откуда же его теперь чуть не до верху стало? . .
Стряпуха только плечами повела — чудаки эти мужчины.
— А конечно дело… Сыпать надо знаючи. Насыпала б по плечики, он бы от воды разбух и верхом бы пошел; да еще как бы горшок не разорвало.
Талызин скинул с носа очки. Он услышал, как Елизар не то поскользнулся, не то споткнулся и громко охнул.
— Елизарка, ты чего?
Инженер-генерал даже с табуретки привстал: племянник стоял — не пойми, не то с перепугу, не то от радости бледный. Зубы у него стучали.
— Дядя! — как в ознобе, но с торжеством заговорил он. — Я теперь все понял! Я морского беса, которого мне иезуиты в трюм подложили, поймал. Вот он… — И дрожащим перстом Елизар показал на горшок с горохом.
И тут инженер-генерал охнул в свою очередь:
— Ах ты… Надо же! Вот это да!!!
Все дивились: Никита Талызин ни с того ни с сего вздумал звать гостей. Кажись, и поводу нет: ни тебе праздника, ни тебе дня ангела. Сам лично ездил приглашать Питерсбурхского генерал-губер- натора, Меншикова Александра Даниловича. Часто виделись по делу, обо всем толковали запросто, а тут битый час пришлось проторчать в передней горнице, ждать. Александр Данилович милостиво обещался…
… В большой талызинской палате было жарко натоплено. Длинный стол ломился от всякой вкусноты, хотя особенных разносолов в Питерсбурхе достать пока что было неоткуда. Жили скудно, зимой бывало даже подголадывали. Ветчина, солонина, блюдо с огурцами, с капустой, жбан с морошкой да с клюквой, купленный по случаю у голландского шкипера паштет, хотя и с душком. Штофы, бутылки, фляжки разных фасонов. А в углу здоровенная бадья и в той бадье плавает в мутной воде бочонок — видно, новая какая заморская выдумка…
Гости угощались, ели, пили вволю, да нет-нет косились в тот угол. Что там припас чудак Талызин? Чем надумал удивить? Бжели брага али пиво какое особое? Оно неплохо, да не больно в диковину. Пивали всякое: и мозельское, и рейнское, и бургундское, а также из Англии джин, виски, густой эль. Саженный, под рост царю Петру, крупнолицый, ухоженный красавец Александр Данилович давно уже расстегнул мундир, снял пояс с портупеей, отстегнул часть пуговиц на камзоле, чтобы одежа не стесняла, размотал кружевной шейный платок. Сладко рыгнув, погладил щетинистые усики.
— Ну чего, господа енералы? Начнем песни петь, али в игры сразимся? Попили, поели, надо и передохнуть.
Случайно встретился глазами с Елизаром, сидевшим на нижнем конце стола.
— А ты что, паря, приуныл? Рожа постная. Нос повесил. Али плохо служить у Талызина? Может, обижает?
Мичман Овчина-Шубников вскочил, вытянулся.
— Никак нет, господин генерал! Всем премного доволен! А выражение у меня оттого, что пребываю в ожидании.
Голубые, навыкате глаза Меншикова раскрылись еще шире. Он с интересом поглядел на мичмана, перевел взгляд на хозяина, лукаво подмигнул.
— Ершист.. *
Вельможный взгляд выражал сытое благоволение и насмешку. Не таких, мол, чудаков видали. Талызин сплел пальцы на круглом животе, загадочно изрек.
— Ерш — рыба не простая. Невелик, а поди хвати… Он те пером поколет.
За столом дружно грохнули.
— Что, Никита Васильич, страдаешь? Не сладить с молодежью? Признавайся, Талызин, лаешься с помощником? Не больно он тебе покорствует?
Талызин тонко усмехнулся, поглядел на шутников.
— Это как сказать. Может, у других с молодшими бывают споры да разговоры, а у нас нет. Мы оба любители загадки разгадывать. Вот, к примеру, господа, угадайте, что в сием бочонке?
Он качнул подбородком в сторону бадьи.,
— Пиво! Квас! Водка! Ром! — кричали, развеселясь.
Талызин отрицательйо мотал головой.
— Да черт там у него… — лениво протянул Меншиков.
— Вот именно! — неожиданно подхватил Талызин. — Он самый.
Вокруг замолчали. Этак-то шутить — не прошутиться бы! За колдовство, якшание с нечистой силой, богохульство, святейший Синод, учрежденный для начальствования над попами, тянул к ответу. Могли наложить эпитимью, штраф и даже насильно постричь в монахи.
— А к примеру, какой он из себя? Рогатый, с коцытами, с хвостом?
Талызин в упор уставился на задавшего ехидный вопрос чиновника.
— Не угадал. Виду сей черт самого обыкновенного, а беду наделал большую. Корабль на дно морское уволок,
И словно в подтверждение сказанного, со стороны бочонка стрельнуло, будто из фузеи. Меншиков не выдержал, вскочил, побежал к бадье. Один из обручей на крепком морском бочонке лопнул, распался. И другой скрипел от натуги.
— Чем ты его набил? Смех смехом, а знаешь…
Подбежавший Елизар щелкнул каблуками, вытянулся, как на
смотру. Левое веко у него от волнения дрожало, даже заикаться начал, хоть и был не из робких.
— Дозвольте доложить! Начинен сей бочонок вещью безобидной, даже пользительной, а что сия пользительная вещь в чертовскую силу превращаться может, сами скоро убедитесь. Воистину от сей силы сгиб корабль «Диамант».
Лицо Меншикова напряглось, стало злым. Он хотел было наклониться, рассмотреть поближе, и тут снова стрельнуло, лопнул второй обруч, и пошло рвать! Расселись клепки, вылетело днище. Петербургский генерал-губернатор упер руки в бока, выпучив глаза, приоткрыв рот, удивленно наблюдал. Потом глянул на Талызина, на Елизара и вдруг раскатился хохотом! Да — каким! Давно уж и слезы текли по щекам, и побагровел, а все не мог остановиться, насилу под ручки отвели к столу, уладили, дали для успокоения выпить кваску.
— Ох, ох! — стонал Меншиков, утирая глаза. — Ой, не могу, кончусь! Горох… горохом расперло! Вся Адмиралтейц-коллегия думает, гадает, а оно вот что… Мокрый горох набух! Беспременно сейчас же Петру Алексеичу отпишу, пущай государь тоже повеселится! Хотя хохотать-то… — Он посерьезнел, строго оглядел присутствующих. — Хохотать-то нам стыдно, совеститься надо. Моряки, а грузить корабли еще не умеем. Свойств простой клади не знаем. Оказывается, и тут свой секрет есть.
Пальцем поманил Елизара.
— А ну, подь сюда, расскажи толком. Как выведал секрет?
Елизар все еще был бледен, потный лоб блестел.
— Никакого секрета ни от кого не выведывал: в поварне подглядел, у стряпухи. Ну и сообразил: «Диамант» — то в переднем трюме тоже…
Меншиков снова раскатился, замахал руками,
— Ой, умора! У стряпухи подглядел! Глазаст! Умом востер, ох востер! Недаром на тебя хвалебную реляцию прислали, первый, мол, изловчился со своей ротой на стены залезть, и с той стороны, откель шведы и не чаяли. Своевременно учинил переполох. Шведы к нему, а наши с другой стены пошли на штурм. Молодец! За такое награды достоин, паче всего за остроту ума и догадливость. Ну, чего, к примеру, хотел?
— Мне бы во флот вернуться! Мечтаю дослужиться кораблем командовать! — Елизар выдохнул это одним духом.
Меншиков покрутил кончик уса«
— Ишь чего захотел. А каким кораблем? Знаешь ли, какой ко- рабль-то тебе нужен?
— Знаю! Пусть не велик будет, да хорошо строен. Когда корабль на прытком ходу своем трясет задом, то значит пропорция в его строении есть добрая. Это не я, это капитан Конон Зотов сказал, мой учитель, «Диамант» корму тяжкую имел, на ходу его заносило. И руля плохо слушался.
Меншиков что-то обдумывал, потом с расстановкой сказал:
— Когда б от меня одного зависело, все б^лло б в ладе. Я?то до- бер. А вот государь… на него как найдет. Вот кабы ты тот крепостной штандарт не утопил да ключи от крепостных ворот, тогда дело другое. В воинском деле, брат, честь — дело наипервейшее. Сперва польза государственная, а следом за ней честь, без этого нельзя.
Он налил в ковш квасу, студеного, с ледышками, выпил, налил еще, обмакнул в холодный квас кончики пальцев, потер лоб и виски. Затем сел к столу, стал пристально разглядывать игру перстней на холеных пальцах.
— Эх, Елизарка, Елизарка, — сказал Меншиков раздумчиво и уже трезвым голосом. — Нету у тебя этого самого… как говорят, бо- нера, иначе фортюны… счастья с удачей. Генерал, мой куманек, — Меншиков всех вельмож на виду охотно зачислял себе в кумовья, в приятели, даже в свойственники. — Генерал, говорю, неспроста велел тебе плыть к царю с регалиями. Знаешь поговорку: «Для хорошего гонца чарочка винца, а за плохую весть головы не снесть». Ну, хорошо, ты опять доказал остроту ума, доказал, как и что, почему флейт потоп. Но сие все-таки не есть фортуна, удача твоя так и лежит на дне моря. Послушай мой совет — оставайся служить у дяди. Он тебя и подвинет, он тебя и не обойдет.
— Нет, я свое счастье снова добуду, откель хочешь добуду, — горячо сказал Елизар.
Меншиков протяжно вздохнул.
— Ну как ты его добудешь? Поскачешь в Германию, другие ключи искать?
— Не, он добудет, — поддержал племянника Талызин. — У него дельные прожекты в голове. Он парень хват.
Меншиков досадливо похлопал себя по затылку.
— Ох уж мне эти прожекты, вон где сидят. Каждый день толкутся, кто с делом, а кто и так. Ладно, порешим вот на чем. Нынче с утра ко мне не заявляйтесь, дайте проспаться с похмелья. А вечером приходите ненадолго, вместе прикинем, как тебя перед государем императором обелить совсем, чтоб ты снова в фавор вошел. Ну помни, Никита Васильич, сухая ложка рот дерет! Ты это поимей в виду.
Глава 20 О ЧЕМ БЕСЕДУЮТ ИЕЗУИТЫ
Когда был взят русскими Кронборг Бонифатию Лех-Кружаль- скому удалось выбраться из крепости вместе с крестьянским обозом, взятым для вывозки трупов и для других военных повинностей. Часовые у подъемного моста осветили его фонарем, чуть не подпалив брови, но не узнали, хотя обергевалдигер распорядился на всех постах иметь точное описание внешности опасного лазутчика. Бонифатий раздобыл крестьянскую одежду из домотканины, худую шапчонку. Он оброс седой щетиной, нарочно горбился.
— Проезжай, не задерживайся на мосту! — сердито крикнул солдат. — С души воротит глядеть, как таскают мертвяков…
Добравшись до ближайшей деревни, Бонифатий снова сменил платье, купил лошаденку повыносливее, доехал до города. В городе преобразился в обывателя средней руки, выправил себе бумаги на чужое имя. Так, прибегая ко множеству ухищрений, добрался до Польши, укрылся в францисканском монастыре.
В монастыре и разыскал его граф Штерн фон Штернфельд, возвращавшийся в Вену, и взял с собой.
Дорожная карета въехала в австрийскую столицу рано утром, как только открылись заставы, а днем графа пригласил к себе всесильный министр цезарского двора.
Министр был само внимание и предупредительность. Он встретил гостя на пороге своего обширного, как бальный зал, кабинета, провел к столу, усадил в кресло, сам сел напротив.
— Ваши донесения, дорогой граф, доходили регулярно. Вы обогатили нас множеством важных сведений об этом варварском народе — московитах и их непонятном царе.
Морщины вокруг глаз министра собрались в кружки. На мгновение он стал похож на древнего, мудрого ящера. Ящер размышлял вслух.
— Мы знаем многое о России и неустанно пополняем наши сведения. Это необходимо. К сожалению, Россия прочно вошла в ранг мировых держав, и с ней придется считаться. Таково и ваше мнение, брат?
Оба, и приезжий, и всесильный министр, принадлежали к тайному ордену иезуитов, оба были орденские братья.
Граф устало откинулся в кресле.
— Да, они стали великой державой, это приходится признать. Мне было там нелегко.
Министр улыбнулся одними губами.
— Вы действовали умно и осторожно, и тайный совет ордена весьма одобрил вашу деятельность. Конечно, вступить в тесные отношения и расположить важнейших русских военачальников в нашу пользу значительными денежными подарками имело бы смысл при иных обстоятельствах. Вы правильно рассудили. Подкупать русских… не всегда легко. А когда они побеждают, это — просто опасно. Самый жадный до денег, господин фон Меншиков, тотчас приказал бы вас арестовать при первом же намеке. Да, если говорить откровенно, каждый поступил бы так же, русский царь наградит его более щедро; мы не располагаем подобными суммами. А голова на плечах у каждого одна…
Граф наклонился вперед.
— Но что произошло со Штейнбоком? Почему он так стремительно капитулировал? Это спутало все мои карты.
Министр долго играл перламутровым разрезальным ножом, затем отшвырнул его.
— Старый Штейнбок, — сказал он со вздохом, — неплохой и опытный генерал и уж безусловно честный человек. Он не раз одерживал крупные победы над датчанами и над немецкими князьями, пытавшимися примкнуть к политике русского Петра. Но Штейнбок дезориентирован. Он давно не имел никаких указаний из Стокгольма, вернее, получал противоречивые, сбивчивые инструкции. Вам известно: в шведском сенате борются различные партии, партии войны и партии мира. Казна Штейнбока пуста, и он не мог привлечь ни одного нового рекрута в свое войско. Да и те офицеры и солдаты, которые уже были под знаменами, стали ненадежными, не получая жалования.
Граф пожал плечами.
— Но ведь Швеция все еще сильна. Шведские армии разрознены, но они вполне способны противостоять русским. Где же генерал Крассов со своим стотысячным войском?
Министр снова взял разрезальный нож.
— У Крассова не сто тысяч. Но это неважно. Вдвоем со Штейн- боком они располагали достаточными силами, чтобы утопить в море армию Меншикова и выстегать датчан, как напроказивших школьников. Крассов получал все депеши Штейнбока, и те гонцы, которых послал наш орден, тоже достигли его ставки. И тем не менее Крассов счел за благо сначала отступить к Рейну, а затем в Польшу. Он был заинтересован в разгроме Штейнбока, и Штейнбок об этом догадывался…
Граф издал неопределенный звук, похожий на сдавленный смех или кашель. Министр изящным жестом оправил свои кружевные манжеты.
— Я жажду узнать ваши личные впечатления о московитах. Почему они выигрывают почти все сражения? Что, русские жестоки и внушают страх, как турки?
— Нет, экселенц, — возразил граф, — я бы сказал, что они, напротив, по природе своей добродушны и даже жалостливы. Но в бою яростны и неутомимы. Это истинные дикари. Их нравы просты и полностью лишены утонченности. Я убежден, что› самый организм русских чем-то отличается от организма европейцев. К примеру, все московиты, от крестьян до знатнейших бояр, каждую неделю моются в горячей бане и, представьте, испытывают от этого живейшее удовольствие. Напрасно иностранные медикусы предупреждают их, сколь вредно смывать с себя живительные соки природы. Их не переубедишь.
— Ну, а царь? Вы виделись с царем?
— Нет. Эта хитрая бестия Меншиков не допустил свидания. Мы вместе вернулись на побережье к устью Эйдера, и там этот ловкий царедворец начал уверять меня, что не имеет известий, где сейчас находится царь, то ли в Питерсбурхе, то ли в Москве, то ли еще где-нибудь. Ведь его вечно носит по свету. И хотя я точно знал, что царь Петр с войском в Финляндии штурмует шведские крепости, мне уже невозможно было настаивать.
— А как вы думаете, брат мой, — вкрадчиво спросил министр, — почему русская армия не знает столь обычного у нас дезертирства? Что это — рабская привычка к повиновению или религиозный экстаз, как, например, у турецких янычар?
Граф подумал, прежде чем ответить.
— Это действительно загадка, — сказал он задумчиво. — Если вникнуть, то самые принципы набора солдат и офицеров в российскую армию глубоко ошибочны. Они в полном разладе с подлинной военной наукой. Во всей Европе торгуют офицерскими патентами. Знатный юноша из благородной семьи, смотря по достаткам родителей, может купить себе чин поручика, ротмистра, майора и даже полковника. Только у царя Петра молодой человек, даже если он рожден князем, обязан сначала пройти службу солдата, обучиться премудростям военного ремесла и тогда ему могут дать офицерскую шпагу. Русских офицеров заставляют непрестанно учиться; они знают фортификацию, артиллерию и многое другое. Я наблюдал, как учат солдат. Они сдваивают шеренги не в шестнадцать приемов, а только в два, жертвуя всей красивостью воинского строя. Старые солдаты заряжают ружья тоже в два приема, и лишь молодым показывают все двенадцать необходимых стадий. Солдат в России не нанимают, а берут по набору.
Министр согнул гибкое лезвие пополам.
— Да… чем больше узнаешь, тем больше удивляешься этому диковинному народу. Граф, — сказал он, вдруг меняя тон, — придется вам ехать в Турцию.
Оба помолчали. Граф выжидательно смотрел на министра. Министр качнул париком.
— В Турции, — продолжал он, — как вы знаете, все еще пребывает шведский король Карл Двенадцатый. После полтавского поражения он так и не вернулся на родину. Все добивается военного союза с могущественной Турцией и хочет привести с собой не менее чем стотысячное войско янычар. Карл плохой дипломат, но на поле боя это лев. Да, да, не удивляйтесь. Полтавское поражение — случайность. Ведь Карл помогал туркам своими советами во время неудачного для Петра Прутского похода. Фактически он тогда командовал турками. Надо немедленно вернуть Карла на родину; только он сможет объединить все еще могучее шведское войско и перейти от обороны к наступлению. И строптивый шведский сенат при нем завизжит, как свора собак под ударами арапника.
— Когда надо ехать? — устало спросил граф.
— Сегодня, — ответил министр, вставая. — Французский посланник при турецком дворе ваш союзник в этом деле. Дорогой граф, — министр возвел глаза к потолку, — интересы австрийской империи и интересы ордена воинов Иисуса не всегда совпадают. Политика Австрии еще не совсем определилась. Быть может, его цезарскому величеству приятно иметь могучую союзницу Россию, граничащую с Турцией и ей враждебную. Но ордену Иисуса такая союзница не подходит. Царь Петр равнодушен к вопросам веры. Однако он не симпатизирует католицизму. Церковь в России подчинена государству. Вера в бога умирает, если в религии перестают искать утешения от бедствий. Пусть турки грозят Венгрии и всей Европе, наш орден от этого укрепится!
Глава 21 СЕВЕРНЫЙ ЛЕВ
Карл, слегка припадая на раненую ногу, шагал от стола к стене и от стены снова к столу. Он шагал так уже более часа. Это не был утренний моцион — северному льву было тесно в его клетке, он жаждал простора. И он хотел, чтобы скорей приехал французский посланник.
Когда-то один придворный льстец сказал:
— Столица государства там, где король!
Если поверить этому, столица Швеции теперь рыщет по всей Турции.
Ничего, ничего… Он, Карл XII, из тех людей, которые умеют и дважды, и трижды оседлывать заново свою судьбу! Это еще не конец славного царствованья! Это — только этап, один из этапов…
Четырнадцать лет назад, почти мальчиком, Карл Пфальцский начал войну с дикой Московией, вопреки воле этих жирных гусаков, этих трусов — министров, сенаторов, купчишек… Ох, как они все боялись войны, как они дрожали за свое благополучие, за свои доходы! Как хотелось им добиться того же — да, того же! — но ничем не рискуя, добиться скаредностью, подкупами, интригами, шведским тупым терпеньем! Где им было понять, что королям нужна воинская слава, лавры победителя, гром боевых труб в день пятой, седьмой, сотой победы… То, что для них мишура, для венценосца смысл и цель жизни!
Начало было блестящим. Закаленные гренадеры Швеции не раз одерживали верх над новыми мужицкими полками этого варвара Петра. Под Нарвой русским был учинен полный разгром. Армия московитов разбежалась, только гвардейские полки умудрились уцелеть и отойти в полном боевом порядке. А! Теперь-то господа сенаторы раболепно рукоплескали, приветствуя юного героя; теперь все было дано ему: дополнительные наборы рекрут, деньги на военные нужды, пушки, мушкеты — все… Так что же случилось?
Да, Петр был побежден, отступил… Но вот он укрепляет Новгород, готовясь к новым вторжениям… Вот русские отбирают у шведов — у него, Карла! — всю новгородскую вотчину свою… Они выходят к устью реки Невы, к берегу Финского залива…
Русские овладели крепостью Нотебург. Теперь это их Шлиссельбург, Ключ-Город. Поистине ключ, надежно заперший выход из Ладоги в Неву, к морю! Они взяли городок Ниеншанц, в среднем течении реки, там, где в нее впадает болотистая Охта. Городишко ничтожен, но через него велась обширная торговля… А главное — чуть пониже, в самом устье, у залива, Петр заложил новую крепость и город, названный его именем — Питерсбурх… И даже осмелился перенести туда свою столицу…
Карл шагал и шагал по полутемной, прохладной турецкой горнице, от стены к столу, от стола — к стене. Ныли контуженный бок и раненая нога. Он не морщился — полководец должен скрывать телесные страдания; никто не смеет о них догадываться… Но куда более жгучими, чем нудная боль, были эти воспоминания…
… Он скоро понял: болотистый, лесистый, скалистый север не место для его стратегии. Ему нужен маневр — широкий, молниеносный, поражающий… Он перенес войну на юг, решив вонзить шпагу в беззащитное брюхо русского медведя…
Петр слепо доверился своему любимцу, украинскому гетману Мазепе. Он возложил на него оборону России с юга.
Карл подкупил коварного и тщеславного старика обещанием украинского трона. Мазепа должен был привести ему казачье неодолимое войско.
… Нет, было обдумано все. План был великолепен, и сейчас он скажет это же. В плане не было ошибок. Все дело в неудаче — а они постигают и самых славных полководцев…
Карл скрипнул зубами. Полтава! Вот что болит, вот что жжет и терзает, что вопиет об отмщении… Полтаву шведский король не сможет забыть никогда!
… На просторном поле сошлись два войска, два народа. Во главе каждого — державный вождь. Шведы дрались — как шведы. Но — чертово невезение, насмешка судьбы! Блистательнейший военачальник, гроза венценосцев, он был глупо ранен накануне решающего боя. Шесть драбантов носили его, полулежачего, в качалке… Качалка опрокинулась, когда русская конница (казаки этого усатого старика Мазепы, где вы?) врубилась в шведские тылы… Кто подхватил короля, кто его вынес с поля боя, кто усадил на коня, — Карл не помнит. Он помнит только бешеную скачку… Вечер. Потом ночь… Острую боль от раны… Мазепа со своими сердюками — это все, что он смог привести с собой! — бежал еще раньше… Проклятый день, проклятая память!
… Где-то за стеной раздался стук подъезжающего экипажа. Карл замер и прислушался.
Карета? В этом захолустье карета есть только у французского посланника. Значит — это он.
Карл желчно усмехнулся. Будущим историкам найдется, над чем поразмыслить. Истинное величие проявляется не только на вершинах славы, но и в трясине неудач! Никто не рискнет сказать, что у него не хватало энергии, мужества, остроты ума, достоинства. Вести большую дипломатическую игру будучи в плену — этого не смог бы и Александр Македонский. Не поднялся до этого и Ганнибал! А он, перейдя границу с несколькими сотнями солдат, он отсюда шлет приказы своим войскам в Польше, в Финляндии, повелевает сенату в Стокгольме… Он смещает и ставит турецких министров… Не он ли — тайно, в величайшем секрете — добился низложения самого султана…
Да, но преемник низложенного падишаха теперь указывает ему на дверь как нашкодившему мальчишке, изгоняет его из страны… У него отняли кормовые деньги! Его лишили слуг, продовольствуют как нищего… Эта отвратительная лачуга, эти наглые слуги…
И все же он — король. И вот — посол Франции прибыл к нему на аудиенцию… Ну, хорошо, посмотрим…
В дверь осторожно поскреблись. Там — генерал Шпар, один из двух, оставшихся у него после Полтавы. «Войдите!»
Высокий, до безобразного худой, Шпар почтительно склонился: «Ваше величество…»
— Кто?
— Французский посланник… И с ним известный вашему величеству граф… Ожидают в приемной!
Карл задергал подбородком. Приемная! Грязные темные сени!
— Зовите их.
Генерал отступил. На его место выпорхнул из двери нарядный, изящный, благоуханный немолодой француз. За ним виделась другая фигура — в черном.
Король шагнул в сторону, взял лежавшую на краю стола шпагу, вдел в портупею, привычным жестом возложил на лысеющую голову маленькую шляпу… И шляпа и шпага были потертые, старые. Ножны побурели, золотой галун на полях шляпы высекся и почернел… Вошедшие продолжали почтительно стоять у двери.
Опускаясь в кресло, Карл сказал сухо:
— Рад видеть вас, маркиз. И вас, граф! Шпар!.. Принесите табуретки и покиньте нас. Нам предстоит долгая беседа…
…Генерал Шпар покорно прикрыл дверь. «Принесите табуретки, генерал!» Бог мой! Думал ли он когда-нибудь услышать что-нибудь подобное?!.
В сенях стоял небольшой столик дежурного, еще одна — последняя — табуретка. Генерал сел — удалиться он не мог: его величеству может понадобиться царедворец! Он сделал сердитый жест: JIapc Йерн, седой и хмурый ветеран на правах ординарца заворчал и недовольно похромал во двор, к карете.
Генерал опустил "голову на руки и тяжко задумался. «О, блистательная судьба воина! О, жаркие лобзания славы…»
За дверью — она была далеко не дворцовой — слышались голоса, то яснее, то глуше. Журчащая скороговорка этого разряженного француза текла медовым ручьем. Но, наверно, в ней был не только мед: от времени до времени резкий тенор короля сердито прерывал сладостное воркованье.
Что-то раздражало его величество, чем-то он был недоволен… Вспыльчивость повелителей из Пфальцского дома всем известна. В гневе Карл вскрикивал, как чайка над берегом, кидающаяся вырвать добычу у другой птицы, — резко и зло. Тогда Шпар поднимал седую голову и прислушивался.
— Грязные псы! Я покажу этим негодяям!
— Ваше величество! Я умоляю вас: выслушайте известия, привезенные нашим дорогим графом… у него — недобрые новости. Вам предстоит принять важные решения. Ваш сенат… он обсуждает возможность мира с Россией. Ваша августейшая сестра…
— Я сошлю эту проклятую дуру! Это — ее интриги!
И послышался третий голос — тоже вкрадчивый, но такой, как гибкий ременный хлыст, внутрь которого заплетена стальная пружина — холодный и спокойный… Голос этого… графа… Этого — монаха, кто их разберет?
— Увы, дела не в интригах, сир! Скажем так — не только в интригах. Печально, что Петр снова открыл военные действия. Он уже в Финляндии — вашем коронном владении. Он берет одну за другой тамошние ваши твердыни. Он движет армии и в Германию, намереваясь окончательно разорить Померанию…
Грохнуло, точно гренадер бросил гранату. Шпар мотнул головой, но не удивился: да, да! Он опять в ярости хлестнул тростью по черному дереву стола. И опять, конечно, ушиб руку…
— Я должен быть там! — фальцетом, уже ни с чем не считаясь, закричал король. — Ия буду там! Но — деньги, деньги! Мне нужны деньги, а эти скряги…
— Ваше величество! — торопливо до бесцеремонности перебил
— его француз. — Умоляю вас!.. Два мешка дукатов со мной. Они там, в карете! Вы сможете путешествовать как подобает монарху! Генералы Шпар и Лангерскрон будут сопровождать вас… Венгрия, Германия… Нет, нет, в Польше вам нет смысла появляться. Графу — он выедет раньше — доверьте важнейшие депеши… Умоляю вас, ваше величество, — располагайте мною…
Несколько секунд из-за двери еще доносились быстрые яростные шаги. Потом все стихло: он остановился.
— Благодарю вас, господа! — расслышал Шпар, уже поднимаясь, чтобы оказаться вовремя у распахнутой толчком двери. — Благодарю! К вечеру нужные бумаги будут готовы. Я не задержусь и сам. Моя страна и мои шведы скоро увидят меня там… В Стокгольме!
Глава 22 УТОПЛЕННАЯ КОЛОКОЛЬНЯ
Все русские деревни по реке Неве и у Невской губы залива прозывались по-старинному, еще по-новгородски: Спасовщина, где прославленная церковь Спаса; Власовщина, в честь какого-то Власа, первого поставившего здесь свою избенку; Козловщина, кто говорил — в память не в меру бодливого козла, прославившегося своей прытью на всю округу, а кто — по церкви козелыцанской чудотворной богоматери.
Деревня Фроловщина на берегу Финского залива называлась еще и деревней Враловщиной, будто бы потому, что шведские амтманы, то есть чиновники, никак не могли справиться с варварским языком русовитов. Шведов из этих мест прогнали, а прозвище так и прилепилось. Из-за старосты. Сколь ни хитер был амтман, а староста той деревни умел ему так врать, что всегда амтмана оставлял в дураках. И шведов прогнали, и староста другой был, а прозвание осталось, потому что и новый староста был под стать старому.
Старостой теперь здесь был Ивашка Мохнатый, мужичок хитрющий, изворотливого ума, придумщик. Другого такого не скоро сыщешь. Мохнатым его прозвали за необыкновенную ширь бороды, свисавшей на грудь будто волосяной фартук. Завеса пегих волос закрывала и лоб до самых глаз, и уши, и шею и только, если взглянуть сверху, на начинавшуюся плешь, видно было, что под волосами и бородой живой человек.
Злые ветры нынешней зимой вовсе замели деревню снегом, взгромоздили сугробы чуть не до крыш. Мужички не горевали: так и теплее, и реже забредет в деревню какой посторонний, не тутошний. Не тутошних не любили, побаивались. Побирушки — их всегда хватало — не в счет, а вот кто по государевой службе, те — сущая напасть. То гонят мужиков возить клади, то требуют подати на войну, а то еще что-нибудь. Вот и тут проявлялись таланты Ивашки Мохнатого. Умел прикидываться эдаким зайчишкой пуганым, простачком, а сам незаметно наплетет, нахитрит, наврет с три короба. Упоит казенного человека домашней брагой, так что с неделю в мозгах одна муть, сунет ему малую толику и сплавит с миром.
В эту памятную ночь в самую предрассветную пору, когда в избах только храп с печи и даже махонькие ребята в зыбках, накричавшись до изнеможения, сладко спят, не чуя, как их жрут всякие домашние насекомые, вдруг разом по всей деревне взлаяли собаки. Староста с перепугу долго не мог попасть непослушными ступнями в валенки, едва успел накинуть прямо на исподнее шубейку. Даже ошибся, хватил не свою, а жёнкину, не достававшую и до колен. А в дверь уже бухали кулачищем, под окнами ржали кони, сани, раскатясь на повороте, стукнули о мерзлый тын, повалили часть кольев.
— Милостивцы, кормильцы… — привычно бормотал Ивашка, отодвигая дверной брус. Сам мысленно прикидывал: «Вот напасть! Никак цельный обоз леший пригнал?»
Дверь рванули. Вместе с клубами пара в избу ввалился рослый дядя в кожухе, но в форменной солдатской шапке треуголке, обшитой потертым галуном. С трудом шевеля застывшими губами, над которыми грозно торчали в стороны огромные усищи — каждый ус с большую морковь — гаркнул:
— А ну, кто здесь голова? Шевелись быстро. Господина ахфи- цера устрой, коням сена, солдат по квартирам…
Ивашка понял: на этот раз прижмут. У царя Петра вот эдакие- то усачи с сизыми от бритья мордами самые что ни есть зловредные.
Управились со всем не больно скоро. Во всей деревне таких дворов, чтоб годились для гостей, хоть и солдатского звания, раз, два и обчелся. В иные дворы Ивашка и не сворачивал, столь бедно жили. Офицера пришлось поместить у себя, в новую, летом только срубленную горницу. Староста недавно женил сына, полагал здесь поселить молодых. Для такого спешного случая сноху согнали к бабке, пущай пока вместе. Сына же дома не было, еще с осени взяли с конем в Питер, по казенной надобе.
Разместив последнего из прибывших, Ивашка медленно побрел восвояси. Уж и рассвело. На деревенской улице уютно пахло дымком и свежепеченным хлебом.
— Вот теперь бабам работенка… Новую ораву накорми, а жрать- то поди горазды. Опять же ахфицер… Какая ему еда? Может особая?
Староста вдруг остановился, разинул рот. В голове шевельнулось давнее, полузабытое… Будто он его где-то уже видал? Обличье и голос… Ну, ей-ей, знакомые.
Запустив пятерню под бороду, поскреб кадык, стал вспоминать. Может, подати приезжал выколачивать? Не… Податной был низенький, пузатый, все лез драться. А этот, похоже, смирен. Когда отводил его на квартиру, молча шагал сзади, только снег скрип-скрип… Лишь один раз задержался. А чего задержался? Лодку увидел. Тоже нашел диво — лодок-то в кажном дворе… Живем при море, рыбой и промышляем. Лодки-то тьфу: на ребра толстые сучья с развилками, на обшивку доски… Засмоли — и рыбачь! Лодка… Ивашка вдруг все вспомнил, даже поперхнулся морозным воздухом.
Так это ж тот, с потопшего корабля! Ух ты! Ну и ночка тогда была! Ветрище, дождь так и секет, волны на берег лезут, чуть не к крайним избам подбираются. А на море-то вдруг бух да бух! Пушка! Еще какой-то сигнальный огонь зажгли, при нем паруса так и засверкали. Ну, мужички и сообразили: беда, надоть плыть, выручать. А может, и поживиться чем. Только ничего этого не пришлось. Пока собирались, корабль задрал кверху золоченую корму, повалился набок, лег парусами на волны. Потом корабельные-то рассказывали, будто его всего нечистой силой изнутри расперло, оттого он сразу и лопнул.
Ну, конечно, поплыли спасать, а те уже сами по Шлюпкам казенным расселись. Ефтого ахфицера в Старостиной избе еще ухой кормили, а он есть-то ел, да давился, и слезы по щекам так и бегут. Видать, еще молодой, необвычный, а может пужливый…
Вспомнить-то вспомнил, а на душе не легче. Раз опять возвернулись, верно, не к добру. У начальства свои дела, кто их там поймет? А мужику одно: корми да корми этих в треуголках, с ясными пуговицами на брюхах. Надо бы разведать, долго ли здесь проторчат?
…Гости вели себя непонятно. С утра уходили в залив, на лед; что-то мерили, примечали, ставили вешки. Даже один раз прорубь били и под воду веревку опускали. Затем подрядили мужиков в лес — валить деревья, окоривать — бревна им подавай.
Староста в субботу после баньки зазвал к себе двух усачей из начальства помладше, именуемых сержантами, выставил жбан крепкой браги. И закуску: капустки, рыжиков соленых, строганину, рыбки вяленой. Думал — откажутся, побрезгуют деревенским угощением. Не побрезговали. Все выдули, все сожрали.
Оба сержанта разомлели, расчувствовались, стали песни петь. Все больше жалостливые. И Ивашка, сам того не собираясь, размяк. За годы привык изворачиваться. При шведах, то и дело норовивших ободрать до нательного креста, да и при своих… Хотя со своими и полегче, а тоже знай не зевай, чуть что — загоняют! Теперь же не только умом понял, всем нутром ощутил, ох, не легка она солдатская служба. Жестковаты, видно, царские сухари. Сержант, он, конечно, начальство, а ковырнешь — тот же мужик. Стало легче вести беседу. Заговорили попросту, по-свойски. Зачем приехали, для какой надобности, солдаты не больно знали. Про себя объяснили: мы де талызинские, под командой господина инженер-генерала Талызина, определены на строение крепостных батарей и чего придется по надобности в городе Санхт-Питерсбурхе.
Ночью, ворочаясь с боку на бок, Ивашка соображал. Значит, и тут будут строить. Ох, бяда, бяда! Строют, строют — а все мужику на голову!
…И верно: стали строить! Да где?! На льду! Ну, слыханное ли дело — на море избы рубить?!
Каждое утро,.выходя из дому, староста первым делом смотрел на залив. С берега черным шнурком убегала вдаль накатанная дорога. По ней возили бревна. В белой мути — в заливе вечно мел*а поземка — день за днем, час за часом росли бревенчатые стены. Изредка ветерок доносил тюканье топоров, ровно дятлы долбили.
Староста опасливо крестил живот. Вот ведь как иной раз обманешься в людях. Ахфицерик-то сначала казался тихий, аккуратный вьюнош. Теперь как приглядишься — аспид! Загонял работой, все торопит да торопит, лается. Иной раз в сердцах и огреет чем попало.
Ивашка приноравливается начальству на глаза не попадать. Ежели что надо, гоняет старостиху али кого из молодок побойчее. Так- то спокойнее.
… Кажись, стало ясно. Строят не избу, не крепость, а церкву. Высоченный сруб, вердо под колокольню, оплетенный кругом под- мостьями, сильно подпертый, да еще схваченный корабельными канатами, с каждым днем все рос и рос. Про церкву догадался не сам Ивашка, а батюшка, отец Савватей. Объезжал приход, заехал узнать, нет ли по ком поминок али близких крестин? Ивашка спорить не стал: церква так церква; кому лучше знать, как не попу? Сам же староста полагал, что сия каланча мирская, скорей к крепостному строению. О том же и солдаты проговорились, когда вместе брагу пили. Поп был упрям, противных речей слушать не хотел.
— Ясно, что церква. Про царя брешут, будто…
Спохватился, закрыл рот ладонью, стал озираться. За поносные слова на царя людишек сажают в караул, а опосля бьют батожьем. Но битие есть убеждение, а доказание царской благостности подтвердят лишь дела богоугодные. Богоугодно же — святить воду. Для того и воздвигают новоманерный храм.
Будто в подтверждение поповских слов, на заливе затренькал колокол. Издали казалось — блеет овца. Поп торжествующе посмотрел на старосту, приосанился.
— Ась, чадо из колена Фомы неверного, чего скажешь? Нешто то не колокольный звон?
Вернулись в избу, оделись потеплее, затем побрели к заливу. Шли не дорогой, а обочь, по тропке. Ветер с ехидством налетал, кружил, больно кусал щеки, лоб, даже пальцы сквозь рукавицы. Мело колючим снегом, иной раз снежной пеленой все перед глазами застилало. Середину сруба словно смазывало, виднелась только вершина, упертая в небо, схваченная паутиной растяжек да подпорных бревен. Но старосте казалось, что и она качается.
Колокол прозвонил еще несколько раз. Чем ближе, тем звон казался печальнее, тревожнее, словно остерегал от беды. Отец Савватей собрал кожу на лбу в складки, соображая, с чего бы это — звон?
Вдруг навстречу по дороге вскачь пронеслись три либо четыре подводы, за ними бежали люди, плотники из мужиков и солдаты, что-то кричали, махали руками, показывали, чтобы не шли дальше. Поп со старостой остановились, не поняли. Да и понять было трудно.
То, что произошло затем, могло быть воистину лишь бесовским происком. Впереди, там где стояла башня, треснуло, крякнуло, ухнуло, лед под ногами заходил ходуном. И, ох! — этого было уже почти не перенесть! Староста Ивашка Мохнатый глядел и не верил глазам. Вся высокая башня вдруг покачнулась в одну, в другую сторону и так, качаясь, стала медленно уходить вниз, в глубину, в море!.. Ветер словно нарочно отвернул снежную поземку, чтоб было видно. Башня уходила все ниже и ниже, вздымая клубы и струи серой студеной воды. Вода разливалась озером, а посреди озера на высоком помосте стоял офицерик и что-то сердито кричал в медную трубу. И по этому злому крику расставленные в разных концах солдаты, отматывая канаты, медленно крутили громадные вороты из цельных бревен, на бревенчатых же подпорках.
Холодная вода добежала до Старостиных ног, промочила подошвы валенок. А тем временем вершина башни как раз ушла под лед. И тогда офицер выхватил из-за пояса пистоль и ни с того ни с сего пальнул в небо! А солдаты у воротов стали кидать вверх треухи и орать, будто с великой радости. Бесстыжие глотки!
Чего тут еще было глядеть! Староста схватил попа за руку, дернул назад что есть силы. Поп как неживой переступал за ним, бормотал:
— Свят, свят, свят… изыди! Отойди, наваждение!
Глава 23 ВИЗИТ В НЕПТУНОВО ЦАРСТВО
По питерсбурхской дороге задорно тренькали, разливались бубенцы. Кто-то ехал, видать важный.
Староста Ивашка Мохнатый быстро влез в тулуп, надвинул шапчонку. Уже на ходу прихватил в сенях деревянное блюдо, покрытое рушником, с караваем хлеба и солонкой. Каравай малость подзачер- ствел, соль намокла, а рушник кое-где был захватан руками. Еще бы, каждый день повадились ездить. А всех, всякое начальство, хоть и не великих чинов, встречай хлебом-солью по обычаю. Правда, Ивашка был не в накладе, приезжие отдаривались, клали на блюдо кто двугривенный, кто несколько медяков, а один, видать генерал, бросил даже полтину. Из-за военных трудов и непомерных трат деньги на Руси стали редкостью. Крестьянскому хозяйству все прибыток. На несколько медяков купишь воз сена, а на серебро Ивашка собирался взять по весне телку, либо и двух.
Заиндевелая тройка резво влетела в село. Ямщик с пылающей от мороза мордой сильно натянул вожжи, осадил лошадок. И тотчас из крытой кибитки высунулись две немолодые персоны в тулупах и меховых шапках. У обоих из-под шапок свисали завитые бабские волосы. У тощего волосы были пегие; у того, что потолще, — рыжие. Ну, да все равно, пегие или рыжие, одинаково не свои. Завел царь обычай, смехота…
Ивашка подобострастно протянул вперед блюдо, зачастил:
— Милости просим, дорогие гостюшки… уж так рады…
Старостиха, выбежавшая вслед за мужем, кланялась в пояс, вторила:
— Здоровьюшко, гостюшки милые… счастья, милостивцы…
А сама поглядывала — когда подхватить блюдо с караваем, нести назад.
Тощий вытащил из-под шубы платок, трубно высморкал хрящеватый нос, не глядя кинул прямо на каравай горсть серебра. Рыжий тоже было полез в карман отдариваться. Куда там! Тощий ткнул ямщика в спину.
— Гони! Некогда!..
Сани промчались, обдав морозной пылью. Старостиха с блюдом дернулась было к дому, но Ивашка вовремя ухватил ее за подол.
— Стой!.. Вона еще едут!
Подкатил просторный возок, ставленный на полозья. Лошади были впряжены цугом, немного, но все же две пары. Из возка не торопясь вылез молодой барин в валенках, в тулупе, но в военной шляпе, обшитой золотым галуном и, конечно, тоже в бабских кудерьках. Прежде чем заговорить, оторвал льдинки с маленьких усиков, потер застывшие подбородок и губы, потом строго вопросил:
— Где тут у вас изба почище? Для деликатных особ?
Староста кинулся через дорогу к избе свояка. Сам хозяин с семьей давно был переселен в баньку, так поступлено почти со всеми в деревне. Разве ж квартир напасешься на этакую ораву. Каждый день катят из Питера, то одни, то другие.
Из возка вылезли по очереди одна за другой четыре особы женского пола, три повыше, одна совсем дитё. Девы были закутаны в шали да в платки так, что торчали одни носики. Молодой барин подставил ручку калачиком.
— Прошу вас, панна Анеля!
С другой стороны подцепил еще одну деву, приговаривая:
— И вас, Настенька, весьма прошу…
Все трое поплыли вслед за старостой, кланявшимся уже с крыльца. Староста звал кума с кумой топить печь да устраивать гостей.
Старостиха тем временем заглянула в возок, нет ли еще кого? И верно обнаружила еще бабу, постарше, себе под стать, верно мать али тетка.
— Длуго я бёнде тутай седеть? — досадливо спросила та.
— Чаго-сь?..
Тетка зашевелилась, охнула, протянула руку.
— Тёнгний мне стонд!
— Тягай ее отседа… — подсказал ямщик.
К возку подбежала молодшенькая, позвала:
— Иди сюда, тетя Катажинка!
Старостиха уже тащила тетку из возка, с великим бережением повела к дому.
Между тем первые сани промчались к самому берегу залива. Тощий вдруг толкнул ямщика в спину 5
— Годи!..
А сам, словно кукла на шарнире, повернулся, стал глядеть на стоящую вблизи пушечную батарею. Пушки были морские; некоторые, снятые со станков, лежали прямо в снегу. Перед батареей высился ледяной бруствер из зеленоватых, прозрачных глыбин. Несмотря на всю опасность, ямщик погодить никак не мог, разве удержишь разлетевшиеся сани на косогоре. Тройка вылетела на лед залива, сразу скрылась в облаке снежной пыли и пара от дыхания лошадей.
— Видал?.. Видал, Никитушка?.. А?! — кричал тощий, подпрыгивая в санях. — Истинно военная душа! Льдом отгородился!..
— Шею застудишь, гласа лишишься… — рассудительно заметил низенький в рыжих буклях и показал рукавицей. — Вон еще сколько льда наковыряли.
Сани понеслись по замерзшему заливу, а справа и слева от наезженной дороги то и дело прпадались скопления ледяных брусков, то торчащих стоймя, то поваленных, будто кто-то отгородился надолбами, ожидая атаки кавалерии.
Тянувшийся навстречу санный обоз стал поспешно сворачивать, давая дорогу начальству. На крестьянских дровнях лежали такие же огромные ледяные бруски, а на последних обледенелые бревна и свертки корабельных веревок, тоже обледенелых.
— Сущий ледяной парадиз! Гляди, какую фортецию отстроил! — снова разбушевался тощий.
— Ох-хо-хо! .. — протяжно вздохнул сосед. — Да не ори ты так, господин командор. Чай, не на палубе командуешь. Па-ра-диз!
Сани завернули, с ходу влетели в ограду, тоже сложенную из льда. Внутри ограды было потише, ветер, вечно крутивший колючие снежные вихри по заливу, здесь не так донимал. Возле одной из стен стояла изба, сбитая из странного леса: корабельных обломков, да еще крашеных. Над плоской крышей избы столбом бил вверх дым, видно, внутри топили.
— Вылезай, генерал! — командовал тощий, отстегнул меховую полость и вывалился в снег. Стал браниться, что ноги не держат, оттого что засиделся в долгой дороге. Второй несколько раз мотнул в воздухе одной ногой, другой и осторожненько, бочком выбрался из кибитки.
— Вставай, Федор! Давай подсоблю вашему капитан-командор- ству, — добродушно сказал он и ловко подхватил Огаркова под локотки, помог встать.
— Все ревматизма проклятая, — ворчал Огарков, прихрамывая.
Дверь избы со стуком распахнулась, выбежал коренастый мужичонка, одетый, как все тут, в тулуп и валенки. Голова у него была замотана женским платком, а поверх платка торчала матрозская шляпа с бляхой. Огарков строго крикнул:
— Ивашка! А где сам?
Иван — не тот, не староста — солдат, — узнав капитан-командора, вытянулся по-уставному.
— Они изволят во чреве пребывать! — гаркнул он во всю глотку.
Талызин рассердился.
— Чего путаешь?! Это Иона во чреве китовом пребывал, а ты туда ж господина мичмана…
— Вот я тебя! — погрозил кулаком в меховой рукавице и Огарков. — Языком всуе треплешь. Здесь хоть и лед, а все море.
Он выпростал было руку из рукавицы, может, хотел перекреститься — и вдруг словно остолбенел. Впереди, прислоненный к ледяной ограде, торчал длиннущий золоченый старик — морской бог Тритон, в руках держал золоченую же дубину, остаток отломанного трезубца. Выпуклые, незрячие глаза морского бога глядели свирепо, косматая деревянная борода завернулась на сторону. По обе стороны от Тритона были поставлены две дородные морские девы с рыбьими хвостами. Огарков сунул обратно в рукавицу пальцы, рассердился.
— Понаставили не на месте…
— То батька с дочками, — доложил Иван. — Батька был ставлен с носу, рассекать морскую глыбь. А дочки, значит, с кормы, для прыти…
— Сам знаю… — оборвал его Огарков.
— Ну, веди, веди… — проворчал Талызин. — Замерзнешь здесь…
— А вести-то неча, — осклабился Иван. — Тута они и есть, в глуби морей.
Сквозь крутящуюся поземку Талызин разглядел вмороженные в лед бревна, торчащие как стропила. Под бревнами были подвешены блоки.
Вдруг внизу, под ногами, что-то глухо заухало, застучало, вроде тюкали топором, долбили что-то ломами. Талызин и Огарков переглянулись.
— Елиза-ар! — закричал Огарков, сложив ладони рупором. — Господин мичман!
Он зашагал вперед, но Иван, забежав сбоку, проворно ухватил капитан-командора за рукав.
— Постерегись, господин командор, скользкота… Вот отсель видно.
Он осторожно повел командора вперед, к тому месту, где уже стоял Талызин и, вытянув шею, вглядывался куда-то себе под ноги.
Под бревнами, во льду, была яма, заделанная по краям бревенчатым срубом. Сруб уходил в глубину, словно ствол какой-то Диковинной шахты. Внизу, в полумраке, слабо мерцали два-три фонаря, угадывались фигуры людей.
— Сколь сажен-то глубины? — спросил Огарков.
— Да было бы повыше мачт, — ответил Иван. — Только мачты поломало. Ох и расперло его, «Диамант» тот горемычный!
— Ну, племяш у меня… хват! — сказал довольный Талызин. — Соорудил!
Огарков схватил комок снега, потер замерзшие нос и щеки, гнусаво спросил:
— А как насчет сухой ложки, что господин Меншиков не приемлет? Смочил ее чем-нибудь?
Талызин стащил меховую рукавицу, сложил толстые персты в кукиш, полюбовался на свое творенье.
— А это видал? Вот его доход от Елизара этой ненасытной прорве. Думает, кроме него, никто о государственных делах не печется. Да мы, Талызины, с татарами рубились, когда Меншиковых и в помине не было. В общем, нашлись люди, вхожие к Петру Алексеичу. Сей прожект пришелся царю весьма по нраву. Он нам с Елизаркой анисовой поднес, да целовал меня в губы и в обе щеки. Достаньте, говорит, со дна, что потоплено, я твоего племяша в лейтенанты произведу, а может сразу и в капитаны, поставлю кораблем командовать. Мне смекалистые ох как нужны!
Огарков одобрительно покивал.
— Да, такое дело острого ума и уменья требует да морского глаза. Вот в Голландии я, к примеру, видал кофердам для ремонта плотин. Утопят возле плотины этакий деревянный ящик в несколько сажен, выкачают изнутри воду и лазают внутрь плотину чинить.
Талызин весь сморщился.
— Что кофердам против этой выморозки! Ведь как сруб утопили точнехонько, чтоб корабль как раз внутри оказался. Начали корабельными пумпами воду качать, а тут как раз такие морозы завернули, что все прихватило. Пришлось лед глыбами выпиливать и тащить наверх. Умаялись, пока до корабля добрались.
— А зато сколько всего добыли, — встрял Иван. — И пушки сняли, и грузы из трюмов почти все повытаскали, и снасти…
— Ты чего здесь лясы точишь, когда все работают? — снова начал раскаляться Огарков. — Ты кто, боцман или адмирал? Офицер внизу лед рубит, а боцман прохлаждается…
Иван засмущался.
— Да я вот… — показал он на маленькую пушчонку, стоящую на льду. Под пушчонку были, подставлены доски, чтоб по ним откатился лафет. Ствол был прикрыт тряпкой. В бадье с глыбой льда дымился фитиль в железном ухвате с зажимом. — Как станем поднимать сундук с регалиями, так дадим салют…
Он не успел кончить. Внизу, на дне ледяной ямы, затрещало, ухнуло, повалилось. Потом затренькал колокол.
Талызин побледнел. Но колокол тренькал весело.
— Все наверх! — вдруг завопил Иван и, стащив шапку, подбросил кверху. — Ура!
Он кинулся к избе, но дверь избы сама отворилась, выбежали солдаты, гревшиеся у печки, на ходу застегивая тулупы. Разошлись к блочным канатам, стали в шеренги.
Снизу еще раз тренькнул колокол. Иван поднял руку, солдаты разом схватились за канаты, стали тянуть. Иван поднимал то одну, то другую руку, и тот канат, где рука была опущена, переставал натягиваться. Изнутри ползло что-то огромное, тяжелое. Наконец показался кусок кормового чулана с капитанской каютой. Сверху палуба срублена, нижнюю и одну из стенок частично оставили. И на этом куске палубы, как на подносе, стоял большой, окованный ржавым железом сундук с казенными печатями, словно впаянный в прозрачную глыбину льда.
Солдаты подсунули под сундук бревна, по этим бревнам скатили тяжесть на лед, топорами стали отшибать теперь уже ненужную каютную стенку и лишние доски палубы.
Деревянная лестница, уходившая вниз, заскрипела, закачалась. Стало видно, что по ней лезут люди с фонарями, с инструментом на плечах. Елизар первым вылез на лед, задул уже ненужный фонарь. За ним вылез Тимофей и еще какие-то замерзшие, обсыпанные снежной пылью матрозы.
Талызин кинулся к Елизару, обнял. Огарков тоже метнулся было к виновнику сегодняшнего торжества, понял, что до мичмана не добраться, пока дядя мнет и тискает его в родственных объятиях, махнул рукой, побежал к пушке распоряжаться салютом. Сам схватил ухват с фитилем, раздул, скомандовал, чтобы сняли тряпку, подсыпали бы в запал свежего пороху, потом ткнул огарком фитиля в казенную часть пушчонки. Пушка подпрыгнула, как сердитая собачонка, выплюнула белый, плотный клубок дыма, и над заливом раскатился салютный выстрел в честь необычной победы человеческого ума над слепыми силами стихии: водой и морозом!
Сундук сволокли в избу, поставили поближе к раскаленной железной печке, какие применяли на кораблях. Лед быстро стаивал, вода стекала в щели пола. Елизар, скинув тулуп, вопросительно взглянул на Талызина, спросил:
— Пора, дядя?
— Сбивай! — торжественно разрешил Талызин.
Елизар ударил по крышке обухом топора, крышка отлетела. Все кинулись глядеть, что внутри. В длинном сундуке, туго свернутые, лежали шведские знамена и пудовые ключи от крепостных ворот.
— Виват! — гаркнул Огарков. — Пляши, Елизарка! Сегодня твой самый счастливый день!
Сияющий Елизар ощупывал лежащее сверху ярко-синее полотнище крепостного штандарта, того, что сняли с комендантского дома, поднял и взвесил в руке огромный ключ.
— Аннушке бы показать, — негромко сказал он. — А то без нее мне и радость не в радость.
Огарков фыркнул, как рассерженный кот.
— Да здесь она, в деревне дожидается. Твой дружок Аким меня чуть до смерти не заел, вцепился, как рак клешней. Ну и пришлось всех везти сюда.
— Ну вот и достал ты свое счастье со дна морского, — серьезно сказал Талызин. — Теперь и свадьбу сыграем честь честью. Кланяйся капитан-командору, проси у крестного руки твоей Анютки.
Огарков приосанился, но не выдержал, обнял Елизара, чмокнул в обе щеки.
— Чего просить! Я давно согласный! И она ждет не дождется!
Он выскочил на мороз в одном мундире, скомандовал:
— Сани сюда! Да живо! Повезем жениха к невесте! Ура молодым!
Глава 24 СТРАНСТВУЮЩИЕ КУПЦЫ
Шведский король Карл XII шестого ноября 1714 года выехал из Турции и двадцать второго ноября прибыл в порт Штральзунд на берегу Балтики. Союзные войска двинулись было к этой крепости, но опоздали, король Карл на корабле отбыл в свою столицу Стокгольм.
С той поры прошло четыре года. Война со шведами, получившая в истории название Великой Северной войны, достигла своей завершающей стадии.
Двадцатишестипушечный фрегат «Северная Двина», входивший в состав молодого российского флота, был послан против королевских каперов — корсаров, сильно вредивших морской торговле. Возле шведского острова Готланд «Северная Двина» выдержала бой с двумя пиратскими бригантинами, которые на веслах попытались приблизиться к заштилевшему возле неприятельского берега фрегату. С потопленных бригантин были сняты люди, показавшие, что Карл XII выдал каперские свидетельства не только своим подданным, но привлек к разбою и иностранцев, в частности гамбуржцев.
Молодой капитан фрегата, Елизар Овчина-Шубников, решил немедля идти к немецким берегам, чтобы охранить торговые корабли Нидерландов, Англии и Дании.
В датских проливах стояла чудесная летняя погода. Многочисленные корабли словно бы висели в воздухе на границе между морем и небом. Горизонт был скрыт маревом, словно в июльскую жару, хотя стоял уже конец октября. Зато неприветливое Северное море встретило штормом. Серые, морщинистые волны, увенчанные бахромками пены, с гулом мчались навстречу, ударяли в нос и в скулу фрегата, разбивались в брызги, стеной взлетавшие чуть не до рей. Весь корабль скрипел и словно стонал от этих ударов.
Капитан, сидя в своей просторной каюте, прислушивался к вою шторма, курил и, чтоб не утратить бодрости, прихлебывал из чашки заморский напиток кофей, недавно вошедший в употребление на
Руси. Кофей был горьковат и темен цветом, от него шел вкусный запах, напоминавший запах в уютных немецких и голландских трактирах. И дома, в Питерсбурхе, жена, нежно любимая Аннушка, тоже по утрам варила ему кофей. Польская панна Анеля Стшелецкая давно уже стала русской Анной, по крестному отцу, капитан-командору Огаркову, Федоровной, госпожой капитаншей Овчина-Шубниковой.
Вот пришло и счастье! А сколь горько было время до сего. Сколько всего пережито! Давно ли он, Елизарка, флотский мичман, почитал свою молодую жизнь вконец загубленной, благодаря хитроумным козням иезуитов. В такую же точно ночь, как нынешняя, его первый корабль, шведский флейт «Диамант», расселся и развалился прямо под ногами. И с ним, с этим кораблем погибли все надежды и чаяния. Даже светлейший князь Меншиков, вроде как обещавший покровительство, и тот отступился, презрел неудачника. Однако преждевременно презрел. Он, Елизар, сумел доказать, что Шубниковы упрямы, сильны волей и ум у них острый, до всего доходчивый. Таинственный иезуитский морской бес пойман за хвост и водворен в поварню, под начало к стряпухам. Там его истинное место. А капитанам купецких кораблей Адмиралтейство дало точные указания, как следует впредь грузить в трюмах горох, зерно и прочие пухлые злаки. И его мичманская придумка насчет сруба, опускаемого в воду, теперь повсеместно используется при строительстве порта в городе Кронштадте, что на острове Котлин насупротив устья Невы.
Да, в те трудные дни определилось, кто настоящий друг, а кто просто так, приятель. Истинный друг Акимушка не отступился, и, конечно, умница и великой учености человек, дядя Никита Талызин, и честнейшей души капитан-командор Федор Огарков. В них он нашел себе опору. Славно, что ветреный Аким, гонявшийся за большим приданым, запутался в любовных сетях Насти Огарковой, старшей из троих огарковских дев. Анастасия Яблокова, урожденная Огаркова, ныне полуполковница, блистает на царских ассамблеях вместе с его Анюткой…
Что же? Неплохо в бурном море вспомнить прошлое, потягивая крепкий кофей из белой, синим рисованной немецкой чашки…
К утру шторм поутих. Еще мчались по небу вдогонку друг за другом клочки буревых туч, а уже проглядывало солнце, светило как сквозь густую вуаль. Елизар послал матрозов по реям развязать риф-банты на парусах, чтобы лучше брали ветер.
Вдруг сверху донесся крик марсового. Марсовой кричал: «Парус!» — и показывал рукой вдаль. Елизар приказал изменить курс, идти на перехват замеченному судну. Скоро в трубу стало можно различить три высоких мачты большого корабля. Мачты, одетые парусами, величаво покачивались. Под клотиком средней мачты развевался длинный вымпел, но понять какой, чьей он нации, на таком расстоянии было нельзя.
Наконец корабли сблизились. Вот выдвинулась над водой высокая корма с коваными фонарями, взметнулся к облакам бугшприт на носу, выскочила из волн позлащенная морская дева, будто захотелось этой деве поглядеть, кто плывет навстречу.
На корабле подняли флаг вольного города Гамбурга. Елизар призадумался. С виду корабль купецкий, широкий, вместительный, но пушек несет много, купцам вроде бы столько и ни к чему. Придется им учинить досмотр.
Увидев флажный сигнал, поднятый на русском фрегате, гам- буржцы стали убирать паруса, но без спешки. Елизар приказал готовить гребной иол доброй архангельской постройки, назначил урядником за рулевого опытнейшего матроза Ивана, того самого, что был некогда у него в денщиках, загребным верзилу Тимофея. Командовать же поставил офицера, только что произведенного в фенрихи из гардемаринов, Петю Огаркова, капитан-командор- ского племянника.
Иол прытко отвалил, кувырнулся с волны на волну, и вот уже носовой матроз крепко вцепился в веревочный штормтрап, и Петя живым манером полез по нему наверх, сопровождаемый двумя мат- розами.
На корме стоял разряженный, будто вельможа, гамбургский капитан в шелковом кафтане, в шляпе с плюмажем и в дорогих ботфортах, не каких-нибудь там смазных, а в сафьяновых. На боку у капитана шпага, будто у дворянина.
Петя оказался парень расторопный, в дядюшку: не ограничился чтением судовых бумаг, а приказал отбить крышки на люках, чтоб самому слазать вниз, убедиться, нет ли военной контрабанды. Елизар догадался об этом по стукам и по тому, как гамбургский капитан сердито размахивал руками, верно, бранился.
— Молодец, Петька! — довольно сказал штюрману молодой капитан. — Дотошный. Наведет он у них порядок.
Вдруг на палубе гамбургского корабля произошло какое-то волнение. Капитан на корме перестал махать руками, перегнулся через перила, вытянув шею, удивленно глядел на палубу. Русские матрозы в иоле, заслышав шум, поспешно полезли наверх по трапу — подсоблять. Остался лишь один, сторожить шлюпку. Елизар встревожился, что там происходит? Приказал вызвать канониров к орудиям, открыть ставни пушечных портов.
На палубе русского фрегата засвистели боцманские дудки, выбежали и встали под кормой трое юнг-барабанщиков, дружно ударили в свои барабаны. Тревожный рокот понесся над водой.
Гамбургский капитан вдруг метнулся к борту, что-то истошно заорал, потом, сообразив, что не слышно, схватил огромный рупор, приставил ко рту. До Елизара долетали разорванные ветром обрывки фраз.
— Честные гамбуржские негоцианты! — орал капитан. — Я буду жаловаться в наш сенат!.. Вы превышаете…
Елизар рассердился. Ишь какой! Грозится! Не имеет должного решпекта к российскому военному флагу! Командиры военных судов имеют право проверять бумаги пассажиров, чтобы выявить личности. Без этих необходимых мер морскому пиратству не положить конца. Однако что же там происходит?
В пушечный люк высунулась голова фенриха, растрепанная, без шляпы. Петя что-то кричал, но слыхать нельзя, затем он махнул рукой и исчез. И тотчас по штормтрапу, испуганно остерегаясь волн, полезли вниз, в шлюпку, люди в партикулярном темном бюргерском платье. За ними ловко скользнул по канату Огарков и русские матрозы. Шлюпка отошла от гамбуржцев, погребла к своим. На фрегат- скую палубу стали вылезать незнакомые люди, немолодые, грузные, явно купеческого обличил. Старший из них кинулся к капитану, вытащил из бумажника свой пас — свидетельство о личности, выданное гамбургскими властями, волнуясь, затараторил. Елизар только и различил в этом потоке слов:
— Будем протестовать… беззаконие… — да еще, — сенат…
Ну, ладно, будет протестовать, это его дело. А чего ради Петя
причепился к этим купчишкам? Он внимательно поглядел на лица толпящихся на шканцах купцов. Передние все незнакомые, а вот задние двое все отворачиваются. Их обоих держит за вороты Тимофей, а Иван вьется рядом, как собака овчарка.
Петя Огарков подбежал к командиру, вытянулся, сорвал с головы треуголку.
— Господин капитан, двоих опознали наши урядники, яко переряженных иезуитов!
— Иезуитов!.. — Елизар мигом сбежал с высокой кормы, где находился, отстранив купчишек, схватил одного из подозреваемых за плечо, резко повернул к себе, вгляделся, ахнул. Перед ним был це- зарский граф, бывший дипломат! Но в каком виде! Лицо бритое, без колючих усишек, волосы, не покрытые париком, прямые, крашены в рыжую масть и брови тоже.
Кинулся к второму, заранее зная, кто это. И не ошибся. Коренастый купецкий приказчик был пан Лех-Кружальский. Этому трудно было изменить свой облик, но и он постарался: отрастил бороду, как голландский шкипер, глаза укрыл под темными очками.
Елизар овладел собой, хотя в душе у него кипела ярость.
— Дивная встреча, — сказал он спокойно. — Вот никогда не чаял встретить вас на купецком корабле и в таком обличье. Что же произошло? Погнали вас из дипломатов, что ли?
Граф с достоинством выпрямился.
— Друг мой, высокие профессии малодоходны. Я еще не слышал, чтобы кто-нибудь разбогател и составил себе состояние на дипломатическом или военном поприще. Состояние добывают торговлей. Древние гербы нужно время от времени золотить.
— Прибыльна ли ваша торговля? — любезно осведомился Елизар, не скрывая насмешки. — Кстати, чем вы торгуете?
— Чем придется: вином, кожами, пшеницей…
— А господин Кружальский по-прежнему ваш надежный помощник?
У графа забегали глаза, он нахмурился.
— С ним мы встретились случайно, уже здесь на корабле. Прошу не связывать наши имена. Вы, вероятно, осведомлены, что я вынужден был выгнать его еще там, в Эйдере. За его грязные дела я не ответчик.
Елизар взглянул на Бонифатия. Бонифатий стоял потупившись, очень бледный, тяжело дышал.
— А вы что скажете, Кружальский?
— Да простит бог всем, кто свершает великие грехи во имя его… — изрек Бонифатий загадочно и отвернулся от графа.
— Понимаю, — кивнул Елизар. — Вам есть в чем покаяться. Но сейчас уместнее просить милосердия не у бога, а у военного суда. У вас обоих будет время подумать обо всем.
Он приказал вызвать караул и увести Бонифатия.
— Меня одного! — задыхаясь, крикнул Бонифатий. — А его вы отпустите?
Граф сжал кулаки, шагнул к Кружальскому.
— Вы забываетесь, негодяй, грязный шпион!.. Вас повесят, и по заслугам!
— Нет, дом Альберт! — исступленно закричал Бонифатий, вырываясь из рук державших его матрозов. — Если повесят, так рядом с вами! Я уж постараюсь об этом! В рай или в ад, но мы войдем вместе!
— Взять и графа! — приказал Елизар. — Рассадить по отдельным каморам, обыскать, чтобы не сотворили чего, и сторожить, не спуская глаз!
Море, равнодушное к людским делам, по-прежнему катило куда-то свои бесконечные, бурливые волны. По небу плыли округлые, набрякшие дождем тучки. Гамбургский корабль как привязанный следовал за фрегатом.
Капитан российского флота, командир фрегата «Северная Двина» Елизар Овчина-Шубников испытывал странное чувство, будто в мире вдруг наступило великое спокойствие и восстановилось нарушенное равновесие. Судьба даровала ему удивительную удачу. Дважды он упускал злодеев, сам пострадал от их козней, и теперь всемогущий случай передал их ему в руки. Дальнейшая судьба этих двух иезуитов его не касается, мстить — не его дело. Пусть за них возьмется гевалдигер Павлов, пусть их судят по законам Российской империи.
У мыса Скаген, где стоит маяк, означающий вход в датские воды, навстречу шла сторожевая галера. Гребцы выбивались из сил, работая тяжелыми веслами. Острый нос галеры то и дело утыкался в набегавшую волну, рывком вырывался наружу, пропоров водяную толщу. Тем не менее галера, заметив проходящий русский фрегат, повернула к нему, несмотря на то, что для этого приходилось делать изрядный крюк. С ее палубы махали: «Не проходите мимо! Сообщение!»
Елизар сманеврировал, замедлил ход. И стоило.
Датский офицер с кормы в рупор прокричал великую новость. Вчера вечером, 30-го ноября, при осаде Фридрихсгаль в Норвегии убит в окопах картечью шведский король Карл XII.
— Поздравляю вас, капитан! — прокричал датчанин. — Теперь войне скоро конец.
Елизар снял шляпу и перекрестился. Да будет так! Лучшего, чем мир на земле, человеку желать не должно!
ПРИМЕЧАНИЯ
К стр. 18.
В русском воинском уставе, над созданием которого долго и тщательно работали сам царь и ряд выдающихся военных деятелей начала XVIII века, есть специальный пункт:
«О запрещении чинить обиды обывателям. Как в проходящих маршах, так и на квартирах не токмо в своей союзничей или нейтральной землях, но и в неприятельской под смертельным страхом запрещаетца дабы обид обывателям, контрибуции и прочего, какое б звание не имело, кроме указаного, что повелено будет, не брали. Такоже строения никаково не ломали и не портили и ничего ни в чем без писменного указу в вышеписанном не чинили, в чем ответ дать принужден будет фелтмаршал или аншефт, что войско не в добром ордере и порядке содержал, и не точию ответ дать, но в равной вине подлежит с преступлением яко попуститель на зло, ежели виноватым наказание по достоинству не велит учинить».
Любопытно, что этот пункт вписан в черновик текста рукой самого Петра I. Есть сведения, что воля царя соблюдалась неукоснительно.
К стр. 50.
«Багинетами» в петровской армии долгое время называли штыки. На самом деле багинет — кинжал с деревянной рукоятью, который засовывали в дуло ружья или мушкета, чтобы превратить огнестрельное оружие в колющее. В петровской армии с самого начала были введены штыки, позволяющие стрелять, не снимая колючего острия.
К стр. 91.
Воинский устав Петра I строжайше запрещал телесные наказания «кавалеров», то есть награжденных орденами.
Во избежание напрасных издевательств офицеров над солдатами устав содержал специальную оговорку:
«За напрасные мучительства и наказания сверх положенного взыскивать с господ офицеров вплоть до лишения чести» (разжалования в рядовые).
К стр. 93.
В XVIII веке, чтоб вызвать пожар (в крепости, на корабле), стреляли из пушек и мортир ядрами, предварительно раскаленными докрасна в кузнечных горнах.
1
Фенрихи русского флота: Ов… Овчина-Шубников, Елизар и Я… Я… Яблоков, Аким с услужающими людьми… (Шведско-немецк.)
(обратно)2
О! Фу, срам! (Ыемецк.)
(обратно)3
Смотри примечание в конце книги.
(обратно)4
Крок (польск.) - шаг. Жолнеж (польск.) - солдат.
(обратно)5
Смотри примечание в конце книги.
(обратно)6
Смотри примечание в конце книги.
(обратно)7
П 6 ц о (полъск.) - зачем.
(обратно)





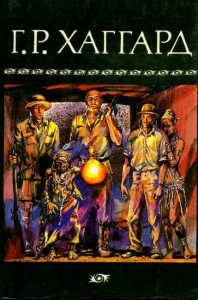

Комментарии к книге «Проделки морского беса», Вениамин Лазаревич Вахман
Всего 0 комментариев