Виталий Гладкий Вечный хранитель
Пролог
В далекие незапамятные времена, когда до рождения новой эры оставалось свыше тысячи лет, по узкой каменистой тропе, невесть кем пробитой в Кавказских горах, среди диких замшелых скал и каменных осыпей, ехали двое мужчин. Один из них был постарше, с длинной седой бородой; его зеленые глаза на очень смуглом лице смотрели остро и сурово, а брови были постоянно нахмурены. Казалось, что он бился над какой-то очень сложной задачей и никак не мог ее решить.
Второй путешественник, голубоглазый и белокожий крепыш, судя по его жизнерадостному улыбчивому виду и небольшой рыжеватой бородке «шкиперского» типа, только-только разменял четвертый десяток. Он был порывист в движениях и речист как записной оратор. В отличие от старшего товарища, которому опасная дорога среди скал явно не доставляла удовольствия, крепыш наслаждался прекрасными видами, возникающими перед ними за каждым поворотом горной тропы и всякий раз произносил вдохновенный панегирик матери-природе и Творцу всего сущего.
Невысокие мохноногие жеребцы путников уверенно ступали среди каменного крошева, словно у копыт были дополнительные глаза, а мышцы животных, казалось, не знали усталости. Лошади были одно загляденье — молодые, пышногривые, с шерстью, которая лоснилась как полированная. Тропа все время круто забирала вверх, но на крупах жеребцов (один из них был вороным, а другой — буланым) не было даже намека на пот.
Человек искушенный сразу признал бы в них низкорослую скифскую породу. Правда, не без некоторых сомнений. Лошади скифов (или сколотов, как называли себя эти древние и воинственные племена) были очень похожи на коней средневековых кочевников Евразии, в частности половцев и татар. На коротких дистанциях татарские лошади не только носились, как ветер, но и проходили за день до ста километров, тогда как европейская кавалерия не более тридцати. Но кони татар были слишком слабы для боя и быстро уставали под седлом. Даже легковооруженный всадник должен был иметь двух лошадей.
Жеребцы путников лишь внешне напоминали скифских коней. При ближайшем рассмотрении сразу бросались в глаза их гипертрофированно широкие мускулистые груди, предполагающие большой объем легких и неутомимость в беге и длительных переходах. Но и это еще было не все. Жеребцы имели длинные бабки, идеальные для верховой езды, а запястья передних конечностей были направлены немного вперед (такое положение запястий коневоды называют козинцом), что указывало на большую силу и выносливость ног.
Но вернемся к самим путникам. Одеты они были в скифские короткие кафтаны из черной шерстяной ткани с меховым подбоем (в горах по ночам было холодно) и тесно облегающие бедра замшевые брюки с вышивкой по бокам. На ногах у путников красовались щегольские сапожки из мягкой козлиной кожи, низкие голенища которых украшали полудрагоценные камни. Судя по высоким войлочным колпакам, прикрывающим головы путников, они принадлежали к пилофирикам — высокородной скифской знати из племени паралатов[1].
У каждого путника из-под кафтана выглядывал прочный чешуйчатый панцирь-безрукавка, надетый поверх вышитой красными и белыми нитками полотняной рубахи с плотным воротником-стойкой (чтобы железо панциря не натирало шею). Войлочный колпак маскировал железный шлем, очень похожий на русский шишак с бармицей (кольчужной сеткой), которая прикрывала сзади шею и пряталась под меховой опушкой кафтана. А на широких боевых поясах, окованных бронзовыми пластинами, висели необычные для скифов мечи, даже отдаленно не напоминающие акинаки[2].
Седобородый был вооружен мечом, напоминающим более позднюю фракийскую махайру[3]. Похоже, Мыслителя (назовем так старшего из путников) больше волновали боевые качества оружия, нежели его внешний вид, потому что меч покоился в простых, изрядно потертых кожаных ножнах. Что касается молодого говорливого путника (присвоим ему прозвище Оратор), то к его поясу был прикреплен длинный прямой меч с небольшой гардой; в Средние века новой эры его назовут норманнским.
В отличие от Мыслителя, Оратор явно был щеголем, потому что за ножны его меча можно было купить двадцать кобылиц или около сотни молодых крепких рабов. Ножны ему изготовили из черного дерева и украсили золотыми чеканными пластинами, а в золотую головку рукояти меча мастер-оружейник вмонтировал огромный рубин.
Кроме мечей, путники были вооружены дротиками и луками, которые покоились вместе со стрелами в горитах — специальных футлярах. Луки тоже отличались от легких и удобных в обращении скифских, предназначенных для стрельбы на скаку; они были несколько больше по размеру и их изготовили из рогов буйвола. Чтобы натянуть такой лук, требовалась очень большая физическая сила. Но и стрелы, выпущенные из них, летели гораздо дальше.
Гориты были подвешены к поясу с левой стороны под углом примерно в сорок пять градусов — чтобы как можно быстрее достать лук и сделать первый выстрел. Их изготовили из тонких деревянных дощечек, обтянули кожей и по скифскому обычаю украсили чеканными бронзовыми бляшками, изображающими бабочек и птиц. К седлам позади седоков были приторочены туго набитые саквы.
Да, да, именно к седлам. В Древнем мире, и уж тем более в те времена, о которых идет речь, о седлах не имели понятия. Максимум на что мог сподобиться всадник, так это положить потник на спину лошади. Первые упоминания о примитивных седлах появились лишь во второй половине первого тысячелетия до нашей эры.
И тем не менее жеребцы путников были оседланы. Седла не имели передних и задних лук, зато к ним прилагались удобные металлические (бронзовые) стремена и широкие подпруги. Конечно, эти седла значительно отличались от современных, но они были удобны для длительных путешествий, потому что имели мягкую набивку.
— Да-а, далеко нашего друга сослали… — сказал Оратор, когда лошади наконец выбрались на узкое плато, над которым нависали каменные громады, поросшие кустарниками и мхом. — По этой тропе мы уже пятый день прыгаем как горные козлы, а конца ей не видать.
— Поделом ему, — буркнул Мыслитель. — Он нарушил Закон.
— Ха! — громче, чем следовало, воскликнул Оратор; напуганная его густым басовитым голосом стайка горных (каменных) куропаток — кекликов взмыла из мелколесья и улетела в ущелье, где кудрявились могучие дубы. — Ему ли не знать, что такое Закон. Ты ведь говорил, что он один из тех, кто его составлял. Наверное, Закон не так совершенен и универсален, как нам представляется.
— Замолчи! — Мыслитель опасливо посмотрел на безоблачное небо, словно оттуда кто-то мог за ними наблюдать. — Ты еще слишком молод, чтобы рассуждать на такие темы. И вообще — выбрось из головы бунтарские мысли. Они до добра не доведут. А тебе еще жить и жить. Пока не исполнишь свое предназначение.
— Знать бы, в чем оно заключается… — Оратор нахмурился — пожалуй, впервые за долгие дни пути.
— Вот у него и спросишь. У нашего несчастного друга большой пророческий дар… за что, собственно говоря, он и страдает.
— Погоди… — Оратор озадаченно уставился на мыслителя. — Или я что-то не понял или… Пророческий дар ни в коей мере не нарушает Закон. Это общеизвестно.
— Верно. Но одно дело — пророчествовать судьбу простолюдину, а совсем другое — кому-нибудь из Посвященных.
— Теперь до меня дошло. Мне ли не знать, как сильные мира сего относятся к дурным пророчествам… — Оратор стал совсем мрачным.
— Я всегда говорил тебе — прикуси свой невоздержанный язык. Иначе тебя может постигнуть не менее горькая участь, чем нашего друга. — С этими словами Мыслитель вдруг придержал своего коня и с неожиданной для его преклонного возраста молодой прытью соскочил на землю. — Есть предложение немного подкрепиться. Думаю, что до места мы доберемся не раньше вечера, а сейчас обеденное время.
— Не возражаю…
Пустив коней пастись, путники расстелили крохотный коврик из узорчатой тонкой ткани, напоминающей современную камку, и разложили на нем снедь. Она была простая и сытная: добрый кусок вяленой говядины, два ячменных хлебца, соленые оливки, копченый сыр и пиво, хранившееся в бурдюке.
Древнее пиво вряд ли понравилось бы современным людям, ведь это был не столько напиток, сколько еда. В те давние времена пиво изготавливалось без применения хмеля и представляло собой слегка процеженную хлебную массу. Проще говоря, это был перебродивший хлебный квас. Тем не менее популярность хмельной еды-напитка была высока. В одном из древних манускриптов при описании личных качеств мудреца, помимо его знаний и мудрости, говорилось о том, сколько пива он мог съесть. Именно съесть, а не выпить.
— Хорошо-то как… Красиво… Ты только посмотри! — Лежавший на левом боку Оратор указал на темно-синее море в белых барашках волн, которое плескалось далеко внизу.
— Лучше подумай, как будем отбиваться, — ответил Мыслитель и встал.
— Ты о чем?
— О том, что нас окружает ватага разбойников.
— Где они? Я не вижу.
— А мне видеть их не обязательно. Воздух сгустился и стал отсвечивать фиолетовым светом.
— Теперь и я слышу тяжелое дыхание и шорох листвы под ногами… — Оратор, который прислушивался, вытянув шею, последовал примеру Мыслителя — быстро вскочил на ноги и взялся за рукоять меча. — Может, это не разбойники? — Он все еще сомневался.
— Что делать мирному человеку в этих скалах? Охотиться здесь не на кого, разве что на горных баранов, но мы видели их только раз, потому что они пасутся на высокогорных лугах, гораздо выше этого плато. Наверное, тропа ведет в какое-нибудь горное селение, и лихие люди из прибрежных племен решили совершить набег на горцев, чтобы добыть рабов. Рабы нынче в цене… — Мыслитель кисло покривился.
— Скорее всего, так оно и есть, — согласился Оратор со своим старшим товарищем.
— А коли так, то у тебя есть шанс применить свои познания в магических науках. Рассей эту разбойничью свору… только без членовредительства!
— Экий ты непротивленец… — несколько нервно хохотнул Оратор. — У меня есть другое предложение. Я, знаешь ли, немного засиделся в седле. Все тело ломит. Поэтому небольшая драчка пойдет мне только на пользу — как урок гимнастики. Ты не возражаешь?
— Что ж, в твоих словах есть рациональное зерно, — улыбнулся Мыслитель — пожалуй, впервые за весь день. — Придется и мне тряхнуть стариной. Только чур не рубить насмерть! Не мы им дали жизнь и не нам ее отбирать.
С этими словами он засунул руку за пазуху и достал оттуда крест из голубовато-серебристого металла в виде буквы «Т» с большой круглой петлей сверху; он висел на прочной цепочке, звенья которой — листья и крохотные яблочки — выковал и прочеканил очень искусный кузнец. Это был так называемый анк[4]. Ту же процедуру проделал и Оратор; у него был такой же крест, но поменьше размером, а звенья цепи были в виде дубовых листьев и желудей.
— Начнем? — спросил Оратор немного изменившимся голосом; похоже, он сильно волновался.
— Начнем… — ответил Мыслитель.
И на плато неожиданно воцарилась удивительная тишина. Казалось, что даже легкий ветерок, который гулял по густой зеленой траве, почти сплошь покрытой цветочным ковром, улетел к заснеженным горным вершинам. Мыслитель и Оратор, закрыв глаза и держа в руках кресты на уровне груди, медитировали. Они словно превратились в статуи, только их губы едва шевелились — тихо нашептывали какие-то заклинания.
Спустя какое-то время кресты в их руках засияли. Исходившее от анков голубоватое свечение на мгновение окутало фигуры медитирующих путешественников с головы до ног и так же быстро исчезло. Оратор спрятал свой анк за пазуху и облегченно вздохнул.
— Мне уже не раз приходилось пользоваться Животворящим Огнем, а все никак не могу привыкнуть, — сказал он, смахивая со лба капельки пота. — Такое впечатление, что меня сначала окунули в прорубь, а потом в кипяток. А, вот и наши незваные гости! — воскликнул он, указав на огромный дуб-патриарх, под сенью которого, в тени, началось какое-то шевеление.
Поняв, что их присутствие раскрыто и таиться нет смысла, разбойники с дикими воплями вскарабкались по осыпи на плато и окружили путешественников. Наверное, их немного смутило удивительное спокойствие предполагаемой добычи, потому что они не набросились на путников сходу. Не пустили разбойники в ход и луки; зачем портить дорогой товар? Рабы-чужестранцы на невольничьих рынках ценились гораздо выше пленников из местных племен.
— Это колхи[5], выходцы из Айгюптоса[6], — спокойно констатировал Мыслитель. — Внуки воинов, дезертировавших из армии Рамсеса II во время его похода против хеттов[7].
Почти все разбойники, окружившие путешественников, имели темный цвет кожи и черные курчавые волосы. Но одеты они были уже не в набедренные повязки, как их предки, а в рубахи и шаровары; все-таки горы Кавказа, где выпадает снег, — это не берега Нила, где всегда тепло.
Что касается вооружения колхов, то в этом плане ватага была просто ходячим музеем оружия. Весьма прочные железные мечи хеттов без гард — с расширением клинка до рукояти, похоже, ценились у разбойников очень высоко; Оратор насчитал их всего-навсего два, причем один хеттский меч принадлежал предводителю разбойников. Больше было серповидных египетских мечей и акинаков. Кроме того, разбойник с бельмом на правом глазу держал в руках махайру, несколько его товарищей размахивали боевыми топорами разных форм и размеров, трое были вооружены клевцами, а остальные — увесистыми дубинами и бронзовыми булавами.
Луки и дротики были не во всех; наверное, только у самых метких. А панцирей и щитов вообще не наблюдалось. Оно и понятно — лазать по скалам гораздо сподручней налегке. Тем более, что ватага была многочисленной и брала добычу не длительной осадой, а быстрым пиратским наскоком, с засады, — чтобы противник не успел опомниться.
Оратор немного подивился такому изобилию холодного оружия — мечи, особенно железные, в ту пору ценились очень высоко и их могли позволить себе только побывавшие во многих походах воины-ветераны и знать. Но потом, по здравому размышлению, он сообразил, что все эти клинки разбойники добыли в набегах, воровским способом.
— Сдавайтесь, иначе умрете! — прокаркал предводитель разбойников; как и следовало ожидать, он говорил на испорченном местными наречиями языке египтян.
Разбойники, дожидавшиеся команды к нападению, были несколько озадачены, услышав слова своего вожака. Им даже на мгновение показалось, что он побаивается чужестранцев. Но эта мысль мелькнула лишь у некоторых колхов; у остальных закостеневшие мозги не утруждали хозяев лишними эмоциями и разумными мыслями.
В отличие от своих подручных предводитель разбойников был опытен и где-то даже мудр. Ему очень не понравилось потрясающее спокойствие предполагаемых жертв. Ведь надеяться при таком численном перевесе им было не на что. И вожак на какой-то миг заколебался. Путники были гораздо крупнее и массивнее колхов, и в том, как они приготовились к бою, явно чувствовалась отменная выучка бывалых воинов. Уж не боги ли это? При всей своей кровожадной сущности разбойники-колхи были очень суеверны.
— У меня есть другое предложение, — довольно миролюбиво ответил атаману Мыслитель на древнеегипетском языке. — Здесь золото, — он показал разбойникам кожаный мешочек, — это наш выкуп. Мы едем дальше, а вы спуститесь вниз, в свое селение, и отметите удачу хорошим пиром. Всем нам будет выгодна такая сделка: мы избавимся от лишнего груза, а вы сохраните свои жизни.
Услышав слова Мыслителя, разбойники дружно заржали. Они даже не допускали мысли, что седой старик, пусть и бывалый воин, может быть опасен. Только атаман вдруг почувствовал неприятный холодок в груди — предвестник страха. Ему вдруг захотелось воспользоваться разумным советом седобородого путника. Но он не мог, не имел права уронить свой престиж в глазах буйной ватаги. А потому предводитель разбойников, цинично ухмыльнувшись, сказал:
— Нам твоя подачка не нужна. Нам нужно всё — вы сами, ваш груз и лошади. Вперед! — скомандовал он своим подручным, решив, что дальнейшие переговоры бессмысленны.
— Если боги хотят кого-нибудь наказать, они прежде лишают его разума, — успел прокомментировать действия атамана Оратор, прежде чем его длинный меч опустился плашмя на голову одного из разбойников.
Он это сделал так молниеносно, что никто ничего не понял. А затем завертелась битва. Подстегиваемые алчностью — мешочек золота в этих края был баснословной ценностью, не говоря уже о лошадях — разбойники бросились на путников скопом, мешая друг другу. В запале схватки первое время они не замечали, что путешественники-иноземцы играют с ними, как с детьми.
Вот Оратор ловким движением перехватил руку с булавой кряжистого колха со шрамом на левой щеке и страшным по силе ударом в челюсть отправил его в нокаут; при этом бедняга откатился от общей группы метров на семь. Тут же Мыслитель, у которого махайра превратилась в сверкающий круг, так быстро он ею орудовал, за секунду успел выбить из рук двух разбойников акинаки и швырнуть одного из них через себя, как куль с мукой.
Казалось, что сила и выносливость путников безграничны. Они даже не вспотели. Мало того, Оратор, ловко орудуя то мечом, то кулаком, еще и посмеивался, будто не понимал, что над ним нависла смертельная опасность. Что касается Мыслителя, то он все проделывал обстоятельно, можно сказать, с душой, притом со спокойным выражением лица, — седобородый путешественник укладывал разбойников на землю одного за другим, как земледелец пшеничные снопы. При этом было видно, что Мыслитель, в отличие от Оратора, немного придерживает руку. В противном случае многие из разбойников уже отправились бы в иной мир.
Истина открылась колхам, когда на ногах остался лишь атаман и еще трое-четверо разбойников. Предводитель был ошарашен. Таких сильных и выносливых воинов ему еще не приходилось встречать. Отскочив на безопасное расстояние, он хриплым от напряжения голосом скомандовал:
— Луки!..
Но единственный из оставшихся лучников, который во время схватки как-то умудрялся пасти задних, даже не успел прицелиться. Звонко тренькнула тетива, и колх, вскрикнув от боли, уронил лук на землю — стрела Оратора пронзила ему правое предплечье. Когда он успел достать лук из горита, лежавшего возле коврика с остатками еды, и выстрелить, никто так и не понял.
— Не балуйте! — внушительно сказал Мыслитель. — Может, прекратим нашу «теплую беседу» и разойдемся с миром?
— М-м… — промычал атаман, тараща на него налитые кровью белки глаз. — Мы согласны. А как насчет… выкупа?
— Ну наглец… — Оратор расхохотался. — Подойди ко мне, я сейчас выпишу тебе выкуп. От всей души.
С этими словами он сунул меч в ножны, поплевал на ладони и сжал кулаки. Несмотря на то, что Оратор говорил на незнакомом предводителю разбойников языке, он все понял. И тут же отскочил на два шага назад, словно увидел перед собой изготовившуюся к броску змею.
— Я всегда говорил, что палка в обучении гораздо эффективнее красноречивых нравоучений, — сказал Оратор, обращаясь к Мыслителю. — Знание нерадивым ученикам (а тем более, почтение к педагогу) нужно вбивать в башку розгами по всем мягким местам, иначе их не пронять.
— Почему бы тебе этот метод не применить к своему корольку? — не без ехидства ответил ему Мыслитель.
Оратор помрачнел и сделал вид, что поправляет одежду. Мыслитель снисходительно улыбнулся и сказал, обращаясь к атаману разбойников:
— Забирай своих людей и проваливай по-добру, по-здорову. И чтобы мы вас больше никогда не видели. Иначе в следующий раз нам придется сложить из ваших тел гекатомбу[8] и отправить вместе с дымом к праотцам.
Совсем потерявший голову атаман не посмел перечить. Мало того, он даже поклонился «добрым» господам. Старый разбойник теперь ни на йоту не сомневался, что перед ним сами боги или богоравные герои.
Через несколько минут плато опустело. Некоторые разбойники ушли своим ходом, ахая и охая от сильных ушибов, а кое-кого им пришлось тащить на руках.
— А что, — весело сказал Оратор, — неплохо отдохнули! Теперь я готов подняться на самую высокую вершину, как бы ни было трудно. Тело поет, душа радуется…
— На вершину подниматься тебе не придется, — вдруг раздался чей-то сильный, как раскат молодого весеннего грома, бас.
Путники невольно вздрогнули и обратили свои взоры на тропу. К ним приближался огромного роста мужчина в одной набедренной повязке. Его рельефные мышцы играли под смуглой кожей, словно живые, длинные курчавые волосы были слегка тронуты сединой, а большие, широко открытые глаза великана цвета светлого янтаря казались сгустками солнечной плазмы, так ярко они светились.
— Прометей! — в один голос радостно воскликнули путешественники.
— А то кто же…
Они по очереди обнялись. Мыслитель от радости даже прослезился. А Оратор спросил не без удивления:
— Разве с тебя уже сняли оковы?
Громкий хохот Прометея всколыхнул горы; где-то неподалеку послышался шум камнепада.
— Ах, Мерлин[9], какой ты наивный… — ответил он. — Впрочем, это скоро пройдет. Ты еще так молод… Разве тебе неизвестно, что для Посвященных существует лишь одно наказание — превращение их в простых смертных. Все мы долгожители, чему способствуют молодильные яблоки Гесперид[10]. А оковы — это для легенд и сказаний.
— Но ведь все знают, что сам Гефест[11] сделал очень прочные цепи и приковал тебя к скале! Многие видели… — не сдавался Мерлин.
— Ну да, видели. Как сопровождавший меня в изгнание Гефест грузил на корабль свои железяки, чтобы продать их в этих диких краях подороже. Здесь железо в большой цене и за него платят золотом. А отличного вина в этих краях — хоть залейся. И стоит оно едва не дешевле родниковой воды. Мы с Гефестом почти год кутили на природе — согласитесь, здесь чудесные места! — пока за ним не примчался сам Гермес[12].
— Все это так, — вступил в разговор и Мыслитель. — Но, насколько я знаю, сад Гесперид находится не здесь, а в Рифейских горах[13]. То есть ты не можешь поддерживать свое долголетие, вкушая плоды чудо-яблони…
Прометей снова рассмеялся и обнял Мыслителя.
— Ты один из старейших Посвященных, Абарис[14]. Ты великий ученый и просветитель. Неужто забыл, что яблоня начинается из зернышка? Чтобы вырастить сад, требуется лишь соответствующий уход, мягкий климат, а также много времени, каждодневный труд и настойчивость. Несколько зернышек молодильных яблок я припрятал в набедренной повязке, земля и климат здесь просто райские, а свободного времени у меня хоть отбавляй.
— Хочешь сказать, что в горах Кавказа ты вырастил сад Гесперид?! — удивлению Абариса не было границ.
— Представь себе. Скоро увидите его воочию. Только чур никому! В особенности нашим «небожителям». Иначе они могут от зависти наслать на Кавказ саранчу или пригонят в море холодное океаническое течение, чтобы зима была круглый год. Собирайтесь и пойдемте. Тут уже недалеко. Коней придется оставить. Пусть пасутся. Не волнуйтесь, их не уворуют, за ними присмотрят ореады[15]. Они уже здесь, таятся в кустах. Очень большие скромницы… — Эти слова Прометей произнес не без сожаления.
Оказалось, что путники расположились на привал рядом с жилищем Прометея. Только оно находилось на верхнем плато, окруженном неприступными скалами. Даже опытный скалолаз не смог бы сюда забраться. Когда Прометей показал гостям тайную тропу к своей обители, они наконец поняли, почему им пришлось оставить коней внизу — тропа сначала завернула в узкое извилистое ущелье, а затем и вовсе нырнула в пещерный лабиринт, откуда без помощи знающего человека невозможно было найти выход.
Поднявшись на плато, где долгие годы жил изгнанник, Абарис и Мерлин невольно ахнули. Плато было пошире, чем то, где они полдничали. И трава на нем была другая — изумрудно-зеленая, невысокая, но густая и шелковистая, как ковер. Прометей построил удивительно симпатичный деревянный домик, вокруг которого разбил сад из разнообразных фруктовых деревьев и цветники. С одной стороны домика изливался небольшой водопад, падая в резную каменную чашу, а с другой, сразу за садом, находилась мастерская-кузница, за которой просматривались грядки. Возле мастерской находился большой очаг, сложенный из дикого камня.
Перед домиком Прометей построил просторную беседку под крышей из теса. Ее ажурные стены были увиты виноградной лозой, а несколько розовых деревьев, посаженных рядышком, источали дивный аромат. Внутри беседки находился большой стол и скамьи. Посреди стола стояла ваза с цветами, сработанная из цельного куска горного хрусталя, а рядом с ней лежали пергаментные свитки.
— А вот и мой сад с молодильными яблоками, — благодушно улыбаясь, указал своей могучей рукой Прометей. — Они вот-вот созреют. В отличие от яблонь из сада Гесперид, мои деревья плодоносят практически круглый год. Мне удалось растянуть вегетативный период. Как видишь, Абарис, здесь есть и цветы, и завязь, и уже вполне сформировавшиеся плоды.
— Ты всегда отличался нестандартным мышлением и способностью находить в обыденности что-то новое, необычное, — ответил восхищенный Абарис; будучи великим ученым и просветителем, он прекрасно понимал, сколько трудов стоило Прометею вырастить чудесный сад Гесперид на земле Кавказа.
Яблоньки оказались на удивление низкорослыми. Их ветви свисали вниз, как у плакучей ивы. Но окраска ветвей была не зеленой или коричневатой, а желто-золотистой. Такими же были и крупные цветы, собранные в соцветья. Созревающие яблоки — по крайней мере те, что видели гости Прометея, — своим цветом напоминали чистый пчелиный воск. При ближайшем рассмотрении оказалось, что они полупрозрачны; внутри яблок видны были даже темные семена-косточки. Кожица яблок тоже была необычной — шершавая, в мелких зазубринках и насечках. Над садом витал удивительно приятный и сильный аромат, не похожий ни на какой другой.
— Увы, други мои, несмотря на мой дар предвидения, я вас не ждал, — сказал Прометей. — А потому вам придется довольствоваться вином и фруктами, пока я не приготовлю достойное угощение. Вон там мой сосуд для омовения, — смеясь, указал он на водопад. — Вода немного холодноватая, но я уже привык. Зато она бодрит и дарит отличное настроение.
— Скажи, Прометей, — наконец осмелился Мерлин задать вопрос, который давно вертелся у него на кончике языка, — а где тот огромный орел, который терзает тебя каждый день? Или это вымысел?
Громыхнувший грозовым раскатом смех Прометея вызвал многократное эхо. Насмеявшись вдоволь, он хитро сощурился и ответил:
— Нет, не вымысел. Будет вам и орел… — Тут он поднял голову к безоблачному небу, присмотрелся и воскликнул: — А вот и он!
Абарис и Мерлин дружно взглянули на ту точку небесного купола, куда указывал Прометей, и невольно втянули головы в плечи — прямо на них пикировал невероятных размеров орел! Он распрямил свои широкие крылья почти возле самой земли, что задержало его стремительное падение, и испуганные гости Прометея увидели, что орел держит в когтях горного барана.
Орел сел на лужайку перед жилищем Прометея почти неслышно, лишь воздушная волна от этого приземления едва не сшибла с ног и Абариса, и Мерлина. Ростом огромная птица была по грудь Прометею. Он подошел к орлу и ласково погладил его по голове.
— Умница, умница… Хороший мальчик… Спасибо тебе. А вот и подарок к нашему пиршественному столу, други мои, — сказал Прометей, обращаясь к своим гостям.
Он легко поднял одной рукой тяжелую баранью тушу и понес ее к очагу…
На столе не было только птичьего молока. По крайней мере, так думали путешественники, изрядно стосковавшиеся за время длинного пути на Кавказ по хорошо приготовленной домашней пище. Запеченная на костре баранина, жареная форель, козий сыр, белые и пышные, как тело красавицы-северянки, свежие хлебцы, соленые маслины, отсвечивающий червонным золотом горный мед в глубокой миске, в большой керамической вазе гроздья винограда, фиги, яблоки, абрикосы и еще какие-то незнакомые даже понимающему толк в садоводстве Абарису фрукты, несколько разновидностей соусов, из овощей египетская редька (скорее всего, завезенная в эти края предками колхов), перья зеленого лука и чеснока, пряная зелень… и много разных вин.
Когда все уселись в беседке за накрытый стол, солнце уже клонилось к горизонту. Оно покрасило заснеженные вершины в розовый цвет и набросило на ущелья и долины полупрозрачную дымчатую вуаль. Вокруг царила благословенная тишина, которую нарушало лишь тихое жужжанье пчел и шмелей. Они хлопотливо опыляли цветущий сад Гесперид и торопились в свои ульи с полным грузом животворящей пыльцы, чтобы успеть до заката прилететь сюда еще раз.
— Я подобрал его, когда он выпал из гнезда, — рассказывал Прометей, бросая орлу загодя припасенные куски свежего мяса. — Выходил, вырастил… Почему такой огромный? — Титан улыбнулся. — Все очень просто — я добавлял ему в пищу кое-какие вещества, стимулирующие рост. Вот он и вымахал… Но теперь пришла пора подумать над тем, как подобрать (а значит, вырастить) этому здоровяку пару. Задача не из легких… А что касается легенды, будто орел клюет мою печень, так ее придумали люди с хорошо развитым воображением. Я на них не в обиде. Пусть будет так.
— Откуда у тебя все эти продукты? — спросил Абарис, указав на стол.
— Кое-что из моего сада-огорода, разную дичь — барана ты сам видел — добывает орел, иногда я сам охочусь, а что касается остального провианта, то это жертвоприношения… — Тут Прометей улыбнулся с хитринкой. — Жрецы местных племен в мою честь организовали в Священной роще (так они ее назвали) что-то вроде святилища и раз в неделю приносят туда все, что мне необходимо. А чтобы не выглядеть в их глазах плутом и попрошайкой, я время от времени подкладываю в святилище собственноручно выкованные мечи и лабрисы[16]. Это моя плата за продукты. Хитрые жрецы считают это оружие божественным и одаривают им только вождей и самых храбрых воинов. По правде сказать, мечи у меня получаются и впрямь очень даже ничего…
— Кто бы в этом сомневался… — Мерлин коротко хохотнул. — А одиночество тебя не гложет?
— Как тебе сказать… В общем, я уже привык. Но не так уж я и одинок. Иногда ко мне заглядывает на огонек старик Океанос[17], нередко бывают и его океаниды[18]… — Тут Прометей загадочно ухмыльнулся. — Так что я не обделен и женским вниманием…
Когда от барана остались лишь груда костей и половина кувшинов с вином показала дно, Абарис, немного помявшись, спросил:
— Зачем ты подарил свой Большой Анк простым людям? Ведь он обладает огромной силой и по Закону им могут пользоваться только Посвященные. В противном случае может приключиться большая беда.
Прометей задумчиво посмотрел на небо, где уже появилась луна, немного помедлил, а затем ответил:
— Задай этот вопрос Дий[19], я бы не удивился. У него лишь одно на уме — власть над племенами и народами Гайи[20]. Власть в любой форме, которая нередко перерастает в тиранию в зависимости от его настроения или прихоти кого-нибудь из приближенных к нему Высших Посвященных. Но ты-то, Абарис, великий просветитель и знаменитый ученый, по идее, должен знать ответ на этот вопрос. Молва гласит, что я выкрал священный огонь из кузницы Гефеста и подарил его людям. Чушь! Огонь существует на Гайе со дня ее сотворения. Мыслящие существа научились пользоваться огнем в незапамятные времена, когда не было ни богов, ни Посвященных.
Титан одним махом осушил вместительную чашу с вином и продолжил:
— Анк наделяет человека другим огнем — внутренним. Вы это знаете. Он невидим и неосязаем. Этот Священный Огонь дает людям огромную внутреннюю силу, уверенность в своих действиях, бесстрашие и неутомимость в бою. К сожалению, еще не скоро наступят времена, когда люди начнут ковать в кузницах не мечи, а только плуги, бороны и серпы…
— Но почему тогда, мой друг, ты отдал свой Анк подопечным мне племенам сколотов, почему выбрал из всех земных племен именно их? — продолжал допытываться Абарис.
— Потому что они свободны от большинства предрассудков, присущих другим народам, — ответил титан. — Ты многому их научил… Сколоты многочисленны, они смелые, свободолюбивые люди, которые по своей сущности не могут быть рабами. И потом, в их жилах течет кровь атлантов. Да, пока сколоты дикие, или, скажем так, мало цивилизованны, но со временем из них выйдет народ, которому спустя тысячелетия суждено стать стержнем новой цивилизации. Вот и вся разгадка моего поступка. Дий сослал меня в эти края не потому, что я отдал свой Анк простым людям, а в большей мере из-за того, что для сколотов наш верховный владыка не является авторитетом, потому как у них другие боги.
— Дий настаивает, чтобы ты забрал у сколотов свой Большой Анк… — не глядя на Прометея, сказал Абарис.
— Так вот, значит, с какой целью вас занесло на Кавказ…
— Да, — не стал отпираться Абарис. — И не только, если честно. Нам очень хотелось, во-первых, встретиться с тобой, а во-вторых, посмотреть на мир. И я, и Мерлин уже засиделись на месте. Его держит король Утар, которому он обязан служить, а меня — мои алхимические исследования. Поэтому мы были очень рады, получив распоряжение синклита Посвященных, оправиться на Кавказ.
— Боюсь, мне придется вас огорчить. Анк останется у сколотов. Навсегда! Это мое твердое слово и окончательное решение.
— Но Дий сбросит тебя в Тартар! — ужаснулся Абарис.
Прометея разобрал смех. Друзья смотрели на него с удивлением, не в состоянии понять, что так развеселило титана.
— Вы имеете представление, что такое Тартар? — смеясь, спросил Прометей. — Я понимаю, вам наговорили всякой всячины: что это темная бездна, что это ад, что Тартар окружен тройным слоем мрака и железной стеной с железными воротами… Это все сказки для маленьких детей! Тартар — северная часть Ойкумены[21], будущая страна Тартария[22], где длинные и холодные зимы. Но там бывает и весна, и теплое лето, и щедрая золотая осень, там произрастают яблони, сливы, груши, многие огородные культуры, колосятся пшеница и ячмень… А сколько в Тартаре разнообразной дичи, рыбы! Должен вам сказать, друзья, что старый и наивный добряк Кронос, которого Дий свергнул с трона предводителя Посвященных и отправил в Тартар вместе с моими братьями-титанами, очень даже неплохо там устроился. Живет и не тужит. Так что я с удовольствием съезжу к нему в гости. Давно мечтал его повидать, но не хотелось лишний раз злить Дия. Мне ведь приказано с Кавказа никуда ни ногой.
— Ну, если так… — обронил Абарис и погрузился в думы.
Что касается молодого и беззаботного Мерлина, то под действием винных паров он уже и думать забыл о поручении синклита Посвященных; маг и волшебник короля Утара, воспитатель его наследника Артура, будущего предводителя рыцарей Круглого Стола, наслаждался ночной прохладой, запахами сада Гесперид, которые к ночи значительно усилились, и вкусом отменного виноградного вина.
Прометей закрыл глаза. Словно сильный вихрь подхватил титана и понес его сначала над горами Кавказа, а потом и над бескрайними степными просторами, хотя его мощное мускулистое тело по-прежнему находилось в беседке, которую он построил своими руками. Вскоре с высоты орлиного полета Прометей увидел посреди степи многочисленные костры и начал снижаться.
Вокруг огненного кольца из девяти костров сидели воины-сколоты в полном боевом облачении; их было очень много. Похоже, намечался очередной военный поход. А в центре круга, на высоком гранитном камне, лежал Большой Анк титана. Возле него хлопотали жрецы в длинных одеждах. В руках они держали связки прутьев и бормотали какие-то заклинания. Прометей не слышал, что говорят жрецы-прорицатели сколотов, но ему были хорошо известны слова заклинаний, потому как он сам их и придумал — для того, чтобы заставить Анк функционировать.
Титан с удовлетворением наблюдал, как энергетические волны, расходясь от Большого Анка, словно круги от брошенного в воду камня, вливались в сердца воинов. Сколоты не могли этого видеть — только чувствовали. Вскоре в глазах воинов загорелись огоньки, и дикий воинский клич «Вайу!!![23] Вайу!!! Вайу!!!» пронесся над степью. Вспомнив Дия, Прометей с мстительным чувством рассмеялся, от чего над степью загрохотал гром, и его эфирная сущность вернулась в бесчувственное тело. Весь полет титана, похожий на сновидение, продолжался считанные секунды.
Сидя под крышей беседки, он не мог видеть, как звезды над Кавказом на некоторое время сбились в кучу, будто черную небесную скатерть скомкала чья-то могучая длань. Однако спустя некоторое время все стало на свои места. Лишь на другой стороне Гайи, в безлюдных горах, случилось страшное землетрясение. Но только жители Олимпа — Посвященные — могли с трепетом наблюдать, как Дий, разъяренный непослушанием Прометея, раз за разом мечет в землю огромные молнии, руша скалы и обращая течение рек вспять.
Глава 1
Глеб Тихомиров, кандидат исторических наук и весьма известный в достаточно узком кругу «черных» археологов искатель древностей, откровенно скучал. Он сидел в своем доме на втором этаже перед компьютером и от нечего делать не очень внимательно читал статейку какого-то дилетанта и фантазера, в которой говорилось, что мифы древних греков на самом деле являются устным пересказом событий, случившихся в доисторические времена. За прошедшие тысячелетия живые личности Древнего мира превратились в легендарных героев, а кое-кого из них человеческая молва даже обожествила. Автор статьи пытался обосновать свои выводы, но эти обоснования больше напоминали манипуляции фокусника, нежели серьезный анализ специалиста.
«Может, это и так, — со скепсисом думал Глеб, — возможно, этот курилка где-то прав, да вот только нам-то что от этого?» Под выражением «нам» он понимал собратьев по тайному и не очень законному ремеслу самодеятельных археологов. Ни самому Глебу, ни его предкам (а все они с деда-прадеда были кладоискателями) ни разу не выпала удача найти хоть что-нибудь стоящее, относящееся к глубокой древности.
Весь клан Тихомировых, с деда-прадеда, дико завидовал своему «коллеге», счастливчику Генриху Шлиману, отыскавшему золото Трои. И все пытались повторить его подвиг. Но не так уж много насчитывалось в человеческой истории богатых государств и городов, а те, что существовали в древние века, давно превратились в пыль. В лучшем случае от них остались камни, а золото и драгоценности были переданы неумолимой историей, как эстафета, другим племенам и народам.
Чего стоит только одна страница исторических хроник, где рассказывается, как испанские конкистадоры завоевали южно-американские государства ацтеков и майя. Уникальные изделия индейцев были переплавлены в золотые бруски, а все то, что не представляло ценности в глазах «великих цивилизаторов», было предано огню.
«Не позвонить ли бате? — Глеб откинулся на спинку кресла и потянулся, словно кот на завалинке. — Обещался приехать еще на той неделе, да все никак. Дался ему этот Лондон…»
Тихомиров-старший, доктор исторических наук и большой дока по части оценки археологических раритетов, время от времени консультировал лондонский аукционный дом «Сотбис». Он был очень авторитетным специалистом с мировым именем по древностям. Кроме того, Николай Данилович (так звали Тихомирова-старшего) читал лекции по археологии в Сорбонне, а также кропал умные книжки.
В отличие от отца, Глеб не имел ни малейшего желания корпеть за письменным столом или преподавать на кафедре. Его стихией была работа в «поле», нередко сопряженная с большим риском для жизни. Короче говоря, по натуре Глеб был авантюристом. Поэтому он чувствовал себя не в своей тарелке, когда на примете не имелось ни единого стоящего объекта для раскопок. Как в данный момент.
Тихомиров-младший уже намеревался отправиться на кухню, чтобы заварить крепкий чай, — с непривычки после трехчасовых бдений за компьютером его начало неудержимо клонить ко сну — но тут взгляд Глеба остановился на большом плоском экране, висевшем на стене кабинета справа от письменного стола; по левой стороне высились книжные шкафы со специальной литературой по истории и археологии. (Дом Тихомировых был построен в центральном районе города, обнесен высоким забором и оснащен первоклассной сигнализацией, а также видеокамерами наружного наблюдения.)
То, что Глеб увидел на экране, шокировало молодого человека. Одна из видеокартинок показывала участок перед воротами — неширокую площадку, вымощенную тротуарной плиткой, въезд во двор. И на этой площадке разыгрывалась, как на театральных подмостках, настоящая трагедия — один человек убивал другого. Остолбеневший Глеб видел, как лохматый мужик наносил удары ножом своей жертве, которая пыталась защищаться, выставляя перед собой небольшую дорожную сумку.
Опомнившись, Тихомиров-младший подбежал к пульту, находившемуся рядом с экраном, и ударил ладонью по напоминающей шляпку гриба большой красной кнопке, включавшей ревун. Тут же на улице замигали огни фонарей и раздался громкий противный вой, словно из преисподней вырвались демоны ада.
Все эти предосторожности — дорогая заграничная система сигнализации, видеокамеры и ревун — не были данью смутному бандитскому времени девяностых прошлого столетия. Тихомировы всегда отличались предусмотрительностью и осторожностью. В их доме определенная категория граждан могла очень даже неплохо поживиться. В шкафах, находившихся в кабинете отца и в гостиной, были выставлены бесценные раритеты прошлых эпох, не говоря уже о подвале, похожем на банковский сейф, где хранились золотые и серебряные изделия старинных мастеров.
Похоже, звуки сирены не испугали убийцу. Он лишь перестал орудовать ножом и нагнулся над жертвой, которая упала на землю. Глеб не стал досматривать страшное «кино». Он схватил ружье, стоявшее в шкафу, и, на бегу заряжая его, выскочил сначала во двор, а затем и за ворота. Но убийца уже был далеко; он убегал.
В запале Глеб прицелился, но тут же опустил ружье. Негодяй успел смешаться с прохожими, и стрелять по нему не было никакой возможности. Так же, как и догонять. С виду низкорослый и нескладный, убийца тем не менее бегал как спринтер. Глеб лишь кисло покривился — бег на длинные дистанции никогда не был его стихией.
Сокрушенно вздохнув, Тихомиров-младший обратил взор на несчастного, который, похоже, заканчивал свой жизненный путь. Он лежал ничком в луже крови, конвульсивно двигая правой рукой. Глеб осторожно перевернул его на спину и совсем пал духом — ранения, нанесенные неизвестным, были очень опасными. Убийца нанес жертве не менее пяти ран в область живота и в грудь.
Глеб опрометью бросился в дом, выключил сигнализацию и возвратился к воротам со своей походной аптечкой и мобилкой. Первым делом он вызвав «Скорую» и милицию. А затем сделал укол обезболивающего препарата и занялся перевязкой ран. Это Глеб умел делать хорошо. В кочевой жизни «черного» археолога всякое случается. Поэтому минимум медицинских знаний для кладоискателя-энтузиаста просто необходим.
Едва Глеб закончил перевязывать раны, как человек открыл глаза и попытался что-то сказать. Это был худощавый бородатый мужчина лет пятидесяти пяти. Судя по одежде, он явно не был городским жителем. Но что привело его в город и почему на него напали?
«Что он шепчет? Кажись, «двенадцать»… Что такое «двенадцать»? Поди знай… Может, дом номер двенадцать? Но на нашей улице нет жилого дома под таким номером. Непонятно… — думал Глеб, пытаясь прочитать по губам, что хочет сказать несчастный; тот даже не мог шептать, лишь тихо шипел. — Возможно, это один из «черных» археологов. Пришел, чтобы мы оценили находку. Если это так, то, судя по всему, его добыча имеет большую цену…»
К Тихомировым часто обращались кладоискатели, чтобы кто-то из них — отец или сын — помог в оценке найденных раритетов. Всем было известно, что и Николай Данилович, и Глеб — большие спецы своего дела и никогда не обманывают, в отличие от скупщиков подпольного антиквариата.
Конечно, и у них бывали накладки по части определения первоначальной цены какой-нибудь древней вещицы — это если Тихомировы положили на нее глаз. Тогда начинался длительный торг. Естественно, устоять перед нажимом потомственных кладоискателей, проевших зубы в своем ремесле, «черные» археологи не могли. Но даже в таких случаях они точно знали, что больше за эту находку все равно никто не даст.
Наконец, отчаявшись внятно произнести хоть слово, раненый собрал последние силы и выбросил в сторону правую руку. Ее указательный палец был нацелен на цифры, начертанные кровью на охристо-желтой поверхности тротуарных плиток. Удивленный и озадаченный Глеб еле разобрал эти закорючки, изображенные неверной рукой — «А 274». Что это значит?
Тихомиров-младший перевел взгляд на лицо мужчины и горестно вздохнул. Оно вдруг стало спокойным, отрешенным и мраморно-белым из-за большой потери крови. Кажись, все заботы и проблемы несчастного на этом свете заканчивались. Судя по тому, что пульс уже почти не прощупывается, он вот-вот должен был испустить дух. И как это часто бывает, в аккурат к приезду «Скорой помощи».
Морально опустошенный Глеб отошел в сторону и закурил. При этом его взгляд не отрывался от надписи на тротуарной плитке. И когда из-за поворота показался милицейский микроавтобус с дежурной оперативной группой, он наконец принял решение. На него словно снизошло озарение. Глеб подскочил к надписи и, стараясь не привлекать внимания медиков, колдующих над неизвестным, старательно растер ее подошвой ботинка — так, чтобы она не отличалась от других кровяных пятен, густо испещривших въезд во двор.
С майором из «убойного» отдела Глебу уже приходилось встречаться. Года два назад майор вел одно запутанное дело, связанное с хищением музейных ценностей. Тогда был убит ночной сторож, который, как выяснилось позже, оказался подельником воров. Тихомиров-младший фигурировал в деле сначала как свидетель (он консультировал реставраторов музея и был вхож в запасники), а потом как эксперт.
Майора звали Арсений Павлович и было ему лет пятьдесят. Звезд с неба он не хватал, поэтому в преклонном для мента-оперативника возрасте имел на погонах всего лишь одну звездочку и десяток ранений, которые характеризовали его в первую очередь как храбреца, но способного на спонтанные, непродуманные решения.
Арсений Павлович был общительным, не черствым, что не очень присуще людям его профессии, никогда не козырял своими возможностями и, что удивительно, не брал взяток. Наверное, потому он считался среди ментов белой вороной.
— Ваш клиент? — спросил Арсений Павлович, просветив Глеба своим острым ментовским взглядом-рентгеном.
Он был наслышан, чем занимается клан Тихомировых. Кроме того, Николая Даниловича и Глеба время от времени приглашали в УВД для консультаций на историко-археологические темы. Встречи Тихомировых с милицией особенно участились в последние годы, когда неподалеку от города официальная экспедиция Академии наук нашла несколько захоронений скифской поры и раскопала торжище древних славян. Народ пошел на левый промысел косяками, и многие попадались в сети, расставленные правоохранительными органами.
— Нет, — коротко ответил Глеб.
— Старо предание…
— По крайней мере, мне он не знаком, — на всякий случай уточнил Тихомиров-младший.
— И кто это его так?.. У тебя есть какие-либо соображения на сей счет?
— Соображения отсутствуют. Зато имеется в наличии пленка видеозаписи происшествия.
— Ну?! — оживился Арсений Павлович. — Это уже хорошо. Пойдем, поглядим…
Майору уже приходилось бывать в доме Тихомировых. И в этот раз он признался:
— Как гляну я на вашу хату, так сразу меня жаба начинает душить. Уж извини за правду… Круто живете. Просторно, богато. А я уже который год кантуюсь в двухкомнатной квартире вместе с тещей, женой и дочерью. Иногда домой не хочется возвращаться. Сплю в кабинете, на диване.
— Зато у вас романтика…
— Ты шутишь или серьезно так думаешь? — с подозрением посмотрел на Глеба майор.
— Шучу.
— А-а, ну-ну… Включай свою шарманку…
Арсений Павлович просмотрел запись несколько раз. Он буквально прилип к экрану, чтобы не упустить ни малейшей детали из увиденного. Затем констатировал:
— Убийца — не грабитель, хотя карманы мужика обшарил. В этом я уверен на все сто. Но и не профессионал. Мало того, даже не блатной. Тыкал ножом, как поганая баба вилкой.
— Это хорошо или плохо, что не профессионал?
— Хреново. Он может быть залетной птицей и сейчас уже катит в электричке на запад или на восток. Ищи-свищи ветра в поле… Боюсь, моей «конторе» светит очередной «висяк».
— Но ведь у вас есть такие доказательства…
— Доказательства! — фыркнул майор. — Эту смазанную картинку к делу не пришьешь. Конечно, наши спецы попробуют вытащить его фотку поближе к нормальному размеру, чтобы размножить и разослать по городам и весям, но могу себе представить ее качество… Ладно, глянем, что там у него в карманах.
Из карманов покойника Арсений Павлович достал перочинный нож, деревянную расческу, носовой платок в зеленую и красную клеточку, немного мелочи и изрядно помятый железнодорожный билет. Он завалился за порванную подкладку пиджака, потому, наверное, покойник и не выбросил его в урну, сойдя с поезда. Какие-либо документы и деньги отсутствовали. Похоже, их забрал убийца вместе с дорожной сумкой, которая служила убитому импровизированным щитом.
— Приехал в город сегодня… три часа назад, — констатировал майор, прочитав надписи на билете. — Издалека. Тебе название Висейки ничего не говорит?
— Впервые слышу.
— Я тоже. Скорее всего, это название железнодорожной станции. Похоже, глушь еще та. Какая нелегкая занесла этого клиента в наши палестины? И к кому он шел? Ты точно его не знаешь?
— Арсений Павлович, зачем мне темнить? Дело ведь нешуточное.
— Это верно. Какие уж тут шутки…
— Я могу лишь посоветовать вам обратить внимание на некоторые детали.
— Ты о чем?
— Нож. Такой теперь можно увидеть только в музее. Раритет. Но в отличной сохранности. Хоть сразу выставляй на аукцион.
— Да? Интересно… Ну-ка, ну-ка, просвети.
— Это швейцарский нож фирмы «Викторинокс», изготовленный в девятнадцатом веке… скорее всего, не позже 1887 года. Нож армейского типа — сначала их поставляли в армию. Этот экземпляр когда-то принадлежал офицеру.
— Почему так думаешь? На нем ведь не написано.
— У моделей, предназначенных для простых солдат, было одно лезвие, пробойник, консервный нож и отвертка. А офицерские ножи дополнительно имели маленькое лезвие и штопор. Как у этого. Господа офицеры, знаете ли, любили веселых дам, которые обожали хорошие вина, а бутылки нужно было чем-то открывать.
— И все-то ты знаешь… — не без зависти сказал майор.
— Это специфика моей работы, — скромно ответил Глеб. — Кто на что учился…
— Верно. Согласен.
— Между прочим, ножами фирмы «Викторинокс» пользуются американские астронавты. Но и это еще не все. Посмотрите внимательно на расческу.
— Смотрю. Ну и что? Деревяшка, она и есть деревяшка.
— Как бы не так… Расческа изготовлена из эбенового дерева, которое, как вам известно, в России не произрастает. Судя по ее состоянию и по форме зубцов, она может быть ровесницей перочинному ножу. Но даже это не главное. На рукоятке расчески весьма искусно вырезано изображение анка. Это такой старинный крест. Он известен со времен Древнего Египта. Его называли крестом вечной жизни. Ему поклонялись копты и готы. В настоящее время анк исчез из обихода. Возможно, расческа когда-то принадлежала какому-нибудь сектанту. Не исключено, что и покойник состоит в секте, которая поклоняется анку. Сейчас появилось столько разных сект, что и сосчитать невозможно…
На этом «консультация» закончилась. Подписав свидетельские показания и попрощавшись с Арсением Павловичем, Глеб закрыл калитку на засов и возвратился в дом. Его трясло — он все еще был под впечатлением трагического происшествия. Ему уже приходилось сражаться за свою жизнь с оружием в руках, но наглое убийство средь бела дня, в городе, на достаточно людной улице, практически на виду у всех, взволновало молодого человека до глубины души.
И еще — почему он стер надпись на въезде? Это был спонтанный, неосознанный порыв. Словно ему кто-то подсказал на ухо. Хотя, по правде говоря, Глебу и впрямь как будто послышался чей-то голос, приказавший избавиться от надписи. Он не должен был так поступать. Ведь надпись могла быть важной уликой. Получается, что он преступил закон. Почему он так поступил?!
Этот вопрос не давал Глебу покоя. Он сварил кофе, достал бутылку отменного армянского коньяка (подарок отцу от друга из Еревана) и выпил первую рюмку ароматного выдержанного напитка, словно водку, одним махом. Коньяк пробежал по жилам потоком горячей лавы и образовал в желудке огненный шар, который не жег, а согревал, будоража воображение и подстегивая мыслительный процесс.
Итак, первое — покойник. На нем одежда сельского жителя. Это и к бабке не ходи. Притом жителя самой, что ни есть, дремучей глубинки. Одни его ботинки чего стоят. Такие хромовые шузы обувные фабрики шили в шестидесятые годы прошлого столетия. Судя по их вполне приличному виду, убитый мужик держал ботинки за выходные и надевал только по праздникам. Или для поездок в город, которые случались не часто.
Второе — борода. Не будь у покойника расчески с изображением анка, можно было предположить, что он старовер. По нынешним временам только староверы носят такие шикарные бородищи и ваххабиты. Но мужик совсем не похож на мусульманина, у него чисто русское лицо. И потом — расческа с изображением креста. Ваххабит даже в руки ее не возьмет.
А покойник, судя по всему, дорожил расческой — держал в специально пришитом к пиджаку внутреннем кармане-чехле с застегивающимся клапаном. Наверное, она служила ему оберегом. Увы, оберегом, не выполнившим своего предназначения…
Итак, резюме: наличие длинной, хорошо ухоженной броды у покойника еще раз подтверждает, что он не местный, что принадлежит к адептам какой-то веры, скорее всего, связанной с поклонением анку, и что он приехал издалека. Висейки… Где находится эта станция?
Глеб включил компьютер и спустя несколько минут кисло скривился: как он и предполагал, Висейки находились в такой глухомани, что страшно представить. Вокруг станции раскинулись сплошные леса и болота, а несколько близлежащих деревень были расположены вдоль небольшой речушки, огибающей Висейки дугой, и напоминали рассыпавшееся ожерелье, на котором осталось несколько бусинок. От ближайшего города до Висеек Глеб насчитал триста километров. Далековато…
Далее — третье. К кому приехал этот человек? Улица, где проживали Тихомировы, была застроена особняками, в которых обитала почти вся городская чиновная верхушка и богатые бизнесмены. Вряд ли у этих вороватых снобов имелись такие родственники. А если и были, то их и на порог не пускали. С какой стати? Гусь свинье не товарищ, нечего безродной голытьбе топтаться на зеркальном паркете и марать своими ножищами дорогие персидские ковры.
Значит, бородач все же мог идти к Тихомировым. Только к ним нередко заходили весьма подозрительные личности (с точки зрения сановного обывателя), одежда и повадки которых не выдерживали никакой критики. Понятное дело — разве может прожженный кладоискатель или «черный» археолог опуститься до того, чтобы надеть на себя приличный, хорошо отутюженный костюм и галстук? Потертая, выцветшая ветровка, байковая рубаха в клетку, джинсы и армейские ботинки на шнуровке — вот наряд настоящего мужчины, которому и сам черт не брат.
А если так, если убитый шел к Тихомировым, то это значит, что он мог быть знакомым если не Глеба, то Николая Даниловича. Глеб покопался в памяти и вынужден был констатировать, что этого мужика он нигде и никогда раньше не встречал.
«Выходит, покойник был знаком с батей? — Глеб почесал в затылке и потянулся за сигаретами. — Это возможно. Отец в свое время исколесил почти весь Союз… Сумка! Что в ней находилось? Вряд ли там лежали тапочки, полотенце и сменное белье. Не тот типаж. Такие люди обходятся минимумом: постиранные трусы сушат на теле, носки — на радиаторе отопления или просто на ветру, а полотенце им заменяет подол рубахи. Мужик мог просто идти по указанному кем-то адресу, чтобы продать свои находки. Вариант наиболее подходящий…»
Допустим, это так. Тогда двигаемся дальше. Пункт номер четыре. Что обозначает слово «двенадцать», которое мужчина пытался прошептать из последних сил? И потом, буква и цифры, написанные на тротуарных плитках — «А 274». Куда вставить эту надпись?
«А 274… А 274… — шептал Глеб. — Ребус, кроссворд… И вообще, на кой ляд мне все это надо?! Своих забот, что ли, мало? Машину нужно отогнать на диагностику, душевую кабину загерметизировать — где-то протекает, сволочь… В библиотеке не мешало бы покопаться. Может, там что-нибудь стоящее отрою. Все равно на следующий сезон у меня даже на примете нет ни одного подходящего объекта на предмет раскопок. Да пошло оно все!..»
Глеб решительно поднялся, чтобы отнести пустую чашку на кухню… и тут же плюхнулся обратно в кресло. Двенадцать! А 274! «Мать моя женщина… — прошептал он ошарашенно. — Это ведь номер ячейки в автоматической камере хранения на вокзале и код замка!»
Схватив документы и ключи от машины, Тихомиров-младший бегом спустился в гараж и через полчаса уже входил в здание железнодорожного вокзала. К боксам автоматической камеры хранения он подходил на дрожащих ногах — верна его догадка или нет?
Замок двенадцатой ячейки мягко щелкнул, Глеб потянул на себя дверку и она открылась. Что такое?! Внутри было пусто. Не может такого быть! Ячейка под двенадцатым номером находилась на верхнем ярусе боксов. Совсем замороченный Глеб засунул в нее руку и пошарил, словно там могла лежать сказочная шапка-невидимка.
Неожиданно его пальцы нащупали какую-то картонку. Глеб вытащил ее из ячейки и только тогда понял, что это никакая не картонка, а конверт из плотной оберточной бумаги. От волнения он сразу вспотел, но все же сумел найти в себе силы, чтобы не открыть конверт немедленно, прямо возле боксов камеры хранения. Вдруг кто-нибудь за ним наблюдает?
Незаметно сунув конверт в карман, Глеб вышел на привокзальную площадь и направился в сторону автомобильной стоянки. Но сначала он зашел в кафе, которое, как уже знал Глеб, имело второй выход; он им и воспользовался. Дальнейший путь Тихомиров-младший проделал едва не бегом, стараясь прятаться за многочисленными пассажирами, снующими по площади туда-сюда.
Забравшись в салон машины, Глеб первым делом некоторое время понаблюдал, не тянется ли за ним «хвост». Его не совсем законная профессия «черного» археолога приучила Тихомирова-младшего к осторожности и предусмотрительности. А затем включил зажигание и очень резво взял старт. Немного покрутившись по городу, чтобы проверить, нет ли за ним преследователей, Глеб наконец подъехал к супермаркету и вскрыл конверт.
Там лежала одна-единственная фотография, наклеенная на плотный картон. Ее сделали, судя по тисненному золотом имени владельца фотоателье «Karl Bulla» и коричневатому фону, в конце девятнадцатого или в начале двадцатого века. На фотоснимке была изображена женщина в годах. На голове у нее красовалась кружевная черная шляпка.
Глеба поразило властное выражение лица женщины и ее большие, широко расставленные глаза. Казалось, что они были живыми и смотрели прямо ему в душу.
Он перевернул фотографию и на обороте прочитал несколько слов, написанных неверной, явно старческой, рукой: «Никола, срочно приезжай. Отхожу. Баба Глаша». А ниже надписи химическим карандашом (по нынешним временам большая редкость) был нарисован анк.
Глава 2
Кто в Париже не знает дядюшку Мало? Его постоялый двор «Ржавый якорь» в Сен-Клу с весьма неплохой гостиницей и таверной посещали даже принцы и другие высокопоставленные господа. Дядюшка Мало был невысокого роста, крепко сбит, краснолиц, с головой, лысой как колено, и обладал зычным боцманским голосом. Поговаривали, что он сколотил свой капитал, на который приобрел и перестроил постоялый двор, не совсем честным путем. Будто бы в молодости дядюшка Мало был корсаром[24]и даже участвовал в нападении на Картахену.
Когда его об этом спрашивали, дядюшка Мало весело смеялся и говорил: «Что вы, мсье, как можно? Я законопослушный подданный нашего пресветлого короля и просто не способен на такие подвиги. Из оружия я предпочитаю вертел для жарки дичи и сковородку. Пираты и корсары — смелые люди, а моей храбрости не хватает даже на то, чтобы вечером прогуляться по Парижу. Не угодно ли отведать каплуна, мсье? Я подам к нему такой потрясающий соус, что пальчики оближете…»
И тем не менее обитатели Дома Чудес[25]— воры, бандиты и мошенники — не осмеливались даже близко подойти к «Ржавому якорю». Веселый и улыбчивый дядюшка Мало вычислял их на раз и был с ними крут и скор на расправу. В его руках острый вертел мог оказаться не менее опасным оружием, нежели шпага королевского мушкетера.
Кроме того, у него под рукой всегда был небольшой отряд слуг из отставных матросов; они тоже не очень церемонились с мазуриками. Просоленные насквозь морские волки в свое время принадлежали к вольному братству пиратов, а потому не боялись даже самого черта-дьявола, не говоря уже о бандитах и ворах, обычно избегавших честного боя лицом к лицу и нападавших в основном исподтишка.
В отличие от многих других постоялых дворов, заведение дядюшки Мало было чистым и ухоженным. В нем имелся даже крохотный зеленый дворик с прудом, в котором плавали золотые карпы. В этот дворик-сад допускались лишь близкие друзья дядюшки Мало и высокородные дворяне. Обслуга постоялого двора в разговорах намекала, что на оборудование такой диковинки (в каменных трущобах Парижа трудно было встретить даже кусочек зелени) их хозяина подвигли ностальгические воспоминания о молодости, которую он провел в путешествиях.
Теплым весенним утром 1740 года к постоялому двору «Ржавый якорь» подъехала запыленная карета. Судя по изрядно уставшим лошадям, господин, который выбрался из кареты, проделал длинный путь. На вид ему можно было дать лет сорок-сорок пять. Несмотря на усталость и достаточно зрелые годы, его одухотворенное смуглое лицо с правильными чертами излучало молодую энергию, глаза смотрели остро, проницательно, а длинных черных волос еще не коснулась седина.
Одет он был просто, по-дорожному, но очень дорогие перстни с бриллиантами на его холеных руках и золотые пряжки туфель подсказывали искушенному наблюдателю, что господин богат и знатен. А длинная шпага у пояса, узкая талия и широкие плечи намекали на то, что путешественник, несмотря на свое знатное происхождение, вполне может принадлежать к буйному братству бретёров[26]. Подтверждением этого вывода могли служить его удивительно точные, легкие и хорошо координированные движения.
Дядюшка Мало словно почувствовал, что за гость пожаловал на его постоялый двор. Он выбежал за ворота и, увидев знатного путешественника, восхищенно воскликнул:
— Граф Сен-Жермен![27]Святая пятница, какая радость! Милорд… — И он попытался поцеловать руку графа.
— Дядюшка Мало! — остановил его путешественник. — Что ты, друг мой. Старому вояке не пристало уподобляться изнеженным дворцовым фертам. Ты лучше прикажи побыстрее нагреть воды и приготовить баню, чтобы я мог побриться и смыть дорожную пыль.
— Сей момент, милорд! — и дядюшка Мало с несвойственной ему прытью побежал отдавать приказания слугам.
Спустя час граф Сен-Жермен уже нежился в широкой деревянной бочке, заменившей ему баню. Хозяин постоялого двора держал эту бочку для особых клиентов, среди которых числился и граф Сен-Жермен. Дядюшка Мало считал мытье в бочке забавой. Он смотрел на эту «забаву» графа весьма скептически.
— Что делает даже с умным человеком заграница, — чуть слышно бурчал себе под нос хозяин постоялого двора, добавляя в бочку горячей воды. — Насмотрятся чужих нравов и приносят всякое непотребство в Париж. Ведь давно известно, что вместе с водой, которую придется вылить, уходит от человека Божья благодать. И потом, это же сколько дров зря тратится… Плеснул в лицо холодной водой — и дело с концом.
— Дядюшка Мало, ты что там бормочешь? — улыбнувшись, спросил граф.
— Это я, милорд, о своем… — смутился дядюшка Мало. — Всякие глупости…
— Я все слышал. Баня, даже в виде бочки с горячей водой, чрезвычайно полезна для человеческого организма. Это знали еще древние римляне. Баня очищает человека, добавляет ему энергии, жизненных сил. Жаль, что тебе не довелось бывать в России. Чтобы ты тогда запел… Вот там настоящая баня. Русские могут выносить большой жар. От такого жара ты просто расплавился бы. В бане они ложатся на полки, поддают горячего пару и велят себя бить и тереть свое тело распаренными березовыми вениками. Когда от такого жару русские становятся красными и совсем изнемогут, они голыми выбегают из бани (как мужчины, так и женщины) и обливаются холодной водой. А зимой, выскочив из бани, валяются в снегу, трут им тело, будто мылом, и потом, остыв таким образом, снова возвращаются в жаркую баню.
— Варвары… — буркнул упрямый дядюшка Мало. — Что с них взять… Голым — и в снег. Бр-р!
— Что ж, останемся каждый при своем мнении. Вот что, дядюшка Мало, у меня есть к тебе просьба. Только сразу предупреждаю — она весьма конфиденциального характера.
— Милорд, вы же знаете, ради вас я готов на все. Вам я обязан жизнью.
— Пустяки, — отмахнулся граф. — Это была всего лишь небольшая дружеская услуга с моей стороны.
— Ах, милорд, как вы можете так говорить?! Когда стоишь на эшафоте и тебе на шею уже надели веревку, ничего так не хочется, как чуда. И оно явилось в вашем образе.
— Принадлежность к вольному братству изначально предполагает такой конец. Эшафот или плаха, выбор небольшой. И ты это знал, когда поднимал на мачте Веселого Роджера.
— Да, знал. Но ладно бы меня свои, французы, повесили на рее, или, на худой конец, испанцы, — у них много ко мне накопилось претензий — а то какие-то англичане… Обидно было.
— Уж как обидно… — Граф снова не удержался от смеха. — Но потом ты отплатил англичанам за все сполна. Так что вы теперь квиты.
— Э-э, нет, не скажите, милорд! — живо возразил дядюшка Мало. — Маленький должок все же остался. Только вот беда, боюсь, что мне не придется его отдать. Годы, милорд, годы…
— Могу помочь в этом вопросе. Ты только скажи. Насколько мне известно, маршал Морис Саксонский набирает добровольцев в свои войска. Намечается славная заварушка с Австрией — королева Венгрии Мария Терезия оспаривает права на австрийский престол. Англия готова ее поддержать, Франция выступает против. Так что тебе и карты в руки, а также семь футов под килем и кутласс из турской стали[28]за пояс. Мне думается, что эта война продлится не менее пяти лет. За это время можно отдать англичанам все долги с лихвой. Ну а насчет твоих лет… — Тут Сен-Жермен хитро ухмыльнулся. — Три года назад я имел возможность убедиться, что сила и сноровка у тебя остались прежними. Ну так как насчет помощи?
— Что вы, милорд! — испуганно воскликнул дядюшка Мало. — Нет, нет, в таких делах мне помогать не нужно. Для меня военные подвиги уже остались в прошлом. И потом — на кого я оставлю свой постоялый двор?
— Мне помнится, лет пять назад ты женился…
— У вас отменная память, милорд. Это был черный день в моей жизни…
— Как, неужто жена ушла от тебя?!
— Если бы… — Дядюшка Мало пригорюнился. — Она как рыба-прилипала, не оторвешь. Иногда мне хочется все бросить, наняться на какой-нибудь захудалый торговый бриг коком и уплыть куда подальше и от Парижа, и от Франции.
— Сочувствую… Но что поделаешь, женщина дана мужчине Богом для психологического равновесия.
— Простите, милорд, не понимаю…
— Все очень просто, дядюшка Мало. Если мужчине чересчур хорошо, он может в эйфории наделать много глупостей. Вот тут и появляется женщина, которая очень быстро опускает его с небес на грешную землю. А ежели ему плохо, если он ранен или заболел, то добрая, заботливая, ласковая женщина — лучшее в мире лекарство.
— Мудрено вы говорите… Моя Кетти больше похожа не на лекарство, а на крысиный яд.
— Что ж, дядюшка Мало, будем считать, что это твой крест… во искупление грехов молодости. А теперь к делу. Возьми в моем камзоле конверт и доставь его на постоялый двор «Корона и петух». Только сделай это лично! Я могу довериться только тебе.
— Спасибо, милорд, за доверие. Понял. Доставлю. Прямо сейчас оденусь в выходное платье и побегу. Кому вручить?
— Спросишь сэра Артура Мюррея.
— Англичанин! — На круглой физиономии дядюшки Мало появилась гримаса отвращения.
— Будет тебе, дядюшка Мало. И среди англичан иногда случаются вполне приличные люди. Правда, редко. Он высокого роста… — Сен-Жермен в деталях описал внешность англичанина. — Постарайся вручить ему письмо так, чтобы никто этого не видел.
— Постараюсь, — хмуро ответил хозяин постоялого двора, поклонился графу и вышел.
Граф задумчиво посмотрел ему вслед и хотел уже выбраться из бочки, как отворилась дверь и в помещение вошла прелестная юная служанка с щечками, похожими на наливные краснобокие яблоки. Смущаясь, она подошла к Сен-Жермену и сказала:
— Мсье, я принесла вам чем вытереться…
С этими словами девушка положила на табурет простыню, которая в те времена заменяла банное полотенце, и стала рядом, опустив глаза вниз. «Ну, старый пират, ну, пройдоха! — весело подумал граф. — Похоже, он научился читать мои мысли. Действительно, в пути мне было не до женщин…»
— Залезай ко мне, — приказал Сен-Жермен. — Вода еще теплая…
Девушка словно ждала, что он так скажет. Она шустро сбросила свою одежду, которой было совсем немного, и присоединилась к графу. Ее молодое и упругое тело вызвало у Сен-Жермена взрыв неистового желания. Но он медлил, наслаждаясь каждым мгновением близости со свежей юностью; дядюшка Мало и впрямь хорошо изучил характер и слабости своего знатного постояльца…
Граф и англичанин уединились в зеленом дворике. Это место во владениях дядюшки Мало было очень удобно с точки зрения конспирации. Дворик был огорожен высоким, густым и тщательно подстриженным декоративным кустарником, так что ни подсмотреть, кто там обедает в тени каштана, ни подслушать разговор было практически невозможно. Если только собеседники не начнут говорить на повышенных тонах.
Но те, кого дядюшка Мало допускал в свою святая святых, не отличались склочным характером и вели беседы тихо, иногда даже шепотом. Это были разные люди — от сиятельных вельмож до просоленных всеми океанскими ветрами матросов, своим видом и повадками очень смахивающих на разбойников или пиратов. Однако всех их объединяла одна особенность — они старались и прийти и уйти как можно незаметней.
Не стал исключением из общего правила и сэр Артур Мюррей. Он появился на постоялом дворе спустя три склянки[29]после возвращения дядюшки Мало. Нужно отметить, что хозяин постоялого двора несколько покривил против истины, сказав графу, что исполнять его просьбу он «побежит». Старый корсар терпеть не мог мерить грязные мостовые Парижа собственными ногами. Пока он переодевался, грум[30]запряг в двуколку прелестную молодую кобылку, и дядюшка Мало проделал весь путь — туда и обратно — с максимальным комфортом.
К приходу англичанина дядюшка Мало по требованию графа накрыл под старым каштаном богатый стол. В сервировке стола он превзошел сам себя, хотя в кубок для англичанина ему очень хотелось добавить несколько капель настойки цикуты[31].
Суп-буйабесс, «беатриче» — консоме из цыпленка, фазан под белым соусом, жареные куропатки с зеленью, яйца, начиненные трюфелями, лобстер, сваренный в сухом вине, баранина с чесноком, оленина, запеченная на вертеле, ветчина, глазированные пирожные «конде», засахаренные фрукты, несколько видов варенья, круассаны, запеченная в очаге рыба (перед тем, как поставить ее на огонь, рыбу обмазывали глиной, от чего появлялся удивительно аппетитный вкус), крокеты из щуки с соусом бешамель, лосось с соусом из устриц, апельсиновое суфле… Увидев все это кулинарное великолепие, Сен-Жермен сказал:
— Да это просто королевский стол! Дядюшка Мало, ты меня балуешь.
— Ах, милорд! Надеюсь, вы не шутите. Если бы вы известили меня, когда вас ждать, то поверьте, я действительно мог угостить вас по-королевски. У меня служит повар-мальтиец, великий мастер своего дела.
— Думаю, что ему самое место на кухне какого-нибудь принца. Странно, что он устроился на постоялый двор…
— Ничего странного в этом нет. Как бы вам сказать… в общем, у него есть некоторые трения с законом…
— А, тогда понятно. Похоже, эти «трения» как-то связанные с вендеттой. Не так ли?
— Вы, как всегда, прозорливы, милорд. Ну нельзя же такого искусного повара гноить в тюрьме всего лишь за один удар навахой.
— Согласен. У всех нас много недостатков… — Граф многозначительно улыбнулся.
— Зато я угощу вас «вином любви».
— Даже так? — удивился Сен-Жермен. — Это просто здорово.
— Что такое «вино любви»? — поинтересовался сэр Мюррей, когда дядюшка Мало принес несколько запыленных бутылок и удалился.
— О, это целая история… Рецептуру «вина любви» разработал Жан-Поль Шене, любимый винодел Людовика XIV, для фаворитки короля — прекрасной Франсуазы-Атенаис де Монтеспан. С этой целью тогда уже пожилой винодел ездил в провинцию Шампань, где приблизительно в это же время монах Периньон заставил белое виноградное вино «заиграть». Первая партия игристого «вина любви» была отправлена фаворитке с запиской: «Маркизе — с любовью. Король-солнце». Это вино никогда не поступало в продажу. Его вкус знали только сам Король-солнце и маркиза де Монтеспан. В 1687 году, когда связь Людовика XIV и маркизы де Монтеспан прервалась, прекратилось и производство «вина любви». Опечаленный король наложил трехвековой запрет на его производство со словами: «Три столетия скроют печаль этой любви, оставив только ее сладость». Но в этом мире нет ничего тайного, чтобы оно не стало явным. Похоже, Жан-Поль Шене страдал манией величия и передал рецепт «вина любви» кому-то из своих наследников. Но каков дядюшка Мало… Хитрец. Не ожидал от него такой предприимчивости. Он здорово рискует.
— Я тоже сильно рискую. За мной следят. Мне пришлось пойти на хитрость, чтобы добраться сюда без соглядатаев.
— Со мной вы в полной безопасности. Но долго задерживаться в Париже я вам не рекомендую. Между Англией и Францией снова начались трения, которые приведут к войне. Это несомненно. И тогда вас могут арестовать как английского шпиона.
— Я последую вашему совету…
И они принялись за еду, потому что вид богато накрытого стола начал вызывать у собеседников повышенное слюноотделение.
Сен-Жермен время от времени бросал испытующие взгляды на сэра Мюррея. Граф не очень верил этому человеку, хотя он и был тайным агентом Братства франкмасонов уже много лет. В принципе, Сен-Жермен не верил никому. Ну разве что дядюшке Мало, но тот был слеплен совсем из другого теста.
Когда корсара схватили англичане, он и под пытками не выдал своих товарищей. Хорошо, что его недолго мучили, иначе он стал бы калекой. А несколько лишних шрамов на теле дядюшки Мало — вдобавок к тем, что были получены им во время абордажных боев, — не в счет.
Англичанин производил мрачное впечатление. Он был высок, неестественно худ, а его оловянные, ничего не выражающие глаза казались стеклянными. Сэр Мюррей смотрел на собеседника не мигая, отчего даже видавшему виды графу становилось немного жутко. Но он, как ни в чем не бывало, шутил и рассказывал много разных историй, на которые был мастак.
Сэр Мюррей внимательно слушал графа, кивал, где нужно, но каменное выражение его длинного «лошадиного» лица не менялось. Создавалось впечатление, что он просто отбывал скучную повинность. В конце концов пыл Сен-Жермена иссяк, несмотря на восхитительный вкус «вина любви» и его хмельные качества, и он, мгновенно став суровым и даже где-то надменным, спросил:
— Наши братья из Великой Ложи требуют от вас отчет. Мне приказали встретиться с вами и узнать, как обстоит дело с поиском Десницы Господней.
— Мне нечем их порадовать… — В неподвижном лице сэра Мюррея что-то изменилось; оно словно размякло и начало оплывать, мгновенно потеряв жесткость черт; похоже, агент франкмасонов чувствовал за собой какую-то вину. — След Десницы Господней теряется в Московии…
— Но вы нашли хотя бы кончик ниточки, за который можно ухватиться?
— Да. Но увы — он оказался оборванным.
— Объясните! — жестко потребовал граф Сен-Жермен, наливаясь желчью.
— Нас опередил русский дипломат, князь Сергей Долгоруков.
— Прошу вас рассказать все без вступления, — бесцеремонно перебил его граф, который по своему статусу в масонской ложе стоял гораздо выше сэра Мюррея.
— Как вам будет угодно… — Лицо англичанина снова стало непроницаемым. — Думаю, вам известно, что Руссия[32]препятствовала закреплению польского престола за Морицем Саксонским, сыном Августа II. В начале 1723 года король Август уехал из Варшавы в Дрезден. Князь Сергей Долгоруков отправился вслед за ним, и в Бреславле имел разговор с сыном бывшего короля Польши Яна Собесского, королевичем Константином. Он рассказал ему о желании императора российского Петра II (собственно говоря, даже не столько самого царя, сколько светлейшего князя Меншикова) видеть его на польском престоле. В знак признательности за поддержку королевич подарил князю Долгорукову булатную саблю в ножнах, украшенных драгоценными камнями, и передал в качестве аванса шкатулку с драгоценностями, а также эту реликвию, отвоеванную его отцом у турецкого визиря Кара Мустафы-паши под Веной в 1683 году. Константин понятия не имел, что она собой представляет. Королевич думал, что это всего лишь какой-то христианский фетиш.
— Вы хотите, сказать, что Десница Господняя находится в сокровищнице русских царей?! — обеспокоился граф. — Тогда нам ее не достать.
— Отнюдь. В сокровищницу русских царей Десница Господняя не попала. Князь Сергей Долгоруков — хитрая бестия. Он дипломат, и этим все сказано. Уж не знаю, что он подумал, заполучив реликвию в свои руки (думаю, о ее свойствах князь, как и польский королевич, вряд ли мог знать), но Десницу князь оставил себе. А императору Петру II передал лишь ларец с драгоценностями, чем очень обрадовал юного монарха, который постоянно испытывал недостаток в средствах.
— Ну тогда дело упрощается, — уверенно сказал граф. — Нужно всего лишь поехать в Московию и выкупить реликвию у князя Долгорукова. А если не согласится… что ж, на все воля Божья. Тогда мы не будем ограничивать себя только дипломатическими средствами…
— Туда, где сейчас находится князь Долгоруков, нам не добраться. В 1729 году он был вовлечен своим братом князем Алексеем Долгоруковым в заговор и явился одним из деятельных участников в составлении подложной духовной Петра II, по которой русский престол передавался от имени юного императора его обрученной невесте, княжне Екатерине Долгоруковой, дочери князя Алексея. В 1738 году императрица Анна Иоанновна назначила князя Сергея Долгорукова послом в Лондон, но туда он так и не уехал. Родной племянник князя, Иван Долгоруков, измученный тюрьмой и пытками, показал на допросе, что подложную духовную Петра II писал в январе 1730 года именно князь Сергей. Поэтому вместо Лондона он попал в Шлиссельбург и спустя девять месяцев (если я не ошибаюсь, 8 ноября 1739 года) был казнен близ Новгорода вместе с несколькими своими сородичами. Куда девалась реликвия, неизвестно.
— Дьявол! — вскричал раздосадованный граф Сен-Жермен. — Реликвия ускользнула от меня в очередной раз! Просто мистика какая-то. Придется мне ехать в Московию… или Руссию, как ее теперь называют. Не хотелось бы, но… что делать? Вы там не справитесь, потому что плохо знаете русский язык и обычаи московитов.
— Но я могу быть вам полезен в качестве, скажем, телохранителя…
— Нет уж, увольте. О своем теле я привык заботиться сам. У вас будет другое, тоже очень важное поручение. Слушайте внимательно…
Они заговорили шепотом, низко нагнувшись над столом. Грум дядюшки Мало, юркий и шустрый, как белка, мальчишка с лицом в россыпях мелких веснушек, разочарованно скривился. Он забрался на крышу таверны, которая тоже называлась «Ржавый якорь» и принадлежала его хозяину, и, скрытый от чужих глаз пышной и густой кронй дуба, достававшей почти до дымоходной трубы, внимательно слушал разговор графа и англичанина.
Его совершенно не смущало то обстоятельство, что собеседники жонглировали иностранными языками; большей частью они разговаривали на английском, но иногда переходили на голландский и немецкий. Наверное, и граф Сен-Жермен, и сэр Артур Мюррей очень удивились бы тому факту, что мальчишка знает несколько языков и может писать и читать.
Глава 3
Отец возвратился домой, как по заказу — на следующий день после убийства неизвестного. Глеб долго колебался, звонить ему, чтобы рассказать о происшествии и фотографии, или нет, но в итоге все же счел благоразумным промолчать. Его мучили сомнения.
Во-первых, он все еще был под впечатлением увиденного. Во-вторых, у них в роду не было никаких Глафир. А в-третьих, отец чересчур ответственно относился к своему положению в достаточно узком и закрытом для посторонних мирке консультантов и экспертов по древностям, чтобы все бросить, наплевав на договор с «Сотбис», и мчаться, сломя голову, в какую-то Тмутаракань, дабы принять последний вздох от никому неведомой бабы Глаши. Бред!
С генеалогией своего рода Глеб разобрался, еще будучи студентом. А потому знал, что отец и он являются последней ветвью не очень кудрявого генеалогического древа клана потомственных кладоискателей Тихомировых. Кого-то похоронили в Первую империалистическую, кто-то сгинул в Гулаге, две большие и зажиточные семьи советская власть раскулачила и отправила в Сибирь, но туда они не доехали, умерли по дороге — замерзли, так как дело было зимой, а им не разрешили взять теплую одежду, остальных добил голод и Отечественная война.
Спасся от неминуемой гибели только дед Данила, которому каким-то чудом удалось обмануть даже вездесущих палачей НКВД. Может, потому, что по жизни он был великим конспиратором.
Но нигде, ни в каких документах Глеб не встречал имени Глафира. Мало того, о ней ничего не говорили ни дед, ни отец.
Это было, по меньшей мере, странно и удивительно — хотя бы потому, что от него старшие Тихомировы ничего не таили, и Глебу были известны мельчайшие подробности из их интересной, увлекательной и очень опасной жизни подпольных кладоискателей. Именно опасной, потому что в СССР за это незаконное занятие давали большие сроки тюремного заключения с конфискацией имущества. А Тихомировы ни разу не прокололись.
Скорее всего, решил Глеб, эту бабу Глашу отец знал в связи со своей работой в «поле» — то есть на раскопках. Тихомирову-младшему и самому приходилось много раз становиться на постой у жителей сельской глубинки, после чего завязывались знакомства и даже дружба. Особенно это касалось юных представительниц женского пола.
«Да, похоже, эта баба Глаша — всего лишь давняя знакомая отца, — размышлял Глеб. — Наверное, какая-нибудь одинокая старушка, которую и похоронить некому. А как же тогда гонец с письмом? И наконец, изображение анка? Нет, за всем этим что-то кроется! Но что? Вопрос. Звонить бате, не звонить… Странное приглашение, чтобы не сказать больше. В конце концов, отец не батюшка-исповедник. А что если эта бабулька хочет рассказать, где находится какой-нибудь клад? — тут Глеб невольно рассмеялся. — Мечтать не вредно… Твое предположение, друг сердечный, — это бред сивой кобылы. Такие чудеса случаются только в рассказах старых кладоискателей, и эти истории ничем не отличаются от охотничьих баек. Вранье одно…»
С этой мыслью Глеб и отправился на боковую. А утром его разбудил бодрый голос отца:
— Подъем, бравый гусар! Царство небесное проспишь. Никак вчера на балу загулял?
— Батя?! Ты как… откуда?
— Оттуда. Из Лондонграда, как теперь называют столицу Англии наши беглые олигархи и прочее ворье, окопавшееся на острове. А чему ты удивляешься? Взял билет и прилетел. Делов-то: четыре часа лета до Москвы, час — в наш город, и сорок минут езды на такси от аэропорта до дома.
— Только не говори, что ты сильно по мне соскучился!
Николай Данилович немного смутился.
— Как тебе сказать… — начал он, отводя взгляд в сторону.
— Говори, как на духу!
— Я всегда по тебе скучаю. И ты это знаешь. Но вчера со мной творилось что-то неладное. Ближе к вечеру не мог места себе найти. А где-то около двенадцати ночи меня начал звать чей-то голос. Мистика! Сначала я решил, что все это мне чудится спьяну — мы немного посидели с коллегами в ресторане, и я слегка перебрал. Но потом, приняв контрастный душ, чтобы протрезветь, я почувствовал сильный зуд в подошвах. В буквальном смысле. Мне вдруг захотелось вернуться домой. Просто-таки неистовое желание появилось. Я почему-то решил, что у тебя какие-то неприятности. Быстро одевшись, я помчался в аэропорт, ну а дальше тебе все известно. На мою удачу, с билетами проблем не было. Вот и весь мой сказ.
— А почему не позвонил?
— Видишь какая чертовщина… — Николай Данилович беспомощно развел руками. — Свою мобилку я где-то посеял. Наверное, лондонские жулики стибрили. Уж не знаю, где именно. Скорее всего, в пабе, куда я заходил выпить пива. Там было чересчур людно. В общем, толкотня. А просить телефон у коллег, с которыми бражничал в ресторане, было неудобно — все-таки иностранцы; мало ли чего могут подумать. К тому же в нашей среде такие вещи не приветствуются.
— Почему?
— Потому что за время разговора из записной книжки мобильного телефона можно запросто скачать информацию, которая нередко дорогого стоит. У экспертов много связей среди коллекционеров. И не все коллекционеры дружат с законом. Понял?
— Как не понять… Богатые клиенты — это нам белый хлеб с маслом и паюсной икрой. Тем более те, которые нигде не светятся. Они для нас — вообще золотое дно.
— То-то… В общем, пока я пребывал в раздумьях и сомнениях — лететь домой или нет — пошел третий час ночи. Поэтому звонить по телефону, который находился в номере, я не стал. Знаю, что ты очень не любишь, когда тебя будят среди ночи… А приняв решение лететь, я уже думал только об одном — как бы купить билет на ближайший рейс.
— Вот теперь мне все ясно. Завтракать будем?
— Мне бы чего-нибудь для восстановления душевного равновесия…
— Понял, батя, понял. Я там вчера твой армянский коньяк слегка употребил… кажись, полбутылки осталось.
— Давай коньяк. И что-нибудь пожевать.
— Лимон точно есть… а также кусок сыровяленой колбасы и какие-то сухарики.
Они прошли на кухню. Николай Данилович открыл практически пустой холодильник и сказал:
— Я вижу, ты тут совсем без меня обленился. Придется мне становиться к плите, а то совсем дойдешь. За те два месяца, что я тебя не видел, ты стал тощим, как вяленая вобла.
— Так ведь работа в «поле» — это не мед, батя. Тебе ли это не знать.
— Да знаю я, знаю… Но все равно, к желудку нужно относиться бережно, с уважением. Китайцы говорят, что все болезни от желудка.
— Японцы тоже придерживаются такого же мнения.
— Вот и прислушайся к ним. Китайцы — древний народ. А японцы — мудрый. Плохого не посоветуют. Ну и как у тебя успехи?
— Лучше не спрашивай… — Глеб стал мрачнее грозовой тучи. — Дупель пусто. Если, конечно, не считать нескольких серебряных монет семнадцатого века и разной бронзовой дребедени. Боюсь, что не смогу оправдать даже затраты на экспедицию. Год получился провальным.
— А все потому, что ты перестал работать с архивами.
— Батя! Я зверею от этих архивов! Лучше на свежем воздухе десяток шурфов пробить, нежели целый день копаться в пыльных папках.
— В таком случае ты скатишься до примитивного уровня начинающих дилетантов от археологии.
Глеб тяжело вздохнул и ответил:
— Да знаю я, знаю… И все равно неохота. Тебе лимон с сахаром?
— Без разницы…
Они выпили за встречу, закусили. Николай Данилович пытливо посмотрел на мрачное лицо Глеба и спросил:
— Так все-таки, что тут у тебя стряслось? Нутром чую, что появились какие-то проблемы.
— Появились, — не стал спорить Глеб. — Но у тебя.
— Это как понимать? — удивился Тихомиров-старший.
— Сейчас все сам увидишь…
Глеб сходил в кабинет и принес фотографию.
— Вот она, проблема, — сказал он, вручая снимок отцу. — Послание…
При взгляде на фотографию лицо Николая Даниловича вдруг закаменело и покрылось бледностью.
— Не может быть… — пробормотал он чуть слышно.
— Что значит — «не может быть»? — встревоженно спросил Глеб. — Ты о чем?
— Ведьма… Точно ведьма! Это же сколько ей лет? А я не верил… — продолжал говорить сам с собой Николай Данилович, не отводя глаз от снимка.
— Батя! Очнись! — Глеб потряс отца за плечо. — Что с тобой?!
— Ничего… Со мной все в порядке… — Тихомиров-старший наконец оторвался от снимка, налил себе полную рюмку коньяка и выпил одним глотком. — Уф! Это же надо… Баба Глафира собственной персоной. Живая! Как попал к тебе этот снимок?
— Ты посмотри на обороте. Там все объяснено. Или почти все.
Николай Данилович прочитал надпись несколько раз и откинулся на спинку стула; как показалось Глебу, совсем без сил — будто снимок за считанные секунды выпил всю его энергию.
— А теперь расскажи мне все по порядку, — попросил он сына. — Думаю, что твоя история будет очень занимательной. И даже трагической.
— Это точно. Как догадался? — Глеб был поражен.
— Все, что было связано с бабой Глашей, обычно добром не заканчивалось.
— Кто она?
— Сначала хочу послушать тебя. А потом и я выложу все, что знаю.
— Лады… — И Глеб рассказал отцу о событиях прошлого дня, стараясь не упустить ни единой детали.
Николай Данилович долго молчал, а потом сказал:
— Дай сигарету… — Он закурил. — Ну надо же. Вспомнила… Теперь я понял, чей голос доставал меня в Лондоне. Ничего удивительного…
— Ты обещал рассказать…
— Обещал. Не хотелось бы… да куда теперь денешься. Деда помнишь?
— Как не помнить?
— Ну да, ну да… Он сильно тебя любил. «Надёжей» называл. Между прочим, ты стал сильно на него похож. В детстве это было не так заметно… Так вот, Глафира Миновна была бабой Глашей уже тогда, когда дед еще лежал в люльке.
— Что?!
— А то. Сколько я помню бабу Глашу, она всегда была в одной поре. В точности, как на этом снимке. Между прочим, я удивлен тем, что есть ее фото. Она запрещала себя фотографировать. Однажды я ухитрился и несколько раз щелкнул бабу Глашу тогда, когда она этого не видела. И что ты думаешь? Вся пленка оказалась засвеченной. А я, между прочим, фотоаппарат из рук не выпускал и уехал домой сразу же, даже не переночевав. Так что вариант постороннего вмешательства исключается.
— Поэтому ты называешь ее ведьмой?
— Нет. Это всего лишь один мелкий штришок из ее биографии. Нужно сказать, что я мало с ней общался. Вообще-то, Глафира Миновна приходится тебе двоюродной прабабкой. То есть как бы не совсем родня. На ней был женат родной брат твоего прадеда. Притом женился он на ней во второй раз; его первая семья погибла во время страшного лесного пожара. Как сказывал мне дед, баба Глаша была значительно старше своего мужа, но любил он ее без памяти. И долго не старился. А потом сгорел вмиг, как свеча, — за неделю. Дед сказывал, что в гробу муж бабы Глаши выглядел, словно мумифицированные мощи праведника, который пролежал в земле минимум столетие.
— И все равно, я не могу понять — причем тут колдовские штучки? Ведь есть долгожители, даже в настоящее время, которым уже минуло сто двадцать лет. Возможно, в старые времена некоторые жили и дольше. А про эффект моментального старения я недавно читал в Интернете. Это такая болезнь. Может поражать даже детей.
— Про то ладно. Спорить не буду. Не исключено, что баба Глаша — уникум по части продолжительности жизни. Но есть и другие интересные моменты. Например, советская власть в деревушке, где она жила, установилась только после Отечественной войны, кажись, в пятьдесят шестом. И то в усеченном виде — колхоза так и не создали, а всего лишь образовали лесничество. И работали в нем одни местные жители.
— Ну и о чем говорит этот факт?
Николай Данилович кисло улыбнулся и ответил:
— Дед рассказывал, что власти никак не могли найти дорогу в деревню. В девятнадцатом году, когда, согласно указу о продразверстке, большевики выгребали из крестьянских амбаров весь хлеб до зернышка, красноармейский продотряд так и сгинул где-то в окрестных лесах, не добравшись до деревни бабы Глаши. Кивали на белобандитов, но они боялись даже сунуться в те места. С чего бы? А что касается деревенских жителей, так они запросто ездили в город на базар и всегда возвращались. Но вот загадка — никого из посторонних они никогда не подсаживали на свои телеги. Отказывали категорически. Такая петрушка получается…
— Ты меня не убедил, — упорствовал Глеб. — Лично я знаю несколько деревень и скитов, куда долго не ступала нога чужого человека. По крайней мере, до тех пор, пока не появились вертолеты. И опять-таки, даже сейчас я не дал бы гарантии, что где-нибудь в таежной глуши не притаилось небольшое селение, в котором понятия не имеют о современных реалиях.
— Экий ты Фома Неверующий… Что ж, слушай дальше. В деревне этой никогда не было ни врача, ни даже фельдшера, и тем не менее все ее жители доживали до преклонного возраста. Потому что всех их лечила баба Глаша. Она могла вызывать дождь, когда нужно, или разогнать тучи. Она понимала язык зверей. Да-да, не смейся! Баба Глаша была в деревне главным начальником. Да что начальником! Ее боготворили. И боялись, если честно.
— Но я ничего не вижу в ней от ведьмы. Знахарка, ведунья — это да. Не спорю. Но не более того.
— В общем-то, я с тобой согласен. Если уж на то пошло, то она колдунья. Ведьмы, ведуньи и знахарки в этой иерархии стоят пониже. Ты умаляешь ее способности потому, что тебе никогда не приходилось с ней сталкиваться. Нужно сказать — открою тебе нашу маленькую семейную тайну — мы с дедом в свое время договорились, что ты не должен о ней знать. Но теперь… теперь она сама к нам пришла на порог. Пусть и в виде фотографии с приглашением. Между прочим, я предполагаю, что она хочет видеть не столько меня, сколько тебя.
— С какой стати? Почему так думаешь?
— Слава богу, тебе не довелось общаться с бабой Глашей… Она знает все наперед. От нее невозможно что-либо скрыть. Между прочим, как это ни тяжело мне сейчас говорить на эту тему, она напророчила нашей маме скорую смерть. Я тогда, дурак, не поверил, хотя баба Глаша и подсказала, что маме делать, дабы избежать такой участи. Зря мы не поверили… Теперь вот каюсь, да поздно. Между прочим, я почему-то уверен, что ей была известна и судьба гонца. Похоже, он чем-то ей не угодил. Вот она и отправила его в последний путь… с пользой для себя.
— Ну, батя, это уже чересчур! Никому не дано знать ни свою судьбу, ни судьбу другого человека. Это все сказки про белого бычка. Хочешь меня запугать?
— Отнюдь. Ты не из пугливых, мне ли это не знать. Но предупрежден, значит, вооружен, как гласит старинная латинская поговорка. Так вот, в последний мой приезд к бабе Глаше — тебе тогда был год — она живо интересовалась тобой. И сказала, что тебя ждет большое будущее. При этом ее глазищи горели просто дьявольским огнем. Я даже испугался. И после этого я к ней ни ногой.
— А почему раньше ездил? Или она приглашала?
— Нет. Баба Глаша чуралась семейных связей. Да и какая мы ей родня… Седьмая вода на киселе. У нее ведь не было своих детей. А ездил я в те края по очень простой причине — там есть развалины то ли старинного храма, то ли языческого капища. Я так и не понял. Но все мои труды на раскопках оказались напрасными. Я даже черепков не нашел, что очень странно. Между прочим, с твоим дедом баба Глаша не ладила. Уж не знаю, почему. Но до ссоры дело не доходило. Похоже, дед знал что-то такое, против чего и баба Глаша была бессильна. Мы ведь отпрыски старинного казачьего рода, а у казаков есть такое понятие, как характерник. Это что-то наподобие колдуна. А проще — человек, обладающий большой внутренней силой и неуязвимостью. В бою характерникам не было равных. Это своего рода казацкие берсерки[33]. В нашем роду характерники рожаются через поколение. Это уже доказанный факт.
— Не понял… Получается, что я характерник? Батя, по-моему, тебя заносит. Я никогда не чувствовал себя неуязвимым и уж тем более не имел и не имею тяги к разборкам и мордобою. А если случалось драться, то я никогда не терял головы. Мало того — и ты это знаешь — в детстве мне здорово доставалось от пацанов, пока я не занялся спортом.
— Все это так. И тем не менее, в тебе что-то есть. Возможно, ОНО еще не проявилось.
— Скажи мне это кто-то другой, я бы просто посмеялся. Но слышать из твоих уст такие откровения… С ума сойти!
— С ума сходить не нужно, а на заметку мои слова возьми. Возможно, я ошибаюсь. Нынче другие времена, другая общественная атмосфера, иные нравы. Мы живем в мире потребителей-непротивленцев. Настоящих бойцов можно по пальцам пересчитать. А уж сильных личностей — тем более. Так что живи, как жил, и не бери дурного в голову.
— А как быть с этим посланием? Ты поедешь?
— Еще чего! Это я по молодости был борзым и легким на подъем. И совал свой длинный нос, куда не следует. Теперь у меня масса обязательств, которые я должен выполнять. За мои услуги, между прочим, платят хорошие денежки. Вон, тебе жениться нужно, потом свадебное путешествие и все такое… А это нынче о-го-го сколько стоит.
Глеб рассмеялся и ответил:
— Батя, найдешь мне в Англии невесту — ей-богу женюсь. Они там падкие на русских мужиков — экзотика. А если я еще буду брать ее и в «поле», то это для иностранок вообще полный кайф. Они помешаны на живой природе. В отличие от наших девиц. Нашим подавай дворец на Рублевке, «мерс» к подъезду и прислугу. Да чтобы туалет был теплым и отделанный изразцами, а вместо ванны — джакузи.
— Вижу, ты совсем в женщинах разочаровался.
— В женщинах — нет, здесь все в порядке, но в потенциальных невестах — да, разочаровался. Нет у меня времени на разные уси-пуси. Я весь в работе. Значит, ты не хочешь ехать?
— Не верю я, что баба Глаша отходит. Ну не верю, и все тут! Мне кажется, она вечная. А если честно, то я просто ее боюсь. Похоже, она что-то задумала, какой-то фортель. Но мне впутываться в ее расклады не хочется.
— А если она и впрямь при смерти? Ведь получается так, что из близких ей людей мы остались последними. Другой родни ни у нее, ни у нас нет.
— По этому поводу можешь не беспокоиться. Все, кто живет в деревне, считай, родня бабе Глаше. Ведь она принимала роды у деревенских баб целое столетие, а может, и дольше. Представляешь? Ее смерть для жителей деревни будет огромной утратой. Так что принять ее последнее «Прости…» будет кому. И похоронят ее с почестями, и помянут. Короче говоря, сынок, выбрось эту историю из головы.
— Это будет сложно… Человек убит. Но это уже заботы правоохранительных органов. Ты скажи мне вот что: почему баба Глаша под текстом вместо подписи нарисовала анк?
— Вот уж чего не знаю… Я помню, что в руках она обычно держала крупные четки из какого-то странного полупрозрачного камня, мне неизвестного (они внутри как бы светились), а к ним крепился небольшой серебряный анк. Вот и все, что мне известно на сей счет.
— Между прочим, у гонца бабы Глаши в кармане лежала расческа, изготовленная из черного дерева, а на ее ручке тоже был вырезан анк.
— Тут уже мы ступаем на поле домыслов. Намекаешь, на секту, поклоняющуюся анку?
— Сначала я именно так и подумал. Но теперь свое мнение изменил. Древнеегипетский анк — и русская глубинка, это нонсенс. Я не берусь объяснить этот факт.
— Должен тебе сказать, что крест с кольцом гораздо древнее даже Древнего Египта. Есть предположение, что анк происходит из Атлантиды. Кстати, ты забыл, что в более поздние времена его использовали колдуньи при ворожбе, гадании и врачевании. Однако, анк имел распространение лишь в Западной Европе. Как он к нам попал — загадка. И уж тем более непонятно, каким боком баба Глаша имеет к нему отношение.
— А казачок-то засланный… Ты так не думаешь?
— Хочешь сказать, что Глафира Миновна — западноевропейская ведьма, сбежавшая из лап инквизиции в Россию? Трижды ха-ха. Не смеши меня, сын. Она чисто русская женщина. И статью, и характером, и помыслами. Это точно. Более того, она русская патриотка, каких мало. Для нее родина — это все. Правда, коммунистов она не любила. Хотя коммунистическую идею всеобщего равенства и братства поддерживала. Это мне твой дед рассказывал. Я ведь не был с нею настолько близок, чтобы знать такие подробности.
— Ну, не знаю…
— Но и это еще не все. Обычно баба Глаша никуда не выезжала из своей деревни, больше похожей на старообрядческий скит. Даже в райцентр. Представляешь, как удивился твой дед Данила, увидев ее зимой 1941 года… под Москвой!
— Что она там делала? Только не говори, что баба Глаша была в ополчении!
— А я и не говорю. Бери выше. Она общалась с самим Жуковым!
— С маршалом?!
— Тогда еще генералом.
— Батя, эту байку дед рассказывал тебе подшофе?
— На полном серьезе. В сорок первом его призвали на службу, и дед Данила некоторое время служил при штабе 16-й армии писарем, так как у него был очень красивый каллиграфический почерк. Вот там он и встретил бабу Глашу. Нужно сказать, она его сразу заметила и, конечно же, узнала, но виду не подала. Еще бы — с ней о чем-то беседовал сам Жуков! А рядом шел Рокоссовский. Потом Жуков усадил ее в машину и они уехали. А спустя сутки деда ранило. Немцы разбомбили помещение штаба, и он попал в госпиталь. Так что свидеться им не удалось. Впрочем, не исключено, что у бабы Глаши и не было такого желания.
— Чем дальше в лес, тем толще дрова… Почему я об этом ничего не знаю?!
— Я уже тебе рассказывал. Дед Данила был категорически против твоего знакомства с бабой Глашей. Категорически! А я не мог его ослушаться. Ты же знаешь, каким был наш дед. Как порох. Он бы меня прибил, невзирая на мой возраст и заслуги. Уж очень он тебя оберегал, любил и баловал. И потом, я думал, что баба Глаша давно умерла. Ведь от нее уже лет двадцать не было ни единой весточки.
— Значит, ты не едешь…
— Нет! Категорически — нет! Я как вспомню… В тех краях такие дикие места, что не удивлюсь, если там лешие, водяные, русалки и прочая нечисть водится. Плюс баба Глаша со своими колдовскими замашками. Бр-р!
— Но ты ведь проводил там раскопки!
— Потому что был молодым и глупым. Сейчас меня не заманишь туда и сдобной коврижкой. Натерпелся я тогда страху… правда, никогда и никому в этом не признавался. Даже сам себе… — Отец помолчал, а затем остро посмотрел на Глеба и сказал: — Вижу, ты вознамерился заменить меня… Не спорь, меня не проведешь! Так вот, я запрещаю тебе ехать к бабе Глаше. Слышишь — запрещаю!
— Батя, и в мыслях не было…
— Врешь и сам себе веришь. Дай слово, что ты не ослушаешься меня.
— Батя…
— Я не ясно изъясняюсь?! Дай слово!
— Куда уж ясней… — недовольно буркнул Глеб. — Какой ты черствый, отец! Нельзя отказывать старым женщинам, тем более в их последнем желании. Ладно, ладно, все, не кипятись! Заметано. Даю слово, что без твоего разрешения я туда не поеду.
И подумал сердито: «Мое слово — моя собственность; могу дать его, а могу и взять обратно».
— Все. Тему закрываем, — решительно сказал отец. — Надеюсь, ты не балаболка и слово сдержишь. Ладно, братец кролик, потопал я в душ. Хочу смыть с тела пыль чужого отечества. Лондон, конечно, хорош, но наш городишко во сто крат краше…
Отец ушел. Недовольный Глеб тяпнул еще одну рюмку и закурил. Мыслями он был на станции Висейки. Теперь Тихомиров-младший точно знал, что баба Глаша надолго поселится в его голове. Ну, батя, ну, изверг! На корню пресек классную идею. Хорошо бы поковыряться в том старом храме, о котором говорил отец… Глеб почему-то был совершенно уверен, что уж он-то точно найдет там какой-нибудь сногсшибательный артефакт.
Увы и ах… Дал слово — держи.
Тихомиров-младший потянул к себе фотографию бабы Глаши. Она по-прежнему смотрела прямо в душу — остро и требовательно, будто командир, ожидающий беспрекословного подчинения его приказам.
Глава 4
— Куда девался этот чертенок?! — бушевал дядюшка Мало, размахивая укороченным кутлассом, переделанным в нож для разделки туш. — Поймаю — уши обрежу!
— Повар послал грума за специями, — ответил кто-то из слуг.
— Что, больше некого было послать?! У нас тут полно бездельников. Чего стоите?! Марш, марш! За работу, бродяги, за работу, якорь вам в глотку!
Тем временем «чертенок», которого разыскивал хозяин постоялого двора, торопливо шагал точно по середине узкой и грязной парижской улочки (которая, тем не менее, имела звучное название Кутюр-Сен-Жерве), стараясь, чтобы ему на голову не вылили содержимое ночного горшка.
Трех и четырехэтажные дома почти смыкались над головой подростка, и ему была видна лишь узкая полоска неба. Каждый верхний этаж нависал козырьком над нижним, и часто расстояние между домами, стоящими друг против друга по разные стороны улицы, было не больше трех французских футов[34]. Это было очень удобно для разного рода мазуриков. Во время полицейской погони они могли уходить по крышам, перескакивая с дома на дом и перебираясь с одной улицы на другую.
Грум по прозвищу Фанфан торопился в заведение хромого Гильотена. Это была харчевня (кабак) на улице Фур, где обычно собирался парижский сброд. Горожане обходили ее десятой дорогой, так как в заведении Гильотена (которого называли «папашей») можно было лишиться не только кошелька, но и жизни.
Кроме харчевни, звучно именуемой таверной, папаша Гильотен держал еще и лавочку, где торговал разным старьем. Лавочка была прикрытием. На самом деле папаша Гильотен больше приобретал, чем продавал. Он скупал краденые вещи, которые приносили ему обитатели Дома Чудес. А чтобы его не арестовала полиция, папаша Гильотен воровскую добычу отправлял на реализацию в другие города Франции.
Среди мазуриков упорно ходили слухи, что папаша Гильотен богат, как королевский сборщик налогов, но по его внешнему виду и образу жизни этого нельзя было сказать. Он носил одну и ту же засаленную одежду много лет, ел грубую пищу, а доброму вину предпочитал хмельную граппу — виноградную водку, крестьянский напиток.
Папаша Гильотен был женат, однако его супругу никто не видел и никто не знал, где она живет. По крайней мере, в харчевне своего мужа она никогда не появлялась. В отличие от младшего сына, которого тоже звали Гильотен и который подавал надежды стать таким же негодяем, как и его отец. Сынок прислуживал в заведении папаши Гильотена с десяти лет, в основном выполняя функции шпиона и наушника. Гильотен-младший подслушивал пьяный треп мазуриков и доносил отцу.
Двое других сыновей хозяина кабака были и вовсе беспутными. Они записались в наемники. Но их поманила не романтика военных походов, а возможность безнаказанно грабить взятые на шпагу города и вражеские замки.
Однако вернемся к Фанфану. Он родился в обозе Бурбонского полка. Его матерью была маркитантка, а отцом — кто-то из бравых наемников. Наверное, и сама маркитантка не знала, кто именно. Фанфана воспитывали всем полком. А так как в Бурбонском полку служили наемники со всей Западной Европы, то к десяти годам мальчишка свободно изъяснялся на нескольких европейских языках.
Что касается грамоты, то юному Фанфану крупно повезло. В те времена редко можно было встретить человека, умеющего читать и писать. Часто даже вельможи были безграмотными и вместо подписи ставили оттиск фамильного перстня. Как-то так получилось, что в воинский обоз затесался монах-расстрига, изгнанный из монастыря за пьянство. Его приставили в помощники к повару, который обслуживал господ офицеров; на удивление, монах-забулдыга знал толк в приготовлении изысканных блюд.
А поскольку предприимчивый, несмотря на юный возраст, и почти всегда голодный Фанфан старался держаться поближе к кухне, то монах между делом научил мальчика всему тому, что знал сам. В качестве платы за свои труды учитель требовал, чтобы Фанфан снабжал его вином. Для юркого мальца это не составляло большого труда. Он как ящерица проникал в святую святых обоза — повозку, где хранился запас спиртного, предназначенный для господ офицеров, и воровал бутылки с вином.
Когда ему исполнилось двенадцать лет, мать умерла от какой-то болезни, и Фанфану пришлось оставить полк. После полугодичных скитаний по Франции он оказался в Париже, где его приметил папаша Гильотен. Но в услужение к себе не взял, а направил на постоялый двор «Ржавый якорь», где как раз требовался грум — за годы, проведенные в Бурбонском полку, Фанфан научился ловко управляться с лошадьми.
Питейное заведение папаши Гильотена представляло собой большой, насквозь прокуренный квадратный зал с сильно закопченным потолком и давно не белеными стенами. Грубые деревянные столы и скамьи образовали круг для танцев, а в дальнем конце помещения высилась эстрада. Она представляла собой помост на четырех столбах, прикрытый изрядно вытертым ковром.
На эстраде царил дирижер, которого звали старина Буатель. Роста он был маленького — с карлу, а повадками и ужимками напоминал обезьяну. На голове у Буателя красовалась копна седых кудрявых волос, а красные с синими прожилками щеки ясно говорили, что дирижер — большой любитель спиртного.
Музыка, которую исторгали два кларнета, тромбон и барабан была воистину варварской, но собравшимся в кабаке пьяным мазурикам она казалась весьма мелодичной. Они танцевали с публичными женщинами, за что приходилось платить их содержателям; но это не останавливало любителей хорошо повеселиться. В заведении папаши Гильотена собирались в основном мошенники всех мастей, карманники и громилы. Они легко добывали деньги, и с такой же легкостью с ними расставались.
Что касается одежды клиентов папаши Гильотена, то большее разнообразие трудно было представить. Казалось, что охотничьи куртки всех фасонов и расцветок, доломаны венгерских гусар, английские рединготы, изрядно потрепанные вицмундиры, узкие уланские панталоны с нашивками, сюртуки с оборванными фалдами и прочее тряпье их хозяева привезли в Париж со всех стран Европы на выставку, организованную цехом старьевщиков.
Но абсолютным шиком считались красные шаровары в комплекте с высокими армейскими сапогами. На них были особенно падки женщины, которые питали большую слабость к ярким военным костюмам. Любой кавалер в такой одежде мог надеяться, что цена, которую ему придется заплатить за ночь продажной любви, будет ниже обычного тарифа.
Почти все клиенты папаши Гильотена говорили на арго — воровской «музыке». Этот испорченный французский язык не знала даже полиция, не говоря уже о простых подданных короля Людовика XV, который в данный момент правил Францией. Послушав разговоры в кабаке, можно было подумать, что случилось еще одно вавилонское столпотворение и парижане стали изъясняться словами-перевертышами.
Однако гвоздем программы была кухня папаши Гильотена. Повар Жоссаз и его одноглазый помощник Симон творили с продуктами чудеса. В их руках конина превращалась в говядину, собачатина шла на котлеты, которые именовались бараньими, а какая-нибудь бездомная кошка, приготовленная под пикантным и острым испанским соусом, выступала в меню под гордым именем «зайца из охотничьих угодий короля», добытого, естественно, браконьерским способом.
Полицейские офицеры и инспекторы в притон папаши Гильотена даже не заглядывали. Они считали, что в этой клоаке им просто нечего делать. Тем более, что по улице Фур и днем ходить было небезопасно.
Но это не относилось к Фанфану. Он был храбрым малым. Никто не знал, что в кармане его обтрепанных шаровар покоится наваха, которую мальчик пускал в ход, когда было нужно, не задумываясь. Он разил, как змея — молниеносно. А еще он весьма прилично владел шпагой и метко стрелял — годы, проведенные в Бурбонском полку, не прошли даром.
Фанфан отворил дверь в кабак и невольно отшатнулся назад. В нос ему ударила такая невообразимая смесь запахов дешевого спиртного, немытых человеческих тел, подгорелого оливкового масла, табачного дыма и еще чего-то, совершенно непотребного, что у мальчика, привыкшего к свежему воздуху и гораздо более приятным запахам конюшни, закружилась голова.
Но он превозмог минутную слабость и храбро ступил в сизый от табачного дыма полумрак. Как всегда, людей в кабаке было полно. Фанфан посмотрел на эстраду и обрадовался — музыканты во главе со своим дирижером Буателем отдыхали. Тонкий слух мальчика плохо переносил грубую какофонию не очень мелодичных звуков, исторгаемых инструментами, место которым разве что в походных порядках армейского полка.
— Эй, гарсон, поди сюда, рыжая образина! — заорал кто-то из мазуриков, да так, что Фанфан, как раз проходивший мимо его стола, шарахнулся в сторону.
— Чего изволите? — гарсон и впрямь был рыжим и кудрявым, как херувим; вот только лицом он был совсем не похож на библейского персонажа.
— Принеси нам чернушку в восемь «жаков»[35]и чего-нибудь пожевать. Да только побыстрей! А то знаю я тебя…
— С вас двадцать четыре су[36], мсье.
— Уж не думаешь ли ты, что я хочу тебя околпачить?! — возмутился мазурик.
— Извините, но у нас так заведено — оплата вперед. — Гарсон был отменно вежлив и невозмутим.
— Дьявол тебя дери! То гнусное пойло, которым потчует честных людей папаша Гильотен, нужно подавать бесплатно. Держи, сын блудницы! — мазурик бросил на стол несколько монет.
Мельком взглянув на Фанфана, гарсон побежал выполнять заказ. Глаза мальчика тем временем привыкли к скудному освещению и он наконец увидел папашу Гильотена, который как раз разливал вино из бочки в кувшины разной вместительности. На нем, как обычно, был надет замызганный фартук, под которым владелец притона прятал острый нож. Ему не раз приходилось разнимать пьяных драчунов, и его добрый клинок исполнял роль арбитра с непререкаемым авторитетом.
— А, это ты… — Папаша Гильотен мельком взглянул на Фанфана и подозвал своего сынка, который шнырял между столами, как хорек в курятнике. — Займись… — указал он на пустые кувшины. — Иди за мной, — молвил хозяин харчевни Фанфану, и они поднялись на второй этаж, где находились так называемые «спальные» комнаты.
Обычно в них «отдыхали» с женщинами легкого поведения особо нетерпеливые мазурики — в основном те, кого недавно выпустили из тюрьмы Сен-Лазар и кто еще не успел завести себе постоянную подружку.
Папаша Гильотен и Фанфан уединились в крохотной комнатушке без окон со столом, двумя стульями и запирающимся на ключ массивным дубовым шкафом; комната служила хозяину притона своего рода кабинетом. Там он сводил дебет с кредитом и принимал своих наводчиков и тайных осведомителей (на воровском жаргоне их называли «мухами»), к которым относился и Фанфан.
— Есть новости? — спросил он, усаживаясь за свой стол.
— Есть, — ответил мальчик. — У нас новый постоялец. Граф Сен-Жермен. Очень богатый. Не знаю, как насчет кошелька, но перстни у него на руках огромной цены. Я таких бриллиантов еще не видывал.
— Бриллианты, говоришь? — папаша Гильотен подался вперед и вперил в Фанфана свои огромные глазищи; при этом он стал похож на старую ощипанную сову. — Ты не ошибаешься?
— Что вы, господин! Вы ведь меня знаете. Я никогда не принесу вам туфту.
— Бриллианты… Это хорошо… — На плоском и круглом, как блин, лице папаши Гильотена появилось мечтательное выражение. — Молодец, Фанфан! Отличная наколка. Ну, ладно, ты иди. Теперь это уже мои дела.
— И это все? — дерзко спросил мальчик; он сложил ладони лодочкой и потряс ими, словно наслаждаясь звоном несуществующих монет.
— Ах, да, да… — Папаша Гильотен достал кошелек и отсчитал Фанфану десять су.
— Господин хороший! За такую козырную наколку нужно бы добавить…
— Неблагодарный мальчишка! — взвился, как ужаленный, хозяин притона. — Ты, похоже, забыл, сколько я для тебя сделал. Не будь папаши Гильотена, ты сейчас был бы бездомным голодранцем или заключенным тюрьмы Сен-Лазар. Ему мало десяти су! Какая наглость! Это в два раза больше, чем стоит твоя услуга. Но если ты хочешь отказаться от этих денег…
— Нет! — монеты словно испарились со стола. — Премного вам благодарен, господин Гильотен. Так я пошел?
— Иди, иди… Я пришлю к тебе Трипо (вы уже знакомы), и ты покажешь ему комнату этого графа.
— Всенепременно…
С этими словами Фанфан сбежал вниз по лестнице в зал питейного заведения папаши Гильотена и с легким сердцем выскочил на улицу. Наверное, хозяин притона очень удивился бы и обеспокоился хорошим настроением подростка. Но, к счастью, он не знал, что у Фанфана на уме.
Вместо того, чтобы возвратиться в «Ржавый якорь», Фанфан взял курс на площадь Шателе. Там он отыскал весьма симпатичный с виду дом, в котором сдавали комнаты внаем, и дернул за цепочку звонка. Парадная дверь дома отворилась и на пороге появился хмурый консьерж.
— Тебе чего? — спросил он неприветливо, с подозрением глядя на одежду мальчика.
— Мне нужен мсье Винтер.
— Зачем?
— Мсье Винтер знает, что я должен прийти, — уклонился от прямого ответа Фанфан. — Мое имя Фанфан. Он ждет меня.
— Бродят тут всякие оборванцы… — пробурчал консьерж. — Ладно, жди… — И закрыл дверь.
Отсутствовал он недолго. Следующее его появление разительно отличалось от предыдущего. Консьерж был сама любезность. Фанфан лишь скептически ухмыльнулся — похоже, в кармане консьержа зазвенела монета немалого достоинства; господин Винтер всегда был щедр со слугами. За это они приносили ему немало ценных сведений, которые не купишь ни за какие деньги.
Фанфан поднялся по узкой лестнице на третий этаж и постучал в прочную дубовую дверь.
— Входи, мой мальчик, входи! — раздался приветливый голос, и Фанфан очутился в богато обставленной комнате.
Там его ждал высокий мужчина в гражданском платье иноземного покроя. На его хищном ястребином лице светилась приветливая улыбка.
— Надеюсь, у тебя важные новости? — спросил он, жестом приглашая мальчика присесть на крохотный диванчик.
— Да, господин. Вы оказались правы — он остановился в «Ржавом якоре». Птичка в клетке!
— Граф Сен-Жермен?! — лицо Винтера от волнения покрылось бледностью.
— Он. Прибыл сегодня.
— Ну-ка, ну-ка, расскажи мне все по порядку. Не упускай ни единой подробности!
Когда Фанфан закончил свое повествование, Винтер подошел к столу, налил бокал божанси и выпил одним духом.
— Интересно, интересно… — Винтер в задумчивости потер виски. — Наконец объявился Мюррей… Ну, с ним мы разберемся здесь, в Париже. А что касается графа… Значит, Сен-Жермен настроился на поездку в Руссию?
— Именно так, мсье.
— Когда граф собирается покинуть Париж?
— Увы, этого он не сказал.
— Скверно… Но это не беда. — Винтер некоторое время смотрел на Фанфана со странным выражением на лице. — Скажи мне, ты любишь путешествовать?
— Очень. Но я ведь привязан к постоялому двору дядюшки Мало…
— Эту проблему можно утрясти… — Винтер хищно осклабился. — В судьбе человека много разных случайностей… Ты упоминал, что у графа есть мальчик-слуга примерно твоего возраста. Это так?
— Да. Его зовут Жиль.
— Отлично, отлично… С Жилем мы разберемся. А как ты думаешь, дядюшка Мало отпустит тебя в услужение к графу Сен-Жермену?
— Если граф попросит, дядюшка Мало не сможет ему отказать, — уверенно ответил Фанфан.
— Надо, чтобы попросил. Ты должен за очень короткий срок войти в доверие к графу. Сумеешь?
— Постараюсь. Есть у меня одна мысль… — На лице мальчика появилась коварная ухмылка.
В этот момент он вспомнил о папаше Гильотене и его «щедростях».
— Тогда действуй. Я на тебя надеюсь. Уверен, ты сумеешь… — Винтер достал небольшой кошелек в виде кожаного мешочка с завязками и отдал его Фанфану. — Это тебе за труды. Если все получится, как я задумал, твое будущее будет обеспечено. Мое слово твердо.
— Спасибо, мсье. Я вам верю. Разрешите откланяться.
— Иди. И да пребудут с тобой Господь и Дева Мария…
Забежав в темную подворотню, мальчик нетерпеливо распустил завязки кошелька и пересчитал монеты.
— Пять луидоров[37]!!! — прошептал он хриплым от волнения голосом и, пораженный щедростью Винтера, сел прямо на грязные камни мостовой. — Это целое состояние! Да теперь… если он прикажет, я… Я брошусь в огонь!
На Париж опускались сумерки. Мимо Фанфана катили тильбюри, фаэтоны, дилижансы[38], шли горожане, торопясь до захода солнца очутиться в своих домах и квартирах, проехал небольшой отряд гвардейцев короля, который сопровождал какого-то важного господина в раззолоченной карете, скорее всего, принца Конде, судя по гербу, а подросток, очарованный своими лазурными перспективами, брел с широко открытыми глазами, как сомнамбула, спотыкаясь почти на каждом шагу.
Мыслями Фанфан уже был в далекой и таинственной Руссии…
Глава 5
Николай Данилович уехал в Лондон на четвертые сутки. Похоже, несмотря на столь короткий срок, англичане успели по нему сильно соскучиться, потому что названивали каждый день. Глеб проводил его в аэропорт, вернулся домой и захандрил от безделья. В голову не лезла ни одна толковая мысль; даже не хотелось просматривать по компьютеру новостные программы. Он валялся на диване, как Обломов, и вяло размышлял на разные отвлеченные темы — чтобы лишний раз не вспоминать о разговоре с отцом.
И все равно таинственная баба Глаша, едва он разными благоглупостями успокаивал разыгравшееся воображение, выскакивала перед его мысленным взором, как черт из табакерки. Тогда он плюнул на все и пошел субботним вечером в ресторан с намерением надраться до положения риз, чтобы таким образом очистить мозги от скопившегося там хлама. А еще Глебу хотелось поесть по-человечески, потому что после отъезда отца он сидел на сухомятке — бутербродах с колбасой и сыром.
Ресторан назывался «Королевский двор». Прежде — в пятнадцатом — семнадцатом веках — на месте города, как гласит легенда, находилась небольшая деревенька с постоялым двором, где будто бы останавливался какой-то король. Что он делал в России, народная молва об этом умалчивает — может, воевать приходил. Скорее всего, так оно и было, потому что на Русь-Московию-Россию кто только не зарился; почти все европейские монархи пытались откусить лакомый кусок богатой территории, да только зубы на нем ломали.
Как бы там ни было, но легенда благополучно дожила до наших дней, пока местный предприниматель не увековечил ее в названии ресторана. Мало того, он даже поставил перед своим заведением бронзовую статую безвестного короля с длинным рыцарским мечом в руках, который в своих латах и диковинного вида шлеме больше смахивал на кондотьера[39], нежели на коронованную особу.
Но как бы там ни было, а кормили в «Королевском дворе» отменно, и главное — недорого. Поэтому там собиралась городская богема и практически не было проституток — что возьмешь с бедного художника?
Глеба встретили, как дорогого гостя. Он и впрямь был в «Королевском дворе» завсегдатаем. Мало того, Тихомиров-младший прослыл еще и другом хозяина ресторана (что было не совсем так), поэтому относились к нему весьма предупредительное и никто из официантов его не обсчитывал. (Правда, на чаевые Глеб не скупился.)
Что касается ресторатора, то Глеб консультировал его по части антиквариата. Хорошо обеспеченному хозяину «Королевского двора» некуда было девать лишние деньги, и он вкладывал их в произведения искусства, скупая старинное серебро и фарфор.
Глеб сел за свой любимый столик возле декоративного розового дерева, занимавшего весь угол почти до самого потолка. Маленькие розочки среди лакированной зелени листьев цвели все лето и осень, до морозов, источая приятный аромат. На столике всегда стояла табличка «Заказано». Конечно же, его придерживали не для Тихомирова-младшего, а так, на всякий случай. Обычно табличку со стола снимали ближе к одиннадцати вечера, потому что в такое время солидные клиенты уже не появлялись.
— Вы один? — не без задней мысли спросил официант, которого звали Стас.
— Да. Только никаких подсадок! Я хочу поужинать в спокойной обстановке.
— Без вопросов… — сказал Стас и побежал выполнять заказ.
Все столы в «Королевском дворе» были массивными, изготовленными из дуба. Дизайн ресторана был выполнен в стиле средневекового замка, окна заменяли витражи, а посреди зала стояла огромная жаровня, где готовили прямо на глазах у клиента мясо, рыбу, птицу — по его выбору. Но главным коньком «Королевского двора» был великолепный глинтвейн, который готовился по старинному рецепту. Люди от него не дурели, как от водки, особенно паленой, а приятно хмелели. При этом даже записные бузотеры становились добрыми и кроткими.
Когда Глеб заканчивал разбираться с большой форелью, которую повара при нем выловили из аквариума и зажарили, к столу подошел официант Стас. В руках он держал лишь пустой поднос.
— Кгм!.. — прокашлялся официант в кулак и замялся, изображая из себя большого скромника.
— Грузи, — милостиво разрешил немного захмелевший Глеб, который сразу понял, о чем пойдет речь.
— Там один молодой человек, — Стас указал на входную дверь, — утверждает, что вы будете очень рады его компании.
— Как его зовут?
— Насчет имени не знаю, а кличут его Жук. По крайне мере, так он сказал.
— Жук, говоришь? Ну, ежели он настаивает, что я буду безмерно рад лицезреть его мордуленцию, то зови.
Жук — это было прозвище одного из «коллег» Глеба. Вообще-то, его звали Антон Жучихин, а кликали Железный Жук. Свой псевдоним он получил за уникальную способность пролазить сквозь такие маленькие отверстия и щели, что другие «черные» археологи диву давались.
Но и это еще не все. Жучихин-Жук мог зарываться в землю с невероятной скоростью. У него была немецкая саперная лопатка, лезвие которой он хитро изогнул. Благодаря этому усовершенствованию своего рабочего «агрегата» Жук делал прямые и наклонные ходы, как медведка, выталкивая землю наружу сильными, как пружины, ногами. Кроме того, он мог очень долго находиться в замкнутом пространстве, каким-то непостижимым образом регулируя потребление кислорода своими легкими.
— Привет, наука! — поздоровался Жук с Тихомировым-младшим, сжав ему ладонь, словно тисками. — Я тебя не стесню? — спросил он с улыбкой, усаживаясь за стол.
— Если не будешь много балаболить, то нет, не стеснишь.
— Я буду нем, как печка, — манерно ответил Жук словами одного киношного героя. — Половой! — позвал он Стаса. — Ведро глинтвейна и чего-нибудь пожрать. Рыбу? У нас что сейчас, Великий пост? Нет? Тогда тащи мне хорошо прожаренный бараний бочок. Да только смотри, чтобы это был молодой барашек, а не ветеран, который помер естественной смертью! И зелень давай.
Официант убежал выполнять заказ. Жук критическим взглядом окинул стол и потянулся за бутылкой, в которой осталось не более ста граммов коньяка.
— Можно?.. — спросил он Глеба.
— Нужно, — ответил тот.
— Тады ой… — Жук вылил остатки коньяка в бокал и молвил: — Ну, чтоб всегда… Твое здоровье.
Он выпил, закурил и пристально посмотрел на Глеба.
— Ты чего такой смурной? — спросил Жук. — Неужто женился?
— Чур тебя! Не заставляй меня плевать через левое плечо. Кругом люди.
— Значит, какая-то другая причина… Что ж, попробую еще раз проявить свой провидческий дар. Похоже, в этом сезоне у тебя с «полем» вышел полный абзац. Я прав?
— Прав.
— Тогда мы с тобой кореша. Такого провала, как в этом году, у меня еще не было. Мало того, я едва не попал в ментовку. Хорошо, бабки были, откупился. Короче говоря, пошел по шерсть, а вернулся стриженный.
— Где копал? Если, конечно, не секрет.
— Секрет. Но тебе скажу, потому как знаю, что ты своим дорогу не перебегаешь. На Симкином погосте.
— Круто… Не боялся? Про Симкин погост идет дурная слава…
— А мне по барабану. Я не суеверный. Плохо лишь одно — какая-то сволочь из местных ментам стучит. Нынче это просто — купил мобилу и звони, куда хошь. Раньше менты в те места и носа не казали, а теперь ездят, как на работу. Много там нашего брата паслось, ты знаешь. А сейчас только самые смелые копают. И то по краям, где поближе к лесу. Чтобы в случае чего когти побыстрее рвануть. Но таких орлов единицы.
Местность, о которой говорил Жук, Глебу была хорошо известна. По какой причине ее назвали «погостом» (притом очень давно), поначалу трудно было сказать, так как обычным кладбищем (пусть и старинным) там и не пахло. А высились лишь невысокие холмы, поросшие кустарником и чахлыми березками. Но в них-то для «черных» археологов и заключался весь смысл их существования.
Оказалось, что холмы — это захоронения древних скифов или сарматов. А когда в одном из них нашли золотые украшения, кочевые гробокопатели словно с ума спрыгнули. Они налетели на Симкин погост, как саранча на хлебное поле.
Поначалу их никто не трогал — властям не до того было, делили смачный пирог с начинкой из фабрик, заводов и просто дорогой земли под застройку дач и коттеджей. Но когда на подпольном рынке древностей начали появляться изумительные по красоте изделия древних мастеров из Симкиного погоста, тут уж власть имущие и всполошились. Как так, почему все это добро плывет мимо наших рук?!
В общем, после этого переполоха для «черных» археологов наступили воистину черные времена. Менты ловили их, как тараканов, и прессовали в «обезьянниках» по полной программе. Исполняли наказ вышестоящего начальства. И, нужно сказать, отбили не только почки у некоторых, особенно рьяных искателей приключений на свое заднее место, но и охоту соваться на Симкин погост.
Лишь самые отчаянные пытались ковырять там землю, но толку с этого было мало. Не тот размах. Впрочем, в связи со свежими веяниями на самом верху — с приходом к власти нового президента — и менты немного присмирели; так сказать, «очеловечелись».
— Да, измельчал народ… — молвил Глеб и с удовольствием выпил кружку глинтвейна, предложенную Жуком. — На Симкином погосте нужно работать артелью: три человека с рациями на стреме, а четверо-пятеро посменно копают. Хорошо бы и технику туда загнать, но там такие места, что и человеку трудно пройти.
— Может, в следующем году возглавишь это дело? — с надеждой спросил Жук. — Народ найдется…
— Нет. Ты же знаешь, я волк-одиночка. Многолюдье меня раздражает.
— Скажи лучше, что у тебя на примете есть что-то козырное…
— Как ни странно, но увы, даже в отдаленной перспективе ничего не вижу. Пытаюсь нащупать какую-нибудь ниточку, но в итоге пока получаю голый вассер. В общем, тоска. Потому и приперся сюда, может, что в голову придет, когда оприходую литра три этого пойла, — Глеб указал на братину с глинтвейном.
— А я пришел, чтобы обмыть сделку. С прошлого года у меня завалялось кое-какая рухлядь, так я сегодня толкнул ее иностранцам. Хорошие бабки получил. Теперь мне хватит перекантоваться до следующей весны.
— Было что-то стоящее?
— Как по мне, так барахло. Ни серебра, ни злата. Медь, бронза и черепки.
— Нашел на Симкином погосте?
— Нет, в другом месте. Есть у меня такая заначка на черный день. Ежели дела идут совсем худо, я гребу туда и достаю все, что лежит поближе к поверхности земли. Глубже зарываться боюсь. Может завалить.
— Какой век? — поинтересовался Глеб.
— Немчуре я сказал, что пятнадцатый, но на самом деле не старше семнадцатого, а то и восемнадцатый. Больно работа хорошая. Так чисто в пятнадцатом веке не работали. Ну да им все равно. Лишь бы старина.
— А как они твои находки вывезут из страны?
— Это их заботы. А вообще, каналов хватает. Хоть бомбу вези. У нас сейчас не граница, а решето.
— И то правда… — сказал Глеб; и вдруг почувствовал на себе чей-то недобрый пристальный взгляд.
Стараясь не делать резких движений, он переменил позу, взял кружку с глинтвейном и как будто от нечего делать стал с безразличным видом оглядывать зал ресторана.
Народу было много. С некоторыми Глеб был знаком лично, кого-то знал по именам, кого-то — только в лицо, но были и незнакомцы. И как раз один из них, явно чужак, который сидел в дальнем конце зала, в тени, буквально пожирал Глеба хищными глазами. Стараясь не смотреть на него прямо, а всего лишь держать в поле зрения — чтобы не вспугнуть — Тихомиров-младший начал в уме лихорадочно перебирать всех тех, с кем ему доводилось встречаться.
Увы, этот человек не значился в его мысленной «записной книжке». Он вообще казался не от мира сего. У него были длинные волосы с проседью, тонкие, лихо закрученные на французский манер усы, и борода-эспаньолка. Нынче такие бороды редко кто носит, разве что экстравагантные представители богемы, начинающие день с посещения личного визажиста; эспаньолки были в большой моде до революции 1917 года.
«Интересно, как его пустили в ресторан?» — подумал Глеб. В «Королевском дворе» на фейс-контроле стоял не человек, а зверь; обычно его звали не по имени — Никита, а по прозвищу — Винт. Его он получил за феноменальную память на лица, которые были записаны в его башке, как на жестком диске винта — компьютерного винчестера.
Никита помнил всех, кто побывал в ресторане со дня открытия. Мало того, он мог с одного взгляда определить, что за человек стоит перед ним и сколько у него денег в кармане. Буянам и дебоширам в «Королевский двор» путь был заказан.
Однако нужно отметить, что перед творческой братией Винт все-таки пасовал. Он уважал творческие личности. И когда кто-нибудь из артистов, художников или журналистов перебирал лишку и начинал свинячить, Никита вежливо брал такого индивидуума под белые руки, выводил на улицу и подзывал такси; бывало, что он и оплачивал доставку домой «груза», совсем не вязавшего лыка.
Спорить с ним, а тем более бодаться, было бесполезно. Винт был двухметрового роста, имел пудовые кулаки и черный пояс по карате. Кроме того, как поговаривали, он служил в ФСБ или ГРУ, и даже где-то воевал, но на эту тему Никита никогда не распространялся.
Глеб знал, что Винту платили как шеф-повару, а то и больше. Зато хозяин ресторана мог особо не беспокоиться о своем заведении — рэкетиры обходили «Королевский двор» окольными путями. Правда, Глеб подозревал, что не из-за большого пиетета перед Никитой. Скорее всего, у Винта была прочная «крыша» в виде его сослуживцев, продолжавших работать в органах.
«Где я видел этого фраера? — думал Глеб. — Где и когда? Очень знакомая мордуленция… И притом навевает неприятные ассоциации. Ну, вспоминай же, вспоминай, олух царя небесного!» Увы, мыслительный аппарат Тихомирова-младшего только бестолку напрягал свои извилины, работая вхолостую.
Наверное, незнакомец каким-то шестым чувством уловил флюиды настороженности, исходящие от Глеба, потому что сначала резко опустил взгляд на стол, а затем подозвал официанта, рассчитался и быстро пошел к выходу. Он был среднего роста, изящного (даже хрупкого) телосложения и немного приволакивал правую ногу.
Глеб машинально отметил, что на его столе присутствовала только минералка, а из еды — какой-то салат и хлеб. «Хорошо повеселился мужик…» — мысленно улыбнулся Тихомиров-младший. Но улыбка эта вышла несколько кривоватой, потому что в душу змеей подколодной вползло беспокойство.
«А ведь этот клиент пришел в кабак только ради меня, — подумал Глеб и похолодел. — Неужто менты пустили по моему следу наружное наблюдение? Возможно… Но с какой стати? Или Арсений Павлович не поверил, что мне неизвестен человек, которого убили возле нашего дома? Не исключено, что так оно и есть. Майор — мужик недоверчивый. Уж я-то знаю… Нет, все равно что-то не вяжется! Больно заметная фигура этот любитель носить эспаньолки. Он не может быть сотрудником службы наружного наблюдения. Такие прикиды есть разве что в запасниках киностудий, но никак не в милиции. Этот чудак на букву «м» словно шагнул в XXI век с шестидесятых годов прошлого столетия…»
Светлый пиджак в мелкую клеточку с накладными плечами на одной пуговице, узкие черные брюки едва достающие до щиколоток — это чтобы народ мог любоваться яркими носками красного цвета, туфли с острыми носами на высоком каблуке… В общем, мужик выглядел пародией на пижона, которого достали из сундука спустя полвека и забыли стряхнуть с него нафталин. Он никак не тянул на стилягу шестидесятых, в том числе и по возрасту. Мужику стукнуло как минимум пятьдесят, определил Тихомиров-младший.
— …Глеб, ты что, уснул?! — словно откуда-то из небес раздался голос Жука.
— А, что?.. — встрепенулся Глеб. — Почему уснул? Задумался.
— Ну ты даешь… А я тут соловьем заливаюсь, байки травлю. Кому, спрашивается?
— Не обижайся. На меня иногда находит.
— Что-то задумал? Неужто новый поиск? Эх, взял бы ты меня… Все равно балду гоняю. До зимы совсем тоска заест. Я готов с тобой работать под минимальный процент. Твои семьдесят, мои — тридцать процентов. Харч у меня будет свой. Инструменты тоже. А, Глеб?
— С чего ты взял, что я хочу рвануть в «поле»? На носу осень…
— Так ведь до холодов еще далеко. Листва только-только начала желтеть. Первые числа сентября. Еще как минимум два месяца можно в «поле» упираться.
— Антон, ты, как «здрасте» среди ночи. Ничего такого я не думаю. И на примете у меня ничего нет. Просто… размечтался…
— У меня тоже иногда бывают такие моменты. Ставлю себя на место Али-бабы. Представляешь, найти бы такую пещерку, как он. Старинные монеты, кувшины, ларцы, статуэтки, ожерелья… И все из золота, серебра и драгоценных камней. Эх! Мечты, мечты, где ваша сладость…
— Тебе что, жизнь надоела?
— Ты о чем?
— О том, что если ты найдешь такой клад, то продолжительность твоей жизни будет измеряться несколькими днями — до первого слуха о твоей находке. Братки вывернут тебя наизнанку. Уж лучше искать черепки. И между делом что-нибудь стоящее. Чтобы не сильно в глаза бросалось и не вызывало большой зависти.
— Твоя правда. Но ведь мечтать никто не может запретить.
— Мечтать не вредно. Все, Антоха, бывай. Я порулил.
— Не понял… Почему так рано? Еще и одиннадцати нет.
— Что-то я устал… — уклонился от прямого ответа Глеб; и приврал: — Наверное, из-за бессонницы. Ночью почти не спал.
— Ну, коли так…
Расплатившись и по-дружески распрощавшись с Жуком, Глеб вышел из ресторана. Ночь выдалась безлунной, на город опустился туман, и казалось, что уличные фонари не светят, а цедят на асфальт желтые струйки света.
Такси он вызывать не стал — до дома было рукой подать. А городской босоты Глеб не боялся. Во-первых, он мог за себя постоять, а во-вторых, быстро бегал. Кроме того, Тихомиров-младший хорошо знал менталитет городского отребья.
Если человек идет среди ночи безбоязненно и один, значит, лучше его не трогать, иначе можно схлопотать пулю в лоб. Вот ежели поймать какого-нибудь полуночника с девушкой — это другое дело. В таких случаях слабый пол для мужика — как чемодан без ручки: и бросить жалко, практически невозможно, и нести тяжело.
Завернув за угол, Глеб неожиданно резко остановился. Прямо перед ним на дорожке стоял огромный пес и злобно скалился.
У Глеба екнуло под сердцем. Он не любил собак, которые иногда становились большой помехой в поисковых предприятиях. В особенности, когда нужно было без лишнего шума обследовать какой-нибудь охраняемый археологический объект. В основном по этой причине Тихомировы и не заводили себе сторожевых псов. Потому что запах псины нельзя заглушить ничем, и собаки, охраняющие объект, гораздо быстрее улавливают запахи своих сородичей, нежели человека.
— Пошел вон! — цыкнул Глеб на пса и нагнулся якобы в поисках камня.
И тут же невольно отпрянул назад, потому что из темноты появились еще собаки. Их было больше десятка. Главную роль в этой своре играла маленькая рыжая сука. Ее глаза горели дьявольским огнем. Она некоторое время пристально вглядывалась в Глеба, словно пытаясь определить, знаком он ей или нет, а затем несколько раз отрывисто тявкнула.
Псы будто с ума сошли. Сначала они зарычали, залаяли на разные голоса, а потом дружно напали на Глеба. Он сначала пятился, отмахиваясь снятой курткой, но когда пятнистый кобель — смесь дога и еще какой-то образины — оторвал от нее рукав, Глеб понял, что нужно спасаться бегством. Он развернулся и припустил во всю прыть, надеясь, что собаки, как это обычно у них бывает, немного разомнутся и отстанут от него.
Но не тут-то было. Псы дружно помчались ему вслед, завывая на все лады, словно стая демонов. Тут уж Глеб испугался не на шутку. Он знал, что в городе уже были случаи, когда бездомные псы рвали людей. Особенно доставалось от них бомжам и маленьким детям.
Бродячих собак пытались стерилизовать, но из этой затеи получился пшик. Собачьи стаи умножались за счет домашних псов, чаще всего больных и старых, от которых, вместо того чтобы их усыпить, избавлялись «сердобольные» хозяева.
Толстое дерево с низко расположенными ветками словно ждало Глеба. Он подпрыгнул, схватился за нижнюю ветку и в мгновение ока, словно акробат, забрался едва не на самый верх. При этом Глеб лишь чудом избежал клыков вожака стаи, которые щелкнули буквально в миллиметре от каблука его ботинка.
Немного отдышавшись, Глеб посмотрел вниз. Посмотрел — и загрустил. Свора и не думала убираться восвояси. Псы расселись, подняв морды, вокруг дерева, и явно ждали, когда человек, как перезревший плод, свалится вниз, чтобы они могли всласть с ним позабавиться.
Глеб с надеждой осмотрел окрестности. И ему стало совсем нехорошо. Собаки загнали его на окраину старого парка, поэтому ждать, что здесь появятся прохожие, не приходилось. Сюда и днем редко кто заглядывал.
Что касается водителей машин, которые проезжали по улице буквально в тридцати метрах от дерева, на котором сидел Глеб, то на них надежды и вовсе не было никакой. Они не услышали бы и труб Судного дня.
В общем, положение создалось — хуже некуда.
Глава 6
На постоялом дворе «Ржавый якорь» случилась большая неприятность. Слуге графа Сен-Жермена, юному Жилю, ударом копыта лошадь сломала ногу. Да так, что прибывший по вызову дядюшки Мало самый дорогой и известный в Париже костоправ мсье Буше лишь печально качал головой, когда к нему приставали с расспросами: «Как скоро выздоровеет мальчик?»
— Ах, мадам и месью, если бы я знал… Все зависит от милости Господа нашего, — отвечал расстроенный костоправ. — Думаю, что он прочно станет на ноги не раньше, чем через три-четыре месяца. Кость раздроблена в нескольких местах. Я едва ее сложил. Ужасно…
Ему очень хотелось успокоить хозяина бедного Жиля, графа Сен-Жермена, который не пожалел денег на лечение своего слуги, но мсье Буше был честным человеком и не стал опускаться до примитивной лжи.
Костоправ уехал, а Жилю нашли маленькую комнатку, которую граф Сен-Жермен оплатил на год вперед. Во время ужина он сказал дядюшке Мало:
— Заботься о нем, как о своем сыне. Я оплачу все твои расходы. Вот, возьми… — Граф передал дядюшке Мало увесистый кошель с монетами. — Здесь испанское золото, но оно ничуть не хуже французских луидоров. Этот мальчик мне дорог. У Жиля большое будущее. Естественно, если он доживет до зрелого возраста. Увы, увы, дядюшка Мало, мы все в руках капризной Фортуны… Интересно, как его угораздило пойти на конюшню? Что он там забыл? Или твои конюхи плохо справляются со своими обязанностями и он решил им помочь?
— Что вы, милорд! Мои люди никогда не волынят. И уж тем более конюхи. Я расспрошу Жиля, когда мальчик проснется, какая нелегкая понесла его в стойло к этому жеребцу. Он настоящий дикарь!
— О каком жеребце ты ведешь речь? — удивился Сен-Жермен.
— Его купил вчера мой помощник. Если откровенно, то сделка получилась знатная. Жеребец английских кровей по цене пони!
— Странно… — Граф нахмурился. — Уж не краденый ли он?
— Ни в коем случае, милорд. Барышник — мой хороший знакомый. И моего помощника он хорошо знает. Он не рискнул бы меня обмануть. Почему так дешево? Все очень просто. Жеребец был последним в партии лошадей, которых барышник привез из Англии. Он и впрямь стоит больших денег. Но барышнику нужно было срочно продать жеребца, потому что он хотел опередить своего конкурента, нацелившегося на табун чистокровных скакунов из Андалузии. О, это такие лошади, милорд! Огненный взгляд, горделивый изгиб шеи, пышная грива, ниспадающая на плечи… И необыкновенный, как бы танцующий, ход. Немного найдется пород более ярких, эффектных и оригинальных, чем андалузская.
— Да, да, все верно, дядюшка Мало. Это кони королей, благородных рыцарей, кони легендарного Эль Сида и Кортеса. Андалузские скакуны — это сама история искусства верховой езды. Вот только мне непонятно, с каких это пор дядюшка Мало, моряк до мозга костей, стал так увлекаться лошадьми? И потом, оказывается, ты романтик. Так точно и красочно описать андалузцев может не каждый.
— Знаете, милорд, я давно понял, что лучшие друзья человека — это собака и конь. Они никогда не подведут, всегда выручат в трудную годину, а когда тебе захочется поплакаться кому-нибудь в жилетку, сетуя на свою нелегкую судьбину, то более благодарных слушателей, чем лошадь и пес, не найти. Они все понимают. Жаль, что Господь не наградил их человеческой речью.
— Жаль… — машинально ответил граф, думая о чем-то своем.
Он пытался подвергнуть ситуацию хладнокровному анализу (что не очень удавалось) и в конечном итоге должен был с сожалением констатировать, что для него утрата Жиля чересчур болезненна. Мальчик был очень преданным и проворным, как горностай, — любимая забава вельможных персон, державших эту хищную зверушку вместо домашнего животного. Для холостого Сен-Жермена юный Жиль был очеловеченной игрушкой, скрашивающей долгие дни путешествий в закрытом пространстве четырехколесного экипажа.
Хорошо, что в этот момент никто не видел Фанфана. Он забился на сеновал и в который раз истово клялся самыми страшными клятвами, что никогда, никогда не подведет такого богатого и могущественного господина как Винтер. Как виртуозно он устранил Жиля! Комар носа не подточит.
Конечно, в этом деле есть и заслуга самого Фанфана, который напоил купленного жеребца снадобьем, которое дал ему мсье Винтер, после чего животное просто озверело. А затем Фанфан, выполняя план Винтера, рассказал Жилю, что в конюшне дядюшки Мало появился красавец-скакун и слуга графа не смог сдержать любопытства.
Что там дальше происходило, Фанфан не знал. Винтер строго-настрого запретил ему соваться в конюшню вместе с Жилем. Но в итоге все получилось так, как было задумано — появилась вакансия на место слуги графа Сен-Жермена. Теперь все зависит от оборотистости самого Фанфана. «И смелости», — мысленно добавил подросток и нащупал в кармане рукоять навахи…
Трипо, которого прислал папаша Гильотен, заявился ближе к ночи. Это был длинный, как глист, узкоплечий малый, у которого на изъеденном оспой узколобом лице с массивными надбровными дугами было написано, что он патологический убийца. Обычно Трипо исполнял деликатные поручения папаши Гильотена. Обитатели парижского дна хорошо знали, чем занимается Трипо, и старались не конфликтовать ни с его хозяином, ни с ним самим.
— На окнах спальни графа я незаметно отодвинул задвижки, — громко прошептал Фанфан, стараясь не очень приближаться к Трипо, от которого исходил запах мертвечины; бандит не был большим любителем принимать водные процедуры.
— Молодец, — похвалил его Трипо. — Так говоришь, на руках графа дорогие перстни?
— Да. Бриллианты величиной с лесной орех.
— Ух ты! Это отлично. А ведь у него есть еще и кубышка… Но тут сразу же возникает вопрос: а как снять эти перстни, чтобы граф не услышал? Да-а, по-тихому спроворить дельце не получится. Ну да ладно, разберусь как-нибудь… Нет, не зря я бил ноги в такую даль. И угораздило же твоего дядюшку Мало завести постоялый двор в Сен-Клу!
— Нужно было взять извозчика.
— Экий ты дурень, Фанфан. Когда граф вознесется на небеса, полиция первым делом начнет опрашивать как раз извозчиков. А моя физиономия известна половине Парижа. Смекаешь?
— Смекаю.
— То-то. Учись, пока у тебя есть такой учитель, как я… — Трипо рассмеялся. — И-ги-ги-и-и…
Его смех напоминал визг свиньи, которую режут. Фанфан опасливо оглянулся — как бы их не услышали. Но ночная темень надежно укрыла заговорщиков своим черным плащом, а луна никак не могла выпутаться из пушистого покрывала туч. Фанфан и Трипо беседовали в небольшой рощице как раз напротив ворот постоялого двора. Отсюда им хорошо были видны освещенные окна второго этажа — граф еще не ложился. Он занимал так называемые «королевские» апартаменты, состоявшие из большой комнаты с камином и спальни.
— Так я пошел… — Фанфан нервно поежился.
— Иди, иди… Теперь дело за мной. Лишь бы сторожевые псы дядюшки Мало не испортили мне всю малину.
— Я ведь уже говорил, что собак беру на себя.
— Извини, забыл… Ну, бывай. Пожелай мне удачи.
— Желаю… — Голос Фанфана дрогнул, и он поторопился уйти.
Теперь ему предстояло самое сложное — обтяпать дельце так, чтобы все выглядело абсолютно натурально…
Трипо подошел к забору, окружавшему постоялый двор «Ржавый якорь», подтянулся на руках, словно гимнаст, и вмиг очутился на дереве, которое росло возле забора. Его ветви доставали до крыши сеновала, откуда Трипо сначала перебрался на крышу таверны, а затем и на узкий карниз, опоясывающий гостиницу папаши Мало на уровне второго этажа.
Дальше он стал передвигаться, как улитка. Трипо буквально прилип к стене, слился с ней, раскинув руки и даже вблизи выглядел просто пятном на кирпичной стене. Но это пятно не было неподвижным; оно миллиметр за миллиметром подползало к темному окну спальной комнаты графа Сен-Жермена.
Фанфан, затаившийся на ветке дерева, дрожал от возбуждения. В руках он держал наваху. Ветка, на которой сидел подросток, находилась чуть выше окна спальни графа, и Фанфан все примерялся, как ему действовать дальше. Конечно, риск свалиться вниз был чересчур большим, но это его мало волновало — Фанфан отличался кошачьей гибкостью и отменной ориентацией в пространстве.
Наконец пятно доползло до окна, и Трипо материализовался. Он долго прислушивался, приложив ухо к стеклу — спит ли граф, а затем осторожно открыл окно. Сделать это было просто и легко. Окно было выполнено в английском стиле и двигалось вверх-вниз в специальных пазах.
Подняв оконный переплет на нужную высоту и закрепив его защелкой, Трипо достал нож, нагнулся и осторожно просунул голову в свободный проем. Но влезать в комнату он не спешил. Он весь превратился в слух.
На беду Трипо его уши были настроены лишь на звуки, которые раздавались в комнате графа Сен-Жермена; а он как раз тихо похрапывал. Поэтому вор и убийца не услышал шороха листьев за своей спиной. Это его и сгубило.
Фанфан прыгнул на спину Трипо, как рассерженный кот. Вцепившись левой рукой в одежду бандита, правой он начал наносить молниеносные удары навахой в спину Трипо, стараясь попасть ему в сердце.
Трипо страшно закричал и хотел распрямиться, но ему помешала оконная рама. Тогда он наугад попытался ткнуть Фанфана ножом. Клинок пропорол куртку подростка и сделал глубокий порез. Подстегнутый болью Фанфан свирепо оскалился и еще раз воткнул наваху в спину Трипо по самую рукоять. Это был последний удар — слабеющие ноги Трипо соскользнули с карниза и он вместе с Фанфаном полетел вниз…
Когда на шум сбежались слуги с факелами и прибежал сам дядюшка Мало, то все увидели страшную картину. Под окнами спальни графа Сен-Жермена лежали два окровавленных человека. Лицо того, что находился сверху, было всем хорошо знакомо.
— Да это же Фанфан! — вскричал кто-то в страшном удивлении.
— Точно, он, — подтвердил другой.
— Ну-ка, помогите, бездельники! — рявкнул дядюшка Мало, стараясь поднять подростка на руки. — Фанфан, мальчик мой, ты слышишь меня?
Фанфан слабо застонал и открыл глаза. Со всех сторон послышались вздохи облегчения. Подросток не притворялся, что был без памяти. Он и впрямь потерял сознание, когда упал на землю. Но не от ушиба или боли в ране, а просто от большого нервного перенапряжения. И все равно, падая, Фанфан каким-то непостижимым образом сумел извернуться и оказался сверху Трипо. В противном случае он мог покалечиться.
— Слышу… — прошептал Фанфан и закрыл глаза; ему вдруг стало стыдно, что он обманывает дядюшку Мало, который так хорошо к нему относился.
— Вина! — вскричал хозяин постоялого двора. — Принесите вина! И побыстрее, сукины дети, чтоб вам всем висеть на рее!
Принесли вино, дали выпить Фанфану. Он глотнул несколько раз, закашлялся и его взгляд наконец прояснился.
— Кто это? — спросил дядюшка Мало, указывая на неподвижное тело.
— Н-не з-знаю, — дрожащим голосом ответил мальчик. — Он лез с н-ножом в к-комнату графа…
— Графа? — дядюшка Мало посуровел. — Ну-ка, переверните его! — приказал он слугам.
Тело положили на спину и к лицу мертвеца поднесли факел.
— Трипо! — дружно выдохнули несколько человек. — Это Трипо, хозяин! Бандит и убийца. Страшный человек…
— Сам вижу, что Трипо, — проворчал дядюшка Мало. — И пришел он к нам, чтобы проверить сундуки милорда. Вот тварь! Но ты хорош, Фанфан. Ай, молодец! Не испугался. Малец, в одиночку против такого зверя… Да ты просто герой! Корсар! Иди, я тебя обниму, мальчик. Что такое? Ты ранен?!
— Немножко…
— Эй, Мутон, неси сюда бинты и граппу. И поторопись!
Поваренок по имени Мутон побежал исполнять приказание. Слуги живо обсуждали происшествие. А из окна спальни на них безмолвно смотрел сильно озабоченный граф Сен-Жермен…
Во время завтрака дядюшка Мало рассказал графу о ночных событиях. Он так превозносил Фанфана, что Сен-Жермен сказал:
— Ну-ка, покажи мне этого юного удальца.
Фанфана долго искать не пришлось. Он околачивался поблизости, словно знал, что граф затребует его к себе.
— Похоже, ты спас мне жизнь, — молвил граф, с интересом присматриваясь к подростку; он чем-то напоминал ему Жиля, к которому Сен-Жермен был сильно привязан.
— Что вы, милорд, — скромно ответил Фанфан. — Я всего лишь защищал нашу гостиницу от воров. Это вышло случайно.
— Да, его величество Господин Случай — большой шутник. Мне он хорошо знаком. Мы с ним иногда дружим… Впрочем, как говорят умные люди, случайность — это непознанная закономерность. Вот только в чем она сейчас заключается, я пока еще не понял. Что ж, спасибо тебе, Фанфан. Иди. Ты будешь вознагражден.
«Куда ему до мсье Винтера! — думал Фанфан, уплетая на кухне приготовленный лично для него очень вкусный пирог с олениной и запивая его добрым вином. — Жадина! «Ты будешь вознагражден…» Ха! Как же, знаю я эти обещания. Господа всегда на них щедры. И только. Из них не выдавишь и лишнего су. Что граф Сен-Жермен, что папаша Гильотен — все едино… Но про то ладно. Главное заключается в другом: клюнул граф на мою приманку или нет? А что если все мои старания пропали впустую? Нет, нет, мсье Винтер не может ошибиться! Это не такой человек. Он все знает наперед».
Фанфану не дано было проникнуть в мысли Сен-Жермена. А он был сильно обеспокоен появлением на постоялом дворе известного убийцы. И потом, что-то в этой истории не вязалось. Граф чересчур хорошо знал преступный мир Парижа, чтобы поверить в то, что Трипо пошел на такое дело один. Но кто был его помощник? Неужели кто-нибудь из слуг дядюшки Мало?
А ведь Трипо явно хотел зарезать его прямо в постели. Это несомненно. Неужели враги пронюхали, что он напал на след Десницы Господней, и решили его устранить? Выходит его предал сэр Мюррей. Ведь только ему известны все подробности поисков.
Нет, нет, это невозможно! Мюррей неоднократно проверен. К тому же ему хорошо известно, что в случае предательства его достанут даже из-под земли. Хотя… чего только в этой жизни не бывает. Вопросы, вопросы… Они роились, как весенние мухи. И оставались без ответа. Это было очень неприятно. И наконец, кто ему заменит Жиля?
Граф допил бокал вина, взял колокольчик со стола и позвонил. На зов прибежал слуга.
— Позови хозяина, — приказал граф.
— Слушаюсь, милорд, — ответил слуга, поклонился и побежал искать дядюшку Мало.
Когда хозяин постоялого двора появился в апартаментах графа, тот как раз заклеивал конверт с письмом.
— Дядюшка Мало, тебе знаком некий господин Делонг?
— Да, милорд, знаком. — На лице дядюшки Мало появилось выражение отвращения. — Это пронырливая ищейка, которая вечно сует нос не в свои дела. Он держит контору на улице Шарантон, рядом с винным магазином.
— Все верно, Делонг — частный сыщик. Он весьма неглуп и удачлив. Правда, не очень чист на руку… но у кого нет недостатков? Мне нужно, чтобы он получил это письмо и расследовал для меня одно дельце. Вот деньги для оплаты его услуг… — Граф указал на кошелек, который лежал возле письменного прибора. — Только предупреди Делонга о конфиденциальности расследования. Пусть укоротит свой чересчур длинный язык. Впрочем, он меня знает, так что, надеюсь, лишнего болтать не будет.
— Я должен вручить письмо ему лично?
— Что ты, мой добрый друг. Ни в коем случае. Твоя душа и так исстрадалась, когда ты доставлял мое послание англичанину. Пусть письмо Делонгу отнесет слуга. Только самый доверенный! А лучше запряги для него тильбюри и дай ему сопровождающего.
— Понял… — Дядюшка Мало облегченно вздохнул. — Я так и сделаю.
— Но и это еще не все… — Граф помедлил, словно колебался — говорить или нет, но все же продолжил: — Я завтра уезжаю… далеко. Без Жиля мне будет трудно. Он верный слуга и вообще добрый мальчик… а тут такое…
— Да-а, беда…
— Взять к себе в услужение кого-то со стороны я не рискую. Паж, обязанности которого исполнял Жиль, — это доверенное лицо господина. Он знает слишком много тайн. И мне очень не хочется, чтобы эти тайны попали в чужие уши.
— Вам нужен надежный человек…
— Именно так, дядюшка Мало. Только ты можешь дать мне совет на сей счет.
— М-м… — Дядюшка Мало в задумчивости пожевал губами. — Милорд, вы задали мне сложную задачу. Поручиться могу только за себя, но в слуги я уже не гожусь, не тот возраст. А что касается других… не знаю, милорд. Боюсь ошибиться и подвести вас. Есть у меня на примете два человечка… но один туповат, а другой чересчур любит вино.
— А что ты думаешь насчет Фанфана?
Дядюшка Мало обреченно вздохнул; он давно понял, куда клонит граф.
— До сих пор я не имел к нему никаких претензий, — осторожно ответил хозяин постоялого двора. — Однако хочу сказать вам, милорд, что мальчик себе на уме. Очень скрытный. Но умен, проворен и храбр. Что он вчера и доказал. Не каждый решился бы вступить в схватку с вооруженным грабителем.
— А почему он не поднял шум, заметив злодея? Ведь это было бы гораздо проще и безопасней.
Дядюшка Мало рассмеялся и ответил:
— Все мы были в его возрасте. И всем нам хотелось хоть раз проявить геройство, чтобы тобой восхищались и превозносили до небес. Фанфан признался, что именно это мальчишеское желание выделиться из толпы и толкнуло его на столь безрассудный поступок. Но все равно нужно отдать ему должное. Он не по годам сметлив и силен. А уж как дерется, на это стоит посмотреть. Чисто тебе барс.
— Вот я и хочу на время болезни Жиля взять к себе Фанфана в услужение. Мне как раз такие «барсы» и нужны. Пока я доберусь до цели своего путешествия, мне придется преодолеть много препятствий и опасностей. И храбрый, толковый паж будет для меня дополнительной опорой. Как ты смотришь на мою просьбу?
— Я всегда рад услужить вам, милорд. Считайте, что мы договорились. Но нужно спросить еще Фанфана. Он свободный человек и имеет право на личное мнение.
Сен-Жермен мысленно улыбнулся. Он понял, что последнюю фразу дядюшка Мало произнес в тайной надежде, что Фанфан не согласится служить графу.
— Пришли Фанфана ко мне, — сказал граф, передавая дядюшке Мало письмо и деньги для сыщика Делонга. — Я постараюсь его уговорить…
Ранним утром следующего дня карета Сен-Жермена покинула постоялый двор «Ржавый якорь». Внутри нее, напротив графа, сидел бледный от большого волнения Фанфан. Он боялся поверить, что его замысел увенчался успехом. А еще Фанфан не знал, как себя вести с новым господином.
Граф понимал состояние мальчика, поэтому, чтобы он побыстрее освоился, делал вид, что с интересом рассматривает из окна кареты унылые и обшарпанные домишки окраины Сен-Клу. Мыслями он уже находился в далекой и загадочной Московии. Ему уже приходилось там бывать, и все равно Сен-Жермен ждал встречи с ней не без душевного трепета, потому что русские так и остались для него сплошной загадкой. Опасной загадкой.
Глава 7
«Ау, люди!» — вспомнились Глебу слова одного персонажа из какого-то старого фильма. Он даже нервно хохотнул — ну, блин, и приключение. Это же надо: почти в центре большого, вполне цивилизованного города псы устроили настоящую охоту на человека. Глеб почти не сомневался, что если он слезет с дерева, то его немедленно разорвут на куски. И что теперь делать?
Телефон! Можно по мобилке позвонить в милицию или службу спасения. Глеб машинально попытался сунуть руку в карман куртки, где лежал телефон и в отчаянии выругался — кармана и в помине не было. Он совсем забыл, что бросил куртку, когда лез на дерево. И теперь на ней демонстративно расселся вожак собачьей стаи; наверное, чтобы таким образом подтвердить свое превосходство над двуногой дичью, кукующей на дереве.
«Неужто до утра придется здесь просидеть?! — с тоской подумал Глеб. — Дожил… Позор на мои будущие седины! Цуциков испугался. Ну да, цуцики… Да это просто звери! Волчары. Ишь как глазами сверкают. Они что, сильно оголодали? Так на помойках для них полно разного харчу. И жирные крысы возле домов пешком ходят. Непонятно… И вообще — чего они на меня взъелись? Я что, самый вкусный из всех жителей города? Хоть бы ножик в карманах был какой-нибудь… И что у тебя, мил дружочек, за дурацкая привычка шастать по ночам без средств самозащиты? На худой конец баллончик взял бы с каким-нибудь газом. Дома целая коллекция… Дубина!»
Неожиданно в ночной тишине — даже машины на время прекратили сновать по улице туда-сюда — раздались не очень уверенные шаги. Глеб раздвинул мелкие ветки и увидел, что к дереву приближается какой-то человек. Судя по кренделям, которые он выписывал по тротуару, человек был изрядно подшофе. Псы уже услышали шаги и, как по команде, повернули головы в его сторону.
«Еще одна дичь ползет. Надо крикнуть, предупредить… Иначе этому ханурику кранты. — И тут же в голову змеей подколодной проскользнула подленькая мыслишка: — Остынь, сердобольный ты наш. Пока псы будут разбираться с этим малым, ты сделаешь ноги. Его все равно уже ничто не спасет. Убежать ему не удастся по вполне понятной причине, и уж тем более он не залезет на дерево в таком виде».
Глеб подумал одно, а сделал другое. Ему вдруг стало стыдно за такие мысли. Глеб сначала с отвращением сплюнул, а затем заорал:
— Мужик, не ходи сюда! Тут бродячие псы! Разорвут! Вернись!
— Кто там шумит? — раздалось в ответ.
— Подними голову! Я на дереве! Чеши отсюда, тебе говорят!
— С какой стати? Псы… Нашел чем пугать. Да я этих шавок счас в порошок сотру. И где они? Где эта сучья кодла? Нету… Ты что мне баки забиваешь? Эй, ты где, мужик?
Глеб посмотрел вниз и обомлел — под деревом не было ни единой псины! Лишь белело пятно его летней куртки. Собаки смылись, даже ни разу не тявкнув на мужика.
«Надо было и мне нализаться до положения риз, как намеревался, — подумал Глеб, сползая по древесному стволу на землю. — Наверное, пьянчужки у бездомных псов в особом почете. Вот что значит не принять на грудь положенную дозу. Сплошные приключения получились…»
— А вот и он, дятел наш говорливый, — сказал мужик, подходя к дереву. — У тебя чё, парнишка, на дереве скворечня?
Глеб присмотрелся и в диком удивлении воскликнул:
— Жук?! Глазам своим не верю…
— А ты кто? Откуда меня знаешь?
— Разуй гляделки, Антон.
— Глеб?! — Теперь пришла пора удивляться Жуку. — Ты что здесь делаешь?
— Гуляю я тута, — ответил Глеб и нервно рассмеялся. — Ты даже не можешь представить, как я рад тебя снова увидеть.
— Не понял… Что значит — гуляю? Среди ночи, по деревьям… Ты что, Тарзан? И потом, где псы, о которых ты говорил?
Глеб в нескольких словах обрисовал Жуку ситуацию, в которую попал. И закончил свою краткую речь словами благодарности.
— Да, бездомных собак здесь много, — ответил Жук, закуривая. — Но обычно они смирные, на людей не бросаются. Похоже, ты им чем-то очень не понравился. Курнешь?
— Давай…
Глеб взял предложенную сигаретку дрожащими пальцами, прикурил и несколько раз глубоко затянулся — так, что даже голова закружилась. Зато мысли прояснились.
— А ты как возле парка оказался? — спросил он Жука.
— Живу я здесь. Вон мой дом, — показал Жук куда-то в темноту.
— Да? Не знал.
— Теперь будешь знать. Может, зайдем ко мне и хряпнем по черепушке? А то хмель из головы почему-то совсем выветрился. Ты подействовал на меня как отрезвляющее средство.
— Удивительно, но я почему-то не против, — ответил Глеб. — Шутки шутками, но у меня до сих пор ноги дрожат. Нужен допинг, чтобы окончательно прийти в себя. Не будь этого дерева, меня бы собирали по кусочкам. Надо будет прикрепить к стволу табличку, а на ней написать: «Спаситель заблудших душ». Ибо пьянка — это и впрямь опасное заблуждение.
— И в чем оно заключается?
— Мы думаем, что с помощью алкоголя снимаем стресс, а на самом деле вгоняем себя в еще большую депрессию.
— Согласен. Пьянству — бой. В связи с этим пойдем ко мне и задавим депрессию на корню.
Оба дружно рассмеялись, Глеб поднял с земли свою испоганенную куртку и они направились к дому Жука, который освещался единственным фонарем…
Домой Тихомиров-младший вернулся под утро. На этот раз, помня о псах, он взял такси, хотя его так и подмывало пройтись по ночному городу, чтобы немного проветриться, — уж очень забористой оказалась виноградная чача, которой угощал Железный Жук. По его словам, эту «прэлесть» ему презентовал некий клиент — то ли грузин, то ли просто кавказец — который сильно запал на пару серебряных подсвечников.
«Панымаэшь, вах, женыться хачу, — смеясь, излагал Жук то, что говорил ему грузин. — Папа и мама нэвеста нада падарка дарить. И шито я падару? У папы — «мерседес», новый мадэл, у мама — салон красоты, дэнга лопатой гребет… Масква живут, вах. Харашо живут, лучше нэ нада. Все есть. А падсвэчник старинный нэт».
Глебу был хорошо знаком такой контингент. Пресыщенным сытой жизнью и бешеными деньгами, современным богатеям стало хотеться чего-то такого, эдакого. И они дружно кинулись скупать старину, в том числе и произведения живописи. Ведь для человека особо ценно только то, что достается ему с неимоверным трудом. А в нынешние времена настоящих раритетов, находящихся в свободной продаже, осталось совсем немного. Все более-менее ценное давно распределено по музеям и частным коллекциям.
Потому-то его отец и забросил работу в «поле» — как очень опытному эксперту-консультанту с мировым именем, ему платили суммы, сопоставимые с зарплатой менеджеров высшего звена…
Едва добравшись до кровати, Глеб уснул мертвецким сном. Он даже не стал раздеваться — не было сил, только снял туфли.
Сон его был коротким и полным кошмаром. Когда Глеб проснулся, то был весь в поту и задыхался от удушья. Оказалось, что он каким-то образом засунул голову под подушку. Но когда Глеб освободился от этого груза, который, несмотря на свой легкий вес, давил на его организм, как бетонная плита, то едва не лишился сознания от ужаса. Над ним склонился сам дьявол!
Закричав диким голосом, Глеб даже не соскочил с кровати, а взлетел едва не под потолок — словно сказочный Карлсон с моторчиком на спине. Черное существо, похожее на… в общем, непонятно, на что, мгновенно увеличилось в размерах, соскочило со спинки кровати и начало летать по спальне с хриплыми неприятными криками «Кр-р!.. Кр-р!.. Ка-ар-р!»
Ворон! Это был ворон! Он тоже сдрейфил и метался по комнате, как черный метеор, каким-то чудом ухитряясь не удариться о стены или мебель. Глеб, который забился в угол (с испугу он не нашел дверь), судорожно проглотил комок воздуха, застрявший в горле, и плюхнулся в кресло, стоявшее неподалеку, — ноги вдруг стали ватными. А затем он начал смеяться.
Глеб смеялся — скорее, ржал — так долго, что даже испугался: не повредился ли он рассудком? Похоже, в этот гомерический смех вылилось все напряжение последней недели, начавшейся с убийства неизвестного возле его дома. Усилием воли сцепив зубы, Глеб заставил себя успокоиться и посмотреть на вещи более трезвым взглядом. (Ворон по-прежнему нарезал по комнате черные круги.)
Откуда он взялся? Это был первый относительно трезвый вопрос, пришедший Глебу в его похмельную голову. В открытое окно спальни ворон залететь не мог, потому что там стояла специальная сетка против насекомых. Значит, ворон материализовался, как в фантастических фильмах, из пустоты? Прилетел из параллельного пространства.
Что ж, объяснение не хуже других. Нынче мир переживает такие страсти, что можно поверить и в невозможное. Невозможное с рациональной точки зрения. К концу света (а он уже близок, как предрекают некоторые не вполне адекватные граждане) и не такие вещи будут происходить.
— Будем считать ворона предвестником фантастических перемен, — пробурчал Глеб себе под нос.
«Господи, какую несусветную чушь я несу!» — в отчаянии подумал Глеб, совсем запутавшийся в предположениях. Он сумел сфокусировать взгляд на вороне, который наконец успокоился и сел на шкаф. Вполне обычный земной ворон. Правда, очень большой (наверное, хорошо кормленный) и какой-то взъерошенный. Склонив голову, он с укоризной смотрел на Глеба, будто хотел сказать: «Что ж ты, мил дружочек, наделал столько шороху? И сам испугался, и меня напугал».
— Ты как здесь очутился… чтоб тебя?! — спросил Глеб, будто ворон мог ему ответить человеческим голосом.
На удивление, ворон ему все-таки ответил, но по-своему:
— Ка-а-р-р!
— Я так понял, ты хочешь, чтобы тебя выпустили на свободу…
— Кр! Кр! Кр! — быстро прокаркал ворон, словно закашлялся.
— Ты что, понимаешь человеческую речь?! — удивился Глеб; уж очень осмысленно смотрела на него черная птица.
— Кр-а-а!
— Ну хорош тут каркать! — рассердился Глеб. — Я, между прочим, хочу в душ. И холодной минералки. И потом, мне уже неинтересно знать, какая нелегкая и каким образом занесла тебя в дом. Я сейчас открою окно и проваливай отсюда по-добру, по-здорову.
— Глаш-ша! Глаш-ша! Глаш-ша! Кар-р! — вдруг проорала птица… и вылетела через закрытое сеткой окно!
Глеб оцепенел. Нет, ему не послышалось — ворон произнес имя Глафиры Миновны! Правда, не совсем внятно, по-птичьи, но все равно ворона можно было понять.
«Похоже, я схожу с ума… — как-то отрешенно подумал Глеб. — Говорящий ворон, который неизвестно откуда взялся и непонятно как вылетел через закрытое сеткой окно. Просочился, наверное, как робот-терминатор. И как это называется? Это называется глюки, парень. Но я же не наркоман! Что это со мной? Нечистая! «И покойнички вдоль дороги с косами стоят…» Зачем я вчера зашел к Жуку?! Этот сукин сын угощал меня чачей, будь она неладна, которая точно крепче хорошего виски. Сколько мы усидели? Не меньше полутора литров. Вот придурки! Ладно, все-таки нужно разобраться в этой мистической истории. Пойду, гляну…»
Глеб встал и на неверных ногах подошел к окну, через которое вылетел незваный гость. Подошел — и облегченно вздохнул. «И какая только чушь не может залезть в голову с большого бодуна!»
Нижний край сетки, заключенной в рамку, был оборван. Наверное, любопытный ворон, привлеченный видом какой-нибудь блестящей вещицы (такого добра в спальне хватало; например, будильник-неваляшка в корпусе из позолоченной стали, который как раз стоял на подоконнике), прорвал порядком изношенную сетку своим прочным клювом, затем расширил отверстие и пролез внутрь. Ворон — умная птица…
«Да, все это так, — спустя пять минут думал Глеб, стоя под контрастным душем. — Теперь понятно, что ворон — не какое-нибудь демоническое существо. Но почему он произнес имя бабы Глаши?» Глеб не мог ошибиться — птица очень точно смодулировала нужные звуки. Случайность? Как бы не так! В жизни нет места случайностям. Это аксиома. И уж тем более нельзя считать слепым случаем появление говорящего ворона в доме Тихомировых.
«Неужто?.. Нет! Этого не может быть! Баба Глафира послала говорящего ворона, чтобы он подтвердил ее приглашение… Бред! Конечно, бред». Скорее всего, Глебу и впрямь послышалось в не очень разборчивых шипящих звуках, издаваемых вороном, имя Глаша.
Кстати, некоторые люди обучают пернатых говорить. Например, попугаев, скворцов… И ворон. Вороны очень смышленые и умные птицы. Это научный факт. Возможно, в спальню забрался как раз прирученный говорящий ворон. Для такой птицы человеческое жилье не является чем-то из ряда вон выходящим, чего нужно избегать и бояться.
Скорее всего, ворон сбежал — улетел — от хозяев, а поскольку привычка жить в квартире осталась, вот он и посещает чужие жилища. Разумный вывод? Вполне. Никаких тайн. В дом Тихомировых нечаянно проник обученный человеческой речи ворон-беглец — этим все и объясняется.
И все же, и все же… Почему его занесло именно в спальню Глеба? Почему у ворона такой осмысленный взгляд? Будто ему вставили человеческие мозги. И наконец, что это у ворона за метод покидать комнаты? Он не просто вылетел через отверстие в сетке; ворон ее протаранил, сложив крылья, как торпеда. Таким макаром он мог, кстати, и стекло вынести. Запросто. Летел как камень из пращи…
Досконально обмозговать ситуацию Глеб не успел — требовательно загудел зуммер звонка, закрепленного на воротах. Глеб прошел в свой кабинет и включил монитор видеокамер внешнего обзора. Перед калиткой стоял Арсений Павлович и нетерпеливо переминался с ноги на ногу.
«Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты!.. Мне сейчас, товарищ мент, только тебя и не хватало», — со злостью подумал Глеб, тяжело вздохнул и привел в действие электрический замок; лично встречать Арсения Павловича ему почему-то не хотелось. Он нутром чуял, что майор принес в зубах какое-то пакостное известие. И Глеб не ошибся.
— Наш убитый ожил! — заявил Арсений Павлович с порога, даже не поздоровавшись.
— Ну?! — оторопел Глеб. — Не может быть!
— Еще как может…
— Но ведь он был мертвее мертвого! Или я совсем ничего не понимаю в таких делах.
— Так поначалу думали и врачи «Скорой помощи», которые везли его в морг на вскрытие. А он возьми и очнись. И это притом, что поначалу у него совсем не прощупывался пульс!
— Но это же отлично! — обрадовался Глеб. — Человек остался жив. Где он, в реанимации?
Глеб задал этот вопрос не без задней мысли. Ему очень хотелось побеседовать с посланцем бабы Глаши прежде, чем это сделает Арсений Павлович.
— Как бы не так. Он сделал ноги.
— То есть?..
— Сбежал.
— Вы шутите?
— Какие там шутки. Пока накладывали швы на раны и порезы, наш «мертвец» совсем оклемался. И даже пытался встать на ноги, но его силой уложили на каталку. Раны оказались неглубокими, только один удар клинка пришелся в район сердца, но он, похоже, прошел стороной. Этого странного пациента даже не стали везти в реанимацию (там все равно свободных мест не было), а отправили в палату интенсивной терапии. Ну, а на следующий день, перед врачебным обходом он похитил халат из ординаторской и дал деру. Вот такие, папенька, пироги.
— Обалдеть… Ведь он был, как решето! Весь в порезах. И крови много потерял. Невероятно.
— Так и врачи говорят. Это не человек, а какой-то уникум. Сестра, которая делала перевязку, рассказала и вовсе удивительную вещь. Будто бы его раны затягивались прямо на глазах. А еще во время перевязки он бормотал какую-то ересь, словно молился.
— Ересь?
— Да, именно так. Тарабарщину. Сестра в годах и верующая, поэтому может отличить набор непонятных слов от христианской молитвы.
— Может, этот мужик мусульманин или буддист…
— Вряд ли. У него на груди под рубахой находился нательный крест. Мне нужно было присовокупить его к вещдокам, но я не смог снять.
— Почему?
— Цепочка, на которой висел крест, оказалась по диаметру меньше, чем голова мужика. А застежки не было.
— Разорвали бы цепочку…
— Это можно было сделать разве что трактором. Она очень прочная. Я решил, пусть наши эксперты упираются. У них там есть и пилы по металлу, и газовый резак. А ты разве его не заметил?
— Вы сами сказали, что крест был под рубахой.
— Я так и предполагал, что ты не в курсе. А потому взял фотографию. Вот, смотри. Очень странная форма у этого креста. Таких мне еще не доводилось видеть. Хочу у тебя проконсультироваться, что это за штуковина и с чем ее едят.
Глеб посмотрел на снимок и невольно вздрогнул — мужчина носил анк! При большом увеличении крест отливал синевой и казался очень массивным. Но особо выделялась цепочка. Ее звенья были отлиты в виде мелких цветков какого-то растения и при сцеплении друг с дружкой образовывали панцирное плетение.
— Это анк, — коротко ответил Глеб.
— Не понял… Что такое анк?
— Такая разновидность крестов. Анк, пожалуй, самый древний крест. Его носили фараоны Египта.
— Да? Ну надо же… И что он означает?
— Вечную жизнь. Бессмертие.
— Верно умные люди говорят: век живи, век учись, а все равно дураком помрешь. Да, много чего есть в этом мире интересного… И у кого этот древний крест в чести? Наверное, у какой-нибудь секты.
— Возможно. Точно не могу сказать. По этим делам ищите других спецов. У меня не тот профиль.
— Ладно, пусть его… Уже хорошо, что человек остался жив. А у меня гора свалилась с плеч. Да это просто замечательно! Еще один «глухарь» приказал о себе долго помнить. Конечно, остается тот хмырь, который орудовал ножичком… Неплохо бы его взять на цугундер, чтобы он еще кого-нибудь не покромсал. Да где теперь его найдешь? Скорее всего, он убрался из города.
— Почему вы так думаете?
— И бандит, и его жертва — люди пришлые, иногородние. Это уже, можно сказать, доказано. Убийца свое дело сделал — замочил клиента — и слинял по быстрому. Или ты считаешь, что он может прийти в больницу с букетом цветов, чтобы навестить земляка?
— Вряд ли.
— И я так думаю. Все убийцы по своей природе трусы. Их вдохновляет лишь безнаказанность. Убийца (как и вор) думает, что его никогда не найдут. Это опасное заблуждение. Конец ниточки всегда отыщется. А там и до клубочка недалеко. Судьба-злодейка играет человеком. И никто из нас не останется безнаказанным за свои деяния.
— Я вижу, Арсений Павлович, вы большой моралист…
— Проживешь с мое, козликом станешь, не то что моралистом. Даже если не будешь пить волшебную воду из козлиного копытца. Работа такая. Чего я только не насмотрелся за годы, проведенные в угрозыске… Но практически любой жиган попадал на срок, рано или поздно.
— Верю. Я тоже голосую за высшую справедливость и неотвратимость наказания.
— Что ж, спасибо за консультацию, я побежал. Дел на сегодня — выше головы.
— А может, кофейку?..
— Спасибо, парень, не надо. Я за рабочий день этого пойла не меньше ведра выхлебываю. Уже печень начинает шалить. Пора пить «Боржоми»… пока почки не отвалились. Бывай…
Арсений Павлович ушел. А снимок с изображением креста оставил. Забыл? Возможно. Но очень сомнительно. Этот зубр сыскного дела ничего не забывает и ничего не делает без задней мысли. Это Глебу было хорошо известно. Арсений Павлович еще тот кадр…
Значит, у майора есть какие-то сомнения. На предмет чего? Трудно сказать. Глебу очень не хотелось думать, что Арсений Павлович в чем-то заподозрил его. И тем не менее, факт, как говорится, налицо — майор во время разговора наблюдал за Тихомировым-младшим, словно кот за неразумной мышью, затеявшей игру прямо перед его носом.
Глеб намеревался углубить эту мысль, но тут зазвонил телефон. Недовольно морщась, он поднял трубку и услышал бодрый голос Железного Жука:
— Привет работникам невидимого археологического фронта!
— Здоров… — не очень приветливо буркнул Глеб
— Что такое? Почему не в духах? Или головка бо-бо? Приезжай — вылечу. Сам знаешь, какое у меня есть лекарство. Супер! Мертвого на ноги поставит.
Последняя фраза вдруг ударила по нервам, как смычок по струнам ненастроенной скрипки. Поэтому они не запели-зазвенели, а противно взвизгнули. И Глеб, неожиданно для самого себя, принял решение, которое все время торчало у него в голове, как заноза. Немного помедлив, он набрал в легкие побольше воздуха, словно перед прыжком в воду, и спросил:
— Антон, а как ты смотришь на небольшую прогулку по полям нашей отчизны длительностью в две-три недели?
— Глеб, ты не шутишь?!
— На этот раз нет. Только сразу предупреждаю — удачу не гарантирую. Наш поход может получиться из серии «дупель пусто». Деньги, инструменты, палатка, посуда и харчи у каждого свои. Спонсорство не предусматривается. Находки, если они будут, дуваним, как обычно: главному закоперщику — семьдесят процентов, пристяжному — тридцать. Впрочем, тебе это хорошо известно. Устраивает такой вариант?
— О чем базар?! Я ведь уже говорил тебе на этот счет. И потом, вдвоем все-таки веселей. А то я уже совсем бирюком стал, от людей шарахаюсь, если встречу на лесной тропинке.
— Захвати с собой металлоискатель. Мой забарахлил. Я возьму щупы.
— Заметано. У меня «раколовка» американская, определяет не только металл, но и вообще все, что лежит под землей.
— Встречаемся завтра на вокзале… пораньше. Наш поезд, если я не ошибаюсь, идет в шесть утра. До вечера уточню время отправления, закажу билеты и перезвоню тебе. Все, отбой…
Глеб нажал на рычаг, в трубке раздались короткие гудки, но он не спешил водрузить ее на место. Глеб погрузился в мучительные раздумья. Он пытался найти себе оправдание, что не сдержал слово, данное отцу, но голова вдруг стала пустой и звонкой, и мысли катались в ней, как горошины в сухом бычьем пузыре, который надули воздухом.
Большие напольные часы в гостиной начали отбивать время — бом-м… бом-м… бом-м… Воздух над головой Глеба словно сгустился и в них на миг появились чьи-то огромные глаза. Впрочем, не исключено, что это был просто обман зрения — Глеб, чтобы немного успокоиться, закурил трубку, и клубы ароматного дыма, свиваясь в кольца разной формы и размеров, устремились к потолку — туда, где находился вытяжной вентилятор.
Глава 8
Папаша Гильотен, несмотря на свой почтенный возраст, любил поспать, и сон его был крепок. В связи с этим он терпеть не мог, когда его поднимали по каким-то делам среди ночи. Тогда хозяин притона бесился как мул, которому под хвост засунули стручок красного перца.
Но этой ночью сон долго не шел к папаше Гильотену. Тревожные предчувствия бередили его изрядно прогнившую душу, и он с ненавистью прислушивался к тихому храпу своей супруги, которую звали Франсина. Она была моложе папаши Гильотена на десять лет и еще более неряшлива, чем ее супруг, а потому он не пускал ее дальше кухни — чтобы не отбить у клиентов кабака здоровый аппетит.
В молодости у Франсины был бурный и несчастный роман с каким-то офицером, из-за чего она пыталась сначала повеситься, а затем отравиться. Наверное, по причине этой моральной травмы ее умственные способности оставляли желать лучшего — к старости она стала глупа, как курица. Папаша Гильотен польстился на ее кукольное личико — в молодые годы Франсина была очень симпатична. А еще ему нравилась ее неприхотливость. Франсина могла свободно обойтись куском хлеба в день и двумя бокалами вина. Папаше Гильотену такая экономия была очень даже по душе.
Настойчивый стук в дверь показался папаше Гильотену набатом. Он соскочил с постели как ошпаренный; Франсина даже не пошевелилась. У нее сон был похож на летаргию. Наверное, она не проснулась бы и в случае обрушения потолка спальни.
Папаша Гильотен зажег фонарь и спустился на первый этаж.
— Что за недоумок ломится в дверь среди ночи?! — рявкнул он, пенясь от злобы.
— Хозяин, это я, Гото!
— Что тебе нужно, сын ослицы?!
— Беда! Трипо убит!
— Что-о? Как убит, почему?!
— Хозяин, пусти внутрь. Негоже о таких делах орать на всю улицу…
— Входи. Только без лишних движений!
— Да понял, я понял…
Гото шмыгнул в приоткрытую дверь, которую папаша Гильотен держал под прицелом пистоля, как крыса. Он и похож был на эту гнусную тварь: маленького роста, тщедушный, остроносый, с близко поставленными маленькими глазками-бусинками и пребывающими в постоянном движении всегда грязными руками-лапками; казалось, что Гото ходит по грязным парижским улицам на четырех конечностях.
Он был постоянным напарником Трипо. Гото всегда стоял на стреме, а если за Трипо шла погоня, он уводил ее в другом направлении — этот мазурик мог бегать с потрясающей скоростью и прекрасно знал расположение парижских улиц и проходных дворов. Гото был очень вынослив и мог заползать в любые щели, чем и приглянулся в свое время Трипо.
— Рассказывай! — потребовал папаша Гильотен, когда они очутились в его «кабинете».
— Хозяин, в горле все пересохло. Мне бы глоток вина, а то язык о нёбо оцарапаю…
— А чтоб тебя! — папаша Гильотен открыл шкаф, достал оттуда стеклянную бутыль, вместительную керамическую кружку и налил в нее добрую пинту[40]красного вина. — Пей, проглот…
В отличие от той бурды, что подавалась клиентам кабака, это вино было дорогим и выдержанным; папаша Гильотен хранил его для себя. Поэтому, глядя с каким азартом Гото приложился к кружке, хозяин притона от внезапного приступа жадности испытал едва не физическую боль. Но он знал, что без вина Гото говорить не будет, поэтому стоически переносил это надругательство над своими жизненными принципами.
Осушив кружку до половины, Гото начал рассказывать:
— Хозяин, нас заложили! Все шло нормально, а потом фраерок ножичком раз — и душа Трипо отправилась на небеса.
— Скорее, в ад… — буркнул папаша Гильотен. — Кто заложил, кто убил Трипо, ты уже знаешь?
— Как не знать? Я таился под забором со стороны улицы, все видел в щель и все слышал. Трипо зарезал Фанфан.
— Ты в своем уме?! Не может такого быть!
— Еще как может. Я давно говорил, что этот маленький гаденыш хитрый, как змей. И Трипо предупреждал, чтобы он хлебальником с Фанфаном не торговал. Так разве Трипо меня слушал? Все делал по-своему. Вот и допрыгался. Сначала нужно было кончить Фанфана, а потом идти на дело.
— Я не верю!
— Придется поверить.
Папаша Гильотен достал из шкафа свой личный кубок из розового венецианского стекла, налил вина и выпил одним духом. Постепенно его сильно покрасневшая от большого волнения физиономия стала приобретать обычный вид, и Гото, который уже начал опасаться, не случился ли с хозяином удар, успокоился. Посмотрев сузившимися глазами на Гото, хозяин притона сказал:
— За такие вещи нужно наказывать. Я приговариваю Фанфана к смерти. Найди его и перережь ему глотку. За это я заплачу… м-м… два луидора.
— Э-э, нет, хозяин, увольте. Цена за его голову, конечно, хорошая. Лучшей и желать не нужно. Но Фанфан под защитой дядюшки Мало, а он в Сен-Клу — и король, и бог. Может и казнить, и миловать, и людей у него вполне достаточно, чтобы укоротить любого.
— Не верю, что ты не справишься с этим маленьким мерзавцем!
— Конечно, справлюсь. Но не в одиночку. Мне нужны люди. Чтобы последить за «Ржавым якорем». Я уверен, что теперь Фанфан и носа на улицу не высунет, тем более в одиночку. Поэтому придется немного подождать. А я ведь не могу бодрствовать двое-трое суток подряд. И потом, как быть с тем графом? Он готовится съезжать с постоялого двора.
— Граф — моя забота! — отрезал дядюшка Гильотен. — А насчет соглядатаев — это ты хорошо придумал. Людей я дам. Сейчас же возвращайся в Сен-Клу и смотри там в оба. Не упусти ни Фанфана, ни графа! Ежели что — беги сломя голову ко мне. Утром тебя сменят. Понял?
— Понял, хозяин, понял. Уже бегу… — Гото торопливо допил свое вино, вытер грязным рукавом мокрые губы и натянул на голову вязаный колпак, цвет которого определить было затруднительно.
Выпроводив Гото, дядюшка Гильотен поспешил на кухню. Там работа не прекращалась ни днем, ни ночью. Обычно в ночное время велась разделка разной живности (в том числе и не совсем съедобной с общепринятой точки зрения кулинаров), и в кухне толклись помощник повара и два обвальщика[41]весьма мрачной, даже зловещей наружности. Конечно же, они не принадлежали к цеху парижских мясников, но дело свое знали и не были чересчур брезгливыми. А главное, умели держать язык за зубами.
Кроме того, дядюшка Гильотен использовал обвальщиков и в других целях. Это были хладнокровные убийцы-рецидивисты, скрывающиеся от правосудия. Хозяин притона сумел выправить им новые документы на другие имена и приказал во избежание недоразумений держаться тише воды, ниже травы, не привлекая внимания даже клиентов кабака, среди которых могли быть тайные полицейские осведомители.
Мазурики-обвальщики жили у папаши Гильотена на полном довольствии (для них он выделил комнатку в пристройке), получали кое-какие денежки на мелкие расходы, а чтобы они совсем не скисли и не потеряли «квалификацию», хозяин притона иногда выпускал их «погулять» — дабы сталь клинков не заржавела.
«Гуляли» обвальщики вместе с довольно пестрой компанией, состоящей из цыган и бывших солдат-наемников; они дезертировали из своих полков, предпочитая жизнь на вольных хлебах, которая, однако, была не менее опасной, нежели в действующей армии. К сожалению, эти хлеба почти всегда были политы кровью парижских обывателей и приезжих купцов, которых шайка грабила по ночам (чаще всего), но такие мелочи бандитов не волновали.
Папаша Гильотен служил им не только в качестве наводчика, получая от шайки свой достаточно солидный процент, но и тайного главаря. Атаман у грабителей, конечно же, был (его звали Курт), но он подчинялся распоряжениям хозяина притона, а чтобы ему, случаем, не вздумалось забрать себе слишком много власти, к атаману были приставлены для надзора уже упомянутые «кухонные работники» из заведения папаши Гильотена.
— Пойди, проветрись! — приказал хозяин притона помощнику повара, и тот безропотно повиновался.
Плотно прикрыв за ним дверь, папаша Гильотен подошел к обвальщикам, у которых загорелись глаза от предвкушения новых приключений.
— Помойтесь и переоденьтесь во все чистое, — приказал он мазурикам. — То же самое скажите Курту и всей вашей честной компании. Нужно, чтобы вы не отличались от простых парижан. Вооружитесь получше и ждите дальнейших указаний на старой мельнице. Только не вздумайте нализаться до скотского состояния! Потом наверстаете.
— Работаем днем? — догадался один из обвальщиков.
— Возможно. Пока не знаю. Я пришлю гонца с указаниями. Да поставьте часовых, чтобы вас полицейские не застали врасплох! Все, идите. Лошадей возьмете на конюшне старого Христиана.
Обвальщики ушли. Папаша Гильотен некоторое время безо всякого выражения смотрел на груду кровоточащего мяса, лежавшего на разделочном столе, а затем из его груди вырвался почти рык: «Маленький негодяй! Неблагодарный обманщик! Ты мне за все заплатишь!»
Фанфан, почивавший в это время сном праведника, вдруг проснулся. Его словно что-то укололо. Решив, что это кусают блохи, он немного поерзал на своем жестком ложе, где периной ему служила охапка сена, и постарался побыстрее уснуть — чтобы досмотреть удивительно приятный сон о далекой, почти сказочной стране, куда завтра он поедет вместе с графом Сен-Жерменом…
Лес Вожур среди жителей парижских предместий пользовался дурной славой. Даже королевские мушкетеры и гвардейцы не ездили через него в одиночку. Бандиты, нападавшие на добропорядочных граждан, появлялись внезапно и так же внезапно (и бесследно) растворялись в лесных зарослях. Большей частью такие набеги совершались ближе к вечеру, но и днем путник или купец, рискнувший без охраны проехать лесной дорогой, не был застрахован от неприятностей.
И тем не менее граф Сен-Жермен выбрал направление движения для своего небольшого обоза именно через лес Вожур. Объезжать его было долго и нерационально, потому что в те смутные времена никто не мог дать гарантию, что другая дорога окажется более безопасной, нежели эта.
Когда обоз во главе с дормезом[42], в котором ехал граф, углубился в лес, Фанфан неожиданно занервничал. До этого сидевший напротив Сен-Жермена практически неподвижно — как истукан, он вдруг начал беспокойно вертеться и выглядывать в оконца.
— Тебя что-то волнует? — спросил граф, подметивший возбужденное состояние подростка.
— Да, милорд, — признался Фанфан. — Этот лес… ну, я не знаю… Мне почему-то стало страшно. Я боюсь нападения разбойников. А нас так мало…
— Хорошо, что признался… — Сен-Жермен посуровел. — Устами младенцев глаголет истина. Будем считать, что нам через тебя поступило предостережение свыше. А кто предупрежден, тот вооружен. Вон там, справа от тебя, висит шпага и седельные пистоли. Они уже заряжены. Ты стрелять умеешь?
— Немножко…
— Отлично. В случае нападения дорожных грабителей любой шум будет кстати. По своей природе они не только негодяи, но еще и трусы. Главное, не дрейфь.
— Постараюсь, — не очень уверенно ответил Фанфан.
О разбойниках он был несколько иного мнения. Может, потому, что некоторых знал лично. Это были люди, совсем не ценившие ни свои жизни, ни жизни жертв. В них вообще было мало человеческого. А уж те, кто промышлял в лесу Вожур, и вовсе не отличались человеколюбием. Для них каждая оставшаяся в живых жертва была нежеланным, смертельно опасным свидетелем преступления.
Между тем граф приоткрыл дверку дормеза и крикнул:
— Эй, молодцы! Ты меня слышишь, Густав?
— Слышу, милорд, — ответил кучер.
— Предупреди охрану, чтобы приготовили оружие. И смотрите в оба!
— Всенепременно, милорд…
Разбойники, как обычно, появились внезапно — словно выросли из-под земли. Все они были в масках и вооружены до зубов. Но немногочисленная охрана обоза, предупрежденная графом, не растерялась. Раздались выстрелы, крики раненых, а затем зазвенела сталь.
— Сиди в дормезе! — приказал граф Фанфану, и, схватив пистоли и шпагу, выскочил наружу.
Два выстрела графа оказались удивительно точными. Фанфан увидел, что один разбойник был убит наповал, а второй получил ранение в плечо. А затем Сен-Жермен, бросив пистоли, взялся за шпагу. Наверное, он и впрямь был опытным бретёром, потому что его клинок разил грабителей как молния, не оставляя противникам ни малейшего шанса.
— Простак, уложи графа! — вскричал здоровенный малый, в котором нетрудно было узнать атамана шайки.
Стоявший немного поодаль разбойник по кличке Простак, положил мушкет на подсошку — приспособление для стрельбы в виде двузубой вилки на высокой ножке, и прицелился. Но выстрелить не успел — долей секунды раньше его сразила пуля из пистоля Фанфана.
— Молодец, Фанфан! — весело скалясь, крикнул граф. — Так держать!
Он был в упоении боем. Со стороны могло показаться, что Сен-Жермен не дерется насмерть, а играется. Почти каждый удар шпагой он сопровождал веселой прибауткой. Вскоре разбойники стали от него испуганно шарахаться, как от зачумленного. Но охране приходилось несладко. На каждого из людей графа навалилось по два-три разбойника.
Атаман разбойников, услышав имя Фанфана, злобно оскалился и бросился к дормезу. Он с силой рванул дверку на себя — и увидел дуло пистоля, нацеленное ему прямо в лоб.
Разбойнику повезло. А может, его спасла реакция бывалого солдата-наемника. Он резко присел, и пуля просвистела у него над головой.
— Сукин сын! — рявкнул атаман. — Я сейчас уши тебе отрежу!
Он с силой ткнул шпагой в то место, где только что находился Фанфан, но там его не оказалось. Подросток, как белка выскользнул из дормеза, забрался на его просторную крышу и со шпагой в руках напал на атамана разбойников.
Подобной наглости атаман не ожидал. Он неудачно отбил первый выпад, и шпага Фанфана оцарапала ему предплечье. Такой поворот событий еще больше обозлил разбойника. Он мигом забросил свое мускулистое тело наверх, и на крыше дормеза разыгралось захватывающее действо.
Атаман больше уповал на силу. Во время службы наемником ему мало приходилось сражаться со шпагой в руках; шпага была оружием дворян. Поэтому он бил своим оружием по шпаге Фанфана, как молотом, и в основном старался применять элементарные мулине[43].
Уступающий ему в силе подросток выигрывал в проворстве и в ловкости обращения с оружием. В свое время он часами исполнял многочисленные штосы и парады[44]. Обучавшие его сержант был беспощаден к Фанфану. Он заставлял отрабатывать все фехтовальные движения до полного автоматизма. «Голова еще ничего не соображает, а рука уже работает, — поучал он Фанфана. — Даже если на тебя нападут во сне, ты и в таком случае должен успеть парировать удар».
Граф, сражающийся как лев, время от времени бросал тревожные взгляды на Фанфана. Он был сильно удивлен тем, как держится подросток. Казалось, что в Фанфана вселился сам бес. Мальчишка так быстро перемещался по крыше дормеза, так ловко и молниеносно уклонялся от выпадов атамана и с такой потрясающей воображение скоростью орудовал шпагой, что у того в глазах зарябило. Конечно, удары Фанфана не были разящими в полной мере — не хватало силенок, но атаман уже умерил свой боевой пыл; ему даже пришлось защищаться.
Неизвестно, чем бы закончился и этот поединок, и вся баталия, как неожиданно раздался боевой клич, и на разбойников налетели всадники во главе с человеком в красной маске и дорогих латах. Новые действующие лица кровавого представления вмиг разметали и так сильно потрепанных в схватке с людьми графа грабителей, и они кинулись врассыпную, пытаясь укрыться в зарослях.
Всадники бросились их преследовать, и вскоре о сражении на лесной дороге напоминали лишь тела раненых и убитых. Граф вытер шпагу о кафтан одного из поверженных разбойников и с силой ткнул ему в бок сапогом. Малый, притворившийся мертвым, охнул от боли и открыл глаза.
— Кто вас послал? — резко спросил Сен-Жермен. — Только не говори, что это не так! Иначе я пришпилю тебя к земле, как бабочку. А скажешь правду — оставлю в живых.
— Господин, клянусь Святой Девой — я не знаю!
— А кто знает?
— Курт, наш атаман. Мы люди маленькие, куда он скажет, туда и двигаем копытами.
— Курт… — Граф подумал немного и покрутил головой. — Мне это имя ничего не напоминает. И все же, вы ждали именно нас. Не так ли?
— Да, господин. Два часа назад на старую мельницу, где мы собрались, приехал гонец. Он обрисовал и вас, и ваш экипаж довольно точно.
— Вы должны были меня убить?
— А это как повезет… — стараясь не смотреть в глаза Сен-Жермену, ответил раненый разбойник.
— Ты не крути, а говори прямо! — прикрикнул на него граф.
— О вас речи не шло, — не очень охотно ответил малый. — Ну, ясное дело, обоз мы разграбили бы… а вас за хороший выкуп могли и отпустить. Но что касается мальчика… этого, как его?..
— Фанфана?!
— Ага, точно, нам сказали, что пацана зовут Фанфан. Так вот его нужно было прикончить обязательно. А еще лучше связать и доставить по адресу, который был известен только Курту. Все уже знают, что он убил Трипо, поэтому ему вынесен наш приговор.
— Надо же… — Граф с удивлением оглянулся и посмотрел на Фанфана, который чистил шпагу и старательно делал вид, что его мало интересует то, что говорит разбойник. — Мой новый паж стал знаменитостью в некоторых кругах парижского общества. Что ж, лично меня это радует… — Теперь Сен-Жермен мог быть абсолютно уверен, что Фанфан его не предаст; по крайней мере, во Франции.
Мальчик был бледнее полотна. Он боялся, что раненый разбойник назовет имя папаши Гильотена. Ушлый Фанфан давно знал, что шайка Курта работает на хозяина притона. Выходит, папаше Гильотену уже успели доложить, кто виновен в смерти Трипо… Это значило, что Фанфану назад — в Париж — ходу уже не было. Если, конечно, он не самоубийца.
А еще Фанфан узнал предводителя всадников, которые спасли графа и его людей от верной гибели. Человеком в красной маске был мсье Винтер.
Глава 9
Станция Висейки оказалась значительно хуже, чем предполагал Глеб. Некогда заасфальтированный перрон (наверное, сразу после Отечественной войны) напоминал поле, изрытое кротами. Бревенчатое здание вокзальчика больше походило на ямскую избу времен народного героя князя Дмитрия Пожарского, который в 1625 году заправлял делами Ямского приказа. Дополнительным штрихом, подтверждающим потрясающее сходство строения с седой стариной, служило гнездо аиста на крыше помещения вокзала. Как его угораздило построить свое жилище на такой малой высоте, непонятно. Тем не менее, птенцов семья аистов все же вывела. Наверное, поблизости нельзя было найти ни одного кота, разорителя птичьих гнезд.
— Ты куда меня привез?! — немного растерянно спросил Железный Жук.
— В археологический Клондайк, — коротко ответил Глеб, сам потрясенный увиденным.
— Ну-ну…
Покрутив головой (то ли сокрушенно, то ли с удивлением), Глеб наконец заметил миниатюрного древнего дедка с вислыми седыми усами, одетого в утепленную безрукавку, переделанную из ватной фуфайки. Он был похож на гнома, который только что вылез на свет ясный из забоя, где добывал драгоценные камни. Сходству с хранителем подземных сокровищ усиливал диковинный колпак буровато-красного цвета с белыми поперечными полосками на его голове. Это была вязанная спортивная шапка, сильно полинявшая и растянувшаяся от многочисленных стирок.
«Станционный смотритель, — с иронией подумал Глеб. — Прямо как в «Повестях Белкина» гениального Александра Сергеевича. «Что такое станционный смотритель? Сущий мученик… Электричка ходит не по расписанию, когда погода несносная, укрыться пассажирам негде, потому что на перроне нет навеса, а в здании вокзальчика прохудилась крыша, и его давно закрыли на ремонт. Поэтому на дедка смотрят, как на врага, будто он один виноват во всех этих проблемах, а не Управление железной дороги. В дождь и слякоть станционный смотритель вынужден торчать на перроне, провожая или встречая проходящие пассажирские поезда и электрички; в бурю, в крещенский мороз уходит он в сени, — пардон, в свою халабуду, пристроенную к вокзальчику, — чтобы немного отдохнуть…» М-да… Чистой воды осовремененный плагиат. Нет, Пушкин из меня — даже третьеразрядный — точно не получится. Так и буду до конца своих дней ковыряться в земле, отыскивая раритетную пуговицу от гоголевской «Шинели». Судьба-с…»
Дедок держал в руках красный флажок и задумчиво посасывал потухшую трубку. При этом его не по-стариковски живые, блестящие глазки под седыми кустистыми бровями не выпускали из виду вышедших из электрички пассажиров.
Их было немного — от силы десяток. Возвращение в родные места (а все они явно принадлежали к аборигенам) почему-то не вызвало у пассажиров электрички радостной эйфории. Они были мрачными и малоразговорчивыми — ну, точно сектанты, у которых разрушили молельный дом. Как-то незаметно толпа рассосалась, и Глеб с Жуком остались торчать посреди перрона, словно два гвоздя в скамейке.
Дедок делал вид, что его совсем не интересуют незнакомые парни с туго набитыми рюкзаками. И только когда Глеб подошел и спросил: «Скажите, пожалуйста, как нам добраться до деревни Жмань?», он вынул трубку изо рта, приветливо улыбнулся и ответил:
— А иди, хлопчик, по любой дороге. Их всего три.
— В какую сторону идти?
— Так ить неважно. Жмань может открыться перед вами в любой стороне.
— Извините, не понял…
— А чевой тут понимать? Коли вы добрые люди, то в Жмань дойдете быстро, ну а ежели у вас камень за пазухой, то не попадете туда и до нового пришествия.
— Дед, ты чё тут базлаешь?! — взвился Жук, изрядно уставший за дорогу; ему показалось, что дедок несет полную ахинею; собственно говоря, почти так оно и было. — Нам твое трешь-мнешь до лампады! Тебя спрашивают человеческим языком, вежливо, между прочим, а ты «…не попадете туда и до нового пришествия». Отвечай за базар и не крути дышлом!
Но Глеб сразу вспомнил рассказ отца, что представители советской власти долго не могли найти дорогу в Жмань, поэтому строго сказал Жуку:
— Помолчи, Антон! — и повернулся к дедку, который невозмутимо, будто и не услышал дерзких слов Жука, сунул трубку в рот и окутался дымом, как старинный паровоз. — Мы в Жмань по делу, отец. Я родственник Глафиры Миновны. Знаешь такую? Похоже, знаешь… Так вот, она заболела и позвала меня… — Это уже Глеб приврал; правда, совсем немного — да, звала, только не его, а отца, Николая Даниловича.
Разразись в этот момент гроза, да еще и с Ильей Громовержцем, который на своей колеснице мчится по небу во главе грозового фронта, то и тогда, наверное, дедок испугался бы значительно меньше. Изо рта у него вывалилась трубка, а руки не смогли удержать красный флажок. Глеб даже испугался, что он рухнет на перрон, да старые негнущиеся ноги удержали станционного смотрителя, вросли в щербатый асфальт намертво.
— Чего-й это с ним?! — удивился Жук.
— Проникся чувством момента, — отделался шуткой Глеб. — До него наконец дошли твои речи.
— Во, блин…
— Вам помочь? — вежливо поинтересовался Глеб у дедка.
— Н-не… н-не надо… — послышалось в ответ не очень внятно.
Сильно изменившееся лицо дедка начало постепенно приобретать свой обычный вид, а глаза с круглых, как у совы, превратились в прежние щелки, прячущиеся в морщинах.
— Так как нам добраться до Жмани, чтобы не заплутать? — выждав, пока он успокоится окончательно, еще раз спросил Глеб. — По какой дороге идти и в каком направлении?
— Идти вам нужно, сынки, не по дороге… а по вон той тропинке, что вдоль бережка речки. Так и дойдете. Дороги в Жмань отродясь не было. А пути — есть. Тропка — самый короткий.
— Понятно. Спасибо, отец. До свидания. Пойдем, Антон…
— Прощевайте, — ответил им уже в спину дедок. — Уж не взыщите, что я вас сразу не признал…
— А кого он должен был признать? — спросил Жук, когда они по склону спускались к берегу речки.
— Нас. Мы вон какие бравые орлы. За версту видно. Да вот беда — дедок, похоже, подслеповат.
— Что-то ты темнишь… И вообще — места здесь какие-то дикие, несмотря на близость цивилизации. У меня почему-то волосы дыбарем встают. Это хреновый знак.
— «А вдоль дороги мертвые с косами стоять. И тишина-а…» Окстись, парниша. Мы еще к работе не приступили, а тебе уже чертовщина начала мерещиться. Ты ж не девица красная, а полевик. Мало ли нам приходилось заползать в такие норы, где цивилизацией и не пахло. Или ты находил свои раритеты на городской свалке?
— Ну ты скажешь… Да, всякое бывало. Вот помню однажды…
Договорить Жук не успел. Он с такой силой захлопнул рот, что щелкнул зубами. И было отчего.
Впереди раздался топот копыт, и к речке, словно на крыльях, подлетел белый конь-красавец — с длинным хвостом, густой гривой и огненно-фиолетовыми глазищами. Но не его появление так сильно поразило Жука. Конь не был оседлан, а на его спине сидела обнаженная девушка с распущенными волосами цвета воронова крыла. Ее смуглое упругое тело на светлом фоне лошадиной шкуры смотрелось весьма эффектно.
Не останавливаясь, конь с шумом бросился в речку, подняв тучу брызг. Девушка так и осталась сидеть на его спине. Она была миниатюрной и ее малый вес не мешал коню плыть. Спустя три или четыре минуты конь пересек неширокую речку, изрядно обмелевшую за лето, и исчез в зарослях. Все это время Глеб и Антон тупо пялились на невиданное зрелище, будучи не в состоянии сказать хоть слово.
— У-ух! — наконец прорвало Жука. — Чтоб мне сдохнуть! «Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит…» Вот это эротика! Как она сложена! Ты заметил? Фигурка, словно резцом выточена. А грудь, грудь какая! Венера, право слово.
— Венера Жманьская, нерукотворная… — немного скованно улыбнулся Глеб. — Такое впечатление, что эта голая девица — всего лишь цветочки.
— Ты о чем?
— Все о том же. Меня предупреждали, что места тут непростые. Чертовщинкой попахивают. Но я не верил. Теперь вижу, что был неправ. В общем, Антон, у тебя есть шанс повернуть оглобли. Пока не поздно.
— А ты?
— От своей цели я никогда не отступаю. Пусть хоть камни с неба падают.
— Вот что интересно, я такой же придурок. Если я сейчас вернусь, то перестану себя уважать. А это уже серьезно.
— Да уж… Человек просто обязан относиться к себе с уважением. Иначе грош ему цена в базарный день. Значит, остаешься?
— Хочешь от меня избавиться, чтобы заняться этой красоткой без соперников? Не выйдет! Я уже ее люблю. Представляю, сколько в ней нерастраченной страсти… Эх!
— Но-но, не трогай своими грязными лапищами святое. Может, она является чем-то вроде талисмана здешних мест. Нимфа или Лада. Или просто русалка. А чем заканчивается страсть к русалкам, сам знаешь, не маленький. Так что поберегись.
— Поберегусь… — буркнул Жук. — Конечно, поберегусь. И почему я, дурень, в аптеку на вокзале не заскочил?! Кто ж знал, что тут такие козырные девахи разгуливают.
— Кто о чем… Я о возвышенном, а ты полез в сплошную прозу. Не смущай меня своими сальными мыслишками.
— Надо же, а я и не знал, что ты такой целомудренный. Ну, извини…
— Вот-вот… — Глеб коротко хохотнул. — Короче говоря, шутки — шутками, но нам нужно быть постоянно настороже. Возможно, девица на коне — это первое предупреждение, преподнесенное в аллегорической форме. Кто знает…
— Ждешь продолжения?
— Если честно, то жду.
— У тебя, как и у меня, предчувствие?
— Знание. Я ведь уже говорил, что меня предупреждали по поводу этих мест.
— И ты взял меня как жертвенного бычка…
— Ну. Кого-то же надо было.
Парни дружно рассмеялись. Присущая молодости безграничная вера в собственные силы взяла верх над страхами и сомнениями. Так шли они еще добрый час, болтая обо всем на свете, а в принципе — ни о чем. Обычный пустой треп, чтобы скоротать время в пути.
Тем временем места пошли и вовсе дикие. Однако, на удивление, тропа была по-прежнему широкой и хорошо протоптанной.
— Похоже, что в эту Жмань паломники толпами прутся, — заметил Жук. — Не могут одни деревенские так утоптать землю. Даже трава не растет. Будто стадо слонов здесь постоянно ходит на водопой.
— Или кто-то чересчур часто ездит верхом. Видишь, вон там, и там… и здесь отпечатки лошадиных копыт.
— В России завелись амазонки, — пробурчал Жук. — Тут не одна лошадка гарцевала.
— Не одна, — согласился с ним Глеб. — Притом часть из них — не кованные.
— Мустанги?..
— Это не Дикий Запад США. Мустанги здесь не водятся. Просто кузнецы, способные подковать лошадь, давно в этих местах вымерли.
— Может быть. Эй, а это что такое?!
Глеб резко остановился. В кустах послышалось какое-то шевеление, потом раздалось тихое, но злобное рычание, и впереди, шагах в двадцати от парней, на тропе появился матерый волчище. Он был огромен и казался седым. Ощерившаяся пасть зверя не предвещала путникам ничего хорошего.
У Тихомирова-младшего екнуло под ложечкой. «Твою дивизию!.. — выругался он мысленно. — В городе собаки загнали на дерево, здесь волчара готов сожрать с потрохами… Я что им, медом намазан?!»
— Надо же, цуцик, — легкомысленно прокомментировал Жук появление волка. — Чё те надо, серый? Канай отседа. Иначе я сейчас тебя хлопну… — Он снял с плеч двустволку и сноровисто зарядил ее.
Глеб, в отличие от Жука, свое оружие не стал расчехлять. У него было помповое ружье с укороченным прикладом. Наученный горьким опытом, без оружия он не ездил ни в одну экспедицию. (Впрочем, как и другие «черные» археологи. Держать под рукой заряженный ствол было в их занятии не блажью, а насущной необходимостью — слишком многие пытались поживиться за счет находок вольных кладоискателей.)
— Не стреляй! — придержал Глеб своего напарника за рукав. — Он уйдет сам.
— Думаешь?
— Уверен. Просто это еще одно предупреждение. И наверное, не последнее. Да и вообще — больно уж зверь красив. Пусть живет, санитар леса…
Волк, словно поняв, о чем говорит Глеб, снова показал свои внушительные клыки и одним мощным прыжком исчез в зарослях. Жук перевел дух и вернул оружие за спину. Но разряжать не стал, лишь поставил на предохранитель.
— Я теперь не удивлюсь, если дальше по тропинке мы наткнемся на лешего, — сказал он с несколько натянутой улыбкой; и запел фривольную песенку: — Как-то шел я, братцы, лесом. Бес похлебочку варил. Котелок на дрын повесил, а из уха дым валил… Что ж, подождем новых знамений.
Но вместо земных знамений им открылось небесное. Они как раз поднялись по тропинке на высокую горку, один склон которой круто обрывался в речку. Перед ними зеленел лесной ковер, уже кое-где расцвеченный первыми осенними узорами. Голубое небо было невероятно чистым и совершенно бездонным. Казалось, что над ними открылся ход, ведущий в другие миры.
— Лепота-а… — Жук перевел дух. — Какой воздух! Чистый кислород. А мне летать, а мне летать охота… — пропел он слова из мультфильма.
— Давай, упражняйся, — Глеб указал на обрыв. — Здесь метров двадцать будет. А внизу омут, и видно, что глубокий. Так что о дно не разобьешься.
— Чур тебя! От глубокой воды я с детства шарахаюсь.
— Что так?
— А пацаны с нашего двора, когда я был мальцом, взяли и бросили меня в реку. Это чтобы я быстрее выучился плавать. Хорошо, что на тот час какой-то мужик мимо проходил. Вот он меня и вытащил на берег, уже полуживого.
— Но плавать ты все же научился…
— Ну. Правда, я долго этого не знал. Пока однажды морская волна не затащила меня на глубину. Мне тогда было девять лет. Маманя возила меня на моря, чтобы укрепить мой хилый организм. Так вот, когда я понял, что вот-вот пойду ко дну, ко мне вдруг пришло неземное спокойствие и я начал грести; правда, по-собачьи. И все-таки доплыл до берега! Самостоятельно! С той поры я умею плавать, но на глубину не лезу. Это мой бзик. А вот летать в самолете не боюсь. Парадокс…
— Эт точно…
Глеб вдруг почувствовал, что мир вокруг них изменился. Это было странное чувство. Ему показалось, что небо потускнело, будто его закрыли очень тонкой прозрачной кисеей, а воздух стал густым и горячим. Он посмотрел на солнце — и невольно охнул: над бескрайними лесами висело огромное гало!
— Никогда не видел ничего подобного… — прошептал пораженный Жук, проследивший за направлением взгляда Глеба. — Вот это зрелище. Пять солнц! Убиться и не жить.
— Паргелий[45]… — так же тихо ответил ему Глеб. — Не нравится мне все это… Ох, не нравится!
Пять солнц — одно (большое) в центре и четыре других, ложных, расположенных крестом, — сверкали на фоне мгновенно потемневшего неба, словно огромные бриллианты.
Глава 10
Иоахим Жак Тротти маркиз де Шетарди, посол французского короля Людовика XV при Российском императорском дворе, был сама любезность. Посла обрадовал приезд графа Сен-Жермена в Петербург, и он встретил его как доброго друга. В принципе, так оно и было. Они познакомились и близко сошлись в 1738 году в Персии. Маркиз де Шетарди некоторое время исполнял обязанности специального посланника при дворе персидского правителя Надир-шаха, а граф Сен-Жермен там же занимался какими-то научными исследованиями.
В чем они заключались, не знал никто, но когда Сен-Жермен уезжал из Персии, то был осыпан милостями Надир-шаха, который не отличался щедростью, и как истинный восточный правитель-деспот не страдал приступами благотворительности даже к самым близким людям, в том числе и родственникам. Тем не менее граф увез из Персии две колымаги, нагруженные золотыми и серебряными изделиями, а также дорогими персидскими коврами.
— …Должен вам сказать, милый граф, что императрица Анна Иоанновна весьма любезна, великодушна и сострадательна, чувствительна к похвале (это, кстати, отличительная черта всего двора)… — Де Шетарди отмахнулся от надоедливой мухи. — Так как она провела свою молодость в Курляндии и Ливонии, то пристрастилась к иностранцам, а это несколько удаляет ее от русских народных обычаев. Принцесса Анна нрава серьезного и сдержанного. Она живет при дворе и видит царицу ежедневно. Принцесса Елизавета более весела и доступна в обращении. Она живет в городе и появляется при дворе очень редко, в основном на официальные мероприятия. Увы, ей вовсе не дают средств, чтобы поддерживать свое звание и происхождение…
Про себя граф отметил, что посол хорошо упитан, по-прежнему велеречив и питает пристрастие к дорогой мальвазии[46]. Парик маркиза тщательно завит, а пудра, которой его присыпали, была тончайшего помола. Что касается Сен-Жермена, то он не любил парики и надевал их только в исключительных случаях — как сейчас, во время визита к послу Франции.
— Насколько мне известно, всеми делами в правительстве заправляет граф Остерман… — небрежно, как бы вскользь, заметил Сен-Жермен; но на самом деле этот вопрос волновал его больше всего.
Через Остермана он хотел выйти на наследников казненного графа Сергея Долгорукова. По приезде в Петербург Сен-Жермен уже успел навести кое-какие справки на сей счет, но с досадой должен был констатировать, что без помощи или хотя бы минимального участия кого-нибудь из членов российского правительства этой цели ему не достичь. Граф Остерман мог быть идеальным покровителем, но к нему еще нужно было найти подход.
— Это самый хитрый и двуличный человек в России! — горячо подхватил маркиз.
«Похоже, Остерман немало залил ему сала за шкуру», — с иронией подумал граф.
— Вся его жизнь есть ничто иное, как постоянная комедия. Никто лучше Остермана не знает обо всем происходящем в Петербурге, а караульные, приставленные для безопасности к домам знати и иностранцев, служат его шпионами. Родом он из Bестфалии. Сначала Остерман был писцом на торговом корабле, торговавшим с Ригой. Там он был помолвлен с одной мещанкой, которая жива до сих пор. Потом Остерман прибыл в Петербург для уплаты некоторых счетов и спустя какое-то время получил место в присутственных местах. Царь Петр I, который обладал недюжинным талантом распознавать качества людей, постепенно возвысил его, и теперь граф Остерман — первый кабинет-министр. Это человек чрезвычайно вежливый и вкрадчивый, говорит на многих языках.
— Судя по вашему описанию, у такого кабинет-министра и подчиненные должны быть соответствующие…
— О, да! Чего стоит один Бреверн, секретарь кабинета. Эта бестия даже хитрее своего патрона. Но самый толковый и опасный член кабинета министров — это действительный тайный советник Бестужев…
При этом имени Сен-Жермен невольно поежился. Он хорошо знал графа Бестужева. Лично они никогда не встречались, но в 1731 году, когда Бестужев был резидентом в Гамбурге, он тайно поехал в Киль, осмотрел архивы герцога Голштинского и вывез в Петербург много интересных бумаг, между которыми была духовная императрицы Екатерины I, за которой по заданию Великой Ложи охотился Сен-Жермен.
Но самым скверным было то, что Бестужеву откуда-то стало известно, кто еще, кроме него, хотел завладеть этими документами. Поэтому Сен-Жермен совершенно не сомневался, что этот проницательный русский сделал из этой авантюрной истории соответствующие выводы.
— Благодаря расположению к нему Бирона, — между тем продолжал де Шетарди, — Бестужев в 1734 году был аккредитован посланником при нижнесаксонском дворе. А в марте этого года ему было велено явиться в Петербург для присутствия в кабинете. Что касается князя Черкасского, второго члена кабинета, то он обычно не вмешивается в другие дела, кроме внутренних; влияние его незначительно.
— Дорогой маркиз, вы уж простите мою, возможно, нескромную любознательность, но я хочу побольше узнать о нынешней России. Мне уже приходилось бывать здесь, в царствие Екатерины I. Но с тех пор многое изменилось.
— Да, да, я понимаю… — Де Шетарди благожелательно осклабился.
А сам в этот момент подумал: «Вам, милый граф, палец в рот не клади. Наслышаны мы, наслышаны о ваших приключениях… Интересно, с какой очередной авантюрой вы приехали в Россию? А что это так, могу поклясться. Впрочем, меня его проблемы не касаются. Граф человек надежный, ему можно доверять…»
— Что ж, извольте. Для меня это не составит труда. Первые чины двора: князь Куракин (занимает должность обершталмейстера) и граф Левенвольде (обер-гофмаршал). Первый любит сытный стол, второй — музыку; вот и все, что о них можно сказать. Фельдмаршал Трубецкой — старая баба. Фельдмаршал Mиних, без сомнения, — лучший офицер, которого имеет Анна Иоанновна. При большой храбрости и опытности он хорошо знает научную сторону своего ремесла. Он президент Военной коллегии, и ему обязаны основанием школа кадетов, которая под его начальством снабжает ежегодно армию превосходными людьми; он же и начальник Инженерного корпуса. Ладожский канал, кстати, вырыт по его проекту. Конечно, Миниха можно упрекнуть в пристрастии к военной славе и в пренебрежении к жизни солдата, но последний недостаток кажется извинительным в стране, где государь больше любит считать количество своих провинций, нежели число своих подданных. Миних — враг Остермана и Ласси. Фельдмаршал Ласси менее обширного ума, но чрезвычайной храбрости и хладнокровия, которое дает ему возможность при случае пользоваться всеми знаниями, какие у него есть. Он ничего не делает на авось, всеми мерами заботится о сохранении своей репутации, бережет войска, которые его обожают, и только и мечтает, чтобы после власти провести остаток своих дней среди семейства. Императрица его очень любит — это человек скромный, ни под каким видом не вмешивающийся в дела правительства. Генерал Левашов, следующий за фельдмаршалом Ласси, по своему происхождению (он русский) лишен возможности командовать армией. Другие генерал-лейтенанты, которые более прочих известны в России, — это Кейт, Стофельн, Дуглас и Румянцев.
— Левашова я хорошо помню по персидской войне… — задумчиво сказал Сен-Жермен. — Это в высшей степени толковый и храбрый офицер.
— Да, это так. Но повторюсь: главная его проблема заключается в том, что он русский. Далее — генерал Бисмарк. Он родом из Пруссии, был полковником на службе прусского короля, убил там своего слугу, и король не захотел его простить. Тогда он бежал в Россию, получил здесь чин генерал-майора и женился на сестре герцогини курляндской. Он принимал участие в последней войне с Польшей и получил генерал-лейтенанта. Это человек жестокий и подверженный пьянству. Генерал-лейтенант Геннинг. Офицер опытный, член Военной коллегии. Генерал Гордон. Был очень хорошим моряком, но болезненное состояние не позволяет ему принимать теперь деятельное участие в службе. Адмирал Головин. Президент Адмиралтейской коллегии, человек умный и знакомый с теорией своего ремесла, но у него мало практики. Он страстно любит англичан и ничего не делает без их совета. Хорошим офицером считается вице-адмирал Бредаль. Вице-адмирал Обриен был капитаном корабля в Англии. Князь Кантемир выпросил его прошедшей зимой у английского двора. Это человек опытный в морских делах и отменный служака. Его прочат на место адмирала Гордона…
Пока граф Сен-Жермен обедал у маркиза де Шетарди, Фанфан обживался на новом месте. По приезде в Петербург граф поселился на Троицкой площади в новом каменном герберге[47], построенном год назад немцем Петером Милле. Это было первое заведение подобного рода в столице Российской империи, и жить в нем считалось престижно. На Троицкой площади стояли еще несколько гостиниц, но они были более низкой категории.
Напротив герберга находился трактирный дом с комнатами для иностранцев под названием «Австерия четырех фрегатов», построенный князем Меншиковым в 1716 году. Жилые помещения были пристроены к «Австерии» позже, а когда именно, точно не помнил никто. Трактирный дом изрядно обветшал, и теперь в нем проживали в основном иноземные матросы, шкиперы и небогатые купцы, благо от «Австерии» до пристани было рукой подать. В «Австерию» определили и Фанфана.
По своему низкому происхождению он не мог занимать даже самую маленькую комнатку в герберге Петера Милле. Это во-первых. Во-вторых, это было достаточно накладно. А в-третьих, вместе с графом жил слуга, исполняющий роль телохранителя. Это был очень замкнутый неразговорчивый мужчина восточной наружности, никогда не расстающийся с набором метательных ножей, которые он прятал под одеждой. Сен-Жермен звал его Ван. На взмыленном жеребце, усталый, запыленный и с раненой левой рукой на перевязи, он присоединился к обозу графа в Польше. Видимо, Сен-Жермен куда-то посылал его с важным и опасным заданием.
Но была еще одна причина, — пожалуй, главная — благодаря которой граф решил поселить Фанфана в «Австерии».
— Мне нужны в Петербурге верные и острые глаза, — доверительно сказал он подростку, когда Ван распаковывал его багаж. — Твои глаза, мальчик. Ты будешь выполнять мои тайные поручения. Для этого нужно, чтобы ты был абсолютно свободен в своих действиях, но находился одновременно и поблизости, и в некотором отдалении. Тебе понятно, о чем идет речь?
— Да, милорд. Вы опасаетесь шпионов.
— Ну, скорее, не шпионов, а соглядатаев. Сиречь, фискалов. Так называют их московиты. К иноземцам в Руссии относятся неплохо, но не очень доверяют. Поэтому я совершенно не сомневаюсь, что ко мне будет приставлена целая свора ищеек. А ты человек маленький, — в прямом и переносном смысле слова — поэтому я не думаю, что за тобой пошлют «муху».
Фанфан бросил исподлобья быстрый, настороженный взгляд на графа — «Откуда ему известно, как обитатели Дома Чудес называют соглядатаев и осведомителей?!» — и потупился. Сен-Жермен с пониманием улыбнулся и легко похлопал его ладонью по щеке.
— А ты каналья… — сказал он с удовлетворением. — Хочешь спросить, чем я заслужил столь пристальное внимание со стороны русских властей?
— Я не смею, милорд…
— Да, не смеешь. Однако такое намерение я прочел в твоих глазах. И я отвечу. Запомни, мой мальчик, если когда-нибудь — в любой связи и любой компании! — ты услышишь имя Остерман, твои уши должны будут ловить каждое слово. Но когда кто-то вспомнит мсье Бестужева, ты запишешь этот разговор в своей памяти в памяти не гусиным пером, а железным стило. А потом перескажешь мне слово в слово.
— Кто такой Бестужев?
— Это очень умный человек. Бестужев — ближайший помощник графа Бирона, который является фаворитом русской императрицы. Он действительный тайный советник. Впрочем, пока все эти титулы для тебя — пустой звук. Но я предполагаю, что в будущем именно Бестужев может быть моим главным врагом. К сожалению, его нельзя ни подкупить, ни улестить. Вот он как раз, если мне не изменяет мой дар предвидения, и начнет копать могилу моему предприятию. А значит, и мне тоже. Да, да, мой мальчик, в России не очень церемонятся даже с представителями высшего сословия. А с людьми подлого звания и вовсе не считаются. Наказание кнутом и позорного столба — это не самое худшее, что может с тобой случиться, если ты угодишь в капкан, расставленный людьми Бестужева. Не боишься?
— Милорд, я боюсь лишь одного — чем-то вам не угодить.
— Что ж, лесть своему господину — это одна из добродетелей хорошего слуги. Любому человеку нравится, когда в его честь воскуривают фимиам. Увы, таково свойство человеческой души. Но я верю тебе. Ибо видел тебя в бою. Как ни крути, но ты дважды спас мне жизнь. Да, да, это так! Ты храбр, силен и смышлен не по годам. И голова у тебя работает, как должно. Уж не дворянских ли ты кровей, мой мальчик? Впрочем, все это второстепенно и не суть важно… Главное заключается в другом. Думаю, что в будущем из тебя получится хороший помощник в моих делах. Иди и помни все, что я сказал. На постой в «Австерию» тебя определит Густав…
«Возможно, граф и хороший человек — что, впрочем, пока не доказано, нужно еще разбираться — но до мсье Винтера ему далеко, — думал Фанфан, шагая вслед за долговязым Густавом. — Как Винтер налетел на разбойников! Буря! Гром и молния! Но откуда он узнал, что на нас нападут люди папаши Гильотена? Всевидящий! А может, колдун? Ну, не знаю… Говорят, что колдуны бывают черные и белые. Так что если мсье Винтер и колдун, то точно белый. И все равно, как бы там ни было, но Винтер еще ни разу меня не обманул и всегда расплачивался за мои услуги честно и вовремя. Его обещаниям можно верить. Мой хозяин — мсье Винтер!»
С этими мыслями Фанфан и подошел к «Австерии». Трактирный дом представлял собой небольшое одноэтажное здание-мазанку[48]на сваях, обшитых досками; это был своего рода фундамент. Входная дверь «Австерии» на главном фасаде — дубовая, изрядно потемневшая от времени, с резными царскими орлами, — практически никогда не закрывалась; люди сновали туда-сюда (заходили внутрь и покидали здание) беспрестанно, слетаясь к «Австерии», как пчелы к улью.
По сторонам двери находились по два окна. Неизвестно, какие стекла были вставлены в оконные переплеты при светлейшем князе Меншикове (возможно, это были богемские), но нынче из-за некачественного стекла, похожего на слюду, окна казались подслеповатыми глазами, у которых многочисленные бельма. Видимо, стекло делали в Москве, на Воробьевых горах. Московский завод, построенный еще Петром I в начале века, захирел, стал давать продукцию невысокого качества, и его должны были вскоре перевести в Петербург.
Шесть тонких колонн, соединенных низенькими резными перилами, поддерживали приделанный к дому деревянный навес и составляли таким образом открытую галерею. Она была предназначена для того, чтобы своим изящным видом завлекать прохожих в «Австерию».
До 1725 года Трактирный дом использовался лишь по прямому назначению. Кроме того, в нем часто устраивались знаменитые петровские «ассамблеи», на которых каждый из присутствующих под угрозой осушить до дна кубок с названием «Большой Орел» должен был вести себя вольно и не церемониться чинами. А в кубок, между прочим, была налита водка, а не слабенькое заморское вино.
По мере того, как Петербург начал пользоваться в Европе все большей известностью, в Северную столицу Российской империи стало приезжать много иностранцев. Селить их было негде, поэтому к «Австерии» пристроили постоялый двор, не без претензий на высокий статус названный гостиницей. Комнаты в этой «гостинице» были крохотными, неуютными, но подгулявшим матросам и шкиперам после многодневного морского перехода в штормовых северных широтах они казались едва не царскими апартаментами.
Такая же комнатка на первом этаже досталась и Фанфану. Для нормального жилья она была мало приспособлена, но оказалась очень удобной для тайных дел, и подросток, весьма неглупый и сообразительный для своих малых лет, сразу же заподозрил, что здесь дело нечисто. Коридор, в котором находился номер Фанфана, имел выходы на оба конца, английское окно легко двигалось в пазах, и мальчик, с его ловкостью и сноровкой, мог в любое время дня и ночи покинуть гостиницу, не привлекая к себе лишнего внимания. Похоже, эту чересчур уж скромную комнату для него подбирали специально.
Но вот кто это сделал, Фанфан даже представить не мог. Видимо, у Сен-Жермена в Петербурге были свои люди.
Мальчик взял на заметку это предположение и пошел обедать, благо почти никаких личных вещей у него не было, за исключением того старья, в котором он «щеголял» по Парижу. Граф приказал переодеть Фанфана еще в Германии. И теперь мальчик был одет в синий камзол из тонкого английского сукна, белую полотняную рубаху, короткие панталоны-кюлоты, длинные светлые чулки и добротные коричневые башмаки с металлическими пряжками.
Одежда была далеко не новая, ее приобрели у еврея-старьевщика, но все равно Фанфан выглядел в ней по меньшей мере как купеческий сын. К большому сожалению подростка, по статусу ему не полагалась шпага, поэтому пришлось довольствоваться все той же старенькой, но надежной навахой, которую Фанфану еще в детстве подарил один из ухажеров матери, наемник-испанец, солдат Бурбонского полка. Он же и обучил мальчика приемам испанского боя на ножах, а в этом деле обедневший идальго прослыл большим мастером.
Что касается старого тряпья, то граф посоветовал не выбрасывать его. «Пригодится…», — сказал он загадочно. «Кто бы в этом сомневался…», — подумал Фанфан. В новом платье ему было не совсем удобно — камзол жал под мышками, а башмаки были тяжеловаты и как минимум на два размера больше, поэтому мальчик решил надевать свои старые вещи, когда ему вздумается побродить по Петербургу инкогнито. Наверное, на это и намекал Сен-Жермен.
Мальчик устроился в углу «Австерии» за широким дубовым столом, скромно дожидаясь, пока гарсон подарит ему частичку своего милостивого внимания. Нужно сказать, что гарсон оказался старше Фанфана самое большее на год-два. Он был одет в костюм юнги голландского флота: светло-серые холщовые брюки, белую рубаху и короткую (до пояса) синюю курточку с большим количеством маленьких бронзовых пуговиц, пришитых в два ряда. Тонкая шея гарсона была повязана красным платком, а на его русой кудрявой голове красовался вязаный из темно-красной шерсти берет с большим помпоном.
Гарсон порхал, как стриж, между столами, успевая на лету приветливо улыбаться знакомым матросам, отвечать на их соленые шутки и принимать заказы. От его быстрых телодвижений рябило в глазах.
Наконец дошла очередь и до Фанфана. Он был не столько голодным, сколько уставшим от огромного количества впечатлений и приключений, которые выпали на его долю за время поездки графа Сен-Жермена из Парижа в Петербург. Наступил известный многим путешественникам «откат», когда все трудности и лишения позади, и ты можешь полностью расслабиться, даже поболеть, или просто поваляться в постели, и безбоязненно предаться разным несущественным делам и развлечениям.
От нечего делать Фанфан начал по слогам читать своего рода рекламное объявление, которое описывало услуги, оказываемые «Австерией». Оно представляло собой парсуну, выполненную масляными красками.
В верхней ее части не очень искусный художник нарисовал морскую баталию — фрегаты с поднятыми парусами, развевающиеся вымпелы, огонь и пороховой дым, в котором тонули несущественные детали изображения, а ниже канцелярским почерком было аккуратно выведено кистью: «Сей Трактирный дом назначен для приезжающих из иностранных государств иноземцев и всякаго звания персон и шкиперов и матросов, також и для довольства Российских всякаго звания людей, кроме подлых и солдатства. Мы предоставляем квартиры с постелями, столы с кушаньем, кофе, чай, шеколад, биллиард, табак курительный, виноградные вина, Гданскую и Французскую водки, заморский элбирь, легкое полпиво Санкт-Петербургского варения…»
Пока обоз неспешно двигался к Петербургу, граф Сен-Жермен превратился в толкового, но очень жесткого учителя. Он преподавал Фанфану тонкости придворного этикета, а также обучал его мастерству актерского перевоплощения. Вскоре мальчик уже был способен достаточно правдоподобно изображать и горбуна, и безногого калеку, и дворянского недоросля, и даже мог превратиться в юную девицу, что особенно не нравилось Фанфану. Юбки, корсеты и фижмы наводили на него панический ужас.
Не получи он строгий и недвусмысленный наказ от Винтера везде сопровождать Сен-Жермена, мальчик уже сбежал бы от графа. А так нужно было до слез смущаться своего дурацкого вида в женских одеждах и стоически терпеть, стиснув зубы, все эти надругательства над своей свободолюбивой личностью.
Но главный упор был сделан на изучение русской речи. «Человеку без знания языка чужой страны, в которую он едет, нечего там делать, — поучал граф Фанфана. — Он становится изгоем. Над ним могут посмеяться, а он даже не поймет этого. И не ответит, как должно, не укоротит шпагой язык наглецу. Он нем и слеп в чужой стране, если не понимает, что ему говорят. А нам предстоят в Московии серьезные дела. И ты должен хоть что-то соображать — для начала. Учить иноземные языки очень непросто. Но очень хочу надеяться, что у тебя получится…», — в последней фразе Сен-Жермена прозвучало сомнение.
Граф зря сомневался. Наверное, у Фанфана был особый талант к языкам. Он все схватывал на лету. А память у него была просто феноменальная. Это во-первых. А во-вторых, в Бурбонском полку служили и поляки, язык которых был очень похож на русский.
Спустя две недели после начала занятий, которые длились с утра до вечера с короткими перерывами на обед, мальчик уже мог изъясняться на русском языке довольно сносно, правда, с ярко выраженным акцентом. Так же быстро он изучил и русскую азбуку. Но письменная грамота далась ему труднее, и Фанфан мог читать только по складам.
Возможно, граф хотел ограничиться лишь обучением Фанфана разговорной речи, но когда мальчику пришлось признаться, что он умеет читать и писать по-французски (его выдал Густав; он услышал, как новый паж господина, забывшись, где он находится и с кем, читает вывески придорожных таверн), удивленный и немного озадаченный Сен-Жермен решил преподать ему и русскую грамматику.
Фанфан совершенно не сомневался, что граф был бы просто потрясен, узнав, что бывший грум дядюшки Мало, замухрышистый сорванец в заплатанной одежде, свободно изъясняется на нескольких европейских языках. Но это была такая большая тайна, о которой не знал даже мсье Винтер. Ему было известно лишь то, что Фанфан умеет читать и писать по-французски и немного знает один иностранный язык — немецкий.
Однако в те времена знание двух языков не считалось чем-то особенным, и уж тем более — необычным. Обширные торговые связи между королевствами, княжествами, графствами и многочисленные войны с захватом чужих территорий располагали к тесному общению жителей Западной Европы, которые быстро сообразили, что, зная язык врага или иноземного купца, всегда можно получить прибыль; или, по крайней мере, не умереть с голоду и не потерять голову из-за непонимания.
И все же настоящих полиглотов — таких, как Фанфан — насчитывалось немного; они находились в основном среди еврейских негоциантов и ростовщиков.
Что касается Фанфана, то он давно смекнул, что такие познания лучше держать при себе. Это все равно как наваха в потайном кармане. Противник думает, что ты безоружен, поэтому становится беспечным, и тут же следует смертоносный выпад навахой — как всплеск неожиданной молнии в темной ночи.
А Фанфан с младых ногтей научился полагаться только на самого себя…
— Чего изволите, сударь? — подскочил к Фанфану гарсон.
— Жэ фэн[49], — ответил Фанфан по-французски; он решил пока не афишировать, что ему известен русский язык.
— Не понимаю, — сказал фальшивый юнга с вежливой улыбкой.
— Ам-ам, — показал на рот Фанфан.
— Ну, это и ежу понятно, — жрать хочешь, а может, и выпить; но что именно тебе подавать, немчура проклятая?
— Что тут стряслось? — вопрос прозвучал, казалось, из ниоткуда; Фанфан даже вздрогнул.
Возле стола нарисовался, будто вырос из-под земли, белобрысый хлыщ с неподвижным и очень пристальным взглядом бледно-голубых глаз. На нем, как и на гарсоне, тоже была матросская одежда — правда, офицерского фасона. Но он явно не был простой обслугой, потому что мальчик-гарсон при его появлении затрепетал от страха.
— Вот… господин не знает нашего языка, — ответил он дрожащим голосом.
— Ты бы, Антипка, вместо того чтобы лясы точить с девками на поварне, иноземные языки изучал! — хлыщ сурово сдвинул белесые брови. — Иначе погонит тебя хозяин прочь, и будешь на Обжорке[50]милостыньку клянчить. А парнишка, кажись, француз, — сказал он, окинув Фанфана проницательным взглядом. — Редкая птица в наших краях… Мсье, я к вашим услугам, — любезно улыбнулся он Фанфану; его французский был изрядно исковеркан, но все же вполне понятен.
— Жё вудрэ дэжёнэ[51], — сказал Фанфан.
Мысленно он очень удивился, что этот русский с одного взгляда определил его национальность. Одежды сидевших за столами иноземцев мало чем отличались от платья, которое было на Фанфане.
— Пожалуйста, заказывайте, мсье, — сказал белобрысый.
Он перечислил все пункты в меню, которое оказалось весьма аппетитным даже на слух:
— Перловая каша с миндальным молоком, заливное, кислые щи, лимбургский полумягкий сыр, вяленая осетрина, пироги, блины с икрой, смородиновый морс, кофе со сливками, из спиртных напитков водка, мед малиновый, вино ренское…
— Кэс кё ву ну рёкомандэ ком пля дё вьянд[52]?
Фанфан, который поначалу не испытывал большого голода, под влиянием кухонных запахов вдруг почувствовал, как его рот наполнился слюной.
— У нас есть окорок, запеченный с зеленой фасолью, отварная говядина с огурцами, барашек с кашей, томленое в горшочке ушное из говядины с черносливом в сметанном соусе…
— Жё прэфэр лё жиго[53], — ответил он, судорожно сглотнув.
— Как прикажете… — Белобрысый изобразил поклон.
Еду и напитки гарсон принес быстро. Фанфан, который заказал бокал ренского (гулять так гулять! тем более, что граф Сен-Жермен не поскупился, отсыпал ему вполне приличную сумму на питание и мелкие расходы), очень удивился, когда к столу с торжественным видом приблизился белобрысый с серебряным подносом в руках. На подносе стояла рюмка водки, а рядом с ней, на крохотной керамической тарелочке, лежал кусок черного хлеба, густо присыпанный солью.
— Выпейте эту чарку, мсье, во здравие императрицы нашей Анны Иоанновны… многая ей лета!
— Зачем… почему?! — смешался Фанфан. — Я водку не пью. Вино — пожалуйста…
— Нет-нет, мсье, именно эту чарку вы обязаны испить. Угощение за счет заведения. Так постановил еще царь Петр Алексеевич, почивший в бозе… царствие ему небесное… — Тут белобрысый истово перекрестился. — Каждому посетителю Трактирного дома полагается, невзирая на чины, происхождение и званья…
Фанфан зажмурил глаза и одним махом вылил водку в рот; он слышал от Сен-Жермена, что русские именно так пьют крепкие напитки. Огненный клубок прокатился по горлу, вонзился в желудок и разбился, словно он был хрустальным, на сотни мелких частичек-перчинок, которые просочились в вены и артерии и подогрели кровь почти до кипения.
У подростка выступили слезы на глазах и он начал беззвучно зевать широко открытым ртом, словно выброшенная на берег рыбина. Гарсон, который стоял за спиной белобрысого, с трудом сдерживал смех.
— Закусите! Всенепременно закусите хлебушком! — приговаривал белобрысый.
Фанфан последовал его совету; на удивление, ему мгновенно полегчало, и он задышал полной грудью. Свежий черный хлеб с солью оказался очень вкусным.
— Мэрси, — поблагодарил Фанфан белобрысого, и тот, прихватив с собой гарсона, удалился.
Водка ударила в голову горячей волной и вызвала просто зверский аппетит. Жадно урча, словно звереныш, Фанфан набросился на окорок, и вскоре от него осталось только воспоминание.
Он не мог видеть, как к белобрысому подошел невзрачный мужичок в поддевке[54]и что-то спросил, указав на Фанфана. Выслушав объяснения, он сел за стол, заказал большую кружку кислых щей и стал неторопливо прихлебывать холодный пенящийся напиток, не выпуская подростка из виду ни на мгновение.
Глава 11
И открылась им благодать… Так подумал ошарашенный Глеб, когда перед ним появилась Жмань. Книжное изречение о некой «благодати» пришло ему в голову, когда Тихомиров-младший и Жук остановились у ворот на околице деревни.
Это была изрядно потемневшая от времени резная деревянная арка в виде напрестольной сени со схемой макрокосма: небосвод, знаки земли и воды. Стесанные с двух сторон толстые столбы, поддерживающие арку — небесный свод, были сплошь покрыты резными растительными символами, большей частью воспроизводящими букву «Ж» (в славянской азбуке — «живите»). На самом верху арки было вырезано изображение Макоши[55], которая держала в поводу двух стилизованных лошадок — по одной с каждой стороны.
Но больше всего поразило Глеба изображенное в верхней части арки Око Ра[56]. Какое отношение к Жмани может иметь древнеегипетский бог?!
Столбы в нижней части были укреплены булыгами. Присмотревшись к ним, Глеб увидел, что на двух самых больших каменных глыбах достаточно искусный камнерез вырубил изображение анка, предварительно отшлифовав под него плоские участки.
— С ума сойти… — пробормотал Глеб.
— Ты о чем? — спросил Жук.
— Ворота… Такое впечатление, что мы заходим не в русскую деревню, а в древнеславянское поселение.
— Что ворота, ты посмотри на саму деревню. Это же этнографический музей! Никогда такого не видывал. Чисто тебе страна берендеев. Так и кажется, что сейчас из-за овина выйдет пастух Лель, играя на свирели, а вон с той горушки, что над речкой, бросится в омут бедный Мизгирь.
— Весьма поэтично… Оказывается, ты романтик.
— Так ведь место для романтических мыслей более чем подходящее. Сплошная архаика. А ты, похоже, здесь впервые?
— Да. И удивлен безмерно.
«Интересно, почему батя не рассказал, что собой представляет обитель бабы Глаши? — подумал Глеб. — Хотя… Объяснение напрашивается само собой. Опиши он этот «музей» деревянного зодчества, меня не удержали бы и самые страшные клятвы не ездить в Жмань. Это же ожившая старина!»
Действительно, деревня и природа вокруг нее словно сошли с картины художника Нестерова. Избы-пятистенки были рублеными — сложенными из толстенных древесных стволов, двускатные крыши покрыты гонтом — деревянной черепицей. Первый ряд гонта прижимался к верхней коньковой слеге тяжелым долбленым бревном — охлупнем, венчающим кровлю. Комель охлупня — утолщение у корневища дерева — на многих избах искусными руками резчика по дереву был превращен в конскую голову. Шеломы-коньки поражали затейливой резьбой, у каждой избы было крыльцо на резных столбах, а ворота своим внешним видом повторяли те, перед которыми стояли приятели. Разве что резьбы на них было поменьше и отсутствовало изображение Макоши и всевидящего Ока Ра.
Глеб отметил, что резьба присутствовала везде, притом весьма искусная: и на дверях, и на окнах изб, и даже на колодце-журавле, уткнувшего свой длинный клюв в замшелую глубину старого сруба. Под углы и середину стен были положены большие камни; в некоторых избах их заменяли «стулья» из обожженных на костре дубовых бревен, обмазанных дегтем.
Улицы деревни были пустынны. Казалось, что она и впрямь является музеем, притом закрытым для посетителей на реставрацию. Но дым, поднимающийся из труб, указывал на то, что за небольшими оконцами в четыре стекла жизнь течет своим обычным чередом.
— Может, покричать? — высказал предложение Жук. — Гляди, кто и объявится. Возможно даже эта твоя баба Глаша.
Глеб уже рассказал, к кому они едут — назвал имя. Но не более того. Он знал, что лишние знания очень обременяют человека, тем более такого живого и непоседливого, как Железный Жук. Тихомирову-младшему не хотелось, чтобы этот прохиндей обошел его на повороте. Антон лишь с виду казался святой простотой, а на самом деле провести его могли немногие. И это Глебу было хорошо известно.
Мир «черных» археологов тесен…
— Начнешь кричать, выйдут и надают тебе по тыкве. Тут такая тишина, что слышно, как муравьи ползают. Нельзя ее нарушать. Это тебе не город. Здесь никто никуда не спешит, дни растянуты в недели, месяцы — в годы, а годы — в столетия. Время ту застыло. Видишь, нет ни электрических, ни телефонных столбов, ни машин, ни телевизионных антенн.
— Вижу… Но как мы найдем нужную избу?
— И кого вы соколики ищете?
Глеб даже подскочил на месте, услышав незнакомый голос, прозвучавший над самым ухом. Он резко обернулся — и едва не вскрикнул от испуга: перед ним стоял давешний покойник! Только теперь на нем была надета рубашка-косоворотка из синего ситца в мелкий красный цветочек и полосатые портки, заправленные в лапти с обмотками.
— В-в…В-вы?! — с трудом выдавил из себя Глеб.
— Мы, — весело ответил «покойник».
— Н-но как?..
— Что — как?
Глеб мужественно собрал всю свою волю в кулак и уже более спокойно спросил:
— Как вам удалось вернуться с того света?
— А-а, вон оно что… — Мужик внимательно присмотрелся к Глебу и сказал сам себе: — Похож… Как это я сразу не признал? Тихомиров… Но младший. Я не ошибся?
— Нет. Но вы так и не ответили на мой вопрос.
— Все вопросы потом. Сам скоро все поймешь. А отец твой почему не приехал?
— Не счел нужным! — с вызовом отрезал Глеб.
Ему очень не понравилось выражение превосходства, которое блуждало по лицу «покойника», как ветер по пшеничному полю.
— Он все равно опоздал бы… — Мужик резко помрачнел. — Ну, коли приехали, то пожалте за мной, господа-товарищи…
И он, не вдаваясь в объяснения, пошел вдоль улицы. За ним последовали и Глеб с Жуком.
— Что это за козырь? — тихо спросил Жук. — Знакомый?
— Почти, — хмуро ответил Глеб.
— Не понял… Что значит — почти?
— А то и значит… Давай продолжим базар-вокзал, когда нас определят на постой. К тому же мы, кажется, пришли…
Строение, к которому «покойник» привел парней, сильно отличалось от других деревенских изб. Оно было двухэтажным и смахивало на барский дом или, скорее, на княжеский терем. Даже крыша у него была не простая, а «бочкой».
Вход в этот «терем» был не по центру, а смещен к левому краю фасада. К входной двери вели ступеньки, образовавшие высокое крыльцо. Затем ступеньки круто забирали вверх, к входу на второй этаж. Этот лестничный марш был огражден резными перилами и закрыт от непогоды навесом.
— Вам сюда, — сказал бывший покойник. — Прошу-с. Только нет уже Глафиры Миновны. Остался лишь ее дух.
Он сделал неуловимо-быстрый жест правой рукой — словно перекрестился.
— Умерла?! — Глеб резко остановился.
— Нет! Глафира Миновна умереть не может, — строго сказал мужик. — Она ушла в другое измерение.
Глеб тряхнул головой, пытаясь привести в порядок мятущиеся мысли, и задал риторический вопрос:
— Тогда что нам здесь делать?
— Завтра будет девять дней со времени ее ухода, — сказал мужик. — Вам нужно присутствовать. Это ваш долг как ближайшего родственника.
— Да, да… все верно. Извините. Где похоронили… м-м… ее бренные останки?
«Господи! — мысленно возопил Глеб. — Куда я попал?! Что я несу?! Бренные останки… Баба Глаша ушла в другое измерение… Высокий штиль. Нет, бред сумасшедшего! А может, я сплю и все это мне снится? — Он ущипнул себя и почувствовал сильную боль. — Нет, я точно в этой Жмани… Какого хрена я сюда приперся?!»
— Где и должно — на погосте, — ответил мужик.
— Тогда мы сначала сходим туда.
— Это по-человечески, — с одобрением сказал бывший «покойник». — Рюкзаки оставьте у ворот, их никто не тронет. Я провожу вас. Между прочим, меня зовут Антип.
Глеб и Жук назвали свои имена, и вся гоп-компания продолжила путь к другому концу деревни, которая представляла собой тянувшуюся параллельно речке одну очень длинную и широкую улицу.
Жмань сильно отличалась от современных русских деревень. И прежде всего простором и хозяйственной добротностью. Каждая изба имела просторное подворье, огороженное забором, на котором размещались сараи, овины, амбары, риги[57]; по двору ходили куры и индюки, в садах стояли пчелиные колоды и ульи, в огородах росла картошка, свекла, капуста, лежали здоровенные тыквы, на стерне полей, тянущихся до самого леса, высились стожки пшеничной соломы, в речных заводях плескались гуси и утки, на склоне холма паслась большая отара овец и коз. Кроме того, судя по навозу, встречавшемуся по пути, деревенские жители держали еще и другую живность — коров и лошадей.
Чуть поодаль, в речном рукаве, была устроена запруда. Оттуда доносились мерные шлепки. Это вращалось большое колесо водяной мельницы. Вскоре они миновали кузницу — небольшое приземистое строение, рассказавшее о своем предназначении звоном молотков о наковальню.
— Хорошо народ устроился, на полном самообеспечении, — тихо сказал Жук. — Богато живут. О таких деревнях теперь можно прочитать только в книгах. Будто и не было разрухи после трех революций и двух войн и коллективизации.
— А почему ты насчитал три революции?
— Ладно, соглашаюсь на одну. Будем считать перестройку вторым коммунистическим переворотом. Здесь что, староверы живут?
— Я и сам не знаю, — осторожно ответил Глеб.
— Может, спросить у нашего «экскурсовода»?
— Оставь его в покое! Потом, позже…
Наконец их заметили. Глеб увидел, что в окнах начали появляться лица, большей частью женские. От их взглядов ему почему-то стало не по себе, и он ускорил ход, догоняя Антипа.
Погост с виду был самый обычный. Правда, хорошо ухоженный и с ровными — по шнурочку — дорожками, посыпанными желтым речным песком. По периметру он был обсажен березами, а среди могил пламенели рябины. Но имелось и некоторое отличие от деревенских кладбищ — на могилах не было крестов. Вместо них стояли гранитные камни с вырезанным анком.
Жук тоже заметил этот момент, но ничего не спросил, лишь округлил глаза и высоко поднял брови, изображая удивление. «Ты бы еще больше удивился, узнав всю историю…», — подумал Глеб.
Могила бабы Глаши, расположенная в самом центре погоста, резко отличалась от остальных. Это был самый настоящий склеп, сложенный из дикого камня. Вход в него закрывала дубовая дверь, окованная фигурными металлическими элементами. Посреди двери был врезан анк, набранный из полированных кусочков агата.
Рядом находились еще три похожих склепа, но их соорудили, судя по замшелым камням, очень давно. Их главное, и, пожалуй, единственное, отличие от усыпальницы бабы Глаши заключалось в том, что на почерневших от времени дверях склепов вместо анка были прикреплены металлические кресты: два православных и один католический.
Прежде чем отворить дверь в усыпальницу бабы Глаши, Антип встал на колени и произнес несколько слов на незнакомом языке. Глеб и Жук невольно переглянулись, но не последовали его примеру.
Склеп оказался довольно глубоким. Глеб насчитал двенадцать ступенек, пока не очутился внизу, на полу из плоских, хорошо подогнанных плит. Температура в склепе была низкая, не более пяти-семи градусов. Антип зажег два факела и пристроил их в специальные кольца-держатели, вмурованные в стены усыпальницы.
То, что увидели Глеб и Жук, потрясло их. Гроб был каменный, похожий на саркофаг. Его сплошь покрывала резьба. Что именно она изображала, Глеб разобрать не смог, потому что его внимание привлекла крышка гроба. Она была сделана из мореного дуба в металлической окантовке и украшена речным жемчугом. Естественно, на крышке присутствовал и анк — на этот раз отлитый из чистого серебра. А выше его находилось круглое оконце, забранное прозрачной слюдой.
Глеб смотрел на оконце, словно завороженный. В нем виднелось восково-бледное женское лицо с закрытыми глазами. Это была баба Глаша. Казалось, что она не умерла, а просто уснула. «Сколько же ей лет?! — мелькнуло в голове у Глеба. — Даже в таком состоянии больше семидесяти я бы бабе Глаше не дал… С ума сойти!»
Он выступил вперед, положил на саркофаг букетик полевых цветов, сорванных по дороге на погост, и не очень умело перекрестился. Антип посмотрел на него с осуждением, но промолчал. Что касается Жука, то он стоял, как окаменелый. А в его глазах то загорелись, то гасли какие-то странные огоньки…
Глеба и Жука поселили на первом этаже «терема» — в горнице. В принципе, это был уже второй этаж. Ниже него располагалась холодная подклеть, где баба Глаша хранила съестные припасы, а также разную хозяйскую утварь. Подклеть была без окон. Она имела отдельный вход.
На подворье находился амбар, замкнутый на большой навесной замок явно ручной работы, и большая поленница, забитая дровами почти доверху. Возле амбара был поставлен небольшой стожок свежего душистого сена, хотя никакой живности (в том числе и травоядной) у бабы Глаши, судя по отсутствию сарая, и близко не было; даже кур или гусей.
Еще одно удивление Глеб и Жук испытали, когда они очутились в весьма просторной горнице. Она была похожа на зал собраний или молельню — ни единой перегородки, ни единой лишней вещи. В горнице не было ни столов, ни стульев, ни комодов. Ее потолок подпирали квадратные деревянные столбы, отполированные до матового блеска. Пол был деревянный и тоже полированный, а вдоль стен стояли широкие массивные лавки. Все дерево в помещении было натерто воском, и в горнице витал тонкий аромат цветочного меда.
Но главным «гвоздем» помещения был большой камин на противоположной стороне от входа, точно по центру стены. У Глеба даже глаза полезли на лоб от удивления. От камина просто веяло стариной. Казалось, что его перевезли в эту глушь из хором какого-нибудь царского вельможи, который жил в XIX веке. Камин был сработан весьма искусным мастером из темно-красного итальянского мрамора и украшен резьбой с позолотой, которая сильно потускнела от времени.
Над камином в овальной позолоченной раме с растительным орнаментом, богато украшенной полудрагоценными камнями, был прикреплен большой анк, выкованный из металла. Когда Глеб подошел поближе, у него почти не осталось сомнений, что материалом для анка послужило нержавеющее метеоритное железо, в котором много никеля. Только оно поддается ковке в холодном состоянии. А крест как раз и выковали именно таким способом, судя по структуре поверхности, на которой были хорошо заметны вкрапления различных минералов.
«Это где же они такой метеорит нашли?! — подумал Тихомиров-младший. — Крест весит минимум килограммов сто, плюс отходы при ковке… Интересно, на сколько евротугриков может потянуть метеорит весом в сто кэгэ? Недавно прошла инфа, что в Австралии выставили на торги метеорит весом в одиннадцать килограммов и запросили за него шестьдесят пять тысяч евро. И его купили! Умножаем на десять… мать моя женщина! Получается больше полумиллиона евро! А не сменить ли мне квалификацию? Поиск метеоритов и безопасней, и прибыльней. Естественно, при наличии удачи за пазухой. Да-а, выходит, что этот железный крестик дороже золотого…»
— Располагайтесь, — сказал Антип, широким жестом указав на лавки. — Постель и ужин вам принесут, удобства, извините, во дворе, там же и вода в бочке. Это ежели надумаете умыться с дороги. А баньку мы соорудим… послезавтра. Сами понимаете — у нас траур…
Изобразив легкий поклон, Антип удалился. Глеб плюхнулся на лавку, чтобы опробовать ее на прочность, но она даже не заскрипела.
— Надо же… — удивился он мастерству неизвестного столяра.
— Ты что-то сказал? — наконец прорвало Жука, который после посещения усыпальницы бабы Глаши пребывал в состоянии легкой прострации.
— Да. Я голоден, как волк. Наверное, от изумления.
— Что касается меня, то я вообще молчу… — Жук тоже присел. — А теперь, везунчик хренов, колись: ты что, пригласил меня в эту дыру, чтобы я составил тебе компанию на поминках?
— Ну да, ты угадал, — ответил Глеб. — Прости.
— Что значит — прости?! Получается, что я сходил за семь верст киселя похлебать. Хорошенькое дельце! Зачем мы тогда перли сюда наши снасти? Можно было промаршировать и налегке. — Жук на некоторое время умолк и надулся, изображая из себя обиженного, однако затем довольно ухмыльнулся и продолжил: — Но если честно, то я, пожалуй, все равно не отказался бы от такого путешествия…
— Не переживай, инструменты нам еще понадобятся. Здесь есть где поработать. Я ведь не балаболка. Только сначала помянем бабу Глашу. Сам видишь, по-иному нельзя.
— Да понимаю я, понимаю… — Жук хотел еще что-то сказать, но тут отворилась дверь и в горницу-зал вошли две женщины преклонных лет в черных одеждах; в руках они несли постельное белье и подушки.
Женщины быстро и сноровисто сдвинули лавки и соорудили для гостей полати. Вместо матраса они положили бараньи шкуры и накрыли их домотканой простыней. Затем женщины вышли и одна из них вернулась с вместительной корзиной, в которой находилась еда.
— Хлеб да соль, — сказала она, низко поклонившись; и удалилась, бесшумно ступая по вощеному полу ичигами из мягкой кожи.
Жук сразу же начал выкладывать снедь на маленький круглый столик на точеной ножке. Похоже, он исполнял роль геридона — подставки для свечей, потому что на нем были видны следы воска.
— Знаешь, Глеб, — сказал он, сглатывая голодную слюну, — я бы не прочь погостить здесь месяц или даже два. Конечно, при условии, что нас будут так кормить и дальше.
В ответ Глеб лишь утвердительно промычал; он как раз усиленно работал челюстями, пережевывая горячее ароматное мясо. Им принесли добрый кус запеченной на костре баранины, нашпигованной чесноком и еще какими-то специями (это явно был молодой барашек), половину жареного сома, ковригу удивительно вкусного свежеиспеченного хлеба, мед в сотах, большую — литра на три — крынку холодного молока, медовую сдобу с лесными орехами, свежие огурцы и миску соленых груздей.
— А это что такое? — задал почти риторический вопрос Жук, взяв в руки бутылку зеленого стекла, в которую была налита какая-то темная жидкость.
— Портерная бутылка, — ответил Глеб. — Судя по форме и по фигурному выступу возле донышка, ей не меньше ста пятидесяти лет и она изготовлена на заводах Степана Усачева. Был когда-то такой знаменитый пивовар, пиво которого (в частности портер) считалось лучше аглицкого.
— Ну! Если это так, то бутылка имеет большую ценность.
— Точно.
— Может, умыкнем? — Жук хрипло хохотнул. — Вообще-то, я спрашивал о другом. Что в этой бутылке? Неужто портер?
— А ты открой и попробуй. Тогда не нужно будет гадать.
— Идея! Как пожелаем, так и сделаем… — С этими словами Жук откупорил бутылку и разлил густую янтарно-темную жидкость по чашкам. — М-м… — пожевал он губами, отхлебнув маленький глоток. — Нектар! Однако это не пиво. Похоже на ликер, но не очень сладкий.
— Что ж, помянем бабу Глашу. Интересно, она может за нами наблюдать из того измерения, куда переместилась?
— Ты веришь этому Антипу? — Жук скептически ухмыльнулся.
— Как это ни странно, но почти верю.
— Ну тогда, паря, я тебе сочувствую. Устал, поди, с дороги и несешь разную бредятину…
— Просто я немного знаю Антипа. Между прочим, он и сам совсем недавно возвратился из другого измерения.
— Все, приехали, клиент созрел. Не пори чушь. Пей. Может, в башке прояснится…
Они выпили. Неизвестный напиток был приятным на вкус, но шибал в голову посильнее чистого спирта. Когда бутылка показала дно, Глеб и Жук уже лыка не вязали. С трудом доковыляв к своим «полатям», они упали, как подрубленные столбы, и уснули в один миг.
Глеб проснулся среди ночи, будто его кто-то разбудил. Сна не было ни в одном глазу. Ему вдруг послышался звонкий девичий смех, доносившийся с улицы. Глеб прильнул к окну и замер, боясь вспугнуть потрясающее видение.
На улице было светло — почти как днем. Луна угнездилась в центре небесного купола и изливала на землю голубовато-призрачный свет. Ветер затих, и темные неподвижные контуры деревьев казались вырезанными руками искусного художника из черной бумаги и расставленными по садам и вдоль улицы. Тишина стояла поистине мертвая. Не слышно было и шума работающего колеса водяной мельницы. Глебу даже показалось, что он чувствует, как струится в жилах его кровь. Что касается сердца, то оно грохотало, словно набат. И было от чего.
По улице в лунном сиянии ехала давешняя девушка на белом жеребце. Только теперь она была не голая, а в коротенькой белой рубашонке, похожей на древнегреческую тунику; или на современную батистовую ночнушку. Тонкая ткань рубахи мало что скрывала, и девушка казалась обнаженной. Она ехала и счастливо смеялась.
«Чему она радуется?!» — подумал совсем сбитый с толку Глеб. Ведь в деревне траур.
Как бы в ответ на его мысленный вопрос, девушка вдруг остановила коня напротив дома бабы Глаши, нахмурилась и посмотрела, как показалось Глебу, прямо ему в душу. Ее взгляд был, словно ожог; Глеб резко отшатнулся от окна, словно его ошпарили кипятком.
Девушка снова расхохоталась, будто раздался хрустальный звон, мастерски подняла жеребца на дыбы, и пустила его с места в галоп. В этот момент она стала очень похожа на хрестоматийное изображение древней амазонки.
Неожиданно, откуда ни возьмись, на дороге появился огромный пес, очень похожий на волка (а может, это и был волк) и большими прыжками помчался вслед за конем. Спустя какое-то время топот копыт затих, и опустошенный Глеб сел на скамью, чтобы привести мысли в надлежащий порядок. Он не понимал, что с ним творится.
В этот момент луна спряталась за тучу и в горнице стало темно, хоть глаз выколи. А затем начало светлеть. Глеб поискал взглядом источник света — и не поверил своим глазам. Это над камином светился железный анк!
Глава 12
Сен-Жермен трудился над расшифровкой докладной записки, которую получил от некоего саксонца Христофора Шварца, служившего в Географическом департаменте Академии Наук. Это был тайный агент графа. Будучи в Саксонии по своим делам, Сен-Жермен обратил внимание на бедного музыканта, который едва сводил концы с концами, но обладал острым умом и задатками опытной ищейки. Завербовать Шварца графу не составило особого труда; впрочем, музыкант-неудачник и сам был рад продаться кому угодно, лишь бы выйти из нищеты.
По заданию графа Шварц поехал в Россию. С помощью связей Сен-Жермена он сначала устроился учителем музыки к цесаревне Елизавете, а затем, с подачи все того же графа, определился в посольство, отправляющееся в Китай. Возвратившись из этого путешествия, Шварц неожиданно воспылал страстью к наукам (опять-таки по наущению Сен-Жермена). Он скопировал секретную карту шведского полковника Кроньиорта (которую ему любезно предоставили шведские агенты графа), изображающую оба берега Невы начиная с Финского залива и по Александро-Невский монастырь включительно.
Благодаря карте Шварц и попал в Академию Наук. 15 апреля 1740 года его зачислили в штат на должность инженера. За него ходатайствовал сам академик Делиль, что предполагало быстрое продвижение по карьерной лестнице.
Имея академическое прикрытие, Шварц мог держать руку на пульсе всех событий в Петербурге. Он быстро обзавелся нужными связями (Шварц был на дружеской ноге с гоф-медиком Санхецем и лейб-медиком Лестоком, состоящим при великой княгине Елизавете Петровне) и служил для графа Сен-Жермена неиссякаемым источником разнообразных сведений из жизни высшего света Российской империи.
Сен-Жермен читал: «…Граф Остерман чрезвычайно работоспособен, очень ловок и неподкупен. С другой стороны, он сверх меры недоверчив и часто дает волю своей подозрительности. Он не выносит, чтобы кто-то был ему равен или выше его по положению. Граф хочет сам решать все дела, а прочие должны только поддакивать и подписывать. У него особая манера говорить так, что лишь очень немногие его понимают. Все, что он говорит и пишет, можно понимать по-разному. Он мастер всевозможных перевоплощений, редко смотрит людям в лицо и часто бывает растроган до слез, если считает необходимым расплакаться.
Остерман избегает света гласности и блеска двора. Он культивирует тайную дипломатию внутри и вовне. Он не проводит совещаний с министрами и предназначенными для этого инстанциями, принимая все решения исключительно по своему усмотрению. Дела и отчеты попадают не в коллегии и ведомства, а по его указанию все приносятся к нему домой. Остерман, действительно больной подагрой, под предлогом, что у него ноги не ходят, старается решать как можно больше государственных дел за домашним письменным столом.
В своем дворце, ограниченном с западной стороны Петровской площадью, а с севера — берегом Невы, Остерман дает официальные приемы, устраивает балы, принимает членов правительства, иностранных дипломатов, ученых, художников и даже своих немецких земляков. Он живет открытым домом — открытым для искусств, музыки и философских бесед, которые он особенно любит. Коллекция живописи и богатая библиотека Остермана столь же знамениты, как и пресловутая запущенность его дома и собственная неряшливость».
Дочитав записку, граф Сен-Жермен откинулся на спинку кресла и задумался. Ему очень нужно было встретиться с Остерманом. Но за те два месяца, что он провел в Петербурге, графу так и не удалось поговорить с главой российского правительства накоротке. Мало того, они не были даже представлены друг другу, что и вовсе смущало Сен-Жермена. В конечном итоге граф понял, что Остерман избегает его. Почему?
Вопрос был из разряда очень сложных. Докладная записка Шварца немного добавила к образу Остермана, который сложился в голове Сен-Жермена под влиянием донесений тайных агентов и собственных наблюдений. Скорее всего, думал граф, Остерман до сих пор не мог составить определенного мнения о его персоне. Поэтому он считает себя не готовым к встрече с графом — у него просто нет козырей против Сен-Жермена, чего опытный политик и дипломат просто не может себе позволить.
А то, что Остермана очень интересует личность Сен-Жермена, можно было догадаться по большому количеству фискалов, от которых граф не мог избавиться ни днем, ни ночью. Лишь благодаря неутомимости и пронырливости Фанфана, уже вполне освоившегося с реалиями русской жизни и чувствовавшего себя в Петербурге, как рыба в воде, граф мог более-менее свободно сноситься со своими агентами и добывать нужную информацию.
Поначалу и за Фанфаном был установлен негласный надзор, но вскоре в приказе тайных дел решили, что мальчишка не представляет никакого интереса и его оставили в покое. Фанфан, зная, что за ним ведут наблюдение, валял совершеннейшего дурака, при этом сохраняя на своем живом смуглом лице выражение детской наивности и не шибко большого ума.
«Может, мне в состоянии помочь кто-то другой? — подумал граф. — Например, тайный советник Бестужев. Да, это еще та бестия, и он, конечно же, не упускает меня из виду. Точь-в-точь, как Остерман. Поди знай, какие шпионы служат одному, какие другому. Но Бестужев, в отличие от хитроумного, но чересчур прямолинейного Остермана, большой мастер интриг. И он не упустит момент поиграть со мной в игру, которую я могу ему предложить. Это вариант… И все же мне больше импонирует Остерман. Все его хитрости шиты белыми нитками. А вот Бестужев, как сама Московия — скрытный, загадочный, непредсказуемый, хотя внешне само добродушие и покладистость. Играть против него очень опасно, а с открытым забралом — тем более…»
Два месяца поисков Десницы Господней оказались напрасными. Граф никак не мог найти потаенное место, в котором хранилась реликвия. А что такой тайник существовал, Сен-Жермен совершенно не сомневался. При аресте Долгорукова не были найдены фамильные драгоценности, в том числе и сабля дамасской стали, подаренная князю польским королевичем Константином. Поскольку этот вопрос не был главным, следствие не стало акцентировать свое внимание на этом факте.
Где может находиться Десница Господняя? В Раненбургской крепости? Там князь Сергей Долгоруков вместе с семейством находился в ссылке с 1730 по 1736 год. Нет, это вряд ли. В рапорте гвардии подпоручика Петра Румянцева, который арестовал князя, указывалось, что обыск в сельце Фоминки, где на тот момент проживал Долгоруков, был произведен весьма тщательно и, кроме наличности в сумме 8125 рублей, ничего не дал. И уж тем более скрупулезно были досмотрены все вещи, которые семейство князя взяло с собой в Раненбург.
Или в рязанской деревне Корино — любимом месте летнего отдыха князя Сергея? Там у него была усадьба, но ее конфисковали. Место не очень надежное для тайника, в котором могли храниться фамильные драгоценности, и весьма отдаленное. А жена князя, Марфа Петровна, дочь вице-канцлера Шафирова, весьма симпатичная особа, любила блистать на царских балах во всеоружии. Значит, тайник в Петербурге! Скорее всего. У князя был дом и в Москве, но Марфа Петровна не очень привечала старую столицу и бывала там редко.
«Если тайник здесь», — размышлял Сен-Жермен, значит, он находится в доме князя на Мойке, возле здания Конюшенного ведомства. Дом опечатан и стоит пустой. На него наложила лапу царская казна. Но ведь никто не запрещает поселиться там временно, взяв дом в аренду. Граф Сен-Жермен имеет полное право попросить себе такую привилегию. И мотив вполне достоверный — ему надоели гостиничные номера. Даже в таком приятном заведении, как герберг Петера Милле. А за ценой он не постоит.
Но все упиралось в Остермана. Только он мог дать соизволение на аренду дома князя Долгорукова. Или сама императрица. Однако до нее высоковато добираться, да и негоже обращаться к владетельной персоне с такими пустяками. Остерман находится пониже, но он забрался в свою скорлупу и оттуда его никак не выковыряешь. Дать взятку? Не возьмет. Другой бы на его месте взял, но только не Остерман.
Что ж, остаются обходные пути. Они длиннее, но надежнее. И главное, на непредвзятый взгляд, вполне приличные. Ведь взятку нужному человеку можно дать и не напрямую, а опосредованно. Например, проиграть в карты крупную сумму.
Граф выяснил, что Остерман был поклонником карточной игры. Скорее всего, потому, что картами сильно увлекалась и сама Анна Иоанновна. Обычно он играл в «фараон» или «кинце». Правда, первый кабинет-министр очень не любил проигрывать и, когда случался такой конфуз, он места себе не находил. При этом удачливый соперник по карточной игре на некоторое время становился его личным врагом. «Что ж, притворимся болваном», — улыбнувшись, подумал Сен-Жермен.
Его размышления прервал Густав. Он вошел в гостиную без стука и сказал:
— Милорд, к вам господин… э-э… Педрилло[58]. — И тут же добавил, виновато отводя взгляд: — Он так представился… — Густав не только хорошо знал русский язык, но вдобавок и некоторые его смысловые нюансы.
Граф рассмеялся и ответил:
— Зови. И пусть нам подадут фруктов и хорошего вина. По-моему, в винном погребе господина Милле есть превосходный тентин[59]. Он хранит его для особых случаев, но скажи ему, что я настоятельно попросил. Уверен, он не откажет. Думаю, что господину Педрилло это вино придется по вкусу. Он любитель сладкого.
Густав, поклонившись, вышел, и спустя считанные секунды перед графом предстал и сам Педрилло, любимый шут Анны Иоанновны.
Повстречайся он графу на улицах Петербурга, Сен-Жермену и в голову не пришло бы, что этот франт исполняет при дворе шутовские обязанности. Шут был в белоснежной рубашке с кружевными манжетами. Разрез на груди украшали кружевные оборки — жабо. Поверх белого камзола из шелковой ткани, украшенного вышивкой, он надел красный бархатный кафтан, пошитый в талию. Рукава кафтана были с широкими, почти до локтя, темно-синими обшлагами. Борта кафтана и обшлага украшало серебряное шитье и пуговицы из позолоченного металла. Узкие панталоны-кюлоты застегивались на пуговицы, а ноги шута обтягивали белые шелковые чулки, которые носила только знать.
Что касается обуви, то низкорослый Педрилло предпочитал украшенные серебряными пряжками башмаки на высоком каблуке. На голове у него был напялен белый напудренный парик, а лицо густо нарумянено. В руках он держал трость и шляпу-треуголку, украшенную перьями.
И тем не менее, несмотря на внешний лоск, присущий людям знатным и вполне обеспеченным, черты лица шута выдавали в нем низменную, корыстную натуру. Граф заметил, что при виде золотой табакерки, украшенной четырьмя крупными рубинами, которая лежала на столе, черные глаза Педрилло вспыхнули поистине дьявольским огнем.
Мысленно торжествуя, — кажись, рыбка сама идет на приманку! — Сен-Жермен поднялся и ответил на приветствие шута вежливым поклоном.
— Прошу вас, мсье… сюда, — указал он на кресло возле ломберного стола, накрытого белой скатертью. — Я чрезвычайно признателен вам за то, что вы отнеслись благосклонно к моему приглашению.
— Милорд, к чему такие реверансы? — несколько развязно ответил шут. — Разве я мог не прийти на встречу с самим графом Сен-Жерменом? Мои потомки этого мне не простили бы. Ваша слава бежит впереди вас.
— Помилуй бог, о чем вы? — фальшиво удивился граф. — Моя незначительная персона не идет ни в какое сравнение с личностью приближенного русской императрицы.
— Ну-ну, милорд, не нужно скромничать… — Шут ухмыльнулся. — Человек, принятый во всех европейских дворах, дипломат, композитор, художник, скрипач, выдающийся алхимик никак не может быть незначительной персоной.
«Не прост, сукин сын, далеко не прост… — думал граф, изображая смущение. — Ай да итальяшка, ай да паяц! Кто же это внес ему в уши мои биографические подробности? Неужто сама императрица заинтересовалась мной и навела справки через дипломатическую службу? Тогда понятно, откуда ветер дует…»
— Это всего лишь таланты, которыми наградил нас Господь, — ответил граф. — Должен вам сказать, мсье, что я как скрипач вам и в подметки не гожусь. Люди, которым посчастливилось слушать ваши концерты, в восхищении.
— Я думаю, они преувеличивают… — Теперь уже шуту пришла очередь смутиться; тем не менее, грубую лесть Сен-Жермена он принял за чистую монету.
— Не буду настаивать, — сдался граф. — Но этим людям я верю, они понимают толк в музыке…
В этот момент вошел Густав и принялся сервировать стол. Увидев запыленные бутылки тентина и мальвазии, Педрилло в вожделении невольно облизал губы. Такие дорогие вина даже на дворцовых пирах подавали не часто.
Шут пил вино да нахваливал. А сам думал: «Что ему угодно? Не верю, что столь известный — даже знаменитый — человек, дворянин, пригласил меня всего лишь для того, чтобы познакомиться. И уж тем более невероятно, что графу Сен-Жермену понадобилось мое покровительство. Он на короткой ноге с де Шетарди, а у того имеются большие связи среди приближенных матушки-государыни… И все равно, у графа что-то на уме. Скорее всего, он затевает какую-то интригу и мыслит дать мне в ней небольшую, но важную роль. Не продешевить бы…»
Педрилло невольно бросил взгляд на руки графа и даже зажмурился от сияния бриллиантов. Таких перстней не было даже у самого Бирона. Поговаривали, что у герцога Курляндского (Анна Иоанновна присвоила этот титул своему фавориту в 1737 году), который славился корыстолюбием и мздоимством, есть целый сундук, набитый драгоценными камнями почти доверху. Иногда шут даже подумывал, а не собрать ли ему надежных людишек из соотечественников, коих немало шлялось по Петербургу в поисках приличного заработка (а еще лучше — богатого покровителя), чтобы основательно почистить бироновкие закрома, больше похожие на царскую сокровищницу, нежели на сбережения на «черный» день бывшего студента-недоучки Кенигсбергского университета, пьяницы и картежного шулера.
Поймав завистливый взгляд изрядно захмелевшего, но не потерявшего голову шута, Сен-Жермен решительно сказал сам себе: «Пора! Сия фортеция уже готова открыть ворота».
— Мсье, — начал он вкрадчиво, — я не мог бы попросить вас об одной небольшой услуге?
Шут мгновенно насторожился. Куда и хмель его девался. Он почувствовал, что наступил момент торговли и его корыстная сущность мгновенно прояснила ему мозги.
— Милорд, — воскликнул он с вдохновением, — сочту за честь вам помочь! Готов преодолеть любые трудности, лишь бы вы были довольны.
— Нет-нет, никаких особых трудностей не предвидится. Для вас с вашими связями при дворе это будет несложно. И тем не менее, я буду очень вам признателен и постараюсь не остаться в долгу.
«Гладко стелет… — подумал Педрилло, подобравшись как перед прыжком. — Заходит издалека… Значит, дело не совсем чисто. Что ж, послушаем…»
— Милорд, я весь внимание, — ответил шут, глядя на графа слегка сузившимися от большого внутреннего напряжения глазами.
— Видите ли, мсье, я большой почитатель картежной игры… хотя сам играю неважно. Но это между нами!
— Я буду нем, как могила, милорд, — заверил шут.
— Так вот, мне хотелось бы попасть в хорошую компанию, компанию настоящих мастеров этой увлекательнейшей игры, чтобы немного подучиться. И, возвратившись в Европу, кое-кому доказать, что графа Сен-Жермена рано сбрасывать со счетов. Это давний спор, мсье, пари, если хотите, которое я просто обязан выиграть.
— Да, да, понимаю…
— Насколько мне известно, в ближайшее воскресенье в доме графа Остермана собирается весьма приличная компания игроков в карты. К сожалению, я не вхож в этот круг… в отличие от вас. Не могли бы вы посодействовать мне в этом вопросе?
— Милорд, тут есть проблема. Граф Остерман весьма консервативен, и круг его знакомых и друзей чрезвычайно узок…
— Я уверен, что вам по плечу решение любой проблемы подобного рода, — сказал Сен-Жермен, любезно улыбаясь. — Кстати, как вам нравится эта табакерка? — закинул он удочку. — Это работа мастера Позье. Я заказал ее, едва приехав в Петербург. Не правда ли симпатичная вещица?
— Что вы говорите?! — восхитился Педрилло. — Позье! Кто его не знает. Он действительно замечательный ювелир. К тому же господин Позье пользуется покровительством самой Анны Иоанновны. Представляю, какой был бы фурор среди придворных, предложи я матушке-императрице табаку из золотой табакерки работы Позье?!
«А он все-таки большой наглец, — с брезгливостью подумал граф. — Так беззастенчиво намекать на мзду… о времена, о нравы, как говаривали древние. Остается ли хоть что-то в этом мире, чего нельзя купить? Естественно, кроме молодости и здоровья».
— Вам представится такая возможность, мсье. Примите от меня эту табакерку в подарок. Пусть она будет для вас памятью о нашей встрече.
— Ах, милорд! — шут схватил табакерку и прижал ее к груди. — Вы очень щедры ко мне! Благодарю вас, от всей души благодарю! — Он открыл табакерку, полюбовался искусной чеканкой и рубинами и сказал: — А что касается воскресной ассамблеи у графа Остермана, то я почти не сомневаюсь, что он не откажет мне в любезности пригласить вас в качестве моего компаньона.
«Велика честь для графа Сен-Жермена быть компаньоном этого низкорожденного паяца, — с иронией подумал граф. — Но цель оправдывает средства. Отцы-иезуиты временами бывают правы…»
Однако оставим графа и шута допивать тентин и предаваться светской болтовне, и поищем в Петербурге Фанфана. Он, как обычно, исполнял очередное поручение Сен-Жермена. Чтобы не бросаться фискалам в глаза, мальчик был одет в простое, но добротное платье — смесь иноземного и русского покроя. В таких одеждах, разнившихся лишь степенью износа и количеством заплат, щеголяли многие столичные подростки, в основном дети мещан и хорошо зарабатывающих мастеров различных профессий, поэтому Фанфан не выделялся из толпы.
Фанфан шел на Сытный рынок. Раньше, до перевода на Кронверк, он назывался Обжоркой, и это наименование по-прежнему бытовало среди коренных петербуржцев. День выдался сырым, ветреным, и подросток, чтобы не озябнуть, временами переходил на бег.
О приближении Обжорки ему сообщила вонь, которая смутила даже обоняние Фанфана, привычное к запахам парижских клоак. Мясники били скотину прямо на рынке, а несъедобные внутренности выбрасывали поблизости. Над «курятными» рядами, где потрошили птицу, летали пух и перья, и подросток несколько раз чихнул, потому что несколько пушинок попали ему в нос. На возах лежали груды битой птицы, — глухари, рябчики, голуби и даже воробьи — и множество так называемых «щипачей» трудились в поте лица, придавая всему этому мясному изобилию товарный вид.
Посреди Сенного рынка стояла никогда не просыхающая лужа, и Фанфан, зазевавшись, едва не свалился с узкой доски, служившей мостком. Смачно выругавшись, — по-русски! — мальчик подошел к лоточнику, купил два пирожка с зайчатиной и, примостившись на пустой бочке, начал быстро работать челюстями — до встречи с агентом графа оставалось еще много времени.
Неподалеку от Фанфана, у двери рыночной харчевни, наигрывая на балалайке, пританцовывал разбитной малый в красной рубахе. Это был зазывала. Перемежая свою речь прибаутками, он вопил, как резаный:
— Заходи народ честной! Попотчуем вас ухой! Щи наваристые с мясом, пироги запьете квасом! Блины, грешневики, калачи простые и сдобныя! Хлебы ржаные и ситные! Сбитень вместо заморского чаю! Заходи народ подлой и работной, всех согреем и накормим!
Доев пироги, подросток вытер жирные руки о кафтан и направился в «Австерию на Сытном рынке». Это было непритязательное питейное заведение, где обычно проводили свободное время небогатые людишки разного сословия. Кого там только ни было! Жители Петербурга, немцы, голландцы, греки, финны, французы, пленные шведы, которые по разным причинам не уехали на родину, жители Эстляндии и Лифляндии… Настоящее вавилонской столпотворение!
Иноземцы быстро привыкали к Петербургу, который, по их общему мнению, необыкновенно отличался от других городов России и был похож на западноевропейские города. Более того, многие иностранцы, поселившись в новой столице Российской империи, заболевали Россией; на них как-то незаметно распространялось ее необъяснимое обаяние.
Непонятно, в чем заключался секрет этой «русской болезни» чужестранцев: в остроте ли жизни, полной опасностей и непредсказуемости, в мелодичных звуках русской речи, в берущем за душу церковном пении, в прекрасных русских женщинах, в живой, непредсказуемой русской истории… Но не исключено, что и в русских песнях, непременно сопровождающих любое застолье.
Когда Фанфан вошел в «Австерию у Сенного рынка», нужный ему человек, немец, в компании своих соотечественников как раз отмечал какое-то торжество. Изрядно поднагрузившись спиртным, немцы, стуча пивными кружками по столу, пели хорошо известную в Петербурге кабацкую песню: «А стопочкой по столику стук-стук-стук!..»
Забавно было наблюдать и слушать, как потомки гордых рыцарей-меченосцев, нещадно коверкая слова, распевают песню русского народа, который они за всю свою длинную историю много раз намеревались поработить. А этот самый зла не помнящий народ сидит рядом и в ус не дует, потому как ему что иностранец, что свой — все едино. Лишь бы человек был хороший.
Людей в «Австерии» было много, поэтому появление Фанфана прошло незамеченным. Он протолкался к столу, где сидела веселая компания и, сделав вид, что споткнулся, быстро сунул в карман агенту Сен-Жермена, который сидел на краю лавки, сложенную вчетверо записку. При этом Фанфан смахнул со стола пустую бутылку и тарелку с костями.
— Шайзе![60]— воскликнул разгневанный агент, который по пьяной лавочке не узнал Фанфана. — Разуй глаза, сын ослицы!
— Врежь этому оборванцу ножнами шпаги по спине, — посоветовал ему приятель.
Но сам этого делать не стал, хотя находился к мальчику ближе всех, — у него руки были заняты; в правой он держал кружку с пивом, а в левой — говяжий мосол.
— Простите… господин хороший, простите, ваше благородие, виноват… — начал кланяться Фанфан, не спуская остро прищуренных глаз с агента. — Больше не повторится…
Наконец до немца дошло, кто перед ним. От неожиданности он икнул и как-то очень быстро протрезвел. Похоже, Сен-Жермен держал своих агентов в ежовых рукавицах. Немец знал, что Фанфан — доверенное лицо графа, поэтому всегда вел себя с подростком весьма предупредительно. Заметив выразительный взгляд мальчика, направленный на карман его камзола, агент коротко кивнул — мол, я все понял — и примирительно сказал:
— Ладно, прощаю. Иди отсюда… от греха подальше. Может, ты голоден? На, возьми… — С этими словами немец сунул в руку Фанфану калач.
Мальчик рассыпался в благодарностях и поторопился покинуть «Австерию». Сидевший неподалеку фискал, который вначале было насторожился, сокрушенно шмыгнул носом — опять мимо! Никак не получается ущучить этого Ганса; а ведь у него точно рыльце в пушку — и уткнулся в объемистую кружку, наполненную горячим грогом. По своему опыту он знал, что немцы не уйдут из «Австерии», пока у них не кончатся деньги.
«Ну ладно русский мужик… — думал он с изумлением. — Ежели вожжа попадет под хвост, так он пропьет и зипун, и портки. Но эти-то, немчура… Европа! И они туда же…»
Выскочив из питейного заведения, повеселевший Фанфан — дело сделано! — с легким сердцем отправился восвояси. Насвистывая легкомысленный мотив французской песенки, в которой говорилось о том, как бедная глупышка Мари поддалась на уговоры ловеласа Жака и что с этого вышло, он влился в поток людей, которые явно куда-то спешили. Похоже, предстояло какое-то зрелище, а Фанфан старался не упускать такие моменты.
Он впитывал жизнь российской столицы во всех ее проявлениях, как губка. Агенты канцелярии тайных розыскных дел, которые сопровождали его первое время, совсем с ног сбились. Мальчишка был шустрый, как хорек, и за день оббегал весь Петербург в поисках новых впечатлений. У фискалов постарше в глазах двоилось — с такой скоростью перемещался юный француз по городу.
В конце концов, убедившись, что парнишку интересуют лишь разнообразные зрелища (к ним, кстати, относились и прибытия иностранных купеческих суден), а также посещение трактиров и харчевен, соглядатаи прекратили преследовать Фанфана. Он ничем не отличался от петербургских подростков; разве что был исключительно шустрым и чересчур любознательным.
На самом деле Фанфан упорно дожидался мсье Винтера. Мальчик предполагал, что он может прибыть в Петербург с купцами. А когда с очередным иноземным судном его постигало очередное разочарование, он начинал обход мест, где обычно бывает много народу, в том числе и различных питейных заведений.
Конечно же, он не подавал виду, что кого-то ищет. Жизнь в парижских трущобах приучила его к исключительной осторожности. Кроме того, и в Петербурге водились мазурики, коих следовало остерегаться не только в ночное время, но и днем. Чтобы не попасть впросак, Фанфан не поленился и обошел все улицы и переулки Петербурга, поэтому спустя два месяца знал город как свои пять пальцев.
— Эй-ей, кум, здравия тебе на многая лета! Куда торопишься? — раздалось рядом.
Фанфан посмотрел в ту сторону, откуда послышался густой бас, и увидел, как двое русских обнялись и почеломкались.
— Давно не виделись… — Обладателем басовитого голоса оказался невысокий мещанин с большим животом, готовым в любую минуту оторвать пуговицы кафтана и вывалиться наружу.
— Давно, кум, давно. Пойдем, пойдем поскорее! — второй русский был тщедушен и разговаривал фальцетом; судя по его платью, он был чиновником невысокого ранга.
— А пойдем. Разумная мысль. Встречу и впрямь нужно отметить. Есть у меня на примете одно местечко… там знатная водка. Говорят, сам Петр Алексеевич часто туда захаживал. А императору плохую водку не поднесут.
— Ты не понял меня, кум. Это потом. Надо торопиться на площадь, что у мясных рядов. Там состоится казнь.
— Да ну!
— Точно тебе говорю.
— Тогда поспешим. А в трактир зайдем опосля. Что, головы рубить будут или на кол кого посадят?
— Неизвестно. Зачитают царский указ, узнаем…
Услышав, что за событие намечается на Козьем болоте, Фанфан прибавил ходу, оставив кумовьев далеко позади. Ему еще не доводилось присутствовать на таком знатном зрелище, и у Фанфана зажегся внутри очередной костер любопытства.
Вскоре к эшафоту он уже не мог протиснуться, — слишком много зевак толпилось возле самого помоста и на подходах к лобному месту — поэтому применил свой испытанный способ для таких случаев. Мальчик низко присел и нырнул прямо в узкую щель между частоколом ног — как в омут. Извиваясь, словно вьюн, он быстро преодолел едва не на четвереньках оставшиеся метры и вскоре уже был в первых рядах толпы, собравшейся поглазеть на казнь.
Вокруг эшафота стояли в каре солдаты. Заунывно прозвучали флейты, ударили барабаны: «Тр-рум-м! Тр-рум-м! Ту-ру-рум-м!..», и от этих зловещих, как показалась Фанфану, звуков у него засосало под ложечкой, а душа сжалась в маленький комочек.
«Везут!.. Везут!..» — пронеслось по толпе как единый вздох. Одна женщина, не выдержав огромного напряжения, ахнула и потеряла сознание; возможно, это была родственница кого-то из приговоренных к казни. Ее поддержали, что оказалось довольно легко и просто, потому как толпа стояла очень плотно и свалиться на землю человек все равно не смог бы, и начали приводить в себя, похлопывая бедняжку по щекам.
Фанфан не успел досмотреть, чем закончился этот эпизод, потому что начались события на Лобном месте. Первым на помост поднялся по ступенькам палач — кряжистый пегобородый мужик с нехорошим — волчьим — взглядом. Он был одет в красную рубаху, подпоясанную узким сыромятным ремешком; в руках палач держал большую секиру на длинной рукоятке.
По всему было видно, что волнуется не только толпа в предвкушении кровавого действа, но и сам исполнитель приговора. Палач казался немного заторможенным; он попробовал пальцем остроту лезвия, при этом поранившись, но на порез не обратил ни малейшего внимания, и его кровь закапала на помост, словно весенняя капель со стрехи, только алого цвета.
Затем вместе с приговоренными на помосте появились и судейские чиновники. Один из них начал оглашать императорский указ, но Фанфан почти не слушал его. Все внимание мальчика было сосредоточено на несчастных, жить которым осталось всего ничего.
Это были два молодых офицера, одетых в белые — «смертные» — сорочки без воротников. Судя по изможденным лицам, их пытали, но, скорее всего, не очень долго, потому что они держались на ногах без посторонней помощи.
Один из них чему-то улыбался и с пристальным вниманием глядел в небо — словно выбирал себе среди мелких тучек более легкую и прямую дорогу к Божьему престолу. А второй казался тихопомешанным. В его немигающих глазах застыл ужас, черты лица были искажены судорогой, а рот приоткрыт, словно он хотел закричать, но сомкнутая гортань не пропускала ни единого звука.
«За что их, бедных?..» — вопрошали одни, настораживая уши. «За измену…» — отвечали другие, более осведомленные. «За то, что набили морду какому-то иноземному полковнику. Солдат мордовал, гад. Пятерых до смерти палкой забил…» — разъяснил кто-то суть дела, и сразу же в толпе началось шевеление. Это к правдолюбцу пробирались фискалы тайной канцелярии. Но народ не подвинулся и на миллиметр, и служебное рвение разбилось о молчаливое сопротивление толпы.
Наконец указ был зачитан и по толпе пошел тихий шум, в котором слышалось: «Должны помиловать… Знамо, помилуют. Молоденькие какие… Тот, что справа, совсем вьюнош…» А стоявший рядом с Фанфаном мужик, явно работного звания, злобно процедил сквозь зубы: «Как же, помилуют… держи карман шире. Ждите… дураки! Они ведь русские. Это к немчуре всякой снисхождение…»
Едва он это проговорил, как все дружно сняли шапки и над площадью повисла мертвая тишина. Даже воробьи перестали чирикать, как показалось Фанфану.
Увы, указа о помиловании осужденные не дождались. Первым лег на плаху офицер, который был явно не в себе. Он словно одеревенел, даже шагу не мог ступить, и палач буквально швырнул его на колоду. Кто-то из судейских взмахнул белым платком, палач опустил топор, и над площадью пронесся единогласный стон.
Затем пришла очередь второго. «Посторонись, милостивец! — сказал он палачу с прозрачной улыбкой. — Я сам лягу…» Палач что-то буркнул в ответ, примерился, рубанул топором да так ловко и сноровисто, что успел схватить отделенную от туловища голову за волосы. С каким-то непонятным, отчаянным вызовом он поднял ее на уровень груди, кровь с перерубленной шеи хлынула широкой струей, и толпа дружно ахнула. Люди, до этого с жадным интересом созерцавшие кровавое действо, в страхе и смущении попятились назад и начали расходиться.
Площадь быстро опустела; возле помоста остались лишь солдаты и повозка, на которую погрузили тела казненных офицеров. Палач в глубокой задумчивости вытер руки о кусок холстины и принял от помощника кубок, доверху наполненный водкой. Он выцедил его не торопясь, длинными глотками, словно это был квас.
Когда кубок показал дно, палач занюхал водочный дух хлебной коркой, истово перекрестился, сказал: «Прости, Господи!», и подошел к одному из чиновников, чтобы получить плату за свою работу.
Опустив голову, мрачный Фанфан тоже побрел прочь. Казнь произвела на него огромное впечатление; неокрепшая душа мальчика была наполнена горечью и непонятной печалью. Он не знал этих двух офицеров, мало того, они были русскими; и тем не менее острая жалость к несчастным заполнила все его естество.
Задумавшись, Фанфан неожиданно наткнулся на иностранного шкипера в зюйдвестке и порядком изъеденных морской солью ботфортах. Он был бородат, курил трубку и смотрел на мальчика с каким-то странным выражением. Приглядевшись к его обветренному загорелому лицу, по которому блуждала легкая улыбка, Фанфан едва не вскрикнул от изумления. Перед ним стоял Винтер!
Глава 13
Глебу приходилось бывать на поминках, но подобных тем, что жители Жмани затеяли на девятый день после смерти бабы Глаши, видеть ему не доводилось. Вся деревня собралась над речкой — там была обширная ровная площадка — в нарядах, которые больше соответствовали какому-нибудь светлому празднику. Посреди площадки (или Светлой Поляны, как называл это место Антип) был разложен костер, над которым на вертеле запекался упитанный бычок весом эдак килограммов на двести, которому исполнился самое большее год.
Столов не было, всю снедь (жареную рыбу, коржи, похожие на лаваш, соленые грибы, свежие овощи, зелень) разложили на пестрых ковриках, а чтобы сидеть на земле было мягче, принесли сложенную в несколько раз кошму. Затем мужики выкатили бочку кваса и бочку вина, поставили их на козлы, и напитки весело зажурчали в две большие братины, откуда их черпали серебряными ковшиками на длинных ручках и разливали в деревянные чаши, выдолбленные из капа и украшенные резным орнаментом.
Глеб попробовал вино и едва не поперхнулся от удивления. Он ожидал что-то простенькое, какой-нибудь рислинг или портвейн, а в бочке оказалось вино густое, выдержанное, с незнакомым вкусом и ароматом. Тогда Глеб присмотрелся к бочке, откуда его наливали, и тихо ахнул — на ее донышке ясно просматривались цифры «1910».
Неужели в бочке вино 1910 года?! С ума сойти… Глеб снова отхлебнул маленький глоточек янтарной жидкости, пытаясь, как настоящий дегустатор, определить хотя бы название вина. Увы, его познаний в этом деле явно не хватало. У вина был виноградно-цветочно-медово-клубничный привкус, который хорошо сочетался с легкой терпкостью. В конечном итоге Глеб как представитель новой цивилизации, буквально помешанной на добывании житейских благ, вынужден был констатировать, что марка вина не поддается определению, но на винном аукционе оно стоило бы бешеных денег.
Махнув рукой на все эти мелочи, Глеб выпил чашу до дна и почувствовал, как по телу пошла теплая мягкая волна, а вместе с ней появился и зверский аппетит. Ему отрезали добрый кус печеной говядины, и Тихомиров-младший по-волчьи вонзил свои крепкие зубы в сочную горячую мякоть, которая пахла какими-то ароматными приправами. Наверное, тушу бычка перед установкой на вертел нашпиговали специями.
Жук, который сидел рядом, пил, ел да помалкивал. Его будто переклинило. Куда и девалась природная живость «черного» археолога, которому и сам черт не брат. Что касается остальных участников поминок, то с каждой выпитой чашей у них только прибавлялось веселья. Казалось, они не скорбят, как полагается в таких случаях, а радуются, что их покровительница отошла в мир иной.
А еще Глеб заметил, что среди жителей Жмани совсем нет мальцов и подростков, хотя некоторые мужики и бабы были вполне детородного возраста. Неужто юное поколение они держат взаперти? Чтобы пришлые люди не сглазили.
Незаметно рассматривая местных аборигенов, Глеб вдруг почувствовал, как его словно укололи в мягкое место. Он даже привстал от неожиданности. Напротив него сидел мужик с сумрачными глазами. Он был одним из немногих, кто пребывал в мрачном настроении. Мужик ел и пил, почти не поднимая головы, и Глеб мог созерцать лишь копну тронутых сединой волос и кончик его длинного носа.
Но в какой-то момент мужик поднял голову и бросил в сторону Глеба взгляд, полный ненависти. Тихомиров-младший невольно вздрогнул. И словно прозрел. Перед ним сидел тот самый тип из ресторана «Королевский двор», который носил лихо закрученные усы и эспаньолку! И Глеб наконец вспомнил, где и при каких обстоятельствах он видел этого мужика.
Это был убийца, который пытался зарезать Антипа! Да, точно, он! Глеб не мог ошибиться. Сцена нападения на Антипа, которую Глеб наблюдал на экране монитора, все время стояла у него перед глазами. Интересно, почему он не распознал убийцу в ресторане? Его будто на время переклинило.
Выждав какое-то время, взволнованный Глеб встал из-за поминального «стола» и подошел к Антипу. Тот как раз беззаботно балагурил с молодой женщиной, которая была одета в старинный русский сарафан, а на голове у нее красовался кокошник, расшитый разноцветным бисером. Она посмотрела на Глеба добрыми глазами, приятно улыбнулась и отошла в сторону, моментально поняв, что мужчинам есть о чем поговорить.
— Антип! — взволнованно начал Глеб. — Напротив меня сидит человек, который хотел тебя убить! Я хорошо его запомнил.
— Я знаю, — просто ответил Антип.
— То есть… как это?! Если тебе известно, что он за птица, то почему этот негодяй не понес никакого наказания? Мало того, он сидит за общим столом как ни в чем не бывало.
— Тебе трудно понять… Пока трудно. Возможно, позже… Виктор один из нас. Но — заблудшая овца. По недомыслию заблудшая. А мы не волки, чтобы резать овец, отбившихся от стада. У нас есть суд, праведный суд. Но чтобы на него попасть, нужно совершить святотатство. И тогда приговор будет жестоким. Нет, мы не убьем такого человека. Наша вера отвергает любое физическое насилие. Мы просто изгоним святотатца из нашей общины. А это хуже длительного заключения или даже смерти. Что касается случая в городе, когда Виктор напал на меня с ножом, то это наши личные счеты. Общины они не касаются.
— Извини… Я, кажется, влез в чужой монастырь со своим уставом. Но я должен был предупредить.
— За это спасибо. Да, должен. Как любой честный человек. Значит, Глафира Миновна в тебе не ошиблась.
— Во мне? Но ведь она звала отца…
— Да, это так. По старшинству. Тем более, что твой отец был с ней знаком. Но в свой последний час она вдруг открыла глаза и сказала, что сюда приедешь именно ты.
— Как она могла знать?!
— Глафира Миновна много чего знала… — Антип нахмурился. — Нам будет очень ее не хватать.
На том разговор и закончился. Глеб вернулся на свое место и снова поймал волчий взгляд Виктора. Злобный тип…
«Виктор… Почему Антип произнес это имя на французский манер — с ударением на последнем слоге? — подумал Глеб. — Странно… Оговориться он не мог, это точно. А ведь этот хмырь, несмотря на свою эспаньолку, совсем не тянет на современного рокера или панка, который коверкает свое имя. Ему чересчур много лет. Еще одна загадка…»
Но на этом неожиданности не закончились. Едва Глеб сел, как раздался топот копыт и на Поляну влетел белый конь. На нем сидела настоящая красотка, в которой Глеб узнал свое ночное видение. Эффектно подняв жеребца на дыбы (наверное, это у нее было фирменное приветствие), девушка легко соскользнула на землю и, похлопав его по крупу, отправила коня пастись.
Глеб успел подметить, что на жеребце не было ни седла, ни уздечки с удилами. Девушка управляла им с помощью веревки, накинутой на шею. Тихомирову-младшему был известен такой способ обращения с лошадьми, но для этого требовались длительные тренировки. Похоже, у взбалмошной красотки времени было хоть отбавляй.
Теперь она была одета, так сказать «по чину». Вот только в ее одеянии не было почти ничего русского, за исключением головного убора. Но невысокий кокошник девушки украшал не бисер, а дорогой жемчуг, а на шее у нее висело брильянтовое колье огромной цены, судя по размерам камней.
Что касается платья, то на девушке их было два: нижнее — фрипон, и верхнее (распашное) — модест. Лиф платья на груди был зашнурован, а вырез — каре — обшит кружевами. Узкий, длиной до локтя, рукав украшали кружева. На шею у девушки была повязана легкая шелковая косынка с золотым шитьем. Верхнее платье тоже украшала вышивка. Вся одежда девушки была выдержана в основном в светло-розовых тонах, и только изящные туфельки с пряжками, украшенными жемчугом, были белыми. Насколько Глеб разбирался в этих вопросах, девушка была одета по моде восемнадцатого века.
Едва она появилась на Поляне, как все собравшиеся на поминки дружно встали. Глеб и Жук невольно последовали их примеру.
Девушка подошла со своей обычной (как понял Глеб) светлой улыбкой и грациозно присела во главе «стола» на заботливо подложенную подушку-думку. Наверное, это мягкое сидение держали специально для нее. Ей поднесли не чашу, а старинный серебряный кубок (у Глеба сердце екнуло — какой ценный раритет! как минимум, начало девятнадцатого века), она выпила его до дна и начала не есть, а клевать пищу, как птичка, — мелкими кусочками и не торопясь.
При этом ее взгляд (оказалось, что глаза у девушки ярко-голубые, как летнее небо) быстро перебегал от одного человека к другому. Лицо девушки было потрясающе красиво — голубые глаза, смуглая упругая кожа без единого изъяна и черные, как смоль, прямые волосы. «Ей только в рекламе сниматься, — подумал восхищенный Глеб. — За год она озолотилась бы…»
Будто подслушав мысли Тихомирова-младшего, девушка вдруг на какое-то мгновение перестала улыбаться и посмотрела в его сторону. Глеб обомлел. Ему вдруг показалось, что он бросился с высокой скалы в воду и теперь летит с замирающим сердцем и гадает, что там внизу — чистое, глубокое дно или камни.
Наваждение минуло быстро. Девушка снова заулыбалась и ее блуждающий взгляд ушел в сторону. И только тогда Глеб услышал учащенное дыхание Жука.
— Чтоб я сдох! — прошептал потрясенный Жук. — Вот это краля… Теперь я могу понять, почему некоторые мужики, даже самые козырные и крутые, теряют голову и совершают разные глупости из-за женщин. Гад буду, если сейчас она прикажет мне прыгнуть в пропасть ради ее одного единственного поцелуя, я это сделаю.
— Тихо! — прошипел Глеб. — Не забывай, что ты на поминках.
Неожиданно он понял, что ревнует Жука к этой красотке. С ума сойти! Только этого и не хватало в данной ситуации.
«Нет, это просто какой-то алкогольный бред! — подумал Глеб. — Все, пить достаточно. Винцо-то приятное на вкус, но шибко забористое. Иначе дойдет до того, что мы с Жуком будем драться из-за нее на дуэли. А ведь не исключено, что в деревне есть и другие воздыхатели и ценители ее красоты. Тогда ко мне выстроится очередь — вслед за Жуком. Боюсь, не сдюжу. Интересно, кто она? Почему к ней такое почтительное отношение?»
Девушка недолго задержалась на поминках. Не прощаясь, она встала, отошла немного в сторонку, и тут же появился конь. Он словно повиновался ее мысленным приказам. Незнакомка буквально взлетела на него. Конь встал на дыбы, при этом девушка прильнула к его шее, и умчался прочь. Казалось, что он создал вокруг себя вихрь, потому что откуда-то прилетел ветер и верхушки деревьев закачались, роняя на землю начавшую желтеть листву.
После того, как она уехала, поминающие спустя какое-то время все дружно встали и один за одним по тропинке направились куда-то за деревню, в сторону леса. Когда Глеб с Жуком хотели последовать за ними, Антип встал у них на пути и строго сказал:
— Вам туда нельзя.
— Почему? — тупо спросил Глеб, который все еще был под впечатлением появления странной девушки.
— Потому. Нельзя — и все тут. Оставайтесь здесь, пейте, ешьте сколько душа пожелает. Можете в реке искупаться — вода еще теплая.
— Как скажете… — пожал Глеб плечами; а потом неожиданно даже для себя самого спросил: — А кто та девушка, что ездит на белом коне?
Его слова словно обожгли Антипа. Он резко отшатнулся от Глеба, нахмурился и грубо ответил:
— Придет время — сам у нее спросишь, кто она.
Круто обернувшись, Антип поспешил за односельчанами, которые уже ушли довольно далеко.
— Что, девка в душу запала? — насмешливо спросил Жук.
— А тебе разве нет?
— Да-а, мечта… Не скрываю. Но думаю, что нам в этом вопросе ничего не светит. Эта красотка как сахар в стеклянной банке. Полизать стекло можно, — то есть помечтать, — но слаще во рту все равно не станет. Похоже, она тут вроде святой. Или ведьмы — поди знай. Но то, что ее побаиваются — факт. Ты заметил?
— В общем… да, — не очень охотно ответил Глеб. — Согласен с тобой.
— У меня есть идея.
— Звони…
— Давай прихватим с собой братину и спустимся к реке. Посидим, погутарим… Не будем мешать бабулькам… — Жук покосился на двух уже знакомых им женщин преклонных лет, оставленных Антипом для уборки.
Похоже, в деревне была своя иерархическая система, и эти две тетки стояли на самой нижней ступени сословной лестницы.
— Здравая мысль, — понял его Глеб. — Поддерживаю.
Наверное, место, где они уединились, и было предназначено для посиделок. На широкой песчаной отмели лежали два окоренных бревна, а посредине между ними, опираясь на корневища, стоял толстенный дубовый пень с ровным срезом, принесенный, судя по его виду, весенним паводком.
— А вот и стол! — весело сказал Жук и поставил на пенек полную братину. — Будто для нас приготовлен.
— Держи. Закуска… — всучил ему Глеб большое краснобокое яблоко.
Они сели на бревна друг против друга, разлили вино по кружкам и выпили «во здравие», как сказал Жук. Здравница не относилась к кому-то конкретно. Просто к этому располагала окружающая приятелей красивая природа, приятная прохлада на удивление чистой реки и солнце, которое уже не жгло по-летнему, а обогревало, лаская своими лучами вместе с легким ветерком кожу на открытых участках тела.
— Они что, сектанты? — спросил Жук, поставив пустую чашу на пенек.
— Похоже на то, — ответил Глеб.
— И что у них за вера?
— Понятия не имею. Надо было спросить у бати, может, он знает, но я не догадался.
— Да-а, история… Я слышал, что в лесах появились секты, которые практикуют человеческие жертвоприношения.
— Боишься, что тебя, как приснопамятного капитана Кука, тюк топориком по темечку — и на костер?
— Тебе смешно, а у меня второй день почему-то волосы ни с того, ни с сего дыбом встают. Странное место…
— Обычное. Глушь, русская глубинка. А вот люди — да, странные. И то только потому, что они не приемлют цивилизацию.
— Ладно, пусть так. Хрен с ней, с этой цивилизацией. Мы тоже ее не видим по полгода, и ничего. Ты лучше скажи мне — здесь есть что-нибудь по нашей части?
— Отец утверждал, что есть. А я ему верю. Так что давай еще денек отдохнем и и потом пойдем в поиск. Но перед этим нужно поспрашивать Антипа. Может, он что подскажет.
— Как же, подскажет… Боюсь, если мы заикнемся о наших намерениях, нас отсюда немедленно выпрут.
— И то верно. Не исключено, что так оно и будет. Но у меня есть солидный козырь…
Договорить Глеб не успел. В кустарнике, который рос на берегу, раздался треск сухих веток, и на отмель вышел мужчина, в котором Глеб узнал… Виктора!
— Не помешаю честной компании? — насмешливо спросил Виктор и, не спрашивая разрешения, уселся рядом с Жуком.
Глеб промолчал. Он был огорошен и не знал, как себя вести с этим человеком. За него ответил захмелевший Жук, которому в таком состоянии было море до колен:
— Конечно, помешаете. Но куда вас девать? Сидите, коли пришли. Вот только тары лишней у нас нет. А то и винца налили бы…
— Это не проблема, — ухмыльнулся Виктор и жестом фокусника достал, как бы из воздуха, небольшую чашу с медным ободком.
Жук и Виктор выпили, а Глеб даже не притронулся к своей кружке. Ему очень хотелось подняться и зацедить в зубы этому наглому негодяю. Наверное, Виктор что-то прочитал на лице Глеба, потому как вдруг стал серьезным и спросил:
— Ву мё самбле дэ-примэ?[61]
— Нон, ту ва бьен[62], — машинально ответил Глеб.
И тут же захлопнул рот. Виктор спрашивал на французском языке! И он ответил тоже по-французски! Откуда этот бандит-сектант знает иностранный язык?! И потом, почему Виктор уверен, что Глеб поймет его?
В свое время под нажимом отца Глебу пришлось выучить латынь и древнегреческий, в институте он усовершенствовал свой английский язык, а французский освоил, когда полгода жил в Париже, обучаясь у известного эксперта по древностям, доброго приятеля отца, тонкостям его профессии.
— Нам нужно поговорить без посторонних, — между тем продолжал Виктор и по-прежнему на французском.
— О чем?
— У нас есть общая тема, уж поверьте мне.
— Ладно. Договорились. Где и когда?
— Сегодня. Вечером. Приходите на это место, когда над горизонтом появится луна.
— А вы меня ножичком…
— Не говорите чепухи. Мы с вами не враги. А то, что случилось в вашем городе… это была большая глупость с моей стороны. Просто я потерял голову.
— Э-эй, мужики! Стоп! Аут! — вмешался Жук, который совсем обалдел от того, что Глеб и Виктор разговаривают на незнакомом ему языке. — Вы чё, в натуре, меня за пень держите?! Хотите побазлать, гутарьте на нашем, родном. А то как-то не очень красиво получается. Все-таки компания…
— Извините, уважаемый… — Виктор встал. — Я вас уже покидаю. Не буду вам мешать. Позвольте откланяться… — Он церемонно поклонился, при этом его глаза насмешливо блеснули.
Глеб несколько заторможенно кивнул в ответ, все еще не в состоянии переварить услышанное. Виктор ушел. Жук сначала с негодованием воззрился на Глеба, а затем с обидой сказал:
— Ну ты и темнила… У тебя тут, оказывается, кореша имеются. А говорил — впервые здесь, впервые… Брехло!
— Плесни, — указал Глеб на свою кружку; Жук молча исполнил его просьбу. — Я сказал тебе правду. Но пока я и сам ничего не могу понять…
Глеб выпил вино одним духом, хотя кружка вмещала едва не пол-литра. Выпил и закурил. Жук последовал его примеру. Он неотрывно следил за лицом Глеба, будто мог прочитать на нем потаенные мысли приятеля, а в его коричневато-желтых тигриных глазах таилась хищная настороженность.
Глава 14
Педрилло оказался человеком слова. Возможно, Остерман и сопротивлялся внутренне, не хотел приглашать Сен-Жермена на воскресную ассамблею в своем дворце, но отказать любимому шуту Анны Иоанновны не мог. Все знали, что Педрилло, при всей своей угодливой любезности и беззаботности, обид не прощал никому. Над ним можно было смеяться и подшучивать сколько угодно, когда он выкидывал свои штуки, но оскорблять шута в личном плане могли позволить себе немногие, притом лишь обиженные умом.
Остерман к этому разряду не относился. Каждый его шаг на минном поле российской политики был тщательно выверен, иначе он никогда бы не достиг тех высот, на которых ныне пребывал. В 1730 году, после смерти Петра II, Остерман хитроумно уклонился от подписания «кондиций», благодаря которым правящая элита хотела ограничить власть Анны Иоанновны, чем завоевал ее симпатии, и, получив титул графа, фактически стал руководителем внутренней и внешней политики империи.
Новый дом Остермана (больше похожий на дворец), построенный в 1732 году, находился в районе Нижней набережной[63]. Раньше там был участок с каменными палатами, принадлежавший князю Меншикову. После его опалы княжеские дворы были пожалованы вице-канцлеру Остерману.
Сен-Жермена ждал весьма прохладный прием, но граф и виду не подал, что это его задевает. Люди у Остермана собрались известные, родовитые, в чинах и званиях, поэтому на французика, пусть и графа, посматривали несколько отчужденно. Только Лесток, лейб-медик принцессы Елизаветы, при виде Сен-Жермена засуетился, задергал короткими ножками на высоком креслице, чтобы побыстрее соскочить с него и поприветствовать графа. Из всех собравшихся, пожалуй, лишь он один знал (а точнее, догадывался) насколько велико влияние Сен-Жермена на высший свет Западной Европы.
Ассамблея шла своим чередом: сначала, пока все не собрались, играл итальянский оркестр, затем гости посмотрели какую-то совершенно бессмысленную пьеску неизвестного Сен-Жермену французского драматурга, потом пригласили за стол и добрый час все предавались чревоугодию (женщины пили чай, кофе, ели разные сладости, мед, варенья, а мужчины забавлялись добрым вином), затем снова заиграл оркестр и начались танцы, и только после всего этого господа и дамы разбрелись кто куда, разбившись на компании по интересам.
Женщины сбились в тесные группки, чтобы вволю посплетничать и обсудить новые веяния французской моды, которая постепенно вытесняла голландскую и немецкую. Кроме того, им не терпелось поделиться впечатлениями о гастролях театральной труппы немецкой актрисы Каролины Нейбер, которая недавно прибыла в Петербург.
Что касается мужчин, то часть из них уединилась в курительной комнате, где им предложили вино, превосходный голландский табак, курительные трубки, а также экзотическую новинку, недавно привезенную купцами из Турции — кальян и наргиле[64]. Другие представители сильного пола начали играть в бильярд, который с легкой руки царя Петра Алексеевича прижился в России. Но Сен-Жермена больше интересовали карты, и он вслед за Лестоком прошел в симпатичную комнату на втором этаже дворца — ломберную, откуда открывался великолепный вид на Неву.
Играли в «фараон» за красивым ломберным столом, затянутым узорчатым газом-марабу — шелковой тканью золотистого цвета — и обитым золотым позументом. Ставки были мизерными. И Сен-Жермен понимал, почему. Все боялись выиграть у Остермана, а терять крупные суммы не хотелось никому.
Лишь один Лесток рисковал, так как у него была сильная и независимая от Остермана покровительница — Елизавета Петровна. Из-за большого желания выиграть жадный до денег лейб-медик пыхтел, а его лоб покрывался от волнения крупными каплями пота, но карта ему не шла, и он лишь трагически закатывал глаза и что-то шептал — возможно, обычные заклинания заядлых картежников, отличавшихся большой склонностью к суевериям.
Сен-Жермен пока наблюдал. Он был превосходным игроком. Мало того, граф знал много шулерских приемов и умел отводить глаза. Этому делу в качестве благодарности его научила одна цыганка еще в детстве. Она была по уши влюблена в конюха князя Ракоци, отца Сен-Жермена, а мальчик служил влюбленным в качестве почтальона, вернее, говорящего письма, так как возлюбленные были неграмотными.
Наконец пришел черед и Сен-Жермена. Когда проигравшийся вдрызг Лесток с жалобными стенаниями вылез из-за стола, граф решительно занял его место. Остерман посмотрел на него с острым недоверием, но играть не отказался. Наверное, потому, что ему все же удалось, при всем том, выиграть у своих гостей немногим более двух тысяч рублей — по тем временам большие деньги. Но для собравшихся на ассамблею это были сущие гроши.
— И какой же вы, граф, предложите начальный куш[65]? — снисходительно спросил Остерман.
Его снисходительность была понятна Сен-Жермену. В разговоре с Педрилло он несколько раз посетовал, что в карты играет скверно, но ради знакомства с высшим светом Петербурга, и в частности с самим Андреем Ивановичем Остерманом, готов пойти на любые жертвы. Поверил шут в искренность графа или нет — не суть важно. Главное заключалось в другом — похоже, Педрилло все-таки нашептал на ухо первого кабинет-министра нужную дезинформацию.
— Ваше сиятельство, я не очень силен в карточной игре, — скромно ответил Сен-Жермен. — Поэтому, если вы не возражаете, я остановился бы на тысяче рублей.
Остерману показалось, что он ослышался.
— Простите — сколько?! — спросил он, повернув правое ухо в сторону графа.
— Тысяча рублей. Золотом.
Казалось, что в комнате все мгновенно умерли. В ней воцарилась такая мертвая тишина, что было слышно как плещется вода в Неве. Первым пришел в себя Лесток. Он тихо ахнул и не сел, а почти упал в кресло, потому что ему отказали ноги.
— Что ж, у меня возражений нет, — любезно улыбаясь, ответил Остерман.
А сам внутренне обеспокоился и насторожился. Он уже успел кое-что разведать о Сен-Жермене и знал, что в отсутствии ума графа никак нельзя было заподозрить. Возможно, он слишком азартен… это бывает. И все же такой начальный куш мог поставить разве что граф Левенвольде, известный картежник и мот, да шут Педрилло, который каким-то непонятным образом ухитрялся играть на деньги Анны Иоанновны.
— Банкира[66]определим жребием? — спросил первый кабинет-министр нарочито небрежным тоном.
— Ваше сиятельство, вы хозяин дома, вам, как говорится, и карты в руки. Я буду понтером[67].
Остерман с облегчением вздохнул. У банкомета всегда больше возможностей не остаться внакладе.
Остерман попросил извинения и вышел на несколько минут по каким-то своим делам, и Сен-Жермен от нечего делать начал с интересом рассматривать карты своей колоды. Их насчитывалось пятьдесят две штуки. Они были изготовлены во Франции, но таких мастерски выполненных изображений на картах и таких сюжетов графу видеть еще не доводилось.
Червовую масть возглавлял Карл Великий, король франков, пиковую — древнееврейский царь Давид. Юлию Цезарю и Александру Македонскому были отданы бубновая и трефовая масти. Дамой червей выступала героиня библейской легенды Юдифь, а пиковой дамой — греческая богиня мудрости и войны Афина Паллада. Даме бубен неизвестный художник придали черты Рахили, героини библейской легенды о жизни Иакова. Кто был изображен в образе дамы треф, Сен-Жермен не понял. Скорее всего, это была одна из фавориток французского короля Людовика XV. В образе червового валета был запечатлен Этьен де Виньель, рыцарь времен Карла VII; пикового валета представлял благородный Ожье Датский; один из рыцарей Круглого стола, Гектор де Маре, стал бубновым валетом; и наконец, в валете треф граф узнал самого сэра Ланселота, главного рыцаря Круглого стола.
Когда Остерман возвратился, началась игра. Сен-Жермен поначалу был спокоен, но когда ему не пошла карта (чему он тайно поспособствовал; собственно говоря, ради этого граф и разглядывал свои карты, незаметно от окружающих ставя на них ногтем невидимые метки), то стал сильно волноваться и суетиться. В общем, он вел себя, как и должен был вести неудачливый игрок, проигрывающий большие суммы.
Граф настолько достоверно изображал азартного человека, для которого карточная игра является смыслом жизни, что собравшиеся вокруг ломберного стола зеваки даже начали ему сочувствовать. Но для Сен-Жермена было главным, чтобы в его игру поверил Остерман. А первый кабинет-министр поначалу был во власти подозрений, хотя и не мог понять, в чем они заключаются.
Игра закончилась, когда Остерман немного охрипшим от радости голосом воскликнул «Плие![68]». Граф достал носовой платок, вытер лицо и устало откинулся на спинку кресла.
— Ваше сиятельство, я пас, — сказал он сокрушенно. — Вам удивительно везет. Что ж, сегодня своенравная Фортуна не на моей стороне. Но в будущем я все же надеюсь на ее милости.
— Да, да, надеяться нужно… — рассеянно ответил Остерман, быстро подсчитывая в уме, сколько ему задолжал граф.
Но Сен-Жермен опередил первого кабинет-министра.
— Я должен вам тридцать тысяч, — сказал он, посмотрев на свои записи.
Собравшиеся тихо ахнули. Такие суммы не проигрывал даже граф Левенвольде. Что касается Остермана, то он почувствовал себя на седьмом небе от счастья. Для содержания семьи ему постоянно не хватало денег, — хорошо, матушка-императрица иногда подбрасывала — поэтому столь крупный выигрыш был очень кстати.
Постепенно все разошлись, и Сан-Жермен остался наедине с Остерманом. Первый кабинет-министр давно догадался, что у графа есть к нему какое-то дело. Поначалу он хотел избежать объяснений, но под впечатлением такого знатного выигрыша сухая и прагматичная душа Остермана размягчилась, и он решил по возможности помочь графу, чтобы хоть как-то подсластить тому горечь от потери крупной суммы денег.
— Ваше сиятельство, я могу обратиться к вам с нижайшей просьбой? — спросил Сен-Жермен, который понял, что Остерман раскусил его замысел.
Правда, граф надеялся, что Остерман не заметил подвоха, когда он откровенно жульничал с картами…
— Ради бога, граф, какие проблемы? Я весь внимание.
— В данный момент я живу в герберге Петера Милле, — начал объясняться граф, хотя прекрасно знал, что Остерману это хорошо известно. — Жить в гостинице неуютно, неудобно и, если уж совсем откровенно, мне совсем не по чину. Там просто негде разместить моих слуг. Мне хотелось бы арендовать в Петербурге дом.
— Какие пустяки! — обрадовался Остерман. — Этот вопрос мы можем решить уже завтра. У вас есть что-нибудь на примете?
— Да, конечно. Дом казненного князя Сергея Долгорукова на Мойке. Он пустует и, насколько мне известно, только сама императрица и вы можете распорядиться его судьбой.
Остерман мгновенно поскучнел. В раздумье пожевав губами, — ему очень не хотелось отказывать графу — первый кабинет-министр ответил:
— Дом, конечно, хорош… Но он пока принадлежит семье князя. Государыня Анна Иоанновна еще не утвердила указ на проскрипцию, в котором проговариваются условия конфискации имущества князя Сергея Долгорукова. Правда, Долгоруковы в данный момент удалены из Петербурга…
— Тогда я буду платить за аренду не в казну, а наследникам князя. Это не суть важно. Как вы скажете, так и будет.
— Ладно, я подумаю. Дайте мне два дня. Но с этим домом связаны разные слухи…
— Какие именно?
— Говорят, что там поселилось привидение… — Остерман нагнулся к графу и уже шепотом уточнил: — Привидение казненного князя Сергея.
— Святая пятница! — Сен-Жермен рассмеялся. — Я так много путешествовал по разным странам, так много наслушался баек о разных суевериях, что неплохо бы лицезреть хоть одно. Буду вам весьма признателен за протекцию в этом вопросе.
Остерман, глядя на симпатичное и вообще приятное во всех отношениях лицо графа, тоже заулыбался. «Какой интересный и умный собеседник… — подумал первый кабинет-министр совершенно искренне. — Жаль, что он не русский подданный. Может все-таки попытаться привлечь его на дипломатическую службу? Даже если граф — шпион Людовика XV, с этой ситуацией можно было бы сотворить оригинальный кунштюк[69]. Дезинформация — один из главных столпов дипломатии…»
На том они и расстались. Спустя неделю — Остерман все-таки не отказал себе в удовольствии поводить рыбу, которая села на крючок, — к графу прибыл курьер, молодой подпоручик, и вручил ему ключи и охранную грамоту на временное владение домом князя Сергея Долгорукова с выплатой в казну соответствующих сумм. (Нужно отметить, что цена аренды была вполне сносной, если не сказать — мизерной. «Все-таки взятка, даже в такой завуалированной форме, как проигрыш в карты, — весело подумал Сен-Жермен, — большое подспорье во всех делах».) Но и здесь ловкий царедворец Остерман оказался верен себе — грамота была подписана не им, а императрицей. На всякий случай…
Переезд на новое место жительства много времени не занял. Теперь вместе с графом могли проживать и слуги, рассеянные по всему Петербургу, так как в герберге места было мало. Пришлось и Фанфану оставить полюбившуюся ему «Австерию», где он был свободен, как ветер.
Дом графу понравился. Он представлял собой городскую усадьбу в классическом стиле. Дом был просторным, двухэтажным, с монументальным шестиколонным ионическим портиком, боковыми корпусами и парадным двором, окруженным службами. Внутри он оказался немного мрачноватым, потому что узкие английские окна пропускали мало света, планировка залов и спальных помещений не отличалась гармонией, а камины и печки дымили даже с хорошо прочищенными трубами. Скорее всего, виной плохой тяги была частые туманы над Невой и то, что в доме давно не топили.
И тем не менее, при всей своей запущенности интерьер и отделка помещений поражали дороговизной и изысканностью. Многочисленные колонны были выполнены из разнообразного цветного мрамора, двери покрывала золоченая резьба, на потолке присутствовала лепнина — в основном растительные орнаменты, большой зал на втором этаже был с узорчатыми паркетными полами из ореха и дуба. Его украшали зеркала в причудливых рамах, гобелен на всю стену, живописные панно и плафоны.
В архитектурном убранстве дома смешались разные стили: строго симметричная планировка и высокий сквозной вестибюль с аркадами, напоминающий палаццо и вызывающий ассоциации с Италией, и характерные элементы голландского стиля — раскрашенные кобальтом кафельные плитки, которыми были облицованы печи и камины.
Стены спальных помещений были в шпалерах Петербургской мануфактуры, созданной по указу Петра I. В одной из спален стены обтянули так называемыми «китайскими обоями», и ее занял телохранитель графа Ван. В доме вообще было много фарфора, шелка и других китайских товаров, что в те времена говорило о достатке, образованности, высоком положении в обществе и утонченном вкусе хозяев.
Что касается мебели, то она была выполнена в стиле «русский жакоб» — стулья и диваны с княжескими гербами на высоких спинках, столы на золоченых ножках. Для ее изготовления кроме красного дерева использовали еще и карельскую березу, отделанную вместо бронзы резной позолотой, которая подчеркивала теплый золотистый природный тон и муаровый рисунок текстуры.
На прилегающей к дворцу территории был разбит сад. Его украшали скульптуры, фонтан и два темных грота. Со стороны Невы перед домом была устроена пристань — для того чтобы малые суда могли причаливать прямо перед парадным подъездом. При усадьбе имелась конюшня и каретный сарай, что особенно импонировало графу; для него всегда держали наготове экипаж, чтобы Сен-Жермен мог выехать по своим делам в любое время дня и ночи.
Граф уже знал, что семья Долгоруковых не любила Петербург и предпочитала Москву. Наверное, по этой причине дом и выглядел несколько запущенным. Однако графу также стало известно, что последние недели и дни перед арестом Сергей Долгоруков провел именно в этом доме. Завербованный одним из агентов графа фискал канцелярии тайных розыскных дел, следивший за князем, поведал, что его команде был дан приказ не упустить момент, когда их подопечный попытается тайно вывезти из дома свои сокровища.
Но Долгоруков был далеко не глуп. Опытный дипломат, он почувствовал что-то неладное и затаился. Возможно, князь и намеревался перепрятать фамильные драгоценности в другое место, да вовремя заметил слежку. Так что Сен-Жермен питал большие надежды, что Десница Господняя по-прежнему находится в доме.
Фанфана определили в небольшую угловую комнатку на первом этаже, похожую на монашескую келью и размерами, и аскетическим убранством. Собственно говоря, весь первый этаж был жилым, в отличие от второго, предназначенного для приема гостей и увеселений. На втором этаже находился лишь кабинет, а также личные покои Сен-Жермена.
В стенах арендованного дома Фанфану мгновенно стало скучно. То ли дело в «Австерии»… Мальчик уже на второй день затосковал по утерянной свободе и волком смотрел на новых слуг графа, как на личных врагов, — теперь они исполняли те поручения, которые раньше Сен-Жермен доверял Фанфану.
А слуг и впрямь сильно прибавилось. И все были молодцы как на подбор — рослые, мускулистые. Подросток, немало повидавший на своем не очень длинном веку, мог побиться об заклад, что новые слуги графа — это солдаты-наемники, собранные со всей Европы. Они отлично владели оружием и каждый день упражнялись в фехтовании, уединившись за высоким забором сада.
И все же в этих наемниках было нечто такое, что не характерно для солдат удачи. Практически все они разумели грамоте, многие из них неплохо владели русским языком, а грубые солдатские манеры, к которым Фанфан привык в свою бытность в Бурбонском полку, им вообще не были присущи. Скорее, новые слуги графа напоминали обедневших дворян, нанявшихся на действительную службу к своему сюзерену.
Конечно, Фанфан мог попытаться расспросить их, кто они и откуда, и даже имел на это право как доверенное лицо милорда, но, пробыв почти три месяца в услужении у Сен-Жермена, он быстро смекнул, что граф больше всего ценит в слугах исполнительность и привычку поменьше болтать. Поэтому временно бездельничавший Фанфан переключил свое внимание на сторожа-дворника княжеского дома. Его оставили присматривать за имуществом и вооружили флотским мушкетоном с кремневым замком, чем Онфим (так звали сторожа, который с малых лет был слугой Долгоруковых) очень гордился.
— Да-а, хаживали мы с Петром Лексеичем, инператором нашим, хаживали… — Онфим, раскрасневшийся от выпитого вина, которое Фанфан для такого случая и по старой привычке стянул с винного погреба графа, приосанился. — Помню, под Выборгом…
Фанфан жадно внимал байкам старого петровского солдата. Он уже научился отличать вымысел от правды, поэтому его нимало не смущал тот факт, что Онфима иногда заносило и он сплетал целые истории, не имеющие мало общего с реальными событиями. Мальчик выбирал из них разнообразные факты из жизни простого русского народа, как петух из навозной кучи съедобные зернышки.
До знакомства с Онфимом ему в основном приходилось общаться с разной кабацкой пьянью или с агентами графа, которые не отличались словоохотливостью, и Руссия была для него до сих пор сплошной загадкой. Поэтому старый солдат оказался для Фанфана кладезем премудрости и энциклопедией по быту и нравам московитов.
— …А Ляксандр Данилыч наш, светлейший князь Меншиков, как рубанет его шпагой — и пришел тому швенскому полковнику полный карачун! Самого Шлиппенбаха в плен взяли!
Переполненный ностальгическими чувствами, Онфим плеснул себе в кружку вина, выпил до дна и загрыз луковицей.
— Зря Ляксандра Данилыча осудили на ссылку, ох зря, — продолжил он уже тише, словно опасаясь, что кто-то подслушает. — Энто был человечище… Правая рука Петра Лексеича. Ан, нет, кому-то из энтих… — Онфим ткнул пальцем в закопченный потолок своего жилища, — не потрафил. А таперича што?
Он умолк, собираясь с мыслями. На его раскрасневшемся лице появилась целая гамма разнообразных чувств — от гнева до растерянности и легкой грусти.
— Говорят, в доме есть привидение… — воспользовавшись паузой, Фанфан ловко ввернул свое.
О привидении он впервые услышал от Густава, а тому сказал сам граф. Возможно, Сен-Жермен таким образом перестраховался, чтобы не потерять ценного слугу, — несмотря на богатырскую стать и храбрость, проявленную в разных переделках, Густав был очень суеверен. Он запросто мог до полусмерти испугаться летучей мыши в сумерках; а что случится, если вдруг и впрямь появится привидение, можно было только гадать. Не исключено, что у Густава может разорваться сердце от ужаса.
Конечно, Фанфан опасался привидений, как и любой христианин. Но не более того. Что может сделать человеку дурного бесплотный дух? Разве что напугать. Фанфан вообще мало верил в разную чертовщину. Многие обитатели парижского «дна», похожего на ад, где мальчику довелось обретаться некоторое время, были страшнее и кровожаднее самого дьявола. Поэтому Фанфан относился к россказням на мистические темы философски. И тем не менее, рассказ напуганного Густава вызвал в нем очередной приступ мальчишеского любопытства.
— Скажу тебе честно, барин — да, есть. Сам видел. Вот те крест! — старик перекрестился.
Онфим называл Фанфана барином из-за его чистой и добротной одежды иностранного покроя. Особенно Онфима смущали латунные пуговицы на сюртуке мальчика, который напоминал ему воинский мундир. А ко всему военному отставной служака относился с пиететом.
— Неужто и впрямь князь превратился в призрака? — невольно содрогнувшись, спросил Фанфан.
— Насчет убиенного князя Сергея Григорьевича — царствие ему небесное! — все враки. Душа его несчастная упокоилась в бозе. Энто точно. А я скажу… но токи молчок! никому!.. што видел не мужчину, а девицу. Как-то ночью вышел в сад… ну там нужду справить, свежим воздухом подышать… а как раз было полнолуние. Луна вот такая… — Онфим широко раскинул руки. — Как медный солдатский котел, начищенный до блеска. Присел я на скамью, трубку закурил, сижу, мечтаю… так, глупости разные… И тут у меня вдруг мороз по коже! Русалка! А может, што другое, но точно не от мира сего. Вся в белом, прозрачная и светится. Я так и обмер. Ни рукой двинуть не могу, ни слова молвить. А она проплыла по соседней дорожке, едва касаясь ногами земли, и возле грота растаяла. Две ночи потом не спал, дверь сторожки на все засовы закрыл, свечу перед иконой поставил. Обошлось… — Онфим перекрестился. — Бог спас.
— Давно это было? — спросил Фанфан.
— Весной, в конце мая.
— И больше это привидение вы не видели?
— Упаси Бог! — Онфим в который раз перекрестился, хотя особой набожности Фанфан за ним не замечал. — Я ить портки тады едва не намочил.
— Наверное, его здесь больше нет, — чтобы успокоить разыгравшееся воображение, не очень уверенно сказал Фанфан. — Что ему тут делать? Почти все комнаты теперь стали жилыми, а привидения, как мне сказывали, озоруют в пустых домах.
— Здесь оно, точно тебе говорю, барин! — с горячностью ответил Онфим. — Как луна полная выползет на небо, так и жди гостью. Я энто нутром чую. В такие ночи я наглухо закрываю ставни, и пусть воры или разбойники хоть все из дома вынесут, но во двор я не выйду.
— Смерти боитесь? — Фанфан доброжелательно улыбнулся.
— Нет, смерти не страшно. Я старый солдат, мы с ней под ручку скока лет вместе хаживали. И ничего, Бог миловал. А боюсь, што она душу мою бессмертную заберет, и тады мне к моим боевым друзьям-товарищам до самого Страшного суда не добраться. Свидеться с ними хоцца, и чем старше становлюсь, тем сильнее энто желание.
— Тогда понятно…
Фанфан возвратился в свою келью, когда начало темнеть. Онфиму очень хотелось оставить «барина» до утра, — белые ночи уже ушли и наступило полнолуние — но мальчик был не в силах терпеть луковичный дух, который выдыхал Онфим, точно как сказочный дракон горючую смесь. А его просьбу открыть окно, чтобы проветрить, сторож проигнорировал, притворившись, что не расслышал.
Похоже, привидение и впрямь напугало старого солдата до потери портков. «Впрочем, не исключено, — думал Фанфан, — что оно почудилось ему под впечатлением выпитого штофа[70]казенной водки. Она помогала ему коротать время и смягчала тоску по казненному князю Сергею, с которым Онфим в свое время проехал пол-Европы».
Мебель в комнате Фанфана не поражала изысками: прочная железная кровать, возле нее тумбочка с подсвечником, простой деревянный стол под окном (правда, с точеными ножками), два стула и вешалка у двери. На столе — кувшин с водой, в углу комнаты — медный таз; это все для утреннего омовения.
Наверное, прежде здесь жила горничная, потому что постель была розовая, в рюшечках, а на окнах висели плотные занавески с кружевами понизу. Стены были обтянуты голубыми полосатыми шпалерами, а на деревянном полу лежал изрядно вытертый войлочный коврик. Справа от двери находилась довольно примитивная печка, обитая медным листом.
Фанфану, по сравнению с его норой в «Австерии», комната показалась королевской опочивальней. Два окна давали так много света, что мальчик ясным днем все время щурился. А ночью, когда Фанфан зажигал восковую свечу и стены комнаты терялись в темноте, ему представлялось, что он парит высоко над землей, как ангел ночи, и вокруг нет никого и ничего, только он на кровати, как на ковре-самолете, тумбочка со свечой и безбрежные небеса.
Фанфан потушил свечу, сел к столу и задумался, глядя в окно. Воздух над Петербургом очистился до полной прозрачности — приближалась осень, и полная луна катилась по небу, как свежеиспеченный пшеничный колобок по скатерти, не встречая на пути ни одной кочки в виде тучек. Свет луны сделал сад за окном совершенно сказочным и каким-то нереальным. Он посеребрил каждый листик, каждую травинку, и казалось, что на землю неожиданно упал иней, хотя на самом деле было достаточно тепло.
Мальчик думал о мсье Винтере. Фанфан ждал, что он появится в Петербурге, но даже не мог предположить, что это появление будет столь эффектным. Винтер словно вырос из-под земли. Наверное, подумал тогда восхищенный и напуганный Фанфан, его хозяин и впрямь знается с самим дьяволом.
Сначала Фанфан решил, что они познакомились случайно. Просто на постоялый двор дядюшки Мало заглянул очередной иностранец (который, кстати, выдавал себя за бретонца; он даже разговаривал с сильным бретонским акцентом, что, конечно же, было лицедейством), и ему понадобилось послать кого-нибудь из слуг старого пирата купить какую-то мелочь в ближайшей лавке. Естественно, выбор пал на Фанфана, большого любителя глазеть на путешественников и толкаться у них под ногами.
Впрочем, это невинная страсть глупого мальчишки, как думал дядюшка Мало, на самом деле была тонко рассчитанным ходом в игре, которую давно вел папаша Гильотен. Пользуясь знанием нескольких иностранных языков, Фанфан подслушивал пьяную болтовню клиентов дядюшки Мало, которым и в голову не могло прийти, что слоняющийся неподалеку грум-оборванец запоминает нужные ему сведения из их разговора, как монах слова молитвы.
А затем на сцене появлялись разбойники Курта. Или за дело брался сам Трипо, если оно было чересчур деликатным, требовало тонкого подхода и чтобы о нем мало кто знал.
Винтер не показался Фанфану ценным объектом (в его кошельке бренчала в основном медь и немного мелкого серебра и своим видом он напоминал тощее вымя выдоенной козы), поэтому мальчик невольно расслабился. И когда Винтер неожиданно обратился по-немецки, Фанфан дал маху — он ответил ему целым предложением на саксонском диалекте.
Интересно, но Винтер совсем не удивился, лишь высоко поднял брови и демонстративно улыбнулся, но ничего не сказал. А бедный подросток умчался на конюшню, забился в самый темный угол и начал хлестать себя ладонями по щекам, пока из глаз не полились слезы; он сильно боялся, что иностранец доложит дядюшке Мало о неожиданных способностях «глупого» грума. Однако Винтер, казалось, утратил к нему интерес и спустя сутки съехал в гостиницу.
Фанфан целый месяц дрожал, словно заяц, боялся появляться в центральных районах Парижа — чтобы не встретиться нечаянно с Винтером. Ему почему-то показалось, что странный господин, затянутый во все черное, знает всю его подноготную. Гипнотизирующий взгляд темных глаз Винтера проник внутрь Фанфана и заглянул во все уголки его души. Под этим взглядом мальчик почувствовал себя голым и беззащитным. Он был уверен, что если этот господин надумает его убить, то ему ничто не поможет, даже верный испанский нож-наваха.
Но постепенно все страхи грума улетучились (юность! она быстро залечивает любые раны, в том числе и морального плана), и Фанфан успокоился. Он решил, что Винтер, скорее всего, какой-нибудь штукарь — один из тех, кто выступает на площадях и дурачит своими фокусами наивную публику. Фанфан знавал одного такого «мастера». Это был еще тот пройдоха.
В конечном итоге случилось то, что должно было случиться. Винтер появился перед Фанфаном ниоткуда; как позже оказалось, это был его стиль — появляться и исчезать внезапно, притом в любое время дня и ночи. Иногда он приходил на встречу с Фанфаном весь в дорожной пыли, с глазами, красными от бессонницы. Выслушав доклад мальчика по интересующей его проблеме, он передавал ему плату за услуги (это было обязательно) и спустя несколько минут уже мчался на резвом скакуне в сторону Пиреней или еще куда.
Винтер положил мальчику руку на плечо и доброжелательно сказал: «Ну что же, молодой человек, нам пора познакомиться поближе. Пойдем…» И Фанфан подчинился этому приказу, замаскированному под просьбу. Его душа рвалась прочь от странного господина, как птица из силков, но ноги сами, помимо воли грума, шли вслед за Винтером.
Они пришли в гостиницу, где был накрыт знатный стол, и Фанфан впервые в своей жизни вкусно и сытно отобедал в обществе дворянина (а Винтер, несомненно, был из нобилей[71]) как равный с равным. А потом Винтер предложил Фанфану работать на него. Все сомнения и опасения мальчика на сей счет Винтер рассеял немедленно, передав ему как аванс два серебряных наваррских экю[72].
Щедрость и доброжелательность странного господина сразили Фанфана наповал. И он, не колеблясь, дал согласие быть тайным агентом Винтера.
Не по годам умный и сообразительный, мальчик быстро смекнул, что Винтер принадлежит к какой-то могущественной организации. Однажды Фанфан, отбросив опасения, проследил за контактами Винтера в очередной его приезд в Париж и увидел, что Хозяин (теперь подросток называл его только так) встречался с самыми разными представителями парижского общества — от дворян и священников до городского отребья. И все обращались к нему с большим почтением.
Немного поразмыслив, Фанфан пришел к выводу, что в мире есть только одна организация, сила и могущество которой, а также огромное влияние на людей не вызывают сомнений, — Общество Иисуса[73]. И похоже, мсье Винтер был в нем не на последних ролях.
А еще он понял, что их встреча не была случайностью. Винтер умел подбирать тайных агентов. Но вот откуда он узнал о существовании грамотного грума-полиглота, это для Фанфана было секретом.
После этого открытия мальчик дал себе слово, что будет выполнять все распоряжения своего главного хозяина беспрекословно. Нужно отметить, что и Винтер высоко ценил Фанфана, который обладал острым умом, был грамотен и мог проникнуть куда угодно. А потому платил мальчику не скупясь…
Задумавшись, Фанфан сразу не понял, почему в дальнем гроте, который хорошо просматривался из окна, вдруг стало совсем светло. А когда он наконец присмотрелся, то у него глаза полезли на лоб. В грот вплывало привидение!
Откуда оно появилось, подросток не заметил. Он лишь констатировал своим сильно смущенным умом, что в руках привидения мерцает огонек, благодаря которому одежда просвечивалась насквозь, являя наблюдателю очертания точеной женской (нет, скорее девичьей) фигуры.
Привидение исчезло так же быстро, как и появилось. Фанфан сидел ни жив, ни мертв. Он не был сильно религиозным (хотя бы потому, что солдаты Бурбонского полка в основном верили в вино и языческие амулеты, оберегающие их на поле брани), редко ходил в церковь и никогда не был на исповеди (так наказал Винтер — чтобы Фанфан случайно не сболтнул лишнее), но ночное видение неожиданно затронуло в его душе какие-то потаенные струны.
Очнувшись от временного ступора, Фанфан в страхе упал на колени и, запинаясь почти на каждом слове, довольно бессвязно залопотал слова какой-то совсем не канонической молитвы, обращенной к Деве Марии.
Несмотря на всю свою грамотность, он даже «Отче Наш» знал через пень колоду, потому что терпеть не мог святош и их молитвы. Это во-первых. А во-вторых, редко пребывающий в состоянии полной трезвости капеллан Бурбонского полка, учивший Фанфана Закону Божьему при помощи палки, совершенно непринужденно мешал слова молитв и крепкие выражения, поэтому мальчик боялся что-нибудь перепутать и старался помалкивать (или просто мычать), когда дело доходило до пения псалмов.
Глава 15
Глеб едва дождался, пока уснет Жук. А тот все ворочался и ворочался, тихо жалуясь неизвестно кому на жесткую постель, из-за которой у него болят все ребра. Глеб лежал с открытыми глазами тихо, как мышь, и не отводил взгляд от прикрепленного над камином анка.
Увы, крест больше не светился. Возможно, в первую ночь у Глеба случился обман зрения, а может, причиной свечения была странная девица на белом коне. У нее оказалась настолько сильная энергетика, что Глеб ощущал ее в виде покалываний на поверхности кожи — словно в тело впивались мириады очень тонких игл.
Вспоминая облик девушки, он вдруг понял, что Жук прав — из-за нее и впрямь можно сойти с ума и наделать массу глупостей. Она сидела далеко от Глеба, и тем не менее флюиды потрясающей сексуальности, волнами исходившие от таинственной незнакомки, вмиг разбудили его чресла, и он устыдился своих скабрезных мыслей.
Наверное, и девушка что-то почувствовала. Уходя, она посмотрела на Глеба долгим пристальным взглядом, в котором он заметил острую заинтересованность. При этом ее прозрачные голубые глаза вдруг потемнели и сделались синими, цвета васильков. Странно, но Глеб выдержал этот взгляд совершенно спокойно, не отвел и не опустил глаза вниз, хотя и ощутил как НЕЧТО пытается забраться к нему в голову, чтобы прочитать его мысли.
«Надо бы познакомиться с ней поближе… — думал он, облизывая мгновенно пересохшие губы. — Использовать принцип петуха, который гонится за шустрой курочкой — может, и не догоню, но хоть согреюсь. Похоже, она или весьма необычный деревенский фетиш в живом виде, или обычная ведьма. Да, ведьма! Я, конечно, человек вполне цивилизованный и, вроде бы, не должен верить в разную чертовщину, но в жизни мне довелось повидать много чего такого, «что и не снилось великим мудрецам от науки» — если немного перефразировать Шекспира. Современный человек по своей сути — примитивное существо. Цивилизация надела ему шоры на все органы чувств; он не видит дальше окна своей квартиры, не слышит, как шепчутся деревья в сумраке ночи и тихо-тихо звенят на рассвете травы, напоенные росой, его обоняние не в состоянии разложить запах на сотни составляющих (хотя у него есть такие природные возможности), потому что эту способность у него отбила вонь горелой резины, выхлопных газов и разлагающихся отбросов на мусорных свалках… Итак, резюме: с этой дамочкой нужно держать ухо востро. Она, судя по всему, дитя природы, и мне с ней будет тяжело тягаться. Бди, парень! Ладно, все это мудрствования, не имеющие никакого отношения (по идее!) к настоящему моменту. Кто таков этот Виктор и что ему от меня нужно?..»
Наконец раздался храп Жука, и Глеб тихо выскользнул во двор. Одеваться ему не было нужды, так как и он, и Жук, не сговариваясь, легли спать в одежде — сказалась привычка «черных» археологов, въевшаяся в плоть и кровь. Им нередко приходится срываться среди ночи и улепетывать со всех ног — или от ментов, или от братков, больших любителей пощипать кладоискателей. А бежать в темноте и без порток, да еще в лесных зарослях, кайфом точно не покажется, особенно если по пути попадутся кусты шиповника или заросли чертополоха.
«Луна, — подумал с нервным смешком Глеб, — совсем офонарела». Она стала огромного размера и светила так ярко, что Глеб видел на дороге каждый камушек. Небо было удивительно чистым — ни одной завалящей тучки, которая могла бы послужить занавеской, спрятать ночное светило хоть на короткое время.
Он шел и невольно подгибал плечи — чтобы казаться поменьше и понезаметней, что было в принципе невозможно из-за лунного сияния. Ему чудилось, что в оконных глазницах уснувших изб светятся крохотные красные огоньки — словно за черными стеклами притаились вурдалаки, наблюдавшие за каждым шагом Глеба. Он невольно ускорил шаг, чувствуя, как по спине побежали мурашки.
«Этого еще не хватало! — злился Глеб. — Что с тобой, парень?! Надо же — испугался ночи. Да еще какой; луна вон полнеба заняла. Красота. Тишь да гладь и Божья благодать. Словно в раю. А ты празднуешь труса… как кисейная барышня. Будто первый раз попал в переплет. Тем более, что пока все идет тихо-мирно, без особого напряга и эксцессов. День, два — и ситуацию разрулим, будь спок. Похоже, завтра (пардон, уже сегодня), — Глеб посмотрел на свои наручные часы, — Антип введет меня в курс дела. Возможно, баба Глаша оставила завещание. Потому и отца позвала. Но до утра мне еще нужно перечирикать с Виктором. Странный тип… Чтобы не сказать больше. Сорвался, видите ли, человек, нервишки зашалили, и он слегка порезать ножичком односельчанина, с которым давно не ладит. Порезвился немного, какие дела. Бытовуха в чистом виде. Не-ет, дружище, здесь что-то не то…»
Виктор уже ждал. Он сидел на краю бревна, подперев кулаком подбородок, и неотрывно глядел на реку. Его темная сгорбившаяся фигура на фоне светлого плеса казалась изваянием лермонтовского демона. От Виктора и впрямь исходила какая-то мрачная сила, от которой шарахались даже комары; они зудели везде, но только не над бревнами.
— Вы заставляете себя ждать… — недовольно сказал Виктор, не оборачиваясь.
«Как он мог меня услышать?! — удивился Глеб. — Ведь я шел как индеец сиу на военной тропе — ни травинка не зашелестела, ни сухой сучок под ногами не треснул. По крайней мере, мне так кажется…»
— А вы куда-то торопитесь? — ответил Глеб вопросом на вопрос.
Он чувствовал себя не в своей тарелке. Этот человек вызывал в нем неприятные воспоминания и ассоциации, поэтому Глеб поневоле завелся. И, как ни странно, раскрепостился, стал держать себя свободней.
— Нет, но… — Виктор сменил позу и уставился на Глеба блестящими от непонятного возбуждения глазами.
— Согласен. Точность — вежливость королей. К сожалению, в моих жилах нет ни капли голубой королевской крови. Кроме того, я был буквально связан своим приятелем. Мне пришлось долго ждать, пока он уснет. И потом, я думаю, что не в моих и не в ваших интересах, чтобы о нашей встрече стало известно еще кому-нибудь. Но все равно я прошу пардону.
— Не берите в голову. Я люблю побрюзжать. Свойство характера… Что касается сохранения втайне нашей встречи, то тут вы здорово ошибаетесь. Жмань — не то место, где можно что-либо утаить.
— Коли так, то почему для разговора вы выбрали полночный час?
— А разве вас еще не посетила догадка? — в голосе Виктора послышались насмешливые нотки.
— Увы. Чужие мысли читать не могу.
— Неплохо бы… научиться читать чужие мысли, — Виктор с огорчением вздохнул. — А что касается полночного часа… Вы ведь человек грамотный, хорошо образованный. И вам, надеюсь, известно, что все договоры с нечистой силой подписываются в ночное время.
— Даже так… — Глеб дерзко рассмеялся. — Неужто мне посчастливилось лицезреть самого Вельзевула? Не берите на себя слишком много, господин убийца.
— Убийца? Возможно… Нет-нет, я на вас не сержусь! Так оно и есть. В «Книге Печали» так и написано. Это моя судьба. Но наш разговор свернул в другое русло. Я действительно предлагаю вам подписать договор.
— И в чем он заключается?
— Вы ведь кладоискатель? — уклонился от прямого ответа Виктор.
— М-м… в какой-то мере. Вообще-то я археолог.
— Это не суть важно. Вы — ЧЕЛОВЕК, и этим все сказано. И вам, естественно, ничто человеческое не чуждо. Взгляните…
С этими словами Виктор сунул руку в карман пиджака (Глеб насторожился), достал оттуда какую-то вещицу и протянул ее Тихомирову-младшему.
Глеб машинально взял. И оцепенел — у него на ладони лежало старинное золотое колье! Лунный свет заставил рубины вспыхнуть пурпурным огнем, а крупные бриллианты вообще засияли как звезды. Навскидку Глеб определил, что это девятнадцатый век. Судя по оригинальности художественного замысла, тонкости закрепки камней и еще по некоторым другим признакам, колье скорее всего вышло из рук главного ювелира фирмы Карла Фаберже, талантливейшего мастера Хольстрема, произведения которого ценились выше работ знаменитых парижских ювелиров.
— Замечательная вещь, — не смог скрыть восхищения Глеб.
— Вам, — с нажимом ответил Виктор, — я просто не посмел бы предложить какую-нибудь дешевку. Надеюсь, вы не нуждаетесь в помощи, чтобы оценить это колье.
— Оно стоит очень дорого, — честно ответил Глеб. — И не только как драгоценность, но и как исторический раритет. Навскидку оценить трудно. Это, пожалуй, целое состояние.
— Тогда колье ваше.
— Я так понимаю, мы начали обсуждать условия договора. Что ж, не скрою, колье меня заинтересовало. Но я бы хотел услышать пункты договора, которые я обязан исполнять.
— Это такая мелочь… Вы берете свой рюкзак и уезжаете отсюда. Навсегда.
— Но у меня есть еще и напарник…
— Думаю, что с ним проблем не будет, — небрежно ответил Виктор. — Он тоже получит свою долю. Конечно, гораздо меньшую.
— Скажите, почему вы нас гоните?
— Вас никто не гонит. Я предлагаю вам обоюдовыгодную сделку. Современный мир предполагает такие отношения. Даже брачные узы скрепляются контрактом.
— Что ж, допустим я могу принять ваше предложение. Но поскольку договор предполагает некий торг… — Глеб вернул колье Виктору. — Меня не устраивает сумма отступных, которую вы предлагаете, — дерзко заявил Глеб, глядя прямо в глаза собеседнику.
Лицо Виктора почернело от едва сдерживаемой ярости. Это было заметно даже при лунном свете. Но он сумел огромным усилием воли сдержать эмоции, не дал им выплеснуться наружу.
— Я предвидел нечто подобное… — Виктор криво ухмыльнулся. — Сколько вы хотите?
— А вы кто, Рокфеллер? Или граф Монте-Кристо? Боюсь, что у вас не хватит ни драгоценностей, ни денег, чтобы удовлетворить мои аппетиты. Уж извините, мы, современные молодые люди, — большие прагматики. Но коль скоро вы запросто готовы расстаться с таким раритетом, значит, дело стоит гораздо дороже. И мне вовсе не хочется упускать свою выгоду.
— Сколько?!
— У вас что тут, поблизости находится пещера Аладдина? И вам известен пароль для входа в нее? Ладно, все! Прекратим эти пустые разговоры. Чтобы вы до конца поняли ситуацию, докладываю: я приехал сюда не из праздного любопытства и не потому, что хочу набить себе карманы за ваш счет, а по причине более веской — меня как ближайшего родственника, предчувствуя скорую кончину, пригласила Глафира Миновна. А воля покойницы, тем более ТАКОЙ женщины, как она, для меня закон. — Тут Глеб немного приврал — и приглашали не его, и насчет воли покойной бабы Глаши он загнул.
Воля покойницы интересовала его меньше всего. Тем более, что бабу Глашу он не знал. Но то, что праздное любопытство ни в коей мере не являлось главным в намерении Глеба посетить Жмань, было чистой правдой. Он загорелся идеей поковыряться в окрестностях странной деревни, и теперь, после предложения Виктора, эта идея выросла в воображении Глеба до гипертрофических размеров.
Если у этого франкоговорящего (чудеса!) крестьянина есть старинное колье, место которого в музее, то какие сокровища могут хранить, например, развалины старого храма, о котором упоминал отец? Романтическая душа «черного» археолога полыхнула огнем азарта и вознеслась до небес в предвкушении больших открытий. Поэтому убрать из Жмани его можно было лишь одним способом — заморить, как таракана, подсыпав отравы. Ни за какие деньги Глеб не мог отказать себе в удовольствии заняться любимым делом. Все-таки он был больше кладоискателем, нежели археологом.
— Это ваше последнее слово? — сдержанно спросил Виктор.
— Да.
— Что ж, вольному — воля… — Виктор встал. — А жаль. Вы мне нравитесь.
— Чего не могу сказать о вас…
— Просто вы мало меня знаете. У нас много общего.
— Например?
— За примером далеко ходить не нужно. И вы, и я немного авантюристы. Такими были и мои родители, и ваши. Хотите возразить?
— Нет. Тут вы правы. Но это ничего не значит. По крайней мере, я не убивал своих ближних.
— А врагов вы убивали? Только не говорите, что это не так!
— Я и не говорю. Но это разные вещи.
— Антип мне враг! И никакой он не свой, и уж тем более — не ближний. Это давняя история…
— Знаете, я не хочу разбираться в ваших отношениях, — перебил его Глеб. — Они меня не интересуют. Пусть этими проблемами озаботится ваша община.
— Тогда зачем вы здесь? Воля усопшей Глафиры Миновны как раз и есть проблема для всех нас. И вы тут на главных ролях. Вы как соринка в ясном глазу. Вам пока не понять, о чем идет речь, но я говорю, как оно есть. Вы здесь чужой. И чем скорее вы отсюда уберетесь, тем быстрее жизнь нашей деревни войдет в привычное русло. Ну, а если вы не прислушаетесь к голосу здравого смысла…
Виктор резко оборвал предложение, но его волчий взгляд был красноречивее любых слов. У Глеба внутри словно что-то оборвалось.
— Подумайте, — после небольшой паузы продолжил Виктор. — У вас есть сутки для принятия решения. Спокойной ночи… — В его голосе вдруг прорезалась издевка.
Глеб не ответил. Его внимание привлекли два огненных глаза, которые глядели на него из прибрежных зарослей. Присмотревшись, Глеб понял, что это волк деревенской амазонки. Поняв, что его заметили, волк оскалил внушительные клыки (но не угрожающе, а доброжелательно, словно улыбнулся) и бесшумно исчез.
Тихомиров-младший перевел дух и посмотрел на Виктора. Однако увидел уже не лицо собеседника, а его спину. В задумчивости опустив голову, Виктор неторопливо поднимался на пригорок, где темнели сонные избы.
«Поговорили, — подумал Глеб. — Тайное свидание, как в романе. Два заговорщика. Подписанты договора, который не состоялся. А может, и впрямь нужно было согласиться на предложение Виктора? Действительно, зачем лезть в чужой монастырь со своим уставом? Тем более, что Виктор предлагал такие шикарные отступные…»
Глеб не заметил, как в мысленном споре с самим собой дошел до «терема» бабы Глаши. Во дворе, на завалинке, сидел Жук и курил.
— Не спится? — спросил Глеб.
— Угу… А ты чего по ночам шастаешь?
— Дышу свежим воздухом. Променад…
— Ври больше. Зачем темнишь?
— С чего ты взял?
— Глеб, не держи меня за лоха! Я все видел и слышал.
— Следил?..
— А ты как думаешь?
— Думаю, что ты начал позволять себе чересчур много, — резко ответил Глеб. — Ты, похоже, забыл, кто главный в нашей экспедиции.
— Да ладно тебе, не заводись… Я всего лишь хотел тебя подстраховать. Даже ствол захватил с собой. Мало ли чего. Места тут дикие, народ странный…
— Хочешь, чтобы я поблагодарил тебя за твои великие труды?
— Не нужны мне никакие благодарности! Только я считаю, что от предложения того мужика грех отказываться. Брюлики так светились, что даже я увидел, несмотря на расстояние. Большие… Это же сколько «зелени» можно поиметь! Я ведь говорил тебе, что мои дела оставляют желать лучшего. А так продадим колье, распилим бабло согласно нашей договоренности, и мне вполне хватило бы деньжат, чтобы купить новую тачку и чтобы в следующем году выйти в «поле» с полной экипировкой.
— Извини, дружище, но у нас с тобой разные весовые категории. Тебя интересуют пенки от варенья, а меня — сам продукт. Подачка этого Виктора — элементарная разводка. Нашелся… мультимиллионер из Муходранска… пардон — Жмани… — Глеб презрительно хмыкнул. — Не знаю, какую игру он затеял, но думаю, что впереди нас ждут большие открытия. Так что пусть засунет свои брюлики… сам знаешь куда.
— Думаешь, что у нас выгорит что-то крупное? — хмуро спросил Жук.
— Зуб даю, Антоха! А теперь спать. Спать! Скоро утро…
После завтрака Глеб пошел искать Антипа. Деревня по-прежнему казалась опустевшей. Но теперь Глеба уже не удивляло отсутствие детей — почти все жители Жмани оказались преклонного возраста. Или, по крайней мере, не детородного. Лишь юная амазонка была приятным исключением, но подходящего ей парня не наблюдалось.
«Может, они и впрямь все здесь вурдалаки? — думал Глеб с неприятным томлением в груди. — Пили кровь жителей окрестных деревень, пока всех не извели. Насколько мне известно, — понятное дело, из сказок и фантастических историй — подобные типы не могут иметь потомства. Тогда понятно, почему раны Антипа так быстро зажили… А что если и впрямь все это правда? Что если мы с Жуком присутствуем тут в виде хранилища свежей крови для предстоящего сатанинского обряда с последующим пиршеством? Бр-р! Не верю! Не может такого быть! Глупости… Не могла баба Глаша сделать такую подлянку близким людям. Хотя… кто знает. Может, она ненавидела своего мужа (эка невидаль! такие проблемы существуют сплошь и рядом) и свою ненависть перенесла на его родственников. И тогда получается, что Виктор — наш спаситель. Совсем я запутался… А, будь, что будет!»
Долго искать Антипа не пришлось. Он нарисовался как тот Сивка-бурка, вещая каурка — по желанию трудящихся. Не успел Глеб додумать свою мысль, как из-за ближайшей избы вышел оживший «покойник» и бодрым шагом направился к Глебу. Было в нем что-то угодливое, лакейское — типа «Чего изволите?», которое Антип старательно прятал, но выражение глаз и время от времени прорезающиеся стальные нотки в голосе навевали на мысль о его пролетарско-большевистском происхождении.
Такие с виду добрые, покладистые и угодливые кухаркины дети и кабацкие половые могли недрогнувшей рукой прострелить башку кому угодно — и классовому врагу, и соседу по коммуналке, и просто случайному прохожему, не вовремя или в неположенном месте решившему перейти дорогу.
Их гложет вечная обида на всех и вся. Им все должны, а они — никому и ничего. Эта обида обычно глубоко упрятана, но если она, дождавшись своего часа, вырвется наружу, то пощады не жди. Отсюда происходят и так называемые «немотивированные» убийства. Сидел человек в приятной компании, ел, пил, смеялся, веселился, ни с кем не ссорился, а затем вышел на кухню, взял кухонный нож и недрогнувшей рукой вонзил его в сердце хозяина квартиры, своего приятеля.
Зачем? Почему? На этот вопрос не могут ответить ни сами преступники, ни следователи. Но самое загадочное и страшное заключается в другом — показное раскаяние убийцы ни в коей мере не соответствует его внутреннему состоянию. Он не чувствует себя виноватым, а чья-то загубленная жизнь для него не более чем эпизод из какого-то пустяшного фильма. Раз посмотрел — и забыл.
— А баньку-то я уже истопил! — бодро сказал Антип. — Вовремя вы поднялись… Уже позавтракали?
— Не так, чтобы очень… — хмуро ответил Глеб, все еще находясь в плену неприятных ассоциаций и дурных мыслей.
Действительно, угощение, которое уже стояло на столе, когда они проснулись, сегодня никак не тянуло на полноценный завтрак — кувшин холодного квасу и две зачерствевшие лепешки. Похоже, тетки-кухарки вчера тоже маленько перебрали и прозевали зорьку. Впрочем, и аппетит у Глеба и Жука был не очень, так что свежий квас на старые дрожжи пришелся в самый раз.
— Это дело поправимое. После баньки откушаем, как должно. Вы готовы?
— Всегда! — подал голос и Жук, который при упоминании бани начал чесаться.
— Тогда пошли…
Жмань продолжала удивлять. Оказалось, что в деревне баня общая. Но какая! Она стояла прямо на реке, на сваях, — так, чтобы разогревшись, как следует, можно было с мостков сигать в воду. А зимой, наверное, во льду рубили большую полынью.
Само здание бани было не по-русски просторным и высоким. Правда, сложили его, как и деревенские избы, из толстых лесин. Но когда Глеб вошел внутрь, то открыл рот от изумления — внутри баня была отделана белым и розовым полированным мрамором!
Лишь стены и потолок предбанника и парной были обшиты тщательно подогнанными и хорошо ошкуренными досками из дерева неизвестной Глебу породы. Оно испускало чрезвычайно тонкий и приятный аромат. В самой мыльне стояли мраморные скамьи, а ее окна-витражи были широкими и пропускали много света. Топку строители бани вывели в отдельное помещение с отдельным входом. Судя по теплому мраморному полу мыльни, он обогревался системой труб.
— Ни хрена себе, сказал я себе! — прокомментировал увиденное Жук. — Да это лучше, чем Сандуны! Только душа нет. Краны с горячей и холодной водой — вот они. А шайки-то какие — супер! Гад буду, дореволюционные.
— Угадал… — Антип посмеивался, довольный произведенным впечатлением. — Тыща девятьсот пятый год. Спецзаказ. Выполнен на заводах Гардта. Медь.
— Неужто у революционеров выменяли на оружие? — не без ехидства спросил Жук. — Махнулись, так сказать, не глядя.
— Вам про то знать не надобно! — почему-то рассердился Антип. — Я вас оставляю, шуруйте тут сами…
Такого удовольствия Глеб не испытывал уже давно. Его так и подмывало выбежать из бани и броситься в реку, но он постеснялся, хотя баня стояла на отшибе, а вокруг не было ни души. Пар был потрясающим, а все усиливающийся аромат деревянной обшивки бодрил похлеще доброго вина. У Глеба даже голова начала приятно кружиться.
После пятого захода в парилку Жук сдался.
— Все, амба, — сказал он, разлегшись на мраморной скамье. — Иначе умру от полного кайфа прямо здесь. Такого блаженства я давно не испытывал.
— Кто бы спорил… — Глеб вылил на себя шайку холодной воды и от наслаждения крякнул. — Пивка бы сейчас…
— Ну… С пребольшим удовольствием.
— Тогда вставай, хватит ночевать. А то у меня уже кишки марш играют. Антип, вроде, обещал накрыть поляну.
— Уже готово! — раздался веселый голос Антипа, который заглядывал в приоткрытую дверь. — Ждем-с…
На столе в предбаннике было так много еды и напитков, словно их заготовили на Маланьину свадьбу.
— Это что? — спросил Глеб, указывая на широкогорлый запотевший кувшин.
— А ты испей и потом попробуй отгадать, — хитро сощурился Антип.
— Ну-ка, ну-ка… — Глеб налил полную кружку.
Ему было все равно, что пить, — квас, сухое вино или компот — лишь бы напиток был попрохладней. Глеб приложился к кружке, и жидкость ледяным потоком устремилась в желудок. Антип с интересом наблюдал за ним.
— Что скажешь? — спросил он, когда Глеб сказал «Уф!» и поставил кружку на стол.
— Супер! Думаю, что это местная разновидность эля. Крепости в нем, конечно, побольше, чем у настоящего английского напитка, горечи — поменьше, а вот вкус превосходный. Нужно отдать должное этому весьма приятному факту.
— В яблочко попал! Надо же… — Антип, похоже, удивился совершенно искренне. — Вообще-то, мы называем его медом, хотя это совсем не так. Это все-таки эль.
— А у него большой опыт по этой части, — со смешком сказал Жук и последовал примеру Глеба. — Да-а, вещь… — Он вытер пену с губ полотенцем. — Рецептик не подкинете?
— Чем и на чем писать будешь? — смеясь, спросил Антип.
— А я на память не жалуюсь.
— Боюсь, всей твоей памяти не хватит, чтобы запомнить хотя бы основные стадии процесса изготовления этого напитка. Я уже не говорю о разных мелочах. Он только томится в тепле месяц. И через день с ним производятся разные манипуляции.
— Ух ты! Почти как шампанское.
— Да. Но процесс изготовления напитка сложнее и длиннее. Наш эль выдерживается как минимум пять лет. И наконец, в нем кроме ячменя много разных пользительных травок. Вы скоро поймете, о чем я говорю.
— Неужто на женщин потянет? — невинно поинтересовался Жук.
— А это кого куда… — Антип загадочно ухмыльнулся. — Но силы и здоровья точно прибавится…
Они бражничали добрых два часа. Спешить было некуда, а эль и впрямь оказался чудодейственным напитком. Глеб чувствовал, как оживала каждая клеточка его тела, наполняясь свежей, молодой энергией. А голова вообще заработала, как мощный компьютер. Когда они поднялись из-за стола, Глеб готов был горы свернуть. То же самое ощущал и Жук.
Пропустив Жука вперед, Глеб придержал Антипа и, упрямо набычившись, снова задал ему вопрос, который продолжал его мучить и все время вертелся на кончике языка:
— И все-таки скажите наконец, кто та девушка, которая ездит на белом коне?
Антип посмотрел на него долгим загадочным взглядом и ответил:
— Теперь в Жмани для тебя секретов нет. Она моя дочь.
Глеб остолбенел. Антип хитро улыбнулся, глядя на ошеломленного парня, и пошел вслед за Жуком. Глеб остался на месте. Он никак не мог прийти в себя.
Глава 16
Декабрь 1740 года выдался морозным и вьюжным. Де Шетарди и граф Сен-Жермен сидели возле камина в резиденции маркиза и от нечего делать бражничали. Де Шетарди был сильно раздражен. Несмотря на то, что они с Сен-Жерменом изрядно выпили, его настроение оставляло желать лучшего.
Два месяца назад, 17 октября, от почечно-каменной болезни умерла Анна Иоанновна, и российским императором был провозглашен сын ее племянницы, Анны Леопольдовны, двухмесячный Иоанн Антонович, под регентством курляндского герцога Бирона. Но в ночь на 7 ноября Бирон был арестован заговорщиками, а собранные к Зимнему дворцу войска присягнули на верность «правительнице великой княгине Анне всея России»; таким стал титул Анны Леопольдовны, матери малолетнего императора.
На следующий день был обнародован манифест, в котором двухмесячный император Иоанн VI Антонович вместо свергнутого регента «назначил» правительницей с теми же полномочиями свою мать, Анну Леопольдовну. Отец царя, принц Антон-Ульрих Брауншвейг-Люнебургский, был объявлен «императорским высочеством соправителем», а генералиссимуса вооруженных сил России, фельдмаршала Миниха, назначили первым кабинет-министром. Хитрый Остерман и здесь выгадал — он получил должность генерал-адмирала, а также вступил в полное управление Морским ведомством и председательствовал во Втором департаменте Кабинета; князь Черкасский стал канцлером, а граф Головкин — вице-канцлером.
Анна Леопольдовна почему-то и на дух не переносила де Шетарди, и это очень задевало самолюбие посла. Тогда он придумал свою маленькую месть. Случай отомстить за небрежение его персоной представился быстро.
Дело в том, что де Шетарди был назначен чрезвычайным послом французского короля Людовика XV при императрице Анне Иоанновне, но лишился этого звания в связи с ее кончиной. Спустя месяц после похорон маркизу было велено остаться представителем Франции в Петербурге, но только в звании полномочного посланника.
И сразу же возник вопрос: каким образом он представит свои новые верительные грамоты малолетнему царю Иоанну, которому не исполнилось еще и года? Посланники других держав удовольствовались аудиенцией у правительницы Анны Леопольдовны, но маркиз де Шетарди категорически потребовал, чтобы ему позволили представиться самому императору.
Такое требование удивило русских и породило массу самых запутанных вопросов. Будет ли аудиенция частная или публичная? Вручит ли посланник свои кредитивные письма самому ребенку? Положит ли он их на табурет, поставленный у подножия трона, или вручит правительнице, Анне Леопольдовне, которая будет держать младенца-царя на руках?
Поставив Анну Леопольдовну в затруднительное положение, де Шетарди торжествовал. И все равно к этому торжеству была примешана немалая толика горечи. Если раньше его неформальное влияние при российском дворе было значительно и неоспоримо, то теперь он довольствовался сухим официозом. Анна Леопольдовна по-прежнему была с ним холодна и высокомерна, а иногда и вовсе делала вид, что не замечает строптивого французского посланника.
В конечном итоге де Шетарди начал с большим рвением исполнять инструкции французского министерства иностранных дел. Ему было предписано собрать самые точные сведения о положении Российского государства и влияние разных партий при русском дворе. При этом маркиз должен был обратить особое внимание на лиц, державших сторону великой княжны Елизаветы Петровны, разузнать, какое значение и каких друзей она может иметь, а также настроение умов в России, семейные отношения в царской семье и тому подобное — словом, все то, что могло посодействовать перевороту.
— …Я просто очарован цесаревной! — де Шетарди пытался расшевелить Сен-Жермена, пребывающего в глубокой задумчивости. — Среди русского двора Анны Иоанновны с его дурацкими пошлыми увеселениями, шутами, скоморохами, грубой и безвкусной роскошью только поведение Елизаветы Петровны напоминало мне западные нравы. Она совершенно подходит к духу западных наций своими вкусами, врожденной грацией и ненаигранной веселостью.
— А как она относится к вам?
Маркиз самодовольно ухмыльнулся, приосанился и ответил:
— Очень даже положительно. Я взял на себя смелость сказать Елизавете Петровне, что сам французский король интересовался ею лично. И что он просил передать ей, что она может рассчитывать на его братское расположение. После этого цесаревна просто расцвела. Да, да, не улыбайтесь, милый граф! Она действительно была тронута. Елизавета Петровна питает к нашему королю какую-то особую романическую привязанность. Может, вы не знаете, но в свое время велись переговоры о ее браке с Людовиком XV.
Сен-Жермен остро посмотрел на де Шетарди и сухо сказал:
— Ваша светлость, вы играете с огнем. В России это может быть очень опасно. Если вас спасет дипломатическая неприкосновенность, то другим подданным Франции точно не поздоровится. У меня, например, нет никакого желания прогуляться к эшафоту, который расположен на Козьем болоте.
Де Шетарди доверительно склонился к графу и, понизив голос, словно боясь, что их кто-нибудь подслушает, начал нашептывать:
— Позвольте, милый граф, поделиться с вами конфиденциальными сведениями. Возможно, вам известно, что фельдмаршал Миних, ныне первый кабинет-министр и противник союза с Австрией, не поладил с принцем Брауншвейгским и вскоре будет отрешен от занимаемых им должностей. Австрийская партия при российском дворе торжествует. Сие значит, что если Франция станет открыто на сторону врагов Марии-Терезии, подписав с Пруссией и Баварией военный союзный договор, то Россия выступит на защиту венгерской королевы и пошлет ей на помощь войска. Этого нельзя допустить ни в каком случае! Кроме того, я узнал по своим каналам, что вскоре ожидается прибытие в Петербург английского уполномоченного Финча. Это еще тот каналья! Я уверен, что Англия предложит Брауншвейгскому дому обеспечить за ним русский престол, если Россия пообещает помогать англичанам в борьбе с французами. А в том, что правительница согласится на это предложение и, подписав договор, открыто присоединится к недругам Франции, у меня нет сомнений.
«Он хочет, чтобы я поучаствовал в очередном заговоре… — понял откуда ветер дует Сен-Жермен. — Но почему маркиз решил, что я горю желанием положить свою жизнь на жертвенный алтарь Франции? Ведь я лишь ношу французскую фамилию, но в моих жилах нет ни капли галльской крови. Или де Шетарди значительно больше осведомлен о моей миссии в России, нежели я предполагаю? Если это так, то тогда понятна его откровенность. Действительно, мне после воцарения малолетнего Иоанна стало гораздо сложнее вести свои поиски. Приходится ходить по Петербургу, словно по полю, засеянному острыми шипами. А если на престол взойдет Елизавета Петровна, да еще и с моей помощью, то тогда я точно буду в фаворе. Что касается Франции, то ей действительно нечего ожидать от Анны Леопольдовны. Россия, управляемая немцами, рано или поздно всецело подпадет под влияние Австрии. Русский двор изменит свою политику только с переменой правительства, а для того чтобы вырвать Россию из рук немцев, есть лишь одно действенное средство — государственный переворот…»
— Значит, вам представляется, что воцарение Елизаветы Петровны будет во благо Франции…
Сен-Жермен вонзил свой беспощадный, как удар шпагой, взгляд в широко открытые глаза де Шетарди, в которых светилось наигранное простодушие прожженного хитреца; таким образом маркиз демонстрировал графу свою честность и откровенность.
— В этом нет никаких сомнений! — с жаром ответил де Шетарди.
— Но ежели Анна Леопольдовна узнает о ваших мыслях, или если Елизавета Петровна кому-нибудь проговорится о том, что ее поддерживает сам король Франции, то цесаревну казнят.
— Этого просто не может быть! Во-первых, ее не посмеют казнить публично, разве что постригут в монастырь. Во-вторых, Елизавете Петровне куда больше приличествует царская корона, нежели монашеский клобук. Кроме того, большинство русских людей ненавидит господствующую немецкую партию. А войска и народ любят цесаревну, дочь Петра Великого, возлагают на нее свои надежды и чаяния. К сожалению, у Елизаветы Петровны нет своей партии, нет верных людей… Если этот пробел удастся заполнить… хорошо бы с вашей помощью, милый граф… то дело выгорит, можно не сомневаться.
— Возможно. Но есть одна загвоздка — нужны деньги. И немалые.
— Деньги будут, — уверенно сказал де Шетарди. — За это я ручаюсь. Что касается самой Елизаветы Петровны, то ее нужно подготовить. Завтра я встречаюсь с Лестоком (он тоже с нами), который обещал мне аудиенцию у цесаревны. Я должен поговорить с ней наедине. Увы, в присутственных местах она всегда под надзором царских фискалов. Так что единственное место, где можно будет поговорить с Елизаветой Петровной вполне откровенно и без чужих ушей — это ее будуар.
— Только не очень увлекайтесь, ваша светлость… — Сен-Жермен тонко улыбнулся. — У нее в чести малороссийский казак Алексей Разумовский.
— А… этот плебей, выскочка… — Де Шетарди недовольно покривился. — Не стоит подозревать Елизавету Петровну в том, что у нее дурной вкус; у великих тоже бывают свои слабости. Между прочим, этот нахал может быть нам полезен. Присмотритесь к нему.
«Однако… Он уже уверен, что я буду играть козырного туза в его партии, — иронично подумал Сен-Жермен. — Ему ведь светиться не с руки. Но я почему-то не услышал, какие мне сулят привилегии, если я подпишусь под этим договором».
Словно подслушав его мысли, де Шетарди сказал:
— Что касается лично вас, дорогой граф, то ваша выгода налицо. Кроме расположения Елизаветы Петровны к своей персоне и тех милостей и наград, которые вы получите от ее щедрот, наш светлый король Людовик XV готов предоставить в ваше распоряжение замок Шамбор с обслугой и сто тысяч ливров[74], чтобы вы могли обустроить там лабораторию и заняться своим любимым делом — алхимическими опытами. В этом он дал свое твердое королевское слово. Если будет на то ваше согласие, то королевский рескрипт вы получите в ближайшее время.
Замок Шамбор! Один из красивейших замков долины Луары! Сен-Жермен был потрясен. О таком подарке судьбы можно было только мечтать.
Графу приходилось бывать в Шамборе. В 1725 году Людовик XV передал Шамбор своему тестю Станиславу Лещинскому, потерявшему польский престол. Он жил там вплоть до того момента, как занял трон герцогства Лотарингского В данный момент Шамбор пустовал. Наверное, восхищение Сен-Жермена замковой архитектурой каким-то образом попало в уши короля и Людовик решил заполучить столь известную во всей Европе личность, как граф Сен-Жермен, в свои подданные. Неплохая сделка…
Сен-Жермен вспомнил, что в замке четыреста сорок комнат (если ему не изменяет память), а на крыше замка возведено триста шестьдесят пять башенок (по числу дней в году), украшенных нимфами, мифическими животными и восточным растительным орнаментом. В сочетании с целым лесом луковок, шпилей, фронтонов, звонниц без колоколов и люкарн[75]они образуют на крыше забавный игрушечный городок, окруженный балюстрадой.
Этот городок был местом светского общения владельца замка и его гостей. Он даже имел свои улицы и маленькие площади, чтобы собиравшееся там общество могло следить за охотой, военными парадами, праздниками и турнирами.
Действительно, очень недурно… Похоже, и впрямь стоит на время оставить поиски Десницы Господней (все равно шпионы сыскной канцелярии обложили его своими рогатками со всех сторон; собственно, как и других иностранцев, за исключением немцев) и заняться интригами, в которых Сен-Жермен слыл непревзойденным мастером. Граф был уверен, что де Шетарди не лжет насчет замка. Маркизу, как и любому человеку, в полной мере присуще чувство самосохранения, и ему было хорошо известно, что Сен-Жермен не прощает обман никому и никогда.
— Что ж, ваша светлость, можете на меня положиться… — немного растягивая слова, сказал граф. — У вас уже есть какой-нибудь план?
— Милый граф! — де Шетарди просиял. — Несмотря на совершенно скверную погоду, сегодня для меня светлый день! С вами мы горы свернем. Если говорить о плане, то пока есть лишь наметки. Неплохо бы нам прямо сейчас поразмышлять на эту тему. У вас светлая голова, и вы можете предложить много ценных решений.
— Что нам мешает?
— Только отсутствие вина — все бутылки уже пусты. Но это дело поправимое…
Оставим заговорщиков заниматься своими тайными делами и попытаемся отыскать Фанфана. На самом деле это могло оказаться нелегким занятием, потому что слуга графа Сен-Жермена находился в Разночинной слободе, расположенной в так называемых Мокрушах — оживленном районе в юго-западной части Городового острова. Название этого места связано с особенностью берега Малой Невы, который подтапливался при каждом наводнении. Фанфан был в гостях у Антипки — того самого кудрявого гарсона из «Австерии четырех фрегатов». Они подружились как-то незаметно и совершенно неожиданно нашли друг в дружке родственные души.
Бакалейные товары, муку и сырые продукты жители Петербурга в основном покупали не на Обжорке, а на Мытном дворе, построенном в 1715 году в Мокрушах. Спустя год здесь же, возле Мытного двора, стоявшего почти на мысу между Большой и Малой Невой, были сооружены рыбный и мясной ряды. Мясной ряд располагался на берегу реки, у проточной воды, и когда в Мясном ряду забивали скот, то все отходы сбрасывали в воду. Рядом были расположены и рыбные садки, где продавали живую рыбу.
Центр этого района располагался ниже по течению Малой Невы. Здесь находились церковь Успенья Богородицы, губернская канцелярия с острогом и городской магистрат. В 1721 году острог был расширен пристройками новых казарм для колодников. Вокруг центра селились в основном подьячие из канцелярии и разночинцы, а на самом берегу Малой Невы были построены общественные (торговые) бани. Эта часть города и называлась Разночинной слободой.
Та часть Разночинной слободы, где жили родители Антипки, представляла собой скопище маленьких домишек, тесно пристроенных друг к другу, как ловушки для синиц. Дом Антипки ничем не отличался от традиционного жилья русских крестьян: курная изба с одной достаточно просторной комнатой без привычного потолка и большая печь. Узкие окна были закрыты рамой с кусками слюды, а освещался дом лучиной, воткнутой в щель возле печи.
Чтобы войти в Антипкино жилище, Фанфану пришлось исполнить целый комплекс гимнастических упражнений, потому что порог оказался высотой около двух футов[76], а дверь была не выше трех футов. Попав внутрь дома, Фанфан едва не задохнулся от печного дыма и запахов нечистого жилья. Он с невольным ужасом посмотрел на щелястые стены с полчищами клопов, которые с нетерпением ждали, когда хозяева и гости улягутся спать.
Наступив на хвост тощей кошке, распугав кур, которые преспокойно клевали что-то посреди избы, и едва не упав, зацепившись за старого рябого барбоса (пес даже не огрызнулся; он лишь с укоризной глянул на мальчика и поплелся на свое место), Фанфан наконец добрался в «красный» угол избы, где его уже ждал Антипка. Гарсон как раз выкладывал на стол еду, которую ему удалось стащить из «Австерии».
— А где остальной народ? — спросил Фанфан.
Он уже знал, что вместе с Антипкой живут его родители — отец (бывший крестьянин, каким-то чудом ухитрившийся получить вольную), мать-мещанка, которая торговала рыбой на рынке и три брата; две сестры уже были замужними и проживали отдельно. Кроме того, как рассказывал Антипка, в доме на постое находились солдаты, пятнадцать человек. «Как же они здесь все помещаются?!» — с удивлением думал Фанфан, глядя на лавки под стенами и полати, прикрытые каким-то тряпьем.
— Отец ушел с обозом, вместе с братьями, а мать еще работает, — объяснил Антипка безлюдье в доме. — Придет не скоро.
— Ты говорил, что у вас квартируют еще и солдаты…
— Воевать отправились… не знаю с кем. Вот облегчение-то какое!
— Почему? Али зобижают?
— Нет. С этим у них строго. Но с ними один разор и маята. Для выпечки хлеба непрестанно топят печь, притом нашими дровами, которые берут без спросу, утром и вечером варят кашу… Кур вон половину сожрали… чтоб им пусто было! По избе ходить не велят, бранятся непрестанно. А летом козу за рога на кол повесили забавы ради и кнутом стегали. У нее молоко и пропало…
Постепенно Фанфан освоился с непривычной для него обстановкой и принюхался к неприятным запахам. Про себя он отметил, что в доме Антипки, при всем том, гораздо уютней, чище и теплей, нежели в тех ночлежках парижского Дома Чудес, где ему приходилось бывать. А уж угощение, которое выставил Антипка, обрадованный визитом друга, и вовсе не шло ни в какое сравнение с теми объедками, которые перепадали Фанфану от щедрот посетителей парижских харчевен.
— …Уехать бы отсюда, убежать, — мечтательно сказал Антипка. — Навсегда. Гиблое место…
— А где лучше? Везде одинаково.
— Не-ет, не скажи… Есть места. Там, где мы раньше жили… приволье! Река чистая, дно песчаное, леса кругом, дичи много, грибов, ягод… Сосны в три обхвата! Зима снежная, но сухая. Истопишь печку — дров-то хоть завались, не так, как здесь, — ляжешь на полати, где повыше и потеплей, и мечтаешь. За окном вьюга, но она не воет, как в Питербурхе, а поет. А на Масленую солнце сияет, так и сыплет брильянты и яхонты на снег… все сверкает кругом, даже глазам больно. Народ веселится, гуляет… и никто тебя из-под палки не гонит на общественные работы. Вон, батю и братьев в обоз забрали. И что им от того? А ничего. Ни шиша не получат. Дали денег только на прокорм. Такие вот дела…
— Да, дела-а… — согласился Фанфан.
И бросил обглоданную кость старому псу, который уже добрых полчаса сидел возле стола с умильным выражением на своей рябой морде, дожидаясь подачек.
— Слушай, давай махнем отсюда вместе, а? — возбужденный Антипка цепко схватил Фанфана за рукав. — Добудем ружья, провиант, купим лошадей — я тут немного деньжат поднакопил, и поминай, как звали. Уйдем на волю, в леса. Скит построим. Проживем как-нибудь. Не пропадем. Там нас ждет свобода. Что может быть лучше свободы? А то мне здесь уже никакого спасу нет. Хозяин «Австерии» грозится прибить, отец как выпьет — чисто зверь становится, дерет немилосердно, братья каждым куском попрекают, будто я не зарабатываю совсем ничего… Тебя вон тоже, как выжлятника[77], гоняют по городу, — ужо я-то знаю. Может, твой барин и хороший, да больно дурная слава о нем идет по городу. Будто он знается… — Тут Антипка оглянулся, словно сзади кто-то стоял, и перекрестился. — Знается с самим нечистым, — сказал уже шепотом.
— Глупости! — фыркнул Фанфан. — Он этот… как его?.. А, вспомнил! — алхимик. Ученый. Все возится со склянками разными, на огне их подогревает, что-то там смешивает…
— Вот-вот! — подхватил Антипка. — Сказывали, что он может превращать металлы в золото, выращивать редкой красоты алмазы, умеет улучшать драгоценные камни, избавлять их от изъянов и увеличивать жемчужины. И кому это под силу? Только тому, кого отметил сам сатана.
— Не знаю… но то, о чем ты говоришь, видеть мне не доводилось. А насчет камней… да, у него их много. Большущие! Немалых денег стоят. Но это ничего не значит. Милорд — богатый человек. И меня он не обижает. Куда мне от него? — тут Фанфан вспомнил о Винтере, а также тех, кого он оставил в Париже, и помрачнел; знал бы его друг, что он слуга четырех господ…
Антипка мгновенно скис.
— Значит, надежды на тебя никакой… — сказал он упавшим голосом. — А еще друг называется…
— Так ведь зима… — выкрутился Фанфан.
— И то правда… — Антипка тяжело вздохнул. — Придется подождать до лета. А ты и вправду решился? — спросил он с надеждой.
Удивительно, но Антипка с некоторых пор начал считать Фанфана едва не земляком. Может, потому, что бывший грум дядюшки Мало уже изъяснялся на русском языке, почти как коренной житель Московии, а возможно, из-за живости характера веселого и разбитного парижанина, который мог запросто наладить дружеский контакт с кем угодно.
Что касается Фанфана, то ему, в принципе человеку городскому, не очень светила перспектива жить в каких-то дебрях. А если учесть обещание Винтера сделать его богатым, то и вовсе на идее гарсона с «Австерии» нужно поставить крест. Вот только как это сделать, чтобы не обидеть Антипку и не разругаться с ним… С некоторых пор он начал приносить Фанфану очень ценную информацию, которую тот равномерно распределял между Сен-Жерменом и Винтером.
Надо же — Антипка хочет построить скит… Впервые о скитах Фанфан узнал, подслушав разговор каторжан. Звон кандалов на улицах нового города был привычен, как и лязг лопат. Это шли на работы прикованные к «связке» — длинной цепи — каторжники. «Каторжный двор» находился на Городовом острове, сразу за Кронверком. Это были несколько длинных строений — бараков, где зимой жили галерные арестанты.
Обычно летом каторжники, прикованные к веслам, гребли на галерах, а зимой били сваи для фундаментов домов. На ночь их вели в острог и приковывали к стенкам или клали в «лису» — длинное, распиленное по длине бревно с прорезями для ног, которое запирали на замок.
Жизнь этих изгоев в Петербурге была короткой. Выживали немногие, в основном увечные, непригодные к работе. Они питались подаянием. Вид колодников, которые, распевая жалобные песни и обнажая свои уродства и раны, попрошайничали на улицах Петербурга, возмущал городские власти, но они ничего не могли поделать с этой бедой. А может, просто руки не доходили.
В конце сентября по срочному заданию графа Фанфан пробрался на Галерный двор, что на Адмиралтейском острове. Там он должен был передать записку мастеру-голландцу, которого звали Гроттен. Дожидаясь, пока голландец сойдет со стапелей вниз, Фанфан с интересом рассматривал уже готовые к спуску на воду скампавеи[78]и по устоявшейся привычке прислушивался к тихим разговорам плотников-каторжан.
— …В скит надо, братцы, уходить, в скит! — горячился худой, как щепка, каторжанин с рваными ноздрями. — Помрем мы здесь… подохнем, аки скотина!
— Придержи язык, Афанасий! — строго одернул его угрюмый бородач, у которого не было одного уха; его звали Яким. — Иначе тебе точно его вырвут. Мало тебе ноздрей…
— А, все едино! — зло отмахнулся Афанасий. — Пусть сначала поймают. Ну, а ежели застигнут… живым я им больше не дамся.
— Скит — это хорошо-о… — мечтательно протянул третий по имени Фрол; это был широкоплечий малый совершенно разбойного вида. — Поди, достань нас оттуда. Главное, найти такое место, чтобы поближе к столбовой дороге…
Афанасий хищно оскалился.
— Руки чешутся пощипать господ… — процедил он сквозь зубы. — Эх, были времена!
На этом их разговор закончился, потому что появился мастер Гроттен и разразился виртуозной бранью, мешая русские, немецкие и голландские слова. Каторжники быстро разошлись по своим рабочим местам, а Гроттен, который еще не знал Фанфана, увидев мальчика, грозно рявкнул:
— Ти шито здес делаль русиш свиненок?! Марьш, марьш, шнелле! — И замахнулся палкой с бронзовым набалдашником.
Такая палка служила на верфях своего рода опознавательным знаком мастеров. Ею было очень сподручно охаживать по ребрам провинившихся или нерадивых рабочих.
— Потише, гер Гроттен! — с достоинством сказал Фанфан по-немецки. — Я к вам по делу… от милорда.
На Гроттена словно вылили ведро ледяной воды. Мастер не поверил своим глазам и ушам — какой-то оборванец принес ему весточку от самого Сен-Жермена! И он говорит на немецком языке! Фантастика… Действительно, Фанфан был одет в настоящую рванину, так как в этих местах дети ремесленников и вольнонаемных рабочих одевались именно таким образом. Поэтому никто не мог заподозрить в нем иностранца…
Вспомнив про этот случай, Фанфан рассмеялся.
— Ты чего?! — удивился Антипка; а потом обиделся: — Я говорю серьезно, а ты смеешься! Нехорошо так.
— Прости, Антипка… — Фанфан покаянно опустил голову. — Это мне вспомнилось… а, неважно! Давай доживем до тепла, а там видно будет. В общем… я не против, но не все от нас зависит…
Давая такое обещание, Фанфан считал, что ничем не рискует. Сен-Жермен как-то в разговоре обронил, что вскоре они могут возвратиться в Париж. Откуда у графа появилась такая уверенность, подросток не мог знать. Но он уже понял, что Сен-Жермен не зря поселился в доме князя Долгорукова — слуги графа методично, день за днем, обыскивали комнаты, простукивая стены и даже иногда срывая деревянные полы в спальнях.
Похоже, цель Сен-Жермена уже близка. Но что он ищет? Этот вопрос очень интересовал Фанфана. И не только его. Он знал, что за событиями в доме Долгоруковых весьма пристально следит Винтер, используя для этих целей глаза и уши Фанфана.
Мальчик как-то осмелился спросить его об этом, но Винтер впервые за время их знакомства грозно нахмурился и ответил: «Всему свое время. И запомни, мой мальчик, простую истину: меньше знаешь, крепче спишь. Это как раз тот самый случай. Но как только Сен-Жермен засобирается обратно в Европу, я должен узнать об этом первым!»
Вьюга снаружи избы завыла, как раненый зверь, и сильный снежный заряд сотряс стены. Мальчики невольно притихли и прислушались. И Фанфан, и Антипка, не сговариваясь, подумали: «Что принесет мне следующий год?»
Глава 17
Антип пришел вечером, и не один. С ним были два крепких мужика. Они вежливо поздоровались и остались стоять возле двери.
Весь день, начиная с обеда, Глеб маялся какими-то неясными предчувствиями. У него была очень развита интуиция, которая не раз выручала Тихомирова-младшего из разных передряг. Иногда ему даже казалось, что это ясновидение. Но он был человеком вполне цивилизованным, притом достаточно грамотным и образованным, чтобы верить в разную чепуху. Конечно, он не отметал с порога того факта, что в мире существуют люди с экстраординарными способностями; отнюдь. Но считать себя характерником, таким как были, по словам отца, их предки, Глеб не имел ни малейшего желания. Это было просто нелепо. Представив себя в образе обезумевшего берксерка, размахивающего дубиной, он рассмеялся. «Картина маслом…», — вспомнил Глеб слова героя из какого-то фильма.
Ему приходилось драться за свою жизнь, но вполне по-современному — с огнестрельным оружием в руках. И головы при этом он никогда не терял. Мало того, Глеб старался избегать таких ситуаций и никогда по своей инициативе не лез на рожон. В принципе он был кабинетным ученым, который раз в год устраивал себе активный отдых в виде поездок в «поле» — на раскопки (увы, почти всегда они были незаконными).
Похоже, состояние Глеба передалось и Жуку. Он вдруг замкнулся, стал молчаливым и большей частью сидел на пороге и курил сигарету за сигаретой. При этом его лицо разительно переменилось, словно он снял маску, под которой был спрятан совсем другой человек. «Что это с ним?» — подумал удивленный Глеб. И даже спросил:
— Ты, случаем, не болен?
— Хандра… Наверное, от того пойла, которым нас угощал Антип. Водочки бы холодной… с полкило. А на закусь — селедка, лучок и краюха «бородинского» хлеба. Вот тогда бы я точно ожил. А так… лезет в голову разная хрень. Сон вот приснился… — Жук час поспал после бани. — Думал, что кондрашка меня хватит. Бр-р!
Глеб тактично промолчал, не стал расспрашивать Жука о его сновидениях.
К снам он относился настороженно, потому что в них обычно отображаются людские страхи и неосознанные переживания по разным поводам, нередко в сонном состоянии трансформирующиеся в сонмы кровожадных чудовищ. Проснувшись, Тихомиров-младший старался немедленно выбросить из головы всю ту чушь, которая явилась перед ним из бездны подсознания.
Глянув на Антипа, Глеб сильно удивился. Таким его он еще не видел. На Антипе был надет старинный кафтан тонкого синего сукна с позолоченными пуговицами, под которым виднелась белая рубаха с кружевами. Узкие — практически в обтяжку — светло-серые брюки он заправил в высокие сапоги-ботфорты, пошитые не из юфти, как должно, а из первоклассного хрома. На груди Антипа висела пластина светлой стали с рисунком — «изморозью» — с чеканным изображением анка и растительного орнамента. Звенья цепочки, к которой она крепилась, были выполнены в виде крохотных еловых шишечек.
— У нас что, костюмированный бал намечается? — спросил Глеб.
— Что-то вроде того… — уклончиво ответил Антип.
— Но у меня, кроме ветровки, джинсовых брюк и кроссовок, ничего другого нет. Может, у тебя, Антон, имеется хотя бы халат, чтобы загримироваться под старика Хоттабыча? Чалму я найду из чего соорудить.
— Чего нет, братан, того нет, — ответил Жук почему-то напряженным голосом; он был сильно взволнован и не отводил глаз от чеканной пластины на груди Антипа. — Может, у наших хозяев что-нибудь сыщется. Ась, Антип?
— Про то вам, дорогой гость, беспокоиться не надобно, — строго ответил Антип. — Ты посидишь дома. А чтобы не было скучно, оставляю тебе компанию в лице Никодима и Прохора. Можете в картишки поиграть… или в домино. Все время быстрее побежит. А ты, — он повернулся к Глебу, — и в кроссовках сойдешь за первый сорт.
— Не понял… — Жук гневно прищурил глаза. — Меня что, под замок сажают?! Я буду жаловаться… в Страсбургский суд по правам человека!
— Жалуйся, — улыбнулся Антип. — Хоть святому Николаю Угоднику. С чего ты взял, что тебя лишают свободы? Просто сегодня по Жмани чужим людям ходить не рекомендуется. В том числе и тебе. Это небезопасно. Вдруг с тобой что-нибудь случится… я этого себе никогда не прощу. Так что, дорогой гостюшка, посиди чуток в домашней обстановке, попей винца, откушай, чего Бог послал, — ужин сейчас принесут. Праздничный… Уж не взыщи, милок, такие у нас порядки.
— А ему, — Жук кивком головы указал на Глеба, — значит, все можно?
— Да, — сухо сказал Антип. — Глеб — родственник нашей усопшей Хранительницы. Поэтому в Жмани он не чужой.
— Везет же людям… — Жук сделал над собой огромное усилие и успокоился, даже улыбнулся. — Девочки там, куда вы идете, будут?
— Все будет… — Антип ухмыльнулся. — И девочки, и мальчики…
— Ага, понятно… И какава с чаем в постель.
— Что? — Антип удивленно поднял брови.
«Понятное дело, фильмов они тут отродясь не видели, — подумал Глеб. — Даже старых советских. Ясное дело — секта. Которая поклоняется анку — это уже факт».
— Это я о своем, о женском… — ответил Жук со смешком. — Что ж, пока, родственник всей деревни… — Он не без изящества помахал Глебу рукой. — Придешь, расскажешь, как удался бал-маскарад.
— Всенепременно…
В сопровождении Антипа Глеб вышел на улицу, и они влились в поток людей, который направлялся в сторону леса. Глеб был удивлен — оказалось, что в деревне живет совсем немалое количество людей. Сейчас их было даже больше, чем на поминках. Но сильнее всего Тихомирова-младшего удивили молодые парни и девушки, которых до сих пор в Жмани он не замечал. «Откуда они?» — подумал он, совсем сбитый с толку. Этот вопрос Глеб не преминул задать и Антипу.
— Все очень просто, — охотно ответил Антип. — Для нас Жмань — это как для всех россиян Москва. Жмань — наша голова. А еще есть руки, ноги, мускулы… уши, глаза… тоже нужное дело. В деревне остались лишь старейшины. Молодежь живет на выселках. Места тут кругом знатные, землицы вдоволь, никто к нам не мешается, а наш народ привык к вольной жизни, чтобы без понуканий.
— Понятно… — сказал Глеб, а сам подумал: «Голова — это понятно. Но должно быть и сердце. Уж не к нему ли мы сейчас идем?»
Интуиция в очередной раз не подвела Тихомирова-младшего. На лесной тропе толпа превратилась в колонну. Освещая дорогу факелами, — уже стемнело — все шли куда-то добрых полтора часа, пока не вышли на большую круглую поляну.
Толстенные вековые деревья окружали ее плотной стеной, как частоколом. Когда в свете многочисленных факелов Глеб присмотрелся, то не поверил своим глазам — ветки деревьев, несмотря на большие размеры поляны, образовали крышу!
Деревенские умельцы каким-то образом сумели удлинить ветви и заплести их над поляной так плотно, что лиственная крыша практически не пропускала на землю ни солнечных лучей, ни дождевых капель. Получилась как бы огромная цилиндрическая шкатулка, таинственное содержимое которой нельзя рассмотреть с высоты.
А скрывать и впрямь было что. В дальнем конце поляны высилось настоящее языческое капище. Оно напоминало знаменитый кромлех[79]Стоунхенджа, только немного меньших габаритов. Высокие — метра два с половиной — менгиры стояли по кругу, а меньшие, высотой не более метра (практически валуны), образовали две аллеи в виде креста. В центре кромлеха возвышался куб из красного гранита — поистине циклопическое сооружение: стены, сложенные из огромных камней, отесанных в виде параллелепипедов, и крыша из одной толстой плиты.
Сооружение (языческий храм-святилище?) закрывалось массивной дверью из мореного дуба с резным изображением анка. Примерно в десяти шагах от двери, посреди аллеи, образованной невысокими менгирами, стоял черный камень с ровной — плоской — вершиной. В этом месте аллея раздваивалась, образуя петлю. Камень как раз и находился в этой петле. Вокруг него рос густой, но невысокий — до метра — куст.
Взглянув на него, Глеб удивился еще больше — несмотря на приближающуюся осень, ветки куста были усыпаны большими розовато-сиреневыми цветами, которые распространяли сильный запах апельсиновой корки. По левую и правую стороны кубического сооружения виднелись старые кострища. Возле них были аккуратно сложены поленницы дров.
«Как они умудрились построить это?!» — Глеб был изумлен до предела. Чтобы притащить сюда и сложить все эти каменные глыбы в виде домика, да еще и накрыть его такой тяжеленной «крышей», даже современной технике пришлось бы несладко. А ведь лес не стройплощадка. Сюда совсем не просто мощный кран доставить, пусть даже он будет на гусеничном ходу; а колесный тягач и вовсе в болоте утонет.
И потом — откуда здесь красный гранит? Прежде чем приступать к поискам археологических ценностей, Тихомиров-младший всегда смотрел геологию местности. А в этих краях ничего подобного на выходы гранитных пород не наблюдалось. Ну разве что известняк и остатки ледниковой морены.
Все жители Жмани были одеты, примерно как Антип. Опытный глаз Глеба сразу определил, что крой их одежды относится к концу восемнадцатого началу девятнадцатого века. Это был чисто русский стиль: у женщин льняные рубахи, расшитые красными нитками, и разноцветные распашные сарафаны на металлических пуговицах, у мужчин праздничные кафтаны разного кроя, подпоясанные или кушаком, или ремнем с медной бляшкой, вороты рубах застегнуты на пряжки, а сапоги большей частью такие же, как у Антипа.
И у всех на груди висели кресты-анки. Они отличались лишь материалом, из которого были изготовлены: кто носил серебряный крест, кто бронзовый, у некоторых женщин были даже золотые, но Глеб заметил, что старейшины (среди них был и Антип) носили кресты (или пластины с изображением анка) из какого-то голубоватого металла, похожего на дамасскую сталь.
Неожиданно Глеб вздрогнул, увидев, какими глазами посмотрел на него один из старейшин. Взгляд старейшины был до такой степени наполнен жгучей ненавистью, что Глеб даже начал задыхаться, будто его сглазили. Это был Виктор.
Только на нем одном одежда была иноземного покроя. Она тоже относилась к моде восемнадцатого века и поражала богатой отделкой. Создавалось впечатление, что Виктор распотрошил запасники какого-нибудь французского музея, где хранились вещи богатых нобилей. На поясе у него болтался венецианский кинжал в дорогих ножнах, а такая же, как у Антипа, металлическая пластина с изображением анка, была вмонтирована в золотую рамку, украшенную мелкими бриллиантами.
«Все смешалось в доме Облонских… — с отчаянием подумал Глеб. — Какой я идиот, что приехал в этот сумасшедший дом! Мало того, что здесь, похоже, все поголовно чокнутые сектанты, так они еще и ряженые. Оживший «покойник» Антип, голая амазонка на белой лошади (а может, это единорог? только со съемным рогом, который наездница куда-то прячет), волк-следопыт почти с человечьими глазами и, наконец, убийца и коварный интриган Виктор, который чешет по-французски, как вор-рецидивист по фене. И потом, какое отношение имеют восемнадцатый-девятнадцатый века к язычеству?! Капище и крест — что может быть нелепей и противоестественней? Ох, чует мое бедное сердце, добром тут дело не кончится… Надо завязывать с идеей раскопок и майнать отсюда, как можно быстрее, пока поезда ходят. Завтра же! Да — так, и не иначе!»
Тем временем толпа встала перед входом в языческий храм и застыла в напряженном ожидании. Тишина кругом стояла неестественная; только один сверчок как-то не очень уверенно пытался настроить свою отсыревшую скрипку, но у него это не очень получалось, и он в конце концов тоже умолк.
Картина, на взгляд Глеба, была совершенно фантасмагорической: кругом чернильная темень, факелы время от времени выхватывает из темноты древесные стволы, окрашенные пламенем в багровый цвет, камни кромлеха отбрасывают на поляну уродливые колеблющиеся тени, в которых прячутся человеческие фигуры, и на этом мрачном фоне светлыми пятнами вырисовываются овалы, лишь отдаленно похожие на человеческие лица — их искажает игра светлых и темных фантомов, рожденных огнем и воображением.
Но вот дверь храма-святилища отворилась и над толпой раздался дружный вздох… облегчения? Нет, скорее предвкушения. На поляне вдруг стало светло, почти как днем. Это зажглись большие керамические светильники в виде плоских чаш, которые окружали каменный храм. Они запылали сами по себе; по крайней мере, Глеб не заметил, чтобы их кто-то их поджигал.
А затем в дверном проеме появилось сверкающее и переливающееся всеми цветами радуги видение. Снова раздался вздох — протяжный и на этот раз радостный. Напряженные и даже мрачные лица людей стали в одночасье счастливым и одухотворенными.
Глеб присмотрелся — и от неожиданности икнул; но тут же прикрыл рот ладонью. На пороге святилища стояла дочь Антипа — та самая амазонка, что так запала в душу Жуку! (Впрочем, и ему тоже…)
Она была одета в белоснежное платье из атласа с кружевной отделкой и буквально осыпана бриллиантами — колье, серьги, перстни, заколка в черных, гладко зачесанных волосах… Даже пряжки на белых туфельках были украшены драгоценными камнями. А большой анк из стали (дамасской?..), заменявший в колье центральную подвеску, был сплошь усеян бриллиантовой пылью.
Немного постояв, явив, так сказать, свой пресветлый лик народу, девушка сделала руками приглашающий жест, и старейшины во главе с Антипом неспешным шагом двинулись по аллее к святилищу. Вскоре их поглотил черный зев каменного куба.
Внутри святилища старейшины пробыли недолго. Они возвратились, держа в руках небольшой металлический ларец. Его нес Антип и бородатый старец, которому, по мнению Глеба, давно минуло сто лет в обед. Но держался он прямо и шагал довольно бодро.
Водрузив ларец на черный камень с плоской вершиной, старейшины присоединились к общей массе людей, которые стояли тихо, даже не шевелясь, как заколдованные. И тогда снова появилась белая фея. Легкой танцующей походкой она подошла к кубу, протянула свои изящные руки вперед — так, что ее ладони оказались над ларцом, — и начала напевать какой-то странный мотив на неизвестном языке.
«Какие-то заклинания», — решил Глеб, напряженный, как сильно натянутая гитарная струна. Действо, которое разворачивалось на его глазах, попахивало стариной, мистикой и вообще черт те чем. И это в двадцать первом веке!
«Бред… Ей богу бред, — думал он, пытаясь справиться с мятущимися мыслями. — Попал… как кур в ощип. Интересно, что будет дальше? Не нравятся мне эти кострища… и дрова там наготове. Весьма символично… Как это в песне поется: «Но почему аборигены съели Кука?..» Что если у этих сектантов — или кто они там — практикуются человеческие жертвоприношения? Как раз по одному жертвенному агнцу на каждый костер; справа меня на вертел посадят — как ближайшего родственника бабы Глаши, а слева — Жука. Блин!»
Неожиданно ларец начал изнутри светлеть, словно он был не металлический, а изготовлен из промасленной бумаги — как китайский фонарик. Только свет этот был не желтоватый, как обычно, а голубой. Он все усиливался и усиливался, и вскоре ларец засиял словно люминесцентная лампа.
Но и это еще было не все. В какой-то момент послышался сильный хлопок и — Глеб не поверил своим глазам — цветущий куст, посреди которого торчал черный камень, загорелся! Пламя взметнулось ввысь, раздался единодушный радостный вопль толпы, все, кроме белоснежной феи и старейшин, упали на колени и начали молиться.
Теперь уже можно было различить слова, потому что молитва была на русском языке; точнее, на старорусском:
«…Радуйся, Огнь Божества во чреве Твоем неопально носившая;
Радуйся, Спасителя падшему человечеству рождшая.
Радуйся, силу адову пречистым рождеством Твоим упразднившая;
Радуйся, Адама и Еву древняго проклятия свободившая.
Радуйся, вочеловечению Единаго от Троицы непорочно послужившая;
Творца небесе и земли безсеменно воплотившая.
Радуйся, Благодатная, Купина Неопалимая, огненнаго запаления нас избавляющая…».
Неопалимая Купина![80]Не может быть! Глеб присмотрелся к кусту, который уже потух без ущерба для своих цветов и листьев, повнимательней. Да, точно, это ясенец, или Неопалимая Купина; а еще это растение называют Звездочкой. Оно похоже на цветущий багульник или на табак.
Глебу как опытному археологу и поисковику было хорошо известно, что к этому растению ни в коем случае нельзя прикасаться и даже нюхать его. Особенно опасны цветы и коробочки с семенами. В момент прикосновения человек ничего не чувствует, но потом, часов через двенадцать, кожа в месте прикосновения краснеет, покрывается волдырями и образуется страшного вида химический ожог. Через некоторое время волдыри лопаются, открывая обнаженное мясо.
Клетки ясенца выделяют не просто эфирные масла, а вещества нарывного действия, подобные иприту. Пузыри и волдыри сменяются язвами, может повыситься температура, которая сопровождается сильной слабостью. Ожоги со временем заживут, но бесследно не исчезнут, останутся рубцы и шрамы, обширные темные пятна, которые держатся еще около года. Поражение кожи на большой поверхности опасно для жизни.
В старинной славянской легенде рассказывается, что в Иванову ночь полевые и лесные цветы устраивают хороводы при факелах ясенца. Соберутся вокруг него ландыши, васильки, астры, гвоздики, розы, тюльпаны, другие цветы, даже чертополох с красавкой, и тихо-тихо веселятся…
Чтобы не выглядеть среди всей толпы белой вороной, Глеб тоже опустился на колени, но мысли его были совсем не молитвенные. Он был удивлен до крайности. То, что в Жмани окопалась секта, это и ежу понятно. Но эта странная смесь древнеславянского, древнерусского и еще чего-то, более древнего, а возможно, и космического, смущала его пытливый ум до крайности.
Ларец… Почему он светится? Между прочим, точно как анк, что в доме бабы Глаши. Свойство металла? Что это за металл? Неужто подарочек от пришельцев? Сплюнь через левое плечо! Пришельцы — это сказка для маленьких детей. И бородатых дяденек-академиков, которые от нечего делать клепают разные теории. То изображение космонавта найдут среди наскальных росписей, то хронологию новую сварганят, которая совсем не в ладах с археологической действительностью.
И потом — Неопалимая Купина. Она-то что здесь делает? Края тут не шибко теплые, и ясенец не растет. А поди ж ты — вон он, цветет и пахнет… правда, слегка вонюче. Между прочим, цвести он должен в мае-июне, а на дворе уже… ого.
Народ между тем продолжал молиться:
«…Радуйся, радосте всемирная, ею же слезы отъемлются от очей страждущих и скорбящих;
Радуйся, прибежище благоотишное, в нем же спасаются обуреваемии бурею страстей житейскаго моря.
Радуйся, умолительнице всемогущая праведно движимаго на нас гнева Божия;
Радуйся, пламень огня угашающая росою молитв Твоих у престола Вседержителя.
Радуйся, от грома и молнии соблюдающая предстательством Твоим небесным;
Радуйся, помощь Твою святую благовременно подающая всякой душе, верно Тебе молящейся.
Радуйся, Благодатная, Купина Неопалимая, огненнаго запаления нас избавляющая…»
Наконец молитвенный экстаз закончился и все дружно встали. Ларец, который уже приобрел свой обычный — темный, металлический — цвет, унесли. Возле черного камня остались лишь девушка и Антип, который держал в руках пергаментный свиток с вислой печатью. В общей тишине он взломал печать и начал читать. Это было завещание Глафиры Миновны. Общие слова вначале Глеб пропустил мимо своего сознания; он все еще был под сильным впечатлением увиденного. Да и ничего там особенного не было: в основном наказы жителям Жмани, касающиеся конкретных дел, большей частью житейских, советы на все случаи жизни, вплоть до прогнозов погоды — когда сеять пшеницу, а когда ее жать и прочая.
Но вот несколько фраз в конце свитка заставили Глеба напрячь все свое внимание:
«…Назначаю новой Хранительницей Неопалимой Купины дочь Первосвященника Антипа Марию. Для продолжения своего рода она должна выбрать себе суженого, когда воссияет Неопалимая Купина»
— Воссияла, воссияла! — послышался громкий шепот толпы.
Антип свернул свиток в трубку и строго посмотрел на людей. Все притихли.
— Время пришло, — сказал он веско, обращаясь к девушке. — Сегодня ты сделаешь свой выбор.
Она промолчала. Казалось, что мыслями Мария была очень далеко от святилища. Непривычно строгая, отрешенная, она смотрела куда-то вдаль, поверх голов собравшихся возле кромлеха, словно ее взор мог пробить и древесный частокол, окружавший поляну, и ночной мрак.
— Холостым мужчинам стать перед новой Хранительницей! — скомандовал Антип.
В толпе пошло шевеление, и с десяток парней разного возраста (на взгляд Глеба, от восемнадцати до тридцати лет) выстроились перед Марией в шеренгу.
— Здесь не все! — громко сказал Антип.
Виктор, который стоял позади него, вдруг злобно оскалился. С какой стати? — удивленно подумал Глеб. Объяснение пришло немедленно.
— Ты! — указательный палец Антипа смотрел точно в грудь Глебу. — Три шага вперед!
Не понимая, что он делает, Глеб машинально отсчитал три шага и оказался в шеренге крайним слева. Мария словно очнулась и вперила в него свой горящий взгляд, в котором, как показалось Глебу, таилось безумие. Но эти гляделки длились мгновение; в следующий момент она взяла в руки серебряный кубок, который ей предупредительно подал кто-то из старейшин, и Антип наполнил его вином из невесть откуда появившейся запыленной бутылки.
С этим кубком Мария и пошла вдоль строя, начав с правого фланга. Она останавливалась возле каждого претендента на ее руку, и тогда неестественная бледность покрывала лицо парня, который от огромного волнения готов был упасть в обморок. Но смотрины длились недолго, и Мария продолжала двигаться дальше. Бедный отверженный мрачно опускал голову, а двое парней помоложе и вовсе залились слезами разочарования.
«Конечно… — подумал Глеб. — Такой лакомый кусочек… И жить она с мужем будет на полном общественном довольствии — с прислугой! — в тереме бабы Глаши, это как пить дать. А это не примитивная изба. И потом, мужу Хранительницы — почет, уважение… Наконец, место среди старейшин. Естественно, в будущем, когда борода седая вырастет…Господи, о чем я думаю?! Что за бред? В сотый раз себя спрашиваю — что я забыл в этой Жмани?! Какая сила вытолкнула меня в строй женихов? Я ведь мог отказаться. И вообще — я не хочу иметь жену!!! Никакую! Даже такую, как эта красавица…»
Но вот Мария словно споткнулась. Она остановилась напротив крепкого парня с небольшой бородкой клином. Он был статен и очень даже симпатичен — как былинный богатырь. Парень даже сделал шаг ей навстречу, заулыбался; похоже, он давно имел виды на девушку, да и Мария была к нему, скорее всего, не равнодушна, поэтому ждал, что испить кубок она предложит именно ему.
Увы, его ожидало жестокое разочарование. Мария лишь обожгла парня своими голубыми глазищами и гордо прошествовала дальше. Казалось, что удальца хватили обухом по темечку. Даже при свете факелов было видно, что он стал красным от стыда, как вареный рак. Парень попятился назад и только чудом не грохнулся на землю; правда, не без помощи соседа справа, такого же отверженного, как и он, который поддержал его под локоть.
И тут Глеб вдруг понял, что до него осталось всего двое соискателей руки Марии. Эти женихи были совсем молоды, и он почему-то совершенно не верил, что кто-то из них запал в душу такой красотке. В один миг все его чувства обострились до предела и кто-то невидимый шепнул ему на ухо: «Глеб, ты в опасности! Неужели?..»
Она подошла к нему почти вплотную. Глеб словно просветил девушку рентгеном и увидел ее маленькие тугие груди Венеры, тонкую талию и крутые бедра, от вида которых может сойти с ума любой нормальный мужик. Ночные видения почти призрачной амазонки на лихом коне приобрели живую горячую плоть, которая к тому же почему-то начала дышать глубоко и прерывисто.
— Ты мой суженый, — сказала она мелодичным грудным голосом, прозвучавшим в голове Глеба песней коварных обольстительниц-сирен, которые завлекали Одиссея на свой остров. — Испей… — Она протянула ему кубок. — До дна…
Не осознавая, что он делает, Глеб взял кубок и начал пить. Вино было совершенно незнакомое — густое, ароматное и, судя по спиртным парам, которые щекотали обоняние, очень крепкое.
Увы, допить вино Глебу не дали. Кто-то с силой придержал его руку с кубком, и когда Глеб поднял глаза, то увидел, что это был тот самый былинный удалец. Отверженный жених смотрел на Тихомирова-младшего с таким зверским выражением, что Глеб понял — сейчас он получит от парня по мордам.
Но этого не случилось, хотя в толпе раздался единый вздох. Отняв у Глеба кубок, парень твердо сказал, обращаясь к старейшинам:
— У меня есть ПРАВО МУЖЧИНЫ! Это наш закон. Или кто-то хочет его оспорить?
Ответом ему было гробовое молчание. Даже старейшины превратились в безмолвные столбы. Глеб бросил быстрый короткий взгляд на Марию. Лицо девушки было совершенно спокойным, но сильно потемневшие глаза выдавали бурю, которая бушевала у нее в душе. Возможно, это и не была ненависть к парню, прервавшему течение старинного обряда, но Глебу очень не хотелось бы очутиться на его месте.
Впрочем, спустя минуту он готов был поменяться ролями с нарушителем древних традиций… Выдержав паузу, парень резко сказал:
— Я требую поединка! Кто победит, тот получает ВСЕ.
В толпе пошло волнение. Похоже, народу не понравилось слово «ВСЕ», отметил про себя Глеб, который, кажется начал читать мыли деревенских жителей. Поединок… Что он собой представляет? А, какая разница!
«Не буду я драться! — решил Глеб. — Пусть этот деревенский козырь забирает себе это сокровище. Хорошая пара будет. Хотя… оно, конечно… коснись чего, вот тебе и пожалуйста. М-да… Нет и еще раз нет! Прекрати дурацкие мечтания! Не до жиру, быть бы живу…»
Наконец и старейшины зашевелились. Вперед выступил Антип. Он строго сказал:
— Одумайся, Донат! Не по разуму затевать поединок супротив воли Хранительницы.
— А ты знаешь ее волю?! — глаза Доната горели грозным огнем. — Тебе известно, что она думает?! И потом, пока Мариетта не прошла обряд очищения, ее нельзя считать полноценной Хранительницей. Сейчас она всего лишь простая девушка — такая, как и все остальные. Разве я не прав?
— Прав… Прав… — одобрительно загудела толпа.
«Похоже, в Жмани я не котируюсь, — обиделся неизвестно на кого Глеб. — А мне на это наплевать! Отпустили бы мою грешную душу на покаяние…» Так он думал, но интуиция ему подсказывала, что на этом дело не кончится.
— Есть выход, — вдруг услышал Глеб знакомый голос. — Чтобы не доводить ситуацию до смертоубийства…
Тихомиров-младший поднял голову и увидел, что рядом с Антипом встал Виктор. А последняя фраза в его короткой речи предназначалась ему, Глебу, — для запугивания — потому что Виктор не сводил с него ненавидящих глаз.
— Этот чужак имеет право отказаться от предложения Марии, — веско продолжил Виктор. — Сам отказаться, без нажима с нашей стороны.
— Он не чужак! — резко возразил Антип. — Он родственник нашей бывшей Хранительницы!
— Из-за глупых предрассудков ты хочешь сделать Донне, моего сына — сына Первосвященника! — и Хранительницу несчастными?! — резко и зло спросил Виктор. — Они выросли вместе, они с детства любили друг друга. И если бы не этот приблуда… — Виктор от ненависти заскрежетал зубами.
Донат — сын Виктора?! Вот так номер. Да уж, в этих жманьских хитросплетениях без бутылки точно не разберешься…
Антип потупился и промолчал. Теперь все взгляды были устремлены на Глеба. Наконец общее мнение высказал столетний старец с длинной седой бородой:
— Пусть чужак сам скажет… Вольному — воля…
— Да, пусть скажет! — поддержала его толпа.
Глеб оцепенел. Что делать?! Отказаться от Марии? Да, отказаться! Какие проблемы? Он все равно не собирается жить в этой Жмани.
«Стыдно-то как… — Мысль вползла в мозги, как холодная скользкая змея. — Она думала что ты мужчина, мсье Тихомиров, а ты трусливое городское чмо. Как она на меня смотрит… Драчка будет, судя по всему, вполне конкретная. Победитель получает ВСЕ? То есть, ежели я не ошибаюсь в своих предположениях, ему будет принадлежать и жизнь побежденного. Не хило. Каменный век, блин! Нет — ближе. Средневековый рыцарский турнир. И чем нам предстоит сражаться? Наверное, цепами для обмолота пшеничных снопов. Или на кулаках? Тоже для меня не мед. Вон какие гири у этого орла… Вмажет раз — и поминай как звали. Купец Калашников, ядрена мать…»
— Мы слушаем тебя! — прервал несколько затянувшуюся паузу Виктор.
И Глеб, неожиданно даже для самого себя, решился. Сурово сдвинув брови, он отчеканил:
— Ваш закон — это и мой закон. Поединку быть. Я принимаю вызов.
И тут же испуганно подумал: «Мать моя женщина! Что я такое сейчас ляпнул?! Неужто это мои слова? Ой-ей. Пора плести лапти… а лучше бы рвануть отсюда когти, пока трамваи ходят…»
Он поднял голову — и увидел устремленный на него загадочный и одновременно сияющий взгляд Марии-Мариетты. В нем читалось такое немыслимо сладостное предвкушение, что из головы Глеба вмиг исчезли разные посторонние мысли и ему показалось, будто он воспарил под небеса.
Глава 18
Остерман сидел дома, в своем кабинете, одетый в парчовый халат с золотым шитьем, и прикладывал к больным ногам мешочки со льдом. Холод заставлял отступить боль, и Андрей Иванович постанывал от облегчения.
Мнимая подагра, за которой он долго укрывался, как за щитом, когда не хотел заниматься какими-то государственными делами, входящими в противоречие с его видением ситуации, в конечном итоге к лету 1741 года превратилась в настоящую болезнь, и теперь генерал-адмирал редко выходил из дому. Поскольку своему секретарю он не очень доверял (собственно, как вообще всем, кто не был его родственником), его постоянной собеседницей, а иногда и советчицей была жена Мавра Ивановна, в девичестве Стрешнева.
Она же и лечила мужа с помощью травок и ягод: заваривала чаи из фиалки, плодов шиповника и мяты, делала мазь из перетертого в порошок древесного угля и семян льна, заставляла Андрея Ивановича фунтами есть виноград, следуя совету какой-то знахарки.
Остерман, несмотря на то, что боль понемногу отступала, особого облегчения не чувствовал. Но оно больше касалось не физической немощи, а его положения на властном Олимпе.
В принципе Андрей Иванович не мог жаловаться на судьбу, которая вознесла его так высоко. Главный его враг, фельдмаршал Миних, отстранен от должности первого кабинет-министра в марте, и Остерман снова, как и в прежние времена, задает тон в политической жизни России, а значит, и Европы. Императрица к нему благоволит, враги поджали хвосты, как шелудивые псы, и тихо скулят в подворотнях, канцелярия тайных розыскных дел снова в его прямом подчинении. Все как будто идет хорошо и плавно.
И все же, и все же… Опытный дипломат и царедворец, Андрей Иванович нутром чуял, что опять затевается какая-то интрига. С кем она связана, у Остермана особых сомнений не было. Конечно же, с Елизаветой Петровной. Эта простоватая с виду красавица-хохотунья была не так наивна, как могло показаться, и в последнее время заимела большой вес и значимость в глазах гвардейских офицеров. Дочь Петра Алексеевича — этим все сказано.
А он — дурень! Дурень! — самонадеянно решил показать, кто в государстве Российском истинный хозяин и не дал цесаревне принять персидское посольство, которое прибыло в Россию для встречи с Елизаветой Петровной. Это был непростительный промах. Пожалуй, один из немногих за всю его длинную и непорочную службу российскому престолу.
Остерман вспомнил слова цесаревны, которые она в ярости просила ему передать: «Наш новоиспеченный граф забывает, кто я и кто он сам — писец, ставший министром благодаря милости моего отца… Он может быть уверен, что ему ничего не будет прощено».
Задумавшись, Андрей Иванович не услышал, как с порога кабинета его окликнула жена. Тогда она подошла к креслу, в котором он сидел, и мягко прикоснулась к плечу.
— А, что?! — вскинулся Остерман. — Мавра Ивановна, что случилось? — Жена выглядела немного встревоженно. — Опять кличут во дворец? Пошли их ко всем чертям! Я болен… болен!
— Андрей Иванович, к тебе на прием просится иностранец, кажется, англичанин.
— Дипломат?.. — удивился Остерман.
— Нет. Личность незнакомая.
— Он в своем уме?! Частных лиц я принимаю только по предварительной договоренности. Передай ему, что у меня масса государственных дел, потому принять его не могу. Если он будет настаивать, скажи секретарю, пусть запишет его… м-м… на сентябрь. Как он представился? — спохватился Остерман.
— Барон Винтер.
— Винтер, Винтер… Это имя мне ничего не говорит. Гони его прочь! Надоели мне все эти искатели легкой жизни, приключений и больших денег. Все просят протекцию. Россия им словно медом намазана. Так и летят… словно трутни. За редким исключением.
— Знаешь, он какой-то странный… Весь в черном и взгляд у него, как у колдуна. Очень неприятный тип.
— Иди, душенька, иди… Пусть проваливает… со своим колдовским взглядом. Мне тут только всякой нечисти и не хватало. Я болен!
Мавра Ивановна вышла. Остерман уже приготовился выпить чашку целебного отвара, который успел остыть, пока он предавался размышлениям, но тут дверь кабинета отворилась снова, и смущенная жена с виноватым видом предстала перед Андреем Ивановичем.
— Ну что там еще? — недовольно спросил Остерман.
— Вот… — робко ответила Мавра Ивановна, протягивая к мужу руку с открытой ладонью.
— Что — вот?
— Барон Винтер просил передать…
Остерман взял с ладони жены серебряный жетон на цепочке — и у него похолодело под сердцем. На жетоне отчетливо просматривалось изображение сердце, увенчанное терновым венцом. Поверх сердца были отчеканены три латинские буквы — IHS[81], а выше перекладины буквы «H» — крест.
— Зови… — глухо сказал он и начал торопливо натягивать на свои изуродованные подагрой ступни домашние шлепанцы. — Ну! Быстрее! Что ты стоишь, как столб?!
Изумленная до крайности жена поторопилась уйти. Андрей Иванович еще раз посмотрел на жетон и быстро положил его на круглый столик, возле которого стояло кресло. При этом лицо генерал-адмирала исказила гримаса, но не боли, а какого-то другого чувства, не менее сильного.
«Грехи молодости…» — подумал он с невольной дрожью и тут же постарался взять себя в руки. Многолетняя привычка к дипломатической работе сработала безотказно. Когда на пороге кабинета появился Винтер, выражение лица Остермана было приятно во всех отношениях, но совершенно непроницаемо — как маска.
— Входите, входите, барон! — с напускным радушием пригласил Андрей Иванович. — Простите, что не могу подняться, чтобы поприветствовать вас, как подобает… болезнь, проклятая болезнь.
— Как я вас понимаю, ваше сиятельство… — Винтер тоже попытался изобразить льстивую улыбку, но это у него не очень получилось. — У меня у самого — особенно зимними вечерами — ноют старые раны.
— Даже так? Значит, и вам пришлось побывать в переделках…
— Да уж, пришлось…
— А вы присаживайтесь, присаживайтесь. Вот сюда, прошу-с. Не хотите ли испить чаю или кофию? А может, чего-нибудь покрепче?..
— Благодарствую, ваше сиятельство. Однако дело прежде всего. Думаю, оно относится к безотлагательным. Но самое главное — мое дело имеет прямое и непосредственное отношение к безопасности государства Российского.
— Даже так… — Остерман посуровел. — Что ж, барон, я готов вас выслушать.
«Будет просить денег… — подумал он тоскливо. — Ей-ей, будет. И под свою просьбу постарается подвести солидный фундамент. Брехать — не пахать… А как не дашь? Я много задолжал Ордену Иисуса… Думал, что хоть в России они от меня отстанут. Ан, нет… приперся… сам адмонитор[82], судя по жетону. Фигура… Дьявол!»
Винтер начал без вступления — скупо и конкретно:
— Против императрицы Анны Леопольдовны зреет заговор…
«Эка хватил! — скептически ухмыльнулся про себя Остерман. — Сия новость стара как мир. Где власть, там и заговоры. На том стоим. Но послушаем, послушаем…»
— Возглавляют его маркиз де Шетарди и шведский посланник барон Нолькен, — между тем продолжал Винтер. — Это очень опасно, ваша светлость…
— И кого они хотят видеть на российском престоле? — осторожно поинтересовался Остерман.
— Цесаревну Елизавету Петровну, — сухо ответил Винтер, воткнув свои страшные — колдовские по определению Мавры Ивановны — глазищи прямо в сердце генерал-адмирала.
Остерман даже задохнулся на миг от такой «радужной» перспективы. Даже боль в ногах куда-то пропала, и он почувствовал, что способен сейчас вскочить и бежать босиком до самого дворца. Если Елизавета Петровна станет императрицей… О, нет! Тогда лучше сразу камень на шею — и в Неву.
— Это невозможно, — машинально ответил он Винтеру, все еще путаясь в своих суматошливых мыслях. — Она не посмеет! И потом, Елизавете Петровне больше нравится жить в Москве… там у нее постоянно балы, ассамблеи… Она любит охотиться, разные игры затевает. Ее не прельщают тяжкие государственные заботы.
— Возможно, — согласился Винтер. — И будь в этом деле замешаны лишь Шетарди и Нолькен, я бы согласился, что переворот не состоится. Но вся соль в том, что за это дело взялся граф Сен-Жермен.
— Что вы говорите?!
— Да, да, уж поверьте мне.
— И все же я не могу поверить. Граф — человек новый в Петербурге. Он весь на виду. И прекрасно отдает себе отчет в том, что малейшее подозрение о его причастности к заговору может стоить ему жизни.
Барон Винтер зловеще рассмеялся. Это было так неожиданно, что Остерман вздрогнул.
— Ваша светлость, вы плохо знаете Сен-Жермена. Ему уже два раза пытались отрубить голову, однажды он стоял под виселицей, а еще к Сен-Жермену раз десять подсылали наемных убийц. И ничего, граф до сих пор жив. Мало того, почти все европейские правители от него без ума. Они считают за честь принимать у себя Сен-Жермена. Как вам такой кунштюк?
— Но это еще ничего не доказывает, — слабо сопротивлялся Остерман. — Где факты его участия в заговоре? Без достоверных фактов я бессилен что-либо предпринять. А руководствоваться слухами в моем положении непозволительно.
— Факты? — Винтер остро прищурился. — Что ж, тут вы правы. За руку Сен-Жермена поймать сложно, как бы не сказать — невозможно. Но интрига уже закручена, и первый ход в игре сделает Швеция. По наущению Франции и не без совета Сен-Жермена, который, кстати, имеет большое влияние на короля Людовика XV, шведы вскоре объявят войну России.
— Зачем?! Это глупо. Мы договорились со шведами…
— Ваше сиятельство! — довольно бесцеремонно перебил Винтер Остермана. — Вам хорошо известно, что сближение России с Австрией нежелательно не только для Пруссии, но и для Франции. Поэтому французы приложили много усилий, чтобы началась эта новая война, которая должна, по их задумке, помочь убрать с российского престола Брауншвейгскую фамилию. По моим сведениям, шведы собираются выпустить манифест, обращенный к русским, где объявят себя защитниками прав на российский трон Елизаветы и Петра, герцога Голштинского. Сильный ход, согласитесь. Ни и это еще не все. В благодарность за военную помощь в восшествии на престол Нолькен и Шетарди убеждают Елизавету Петровну уступить шведам русские прибалтийские земли.
— Даже так…
— Именно так.
«Матерь Божья! — подумал ошеломленный Остерман. — А ведь и правда это дело может выгореть. Прав был Головкин, ах, как прав, когда советовал Анне Леопольдовне, для прекращения всяких попыток к ее ниспровержению, принять титул императрицы. А она решила отложить коронование до дня своего рождения — до 7 декабря. Как бы не было поздно…»
Остерман, как никто другой, понимал, что Анна Леопольдовна мало пригодна к той роли, которая выпала на ее долю. Она была необразованная, ленивая, беспечная, не хотела и не умела вникать в государственные дела, но, с другой стороны, вмешивалась в управление страной и хотела всем распоряжаться по своему усмотрению.
Главным занятием правительницы была карточная игра, а любимым обществом — кружок лично близких ей людей во главе с ее фавориткой Юлианой Менгден. Нередко они собирались у нее с самого утра. Анна Леопольдовна выходила к ним прямо из спальни, не наряжаясь, не умываясь и даже не причесываясь, и проводила с ними в таком виде весь день до вечера, болтая о разных пустяках и играя в карты.
— И что ответила Елизавета Петровна? — с надеждой спросил Остерман.
— Ни да, ни нет. По-моему, она пока еще не решила, как ей быть.
«А может, просто притворяется… — Остерман крепко стиснул зубы. — Она истинная дочь своего отца. Взрывная, энергичная, шумная, взбалмошная — и в то же время весьма осторожная и дальновидная. Никогда не знаешь, что у нее на уме. Жаль, что цесаревна не дала согласие шведам на отступные в виде прибалтийских земель. Очень жаль… Какой козырь мог быть в моих руках!»
— Допустим, все сказанное вами — правда… — Остерман вперил свой мгновенно отяжелевший взгляд в хищное аскетическое лицо Винтера. — Естественно, все остальные действия — это моя прерогатива. Но вам-то какая от этого выгода? Чего вы ждете от меня — наград, званий, почестей, наконец, жалованных земель с деревнями и крепостными душами? Ладно, пусть не от меня — от Российского государства, не суть важно.
— Мне нужен граф Сен-Жермен, — отчеканил Винтер.
— То есть?..
— Когда будет доказано, что он заговорщик и заработает машина дознания, я хочу получить его в целости и сохранности в личное распоряжение. И чтобы об этом никто не знал. Для всех он должен исчезнуть, раствориться в необъятных просторах Московии.
— Уж не знаю, много вы просите за свое содействие или мало… — задумчиво сказал Остерман. — Но я приму к сведению вашу просьбу. И по мере возможности попытаюсь ее удовлетворить. Однако лишь в том случае, — поспешил добавить Андрей Иванович, — если вина Сен-Жермена в предполагаемом заговоре будет доказана. Вы ведь сами говорили, что граф в большой чести у короля Людовика XV, а портить отношения с Францией из-за разных пустяков у России нет никакого резона. Это я вам говорю как слуга государев.
— Не сомневайтесь, у меня есть свои каналы получения информации и до сих пор они не подводили, — несколько напряженно сказал Винтер. — Я предоставлю вам доказательства. Возможно, не так много, как хотелось бы, но, как говорили древние римляне, argumenta ponderantur, non numerantur[83].
«Адмонитор пытается показать свою большую ученость… — мысленно улыбнулся Остерман. — Проверку мне устроил. Ну-ну…»
— Manifestum non eget probatione[84], — ответил Андрей Иванович. — Нужны не просто доказательства, а ФАКТЫ.
На том они и расстались — в принципе, довольные друг другом. Остерман успокоился тем, что главный инспектор-контролер Ордена Иисуса не стал предъявлять ему требования, которые входили бы в разрез с понятиями Андрея Ивановича о чести и достоинстве верного слуги русского престола, а барон Винтер уходил от генерал-адмирала с полной уверенностью в том, что сиятельный вельможа в обязательном порядке доложит Анне Леопольдовне о их разговоре, и правительница даст указание заняться Сен-Жерменом вплотную.
Наверное, Остерман очень удивился бы, узнав, что именно в этот час граф Сен-Жермен решал очень непростую задачу, связанную с именем Андрея Ивановича. Он сидел в громадном кожаном кресле, которое привез с собой в обозе, и напряженно размышлял. В утробе этого чудовища ему хорошо думалось. Это была почти магия.
Кресло досталось графу в наследство от отца, князя Ракоци. Сен-Жермен был незаконнорожденным сыном князя, поэтому даже этот никому не нужный кожаный монстр, сработанный венецианскими мастерами, был для него дорогим (как память) и практически единственным подарком от княжеской семьи, своего рода выходным пособием. Высоты, которых граф достиг в жизни, богатство, которое он имел, все это случилось только благодаря его незаурядному уму, невероятной памяти и неким странным способностям, о которых мало кто знал.
Сен-Жермен обладал потрясающим даром предвидения. А еще он был великим алхимиком. Его величие заключалось в совершенно колдовской власти над элементалиями[85].
Откуда у него появился такой дар, графу и самому не было известно. Мало того, нередко Сен-Жермен даже не знал, как им пользоваться. Из-за чего случались не только мелкие неприятности, но и катастрофы. Может, потому, что он хоть и ощущал во время опытов присутствие элементалиев, но законы природы, по которым они существуют, ему не были известны. По этой причине в лаборатории графа-алхимика часто получалось совсем не то, что он хотел.
Сен-Жермен думал о том, что все пути ведут в Рим. То бишь к скрытному и хитрому Остерману. Люди графа обшарили все места, где могла находиться Десница Господняя, — дома Долгоруковых в Петербурге и Москве, усадьбы в имениях, и даже Раненбургскую крепость, где жил ссыльный князь с семьей, но артефакт как в воду канул. О нем не ведали ни дети покойного князя Сергея Долгорукова (а их было девятеро — пять сыновей и четыре дочки), ни слуги, ни близкие к семье опального дипломата княгини Гагарина и Хованская, ни княжеский конюх Гачнев, завербованный канцелярией тайных розыскных дел для надзора за князем Сергеем.
Оставался лишь любезный Андрей Иванович. Сен-Жермен точно знал, что он присутствовал при обыске в доме Долгорукова; мало того, Остерман настаивал на своем присутствии. Понятно, что дом обыскивали доверенные люди тогда еще первого кабинет-министра. Поэтому Сен-Жермен на полном основании мог не доверять описи имущества князя, составленной во время следственных действий.
Граф понимал, что Остерман возжелал поприсутствовать при обыске не из-за того, что ему хотелось присвоить какие-то ценности опального дипломата. Отнюдь. На это честный до мозга костей Андрей Иванович был неспособен. По-видимому, его интересовали бумаги князя Сергея.
Но когда ему попалась на глаза Десница Господняя, он не удержался и взял ее себе. Тем более, что в глазах человека несведущего она не представляла собой никакой ценности, разве что в эстетическом плане, — просто симпатичная бронзовая безделушка в виде статуэтки, изображающей кисть мужской руки с поднятыми вверх двумя пальцами. Возможно, Остерман употреблял ее для колки орехов, потому что вещица была довольно тяжелой.
Подумав об этом, Сен-Жермен невольно вздрогнул, перекрестился и гневно подумал: «Какое кощунство!» Но тут же успокоился, здраво рассудив, что в данном случае пункт римского права, гласящий: «Незнание закона не освобождает от вины», не применим.
Если Десница Господняя и впрямь у Остермана (это почти факт! — уверял себя граф), то добыть ее у генерал-адмирала будет очень трудно. Во-первых, дом Андрея Ивановича хорошо охраняется, поэтому тайно забраться в него и умыкнуть артефакт не представлялось возможным. Во-вторых, если Десница находится в кабинете Остермана, то похитить ее и вовсе архисложная задача, так как генерал-адмирал обычно засиживался за бумагами допоздна и, чтобы не беспокоить супругу, укладывался спать на просторном диване, стоящем неподалеку от письменного стола.
А в-третьих — и это самое главное — вдруг Остерману станет известно — пусть и не в деталях, ЧТО собой представляет невинная, на первый взгляд, статуэтка (правда, хорошей работы старинных мастеров)? Тогда из его рук никогда ее не выцарапаешь. Даже за большие деньги. Значит, генералу-адмиралу нужно предложить не золото, а что-то другое, более ценное. А что может быть ценнее жизни?
Сен-Жермену уже донесли, что Елизавета Петровна ненавидит Остермана. И в случае ее восшествия на престол хитрого царедворца ждет или плаха, или (в лучшем случае) лишение всех чинов и наград и ссылка. Поэтому граф все больше и больше утверждался во мнении, что путь к Деснице Господней (если она и впрямь находится у Остермана) лежит через дворцовый переворот, в подготовке которого с некоторых пор он стал принимать весьма активное участие.
Глава 19
Народ остался праздновать — по случаю оглашения завещания и вступления в права новой Хранительницы (король умер, да здравствует король!). Мужики зарезали годовалого бычка и зажарили его тушу на вертеле, предварительно исполнив обряд жертвоприношения (бросили в костер сердце, печень и почки животного и выпили примерно литр бычьей крови, смешав ее с вином), а уставшего от впечатлений Глеба проводил к дому бабы Глаши седой как лунь старичок-боровичок, потому что сам он из леса вряд ли выбрался бы.
Уходя, Глеб спиной ощутил сверлящий взгляд Виктора, который стоял у края поляны — там, где начиналась тропа. Глебу почему-то стало так противно, что он не выдержал, и, когда этот мерзкий интриган и убийца скрылся из виду за темной стеной древесных стволов, Тихомиров-младший обернулся и с вызовом изобразил интернациональный жест — показал в темноту большой палец.
Наверное, у Виктора был дар ясновидения вперемешку с дальновидением, потому что до Глеба донесся сначала приглушенный стон, а затем вопль дикой ярости вперемешку с болью. «Блин! Что это с ним?! — испуганно подумал Глеб. — Не хватало еще, чтобы он бросился вдогонку. Тогда мне точно до завтрашнего поединка не дожить. Что-то мне подсказывает — берегись, парень. Этот Виктор на все способен. К тому же мои раны так быстро, как у Антипа, точно не заживут».
Когда Глеб вошел во двор, то увидел огонек, вроде светлячка, который отплясывал над завалинкой. Присмотревшись, он увидел, что там сидит Жук и курит. При этом он явно нервничал, потому что сигарета в его руках не знала покоя.
— Почему не в постели? — спросил Глеб и присел рядом. — Уже второй час ночи.
— Мысли одолевают… — буркнул Жук и перевел дух.
«Он что, бегал вокруг дома?» — удивленно подумал Глеб. Жук хоть и старался сдержать бурное дыхание, но это ему плохо удавалось. А еще от него просто-таки разило едким запахом пота.
— Куда девались твои «телохранители»? — спросил он, закуривая.
— Спят…
— Спят?! Ни фига себе. Хорошие бойцы… Где они?
— Вон там, — указал Жук в сторону амбара.
Глеб оглянулся и наконец разглядел светлые пятна лиц мужиков, которые спали как убитые, по-детски разметавшись на охапке сена.
— Если Антип узнает, что они кемарили, вместо того чтобы присматривать за тобой, — мужикам хана, — сказал Глеб, привалившись спиной к бревенчатой стене.
— А что, Антип в этом колхозе — козырный фраер? — небрежно поинтересовался Жук. — Видал я их присмотр!
— На сегодняшний день самые козырные фраера в Жмани — это мы с тобой, Антон.
— О чем ты щебечешь, отрок?
— Завтра будет большой сабантуй.
— Что, опять пьянка? Хорошо они тут живут, весело. И главное — со смыслом.
— Насчет пьянки не знаю, а вот то, что мне придется с утра пораньше драться на дуэли, — так это точно.
— Иди ты! — воскликнул Жук.
Фальшивые нотки, неожиданно прорезавшиеся в хрипловатом голосе Антона, неприятно царапнули слух Тихомирова-младшего. Он поморщился — непонятно отчего — и ответил:
— Точно.
— Кончай заливать!
— Мне тут невесту подсунули, — как можно небрежней сказал Глеб. — Но у нее, оказывается, есть воздыхатель. Который ни в какую не хочет разойтись со мной миром.
— Дела-а… Значит, будете чистить друг другу хлебальники…
— А вот это еще не факт. Боюсь, что нам дадут в руки какое-нибудь настоящее оружие; например, сабельку вострую или топор. Разве тебе не понятно, что они тут живут в восемнадцатом (или девятнадцатом) веке. Тогда нравы были совсем другими.
— И кто эта подруга?
— Ты будешь смеяться… — Глеб помедлил, при этом краем глаза наблюдая за реакцией Жука. — Но это наша амазонка.
Жук от неожиданности поперхнулся табачным дымом и закашлялся. Ухмыльнувшись (не без невольного хвастовства), Глеб спросил:
— Впечатляет?
— Не то слово… А ты не врешь?
— Лучше бы я соврал… Если честно, у меня нет никакого желания получить по полной программе из-за дамы. Мой соперник здоров, как бык. И кормлен он не вермишелью быстрого приготовления и не чипсами, а свежим мясом и овощами без нитратов.
— Прощай, братан…
— Тебе смешно, а мне не очень.
— А может, дернем отсюда… прямо сейчас? Пока суть да дело, успеем прыгнуть в электричку.
— Боюсь, что обратной дороги для нас нет.
— Что значит — нет дороги?! Пойдем вдоль бережка, так же, как пришли сюда, — и все дела.
— Ты многого не знаешь… Если жители Жмани не захотят, чтобы мы покинули деревню, то будем ходить по лесам хоть до скончания века, и электрички нам не видать, как своих ушей. Похоже, здесь какая-то аномалия. Так мне говорил отец. А ему я доверяю.
— Брехня! Кончай пугать, Глеб. Я, конечно, склонен верить во всякую чертовщину, но не до такой же степени.
— Ладно, это твои дела… — Глеб широко зевнул. — Паду ли я, стрелой пронзенный… — запел он, отчаянно фальшивя. — Иль мимо пролетит она… Готовься, болельщик, — сказал он с наигранной бодростью. — Будешь завтра кричать «Шайбу, шайбу!». Все, я на горшок — и в постель…
Ночью Глеба посетило видение. Он долго не мог уснуть, несмотря на усталость; даже Жук первым захрапел, хотя и зашел в дом лишь спустя полчаса после того, как Глеб улегся на свое жестковатое ложе. А когда сон все-таки смежил веки Глеба, начало твориться что-то странное.
Каким-то внутренним зрением Глеб увидел, что помещение озарилось голубоватым светом. Даже не поворачиваясь в сторону источника света, он мог с уверенностью сказать, что это опять засветился крест-анк над камином. Но Глеб не только повернуться, он был не в состоянии даже пальцем шевельнуть.
И пришла Дева. Ее белые одежды были прозрачны, а движения легки и плавны. Она подошла к спящему Глебу (на удивление, он точно знал, что спит) и надела ему на шею какой-то амулет. А затем нагнулась еще ниже, поцеловала в лоб и исчезла, будто ее выдул из горницы легкий сквозняк. Свечение начало ослабевать и вскоре в помещении воцарилась темнота, а Глеб наконец уснул, да так крепко, что Антипу поутру пришлось изрядно потормошить его, чтобы он пришел в себя.
— Что ж, нервы у тебя в порядке, паря, — одобрительно сказал Антип. — Посмотрим, как ты будешь держаться, когда придет час сшибки.
— Зачем вы подставили меня? — резко спросил Глеб.
— О чем ты?
— Вы знали, что Донат имеет виды на вашу Марию… или Мариетту. Несложно было догадаться, что он не захочет отдать такое сокровище чужому дяде. И потом, Донат ее любит. А это уже не шуточки.
— Да, я все знал… — Антип посуровел. — Но изменить ничего нельзя. Тебя выбрала не моя дочь Мария, а Хранительница. Ее слово здесь — закон. Даже для меня.
— Но если это так, то причем тут поединок? Муж назначен начальницей, недовольные молчат в тряпочку, остальной народ радуется и веселится; вот и все дела. И никакого членовредительства.
— Ты, наверное, забыл, что из брака происходят дети. У Хранительницы дети особые — это наследники ее высокого звания. Поэтому их отец просто обязан быть на голову выше других мужчин. Вот так-то, паря. И потом, ты ведь сам согласился пройти испытание.
— На меня что-то нашло. Ляпнул, не подумав…
— Неужто тебе Мария не понравилась? — Антип лукаво прищурился.
— Дядя, не лезь в душу! — грубо ответил Глеб, который разозлился неизвестно отчего. — Чем сражаться придется?
— А чем захочешь. Право выбора оружия за тобой. Ведь на поединок не ты вызвал, а тебя вызвали.
— Биться до первой крови, или?..
— Или, — строго ответил Антип. — Пока противник не запросит пардону или не прекратит сопротивление. Чай, не кабацкая ссора, а бой за право называться Первым.
— А если я откажусь от поединка?
— Тогда ты станешь отступником.
— Ну и что? Уеду из вашей Жмани, и все забудется как дурной сон.
— В таком случае ты никуда отсюда не уедешь. Будешь бродить по окрестным лесам и детишек пугать — безумный и дикий. Или станешь свинопасом, если тебя помилует Хранительница.
— Лазурная перспектива… — Глеб криво улыбнулся и пошел умываться.
Удивительно, но он совершенно не ощущал страха за свою жизнь. Предстоящий поединок «на живот» казался ему не более чем компьютерной игрой — если что-то получится не так, то можно вернуться на исходную позицию и все переиграть.
«Обалдеть… — думал Глеб, окатив себя холодной водой из бочки. — Все тут сумасшедшие, и я постепенно становлюсь дуриком. Может, в Жмани воздух такой? Или меня чем-то опоили? Иду на смертный бой, как бык на заклание — тупо и целеустремленно. Мариетта, конечно, девка суперкласс… но не до такой же степени. Господи, пронеси!»
Умываясь, он неожиданно нащупал на груди цепочку с амулетом. И похолодел: значит, его сон был явью?! Глеб снял амулет и присмотрелся. Звенья цепочки были выполнены из светлого металла в виде крохотных смородиновых листиков. К цепочке крепился кожаный футляр, а в нем… Глеб не поверил своим глазам — в футляре был спрятан анк!
Темный металл древнего креста отдавал голубизной и на ощупь казался даже не теплым, а горячим. Глеб с трудом проглотил комок, образовавшийся в горле, спрятал анк в футляр, а сам амулет вернул на место. «Я, конечно, православный христианин, — подумал он, — и разные сектантские штучки мне ни к чему, но утопающий хватается и за соломинку. Если эфирная дева всучила мне этот оберег, значит, это неспроста. Будем надеяться… А что еще остается?»
Одеваясь, Глеб машинально удивился: где Жук? Напарник куда-то исчез. Во дворе даже сигаретным дымом не пахло.
Завтракать Глеб не стал. Только выпил стакан квасу. И не потому, что Антип поторапливал; просто не хотелось есть. А еще Глеб хорошо знал, что сражаться лучше налегке, на пустой желудок. Это он слышал от старых солдат, прошедших войну.
Когда Глеб вместе с Антипом появились на берегу реки, где должен был состояться поединок, там уже собралась целая толпа. Людей было так много, что Глеб даже рот от удивления открыл. Присмотревшись, он понял, что количество зевак прибавилось за счет детишек разных возрастов. Наверное, в Жмань пришли (или приехали) единоверцы из всех лесных заимок и поселений.
«Как же… событие, — с горькой иронией подумал Глеб. — Хоть так внесу свою лепту в их скучную жизнь. Будут смотреть как телевизионный сериал, только вживую. Но, боюсь, дольше одной серии он не продлится…»
В кругу, образованном людьми, уже стоял обнаженный до пояса Донат. Он разминался — массировал рельефные мышцы груди и рук. Глеб окинул взглядом богатырскую фигуру соперника и его душа опустилась в пятки. В одежде Донат выглядел всего лишь крепким парнем, и Глеб, закаленный экспедициями, надеялся, что сможет сражаться с ним на равных. Тем более, что в студенческой юности он весьма успешно занимался в секции дзюдо и выступал в спарринге с приятелями, которые увлекались боксом.
Но теперь Глеб вдруг понял, что Донат может зашибить его одним ударом своего кулачища. Как быка — между рогов. Похоже, разные приемчики с этим здоровилой не пройдут. Донат стоял в центре круга, как скала. Хорошего сынка родил себе Виктор…
«Так, значит, в драке на кулаках мне ничего не светит… — думал Глеб, чувствуя себя очень неуютно под прицелом десятков глаз; многие из них не светились по отношению к нему особым дружелюбием. — И что тогда? Придется выбирать какое-то оружие… Вон оно, лежит. Ждет… мать его! Люди-и, я ведь пацифист!!! Ага, скажи им это… Позору-то сколько будет… В общем так, Глеб Николаевич, или грудь в крестах, или голова в кустах. Третьего не дано. Вперед!»
Он подошел к оружию, которое выложили в ряд, и присмотрелся. Две сабли, два ножа — по виду, охотничьи; с таким острым и длинным клинком можно на медведя идти; два кистеня (упаси Бог! Глебу хорошо было известно, что это оружие в руках опытного бойца страшнее меча), и, наконец, две палки длиной чуть больше метра.
Глеб исподлобья глянул на Антипа, который как вывел его в круг, так и остался стоять в первых рядах. По напряженному и даже где-то просительному взгляду деревенского старейшины, которым тот смотрел то на Глеба, то на палки, Тихомиров-младший понял, что Антип страстно желает, чтобы он выбрал именно дубье.
И то верно — палкой можно всего лишь оглушить (если, конечно, правила поединка не требуют добивать поверженного противника, подумал Глеб), тогда как дуэль на саблях закончится или большой кровью и тяжким увечьем, или смертью поединщиков.
Глеб нагнулся и взял палку. Доната даже перекосило от разочарования. Наверное, он мечтал, чтобы этот наглый чужак, так невовремя перебежавший ему дорогу, взял что-нибудь посущественней. Сын Виктора последовал примеру Глеба, но при этом тихо сказал:
— И все равно башку я тебе снесу даже этим дрыном!
— Не хвались, на рать идучи, — злобно окрысился Глеб, который постепенно начал заводиться.
Возможно, они продолжили бы пикировку, но тут зашумела толпа, все расступились, и к месту дуэли подъехала на своем белом жеребце Мария-Мариетта. Рядом с конем неторопливо трусил седой (именно седой, а не серый) волк. Он был громаден — ростом с дога. А от его огромных клыков, которые он время от времени демонстрировал всем желающим, оторопь брала.
Марии поставили кресло с высокой резной спинкой, похожее на царский трон, укрыли его палантином, сшитым из барсучьих шкур, и она уселась на небольшой возвышенности и впрямь с видом царицы Савской. Конь убежал пастись, а волк примостился рядом с креслом, готовый в момент разорвать в клочья любого, кто покусится на его госпожу.
Сегодня Мария-Мариетта была одета просто: белая вышитая рубаха, черный сарафан в мелкий красный цветочек, на голове кружевное очелье, а на ногах красные козловые сапожки. Из украшений на ней было лишь недорогое янтарное монисто и анк, похожий на тот, что висел на груди Глеба (по крайней мере, звеньями цепочки в виде смородиновых листьев).
Антип быстро перечислил не шибко длинные правила палочного боя — нельзя бить «с крыла» (в данном случае сзади), нельзя бить лежачего, нельзя бить ногой и так далее — и освободил круг. Раздался свист судьи — одного из старейшин — и бойцы сошлись в центре круга.
«Блин!» — мысленно вскричал Глеб, едва не выронив свое оружие, когда Донат обрушил на него первые удары. Претендент на руку Марии молотил своей дубиной как цепом, и, несмотря не то, что Глеб все же успевал парировать его удары, они отдавались болью в каждой его мышце. Сила у Доната и впрямь была звериная. Глеб едва успевал уворачиваться.
А в общем, ему немного повезло. Хотя бы в том, что Донат-Донне от ненависти потерял возможность здраво соображать и старался закончить поединок как можно быстрее. И не просто закончить, а размозжить Глебу голову. Поэтому он бил прямолинейно — сверху, вкладывая в удар всю свою немалую силу. В связи с этим Глебу не нужно было ничего придумывать; вся его защита сводилась к тому, что он просто подставлял свою палку под удар, для верности держа ее двумя руками.
Но вот в поединке наметилась некая пауза. Это Донат, который понял, что противник не представляет для него никакой опасности, решил чуток передохнуть.
Он сделал несколько ложных замахов — только для того, чтобы расслабить мышцы — и уже готовился продолжить свою «молотьбу», но тут Глеб словно проснулся. Он никогда прежде не дрался дубьем, но видел американские и китайские фильмы, где мастера восточных единоборств демонстрировали приемы боя на палках и шестах. Естественно, в его памяти отложились некоторые приемы. И Глеб не замедлил воспользоваться своими «академическими» знаниями.
Он поймал Доната на замахе и тычком с силой воткнул конец своей дубинки прямо ему в солнечное сплетение. Сын Виктора испытал болевой и моральный шок. Он не ожидал от Глеба такой прыти. Хватая воздух широко открытым ртом, Донат-Донне попытался нанести свой коронный удар сверху вниз, но ему не хватило ни силы, ни скорости, а Глеб тем временем сместился вправо и со всей дури залепил ему палкой по челюсти.
Звук, который раздался вслед за ударом, напоминал тот, что бывает, когда лопается перезрелый арбуз. Наверное, у Доната треснула челюсть. Но нужно отдать ему должное — к глубокому разочарованию Глеба, он лишь пошатнулся.
«Здоров… сукин сын», — с сожалением констатировал Тихомиров-младший и на какое-то мгновение заколебался — добавить противнику еще раз по башке (но тогда Донату точно будет хана; а Глеб не хотел ни убивать парня, ни калечить) или свалить соперника как-то по-другому. Это промедление едва не стоило ему жизни.
Донат, опытный боец, ударил так, как не ждал Глеб — снизу, как бы с отмашкой. Удар пришелся по ребрам; Глеб от боли согнулся и тут же получил еще раз — теперь уже по голове, со всей силы. Он упал и перед его глазами зароились огненные мухи. Толпа дружно ахнула, а Донат торжествующе рассмеялся. Глеб понимал его — дело сделано. Наверное, и Мария-Мариетта сейчас хихикает. Женишок… ядрена вошь!
Глеб лежал на боку и едва не плакал от бессилья. Последний удар был настолько зубодробительным, что он почти ничего не соображал. Его мучил стыд и то, что он не в состоянии даже подняться, чтобы продолжить поединок. А Донат подначивал: «Вставай, мухомор городской! Хватит цветочки нюхать. Сразись, если ты мужчина. Ну! Дрейфишь? Э-эх, сопля…»
Неожиданно Глеб почувствовал, как его словно окатили ледяной водой, а затем он ощутил горячую волну, — почти кипяток — которая пробежала по жилам и осветлила голову до полной прозрачности. Эта странная волна брала начало от амулета, подаренного призрачной Девой. Неимоверный прилив сил буквально взметнул его вверх; Глеб встал на ноги, как детская игрушка Ванька-встанька. Каждая мышца его тела налилась огромной силой, а кровь, которая текла из рассеченной головы, вдруг свернулась и рана начала затягиваться.
Донат опешил. Он не ожидал такого поворота. Но медлить не стал. Коротко замахнувшись, он со всей своей немалой силушки опустил палку на голову Глеба, который стоял, вытянув руки по швам, и смотрел вокруг ничего не понимающим взглядом. И когда казалось, что палка вот-вот соприкоснется с черепом Глеба, и после этого деревенским женщинами останется лишь пошить «дорогому гостю» саван, его рука вдруг взметнулась вверх и перехватила оружие Доната.
Все последующее Глеб запомнил смутно. Он вырвал палку из рук Доната с такой легкостью, словно перед ним был пацан ясельного возраста, но никак не деревенский силач, а затем схватил его за шею и поднял над землей на добрых полметра — как нашкодившего щенка. Поднял одной рукой!
Тишина, которая упала на толпу, была не мертвой, а какой-то потусторонней. Все вокруг замерло и остановилось. Даже волк Марии перестал дышать. Наверное, для того, чтобы Глеб мог услышать то ли шепот Виктора, то ли его мысли: «Не надо, не убивай! Отпусти моего сына. Прости нас, прошу…»
Глеб глубоко — всей грудью — вдохнул воздух и разжал пальцы; Донат упал на землю как тряпичная кукла — даже не дернулся. Он был в глубоком обмороке. Ни на кого не глядя, Глеб прошел сквозь толпу, которая расступилась перед ним точно так же, как перед Марией, и направился к «терему» бабы Глаши.
По дороге Глебу попался Виктор. На перекошенной от переживаний физиономии отца Доната-Донне блуждало жалкое и льстивое выражение — как у побитой собаки. Глебу даже показалось, что он поклонился ему; правда, не очень низко. Глеб даже не посмотрел на него, прошел мимо.
В «тереме» никого не было. Даже Жука. «Куда он запропастился?» — мельком подумал Глеб, и упал на лавку. Огромная, нечеловеческая усталость навалилась на него каменной глыбой и он то ли потерял сознание от перенапряжения, то ли уснул.
Проснулся Глеб от пения. Он с трудом поднял тяжелые веки, нехотя повернул голову… и резко вскочил.
Горница полнилась женщинами. В длинных — до пола — белых сорочках, расшитых красными и черными нитками, с распущенными волосами, на которых, как короны, красовались венки из поздних осенних цветов, они показались Глебу русалками из фильма по произведению гениального Гоголя «Майская ночь или утопленница». Стоя возле входной двери, женщины пели какую-то старинную песню — настолько слаженно и благозвучно, что она звучала в ушах Тихомирова-младшего райской музыкой.
— Вставай, милок, — мягко сказала одна из них, тетка Ефросинья (Глеб знал ее имя, потому что она готовила и приносила в «терем» еду). — Пора…
— Не понял… Что значит — пора?
— Ужо вечор, — сказала тетка Ефросинья, указывая на темное окно.
— Ну и что? Причем тут вечер? Оставьте меня в покое, я устал!
— Испей… — не слушая возражений Глеба, протянула ему тетка Ефросинья вместительный золотой кубок, на ножке которого был выгравирован анк.
Нестерпимая жажда вдруг охватила Глеба, и он прильнул к краю кубка, как голодный младенец к соске. Жидкость, которая пролилась в его желудок, напоминала охлажденное полусухое вино, но вот только из чего оно сделано, Глеб так и не понял — даже когда кубок показал дно.
— Пойдем, миленький, пойдем ЗВАНЫЙ, — сказала тетка Ефросинья, и Глеб покорно последовал за ней, на ходу удивляясь, что это с ним.
Он совсем потерял волю и повиновался командам женщин, как настоящий зомби, хотя сознавал это и даже пытался противиться, но очень слабо. Тетка Ефросинья отворила мало приметную дверь, которую закрывала бархатная штора, и они очутились… в мыльне! Крохотная банька была вся в мраморе, с резными элементами и мозаичным полом, а посреди нее стояла широкая дубовая бочка, полное подобие японской фураке[86].
Несмотря на слабое сопротивление Глеба, его раздели догола и едва не силком запихнули в бочку-фураке. Вода в ней была в самый раз — не очень горячая и с запахом цветов. Наверное, в нее добавили какое-то ароматическое масло.
Три старых женщины во главе с теткой Ефросиньей помыли почему-то совсем не стесняющегося Глеба с большим тщанием и укутали в кусок льняного полотна. А затем начали облачать в одежды, которым стукнуло сто лет в обед, а может, и больше — в тонкое шелковое белье, узкие брюки, белоснежную рубашку с жабо и сюртук с золочеными пуговицами. Обулся Глеб уже самостоятельно — в лаковые черные штиблеты. Белые носки явно вязали крючком и на каждом черной шелковой нитью был вышит анк.
Удивительно, но, несмотря на старинный покрой одежды, материал, из которого ее пошили, показался Глебу совсем новым, свежим, а обувь словно только что вышла из рук сапожника. Мало того, все сидело на нем как влитое, будто костюм был предназначен именно для него.
— Мир и свет тебе, ЗВАНЫЙ! — торжественно провозгласила тетка Ефросинья, когда Глеб снова очутился в горнице, где толпились остальные женщины.
И хор грянул — на этот раз, как показалось Глебу, чересчур громко:
Аз есть свет миру!
Бог есмь прежде всех век!
Ведаю всю тайну в человеце и мысль
Глаголю людям Мой.
Добро есть творящим волю Мою,
Есть гнев мой на грешникы.
Живот дах всей твари.
Зло есть законопреступником…
Глеб, удивленный дальше некуда, узнал в торжественной старинной песне, исполняющейся речитативом, так называемую «Азбучную молитву»[87]. В свое время он писал по ней курсовую работу. «Похоже, сектанты считают ее откровением или чем-то в этом роде», — решил Глеб. «Азбучную молитву», насколько он помнил, приписывали и святому Кириллу, и Константину Преславскому, и даже святому Григорию Богослову, который создал «Алфавитал» — набор нравоучительных сентенций типа «плохо быть бедным, но еще хуже разбогатеть через злое».
Тетка Ефросинья взяла Глеба за руку и они поднялись по крутой лесенке на второй этаж, где две юные девицы в «русалочьих» одеяниях распахнули перед ним резные створки высокой двери. Любопытный Жук попытался было открыть эту дверь, но она оказалась замкнута, поэтому Глеб не знал, что за ней скрывается.
А скрывалась за дверью роскошная спальня в стиле ампир: огромная кровать на толстых точеных ножках, над нею — балдахин, с правой стороны — шикарный камин, отделанный малахитом, с левой — большое зеркало в резной золоченой раме и очень красивый туалетный столик, место которому только в музее (как навскидку определил Глеб, раритет девятнадцатого века). Возле камина, в котором теплился огонь, стоял круглый столик и два кресла с высокими спинками. Столик был сервирован — вино в хрустальном графине, фрукты и печенье; там же стоял старинный бронзовый подсвечник, в котором горели две свечи.
Но все это великолепие Глеб окинул одним глазом. Главной ценностью уникальной спальни (уникальной и совершенно немыслимой в этой глуши с точки зрения нормального человека), была Дева. Ее наряд потрясал воображение. Перед Глебом стояла парижская модница конца восемнадцатого века, но только гораздо краше, потому что она была не нарисованная, а живая. Талия Девы, затянутая в корсет, показалась Глебу чуть толще его шеи.
Заглянув в ее огромные глазищи, Глеб вдруг почувствовал, что еще немного, и он потеряет сознание от нереальности происходящего; он словно попал в ожившую картину старинного художника, куда Тихомирова-младшего вписали помимо его воли. Все происходило, как во сне; даже его движения были плавными, какими-то заторможенными.
Хор умолк, дверь позади закрылась, и они остались наедине. Мария-Мариетта молча подошла к Глебу, взяла его за руку, усадила в одно из кресел, а сама села напротив. Глеб смотрел на нее, не в состоянии произнести ни единого слова. Он вдруг понял, что любит эту девушку так, как никого в этой жизни не любил.
Это было совершенно безумное чувство. Краешком пока еще не совсем затуманенного сознания он понимал, что его чувства, скорее всего, навеяны гипнотическим воздействием девушки и тем напитком, который он выпил. Но остатки здравого смысла тут же утонули в мощной волне неистового желания обладать красавицей. У Глеба даже испарина выступила на лбу.
Мариетта лукаво улыбнулась, словно подслушала нескромные мысли Глеба, и налила вина в фужеры на высоких ножках.
— Испей, — сказала она. — Испей ЗВАНЫЙ…
Ее голос прозвучал в голове Глеба серебряными колокольчиками. Он был одновременно и бархатным, и хрустально-чистым, и звонким.
Глеб машинально взял фужер и выпил до дна. Его вдруг охватила молодецкая удаль. Эх, пропадать, так с музыкой!
— Плесни еще, — сказал он, нахально улыбаясь.
Сказал — и удивился. Фраза, которую можно произнести за секунду-две, в его устах растянулась едва не на полминуты. Создавалось впечатление, что Глеб неожиданно стал косноязычным.
Мария-Мариетта исполнила его просьбу с удивительной грацией, и Глеб, чтобы скрыть смущение, снова осушил свой фужер до самого донышка. «Напьюсь, а там хоть трава не расти!» — подумал он с гусарской удалью.
«Ведьма, ведьма! — вдруг зазвучал у него в голове чей-то чужой голос. — Уходи, беги от нее, парень! Пропадешь!» Глеб тряхнул головой и голос исчез. Мариетта смотрела на него исподлобья остро и пытливо. Неужели она поняла, что кто-то пытается помешать их рандеву?
Вино ударило в голову с такой страшной силой, будто на Глеба наехал поезд. Он совсем поплыл. Но его движения по-прежнему были четкими, и, глядя со стороны, никто не сказал бы, что он пьян. Его состояние выдавала лишь бессмысленная улыбка и вмиг поглупевшие глаза, которые смотрели на девушку со страстью и неистовым вожделением.
В какой-то момент она вдруг поднялась и подошла к Глебу. Он машинально встал, а затем, сам не понимая, что делает, поднял Марию на руки и понес ее к постели. Они упали в накрахмаленные простыни… — и началось сплошное безумие.
Никто из них не проронил ни единого слова. Слова были просто лишними. В спальне слышались только страстные стоны, охи и ахи и учащенное дыхание. Так продолжалось довольно долго. А потом раздался крик, который, казалось, услышала вся Жмань. Это в пароксизме любви кричала Мария-Мариетта…
Глеб лежал на кровати, полностью опустошенный. За окном занимался рассвет, но какое ему было дело, который час? Все произошедшее ночью казалось нереальным. Они сливались в экстазе много раз, Глеб даже сбился со счета. Он повернул голову и слабо удивился — на смятой постели, кроме Глеба, никого не было. Когда ушла Мариетта, он понятия не имел.
Глеб сел и посмотрел на кровать повнимательней. На белоснежной простыне виднелись пятнышки подсохшей крови. Значит, Мариетта была девственницей… А он подумал, что это ему показалось. Впрочем, ночью он вообще ни о чем не думал. Его охватила такая безумная всепожирающая страсть, которой Глеб никогда в жизни не испытывал. Ночью он был не интеллигентным человеком, кандидатом наук, а примитивным животным, оленем-самцом во время гона.
«Меня чем-то опоили…» — вяло подумал Глеб и подошел к столику. Он по-прежнему был накрыт, только вместо графина стояла запыленная бутылка с пробкой, залитой сургучом. Глеб откупорил ее, наполнил фужер густым выдержанным вином и выпил мелкими глотками, наслаждаясь незнакомым, но очень приятным ароматом и бархатной крепостью напитка, который не обжигал, а согревал.
Попав в желудок, вино произвело там фурор. Во-первых, Глебу сильно захотелось есть, будто он голодал не меньше трех суток, а во-вторых, утреннюю вялость будто рукой сняло. Тихомиров-младший снова почувствовал себя молодым человеком, полным сил и творческих замыслов.
Но удивительное дело — неистовая любовь к Марии-Мариетте, которую он испытывал ночью, куда-то испарилась. В его смущенной душе остались лишь островки немыслимого блаженства, которые таяли очень быстро — как льдинки в бокале с виски. И в сознании Глеба по-прежнему копошилось смутное подозрение, что его обманули, что ночные события — всего лишь приятный сон, навеянный каким-то зельем.
Глава 20
Весенний паводок наделал в Петербурге немало бед. Высокая вода практически разрушила неказистый домик Антипки. Его семья ютилась у дальних родственников, пока отец с братьями восстанавливали порушенные стены жилища и крыли крышу, а сам гарсон ночевал на кухне «Австерии». Сердобольный повар-немец отвел ему угол, где мальчик и коротал ночь.
Для немца это было выгодно и удобно — всегда на подхвате лишние руки. Поэтому сон Антипки был короток и беспокоен, так как его нередко заставляли помогать еще и поварятам, работающим в ночную смену. Днем бледный и отощавший Антипка досыпал на ходу, слоняясь между столами с видом сомнамбулы.
«Все равно убегу! — жаловался Антипка своему другу Фанфану. — Нет покоя ни днем, ни ночью. Батя совсем озверел, как приду домой, обязательно выпорет. За что? Кабы знать… Поди, считает меня, как и братья, белой костью, дармоедом. Это меня-то! Всю семью кормлю. А он еще и денег требует на выпивку. Мне и самому деньги нужны. Тяжко…»
Фанфан сочувствовал Антипке, но в побег идти не соглашался даже из чувства товарищества. Его страшили русские просторы, которые ему довелось увидеть через окно дормеза. Фанфан не представлял, как можно жить в лесном скиту, вдали от людей и вообще от мира. Это же какая скука! Всю свою сознательную жизнь он провел среди бурлящей человеческой массы и чувствовал себя в этом котле страстей, как рыба в воде.
И потом, Фанфан не оставлял надежд на Винтера, пообещавшего сделать его богатым человеком. Правда, в последнее время подросток начал немного сомневаться в намерениях своего покровителя, потому что мсье Винтер стал резок с ним, груб и раздражителен. Наверное, на него так подействовала атмосфера Московии, где господа с простым людом особо не церемонились.
Что касается Сен-Жермена, то Фанфан почти его не видел. Граф мотался по всему Петербургу, начиная с утра и до поздней ночи. Ночью ему тоже не было покоя, так как Сен-Жермена, успевшего за год стать петербургской знаменитостью, часто приглашали на балы и ассамблеи, где он пользовался большим вниманием девиц на выданье и их великосветских мамаш.
Кроме того, граф несколько раз ездил в Москву и Стокгольм. Чем он занимался, начиная с зимы, было большой тайной. К этой тайне допускались только самые доверенные слуги Сен-Жермена, в число которых Фанфан не входил. И не потому, что граф ему не доверял, а по причине своего малолетства. Видимо, дело, которое затеял Сен-Жермен, было очень серьезным и опасным.
Поиски в доме продолжались, но как-то вяло; похоже, графу было не до них Из-за этого Винтер сидел в Петербурге, как на иголках. Он все хотел дознаться, чем так озабочен Сен-Жермен, но Фанфан лишь разводил руками — увы, это не в его скромных силах.
Мальчик даже подслушать не мог, о чем граф в своем кабинете разговаривал с людьми, которые обычно приезжали (вернее, приплывали по Неве; как сообразил Фанфан, чтобы за ними не могли проследить) к нему под покровом ночи и старались не показывать свои лица. Куда бы Фанфан не ткнулся, у него на пути всегда вставал китаец Ван, невозмутимый и молчаливый, как бронзовое изваяние буддийского божка.
Китайца подросток боялся, как никого иного. Казалось, что он видит человека насквозь. Когда Ван обращал на него свои узкие раскосые глаза, Фанфану хотелось немедленно куда-нибудь спрятаться. Хорошо, что он был постоянно при Сен-Жермене. В противном случае вездесущий сторожевой пес графа точно узнал бы про большую тайну Фанфана, появившуюся у него с некоторых пор.
Все случилось в конце мая. Изнывающий от безделья Фанфан, который теперь больше сидел на месте, чем бегал по поручениям графа, мечтал раскрыть тайну привидения. Он вспомнил, что рассказывал о привидениях конюх дядюшки Мало старый Цезарь. Будто стоит лишь проследить, в каком месте оно исчезает, а потом копай там и найдешь клад. Цезарь божился, что привидения охраняют несметные сокровища; только по этой причине они не могут упокоиться с миром как честные христиане.
Клад — это здорово… Будь у Фанфана много денег, уж он нашел бы им достойное применение. Не отыскали бы его тогда ни Винтер, ни граф. Свет большой…
Поэтому Фанфан подолгу просиживал возле окна, надеясь, что привидение появится снова. Он уже и грот обследовал, в котором оно исчезало, но его ждало разочарование — там был сплошной камень и лопата, которую мальчик прихватил с собой, оказалась не нужной.
В эту удивительно теплую весеннюю ночь к Фанфану пришло предчувствие. Он неожиданно начал нервно дрожать, а кожа покрылась гусиными пупырышками, будто на него дохнуло зимним холодом. «С чего бы? — взволнованно думал мальчик, прильнув к оконному стеклу. — Неужто сегодня появится привидение?»
И оно явилось! Белая женская фигура в прозрачных одеждах величаво плыла по саду, направляясь к гроту. Превозмогая страх, Фанфан схватил шпагу и выскочил в окно. «Сейчас или никогда!» — подумал бесстрашный мальчик. Храбрости ему добавлял большой серебряный крест, который обычно носят русские священники и который он приобрел на свои сбережения. От того же Цезаря он узнал, что всякая нечисть, в том числе и привидения, боятся только серебра. То, что крест был не католический, а православный, мальчика не смущало — Бог един.
Фанфан бежал по саду совершенно бесшумно — почти как привидение. Он настиг его у входа в грот. Сначала Фанфан хотел пронзить призрачную фигуру шпагой, да вовремя вспомнил, что это бесполезно; можно ли убить туман? Поэтому он поднял перед собой крест и грозно сказал:
— Именем Господа нашего — остановись и повинуйся мне!
Эту формулу опять-таки подсказал Цезарь, который, несмотря на преклонные годы, обладал неуемной фантазией и был великолепным рассказчиком.
Увы, «формула» Цезаря не сработала. Привидение бросило крохотный светильник, едва теплившийся в его руках, развернулось и бросилось бежать. Но раззадоренный Фанфан уже не боялся ни черта, ни самого дьявола. Он бросился вслед за привидением, настиг его и схватил за край одежды.
— Стой, кому говорю! — из-за большого волнения он крикнул фальцетом.
— Отстань, болван!
Разверзнись сейчас перед мальчиком земля — и тогда его изумление было бы меньшим, нежели после этих слов. Привидение может говорить! И оно говорит по-французски!!! Тут Фанфан вспомнил, что он по запарке забыл русский язык и обращался к привидению на своем родном языке.
С глаз Фанфана словно кто-то невидимый убрал пелену. Перед ним в лунном свете стояла прелестная девочка примерно одного с ним возраста, одетая в длинное белое платье (видимо, шелковое, потому что оно мало что скрывало), а на плечах у нее была газовая накидка.
— Т-ты как?.. Т-ты п-почему?.. — заикаясь начал было Фанфан и умолк, потому как у него не хватило слов — ни французских, ни русских.
— Потому! — сердито ответила девочка — уже по-русски. — Пусти! — Она выдернула из рук Фанфана подол платья.
До Фанфана наконец дошло, что это никакое не привидение, а живая девочка, притом очень даже симпатичная. Пытаясь скрыть замешательство, он грубо спросил:
— Какая нелегкая носит тебя ночью в чужом саду?!
— Это для тебя он чужой, — парировала девочка.
— Что ты этим хочешь сказать?
— А то, что и дом, и сад принадлежат моей семье. Теперь понял, глупый французик?
У Фанфана в голове стало совсем как на Обжорке в воскресный день — толпа бестолковых мыслей галдела на все голоса. Он вообще перестал что-либо соображать и лишь промычал в ответ что-то маловразумительное. Девочка снисходительно улыбнулась и примирительно сказала:
— Кавалер, не угостите ли даму чашечкой кофия?
Фанфан потерянно кивнул и они зашли в дом. Но не через окно в спальне Фанфана, а через неприметную, всегда запертую дверь, от которой не могли найти ключа. А у девочки он был. Фанфан лишь удивлялся, но помалкивал. Он лихорадочно размышлял, где ему достать кофе, потому что у него был лишь чай. И то, и другое стоило больших денег, но мешочек чая Фанфан все-таки ухитрился стащить из буфета, а вот кофе повар держал под замком.
Самовар у Фанфана был «под парами», поэтому с кипятком проблем не было. Обычно на ночь он выпивал чашку горячей медовой воды, куда добавлял немного вина. Сегодня Фанфан не захотел ужинать с прислугой и взял еду сухим пайком — словно знал, что у него будут гости.
— Кофе у меня нет, — сказал он виновато. — Есть чай…
— Давай чай, — согласилась девочка, с любопытством рассматривая комнату. — Только погорячей.
Фанфан немного помялся, но все-таки спросил:
— А есть будешь?
— Это было бы неплохо…
Обрадованный подросток вывалил на стол содержимое пакета со съестными припасами: холодную телятину, кусок белорыбицы, два куска сытного, пирожки с зайчатиной и несколько медовых пряников.
— Шикарно! — девочка сглотнула голодную слюну. — Да у тебя тут, почти как в трактире.
— Ну так… — Фанфан расплылся в улыбке; постепенно к нему начало возвращаться душевное равновесие и он стал тем, кем был на самом деле — парижским сорванцом. — А вот это ты видала? — он нырнул под кровать и достал бутылку мальвазии.
В винном погребе графа Фанфан, по старой «военной» привычке, распоряжался тайком как в своем собственном. Густав, исполняющий обязанности (ко всем прочим) еще и камердинера, лишь недоуменно чесал в затылке, подсчитывая винные запасы господина. Они таяли на глазах. Кто ж виноват, что у дворника Онфима, которого Фанфан снабжал дармовым спиртным, такой бездонный желудок… Но себе Фанфан брал немного и только дорогие вина. Правда, пил он совсем мало.
Вино и сытный ужин за какой-то час сделали Фанфана и девочку (ее звали Глаша) почти закадычными друзьями. Причину столь чудесной метаморфозы Фанфан понял, когда раскрасневшаяся от вина Глаша рассказала ему (едва не шепотом) свою тайну:
— Поведаю только тебе… ты француз и никому не побежишь докладывать. Не то, что наши… Ведь не побежишь, а?
— Клянусь, что никому ничего не скажу! — ответил Фанфан. — Даже под пыткой!
Для большей убедительности он достал из кармана свою наваху и поцеловал клинок. Клятва на холодном оружии — самая крепкая. Кто ее нарушит, тому смерть. Так говорил солдат-испанец, подаривший Фанфану наваху.
Возможно, девочка этого не знала, но тем не менее порыв Фанфана она оценила по достоинству.
— Я дочь князя Сергея Григорьевича, — сказала она несколько напряженным голосом; но увидев в глазах Фанфана недоверие, тут же поспешно добавила. — Внебрачная…
— А… Тогда понятно, — ответил Фанфан, хотя на самом деле понятного было мало.
От Онфима он уже знал, что все дети казненного князя Долгорукова разосланы по своим вотчинам. Если Глаша — дочь Сергея Григорьевича (пусть и внебрачная), то что она делает в Петербурге? И почему ночами бродит по саду?
— Верь мне, — горячо сказала девочка. — Я сказала правду. Хочешь побожусь?
— Зачем, не надо! Я верю.
— Врешь, ой, врешь… — Глаша надулась.
— Ну честное-пречестное слово — верю! Почему я не должен тебе верить?
— А хотя бы потому, что никак не осмелишься спросить, с какой стати я таюсь, а не живу открыто.
— Считай, что я уже спросил. Но все равно я тебе верю.
— Упрямый!.. — В глазах Глаши загорелись опасные огоньки. — Ладно, слушай. Мамка моя померла четыре года назад… какая-то женская болезнь. Меня определили в частный пансион мадам Коко. А когда отец… когда его… — Тут глаза девочки наполнились слезами. — Меня выгнали на улицу, потому что платить за мое обучение и содержание стало некому. И вообще…
— Понятно… — задумчиво и даже нежно сказал Фанфан; в его душе поднялась теплая волна жалости к бедняжке. — И как же все это время ты жила?
— Папинька оставил мне немного денег… он как предчувствовал беду. Я сняла себе комнату… неподалеку отсюда.
— А зачем ходишь к дому?
— Дверь. Все дело в ней. Папинька дал мне от нее ключ. Он не хотел, чтобы кто-нибудь из слуг или домочадцев видел, что мы встречаемся. Когда я училась в пансионе, то по воскресеньям гостила у него. Он давал мне деньги на карманные расходы, угощал сладостями… Когда его не стало и когда дом стоял пустой, я приходила сюда, чтобы взять что-нибудь из одежды и белья. Ведь такие вещи покупать мне было накладно.
— Онфима напугала… — Тут Фанфан погрешил против истины, «забыв» сказать, что и сам он праздновал труса. — Сказала бы ему. Он добрый.
— Да, добрый, но глупый. И язык у него как помело. Напьется — вся Мойка будет знать про меня. А значит, и фискалам канцелярии розыскных дел станет известно.
— И то верно…
С той поры Фанфан и Глаша стали встречаться очень часто (правда, тайно). Оказалось, она давно за ним наблюдала, знала как его зовут, кто он и чем занимается. Мало того, она почему-то была уверена, что они познакомятся и станут друзьями.
Девочка сильно истосковалась по общению со сверстниками, потому как вела преимущественно затворнический образ жизни из-за боязни, что власти узнают в ней внебрачную дочь князя Сергея Долгорукова, которую все считали беглой. И если бы ее изловили, то участь Глаши была уже определена — монастырь и постриг. Чего девочка не хотела ни в коем случае.
«Я лучше умру, но в монастырь не пойду! — говорила она Фанфану, сверкая своими огромными глазищами. — Я хочу быть свободной! Читать молитвы с утра до вечера, угорать от дыма свечей и бить поклоны — не по мне, увольте…» Похоже, обучение в пансионе француженки мадам Коко отвратило Глашу от христианского смирения…
А между тем события начали ускоряться, закручиваясь в тугую пружину. Мало того, они не только ускорились, но и приняли трагический оборот. Это произошло незаметно, и разве мог кто-нибудь из слуг графа Сен-Жермена (и даже он сам при всей своей проницательности) подумать, что день 20 июля (а точнее — ночь) станет для обитателей дома князя Долгорукова роковым?
Сначала — восемнадцатого числа — одна из бригад, методично обыскивающих дом князя Сергея, нашла тайник. Весть об этом событии мигом разнеслась по дому, хотя граф и хотел все сохранить втайне. К сожалению, Фанфану так и не удалось узнать перечень всего, что находилось в тайнике (ему удалось подслушать лишь то, что там лежала сабля, какие-то безделушки и немного драгоценностей), но он немедленно сообщил о находке Винтеру, который от этого известия необычайно оживился.
Расспросив Фанфана, в какой из комнат может находиться содержимое тайника (детальный план дома князя Долгорукова у Винтера был уже давно), барон спросил:
— Не собирается ли князь в ближайшее время куда-нибудь уезжать?
— Да, собирается, — честно ответил Фанфан. — Утром двадцатого числа. Велел конюхам готовить экипаж для дальней поездки. Лошадей потребовал выездных, самых выносливых.
— Тэ-эк-с… — Винтер быстро потер ладонями, будто его зазнобило. — Похоже, он получил свою козырную карту… Что ж, ударим ее тузом. Вот что, мой мальчик, тебе предстоит сложное задание. Ты должен сегодня вечером отворить входную дверь дома. Да, да, я понимаю, это опасно! Но иного выхода у нас нет. Насколько мне известно, Сен-Жермен сегодня приглашен на ассамблею к Остерману. В доме останется совсем немного слуг. Теперь он всегда ездит с охраной. Так что у нас появился отличный шанс… — Винтер не договорил, но Фанфан и так все понял.
И очень испугался. Он уже знал, что Винтер в Петербурге не один, что у него под рукой целая шайка головорезов, составленная из французов, которые приехали с ним, и разного петербургского сброда. А такие люди средств для достижения цели не выбирают и обычно идут по прямому пути — удар ножом, и все проблемы решены.
Однако делать Фанфану было нечего. Он полностью зависел от Винтера. Поэтому мальчик сумрачно кивнул и они начали обговаривать детали предстоящего налета на жилище графа Сен-Жермена…
Поначалу все шло как нельзя лучше. Граф и впрямь уехал на ассамблею в окружении вооруженной охраны (по ночам в Петербурге часто шалили лихие люди, несмотря на все усилия властей). В доме остались лишь повар с помощником, хромым чухонцем, русская горничная, — дородная тетка лет сорока, которая по совместительству была и ключницей, и Онфим. Но его в расчет можно было не брать. Фанфан принес ему четверть крепкого вина, и дворник самозабвенно дегустировал заморский напиток, закусывая вяленой воблой. А в таком состоянии Онфим не услышал бы и извержение вулкана в центре Петербурга.
Что касается повара Ганса с помощником, то обычно из кухни они не выходили. И потом, кухня находилась в дальнем крыле первого этажа, а Винтер нацелился на кабинет Сен-Жермена.
Тело Фанфана сотрясала крупная дрожь. Нет, он не боялся. Подростка терзали муки совести. Да, его хозяин — мсье Винтер. Но ведь и Сен-Жермен относился к нему очень хорошо — прилично одевал, кормил сытно, платил деньги, пусть и небольшие, разговаривал с ним не как с человеком низкого происхождения и звания, а как с равным, только младшим по возрасту… Фанфан был в страшном смятении.
Шайка Винтера ворвалась в дом почти бесшумно. Видно было, что люди в ней собрались битые, но железная рука Винтера надела на них узду беспрекословного подчинения, что совсем не свойственно разбойничьей вольнице.
Винтер сразу же поднялся на второй этаж, где находился кабинет Сен-Жермена (его проводил Фанфан), а мальчику приказал поступить в распоряжение угрюмого длинноносого соотечественника, судя по выговору, беарнца.
— Где поварня? — сразу же спросил беарнец.
— Зачем вам?
— Надо. Веди. Не ровен час, кто-нибудь из дворни поднимет шум… В общем, понятно. Давай, давай, топай!
Пришлось Фанфану провести беарнца и еще двоих малых совершенно разбойного вида на кухню. Увидев незнакомых вооруженных людей, повар что-то залопотал по-немецки на неизвестном Фанфану наречии; наверное, с испугу Ганс заговорил на языке местности, где он родился. Беарнец хищно ухмыльнулся и, не говоря ни слова, пронзил его шпагой. Такая же участь ждала и бедного чухонца, который сразу понял, что ему предстоит, поэтому вместо лишних в такой ситуации стенаний и просьб не убивать начал молиться.
— Зачем?! — вскричал Фанфан. — Они бедные, совсем безвредные люди!
— Молчи, дурак! — прикрикнул на него беарнец. — Хозяин приказал. Где ключ, которым ты открыл парадное? Дай сюда… Это повар? — указал он на неподвижное тело Ганса.
— Д-да… — Несчастный Фанфан едва вытолкнул из горла одно-единственное слово.
Он искренне горевал по Гансу. Немец был так добр к нему, всегда подкладывал самые вкусные кусочки… Фанфан напоминал ему старшего сына, который остался в Саксонии. А еще у Ганса было четверо дочерей.
— Тащите этого, — приказал беарнец двум своим подручным, указав на чухонца.
Помощника повара отнесли к двери парадного и бросили там, предварительно воткнув ему в руки ключ. Теперь Фанфан понял замысел весьма предусмотрительного Винтера. Если что-то пойдет не так, как задумано, то на мальчика не должна упасть даже тень подозрения. Ключ в руках мертвого чухонца был серьезной уликой и указывал на него как на сообщника разбойников, впустившего их в дом. Что касается самого ключа, то Фанфан стащил его из комнаты ключницы, сняв с запасной связки.
Потянулись томительные минуты ожидания. Винтер обыскивал кабинет Сен-Жермена, а остальная братия разбрелась по комнатам в поисках поживы. Лишь один Фанфан неприкаянно слонялся по второму этажу, с тревогой прислушиваясь к настороженной тишине, которая прерывалась лишь шорканьем ног грабителей. Несмотря на то, что в доме, как уверил всех Фанфан, не осталось ни единой живой души (ключницу тоже убили), разбойники по-прежнему вели себя тихо. Выучка Винтера…
Фанфан сильно боялся за жизнь Онфима, поэтому молил святых и Деву Марию, чтобы глуховатый сторож-дворник ничего не услышал и продолжал допивать свое вино. Мальчик, у которого никогда не было родного деда, сильно привязался к старику. У Онфима в сторожке Фанфан чувствовал себя так, будто у него появилась семья и собственный угол. Когда беарнец спросил, есть ли еще кто-нибудь в доме, Фанфан недрогнувшим голосом ответил, что нет.
Неожиданно в парадном раздался какой-то шум, затем послышались крики и выстрел из пистоля. Фанфан похолодел — вернулся граф! Как, почему?! На ходу выхватывая шпагу, из кабинета выскочил сильно побледневший Винтер.
— Беги отсюда! — крикнул он Фанфану. — Спрячься где-нибудь! Что говорить графу, ты знаешь.
Фанфан не стал мешкать. Он вихрем промчался по коридору и по крутой узкой лесенке, которая вела в поварню, спустился на первый этаж. Но там уже звенела сталь. Разбойники и люди Сен-Жермена сошлись лицом к лицу.
Мальчик хотел уже нырнуть в поварню, но тут его словно что-то зацепило крюком за куртку и он на какое-то время остолбенел. Из двери, которая вела во двор, выскочил Онфим со своим мушкетоном, и, не целясь, выпалил в одного из разбойников практически в упор. Раздался такой сильный грохот, что даже в ушах зазвенело.
Увидев смерть товарища (сраженный разбойник оказался французом), беарнец злобно взревел и набросился на Онфима. Но старый солдат был не из робкого десятка. Он начал отмахиваться мушкетоном, словно это была дубина. И все же Фанфан понимал, что старику долго не продержаться. Уж больно ловко беарнец управлялся со шпагой.
И тогда подросток, выхватив свою наваху, острую, как бритва, молнией метнулся к беарнцу и нанес ему коварный удар в живот — с поворотом кисти руки, наискосок, по животу снизу вверх.
— Ты… ты что делаешь, мерзавец?! — вскричал по-французски беарнец, растерянно глядя на свои вываливающиеся кишки.
— Падай, — криво ухмыльнувшись, ответил Фанфан. — Ты уже мертвый.
Его охватило неземное спокойствие. Он вдруг потерял способность бояться чего бы то ни было. И когда один из французов, который заметил, кто сразил беарнца, набросился со шпагой на Фанфана, совершенно уверенный, что он проткнет этого маленького изменника и негодяя как цыпленка, подросток, вместо того чтобы отскочить в сторону или спасаться бегством, неожиданно уклонился от разящего клинка, скользнул, словно змея, навстречу разбойнику и вогнал ему наваху в грудь по самую рукоятку.
Наблюдавший за перипетиями боя Онфим ахнул от удивления и перекрестился…
Бой на первом этаже закончился полной победой людей Сен-Жермена. Мельком взглянув на стоявшего столбом Онфима, пребывающего в прострации и от выпитого вина, и от схватки, происходившей на его глазах, Фанфан быстро, как белка, поднялся на второй этаж. Теперь его очень интересовала судьба Винтера.
Винтер схлестнулся с самим Сен-Жерменом. Оба отличные фехтовальщики, они образовали в коридоре жалящий стальной клубок. Их шпаги мелькали так быстро, что казалось будто у одного и другого как минимум по четыре руки. Но вот граф сделал неудачный выпад, поскользнулся, и тут же последовало мастерски исполненное мулине Винтера. Шпага Сен-Жермена вылетела из его руки и жалобно зазвенела, ударившись о пол.
Винтер торжествующе рассмеялся, примерился, чтобы нанести последний — смертельный — удар… и застыл, будто мгновенно окаменел. Вытаращив от дикого удивления глаза, Фанфан увидел, что в груди Винтера появился какой-то предмет. Присмотревшись, мальчик понял, что это рукоятка метательного ножа Вана; сам клинок вонзился на максимальную длину и попал точно в сердце. Постояв две-три секунды, Винтер упал с открытыми глазами, и пол оросился его кровью.
— Хозяина, моя опоздала… Моя просит меня наказать… — Ван, сложив ладони лодочкой, с виноватым видом склонился перед Сен-Жерменом.
— Все хорошо, все обошлось как нельзя лучше, — ответил бледный граф, подходя к поверженному противнику. — Ты появился как раз вовремя. Огня! Дайте огня!
Зажгли факел; свечи, которыми освещался коридор, почти догорели. Сен-Жермен присмотрелся и на его лице появилось выражение отвращения.
— Иезуит! — воскликнул он с гневом. — Шакал, питающийся падалью! Барон Винтер… Давно не виделись. Надо же — и в Московии достал…
Всю ночь в доме шла уборка. Фанфан дрожал, как осиновый лист. Он боялся, что граф узнает о его предательстве.
Но Винтер и после своей смерти выручил Фанфана. Все получилось так, как мыслил барон. Змеей, пригревшейся за пазухой графа, назвали несчастного чухонца, которого нашли с ключом от парадного в руках, а Фанфан стал героем, потому что протрезвившийся Онфим уже сложил о нем почти легенду, в которой юный француз выглядел по меньшей мере Георгием Победоносцем.
К счастью, вникать в детали ночного происшествия у Сен-Жермена не было времени. Утром он уезжал в Москву. Обласкав Фанфана и вручив ему кошелек с ефимками[88](Онфим тоже был щедро награжден), граф уселся в экипаж — и был таков. Дом опустел. На хозяйстве в нем остались лишь Онфим, который тут же купил четверть хлебного вина и корзинку пирогов на закуску, и Фанфан со своими сомнениями и терзаниями.
Однако вдвоем они куковали недолго. Ближе к обеду в ворота сильно постучали.
— Кого там нелегкая принесла?! — громыхнул уже пьяненький Онфим, снимая с гвоздя заряженный мушкетон; Фанфан от нечего делать последовал за ним.
Возле ворот стояла крытая ямщицкая кибитка. А стучал невысокий чернявый господин лет пятидесяти явно иноземной наружности. Он весь был соткан из нетерпения.
— Бонжур, месье! — воскликнул он, увидев Онфима. — Мне нужно увидеть милорда! У меня для него срочный пакет, — продолжил он по-французски.
— Чертова немчура… — проворчал Онфим. — Спешит, наверно… А по-русски ты что, ни бум-бум? Не понимает… И как мне теперь с ним быть? — спросил он, обращаясь к Фанфану.
Фанфан присмотрелся к приезжему и радостно воскликнул:
— Флорентен! Какими судьбами?
Перед воротами стоял слуга дядюшки Мало, который исполнял интендантские функции: покупал фураж для лошадей и приобретал оптом продукты для харчевни постоялого двора. Это был шустрый, оборотистый малый, преданный дядюшке Мало до мозга костей. Поговаривали, что дядюшка Мало выкупил Флорентена у мавританских пиратов, у которых тот рвал жилы в качестве гребца на галерах.
— Фанфан?! — сильно удивился Флорентен. — Да тебя не узнать, малыш. Повзрослел, вытянулся вверх. И выглядишь совсем как богатый господин. Знать, повезло тебе…
— Да так, немного есть… — Фанфан смутился.
— Мне бы милорда повидать…
— Это невозможно. Он уехал в Москву.
— Дьявол! — Флорентен стукнул кулаком по своей ладони. — Дело-то срочное… Я летел сюда, как на крыльях. Почти не спал. Устал, как собака.
— Придется подождать.
— Да, придется… Дядюшка Мало торопил, да видно судьба так бросила кости, что выпал мне проигрыш.
— Ничего страшного. Отдохнешь недельку, а там и милорд возвратится. Он уехал ненадолго…
Спустя час Флорентен уже сидел в сторожке Онфима, уминал за обе щеки вкусные пироги с грибами и наливался под завязку хлебным вином. Он тоже был не дурак выпить. Сумку с пакетом Флорентен почти не выпускал из рук, словно в ней находилась не бумаги, а большие ценности.
Фанфан сначала обрадовался, встретив соотечественника, но затем у него в голове прозвучал тревожный звонок. «Почему в качестве курьера в Петербург прибыл слуга дядюшки Мало? — размышлял Фанфан. — Какие такие дела могут быть у милорда и хозяина постоялого двора? И потом, Флорентен как-то странно себя ведет — бросает в мою сторону загадочные взгляды? Он что-то знает… что-то касающееся меня».
«А что если?..» — Фанфан похолодел. Да, скорее всего, так оно и есть. Похоже, мстительный папаша Гильотен рассказал дядюшке Мало, чем занимался его грум в свободное от основной работы время. В таком случае хозяин постоялого двора просто обязан был предупредить Сен-Жермена о неблагонадежности Фанфана.
Фанфан постарался успокоиться и взять себя в руки. Подросток бросил быстрый взгляд на сумку с пакетом и побежал в винный погреб. Он оказался замкнут, но для Фанфана это была не проблема. Юный сорвиголова давно сделал себе отмычку. Возвратился Фанфан в сторожку с кувшином очень крепкого сладкого вина. Он даже не знал его названия. Но ему было известно главное: в смеси с водкой это вино валит с ног даже самого выносливого любителя возлияний.
Появление Фанфана было встречено бычьим ревом; Онфим и Флорентен, обнявшись, как старые закадычные друзья, пели песню — каждый свою, на своем родном языке. У Фанфана даже в ушах заложило от этой какофонии.
Ему пришлось сбегать в винный погреб еще два раза, пока собутыльники, все так же в обнимку, не рухнули на постель Онфима в полном беспамятстве. Фанфан вырвал из слабых рук Флорентена сумку, пошел к себе в комнату и со всеми предосторожностями вскрыл пакет. Хорошо, что дядюшка Мало не был искушен в тонкостях почтового дела и не опечатал его сургучовыми печатями, а всего лишь заклеил.
Подержав пакет над паром две-три минуты, Фанфан осторожно вынул из него лист плотной бумаги, исписанный с двух сторон скверным почерком, и начал жадно читать. И первые же строки ударили по сознанию мальчика так больно, что Фанфан даже застонал.
«Это конец…» — подумал он в отчаянии. Перед ним лежал отчет о проделанной работе некоего мсье Делонга, частного сыщика:
«…А еще довожу до Вашего сведения, милорд, что мальчик по имени Фанфан, грум дядюшки Мало, которого вы взяли в услужение, тайно работал на некоего грязного типа по кличке папаша Гильотен. Он содержатель притона на улице Фур. Вору и убийце Трипо, намеревавшемуся ограбить Вас на постоялом дворе «Ржавый якорь», тоже помогал Фанфан. Кроме того, Курт, главарь шайки разбойников, напавшей на Ваш обоз в лесу Вожур, тесно связан с Гильотеном. Скорее всего, и в этом случае дело не обошлось без грума дядюшки Мало. И последнее — я отыскал следы барона Винтера. Как Вы указали в своем письме, эта задача была для меня главной. Сообщаю Вам, что вышеозначенный господин спустя неделю после Вашего отъезда под видом шкипера вышел в море на торговом судне «Святой Марк», которое взяло курс на север. Маршрут судна установить не удалось. Вы будете смеяться, милорд, и, возможно, не поверите, но я нашел людей, которые видели, что барон Винтер многократно встречался с Фанфаном! О чем они говорили, к сожалению, никто не знает. К сему примите…»
Фанфан отшвырнул от себя письмо, как изготовившуюся к броску змею. Пропал… Он пропал!!! Сен-Жермен не простит ему двурушничества. А Винтера, который мог бы защитить Фанфана от гнева графа и приютить его, уже нет в живых. Что делать, что делать?! Фанфан заметался по комнате в полном отчаянии. У него на глазах даже выступили слезы, но мальчик, хотя ему и хотелось заплакать, все же сдержал этот порыв.
Он сел и в полной растерянности уставился на кусочек голубого неба, виднеющийся в окне. Надо что-то делать… что-то делать… Но что именно?
Тихий стук в дверь словно ударил по натянутым нервам Фанфана плетью со свинцовым наконечником. Он подскочил на стуле, будто он вдруг раскалился добела, и опрометью метнулся к двери. Может, это проснулся Флорентен и, обнаружив исчезновение пакета, понял, кто виноват в пропаже?
Фанфан сунул руку в карман, сжал рукоятку навахи и, приготовившись к худшему, спросил подрагивающим голосом:
— Кто там?
— Это я, Глаша… — прошелестело по другую сторону двери.
— Уф-ф… — Мальчик обмяк. — Входи…
Девочка была сильно напугана. Едва оказавшись в комнате, она первым делом заперла за собой дверь.
— Что с тобой? — спросил удивленный Фанфан.
— Меня нашли… За мной гонятся… — сказала Глаша, дрожа от страха.
— Кто за тобой гонится?
— Фискалы розыскной палаты. Пока они разговаривали с хозяйкой дома, где у меня комната, я выскочила в окно. Фанфан, мне не хочется быть монашкой! — девочка разрыдалась. — В монастыре я умру-у-у…
— Перестань плакать… Да перестань же, наконец! — Фанфан обнял ее за худенькие плечи. — Не будешь ты никакой монашкой. Еще чего…
— Мне нужно спрятаться… или уехать из Петербурга. Немедленно!
— Уехать… — Фанфан напряженно размышлял. — А это идея… — В глазах подростка сверкнули огоньки лихорадочного возбуждения. — Да, только так!
— Ты что-то придумал?
— Придумал. Сиди здесь и не высовывайся. Дверь никому не открывай! Жди меня. Я скоро вернусь…
Первым делом Фанфан разобрался с пакетом. Письмо он разорвал на мелкие клочки и сжег, а в пакет засунул чистый лист бумаги и заклеил его. Вернув сумку с пакетом на место (Онфим и Флорентен спали как младенцы, только сильно храпели и от воздуха в сторожке можно было захмелеть), Фанфан со всех ног помчался в «Австерию», где отыскал Антипку.
— Ты еще не передумал бежать из Петербурга? — спросил он, с трудом переводя дух.
— Н-нет… — Антипка смотрел на друга округлившимися от удивления глазами. — Что с тобой?
— Тогда едем. Прямо сейчас!
— Как… почему сейчас?!
— Потому! — отрезал Фанфан. — Так ты едешь со мной или нет?!
— Ну да, само собой… Но мне нужно забрать деньги. А они спрятаны во дворе нашего дома. Я закопал их под… в общем, неважно где.
— Плюнь на свои копейки! Моих капиталов вполне хватит на двоих. Нужно спешить. Иначе может быть поздно.
— Но как же… — У Антипки не хватило слов и он растерянно указал на двери «Австерии» (они разговаривали на заднем дворе). — У меня работа…
— Ну и оставайся тогда со своей дурацкой работой и своими жалкими грошами! — разозлился Фанфан. — Я побежал.
— Постой! — на лице Антипки появилось вдохновенное выражение. — А, была, не была!.. Я иду с тобой. Только заберу свою куртку…
Когда они вошли в комнату Фанфана, Глаша стала белой как мел. «Пуганная ворона куста боится», — вспомнил Фанфан поговорку Онфима. Глаша посмотрела на Антипку, как загнанная в угол малая зверушка, и сжалась в комок.
— Это мой друг, — грубо сказал Фанфан. — Зовут его Антипка. Вы тут поговорите… а я скоро…
Он поднялся на второй этаж и с помощью отмычки открыл кабинет Сен-Жермена. Фанфан знал где и что искать. Открыв крышку бюро, он выдвинул один из ящичков, нашел там не заполненную подорожную[89]со всеми необходимыми печатями (граф был весьма предусмотрительным человеком), взял хорошо очиненное гусиное перо и заполнил все необходимые графы.
В подорожной было указано, что некий господин Жюль де Фонтен, подданный Франции, негоциант, вместе со своей сестрой Эмили и немым слугой по имени Гастон направляется на родину. Пограничной и таможенной службе государства Российского предписывается никаких препон путешественникам не чинить и оказывать всевозможное содействие.
С подорожной в кармане Фанфан побежал на конюшню, где застал конюха Матвея, туповатого увальня, который жевал что-то, даже когда спал. Мальчику повезло — конюх как раз доел пирог и запивал его квасом.
— Запрягай вороных! Быстро! — скомандовал Фанфан.
— Куда это на ночь глядя, барин? — спросил Матвей, сытно отрыгнув; для него любой иностранец был барином.
— Задание графа! — отрезал Фанфан. — Тебе знать не надобно. Поторопись!
— А как же… мы мигом… — Матвей допил квас, и неспеша, вразвалку, направился к лошадям.
Фанфан весь извелся, пока конюх возился с упряжью. Но вид сытых молодых лошадок, которые так и рвались в открытые ворота, успокоил мальчика, и он, одобрительно похлопав Матвея по плечу, всучил ему серебряный рубль с изображением Анны Иоанновны.
— Премного благодарен… ваша милость, — просиял конюх.
Он не поверил своим глазам, поэтому, когда Фанфан уехал, Матвей достал рубль из кармана и попробовал его на зуб, дабы убедиться, что он нефальшивый, — по тем времена рубль для простого народа был большими деньгами. Убедившись, что это не сон и что он и впрямь нежданно разбогател, Матвей тут же запер конюшню и побежал в ближайший кабак. На что, собственно говоря, Фанфан и рассчитывал…
Фанфан, пока жил в «Австерии», и впрямь скопил немало денег. Кроме того, что граф платил ему приличное жалованьие, мальчик экономил на еде и на выплате «премиальных» разным темным людишкам, выполнявшим мелкие поручения Сен-Жермена.
Антипка, взвесив в руках туго набитые серебром кошельки, с восхищением причмокнул. Но Глаша лишь пренебрежительно покривилась.
— Идите за мной, — сказала она решительно.
Недоумевающий Фанфан вместе с Антипкой последовал за девочкой. У нее был удивительный талант привораживать людей и подчинять их своей воле. Пока Фанфан отсутствовал, Глаша успела сделать Антипку если и не своим рабом, то большим почитателем — точно.
Они вошли в тот самый грот, где обычно исчезало «привидение». Глаша нажала на один из камней, из которых был сложен грот, камень отъехал в сторону, и мальчики увидели в углублении медную рукоятку. Девочка повернула ее, раздался тихий скрип, большая вертикальная плита, оказавшаяся дверью, отъехала в сторону, и изумленные мальчики увидели неглубокую пещеру, заставленную шкатулками и сундуками.
— Пещера Али-бабы! — воскликнул потрясенный Антипка; сказку про Али-бабу и разбойников рассказал ему Фанфан.
— Глупенький… — Глаша снисходительно улыбнулась. — Это все мое. Папинька мне оставил на жизнь. Когда у меня заканчивались деньги, я приходила сюда и брала сколько нужно. А чтобы Онфим ничего не догадался, я разыгрывала перед ним представление, изображая призрачную даму. — Девочка весело рассмеялась. — Мужчины такие глупые… Смотрите… — Она открыла одну из шкатулок и два сундука.
Шкатулка почти доверху была наполнена золотыми монетами, а в сундуках лежала серебряная посуда, меха и дорогая женская одежда.
— Ух ты-ы… — У Антипки отвисла нижняя челюсть; такого богатства он никогда не видел.
— Хватить тебе гляделки пялить! — рассердился Фанфан, который тоже был удивлен внезапно обретенным богатством до крайности. — Сундуки снесем в карету. Берись…
Он чувствовал себя униженным. Фанфан думал, что в компании он окажется благодетелем, а вышло совсем по-иному. «Нужна нам эта девка!» — злобился подросток, бросая на Глашу косые взгляды.
Последний ларец — железный, простой на вид, — выпало нести Фанфану. Он был не очень тяжелым. «Что в нем?» — удивился Фанфан. Не долго думая, он открыл ларец и увидел бронзовую статуэтку в виде кисти руки.
— Зачем нам это барахло? — недовольно спросил он у Глаши. — Оставим ларец в гроте. Карета и так перегружена.
— Дай! — Глаша вырвала ларец из рук Фанфана и прижала его к груди. — Это… это подарок батеньки. Память о нем.
— Ну, ежели память… — с сомнением сказал Фанфан.
И подумал: «А ведь она соврала… По глазам видно. Никакой это не подарок. Но вещь явно очень ценная. Ишь, как вцепилась… Эта девица — ходячая тайна. Притом очень опасная тайна. Как бы из-за нее не лишиться головы…»
Карета выехала на тракт, когда над Петербургом расправила свои огромные бесшумные крылья белая ночь. Внутри кареты сидели Фанфан и Глаша в иноземном платье, изображая из себя французских дворян, а одетый в шикарный синий кафтан Антипка занял на облучке место кучера. За год, который Фанфан пробыл в Петербурге, он сильно вырос и возмужал и в дорогих одеждах, позаимствованных в гардеробе графа Сен-Жермена, казался совсем взрослым. Что касается Глаши, то она вообще выглядела как парижская модница.
Кони бежали резво, весело, карета шла на удивление ровно, только рессоры поскрипывали, можно было и поспать, но сон почему-то не хотел появляться ни в одном глазу. Фанфан и Глаша напряженно размышляли. Что ждет их впереди? Какую участь им уготовила судьба? На эти вопросы, если верить астрологам, могли ответить только звезды, но она были безмолвны и почти незаметны в серебристо-сером небе недолгой северной ночи.
Глава 21
Когда Глеб вышел на улицу, то первое, что ему бросилось в глаза, было необычное оживление, царившее в Жмани. Длинная улица полнилась народом: женщины что-то живо обсуждали, а мужики сбивались в группы, очень похожие на воинские отряды, и куда-то торопились во главе со старейшинами. В руках у них было дубье, а за поясами ножи.
Удивительно, но почти никто из мужиков не надел сапог. Все были в лаптях, лишь старейшины щеголяли в ичигах на мягкой подошве. Наверное, ичиги в жманьской «гвардии» были чем-то вроде звездочек на погонах офицеров. Впрочем, Глеб быстро разобрался, зачем мужская половина Жмани переобулась. Похоже, предстояла охота, а зверя лучше выслеживать именно в таких лаптях-тихоходах: и подкрадываться сподручней, и едкий запах юфти, смазанной сапожным кремом или жиром, не шибает будущей добыче в нос, предупреждая об опасности, и ноги не набьешь.
Но где же Жук? Глеб озабоченно нахмурился. То, что его на время удалили из «терема» бабы Глаши, в общем, понятно. Но пора бы ему уже и объявиться…
Неожиданно раздался топот копыт, и по улице промчалась Мария-Мариетта. Волк, как обычно, следовал за ней — стелился над землей длинными прыжками, словно летел. Девушка была одета в «амазонку», строгий женский костюм для верховой езды, — рубашка под горло, жилет, камзол и бриджи в обтяжку — в комплекте с высокими хромовыми сапогами. Черные, как смоль, волосы Марии были аккуратно подобраны и покоились в ажурной сетке, украшенной жемчугом.
«Наверное, сегодня она играет свою главную роль — мудрой предводительницы племени, поэтому и оделась соответствующим образом», — не без горькой иронии подумал Глеб. Его грызла обида, что Мария-Мариетта ушла, не попрощавшись с ним — по-английски. Что это — ее прижала насущная потребность или она таким образом выразила ему свое пренебрежение?
Увидев Тихомирова-младшего, Мария придержала коня так резко, что он взвился на дыбы. Какое-то время Глеб и девушка пристально смотрели друг другу в глаза, будто пытаясь в них что-то прочесть. При этом и Мария, и Тихомиров-младший не проронили ни слова — девушка неизвестно по какой причине, а Глеба переклинило. Да и что он мог сказать?
Лицо девушки было совершенно бесстрастным. Казалось, что она смотрит на незнакомого человека, будто и не было ночи сумасшедшей любви. Мало того, в ее темных глазах время от времени проскакивали искорки гнева. «Что с ней? Или я в чем-то провинился?» — встревоженно думал Глеб. И тут же в душу скользким гадом проскользнуло извечное мужское сомнение: «Неужто она решила, что в постели я оказался не состоятельным?!»
Едва эта мысль угнездилась в его голове, как девушка ударила жеребца пятками под бока, и он снова сорвался с места в галоп. Волк подошел к Тихомирову-младшему, обнюхал его (у Глеба душа ушла в пятки; волчара и впрямь был размером с дога, только гораздо мощней), примирительно заурчал, оскалив зубы (улыбнулся?!), и последовал за своей госпожой.
Глеб вдруг почувствовал слабость в ногах и присел на скамейку возле ворот. Ему вдруг все стало безразлично.
«Пора домой… — думал он вяло. — На вождя племени я не тяну — это и ежу понятно, а ковыряться тут в земле нет никакой охоты. Жук… А что Жук? Факир был пьян и фокус не удался. Я ведь не обещал ему золотые горы. Фарт сначала поманил, а затем помахал крылышками. Так бывает. Да и местечко здесь… не нравится мне здешняя атмосфера. Тут есть какая-то тайна, но у меня почему-то нет никакого желания ее разгадывать…»
В мрачной задумчивости Глеб просидел на скамье не менее двух часов. Он так ушел в свои нерадостные мысли, что не заметил, как откуда-то появился Антип и сел рядом с ним. Он был чем-то сильно озабочен и непривычно строг. Антип даже не поприветствовал Глеба. Тихомиров-младший покосился на него и тоже промолчал. «А не пошли бы они все!..»
Настроение у него было — хуже не придумаешь. И его причину далеко искать не приходилось — вон она, на опушке леса, гарцует на своем белом одре. Все, как в старом еврейском анекдоте — ни мне здравствуй, ни тебе спасибо, ни нам до свидания. Почему?!
— Вы нарушили наш закон, — сказал Антип, словно подслушав мысли Глеба.
— Вы? Кто это — вы?
— Ты и твой друг.
— Слазьте — приехали… О чем речь? Я ничего не нарушал. Может, это Антон что-то там набедокурил? Что касается Жука, то мне он не друг, а приятель — скажем так. Я не могу отвечать за взрослого самостоятельного мужчину.
— Это неважно — друг он твой или приятель. В Жмань привел его ты.
— Да, привел я. Извините, но о каком законе идет речь?
— Твой… приятель совершил страшное святотатство — он украл Священный Огонь.
— Пардон, я не понимаю… Что такое Священный Огонь? И как его можно украсть? Жук что, головешку из костра стибрил?
— Он украл из Святилища Неопалимой Купины ларец. Да, да, тот самый ларец… Негодяй!
— Не то слово… — Глеба захлестнуло гневное чувство; как мог Жук так их подставить?! — Теперь мне понятно, почему у вас с утра переполох… Но моя вина в этом деле минимальная! Кто ж знал, что он такой сукин сын. Или вы думаете, что мы на пару затеяли эту авантюру?
— Что касается меня, то я так не думаю. Но вот остальные… — Антип сокрушенно покачал головой. — Беда… Боюсь, что вас будут судить. А наш суд пострашнее мирского.
— Зароете?..
— Нет. Не мы вам дали жизнь, не нам ее и отбирать. Мы пустим вас на Круг.
— Что такое Круг?
— Пойдем… — Антип поднялся. — Скоро ты сам его увидишь… Твой дружок уже там. Глупец… Он думал, что из Жмани можно легко сбежать. Вот только меня мучает один вопрос… — Он наморщил лоб. — Сдается мне, что ему кто-то помог. Кто-то из наших. Хотя, по идее, это в принципе невозможно… Однако факты — упрямая вещь. Не мог Антон знать ценность того, что находится в ларце. И как открыть тайник с ларцем кто-то ему подсказал. А потом на тропу, что ведет к святилищу, вывел и направил по маршруту, где его не должны были искать. Не будь Хранительницы с ее ясновидением, не миновать бы нам большой беды…
Глеб покорно поплелся вслед за Антипом. Они долго шли лесом, пока перед ними не появилась довольно высокая горушка с крутыми склонами. Не останавливаясь, Антип полез вверх, цепляясь за кусты. Глеб тяжело вздохнул (после бурной бессонной ночи ему вообще не хотелось двигаться) и последовал за своим поводырем.
Лезли они долго. Где-то на середине склона Глеб наткнулся на человеческий скелет и от неожиданности едва не сорвался с каменистого уступа и не покатился вниз. Судя по состоянию костей, скелет лежал здесь с давних пор. Возле черепа, на плоском камне, стоял огарок восковой свечи.
На вершине горушки дул прохладный ветер, хотя внизу было тепло и тихо. Но Глебу, разгоряченному нелегким подъемом, он оказался очень кстати. Сняв куртку и расстегнув пуговицы рубахи, Глеб подставил обнаженную грудь под воздушные струи, которые тут же начали массажные процедуры.
Антип посмотрел в его сторону и на его лице появилось удивленно-озадаченное выражение. Он подошел к Глебу и, указав на анк, который по-прежнему висел на груди Тихомирова-младшего, строго спросил:
— Что это? Где взял?
— Амулет, — ответил Глеб. — Но если вы думаете, что я украл его, то сильно ошибаетесь. Амулет мне подарила Мария.
— Перед схваткой с Донатом? — догадался Антип.
— Да.
— Эх, бабы! — Антип в досаде швырнул свой колпак на землю. — Кто их может понять… Такой подарок — запрещенный прием. Теперь мне все ясно. Глупый Донне хотел срубить дерево не по себе. Хранительнице видней, кто должен стать отцом ее ребенка.
— Отцом?..
Антип насмешливо посмотрел на Глеба, поднял свой колпак, напялил его на голову и спросил:
— А вы с Мариеттой никак в подкидного всю ночь играли?
— Но всего лишь одна ночь…
— Этого вполне достаточно. Хотя бы потому, что эта ночь была необыкновенной. Время было назначено самой Хранительницей. А ей все известно наперед. Открою тебе небольшую тайну… если Мария не успела сказать — она уже понесла. Откуда ей знать? Оттуда, — Антип ткнул пальцем в небо. — Об этом все бабы с самого утра уже шушукаются. И через девять месяцев у нее родится дочь — будущая Хранительница. Вот так-то, мил дружочек.
«Родится дочь… Ни фига себе! Ну попал ты, парень, — подумал ошарашенный Глеб. — Застрял в ситуации по самое не балуй. И как теперь быть?» Тут ему в голову пришла нетривиальная мысль и он схватился за нее, как утопающий за соломинку. Глеб спросил:
— Простите, но я, наверное, чего-то не понял… А как же Глафира Миновна, прежняя Хранительница? Ведь она так и умерла бездетной. И я почему-то подумал, что Хранительницы, как все жрицы, не должны иметь детей.
— Увы, это было ее горе… Она была бесплодной. Но Хранительница нашла себе отличную замену. Фактически матерью Марии была Глафира Миновна.
— То есть Мария стала ее приемной дочерью. Так?
— Да.
— А где же тогда родная мать Марии?
Наверное, этот вопрос был для Антипа очень неприятен, потому что он скривился, будто съел дольку лимона. Но все же ответил:
— Тебе скажу, теперь это можно… Видишь ли, нас тут немного, а потому, чтобы не было кровосмешения, наши женщины рожают от чужих мужиков, а мужчины берут себе в жены девушек из окрестных деревень.
— Но тогда, по идее, в Жмани должна быть не одна улица, а несколько, однако это не так.
— Верно… — Антип тяжело вздохнул; наверное, ему вспомнились какие-то неприятные моменты. — Дело в том, что мало кто выдерживает наш затворнический образ жизни. Люди возвращаются в большой свет. А дети… дети остаются.
— Неужто матери отказываются от детей?
— Некоторые отказываются, а кое-кого Хранительница заставляет забыть о существовании и ребенка, и самой Жмани. Жестоко? Да. Но мы должны как-то выживать. Что касается матери Марии — моей жены, то она… — Тут лицо Антипа исказилось такой сильной внутренней болью, что Глебу даже стало его жалко. — Она ушла… — Антип сглотнул ком, застрявший в его горле. — Между прочим, мы всегда говорим и девушкам, и парням, что их может ждать. К нам идут только добровольцы.
— По-моему, я в добровольцы не записывался…
— Ты — совсем другое дело. Ты — ЗВАНЫЙ самой Хранительницей.
Тут Глеб неожиданно разозлился.
— Я не хочу остаток своих дней провести в вашей Жмани!
— А тебя никто и не принуждает. Редко кто способен на подвижничество. И потом, я ведь говорил, что вольному — воля. Если, конечно, народ не решит отправить вас с Антоном на Круг. Тогда да, Жмань станет твоим последним пристанищем.
— В конце концов, что такое Круг?!
— Смотри… — Антип достал из холщовой сумки, висевшей у него на плече, старинную подзорную трубу и подал ее Глебу. — Вон туда, — указал он направление пальцем.
Глеб приложил подзорную трубу к правому глазу. И увидел Жука, который бежал по хорошо различимой тропе. Он никак не мог сообразить, что тропа все время забирает влево и в конечном итоге рисует круг, центром которого являлась горушка.
«Идиот! — про себя выругался Глеб. — И кликуха Жука, оказывается, вполне соответствует его внутренней сущности. Ползает по кругу, как глупая букашка. Совсем не умеет ориентироваться на местности. Тоже мне… горе-археолог. Любитель… А мнит себя профессионалом».
Но присмотревшись, Глеб кардинально изменил свое мнение о способностях Жука. Оказалось, что его напарник попал в настоящий лабиринт из тропинок. Большая их часть была нанизана кольцами на горушку, а остальные напоминали спицы в большом колесе. И куда бы человек ни шел, он все равно попадал на круговую тропу. Конечно, можно было сойти с нее и пробираться по зарослям, но Глеб не сомневался, что там непроходимые чащи и буреломы.
Впрочем, кое-кто пренебрег тропой и рискнул пойти напрямик, вспомнил Глеб скелет на склоне…
— Тогда зачем вам несколько отрядов поисковиков? — спросил Глеб. — Хватило бы одного. Жук и так в западне. Из этого вашего Круга-лабиринта очень трудно выбраться, если не сказать — невозможно.
Антип едко ухмыльнулся и ответил:
— Много отрядов для верности. Мы не можем рисковать. Всяко может случиться… И потом, нужно, чтобы вор шибче бежал и не останавливался на отдых. Мужички маленько пошумят — сразу прыти у него прибавляется. Пусть бежит, пока не свалится от страха и упадка сил.
— Садисты! — сердито бросил Глеб.
— Неправда. Должен человек понести наказание за свое преступление? Обязательно должен. Иначе жизнь стает неупорядоченной и потеряет смысл. Вор становится правителем, а честный человек вынужден ему прислуживать. Где справедливость? Все становится с ног на голову. Это противоестественно. Да, негодяя ждет возмездие, рано или поздно, но справедливость требует, чтобы свою порцию наказаний он получил еще при жизни, здесь, на Земле.
Глеб промолчал. А что скажешь? Антип прав. И в случае с Жуком, и вообще… Вот только жаль, что многие мерзавцы так и сошли в могилу, не получив должного воздаяния за свои преступления. А некоторым «благодарные потомки» даже памятники поставили. И осанну поют с амвонов. Бардак, прости Господи…
— Думаю, хватит твоему дружку ноги бить, — сказал Антип и спрятал подзорную трубу в сумку. — Он уже еле ноги тащит. Заберем его из Круга. Так приказала Хранительница. Иди за мной…
Багровый от большого напряжения, потный, грязный, в рваной одежде, Жук представлял собой жалкое зрелище. Ларец он положил в рюкзак, но после многочасового бега по Кругу даже небольшой вес артефакта казался Жуку неподъемным. Он еле тащил его, согнувшись в три погибели и шатаясь от усталости.
Увидев Антипа, который загородил тропу, Жук испуганно отпрянул назад, но затем сорвал с плеча ружье и крикнул охрипшим голосом:
— Не подходи! Иначе буду стрелять!
— Успокойся, парень, я безоружный… — Антип показал пустые ладони. — Пора тебе в Жмань вертаться.
— Нет! Отойди с дороги! Я не шучу! — Жук прицелился. — Пропусти! Убью-ю!!!
— Ну ты и сука… — сказал Глеб, загораживая своим телом Антипа. — Ты что делаешь, гребаный Жук?! Если выстрелишь, тебе хана. Ты даже не можешь представить, какая смерть тебя ждет. Брось ствол и пошли в деревню, прошу тебя по-хорошему. Отсюда нельзя выбраться. Уж поверь мне. Ты на поводке. В лесу полно мужиков. Пойдем, может, нас помилуют.
— Нас?.. — Жук обмяк и ружье в его руках дрогнуло.
— Ну да. И мне за компанию будет кирдык. Да, дружище, подвел ты меня… На кой ляд тебе нужна эта железяка? Красиво светится? Но ты же не ребенок, падкий на механические игрушки. Или ларец доверху наполнен золотом? Судя по весу, это не так. Зачем?!
Жук тихо простонал, — почти заскулил — словно ему вдруг стало больно, бросил ружье и, не глядя на Глеба, глухо сказал:
— Откуда я знаю, зачем? Взял и взял. Привычка… А дорогу к капищу я выведал, когда двух мужиков оставили меня сторожить. Я им в питье кое-чего подсыпал… они и уснули, как дети малые. Мне осталось только проследить…
— Лжешь! — слово Антипа прозвучало, как выстрел. — То, что ты усыпил мужиков — это правда. И то, что по Тропе тайком прошел — тоже верно. Но тебе подсказали, где взять ларец, как взять и в какую сторону бежать. Да только тот, кто был наводчиком (и заказчиком, скорее всего), не знал, что я выставил заставы… на всякий случай. Вот тебя наши мужики и загнали в Круг.
— Ну что, был заказчик? — спросил Глеб. — Колись, чего уж там.
— Был… — глухо обронил Жук.
— Кто?
— Виктор…
— Эх, ядрена вошь! — колпак Антипа опять оказался на земле. — Я так и думал. До чего же неуемный человек! Все норовит быть Первым, командиром, стать возле Хранительницы. Он и сынка своего Доната подбил, чтобы тот пошел против ее воли и затеял поединок.
— И вас слегка ножичком поковырял… — не удержавшись, со злостью напомнил Глеб.
— Про то ладно… это наши давние счеты. И потом, у него есть какое-никакое, но оправдание. Он любой ценой хотел воспрепятствовать твоему, Глеб, приезду в Жмань. За сына беспокоился, потому как знал, что ЗВАНЫЙ уже определен и его имя не Донне. Однако эта афера со Священным Огнем… Как он посмел?! Нет, все-таки придется всем миром его судить. На этот раз придется.
— Это Виктор на тебя псов бездомных натравил, когда ты шел из кабака, — сказал Жук, виновато глядя на Глеба. — Он над собаками власть имеет. Чисто колдун… А науськал Виктор псов для того, чтобы мы с тобой сошлись поближе. Помнишь?
— Помню… очень даже хорошо помню. Выходит, ты набился мне в компаньоны по его заданию? — догадался Глеб.
— Прости меня, Глеб… — Жук смахнул с лица слезу. — Гад я! Мелкая душонка… и все такое. Он золотые горы сулил. Раритетные царские рубли мне презентовал — семнадцатый век! Бешенных денег стоят! — так сказать, авансировал… Прости. Хочешь, я встану перед тобой на колени?
— Ладно тебе… Ничего уже не изменишь. Человек слаб. Предложение Виктора и впрямь выглядело весьма заманчиво. Любой бы на твоем месте повелся. Или почти любой… Теперь, главное, как нам замолить свои грехи перед народом Жмани.
Антип с сомнением покрутил головой и пошел, не оглядываясь, по тропе. Судя по тому, как он внимательно присматривался к деревьям, растущим по бочинам, Глеб понял, что он ищет тайные метки, указывающие верный путь.
«Интересно, почему Виктор не рассказал Жуку про эти знаки? — думал Глеб. — Уверен, что они ему известны — как и Антипу. Ведь они старейшины… Тут и думать нечего! Этот гад подколодный, конечно же, не хотел, чтобы ларец ушел из Жмани. Он закрутил интригу с похищением ларца только для того, чтобы меня изжить со свету. Естественно, вместе с Антоном. Только Жук до суда не дожил бы — Виктор постарался бы… Зуб даю, что сейчас он возглавляет отряды мужичков, которые идут по следу Жука. А потом этот сукин сын, весь белый и пушистый, выступит в роли спасителя реликвии от басурманов. Хитер бобер, этот мсье Виктор…»
Глебу было стыдно до слез. Он стоял вместе с Жуком в кругу, образованном деревенскими жителями, и старался не смотреть на людей. Толпа гудела: «Виновны… Виновны! На Круг их… На Круг!» Но суд пока не начинался. Ждали старейшин и Хранительницу. Они совещались в доме бабы Глаши. Совещание почему-то затянулось, и народ уже начал волноваться.
Но вот на тропинке, которая вела к реке, возле которой собралось жманьское «вече», показались старейшины во главе с Марией, живое лицо которой было бледным от едва сдерживаемой ярости. Вслед за ней, низко опустив голову, шел пунцовый Виктор, играя желваками. Похоже, ему здорово досталось на совещании.
Гомон в толпе сразу затих и воцарилась тишина. Сегодня Мария-Мариетта была одета в строгую черную кофточку и длинную юбку, а на груди у нее висел большой серебристо-голубой анк. Она села в кресло, которое принесли заранее, позади нее стали старейшины, и суд начался.
Один из обвинителей, самый пожилой из старейшин, зачитал список прегрешений Жука перед народом Жмани, куда кроме кражи ларца входило еще и святотатство, заключающееся в осквернении святилища. Ну а Глеба он пустил «паровозом», вменив ему соучастие, только не прямое, а опосредованное.
— Что скажут люди? — спросил он, дочитав свою цидулку.
— Круг! — в едином порыве выдохнула толпа. — Пусть идут на Круг!
— Что скажут старейшины? — обвинитель обернулся к своим товарищам.
— Вор пусть идет на Круг, а ЗВАНОГО отпустить, — сказал Антип.
— Нет! — вскричал Виктор. — Народ сказал! Обоих на Круг!
Мнения старейшин разделились: одна половина поддержала Антипа, другая — Виктора. Тогда старейшина церемонно поклонился Марии и сказал:
— А теперь выслушаем, что решила Хранительница. Хочу напомнить всем собравшимся, что ее слово — закон.
«Блин! — думал Глеб. — А что же обвиняемые? Неужели нам не дадут сказать ни слова в свое оправдание? Где справедливость?! — мысленно спросил он Антипа, вспомнив сказанное старейшиной на горушке. — Вот она, справедливость, перед тобой, великий мудрец. Прав тот, у кого больше прав. И все дела. Наверное, народ Жмани изголодался по острым зрелищам, что так бодро и уверенно посылает нас на верную смерть. Сядут на горушке и будут наблюдать, как мы с Жуком бегаем по кругу, словно две подопытные крысы. Только мне кажется, что не зря Антип потащил меня на верхотуру. Он хотел, чтобы я внимательно обозрел местность. И чтобы определил, в какую сторону идти, если нас пошлют на Круг. Что я, собственно говоря, и сделал. Так что, господа хорошие, ваш страшный Круг мне до лампочки…»
— Мой народ! — казалось, что Мария постарела на добрый десяток лет; наверное, потому, что ее прекрасное лицо вдруг превратилось в маску мудрой правительницы. — Негоже мне начинать свое служение Священному Огню с убийства. Не будет тогда нам счастья. Это я знаю точно. Поэтому от имени всего нашего народа и по праву Хранительницы я скажу им: мы вас прощаем. Они уйдут и забудут все, что с ними было. Я все сказала.
Мария резко встала, подозвала своего коня, который пасся неподалеку, и умчалась в сторону леса. Наверное, среди жманьцев было немало недовольных таким решением новой Хранительницы, но все промолчали. Только некоторые старейшины выразили свое недовольство, но больше жестами и мимикой. В том числе и Виктор, который буквально запенился от злобы.
К Глебу и Жуку, пребывающему в полной прострации, подошел Антип и сказал:
— Вам пора уходить из деревни. Ты, — ткнул он пальцем в грудь Антона, — иди, собирай вещи. А ты, — обернулся он к Глебу, — иди за мной.
Антип привел Глеба к лесному святилищу. Он остановился на краю поляны и сказал, указывая на кубическое сооружение, которое Глеб в мыслях называл языческим храмом:
— Там тебя ждет Мария.
Глеб кивнул и медленными неуверенными шагами, словно ступая по раскаленным угольям, двинулся по аллее из менгиров к открытой двери храма.
Внутри царил полумрак. Помещение освещали лишь несколько свечей. Но даже при таком неверном и слабом свете Глеб с удивлением рассмотрел, что это никакой не храм, а нечто похожее на дамский будуар. Наверное, это было лесное жилище Марии.
В помещении стояли кровать с подушками, комод, два кресла, туалетный столик с большим зеркалом и два канделябра. В красном углу находился богатый иконостас, посреди которого был прикреплен анк — точно такой же, как в «тереме» бабы Глаши. Перед иконостасом висела зажженная лампада и горели три толстые свечи. В одном из кресел сидела Мария-Мариетта и пристально смотрела на Глеба.
Он стоял перед ней едва не навытяжку — как солдат, и не знал, что ему делать. Его пугали глаза Марии, которые в полумраке светились, как у кошки. Может, великий Гоголь был не таким уж и фантастом, когда описывал своих «панночек» с весьма нестандартными возможностями…
— Ты боишься меня… — В голосе Марии прозвучали упрек и горечь.
— Еще как боюсь… — Глеб сделал над собой усилие и засмеялся. — Первый раз в жизни попал под суд. Я всегда сторонился работников правоохранительных органов, а тут в качестве главного судьи выступает моя… кгм!.. — Глеб запнулся, не зная, как правильно назвать Марию. — Моя добрая подружка.
— Я уже стала подружкой… — Мария-Мариетта встала, подошла к Глебу вплотную и взяла его за руки. — Господи, но почему, почему?! Почему я не могу любить, как все, и быть любимой! Неужели в твоей душе нет ко мне ни капельки любви?
— Не знаю, — честно признался Глеб. — А врать тебе не хочу… не могу. Я еще никого не любил… и мне это чувство незнакомо. Прости… Да, я ощущаю к тебе очень большое притяжение, которого раньше никогда не испытывал. Может, это и есть любовь? Но меня что-то пугает… не знаю, что именно. Возможно, твой сан Хранительницы. Или не очень приятная для меня перспектива расстаться с холостяцким образом жизни. Наконец, распрощаться с работой в «поле», без которой я просто не мыслю свою жизнь. Ведь женатому человеку непросто вырваться из семьи в археологическую экспедицию. Это три-четыре месяца (а нередко и дольше) вне дома…
— Спасибо за откровенность. — Мария взяла себя в руки и вернулась в кресло. — Что ж, карты брошены, наши дальнейшие судьбы определены. Ты уходишь, а я остаюсь. Это мой долг, мой жребий. Здесь я родилась, здесь и умру. Садись, ЗВАНЫЙ… выпьем на дорожку. — Она наполнила из чеканного серебряного кувшина два кубка и протянула один из них Глебу; он взял его с невольной дрожью. — Пей, не бойся, вино не отравлено… — Ее улыбка была, как горькая полынь.
Глеб сглотнул ком, который неожиданно образовался в горле, и сердито ответил:
— А мне все равно.
Он осушил довольно вместительный кубок двумя богатырскими глотками.
— Еще? — спросила Мария.
— Давай…
Второй кубок был лишним. Глебу вдруг захотелось упасть перед Марией-Мариеттой на колени и разрыдаться. Он сдержал этот порыв лишь огромным усилием воли. Вместо этого Глеб набрался нахальства и спросил:
— Скажи, что в ларце? И откуда произрастает ваша община? Я не могу понять — вы какая-то секта или староверы? А может, язычники? Извини, но я в какой-то мере ученый, историк, и мне это интересно знать. — И тут же, спохватившись, не сболтнул ли он лишнее, Глеб добавил: — Если это большая тайна, то лучше ничего не говори.
— Почему же, я расскажу, — ответила Мария. — Тебе можно. Ведь ты ЗВАНЫЙ. И хоть тебе не хочется это признать, хотя мы и не венчаны, все равно ты мой муж. Первый и единственный. Отец моего будущего ребенка. Нет, нет, я на тебя не в претензии! Так должно было случиться. Я это знала. Мы слишком разные люди. Мое место здесь. Это моя судьба, мое призвание — служить до скончания века Священному Огню. А ты человек современный, городской, в нашей глуши ты просто зачахнешь.
— Наверное, ты права…
— Вот. А что касается ларца и Священного Огня… — Мария встала, пошла в дальний угол помещения и проделала какие-то манипуляции. («Там находится тайник», — сообразил Глеб.) Раздался скрип, в полу отодвинулась плита, и из отверстия появился ларец. Мария взяла его в руки, поставила на туалетный столик и открыла.
— Гляди, — сказала она. — Вот наша тайна.
В ларце стояла статуэтка в виде бронзовой руки с двумя перстами. Мария-Мариетта нажала потайную кнопку, статуэтка, оказавшаяся футляром, раскрылась, и Глеб увидел внутри ее большой металлический анк, который засиял, словно огромный бриллиант.
— Это чудо… — сказал он заплетающимся языком; Глеб, большой специалист по древностям, вдруг понял, что перед ним совершенно уникальный артефакт, который пришел в Жмань из немыслимой глубины веков.
Анк был словно сплетен из тонких металлических нитей. И они светились. Похоже, для изготовления анка применялись нанотехнологии, но кто и когда их применял? Какой народ в древности мог обладать такими огромными познаниями в науке, которая лишь в двадцать первом веке получила свое развитие?
«Какое открытие! — подумал Глеб. — Предъяви я этот крест научным кругам, мое имя сразу же впишут в анналы истории. Эх, если бы это было возможно! Мать моя женщина…»
— Да, чудо, — согласилась девушка. — Это ВЕЧНЫЙ ХРАНИТЕЛЬ земли Русской. Мы не знаем, что это и откуда, но этот Крест хранит нас и Россию, а мы охраняем его.
— Россию?.. — На лице Глеба проступило недоверие. — Это как же?
— Когда ты дрался с Донатом — не забыл? — что тебе дало силы победить его?
— Не совсем уверен… но предполагаю, что крест, твой подарок. Хотя мне совершенно непонятно, как это может быть…
— Нет, крест я тебе еще не подарила. Просто дала временно попользоваться. Так вот, Большой Крест, который мы называем Священным Огнем, дает силу России выстоять в любых невзгодах и напастях.
— Постой… помнится, отец мне рассказывал, что бабу Глашу (извини — Глафиру Миновну) — в сорок первом видели под Москвой. Значит, она действительно там была?
— Да. Главная Мать — так мы ее иногда называли — привезла Священный Огонь как раз накануне решающей битвы под Москвой. Итог этого сражения всем известен. Она выезжала на фронт еще три или четыре раза. За ней присылали специальный транспортный самолет, который сопровождали истребители. Но эти предосторожности были излишними. Священный Огонь нельзя уничтожить.
— В это трудно поверить… но факт, как говорится, налицо. А как вышло, что Большой Крест оказался в Жмани и почему вы считаете себя хранителями?
— Во время правления Анны Леопольдовны сюда из Петербурга бежали наши предки — уж не знаю, по какой причине; об этом в наших преданиях нет ни слова. Они и привезли в Жмань Священный Огонь. Правда, тогда на месте деревни был всего лишь скит. Должна тебе сказать, что все мы тут долгожители. Священный Огонь продлевает жизнь. Глафира Миновна, Антип — это второе поколение Первосвященников, бежавших из Петербурга.
Глеб вспомнил, когда правила Анна Леопольдовна, прикинул в уме, сколько может быть лет Антипу, и с удивлением сказал:
— Ничего себе… — Он ни на йоту не сомневался, что Мария говорит правду. — А почему тогда Глафира Миновна умерла раньше времени? Ведь твой отец жив и пока вполне здоров.
— Потому что Главная Мать тратила свои силы и здоровье на Служение Священному Огню. А это очень непросто. Она обучала меня, я знаю об этом не понаслышке.
— Еще один вопрос: почему тебя зовут Мариеттой, а Доната — Донне?
— Отец Виктора был французом. Его звали Фанфан. Он дружил с моим дедом Антипом. Поэтому в наших семьях давным-давно образовалась традиция — знать французский язык. Я, как и Донат, говорю и читаю по-французски. Ты не думай, что все мы здесь темные, необразованные. Отнюдь. Наши дети учатся всему тому, что преподают в школах. И даже больше.
— Только дальнейшее обучение в институтах и университетах им заказано…
— Да, это так. Это наш крест — жить здесь постоянно и служить Священному Огню. А что касается моего второго имени Мариетта… Так захотела Глафира Миновна. Ее матерью была княжна Долгорукова, которая бежала в эти края вместе с дедом Антипом и Фанфаном. Она очень любила все французское.
— По земле к вам не добраться. Это факт. А ежели по воздуху? Вы не боитесь, что к вам могут наведаться бандиты? Сейчас их много развелось, и огнестрельного оружия у них хватает.
Мария загадочно улыбнулась и ответила:
— Нас нельзя увидеть с высоты. Все, все, больше никаких объяснений! Тебе пора. Отец уже заждался, ругается.
— Я не слышу.
— Зато мне слышно.
Они дружно встали. Повинуясь какому-то безотчетному порыву, Глеб шагнул к девушке и заключил ее в объятия. Казалось, что их прощальный поцелуй длился целую вечность. Когда они оторвались друг от друга, у обоих глаза были влажными.
— Прощай… — Мария тяжело вздохнула. — Наверное, мы больше никогда не увидимся…
— Это несправедливо…
— Да. Но так нужно…
— Я все равно вернусь! Хоть на часок.
— Это вряд ли. Ты не найдешь сюда дорогу. После вашего ухода она будет закрыта. Думаю, что надолго. Хотя… не знаю. Все может быть… Крест оставь себе. Это мой подарок… на память. Иди… мой ЗВАНЫЙ. Иди! И не оборачивайся.
Более несчастным Глеб не чувствовал себя никогда. Он плелся, как побитый, за Антипом, который время от времени бросал на него сочувственные взгляды. «Может, остаться в Жмани? Тогда дорога назад будет отрезана. Навсегда. Он никогда больше не увидит ни отца, ни друзей, не выйдет в «поле», наконец, никогда не посидит в теплом сортире и не искупается в «джакузи». Дьявол! Что делать, что делать?!»
В таком настроении он и ступил на тропу, которая привела их с Жуком в Жмань. Антип попрощался с ними довольно сухо, но доброго пути все-таки пожелал. Что касается Антона, то, оказавшись на тропе, он немного оживился и даже повеселел, сообразив, что ему уже ничего не грозит. Тем не менее Жук молчал до самой станции, только пыхтел.
Подходя к железнодорожным путям, Глеб оглянулся, и ему показалось, что достаточно широкая тропа вдоль берега речушки, по которой они шагали, начала скукоживаться, истончаться. Местами ее уже вообще не было видно под молодой порослью.
«Почудилось…» — вяло подумал Глеб и ступил на перрон. Там торчал «станционный смотритель» — все тот же седоусый дедок в темно-красном полосатом колпаке и с неизменной трубкой в зубах, дожидаясь электричку, которая была уже на подходе. Увидев парней, он от неожиданности открыл рот и трубка упала на щербатый перрон. Казалось, что дедок увидел привидение, так сильно он испугался.
«Думал, что в Жмани нам будут кранты…» — меланхолично подумал Глеб и отвернулся от дедка. Он был совершенно не расположен затевать разговор. Взгляд Глеба был устремлен на лесные заросли. Ему очень хотелось в последний раз увидеть амазонку на белом коне и седого волка.
Но ни одна ветка не шевельнулась в уже изрядно выкрашенном осенним золотом лесном разливе. Лес был нем и даже враждебен. Он стоял, как стена, которую ни пробить, ни перепрыгнуть. Казалось, что все живое вокруг вымерло. Даже птички не порхали, как обычно. Лишь в ясном, уже остывающем осеннем небе кружила лебединая стая, готовясь лететь в теплые края.
Глядя на них, Глеб до крови прикусил нижнюю губу. «Вот и все. Плачут чайки над волною. В первый раз прошептала ты: «Прощай»… — вспомнил он слова песни. — Прощай, Мария-Мариетта… Прощай, неспетая песня моей первой любви. Знать, не судьба…Эх!»
Жук с удивлением посмотрел на приятеля. Запрокинув голову, Глеб пристально вглядывался в небо, а по его щеке катилась крупная слеза.
Примечания
1
Паралаты — скифские племена делились на скифов-земледельцев, скифов-кочевников и скифов царских или паралатов, обладающих исконным правом повелевать и управлять своими сородичами из других племен; исследователи отождествляют скифов-паралатов с летописными полянами, ставшими ядром государства Киевская Русь. Обитали паралаты в степном Крыму и бассейне нижнего Днепра вплоть до реки Дон.
(обратно)2
Акинак — скифский длинный кинжал (или короткий меч); в длину достигал 40 см, имел плоскую рукоять и плавно изгибающееся к заостренному концу лезвие.
(обратно)3
Махайра — кривой фракийский меч с утяжеленным боевым концом за счет елмани — расширения клинка от острия до центра удара.
(обратно)4
Анк — наиболее древний крест; изображения анка встречаются в гробницах египетских фараонов — египтяне считали этот символ ключом в загробный мир. Он заключал в себе идею бессмертия, соединяя два знака: крест — символ жизни, и круг — символ вечности. Анк также символизировал союз Исиды и Осириса, земли и неба, объединение мужского и женского начал, служил обозначением мудрости.
(обратно)5
Колхи — собирательное название древнегрузинских племен, занимавших территорию юго-восточного и восточного Причерноморья. По наименованию этого племени древние греки с I тыс. до н. э. называли Западную Грузию Колхидой.
(обратно)6
Айгюптос — Египет (др. — греч.).
(обратно)7
Хетты — термин из греческого перевода Ветхого Завета; условное наименование индоевропейского народа, проживавшего во II тыс. до н. э. в центральной Анатолии, а также, в более широком смысле, всех жителей Хеттского царства (древнего государства в Малой Азии в XVIII — нач. XII вв. до н. э.) и последующих ново-хеттских царств в юго-восточной Анатолии и Палестине.
(обратно)8
Гекатомба — жертвоприношение.
(обратно)9
Мерлин — мудрец и волшебник кельтских мифов, наставник и помощник короля Артура, а до того — его отца Утера.
(обратно)10
Геспериды — дочери Вечерней Зари и Ночи, охраняющие молодильные яблоки (их еще называют золотыми).
(обратно)11
Гефест — бог огня, покровитель кузнечного ремесла и сам искусный кузнец; изображался могучим и широкоплечим, но некрасивым и хромым на обе ноги.
(обратно)12
Гермес — бог торговли, прибыли, интеллекта, ловкости, обмана, воровства и красноречия, дающий богатство и доход в торговле; покровитель глашатаев, послов, пастухов и путников; покровитель магии и астрологии. Посланник богов и проводник душ умерших в подземное царство.
(обратно)13
Рифейские (Рипейские) горы — в античной географии название северных гор на краю Скифии. Географическая локализация Рифейских гор вызывает споры; многие ученые предполагают, что под Рифейскими подразумевались Уральские горы.
(обратно)14
Абарис — по происхождению гипербореец; прорицатель, ученый, мудрец. Жил в Скифии, куда перебрался после гибели Гипербореи; мог долго обходиться без пищи и летал на волшебной стреле, подаренной ему Аполлоном. Пифагорейцы называли Абариса «Воздухошествующим». О нем упоминали Геродот и Платон.
(обратно)15
Ореады — в древнегреческой мифологии нимфы гор.
(обратно)16
Лабрис — двусторонний боевой топор, считавшийся атрибутом Зевса.
(обратно)17
Океанос — один из древнегреческих титанов, детей Урана и Геи.
(обратно)18
Океаниды — в древнегреческой мифологии нимфы, три тысячи дочерей титана Океаноса.
(обратно)19
Дий — Зевс; в древнегреческой мифологии бог неба, грома и молний, ведающий всем миром.
(обратно)20
Гайя — планета Земля.
(обратно)21
Ойкумена — населенная часть Земли.
(обратно)22
Тартария — будущая Российская империя; согласно карте, изготовленной в Париже в 1670 году, Великая Тартария включала в себя, кроме собственно Российской империи, Китай и Индию.
(обратно)23
Вайу — бог войны у скифов-сколотов и их воинский клич. Жертвенником Вайу служил меч, воткнутый в кучу хвороста; ему приносились человеческие жертвы — захваченных в плен врагов.
(обратно)24
Корсары (каперы, приватиры, арматоры) — частные лица, которые с разрешения верховной власти воюющего государства снаряжали за свой счет судно с целью захватывать купеческие корабли неприятеля, а в известных случаях — и нейтральных держав. Каперов, или корсаров, не следует смешивать с пиратами — морскими разбойниками, действовавшими вне каких-либо правовых рамок. Однако грань, отделяющая корсаров от пиратов, часто бывала весьма условна.
(обратно)25
Дом Чудес — трущобы, парижское «дно».
(обратно)26
Бретёр — заядлый дуэлянт (фр.).
(обратно)27
Граф Сен-Жермен — политический деятель, путешественник, алхимик и оккультист, пользовавшийся репутацией авантюриста; происхождение однозначно не установлено. По распространенной версии, происходил из трансильванской княжеской семьи Ракоци. Точная дата рождения неизвестна. Владел почти всеми европейскими языками. Обладал большими познаниями в области истории и химии, был скрипачом, композитором, художником. В круг его друзей входили знатные люди разных стран.
(обратно)28
Кутласс — короткий, заостренный с одной стороны меч, основное холодное оружие пиратов. Изогнутое лезвие кутласса имело длину около 60 см. Он напоминал саблю, но был короче и массивнее. Благодаря большей массе кутласса с его помощью можно было не только сражаться с противником, но также рубить канаты, реи и даже тяжелые двери. Так как абордаж чаще всего отличался скоротечностью и происходил в узких помещениях, к тому же нередко при сильной качке, то небольшая длина кутласса являлась важным преимуществом перед обычными саблями или шпагами; Турская (турецкая) сталь — это булат, кованный в Турции.
(обратно)29
Склянки — во времена парусного флота так называли песочные часы с получасовым ходом; по ним на судах отсчитывали время. Каждые 30 минут часы переворачивались вахтенным матросом, что сопровождалось сигналом колокола-рынды.
(обратно)30
Грум — слуга, верхом сопровождавший всадника или экипаж, а также мальчик-лакей.
(обратно)31
Цикута (болиголов) — ядовитое растение; отравление им вызывает судороги и паралич дыхания.
(обратно)32
Руссия — так в XVI–XVII веках в Западной Европе называли Россию; а в просторечье — Московией.
(обратно)33
Берсерк — викинг, посвятивший себя богу Одину, перед битвой приводивший себя в дикую ярость. В сражении отличался большой силой, быстрой реакцией, нечувствительностью к боли, безумием.
(обратно)34
Французский фут (точнее, парижский) равнялся 324,8 мм; английский фут равен 304,79 мм.
(обратно)35
Чернушка в восемь «жаков» — кувшин или бутыль вместимостью четыре литра (жарг.)
(обратно)36
Су — старинное простонародное название медной французской монеты соль; 1 соль = 12 денье.
(обратно)37
Луидор — старинная французская золотая монета (по весу около 7,275 г золота), чеканка которой по образцу испанского пистоля началась в 1640 году при Людовике XIII (отсюда и название монеты) и продолжалась до Великой французской революции (1789–1794).
(обратно)38
Тильбюри — старинный легкий двухколесный экипаж (англ.); фаэтон — конная повозка с откидывающимся верхом (фр.); дилижанс — четырехколесный многоместный экипаж для перевозки пассажиров и почты (фр.).
(обратно)39
Кондотьеры — в Италии XIV–XVI вв. командиры военных отрядов, находившихся на службе у городов-коммун и государей и состоявших в основном из наемников-иностранцев. Случалось, что кондотьеры захватывали власть в городах, основывая синьории. В рядах кондотьеров было немало авантюристов. Часто кондотьеры после получения платы за свою работу переходили из одного воюющего лагеря в другой и шантажировали своих нанимателей.
(обратно)40
Пинта — старинная французская мера жидкостей, около 0,9 л.
(обратно)41
Обвальщик — тот, кто производит обвалку — отделение мяса от костей.
(обратно)42
Дормез — большая закрытая карета, приспособленная для сна в пути; сидения раскладывались так, что пассажиры могли лежать, вытянувшись во весь рост.
(обратно)43
Мулине — кругообразные движения шпагой.
(обратно)44
Штоссы — приемы нападения в фехтовании; парады — приемы защиты
(обратно)45
Паргелий — форма гало, когда на небе наблюдается одно или несколько дополнительных изображений Солнца; возникает вследствие преломления солнечного света в частичках льда, летающих в атмосфере. В «Слове о полку Игореве» упоминается, что перед наступлением половцев и пленением Игоря «четыре солнца засияли над Русской землей». Воины восприняли это как знак надвигающейся беды.
(обратно)46
Мальвазия — греческое ликерное вино с островов Эгейского моря. Русские летописи отмечают ее как первое заморское вино. Завозимая с XI до XIII вв., мальвазия долго оставалась на Руси единственным виноградным вином. Лучшую мальвазию изготовляли на острове Крит, и она была, по-видимому, одним из самых древних вин в мире.
(обратно)47
Герберг (Herberge, нем.) — постоялый двор, в основном для приезжих иностранцев; указом царицы Елизаветы Петровны (1745) герберги (или трактирные дома) были узаконены. В Петербурге было открыто всего 25 гербергов.
(обратно)48
Мазанка — 1. Оштукатуренное глиной строение из кирпича, сложенного на извести между деревянными столбами, укрепленными перекладами; 2. Небольшая хижина из хвороста со стенами, обмазанными разноцветной глиной (белой, желтой, красной и т. п.).
(обратно)49
Я голоден (фр).
(обратно)50
Обжорка — Сытный рынок.
(обратно)51
Я хотел бы позавтракать (фр.).
(обратно)52
Что вы можете порекомендовать из мясных блюд? (фр.)
(обратно)53
Я предпочитаю запеченный окорок (фр.).
(обратно)54
Поддевка — русская верхняя мужская одежда с застежками сбоку и сборками на талии.
(обратно)55
Макошь, Мокошь — древнеславянская богиня, прядущая нити судеб, Большая Мать; наиболее загадочное женское божество, пришедшее в славянский пантеон из глубины веков. Даже летописцы Древней Руси не знали, как точно писать ее имя (Макрешь, Макуша и т. п.).
(обратно)56
Око Ра — символ солнца, глаз со слезой; Око Ра имеет исцеляющую и защищающую силу. (Ра — древнеегипетский бог солнца, верховное божество древних египтян; его имя означает «солнце».)
(обратно)57
Рига — постройка с печью для сушки снопового хлеба и льна с местом для молотьбы.
(обратно)58
Педрилло (Pedrillo) Пьетро-Мира — неаполитанец; в начале царствования Анны Иоанновны прибыл в Петербург для пения ролей буффа и игры на скрипке в придворной итальянской опере. Но затем записался в придворные шуты и вскоре сделался любимцем императрицы и ее неизменным карточным партнером. Нажив состояние, после смерти императрицы возвратился на родину.
(обратно)59
Тентин — сладкое андалузское вино Испании.
(обратно)60
Дерьмо! (нем.)
(обратно)61
Вас что-то угнетает? (фр.)
(обратно)62
Нет, все в порядке (фр.)
(обратно)63
Нижняя набережная — так называлась в начале XVIII века Английская набережная, расположенная в низовье Невы, на левом берегу.
(обратно)64
Наргиле (от nargill (перс.) — кокосовый орех, из которого первоначально делали наргиле) — курительный прибор, сходный с кальяном, но имеющий в отличие от него длинный рукав вместо трубки. Дым получается при накладывании горячего угля на подмокший табак.
(обратно)65
Начальный куш — размер минимальной ставки.
(обратно)66
Банкир — тот, кто сдает карты; банкомет; его колода называется штосс.
(обратно)67
Понтер — соперник банкира.
(обратно)68
Плие — ситуация, когда выпадают две одинаковые карты и в проигрыш, и в выигрыш; игрок проигрывает ставку на карту, а ставка на масть остается без изменения. В таком случае преимущество на стороне банкомета.
(обратно)69
Кунштюк — ловкий прием, фокус, забавная проделка.
(обратно)70
Штоф — русская единица измерения объема жидкости, применявшаяся до введения метрической системы мер; 1 штоф = 1/10 ведра = 10 чаркам = 1,23 литра.
(обратно)71
Нобили (от лат. nobilis — знатные) — средневековые дворяне, а также часть городского патрициата, которую составляли выходцы из крупных феодальных семей.
(обратно)72
Экю — старинная французская золотая монета с изображением щита, чеканка которой началась при Людовике IX в 1266 г. Чеканка серебряных экю началась с 1641 году; в 1740 году их вес равнялся 24–25 г.
(обратно)73
Общество Иисуса — монашеский орден иезуитов, основанный в 1534 году в Париже испанским дворянином Игнатием Лойолой для защиты интересов папства, борьбы с ересями и миссионерской деятельности.
(обратно)74
Ливр — серебряная монета Франции (разной ценности в разные века; например ливр чеканки 1656 года весил 8,024 г), существовавшая до 1795 года; известны ливры турский и парижский. 1 ливр = 20 су = 240 денье.
(обратно)75
Люкарны — оконные проемы в чердачной крыше или купольном покрытии; люкарны, также имеющие декоративное значение, снаружи обычно украшены наличниками, лепными обрамлениями и т. п.
(обратно)76
Фут — старорусская единица измерения длины равная 30,48 см.
(обратно)77
Выжлятник — наемный псовый охотник, приставленный к гончим собакам.
(обратно)78
Скампавея — русская малая галера начала XVIII века для операций в шхерах; имела до 18 пар весел, 1–2 мачты с треугольными парусами и 1–2 пушки малого калибра. Перевозила до 150 человек.
(обратно)79
Кромлех — древнее (вплоть до раннего Средневековья) сооружение, представляющее собой несколько обработанных или необработанных, большей частью продолговатых, камней (менгиров), поставленных вертикально и образующих одну или несколько концентрических окружностей.
(обратно)80
Неопалимая Купина — в Пятикнижии горящий, но не сгорающий терновый куст, в котором Бог явился Моисею, пасшему овец в пустыне близ горы Синай. Скорее всего, реальным прообразом Неопалимой Купины послужил ясенец, встречающийся на Синайском полуострове; он выделяет летучее эфирное масло, которое легко воспламеняется на солнце.
(обратно)81
IHS (Iesus Hominus Salvator) — Иисус Спаситель Человечества; девиз ордена иезуитов.
(обратно)82
Адмонитор — негласный контролер при генерале Ордена Иисуса.
(обратно)83
Сила доказательств не в их количестве, а в их весомости (лат.).
(обратно)84
Очевидное не нуждается в доказательствах (лат.).
(обратно)85
Элементалии — невидимое продолжение видимой части природы; если люди имеют сложную структуру, то элементалии составлены лишь из одной эфирной сущности.
(обратно)86
Фураке — большая деревянная бочка, атрибут японской семейной бани фуро; изготавливалась фураке из различных пород дерева — от дуба до красного дерева, перехватывалась деревянными или металлическими обручами. Высота фураке в среднем 150 см, она имеет двойное дно. Воду грели в специальной печи, устроенной под дном фураке. В самой фураке устанавливались сиденья, на которых могли разместиться до трех человек.
(обратно)87
«Азбучная молитва» — стихотворная азбука, одно из самых ранних славянских стихотворений. Является особой формой изложения религиозных истин, раскрывая в удобной для запоминания стихотворной форме различные вопросы православного вероучения. Представляет собой акростих на алфавит (так называемый абецедарий); данный текст датируется XVIII в.
(обратно)88
Ефимок — русское название талера, европейской серебряной монеты XVI–XVII вв.
(обратно)89
Подорожная — документ полицейского учета иностранцев в Российской империи; подорожная исполняла ту же функцию, что и проезжая грамота. Выдавалась высшими должностными лицами на проезд в Россию (и на выезд из России) иностранцев. В документе указывались их имена и фамилии, состав семьи, если они выезжали с семьей, чин, звание, место назначения, цель поездки.
(обратно)
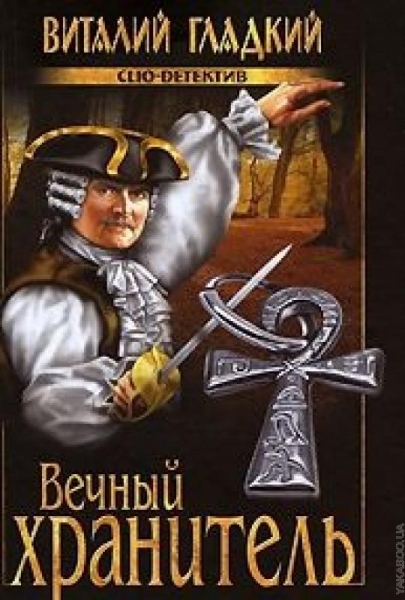


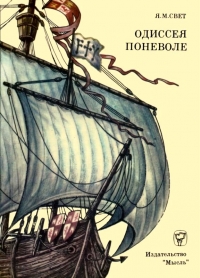

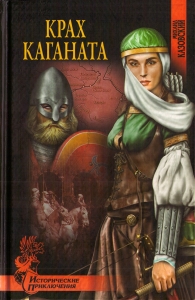
Комментарии к книге «Вечный хранитель», Виталий Дмитриевич Гладкий
Всего 0 комментариев