Роман Белоусов ЗНАМЕНИТЫЕ АВАНТЮРИСТЫ Расследование частного детектива
ЗАГАДКА МОГИЛЬНОЙ ПЛИТЫ, ИЛИ АФЕРА С ОЖЕРЕЛЬЕМ
Встреча у подножия Аюдага
Густав Олизар был вольнодумец, поэт, человек необычной судьбы. Мицкевич посвятил ему стихи. Пушкин в послании «Графу Олизару» писал о его неудачной любви к Марии Раевской. И действительно, богатый, занимавший видное положение (одно время был киевским губернским предводителем дворянства) двадцатисемилетний Олизар серьезно увлекся дочерью генерала Н. Н. Раевского, знаменитого героя Отечественной войны 1812 года. Ей было около двадцати, когда она из юной смуглянки с серьезным выражением лица, на удивление всем, неожиданно превратилась в стройную красавицу, привлекавшую всеобщее внимание на вечерах в Киеве и Одессе.
Граф Олизар открыто выражал свои чувства к Марии, боготворил ее, называл своею Беатриче. Наконец граф решился просить руки Марии. И получил отказ. Причину его он объяснял много лет спустя так: «Различие народности и религии препятствовало мне найти в ее сердце желанный ответ на мою склонность».
Мария предпочла С. Г. Волконского, за которого вышла в начале января 1825 года, а вскоре добровольно последовала за мужем в Сибирь, разделив нелегкую участь декабриста и навеки обессмертив свое имя.
После того как Мария вышла замуж, Густав Олизар уединился в своем крымском имении Артек (незадолго до того купленном за бесценок), которое отныне претенциозно именовал «Лекарство сердца».
В сонете «Аюдаг» Мицкевич как бы утешает страдающего от любви «юного барда». Он советует ему взять лиру и исцелиться под ее звуки. И Густав Олизар, можно сказать, внял совету. Написал поэму «Храм страданий» — о своей любви к Марии Раевской. Неизвестно только, удалось ли ему таким образом излечиться от любовного недуга. Во всяком случае, поселившись в Крыму, он жил как отшельник, обрекший себя на добровольное изгнание. Здесь, на благословенных берегах полуденной Тавриды, состоялась встреча Адама Мицкевича с Густавом Олизаром. Польский поэт прибыл сюда из Одессы, где отбывал ссылку.
Однажды Мицкевич и Олизар совершили прогулку в Гурзуф. У подножия Аюдага им попался небольшой домик. Мицкевич поинтересовался, кто в нем живет.
— Кажется, никто. А еще недавно тут обитала графиня Гаше. Загадочная личность. Сейчас эта француженка переселилась в Старый Крым.
— Но кто же она, эта таинственная графиня?
— Вам приходилось слышать о знаменитом процессе по поводу ожерелья Марии-Антуанетты?
— Еще бы, история известная.
— Так вот, скажу по секрету: графиня Гаше и та, которая похитила ожерелье, — Жанна де ла Мотт — одно лицо.
— Не может быть!
— Ей удалось бежать и скрыться в России под чужим именем.
— Невероятно!
— Но это так…
Густав Олизар встречал загадочную француженку в Крыму и написал об этом в своих воспоминаниях. Гаше никогда не снимала фуфайки и наказала похоронить себя в ней. Ее, однако, не послушались. Когда обмывали покойную, фуфайку сняли и обнаружили на теле знак — след клейма, выжженного железом. Сообщает об этом в своих мемуарах и Ф. Ф. Вигель. Еще один автор, известный библиофил, знаток русской старины, М. И. Пыляев приводит в своей книге «Замечательные чудаки и оригиналы», изданной в 1898 году, такой рассказ. Перед смертью графиня бредила бриллиантами, а по ночам будто рассматривала драгоценности, которые хранила в темно-синей шкатулке. После ее смерти они исчезли.
По свидетельству М. И. Пыляева, похищение бриллиантов и бумаг не составляло тайны для многих крымских старожилов, которые рассказывали об этом открыто. Само собой, разговоры эти подогревались слухами о таинственном прошлом графини и ее странном образе жизни в Крыму. Впрочем, все понимали, что бриллианты, если они и были, едва ли удастся найти. Что касается бумаг, то они вполне могли уцелеть. Отыщись эти документы, многое стало бы ясно в загадочной судьбе графини Гаше и, возможно, все убедились бы, что это и есть та самая француженка — главная участница «одного из самых дерзких, сверкающих и волнующих фарсов истории».
Разыгрывается фарс
История с ожерельем, среди прочих афер и авантюр, характерных для эпохи упадка французской монархии в конце XVIII века, занимает едва ли не главное место. Дело это было связано с самым громким политическим скандалом, предшествовавшим революции. Большинство же современников воспринимало происшествие при дворе как уголовную сенсацию. Для публики, падкой на сплетни и интриги, это была своего рода увлекательная головоломка, вроде сегодняшнего детективного чтива. История о похищении ожерелья достигла далекой России, где в 1786 году, буквально тотчас после скандала, появились две брошюрки с его описанием. Однако наиболее прозорливые и демократически настроенные усмотрели в придворном скандале более глубокий смысл. Первым высказался Мирабо — граф, ставший депутатом третьего сословия. Он назвал дело об ожерелье «прелюдией к революции». Его мнение позже разделяет Гёте и Карлейль, проявлявшие интерес прежде всего к политической стороне события. У Гёте этот интерес воплотился в комедию «Великий Кофта», Томас Карлейль напишет историческое эссе «Бриллиантовое ожерелье»; отведет он этому факту место и в своей «Истории французской революции».
Нашумевший на всю Европу процесс задел воображение и друга Гёте Шиллера, послужив толчком к написанию в 1789 году романа «Духовидец». Братья Гонкуры изложили скандальное дело в своих исторических очерках, а для Дюма оно послужило основой сюжета романа «Ожерелье королевы». Автору не пришлось ничего выдумывать, требовалось лишь поднять на котурны приключенческой романтики подлинный жизненный случай.
Что же, однако, произошло при дворе Людовика XVI в 1784 году, ровно за пять лет до того дня, когда Бастилия спустила свои висячие мосты, сдавшись восставшему народу?
Справедливо сказано, что в центре подлинной комедии всегда стоит женщина. В деле об ожерелье ею оказалась дочь разорившегося дворянина и опустившейся служанки. В семь лет, после смерти отца, брошенная матерью, Жанна стала бродяжкой. Нетрудно представить, какая ее ожидала судьба, если бы не случай. Выпрашивая на улицах милостыню, девочка обращалась к прохожим со словами: «Умоляю о милосердии к бедной сиротке из дома Валуа». Прохожие, занятые своими делами, вечно куда-то спешащие, не придавали значения словам ребенка. Но вот однажды их услышала маркиза Буленвилье. «Как, эта попрошайка — отпрыск королевского рода?!» Встреча с сердобольной маркизой в одночасье изменила судьбу нищенки. Самое удивительное, что Жанна, законнорожденная дочь Жака Сен-Реми, браконьера и пьяницы, действительно потомок Генриха II Валуа.
Благодетельница помещает девочку в пансион, затем в монастырь Лоншам для девушек из аристократических семей. Аббатство располагалось неподалеку от Парижа на берегу Сены и считалось одним из самых достойных в королевстве. Обитель сию основала в середине XIII века Изабелла Французская, которая и была ее первой аббатисой. В специальной книге, хранящейся в монастыре, значилось более тысячи имен тех, кто воспитывался когда-либо здесь, в том числе и такие знаменитости, как принцесса Бланш де Франс, дочь Филиппа Длинного, вторая принцесса Бланш де Франс, дочь Людовика Святого, принцесса Жанна Наваррская, дочь Филиппа, короля Наварры, Катарина Верденская, любовница Генриха IV, и многие другие.
Чрезвычайно строгий устав ордена Святой Клариссы, к которому принадлежали обитательницы Лоншама, был по настоянию Людовика Святого изменен буллой папы Урбана IV, и воспитанницы монастыря, так называемые «клариссы», стали именоваться урбанистками.
Режим здесь отличался особой строгостью, о чем поведал Дидро в своем знаменитом романе «Монахиня», героиня которого (у нее был подлинный исторический прототип), не выдержав издевательств и потеряв всякую надежду вырваться на свободу, пытается спастись бегством.
Очень скоро и Жанне наскучило наблюдать сквозь монастырскую калитку бьющую ключом жизнь по ту сторону ограды. Преодолев ее, Жанна оказалась на свободе. Путь ее лежал в родной Бар-сюр-Об. Сначала по реке на судне добирается она до Ножана, оттуда на дилижансе до небольшого городка, где рассчитывала в первое время обосноваться. Здесь она встречает Никола де ла Мотта — жандармского офицера из роты бургиньонцев. (В то время существовало десять жандармских рот, из которых первые четыре — шотландцев, англичан, бургиньонцев и фламандцев — находились непосредственно под командованием своего капитана — короля.) Ла Мотт был чуть ниже среднего роста, с довольно непримечательной физиономией, но весьма бравого вида, который придавал ему жандармский наряд, украшенный золотыми и серебряными галунами. На голове шляпа с большой белой кокардой, на плечах манто из ярко-красного драпа на красной же саржевой подкладке, подбитое светло-желтой оторочкой. Особыми талантами он, пожалуй, не отличался, если не считать склонности играть в комедиях. Он разыгрывал сценки с Жанной и, по ее словам, давал ей уроки декламации.
«Эти мгновения, — замечает она, — не были потерей для любви». Они так старательно вместе декламировали, что в результате были вынуждены в большой спешке заключить брак. Этот союз между королевским жандармом и бывшей воспитанницей Лоншама был освящен 6 июля 1780 года в приходе Сен-Мари-Маделен. Событие это было отмечено пирушкой, в которой приняла участие вся рота красных жандармов, на которых молодая, красивая и кокетливая Жанна произвела сильное впечатление. А месяц спустя в том же приходе были крещены братья-близнецы, сыновья двадцатишестилетнего Никола де ла Мотта и двадцатичетырехлетней Жанны де Валуа. Оба ребенка спустя несколько дней умерли.
Начинать семейную жизнь супругам пришлось с минимальными средствами — продали кабриолет и лошадь, которые были приобретены накануне свадьбы в кредит. Не на такую жизнь рассчитывала Жанна. Кровь предков бродила в ней, ею овладевала мечта занять принадлежащее по праву положение потомка королевского рода. У нее очень пикантная наружность, к тому же она умна, одарена грацией, обаятельна. Жанна мечтала о нарядах, каретах, богатстве. Но судьба послала ей в супруги заурядного жандармского служаку, мелкопоместного дворянина. Правда, он дал ей титул графини, но только титул, ничего больше, да и то самовольно им присвоенный. Он разделял ее страсть к роскоши. Но рассчитывать на успех, живя в этой провинциальной дыре, не приходилось.
И вот граф и графиня де ла Мотт занимают тысячу франков и отправляются в Париж искать счастья. Календарь показывал конец 1781 года.
Молодые супруги останавливаются на улице Веррери в обшарпанной гостинице «Реймский городок». Они занимают двухкомнатный, плохо меблированный номер. Скоро, однако, графиня находит новое пристанище в Версале, на площади Дофина, где снимает две комнатушки в меблирашках. Восьмиугольная площадь — центральный квартал, куда съезжаются все, кто в поисках справедливости хочет подать жалобу министру, а возможно, и самому королю. Здесь всегда полно народа — искателей монаршей милости, рыцарей фортуны, маклеров, разносчиков товара, газетчиков. Можно подумать, что Жанну непроизвольно влечет к королевскому двору, она хочет быть ближе к сильным мира сего. Но пока что ей удается только наблюдать за их жизнью, и она довольствуется положением зрителя.
Граф де ла Мотт обожает роскошь, его влекут развлечения, вино и женское общество. Его туалеты хотя и отдают дурным вкусом, но стоят недешево. Графиня одета с большей элегантностью, и на ее наряды тоже требуются немалые деньги. На все это нужны средства, но, кроме как брать в долг, у них нет источника существования. Доходит до того, что бывают дни, когда они сидят без обеда и графине самой приходится стирать свое муслиновое платье и юбку из тонкого батиста — единственные не заложенные в ломбард наряды. Но без конца жить в кредит невозможно. Надо что-то предпринимать. И в голове изобретательной Жанны созревает план, в который она посвящает мужа.
Отныне парочка молодоженов начинает свое восхождение наверх с удвоенной энергией. О способах и средствах они мало задумываются. Через все ту же маркизу Жанна добивается приглашения во дворец к кардиналу Лу де Рогану, одному из самых богатых и знатных вельмож.
Теперь главное — не упустить шанс. Кардинал, дамский угодник и простак, очарован графиней де ла Мотт. Из своего успеха Жанна тотчас извлекает материальную выгоду: муж получает чин драгунского ротмистра, она — солидную сумму на покрытие долгов. Осталось неизвестным, было ли это бескорыстным даром или наградой за женскую уступчивость. Так или иначе, нежданные луидоры разожгли аппетит. Желание разбогатеть опережает возможности. Тем не менее чета де ла Мотт начинает жить на широкую ногу, снимает в Париже на улице Нёв-Сен-Жиль особняк, где предается великосветским утехам. Никто не догадывается, что столовое серебро взято напрокат, как, впрочем, и прочая домашняя утварь и обстановка. Никому и в голову не может прийти, что графиня де ла Мотт, имеющая права, в чем настойчиво убеждают кредиторов, на обширные поместья, на самом деле наглая обманщица. Но однажды парижские заимодавцы заявляют, что отказываются ждать, когда графиня получит наконец свои поместья и расплатится с долгами.
Тогда она объявляет, что едет в Версаль заявить о своих правах. Разумеется, это лишь уловка. На самом деле хитрая авантюристка готовит ловкий трюк. В приемной мадам Элизабет — сестры короля — она неожиданно падает в обморок. Все взволнованы, пытаются помочь. Улучив момент, муж, партнер по фарсу, произносит имя графини Валуа де ла Мотт и признается, что это голодный обморок — несчастная на грани истощения. Результат комедии: двести ливров наличными — дар сердобольного двора, плюс пансион в тысячу пятьсот ливров.
Войдя во вкус, Жанна дважды повторяет трюк с обмороком, каждый раз возле покоев членов королевской семьи. Дома же гостям рассказывает, как якобы тепло приняла ее королева, какое выказала участие и заботу. Отныне быть знакомой графини де ла Мотт считается честью — каждому льстит знаться с дамой, близкой к самой королеве. К сожалению, это не избавляет от кредиторов, которые становятся все настойчивее. Спасти от их наглости может только крупная сумма, но как ее получить? И неистощимая на выдумку Жанна задумывает новую авантюру. Как говорится, «для солидной аферы всегда необходимы два действующих лица: незаурядный мошенник и большой глупец». Кто сыграет первую роль в задуманном спектакле, догадаться нетрудно; во второй выступит не кто иной, как сам его преосвященство, кардинал Роган. В числе участников окажутся и другие фигуры: одни — вовлеченные в авантюру хитроумным режиссером, другие — замешанные в ней ненароком. Одна из таких фигур — знаменитый граф Калиостро, вступивший, однако, в игру, когда она была уже в разгаре, о чем речь впереди.
А началось все с того, что Жанна случайно узнала о сокровенном желании Рогана стать первым министром страны. Помешать этому может лишь одно — известная всем, но необъяснимая неприязнь Марии-Антуанетты к его персоне. Сколько ни пытался кардинал завоевать симпатии королевы, все было напрасно. И он признается Жанне, что счел бы высшим счастьем быть королеве преданным слугой, благоговейно поклоняться ей.
Мошенница быстро сообразила, какую пользу можно извлечь из этого. Отныне всякий раз при встрече с Роганом, уверенным, что Жанна близка к Марии-Антуанетте, она как бы между прочим дает понять, как доверяет ей королева, сколь откровенна с ней. Так, исподволь, она подводит Рогана к мысли, что может замолвить за него словечко перед Марией-Антуанеттой. И вскоре легковерный кардинал слышит то, во что ему так хочется верить. Он узнает, что разговор о нем состоялся и королева сменила гнев на милость. На радостях доверчивый простак одаривает посредницу кругленькой суммой. Вкусив от щедрот кардинала, Жанна принимается усердно разрабатывать эту золотую жилу. У нее созревает план. Для пущей убедительности надо продемонстрировать доказательство королевской милости, например письма.
В игру включается так называемый секретарь графини де ла Мотт, некий Рето де Вильет. Мастер на подделки, Рето изготавливает письма королевы к ее подруге Жанне Валуа. Но этого мало, вошедшая во вкус мошенница предлагает кардиналу самому написать королеве, а она, мол, берется передать послание. Словно загипнотизированный, Роган соглашается, сочиняет текст и вручает его своей наперснице. Через несколько дней в руках у него собственноручный ответ королевы, а у Жанны солидный куш, полученный «за услуги».
В своем ответе королева пока отказывает в аудиенции нетерпеливому кардиналу и, естественно, просит держать их переписку в тайне. Как только позволят обстоятельства, его известят. Листок белой тисненой бумаги с золотым обрезом кажется размечтавшемуся простофиле пропуском к сердцу первой дамы Франции и собственной карьере.
Однако вежливость требует поблагодарить за оказанное внимание, нет — за милость! Галантный священнослужитель садится за стол и пишет ответ, а услужливая Жанна вновь исполняет роль посредницы. Так возникает переписка — хитроумная игра, которая позволяет ловкой пройдохе извлекать из кармана кардинала луидоры.
Но бесконечно эта игра продолжаться не может. Как ни доверчив Роган, но и он почует подвох. Наступает момент, когда Жанна понимает, что дальше разыгрывать фарс без основного действующего лица невозможно. На сцене должна возникнуть королева. И неистощимая на выдумку авантюристка замышляет поразительный по наглости трюк.
Свидание в парке
«Вы жаждете встречи с королевой, — пожалуйста, будет вам свидание», — цинично рассуждает обманщица и, как опытный режиссер, подбирает исполнителей и распределяет роли. Устроить тайное рандеву где-нибудь в темной аллее Версальского парка не так уж трудно. Главное — найти дублера на роль королевы. В качестве ее двойника выступит некая мадемуазель по имени Николь Лаге, которую Жанна нарекает баронессой д’Олива. На самом деле это обыкновенная модистка. Ничего общего с внешностью той, кого ей предстоит изобразить, она не имеет, походит на нее лишь фигурой — высока и хорошо сложена. Но именно это и требуется — свидание произойдет в сумерках, чуть ли не в темноте, разглядеть лицо будет трудно, тем более что его скроют вуаль и поля шляпы. Жанна собственноручно одевает исполнительницу роли королевы в белое с крапинками муслиновое платье со шлейфом, точно такое, в каком та изображена на одном из портретов работы мадам Виже-Лебрен.
Когда туалет готов, участники комедии — Жанна, ее супруг и Николь — направляются к месту действия. Бесшумно проникают они на террасу Версальского парка, достигают рощицы Венеры и здесь оставляют псевдокоролеву одну. Погода стоит пасмурная, небо безлунно, и это, конечно, на руку устроителям маскарада. К тому же вокруг высятся ели и пихты, создавая дополнительную темень, в которой с трудом можно разглядеть очертания человеческой фигуры. Место самое что ни на есть подходящее для тайных свиданий и шутовского розыгрыша.
Маленькая Николь, которой предстоит сыграть роль королевы, трясется от страха. Но бежать поздно. Слышен хруст гравия на дорожке. Кто-то идет. Цепенея от страха, Николь сжимает в руке розу и записку, ей следует вручить их господину, который должен подойти и заговорить с ней. Перед ней возникает силуэт мужчины. Это Рето де Вильет, в разыгрываемом фарсе он исполняет роль слуги королевы. Он ведет Рогана к месту свидания. Николь, естественно, не догадывается, кто перед ней, так же как и кардинал уверен, что стоит перед королевой. Он церемонно кланяется и благоговейно, с почтением целует край платья ее величества. Николь настолько растеряна, что чуть было не позабыла условия сценария. Спохватившись, передает розу незнакомцу и лепечет фразу, которую должна произнести: «Вы можете надеяться, что все прошлое забыто».
К удивлению Николь, слова эти производят на незнакомца потрясающее впечатление. Он снова раскланивается, в восторге благодарит за высочайшую милость и уверяет в своей преданности. В этот момент, к радости Николь, вновь слышатся поспешные шаги по гравию и взволнованный голос: «Скорее уходите! Сюда идут мадам Элизабет и графиня Артуа». Незнакомец, то бишь кардинал, в испуге моментально исчезает в сопровождении Жанны, ее супруг уводит мнимую королеву.
Шутка в стиле Аристофана удалась блестяще, как скажет будущий историк. Теперь бедный кардинал получил такой удар по голове, который вышиб из нее остатки разума. До этого его недоверчивость следовало всячески усыплять; теперь же, поскольку обманутый считает, что он беседовал с королевой, услышал из ее уст слова прощения, каждому слову графини де ла Мотт он будет верить больше, чем Евангелию. Теперь он пойдет за ней в огонь и воду. В этот день во Франции нет человека более счастливого, чем он. Роган уже видит себя первым министром, фаворитом королевы.
Проходит несколько дней, и Жанна передает кардиналу новое доказательство благосклонности королевы. Ее величество просит его оказать помощь одной бедной дворянской семье — требуется всего лишь пятьдесят тысяч ливров. К сожалению, у нее самой в данный момент нет таких денег. Это отнюдь не кажется странным, ведь всем известна расточительность Марии-Антуанетты, «проявлявшей поразительную изобретательность в поисках все новых и новых способов пускать деньги по ветру», как пишет историк профессор А. 3. Манфред.
Естественно, кардинал тут же откликается, он счастлив возможности проявить милосердие. Спустя три месяца ему снова приходится раскошелиться, и снова по просьбе своей якобы покровительницы.
Теперь золото рекой течет в карманы супругов ла Мотт и их подручных. Можно жить в свое удовольствие и не думать о завтрашнем дне. В великолепном загородном доме в Бар-сюр-Об, купленном четой ла Мотт, они живут открыто и широко — здесь что ни день, то праздник, веселятся и кутят, не задумываясь о будущем. Жанна одевается в платья из лионского бархата, расшитые шелками, восхищающими модниц, посуда приводит в восторг знатоков; она принимает за своим столом важных особ: маркизов, аббатов, графов. Все поражены переменой в ее жизни, удивляются ее богатству и роскоши. Злые языки приписывают появление свалившегося на нее счастья заботам кардинала Рогана. Да и сам он отнюдь не скрывает своего восхищения графиней де ла Мотт.
Кража
Аппетит приходит во время еды — эту банальную истину Жанна де ла Мотт подтверждает следующим своим шагом. Ей становится известно, что Мария-Антуанетта мечтает купить бриллиантовое ожерелье — красивую вещь, столь же великолепную, сколь и дорогую, — стоимостью в миллион шестьсот тысяч ливров. Сумма огромная!
Изготовлено это чудо-ожерелье было более десяти лет назад и составлено из 629 великолепных бриллиантов. Первоначально оно предназначалось фаворитке короля мадам Дюбарри, и она, безусловно, получила бы его, если бы не оспа, убившая Людовика XV. С тех пор ювелиры Бёмер и Бассанж, вошедшие в долги, так как вложили в это ожерелье все свои деньги, закупив камни в кредит, тщетно пытались сбыть драгоценность. Ни испанская королева, ни французская не пожелали выложить кругленькую сумму. Впрочем, Мария-Антуанетта готова была купить этот шедевр ювелирного искусства, но скупой муж, проявив необычную твердость, наотрез отказался дать деньги. Достаточно он передавал их королеве, с самого начала пребывания в Версале зарекомендовавшей себя мотовкой, питающей страсть к бриллиантовым украшениям.
Отказав супруге, король бросил знаменитую фразу: «Лучше на эти деньги построить еще несколько военных кораблей». Впрочем, это была запоздалая экономия — финансы страны находились в более чем плачевном состоянии: необузданные аппетиты кормящейся у подножия трона придворной клики, бесстыдное воровство, всеобщая продажность, безответственность, граничащие с преступлением спекуляции, в которые были вовлечены высшие служащие короля, — все это с угрожающей быстротой увеличивало дефицит, создавая непреодолимые трудности и усиливая всеобщее недовольство. В этой тревожной и неустойчивой обстановке, когда каждому известно было, что казна опустошена, беспечная Мария-Антуанетта приобрела дворец Сен-Клу за 15 миллионов, а за 14 — замок Рамбуйе для короля, восстановила должность министра двора королевы с жалованьем в 150 тысяч ливров, что вдвое больше оклада генерального контролера, то есть министра финансов.
Придворный штат королевы пожирал немалую толику государственных расходов. Одна лишь дама, ведавшая гардеробом, получала на ткани и придворные наряды 100 тысяч франков, а первые камеристки, которых было 12, обходились в 12 тысяч франков каждая. К этому надо прибавить личных слуг, привратников, обойщиков, поваров, булочников, мясников, конюхов, службу королевского стола, состоявшую из многих прислуживающих дворян и 116 младших офицеров, наполнявших кубки и разносивших блюда. Существовали даже должности чтеца и чтицы, не имевшие, впрочем, никакого применения.
Единственный человек, посмевший возражать против злоупотреблений, который мог, пожалуй, еще как-то на время уберечь режим от экономического краха, был генеральный контролер Тюрго, человек честный и искренне желавший приносить пользу. Но как раз его-то королева и ненавидела больше всех, пока не добилась того, что он попал в опалу и оставил пост. С этого момента каждый шаг подрывал ее популярность и вел к гибели. Безудержная игра в карты, бесконечные балы и маскарады, наконец, страсть к громоздким дорогостоящим прическам, которыми она поражала придворных, — ничто так не вредило ее авторитету, как мотовство, за что народ метко прозвал ее «Мадам Дефицит». Но окончательно Марию-Антуанетту погубила скандальная история с ожерельем.
Итак, Жанна де ла Мотт узнает, что существует бриллиантовое ожерелье, которое ювелиры не могут никак сбыть и чуть ли не готовы его разобрать, понеся громадные убытки. «К чему такая поспешность? Не все еще потеряно», — мысленно успокаивает она растерянных ювелиров, и в ее голове рождается замысел дерзкой аферы.
Встретившись однажды с ювелирами у себя в доме, Жанна дает понять, что могла бы уговорить свою подругу, хотя та сейчас «не при деньгах», приобрести драгоценность. Разумеется, ювелиры, как и все вокруг, верят в легенду о связях и влиянии графини при дворе и просят ее быть посредницей. В конце декабря 1784 года к ней на улицу Нёв-Сен-Жиль приносят ларец с ожерельем для осмотра.
Крышка ларца откинута, и перед Жанной восхитительное колье, заставившее учащенно забиться ее сердце. И в тот же миг с новой силой дерзкая мысль овладевает ею. Почему бы не заставить этого глупца кардинала тайно приобрести драгоценность для королевы? Не откладывая замысел в долгий ящик, Жанна начинает действовать. Она доверительно сообщает кардиналу, что королева желает втайне от супруга приобрести ожерелье, но ей нужен посредник. Не возьмет ли на себя эту роль кардинал? Миссия почетная, хотя и негласная, убеждает его Жанна. Как она и рассчитывает, тот с готовностью соглашается.
По условиям сделки, которая совершается во дворце кардинала, покупка оценивается в миллион шестьсот тысяч ливров, оплата — в течение двух лет, четырьмя равными долями, каждые шесть месяцев. Драгоценность следует доставить покупателю 1 февраля 1785 года, первый взнос — 1 августа. Роган подписывает договор и вручает его Жанне, чтобы та представила его на утверждение своей подруге-королеве. На другой же день авантюристка приносит ответ: ее величество с условиями договора согласна.
Как ни странно, но кардинал — этот послушный осел — неожиданно требует, нет, смиренно заявляет, что хотел бы получить за свое ручательство что-то вроде долгового обязательства, подписанного королевой. Все-таки сумма не шуточная даже для такого богача, как он.
Можно подумать, что Жанна обескуражена. Отнюдь. Желаете расписку? Будет вам она. Всего ночь потребовалась Рето де Вильету — этому мастеру на все руки, чтобы изготовить документ. На следующий день она вручает его кардиналу. И тот видит подпись: «Мария-Антуанетта, королева Франции». Что ж, как будто бы все в порядке, все законно, с удовлетворением думает он. И дает слово никому не показывать эту расписку. Одно ему невдомек: никогда королева не подписывается таким образом — ей достаточно только имени, без титула.
Утром следующего дня ювелир доставляет ожерелье кардиналу, а вечером тот передает его в собственные руки Жанны с тем, чтобы она вручила желанную драгоценность королеве. Ему предлагают подождать в соседней комнате, дабы он лично мог убедиться сквозь стеклянную дверь, что ожерелье передано посланцу Марии-Антуанетты.
И действительно, сквозь мутное стекло видно, как появляется какой-то человек, одетый в черное платье (это, как легко догадаться, все тот же Рето де Вильет), и слышно, как он произносит: «По поручению королевы». Приняв из рук Жанны шкатулку, таинственный посланец быстро исчезает.
Кардинал явно взволнован: отныне, думает он, его карьера обеспечена, недалек час — и он станет первым слугой короля, государственным министром.
А что предпринимала главная героиня всей этой аферы? Приходится только сожалеть, что ничего не известно о том, что происходило в те февральские дни 1785 года в особняке графини де ла Мотт. Можно лишь вообразить, что чудесное ожерелье, этот шедевр ювелирного искусства, грубо раскромсанное ножом, лежит на столе, окна плотно закрыты, шторы опущены. При свете свечей трое мошенников — Жанна, ее муж и Рето — склонились над своим сокровищем. Они вырабатывают план, каким образом сбыть товар.
Первую партию должен продать Рето. Но его попытка кончается неудачей. Одному из покупателей, некоему ювелиру Адану, кажется подозрительным этот тип, торгующий бриллиантами, причем по столь низкой цене. Ювелир извещает полицию, добавив, что тот, кто продает камни, в скором времени должен отправиться в Голландию, видимо, чтобы там сбыть новую партию товара, которого, по его словам, у него предостаточно.
У Рето производят обыск и доставляют его в полицию. Во время допроса он «раскололся» и назвал имя той, от кого получил бриллианты. Даму эту зовут графиня де ла Мотт-Валуа, и она является родственницей короля.
Только это, видно, и спасло Жанну от неприятности быть вызванной в полицию. Отделавшись страхом, она убеждается, сколь опасно сбывать камни в Париже. И решает действовать по-другому. Наиболее крупным бриллиантам предстоит путешествие в Лондон. Их доставит туда ее муж, чтобы сбыть ювелирам на Нью-Бонд-стрит и Пикадилли.
Граф предстал пред ними с пригоршнями самых дорогих бриллиантов. Некоторые из них были повреждены, как будто их грубо извлекли из какого-то украшения. Все это не могло не насторожить покупателей. Они запросили посольство Франции. И так как им ответили, что не располагают сведениями о какой-либо краже драгоценностей, то приняли решение купить у ла Мотта бриллиантов на сумму более 240 тысяч ливров. Часть камней стоимостью 160 тысяч граф оставил у ювелиров для изготовления различных украшений. И наконец, еще одну часть обменял на целую кучу предметов, список которых сохранился: это набор часов с цепочками, рубиновые застежки, табакерки, ушные подвески, перстень, каминный экран, сосуд со стаканом, две красивые шпаги, четыре бритвы, две тысячи иголок, один штопор, застежки для рубашки, пара вилок, футляр для «средства от зубной боли» и прочая дешевка.
Но Жанна не была бы сама собой, если бы не рисковала. Подгоняемая нетерпением, она все же пытается сбыть бриллианты и в Париже. Через доверенных лиц, своего адвоката и племянника, ей удается продать бриллианты на огромную сумму. Часть из них идет на покрытие долгов. Однако у нее еще сохраняется значительное число камней.
В то же время она приобретает, расплачиваясь при этом бриллиантами, неслыханные по цене вещи. И когда ее муж возвращается из Лондона, он видит, словно возникшую по мановению волшебной палочки, потрясающую роскошь. Апартаменты украшают ковры и гобелены, модная мебель, бронзовые скульптуры и ценная утварь, всюду мрамор, хрусталь — дом буквально набит дорогой утварью. Больше всего поражает какая-то диковинная механическая птица, которая поет и хлопает крыльями. Всех восхищает кровать малинового бархата, украшенная металлической сеткой с золотым бордюром, блестками и жемчугом.
Словно самая знатная и богатая дама столицы, Жанна выезжает в белоснежной с позолотой карете, запряженной четверкой английских кобыл, на запятках лакеи в ливреях и негр в галунах. Столь же великолепна и ее английская жемчужно-серая лакированная берлина, обитая изнутри белым сукном. На атласных полостях, укрывающих ноги, красуется герб с девизом Валуа: «От короля, моего прародителя, получил я кровь, имя и лилии».
Хитроумный ход
Понимая, однако, что не следует слишком рисковать, и в то же время не собираясь хранить бриллианты мертвым грузом, Жанна решает расширить круг действующих лиц спектакля, жанр которого пока что трудно определить — комедия это или драма. Во всяком случае, она продолжает распределять роли в соответствии со своим режиссерским замыслом. А он теперь направлен на то, чтобы обезопасить ее в случае, если афера выйдет наружу. Что же она еще задумала? Каков следующий акт разыгрываемой пьесы и кто его участники? Жанна решает увеличить число персонажей и вводит в игру несколько новых фигур.
Одна из них — некий Бет д’Этьенвиль, сын каменотеса, получивший диплом младшего помощника военного хирурга. Ему двадцать семь лет, он приехал из провинции в Париж в надежде на удачу. Но пока что в его кармане нет ни одного лишнего франка. И счастье, казалось, улыбнулось ему. Однажды в кафе к нему подсел господин, назвавшийся Ожеаром, и представился управляющим делами некой знатной дамы.
Благородная внешность незнакомца расположила к беседе. Они разговорились. Очень скоро господин Ожеар (это был не кто иной, как все тот же многоликий Рето де Вильет) завоевал полное доверие наивного провинциала. И когда Ожеар доверительно сообщил, что может помочь ему крупно разбогатеть, д’Этьенвиль возликовал: наконец-то фортуна смилостивилась над ним. Собеседник пояснил, что для этого от него требуется самая малость. Нужно найти титулованного дворянина, который готов был бы жениться на еще молодой и красивой женщине с прекрасной фигурой и очень мягким, покладистым характером. Эта дама имеет 25 тысяч ливров ренты, в ее судьбе принимает самое близкое участие один из видных сеньоров королевства.
Надо ли говорить, что Бет с восторгом принял предложение своего нового знакомого, который явился ему, словно небесный посланец, чтобы облагодетельствовать бедняка.
Уточняя условия, господин Ожеар пояснил, что следует предупредить того дворянина, которого он подыщет, что только в день бракосочетания он получит дорогой подарок — за него будут выплачены все его долги, а если он является военным, то получит такое назначение, какое только пожелает. Но будущий кандидат в супруги, настоятельно повторил Ожеар, должен обладать безупречным дворянством, чему следует представить документальные доказательства. Только после этого переговоры продолжатся.
Не мешкая, Бет отправился на поиски. Несколько человек по той или иной причине отпали, прежде чем он напал на подходящую кандидатуру. Это был барон де Фаж, гасконский кадет, телохранитель короля. Мот и краснобай, погрязший в долгах, он был именно тем, кто требовался. И вскоре Бет смог сообщить Ожеару, что нужный человек найден. В свою очередь, барон де Фаж рассуждал следующим образом: по словам «свата», дама, которую прочат ему в супруги, обладает приятной внешностью, благородных кровей, а главное — обладает состоянием в 25 тысяч ливров, которое может возрасти благодаря щедрости какого-то знатного вельможи, заинтересованного в том, чтобы устроить ее судьбу. Что ж, он, де Фаж, не щепетилен и тем более не ревнив. Правда, вскоре выясняется, что у дамы есть пятнадцатилетний сын, надо думать, от того самого вельможи. Придется брать и ребенка — у нашего дворянина щедрое сердце. И он не считает, что грех молодости является непростительным преступлением. Вот почему он без колебаний соединит свою судьбу с судьбой женщины, которую считает столь же уважаемой, сколь и несчастной.
Господин Ожеар остался очень доволен услугой Бета и сообщил ему, что вскоре тот будет представлен даме, о которой говорил.
На следующий день вечером Бета везут в фиакре в дом, о котором ему запрещается задавать вопросы. «Если только вы попытаетесь узнать, куда именно я намерен вас доставить, — предупреждает Ожеар, — вы потерянный человек». Они входят не с парадного входа, а через какую-то низкую дверь и оказываются в комнате, где их встречает очаровательная дама. Ей чуть больше тридцати, у нее правильные черты лица и действительно великолепная фигура. Черные глаза смотрят ласково и доброжелательно. Ее речь изысканна и умна, она с интересом расспрашивает о бароне де Фаже. Все, что сообщает ей Бет, она встречает с одобрением, давая понять о своем согласии.
Визит окончен. Тем же путем оба возвращаются, договорившись встретиться завтра.
Видимо, д’Этьенвиль произвел на даму хорошее впечатление, так как во время второй ночной встречи, последовавшей на другой день, она без обиняков доверила ему свою тайну. Знатный сеньор и ее покровитель, о котором ему известно, — это не кто иной, как сам кардинал Роган. Что касается ее самой, то ее зовут баронесса де Курвиль, но имя это не настоящее. На самом деле, доверительно поведала она, ее зовут баронесса Зальцбургская, когда-то она была канонницей монастыря Кольмар, где ее, молодую девушку, соблазнил Роган. От него у нее ребенок.
Во время этой второй встречи Бет познакомился с еще одним персонажем, представившимся советником де Марсильи. Это был сорокалетний бледный и худой человек в парике и черном костюме. (Его приметы выдавали в нем графа де ла Мотта.) Судя по всему, советник пользовался полным доверием дамы и настоятельно рекомендовал Бету соблюдать осторожность и хранить все, что видел и слышал, в абсолютной тайне. Когда советник оставил их вдвоем, баронесса показала младшему помощнику военного хирурга деревянный ларец с бриллиантами. По ее словам, стоимость их более 400 тысяч ливров. Никогда Бету не приходилось видеть ничего более прекрасного — камни были крупными и переливались всеми цветами радуги. Пораженный этим великолепием, Бет словно онемел. Баронесса поспешила пояснить, что бриллианты извлечены из ожерелья, которое ей подарил кардинал. Но так как подобные украшения нынче не в моде, она решила продать их до своей свадьбы. Не согласится ли он, предложила она Бету, отправиться в Голландию, чтобы продать там это сокровище. Он ответил, что не может взять на себя такое деликатное поручение, ибо не считает себя знатоком в этом деле. Она не настаивала.
Поощряемый любопытством, Бет решает на другой день отыскать таинственный дом, куда его привозили ночью. Очень скоро он устанавливает, что побывал в доме номер 13 на улице Нёв-Сен-Жиль, где, как мы знаем, живет графиня де ла Мотт.
Пора, однако, раскрыть истинное имя мадам де Курвиль и объяснить тот интерес, который преследовала Жанна, затевая эту новую интригу.
Баронесса де Курвиль, на самом деле Мария де Вальдбург-Фроберг, — известная мошенница, прошедшая через Бастилию. Ей удалось бежать, она укрылась в Германии, затем вернулась во Францию.
Если говорить коротко, то Жанне нужны были посредники, чтобы сбыть товар, причем посредники, которых невозможно было бы опознать и заподозрить в похищении бриллиантов. Но вместе с тем она преследовала еще одну цель. Если вскроется кража ожерелья и вина ляжет на Рогана, возникнут свидетели, которые подтвердят, что кардинал нуждался в деньгах для обеспечения одной дамы, своей бывшей любовницы, и это, мол, заставило его завладеть ожерельем. Об этом Жанна прямо заявит впоследствии: «Я видела госпожу де Курвиль, увешанную бриллиантами, у господина кардинала». И добавит, что он хотел выдать замуж эту даму и подарить ей 500 тысяч ливров, для чего торопил ее, Жанну, требуя написать графу де ла Мотту в Лондон и просить его поскорее продать там бриллианты.
Что касается Бега д’Этьенвиля, то, как мы видели, она намеревалась через него сбыть часть бриллиантов. Заодно он явился бы при случае свидетелем, который подтвердил бы, что видел часть бриллиантов в руках той самой де Курвиль, в судьбе которой кардинал принимал участие.
Все было ловко рассчитано, продуман каждый ход этой сложной партии, и можно только удивляться таланту ее организатора.
Остается объяснить, какая роль отводилась в этой хитроумной игре барону де Фажу.
Дело в том, что Жанна намеревалась и дальше морочить голову легковерному бедняге. Ему говорят, что свадьба состоится тогда-то в церкви дворца Субиз на улице Франк-Буржуа в одиннадцать вечера, причем каждый из брачующихся должен явиться туда со своими свидетелями. Фажу кажется, что он близок к счастью, то есть к богатству, которое принесет ему нареченная. Нарядившись в лучший костюм, он ждет. Но в последний момент ему сообщают, что церемония откладывается. Чтобы успокоить нетерпеливого жениха, сочиняют письмо, из которого он узнает, что в виде неустойки на его имя поступит кругленькая сумма в 30 тысяч ливров. И действительно, он получает розового цвета конверт с пятью сургучными печатями, в котором будто бы и находится документ на эту сумму. Доверчивый барон спешит передать конверт на хранение нотариусу.
Но проходит очередной срок долгожданной церемонии, и снова отсрочка. В этот раз причина якобы в том, что мадам де Курвиль не желает заключать брак до тех пор, пока кардинал не передаст ей обещанную сумму в 500 тысяч ливров. Ничего не подозревающий д'Этьенвиль резонно замечает мадам де Курвиль, что она обладает достаточным богатством, чтобы выйти замуж, — ведь она владелица тех крупных бриллиантов, извлеченных из какого-то ожерелья, которые он сам видел у нее. На это мнимая баронесса отвечает, что продажа этих бриллиантов связана с определенными трудностями. В чем именно состоят эти трудности, она, разумеется, не поясняет.
Режиссер всей этой комедии, остающийся, как ему и положено, в тени кулис, понимает, что необходимо снова успокоить нетерпеливого жениха. Жанна действует с поразительным знанием людских характеров, которое и не снилось иным драматургам.
Барону Фажу сообщают, что бракосочетание теперь назначено на август, а до того кардинал намерен вручить ему прекрасный подарок: превосходную коляску с двумя лошадями пепельной масти. В свою очередь, мадам де Курвиль тоже приготовила подарки для своего будущего супруга: великолепный несессер из позолоченного серебра, часы с цепочкой, усыпанные бриллиантами, два перстня с драгоценными камнями и табакерку с ее, баронессой де Курвиль, портретом — просто какое-то чудо искусства.
Все эти вещи, приготовленные для вручения барону, как уверяет его д’Этьенвиль, он видел собственными глазами. Так же, как и серебряную утварь стоимостью 60 тысяч ливров, подаренную кардиналом мадам де Курвиль, и портфель, в котором находятся билеты сберегательного банка на 100 тысяч. Все эти ценности барон обретет в день свадьбы. Увы, незадачливому жениху не видать всего этого богатства как своих ушей. События разворачиваются молниеносно, на этот раз опрокидывая все расчеты и замыслы самого режиссера спектакля.
Скандал в Версале
Жанна и ее партнеры живут в свое удовольствие, не задумываясь о том, что их ждет. Чем объяснить такую беспечность? Надеждой, что обман не будет раскрыт? Но ведь только благодаря случайностям его удается пока сохранять в тайне. Тем временем неотвратимо приближается 1 августа, когда ювелиры потребуют свои деньги. Жанна предпочитает нанести удар первой. С наглостью она заявляет ювелирам, что их надули, подпись королевы подделана. Тем не менее деньги им выплатит лично кардинал.
Таким образом Жанна рассчитывает отвести удар от себя и надеется, что ошеломленные ювелиры бросятся к Рогану. Узнав правду, тот, из страха стать всеобщим посмешищем, будет молчать и предпочтет выложить миллион шестьсот тысяч. Но вопреки этим вполне логичным рассуждениям ювелиры кидаются в другую сторону — к королеве. Она для них более платежеспособный должник, и, кроме того, как они думают, ожерелье — драгоценный залог — находится у нее.
В ответ на их причитания о каком-то ожерелье, о каких-то деньгах, которые она якобы им должна, Мария-Антуанетта, преисполненная, нет — не изумления, а гнева, отказывается понимать двух этих ювелиров. И как они смеют утверждать, что она купила это злосчастное ожерелье, да еще в рассрочку и тайно, когда она слыхом об этом не слыхивала и видеть не видела никакого ожерелья! Впрочем, она припоминает, что некоторое время назад получила довольно странное письмо, в котором оба они, то есть ювелиры, благодарили ее за что-то и упоминали о каком-то драгоценном украшении. Письмо она по привычке сожгла. Но что собственно хотят от нее они теперь?
История, которую рассказывают ювелиры, кажется ей если не фантастической, то по крайней мере странной. Никакой графини де ла Мотт-Валуа, а тем более подруги с таким именем она не знает. Что касается кардинала Рогана, то поручений ему не давала и вообще это отвратительный субъект, с которым она предпочитает не разговаривать.
Если королева дрожит от гнева, то ювелиры трясутся от страха и ужаса, что кто-то здорово их надул.
Мария-Антуанетта приказывает письменно изложить суть происшедшего. С этим документом она идет к королю и требует от него защитить ее честь.
Но вскоре королеве многое становится ясным. Вне сомнений, какая-то ловкая мошенница, которую она знать не знает, злоупотребила доверием ювелиров и ее именем. Но при чем здесь этот кардинал? Говорят, его финансовое положение более чем плачевно. Недавно, например, парламент интересовался долгами госпиталя, главным управляющим которого является Роган. Ничего удивительного, что при подобных критических обстоятельствах сей транжира и мот затеял всю эту грязную историю для того, чтобы, пользуясь ее именем, открыть себе кредит. «Кардинал, словно низкий, подлый фальшивомонетчик, использовал в преступных целях мое имя», — пишет она в Вену брату Иосифу II, воспринимая поступок кардинала как своеобразную месть, наглую и коварную, за ее к нему отношение. Этому действительно имелись давние причины. Ее мать, австрийская императрица Мария-Терезия, первая настроила ее против Рогана.
В свое время, еще до того как стать кардиналом, Роган был посланником в Вене. Там-то и навлек он на себя гнев старой императрицы. Мало того что этот священнослужитель, как ей казалось, был болтуном, к тому же недалеким и самонадеянным, питающим чуть ли не патологическую страсть к роскоши, едва ли не затмевающую роскошь императорского двора, главное — что этот слуга Господний в вопросах веры и морали не соответствовал представлениям Марии-Терезии. Ей претили расточительство и щедрость этого церковника-гуляки, его ставшие знаменитыми на всю Вену веселые ужины, приводившие в восторг дам и кавалеров. Она не позволит превратить суровую католическую Вену в легкомысленный Версаль, не позволит своим подданным впасть в разврат. И как только ее дочь Мария-Антуанетта становится королевой Франции, она тотчас же требует отозвать эту недостойную личность и добивается своего.
Теперь Марии-Антуанетте понятно, что этот низкий человек, способный на все (права была ее матушка), сознательно впутал ее имя в аферу. И Мария-Антуанетта требует от супруга публично наказать обманщика, не подозревая, что тот сам является жертвой обмана. Безвольный монарх, поддавшись требованию жены, становится слепым исполнителем воли легкомысленной женщины. Не проверив обвинения, он объявляет министрам, что намерен арестовать кардинала. Те поражены, но вынуждены согласиться, причем, решив отомстить, королева требует публичного ареста в назидание другим — имя ее не имеет ничего общего с какой бы то ни было грязью и мерзостью.
В тот же день, 15 августа, в Версале должен состояться большой прием в честь праздника Успения и по случаю именин королевы. Роган, облаченный в пурпурную сутану, готовится служить праздничную мессу. Неожиданно его требуют к королю. В присутствии королевы (решительный и обиженный вид которой кажется кардиналу странным) и барона Бретёйля, начальника полиции, король учиняет Рогану допрос.
Вот как передают различные источники разговор, который состоялся между королем и кардиналом:
— Что тут произошло с бриллиантовым ожерельем, которое вы купили от имени королевы?
— Сир, я вижу, меня обманули, но сам я никого не обманул, — запинаясь, говорит кардинал.
— Если это так, вам беспокоиться нечего. Пожалуйста, объяснитесь.
Роган не в состоянии отвечать. Он видит перед собой возмущенную Марию-Антуанетту и не может вымолвить ни слова. Его замешательство вызывает у короля сострадание.
— Запишите все, что желаете сообщить мне, — говорит король и покидает с Марией-Антуанеттой и Бретёйлем покои.
Оставшись в одиночестве, кардинал пишет на бумаге полтора десятка строк и передает вернувшемуся королю свое объяснение. Женщина по фамилии Валуа побудила его приобрести это ожерелье для королевы. Теперь он видит, что был обманут этой особой.
— Где же эта женщина? — спрашивает король.
— Сир, я не знаю.
— Ожерелье у вас?
— Оно в руках этой женщины.
Король приказывает пригласить королеву, Бретёйля и хранителя большой печати и зачитать заявление ювелиров. Он спрашивает Рогана о полномочиях, которые должны были быть подписаны королевой.
Совершенно раздавленный, Роган должен сознаться:
— Сир, они находятся у меня. По-видимому, это фальшивка.
— Так оно и есть, — отвечает король. И хотя кардинал предлагает оплатить ожерелье, сурово заключает: — Сударь, при сложившихся обстоятельствах я вынужден опечатать ваш дом, а вас — арестовать. Имя королевы мне дорого. Оно скомпрометировано, и я не имею права быть снисходительным.
Роган настоятельно просит избавить его от такого бесчестья, ведь сейчас он должен перед ликом Господним для всего двора служить праздничную мессу.
Король, мягкий и доброжелательный, колеблется, его трогает глубокое отчаяние обманутого человека. Но теперь Мария-Антуанетта уже не в состоянии более сдерживаться, со слезами гнева на глазах она кричит Рогану, как смел он думать, что она, не удостоившая его в течение восьми лет ни одним словом, выбрала его себе в посредники для заключения каких-то тайных сделок за спиной короля. На этот упрек кардинал не находит ответа: он и сам теперь не понимает, как позволил втянуть себя в эту дурацкую авантюру. Король выражает сожаление и заключает:
— Надеюсь, вы сможете оправдаться. Но я должен поступать так, как велит мне долг короля и супруга.
Разговор подходит к концу. В переполненном приемном зале с нетерпением и любопытством ждет вся придворная знать. Мессе пора бы уже давно начаться, почему она задерживается, что там происходит?..
Внезапно двустворчатая дверь покоев короля распахивается. Первым появляется кардинал Роган в своей пурпурной сутане, бледный, с плотно сжатыми губами, за ним Бретёйль. Неожиданно он намеренно громко приказывает капитану лейб-гвардии: «Арестуйте господина кардинала!»
По другой версии, кардинал был арестован только на другой день, в среду 16 августа, у себя во дворце на улице Вьей-дю-Тампль комендантом Бастилии маркизом Лонеем. Поначалу его посадили не в башню, где содержали обычных преступников, а как королевского узника поместили в так называемых апартаментах, трем слугам разрешили оставаться принем. Он мог видеть всех, кого пожелает, а таковых визитеров оказалось столько, что большой подъемный мост приходилось держать опущенным в течение всего дня. Ему даже разрешили устроить в тюрьме обед на двадцать персон, и там пенилось шампанское, и гости закусывали устрицами.
Но спустя некоторое время он превратился в узника магистратуры, а это означало совсем иной режим содержания.
Началось дознание, которое было поручено лицам из высшего эшелона власти — министрам иностранных дел и морского флота.
Тем временем по Парижу поползли фантастические слухи. Общественное мнение накалялось все больше. И скоро, по свидетельству одной из газет, в столице были «заняты только одним — делом об ожерелье».
Ловля кроликов
Когда Жанна узнала, что кардинал Роган арестован, она повела себя по меньшей мере странно. Сожгла компрометирующие бумаги, но о бегстве, казалось, не думала. Почему она вовремя не скрылась — осталось загадкой. То ли замешкалась и не смогла улизнуть, то ли на что-то рассчитывала.
Согласно ордеру на арест, мадам де ла Мотт надлежало заключить в Бастилию. Ранним утром 20 августа возле дома Жанны появилось несколько пехотинцев в сопровождении конноверховой стражи. Когда ее уводили, она спокойно сняла с себя и передала мужу все драгоценности, которые были на ней. В Бастилию ее доставили в четыре часа утра.
Как повели себя другие участники аферы? Граф де ла Мотт не стал дожидаться решения своей участи. Он оказался проворнее своей супруги. Недолго думая, направил свои стопы на север, в Булонь, где преспокойно сел на корабль, отправлявшийся в Англию. Саквояж его был набит бумагами сберегательного банка и бриллиантами.
Подались в бега и остальные партнеры Жанны. Рето де Вильет и мадам де Курвиль укрылись за границей.
За решеткой оказался, правда, еще один подозреваемый — знаменитый «маг и волшебник» граф Калиостро. Он жил в доме кардинала, имел на него огромное влияние и пользовался безграничным доверием, ловко извлекая из карманов хозяина звонкую монету. В этом смысле он был достойным соперником авантюристки в юбке. Такой век — для шарлатанов и магов наступили золотые времена.
Авантюрист незаурядного пошиба, человек, безусловно, неглупый и образованный, Калиостро снискал шумный успех во многих европейских столицах. Незадолго до скандала с ожерельем он побывал в Петербурге, где под именем графа Феникса поражал высший свет своими чудесами. «У княгини Волконской вылечил больной жемчуг; у генерала Бибикова увеличил рубин в перстне на одиннадцать каратов и, кроме того, изничтожил внутри его пузырек воздуха; Костичу, игроку, показал в пуншевой чаше знаменитую талию, и Костич на другой же день сорвал банк в сто тысяч; камер-фрейлине Головиной вывел из медальона тень ее покойного мужа, и он с ней говорил и брал ее за руку, после чего бедная старушка совсем с ума стронулась… Словом, всех чудес не перечесть», — писал о некоторых проделках Калиостро в одноименном рассказе А. Н. Толстой.
Обманщик этот превзошел даже известного графа Сен-Жермена. Он, например, уверял, что обладает жизненным эликсиром и будто бы родился чуть ли не до нашей эры, познал тайну исцеления всех болезней, знает секрет философского камня, позволяющего обращать любой металл в золото. Мало того, умеет вызывать духов и разговаривать с ними, разгадывать сокровенные мысли, предсказывать судьбу с помощью волшебного зеркала. Калиостро в присутствии нескольких человек вызывал призраки великих людей прошлого, то есть, как мы бы сказали сегодня, подвергал реципиентов массовому гипнозу. Об этом даже писали французские газеты. В них сообщалось, что в доме на улице Сен-Клод состоялся ужин на 13 персон, среди которых, кстати, был и кардинал Роган. В тот вечер гости «разговаривали» с некоторыми умершими знаменитостями — в частности, с Вольтером, Монтескье и Дидро.
Вернувшись из России, где он был уличен в приверженности масонству и по этой причине выслан, Калиостро поселился сначала в Лионе, а затем в конце января 1785 года перебрался в Париж под крылышко своего нового покровителя Рогана, полностью подчинив его своему влиянию. К этому времени кардинал как раз получил от королевы подписанный ею документ и состоялась передача ожерелья, иначе говоря, кража.
Уверовав в сверхъестественные возможности графа-чародея, кардинал уповает на его волшебное искусство и надеется, что тот с помощью магии и заклинаний поможет ему вернуть расположение королевы. Разумеется, шарлатан не возражает. Он убеждает Рогана, что королева переменила к нему отношение на более благосклонное, чему свидетельство ее собственные письма. Видимо, «маг и волшебник» не разгадал подлинных намерений Жанны де ла Мотт. Более того, ведя свою игру и убеждая кардинала в симпатии к нему королевы, он невольно содействовал планам авантюристки. Она оказалась ловчее. И во время следствия обвинила Калиостро в том, что он якобы является главным организатором похищения ожерелья. Именно он подделал подпись королевы. И вообще осуществил аферу чужими руками, присвоив себе самые крупные бриллианты. Другие, более мелкие, переправил с графом де ла Моттом в Лондон. Что касается ее, Жанны, то она стала всего лишь исполнительницей воли кардинала, вовлеченного в обман «подлым алхимиком».
Откуда у нее неожиданно появились средства? На этот вопрос последовал наглый ответ, что любовнице его преосвященства можно позволить и не такую роскошь.
Тем временем розыски, предпринятые полицией, привели к важным открытиям.
С самого начала Жанна не выказывала ни малейшего беспокойства. Чего, собственно, ей опасаться? Муж и Рето, главные свидетели, находятся в бегах, а посему трудно выдвинуть против нее какое-либо веское обвинение. Тревогу она начала испытывать с того дня, когда ей стало известно, что ведутся их поиски за пределами Франции. Оставалась Николь Лаге, самозваная баронесса д’Олива. Не приходится сомневаться, что, попадись она в руки полиции, быстро бы раскололась. Необходимо было избавиться от нее.
И Жанна умудряется сквозь стены Бастилии предупредить эту глупышку. «Чудовищная клевета, — пишет она ей, — удерживает меня пленницей, и та же рука, которая наносит мне удары, может поставить под угрозу вашу жизнь из-за той сцены в рощице Венеры, если только вы не покинете Францию». Напуганная Николь, не задумываясь, следует совету и вместе со своим любовником направляется в Брюссель. Там она поселилась под именем мадам Женест.
Но семья Рогана, уверенная в его невиновности и взявшаяся помогать расследовать это дело, очень скоро обнаруживает ее здесь и просит правительство потребовать ареста беглянки. Что и было сделано здешними властями. Что касается ее выдачи, то тут возникло непредвиденное препятствие. По местным законам она выдаче не подлежала, добиться этого можно было только по ее личному согласию. Значит, надо убедить ее вернуться добровольно, а для этого требуется подослать к ней опытного человека. Выбор пал на инспектора полиции нравов по имени Кидор. Он и принял на себя миссию отправиться к кролику, ибо съесть его было в интересах инспектора.
С первого же взгляда инспектор узнает мадемуазель д’Олива, которая давно уже числится в досье полиции нравов. Она, правда, никогда не считалась важной птицей среди женщин легкого поведения и занялась промыслом скорее по глупости, чем из корысти. Но характер у нее строптивый. В чем он скоро и убедился. Скверная девчонка наотрез отказалась вернуться. Более того, она настаивала на своем освобождении, так как якобы была арестована незаконно. Потребовалось немало тонкости и долгих увещеваний, чтобы убедить ее вернуться, — ведь за ней нет никакой вины.
Все расходы по содержанию Николь в брюссельской тюрьме и доставке в другую — Бастилию — пришлось оплачивать казне. Так что расчет на то, что можно съесть кролика, не оправдался. Пришлось доплачивать и за соус.
Вскоре тому же инспектору пришлось отправиться по следам другого персонажа этой истории. Стало известно, что Рето де Вильет укрылся в Женеве под именем Марка Антония Дюрана. 15 марта 1786 года ему был предъявлен ордер на арест. Сохранилась запись беседы с арестованным.
— Мое тюремное заключение будет длительным? — напрямик спросил он.
— Я этого не знаю, — отвечал инспектор, — ваше освобождение из-под стражи от меня не зависит.
— Ну а что постановил в Париже парламент по моему поводу?
— Судя по тому как вы нервничаете, вы, кажется, довольно глубоко втянуты в интриги мадам де ла Мотт?
— Трудно оставаться спокойным, когда скомпрометирована сама королева.
— Вы замешаны в том, что натворила мадемуазель д’Олива? — продолжал инспектор.
Услышав имя Николь, Рето чуть было не подпрыгнул. Сильно смутившись, он едва выговорил:
— Она арестована?
— Содержится в Бастилии.
— И назвала мое имя, вам об этом известно? Она проговорилась обо мне? Мадам де ла Мотт никогда не назовет моего имени. Но если Николь раскололась, то мне конец!
На другой день в Бастилии стало одним узником больше.
На свободе пока что все еще оставался граф де ла Мотт — едва ли не главный пособник преступницы. Его показания могли бы представить суду истину в полном свете. Но потребовать его выдачи было нереально — ни одна страна не кичилась так своим правом предоставления убежища, как Англия. И тут помог случай.
Через французского посла в Англии было получено письмо на имя Марии-Антуанетты от некоего Беневала Дакосты — «преподавателя современных языков». За 10 тысяч гиней, что приблизительно равнялось 260 тысячам франков, он обязался доставить не только самого ла Мотта, но и вернуть те бриллианты, которые находились при нем.
Согласие было сразу же дано с одним лишь условием: одна тысяча гиней будет выплачена в счет аванса, остальное по выдаче беглого графа, которого следует доставить в любой порт на французском побережье. Само собой, послу предписывалось действовать осторожно, чтобы англичане ничего не заподозрили.
Два французских секретных агента тайно отправились в Англию, в Ньюкасле они установили контакт с Дакостой. Два других агента прибыли на французском угольщике в порт Шилдс, ни у кого не вызывая подозрения — мало ли заходит в порт судов, чтобы загрузиться углем. Всем агентам в случае успеха операции было обещано крупное вознаграждение.
План похищения состоял в следующем.
В нужный момент Дакоста должен был дать сильное снотворное графу де ла Мотту, который, как оказалось, жил в его доме, чувствуя себя здесь в абсолютной безопасности. После этого с помощью двух французских агентов следовало завернуть спящего в одеяло, отнести этот «тюк» к ожидающей в порту лодке и на ней доставить пленника на угольщик, стоящий на рейде.
Этот самый настоящий заговор был серьезнейшим образом разработан французским посольством в Англии в сотрудничестве с министерством иностранных дел и главным полицейским управлением в Париже.
Когда все, казалось, было готово и оставалось только приступить к осуществлению плана, Дакоста вдруг заколебался. Его охватил страх, что в случае неудачи он будет первым, кого убьют или повесят. Он стал тянуть время и даже рассказал обо всем де ла Мотту. Тот, однако, недолго негодовал, а предложил действовать заодно. И вот они уже единомышленники — их задача извлечь как можно больше денег из кошелька французов. Им удается получить обещанную тысячу гиней, после чего, естественно, дружки поспешили скрыться.
В своем отчете агенты сообщили, что вынуждены были ни с чем отправиться восвояси, «очень расстроенные, что их усердие и преданность делу оказались бесполезными».
На этот раз кролик благополучно улизнул. Все же остальные действующие лица этого спектакля находились под замком. В том числе Розалия, горничная Жанны, графиня Калиостро — жена «мага», незадачливый посредник д’Этьенвиль и даже любовник Николь Лаге некий Туссен де Бозир.
Мария-Антуанетта официально не проходила по делу об ожерелье. Тогда и подумать никто не смел, чтобы королева отвечала на вопросы судей. Это произойдет позже, семь лет спустя, когда ненавистная народу австриячка предстанет перед революционным трибуналом.
Между тем по Парижу пополз слушок, что королева причастна к скандалу. Судачили и о том, что якобы кардинал великодушно взял всю вину на себя. Нашлись и такие, кто считал, что дело вовсе не в ожерелье. Просто несчастная де ла Мотт, являясь поверенной в сердечных делах королевы, стала ей неугодной. Вот от нее и поспешили избавиться, обвинив в краже.
Во время следствия, длившегося несколько месяцев, да и потом на суде имя королевы запрещалось произносить. Даже ла Мотт поначалу отказывалась утверждать, что Мария-Антуанетта причастна к обману с ожерельем. Правда, позже она заговорит иначе. И тем не менее, хотя и незримо, священная особа королевы оказалась на скамье подсудимых.
Как писал С. Цвейг, изучавший это дело, все акты, свидетельские показания и другие документы запутаннейшего из процессов неопровержимо подтверждают, что Мария-Антуанетта не имела ни малейшего представления о гнусной возне вокруг ее имени. Юридически она невинная жертва, и не только не была соучастницей дерзкой аферы, но даже ничего не знала о ней.
И тем не менее с моральной точки зрения Марию-Антуанетту нельзя считать полностью невиновной. Если бы на протяжении многих лет не было непрерывной цепочки легкомысленных поступков, безумных расходов и сумасбродств, не было бы и предпосылок для этого фарса. К этому следует добавить, что процесс скомпрометировал не только Марию-Антуанетту, но и всему режиму в целом был нанесен непоправимый урон, обнажилась вся глубина морального падения власти предержащей.
Изощрения адвокатов
Еще во время следствия, а потом и на суде словно приоткрылся ящик Пандоры, из которого разлетались сенсации, одна чище другой. На улицах распевали:
Наш красавчик кардинал за решетку вдруг попал. Ну, смекни-ка, почему угодил дружок в тюрьму? Потому что правит нами не закон — мешок с деньгами.Ситуация, что и говорить, складывалась незавидная. «Самые высокие сановники церкви кружатся в вальпургиевой пляске с шарлатанами-пророками, мошенниками и публичными девками, — запишет Т. Карлейль. — Трон был приведен в скандальное столкновение с каторгой, — продолжает он. — Изумленная Европа в продолжение девяти месяцев толкует об этих мистериях и ничего не видит, кроме лжи, которая все увеличивается новой ложью».
Защищаясь, Жанна ловко пользовалась отсутствием улик и вещественных доказательств. Бриллианты уплыли в Лондон вместе с мужем — чрезвычайно важным свидетелем. Это было на руку Жанне, она продолжала цинично опровергать изобличающие ее факты, измышляя свою версию преступления.
Да, действительно, во время свидания в саду д’Олива разыграла роль королевы, заявляла она. Но таково якобы было желание самой Марии-Антуанетты, которая наблюдала за этой сценой, спрятавшись за деревьями. Что касается поддельной подписи, то и об этом королева знала. А бриллианты, которые ее муж продал в Лондоне, получены в награду от той же королевы. Поскольку Мария-Антуанетта не могла открыто носить ожерелье в его первоначальном виде, так как оно было хорошо известно королю, она его разобрала, чтобы составить другое по новому рисунку. При переделке ожерелья лишние камни были переданы ла Мотт в награду за сохранение тайны…
Между тем следствие подошло к концу. Жанна де ла Мотт и остальные привлеченные по делу предстали перед парижским парламентом — высшей судебной инстанцией. На этом настаивала сама Мария-Антуанетта. Если бы вершить правосудие взял на себя король, на что он имел право как верховный судья, противники власти могли бы поднять шум, обвиняя в необъективности судебную процедуру. В этом состояла непростительная ошибка королевы. Случилось так, что на протяжении многих месяцев ее персона бурно обсуждалась не только во Франции, но и за ее пределами, и репутации Марии-Антуанетты был нанесен непоправимый ущерб. Как и королева, Роган предпочел, чтобы дело рассматривал парламентский суд, а не король. В послании к нему кардинал так объяснял свое решение: «Сир, я надеялся при личной встрече представить доказательства, которые убедили бы Ваше Величество в несомненном мошенничестве, жертвой которого я стал, и мне никогда бы не потребовалось иных судей, чем Ваша справедливость и Ваша доброта. Отказ от аудиенции лишает меня такой надежды, и я принимаю с самой уважительной признательностью данное Вашим Величеством мне позволение доказать свою невиновность через юридические инстанции, и в результате я прошу отдать необходимые распоряжения, чтобы мое дело было направлено в парижский парламент…»
Помимо переписки, которую кардинал вел открыто, он прибегал и к тайной корреспонденции. Роль почтальонов играли двое врачей, навещавших его в камере. Записки, написанные в целях конспирации симпатическими чернилами, адресовались главным образом адвокатам. В них согласовывались ответы на предстоящих очных ставках, уточнялось, какие показания давать, и т. п. Случалось ему в них и жаловаться на тяжелые условия содержания в тюрьме, на то, что его изнуряют многочасовые допросы, на то, что злодейка, то есть Жанна де ла Мотт, вселяет в него ужас. И только однажды под покровом невидимых чернил возникло упоминание о королеве: «Сообщите мне, правда ли, что королева постоянно пребывает в печали».
Процесс велся с соблюдением необходимых юридических правил. И ни одна деталь судебной процедуры не была утаена. Парижане знали о всех перипетиях разбирательства, которое, разжигая всеобщее любопытство, порой принимало скандальный характер.
Мнение публики, надо сказать, резко разделилось. Одни считали Рогана виновным и не сомневались, что Жанна была его любовницей. Другие, в особенности женщины, заявляли о своей поддержке его преосвященства и в знак солидарности стали носить красно-желтые ленты, что являлось символом — «кардинал на соломе», то есть в тюрьме. Эти горячие защитницы Рогана, как писал очевидец событий, были тронуты той деликатностью, которую кардинал проявил в первый день своего заточения, поручив своему доверенному лицу аббату Жоржелю уничтожить мнимую переписку с королевой.
Что касается Жанны, то на суде она продемонстрировала поразительное присутствие духа, была неистощима в изворотливости. Когда видела, что рушится построенная ею система защиты, не моргнув глазом, тут же выдвигала новые факты, естественно выдуманные. Если и их опровергали, не раздумывая ссылалась на другие, не менее воображаемые.
На вопрос, откуда у нее оказалось сразу так много денег, отвечала, что это должно быть лучше известно кардиналу — ведь она была его любовницей и он ее содержал. Одному свидетелю, показавшему против нее, заявила, что с его стороны нахальство выдвигать против нее обвинения, после того как он хотел ее изнасиловать. Другого, священнослужителя, обвинила в том, что он распутный монах, поставлявший молодых девушек ее мужу, к тому же кравший вещи из ее ящиков.
В Калиостро она швырнула бронзовый подсвечник после того, как он назвал ее «дьявольской проституткой», и, громко хохоча, напомнила ему, как он любезничал со «своим голубком» и приставал к ней с прочими воркованиями. Скандальная сцена разыгралась во время ее очной ставки с д’Олива и Вильетом, в результате которой она вынуждена была признаться в том, что до сих пор упорно отрицала. После чего с ней случился обморок. Побежали за уксусом. И когда тюремщик поднял ее на руки, чтобы отнести в камеру, она, очнувшись, до крови укусила его в шею.
Механизм дознания с неумолимой последовательностью продолжал действовать не в ее пользу. Понимая, что положение ее становится все отчаяннее, Жанна начала ссылаться на какую-то будто бы существующую тайну, которую откроет только с глазу на глаз государственному министру. Всем было ясно, что это лишь уловка. Тогда она начала симулировать безумие. Перебила все в камере, отказывалась от пищи, тюремщики не раз заставали ее лежащей совершенно обнаженной на кровати. Но ничто ей не помогло.
Судебные процессы того времени пользовались всеобщим вниманием, публика рассматривала их как забавное развлечение. Этому способствовал и обычай публиковать выступления — обвинения и защитительные речи, или, как их еще называли, «Объяснительные записки» адвокатов. Таким образом, поединок прокурора и защиты становился всеобщим достоянием. Материалы эти, печатавшиеся во время процесса, широко распространялись среди тех, кто не имел возможности присутствовать в зале суда, но жаждал узнать подробности столь скандального дела. Особым успехом пользовались речи защитников. По закону не подлежащие цензуре, они расходились огромными тиражами. Публика чувствовала, что на процессе речь идет не столько о похищении ожерелья, сколько об обвинении власти предержащей. «Какое великое и многообещающее событие! — писал один из тайных фрондеров в парламенте. — Кардинал изобличен в мошенничестве! Королева запутана в скандальном процессе! Какая грязь на посохе епископа, какая грязь на скипетре! Какой триумф идей свободы!»
Следует отметить, что ко всему прочему процесс являл собою красочное зрелище. Представьте себе на скамье подсудимых кардинала в длинной шелковой рясе фиолетового цвета (знак траура), на седеющих волосах красная кардинальская шапочка, красные чулки, туфли на красных каблуках, короткая накидка такого же, как и ряса, фиолетового цвета, только из драпа на красной подкладке, голубой муаровый пояс и крест на золотой цепи.
Перед Роганом за пюпитрами располагался целый отряд его защитников — «совет» из шести человек, цвет парижской адвокатуры во главе с мэтром Тарже, членом Французской академии, вторым адвокатом, кто был удостоен этой чести после Патру, избранного за полтора века до этого. Его колоритная, массивная фигура привлекала всеобщее внимание, но еще больше — необычное красноречие, которое он блестяще продемонстрировал в своей «Объяснительной записке». Несмотря на то что сочинение это распространялось бесплатно, ловкие спекулянты продавали его по довольно дорогой цене.
Мадам де ла Мотт защищал пожилой юрист Дуало, которому его подзащитная ухитрилась вскружить голову. Этот всеми уважаемый седой человек, словно околдованный дьяволицей, положил свою репутацию на крылья любви.
Его «Объяснительные записки» имели бешеный успех. «Газетт де Лейд» писала, что дверь его дома на улице Масон постоянно осаждает толпа, так как нескольких тысяч экземпляров его сочинения не хватило, чтобы удовлетворить спрос. Дошло даже до беспорядков, и около дома пришлось выставить охрану из солдат.
Когда Бет д’Этьенвиль узнал о том, какую прибыль приносят авторам «Объяснительные записки», он решил попытать счастья и самолично сочинил несколько подобных опусов. Успех превзошел все ожидания. Его записки читались как самый настоящий роман. Распространял их от своего имени его адвокат Мотиньи, торгуя ими у себя дома на улице Ла Арп.
Не меньший успех выпал и на долю Калиостро. Его записка, написанная им самим по-итальянски, которой молодой адвокат Тилорье придал живую и пикантную форму, потешила весь город. «О, как бы это сочинение было прекрасно, если бы только в нем все соответствовало истине», — писала газета «Корреспонданс литерэр». Верный себе, Калиостро рассказывает самые невероятные истории о своем рождении, о той волшебной науке, которую он постиг, о чудодейственных исцелениях, которые творит, распространяется о странствиях, якобы совершенных по Европе и Африке. Защищаясь, он напоминает, что мадам де ла Мотт называла его эмпириком, низким алхимиком, мечтателем, колдующим над философским камнем, лжепророком, и отвечает ей:
«Эмпирик! Мне часто приходилось слышать это словечко, но, по правде говоря, я так никогда и не смог выяснить, что же оно означает; может, это человек, который, не будучи врачом, обладает познаниями в медицине, посещает больных и не берет плату за свои визиты, лечит бедных без вознаграждения, — в таком случае я действительно эмпирик. Низкий алхимик! Алхимик или нет, но определение „низкий“ здесь не подходит, так как относится только к тем, кто выпрашивает милости у меценатов и низкопоклонничает, а всем хорошо известно, что граф Калиостро никогда не искал ничьего расположения.
Мечтатель, колдующий над философским камнем! Никогда публике не причиняли никакого беспокойства, а тем более ущерба мои мечтания.
Ложный пророк! Я им никогда не был. Если бы кардинал мне верил, то он бы поостерегся мадам де ла Мотт, и мы бы не находились сегодня здесь».
В конце он восклицал: «Выслушайте и полюбите того, кто пришел, чтобы творить добро, кто терпеливо позволяет нападать на себя и смиренно защищается».
Пользовалось успехом и умилительное сочинение, написанное молодым юристом-стажером Блонделем. Его очаровательная подзащитная Николь д’Олива, поразив сердце этого служителя правосудия, предстала перед публикой симпатичной и трогательной. И двадцать тысяч экземпляров его маленького шедевра были распроданы в один миг.
Но еще больший ажиотаж, чем записки адвокатов, вызывали многочисленные памфлеты, которые выплеснуло наружу это нашумевшее дело: «Письмо аббата графине», «Письмо по случаю ареста кардинала», «Неподдельные мемуары Калиостро», «Последний кусок ожерелья» (из серии «Ожерелье») и множество других. Среди авторов этих сочинений были парикмахеры, лавочники, библиотекари. Обнаружилась даже тайная типография на улице Фоссе-Сен-Бернар, которая занималась выпуском всех этих брошюрок по «делу об ожерелье». Руководили ею помощник парикмахера и торговец подержанными книгами. Оба компаньона в конце концов угодили в Бастилию. Но усилия полиции перед потоком таких публикаций были бессильны и лишь разжигали страсти и нездоровое любопытство. Что уж говорить о фантазии литераторов. Пришпоривая свое воображение, они рисовали самые фантастические картины; художники создавали уморительные карикатуры; поэты сочиняли едкие стишки и песенки, распевавшиеся всем Парижем. Особым спросом пользовалась серия из двадцати двух портретов всех персонажей, вовлеченных в этот дьявольский фарс.
Приговор
За день до суда парламент собрался, чтобы в последний раз заслушать обвиняемых. Начали с Рето де Вильета. Он появился в наряде из черного шелка и откровенно признался, что принимал участие в интригах мадам ла Мотт. Да, это он подделал подпись Марии-Антуанетты, но объяснил все своей доверчивостью.
После него наступила очередь Жанны. На ней была черная шляпа, украшенная золотисто-желтыми блестками и лентами, завязанными в узелок, платье из голубовато-серого атласа, отороченное черным бархатом, такой же пояс с раскрашенным рисунком под жемчуг, на плечах — короткая накидка из расшитого кружевами муслина. Она бросила высокомерный взгляд на судей и слегка усмехнулась. С отменной грацией опустилась на позорную скамью и спокойно начала расправлять складки своего наряда. Могло показаться, что она не на скамье подсудимых, а самым удобным образом расположилась на мягкой софе в каком-нибудь салоне.
Говорила она ясным, немного сухим голосом, четко, казалось, рубит фразы. «Мадам де ла Мотт, — свидетельствует современник, — появилась, демонстрируя полную уверенность в себе и неустрашимость; выражение ее глаз и лица показывало, что эту злую женщину ничто не может удивить; она заставляла выслушивать себя, основываясь больше на вероятностях, чем на реальных фактах. Прежде всего указала на невозможность продемонстрировать в ходе судебного процесса письма, записки и прочие вещественные доказательства».
Затем давал показания кардинал. Всех поразил его болезненный вид. Он отвечал на вопросы с достоинством и достаточно убедительно и произвел весьма благоприятное впечатление.
Следующей должна была предстать перед судом Николь д’Олива. Но охранник появился в одиночестве, сообщив, что обвиняемая занята: она кормит грудью своего младенца. (В Бастилии она разрешилась мальчиком.) Охранник передал, что подсудимая смиренно умоляет подождать несколько минут. «Закон умолкает перед природой», — было отмечено в протоколе заседания. И судьи поспешили заверить молодую мать, что готовы ждать сколько потребуется.
Наконец она появилась. Вид у нее, как и наряд, был растрепанный, а взгляд выражал отчаяние и мольбу. Суровые законники прониклись состраданием, и это решило ее судьбу.
Последним допрашивался Калиостро. С его приходом сцена меняется. У него гордый вид триумфатора, облаченного в замысловатый наряд из зеленой тафты, расшитой золотом.
— Кто вы такой и откуда прибыли? — следует первый вопрос.
Слегка улыбаясь, он отвечает громким голосом:
— Благородный путешественник. — В ответ раздался взрыв хохота.
Это его не смущает, и он продолжает рассказывать невероятную историю своей жизни, разукрашивая ее самыми немыслимыми фантазиями. Изъясняется он на каком-то жаргоне, в котором смешались латинский, итальянский, греческий, арабский и бог весть еще какие языки. Его жесты, как, впрочем, и все поведение, под стать самому настоящему шарлатану. Все в зале в душе остались довольны разыгранным графом спектаклем, отметили его юмор, присутствие духа, остроумие и находчивость.
И вот наступает 31 мая 1786 года — день вынесения приговора.
С утра перед Дворцом правосудия собралась огромная толпа, и конной полиции с трудом удавалось поддерживать порядок. С нетерпением все ждали решения 64 судей. Они заседали 16 часов, и все это время взоры тысяч людей в ожидании оглашения вердикта были обращены на двери Дворца. Наконец суд выносит решение. Толпа встречает это известие ликованием. Над площадью звучат возгласы в честь парламента.
Какое же решение вынес суд?
Перед правосудием была нелегкая задача. В особенности это касалось кардинала Рогана. После бурных дебатов — когда одни настаивали на обвинении прелата, а другие, противники королевы, считали его самого жертвой обмана — в притихшем зале прозвучало слово: «Невиновен». Похоже, что парламент в пику королевской чете и аристократам отомстил за многие годы пренебрежения и безразличия к его роли главного судебного ведомства страны.
Оправдание кардинала означало моральное осуждение королевы. Она и сама это отлично понимала.
Однако решение суда не далось так просто. Была и борьба двух сторон — королевской и антикоролевской, — и давление на судей, и их обработка, даже подкуп. Но и после вынесения позорного для королевы приговора она не желала сдаваться. Окончательное решение в руках короля. Под давлением супруги он решается вмешаться и «подправить» волю парламента: кардинала считать «вне суда» и выслать в его собственное имение.
Нужно иметь в виду, что в те времена существовал определенный оттенок при оправдании. Если, скажем, «отмена обвинения» провозглашала полную невиновность обвиняемого, то освобождение с указанием «вне суда» говорило лишь о том, что нет достаточных оснований для обвинения. Такое решение означало, что честь того, кто находился под судом, уже более небезупречна. Такая, увы, полумера отнюдь не реабилитировала честь королевы.
Полностью и безоговорочно были оправданы Калиостро, его жена и модистка Николь Лаге. Рето де Вильет подлежал высылке из страны, а беглого графа заочно приговорили к галерам. Д’Этьенвиль был осужден на порицание и уплату трех ливров штрафа, а барон Фаж к раздаче милостыни на три ливра среди заключенных. В отношении Жанны де ла Мотт судьи оказались единодушны: сечь плетьми, заклеймить буквой «V»[1] и пожизненно содержать в тюрьме Сальпетриер.
Всю ночь после оглашения приговора у Дворца правосудия продолжала бушевать толпа. Торговки с рынка «Чрево Парижа» собрались на площади с букетами роз и жасмина в руках, чтобы приветствовать судей, когда они будут покидать Дворец.
Коменданту Бастилии маркизу де Лонею из-за собравшейся десятитысячной толпы не просто было доставить кардинала обратно в тюрьму. (Освободить его надлежало сутки спустя.)
Кто-то вознамерился даже организовать иллюминацию. «Неизвестно, куда бы укрылся парламент, если бы он принял противоположное решение», — сказал Мирабо, разделявший тогда страсти толпы.
Полмесяца спустя королевский прокурор принял решение о приведении в силу приговора над Жанной.
Когда четверо дюжих палачей стали готовить ее к экзекуции, она изрыгала потоки грязной брани, пыталась укусить их, отбивалась.
Силой ее заставили встать на колени. «Вы не смеете поступать так с той, в чьих жилах течет королевская кровь Валуа!» — кричала она, обращаясь к толпе, собравшейся поглазеть на экзекуцию. С уст ее срывались проклятия, она требовала отрубить ей голову, но не подвергать позору и отказалась раздеться. Сопротивляясь, она изорвала в клочья платье. Первые удары плетьми пришлись по плечам, кожа тут же вздулась красными жгутами. Вырвавшись, она начала кататься по доскам помоста, из-за чего палач наносил удары как попало. Еще труднее пришлось палачам в момент клеймения. Жанну силой уложили и прижгли раскаленным железом кожу. Тело ее содрогалось, словно в конвульсиях, и клеймо с буквой «V» вышло нечетким. Пришлось вторично выжечь его на ее груди. После чего она упала в обморок.
В тюрьме ей выделили одну из тридцати шести небольших камер, где ее поместили одну — неслыханная привилегия. За ней ухаживала сестра милосердия, перевязывала раны, кормила.
Бегство
Едва парижане узнали о процедуре клеймения — о жестоких палачах, в гневе сорвавших с несчастной женщины одежду и не сумевших толком заклеймить осужденную, как произошла странная метаморфоза. Сострадание превращает Жанну чуть ли не в жертву. Среди знати становится модным навещать ее в тюрьме. Афишируя симпатию к узнице, посетители таким образом выражали свое недовольство королевой. Другие ограничивались тем, что присылали в тюрьму подарки.
Однажды Сальпетриер посетила суперинтендант двора королевы принцесса де Ламбаль и встретилась с Жанной. Этого достаточно, чтобы родился слух, будто одна из ближайших подруг Марии-Антуанетты явилась в тюрьму по тайному ее поручению. Но чем следует объяснить этот визит? Только тем, что королеву мучает совесть. И когда в один прекрасный день Жанна исчезла из тюрьмы, все решили, что в ее бегстве замешана королева, пожелавшая спасти свою «подругу».
Кому же в действительности Жанна была обязана столь неожиданным и странным освобождением? Кто передал ей ключ от темницы и мужской костюм? Едва ли в этом была замешана королева. Скорее всего, Жанне помог кто-либо из врагов Марии-Антуанетты, чтобы окончательно погубить репутацию королевы. И он достиг цели. Первая дама Франции была полностью скомпрометирована. Для нее побег авантюристки оказался предательским ударом из-за угла, поскольку благодеяние, чье бы оно ни было, не убавило у Жанны жажды мести.
Оказавшись в Лондоне, она вознамерилась опубликовать брошюру, в которой собиралась рассказать подлинную правду, которую ей не дали высказать на суде. Тут же нашелся издатель, готовый напечатать сенсационный материал. Само собой, Жанне перепадет солидный куш. Очень скоро слухи о намерении предать гласности альковные тайны двора дошли до Парижа. Здесь не на шутку встревожились. В Лондон отправилась посланница королевы — графиня Пилиньяк. Ее миссия состояла в том, чтобы за двести тысяч ливров купить молчание аферистки. Верная себе мошенница взяла деньги, после чего сразу же выпустила в свет свои скандальные «Мемуары». Товар пошел нарасхват, так что приходится издавать «Мемуары» трижды, чтобы удовлетворить спрос.
В этих мемуарах было все, что желала бы прочесть падкая до скандалов публика. Процесс в парламенте был сплошным обманом: королева поручила купить ожерелье и получила его от Рогана, ла Мотт же, воплощенная невинность, лишь из чисто дружеских побуждений призналась в якобы совершенном преступлении, чтобы спасти честь королевы.
Теперь репутацию Марии-Антуанетты ничто уже не могло спасти. И когда началась революция, раздаются голоса, что нужно пригласить в Париж беглую ла Мотт, чтобы вновь провести процесс по делу об ожерелье. На этот раз оно должно будет слушаться перед революционным трибуналом, где Жанна станет обвинительницей, а Мария-Антуанетта окажется на скамье подсудимых.
Но Мария-Антуанетта не желала ждать, когда ее поведут в суд. И на третий год революции, когда тучи над королевской четой сгустились и ей угрожала расправа, король и королева решили не дожидаться худшего. Так возник роялистский заговор с целью спасения жизни королевской семьи.
Процесс вдовы Капета
Поздно вечером 20 июня 1791 года во дворце Тюильри все было как обычно: король и королева готовились ко сну. Только прислуга была отослана раньше обычного часа. Оставшись одни, они снова оделись в простое дорожное платье, не соответствующее их высокому положению. В будуаре королевы собрались ее дети и сестра короля. Отсюда потайным ходом, разбившись на группы, через определенные промежутки времени вышли они из дворца, причем последним его покинул король с семилетним дофином. Беглецы, не будучи узнанными, достигли площади Карусель, где их ждал граф Ферзен, главный организатор побега. Он был переодет кучером. Следуя за ним, беглецы дошли до угла улицы Сент-Оноре, где сели в две ожидавшие их кареты. В одной из них уже находилась маркиза де Турзель, воспитательница королевских детей. Сейчас она выступала под видом баронессы Корф, русской подданной, что и удостоверял паспорт, имевшийся у нее на руках. Анна Кристина Корф, урожденная Штегельман, была дочерью известного петербургского банкира и вдовой русского полковника, убитого в 1770 году. После смерти мужа она поселилась с матерью в Париже, где была в дружеских отношениях с графом Ферзеном, вовлекшим ее в заговор. Для спасения королевской семьи баронесса пожертвовала всем своим состоянием.
Мнимая баронесса с детьми покидала революционный Париж, ее сопровождали горничные и слуги. Именно эту роль надлежало сыграть членам королевской семьи: Людовик изображал камердинера, Мария-Антуанетта и сестра короля — горничных русской баронессы. Граф Ферзен взгромоздился на козлы, взял вожжи, и кавалькада тронулась в путь. За заставой Сен-Мартен все пересели в крытую линейку, запряженную двумя парами принадлежащих Ферзену лошадей. Правил ими его кучер, наряженный почтальоном, сам граф разместился рядом на козлах.
Под видом лакеев беглецов сопровождали трое лейб-гвардейцев-телохранителей. До Бонди доехали благополучно, сменили лошадей и тронулись дальше, но уже без графа Ферзена. Поцеловав руку королевы, он отправился обратно в Париж, откуда той же ночью по другой дороге намеревался отбыть в Брюссель, где должен был вновь присоединиться к королевской семье.
Ничто не возбуждало подозрения у постов национальной гвардии, и экипаж нигде не задерживали. Тем более что при досмотре баронесса Корф предъявляла документ, выданный министерством иностранных дел, в котором предписывалось беспрепятственно пропускать баронессу, направляющуюся во Франкфурт с двумя детьми, горничными, камердинером и тремя слугами.
Лишь небольшая задержка на час произошла из-за поломки колеса, не вызвав, однако, тревоги у беглецов. Они все больше проникались уверенностью в благополучном исходе рискованного предприятия. Казалось, каждый оборот колес приближает их к заветной цели.
Так, уже днем они прибыли в Шалон, единственный крупный город на их пути. Пока меняли лошадей, около экипажа собралось несколько зевак, суетился начальник почтовой станции. И вдруг он застыл, словно окаменел перед каретой. В камердинере он узнал короля, неосторожно приблизившегося к окну. Что было делать? Несколько секунд пожилой почтарь колебался — жизнь государя была в его руках. Подавив волнение, он начал помогать запрягать лошадей, всячески торопя путников с отъездом.
Когда экипаж выехал из ворот, король и королева в один голос воскликнули: «Мы спасены!» Эта удача еще больше ободрила их, придала сил, но, увы, не научила быть более осторожными.
В седьмом часу вечера экипаж с беглецами достиг почтовой станции в Сен-Мену. Было еще светло. И тут произошло то, что сорвало столь тщательно спланированную и с таким трудом организованную операцию.
Случай с пожилым почтмейстером ничему не научил Людовика. Он неосторожно высунул голову из окна экипажа. Это и погубило его и королеву. Восьмилетняя девочка, вертевшаяся возле, подняла золотую монету, оброненную одним из слуг-телохранителей во время расчета с почтмейстером. «Как это изображение на монете похоже на господина, который сидит в экипаже!» — воскликнула она. Слова ее не прошли мимо почтмейстера Жака-Батиста Друэ, патриота и революционера. Он украдкой заглянул в карету и убедился, что девочка права. Сходство человека в платье камердинера с изображением профиля на монете было несомненным. То же одутловатое, массивное лицо, нос с горбинкой, та же прическа. Друэ уже не сомневался, что в карете едет король, вернее, спасается бегством из революционного Парижа. Но предпринимать что-либо было поздно — экипаж уже тронулся и поблизости не было никого из тех, кто помог бы его задержать.
Тогда Друэ вскочил на лошадь и во весь опор помчался в Варенн, куда направился экипаж. Он надеялся, что прибудет туда раньше, так как поскакал дорогой, значительно сокращавшей путь.
В полночь, когда кортеж с беглецами достиг Варенца, маленький городок был весь уже на ногах. Отныне ему суждено будет войти в историю, а безвестному до этого почтарю стать членом Конвента. Впоследствии он попадет в плен к австрийцам, его обменяют на дочь Людовика XVI, после чего он примет участие в заговоре Бабёфа, сбежит из-под стражи и кончит дни где то в Америке.
По тревоге, поднятой Друэ, вооруженные жители встретили беглецов. Окружив карету, они заставили беглецов выйти, и тут все убедились, что почтмейстер не ошибся.
Над городком гудел набат, народ все прибывал, появились наконец и национальные гвардейцы.
Ни уговоры Людовика, взывавшего к своим подданным быть верными своему королю, ни его уверения в преданности конституции и народу, ни мольбы Марии-Антуанетты пожалеть ее детей и позволить им продолжить путь — ничто не подействовало.
Вокруг арестованных сверкали сабли и щетинились штыки, раздавались возгласы: «Да здравствует республика!» Послали нарочного в Париж. Вскоре оттуда прибыли комиссары Национального собрания с официальным приказом об аресте. Прочитав его, Мария-Антуанетта, полная негодования, обрушилась на них с упреками и угрозами. В припадке ярости она схватила этот приказ, бросила на пол и растоптала. Ее гнев и отчаяние можно понять — она знала, что теперь ей не избежать революционного трибунала.
Думала ли Мария-Антуанетта о том, что одной из свидетельниц на суде может выступить ненавистная Жанна де ла Мотт? Неизвестно. Но, несомненно, она с удовлетворением восприняла сообщение о том, что Жанна в припадке безумия в августе 1791 года выбросилась из окна лондонской гостиницы. Факт смерти и погребения Жанны де ла Мотт удостоверяла запись в церковной книге. Только гибель помешала тому, чтобы эта незаурядная авантюристка прибыла в Париж и дала показания против королевы.
Однако и без ла Мотт процесс над Марией-Антуанеттой состоялся в октябре 1793 года. История с ожерельем фигурировала на нем как пример морального падения подсудимой и режима в целом. Незадолго до суда по решению Конвента была переиздана брошюра, опубликованная Жанной в Лондоне, документ, обличающий монархию.
На свой лад поведали об этом деле и некоторые другие участники аферы. Рето де Вильет, отделавшись испугом, поспешил уехать в Венецию. Вдохновленный природой и взглядами местных красоток, он сочинил и опубликовал «Исторические мемуары дворцовых интриг и то, что произошло между королевой и мадам де ла Мотт». Преуспел на литературном поприще и д’Этьенвиль. Ему пришла в голову счастливая мысль собрать в шести маленьких томах все основные документы и «Объяснительные записки» дела об ожерелье. Сборник имел успех и принес автору значительный барыш.
Во время допроса Мария-Антуанетга, которую теперь называли просто вдовой Людовика Капета (король был казнен ранее, в январе), простоволосая, в помятом платье, на вопрос общественного обвинителя революционного трибунала, знала ли она женщину по имени Жанна де ла Мотт, бесстрастно заявила, что никогда ее не видела. Впрочем, обвинение не стало задерживаться на этом моменте: у Революции не было времени разгадывать эту детективную загадку. В бюллетене революционного трибунала за тот день было лаконично отмечено: процесс вдовы Капета.
Тайна темно-синей шкатулки
У поэта Всеволода Рождественского есть прозаический цикл «Коктебельские камешки». Несколько небольших новелл, мастерски написанных. Великолепен язык этих миниатюр, увлекательных по сюжету, поражающих неожиданными концовками. И верно, это словно гладко обточенные камешки различной окраски и изящной формы, созданные воображением тонкого художника. Родились они давно, хотя литературную форму новелл обрели много позже. Тогда, в тридцатые годы, поселка Коктебель на морском берегу Восточного Крыма еще не существовало. Место выглядело диким, и только причудливое строение — дача поэта и художника Максимилиана Волошина одиноко, словно рыцарский замок, возвышалась над лазурным заливом. В летние и осенние месяцы сюда съезжались работать и отдыхать друзья хозяина, преимущественно люди искусства.
Население дома было пестрым, но жили все в атмосфере доброжелательства, непринужденного веселья. Среди обитателей дома повелся обычай устных рассказов. «Вечера устной новеллы, — вспоминал Всеволод Рождественский, — прочно вошли в обиход коктебельского отдыха. Эти импровизации были пестры и разнообразны, как камешки коктебельского побережья».
Память поэта сохранила некоторые из устных рассказов, которые звучали на террасе дачи у подножия Карадага. Правда, в то время, по его признанию, он не вел подробных записей. Пришлось дополнять воображением лаконичные наброски сделанных когда-то сюжетов. Так, много позже они были оформлены в виде новелл.
В чьих устах прозвучал впервые тот или иной устный рассказ, автор не поясняет. Исключение составляет лишь новелла «Королевская лилия», записанная со слов самого хозяина коктебельского дома, выведенного в рассказе под именем Старого художника. Прочитав эту новеллу, нельзя не поразиться тому, какие подчас сюрпризы преподносит расшалившаяся Клио — Муза истории.
О чем же поведал Старый художник?
Однажды по дороге в Старый Крым компания обитателей коктебельского дома остановилась передохнуть на опушке букового леса. Кто-то заметил, что вся слава Коктебеля — в археологическом прошлом и что он ничем не примечателен для более близких к нам периодов истории. Художник, несколько обиженный этими словами, напомнил о героической борьбе старокрымских и кизикташских партизан в 1920 году.
Если это ничего не говорит, продолжал он, тогда обратимся к XIX веку. И, указывая рукой на домики в глубине долины, пояснил: это деревушка Арматлук. Неподалеку от нее на старинном кладбище нетрудно отыскать небольшое мраморное надгробие с высоким узким рисунком католического креста. Если осторожно счистить покрывающий его мох, то можно разобрать остатки французской надписи и прочесть, правда с трудом, женское имя: Жанна де ла Мотт.
И Старый художник рассказал историю известной авантюристки. Каким образом она оказалась похороненной под голубым крымским небом, на диком клочке далекой от Франции земли? Ведь Жанна де ла Мотт покоилась на лондонском кладбище, о чем свидетельствует приходская книга Ламбертской церкви. Но если запись в ней — фальшивка? И никакой смерти не было, а Жанну подменили, что довольно часто в ту пору случалось?
Спрашивается, для чего понадобился этот кладбищенский маскарад? Ответов может быть несколько, но, скорее всего, Жанне де ла Мотт надоело быть в центре внимания лондонской публики, а тем паче постоянным объектом секретной службы. К тому же скандал с ожерельем отшумел и перестал приносить дивиденды. Не исключено, что до нее дошел слух, будто в охваченном революцией Париже собираются переиздать ее брошюрку как документ, обличающий старый режим. В этом случае ее имя снова всплыло бы на поверхность, а там, чего доброго, мог последовать вызов на родину, где начали бы вновь допрашивать, правда, теперь уже как свидетельницу по делу королевы. Не поехать, отказаться дать показания означало бы признать себя виновной в похищении ожерелья. Она сочла за благо исчезнуть.
Блестяще разыграв страдающую манией преследования (актерских способностей ей не занимать), составив якобы предсмертное письмо мужу, Жанна де ла Мотт симулировала самоубийство. Вместо нее похоронили другую. Она же, приняв новое имя графини де Гаше, скрылась, затерявшись в потоке французских эмигрантов. В далекой России и провела остаток жизни знаменитая авантюристка. Возможно, часть бриллиантов ей удалось прихватить с собой. Во всяком случае, М. И. Пыляев неспроста утверждает, будто «старые петербургские ювелиры все знали, что знаменитое алмазное ожерелье Марии-Антуанетты, наделавшее столько шума в Европе своим скандальным процессом, было продано в Петербурге графу В-кому одним таинственным незнакомцем…».
Одно время графиня Гаше тихо жила в Петербурге. В 1812 году приняла российское подданство. Известно, что она дружила с Марией Бирх, камеристкой царицы Елизаветы Алексеевны. Ходили, однако, слухи, о чем вспоминают современники, что за ней наблюдали власти и «полиции хорошо было известно, что она графиня ла Мотт-Валуа, укрывшаяся в России под именем графини Гаше».
Внимание российских властей, причем, как увидим дальше, самых высших, к личности Гаше вполне объяснимо. И недаром ею интересовался сам Александр I. Однажды случайно услышав, что графиня находится в России, царь пожелал ее видеть. Рассказывают, что графиня, узнав о желании царя, в панике воскликнула: «В тайне было мое спасение; теперь он выдаст меня врагам моим, и я погибла!» Вопреки ее опасениям, монарх отнесся к ней «милостиво и внимательно». Видимо, мадам Бирх через императрицу соответственно подготовила его. Впрочем, о чем шла беседа, точно неизвестно, но только вскоре после этого графиня переселилась в Крым.
Можно предположить, что Александр I знал о скандальном прошлом графини и не хотел осложнений с французским двором, где к тому времени вновь воцарились Бурбоны. Вполне вероятно, и во Франции кое-кому было известно о подлинной судьбе Жанны де ла Мотт.
Мстительный Людовик XVIII, деверь казненной Марии-Антуанетты, мог потребовать выдачи преступницы, принесшей в свое время столько неприятностей его семье. Вот почему, как говорится, от греха подальше, неудобную графиню Гаше вынудили переселиться в Крым.
Недавно было высказано предположение, будто беглая графиня являлась хранительницей какой-то тайны, к которой имело отношение русское правительство. Может быть, в свое время она оказывала кое-какие услуги русской дипломатии и выполняла некоторые деликатные поручения. Не исключено, что она была посвящена и в интимные секреты русского двора, торговля которыми (как когда-то и секретами французского двора) могла принести ей доход, а императорской семье неприятности. Что ж, все может быть. В таком случае тем более любые записки этой дамы или, не дай бог, хранящиеся у нее документы могли оказаться взрывоопасными.
Поначалу Гаше жила в Кореизе, в имении, позже известном под названием «Гаспра», потом обитала у подножия Аюдага, в том самом домике, который заинтересовал в свое время Мицкевича, а затем поселилась в окрестностях Старого Крыма. Тут и была похоронена в мае 1826 года, завещав выбить на могильной плите надпись на французском языке.
Признаюсь, все эти подробности жизни Гаше в России, о чем говорилось выше, я узнал спустя некоторое время. Тогда же, прочитав новеллу Вс. Рождественского, честно говоря, усомнился в ее достоверности. Поистине история неправдоподобная, более того, невероятная. Но тут же вспомнилось — разве не предупреждал Стефан Цвейг: имея дело с Жанной де ла Мотт, следует приучить себя к мысли, что самое невероятное должно восприниматься как реальность, ошеломляющее и удивительное — как факт. Связаться с автором новеллы не составляло труда — он жил в то время в Ленинграде. Обратившись к нему с письмом, я попросил развеять мои сомнения.
Ответ Всеволода Александровича не заставил ждать. В нем он писал по поводу Жанны де ла Мотт и ее последних дней в Крыму: «Это действительно устный рассказ Максимилиана Александровича Волошина, то есть, в сущности, не рассказ, а просто упоминание о том, что в своих прогулках по Восточному Крыму он нашел на татарском кладбище в деревне Арматлук (расположена между Феодосией, Коктебелем и Старым Крымом) могильную плиту с надписью на французском языке и знаменитой фамилией авантюристки XVIII века. Он пояснил, что надпись и имя разобрал с трудом (плита очень старая), и при этом заметил, что хорошо было бы восстановить события, приведшие де ла Мотт в Крым. Вот и все в этой истории. Остальное — чистый плод моего воображения», — заключил свое письмо Вс. Рождественский. И добавил, что никакими источниками он не пользовался, кроме своих воспоминаний о романе А. Дюма. Хотя, вероятно, в свое время и очень давно «читал редкую книгу М. И. Пыляева. Возможно, что-то и оттуда осталось в памяти».
Последние слова побудили меня обратиться к воспоминаниям современников — Ф. Ф. Вигеля и Г. Олизара, но в особенности к книге М. И. Пыляева, в которой он упоминает о темно-синей шкатулке. Подумалось: может быть, похититель, взяв бриллианты (если, конечно, они были), документам не придал значения и просто выбросил их. А ведь среди них могли сохраниться весьма любопытные бумаги. Воображение литературного разыскателя рисовало заманчивую картину. Что, если где-нибудь в архиве или на чердаке все еще лежат и пылятся похищенные вместе с бриллиантами бумаги графини ла Мотт-Валуа-Гаше?
Оказалось, что загадочной графиней в свое время уже интересовались историки и краеведы. Было установлено, что после смерти мадам Гаше вокруг ее вещей и бумаг завертелось целое дело. В канцелярии таврического губернатора оно числилось под № 9 за 1826 год, состояло из сорока листов и было озаглавлено «Об отыскании в имуществе покойной графини Гаше темно-синей шкатулки».
Обратимся к этому делу, восстановим его обстоятельства и ход событий.
Ночью, накануне смерти, графиня разобрала свои бумаги, часть из которых, по свидетельству ее служанки, бросила в огонь. Слух о том, что перед кончиной она будто бы бредила бриллиантами и рассматривала драгоценности, тоже исходил от служанки. Как и рассказ о том, что графиня распорядилась не обмывать ее и похоронить не раздевая. Мы знаем, просьбу эту не выполнили. Хоронили ее два православных священника — русский и армянский — за неимением католического.
Сразу же некоторые вещи покойной были распроданы, а выручка отослана во французский город Тур какому-то г-ну Лафонтену, будто бы родственнику графини. Кое-что, например, купил ее душеприказчик из эмигрантов, барон А. К. Боде, директор училища виноградарства и виноделия в Судаке. Тщательный осмотр вещей — обыскали все ларчики, потайные ящики, перелистали книги — не дал результатов, «ни один обрывок бумаги, случайно забытый, не изменил глубоко скрытой тайны».
Тем временем о смерти графини Гаше стало известно в Петербурге. И тут началось непредвиденное. В Крым примчался нарочный петербургского военного генерал-губернатора с отношением (4 августа 1826 года за № 1325) от самого начальника Главного штаба всесильного барона И. И. Дибича. В нем говорилось, что по высочайшему повелению надлежит изъять из вещей покойной графини темно-синюю шкатулку, на которую «простирает право свое г-жа Бирх». Шкатулку следовало сдать в том виде, в каком «оная оставалась после смерти графини Гаше».
Местные власти всполошились. По поручению таврического губернатора на розыск шкатулки отправился опытный чиновник особых поручений. На его счастье, шкатулку обнаружили у А. К. Боде среди оставшегося имущества графини. Выяснилось, что поначалу шкатулка была, как и другие вещи, опечатана, но затем, после регистрации, печати сняли. Согласно описи, в ней находились: золотые часы с цепочкой, пара серебряных пряжек, старое опахало, сафьяновая книжка, хрустальный флакон в сафьяновом футляре, стальная машинка для чинки перьев, театральная подзорная трубочка, старая серебряная табакерка. Никаких драгоценностей, а тем более бриллиантов, кроме старого алмаза для резания стекла, не нашли. Не обнаружили в шкатулке и бумаг — главного, из-за чего так беспокоились в Петербурге.
Спустя некоторое время, в начале января 1827 года, управляющий Новороссийскими губерниями и Бессарабской областью граф П. П. Пален писал таврическому губернатору Д. В. Нарышкину, ссылаясь на указание Бенкендорфа, о том, что некоторые лица из окружения графини Гаше подозреваются в похищении бумаг покойной. И далее говорилось, что бумаги эти «заслуживают особенного внимания правительства», а посему должны быть «употреблены все средства к раскрытию сего обстоятельства и к отысканию помянутых бумаг…».
Предписывалось также по этому поводу произвести дознание среди слуг покойной — «посредством расспроса их открыть, с кем она имела связи», а также выяснить, «не приметили ли они со стороны тех лиц подозрительных действий, клонящихся к похищению чего-либо у графини Гаше». Если будет установлено, что бумаги украдены, «сделать розыск к отысканию похищенного».
Как видим, власти в лице двух едва ли не главных персон государства — Дибича и Бенкендорфа — принимали активное участие в розыске бумаг графини Гаше. К сожалению, он закончился безрезультатно, хотя и было установлено, что «пакет с какими-то бумагами существовал».
Это подтверждает в своих воспоминаниях М. А. Боде, дочь барона.
Как уже упоминалось, писал о загадочной графине и М. И. Пыляев. Однако его сведения восходят к запискам Вигеля и Олизара. Возможно, были ему знакомы и воспоминания француженки Оммер де Гелль, в свое время путешествовавшей по югу России. Она говорит о Гаше как о скрывавшейся под этим именем графине ла Мотт. Сведения эти, по словам Оммер де Гелль, допускающей, однако, неточности в своем рассказе, были получены ею от английского консула в Таганроге и от кого-то из окружения Крюденер и Голицыной.
Впрочем, главным источником из всех перечисленных являются мемуары М. А. Боде, опубликованные в 1882 году в журнале «Русский архив». Это наиболее полное и авторитетное свидетельство. В них говорилось о своеобразной компании, приехавшей в двадцатых годах прошлого века в Крым и состоявшей исключительно из женщин: княгини А. С. Голицыной, баронессы Ю. Крюденер, ее дочери Ю. Беркгейм и самой замечательной из них по своему прошлому — графини де Гаше, рожденной Валуа, в первом замужестве графини де ла Мотт, героини известной истории «Ожерелья королевы». Это была старушка среднего роста, довольно стройная, в сером суконном рединготе. «Седые волосы ее были покрыты черным бархатным беретом с перьями». Лицо умное и приятное, с живыми «блестящими глазами». Она бойко и увлекательно говорила на изящном французском языке, была чрезвычайно любезна, временами насмешлива и резка, а с иными повелительна и надменна. «Многие перешептывались об ее странностях, — пишет М. А. Боде, — намекали, что в судьбе ее есть что-то таинственное. Она это знала и молчала, не отрицая и не подтверждая догадок». Ее рассказы о Калиостро, о дворе Людовика XVI только разжигали любопытство и порождали разные толки.
Мемуаристка приводит факты необыкновенной скаредности графини, проявившейся при покупке сада, в свое время принадлежавшего крымским ханам. По той же причине — крайней скупости — не состоялась покупка и домика с садом в Судаке, куда она незадолго до смерти намеревалась перебраться.
Заболев и предчувствуя конец, она будто бы сказала служанке, что «тело ее потребуют и увезут» и «много будет споров и раздоров при погребении».
И еще одно важное обстоятельство сообщает М. А. Боде — когда графиня умерла, губернатор признался ее отцу, что ему было велено наблюдать за покойной, так как ее подлинная фамилия и бурное прошлое были известны.
Ничего такого, о чем беспокоилась Гаше — будто ее «тело потребуют и увезут», — не случилось. И как свидетельствовала М. А. Боде, «надгробный камень не тронут и доныне». Возможно, именно его много лет спустя видел на старокрымском кладбище М. А. Волошин. Тем самым он как бы опроверг предсказание М. А. Боде, отметившей, что «писатели долго будут говорить о Жанне Валуа и никто не догадается искать на безвестном кладбище старокрымской церкви ее одинокой могилы». Позже видели эту плиту не то московский художник Квятковский, не то старокрымский житель Антоновский. Во всяком случае, в крымском Доме-музее Волошина будто бы имелась ее фотография.
Кое-что удалось разузнать и лично М. И. Пыляеву от некоей мадам, одно время компаньонки загадочной француженки. С ее слов он пишет: «Де ла Мотт жила здесь под именем графини де Гаше».
Воспоминания М. А. Боде не остались незамеченными. Как только записки ее были опубликованы, их перепечатал журнал «Огонек». В 1886 году в том же «Русском архиве» Ю. Н. Бартенев писал о Гаше как о шпионке, сообщившей царю в 1821 году о готовящемся политическом заговоре. Спустя некоторое время в журнале «Русский вестник» появилось еще одно подтверждение очевидца, что некогда проживавшая в Крыму пожилая француженка на самом деле известная ла Мотт-Валуа. Писали о судьбе Гаше журнал «Вокруг света» и газета «Новое время». Тем не менее заинтересованная публика требовала более обстоятельных аргументов насчет тождества ла Мотт-Гаше. За это взялся Луи Бертрен, тогдашний французский вице-консул в Феодосии.
Приехав в Россию в 1887 году и поселившись в Крыму, этот дипломат и поклонник Дюма, услышав, что героиня романа «Ожерелье королевы» жила и умерла в Крыму, безоговорочно уверовал в эту легенду. С тех пор многие годы он доказывал тождество ла Мотт-Гаше; написал несколько статей на эту тему, в том числе «Графиня ла Мотт-Валуа. Ее смерть в Крыму» и «Героиня процесса „Ожерелье королевы“». В этих статьях, опубликованных на французском языке, в частности в газете «Тан», доказывал, что настоящим похитителем ожерелья был Роган, а Жанна лишь помогала ему сбыть драгоценность. Для этого ожерелье расчленили на три части. Одна досталась Жанне как плата за услугу. Свою долю она спрятала у родной тетки Клосс де Сюрмен в Бар-сюр-Об.
Статьи Луи Бертрена (писавшего под псевдонимом Луи де Судак) привлекли внимание во Франции, там заинтересовались загадкой таинственной графини. Разгорелся по ее поводу спор, в котором принял участие видный историк Альфонс Олар. (К сожалению, все документы — две папки бумаг по делу об ожерелье — погибли во время пожара полицейской префектуры в 1871 году, о чем писала «Газетт де Трибюнн» в июле 1882 года.) В конце концов, кажется, пришли к единому мнению и согласились с точкой зрения Луи Бертрена о том, что Жанна де ла Мотт умерла в Крыму, а документы о ее смерти — подделка (у него была копия записи о смерти графини в Лондоне — за ней он специально туда ездил).
Разделял гипотезу Луи Бертрена и директор Феодосийского музея древностей Л. П. Колли, тоже занимавшийся загадочной графиней и сделавший на этот счет сообщение на заседании Таврической ученой архивной комиссии в ноябре 1911 года.
Как бы подытожил все точки зрения и добытые сведения знаток истории юга России профессор А. И. Маркевич. В своей статье «К биографии графини де ла Мотт-Валуа-Гаше», опубликованной в 1913 году, он писал: «Заботы правительства об отыскании бумаг графини Гаше, естественно, наводят на мысль, что это была не простая эмигрантка, а более важная особа, и вероятнее всего, графиня де ла Мотт-Валуа».
Сегодня загадка личности графини Гаше, можно считать, в основном разгадана, установлено ее тождество с Жанной де ла Мотт, похитительницей ожерелья французской королевы. Дело исчезнувшей графини закрыто. Остается лишь пожалеть, что Александр Дюма, когда писал свой роман «Ожерелье королевы» — о закате и падении французской монархии, — не догадывался, как закончилась бурная жизнь его героини. Знай он, где кончила она свои дни, возможно, дописал бы последнюю главу, которая стала бы достойным завершением похождений авантюристки.
БЕЗЫМЯННЫЙ КОЛОДНИК, ИЛИ УБИЙСТВО ЦАРСТВЕННОГО УЗНИКА
Опасный исторический сюжет
Те, кому довелось в тот день, 23 марта 1875 года, присутствовать в Обществе любителей российской словесности при Московском университете, расходились взволнованными. Только что они прослушали отрывки из нового сочинения господина Данилевского «Царственный узник». Познакомил с ними сам автор. Чтение его имело необычный успех, о чем на другой день сообщили «Русские ведомости».
До сих пор Григория Петровича Данилевского знали как бытописателя, мастерски изображавшего картины природы, как создателя ярких типов крепостных крестьян, бежавших на юг от притеснения помещиков. Читающей публике запомнились и другие вещи писателя, в частности его рассказ о бывшем студенте Киевской богословской академии Гаркуше, покинувшем мрачную келью ради вольной жизни и ставшем народным мстителем. Писал Данилевский и стихи, и биографические очерки: об украинском просветителе и ученом Г. Сковороде, о жизни и творчестве Г. Квитки-Основьяненко.
Однако всем было ясно, что новое сочинение господина Данилевского намного превосходит прежде им написанное.
Чему же посвятил свое произведение известный беллетрист? На этот раз, впервые для себя, он обратился к историческому сюжету. В основу романа положил трагическую историю Иоанна Антоновича, российского императора, процарствовавшего в младенческом возрасте всего четыреста четыре дня. Остальную часть своей жизни низвергнутый царь провел в заточении. Он был лишен всего: родителей, общения с людьми, возможности гулять, учиться, читать книги, кроме церковных, даже имени его лишили. С того момента, когда ребенком его заключили в темницу, и до своей гибели в возрасте двадцати четырех лет его называли не иначе как «безымянным колодником». Чем-то его судьба походила на судьбу человека, известного как Железная Маска, о котором А. Пушкин сказал, что это была «жертва честолюбия и политики жестокосердной».
И как неизвестно было, чье лицо скрывала железная маска, так и имя «безымянного колодника» долгое время и после смерти его запрещалось произносить под страхом быть заключенным в темницу.
И мертвого его все еще опасались. Впрочем, не без причины. Было открыто несколько заговоров в пользу покойного «законного императора» Иоанна VI Антоновича. Два года спустя после его смерти в Москве шли аресты, допросы, пытки — открылся заговор, участники которого осуждали умерщвление узника и помышляли использовать сие событие в своих целях. Через год — снова заговор, на этот раз в пользу брата Иоанна Антоновича как наследника русского престола. Позже в княжне Таракановой, загадочной авантюристке, выдававшей себя за внучку Петра I (ее истории Данилевский посвятил свой второй исторический роман), некоторые склонны были видеть сестру царственного узника. А в 1788 году объявился и сам император Иоанн Антонович, будто бы чудесным образом избежавший смерти.
Только что покончили с Пугачевым, называвшим себя Петром III, в каземате Петропавловской крепости погибла лжекняжна Тараканова, и вот на тебе — новый претендент на российский престол.
Кто же возымел дерзость посягнуть на царский престол? Кто посмел утверждать, что он — законный русский государь? Историю свою арестованный и с пристрастием допрошенный самозванец излагал следующим образом. Он-де не кто иной, как Иван Ульрих, сын Антона Ульриха Брауншвейгского и Анны Леопольдовны. Братьев и сестер своих не помнит. Каким таким чудесным образом ему удалось освободиться из крепости? На это незнакомец отвечал, что в 1762 году однажды к нему в каземат вошел комендант Шлиссельбургской крепости и предложил бежать, а его место якобы уговорил занять другого, похожего на него. Его-то и убили тогда, в июле 1764 года. Сам же он, получив от коменданта три тысячи рублей, скитался по России, выучился читать и писать. Участвовал в войне с турками, был в Крыму, потом жил в Петербурге под видом купца. Отсюда ездил в Архангельск в надежде добыть известие о своих родственниках, заключенных в Холмогорах. Узнал, что отец и мать его померли, а два брата, Петр и Алексей, и сестры отосланы на родину их покойного родителя, в датские земли. Тогда он решил подробнее узнать о себе самом, как был свергнут с престола, а заодно и о своих несчастных родных. Для чего обратился к курляндскому герцогу Бирону, надеялся, что сын вельможи, пострадавшего в свое время от царицы Елизаветы Петровны, свергнувшей малолетнего Иоанна Антоновича и правительницу, его мать Анну Леопольдовну, проявит сочувствие и окажет помощь. Но герцог приказал взять его под стражу, объявив, что он-де опасен России. Его заковали в ручные и ножные железа и с конвоем отправили в Петербург. В сопроводительном письме говорилось, что рассказ арестанта «скорее на сказку, нежели на истину, походит». Но чтоб предостеречь от «соблазна, в народе произойти могущего», сего человека взяли под стражу, дабы пресечь разглашение в публике его сказок, так и ради «отвращения произойти могущих иногда неистовых лжей: ибо от выдаваемой вести он не отходит, произнося при том много непристойностей, как по здравому рассудку не заслуживают никакого внимания».
Когда арестанта доставили в столицу, здесь очень скоро установили, кто же на самом деле был этот человек. В роли «законного императора» на этот раз выступил кременчугский купец Тимофей Курдилов, «бежавший по причине долгов». О самозванце состоялось решение «всемилостивейшей государыни», но какое именно — осталось неизвестно. Хотя предположить, как кончил очередной претендент на царский престол, не так уж трудно.
Не один десяток лет длился своеобразный «мораторий», запрещающий упоминать имя Иоанна Антоновича. Но вот минуло сто лет с момента «шлиссельбургской нелепы» — как назвала Екатерина II то, что произошло 5 июля 1764 года в Шлиссельбургской крепости. К этому времени «безымянный колодник» стал не опасен. Можно было называть его по имени. В журналах начали появляться о нем материалы. В «Отечественных записках», в «Русской старине», «Русском архиве», «Русском вестнике» и т. д. Авторы рылись в Государственном архиве и в архиве Сената, изучали личную переписку минувшей эпохи, выискивали заметки современников, вчитывались в депеши иностранных дипломатов — очевидцев событий, а также в сочинения зарубежных авторов, посвященные истории Иоанна Антоновича. Словом, литература о его трагической судьбе множилась не по дням, а по часам.
Несомненно, что многие из этих материалов попали в поле зрения Г. П. Данилевского. Еще во время работы над биографией украинского писателя Квитки-Основьяненко (она была опубликована в 1855 году) он обратил внимание в его бумагах на план романа об убийстве Иоанна Антоновича. Замысел этот показался необычайно интересным. И Данилевский решает как бы перенять эстафету у своего земляка и продолжить работу. К этому моменту на эту тему было достаточно публикаций. И писатель погружается в массу печатного материала, из которого, как он писал, у него составилась целая библиотека.
Наиболее ценные сведения из числа исторических материалов он почерпнул, по его словам, в «Истории России» С. М. Соловьева, в записках канцлера князя В. П. Кочубея, в сочинении о графе Д. Н. Блудове и воспоминаниях графа М. А. Корфа. А также в трудах академиков Поленова, Арсеньева, Куника, Сухомлинова, Пекарского, Грота, у профессоров Брикнера и Ламанского и других.
Однако писатель не ограничился этими печатными источниками. Он сам предпринял разыскания в архиве Шлиссельбургской крепости, в бумагах Архангельского губернского правления о родных Иоанна Антоновича, отце, братьях и сестрах, которые тридцать шесть лет провели в заключении.
Посетил писатель и Шлиссельбург, спускался в «каменный мешок» — каземат Иоанна Антоновича в Светличной башне, предпринял ряд поездок по следам своих будущих героев.
И вот многолетний труд его получил первую заслуженную оценку у слушателей в Обществе любителей российской словесности.
В тот вечер писатель покинул собрание, где выступил, ободренный приемом, полный желания скорее завершить свой роман.
Между тем слух о новом необычном сочинении господина Данилевского распространился в обществе.
«Вестник Европы» начал публиковать первые главы столь примечательного произведения. Но вдруг произошло нечто неожиданное: цензура приостановила публикацию без каких-либо особых доводов, толком даже не объяснив автору причину.
И Данилевскому оставалось лишь догадываться о мотивах, побудивших власти запретить его книгу. Он вспомнил свой разговор осенью 1875 года с В. В. Григорьевым, тогдашним начальником Главного управления по делам печати, предупредившим его о возможных затруднениях с опубликованием романа. Когда-то, еще недавно, они работали вместе в «Правительственном вестнике», где Григорьев был главным редактором, а Данилевский его помощником. У них, казалось, были добрые отношения, и Григорьев немало приложил сил, чтобы тогдашний министр внутренних дел А. Е. Тимашев назначил писателя в редакцию на должность его помощника. На резолюции по этому поводу министр великодушно приписал, что рад за г-на Данилевского, который «вполне оправдал мои надежды».
И вот теперь В. В. Григорьев предупреждает его не как старый знакомый, а как чиновник, призванный охранять интересы отечества.
Но неужели его роман — столь опасное произведение? Что в нем такого, что может угрожать отечеству? Все это вздор. Разве не появились в печати труды, посвященные выбранной им теме? Появились, да еще сколько. В таком случае, отчего именно его сочинение оказалось неугодным?
Писатель задавал себе эти вопросы, терялся в догадках, но ответа найти не мог. Власти же хранили молчание.
Впрочем, если бы Данилевский смог заглянуть в переписку, которая тем временем шла по его поводу между начальником Главного управления по делам печати и тогдашним товарищем министра внутренних дел Л. С. Маковым, возможно, кое-что для автора стало бы ясно.
В ноябре 1875 года В. Григорьев сообщал министру:
«На запрос Вашего Высокопревосходительства, известно ли мне о романе Г. П. Данилевского „Царственный узник“, честь имею доложить, что о романе этом, где идет речь об Иване Антоновиче и убийце его Мировиче, давно уже ходит слух. Предполагая, что содержание романа может оказаться нецензурным, я предупредил автора, что, если предположение окажется основательным, книга его будет подвергнута аресту и затем уничтожению и что вообще лицу, служащему чиновником особых поручений при Министерстве внутренних дел, не подобает писать такие романы. На это г. Данилевский отвечал, что в произведении его нет и тени чего-либо предосудительного, что он с удивительным искусством обошел все подводные камни, представляемые сюжетом. Ныне, когда роман им окончен, я опять вел беседу с автором о трудности выводить в романе происшествия вроде умерщвления Ивана Антоновича, без того чтобы в изложении их не нашлось чего-либо несовместного с требованиями цензуры: г. Данилевский отозвался на это, что, если бы ему пришлось выбирать между службою в Министерстве внутренних дел и публикованием романа, он скорее отказался бы от первой, чем от последнего.
5 ноября 1875 года.
В. Григорьев».
Доклад этот вызвал неудовольствие товарища министра. Нет, каков этот писака! Для него служба ничто, он готов оставить обязанности ради своего порочного сочинения.
И Л. С. Маков с раздражением написал карандашом на полученной записке:
«Но дело в том, что г. Данилевский может лишиться и того и другого. Первое — за напечатание такого произведения придется, быть может, отстранить его. Второе — самим уничтожить произведение. Прошу предупредить об этом г. Данилевского, ему, как служащему в Министерстве, следовало бы до напечатания просить рассмотреть его роман».
Естественно, Г. П. Данилевский ничего не знал ни о записке своего бывшего начальника, ни о том, как прореагировал на нее товарищ министра. Не знал, но почувствовал. Ибо куда бы он ни обращался, сколько ни предпринимал усилий получить объяснения, отчего его роман приостановлен печатанием, — ничего добиться не смог. Создалась довольно странная ситуация: официально его роман не был запрещен, но печатать его не разрешали. Что было делать?
В эти горькие дни писатель вспоминал, как несколько лет назад он решился оставить канцелярскую службу в Петербурге, считая ее несовместимой с литературной карьерой. «Если бы я захотел, — писал он тогда, — двойственность моей теперешней дороги — литературной и служебной — разделить, то есть отбросить литературу, я мог бы с большим терпением и очень спокойно переносить всякие щелчки и шаг за шагом достигать всего чиновничьего, петербургского — орденов, геморроя, теплых местечек и тому подобного…» Но писатель видел свое призвание в служении литературе, а «литература, — считал он, — выше всякого чиновника» и писательское поприще выше всякого другого. «Мне необходимо изучение людей, сердец, страстей и помыслов современности и моей родины», — решил тогда Данилевский и, оставив службу, уехал в провинцию «учиться, присматриваться, прислушиваться», собирать материал, «работать в тишине и крепнуть вдали от света». Годы, проведенные на родине, в Харьковской губернии, оказались чрезвычайно плодотворными. Это была пора создания его известной трилогии — «Беглые в Новороссии», «Воля», «Новые места». И вот двенадцать лет спустя, когда в Петербурге в начале 1869 года была образована газета «Правительственный вестник» и отставному надворному советнику Данилевскому предложили место в редакции, он, возможно и опрометчиво, согласился. В приказе по этому поводу говорилось, что Данилевский «определяется на службу чиновником особых поручений VI класса при Министерстве внутренних дел, сверх штата, прежним чином коллежского асессора». После чего писатель был командирован в распоряжение главного редактора новой официальной газеты.
Работа в редакции пришлась Данилевскому по душе. С энтузиазмом истинного газетчика он стремится сделать официоз интересным и читаемым органом. Немало сил прилагает к тому, чтобы на страницах газеты читатель находил новости научной жизни в России и за рубежом, материалы по литературе и искусству, фельетоны. И через год ему уже предлагают должность помощника главного редактора. А спустя еще четыре года он получает чин действительного статского советника.
Наряду с продвижением по службе множились и литературные успехи. Известность его перешагнула границы России; с 1874 года начали появляться переводы его романов и повестей на французском, немецком, польском, венгерском, сербском и других языках. Писателя избирают членом многих обществ.
Гонение на новый роман Данилевского, которому он, как ни одному из своих творений, отдал столько сил и таланта, заставило писателя пожалеть о том, что он вернулся в Петербург и снова поступил на службу.
Время шло, роман, запрещенный к опубликованию, лежал без движения уже целых два года.
Как-то вернувшись из редакции домой, Данилевский взял лист бумаги, обмакнул перо в чернила и мелким почерком вывел:
«Милостивый государь, Василий Васильевич.
Скоро два года, как мой роман вследствие недоразумений цензора, нетерпеливости редактора и моей собственной ошибки был приостановлен печатанием и заменен, по личному почину редактора, без сношений со мной, вынут из журнала и остался в моем портфеле.
Эта кара, тяготеющая надо мной, слишком мучительно отзывается на моем нравственном и матерьяльном состоянии (я лишился заработка более чем в 6000 р. с.). Эта кара, наконец, отзывается и на моем здоровье; с тех пор оно не поправляется.
Так как этот мой роман не запрещен формально, а лишь приостановлен редактором, — без предоставления автору возможности спасти свой труд — через высшую ступень цензуры, — то я осмеливаюсь почтительнейше обратиться к милостивому вниманию Вашего Превосходительства, не разрешите ли Вы мне возобновить дело о моем труде, через его новый просмотр, причем я уповаю на устранение цензурных недоразумений, всегда возможное при личном объяснении с автором?
Я терпеливо выносил эти два года приостановку печатания своего заветного, с любовью конченного труда. Теперь позволяю себе о нем просить по двум причинам: я понес в эти годы сильные убытки в моем имении (это лето жуки истребили у меня 500 десятин посева пшеницы), через что вошел в тяжкие долги; потом, — со времени написания моего неизданного романа, — в печати явилось около 15-ти исторических романов и повестей, посвященных почти той же самой эпохе, которую выбрал я, и ближайшему времени; если пропустить, без ходатайства, еще время, — мой труд потеряет всякое значение, не говоря уж о том, что, без его напечатания и оценки обществом и критикой, для меня немыслимо дальнейшее саморазвитие в литературе, которой я по мере сил служу XXX лет.
Есть и еще причины, побуждающие меня к настоящему ходатайству и дающие мне некоторую тень надежды, о которых я объяснил бы Вам, если б Вам угодно было дать мне счастие — выслушать меня.
Прилагаю проект докладной, формальной записки по этому предмету, где я излагаю все дело, как оно было, и привожу посильные доводы в пользу моего ходатайства.
Не откажите, Ваше Превосходительство, в благосклонном приеме этой записки и в разрешении моего прошения.
Глубоко преданный покорнейший
Вашего Превосходительства слуга
17 окт. 78.
Григорий Данилевский».[2]
Но напрасно писатель уповал на здравый смысл, напрасно надеялся на то, что запрет с его романа будет тотчас снят.
Только шесть месяцев спустя, благодаря непрекращающимся усилиям автора, использовавшего все пути и способы, вплоть до знакомых, близких к придворным кругам, роман Г. П. Данилевского «Царственный узник» был разрешен к печати.
В марте 1879 года писатель получил от В. В. Григорьева на сей счет официальное уведомление. В то же время Л. С. Маков, ставший министром внутренних дел, лицемерно выражая радость по поводу того, что наконец-то «узы вашего Царственного узника развязаны», обратился к автору с предложением изменить заглавие романа. Данилевский пошел на это, и книга появилась в печати под названием «Мирович».
Таким образом, только четыре года спустя после создания Данилевскому удалось опубликовать свой лучший роман. Получив возможность издать его, говорил писатель, он обратился к забытой рукописи и увидел, что многое в ней следует переделать, сократить длинноты, кое-что, едва намеченное, развить. Но тогда внести какие-либо поправки не удалось. Осуществить это автор смог лишь много позже. Однако купюры, сделанные по произволу царской цензуры, так и остались невосстановленными. Сегодня, имея возможность сравнить варианты текста — цензурного и подлинного авторского, — нетрудно заметить, на что были направлены усилия цензоров. Охранители царской власти вымарывали все места, где резко и откровенно характеризовалась власть русских самодержцев, реалистически остро рисовались придворные, их алчность и жестокость. Искаженный цензурой текст свидетельствует о причине, по которой роман был вначале запрещен, а потом, после соответствующей «обработки», великодушно дозволен к печатанию.
Таковы вкратце некоторые обстоятельства печатной истории этого сочинения Г. П. Данилевского.
Однако откуда взялось второе название книги — «Мирович»? Что это за имя? Оно принадлежит подпоручику Василию Мировичу, предпринявшему отчаянную попытку, последнюю в целой серии предшествующих заговоров, участники которых ставили ту же цель, что и он, — освободить царственного узника, много лет томившегося в каземате Шлиссельбургской крепости.
Заговоры и дворцовые перевороты
Пожалуй, никогда в истории России не было замыслено и отчасти осуществлено столько заговоров и дворцовых переворотов и за столь короткий промежуток времени, как в сороковых и пятидесятых годах XVIII столетия. Обстоятельства некоторых из этих заговоров даже в прошлом веке, сто лет спустя, не были достаточно хорошо известны. Не все ясно в них и по сей день.
В августе 1740 года императрица Анна Иоанновна стала бабушкой. У ее племянницы Анны Леопольдовны родился сын, которого нарекли Иоанном в честь деда, царя Иоанна Алексеевича, старшего брата Петра I.
Видимо, предчувствуя свой скорый конец, Анна Иоанновна воспылала нежной любовью к внуку, преемнику ее престола. Она усыновила его, велела колыбель с младенцем перенести в свою спальню. Не обошла императрица лаской и вниманием и мать новорожденного, а также ее мужа, герцога Антона Ульриха Брауншвейгского.
Два месяца спустя Анна Иоанновна скончалась, как тогда говорили, от каменной болезни, и двухмесячный ребенок согласно ее завещанию был провозглашен императором. На подушке, прикрытой порфирой, его выносили при торжественных случаях, и вельможи лобызали его ножку; малютку императора показывали в окно народу и войску, которое приветствовало его раскатистым «ура». В честь царственного младенца устраивались нескончаемые придворные балы, фейерверки и иллюминации. Поэты славили его в своих одах, прочили великое царствование, жизнь долгую и спокойную. Увы, не одно из предсказаний этих не оправдалось.
Не прошло и трех недель со дня провозглашения малолетнего наследника императором Иоанном VI, как случился переворот. Скоро и неожиданно пресеклось недолгое регентство ненавистного всем Бирона. Началось правление Анны Леопольдовны — матери младенца-императора. Длилось оно всего год и кончилось в осеннюю ненастную ночь столь же неожиданно, как и началось.
В ночь на 25 ноября 1741 года на Красной улице в доме цесаревны Елизаветы собрались те, кто вознамерился возвести на русский престол дочь Петра I. Среди заговорщиков находился и лейб-хирург Иоганн Герман Лесток, служивший еще при ее батюшке. Он-то и являлся одним из вдохновителей и организаторов будущего переворота.
Потомок знатного французского рода, родившийся в эмиграции на ганноверской земле, подвизавшийся здесь в качестве не то лекаря, не то цирюльника, однажды решил испытать счастье в России, где требовались знающие свое дело медики. В 1713 году авантюрист и искатель приключений прибыл в Петербург. Познания в языках, приятная внешность, а главное, веселый и обходительный нрав пришлись по душе царю. И только что прибывшего чужеземца определяют хирургом к высочайшему двору. Назначение это было тем более удивительным, что одновременно с Лестоком в Россию приехали шесть хирургов из Лондона, но ни один из них не удостоился такой чести. Считают все же, что если бы Лесток не был хорошим специалистом, если бы он являлся шарлатаном, ловко прикинувшимся знающим медиком, его непременно бы разоблачили. Сам Петр I обладал немалыми познаниями в медицине, особенно в хирургии, бывало, лично производил операции и не отказывался от случаев собственноручно пускать кровь и выдирать зубы.
Карьера Лестока в России сложилась более чем удачно при жизни Петра I. Но и после смерти царя, благоволившего к своему лейб-хирургу, ловкий ганноверец сумел удержаться на поверхности и в бурные дни правления Меншикова, и при «верховниках» — Верховного тайного совета, по существу правившего в России несколько лет до воцарения Анны Иоанновны.
Остался он при дворе и с началом царствования Анны Иоанновны, исполняя должность лейб-хирурга при цесаревне Елизавете Петровне. Подле нее он задумал и выносил свой план: дочь Петра должна «восприять отеческий престол». В случае успеха пятидесятилетний Лесток лелеял себя надеждой получить новые должности и титулы, не говоря о золотом дожде, который польется на него. Ради личного преуспеяния и трудился неутомимый лейб-хирург над осуществлением плана переворота.
Время было выбрано благоприятное. Новая правительница, восприняв любовь своей покойной тетки Анны Иоанновны к увеселениям, беззаботно наслаждалась маскарадами, балами и балетами. И на все предостережения о том, что ей и ее сыну грозит опасность, не обращала внимания, так как не могла и не хотела поверить, что ее двоюродная тетка и кума станет что-либо против нее замышлять. Беспечность дорого обошлась ей и ее сыну.
Была полночь, когда лейб-хирург вошел в комнату Елизаветы и доложил, что все готово. Дочь Петра стояла на коленях перед иконой и молилась. Рядом с ней осеняли себя крестным знамением другие заговорщики. Лесток услышал, как тихим голосом цесаревна дала обет — упразднить смертную казнь, если Богу будет угодно способствовать осуществлению ее замысла.
Елизавета поднялась и, почти не помня себя от волнения, вышла со всеми на крыльцо, где ждали двое саней. В первые села Елизавета, Лесток и другие главные зачинщики. Сани тронулись в сторону Преображенского съезжего двора.
В отличие от цесаревны да и некоторых других участников заговора Лесток сохранял удивительное спокойствие. Его хладнокровие и находчивость проявились и тогда, когда дежурный барабанщик, увидев знатных гостей, готов был забить тревогу.
Лесток проворно выскочил из саней и тотчас распорол кинжалом барабанную кожу. Этот небольшой хирургический надрез позволил без шума арестовать дежурного офицера. После чего Елизавета Петровна предстала перед толпой гренадеров. Восхищенные тем, что к ним обратилась сама дочь великого Петра с просьбой поддержать ее, они дружно прокричали в ответ: «Да здравствует матушка императрица Лисавета Петровна!»
Поддела было сделано. Гренадеры дружно присягнули новой царице. Лесток был доволен — все шло гладко. Во главе эскорта из двухсот новых приверженцев Елизавета и ее сподвижники направились к Зимнему дворцу. Здесь Лесток столь же ловко повторил операцию с надрезом барабанной кожи. Дворцовая охрана, как и гренадеры лейб-гвардии, с готовностью присягнула Елизавете. Тем временем Лесток с тридцатью гренадерами арестовал правительницу со всем ее семейством, в том числе и низверженным императором Иоанном VI Антоновичем. Затем всех их доставили во дворец Елизаветы Петровны и разместили в разных комнатах.
Наутро следующего дня Россия узнала о том, что престол заняла «законная» государыня. Пушечная пальба, прозвучавшая по этому поводу над городом, радостно отдавалась в сердце Лестока, назначенного в тот же час лейб-медиком двора. Последовали и другие назначения и награды участникам переворота. Не забыли, однако, и о тех, кто в результате его оказался низвергнут. Прежде всего было дано указание уничтожить все следы краткого правления Иоанна. Запрещалось упоминать его имя, бумаги и документы, где оно встречалось, подлежали сожжению; были изъяты из обращения монеты с изображением свергнутого ребенка-императора.
Вместе с тем новая владычица милостиво объявила, что повелевает «всю Брауншвейгскую фамилию вместе с Иоанном отправить в их отечество с надлежащею честию и с достойным удовольствием, предавая все их предосудительные поступки крайнему забвению». Поначалу действительно принц Антон Ульрих, его жена Анна Леопольдовна, император Иоанн VI и сестра его Екатерина были отправлены в Ригу. Здесь, однако, их догнало распоряжение задержать и впредь, до указа, содержать под строжайшим надзором. С этого момента с бывшей правительницей и ее мужем стали обращаться как с государственными преступниками. Было запрещено допускать кого-либо беседовать с ними, получать и отсылать письма.
Что побудило изменить ранее торжественно произнесенное обещание?
Видимо, Елизавета Петровна, спохватившись, поняла, какую угрозу ее трону будет представлять бывший император, окажись он на свободе. К тому же распространился слух, будто узники дважды пытались бежать: однажды, переодевшись в крестьянское платье, другой раз якобы на корабле. Тогда еще более усилили надзор за ними, запретив прогулки далее крепостного сада.
Но вот уже не слух о бегстве, а действительная попытка заговора в пользу свергнутого императора не на шутку встревожила царицу.
Не прошло и семи месяцев после переворота, как летом 1742 года был открыт заговор — первый в ряду последующих, в пользу Иоанна VI при его жизни. Участники заговора, их были трое — камер-лакей Турчанинов, прапорщик Преображенского полка Ивашкин и сержант Измайловского полка Сновидов, — замыслили умертвить Елизавету Петровну и герцога Голштинского, ее племянника (будущего императора Петра III) и возвести на престол низложенного Иоанна Антоновича. Они утверждали, что Елизавета прижита якобы вне брака и потому является незаконной дочерью Петра I. С заговорщиками скоро расправились: высекли кнутом и сослали в Сибирь, вырвав язык и ноздри у главаря, а у остальных — только ноздри.
Случай этот породил при дворе «страшную боязнь и тайное смятение», вплоть до того, что императрица опасалась спать одна и проводила ночи в обществе нескольких приближенных, а отсыпалась днем, когда, как ей казалось, она была в безопасности.
Ровно через год вспыхнуло так называемое «лопухинское дело» снова в пользу Иоанна Антоновича. На сей раз вдохновителем заговора был австрийский посланник маркиз Ботта. В числе участников оказался подполковник Иван Лопухин, заявлявший, как установило следствие, что, мол, через несколько месяцев будет перемена, намекая тем самым на возвращение низложенного Иоанна Антоновича. «Рижский караул, который у императора Иоанна и у матери его, — говорил он, — очень к императору склонен, а нынешней государыне с тремястами канальями ее лейб-компании что сделать?» А посему «перемене легко сделаться», тем паче что король прусский поможет и маркиз Ботта «императору Иоанну верный слуга и доброжелатель».
«С пристрастием» проведенное следствие выявило тринадцать русских участников заговора и одного иностранца. Замешанными оказались и две женщины — первая статс-дама Наталья Федоровна Лопухина и графиня Анна Гавриловна Бестужева, известная красавица. Обеих их высекли на Сытном рынке при народе, в кровь рассекли тело, тянули клещами языки изо рта.
И хотя вся вина подсудимых состояла, видимо, лишь в неосторожных высказываниях, расправились с ними скоро и жестоко: высекли кнутом, урезали языки, сослали в Сибирь. Что касается Ботты, то его по распоряжению австрийской императрицы Марии-Терезии посадили в замок Грац, где содержались государственные преступники.
Не успел пройти у Елизаветы Петровны страх, охвативший ее в связи с этим заговором, как новые тревожные слухи лишили сна императрицу. Доносили, что в Кенигсберге некий Штакельберг таинственно намекал на возможность в России новой революции. С юга, из Малороссии, тоже стекались донесения о разговорах, будто в столице существует сильная группа в пользу сверженного императора.
Требуются крутые меры, чтобы удержать власть в руках, нашептывали царице. Необходимо обезопасить трон, настаивал Лесток и предлагал крепко-накрепко заточить бывшего императора и его семью где-нибудь в глубине России, упрятать куда-нибудь подальше и содержать в строгой тайне.
И Елизавета принимает решение перевести арестантов в крепость Дюнамюнде, затем следует новое распоряжение: отправить всю семью в Раненсбург — городок под Рязанью. Но и отсюда, кажется императрице, они могут угрожать ее трону. И следует новый указ. Осенью 1744 года узников переводят в Холмогоры, под Архангельском. В здешнем остроге и суждено было провести семейству остальную часть жизни. Здесь вскоре скончалась Анна Леопольдовна, оставив вдовцом отца пятерых детей. Антон Ульрих провел в заключении тридцать лет и умер глубоким слепым старцем. Дети его — две дочери и двое сыновей — были в 1780 году отпущены во владения их тетки, королевы датской Юлианы Марии. Остаток дней своих они прожили в городе Горзеисе, где и похоронены на местном кладбище. Иная участь, еще более горькая, суждена была их старшему брату Иоанну.
Агент тайной канцелярии
Страх быть низложенной в результате заговора неотступно преследовал Елизавету Петровну. Заняв престол с помощью силы, она как бы ждала ответной меры. Тем более что все еще существовал низвергнутый ею реальный претендент на российский престол, поощряя пылкие головы предпринять что-либо для его освобождения.
Новая подобного рода попытка могла произойти в 1749 году. Распространилось известие, что при дворе раскрыт заговор. Его многочисленные участники ставили своей целью, когда умрет Елизавета Петровна, арестовать наследника Петра Федоровича и его жену Екатерину и возвести на престол законного императора Иоанна Антоновича.
В публике то и дело возникали разного рода слухи о судьбе Иоанна. Будто, вопреки всем предосторожностям, мальчик в двенадцать лет узнал о себе правду от одного из солдат, охранявших его темницу. В другой раз он якобы с помощью какого-то монаха пытался бежать за границу. Судачили о том, что императрица назначила наследником престола не Петра Федоровича, а Иоанна Антоновича. Иные договаривались до того, что утверждали, будто царица одно время предполагала вступить в супружество с Иоанном и тем самым уничтожить возможность всякого рода восстаний и заговоров в пользу низложенного императора.
Все эти слухи раздражали и злили царицу, побуждали принимать особые меры предосторожности. Так, тюремщикам, приставленным к узнику, содержащемуся с самого начала заточения отдельно от родителей, сестер и братьев, была вручена особая инструкция. Согласно ей, офицерам, находившимся при Иоанне, вменялось умертвить узника в случае попытки освободить его из заключения. Существование подобной инструкции — важный факт, способный объяснить многое в дальнейших событиях. А они развивались следующим образом.
Умерла Елизавета Петровна, российский престол занял Петр III. Многие вельможи, сосланные при покойной царице, были возвращены ко двору, им вернули титулы и поместья. Только в жизни Иоанна Антоновича все осталось без перемен. Правда, по некоторым данным, новый император намеревался отправить его на родину отца, в Германию; поговаривали даже, что Петр III мечтал усыновить Иоанна и назначить наследником. Но ничего подобного не произошло. Все, на что решился молодой царь, — это посетить царственного узника в его заточении, не раскрывая перед ним свою особу. К тому времени Иоанна Антоновича, прожившего в Холмогорах под именем Григория двенадцать лет, скрытно перевезли в Шлиссельбургскую крепость. Здесь и состоялось тайное свидание царствующего императора с царственным узником. Но кроме царя, как и прежде, никто не смел видеть арестанта. Однако чем был вызван перевод узника из одной тюрьмы в другую? Тому были особые причины.
Дело в том, что с некоторых пор на находившегося в заключении бывшего российского императора стали делать ставку в своей политической игре соседи России Австрия и Пруссия. Нет сомнения, например, что Ботта действовал отчасти по указанию своего правительства. Особые планы связывал с Иоанном и Фридрих II. Можно предположить, что русское правительство располагало данными о том, что прусский король готов поддержать переворот в пользу Иоанна VI.
Если учесть остроту тогдашних политических отношений между двумя странами, к тому же находившимися в состоянии войны, намерение Фридриха не покажется таким уж наивным и неосуществимым. Видимо, в Петербурге учитывали такую возможность. Чтобы обезопасить себя на этот счет, захватить инициативу, выведать замыслы и переиграть политического противника, в России разработали хитроумный план.
Среди бумаг канцелярии тайных розыскных дел находится дело о тобольском купце Иване Васильевиче Зубареве. Приключения этого авантюриста не только выделяются сложными и запутанными обстоятельствами, но и в известном смысле превосходят многие необычные судьбы, которыми так было богато тогдашнее время.
Однажды, в декабре 1751 года, Елизавета Петровна вышла на крыльцо Зимнего дворца, собираясь отправиться в Царское Село. В тот момент, когда царица начала спускаться по ступенькам к карете, в ноги ей бросился человек в простом армяке и подал доношение. Это был Иван Зубарев, прибывший в столицу с важным открытием. В доношении говорилось о серебряных и золотоносных рудах, якобы добытых в известных просителю местах. Царица приказала рассмотреть дело Зубарева. Образцы руд, которые он представил, были переданы на экспертизу в три учреждения. Часть образцов попала в лабораторию к Ломоносову. Он один лишь высказал мнение, что образцы «все содержат признак серебра». Остальные эксперты категорически это отрицали. Рудознатца заподозрили в шарлатанстве. Сам Ломоносов не исключал своей ошибки из-за несовершенства инструментов, которыми пользовался. Предположив, что тобольский купец намеревался всучить фальшивые руды и действовал со злым умыслом, его посадили в крепость. Тут он объявил «слово и дело», собираясь якобы поведать нечто особенное. Его перевели в Тайную канцелярию. Но уловка не помогла. Новые показания были признаны также ложными, а их автора приговорили высечь кнутом и вернуть в крепость. Тогда неудачливый золотоискатель задумал побег. План удался довольно легко. Попросившись в город без караула для покупки-де рубахи, арестант не вернулся, хотя ранее обычно исправно возвращался в подобных случаях.
Вскоре Зубарев объявился не дальше как в Берлине, где потребовал доставить его к самому королю. Благодаря Манштейну, бывшему прежде на русской службе, ему удалось встретиться с принцем Брауншвейгским, братом заточенного в Холмогорах Антона Ульриха, а следовательно, и дядей Иоанна Антоновича. Тот и представил россиянина самому Фридриху II. О своих истинных злоключениях Зубарев скромно умолчал, а выдал себя за беглого гренадера лейб-компании, проигравшегося в карты.
Видно, лжегренадер неплохо исполнял свою роль, ему поверили. Мало того, предложили выполнить секретное и ответственное поручение. Впрочем, не сам ли Зубарев навел на мысль Фридриха и его приближенных доверить ему исполнение плана, возможно им же самим и предложенного? В чем, однако, заключался этот план?
Зубареву предстояло вернуться в Россию, добраться до Холмогор и передать Антону Ульриху и его сыну Иоанну, что в Архангельск будет снаряжен корабль, якобы купеческий. На нем заключенные смогут бежать. Причем для обеспечения побега Зубарев должен был взбунтовать раскольников в пользу Иоанна, затем подкупить солдат и вывести узников из Холмогор. В Берлине, по всей видимости, серьезно готовились к этой акции. Зубарева представили капитану будущего «купеческого» судна, выдали тысячу червонцев для подкупа стражи и снабдили паролем, который показал бы холмогорским арестантам, что он действует от имени их родственников.
Для поощрения самого беглого гренадера его произвели в полковники и обрядили в пышный мундир. Скоро, правда, с ним пришлось расстаться — щеголять по русской земле в парадной блестящей форме было опасно. Но и без нее дорога оказалась несладкой. По пути на родину его ограбили, пришлось спасаться бегством, скитаться, прятаться. Наконец прусского шпиона изловили и доставили в ту самую канцелярию тайных розыскных дел, где ему уже довелось бывать.
На допросе неудачник золотоискатель, лжегренадер и псевдополковник сознался и дал подробные показания. Благодаря ему в Петербурге стали известны планы прусского короля насчет освобождения Иоанна Антоновича. Невольно тобольский купец оказал важную услугу царскому двору. Впрочем, действительно ли она была такой уж невольной? А что, если Зубарев выполнял лишь особое задание и был специально заслан в Берлин с целью выведать намерения прусского короля?
В самом деле, многие обстоятельства, связанные с его бегством и пребыванием в прусской столице, кажутся странными, как и смерть в тюрьме, где он, видимо, был отравлен. Но в том-то и дело, что и этого не было. Просто-напросто его смерть инсценировали, заменив другим, может быть, уже мертвым заключенным. Куда же девался тогда подлинный Зубарев? И почему понадобился весь этот спектакль? Для того, чтобы сохранить жизнь человеку, оказавшему важную услугу трону.
Легко предположить, что в тайну операции посвящены были немногие, поэтому Зубарева часто рассматривают как настоящего шпиона, проникшего в Россию со специальным заданием прусского короля. Тем более что следствию, надо думать, было дано секретное указание вести дело своим порядком, не раскрывая истинной подоплеки.
В связи с этим напрашивается предположение: не был ли Зубарев, оказавшийся впервые в застенках Тайной канцелярии, выбран для выполнения особого задания? Для него это означало выход на свободу. Он соглашается. Следует инсценировка побега. Выполнив задание, возвращается, чтобы через некоторое время навсегда исчезнуть. Но не умереть.
Историку М. Громыко удалось обнаружить в фондах Тюменской воеводской канцелярии и Тобольской духовной консистории документы о некоем отставном поручике Иване Васильевиче Зубареве, проживавшем в шестидесятых — восьмидесятых годах в Тобольской губернии. Что это, спрашивает ученый, совпадение, и только? Возможно. Но вместе с тем слишком много фактов заставляют думать, что Иван Васильевич Зубарев, якобы умерший в тюрьме, и поручик Иван Васильевич Зубарев, вынырнувший в Сибири через несколько лет, — одно и то же лицо.
Смерть Зубарева могла быть инсценирована в Тайной канцелярии, пишет М. Громыко, а сам он награжден чином, выпущен тайно и водворен в сибирской глуши. Это возможно только в одном случае: если в Пруссии он действовал по поручению властей, если поездка в Берлин нужна была как предлог для жестоких мер против возможного претендента на престол — Иоанна Антоновича. И дальше следует важное наблюдение: ведь показания И. В. Зубарева о прусском плане похищения Иоанна Антоновича были даны 22 января 1756 года, а 23 января (то есть немедленно, без затрат времени на обсуждение важной новой информации) послан указ начальнику караула в Холмогорах (написан рукой графа А. И. Шувалова, начальника Тайной канцелярии, и подписан Елизаветой): тайно отдать Иоанна Антоновича специальной команде для перевода в Шлиссельбург и продолжать создавать видимость содержания узника по-прежнему в Холмогорах — вплоть до отправки отсюда ко двору регулярных рапортов о его состоянии.
Бесспорно и то, что обстоятельства мнимой смерти «колодника Ивана Васильева» (фамилия не упоминалась) были засекречены, как и само пребывание его в застенке держалось в глубокой тайне. Строго запрещалось любое общение с арестантом, в указе по этому поводу говорилось: «не выспрашивать и разговоров никаких ни о чем с ним не иметь».
Такая секретность требовалась для того, чтобы исключить утечку информации о том, что Зубарев был агентом русского двора и действовал по его плану. Больше того, в Пруссию было направлено письмо от имени Зубарева. Тайная канцелярия рассчитывала выловить в Архангельске тех, кто явился бы за холмогорскими узниками.
Гипотеза эта тем более не покажется странной, если обратиться к истории другого заговора — последнего в ряду ему подобных, составленных в пользу Иоанна Антоновича при его жизни.
Шлиссельбургская нелепа
Несмотря на тщательные предосторожности и суровые распоряжения содержать Иоанна Антоновича в строжайшей тайне, следы его замести не удалось. Всякий, кто хотел и почему-либо интересовался таинственным узником Шлиссельбургской крепости, мог без особого труда узнать о нем. Знали даже о том, что кто-то намеревается освободить «безымянного колодника», о чем свидетельствовала сама Екатерина II, к тому времени занявшая российский престол, причем тоже путем дворцового переворота. В одном из своих писем, имея в виду непрекращавшиеся покушения в пользу Иоанна Антоновича, она засвидетельствовала: «с святой недели много о сем происшествии почти точные доносы были».
Надо полагать, что эти тревожные известия весьма беспокоили императрицу, занявшую престол с помощью заговора и теперь, естественно, больше всего опасавшуюся, как в свое время и Елизавета, аналогичной ответной меры со стороны претендентов на власть. Первым из таких претендентов по-прежнему оставался Иоанн Антонович. Пока жив Иоанн VI, не быть спокойствию на Руси. И царица замыслила раз и навсегда избавиться от беспокойного узника.
Выдающийся русский критик и историк В. В. Стасов в своем неопубликованном исследовании «Брауншвейгское семейство» высказал еще более ста лет назад любопытное предположение. Труд этот, видимо, потому и не увидел свет, что в нем содержалась дерзкая для того времени мысль о причастности императрицы к убийству царственного узника.
Следует, однако, вкратце напомнить, что произошло в Шлиссельбургской крепости 5 июля 1764 года.
В этот день подпоручик Смоленского пехотного полка Василий Мирович, находившийся в карауле Шлиссельбургской крепости, предпринял попытку силой освободить Иоанна Антоновича. Взбунтовав команду и арестовав командира, он бросился к Светличной башне, где содержался «безымянный колодник» под охраной специальной стражи во главе с офицерами Власьевым и Чекиным. Здесь бунтовщика встретили ружейным огнем. Мирович приказал солдатам ответить залпом. Завязалась перестрелка, атаковавшие стали готовить к стрельбе пушку. Тогда офицеры, приставленные к узнику, видя безвыходность своего положения, решили действовать в соответствии с инструкцией, той самой, которая существовала еще во времена Елизаветы и была возобновлена при Екатерине. Согласно этой инструкции охране вменялось в случае попытки освободить Иоанна Антоновича умертвить его.
Когда Мирович ворвался в каземат, перед ним на полу лежал труп молодого человека. Это был Иоанн Антонович. Так закончилась, по словам самой Екатерины II, «шлиссельбургская нелепа».
Мирович и солдаты, обманом вовлеченные в авантюру, предстали перед судом. Остальных прямых сообщников у него не оказалось. Правда, по показаниям Мировича, один такой заговорщик существовал — поручик Ушаков. Но накануне осуществления заговора он неожиданно утонул, и Мирович остался один. Это казалось по меньшей мере странным. И еще современники строили всякого рода предположения и догадки. В числе сомневающихся был и барон Черкасов, член специальной комиссии, занимавшейся разбором дела Мировича. Он подал письменное мнение следующего содержания: «Мне невероятно, чтоб Мирович не имел сообщников в своем злом умысле, кроме Аполлона Ушакова». Это мнение Черкасова произвело сильное волнение в собрании. На заседании выступил сенатор Петр Иванович Панин (брат Никиты Ивановича и бывший покровитель Мировича), клонивший к тому, чтобы Мировича не пытать, так как из дела достаточно уже видно, что у него сообщников, кроме Ушакова, никого не было и ни о каких внушителях не может быть и речи.
Вечером 15 сентября тело Мировича, оставленное на позорище народу в продолжение целого дня, было сожжено вместе с эшафотом. В тот же самый день трех капралов и трех рядовых, помогавших Мировичу, прогнали на том же обжорном рынке сквозь строй перед тысячью человек десять раз и сослали на каторгу. Подпоручика князя Чефаридзева лишили чинов, посадили в тюрьму на шесть месяцев, потом отправили рядовым в астраханский батальон. Придворного лакея Касаткина наказали на обжорном же рынке батогами и послали рядовым в Воронежский гарнизон.
Между тем значительные награды были даны офицерам Васильеву и Чекину. Сержант был произведен в прапорщики, унтер-офицер — в подпрапорщики, прочие четырнадцать рядовых — в капралы, причем каждый из последних получил по 100 рублей.
Уже тотчас после умерщвления Иоанна Антоновича много было споров о следующих двух вопросах: 1. Были ли у Мировича, кроме ничтожных людей, их выставленных, еще другие, более важные соучастники, которые подтолкнули его на совершение приписываемого ему одному предприятия, от которых он ждал поддержки. 2. Участвовала ли сама императрица каким бы то ни было образом в этом деле. Фактов, прямо и положительно отвечающих на эти вопросы, не имеется, но тем не менее нельзя обойти без внимания несколько событий и подробностей, которые в общей сложности приводят к убеждению, что на оба эти вопроса можно почти с полной достоверностью ответить утвердительно.
Не первому Мировичу пришло в голову освобождать Иоанна Антоновича и снова возвести его на престол. В письме к генералу Веймарну от 15 июня 1764 года Панин писал: «Ее величество напоминает и примечать изволит, что с великого поста более 12 раз по той же материи (об освобождении Иоанна Антоновича) разное вранье открылось, да и в месте перед ее отсутствием один гвардии прапорщик, выписанный ныне в армейские полки (о котором я с вашим превосходительством уже говорил), тоже врал слышанное на кабаках от самой подлости (то есть от простого народа), будто б принц Иоанн жил тогда в деревне под Шлиссельбургом, многие армейские штаб-офицеры и солдаты ему присягали, и много людей из города к нему туда на поклон ходят». О других разговорах в народе известно из показаний Мировича о придворном лакее Касаткине и рейтаре конной гвардии Торопченине, наконец, и из подметного безымянного письма, поднятого нищею старухою в самый день отъезда императрицы из Петербурга в Лифляндию.
Был ли Мирович связан с теми, кто все это говорил и писал, или нет, неизвестно, но все-таки можно предполагать, что он рассчитывал на каких-то помощников, во-первых, в артиллерийском корпусе, куда хотел привезти прямо из Шлиссельбурга Иоанна Антоновича (объяснения Мировича о причинах его надежд на артиллерийский корпус очень неубедительны и кажутся одной лишь отговоркой), а во-вторых, на тех, кто должен был подъехать к Шлиссельбургу ночью на лодках, для чего Мирович дал часовым приказ: пропустить прибывших на лодках. Объяснения Мировича и по этому поводу также совершенно неубедительны. Едва началось следствие над ним, открылось, что в ночь с 4 на 5 июля к Шлиссельбургу действительно подходили две шлюпки с вооруженными людьми с целью освободить Иоанна Антоновича.
Кто мог быть сообщниками или, скорее всего, подстрекателями Мировича? Уже тогда, когда совершилось убийство Иоанна Антоновича, мнения современников были разные. Одни полагали, что главным действующим лицом, душою всего предприятия была та самая знаменитая Дашкова, которая за два года перед тем задумала и совершила переворот, свергнувший Петра III и возведший на престол Екатерину II. Уже в 1763 году дружба между нею и Екатериною рушилась, императрица не выносила более ее смелого, самостоятельного ума и нрава. Английский посланник Букингем писал своему двору 20 июля 1764 года, то есть в первые дни после шлиссельбургской катастрофы: «Захвачены печатные прокламации, которые одобряют предполагавшуюся революцию и княгиню Дашкову подозревают в участии во всем этом. Очень вероятно, что, настойчиво требуя пытки Мировича, барон Черкасов и духовные члены верховного судилища имели в виду раскрытие виновности Дашковой, о чем тогда носилось много слухов, и что, говоря о постыдной для верховного суда роли комедиантов и машин, Черкасов разумел то, что все члены, не разоблачая Дашкову, были послушными орудиями в руках Панина». Можно было также предположить, что участие Дашковой осталось не раскрыто по делу вследствие могущественного влияния Панина, поскольку, по тогдашним всеобщим слухам, она считалась не только его незаконной дочерью, но и любовницей. Но, несмотря на все это, трудно вообразить себе, чтоб какое бы то ни было влияние Панина на императрицу в состоянии было перевесить в ней страх, ненависть к предприимчивой сопернице, чтоб он в то же время в состоянии был совершенно исказить дело и закрыть от императрицы настоящие его пружины. О сообщничестве Дашковой могла бы узнать императрица из множества источников, и тогда, конечно, никакой Панин не спас бы ее. Итак, предположение об участии Дашковой в этом деле навряд ли имеет основание.
Другое современное мнение было то, что план умерщвления Иоанна Антоновича произошел прямо от самой императрицы. В своей «Истории России» Герман, во всех своих показаниях опирающийся на свидетельства иностранных политических агентов в России, утверждает: «Уже во время волнений войска и народа 1762 и 1763 гг. все, кто при дворе имел сведения о делах, говорили (по словам одного дипломата, хорошо знакомого с тайнами того времени), что Ивану придется умереть». И еще: «Прежний великий канцлер Бестужев считал Панина исполнителем (в деле Мировичева предприятия) императрицыной воли».
Еще один иностранный автор, Гельбиг, почерпнул все свои сведения из рассказов современников, участвовавших в правительственных делах. «Умерщвление бывшего царя Иоанна дело Теплова. Этот несчастный принц, существования которого даже слабоумная и трусливая Елисавета не опасалась настолько, чтоб предать его смерти, показался слишком опасен двору Екатерины II. Все затруднение состояло только в том, каким бы образом от него отделаться. Тогда обратились к Теплову, которого злобный нрав был известен, и он действительно изобрел тот отвратительный план, которого исполнение удалось. Посредством Теплова устроили дело с одним офицером из полевых полков, которому обещали большие награды, если он произведет возмущение в пользу принца Иоанна. Этого офицера звали Мирович. Его семейство потеряло свои имения. Ему обещали многое, если он решится на восстание. Мирович был человек близорукий, которому крепко хотелось чего-нибудь добиться. Все было наперед устроено и направлено к предназначенному исходу. Потом Мировича, добровольного сдавшегося (зачем ему было бежать, когда уж наперед он был убежден в том, что никакого зла с ним не случится вследствие сильной руки тех, кто направлял его действие?), посадили под арест, отдали под следствие».
О подобных же предположениях современников рассказывают и Бюшинг, и неизвестный автор записки «История одного тюремного заключения». И действительно, многое в деле и следствии Мировича остается загадкой. Невольно возникают вопросы. Почему осталась без всякого дальнейшего расследования смерть Аполлона Ушакова, явно не утонувшего, а убитого, и притом не разбойниками, так как он не был ограблен? Почему даже не справились о ямщике, который его вез? Далее, почему не были допрошены, кроме Чефаридзева, те четверо, которые приезжали в Шлиссельбургскую крепость утром того дня, когда Мирович предпринял свою попытку? И главное, почему избавился от всякого наказания сенатский регистратор Бессонов, который столько же слышал и говорил об Иоанне Антоновиче, как и Касаткин и Чефаридзев, и даже именно пригласил Чефаридзева и других ехать в Шлиссельбург и там уговаривал коменданта показать им крепость, а между тем остался потом совершенно в стороне? Почему, наконец, Панин в декабре 1763 года просил Власьева и Чекина потерпеть еще недолго; терпеливо оставаться на своих местах «до первых летних месяцев» и тут же послал им, несмотря на близость обещанной отставки, по 1000 рублей каждому от имени императрицы? Быть может, вполне прав Герман, который/ хотя и не знал всех этих подробностей, но, основываясь на донесениях иностранных дипломатов, утверждает, что Екатерина предприняла летом 1764 года путешествие в Лифляндию «для того, чтоб своим отсутствием как бы показать, что она ничуть не причастна к катастрофе, которая без нее должна была случиться в Петербурге».[3] «Чтобы нечего было опасаться со стороны верности гвардии, — продолжает Герман, — она взяла с собою в путешествие к свите все самые горячие головы и людей, особенно уважаемых народом. Так что прочие офицеры, по большей части неопытные или изнеженные, всегда должны были опасаться находившейся в Лифляндии опытной армии с лучшими начальниками в главе ее».
Если допустить справедливость этих фактов, если считать, что план покушения Мировича исходил от самой императрицы и был приведен в действие Тепловым, тогда объясняется если не все, то многое. Становится понятным, почему 4 июля приезжал в Шлиссельбург сенатский регистратор Бессонов, служивший в канцелярии Теплова и уговаривавший трех своих знакомых ехать в Шлиссельбург, почему именно он упросил коменданта устроить прогулку по крепости и почему он потом расспрашивал Чефаридзева, о чем говорили между собой во время этой прогулки он с Мировичем. Понятно, почему Мирович без спросу пустил в крепость этих людей, а потом, по их отбытии, уже поговоря с Бессоновым и Чефаридзевым, в тот же день принялся за выполнение своего предприятия и, между прочим, велел часовым пропустить те шлюпки, которые приедут ночью. Не только понятны, наконец, но и вполне вероятны следующие факты, приводимые Гельбигом: «Во время следствия Мирович постоянно смеялся над допросами, потому что был убежден, что не только не будет наказан, но еще щедро награжден. Чтоб он никого и ничего не предал, его палачи с дьявольскою свирепостью не разубеждали его. Мирович продолжал хохотать, даже когда его вели на место казни и объявляли ему приговор…» Екатерина могла рассчитывать, что Мирович ее не выдаст. У него же было еще столько надежды впереди.
Добавить к сказанному можно, думается, только одно. Как и тобольский купец Иван Зубарев, подпоручик Василий Мирович, кстати родившийся в том же Тобольске, был использован в дворцовых интересах. Но в отличие от первого (если считать, что тобольский купец избежал смерти и жил в Сибири), Мирович был жестоко обманут и стал жертвой коварной интриги.
Можно представить, что ему, отпрыску разорившегося рода, внуку одного из главных приверженцев Мазепы, обещали за услугу трону вернуть имение, отобранное в свое время у его деда-предателя. Он так усердно и безуспешно добивался этого, так долго обивал пороги канцелярий и писал столько прошений, что в конце концов ему пообещали исполнить его просьбу, но с одним условием. Так Мирович стал игрушкой в руках придворных лицемеров и палачей, исполнителем их тайных замыслов.
* * *
Истории Мировича и посвятил свой одноименный роман Г. П. Данилевский. Помимо печатных источников, документов и воспоминаний писатель широко использовал и семейные предания. Его прадед, по отцу, как он писал, был земляком и товарищем по воспитанию Мировича. Прабабка писателя, бывшая фрейлиной при дворе супруги Петра III, спасла мужа благодаря своим знакомствам, когда в поместье сделали обыск после шлиссельбургской катастрофы. По словам Данилевского, она живо помнила и в семейном кругу подчас рассказывала как о Мировиче, так и о причинах его рокового покушения. Ее воспоминания, жившие в семье, дошли до писателя, благодаря чему, по его словам, вся так называемая основа романа (жизнь и смерть Мировича, как и многие подробности воцарения Екатерины и покушения Мировича) взята была им из воспоминаний прабабки и бабки.
В процессе работы над романом, знакомясь с источниками, писателю удалось уточнить некоторые факты заговора Мировича. Знал он, естественно, и о других заговорах в пользу Иоанна Антоновича. Но подробно касаться их в своем романе не стал, лишь бегло упомянул о «лопухинском деле» и приключениях Зубарева. Не использовал Данилевский и известной ему версии о том, что Мирович пал жертвой дворцовой интриги. Впрочем, если бы писатель повернул сюжет в эту сторону, его роман вообще не увидел бы свет. Как не была опубликована и работа В. В. Стасова. Труд, автор которого обосновывал гипотезу о том, что заговор Мировича был лишь комедией, разыгранной по сценарию Екатерины II, оставался в рукописи более ста лет. Только в наши дни появились некоторые из него извлечения.
Однако образ Мировича, каким его вывел Данилевский, далеко не идеальная фигура. В этом писатель также абсолютно верен истории и преданию. Его герой — самолюбивый и легкомысленный «армейский авантюрист», искатель карьеры — вполне мог бы принять предложение стать по существу убийцей шлиссельбургского узника.
ГЛАВНЫЙ ВОРОЛОВИТЕЛЬ, ИЛИ ХОЗЯИН «ВОРОНЬЕГО ГНЕЗДА»
Таинственный пассажир
В пасмурный осенний день к гостинице «Ангел» подъехал наемный экипаж. Дверца отворилась, показалась конической формы шляпа, затем нога, обтянутая шелковым чулком, в башмаке с пряжкой и высоким каблуком, наконец, туловище в длинном плаще. Пассажир, стараясь не испортить туалет, а главное, не сбить пышный, завитой буклями парик, осторожно выбрался на мостовую. Пока кучер сгружал саквояж, незнакомец направился к стоявшей у ворот громоздкой пассажирский карете, уже запряженной и готовой к отъезду. Трижды в неделю карета отправлялась отсюда по главному Северному тракту. Из этого можно было заключить, что только что прибывший джентльмен собирался, пересев в карету, совершить далекое путешествие.
— Мистер Голдсмит, — обратился к нему хозяин гостиницы, наблюдавший за посадкой, — покорнейше прошу вашу милость садиться, сейчас тронетесь.
Степенный господин, которого назвали мистером Голдсмитом, подобрав полы двустороннего суконного плаща, занял свое место. Под плащом виднелся темно-коричневый бархатный кафтан, надетый поверх камзола почти того же цвета. По внешнему виду это был средней руки торговец из Сити, отправлявшийся по коммерческим делам в провинцию. Так он и значился в списке пассажиров — Александр Голдсмит, коммерсант.
В действительности же под этим именем отправлялся в путь Даниель Дефо — известный тогда журналист, впоследствии автор знаменитого романа «Робинзон Крузо». Но что заставило его воспользоваться вымышленным именем? Поспешное бегство от кредиторов или угроза тюрьмы за очередной злой памфлет? Ни то и ни другое. Он ехал по делам государственной важности. Причем за последние два-три года ему не впервые приходилось совершать путешествия под разными именами. И каждый раз, принимая новое обличье, он исполнял роль с истинно актерским мастерством, ибо был по натуре лицедеем. Ему ничего не стоило «войти» в образ, который предстояло сыграть. Свойство это или, вернее, особый дар он использует и при создании литературных героев, легко перевоплощаясь в своих персонажей, невольно перенимая у своих героев голос, походку, манеры и привычки. Он словно бы разменивал свою душу на множество других, испытывая при этом величайшее наслаждение.
Так под разными масками Дефо колесил по дорогам страны, неожиданно появляясь то на востоке, то в западных графствах, то на севере, в Шотландии. В пассажирских каретах, наемных экипажах, верхом на собственной лошади проделал он немало сотен миль. Что ж, он любил движение, можно сказать, испытывал в нем потребность. Любил большие торговые города, многошумные ярмарки, дорожные тракты с почтовыми и пассажирскими каретами и судоходные реки с гружеными баржами. Простор равнинных путей он предпочитал горным тропам, а сухопутные путешествия — морским. На ровной земле, казалось ему, он стоял увереннее.
Погружаясь в толчею, смешиваясь с ней, он всякий раз испытывал иллюзию сопричастности с действительностью и всякий раз горько разочаровывался, оказываясь одиноким в сутолоке людей и дел.
Какую же миссию выполнял Дефо во время своих столь таинственных вояжей?
Здесь необходимо небольшое отступление в прошлое.
Однажды Дефо разразился злым и остроумным памфлетом против преследования пуритан, или, как их называли, диссидентов, то есть раскольников. Это было все равно что бросить пылающий факел в пороховой погреб, начиненный религиозными фанатиками — сторонниками господствующей англиканской церкви. Предав забвению «Акт о веротерпимости», принятый еще в 1688 году, они лелеяли мечту о своей Варфоломеевской ночи — кровавой расправе с инакомыслящими.
Мракобесы, которых Дефо зло высмеял в памфлете, грозили расправиться с его авторам. Некоторое время они, правда, не знали, кто же на самом деле написал эту бичующую сатиру, поскольку имя сочинителя отсутствовало. Но уже через месяц оно стало известно. И третьего января 1703 года последовал приказ об аресте Даниеля Дефо, «виновного в преступлении чрезвычайной важности».
Дефо не стал ждать, когда у дверей его дома появятся констебль со стражей. Тайком он покинул свое жилище и скрылся в лабиринтах столичных улиц. Вдогонку ему «Лондонская газета» опубликовала сообщение о награде в пятьдесят фунтов стерлингов тому, кто откроет, где прячется автор злополучного памфлета. Благодаря той же газете мы можем представить, как выглядел этот несчастный коммерсант и журналист Дефо. «Худощавый, среднего роста, — приводила его приметы газета, — около сорока лет; смуглый, волосы темно-каштановые, однако носит парик; глаза серые, нос крючковатый, подбородок острый». Как особую примету газета называла большую родинку-бородавку на щеке около рта — предмет постоянных насмешек его врагов, средоточие, как им казалось, его зловредных качеств.
Объявление о том, что разыскивается Даниель Фо, он же Дефо, было расклеено по улицам. Награду за выдачу опального памфлетиста обещали немалую, и неудивительно, что нашелся охотник заработать эти деньги.
В мае 1703 года Даниель Дефо был арестован и заключен в Ньюгейтскую тюрьму. Причем поначалу его поместили в общую камеру, где содержались те, кто не мог заплатить соответствующую мзду за пребывание в помещениях для привилегированных заключенных. Здесь в общих камерах спали на каменном полу вповалку, зимой дрожали от холода, летом изнемогали от жары. Ночь здесь нельзя было отличить от дня. Зато у тех, кто готов был оплачивать свой относительный комфорт, надзиратели вымогали кучу денег. Первый побор следовало внести за «удобные кандалы». Чем больше мог заплатить заключенный за «удобство», тем легче становились его кандалы. Тюремщики ловко пользовались этим обычаем и часто вновь прибывшего арестанта из богатых буквально опутывали цепями: ножными и ручными кандалами. Заплатив и освободившись от цепей, заключенный вскоре узнавал, что его расходы на этом не кончаются. Приходилось вкладывать монету в толстую лапу тюремщиков за то, чтобы погреться у огня, поесть не очень черствого хлеба, получить приличное одеяло, за то, чтобы тебя не избивали и не мучили. Деньги предоставляли возможность спать в лучшей части тюрьмы, где было хоть немного света и воздуха и где даже имелись кровати и столы. Жизнь тут обходилась очень дорого. Так, самая дешевая постель стоила два шиллинга в неделю. Свобода передвижения по тюрьме также зависела не от совершенного преступления, а всецело от кармана заключенного. Словом, кошелек был единственным средством выжить в этом кошмаре.
Такое положение отчасти проистекало из-за скаредности городских властей. Муниципалитет просто-напросто не платил тюремщикам жалованья, тем самым поощряя незаконные поборы и взятки.
В погоне за наживой тюремное начальство развернуло также продажу спиртного. «Синяя погибель», как называли джин — можжевеловую водку, — продавалась свободно, и повальное пьянство тоже приносило солидный доход тюремному начальству.
К счастью, друзья не оставили Дефо на произвол судьбы и помогли устроиться в тюрьме с относительным комфортом.
И тем не менее это была тюрьма. А вскоре последовал и приговор: содержание в Ньюгейте, доколе будет угодно ее величеству королеве. Это могло означать, что он обречен и на пожизненное заключение.
Но судьба вновь не оставила Дефо. Нашелся человек, который рассудил, что перо такого публициста может послужить правительству. Так думал Роберт Харли, всесильный вельможа и ловкий политик, решивший эксплуатировать талант Дефо в целях своей карьеры. Благодаря такому влиятельному покровительству он уже в конце года оказался на свободе. Скорей всего, ему пришлось за это согласиться на кое-какие условия, продиктованные спасителем.
В тот момент Дефо мог, как говорится, на радостях пообещать что угодно, лишь бы вырваться из тюрьмы. Но на воле от него очень скоро потребовали исполнения обещанного.
Лидер партии тори Роберт Харли, новоявленный его благодетель и крупный политический игрок, не намерен был оставлять векселя неоплаченными. Да и сам Дефо прекрасно это понимал. Тайный союз, заключенный с Харли, хотел он того или нет, возвращал его к беспринципной борьбе одинаково продажных партий — тори и вигов.
Теперь Дефо думал только о том, как лучше всего оправдать доверие и надежды своего освободителя Роберта Харли — спикера палаты общин, в будущем графа Оксфордского.
Скоро Харли стало ясно, что он не ошибся в выборе. Хитроумный и честолюбивый политикан не брезговал никакими средствами в борьбе за власть. Вот почему он по достоинству оценил предложение своего подопечного Дефо о создании шпионской сети по всей Англии и за ее пределами. Дефо разработал подробный план будущей секретной организации. Собственно, эту идею подал Дефо сам Харли, обмолвившись однажды в письме к нему, что если бы он был министром, то хотел бы знать, что говорят о нем. Дефо же поспешил развить и оформить ненароком брошенную мысль. После чего ему было поручено организовать особую службу, а попросту говоря — политическую разведку.
С присущей ему энергией Дефо принялся за дело. И вот сеть секретных агентов раскинулась по стране. Едва ли стоит говорить, что сплести сеть осведомителей было делом нелегким. Потому-то Дефо и колесил по городам и весям, создавая такую разведку, как он сообщал Харли, которой еще никогда не знала Англия. Через некоторое время он с гордостью доносил своему патрону: «Мои шпионы находятся повсюду».
Нередко и ему самому приходилось выступать в роли простого агента. На постоялых дворах и в тавернах он прислушивался к разговорам простолюдинов, в кофейнях и клубах, где собирались политические деятели, выявлял настроение влиятельных особ. В его обязанности входило также предотвращать тайные заговоры, в частности направленные против объединения Шотландии с Англией. Выполняя это задание, он почти три года прожил в Эдинбурге под фамилией Голдсмит.
Хотя послания и были зашифрованы, он соблюдал величайшую осторожность и всякий раз подписывал их разными именами.
Случалось, что его собственные агенты, не подозревая в нем своего шефа, доносили на него в «центр» как об опасном субъекте. И они имели на то основания: маскируясь, Дефо изображал противника правящей партии тори — партии крупных и средних землевладельцев.
В газетах он яростно нападал на представителей этой партии, за что его не раз пытались привлечь к суду. Однажды Дефо заподозрили в том, что он автор очередного ядовитого пасквиля на палату общин. Казалось, не избежать ему вновь тюрьмы. Но, как обычно, на выручку поспешил всесильный Харли.
Сам же Дефо, изображая антиправительственно настроенного человека, не особенно пытался опровергать общественное мнение. Напротив, балансируя над пропастью, он был заинтересован в подобной репутации и всячески способствовал ее распространению.
Десять долгих лет Дефо оставался руководителем политической разведки. И даже тогда, когда Харли на время вынужден был оставить свой пост, он продолжал «по наследству» усердно служить новому министру. А позже, когда к власти пришли виги — партия торговой и промышленной буржуазии, — столь же усердно выполнять задания новых хозяев, приняв обличье противника их правления.
Чем можно объяснить эту деятельность Дефо? Конечно, здесь сработал страх перед угрозой тюрьмы, иначе говоря, чувство самосохранения. Необходимость расплачиваться за проявленное однажды малодушие: опрометчивое обещание верой и правдой служить коварному и беспринципному министру. А вырваться из его лап было не так-то просто. Но также безусловно и то, что Дефо был сыном своего времени — эпохи авантюристов, не брезговавших любыми средствами ради своего обогащения.
Деятельность Дефо была тщательно законспирирована, поэтому мы и сегодня очень мало знаем о ней. Осторожность, с какой он руководил подчиненными агентами, пользуясь шрифтами и тайнописью, его скрытая связь с Харли, которую, кстати, позже он начисто отрицал, отсутствие каких-либо в этом смысле денежных документов, где значились бы фамилия того, кому выделялись соответствующие суммы на оплату агентов и его самого, как, впрочем, и многое другое, остающееся и поныне невыясненным.
Что касается деятельности Дефо-журналиста, то тут мы располагаем более достоверными сведениями.
Одна из задач Дефо как руководителя политической разведки состояла в том, чтобы войти в доверие издателей торийских газет и журналов и выступать со статьями, смягчающими их антиправительственную направленность, выявляя заодно и авторов действительно оппозиционных сочинений. Ему, связанному с литературным миром, это не составляло особого труда. Дольше всего (почти целых восемь лет) Дефо подвизался в качестве такого замаскированного журналиста-агента «Мист джорнэл». И все годы издатель Мист питал к нему полное доверие, охотно публикуя на страницах своего журнала и выплачивая немалые гонорары. Но однажды случайно выявилось подлинное лицо Дефо, и маска оказалась сброшенной. Дело кончилось скандалом, и старый Мист бросился на своего ведущего сотрудника с обнаженной шпагой. Однако был обезоружен и ранен.
Случай этот наделал немало шума среди журналистской братии, среди тех, кто считал себя гражданином «Республики Граб-стрит».
«Республика Граб-стрит»
Принадлежал к ее подданным и Даниель Дефо. А это значило, что установления Граб-стрит были для него так же обязательны, как, скажем, для подсудимого установления Королевской скамьи — то есть решения суда по уголовным делам.
И действительно, «Граб-стритовское братство» — своеобразный, свободный мир — жило своими негласными законами и правилами. Это было братство лондонских журналистов, обитавших к северу от Сити, на Граб-стрит, в районе Мурфилдса. Место это, известное уже в XII веке, издавна заселяла беднота. Когда-то здесь было «великое болото», поросшее вереском, — отсюда и название «Мурфилдс». Да и наименование улицы Граб-стрит произошло от дренажной канавы, которая пролегала тут в старину.
Расположенная сравнительно далеко от центра города, за старой Лондонской стеной, в квартале Крипл-гейт, улица эта стала прибежищем диссидентов еще в XVII веке. Здесь, в удалении, а значит, и в относительной безопасности, они наладили издание запрещенной литературы. Злые сатирические памфлеты и антиправительственные брошюры разлетались отсюда по всему Лондону. Вот почему поначалу у лондонцев Граб-стрит ассоциировалась с местом, где создавались бунтарские сочинения. В этом смысле к 1700 году улица пережила, можно сказать, свой расцвет. Но постепенно она превращалась просто в приют журналистской братии. Здесь жили, говоря современным языком, мастера тривиальных сочинений, нищие литературные поденщики, поставлявшие свой ходовой товар книгопродавцам, являвшимся одновременно и типографами. На Граб-стрит издавалась литературная дешевка: книжонки и бойкие брошюры, рассчитанные на неприхотливого, малообразованного читателя.
И название улицы, заселенной творцами низкопробной пачкотни, стало нарицательным, чем-то вроде «Строчильного переулка», обозначением места жительства лондонских борзописцев.
Наемные граб-стритовские поденщики на потребу невзыскательному потребителю создавали бездумное развлекательное чтиво, заполняя книжный рынок поделками типа «Шестипенсовых острот», «Забавных историй», «Универсального весельчака», «Набитого дурака» и т. п. То, что Джонатан Свифт называл «хламом с Граб-стрит», опасаясь, как бы ненароком не приписали ему участия в «мелочной торговле умом» на этом рынке литературного мусора. Рожденные здесь пустопорожние писания в подавляющем большинстве были далеки от злобы дня, более того, сознательно избегали остроты и предназначались исключительно для дешевого увеселения. Современность выглядела в них безликой и оскопленной. Бездарных словоскребов и бумагомарак с Граб-стрит, литературных клеветников, авторов заранее оплаченных пасквилей высмеивали, о них прямо заявляли, что тут «поэты творят не ради славы, а из-за денег». Обитавших здесь стихотворцев и журналистов, по свидетельству современников, отличала одна характерная особенность — невероятная склонность к брани. Виски для них служили Иппокреной — источником вдохновения. Впрочем, оправдывая свое пристрастие к алкоголю, они утверждали, что проще и безопаснее пить вино, чем пользоваться водой, которая поступала прямо из Темзы по водопроводу, построенному в 1695 году и снабжавшему лишь центр и западную часть города.
Вблизи этой улицы родился и Даниель Дефо — на Фор-стрит, у северо-восточной границы Сити, в районе Смитфилд, где когда-то сжигали еретиков. Мальчишкой он добирался отсюда до Мурфилдса по улочкам-морщинам, избороздившим чело порочного города, менее чем за пять минут. Лондон был тогда не так уж велик, хотя в нем проживало шестьсот тысяч человек, и даже ребенок мог без особого труда пешком пересечь его и достичь окраин. Мимо церкви Св. Варфоломея, Скотопригонного рынка, по Ньюгейт-стрит и Сноу-хилл, мимо знаменитой тюрьмы, перейдя Олдергейт-стрит, Даниель оказывался на Ламбетроуд у Бедлама — дома для умалишенных. Под сумасшедший дом был приспособлен в 1547 году Вифлеемский монастырь после изгнания монахов из страны и конфискации их имущества, а в 1575 году он был переведен в новое здание в районе Мурфилдса. Посещение Бедлама, расположенного в приходе Сент-Джайлса, в ту пору рассматривалось как развлечение, одинаково доступное и взрослым и детям. Даже знатные дамы не стеснялись здесь появляться в дни, когда Бедлам был открыт для обозрения, и с откровенным любопытством разглядывали несчастных в специальные «окна для гостей».
Забредал маленький Даниель и во двор тюрьмы Брайдуелл, где в подземных погребах бывшего старинного замка содержали политических заключенных и вероотступников. А наверху, во дворе, окруженном высоким деревянным забором, публично пороли малолетних воришек. Крики их разносились окрест, оставляя зрителей абсолютно равнодушными к судьбе несчастных мальчишек. Экзекуция продолжалась до тех пор, пока судья, восседавший тут же за столом, держал молоток в воздухе. Чтобы заработать несколько ударов плетью, достаточно было стащить всего-навсего носовой платок или какую-нибудь другую мелочь вроде оловянной ложки.
У Граб-стрит и прилегавших к ней улочек были свои легенды, свои кумиры и тайны. Так, в начале XVII века тут венчался будущий лорд-протектор и диктатор Оливер Кромвель, в конце столетия здесь обитал великий автор «Потерянного рая» слепой Джон Мильтон (теперь улица носит его имя), а несколько позже в этом районе орудовал тоже «великий» Джонатан Уайлд.
Встреча у ворот тюрьмы
Всякий раз, когда Дефо проходил по Сноу-хилл, он невольно подымал голову и устремлял взгляд на фронтон арки над воротами Ньюгейтской тюрьмы. Там красовалась фигура Справедливости с повязкой на глазах. Одна рука, с весами, у нее была отломана, в другой, уцелевшей, она держала меч. Большей насмешки над обитателями тюрьмы нельзя было и придумать.
Слепая женщина с мечом вполне соответствовала английскому судопроизводству того времени. Законники предпочитали быстрее приговорить к жестокой каре, а не утруждать себя справедливым дознанием. «Только попади в лапы этих судейских париков из Олд-Бейли!» — говорил Дефо, не раз встречавшийся с законом и лично познавший его «беспристрастность».
Еще большей издевкой над заключенными выглядела у ворот тюрьмы статуя Ричарда Виттингтона, как бы приветствующая вновь прибывших и напоминающая о том, какое значение придавал ей знаменитый лорд — мэр столицы, рьяно пекущийся о порядке и восстановивший этот оплот закона в 1422 году, хотя эта самая большая тюрьма в Лондоне была известна еще в 1188 году, а может быть, и раньше. Не раз ее разрушали, много раз она сгорала, но ее вновь восстанавливали ради блага заблудших. Особенно величественный вид тюрьма эта приобрела после Великого пожара 1666 года, когда весь Лондон отстраивался заново. В последний раз, уже окончательно, тюрьму снесли в 1902 году.
Про эту главную тюрьму Англии говорили, что она плодит больше воров и мошенников, чем все притоны и разбойничьи вертепы страны. И действительно, тюрьма представляла улей, где роились преступники. Здесь замышлялись кражи и ограбления, сюда свободно являлись посланцы преступного мира, приносили монеты и слитки металла: фальшивомонетчики и здесь не сидели без дела. Воры-карманники тоже не теряли времени даром — тренировались в своем ремесле и давали уроки новичкам. Проститутки обучали грязному ремеслу молодых девушек, учили, как украсть часы или бумажник у зазевавшегося ротозея.
Для большинства из них дорога отсюда была одна — на «роковую перекладину». В этом смысле «Ньюгейтская обитель» служила своего рода пересыльным пунктом между судом и виселицей. В лучшем случае — ссылкой на каторгу.
Как мы знаем, за памфлет против преследования инакомыслящих Дефо ненадолго угодил в каземат. Но и этого срока оказалось достаточно, чтобы изнутри познакомиться с нравами и законами преступного мира. Позже он не раз посетит Ньюгейтскую тюрьму и суд в Олд-Бейли, но уже в ином качестве — как журналист, собирающий материал для своих очерков о нравах английской столицы.
Однажды Дефо вышел из ворот Ньюгейтской тюрьмы, где побывал по журналистским делам, и лицом к лицу столкнулся с Джонатаном Уайлдом. Хорошо одетый, в руках трость с серебряным набалдашником — для пущего авторитета, — с надменным и самоуверенным взглядом холодных, жестоких глаз, он производил впечатление важного джентльмена. Как обычно, он шествовал в сопровождении телохранителей.
Взгляды их встретились. Великий мошенник, укрыватель воров и в то же время доносчик и будущий великий писатель, а тогда известный журналист, чье злое и меткое перо бичевало общественные пороки и тех, кто способствовал их процветанию. Джонатан Уайлд был одним из них, поэтому Дефо давно испытывал к нему и его аферам особый интерес. Наблюдая и изучая не один год мир порока, он вникал в обстоятельства, породившие Уайлда и ему подобных. Особенно помогла ему в этом служба у Джона Эплби, владельца «Ориджинел уикли джорнэл» — еженедельного издания, специализирующегося на описании «признаний» и предсмертных исповедей преступников и других материалов об их деяниях.
Мистер Эплби, являвшийся также официальным печатником Ньюгейтской тюрьмы, имел доступ к отчетам и сведениям о заключенных там узниках. Этим же правом беспрепятственного посещения тюрьмы пользовался и сотрудник его журнала мистер Дефо. В течение шести лет он регулярно общался с ворами и бандитами, выслушивал их исповеди, записывал последние слова перед казнью. Затем обрабатывал этот материал и печатал в журнале. Иногда с согласия приговоренного описание его жизни, рассказанное им самим, выходило отдельным изданием, которое готовилось и набиралось заранее и поступало в продажу тотчас после казни.
Подобного рода литература пользовалась большим спросом. Ее жадно поглощали не только простые читатели, но и заключенные. Преступный мир, подобно Янусу, имел два лица: одного боялись и ненавидели, другим восхищались. Описывая со слов разбойников их похождения, «воровская» литература одновременно прославляла этих преступников как героев, чьи подвиги на большой дороге являли скорее пример для подражания, чем предостережение. И обычно тот, кто кончал жизнь на виселице, становился объектом восхищения, если «мужественно умирал».
К раскаявшимся питали отвращение, называли трусами и подлецами. Да и сами обреченные подчас не очень цеплялись за жизнь — они рождались и жили с мыслью, что рано или поздно им не миновать роковой перекладины, и на виселицу смотрели как на конечное место назначения. Вся их жизненная философия сводилась к одному: «Жизнь, хотя и короткая, должна быть веселой».
Короче говоря, виселица отнюдь не страшила, а «кавалеры удачи» вызывали восхищение своей хитростью, ловкостью, а то и богатством.
Связи Дефо с преступным миром, знание жизни лондонского дна, воровского жаргона заставляли многих недоумевать: откуда такая осведомленность? «Как откуда?! — отвечали всезнающие обыватели. — Ясно, что он сам причастен к грязным делишкам своих любимцев».
И стоило иным ворам, терроризировавшим по ночам улицы Лондона, позабавиться — выпороть стражника, отрезать нос запоздавшему прохожему или прокатить в бочке какую-нибудь дамочку, — как тотчас же по городу бежал слушок, будто и Дефо находился в числе бандитов.
Подчас клевета на Дефо так широко распространялась, что приходилось всерьез приводить доказательства своего алиби. Ему тем не менее мало верили и продолжали приписывать соучастие в воровских налетах и то, что он «сроднился со всяческим злом».
На самом же деле «кавалеры удачи» вызывали в нем жгучую ненависть. Он ненавидел даже тех из них, кому молва приписывала добродетели Робина Гуда — благородство и мужество, — скажем, Гамалиэля Рэтси, образ которого запечатлен в литературе XVI века. Про него ходили рассказы, будто он грабил лишь богатых. Если же ему случалось ненароком обидеть бедняка, он не только возвращал деньги, но и покупал корову в придачу. На деле же настоящий Рэтси частенько совершал жестокие преступления. На дорогах он орудовал в страшной маске, приводившей в ужас тех, кому судьба уготовила встречу с этим разбойником. Под стать ему были и такие, как знаменитый Дик Терпин, воспетый в балладах и окончивший дни на «крючке», то есть на виселице; и уличный грабитель Эдвард Бурнворс, и, конечно, Джек Шепперд — герой лондонской толпы.
Но такой, как Джонатан Уайлд — ловец и растлитель душ и исчадие порока, — был особенно ему ненавистен.
«Воронье гнездо»
Если бы в тот день, когда Дефо встретился у ворот тюрьмы с Джонатаном Уайлдом, он последовал за ним, то попал бы в трактир «Королевская голова». Заведение это располагалось в лабиринте улочек прихода Сент-Джайлса, где обитали герои лондонского дна. И кварталы, раскинувшиеся вокруг церкви Сент-Джайлса, называли не иначе как «Воронье гнездо» — царство нищих и бездомных бродяг, где держали «малину» воры и бандиты, орудовали фальшивомонетчики и скупщики краденого.
В этих трущобах процветали бесчисленные пивнушки, публичные дома и ночлежки, где за пенни любой нищий, бродяга или пьяница мог переспать ночь. Долгое время здесь, в Кок-Эли, на углу Фор-стрит и Уайт-Кросс-стрит, Джонатан Уайлд вместе со своей подругой Мэри Миллинер содержал под видом питейного заведения притон, кишащий уголовниками. «Черный жгут» и «Синяя погибель» — портвейн и джин — пользовались тут наибольшим спросом. Старое доброе английское пиво, клерет, пунш или херес, который так любил толстяк Фальстаф, посетители не употребляли, предпочитая крепкие «мужские» напитки. Сюда, в Кок-Эли, заглядывали завсегдатаи других лондонских притонов, удалой народ, промышлявший воровством и грабежом.
Над входом в «Королевскую голову» (так называл свое заведение Уайлд) красовалась вывеска, изображавшая женскую руку с чашкой кофе — опознавательный знак того, что таверна одновременно являлась и «храмом греха». Дела Джонатана Уайлда шли неплохо, если учесть, что его заведение славилось не только как бордель, но и было тайным складом краденых вещей.
С некоторых пор бывший «принц разбойников» — кличка, под которой он числился в списках Ньюгейтской тюрьмы, — вор из воров, совершивший свой первый выход «на великую сцену жизни» в 1682 году, порвал с воровским ремеслом и занялся более прибыльным бизнесом. Он жил в согласии с законом, дружил с властями, что не мешало, а скорее помогало ему содержать под видом таверны знаменитый притон.
Но вот времена изменились к худшему, укрывать краденое стало опасно. Согласно недавно принятому закону, это считалось уголовным преступлением. Виноватого ждала виселица. И Джонатан Уайлд, умный и хитрый мошенник, задумал план, как обойти закон и избежать кровавых лап мистера Кетча. Так называли всех палачей с тех пор, как на этом поприще четверть века подвизался Джек Кетч, имя которого стало нарицательным.
В чем же состоял план Джонатана Уайлда?
Он предложил такой порядок: всю добычу воры сдают ему одному. За соответствующий выкуп он возвращает награбленное владельцу, выступая в безобидной роли посредника.
Нельзя сказать, чтобы идея эта была такой уж оригинальной. Взимать выкуп с пострадавшего за награбленное у него же — до этого додумывались даже мелкие воришки. Но осуществить это в таких масштабах, в каких задумал Джонатан Уайлд, никто еще не отваживался. Что ему это удастся, в том сомнений не было. Все знали, если «принц разбойников» за что-нибудь берется, то можно быть уверенным в успехе.
Уайлд, как истый делец, отличался тем, что умел претворить идею в жизнь. Недаром про него говорили, что он был чрезвычайно изобретателен в составлении замыслов, искусен в изыскании способов осуществлять свои намерения и решителен в исполнении задуманного. Знали и то, что он никогда не довольствовался частью добычи, а предпочитал заполучить ее целиком. Его правилом было идти до конца, ибо, как он считал, многие погибали оттого, что зашли в мошенничестве недостаточно далеко. Знали также, что был он злопамятен и жесток, дьявольски коварен и лицемерен. «Сердце, — любил повторять он, — надлежащее место для ненависти, любовь же и дружбу носи на лице». Благодаря сочетанию способностей и пороков, хитрости и беспринципности ему и удалось занять заметное место в воровской иерархии.
Но что означал на самом деле его план в единоличном посредничестве между жертвой и грабителем?
По существу, Уайлд предлагал создать единую организацию для воров, иначе говоря, замыслил объединить разношерстных и тупых уголовников в хорошо дисциплинированный преступный мир. Кто же должен был возглавлять этот бандитский синдикат? Само собой, Джонатан Уайлд, ставший в этом смысле предтечей современных мафиози.
Вскоре он открыл своего рода посредническую контору на Кок-Эли. Теперь жертвы грабежа являлись к нему сами. Так, Джонатан Уайлд превратился в консультанта по пропавшему имуществу.
Однако, если бы Уайлд оставался всего лишь посредником между вором и ограбленным, было бы еще полбеды. Но в том-то и дело, что он не ограничился этим, а стал, как уже говорилось, предводителем огромной по тем временам организации лондонских воров и бандитов.
Ради осуществления своего замысла ему пришлось немало потрудиться. Впрочем, энергии у него было хоть отбавляй.
Прежде всего он предложил некоторые новшества: банда обучается определенной форме преступления, имеет свою зону действия и руководителя. В каждом округе должны действовать две-три банды, специализирующиеся на уличных кражах со взломом, на «ловле кроликов» — одурачивании простодушных провинциалов («ремесле», известном еще со времен Шекспира), на обмане и шантаже, убийствах и грабежах.
Сам Джонатан Уайлд отводил себе роль идейного вдохновителя. Предпочитая оставаться в тени, он давал указания, поставлял «идеи», разрабатывал планы.
Трудно сказать, насколько этот вдохновитель преуспел в осуществлении своих замыслов. Но если судить по тому, какой массовый размах приняли именно в то время грабежи и другие преступления, то можно сказать, что труды Уайлда не пропали даром. Не случайно как раз то время, когда в Лондоне промышлял Уайлд, назвали веком преступности. И даже самые кровавые законы не в состоянии были обуздать массу озлобленных, невежественных и жестоких людей. С безрассудством обреченных они бросались на прохожих, останавливали кареты, курсирующие между центром и пригородами, и грабили пассажиров среди бела дня. По ночам без вооруженных провожатых лучше было не показываться на узких и плохо освещенных улицах. Даже в центре Лондона днем нередко случались нападения. Бандиты врывались в дома на Пикадилли, в Гайд-парке, в Сохо. Поселялись в заброшенных домах шайками до ста человек. То и дело на улицах раздавались крики: «Хью энд край!» (что можно перевести как «Лови! Держи!»), когда все бросались преследовать вора. Это был, пожалуй, самый распространенный и древний способ борьбы с воровством — преступника ловили всем миром. Только к 1740 году судья де Вейль организовал нечто вроде уголовного сыска на Боу-стрит, превратив, однако, свою должность в настоящее золотое дно. А до тех пор функции полицейского в округе исполняли главным образом один-единственный констебль да престарелый ночной сторож. Первый был вооружен всего лишь длинной палкой, служившей и оружием, и символом власти, второй имел пику, фонарь и собаку. Жалованья констебль не получал и свою, по существу, общественную должность занимал всего год, после чего на его место заступал другой житель прихода. Шериф же в своем красном наряде и сержант с неизменной алебардой были редкими гостями тех районов, где процветал разбой.
Естественно, что польза от таких стражей порядка, как констебль и старик сторож, была весьма относительная. Хотя они и трудились в поте лица, несмотря на то что их работа, как заметил современник, «не приносила ни прибыли, ни удовольствия, а была невыносимым трудом, часто абсолютно напрасным и непродуктивным».
В 1718 году парламентом был принят акт против тех, кто брал вознаграждение за возврат украденных вещей. По существу, эта мера была направлена непосредственно против Джонатана Уайлда, к тому времени ставшего достаточного богатым, а главное, знаменитым на весь Лондон. Пришлось менять технику бизнеса, чтобы снова обходить закон. Уайлд закрыл свою контору и отныне связь с клиентами осуществлял через посредника.
Сменив в который раз технику воровского бизнеса, Уайлд переменил и место жительства. Он поселился в шикарном особняке на Олд-Бейли. И в этом была особая причина. Наглость его не знала предела: на этой же улице находился знаменитый суд Олд-Бейли, где теперь Джонатан Уайлд был частым посетителем.
Зачем, однако, понадобилось Уайлду бывать в суде? Казалось, наоборот, он должен был бы всячески избегать его. Но нет. Уайлд являлся туда как свой человек.
Его власть над преступным миром была огромна. Он не терпел, когда кто-либо пытался обойтись без его покровительства и оказывал неповиновение, ненавидел тех, кто стоял на его пути. Непокорные и строптивые попадали в его записную книжку — это означало, что человек обречен. Рано или поздно намеченная жертва должна была предстать перед судом. Каково же было изумление подсудимого, когда в качестве свидетеля обвинения на суде выступал сам Уайлд. За каждую жертву он получал от казны сорок фунтов стерлингов. Осечки с его стороны быть не могло — лжесвидетельство каралось как уголовное преступление. Поэтому если недоставало улик, Уайлд подкупал других свидетелей, если и этого было мало, мог купить любого присяжного, а то и самого судью — многие из них превратили правосудие в прибыльное дельце. И вообще «мерзавец в мантии судейской», по словам Д. Свифта, — экземпляр, часто встречавшийся в то время.
Своим вероломством Джонатан Уайлд превзошел многих подобных ему оборотней.
Очень скоро Уайлд приобрел славу «главного вороловителя». И действительно, в его власти, как он похвалялся, было повесить любого вора метрополии. Враги и сотоварищи пребывали в страхе, у публики же он имел репутацию полезного и непреклонного борца с преступностью. Всего по его доносам повесили сто двадцать человек. Некоторые из них во время процесса пытались рассказать, как Уайлд сам вовлек их в банду, но суд до поры оставался глух к подобным заявлениям. Сам же Уайлд всячески способствовал тому, чтобы его деятельность «главного вороловителя» получила широкую огласку. И нс проходило недели, чтобы в «Уикли джорнэл» или в «Дейли корант» не появилось заметки о новом аресте при содействии Уайлда.
Начинались такие сообщения обычно так: «В харчевню вошел констебль и с ним несколько понятых с Уайлдом во главе…» Сообщения эти производили сенсацию, особенно если «улов» был таким, как весной 1724 года, когда Уайлд задержал целую банду из ста грабителей и отправил всех в тюрьму. «Никто лучше его не знал, как выследить человека, и никто этим так не наслаждался, как он», — писал Дефо, пытаясь постичь характер этого злодея. И в качестве методов его работы приводил случай с преследованием им Тимоти Дана и его дружков, убийц миссис Нэп. В этой истории Уайлда прельстило большое вознаграждение, обещанное тому, кто обнаружит негодяев.
Глухой ночью 1716 года пятеро разбойников напали на миссис Нэп и ее сына, когда они возвращались домой.
Джонатан немедленно занялся выяснением обстоятельств убийства. Ему потребовалось немного времени, чтобы по описанию установить членов банды. С помощью своего подручного, некоего Абрахэма, он арестовал участников преступления, которых судили и повесили. Но один из банды — Тимоти Дан — ускользнул. Однако Уайлд заключил пари с приятелями на десять гиней, что непременно поймает Дана.
И действительно, вскоре Дан заявил о себе. Прослышав о том, что Уайлд охотится за ним, он послал жену на разведку. Она была неосторожна и только на обратном пути заметила за собой «хвост». Когда стемнело, она, как ей казалось, благополучно избавилась от нежеланного провожатого. Не опасаясь, вошла в дом, где скрывался ее благоверный, но человек Уайлда наблюдал за нею. Чтобы не перепутать дом, он мелом пометил дверь и вернулся к Уайлду.
Утром Уайлд, Абрахэм и еще двое ворвались в дом, где прятался Дан. Через окно тот успел вылезти на крышу. Здесь его заметил Абрахэм и выстрелил, ранив в плечо. Дан свалился во двор, в него выстрелили еще раз, хотя убежать он не мог. Так Джонатан выиграл свои десять гиней, а Тимоти был повешен. В качестве вознаграждения Уайлду полагалось еще сорок фунтов за содействие властям.
О жестокости Уайлда говорит и такой случай из его личной жизни. Однажды во время скандала со своей очередной сожительницей он в гневе поклялся, что «отметит ее за распутство», после чего выхватил шпагу, которую всегда носил при себе, и отрезал женщине ухо.
Воровка Молль
В последние дни января 1722 года в Лондоне появилась книжка с необыкновенно длинным, как тогда было принято, названием: «Радости и горести знаменитой Молль Флендерс, которая родилась в Ньюгейтской тюрьме…» Далее в заголовке говорилось, что героиня пережила немало приключений за свою бурную жизнь, несколько лет была содержанкой, пять раз замужем, двенадцать лет воровкой, наконец, восемь лет ссыльной. Фамилия автора отсутствовала, но сообщалось, что вся история записана со слов героини, скрывавшейся под вымышленным именем.
Анонимный автор (а им был не кто иной, как Дефо) пояснял в своем предисловии, что у его героини есть особые причины скрывать свое настоящее имя, потому что оно слишком хорошо известно в архивах и протоколах Ньюгейтской тюрьмы и суда в Олд-Бейли. Так что, мол, читатель пусть не рассчитывает на то, чтобы она назвала его.
Конечно, современники были заинтригованы. Они привыкли к тому, что граб-стритовские авторы знакомили их с жизнеописаниями подлинных персонажей, с похождениями известных разбойников, пиратов, авантюристов. Лондонские мещане, люди наивные, обожающие всякие приключения, особенно из жизни героев преступного мира или путешественников в далекие, таинственные страны, нередко самый что ни на есть фантастический вымысел принимали за описание реальных событий, рассказанных якобы от лица их участника.
Готовые поверить и в небылицы, они и путешествия Гулливера воспринимали как вполне достоверные. Словом, реальное существование тех, от имени кого велось повествование в таких книгах, ни у кого не вызывало сомнения. Не сомневались лондонцы и в том, что Молль Флендерс лицо подлинное. Если же она и назвалась вымышленным именем, то это вовсе не значит, что ее не существовало.
«Но кто в таком случае скрылся под этим именем?» — спрашивали любопытные. Охотников разрешить эту загадку было немало.
На сей счет строили различные предположения. Для порядка перебрали всех знаменитых воровок, в том числе и давно умерших, таких, как Барбара Спенсер, повешенная в Тайберне, и Мэри Прайс, она же Роджерс, которую сожгли на костре.
Но эти персонажи были слишком отдалены во времени и едва ли могли послужить прототипом Молль Флендерс, а тем более рассказать о себе автору. Тогда кто же поведал ему свою историю? Решили обратиться к более близким примерам.
В этот момент по Лондону распространился слух, что автор ставшего к тому времени весьма популярного романа (за год вышло три издания) встречался со своей героиней в Ньюгейтской тюрьме. Здесь будто бы он и записал со слов этой лондонской воровки историю ее жизни. Однако это были лишь слухи.
Но вот вскоре после выхода в свет книги появилась серия анонимных памфлетов, автор которых утверждал, что настоящая Молль Флендерс умерла в Гэлуэй в апреле 1722 года, где ее знали под именем Элизабет Аткинс.
Однако при ближайшем рассмотрении эти памфлеты оказались чистой спекуляцией и представляли собой не что иное, как вкратце изложенное содержание романа Дефо с добавлением некоторых настоящих имен, чтобы создать впечатление правдивости. Наиболее известным из этой серии (выходившей на протяжении нескольких лет) был памфлет «Непостоянство судьбы», где сообщалось имя наставницы Молль — Джейн Хэкэбаут. Лондонцы тотчас узнали в ней реальную Кэт Хэкэбаут, чье имя долгое время не сходило со страниц газет. Ее брат, разбойник Фрэнсис, был повешен в 1730 году, а сама она отправлена в ссылку год спустя. Считают, что У. Хогарт в своей знаменитой серии гравюр «Карьера шлюхи» изобразил эту самую Хэкэбаут. «А вы думали нет?!» — восклицал автор тогда уже появившейся поэмы о жизни Хэкэбаут — своеобразного жизненного комментария к этим гравюрам. Сочинитель поэмы не сомневался, что Молль Флендерс и Хэкэбаут — одно лицо.
В ту пору никому в голову не пришло обратиться к сообщениям газет того времени, когда Дефо работал над своим романом. А между тем если бы это сделали, то кое-что прояснилось бы в вопросе о том, кто же была Молль Флендерс на самом деле.
Летом 1720 года в уже известном нам журнале Эплби «Ориджинел уикли джорнэл», где сотрудничал Дефо, появилась небольшая заметка, написанная в форме письма. От имени некой «Молль», проживавшей на Розмэри-лайн, близ Ярмарки тряпья, в заметке рассказывалось о судьбе лондонской воровки-карманщицы, которая незаконно вернулась из ссылки, о том, как узнав об этом, ее шантажировал один человек, грозившийся выдать ее, если она не станет делиться с ним своей добычей.
Намек на шантажиста слишком прозрачен, чтобы не узнать Джонатана Уайлда. Конечно, речь шла о нем и его методах. Но кто написал записку и передал в журнал? Не рук ли Дефо это дело? Ведь тем летом ему частенько приходилось бывать в Ньюгейтской тюрьме, где он навещал своего редактора Миста, посаженного за долги. Надо ли говорить, что Дефо, сотрудничавший и в журнале Эплби, пополнял, как обычно, свою память фактами из жизни героев преступного мира. И ничего удивительного, что его внимание привлек рассказ рецидивистки Молль, интересный не только сам по себе, но еще и потому, что разоблачал методы ненавистного Джонатана Уайлда.
Тогда-то, можно сказать, и состоялась личная первая встреча автора и его будущей героини. Впрочем, не исключено, что Дефо и до этого приходилось встречаться с воровкой Молль. Возможно, он следил за ее судьбой, и она была своего рода корреспондентом, посвящавшим его в воровские тайны.
Ровно через год, 17 июня 1721 года, на страницах «Дейли джорнэл» вновь всплыло имя воровки Молль. Но теперь сообщалась и ее фамилия. «В пятницу Молль Кинг, — говорилось в заметке, — одна из знаменитейших воровок города, также известная как помощница при краже часов у дам, которые она снимает с пояса, водворена в свою старую резиденцию Ньюгейт».
Итак, известная на весь Лондон воровка по прозвищу Молль Кинг. Не здесь ли следует искать разгадку тайны прототипа Молль Флендерс? Но возможно ли в таком случае, проследить судьбу Молль Кинг по сообщениям газет и документам тех лет?
В номере «Дейли джорнэл» от 20 сентября 1722 года было помещено следующее сообщение: «Молль Кинг, известная преступница, прославившаяся тем, что крадет золотые часы у дам в церквях, за что ее несколько раз судили, недавно вернулась из ссылки, была опять схвачена и посажена в тюрьму Ныогейт». Два дня спустя аналогичная хроника появилась в «Уикли джорнэл сатердей пост». Не может не броситься в глаза сходство этих хроникальных заметок с тем отрывком из романа, где говорится о ловкости лондонской воровки, которая «была мастерица в краже товара из лавок, кроме бумажников, в вытаскивании золотых часов у дам из-за пояса; это последнее она проделывала с такой ловкостью, что с ней не могла сравниться ни одна женщина».
Вновь имя Молль Кинг промелькнуло на страницах «Бритиш джорнэл» в марте 1723 года. Похоже, что Молль Кинг работала на Уайлда. Это подтверждается двумя подлинными документами, имевшими самое непосредственное отношение к «главному вороловителю». После своего ареста он подал прошение об освобождении на том основании, что выдал правосудию начиная с 1720 года немалое число лиц, перечень которых прилагал. Молль Кинг числилась среди тех, кто вернулся из ссылки и снова был отправлен обратно. Фигурировала она и в его известном списке жертв, который он разослал присяжным перед судом, надеясь снискать их расположение.
Несколько месяцев спустя Молль Кинг снова объявилась в Лондоне и вместе с братом Ричардом Бердом принялась за старое. Попалась она при ограблении дома на Литтл-стрит, где похитила «различных вещей на сумму 50 фунтов», говорилось в обвинительном заключении. На другой день судья Богн, который, как выяснилось позже, был подкуплен Джонатаном Уайлдом, отправил ее в тюрьму Ньюгейт. Выяснилось также и еще одно обстоятельство. В ее аресте участвовал некий Джон Пэрри, который работал на Уайлда. А это значит, что «главный вороловитель», несомненно, содействовал ее провалу. В чем, впрочем, он и сам признался на суде.
Как дальше сложилась судьба воровки? С нее было снято обвинение в краже, но ее приговорили к смертной казни за самовольное возвращение из ссылки. В этом случае Уайлду полагались его 40 фунтов стерлингов за участие в разоблачении преступницы. Но счастье улыбнулось Молль Кинг. В ожидании казни она выступила свидетельницей по другому делу и способствовала разоблачению, а попросту говоря, выдала грабителя Ричарда Грэнтема. Это учли и вновь приговорили ее к ссылке. До января 1722 года Молль Кинг оставалось в Ньюгейте. Сначала в камере смертников, а затем в ожидании отправки за океан, что случилось спустя два дня после издания романа Дефо. (В сентябре того же года она вновь объявилась в Англии и снова оказалась в тюрьме.)
Похоже на то, что Дефо заинтересовался ею как раз тогда, когда она ждала казни. Исповедь ее показалась ему подходящей темой для уголовного памфлета, которые он обычно печатал в «Ориджинал уикли джорнэл» сразу же после казни преступника. Однако с отменой приговора памфлет о конкретном человеке перерос в роман, героиня которого получила имя Молль.
Зрелища и жестокость
Лондонцы любили развлекаться. В этом легко убедиться, если заглянуть в книгу «Пробный камень, или Опыты о важнейших увеселениях Лондона», изданную в 1728 году. Чего только не встретишь здесь! С какими публичными зрелищами не знакомил этот путеводитель своих читателей!
Из театров тогда самым популярным был Линколнс-иннфилдс на Портюгел-роу. Его многолетний руководитель Джон Рич, сам актер, отличался умением заполучить талантливых исполнителей, у него начинали многие будущие знаменитости, получая за вечер один-два фунта стерлингов, а то и тридцать шиллингов. Именно эту сумму зарабатывала Лавиния Фентон, прославившаяся исполнением Полли Пичум в «Опере нищего» Джона Гея.
Эта пьеса, основанная на известных всем фактах из жизни лондонского преступного мира, взбудоражила весь город. Спектакль стал неожиданной новинкой и давался в первый же год шестьдесят два вечера подряд, что было рекордом для того времени. Постановка эта, кстати говоря, решила судьбу Лавинии Фентон. Красивая, великолепно игравшая свою роль, она навсегда покорила сердце герцога Болтона, увидевшего ее на сцене. С этого момента артистка (а по закону актеры все еще приравнивались к мошенникам и бродягам) стала получать от своего покровителя 400 фунтов в год на содержание. (При доходе преуспевающего предпринимателя 280–300 фунтов.) Позже она стала женой герцога, и мистер Хогарт увековечил ее на своей картине.
Театр на Портюгел-роу посещали главным образом состоятельные люди. Зрители победнее и менее притязательные предпочитали другие театры, в частности «Сэдлерс уэллс» в пригороде, где можно было весело провести время, посмеяться над солеными шутками актеров, полюбоваться канатоходцами и фиглярами. Не менее популярными были балаганы с аттракционами в пригородном саду Уоксхолла, представления кукольников и, конечно, ярмарочное веселье с непременной ильмовой доской, стонущей на удивление публики от прикосновения раскаленного железа. Многих привлекали скачки и бега, кегли и футбол, ристалища знаменитых бентамских бойцовых петухов, посещение зверинца, состязания боксеров, борьба и палочные бои, неизменным победителем в которых выходил любимец лондонцев Джеймс Фигг. Летом лодки любителей речных прогулок покрывали темную гладь Темзы, а зимой на замерзшей реке катались на коньках, устраивали гулянья.
Так же весело можно было провести денек и во время традиционного весеннего праздника, потанцевать вокруг «Майского дерева» — столба, украшенного цветами, полюбоваться состязанием лучников в честь Робина Гуда. Любили потешаться и во время маскарада, когда ежегодно пятого ноября по улицам с гиканьем и улюлюканьем таскали, а затем сжигали чучело Гая Фокса в обязательных белых перчатках и с неизменным фонарем в руках. Между тем стража, согласно театрализованному представлению, совершала с факелами обход подвалов парламента, разыскивая якобы прячущегося здесь офицера Гая Фокса — главного участника и исполнителя Порохового заговора, — пытавшегося в 1605 году взорвать парламент и убить короля.
Любители более острых ощущений направлялись в игорные дома. Хотя азартные игры и запрещались законом, но были весьма прибыльным делом. На улице Пэлл-мэлл, получившей свое название от игры «палламальо», к услугам игроков были карты и кости. Играли во что придется: вист, пикет, фараон, «метлу и швабру», «над и под». На столах в залах, где метали банк, серебром блестели фунты и шиллинги, золотом — гинеи и соверены. Услужливый швейцар встречал и провожал гостей. Слуга с отсутствующим видом пополнял бокалы, а подставные субъекты заманивали в игру неопытных посетителей; тут же орудовали шулеры, ловко манипулируя поддельными костями, краплеными или подтасованными картами.
Куда более пристойным, чем хождение по игорным домам, считалось посещение кофеен, тех самых знаменитых лондонских кофеен, которых насчитывалось в городе около пятисот. Здесь за чашкой кофе встречались с друзьями, коротали время в долгих беседах, просматривали свежие газеты и журналы, спорили о последних политических событиях, обсуждали литературные новинки.
Своего рода неофициальным спортом считались дуэли, возбуждавшие нездоровое любопытство. Поводом для поединка могла послужить самая незначительная ссора. Иногда дуэли превращались в настоящие массовые побоища. Об одном из них сообщал «Уикли джорнэл» в мае 1720 года. «Около полуночи, — писал журнал, — собрались сто джентльменов дуэлянтов и сопровождающих… многие получили смертельные ранения; караульные, которые пытались навести порядок, были убиты. В конце концов прибыл конный патруль…»
После таких «развлечений» неплохо было промочить горло в каком-нибудь кабачке или таверне, благо в столице их насчитывалось тогда более семи тысяч. На сто лондонцев по питейному заведению! Алкоголизм, словно эпидемия, охватил городское население. Измерить количество спиртного, поглощавшегося в винных лавках, было невозможно. Вот отчего «Переулок Джина» — гравюра Хогарта — не казался его современникам преувеличением.
Характеры и детали сцен взяты художником из жизни. Этой своей гравюрой, а также другими, в частности «Монументом Джину», художник добился того, что парламент издал билль об обложении высоким налогом розничной продажи джина.
Тогда начались так называемые джинные бунты, кровь погибших смешивалась на улице со спиртом, вытекавшим из разбитых бочек. Во время Гордонского бунта, например, было убито 282 человека, не считая тех, кто умер, напившись неочищенного спирта после разгрома винокуренного завода Лэнгдейля, и тех 21 человека, которые были повешены за участие в этом бунте.
Случались и иные возмущения. В бунте 1719 года приняло участие 4 тысячи ткачей, в восстании рабочих еще больше. Они протестовали против того, что их ирландских братьев нанимали за меньшую плату. Бунтовали лакеи, когда хозяева запрещали им посещать театр, солдаты, недовольные палочной дисциплиной; бывали хлебные и церковные бунты. В общем, народные возмущения являлись нередким явлением в английской столице. Столь же обычными были и убийства, причем не те, что совершались бандитами ради грабежа, а бессмысленные — порождение века жестокости и насилия.
Любой пьяница, которому почему-либо пришлась не по вкусу ваша шляпа или физиономия, мог запросто прикончить вас. Поэтому мужчины носили шпагу совсем не ради моды.
Жестокость воспитывалась и зрелищами. Толпы зрителей собирались в Бир-гарден поглазеть на травлю собаками «злобных и огромных медведей, когда-либо существовавших в Англии», как сообщала реклама. «Можно увидеть также травлю быков собаками», — говорилось далее в объявлении, помещенном 9 июня 1716 года в «Уикли джорнэл». В конце предусмотрительно указывалось и время начала «состязаний» — три часа пополудни, так как «этот спорт продлится долго».
Но самым популярным зрелищем, неизменно привлекавшим огромное число людей, была казнь преступников. В эти дни (они объявлялись нерабочими) на улицы выходил буквально весь Лондон. Даже крыши домов и деревья — все, откуда можно было увидеть предстоящее зрелище, — занимали любопытные. Можно сказать, что это был огромный массовый спектакль, разыгрывавшийся на открытом воздухе.
Смертные казни (по закону непременно публичные) совершались прямо на площадях и улицах, на Черинг-Кросс, на Бирже, у ворот Темпл-Бар, в Ковент-Гарден, а также на Тауэр-хилл, где исстари отрубали головы лицам высокого происхождения. Для них же существовала привилегия — вольнонаемный палач. Прикосновение профессионального палача считалось бесчестьем, и аристократам предоставлялась возможность его избежать. Что касается большинства простолюдинов, приговоренных к смерти, то их чаще всего казнили в Тайберне, на огромном лугу в двух милях от города. Сюда съезжались и приходили со всех концов города. Даже великосветские дамочки в сопровождении щеголей кавалеров стремились не пропустить «ярмарку в Тайберне» и, случалось, платили баснословные цены за места на трибунах поближе к виселице.
Но и те, кто не поддавался общему ажиотажу и не помышлял о походе в Тайберн, считали публичную казнь весьма полезным делом. Писатель Сэмюэл Джонсон признавался своему другу и биографу Джеймсу Босуэллу: «Казни должны привлекать зрителей. В противном случае они не будут отвечать своей цели».
Однако маститый писатель ошибался. Зрелище казни отнюдь не очищало души и не пробуждало мысли о том, что преступник получил по заслугам. Наказание не страшило — слишком дешево ценилась человеческая жизнь. Напротив, зрители, воспитанные на жестокости и насилии, получали удовольствие от самой процедуры. Преступник же, как бы исполнявший главную роль в этом грандиозном действе, был далек от того, чтобы разыгрывать из себя кающегося грешника. Эшафот или виселицу не считали преддверием неба.
Ровно сто лет спустя такую же картину наблюдал Виктор Гюго на Гревской площади в Париже. Поэт был поражен праздничным настроением, охватившим толпу в ожидании казни. «Все окна домов были усеяны зрителями, — писал он, отмечая, что многие окна сдавали в найм за дорогую цену, — и там, грациозно облокотившись о подоконники, сидели молодые, нарядные женщины с бокалами в руках».
С тех пор поэт не переставал гневно возмущаться смертной казнью, многие годы добиваясь ее отмены. Как добивался этого же Чарлз Диккенс, протестуя против варварских зрелищ, и в его дни все еще собиравших толпу в пятьдесят тысяч человек. Ведь отменили же в свое время казнь путем отсечения головы, резонно напоминал писатель. Последним, кто подвергся этому наказанию, был лорд Ловит, мятежник и авантюрист, обезглавленный в 1747 году.
Добился писатель отмены и другого, не менее жестокого обычая, за который ратовали сторонники «теории» устрашения. В газете «Таймс» Диккенс не раз выступал против того, чтобы тела казненных оставляли висеть на виселице, бережно укутанные в халат, предусмотрительно, на случай непогоды (!), пропитанный дегтем. «О, экономная страна, просмаливающая повешенных!» — в свою очередь, восклицал по этому поводу В. Гюго.
Но не только Гюго и Диккенс, а и многие другие писатели, в том числе Вольтер и Руссо, Шелли и де Виньи, Золя и Конан Дойл, Анатоль Франс и Короленко, выступали против смертной казни. Никакие, по их мнению, новейшие технические ухищрения: ни «национальная бритва» — изобретение доктора Гильотена, ни «гуманное» предложение Эльбриджа Герри о введении смертной казни на электрическом стуле, — не меняли сути дела. Впрочем, заговорят об этом лишь в XIX веке, а в те времена куда как успешно применяли старый, испытанный способ — смерть через повешение.
И «ярмарка в Тайберне» была одним из самых популярных зрелищ у жителей английской столицы.
Дорога в Тайберн
Было шесть часов утра. Обычно Дефо вставал позже, но сегодня надо было спешить. Предстоял долгий и утомительный день.
Накануне, при последней беседе с Джеком Шеппердом, приговоренным к смерти, он условился с ним, что утром в день казни передаст ему во дворе тюрьмы (позже это не удалось бы) свою рукопись заранее написанного о нем памфлета. А Джек около виселицы на глазах у всей толпы вернет ее обратно, будто свою собственную, лично им написанную исповедь.
Эта маленькая хитрость послужит прекрасной рекламой очередному сочинению Дефо и облегчит продажу памфлета, который отпечатают тотчас после казни. Ради этого рекламного трюка, собственно, и придется теперь тащиться через весь город в Тайберн. Несмотря на непогоду и раннее утро, наиболее нетерпеливые зрители уже занимали места на маршруте между тюрьмой и Тайберном. Наверное, и там, на лугу, уже топтались вокруг виселицы любители убийственного спектакля. От холода не спасет ни горячая картошка в карманах, ни шарф, которым закутана шея. Но, невзирая на ноябрьское ненастье, они полны решимости ждать, когда начнется «представление».
К девяти часам Дефо добрался до Ньюгейтской тюрьмы. Прибыл он как раз вовремя: героя драмы уже вывели из камеры смертников. Улыбаясь, Джек Шепперд ступил на булыжный двор. Он чисто выбрит, аккуратно одет, но без шляпы. На плечи накинуто, скорее для эффекта, чем для тепла, модное пальто с черными манжетами. Его худая и не очень высокая фигура вызывает всеобщее любопытство. Короткие черные волосы и густые брови оттеняют бледность кожи. Его нос вздернут, а большие карие глаза смотрят внимательно и, кажется, равнодушно. Трудно поверить, что это один из самых знаменитых преступников: ему едва исполнилось 22 года, но уже прослыл кумиром лондонской толпы.
Улучив момент, когда помощник шерифа дает расписку на получение тела, как если бы приговоренный уже умер, Дефо приближается к Джеку и, как условились, незаметно передает ему рукопись.
Затем в дело вступает кузнец. Он сбивает с осужденного ножные кандалы, отныне они на многие годы станут главной реликвией тюрьмы Ньюгейт. Джек протягивает руки, как бы прося сбить и наручники. Никто не обращает на это внимание. И тут Джек срывается, он теряет самообладание и набрасывается на палача, который пытается обвязать веревкой его грудь. Все понимают причину гнева: видимо, тщательно подготовленный план побега рухнул. Когда же помощник шерифа, обыскивая Джека, находит у него в жилете спрятанный нож, сомнения ни у кого нет — побег готовился. Да и сам Джек, понимая, что терять ему нечего, признается, смеясь, что намеревался скрыться в толпе своих друзей. Тюремщики тоже смеются.
Между тем народ все прибывает. Шум на улице стоит невообразимый. В окнах, на крышах — всюду возбужденные зрители. Внизу море людских голов: собралось несколько тысяч человек. Монотонно и печально звонит большой колокол церкви Гроба Господня.
Но вот ворота тюрьмы открылись, и солдаты, разогнав толпу, расчистили путь. В тот же момент показалась телега, и все увидели Джека, а рядом с ним фигуру палача, восседавшего на заранее приготовленном гробе. Солдаты с пиками, в зеленых треуголках, в красных мундирах, перетянутых крест-накрест белыми портупеями, помощник шерифа в ярко-алом костюме, палач, как и положено, в черном одеянии — придавали процессии скорее торжественный, чем мрачный/ вид. Замыкали шествие судебный исполнитель и констебли на лошадях.
Солдаты были начеку и не подпускали близко к телеге беснующихся любопытных. Лишь одному человеку разрешили приблизиться. Все увидели, как мистер Вэгстафф, тюремный священник, подойдя к телеге, стал что-то говорить Джеку. Может быть, он вознамерился подготовить смертника к той иной жизни, которая его ожидала, и пытался вызвать у него раскаяние? А возможно, считая это пустой затеей, мистер Вэгстафф в последний час надеялся узнать кое-что из жизни несчастного, чтобы потом изложить в газетной статейке?
В этот момент начался следующий акт зрелища. Когда телега с приговоренным поравнялась со ступенями церкви, навстречу вышел глашатай с небольшим колокольчиком в руках, в который он звонил в интервалах между ударами большого колокола церкви Гроба Господня. Донеслись слова молитвы: «…помолимся за бедного грешника, идущего на смерть, по ком звонит этот колокол». Толпа замерла, словно завороженная. «Вы, приговоренные к смерти, — продолжал голос, — покайтесь, умойтесь скорбными слезами, выпросите милосердие Господа для спасения вашей души…» В полной тишине зрители молча внимали словам молитвы, видимо принимая на свой счет наставления о покаянии. «Господь милосерден к вам. Христос милосерден к вам…», — голос умолк. И тотчас на ступенях появилась девушка с цветами, и букеты полетели к ногам смертника. Масса людей заколыхалась и разразилась общим воплем ликования. Цветы и яркие бумажные ленты, воздушные поцелуи в неистовстве адресовали главному герою драмы. Он же «держался прекрасно, — писала на другой день о Джеке „Лондон ньюс“, — и, казалось, не проявлял никакого волнения, естественного при столь роковых обстоятельствах». Можно было подумать, что все это доставляло ему удовольствие. И он с охотой исполнял предложенную роль точно в соответствии с тем, чему учили дешевые книжонки о подвигах «кавалеров удачи» — не только быть смелым вором, но и храбро идти на виселицу. Впрочем, таков был ритуал, выработанный годами, а Джек не первый, кто принимал участие в подобном массовом спектакле. Через этот последний путь прошли многие его предшественники, обреченные на смерть.
Солидный господин, видимо удивленный той беспечностью, с какой Джек исполнял свою роль, обратился к соседу:
— Не кажется ли ему, что он всего лишь актер в этом представлении? И что по окончании спектакля спокойно отправится домой?
— Едва ли, — последовал ответ, — просто умереть на людях ему легче, чем в одиночку на тюремном дворе в присутствии всего лишь нескольких солдат.
— Говорят, портрет преступника по просьбе самого короля писал в тюрьме Джеймс Торнхилл, придворный художник, — не унимался любопытный господин.
Ответа не последовало, толпа разъединила собеседников, увлекая их в разные стороны.
Однако, усердно исполняя отведенную ему роль, Джек настороженно всматривался в лица. Его острый взгляд искал в толпе друзей, все понимали, что он еще надеялся и ждал сигнала, предупреждения, поддержки. Казалось, он ни минуты не сомневался в том, что и на этот раз сможет убежать. И тысячи людей на всем пути его следования ждали, что Джек, лихой парень, прослывший «королем побегов», совершит у них на глазах самый дерзкий из своих подвигов. Еще недавно молва приписывала ему чуть ли не сверхъестественную способность проходить сквозь тюремные стены. Из тюрьмы Сент-Джайлс он выбрался, проделав отверстие в черепичной крыше. Причем инструментом ему служила обыкновенная бритва. Пробыв после этого побега на свободе всего лишь несколько недель, он снова угодил за решетку. На этот раз в камеру тюрьмы Сент-Анна. На следующее утро его навестила с разрешения стражника преданная подружка Эдгворт Бесс. Вместе с едой она передала в узелке острые алебарды. Для опытного взломщика ничего другого и не требовалось. Но и стража не теряла бдительности. Зная, с кем имеет дело, Джека заковали в тяжелые цепи. Но друзья нашли способ передать ему напильник и другие инструменты.
Вечером Джек принялся за работу. Освободившись от кандалов, он занялся окном. Перепилив и выломав железные прутья, отважно спустился по веревке, сделанной из разорванных одеял.
С этого момента некоторое время ему сопутствовала удача. Несколько виртуозно сработанных ограблений еще больше упрочили его воровскую славу. Меньше повезло ему в выборе сообщников. Одним из них оказался Энтони Лэмб, племянник некоего мистера Картера. Они встретились в «Черном льве», и Лэмб рассказал Джеку, что в доме его дядюшки проживает богатый портной, и пообещал оставить входную дверь открытой. Той же ночью Джек нагрянул в гости к портному, который, кстати, был мертвецки пьян и спал беспробудным сном. Пожива оказалась немалой — всего на триста фунтов.
Не без основания подозрение пало на Лэмба, так как знали, что он водился с ворами и частенько сиживал в «Черном льве». Его припугнули, и он выдал Джека, правда, не мог сообщить точно, где его искать. Но зато рассказал о намерении Джека ограбить магазин Ниобуна на Литтл-лейн. И когда ограбление действительно случилось, подозрение вновь пало на Шепперда.
Мистер Ниобун, торговец мануфактурой, обратился за помощью к «главному вороловителю», который пребывал тогда на вершине своей славы. Так в игру вступил Джонатан Уайлд. В «Дейли пост» появилось объявление, где предлагалось вознаграждение тому, кто принесет к Уайлду украденное у мистера Ниобуна. Однако рассчитывать на то, что Шепперд поделится добычей, не приходилось. Джек всегда действовал самостоятельно, что раздражало Уайлда, который не терпел индивидуалистов, работавших самостоятельно за пределами его организации. Кроме того, он ревновал к славе Джека — лучшего профессионального вора Лондона. Таким образом, Джек Шепперд невольно стал самым опасным врагом Уайлда.
Между тем Джек вместе со своим дружком Блюскином промышлял на большой дороге. Впрочем, как разбойнику ему мало везло. В один вечер добыча составила всего лишь жалкие полкроны, отобранные в карете у горничной, единственной пассажирки. На следующий день подвернулся торговец вином, у которого было всего 6 шиллингов. Не густо. Только назавтра удалось сорвать куш посолиднее. Остановив пассажирскую карету, они взяли 22 шиллинга.
А тем временем Уайлд и его люди шли по следам Джека. И первое, что предпринял «главный вороловитель», — вышел на подружку вора — Эдгворт Бесс. Ее арестовали в пивнушке возле Темпл-бар. Напуганная угрозами, она «раскололась» и выдала место, где скрывается ее любовник.
Несколько часов спустя Квильт Арнольд, помощник Уайлда, весьма удивил Джека, когда появился перед ним в дверях его убежища. Пистолет Джека дал осечку, и это решило его участь. Через две недели он стоял в огромном зале суда Олд-Бейли. Потом Джек признался, что сердце его замерло, когда он вошел в это здание, где звук шагов отдавался гулким эхом и где даже солнечные лучи казались холодными. Так же холодно смотрели глаза судьи на середину каменного пола, туда, где одиноко стояла скамья подсудимого.
Показания Уайлда сыграли свою роль — и приговор был короткий: «Виновен». Джека водворили в камеру и приковали к полу. Предварительно палач накрепко перевязал большие пальцы его рук — таков был установленный издавна порядок. Той же ночью, не теряя времени, Джек приступил к делу. Прежде всего с помощью гвоздя, заменившего ключ, он освободился от наручников, а затем и от ножных кандалов. Теперь можно было браться за главное. Но выбраться из камеры, расположенной на третьем этаже и считавшейся самой надежной, было не так-то просто. Единственный путь был по дымоходу в верхнее помещение, а оттуда на крышу. Однако в трубе оказались железные прутья, предусмотрительно вставленные между кирпичами. Преодолев это препятствие, Джек очутился в комнате, где давно никто не бывал. Четверть часа ушло на то, чтобы справиться с дверным замком. Теперь перед ним был коридор, который кончался снова дверью, ведущей в тюремную часовню, где смертники исповедовались перед казнью. Справившись с засовом, он проник в часовню. Отсюда, перебираясь с лестницы на лестницу, поднялся на крышу, затем достиг чердака соседнего дома, где и переждал погоню.
О небывалом побеге смертника из самой надежной тюрьмы говорил весь Лондон. И только Уайлд затаил недоброе. Он-то и помог вновь схватить Джека, ставшего к тому времени любимцем толпы. Она и теперь была уверена, что во время пути Джека в Тайберн станет свидетелем нового его побега. Действительно, был момент, когда всем показалось, что вот-вот произойдет нечто: один из друзей Шепперда, протиснувшись сквозь ряды зрителей и пройдя линию констеблей, приблизился на миг к телеге и шепнул что-то на ухо Джеку. «Сейчас начнется», — решила толпа. К ее сожалению, тот лишь рассмеялся в ответ.
Процессия спустилась вниз по Сноу-хилл, затем проследовала по Флит-стрит, где в уличных вонючих лужах нежились свиньи, пересекла узкий мост и поднялась на Холборн-хилл.
Это был Лондон — шумный, грязный город, с прокопченными стенами домов, узкими, как две капли воды похожими одна на другую улочками, где скрипучие вывески на одной стороне почти касались вывесок на противоположной, с толкотней, выкриками торговцев и мастеровых, с модными лавками и непременными портшезами, в которых чинно восседали хозяева жизни. Лондон с его веселыми ярмарками и рыночной суетней, с деловыми конторами и их надменными служащими. Город, где кареты, телеги, экипажи грохотали по булыжной мостовой, разбрасывая по сторонам грязь, и где всегда под угрозой находился пешеход: горничная могла вылить ему на голову ночной горшок, хозяйка выбрасывала под ноги очистки и мусор, парикмахер стряхивал парик из окна своей лавки и мог покрыть его пудрой, а трубочист запачкать сажей.
Воры-карманщики кружили вокруг, выжидая момент, и молодые проститутки досаждали своими настойчивыми предложениями. А поверх темно-красных однообразных домов высились шпили и купола новых церквей и фасады роскошных зданий, возведенных по проектам великого зодчего Кристофера Ренна. Сады и фонтаны, элегантные портики и колоннады в новом стиле экстравагантного барокко, который господствовал после пожара 1666 года, не могли не восхищать тех, у кого был вкус и чувство красоты. Этот Лондон, отвратительный и прекрасный, стоял у колыбели своих обитателей, и все они могли повторять слова: «Чрево твое дало нам жизнь, твои сосцы питали нас».
…На Оксфорд-роуд по просьбе Джека процессия остановилась у гимнастического зала Джеймса Фигга.
Знаменитый палочный боец и друг Джека вышел с подносом в руках, на котором стояли кружки с подогретым вином. Джек взял одну обеими руками, чтобы согреть немножко пальцы, и медленно выпил. Выпили и те, кто стоял рядом, — сам хозяин-спортсмен, его ученики, констебли. Кружки наполнялись снова и снова, пока озябшие зрители не потребовали трогаться с места. Палач хлестнул лошадь, и телега потащилась по дороге в Тайберн. Справа остались деревни Мериблойн-филд, Хемпстед, Хайгейт. Показалась стена Гайд-парка, примыкавшая к Тайберну.
И тут Джек увидел виселицу, огромную, способную удержать сразу двадцать одного повешенного. Показалось, что мужество покинуло его. Но он быстро взял себя в руки. Телега подъехала к виселице, и помощник шерифа снял с нее плетеную клетку с голубем. Секунда — и крылатый посланец взвился в небо, чтобы принести в тюрьму успокоительное известие о том, что узник благополучно доставлен в Тайберн.
Констебли и солдаты, потеснив толпу, образовали круг, чтобы никто не помешал палачу выполнять его обязанности.
С трудом Дефо удавалось держаться в первых рядах, ближе к телеге с приговоренным. Наконец он пробился за линию констеблей и солдат. Здесь можно было сравнительно спокойно выжидать подходящего момента.
Тем временем вокруг продолжалось грубое и беспорядочное веселье — ведь день казни для работающих был свободным днем, и, естественно, они хотели использовать его наилучшим образом. Картина Хогарта «Ярмарка в Тайберне» дает весьма яркое представление об этом.
Наконец Дефо решает, что подходящий момент настал. На глазах у всех писатель приблизился к телеге, и Джек вручил ему рукопись памфлета, написанного на него Дефо. Громким голосом, обращаясь к толпе, Джек заявляет, что это его исповедь и он хочет, чтобы мистер Дефо напечатал ее в «Ориджинел уикли джорнэл». Лучшей рекламы нельзя было и желать. Физиономия Вэгстаффа выражает растерянность и досаду; этот Дефо, как всегда, оказался проворнее всех.
Приближался кульминационный момент спектакля. Вэгстафф, закончив молитву, в последний раз благословляет Джека и вылезает из телеги. Палач привязывает веревку к «роковой перекладине», надевает петлю на шею жертве, затем повязывает белый платок на его лоб так, чтобы один угол оставался свободным. Когда Джек будет готов «отправиться на тот свет», он должен поднять угол платка с глаз. Таков еще один атрибут ритуала. Жест этот был настолько широко известен, что ему подражали в жизни: находились оригиналы, которые давали знать носовым платком зубному врачу, когда можно рвать зуб, как приговоренный к смерти давал знать палачу о своей готовности.
Палач, пересевший тем временем на лошадь, ожидает сигнала Джека. Шум и крики смолкают, зловещая тишина нависает над Тайберном. Джек подносит к лицу руки в наручниках и как бы нехотя приподнимает угол белого платка. Телега медленно отъезжает…
Можно было возвращаться в город, драма кончилась. Впрочем, не для всех. Многие продрогшие зрители направились в кабаки, где обсуждали поведение Джека Шепперда перед казнью, вспоминали его похождения. В пивной на Флит-стрит, по обычаю, палач закатил пир, а любители сувениров смогли купить у него куски веревки по 6 пенсов за дюйм…
На другой день на улицах, продуваемых холодным ноябрьским ветром, нарасхват раскупили «Ориджинел уикли джорнэл» — по шиллингу за экземпляр — с исповедью только что повешенного Джека Шепперда, который угодил на роковую перекладину не без помощи Джонатана Уайлда.
Надо ли говорить, что многие ненавидели «главного вороловителя» и что врагов у него хватало. Его проклинали, на него нападали, несколько раз ранили, тело и лицо его было все в шрамах, но каким-то чудом он выживал. Так, чисто случайно избежал он смерти в октябре 1724 года. Уайлд направлялся в суд Олд-Бейли, чтобы дать показания по делу бандита Блюскина. Заметив его во дворе суда, Уайлд подошел к нему, надеясь получить полезную информацию, которую мог выгодно использовать, и предложил выпить из фляги. Бандит выпил и, ободренный дружеским участием, попросил Уайлда замолвить за него словечко на суде. Уайлд нагло засмеялся ему в лицо: «И не подумаю. Ты уже покойник, скоро с тобой будет покончено». Выхватив нож, Блюскин ударил Уайлда в горло. Не окажись поблизости врача-хирурга, который поспешил оказать помощь, покончено было бы с Уайлдом. Блюскину оставалось лишь проклинать тупой нож и толстую шкуру коварного «вороловителя».
Нападение это было предостережением, которым не стоило пренебрегать. Но Уайлд, зарвавшийся в своей самонадеянности и наглости, продолжал выдавать своих сообщников, в том числе «подростков и брошенных малых детей», которых ранее сам же завлек в свою шайку. И в этом Джонатан Уайлд предвосхитил отвратительный образ Фейджина — скупщика краденого и растлителя детских душ, списанного Диккенсом с реального мошенника Айки Сэлоумэнса, чье имя в течение сорока лет не сходило с газетных страниц в первой половине прошлого века.
Выдавая своих «коллег» и оказывая тем самым услугу властям, Джонатан Уайлд возомнил, что ему все позволено. Его наглость возросла еще больше, а вместе с тем и размах деятельности его «подданных».
Сам же он почти открыто осуществлял свои сделки, занимался контрабандой, по-прежнему скупал награбленное, взимал проценты с доходов подопечных, то есть занимался своеобразным рэкетом, а главное, продолжал руководить преступным миром.
Неудивительно, что лондонцы вздохнули с облегчением, когда наступил конец зловещей карьеры Джонатана Уайлда. Весной 1725 года он предстал перед судом. Никто не помог ему. Судья сэр Уильям Томпсон ненавидел Уайлда и сделал все, чтобы приговорить его к смерти. Дополнительных свидетелей и новых улик для приговора не потребовалось.
Накануне казни, в два часа ночи, Уайлд принял дозу тинктуры опиуса, которая, однако, оказалась недостаточной, и он лишь впал в бессознательное состояние. Таким его и бросили в телегу и повезли к месту казни в Тайберн следом за его жертвами. Беснующаяся толпа проклинала злодея, бросала в него комья грязи.
Две недели спустя после казни Дефо разразился гневным пафлетом — «правдивым и подлинным рассказом о жизни и деяниях покойного Джонатана Уайлда». Особо автор подчеркивал то, что его повествование составлено не из выдумок и басен, а на основании собственных рассказов преступника.
ПРЕКРАСНАЯ ДУДУ, ИЛИ БУРНАЯ ЖИЗНЬ СЛУЖАНКИ
Дуду
Зимним морозным днем к пограничному прусскому посту подъехали две кареты. В первой восседала пожилая дама в роскошной собольей шубе. Во второй ехали две молодые женщины, по всему видно — тоже знатного происхождения.
Когда прусский капрал заглянул внутрь первой кареты, дама никак не отреагировала на досмотр. Казалось, она дремала. Лицо ее было мертвенно-бледным, только щеки неестественно ярко рдели то ли от мороза, то ли от чрезмерного количества наложенных румян. Капрал решил не беспокоить старуху, тем более что в этот момент подошли две пассажирки из второй кареты и вручили документы на проезд. По ним он понял, что границу пересекает, направляясь на родину, русская графиня с двумя дочерьми.
Покончив с формальностями, путешественницы поспешно заняли места, солдат поднял шлагбаум, и кареты тронулись.
Путь их лежал в сторону Киевской губернии, точнее, в ее юго-восточную часть, где находился старинный город Умань, известный с XV века как крепость, защищавшая от набегов крымских татар.
Здесь, в Умани, наказала предать себя земле графиня, скончавшаяся в Берлине после тяжелой болезни. Согласно завещанию покойной, ее должны были отпеть в местном православном Успенском соборе и похоронить в склепе. Но чтобы исполнить эту ее волю, надо было провести труп через границу. Однако прусские власти из-за строгих санитарных правил не спешили дать на это свое разрешение.
Тогда дочери графини, находившиеся при умершей, решили пойти на обман. Тело графини забальзамировали, нарумянили щеки, нарядили в роскошное платье, поверх надели шубу, руки вложили в муфту и в таком виде поместили труп в карету.
На границе, как мы уже знаем, ничего не заподозрили, сделав о покойнице отметку как о живой.
Так совершила свой последний вояж та, чье имя более полувека было у всех на устах. Она считалась первой красавицей Европы, и ее приключения стали притчей во языцех. Одни называли ее авантюристкой, хитростью и ловкостью достигшей небывалого положения, другие — самой удачливой из тех, кому довелось когда-либо в истории совершить поразительное восхождение от безвестной служанки до супруги одного из самых знатных и состоятельных вельмож. Позже о ней напишут, что ее необычайная история оставила далеко позади самые хитроумные и увлекательные фабулы авантюрных романов. И это, пожалуй, было именно так.
Началась же эта история в далеком и таинственном Стамбуле. В городе тогда свирепствовала страшная эпидемия, улицы были словно вымершими. По ночам и вовсе запрещалось выходить из домов, ворота запирались. Особую осторожность соблюдали в стамбульском предместье Пери, где располагались дипломатические миссии европейских держав. Пребывание здесь в ночное время посторонних сурово наказывалось. Причем нарушители карались невзирая на положение и ранг. Но и в дневные часы персоналу посольств рекомендовали избегать контактов с местным населением.
Однажды ночью в начале мая 1777 года польского посла Кароля Боскампа-Лясопольского разбудил стук в дверь его спальни. На вопрос, в чем дело, доложили, что в постели привратника посольства, некоего Карло, обнаружена гречанка, женщина средних лет, правда весьма привлекательная.
Боскамп приказал тотчас привести к нему виновного. Привратник пользовался особым расположением посла, видимо, оказывал ему кое-какие сомнительные услуги.
Карло был, надо думать, большим хитрецом и прекрасно знал слабые стороны своего господина. Он не стал отрицать, что нарушил запрет и его застали с женщиной. Однако тут же поспешил сообщить, что у нее есть шестнадцатилетняя дочь, прекрасная, как экзотический невиданный цветок, выросший в поле среди диких трав. Красота девушки, вещал привратник, достойна королевского внимания, а между тем на нее посягает молодой бей, родственник капитан-паши. Мать девушки уповает на помощь господина посла и готова по первому же знаку привести к нему свое сокровище. И он, Карло, уверен, что тогда будет не только прощен, но и вознагражден.
При этих словах сластолюбивый посол окончательно пробудился ото сна, приказал освободить привратника и поутру доставить к нему экзотический цветок, который намерен сорвать недостойный его молодой оболтус.
Пока наш селадон, сгорая от нетерпения, дожидается назначенного часа, чтобы насладиться прелестями юной красотки, поведаем вкратце историю самого господина посла.
Кароль Боскамп родился в семье французских гугенотов, службу начал в 1756 году в качестве скромного курьера при дворе Фридриха II. Семь лет пребывал при прусском после в Стамбуле, затем был назначен полномочным министром потсдамского двора при крымском хане. На первых порах его карьере способствовало знание языков и обычаев Востока, незаурядная эрудиция. Однако вскоре дело застопорилось — мешало безродное происхождение. Энергичный и ловкий, он решил возместить этот недостаток интригами и всякого рода махинациями, в частности коммерческими. Не гнушался и торговлей живым товаром, поставлял красоток для богатых вельмож. Это позволило завязать связи с аристократами и добиться определенного положения и доверия среди именитых любителей клубнички. Но и сам оказался на этот счет малый не промах. Это и подвело его. Не поделив с самим крымским ханом какую-то красотку (история получила нежелательную огласку), Боскамп был вынужден оставить службу при прусском дворе.
Вскоре он оказался в Варшаве, где его таланты пришлись по нраву молодому королю Станиславу Августу. Ему поручили заниматься перепиской с Оттоманской Портой, а затем сопровождать польское посольство в Стамбул. Здесь, используя свои старые связи, он содействовал тому, чтобы склонить Порту согласиться на присутствие в Стамбуле постоянной польской дипломатической миссии.
С этого момента Боскамп стал делать стремительную карьеру. Он был возведен в шляхетское, то есть дворянское, достоинство (и это при том, что являлся иностранцем по происхождению), получил звание камергера, орден Св. Станислава и шляхетскую привилегию — добавление к фамилии «Лясопольский». Теперь его полное имя звучало так: Кароль Боскамп-Лясопольский.
Все эти монаршие милости были, однако, лишь задатком за выполнение новых ответственных поручений. Одно из них — отправиться со специальной миссией в Стамбул и по личному поручению короля провести секретные переговоры об установлении более тесных отношений между Речью Посполитой и Оттоманской Портой.
В феврале 1777 года Боскамп прибыл в Стамбул и поселился в Пери, предместье, где и разыгрывались события той майской ночи, о которых говорилось выше.
Как и обещал Карло, на следующий день в дом польской миссии доставили юную красавицу.
Перед послом стояла стройная, на вид лет шестнадцати, девушка. Большие черные глаза были скромно опущены долу. Мать представила ее как Дуду — так, мол, называют ее домашние, хотя при крещении нарекли Софией. Если господин пожелает взять ее под свое покровительство, она будет ему верна и послушна. Правда, добавила мать, ее надо многому научить, она и понятия не имеет о том, чего мужчина может от нее потребовать.
Как вспоминал позже Боскамп, мамаша, расписывая достоинства и прелести Дуду, ее невинность, хотела таким образом обеспечить дочери будущее. Несколько месяцев покровительства богатого человека, особенно чужестранца, подарки, небольшой капитал при расставании позволят дочери открыть лавочку или кафе — таков был предел мечтаний матери.
В этом не было ничего зазорного. Именно таким способом устраивали свою жизнь многие жительницы Стамбула, в будущем даже выходили замуж за какого-нибудь ремесленника, торговца или судовладельца.
«Господин, — с пафосом продолжала мать, — отдаю под твою опеку это еще невинное дитя. Твоя религия, честность и благородство подскажут тебе, как поступить с ней и, смею добавить, с ее матерью, которую преследует судьба. Оставляю ее в твое распоряжение…»
Боскамп глядел на прекрасно развитую и физически зрелую девушку и не верил заверениям о ее невинности, однако решил принять их за чистую монету.
Между тем мать предложила привести назавтра Дуду, подготовив ее к роли наложницы. А пока сегодня вечером готова сама пожаловать к нему с одной из своих родственниц: «И ты можешь провести ночь с той из нас, которая придется тебе больше по вкусу». Даже Боскампа, по его словам, хорошо знакомого с обычаями Востока и отлично знавшего все, что касается торговли телом, удивила и несколько покоробила такая циничность.
Вечером, когда пришли обе женщины, посол выбрал более молодую, хотя мать выглядела привлекательней: мать, а потом дочь — это, писал он, «показалось мне слишком развратным».
Два дня спустя София в сопровождении матери вновь перешагнула порог польской миссии. Она и не подозревала, что совершает переход из одного мира в другой, тот, в котором ей суждено было провести всю оставшуюся жизнь.
Получив солидное вознаграждение, матушка поспешила оставить дочь наедине с послом. Сгорая от нетерпения, он приказал Дуду раздеться донага, чтобы наконец осмотреть свое приобретение. Якобы устыдившись, девушка тем не менее тотчас же исполнила его просьбу. Польский историк Ежи Лоек, изучавший архив Боскампа и другие материалы, имеющие отношение к нашему рассказу, приводит такую запись из дневника посла, где он говорит о внешности Софии: «Ее голова, подобная голове известной Фрины, достойна резца Праксителя… Прекрасны глаза и уста, сверкающие великолепными зубками, очертания подбородка вызывают потрясение, волосы Дафны, лоб и уши абсолютно пропорциональны. Плечи изящны, достаточно красивы руки, кисти, правда, несколько великоваты, однако напоминают те, что мы видим у античных статуй. То же и ступни, хотя несколько больше, чем те, что у творений великих греческих мастеров».
Дальше старый греховодник переходит к описанию интимных частей тела. После шеи и плеч открывается грудь, которую ему хотелось бы сравнить с грудью той же Фрины, соотечественницы Дуду. Он напоминает слова Квинтилиана о том, что стоило Фрине, обвиненной и представшей перед судом, обнажить грудь, как она тут же была оправдана. К сожалению, продолжает Боскамп, Дуду не могла рассчитывать на подобный эффект. Грудь у нее была дряблая, то ли из-за горячих ванн, которыми так злоупотребляют на Востоке, то ли еще почему. Зато ягодицы, бедра, колени и икры могли выдержать экзамен у самого придирчивого скульптора. И только одно неприятно поразило: «сильный запах ее пота, который не могут пересилить никакие духи, исключая, пожалуй, мускус». В этом портрете, нарисованном Боскампом, не хватало одной детали — он не указал рост девушки. Судя по всему, она была достаточно высокой — около 166 см.
В связи с этим возникает вопрос: была ли в самом деле София столь ошеломляюще красива, что позволило ей уже вскоре заслужить имя самой прекрасной женщины Европы? Нет сомнения, если судить по дошедшим портретам Софии, что внешностью она превосходила средний уровень — брюнетка, с большими черными глазами, однако далека была от идеала красоты. Тогда в чем же заключалась загадка ее очарования? Чем объяснялось необычайное восхищение ею?
Здесь современники единодушны в ответе. Природа в исключительной степени наделила ее тем, что сегодня у нас принято называть сексапильностью. К тому же у нее был веселый нрав и умение подчеркнуть те свои черты, которые казались наиболее пленительными в глазах мужчины.
Итак, Дуду предстояло выполнить обязанности метрессы господина посла. С первого же раза он убедился, что ее матушка преувеличила полную невинность дочери. Более того, он был разочарован, не обнаружив у нее «столь привычного для девушки этого края темперамента». Хотя и отдал должное ее актерскому таланту в попытке обмануть столь опытного селадона, каким считал себя Боскамп. Вскоре он узнал всю правду о прошлом Дуду.
София была родом гречанка. Она явилась на свет 12 января 1760 года в предместье Бурсы, что в ста километрах от Стамбула. В XV веке, до завоевания Константинополя, здесь находилась резиденция турецких владык. Земли вокруг, а точнее, провинция издревле носила название Битиния. Это дало повод впоследствии именовать нашу героиню «прекрасной битинкой». (Книга Е. Лоека так и называется «История прекрасной битинки».) Если же быть более точным, то местом рождения Софии надо считать район в предместье Бурсы, протянувшийся вдоль Мраморного моря, где находился небольшой порт Монбанья.
Отец Софии торговал скотом, звали его, видимо, Константином, если исходить из того, что потом в России ее называли Софьей Константиновной. Семья была небогатая, скорее даже бедная. Дела отца шли не очень хорошо, это побудило покинуть Бурсу. Поспешить с отъездом заставил также один случай. Когда Дуду было одиннадцать лет, двоюродный брат лишил ее невинности. Правда, как утверждала мать, «совсем немного», однако с согласия девочки, о чем, естественно, умалчивалось.
Дабы искупить грех, родители задумали совершить паломничество в Иерусалим. Но нужны были деньги. Помог один купец по имени Главани, к тому времени женившийся на красивой тетке Дуду — сестре ее матери.
После свадьбы Главани, француз по происхождению (его предки когда-то осели на Сицилии, отец одно время был французским консулом в Крыму), решил перебраться в Стамбул. Тетка согласилась взять с собой и скомпрометированную племянницу.
Так юная София впервые в жизни увидела Стамбул. Дом Главани в районе Галаты велся скорее по-европейски. А это значит, что именно здесь Дуду соприкоснулась с тем образом жизни, который позднее станет для нее привычным. Можно думать, что здесь же она впервые услышала французскую речь и научилась отдельным словам. В остальном образ жизни в доме мало способствовал добродетельному воспитанию.
Надо заметить, что греки не пользовались тогда среди турецкого населения доброй славой. Особенно это касалось женщин. Сводницы и куртизанки большей частью были гречанками, а бедные греческие девушки из стамбульских предместий Фанарин и Галаты сызмальства привыкали к мысли, что их красота высоко ценится на рынке живого товара.
Очень скоро и София поняла, что может надлежащим образом использовать свою красоту. Не служила в этом смысле положительным примером и ее тетка. Сначала она была любовницей какого-то французского купца, затем англичанина, наконец, немецкого торговца сладостями. Вскоре разошлась с мужем, к тому времени обанкротившимся. С этих пор открыто посвятила себя ремеслу куртизанки, став известной чуть ли не на весь Стамбул. Ее благосклонностью пользовались многие дипломаты из иностранных миссий, и прежде всего русского посольства.
После банкротства Главани София (или как ее иногда называли — Софитца) вернулась к родителям. К тому времени они перебрались в Стамбул, но отец внезапно умер, и семья осталась без средств. Мать пошла по стопам сестры и стала стамбульской куртизанкой, не брезгуя, однако, и сводничеством. Неудивительно, что она стремилась подороже продать красоту дочери. Лучше всего пристроить ее к какому-нибудь состоятельному иностранцу. А чтобы скрыть недостойное поведение дочери, что могло бы прийтись не по вкусу будущему покровителю, выдумала легенду о преследовании ее сыном капитан-паши.
С первых же дней пребывания в роли содержанки посла София продемонстрировала поразительную способность приспособления к совершенно незнакомой среде. Она внимательно приглядывалась к новому окружению (миссия насчитывала около восьмидесяти человек), подмечала манеру и способ поведения тех, с кем теперь общалась. Нельзя сказать, что отношение к ней было однозначным. Частенько она перехватывала неприятные взгляды и слышала просто враждебные реплики. Особенно этим отличались двое молодых людей — сыновья Боскампа. Младший из них был крестником Станислава Августа, впрочем, злые языки утверждали, что он является его сыном, — жена Боскампа Катарина одно время была якобы любовницей короля.
Дневниковые записи Боскампа помогают понять, какими талантами располагала София в своей борьбе за жизненный успех. Он писал, что ей свойственна четкость и утонченность суждений. Рассуждала с природной логикой, даже когда лгала, была проницательна, умела с помощью софизмов загнать собеседника в тупик. «Она изучает мужчину, с которым общается, так старательно, что почти всегда умеет предвидеть его слова и угадать намерения, — отмечал Боскамп. — У нее поразительная память, неистощима в замыслах, настойчива и терпелива в преодолении препятствий. Беззаботна в том, что касается собственного будущего, ее максима — радоваться настоящему, девиз — пользоваться удовольствиями, не упуская случая». Она не была ни капризной, ни жеманной, в меру кокетлива, но никогда не становилась нудной. Одинаково искренне и убежденно говорила правду и лгала. «Выдумывает, расцвечивает и повествует свои сказки с таким правдоподобием и наивностью, что самый недоверчивый и тот поверил бы ей, если его заранее не предупредить». Никогда не роптала на капризы фортуны, не выказывала чрезмерной радости или грусти. И еще, по свидетельству Боскампа, никакая кровная связь или дружба не удержат ее в неукротимом стремлении к достижению цели. Вместе с тем она «уступчивая и очень веселая, умеет быть в лучших отношениях со своим любовником, друзьями, знакомыми и даже с теми, кого едва знает, все расстаются с ней весьма ею очарованные». Одним словом, как писал посол в своем дневнике, вежливая, покладистая, милая и услужливая София сумела завоевать симпатии всех окружающих, «всей, без исключения, миссии».
Боскамп показывался с нею на частных приемах, часто брал на отдых в летнюю резиденцию.
Слухи о его неблаговидном поведении дошли до Варшавы, и ему пришлось объяснять, что поступает он подобным образом исключительно в интересах дела. Мол, создает о себе впечатление как о рассеянном человеке, менее всего занятом своими прямыми обязанностями. Оправдываясь, он писал королю: «Сижу в деревне с одной весьма красивой гречанкой, которую взял к себе лишь затем, чтобы переключить внимание своих собеседников именно на этот объект, а сам получаю возможность спокойно заниматься делами».
Иначе говоря, давал понять, что использовал Софию как своего рода дипломатическую ширму. Можно полагать, что позднее он стал поручать ей и особые дипломатические задания, имея в виду ее таланты и привлекательность. Хотя точных данных на этот счет нет. Известно лишь, что Боскамп воспользовался Софией для того, чтобы установить дружеские контакты с русским послом Стахеевым. В соответствии с инструкциями из Петербурга тот внимательно и с подозрительностью следил за деятельностью Боскампа, которому, в свою очередь, и пришла в голову мысль с помощью Софии завоевать расположение русского посла. Результат превзошел все ожидания.
Посол русской императрицы Екатерины II был уже немолодым человеком, довольно посредственным, скорее дьячком-чинушей, нежели дипломатом и политиком. Больше всего он интересовался ботаникой. Однако находил время и для интимных развлечений. Хотя был женат и имел шестерых детей. Впрочем, это отвечало обычаям эпохи и нравам дипломатической среды. Он увлекался красивыми гречанками и на свои личные нужды щедро тратил посольские деньги.
Однажды Боскамп затеял прогулку по морю, пригласив участвовать в ней и русского посла. Тот согласился. «Дуду, — вспоминал Боскамп, — переодетая мужчиной, — костюм, который ей очень шел, — была в центре внимания и украшением компании… Во время развлечений она исполняла все, что от нее требовали. Были песни, танцы, восточные позы, полные сладострастия и распущенности, о которых не имеют понятия в Европе, даже во время оргий; она ни минуты ни в чем не колебалась, если это могло развлечь общество…»
Русский посол после этого воспылал такой страстью, что Боскамп даже несколько испугался. Однако с удовлетворением отметил, что Стахеев с тех пор стал гораздо меньше интересоваться деятельностью польской миссии, зачислив Боскампа в свои друзья.
Прошел год с того дня, как София поселилась в здании польской миссии. Близился день отъезда Боскампа. Он задумался, как быть с «воспитанницей»? Взять с собой в Варшаву и держать где-то около себя он не мог. И дело было не столько в содержании — денег на это много не потребовалось бы, — сколько в том, что он мог себя скомпрометировать. Не говоря о ревнивой жене. Родилась мысль пристроить Софию в услужение в какой-нибудь богатый дом. На этот счет имелись даже своего рода заявки, в частности от придворного коронного экс-маршала Францишека Ржевуского — найти молодую гречанку, непременно красивую, для услужения, как он скромно подчеркивал, к его сестре. Но здесь была опасность, что наниматель разгневается, обнаружив, что для него «куплены чулки, уже изношенные послом».
Тогда возник еще один вариант: король требовал закупить проект для строительства турецких бань и привести двух молодых банщиков — турка и турчанку — для него и его кузины княжны Эльжбеты Любомирской. Боскамп предложил в качестве банщицы Дуду. Однако король был наслышан о похождениях своего посла и никак не отреагировал на предложение.
Хочешь не хочешь, Дуду должна была остаться в Стамбуле. Надежды на то, что она когда-нибудь выйдет замуж за европейца, было мало. Едва ли нашелся бы тот, кто «заглотнул бы крючок после того, что о ней всем известно», — рассуждал Боскамп.
Незадолго до отъезда он поселил Софию в доме одного из переводчиков миссии, наказав заботиться о ней. Решив быть благородным до конца, финансово обеспечил ее, оставил в банке депозит на 1500 пиастров в качестве будущего приданого на случай, если какой-нибудь ремесленник или торговец захочет на ней жениться.
И еще одно поручение дал посол: строго ограничить контакты Дуду с матерью и вообще запретить любое общение с теткой Главани. Обе находились на самом дне морального и физического падения.
В двадцатых числах апреля 1778 года Боскамп покинул Стамбул. София осталась в городе.
Майор Витт
По пути в Варшаву Боскамп вынужден был задержаться в Каменец-Подольском, чтобы соблюсти карантинные требования. Здесь он познакомился с комендантом крепости генералом Яном Виттом. У них сложились добрые отношения.
Генерал Витт происходил из армянской семьи. По другим сведениям, его предками были голландцы, осевшие несколько веков назад на землях Речи Посполитой. Родился в начале XVIII века, службу начал в полках иноземцев в 1726 году. От первой жены имел двоих детей. Овдовев, женился вторично на Марианне Любоньской. 29 августа 1739 года она родила сына Юзефа. Ян Витт дослужился до генерала. В 1768 году во время Барской конфедерации ему пожаловали дворянское звание и назначили начальником гарнизона крепости Каменец. К нему благоволил сам король, наградил орденом Св. Станислава и дал торжественное обещание передать занимаемый им пост его сыну. Этот «добросовестный и осторожный дед», как добродушно называл его Станислав Август, был на самом деле весьма суровым и беспощадным. К тому же отличался феноменальной жадностью. Почти не платил жалованья солдатам, без зазрения совести заставлял их работать по дому и содержал так же, как и заключенных (Каменец был и местом ссылки, и тюрьмой), которых тоже использовал в личных целях как рабочую силу.
Тем временем София пребывала в Стамбуле. Правда, некоторые историки, в частности А. Ролле, писавший в прошлом веке, утверждали, что София прибыла в Каменец в свите Боскампа-Лясопольского, который вез ее якобы в подарок королю. Е. Лоек, основываясь на новейших данных, приводит другие факты. Не совпадают у этих авторов и временные денные. Так, Ролле относит появление Боскампа в Каменце только летом 1778 года, тогда как Лоек считает, что посол прибыл сюда в апреле. А летом, в июле, он был уже в Варшаве.
Здесь и произошло событие, решительным образом изменившее судьбу Софии, — умерла жена Боскампа. В его дневнике, написанном как бы от третьего лица, мы читаем: «Поскольку смерть жены погрузила его в пучину горести, прошло много времени, прежде чем он вспомнил о девушке, оставленной в Стамбуле… Но спустя время, постоянно получая от нее письма и слыша со всех сторон прекрасные отзывы о ее безупречном поведении, не имея сил отказаться от общения с женщинами, он пришел наконец к выводу, что ему очень помогла бы та девушка, все тайники сердца которой он знал и манеры поведения которой считал единственно способными вывести его из той жесточайшей ипохондрии, в какую он впал». Не долго думая, он уведомил ее, что если бы она захотела прибыть к нему в той же самой роли, какую играла прежде, он постарался бы устроить ее жизнь, выдав позднее замуж за какого-нибудь местного грека-торговца.
Боскамп не сомневался, что «воспитанница» оценит его милость и великодушие. И не ошибся. В январе 1779 года София стала собираться в дорогу. В путешествии ее сопровождал тот самый Карло, который положил начало всей этой истории.
Поездка была сложной и долгой. Наконец добрались до Фокшан, городка на границе Молдавии. Затем достигли Бухареста, где София серьезно заболела. К тому же обнаружились какие-то неполадки с ее паспортом — что-то в нем напутал стамбульский чиновник. Пришлось задержаться в ожидании уточнений.
Тем временем София, поправившись, решила поразвлечься. Недолго думая, она завела роман с одним молодым греком. Когда сопровождавший ее Карло посмел упрекнуть ее, она устроила истерику, пригрозив, что «заставит дорого заплатить за беспочвенные подозрения и неуважение к нареченной господина посла». Мало того, она пообещала всего добиться для него от Боскампа, если он будет уважительным и доброжелательным к ней. Иначе говоря, пробовала подкупить его. Ее уверенность и впервые прозвучавшие слова о том, что она нареченная господина посла, поколебали бдительность Карло. Если София действительно будущая госпожа Боскамп, то не лучше ли сделать вид, что не замечаешь ее поведения.
После грека у нее начали бывать и другие. Было уже поздно скрывать похождения прекрасной гречанки, они стали достоянием многих. И вскоре слухи о непристойном поведении Софии дошли до Боскампа. Возмущенный, он решил положить конец скандалу и отправить ее обратно в Стамбул с одним греческим купцом.
Не на шутку испугавшись такого оборота дел, София изобразила перед купцом невинно оскорбленную и употребила все свои актерские способности, чтобы убедить его в том, что ее хотят специально очернить в глазах обожаемого ею посла. Грек не только поверил ей, но даже одолжил денег на поездку до Варшавы. В своем письме к Боскампу он убеждал, что девушка ни в чем не повинна и пылает к нему подлинной страстью.
Неизвестно, поверил ли Боскамп письму, однако, зная, что путь Софии на Варшаву пройдет через Каменец, отправил туда небольшую сумму денег и просьбу к некоей вдове Эльжбете Черкасовой предоставить приют Софии, пока не пребудет за ней его курьер.
В то же время он сообщил своему приятелю Яну Витту некоторые подробности о происхождении девушки, попросив взять на себя временную опеку над ней. Не преминул также предупредить, что нужно следить за каждым ее шагом.
И вот в начале апреля 1779 года через Яссы София добралась до Каменца, где и предстала перед вдовой Черкасовой. Здесь она узнала, что Боскамп выделил на ее содержание пять злотых ежедневно. Хотя сумма была вполне приличной, чтобы вести относительно сносную жизнь, София была не очень рада: в последнее время привыкла к более высокому уровню содержания.
Довольно скоро ей удалось привлечь на свою сторону старую вдову, и та разрешила несчастной девице принимать гостей, чтобы скрасить время и развлечься в компании местных офицеров.
Среди них особенно частым гостем стал майор Юзеф Витт — сын коменданта крепости. В его лице фортуна послала Софии выгодный шанс. Он без памяти влюбился. Но могла ли она ответить ему взаимностью?
Майору было сорок лет. Ничем особенным он не выделялся, был некрасив и циничен. (К сожалению, не сохранилось ни одного его портрета.) Тем не менее София решила разыграть эту карту. Она использовала весь свой талант обольщения, чтобы как можно крепче привязать к себе влюбленного майора. Вела себя на сей раз более чем скромно, не допускала никаких вольностей.
Видимо, тогда-то и родилась легенда, ею же сочиненная, о ее якобы знатном происхождении. Не моргнув глазом, она поведала майору о том, что будто бы принадлежит к очень известному греческому роду. Мастерски соединив выдумку с подлинными историческими именами, София призналась, что ее дальняя родственница Локсандра Скарлатос, дочь поставщика гарема турецкого султана, вышла замуж за князя Панталиса Маврокордато, потомка древних византийских владык. От этого брака и пошел род Маврокордато Скарлатос де Челиче. Последняя фамилия принадлежала ее итальянскому предку. Таким образом, в жилах Софии текла кровь греческая и итальянская. Среди предков она имела также право называть волошских и мултанских господарей. Словом, что бы ни болтали злые языки, какие бы небылицы ни сочиняли о ее неблаговидном прошлом, она потомок сразу двух княжеских родов — Маврокордато и Челиче.
Поведав майору Витту эту легенду, не преминула ненароком заметить, что никогда еще в жизни не принадлежала ни одному мужчине, а является нареченной Боскампа, который намерен вскоре на ней жениться. Желала ли она тем самым распалить ревность майора и еще пуще воспламенить его страсть? Как бы то ни было, Юзеф Витт, и без того по уши влюбленный, Поверил ее россказням. Хотя отец и предупредил его о том, что знал о Дуду из писем Боскампа. Но недаром говорится — любовь слепа. Майор не желал верить, как он считал, наветам. Тем более что София категорически отвергала адюльтер — достаточно она услаждала мужчин, служа им для любовных утех. Пора было всерьез подумать о своем будущем. Возможно, это последний для нее шанс. Она твердо заявила Витту, что путь в ее спальню идет через алтарь.
Но прежде чем тот окончательно решился, подоспел курьер из Варшавы. Он привез строгий наказ Боскампа коменданту крепости выдать Софии сто рублей и отправить ее обратно в Стамбул. Заодно потребовал вернуть ему все его письма, которые когда-то писал ей.
Пока ехали до Потошан, у Софии было время поразмыслить над ситуацией. Стоит ли ей возвращаться? Что ждет ее в Стамбуле? Снова нищета, забота о хлебе насущном, который она умела добывать только одним способом. Недолго думая, она сказалась больной, кричала от боли. Было ясно, что продолжать путь она не может. Сопровождавший ее курьер боялся двинуться дальше. А еще через пару дней София уговорила его ехать обратно в Каменец.
Витт встретил ее с распростертыми объятиями и без колебаний предложил тотчас же обвенчаться. Старый генерал Витт воспротивился этому браку своего сына с «мадам, которую продавали на базаре». Однако сын пренебрег волей отца. И 14 июля 1779 года ксендз Антоний Хмелевский, каноник кафедральный каменецкий, благословил брак в костеле неподалеку от Зенковиц — предместье старой крепости, с согласия Адама Красинского, каменецкого бискупа. Венчались Юзеф Витт, шеф пехотного полка, с Софией Главони. Свидетелями были Игнаций Прыбышевский, капитан того же полка, и Симеон Квятковский, местный житель.
Венчание было тайным. Старик Витт поначалу ничего не знал о сюрпризе, который собирался преподнести ему сын. Узнав о случившемся, генерал писал после злосчастной свадьбы: «День именин (Св. Иоанна) провели как поминки, так как в этот день я должен был уступить мольбам сына и простил его за то, что без ведома родителей женился на той чужестранке, которую его милость Боскамп привез себе в жены. И вот Боскампу венец гороховый, а нам крапивный. Надо, значит, и это испытание принять от Бога. Сын стоял уже по милости Бога на такой ступени, с которой мог достичь лучшего положения. Но если он хочет довольствоваться этой долей, пусть Бог дает им счастие».
Утешая старика, говорили, что невеста происходит из старинного рода, воспитывалась будто бы в доме французского посла (еще одна версия о благородном рождении и воспитании Софии). Увы, документы опровергали эти басни. Скорее всего, на непреклонного старика Витта повлияла сама невестка. Она будто бы на коленях умоляла старика генерала о прощении и благословении сына и ее мужа.
В этот момент София была дивно хороша. Большие черные ее очи смотрели покорно и преданно, движения полны несказанной прелести и грациозности, на губах смиренная мольба — и суровый генерал уступил. «Встань, моя милая, — услышала София его дрогнувший голос. — Ты так прекрасна, что не удивляюсь сыну, сделавшему глупость. Встань! Прощаю и благословляю».
Скажу сразу, что мать Юзефа так и не смогла смириться и простить сыну этот мезальянс. Она слегла и уже больше не вставала. Год спустя она скончалась.
Боскамп, узнав о событии в семье Виттов, вздохнул с облегчением. Его вполне устраивал такой поворот событий.
Прекрасное создание
Осчастливив майора Витта, отдав ему руку и сердце, София обрела наконец покой после всех тех неудач и унижений, которые пришлось ей пережить в детстве и юности. Мрачное прошлое, о котором не хотелось вспоминать, казалось, кануло в Лету, осталось по ту сторону церковного порога. Единственное, что ее еще как-то связывало с этим ненавистным прошлым, были родственники, оставшиеся в Стамбуле, — мать и ее сестра, тетка Софии. Вскоре тетка была вызвана ею в Каменец.
София представила ее как свою сестру и пыталась сделать любовницей генерала Витта, но тот оказался слишком стар для такой роли. После чего ей пришлось уехать в Яссы. Приблизительно тогда же в Каменце возник и Главани, бывший муж тетки, прослышавший о жизненной удаче Софии. Он охотно вспоминал прошлое, болтал чего не следует. И София поспешила его спровадить в Варшаву, где благодаря Боскампу он получил место переводчика при дворе. Дальнейшая его судьба неизвестна.
В Каменце София очень скоро завоевала популярность как самая экзотическая и необыкновенная греческая красавица. Никто и представить себе не мог, что еще недавно эта красавица была наложницей и ее услугами мог воспользоваться чуть ли не каждый. Прошлое больше не тяготело над ней. И, как писал один французский дипломат, она начисто стерла память о начале своей позорной истории, о том, во что превратила тогда свою молодость и как использовала красоту. Теперь ее принимали с тем поклонением, какое оказывают самым добродетельным женщинам. Хотя время от времени и вспыхивал слушок о ее каких-то мимолетных романах.
Рассказы о необычайной, пленительной красоте молодой пани Витт летом 1789 года достигли Варшавы. Случилось это после поездки в Каменец генерала подольских земель князя Адама Черторыйского. В его свиту входил тогда еще молодой Юлиан Немцевич, впоследствии известный писатель. Его впечатление от пани Витт стало достоянием варшавской публики. Он писал о Софии: «Самой большой достопримечательностью Каменец-Подольского была невестка старого генерала… Не знаю, могли ли Елена, Аспазия и Таис, самые прекрасные афинянки, прелестью и красотой превзойти ее. Я не видел в своей жизни более прекрасного создания. Правильнейшие черты лица, самые сладкие, самые восхитительные глаза источали чарующую улыбку, ее голос брал за душу. Глядя на нее, я сказал бы, что это живой, сошедший с небес ангел. Но, к сожалению, как обманчива внешняя оболочка. Это столь прекрасное, столь обольстительное тело содержит в себе самую коварную душу».
Не ясно, что под этими последними словами имел в виду писатель. То ли жестокое кокетство, то ли те слухи о прошлом Софии, которые все же могли дойти до него. Как бы то ни было, с этого момента начался великий успех Софии. Она буквально ошеломила своей красотой Варшаву, где появилась в феврале 1781 года. В столице супруги Витт стали гостями самого монарха. Станислав Август с давних пор благосклонно относился к отцу и сыну Виттам. Теперь у него появился новый повод интересоваться этой семьей.
Удовольствие видеть своей гостьей прекрасную гречанку стоило королю двенадцать дукатов ежемесячно. (Она была представлена ему в начале марта.) Из королевского кошелька оплачивалась и снятая для супругов квартира. Целых два месяца София была сенсацией и предметом всеобщего внимания. «Ее появление повсюду вызывало головокружительный успех, — писал Немцевич. — Не говорили ни о чем, кроме как о прекрасной гречанке. Я помню, что когда однажды она появилась на многолюдной ассамблее у Огиньской, жены гетмана, все, словно потеряв разум и забыв о приличиях, окружили ее. Некоторые, чтобы лучше рассмотреть, даже влезли на столы и кресла».
Это был мало сказать успех, это был триумф. Подумать только, еще три года назад она была содержанкой, едва ли не рабыней. И вот она супруга польского офицера, дама, которую принимает сам король. Было от чего вскружиться голове и задуматься о своем более высоком предназначении. Не тогда ли уже она решила, что роль жены майора, пусть в будущем даже госпожи комендантши, слишком ничтожна для нее. Больше того, из супруга и благодетеля майор Витт становится препятствием на пути ее дальнейшего восхождения.
Можно считать, что с этого момента началась сначала скрытная, а с годами все более явная, упорная борьба — с его стороны за то, чтобы удержать подле себя женщину, которую любил и спас от морального и физического падения, а с ее — за разрыв брачных уз, которые через пару лет вовсе не казались столь уж привлекательными.
Тем временем успех Софии в Варшаве был увенчан изысканной одой великого Трембицкого «Госпоже Витт, проезжающей с мужем через Варшаву на воды в Спа». Придворный поэт сравнивал ее с троянской Еленой Прекрасной, красота которой на многие годы лишила мира и покоя древнюю Элладу.
По пути на воды Витты провели несколько дней в Берлине. София была представлена потсдамскому двору и привлекла внимание самого Фридриха II. Будто бы старый король, увидев Софию, воскликнул: «Даю слово, если в ее стране много таких мордашек, как у нее, то стоило бы туда поехать!»
И еще один монарх повстречался тогда на пути Софии.
В Спа отдыхал австрийский император Иосиф II. Он был так восхищен красотой и обаянием пани Витт, что в одном из своих писем в Париж к своей сестре Марии-Антуанетте сообщал о предстоящем приезде Софии и настойчиво рекомендовал познакомиться с ней. Подобного рода совет был чем-то исключительным и тем более удивительным, что вскоре по прибытии супругов Витт в Париж, 17 октября 1781 года, София родила сына, которому при крещении дали имя Ян. Позже в кафедральном каменецком костеле в книгу о рождении была вшита метрика на французском языке о рождении сына у законных супругов Витт.
Примечательно, что крестным отцом ребенка вызвался быть сам Станислав Август. Тогда же он заявил, что муж Софии наследует должность начальника Каменецкого гарнизона.
В Париже повторилась варшавская история. София была представлена в самых лучших домах. Особое внимание ей уделяла графиня Диана де Полиньяк. Кстати говоря, и сам Витт по примеру многих поляков, проживавших тогда в Париже, присвоил себе титул графа. Так что отныне жена его гордо именовала себя «София, графиня де Витт». И уж совсем поразительно, что ею заинтересовались сразу два брата короля — будущие Людовик XVIII и Карл X. С одним из них, по слухам, она была даже в близких отношениях.
Мадам Виже-Лебрен, известная портретистка, встречавшая Софию в парижских салонах, так описывает ее в своих мемуарах: «Она была тогда молода и необыкновенно прелестна, явно горда своей потрясающей фигурой. О ее чудесных глазах говорили так часто, что я слышала, как однажды на вопрос о ее самочувствии в тот момент, когда у нее воспалились веки, она ответила: „Ах, болят мои прекрасные глазки“. Конечно, — продолжала Веже-Лебрен, — может быть, она тогда не столь хорошо владела французским, хотя, как правило, все польки прекрасно говорят по-французски и даже без акцента». Этот анекдот об удивительном ответе Софии часто рассказывали как свидетельство ее наивного обаяния.
На обратном пути из Парижа Витты заехали в Вену. И снова — успех Софии в высшем свете, покровительство самых знатных особ, вплоть до канцлера Каунитца.
Миновав, к досаде Станислава Августа, Варшаву, супруги вернулись в Каменец. Как ни странно, но местные помещики не выказали к Софии того интереса и поклонения, которые проявляли к ней в других местах. Она встретила даже своего рода афронт, особенно со стороны дамского общества. Когда она однажды решила посетить резиденцию Потоцких в Тульчине, жена графа Станислава Щенсны Потоцкого Юзефина, предупрежденная заранее, выехала в свою деревню. София вернулась не солоно хлебавши восвояси.
Но где ее превозносили и оказывали ей всяческие почести, так это в Яссах. Здесь жила «сестра» Софии, то есть тетка Главани, и она нередко навещала ее. Никто не вспоминал о том, как шесть лет назад она появилась в городе проездом из Стамбула — никому не известная, бедная и униженная. София была теперь непременной участницей и украшением всех увеселений — балов с фейерверками и пушечной пальбой. Ей доставляло удовольствие кружить головы офицерам и сводить с ума местную молодежь. Она словно мстила за то презрение, которое выказывали ей здесь прежде.
София родила второго сына Корнелия, вскоре умершего. В тот же год скончался и старый генерал Витт. София стала госпожой комендантшей. В глазах обывателей это было очень высокое положение. Гарнизон, город и окрестности были, можно сказать, у ее ног. Но власть без богатства казалась ей непрочной да и недостаточной. Путь к поставленной цели лежал через Варшаву. То и дело она выискивала предлоги, чтобы вырваться из каменецкого захолустья. Она хорошо помнила, какой интерес проявил к ней Станислав Август. Но как напомнить о себе, как заинтересовать монарха?
Неожиданно подвернулся удобный случай.
В Каменце объявился некий господин, близкий ко двору. Звали его Доминик Комелли. Личность интересная и загадочная. То ли итальянец, то ли немец, он иногда подписывался как Комелли де Штукенфельд. Неизвестно, как он познакомился с Софией и какие отношения их связывали. Известно лишь, что он по ее просьбе взялся устроить поездку в Варшаву. Для этого написал самому королю и его брату князю Казимежу послание, в котором уверял, что София Витт самая красивая и добродетельная из женщин. Все, что о ней болтают, не больше чем навет завистников. «Я могу засвидетельствовать это лучше, чем кто-либо иной, — писал он. — Шесть месяцев находясь рядом с ней и не покидая ее ни на минуту, я сумел завоевать ее дружбу и глубокую привязанность ее благородного сердца».
Рекомендация человека, которому король, видимо, доверял, сыграла свою роль. И если до этого Станислав Август был склонен верить слухам о неблаговидном поведении Софии, то теперь изменил свое отношение. И вот уже София покинула ненавистный Каменец и оказалась в Вишневце, где ожидали короля из поездки в Канев. Ей оказали здесь теплую встречу. Особое внимание уделила ей двоюродная сестра короля, жена великого коронного маршалека Урсула Мнишкова. В мае 1787 года она писала матери, что среди гостей находится и пани Витт. Портрет, нарисованный ею, свидетельствует о той эволюции, которую прошла София, а заодно вновь показывает, каким незаурядным талантом лицедейки она владела. «Находят, что она изменилась на лицо, — сообщала сестра короля. — Я этого не заметила, мне она кажется премилой, она многое обрела со всех точек зрения, чрезвычайно обаятельна, изысканна в выражениях и лишь настолько демонстрирует несмелость, насколько ее должно иметь женщине, чтобы быть интересной. Путешествия, чтение очень ее образовали, мысли ее столь же свежи, как и личико, а способ выражения их весьма оригинален. Вместе с тем она обнаруживает естественную скромность, отнюдь не показную и очень привлекающую к ней». И далее из письма мы узнаем, что София задумала предпринять поездку в Стамбул для свидания с матерью. Вояж должен был состояться через месяц. В нем согласилась участвовать целая компания, в том числе и Урсула Мнишкова. Всего тридцать с лишним человек, в том числе девять женщин. Во второй половине июня судно «Екатерина Великая», принадлежавшее варшавскому банкиру Тепперу, покинуло Херсон.
Надо заметить, что в тот момент такие путешествия по Черному морю были небезопасными. В любую минуту все могло полыхнуть от грохота судовой артиллерии — отношения России и Австрии с Турцией были крайне напряженными.
Неудивительно, что прогулка, предпринятая в столь опасной обстановке, казалась многим странной и далеко не развлекательной. Не верилось, чтобы компания скучающих великосветских дам и их поклонников решилась на такой риск. Тут скрыта какая-то загадка. Какая? Не иначе как замаскированное разведывательно-политическое предприятие. Кто-то был заинтересован, чтобы его агент оказался в этот драматический момент в Стамбуле. Буквально день спустя после отплытия «Екатерины Великой» началась русско-турецкая война.
Кто же мог быть в таком случае тем самым русским агентом, посланным в Стамбул? Многие историки считали, что им была София, хотя точных данных на сей счет так и не обнаружили.
Тем не менее легенда эта жила многие годы. Софию обвиняли в том, что она якобы через французскую миссию в Стамбуле и ее посла Шуазеля передавала в Петербург сведения о турецкой армии и намерениях французов. Нет никаких данных о связях в тот момент госпожи Витт с русскими дипломатическими или военными кругами, они состоятся позже, через год. Верно здесь, пожалуй, лишь то, что София действительно общалась с Шуазелем, которого знала еще по Парижу. Больше того, их дружеские поначалу отношения скоро переросли в интимные. Но это отнюдь не значит, что прекрасная гречанка играла роль русского шпиона или тайного дипломатического курьера. Едва ли стоило посылать такого секретного агента, да еще в обществе довольно многочисленной компании. Любой купец мог выполнить задание по сбору информации и лучше, и надежнее.
Подошло время Софии возвращаться. Шуазель, человек широкий и щедрый, устроил ей роскошные проводы, про которые говорили, что «расставание было достойно их нашумевшего романа».
Неудивительно, что слухи об этом очередном приключении Софии дошли до Варшавы. Сплетни о супружеских неурядицах Витта обсуждала вся столица, все ожидали скандала. Незадачливый муж прекрасной Софии стал всеобщим посмешищем. Но и Софии оказали холодный прием — слишком откровенным и вызывающим было ее поведение в Стамбуле. Столичные ханжи не могли ей этого простить. Поэтому задержаться в Варшаве ей не пришлось. Она поспешила вернуться в Каменец. Витт простил ее.
Фаворитка светлейшего
Неизвестно, что делала София в конце года и в начале следующего. Ходили слухи, что она посетила Петербург, лично докладывала о своей шпионской миссии Екатерине II и якобы получила от нее в награду земли в Белоруссии. Однако, обвиненная в распутстве, была вынуждена с позором оставить столицу. Впрочем, все это не находит документального подтверждения. Источники хранят на этот счет молчание. В частности, не упоминает об этом ни одним словом такой надежный свидетель, как польский посол Август Деболи. Скандал такого рода, как изгнание госпожи Витт, несомненно, нашел бы отражение в его секретной корреспонденции. Скорее всего, по инерции продолжала действовать легенда о шпионской деятельности Софии. Причем слились в одно ранние и более поздние события. Так, София Витт действительно удостоилась монаршей милости и получила земли в Белоруссии. Но произойдет это семь лет спустя. И поводом для монаршей ласки будет совсем иная причина — протекция и ходатайство самого могущественно из русских вельмож Светлейшего князя Григория Потемкина. Возникает вопрос: где, при каких обстоятельствах София познакомилась с всесильным князем?
Шла, как мы знаем, русско-турецкая война. В мае русские войска под командованием генерал-поручика Ивана Петровича Салтыкова осадили крепость Хотин. Осада оказалась долгой. Жизнь в лагере текла однообразно и скучно. Чтобы как-то скрасить время, Салтыков, большой сибарит и любитель женщин, развлекался в кругу местных красавиц. Балы и прочие увеселения следовали чередой. Однажды здесь появилась София Витт, благо Каменец находился неподалеку и вполне естественно было пригласить знаменитую гречанку. София, надо полагать, тем охотнее воспользовалась приглашением, что генерал Салтыков, которому было тогда 58 лет, не только славился военными заслугами и храбростью, но и обладал громадным состоянием. Он был женат на дочери графа П. Г. Чернышева и имел четырех детей. По характеру мягкий и добродушный, простой в обращении, он, однако, отличался властным нравом и привык повелевать. Его увлечению женским полом, пожалуй, уступала лишь страсть охотника — держал до ста собственных псарей. Но в условиях войны об охоте пришлось забыть. Тем с большим азартом генерал предавался любовным развлечениям.
София покорила его сразу, все остальные дамы были забыты. В честь прекрасной гречанки генерал давал бесконечные балы, щедро одаривал свою возлюбленную. Под властью ее чар он готов был исполнять любую ее прихоть. И София не преминула воспользоваться этим.
В осажденном Хотине находилась ее тетка Главани, к тому времени ставшая женой хотинского паши. София надумала переслать ей письмо. Но как это сделать в условиях осады? Как доставить послание в осажденный горд? Случай скоро представился.
Как писал в своих мемуарах участник тех событий генерал Л. Н. Энгельгардт, турки соглашались на капитуляцию и предлагали прислать парламентариев. София уговорила генерала передать с ними ее письмо. Генералу это грозило большими неприятностями, если бы об этом узнал командующий русскими войсками фельдмаршал Потемкин.
Салтыков доложил, что турки готовы сдаться, просят лишь о трехдневном перемирии. Потемкин, ожидая вести о капитуляции, приказал было уже зарядить пушки, дабы возвестить о новой победе. Но тут прибыл курьер от Салтыкова с новым рапортом. В нем говорилось, что он согласился продлить перемирие еще на три дня, а потом еще на столько же. Такая уступка врагам могла бы дорого обойтись генералу. Но он был влюблен и, поддавшись мольбам своей пассии, рискуя, выполнил ее просьбу — затягивал переговоры, чтобы продлить переписку Софии с теткой.
В конце концов Потемкин, видимо, все же узнал о причине отсрочки капитуляции. И тогда, чтобы смягчить его гнев, Салтыков решил представить ему прекрасную гречанку. Так София оказалась в ставке Светлейшего.
Военная кампания в тот год проходила трудно, с большими потерями. Но Потемкин, верный себе, не ограничивал себя в удовольствиях и развлечениях, намного превосходивших по размаху и пышности подобные увеселения в лагере Салтыкова. Балы, театральные и балетные представления, концерты под управлением знаменитого Сарти. Непременными участниками этих празднеств были приближенные главнокомандующего принц де Линь, граф Браницкий, князь Нассау, Юзеф Понятовский и другие. А украшением его свиты — прекрасные дамы: его невестка графиня Самойлова, графини Браницкая, Головина, Гагарина и, конечно, графиня Долгорукая, жена Василия Долгорукого, давняя пассия Потемкина.
Однако стоило ему увидеть Софию Витт, как все они были забыты. Престарелый ловелас, как юноша, воспылал страстью. Крепость пала быстрее, чем он ожидал. О том, как это произошло, поведал все тот же Немцевич. И хотя его рассказ сродни самому обычному анекдоту, его стоит привести.
Будто бы однажды утром Потемкин пригласил к себе Софию. Она застала его лежащим в собольей шубе, неряшливым, непричесанным. Рядом стояла шкатулка, полная жемчуга и драгоценных камней. Потемкин, перебирая их, взял пригоршню, высыпал ее Софии за декольте и насытил свою похоть. С этого момента София на несколько лет стала неизменной спутницей всесильного князя. Однако как развивались отношения между ними, известно мало. Каково было ее влияние на него и, возможно, на его политические решения? Какую пользу, в том числе и чисто материальную, извлекала она из этой связи? На сей счет почти не сохранилось каких-либо достоверных данных. Лишь немногие источники, прежде всего личные мемуары, проливают некоторый свет на то, что происходило между ними в Яссах, штаб-квартире Потемкина. Так, мадам Виже-Лебрен писала, например, что Потемкин окружил Софию всем, на что способен учтивый и галантный рыцарь.
Госпожа Витт старалась играть роль гордой дамы, но никогда не гнушалась из своей красоты извлечь реальные для себя или своей семьи выгоды. Так, София решила выхлопотать мужу какое-нибудь доходное местечко на русской службе. Это тем более было бы кстати, поскольку о Витте начали ходить разные компрометирующие его слухи. Что он-де якшается с русскими, имеет контакты со ставкой Потемкина. К этому не преминули присовокупить и поведение его жены, открыто появлявшейся в стане русских в то время, когда в Варшаве патриотически настроенные круги все настойчивее требовали разрыва с Россией.
Поначалу Витт пробовал защищаться, но вскоре сделал выбор. Отпросившись в отпуск и получив на то разрешение непосредственного своего начальника Станислава Щенсны Потоцкого — генерала коронной артиллерии и командующего украинской дивизией, Витт поехал прямехонько в ставку к Потемкину, не рассчитавшись за средства, выделенные на содержание каменецкой крепости. Каменецкая кастелянша Катарина Коссаковская, кузина Потоцкого и известная сплетница, сообщила ему, что, проезжая через Львов по дороге к князю Потемкину, генерал Витт хвастал, что назначен губернатором Херсона.
Тем временем в варшавских салонах распевали стишок о том, что София «использует свое тело, чтобы покрыть грехи мужа» (имелись в виду его переход на русскую службу и растрата денег, предназначавшихся на содержание крепости).
Осенью 1789 года был назначен новый комендант каменецкой крепости генерал Юзеф Орловский. Что касается Витта, то он вскоре открыто появился в Петербурге. Туда же прибыла и София. Но не для встречи с мужем, а на свидание с Потемкиным. Он явился в Северной Пальмире как победитель турок под Очаковом, после кровавого штурма овладевший этой крепостью.
Верный себе Светлейший вел шумную жизнь, кутил и куролесил, и всюду с ним появлялась прекрасная София. Князь демонстративно ей поклонялся, разъезжал с ней в одной карете и открыто выставлял ее как свою любовницу. Все это грозило обернуться скандалом, если бы не вмешательство Екатерины II. Она пригласила Софию к себе, приняла ласково и милостиво одарила бриллиантовыми серьгами и дорогими тканями. В письмах к ней называла не иначе как «прекрасная графиня Витт». И даже преподнесла ей в дар какие-то земли в Белоруссии. Вполне возможно, императрица действовала по просьбе своего фаворита.
Спустя две недели после появления в столице Потемкина пополз слух о его охлаждении к прекрасной гречанке. Польский посол Деболи признавался, будто сама пани Витт жаловалась, что князь Потемкин, демонстрируя публично их связь, дает повод для сплетен. И делал вывод, что едва ли эта связь продлится долго, называя ее скороспелой и поверхностной.
В своем прогнозе посол ошибся. София оставалась при Потемкине до самой его смерти. Но еще до этого произошли события, коренным образом повлиявшие на русско-польские отношения.
В мае сейм в Варшаве принял новую конституцию. Потемкин убеждал Екатерину немедленно двинуть войска и образумить Речь Посполитую. Свои планы он строил в расчете на трех польских магнатов — Станислава Щенсны Потоцкого, Северина Ржевуского и Ксаверия Браницкого. Кстати говоря, они и сами просили о помощи.
Потемкин срочно выехал в свою штаб-квартиру в Молдавии. София его сопровождала. Можно предполагать, что в этот трудный для Польши момент король Станислав Август попытался воспользоваться своим былым знакомством с Софией и через нее повлиять на позицию Потемкина в польском вопросе. Увы, для этого, даже если бы она и захотела выполнить просьбу короля, уже не оставалось времени. В октябре 1791 года князь Потемкин умер. За день до его смерти в Яссы прибыли генерал коронной артиллерии Потоцкий, полевой коронный гетман Ржевуский и коронный гетман Браницкий.
Была ли удручена или тем более потрясена София смертью своего всесильного покровителя? Обратимся к свидетельству Юзефа Орловского. «Никто из поляков, — писал он из Каменца, — так не переживает, как пани Витт. Она заявила мне, что потеряла отца». И с иронией добавляет: «Я и не знал, что Потемкин был ей отцом». Что чувствовала София на самом деле, сказать трудно. Известно лишь — горевала она недолго.
Едва покончили с траурной церемонией, как светская жизнь вновь потекла своим чередом. Польские паны, с которыми велись секретные переговоры, не желая отставать от русских вельмож, один за другим закатывали невиданные балы. На одном из них, устроенном Потоцким по случаю дня ангела императрицы, София пользовалась особым вниманием и благосклонностью хозяина. Самый могущественный из польских магнатов, восхищенный ее красотой, навсегда был покорен прекрасной госпожой Витт.
Потоцкие из Кристинополя
Многие годы Кристинополь на Волыни был главной родовой резиденцией Потоцких. (Теперь это город Червоноград Львовской области.) Фамилия была древняя, некоторые даже считали, что ее представители могут претендовать на польский трон. Во всяком случае, многие годы Потоцкие играли в Короне (то есть в Королевстве Польском) видную роль. Наиболее знатными и богатыми считались Потоцкие из Кристинополя. Родоначальником этой линии был великий коронный гетман и краковский каштелян (владелец замка) Феликс Казимеж, умерший в 1702 году. У него было два сына: Юзеф, великий коронный хранитель, и Ежи — бельский маршалек.
В 1700 году у Юзефа родился сын Франтишек Салезий. Он-то и наследовал Кристинополь, ему же досталась и большая часть баснословного состояния. Со временем он станет киевским воеводой. Человек он был упрямый, гордый и вспыльчивый, типичный польский магнат, кичившийся своей родовитостью и убежденный в своем естественном праве решать судьбы страны.
От первой жены Зофьи Ржевуской детей у него не было. Овдовев, он женился вторично на своей дальней кузине, дочери познанского воеводы Анне Эльжбете Потоцкой, взяв в приданое 40 деревень. Теперь необозримые владения киевского воеводы тянулись по всей Червонной Руси (Галиции), охватывали Краковское и Сандомирское воеводства. Ему принадлежала большая часть Брацлавщины, в частности Браилов, Умань с окрестностями и Нестервар, названный позднее Тульчином. Но главной резиденцией по-прежнему оставался Кристинополь. Здесь и появились на свет все пятеро детей четы Потоцких: четыре дочери и один сын — Станислав Щенсны, родившийся в 1752 году. Он и стал единственным наследником гигантского состояния.
С раннего детства окруженный заботой и повышенным вниманием, Щенсны рос слабохарактерным и уступчивым. Что весьма поражало тех, кто знал его родителей, железный характер каждого из них, подчас суровый и жестокий. Было известно, например, что во дворце в Кристинополе царили бесправие и предвзятость. За малейшую провинность слуг наказывали мочеными розгами, а могли и засадить в темницу на хлеб и воду. Всеми экзекуциями руководила сама Анна Потоцкая. И никому не удавалось смягчить гнев хозяев.
Единственное, что унаследовал сынок из фамильных черт, — это родовую спесь и веру в свое избранное предназначение. Когда ему исполнилось 18 лет, в округе вспыхнула какая-то эпидемия. Чадолюбивые родители поспешили отправить своего отпрыска подальше, чтобы не рисковать его здоровьем. Так Щенсны оказался в доме булачевского ловчего Комаровского. Семья эта принадлежала к старой шляхетской фамилии и пользовалась всеобщим уважением. А дочка Гертруда всеобщим поклонением. Однако всем воздыхателям она предпочла молодого Потоцкого. Между ними вспыхнула любовь. Родители девушки отнеслись к их роману благосклонно — родство с такой семьей было более чем привлекательным.
Кончилась эпидемия. Щенсны вернулся домой, но продолжал посещать Сушно — имение Комаровских. Последствия этих визитов не заставили себя ждать — Гертруда забеременела. Тогда разгневанные родители девушки принудили молодого повесу тайно обвенчаться с ней. Почему тайно? Да потому, что и сам Щенсны и Комаровские опасались известить Потоцких о венчании — для них брак их сына с дочерью мелкопоместного шляхтича был мезальянсом.
Однако родители очень скоро узнали о венчании сына и вынудили его подать в суд прошение о признании брака недействительным, поскольку, дескать, он был заключен под давлением Комаровских. Тут кому-то из семьи Потоцких пришла мысль похитить Гертруду и упрятать в одном из Львовских монастырей, где настоятельницей была дальняя родственница Потоцких.
Зимней февральской ночью 1771 года неизвестные напали на усадьбу Комаровских, схватили Гертруду и бросили в крытую повозку. С тех пор ее никто не видел. Предполагали, что по тайному приказу супругов Потоцких она была убита и брошена в реку.
Между семьями начался длительный судебный процесс. А тем временем главный виновник всего случившегося всячески старался загладить вину перед родителями. Переживал ли он гибель жены и ребенка? Можно полагать, что по-своему скорбел. Дабы отвлечь сына от угрызений совести и тягостных воспоминаний, его отправили в заграничное путешествие.
Неожиданно и, как считали, при таинственных обстоятельствах умерла Анна Эльжбета — мать Щенсны. Спустя 10 месяцев тяжело заболел и Франтишек Салезий. Он умер как раз в тот момент, когда дело о смерти Гертруды получало все большую огласку. Но и умирая, он был уверен, что спас легкомысленного сына от позорного неравного брака.
Станислав Щенсны Потоцкий стал обладателем огромного состояния. Он владел около 1,5 млн. гектаров, на них трудилось 130 тысяч крепостных, годовой доход его превышал 3 млн. злотых. Первое, что он сделал, — покончил тяжбу с Комаровскими, выплатив им 700 тысяч злотых. И почти сразу же по окончании судебного процесса женился. На этот раз его избранницей стала дочь краковского кастеляна Юзефина Амалия Мнишек — из древней магнатской семьи. Скажу сразу, у них было 11 детей, но лишь трое старших были рождены от законного супруга. Юзефина оказалась, мягко говоря, любительницей амурных похождений, она подолгу жила за границей и вела откровенно свободный образ жизни. Но это будет потом, когда супруги станут жить раздельно. А поначалу Станислав Щенсны был безумно влюблен в свою жену. Следует, однако, заметить, что Юзефина, несмотря на все свои тайные и явные похождения и прегрешения, внешне всегда вела себя как верная и заботливая супруга.
С годами Потоцкий все больше стал претендовать на роль политического лидера, причем откровенно пророссийской ориентации. Петербург всячески поддерживал эти его устремления, не скупясь на всякого рода доказательства уважения, похвалы и лесть. Польские историки сегодня поражаются, насколько этот недалекий, а по мнению иных, и глуповатый магнат «был очарован показным величием Екатерины II».
В 1788 году Потоцкий откупил у своего шурина Фридерика Алойзы Брюля (мужа Марии — одной из своих сестер) ранг генерала коронной артиллерии. И почти тогда же тридцатишестилетнего новоиспеченного генерала настигла стрела проказника Амура. В Яссах генерал повстречал Софию. Пани Юзефина Потоцкая пребывала в Вене. Так что Станислав Щенсны с легким сердцем созерцал красоту пани Витт. Его внимание не осталось незамеченным. К тому времени София потеряла своего могущественного покровителя и была свободна от обязательств. Она ответила на чувство генерала. И уже в конце 1781 года об их романе говорил буквально весь город.
К этому времени Потоцкий открыто перешел на сторону России, встав во главе так называемой Тарговицкой конфедерации, отвергшей существующую конституцию, и тем самым способствовал будущему второму разделу Польши. До сих пор многие поляки считают его виновником «одного из величайших несчастий в истории польского народа».
Как бы ни было, София невольно оказалась вовлеченной в большую политическую игру. И когда в Яссы прибыл кузен Потоцкого Станислав Костка, чтобы уговорить того отказаться от выбранной позиции, попытка эта провалилась. Как считают, этому в немалой степени способствовала София. Она якобы действовала как агент петербургского двора и даже уговаривала Потоцкого согласиться возглавить русские войска, иначе говоря, интервенцию в Речь Посполитую. «У нас в руках, — писал историк Антони Ролли, — почти что доказательства, что пани Витт своим заискиванием и кокетством принуждала Потоцкого к поддержке политики „северной союзницы“». Однако есть и противоположные сведения. Будто София уговаривала генерала принять предложение короля Станислава Августа вернуться в Варшаву. Но тут вмешался гетман Северин Ржевуский, бесповоротно вставший на русскую сторону и вскоре перешедший на царскую службу. «Я убежден, — писал о нем Станислав Костка Потоцкий, — что без этого злобного человека мы с пани Витт заставили бы генерала послушаться голоса рассудка. Я думаю так потому, что она всячески помогала мне в этом вопросе и немало способствовала тому, что Ржевуский постоянно пребывал в большой тревоге». Однако генерал коронной артиллерии не послушался совета Софии.
Между тем в Варшаве собрали сейм, на котором обоих магнатов, Ржевуского и Потоцкого, лишили занимаемых ими государственных постов за непризнание конституции и борьбу с королем. К удивлению Многих, получив в Яссах сообщение об этом постановлении сейма, оба вельможи возликовали и поздравляли друг друга словно с повышением в чине. Им казалось, что теперь, спалив за собой все мосты, они смогут наконец-то осуществить свои планы с помощью русского орла.
Хотя София и была против этой, как ей казалось, авантюры, она помнила о своей главной тайной цели — во что бы то ни стало довести до брачного финала свой роман с Потоцким. Русский дипломат сообщал из Ясс, что польский генерал «по-сумасшедшему влюбился в госпожу Витт и тратит на нее бешеные деньги». Но когда пришло разрешение Потоцкому приехать в Петербург, он не решился взять с собой Софию. То ли из-за того, чтобы не дразнить чопорный свет русской столицы своей связью, то ли потому, что опасался влияния Софии во время предстоящих ему переговоров.
В Петербург съехались главные фигуры польской знати прорусской ориентации. Это — экс-гетманы Ксаверий Браницкий, Северин Ржевуский, Шимон Коссаковский, а также Станислав Щенсны Потоцкий. Предстояли переговоры со всемогущим Платоном Зубовым, полновластным хозяином в Коллегии иностранных дел Аркадием Морковым и еще недавно правой рукой Потемкина генералом Василием Поповым — хранителем всех тайн умершего князя. Был составлен план действий против Речи Посполитой.
Одной из главных фигур с русской стороны выступал сорокалетний граф Аркадий Иванович Морков, человек образованный, проницательного ума и выдающихся способностей, находчивый, остроумный и насмешливый. Он пользовался в ту пору большим доверием самой императрицы, поручившей ему свою личную дипломатическую переписку. Карамзин назвал его «знаменитым в хитростях дипломатических». У него было три, можно сказать, недостатка: больные глаза, страсть к картам и некрасивая внешность. Когда Екатерина II хотела женить его на своей любимице Анне Степановне Протасовой, двоюродной племяннице всесильных братьев Орловых, девице далеко не красивой, Аркадий Иванович отказался от брака, сказав: «Она дурна, я дурен, что же мы с нею будем только безобразить род человеческий». Так и остался холостым, хотя от французской актрисы Гюс имел дочь Варвару, получившую впоследствии фамилию и титул отца.
С польской стороны в переговорах, как было сказано, принимал участие Шимон Коссаковский. Происходил он из старинного дворянского рода и был мужем Екатерины Коссаковской, урожденной Потоцкой, каменецкой кастелянши. Судьба этого конфедерата, одного из закоперщиков русской интервенции, оказалась плачевной. Когда русская 64-тысячная армия вступила в Польшу и Литву, сторонник России Шимон Коссаковский был повешен в Вильне, а его брат — в Варшаве. Но это будет потом. А пока что поляки и русские только разработали план действий против Речи Посполитой. Активно участвовал в этом и Станислав Щенсны Потоцкий.
В мае 1792 года русский посол в Варшаве Яков Булгаков вручил королю ноту, в которой обосновывалось вступление на польские земли русских войск. Началась ожесточенная борьба приверженцев конституции 3 мая 1781 года, введенной путем государственного переворота, против конфедератов, сторонников Тарговицких соглашений, объявивших конституцию отмененной. Петербург поддерживал конфедератов.
Весь период, пока шли военные действия, София находилась в Херсоне при муже. Но стоило только Потоцкому позвать ее к себе в Тульчин, как она сломя голову понеслась к нему. Так впервые София переступила порог дома, где еще недавно не осмелилась бы появиться. Ее торжественно приветствовали как даму, пользующуюся благосклонностью хозяина. До Юзефины Потоцкой, находившейся в это время в Вене, дошли слухи о романе мужа, но она отнеслась к этому более чем спокойно.
В тульчинском дворце звучала музыка, раздавался звон бокалов, балы сменялись маскарадами, театральные постановки фейерверками. София благосклонно выслушивала тосты в свою честь, лесть подвыпивших гостей, милостиво позволяла поцеловать ручку или туфельку. Ее сравнивали с Венерой и Минервой. А стихоплет Дымза Боньча Томашевский посвятил ей поэму. В ней говорилось, что Софию родила и вскормила сама богиня Гея.
София! Ты дитя любви, Она тебя сделала своей наследницей, Так что даже в самой глубокой старости Ты будешь любима и будешь любить…Хотя этот откровенный панегирик и напомнил Софии о ее годах (ей было 32 года), она нисколько не рассердилась. И как бы отвергая намеки на возраст, переодевшись в гусарский мундир, скакала на коне и отплясывала перед гостями самые невероятные танцы. И это при том, что она ждала ребенка.
Но идиллия длилась недолго. Екатерина II поняла, что ее ставка на конфедератов и оппозицию внутри страны не принесет желаемых результатов. Сломить сопротивление поляков можно исключительно военной силой. Потоцкий становился ненужной фигурой. Тогда он решил покинуть страну.
Перед отъездом он подписал «соглашение» с женой. Юзефине он оставил все свое имущество и доверил опеку над 11 детьми. Она же обязалась выплачивать ему ежегодно 900 тысяч злотых, а в случае его смерти в течение двух лет эту же сумму тому, кого он укажет в завещании (естественно, это была бы София).
В апреле 1793 года София родила сына, которому при крещении дали имя Константин. Ребенок, хотя и незаконнорожденный, приближал ее к цели — супружескому финалу с Потоцким. Однако пока что, не торопя события, она довольствовалась положением метрессы своего властелина, которого в письмах называла — дающий надежду. Было ясно, что из-за упорства Юзефины, не желающей дать развод Потоцкому, планы Софии обречены. Оставалось одно — ждать и надеяться. А пока что София решила добиться развода с собственным мужем Виттом.
Не дожидаясь Софию, занятую разводом с мужем, Потоцкий в июле 1793 года сел в Петербурге на судно, отправлявшееся в Любек. Оттуда переехал в Гамбург, где прожил потом целых два года. Он вел спокойную и беззаботную жизнь, в то время как на его родине разворачивались драматические события — восстание 1794 года и последовавший за ним третий раздел Польши. Юзефина Потоцкая считала этот отъезд делом рук Софии, ни о чем так не помышлявшей, как развести ее с мужем. «Не думаю, однако, — писала Юзефина, — чтобы он всерьез этого желал; почтительный человек, отец 11 детей, достигший 43 лет, может развлекаться, но ни сходить с ума, ни быть обманщиком и разведенным ему не пристало…» Юзефина явно недооценивала Софию.
Месяца через полтора после отъезда Потоцкого в Гамбург приехала и София. Развода с мужем ей добиться не удалось. Тогда Потоцкий через своего человека связался с Виттом, пытаясь склонить его дать согласие на развод за соответствующее вознаграждение. По поведению Витта можно было понять, что он не прочь принять предложение, но все дело в размере «компенсации».
В Гамбурге летом 1794 года у Софии родился второй сын, Николай. Возможно, это был ребенок не от Потоцкого, а плод какого-то очередного мимолетного ее романа. К слову сказать, у Потоцкого было немало и других поводов, чтобы ревновать свою возлюбленную.
Здесь, в Гамбурге, его застало известие о казни в Варшаве во время восстания многих своих сподвижников. Но еще более потрясло сообщение, касавшееся его самого, когда он узнал, что на родине заочно приговорен к смертной казни как один из наиболее ненавистных народу творцов Тарговицкой конфедерации. В конце сентября 1794 года варшавяне повесили на виселице портреты Браницкого, Ржевуского и Потоцкого. Спесивый магнат, до смерти перепуганный, призывал Петербург сурово покарать бунтовщиков, посмевших опоганить его имя. В письме к «ясновельможной императрице» Екатерине II он заявлял, что с Польшей, осмелившейся поднять против русских оружие и вешающей своих отечественных магнатов, славу и гордость Речи Посполитой, ему не по пути. Он считает себя русским, писал он, и с этой минуты у него нет другой родины, кроме Российской империи. Заверяя в преданности, он просил разрешить ему носить мундир российской армии (вскоре ему было присвоено звание генерал-аншефа).
Неизвестно, как София восприняла известие о происходящих в Польше событиях. В частности, о том, что на Краковском предместье и на Сенаторской улице в Варшаве были повешены многие ее знакомые. Не знаем и о том, дрогнуло ли ее сердце, когда пришло сообщение, что повстанческая пуля настигла в те дни и Кароля Боскамп-Лясопольского.
В мае 1795 года Потоцкий решился поселиться на Украине, теперь уже — после третьего раздела Польши — принадлежащей России.
София же, полная решимости довести до конца бракоразводный процесс с мужем, направилась во Львов — столицу Галиции, теперь принадлежащую Австрии, где в государственном суде рассматривалось ее дело и где находился знакомый ей каменецкий епископ Адам Красиньский, весьма сведущий в такого рода тяжбах. По дороге она заехала в Неборов к жене последнего виленского воеводы Михаила Радзивилла. В письме к Потоцкому она подробно описала дом, усадьбу и особенно поразившую ее Аркадию — деревню под Неборовом, где был разбит прекрасный парк. «Гуляя по садам Аркадии, — писала она, — я чувствовала себя так, будто переживаю весну… Хорошо мне тут! Аркадия очень напоминает мне Крым». И добавляла без всякой задней мысли: «Знаешь ли ты, что в твоих землях при твоих средствах можно было бы за два года создать такую же и даже еще лучше Аркадию?!»
Из Львова она ежедневно посылала письма Потоцкому, во всех подробностях описывая ход процесса. В каждом из писем напоминала о своей любви и благодарила за любовь к ней. «…Падаю тебе в ноги, мой ангел, за все те прекрасные слова, что ты мне пишешь. Даже если я не такая, какой ты меня видишь, я изо всех сил буду стараться походить на тот дивный портрет, который ты нарисовал, и буду еще счастливей, если, благодаря своим стараниям и огромнейшему желанию понравиться тебе, смогу осчастливить тебя. И если однажды моя нежность заставит тебя забыть все страдания, какие ты пережил, позволит тебе изведать счастье семейной жизни, тогда ты никого не будешь искать в мире, кроме твоей Софии. Я — часть твоего мира, ибо верю, что любима тобой».
24 сентября 1795 года состоялся суд по поводу развода с генералом Виттом. Исход дела решила бумага, предъявленная адвокатом Софии. Это был хитрый ход. В этой бумаге София утверждала, что вступила в брак поневоле, принужденная силой. «Я, София Витт, — заявляла она, — присягаю перед Господом Богом всемогущим, что я была Юзефом Виттом уведена из турецкого хотимского отряда не с целью вступления с ним в брак, но с мыслью об обещанной им мне высылке меня к моей матери, и у этого же Витта в доме тайно содержалась. И так, находясь в его власти, после угроз, что если я не соглашусь на брак с ним, то он выдаст меня хотинскому паше, я на третью ночь была привезена в церковь, и надо мной, того не желавшей, в этой церкви брачный обряд был свершен».
Это было явным клятвопреступлением, но для львовского императорского суда оказалось достаточно веским документом. Тем более что правду Софии подтверждали свидетели: привезенная из Ясс ее мнимая сестра (на самом деле ее тетка Главани) и еще несколько человек, подкупленных ею. Они присягнули, что в 1779 году бедная Дуду очень хотела вернуться в Константинополь, но майор Витт вынудил ее остаться в Каменце. На основе этих свидетельств суд признал брак Софии и Юзефа Витта недействительным. В январе 1796 года решение это подтвердила вторая инстанция. Казалось, в тот момент между сторонами были улажены и имущественные проблемы. София записала на имя сына Яна 100 тысяч злотых, которые тот должен был получить по достижении 24 лет. До этого времени проценты с этой суммы (5 процентов ежегодно) предназначались на покрытие расходов по его образованию.
Вскоре, однако, Витт потребовал увеличить эту сумму, иначе-де он не признает решение львовского суда. Чтобы окончательно уладить дела с Виттом, требовался опытный посредник. Эту роль взялся исполнить генерал-фельдмаршал А. И. Суворов, живший тогда в южных губерниях. Но он был прекрасным военачальником и плохим дипломатом. Миссия его провалилась, потому что обуздать аппетит Витта ему не удалось. Тогда был избран генерал Антоний Злотницкий, друг семьи Потоцких, тогдашний комендант города Каменец-Подольский.
Бракоразводные торги, прогремевшие на всю Польшу, продолжались несколько дней. Витт, по словам его второй жены Каролины Остророг, требовал все новых и новых сумм и похвалялся, что непременно их получит, как вспоминал Злотницкий, «несколько дней шли торги с большими заботами для меня и неприятностями для Витта. Хотя Потоцкий и поручил мне предложить ему два миллиона, я всеми способами уговаривал Витта получить 500 тысяч злотых и несколько тысяч корцев пшеницы. Торговались крепко. Потоцкий не уступал, а предмет торга совсем этим не оскорблялся, наоборот, ей льстила и цена, и куцец».
Наконец было подписано соглашение: «Граф де Витт, генерал-поручик войска ея императорского величества, кавалер ордена Св. Станислава, с одной стороны, и Софья, графиня де Витт, — с другой, в силу основанных на канонических правилах и других важных обстоятельствах трех декретов бракоразводного львовского суда от 17 ноября 1795 г., 19 января и 26 января 1796 г., признают их справедливыми и не нарушающими следующие условия, заключенные между ними по добровольному соглашению…»
Что же это были за условия?
Жена, то есть София, уступает мужу права на белорусские имения и 150 тысяч злотых, дарованных ей Потоцким по векселю. Кроме этого, дает еще 400 тысяч злотых на покупку Грушевского ключа, который принадлежит Потоцкому в Ушицком уезде. Имение это должно быть куплено на имя сына, но отец имеет на него права пожизненного владения. Потоцкий квитует (то есть покрывает) все долги Витта, до 450 тысяч злотых. Наконец, он обязывается воспитывать сына графа Витта Ивана (Яна), в то время пятнадцатилетнего мальчика.
Хуже обстояло дело с разводом самого Потоцкого. Юзефина категорически заявила, что не даст своего согласия. Единственное, на что она готова была пойти, так это переехать из Тульчина в Петербург. То есть освободить место подле мужа для его возлюбленной.
После развода с Виттом София оказалась в сложном положении. Ей исполнилось уже 36 лет, и начинать жизнь сызнова было поздно. Значит, по-прежнему надо делать ставку на Потоцкого. Она засыпает его посланиями, в которых признается, что не мыслит жизни без него и согласна на любую роль при нем.
В конце декабря 1795 года она писала из Львова: «Начну с ответа на твое письмо от 17 ноября, написанное в Черном Каменце. Чудесное это письмо, все слова, какие в нем есть, рисуют твою душу и твою деликатность. Правда, это всего лишь мертвая бумага, но даже она несет на себе столь сильный отпечаток твоей нежности, которая оживила бы и менее чувствительную материю, так что сам вообрази, какое впечатление произвело на твою Софию, которая боготворит тебя, которая живет тобой, дышит только для тебя. Я не могу расстаться с этим восхитительным письмом; как только я его получила, сразу положила возле сердца, читаю по десять раз ежедневно; мыслями переношусь в Дашев, я с тобой, в твоих объятиях, купаюсь, упиваюсь счастьем своей свободы, радостью посвящения себя тебе, без каких-либо претензий, кроме единственной — всегда быть с тобой и любимой тобою. Мне очень нужна твоя любовь; я знаю, что никто не умеет любить так, как ты, когда любишь искренне и безраздельно. Ты приказываешь мне, мой ангел, быть счастливой; я такая и есть, и даже очень. Верь мне, мой дорогой друг, что с твоего приезда в Тульчин, с минуты, когда ты меня заверил, что никто не в силах украсть у меня твое сердце, с тех пор, как дано мне великое счастье жить рядом с тобой и быть с тобой, нет на земле более счастливого существа, чем я; и это твое творение, мой дорогой. Ты знаешь, что я верующая, но с тех пор, как я счастлива, довольна благодаря тебе, я стала святошей, ибо мне кажется, что я не могла бы в достаточной мере выразить признательность свою Высшей Сущности за все те дары, которыми она меня осыпала. Сто раз в день я думаю о своей счастливой звезде, сто раз в день я вспоминаю, что же такого хорошего я сделала в жизни, что Небеса так хранят и одаривают меня. Подумай, можешь ли ты приказать мне: „Будь счастлива!“, если я и так счастлива, мой ангел, с минуты встречи с тобой ничто не в состоянии сделать меня несчастной, даже ненависть из Тульчина. Госпожа из дворца напрасно старается препятствовать нашему счастью; она не в силах запретить мне любить тебя, восхищаться тобою, посвятить тебе мою жизнь и свободу. Если она злобна, если она не может сделать тебя счастливым и старается помешать тому, чтобы это сделала другая, тем хуже для нее! Что же касается меня, то ничто, ничто в целом мире не заставит меня изменить свое отношение к тебе. Если она думает, что сумеет отбить у меня любовь всеми этими своими гадостями, она даже не в состоянии представить себе, какие чувства я питаю к тебе. Я решилась жить подле тебя в любой роли — любовницы, жены, содержанки, рабыни, — мне все равно, пусть я буду вещью, принадлежащей тебе и которой ты можешь распоряжаться по своему желанию, пусть я буду существом, которое тебе поклоняется и которое собственное счастье может обрести только в счастье своего божества. Если в Тульчине и впредь будут препятствовать мне стать твоей женой, я буду огорчена из-за наших детей, из-за этой малютки-девочки, которую я так страстно хочу иметь. Что же касается тебя, то могла ли бы я меньше любить тебя в качестве любовника, а не мужа?! Разве ты не сделал все, что в твоих силах, чтобы стать им? Разве по твоей вине это не удалось? Верь мне, мой обожаемый, что чем больше препятствий будет ставить передо мной та сторона, тем больше будет разрастаться моя любовь к тебе».
Если судить по этому письму, то о Потоцком надо составить самую лестную характеристику. Трудно, однако, поверить, что этот далеко не молодой, обрюзгший, кичливый вельможа мог пробудить столь возвышенные чувства у женщины все еще очаровательной и обольстительной, знаменитой чуть ли не на всю Европу, у женщины, которой многие поклонялись, мечтая добиться ее благосклонности. Скорее всего, София не была откровенна и едва ли испытывала те чувства, о которых писала. Ей тем легче было притворяться, что за плечами был богатый опыт, да и объект стоил того, чтобы пойти на обман.
К тому же общественное положение Софии было достаточно сложным.
Юзефина жила в Петербурге и по-прежнему считалась официальной женой Потоцкого. В столице она развернула против Софии, можно сказать, целую кампанию, пытаясь всех убедить, что госпожа Витт — опасная авантюристка. А в это время обязанности жены рядом с Потоцким выполняла именно София. Дети Потоцкого и Юзефины находились под опекой матери, однако все больше времени проводили в Тульчине, рядом с Софией. Хотя и считали ее интриганкой, опутавшей их отца, чтобы завладеть его богатством.
София действительно не теряла надежды, что когда-нибудь станет графиней Потоцкой, верила, что час этот придет.
* * *
Итак, София обосновалась в Тульчине подле своего повелителя. Он же делал все, чтобы ее пребывание здесь было привлекательным и комфортабельным. Построил для нее турецкие бани, видимо, памятуя о ее прошлом. Но самым дорогим и прекрасным подарком стал парк под Уманью, названный в ее честь Софиевкой. И по сей день существующий парк стал памятником ее земного существования. По красоте он намного превосходил ту Аркадию, которая когда-то так поразила воображение Софии.
Место для парка выбрали в излучине реки Каменки, там, где в нее впадает речка Уманка. Когда-то земли эти принадлежали роду Калиновских, родне Потоцких. С начала XVII века Умань с окрестностями перешла к отцу Станислава Щенсного, и над укрепленным замком взвился флаг с изображением герба — золотого патриаршего креста.
Мысль создать в окрестностях города парк подала однажды сама София. Гуляя как-то с Потоцким, она обмолвилась, что было бы хорошо устроить здесь сад. Влюбленный магнат воспринял ее слова как приказ. И работа закипела.
Руководил сооружением парка крепостной Заремба, а всей инженерной частью — тридцатилетний польский артиллерийский офицер Людвик Метцель. Возвели великолепный дворец, проложили дороги, соорудили мосты. Посадили «Греков лес» — в честь греческого происхождения Софии. Привезли машины и другие приспособления для установки каменных глыб и гидравлических сооружений (Метцель прекрасно знал гидротехнику). Вырыли пруды, создали водопады и пещеры, фонтан, который бил на высоту 20 метров, высадили редкие породы деревьев, построили оранжереи, возвели гроты в так называемой Долине гигантов.
Это было что-то невиданное, сказочное, чуть ли не земной рай. Работы длились несколько лет, было израсходовано 15 миллионов злотых.
А тем временем Потоцкому удалось наконец склонить Юзефину дать ему развод. Консисторский суд в г. Каменец-Подольский положил конец их 23-летнему неудачному, однако увенчанному одиннадцатью детьми браку. Путь Софии к алтарю был открыт.
Великой датой для нее стало 17 (28) апреля 1798 года. В этот день София наконец получила право называться графиней Потоцкой. Свадьба была тихой и скромной. Таинство обряда совершил сначала католический ксендз, затем православный священник. В метрическом свидетельстве, разысканном в наши дни в архиве историком В. Святеликом, говорилось: «По Указу Его императорского Величества дано сие из Подольской духовной консистории о том, что в метрической книге Успенской церкви г. Тульчина Брацлавского уезда за 1798 год во второй части о бракосочетании под № 5 значится следующая запись: венчаны 17 апреля месяца жених за разводом с первою женою его сият. граф Станислав Феликс (Щенсны) Потоцкий, сего города Тульчина помещик, с разводною гр. Витте женою Софиею, урожденною Челиче да Маврокордато, в церкви Тульчинской Святоуспенской при роде третьим браком венчаны».
Вскоре после триумфа Софии Юзефина Потоцкая, урожденная Мнишек, скончалась в Петербурге.
К этому времени прекрасный парк был почти готов. Потоцкий решил преподнести его в подарок Софии в день ее именин. Было это в 1800 году. Софии показалось, что она вступает в земной рай. Ее восторгу не было конца, чудеса сменялись одно за другим, так что она не успевала даже надивиться ими. Но особенно ее тронула надпись на одном из обелисков: «Любовь подносит Софии». Это была как бы кульминация, выражение высших чувств, которые питал к ней Потоцкий.
В день именин Софии на открытие чудо-парка пригласили многих гостей. Их ждали сюрпризы.
На площадке возле бассейна с золотыми рыбками стояли шатры, приготовленные для пиршества. Самый красивый шатер из ярких восточных тканей предназначался для виновницы торжества.
Вечером, после того, как гости налюбовались красотами, была устроена иллюминация. А когда в небе взошла луна и осветила весь сад, по озеру поплыли наяды в белоснежных одеждах. Они приблизились к ступеням, спускающимся к самой воде, и все пирующие увидели 12 красавиц, убранных цветами, с распущенными волосами, в серебристых одеждах и с венками в руках.
В это же время из шатра вышла хозяйка, на ней поверх платья было накинуто манто темно-коричневого цвета с яркой желтой подкладкой. Она подошла к одному из гостей. Подала ему руку и повела к ступеням.
Небольшого роста, немного сутуловатый, скромно одетый Метцель (это был он) разволновался от оказываемого ему внимания. А когда наяды начали петь кантату, в которой восхвалялось искусство строителя сада, — совсем растерялся. Пение кончилось, наяды вышли на берег и покрыли Метцеля венками. Он скромно изрек:
— Этот сад воздвигнут самой природой, созданной Творцом, кто может дерзать изменять ее.
Это был момент наивысшего взлета, апогея в судьбе Софии.
До конца жизни она была привязана к парку, воспетому Станиславом Трембицким в поэме «Софиевка, описанная топографическим способом». Влекло сюда и то, что здесь были похоронены трое ее малолетних детей, родившихся от Потоцкого до его женитьбы на ней.
Пасынок
В тот день, когда София отмечала в Тульчине свое сорокалетие, там находился ее пасынок — старший сын Юзефины и Станислава Щенсны, тогда 21-летний Щенсны Ежи Потоцкий.
Гуляка и игрок, он жил в Петербурге, был произведен в камер-юнкеры. Происхождение и богатство могли обеспечить ему блестящую карьеру при русском дворе, если бы не его пагубная страсть к азартным играм и женщинам. Он бросал на ветер огромные деньги, благо родитель не отказывал ему. Его долги исчислялись астрономической цифрой — 2 млн злотых. Отец всякий раз оплачивал их, чтобы не быть скомпрометированным. Однако юный Потоцкий продолжал разгульную жизнь. О его пристрастии к картам ходили легенды. Говорили, что он мог неделями не отходить от игорного стола. Дошло до того, что молодого повесу под конвоем выпроводили из столицы, обязав жить в имении отца на Украине. Тот принял сына, оплатил его долги, даже подарил земли под Могилевом и 10 тысяч крепостных.
Неудивительно, что юный Потоцкий и София — каждый по-своему авантюрист — прониклись взаимной симпатией. Вскоре дружба переросла в греховную связь. Старый граф долгое время ни о чем не догадывался. А когда узнал, то не смог пережить позора и отчаяния. К тому же ему насплетничали, что не он отец второго ребенка, которого недавно родила ему София, а венецианский разбойник Караколли. Будто во время путешествия по Италии она подверглась нападению бандитов, и их главарь, пораженный красотой Софии, изнасиловал ее. Ребенка этого назвали Мечиславом. (После этого, правда, София подарила мужу двух дочерей — Софию и Ольгу — и еще одного сына, Болеслава.)
Оба известия — связь мачехи с пасынком и история с разбойником — подорвали здоровье графа. Он умер в Тульчине в конце марта 1805 года в возрасте 53 лет. Но и после смерти судьба оказалась безжалостной к нему.
После того как его отпели в костеле, тело оставили на ночь в часовне в открытом гробу. Каково же было удивление родных, когда наутро они нашли покойного стоящим у стены абсолютно голым. Оказалось, ночью кто-то пробрался в часовню и начисто обобрал покойного — снял драгоценности, ордена, даже мундир русского генерал-аншефа.
Сразу же после смерти графа объявилось 16 наследников — его дети от разных жен. Начался долгий имущественный спор. И почти все родственники выступили против Софии, как интриганки, незаконно претендующей на долю в наследстве. Они использовали положение из старого польского гражданского права, где не было статьи о совместном имуществе супругов. Общим признавалась лишь недвижимость, а права жены распространялись только на ее приданое и часть имущества мужа.
Если бы дело разбиралось в соответствии с этим законом, София оказалась бы у разбитого корыта. В лучшем случае она могла бы стать опекуншей той части наследства, которая должна была отойти к ее детям.
У Софии не было ни своего состояния, ни приданого, которое она принесла мужу, — иначе говоря, она осталась бы без средств к существованию. Единственное, чем она владела, — это земли в Белоруссии, подаренные ей Екатериной II, но и их она переписала в свое время на имя своего первого мужа.
Софии ничего не оставалось, как начать борьбу за наследство. Это осложнило ее и без того плохие отношения с детьми Потоцкого от первого брака. К тому же против Софии выступила Каролина Витт — вторая жена Юзефа Витта. Она хотела любой ценой расторгнуть свой неудачный брак и объявила его недействительным на том основании, что якобы в год ее свадьбы в 1801 году Витт все еще был мужем Софии. Следовательно, развод Юзефа Витта и Софии в 1785 году не являлся законным.
Каролина подала в суд. Если бы ей удалось добиться расследования, то были бы подвергнуты сомнению юридические основы брака Софии с Потоцким. А это перечеркивало бы все ее надежды на наследство. С помощью 100 тысяч рублей София уладила это дело с Каролиной, и та исчезла с ее горизонта.
После этого София отправилась в Петербург, чтобы добиться признания на права наследства. О своем тогдашнем положении она писала: «…после смерти моего дорогого мужа у меня отняли звание матери, кузины, тетки. Я сразу же стала в семье иностранкой… меня начали преследовать, а детей хотели превратить в незаконнорожденных. Теперь их намерены лишить и доли в наследстве. Завещание моего мужа, хотя оно им написано собственноручно, признано незаконным…»
В Петербурге, используя свои старые связи, Софии удалось добиться царского указа, признающего ее равное право на наследство. «Император посчитал своим долгом вмешаться, — писала она, — и, хвала Богу, теперь я спокойна».
Кто же помог Софии добиться царского расположения? Можно назвать, например, английского посла лорда Александра Гамильтона Дугласа. Все еще красивая сорокашестилетняя София сумела вскружить голову этому вельможе, который был моложе ее на целых семь лет. Она милостиво дозволила ему посещать ее спальню. Лорд настолько увлекся, что даже после того, как был отозван, не покинул Россию и продолжал быть верным рыцарем графини Потоцкой.
Благосклонно принимая поклонение Дугласа, София, однако, не платила ему верностью. Ее любовные связи в это время были, мягко говоря, весьма запутанными. Среди ее любовников особо надо выделить сенатора Николая Николаевича Новосильцева. Ближайший сподвижник молодого царя Александра I угодил в сети ловкой авантюристки и полностью подпал под ее влияние. Используя его положение, она и добилась царского благоволения.
Не желая быть неблагодарной, София написала сенатору: «Прошу тебя, заклинаю не отказать мне в милости принять прилагаемые 6 тысяч дукатов… Не испытывай никаких угрызений совести, так как, уверяю тебя, меня эти расходы вовсе не тяготят, кроме того, я живу в стране, где у меня огромное состояние».
Новосильцев принял деньги, и можно думать, что это было не в последний раз.
Связь эта продолжалась много лет. И все эти годы София, если судить по ее письмам, оставалась нежной, покорной и преданной, уверяла в неизменности своей любви к нему.
А как же ее роман с пасынком? Щенсны Ежи пребывал в Тульчине, засыпая Софию страстными письмами, полными упреков в неверности и обмане. Однако безоговорочно согласился с тем, что предлагала ему София: откупить у него заложенные и перезаложенные имения, а ему самому уехать за границу — поправить здоровье, подорванное распутной жизнью. София обязалась выплачивать ему ежегодно 15 тысяч дукатов. Взамен к ней переходили все имущественные права пасынка. Весной 1807 года Щенсны Ежи навсегда покинул Тульчин и уехал в Париж. София нежно простилась с ним (к этому времени она вернулась в Тульчин), до последней минуты не отказывая ему в правах любовника. Благо Новосильцев и лорд Дуглас были далеко. Сенатор ревновал, писал ей полные упреков письма. Она его успокаивала: «У тебя было право, мой друг, иногда сомневаться в моем чувстве… Тебе могло показаться, что я лишь изображаю любовь к тебе, чтобы обеспечить твою поддержку. Твои сомнения так естественны; на твоем месте я была бы даже более подозрительной». И призывала верить ей, что ее счастье неразрывно связано с ним и никого в мире, кроме него, любить она не может.
В то же время она много писала Щенсны Ежи и обещала приехать в Париж, как только позволят дела. Сама же летом 1808 года отправилась в Одессу, где ее ждал Новосильцев. Соперники были явно не в равном положении: в Париже — больной угасающий вертопрах, а здесь влиятельный сановник, от которого во многом зависело ее материальное и даже общественное положение. Все, чем она могла помочь молодому Потоцкому, — это поддерживать его деньгами. Хотя и знала, что бросает их в прорву. Он быстренько спускал все, что получал от нее, за зеленым столом. Она сетовала: «Ты плохо поступил, что растратил все деньги; будь разумным и пожалей меня; если ты и впредь будешь так же транжирить деньгами, мы оба обанкротимся». Как всегда меркантильная, она не забывает напомнить ему о том, чтобы он составил и прислал ей свое заверенное завещание.
И как в воду смотрела — в октябре 1809 года Щенсны Ежи Потоцкий закончил свой никчемный земной путь. Перед смертью он выслал ей свое завещание, по которому все, что ему принадлежало, должно было достаться сестрам по отцу — Софии и Ольге.
Вскоре случилась новая беда. У нее на руках в Тульчине умерла ее тетка Главани, та самая, что стояла у порога ее беспримерного восхождения и светской карьеры. Рассказывая об этом в письме Новосильцеву и посвящая его в историю своей жизни, она признавалась: «Ты давно и прекрасно знаешь, что я не всегда высказываю то, что на самом деле думаю, и еще реже делюсь тем, что действительно знаю; несмотря на кажущееся неумение хранить тайны, я всегда держу про себя то, что нужно». При этом, как всегда, не забывала просить сенатора помочь в финансовых и прочих делах. В частности, прикупить земли под Одессой и в Крыму. Однако она лишилась его поддержки. Новосильцев утратил расположение царя, покинул на время Россию и поселился в Вене.
А в Тульчине между тем по-прежнему было весело и многолюдно. Сменялась череда гостей. Особенно в дни именин хозяйки. Однажды на празднество попал английский художник Уильям Аллан. Он запечатлел красоту дворца и парка. А другой гость — французский литератор Август де Лагард де Шамбон в письме к другу так описывал прелести далеко не молодой хозяйки: «Было бы бессмысленным описывать красоту Софии Потоцкой. Тебе отлично известно, что ее знают в Европе как графиню де Витт. Все, чего она смогла достичь, ее собственная заслуга. Красота — это, конечно, дар природы, которым та щедро ее наградила. Обаяние собирало вокруг нее поклонников, достоинства ума заставляли искать ее общества, а благородство сердца завоевало ей истинных друзей. Рожденная в Стамбуле, она сохранила всю восточную грациозность, которая придает каждому движению тела такое необыкновенное обаяние. Можно сказать, что короли, государственные сановники, прославленные военачальники в обществе этой прекрасной женщины напоминали Сократа или Перикла, которые в беседах с Аспазией совершенствовали свой вкус и утонченность ума».
Де Лагард повстречался здесь, в Тульчине, и с престарелым Станиславом Трембицким, автором поэмы «Софиевка». И возгорелся желанием перевести ее на французский. Его охотно поддержала сама София и помогла издать книгу в Вене, украшенную литографиями с акварелей Уильяма Аллана.
Празднества в Тульчине прервал курьер из Петербурга. Он прибыл от Яна Витта, сына Софии от первого мужа, с известием, что дети Потоцкого и Юзефины вновь пытаются оспорить права мачехи. София поспешила в столицу.
Последующие девять лет жизни Софии, к сожалению, окутаны туманом. Где находилась она во время войны с Наполеоном? В Тульчине? В Петербурге? Что делала позже? Бывала ли за границей? Документы и архивы хранят об этом молчание.
Сын разбойника
Вновь мы встречаемся с Софией Потоцкой в 1817 году. В этот год ей удалось продать Тульчин государственному казначейству. Тогда же здесь была размещена штаб-квартира Второй русской армии под командованием генерала Виттгенштейна. Во дворце Потоцких частыми гостями стали офицеры штаба. Среди них и молодой генерал Павел Дмитриевич Киселев — начальник штаба. Ему было 29 лет, но за плечами у него уже было богатое военное прошлое. Блестящий офицер влюбился в Софию — старшую дочь графини и попросил руки шестнадцатилетней красавицы. Мать одобрила его намерения. Состоялась помолвка. Но непредвиденные обстоятельства растянули период помолвки на несколько лет. Это было связано с семейным скандалом, вынудившим мать и дочь покинуть Тульчин.
Из всех своих детей от Потоцкого София больше всех любила свою тезку. Младшая София напоминала мать не только внешне. Они были похожи и характером. К остальным детям графиня относилась гораздо спокойнее. Исключением был, пожалуй, еще Ян Витт (Иван Осипович) — сын от первого брака. Она всегда проявляла заботу о его материальном положении, делала дорогие подарки, регулярно выплачивала большую сумму, чем страшно раздражала пасынков и других своих детей, особенно сыновей, и в первую очередь второго сына от Потоцкого — Мечислава.
В 1820 году графине Софье исполнилось шестьдесят лет. Ее старшей дочери Софии — девятнадцать, младшей Ольге — семнадцать. Старший сын, двадцатидвухлетний Александр, служил в гвардии, второму сыну Мечиславу было двадцать лет, и он рвался к управлению всем семейным имуществом, считая, что мать плохо с этим справляется. Пятнадцатилетний Болеслав только что закончил домашнее образование. Матери, естественно, не нравились притязания Мечислава. Когда же он, воспользовавшись ее отсутствием, подобрал ключи к ее комнатам и вынес все мало-мальски ценное, она едва не лишилась рассудка. Сын заявил, что взял лишь то, что принадлежит ему по праву. И вообще посоветовал ей поскорее убраться из дворца, ибо теперь здесь он будет безраздельным хозяином. Во время этой сцены Мечислав сохранял абсолютное спокойствие, чем еще больше вывел мать из себя. София вызвала в Тульчин Александра. Вместе с сестрами он пытался уговорить брата, но тот даже не вышел к ним. Через камердинера передал, что нездоров. Матери ничего другого не оставалось, как вместе с детьми покинуть Тульчин и переехать к Болеславу в Немиров.
Здесь она с помощью юриста составила бумагу и направила ее в суд. Чем же ответила она на выходку сына? София утверждала, что Мечислав не является сыном Станислава Щенсны Потоцкого. Его подлинным отцом был-де венецианский бандит Караколли, силой овладевший ею во время путешествия по Италии. Это значило, что Мечислав не имеет права носить фамилию Потоцкого и тем более претендовать на долю в его наследстве.
Как реагировал Мечислав на это сногсшибательное признание матери? Не менее сенсационным заявлением. Он публично заявил, что его «мать является известной всей Европе распутницей и блудницей, возможно, что и венецианский разбойник имел с ней связь, и вполне вероятно, что именно от него он, Мечислав, и рожден. Но поскольку Станислав Потоцкий признал его своим сыном и крестным знамением подтвердил это, то на этом основании он является полноправным претендентом на обладание выделенного ему состояния, на которое никто, кроме него, не имеет права».
Разгневанная София подала жалобу царю. Тот, возмущенный поведением Мечислава, хотел было сослать его в Тобольск. Однако благодаря вмешательству братьев смягчил свой гнев. Мечислав должен был принести матери свои извинения, что он и сделал. Но согласия между ними уже никогда не было. Оба извлекли из этого конфликта урок — никогда не делать семейные раздоры всеобщим достоянием.
После этих бурных событий София навсегда перебралась в Умань. А Мечислав остался в Тульчине. Вскоре София вынуждена была выехать в Петербург, чтобы там следить за процессом, который давно вели против нее ее пасынки Станислав и Ярослав, сыновья Потоцкого от Юзефины, по поводу части наследства.
Тем временем приближалась свадьба юной Софии и Киселева. Был назначен день. По традиции жених направил письмо императору, в котором писал о предстоящем событии и сообщал сведения о будущей супруге. Царь милостиво поздравил своего генерала, одобрил его выбор и сделал такую приписку: «Прошу передать мои поздравления и выражение уважения прекрасной графине Софии». А когда некоторое время спустя получил от Софии саженцы особых, ранее не встречавшихся в России итальянских тополей, собственноручно написал Софии Потоцкой письмо. «Вы подумали об украшении того места, которое я так люблю, уважаемая графиня, — писал Александр I. — Я весьма вам признателен и прошу поверить, что посылка этих саженцев меня очень и очень взволновала. Высказывая вам благодарность за эту милую память, спешу присовокупить к благодарности свои поздравления в связи с тем событием, к которому готовится ваша семья. Солдат, которого вы решились в нее принять, очень высоко ценим мною. Его таланты и заслуги завоевали мое к нему уважение и привязанность; его характер и редкие достоинства, о которых мне известно, безусловно принесут счастье той, руки которой он оказался пожалован».
Летом 1821 года состоялась свадьба. Она стала одной из последних радостей, какие познала в своей жизни София.
Супруги Киселевы поселились в Тульчине, но не во дворце, где полновластно царил Мечислав, а в штаб-квартире Второй армии. Одно огорчало Софию — она не смогла участвовать в церемонии бракосочетания. Вынуждена была спешно выехать в Петербург, где Сенат готовился вновь рассмотреть затянувшуюся тяжбу о наследстве.
В Петербурге она впервые почувствовала себя плохо. Как потом выяснилось, это была неизлечимая болезнь, скорее всего рак матки. Теперь ее заботила лишь судьба младшей дочери — она спешила устроить ее счастье. Претендентов на руку Ольги было немало. Среди прочих мать отдавала предпочтение Милорадовичу — петербургскому генерал-губернатору. Однако сама Ольга не очень жаловала престарелого вояку. Потом появился еще один кандидат на руку Ольги — Павел Лопухин, тридцатитрехлетний офицер из древнего княжеского рода. Были и другие. Всех их Ольга одинаково одаривала своим вниманием, не останавливая, однако, свой окончательный выбор ни на ком. В этом походила на мать, что впоследствии станет особенно очевидно.
Разборчивость дочери огорчала Софию. Она спешила — ведь жить ей, она чувствовала, осталось недолго.
В декабре 1821 года София писала старшей дочери, что переживает все муки ада и ужасно страдает. Виной тому, как ей казалось, был петербургский климат. Но покинуть столицу не могла, так как спор с наследниками не был завершен. Наконец сообщила, что дело приняло для пасынков плохой оборот. «Ох! Если бы я чувствовала себя хорошо, как бы я радовалась окончанию процесса, который в течение восьми лет был моим мучением!» Добиться благоприятного исхода дела помог Киселев, прибегнув к помощи царя.
Между тем здоровье Софии катастрофически ухудшалось. Требовалось лечение за границей. Надо было спешить. За два дня до отъезда София написала подробное завещание. В нем скрупулезно изложила свою волю. Отдала должное старшему сыну, штаб-ротмистру конного лейб-гвардии полка Александру, хвалила Болеслава, благословила дочерей — Софию и Ольгу. Сурово осудила Мечислава, отказав ему в праве на долю наследства. А оно оказалось огромным: движимое и недвижимое имущество общей стоимостью свыше 10 миллионов рублей. А ведь это была только часть (притом меньшая) огромного состояния ее мужа Станислава Щенсны Потоцкого. Ей принадлежали земли в Киевской, Подольской, Херсонской и Екатеринославской губерниях с 37 тысячами крепостных душ мужского пола. В числе движимого имущества: многочисленные стада скота, верховые и рабочие лошади, драгоценности, наконец, крупные суммы денег, обеспеченные серебром и золотом.
Александру достались 8 тыс. крепостных, земли на Умани и Софиевка. Болеславу — 8 тыс. крепостных, поместье Ольгополь, не считая лошадей, мериносных овец и многого другого. На долю дочерей пришлось по 5 тыс. крепостных, драгоценностей на 30 тыс. дукатов и фамильное серебро на 20 тысяч. Оставшиеся 8 тыс. крепостных предназначались в фонд уплаты долгов в размере 7 млн. польских злотых. Не забыла она и своего первенца Яна Витта. Ему завещала 100 тыс. дукатов, дом со всем имуществом и просила своих детей от второго брака всегда питать к нему уважение и симпатию, относиться как к отцу.
Похоронить себя она просила в склепе в Умани, отпевание произвести в православном соборе. Исполнителями последней ее воли назначила генералов Милорадовича и Виттгенштейна. Как свидетели завещание подписали — дипломат князь Куракин, тайный советник и член Государственного совета Ланской, вице-адмирал Шишков, адмирал Мордвинов и дипломат Морков.
В июне 1822 года София спешно покинула Петербург. Путь ее лежал в Берлин. Здесь, как полагали врачи, она сможет получить квалифицированную помощь. Увы, она была обречена. Последней радостью стало для нее известие, что дочь София родила ей внука.
В своем письме к Софии, написанном очень неразборчивым почерком, она говорила о мучительных болях, надеясь, однако, что берлинские светила помогут ей. В то же время умоляла дочерей приехать к ней проститься. Они прибыли в Берлин и находились у постели умирающей матери. Больше нам ничего не известно. София Главани-Витт-Потоцкая скончалась 24 ноября 1822 года.
Царь Александр I выразил соболезнование родным и разрешил перевезти останки в Россию, но прусские власти не спешили дать свое согласие. Как поступили дочери, мы уже знаем.
София Потоцкая закончила свою бурную жизнь и обрела вечный покой в Умани. Впрочем, это не совсем точно сказано. Десять лет спустя земли под Уманью были конфискованы в пользу государства Российского. Софиевка стала называться Царицын Сад и перешла в собственность царской семьи. Тогда же останки Софии перенесли из подземелья уманского собора в местечко Тальное, которое унаследовала от матери Ольга, ставшая женой генерала Льва Нарышкина. После 1917 года церковь, где находился прах Софии, приспособили для иных целей. Но и по сей день здесь в подземелье покоятся земные останки той, которую когда-то считали самой красивой женщиной Европы.
Завещание
Как сложилась судьба детей Софии Потоцкой?
Ее любимец генерал-лейтенант на русской службе Иван Осипович Витт был причастен к подавлению восстания декабристов, удостоен высочайших царских милостей. Его считали обер-шпионом и провокатором. Умер он в 1840 году, бездетным.
Александр Потоцкий оставил царскую службу, отказавшись от блестящей карьеры. В нем проснулись Чувства патриота, он вернулся в Варшаву. Во время восстания 1831 года на собственные деньги сформировал кавалерийский полк. После поражения эмигрировал. Состояние его было конфисковано. Он успел лишь небольшую часть поместить во французский и венский банки. С тех пор вел незаметную жизнь рантье, чаще жил в Риме, стал под старость чудаковатым. Умер в 1868 году.
Такая же метаморфоза постигла и Софию Киселеву. Ее брак оказался несчастливым. Сын вскоре умер. К тому же сестра Ольга завела роман с ее мужем. После 1831 года — ноябрьского восстания в Варшаве — стала горячей патриоткой. Шесть лет спустя София писала одному знакомому: «Кажется, царь собирается погостить в Софиевке, которую называет Царицын Сад. Моя сестра (Ольга) просит меня прислать ей модные платья, чтобы достойно принять его в гарнизоне Витта. Если бы мне кирпич упал на голову, я не испытала бы такой боли, как от этой вести. Я не могу смириться с мыслью, что благородное чело моей сестры склонится перед железной рукой, которая тяготеет над всей нашей родиной и даже пеплу умерших не дает спокойно почивать. Раньше я всегда думала, что мы с сестрой единомышленники и что наше предназначение — искупление браков с москалями. Я написала Ольге, объясняя ей, как гордо она поступила бы, если бы всем своим поведением выказала ту горечь, какую вызывает в ней горе страны и семьи…»
София вела свободный образ жизни, предавалась своей страсти — азартным играм. Жила главным образом в Париже. Стоит добавить, что София Киселева — это та самая красавица, которая подсказала А.С. Пушкину сюжет «Бахчисарайского фонтана» и в которую молодой поэт был одно время безнадежно влюблен. (О том, откуда пришла к Пушкину легенда о «фонтане слез», интересное исследование написал киевский историк Виктор Святелик. «Знамя», № 8, 1989.)
В отличие от сестры, Ольга прекрасно чувствовала себя в Петербурге, хотя охотнее жила в Париже. Там же и умерла в 1861 году.
Младший сын графини Софии Болеслав вкладывал деньги в дело просвещения на Подолии, основал гимназию в Немирове, назначил ее слушателям стипендии. Прожил долго и умер на рубеже веков.
Наиболее бурная судьба выпала на долю Мечислава. Ему удалось сохранить в своих руках большую часть отцовского наследства. За ним тянулся длинный шлейф разного рода махинаций, подлогов и даже преступлений. Молва приписывала ему поджог здания суда в Браславе, где хранились компрометирующие его документы. А когда прибыли судебные чиновники, чтобы расследовать причины пожара, он якобы приказал подать им за обедом отравленное вино. Трое чиновников умерли. Тогда Мечислав решил избавиться от доверенного человека Шейнера, с помощью которого, видимо, и были осуществлены пожар и отравление. Мечислав срочно отправил Шейнера за границу, вручив ему чек на 200 тыс. франков. Его сопровождал казак, получивший приказ убить его по дороге, а пожалованные деньги отобрать. На первой же стоянке Шейнер был отравлен.
Не менее сложной была и личная жизнь этого помещика-авантюриста. Первой его женой была Дельфина Комарувна, впоследствии известная муза Шопена и Красиньского. Брак вскоре распался, последовал развод. Вновь Мечислав женился на Эмилии Швейковской, дочери бедного полковника русской армии. Родители невесты рассчитывали на большое богатство для дочери, но надеждам этим не суждено было сбыться. Мечислав был патологически скуп. Еще он слыл жестоким деспотом, нещадно эксплуатировал крестьян и арендаторов. Все это позволило ему скопить баснословные капиталы, которые он помещал в парижские банки. Эмилия родила сына Николая, но, не выдержав жизни с извергом, убежала из Тульчина. Вскоре Мечислав похитил и увез к себе во дворец Меллер-Закомельскую, жену полковника. Прекрасная полковничиха пользовалась особой симпатией Николая I, и он, конечно же, не простил ему такой дерзости.
По приказу царя Мечислава арестовали и сослали на поселение в Саратов. Принадлежавшие ему земли перешли в государственное управление, за доходами с них установили строгий контроль.
Но Мечислава это не очень волновало — он заблаговременно поместил свои сбережения в парижские банки. Проблема была лишь в том, как пользоваться процентами с этих капиталов.
И в изгнании Мечислав проявил свой скандальный нрав. Не раз пытался бежать, принял православную веру, надеясь смягчить этим гнев царя. Но в конце концов оказался в крепости. Только при Александре II помещик-сумасброд был освобожден. После чего поспешил во Францию, где провел последние годы, развлекаясь и жуируя. Умер в 1878 году, оставив огромное состояние, оцениваемое в 80 млн франков. Все это богатство досталось его сыну Николаю Щенсны Потоцкому, жившему постоянно в Париже и женатому на итальянке Пигнателли. С ним угасла тульчинская линия Потоцких.
КОРОЛЬ РИСКА, ИЛИ МЕТАМОРФОЗА КАТОРЖНИКА
Побег
На рассвете со стен крепости раздались три пушечных выстрела. Местным жителям сигнал этот был хорошо известен. Он означал, что с Брестской каторги бежал преступник, и напоминал о вознаграждении в сто франков, которое ожидает всякого, кто поймает беглеца. В этот раз им был двадцатитрехлетний Эжен Франсуа Видок. Несмотря на молодость, он уже был известен как мастер побегов.
Свою репутацию Видок поспешил оправдать и на Брестской каторге. На восьмой день после прибытия бежал в платье монахини, которая за ним ухаживала в лазарете. В конце концов сумел раздобыть мужскую одежду и, выдавая себя за матроса-дезертира, добрался до Арраса, где родился в семье пекаря дождливой летней ночью 1775 года, когда небо раскалывалось от громовых ударов.
Здесь мальчишкой он разносил хлеб по домам и был самым сильным и самым красивым парнем на улице Венецианского зеркала. Отец хотел сделать из него булочника, сын же крепко запомнил слова гадалки, однажды предсказавшей ему бурную судьбу.
В один прекрасный день, прихватив из кассы родителя две тысячи франков, он отправился в Остенде, надеясь там сесть на корабль и уплыть в Америку. Однако уехать не удалось — его дочиста обобрал какой-то проходимец, которому он доверился. Пришлось поступить в бродячую труппу кукольников. С этого момента начались его похождения, вполне оправдавшие слова гадалки. Уже в балагане впервые проявился его талант подражателя, не раз выручавший его впоследствии. Видок поистине владел даром Протея, перевоплощался буквально на глазах, легко изменял возраст, манеры, голос.
После кукольного театра он поступил в услужение к бродячему лекарю. Ему приходилось таскать и раскладывать товар: склянки, пакетики, пилюли, а главное — сзывать покупателей. Скоро это занятие опротивело ему, и, послав лекаря ко всем чертям, он направил стопы в родной Аррас.
Шел 1791 год. Молодая Французская республика переживала тяжелые дни. До аррасцев доносятся из Парижа призывы отстоять отечество. Среди выступлений патриотов они узнают голос и их земляка, адвоката Максимильена Робеспьера, родившегося в соседнем с Видоками доме и отправившегося отсюда однажды вечером на дилижансе в столицу в качестве избранника города в Генеральные штаты.
Франсуа Видок, к тому времени вернувшийся и прощенный отцом, вступает добровольцем в армию. Его осанка, бравый вид, умение владеть шпагой способствовали тому, что его тут же зачислили в егеря. И вот на нем мундир бурбонского полка. В день битвы с австрийцами при Вальми — первого крупного успеха республиканских войск — его производят в капралы гренадеров.
Для шестнадцатилетнего юнца это было неплохое начало. Подвел его необузданный нрав. То и дело затевал он ссоры, не давал спуску обидчикам и насмешникам и за полгода успел раз пятнадцать подраться на дуэлях, убив при этом двух противников. После поединка с унтер-офицером ему ничего не оставалось, как скрыться и перейти к австрийцам. Его зачислили в кирасиры. Но он предпочел притвориться больным, нежели сражаться со своими. Так оказался он в госпитале, где пробыл несколько дней.
После выхода оттуда Видок начал давать уроки фехтования гарнизонным офицерам. Вскоре приобрел множество учеников и загребал изрядные денежки. И снова Видока подвел ершистый характер. Из-за крупной ссоры с бригадиром его приговорили к двадцати ударам, которые, по обычаю, отсчитывали на параде. Экзекуция привела его в ярость, он отказался давать уроки и поступил денщиком к одному генералу, отправлявшемуся в действующую армию. При первой возможности он бежал и, выдавая себя за бельгийца, оставившего прусские знамена, поступил в кавалерию. Страх быть узнанным и расстрелянным, если бы случилось столкнуться с прежним французским полком, где до измены он служил, преследовал его.
На его счастье, подоспела амнистия, после чего он спокойно объявился в родном Аррасе. В городе в тот момент расправлялись с аристократами.
Видок был поражен выражением уныния и ужаса на лицах горожан. На все вопросы о том, что случилось, ответом ему было молчание, люди ни слова не говоря отходили, недоверчиво оглядывая вопрошавшего. Что же произошло? Ответ стал ясен, когда он достиг площади Рыбного рынка и увидел здесь странное сооружение. Перед ратушей мрачно возвышалось изобретенное годом раньше Гильотеном «во имя любви к человечеству» быстро действующее приспособление — гильотина, метко окрещенное в народе «национальной бритвой».
Это орудие казни считалось гуманным изобретением, оно, с одной стороны, символизировало равенство в системе наказания, поскольку раньше голову отрубали только приговоренным, принадлежащим к знати, другие же шли на виселицу; с другой стороны, тюремщикам и палачам запрещалось плохо обращаться с несчастными, приговоренными к отсечению головы, пытать их.
Изобретатель этого адского сооружения заявил под смех Учредительного собрания в октябре 1789 года: «Господа, с помощью моей машины вам отсекут голову в мгновение ока, и вы не ощутите ни малейшей боли». Если бы члены собрания знали, что многих из них в скором времени ожидает встреча с национальной бритвой, они не спешили бы смеяться.
Томас Карлейль, английский писатель, историк и публицист, напишет полвека спустя: «Чудак Гильотен, почтенный практик, которому, как бы на смех, судьба дала бессмертие самое странное, какое только когда-нибудь вызывало смертных из недр забвения. Он мог усовершенствовать вентиляцию зал, мог оказать действительные услуги полиции по части медицины и гигиены; но надобно же, чтоб он сверх всего этого мог также сочинить трактат об уголовном кодексе, в котором представил изобретенную им машину для обрезания головы и художнически выполненную, которая скоро сделается известной повсюду». Таков был плод занятий Гильотена, плод, который народная благодарность или легкомыслие окрестили производным от него именем женского рода, как будто эта машина была его дочерью — Гильотина. «Несчастный доктор!.. — продолжал Т. Карлейль. — Даже после смерти много веков будешь блуждать ты неутешным привидением на мрачных берегах Стикса и Леты, а имя твое переживет, пожалуй, имя Цезаря».
Воплотить в жизнь это изобретение помогли двое помощников. Чертежи гильотины сделал д-р Луис, бессменный секретарь Хирургической академии и один из крупнейших врачей своего времени, а конструкцию построил плотник Тобиас Шмидт, обеспечивший этим орудием казни все 83 новосозданных департамента и получивший монополию на ее постройку. И очень скоро революционная буря превратила гильотину в инструмент казни индустриального масштаба. Во время массовых казней, прокатившихся по стране, когда одновременно публично отрубали головы сорока — пятидесяти людям, палачи и их помощники, натренированные каждодневным опытом, достигали невероятной быстроты в работе: на каждого осужденного уходило не более двух минут — зловещий рекорд!
Как совершалась казнь?
Жертву подводили к вертикальной доске, называемой «качалкой», с помощью двух крепких ремней, расположенных на уровне груди и колен, привязывали к этой доске. Затем помощники палача опускали «качалку», и осужденный оказывался лежащим на животе, а голова его попадала в круг открытого отверстия. После этого палач закрывал отверстие и приводил в действие нож гильотины.
Во время массовых казней времен революции «качалка» оставалась всегда опущенной. У палача на эшафоте было четыре помощника. Один из них хватал правую руку жертвы, другой — левую, третий — ноги. Втроем они бросали ее на «качалку» лицом вниз. На связывание ремнями времени не тратили — держали руками. Четвертый помощник укладывал голову в полукруглое отверстие, закрывал сверху доской с полукруглым вырезом, так что голова оказывалась также зажатой, и почти одновременно опускался нож. Пока нож приводили в прежнее положение, помощники бросали тело в тележку, стоящую рядом с эшафотом, затем хватали следующего осужденного. Головы падали в большой мешок или корзину с опилками. За тринадцать минут такой палач, как знаменитый Сансон, мог отсечь двенадцать голов.
«Что за человек этот Сансон! — восклицал писатель Мерсье, оказавшийся в тюрьме и чуть было не угодивший на гильотину. — Он отрубает любую голову, кого бы ему ни привели!»
За 718 дней революции в Париже было совершено 2742 казни, в том числе было обезглавлено 344 женщины, 41 ребенок, 102 семидесятилетних старика, 11 — восьмидесятилетних и один — 93 лет. Это только те, кто был казнен в Париже по приговору Революционного трибунала. Некоторых казнили без суда. А общее число по стране достигало более 18 тысяч.
В этой многолюдной толпе обезглавленных были представители всех классов общества. И часто те, кто еще недавно отдавал приказы о казни, сами становились жертвами. Сначала казнили короля, затем королеву, а вслед за ними тех, кто отправил их на эшафот: судей, присяжных, прокурора, даже самого председателя трибунала Фукье-Тенвиля, от которого палач получал приказы и который каждый день заранее сообщал ему число приговоренных, дабы тот заказал необходимое число тележек.
Это время разгула массового террора окрестили периодом «гильотинад»; казни совершались по всей стране, и часто не хватало палачей, тогда находили любителей, которые взялись бы за эту кровавую работу.
Случалось, что из-за плохо сооруженной гильотины не удавалось сразу покончить с жертвой и тогда ее добивали вручную ножом. Обычай требовал, чтобы после казни, особенно если это была известная личность, палач поднимал голову за волосы и показывал народу — своего рода свидетельство того, что казнь совершилась успешно. Если казненный был лысым, то голову приходилось брать за уши. Потрясенная ужасом и зловещими деталями казни, толпа безмолвствовала.
Подобную сцену пришлось увидеть и Видоку на площади Рыбного рынка. Перед молчаливой толпой стоял старик, которого привязывали к «качалке». Вдруг раздались трубные звуки. На эстраде, занятой оркестром, сидел молодой человек в фуфайке с черными и голубыми полосками; его осанка скорее напоминала монашескую, а не военную; а между тем он небрежно опирался на саблю, эфес которой был сделан в виде фригийского колпака — символа свободы. За поясом у него торчали два пистолета, а на шляпе развевалось трехцветное перо. Это был посланец Конвента, или чрезвычайный комиссар, присланный вершить революционное правосудие, а точнее сказать, кровавую бойню. Звали его Лебон.
В ту минуту, когда Видок увидел его, лицо Лебона оживилось ужасной улыбкой, он перестал отбивать такт левой ногой, трубы замолкли, по мановению его руки старика положили под нож. В тот же миг перед «народным представителем» возник полупьяный секретарь и хриплым голосом прочел приговор. Из него стало ясно, что казни подлежит прежний комендант крепости, осужденный за аристократизм.
Когда голова несчастного скатилась в корзину, Лебон прокричал: «Да здравствует Республика!» Нестройный хор приближенных вторил ему.
Видоку рассказали, как за несколько дней до этого казнили одного беднягу по имени Вьепон вместе с дочерью и служанкой только за то, что кому-то крик его попугая показался похожим на возглас «Да здравствует король!». Птице грозила та же участь, но она не захотела повторить на допросе свой роковой крик, к тому же за птицу вступилась родственница Лебона.
Кровожадный Лебон не приостанавливал казни даже по ночам, и тогда экзекуция совершалась при свете факелов. Покончив с очередной жертвой, Лебон спрашивал: «Кого мы завтра отправим?» Жизнь человека не стоила ни гроша.
От греха подальше Видок предпочел вновь вступить в так называемую революционную армию. Но и тут ему пришлось встретиться с гильотиной.
Конвент не нашел лучшего средства, чтобы укрепить верность офицеров и солдат всех армий, сражающихся с врагами отечества, как демонстрировать им орудие казни, которое ожидало любого изменника.
Однажды верный себе Видок угостил пощечиной одного из своих командиров, который нашел предосудительным, что у него золотые эполеты, тогда как по уставу надо было носить полотняные. За этот «подвиг» Видок дорого поплатился бы, если бы не грянувшее сражение с австрийцами. В бою ему оторвало пулей два пальца, и он попал в госпиталь. Возвращаться в армию он не захотел и предпочел блузу рабочего офицерскому мундиру. Иначе говоря, стал дезертиром.
Это означало, что он должен был скрываться. Если бы его опознали, ему грозила бы в лучшем случае каторга.
Однажды в Брюсселе, куда он добрался, полицейские потребовали у Видока показать паспорт. Он прямодушно ответил, что у него его нет. Последовал арест. Он выдал себя за уроженца Лилля, назвался Руссо и уверял, что забыл документ дома. Слава Богу, его пока что не опознали. Чтобы не искушать судьбу, он решил бежать из тюрьмы, куда его водворили. На простынях спустился из окна второго этажа и добрался до дома в предместье, где жила одна его подружка. Переждав погоню, облачился в шинель конных егерей, наложил на левый глаз черную тафту с пластырем, что делало его неузнаваемым, и благополучно покинул город.
Посетив сначала Амстердам, Видок решил побывать в Париже, увидеть который давно мечтал.
Весной 1796 года он пришел в столицу и поселился на улице Лешель в гостинице «Веселый лес». Однако новая ссора с каким-то капитаном и угроза ареста вынудили его вскоре оставить город. Но куда идти? Лучше всего в Лилль. Как военная крепость и пограничный город он представлял многие преимущества для тех, кто, подобно Видоку, надеялся найти там полезных знакомых.
По пути в Лилль Видоку пришлось присоединиться к странствующему лекарю-шарлатану, ночевать с цыганами и узнать много интересного об их быте и обычаях, снова быть учителем фехтования. В Лилле он повстречал одну «камелию» — прекрасную Франсину, и, можно сказать, влюбился. Казалось, она отвечала ему тем же. Каково же было ему узнать, что тайком она встречается с инженерным капитаном. Застав их как-то за ужином вдвоем, Видок набросился на соперника с кулаками. За это его приговорили к трем месяцам тюрьмы и посадили в башню Святого Петра.
Здесь и произошел тот роковой эпизод, который, возможно, решил всю его дальнейшую судьбу.
Среди арестантов в камере находился крестьянин Севостьян Буатель, осужденный на шесть лет за кражу хлеба. Это был отец многодетного семейства, глубоко переживавший разлуку с детьми. Бедняк в отчаянии повторял, что заплатил бы порядочную сумму за свое освобождение.
Двое сокамерников — некие Груар и Гербо, осужденные за подлог, — решили помочь Буателю. Они взялись сочинить от его имени прошение об освобождении. Оба мошенника, жаждавшие заполучить обещанную крестьянином награду, через восемь дней объявили, что документ готов и Буатель может надеяться на скорое освобождение. И действительно, вскоре явился вестовой и передал тюремщику пакет. Вскрыв его, тот объявил, что это приказ об освобождении Буателя. Когда на другой день пришел для осмотра камеры инспектор и тюремщик предъявил ему приказ, тот сразу же увидел, что это фальшивка. Завертелось дело. К нему оказались причастными и оба мошенника, сфабриковавшие подложный приказ, и тюремщик, и сам Буатель, знавший о преступном замысле. Все они дружно показали, что в подлоге замешан и Видок. Для него авантюра двух подлецов кончилась весьма плачевно. За участие в подлоге его приговорили к восьми годам содержания в кандалах, согласно 44-й статье и второй главе Уложения о наказаниях.
Можно сказать, невинно пострадав, Видок теперь думал лишь о побеге. В этот момент как нельзя кстати объявилась Франсина, раскаявшаяся и горько сожалевшая о своем легкомыслии. Она часто навещала Видока и однажды тайком пронесла ему мундир, точно такой же, какой носил тюремный инспектор. Переодевшись и загримировавшись так, чтобы походить на инспектора, Видок беспрепятственно вышел из тюрьмы.
Несмотря, однако, на столь удачный маскарад, Видока опознали, и он вновь оказался в башне Святого Петра. Но мысль о побеге не покидала его. И вот как-то вызывают его на допрос вместе с несколькими другими заключенными. Их всех снаружи охраняют солдаты и двое жандармов в помещении.
Один из них выходит, неосторожно оставив возле Видока свою шляпу и шинель. Другого вызывают звонком, и он тоже покидает комнату. Не долго думая, Видок надевает шляпу жандарма, его шинель, берет за руку одного из заключенных и, делая вид, что сопровождает его за известной надобностью, решительно идет к двери. Солдаты пропускают его, не говоря ни слова.
И вот Видок на воле. Но что делать без денег и без паспорта? Он решает на первое время укрыться у Франсины. Это было ошибкой. Жандармы верно рассчитали, что искать его надо у подружки. Так он снова угодил за решетку. И снова выручила Франсина. Она часто навещала его и однажды принесла трехцветную ленту, которую он попросил у нее. Из куска ленты он сделал себе пояс, остатком украсил шляпу и в таком виде смело прошел мимо часового, принявшего его за муниципального чиновника.
Когда его снова изловили, доставили в ту же проклятую тюрьму и заковали в кандалы, он узнал, что бедная Франсина осуждена на шесть месяцев за содействие его побегу.
Самого же Видока ожидала отправка сначала в парижскую тюрьму Бисетр, а оттуда на каторгу в город Брест. Каторжников, отправляемых туда, сковывали попарно толстым железным обручем, на ногах тяжелые оковы — бежать, казалось, было невозможно. Правда, арестанты партии, с которой шел Видок, предприняли было такую попытку в лесу, во время привала. Но кончилась она неудачей.
Тюрьма Бисетр — обширное четырехугольное здание, состоящее из примыкавших к нему многих построек, главная из них — пятиэтажный корпус, на каждом этаже сорок камер, для четырех заключенных каждая.
Помимо охраны на крыше день и ночь «дежурил» свирепый пес по кличке Драгун, не поддающийся ни на какие искушения. Не устоял он лишь перед куском жареной баранины, подброшенной заключенными. Пока он лакомился мясом, некоторые из них попытались бежать. За это «страж» был сослан на собачий двор, где, посаженный на цепь, без свежего воздуха и, должно быть, от угрызения совести, он вскорости подох. А люди переносили и не такое.
В тюрьме Видок познакомился со знаменитым Жаком Гутелем, кулачным бойцом, у которого брал уроки его искусства, пригодившиеся ему впоследствии.
Надо заметить, что жизнь в этой, как, впрочем, и в других тогдашних французских тюрьмах, не отличалась особо строгим режимом. И тысяча двести арестантов, которых вмещала тюрьма, вели довольно свободный образ жизни. Могли более или менее свободно передвигаться, заниматься чем хотели, лишь бы не пытались бежать. Довольно легко они сносились и с внешним миром. Многие пользовались этим, получая с воли инструменты и деньги, чтобы организовать побег.
Когда арестантов начали готовить к отправке на каторгу, для Видока все оказалось внове. И то, что у его шляпы обрезали поля, а у одежды воротник, и то, как всех сковали попарно шестифунтовой цепью, прикрепленной к общему железному пруту для двадцати шести арестантов, так что двигаться они могли только все вместе. К этой цепи каждый был прикован от ошейника в виде железного треугольника, закрепленного заклепкой.
И вот партия двинулась. Представьте себе, говорит Видок, пятьсот негодяев, большей частью пьяных (вино свободно продавали в тюрьме), горланящих песню галерников: «На нас красные куртки, вместо шляп колпаки, а галстуками мы пренебрегаем. Нам напрасно жаловаться, мы избалованные дети, и страх потерять заставляет держать нас на цепи».
Двадцать четыре дня длилось это путешествие. По прибытии в Брест всех обрядили в красные куртки и зеленые колпаки. На каждой робе — буквы GAL, на колпаке — железная бляха с номером, а на плече выжженное клеймо TF (каторжные работы). В придачу ножные кандалы.
Не буду рассказывать о том, что Видок и при этом пытался несколько раз бежать, однако неудачно. Наконец еще одна попытка увенчалась успехом, подтвердив его репутацию короля риска и мастера побегов.
Переодевшись в платье сестры милосердия Франциски, монахини, которая за ним ухаживала в тюремном лазарете, он наконец бежал, подпилив кандалы. Едва ли не самое трудное при осуществлении этого побега было справиться с головным убором монахини, довольно сложным сооружением. Непорядок в нем мог легко выдать беглеца. Но все обошлось — туалет мнимой монахини оказался безупречным, хотя юбки сильно мешали при быстрой ходьбе.
Не прошел Видок и получаса по нантской дороге, как услыхал три пушечных выстрела, возвещавших о его побеге.
В Нанте ему удалось раздобыть крестьянское платье, в котором он и продолжил путешествие. Путь его лежал в Аррас.
Приключения продолжаются
По дороге ему пришлось побывать в роли погонщика скота и пережить немало приключений.
Дома его не ждали. Родители считали непутевого сына давно погибшим. Пришлось сочинить длинный рассказ, который мало соответствовал тому, что случилось с ним на самом деле. Из его исповеди мать и отец уяснили лишь одно — их сын находится в бегах и ему грозит арест. Надо было подыскать надежное убежище. Решили поместить сына в окрестной деревеньке у бывшего кармелитского монаха, друга отца. В то время (шел 1798 год) священники совершали богослужения тайно, поэтому монах служил обедню в риге. Видок стал его помощником, для чего пришлось вновь облачиться в рясу. Свою должность он исполнял так ловко, что можно было подумать, будто ничем другим никогда и не занимался. Заодно стал помогать монаху и в обучении деревенских ребят. И с этой ролью он успешно справлялся.
Все шло хорошо, никто не подозревал, что молодой монах — это беглый каторжник. Подвело его сластолюбие.
Раз ночью, когда, движимый ревностью к науке, он собирался давать уроки одной своей ученице на сеновале, его схватили четыре дюжих парня, отвели в хмельник, раздели и высекли крапивой. После чего вытолкали на улицу голым, покрытым волдырями.
Незамеченным (благо была еще ночь) он добрался до дома своего дяди, проживавшего неподалеку. Здесь, посмеявшись над его несчастьем, его намазали постным маслом и сливками. Через несколько дней, совершенно выздоровев, неудачливый донжуан навсегда покинул свое укрытие.
Дома он показаться не смел — со дня на день могла нагрянуть полиция. Он решил отправиться в Роттердам, где нанялся матросом на корабль, назвавшись Огюстом Дювалем из Дориана. Паспорта никто от него не потребовал.
Судно, на котором служил Видок, было самым обыкновенным капером, и многие члены экипажа под стать Видоку скрывались от властей.
Видоку пришлось участвовать в абордажных схватках при захвате английских торговых судов, поскольку Франция находилась тогда в состоянии войны с Англией. Риск щедро оплачивался долей от захваченной добычи. Скопив порядочную сумму, он уже было подумывал о каком-либо честном занятии, как вдруг на судно пожаловала полиция для проверки. Случилось это все в том же злополучном для него порту Остенде, где корабль стал на якорь. Матрос без документов вызвал подозрение. Ему предложили сойти на берег и обождать в участке, пока не подтвердится, что он есть тот, за кого себя выдает.
На улице, не долго думая, Видок попытался улизнуть. Он был уже довольно далеко от стражи, но на беду споткнулся и упал. Преследователи настигли его, надели ручные кандалы, заодно изрядно поколотив прикладами и сабельными ножнами.
И вот он снова бредет в колонне арестантов. Его ждала все та же тюрьма Бисетр, куда он вновь попал весной 1799 года. Отсюда с партией приговоренных к каторге ему предстояло проделать путь до Тулона.
Его напарником, скованным с ним одной цепью, оказался знаменитый парижский вор Жосси по прозвищу Отмычка. В свете, где он обычно орудовал, его принимали за креола из Гаваны. Он выдавал себя за маркиза Сент-Аман де Фараль.
Приятная наружность, изящные манеры и умение прилично держать себя в хорошем обществе, костюм франта открывали перед ним двери богатых особняков. Он так свыкся со своей ролью, что, даже будучи скован цепью, среди каторжников сохранял изящные манеры и вел себя как аристократ. Видок обратил внимание на то, что каждое утро этот благовоспитанный вор целый час занимался своим туалетом, особенно ногтями рук, пользуясь великолепным несессером. Позже Видок расскажет о нем в своей книге, посвященной бывшим его дружкам и пережитым им самим приключениям.
После почти сорокадневного путешествия транспорт из пятнадцати фур, набитых арестантами, прибыл в Тулон.
Последовала знакомая процедура: раздали одежду каторжников и заковали в ручные кандалы. Затем всех разместили на корабле — плавучей тюрьме. Здесь еще раз всех переписали, отделили от остальных «оборотных лошадей», то есть беглых, вновь угодивших в силки закона. Этих заковали в двойные цепи. Побег увеличивал срок на три года. Видока, оказавшегося в числе закоренелых, как и остальных таких же, освободили от работы, дабы исключить возможность побега.
Прикованный к скамье, вынужденный спать на голых досках, пожираемый насекомыми, униженный жестоким обращением, страдая от недостатка пищи, Видок скоро приобрел жалкий вид. Недаром о тулонской каторге шла дурная молва — по сравнению с брестской содержание здесь было намного хуже.
Каких только злоумышленников и злодеев не повстречал он тут. Таков был и некий Видаль, сокамерник Видока.
В четырнадцать лет он стал членом шайки убийц, эшафота избежал лишь благодаря своей молодости. Его приговорили к 24 годам, но, едва переступив порог тюрьмы, он во время ссоры ножом убил своего товарища. Содержание в тюрьме заменили каторгой. Здесь ему представился случай «отличиться». Случилось, что однажды не оказалось в городе палача и некому было совершить казнь. Видаль с готовностью предложил свои услуги. Такая практика тогда, во время революции, и позже имела место. Палачи-добровольцы, в отличие от таких, скажем, как все тот же Сансон, унаследовавший свою должность от отца, по происхождению ассенизатора и живодера, не обладали тем искусством, что профессионалы. Но к помощи их вынуждены были прибегать во время массовых казней, когда палачей не хватало.
Таким палачом-любителем был, в частности, некий Анс, принадлежавший к эльзасским ворам. По жестокости с ним не мог сравниться ни один палач. У него была привычка во время казни выстраивать в ряд отрубленные головы перед теми, кто ждал очереди у эшафота. Зимой 1794 года он выстроил таким образом в линию 26 голов, отрубленных в один день.
Другой из подобных любителей «оригинального жанра» действовал в Бордо. Звали его Дютрусси. У него была манера оскорблять осужденных, причем он продолжал поносить их даже после того, как голова падала с плеч.
Члены Конвента вынуждены были написать о нем в Париж, после чего он был в марте 1795 года арестован за то, что без распоряжения и официальных полномочий гильотинировал несколько человек, осыпая их предварительно всякими оскорблениями.
Нередко такие любители, не умевшие управлять машиной казни, обрекали жертву на долгие мучения. К слову сказать, и профессионалы частенько допускали промахи по неопытности обращения с новоизобретенным орудием — то ли из-за недостатков конструкции, то ли еще почему. Так Пейрюссену (потомственному палачу города Бордо) во время казни нескольких человек пришлось опускать нож по многу раз, пока наконец ему удалось прикончить свои жертвы. За такую «нерасторопность» самого палача обвинили «в жестокости по отношению к приговоренным, которые не могли защищаться»?! Судья заявил ему, что теперь работу палача может выполнять любой гуманный человек и что в некоторых коммунах находятся даже патриоты, оспаривающие друг у друга честь выполнять функции национального правосудия. Все палачи, продолжал судья, должны благословлять Революцию, которая сделала их уважаемыми гражданами. Выходило, что Пейрюссен не уважал Революцию, поскольку не проявил себя с гуманной стороны, карая во имя закона. За это его бросили в тюрьму, и город лишился палача. Тогда его стали на время отпускать из тюрьмы для совершения казней.
Видаль, довольно долго исполнявший приговоры Революционного трибунала, тем не менее не заслужил прощения. Когда голова Робеспьера — вдохновителя террора — скатилась с плеч и кровавая вакханалия кончилась, палача-добровольца Видаля водворили обратно в тюрьму под особый надзор. Его приковали к скамье с неким Дешаном, одним из участников кражи века — похищения драгоценностей из государственного хранилища.
Преступление это наделало в свое время немало шума, о нем было объявлено с трибуны Конвента министром внутренних дел. Лишь пять лет спустя, в 1797 году, удалось напасть на след грабителей благодаря некой госпоже Корбен, сообщившей за обещанное вознаграждение сведения, которые и привели к раскрытию преступления. Сумма, в которую исчислялось похищенное, составляла семнадцать миллионов. При этом исчез знаменитый алмаз «Регент». Его история заслуживает отдельного рассказа.
Алмаз был найден в копях Голконды в 1701 году. Раб, который добыл его, решил утаить редчайшую находку. Он понял, что с помощью такого прекрасного камня добудет себе свободу. Недолго думая, он ударил себя киркой по ноге. Рваная рана оказалась достаточно глубокой, чтобы как раз спрятать в ней драгоценный камень. А сверху хитроумный раб наложил повязку из листьев. Таким образом ему удалось провести бдительных надсмотрщиков. Ночью он бежал. Проделав нелегкий путь, добрался до Малабара, где договорился с английским матросом, что тот тайком увезет его в трюме судна. В случае удачи невольник пообещал щедро оплатить услугу единственной ценностью, которой владел. Матрос был поражен, увидев необыкновенный алмаз. Желание немедленно завладеть им охватило его. Удар ножом — и он стал владельцем сокровища. На берегу матрос нашел ювелира и продал ему добычу за тысячу фунтов стерлингов. В свою очередь тот сбыл камень подороже. Целых двадцать тысяч фунтов стерлингов выложил за невиданный алмаз Томас Питт, английский губернатор Мадраса.
Когда о покупке столь редкого сокровища узнали в Лондоне, никто не поверил, что Питту действительно достался по такой сравнительно недорогой цене необыкновенный алмаз. Каким образом у него оказался камень весом в 400 карат? Всем казалось это подозрительным. Тем более что прошлое губернатора было покрыто мраком неизвестности. Болтали, будто он был когда-то пиратом. А раз так, то, возможно, алмаз — незаконная добыча морского разбойника.
Питт не стал ждать, когда его попросят представить доказательства на право владения алмазом. Тайком он передал камень лондонскому ювелиру, чтобы огранить его.
Известно, ценность алмаза зависит не только от его величины, но и от формы, придаваемой ему огранкой, от цвета, прозрачности. Причем огранка значительно меняет стоимость камня. И хотя при этом он теряет в весе, но чистота обработки, придающая алмазу блеск и «игру», повышает его цену.
Два года трудился ювелир над огранкой алмаза, найденного рабом в копях Голконды. И вот наконец камень вспыхнул еще более прекрасным, чудесным светом. Отныне его стали называть «Бриллиантом Питта».
Однако владел им Питт недолго. Он предпочел все же избавиться от столь известной и обременительной драгоценности. И в 1717 году успешно сбыл бриллиант регенту Франции герцогу Орлеанскому за три с половиной миллиона золотых франков.
По желанию герцога бриллиант был вновь огранен. И хотя при этом он опять изрядно «похудел» — вес его достигал 136 карат, — ценность его отнюдь не уменьшилась. С тех пор бриллиант стал собственностью французской королевской семьи. Сменив хозяина, он получил и новое имя — «Регент».
Похитив столь ценный камень, Дешан с сотоварищами попытался сбыть его в Париже. Но стоимость алмаза, определяемая в двенадцать миллионов, не могла не вызвать подозрения. Распилить его тоже было опасно: ювелир, который взялся бы за эту работу, мог донести. Решено было переправить камень в Англию. По наводке одного из дружков Дешана, опередив планы похитителей, алмаз отыскали в Туре. Он был зашит в токе некой госпожи Лельевр, которая не смогла из-за военных действий добраться до Лондона и решила сбыть товар в Бордо.
Дальнейшая судьба злополучного бриллианта также полна драматических коллизий. Он был снова похищен. На этот раз след камня отыскался лишь много лет спустя в Берлине. Немецкий ювелир продал его Наполеону, и тот велел вставить бриллиант в эфес своей шпаги. После падения Бонапарта «Регент» снова был продан на аукционе за шесть миллионов франков, а затем наконец оказался в Лувре.
Несмотря на пристальный надзор в тюрьме за такими, как Жосси, Видаль, Дешан, и другими закоренелыми преступниками (в числе их оказался и Видок), его не покидала мысль о новом побеге. Он решил прибегнуть к испытанному методу — притвориться больным, чтобы оказаться в госпитале. Первая часть плана удалась. Дальше все зависело от случая. Вскоре он представился. Фельдшер неосторожно оставил свой сюртук, шляпу, трость и перчатки на кровати Видока. Воспользовавшись этой оплошностью, переодевшись в чужое платье и изменив внешность с помощью заранее припрятанного парика и наклеенных бакенбардов, наш герой благополучно скрылся.
Однако и на этот раз его поймали. Видно, так уж на роду было у него написано — за удачей следовала неудача, он словно ходил по роковому кругу, испытывая судьбу. За смелость и отвагу, за неоднократные упорные попытки бежать из тюрьмы Видока прозвали королем риска. Поговаривали, что он оборотень, способный проходить сквозь стены, и даже в огне не горит, и в воде не тонет. И это действительно было так, во всяком случае, насчет воды. Однажды с моста он бросился в реку, спасаясь от жандармов. Была зима, течение бурное — преследователи были уверены, что беглец утонет. Но он спасся. В другой раз Видок прыгнул в реку из окна тюрьмы, воспользовавшись тем, что стража отвлеклась. Наступили сумерки, плыть было все труднее, он продрог, и силы начали изменять ему. Но удача и на этот раз сопутствовала ему.
В очередной раз его арестовали на ярмарке в Манте — городке под Руаном. Не помог и паспорт на имя некоего Блонделя. В нем опознали беглого Видока, и в инструкции сопровождавшим его жандармам говорилось, что «Видок (Эжен Франсуа) заочно приговорен к смертной казни. Субъект этот чрезвычайно предприимчив и опасен». До самого Парижа стражи ни на минуту не спускали с него глаз. Он понимал, что на этот раз все может кончиться печально. Выход был один — побег. Едва его поместили в Луврскую колокольню, оборудованную под тюрьму, как в ту же ночь Видок, перепилив решетку на окне, спустился по веревке, сплетенной из простынь, — и был таков.
Последовали новые приключения. Скрывался, переодевшись пленным австрийцем, служил на пиратском судне и знавал знаменитых корсаров Жана Барта и Поле, ходил с ними на абордаж, был канониром, тонул во время бури. В армии, куда снова вступил, получил чин капрала морской артиллерии. Но, как он сам говорил, роковая судьба, которой повиновался против своей воли, постоянно сближала его с людьми и ставила в обстоятельства, менее всего соответствующие его благим намерениям. Из-за этой несчастной склонности случилось, что и не помышляя участвовать ни в каких тайных обществах, существовавших тогда в армии, он волей-неволей оказался посвященным в секреты одного из них.
Тайное общество
Возникло такое общество, сообщает Видок, впервые в Булони. Состояло оно из мичманов и гардемаринов флота, но со временем разрослось и в него вступили многие военные. Называлось это общество «Олимпийцы». Организовано оно было по образцу масонских лож. В него допускались моряки, от гардемарина до капитана корабля, из сухопутной армии — от унтер-офицера до полковника. Видоку самому довелось слышать на собраниях олимпийцев, как они провозглашали принципы равенства и братства, произносили антиправительственные речи.
В Булони олимпийцы собирались обычно у владелицы одного ресторанчика. Тут происходили их заседания и совершались посвящения в члены. О политической направленности этого общества говорят принятые им знаки — рука с мечом в окружении облаков, внизу опрокинутый бюст Наполеона. Чтобы быть принятым в общество, требовалась проверка на мужество и скромность. Достойных и отличившихся на военном поприще, а также недовольных воцарением Наполеона на троне принимали особенно охотно. Хотя о свержении узурпатора предпочитали из осторожности не говорить вслух, однако цель руководителей была именно такова. Всех членов связывала клятва «взаимного содействия и покровительства», и заговорщики только выжидали удобного случая, чтобы начать действовать.
Союз «Олимпийцев», утверждал Видок, возник вскоре после того, как Наполеон объявил себя императором, то есть в 1801 году, и просуществовал года два. Потом он слился со знаменитым обществом «Филадельфов». Таким образом, «Олимпийцы», настаивал Видок, были первыми, что бы ни говорил Шарль Нодье в своей книге «История тайных обществ в армии и военных заговоров, направленных на свержение правительства Бонапарта».
Автор же этой книги доказывал, что тайная организация «Филадельфов» появилась чуть ли не сразу после 18 брюмера (то есть 9 ноября 1799 года), когда Наполеон Бонапарт, фактически совершив государственный переворот, был назначен командующим парижскими войсками.
Филадельфы проявили себя в двух заговорах генерала Мале, в 1808 и 1812 годах, пытавшегося уничтожить империю Наполеона, и оба раза неудачно.
Как и олимпийцы, филадельфы были организованы по образу масонских лож, их секции находились в различных армейских частях. В год коронации Наполеона они насчитывали в своих рядах 4 тысячи офицеров. В основном это были республиканцы, но принимали и роялистов.
Однако можно ли доверять Шарлю Нодье?
Современники не без основания считали его самым неуловимым из полиграфов, Стендаль называл «туманным», про него говорили, что ему известны все способы подделок классиков. И действительно, Шарль Нодье, известный писатель, блестящий рассказчик, знаток и тонкий ценитель литературы, был одним из самых талантливых мистификаторов своего времени. Он обладал даром подражателя, поразительным чувством стиля. Из-под его насмешливого пера вышло немало неожиданных подделок и ловких мистификаций. Самой известной и, пожалуй, самой лучшей из них, в подлинности которой никто поначалу не усомнился, считается знаменитая его «История тайных обществ в армии…». Довольно толстый том под таким названием появился в Париже в конце 1815 года, вскоре после падения Наполеона. Имя автора на титульном листе отсутствовало.
«Если бы факты, о которых я буду говорить в этой книжке, были бы описаны пером Саллюста или Макиавелли, — скромно заявлял в предисловии анонимный автор, — то книга эта была бы признана во всех странах и во все эпохи как один из самых ценных исторических трудов».
Читатели книги находили в ней описание самых невероятных приключений. Заговоры, убийства, погони и преследования, секретные агенты, сражения.
А в общем, это был рассказ о деятельности во времена правления Наполеона тайного союза «Филадельфов» — организации, поставившей своей целью свержение Наполеона.
Шарлю Нодье было присуще одно особое качество: как никто умел он подлинную историю приукрасить узором своей собственной фантазии. И в случае с филадельфами Шарль Нодье исходил из подлинного факта. Организация с таким названием в самом деле существовала. Но это был весьма незначительный кружок молодых людей, недовольных политикой Наполеона.
Под пером Нодье кружок этот, о котором в общем-то мало кто знал, превратился в огромную тайную организацию, активно действовавшую на протяжении 14 лет. Заговор охватывал офицеров всех чинов, выходцев из различных слоев общества. Читатель узнавал самые невероятные подробности многолетней борьбы. В этой отчаянной и жестокой схватке «один за другим погибали самые талантливые руководители общества, самые предприимчивые из его членов. Но общество продолжало существовать, оставаясь мощным среди своих развалин». Да, это была война, восклицал автор, являвшийся, по его словам, одним из руководителей этого тайного союза, война не на жизнь, а на смерть, война, окончившаяся свержением деспотизма, в чем была немалая заслуга и заговорщиков.
Словом, речь шла о действиях, и весьма активных, широкого антиправительственного подполья во времена правления Наполеона. Здесь было чему удивляться. Никто из современников и не подозревал о таком мощном подпольном движении в стране. Сторонники Наполеона, а таких, несмотря на белый террор эпохи реставрации, было еще немало, возмущались и негодовали, усматривая в подлых действиях филадельфов одну из причин краха их кумира. Напротив, противники «корсиканского чудовища», главным образом роялисты, также с готовностью уверовавшие в реальность подпольной организации, не переставали восхищаться ею, столь отважно и успешно боровшейся с тиранией Бонапарта.
Только благодаря автору сенсационной книжки тайное стало явным, были обнародованы невероятные подробности деятельности заговорщиков. Маска конспирации была наконец сброшена. И перед удивленной публикой предстала целая толпа героев-офицеров. Впрочем, слово «толпа» абсолютно не подходит к хорошо организованному и прекрасно законспирированному подполью. В ряды заговорщиков принимали лишь самых достойных и отважных. Во главе организации находилось несколько высокопоставленных лиц, хотя ее члены вербовались из всех слоев общества. Существовало три степени посвящения. Каждому чину тайного общества после клятвы, данной им, присваивалась вместо собственного имени кличка. Для этого выбирали античные имена.
Выбор имен определялся основными чертами характера или поручением, которое давалось принимаемому во время его клятвы свято выполнять устав общества. Члены общества имели свой пароль, у них были условные жесты, по которым они узнавали друг друга, и тайная эмблема.
Что за герои были эти филадельфы! Какие благородные и смелые, какие честные!
Самым отважным из них был глава ордена. Вот как рисует портрет этого рыцаря без страха и упрека автор книжки: «Природа, создавая его, предопределила его для всего доброго и прекрасного. Он мог бы стать по своему желанию поэтом, доктором, магистром; целая армия превозносила его смелость; никто не мог равняться с ним в красноречии; только душа ангела могла бы дать представление о его доброте, если бы эта доброта не была так широко известна… Он был рожден Вертером, свет сделал из него Ловеласа. Именно таким Шиллер нарисовал Фиеску».
Поистине байроническим героем представлял читателю автор книжки главу ордена полковника Жака-Жозефа Удэ, известного в среде заговорщиков под именем Филопомена. В числе его ближайших сподвижников в книге названы многие видные деятели той эпохи, скрывавшиеся под кличками Фабиус, Кассий, Фемистокл, Спартак.
Чем же занимались члены тайного общества, какие деяния совершали? Или, может быть, бравые офицеры ограничивались лишь громкими фразами и предпочитали активным действиям салонные разглагольствования? Отнюдь нет. Правда, несколько их попыток произвести государственный переворот окончились крахом. Выступление двух генералов из числа заговорщиков — Моро и Пишегрю — потерпело неудачу. Пишегрю был убит, Моро выслан за границу. Неудача не обескуражила филадельфов, ибо в их ряды вступил генерал Мале, по кличке, присвоенной ему обществом, Леонид.
Он и его сподвижники были людьми дела. Их подвигами можно восхищаться. Достаточно назвать хотя бы один из них. В истории тайного союза он известен под названием «Заговор альянса». Цель заговора, организованного филадельфами, — покушение на Наполеона. План был разработан самым тщательным образом. Император намеревался ехать в Милан. Маршрут, по которому должна была проследовать его карета, стал известен заговорщикам. «Сто восемьдесят избранных, под предводительством офицера по имени Бюге, устроили засаду между деревнями Тассеньер и Коленн». Они должны были обезоружить конвой Наполеона, а его самого доставить в назначенное место. «Все было подготовлено настолько тщательно, что не могло быть ни малейшего сомнения в успехе». И если заговор не удался, то исключительно из-за случайности. В последнюю минуту Наполеон решил ехать другой дорогой…
Автор «Истории тайных обществ…» рассказывает об аресте Удэ, его побеге из ссылки, о том, как он руководил операцией по освобождению одного из вождей общества генерала Моро. Вооруженные филадельфы окружили Дворец правосудия. Они ждали лишь сигнала, чтобы похитить арестованного. Но неожиданно суд вынес «подлое решение», приговорив Моро к небольшому сроку тюремного заключения и к высылке. Приготовления к вооруженному нападению оказались напрасными.
Рассказывает автор и о гибели бесстрашного руководителя филадельфов. Это случилось в битве под Ваграмом, где Удэ командовал полком. «По особому приказу императора, — патетически восклицает автор, — его послали получить титул барона, генеральские эполеты и семнадцать ран. Он выполнил до конца свою миссию и умер на другой день». Впрочем, дело обстояло будто бы не так просто, как было представлено в официальной версии.
Гибель Удэ, оказывается, была спровоцирована Наполеоном, которому стало известно о заговоре филадельфов. Император решил избавиться от заговорщиков одним ударом. Сделать это было не так трудно, ибо в полку Удэ почти все офицерские должности занимали братья ордена. В этом и заключалась роковая ошибка главы филадельфов. Оплошностью этой воспользовался Наполеон. Во время битвы под Ваграмом Удэ неожиданно получил приказ явиться вместе со своими офицерами в главный штаб армии.
Ничего не подозревающий Удэ поспешил исполнить приказ. В штабе он и все его офицеры — члены тайного общества — попали в засаду и были перебиты. «Сам Удэ, — пишет автор, — умер тремя днями позже от ран. Таким образом были истреблены все филадельфийцы».
Во время похорон главы ордена не обошлось без эксцессов. Один офицер бросился на острие своей сабли в нескольких шагах от могилы. Другой, служивший под начальством Удэ, застрелился.
Покончив столь удачно с тайным обществом — ни один из братьев не остался в живых, — Шарль Нодье, казалось, мог быть спокоен.
Время шло. О филадельфах стали писать другие авторы как о союзе борцов с тиранией Наполеона.
Однако менее легковерные поставили под сомнение достоверность «Истории тайных обществ…». Приводили слова генерала, сменившего Удэ на посту командира полка. Он был свидетелем последних минут жизни полковника. «Раненный под Ваграмом, — рассказывал он, — Удэ был перенесен в дом в пригороде Вены. Он умер от ран через несколько дней и похоронен на кладбище того же пригорода». Офицеры его полка положили на могилу каменную плиту. Никто не кончил у могилы жизнь самоубийством.
Выходило, что автор книги посмеялся над доверчивыми читателями? «Ничуть не бывало, — отважно заявил Шарль Нодье, когда его авторство было установлено и отказываться не имело смысла (его соавторами были Р. Базен, П. Дидье, Лемар). — Я всего лишь скомпоновал имевшиеся в моем распоряжении документы». Он даже называл имена тех, от кого якобы получал необходимые сведения о деятельности тайного общества.
Как позже установили, Ш. Нодье действительно был прав, когда утверждал, что тайное общество филадельфов существовало. Это подтвердил и знаменитый Фуше, министр наполеоновской полиции, который писал в своих мемуарах, что деятельность филадельфов в период империи дала основания для заключения в тюрьму Мале и его сподвижников. Рассказал он и как погиб полковник Удэ, которого заподозрили в измене и что он возглавляет общество филадельфов. «Его заманили в западню, — писал Фуше, — где-то в темноте подвели под оружейный огонь, и есть подозрения, что это был огонь жандармов».
Упоминания о филадельфах можно найти во многих мемуарах и документах той эпохи.
Что касается общества «Олимпийцы», то о нем, как свидетельствовал Видок, было известно властям, но деятельность его не вызывала особого беспокойства. Генеральный комиссар полиции в Булони регулярно доносил Фуше о сборищах заговорщиков, полагая, что олимпийцы всего лишь горстка идеалистов, мечтателей, одержимых масонскими фантазиями. Тем не менее хитрый и осторожный министр полиции заслал в ряды заговорщиков своего агента. Действовал этот агент весьма успешно. Он близко сошелся с некоторыми олимпийцами, которые сочли за честь представить его товарищам. Завоевав доверие, он добился того, что был даже посвящен в члены. Разумеется, обо всем, что говорилось на их сборищах, тотчас же становилось известно министру.
Все это — об олимпийцах и агенте, засланном в их ряды, — Видок узнал от него самого при следующих обстоятельствах.
Однажды Видок стал свидетелем поединка двух военных — вахмистра и сержанта. Во время дуэли сержант поскользнулся и упал в канаву для стока помоев. Послышались насмешки над неудачником сержантом, причем особенно потешался его противник. Видока возмутила такая наглость, и он бросился на нахала с обнаженной шпагой.
Более ловкий и сильный, лучше владевший шпагой, Видок ранил неучтивца в грудь и, движимый состраданием, стал перевязывать его рану. Для этого разорвал на нем рубашку. Тут-то и обнаружил он на теле раненого зловещий знак обитателя галер. Казалось, и тот узнал в Видоке бывшего каторжника. Оба пообещали хранить молчание, и благодарный вахмистр поспешил пригласить обоих своих недавних противников скрепить мировую у «Золотой пушки», где всегда можно было найти превосходную рыбу, жирных уток и отменное вино.
Пропировали весь день. К вечеру остались лишь Видок и сержант, изрядно набравшийся. И Видок вынужден был проводить его до дома. Благодарный сержант, которого, как оказалось, звали Бертран, настоял на том, чтобы его спаситель посетил его жилище. Видок согласился и был поражен, в каких роскошных условиях жил этот простой сержант. Тот поспешил рассеять недоумение новоявленного друга, предложив зарабатывать столько же, сколько имеет и он.
— Вы, может быть, думаете, что я хвастаю и что не могу ничего для вас сделать, — сказал он. — Не плюйте в колодец, друг мой. Я не более как сержант, это правда, но дело в том, что я и не хочу повышения — у меня нет честолюбия, и все олимпийцы таковы же, как я: они мало заботятся о каком-то там чине.
На вопрос, кто такие олимпийцы, Бертран пояснил, что это люди, поклоняющиеся свободе и проповедующие равенство. «Не хотите ли и вы сделаться их приверженцем? — спросил он. — Если да, то я готов услужить вам и вы будете приняты». И он подробно рассказал об олимпийцах и их замыслах. Поблагодарив, Видок поспешил отказаться. Рано или поздно, сказал он, общество обратит на себя внимание полиции, а он не хочет иметь с ней ничего общего. Слова эти, как ни странно, обрадовали Бертрана. Одобрив осторожность и благоразумие Видока, расположенный к откровенности после выпивки, он поведал Видоку под строгим секретом, что выполняет в рядах заговорщиков особую миссию. Иначе говоря, является тайным агентом полиции.
Вскоре Бертран исчез из поля зрения Видока. Но сведения, которые он сообщил, запомнились Видоку. А вскоре многие из олимпийцев были арестованы, как можно было понять, благодаря доносу мнимого сержанта. «Вероятно, он был награжден, неизвестно только кем, — говорит Видок, — очень может быть, что высшая полиция, довольная его услугами, продолжала поручать ему шпионские миссии, так как несколько лет спустя его видели в Испании, где он получил чин лейтенанта и где на него смотрели не хуже, чем на какого-нибудь аристократа из фамилий Монморанси или Сен-Симона».
Секретный осведомитель
Хотя Видок и отказался от предложения стать осведомителем, но эта мысль, как увидим, запала ему в голову.
Сколько раз он проклинал судьбу, погубившую его молодость, проклинал свои беспорядочные страсти и тот суд, который своим несправедливым приговором повергнул его в бездну, из которой он не мог выбраться, проклинал, наконец, все эти порядки, закрывавшие двери раскаянию. Он был изгнан из общества, хотя готов был исправиться и давал лучшие доказательства своих благих намерений: всякий раз после очередного бегства он отличался примерным поведением, привычкой к порядку и редкой добросовестностью в выполнении своих обещаний.
Теперь он твердо решил сделаться честным человеком и заработать право вернуться в мир добропорядочных людей. В мысли этой он утвердился, оказавшись однажды в Париже на Гревской площади во время казни двух преступников. В одном из них он, к своему удивлению, узнал бывшего дружка, замешанного в деле с подделкой документа об освобождении Буателя и предавшего его, Видока.
С чувством удовлетворения и ужаса одновременно он слушал слова глашатая, возвещавшего: «Вот приговор уголовного суда департамента Сены, осуждающий на смерть Армана Сен-Лежэ, бывшего моряка, родившегося в Булони, и Цезаря Гербо, освобожденного каторжника, обвиняемых и осужденных за убийство…» Гербо и был тем самым негодяем, который оговорил Видока.
Между тем смертельно бледный Гербо взошел на эшафот. Он еще старался казаться молодцом, но его выдавало нервное подергивание лица. С видом напускной отваги, окинув взором толпу, он готов был опуститься на «качалку», как вдруг заметил Видока. Показалось, что он вздрогнул и на бледном лице проступил румянец. Что подумалось ему в этот миг? Испытал ли он на краю смерти хоть каплю раскаяния? Видок так и не узнал об этом. Он стоял, словно остолбенев, и молча наблюдал, как телега с красным покрывалом в сопровождении жандарма направилась к кладбищу Кламар при больнице на улице Фер-э-Мулен, где со времен французской революции хоронили тех, кто испытал на своей шее действие изобретения доктора Гильотена.
«Если бы из тьмы гробовой могли раздаться голоса жильцов этого ужасного погоста, — подумалось Видоку, — то заговорила бы сама история, вернее, одна из мрачных, постыдных ее страниц, тяжким бременем лежащая на совести человеческой. Послышались бы зловещие вопли убийц и изменников, клейменных каторжников и душегубов, бандитов и грабителей». В любой момент и он, Видок, может оказаться в числе обитателей Кламара, в компании отъявленных негодяев — минутных знакомцев свирепого палача Сансона, который виртуозно в один миг отсечет его голову и, подняв за волосы, покажет ее толпе. Перспектива, что и говорить, не веселая.
Но как избежать такой участи? Как вырваться из того порочного круга, по которому ходит не один год? Зрелище казни встревожило его до глубины души. Словно прозрев, он ужаснулся тому, что много лет имел дело с разбойниками, осужденными на плаху.
Воспоминания унижали его в собственных глазах, внутренне заставляя краснеть за себя. Он бы желал утратить память и провести черту между настоящим и будущим. Однако ясно сознавал, что будущее находится в прямой зависимости от прошедшего. И оно, это прошедшее, говорило ему, что в любую минуту он может быть схваченным, как вредное и опасное животное. Мысль о том, что ему никогда уже не удастся сделаться порядочным человеком, повергла его в отчаяние. И чем больше он думал об этом, тем более становился угрюмым, молчаливым и задумчивым. Сам того не сознавая, он, видимо, начинал испытывать чувство раскаяния, подспудно зрело желание, несмотря ни на что, навсегда порвать с прошлым.
Но как искупить вину? Как заставить поверить, что он готов исправиться?
Вот тут-то он и вспомнил о предложении того самого сержанта, служившего секретным осведомителем.
Недолго думая, Видок написал письмо жандармскому полковнику о том, что ему известны имена тех, кто недавно совершил кражу в конторе дилижансов. Он действительно знал участников и тщательно описал их внешность, благодаря чему преступники были схвачены. Правда, пока что он не назвал своего имени и действовал анонимно. Но начало было положено. О нравственной стороне своего поступка, честно говоря, он мало задумывался.
Вскоре представился новый, более серьезный повод оповестить полицию.
Ему стало известно о плане ограбления и убийства, задуманного двумя его дружками.
Ни минуты не колеблясь, не думая об опасности быть убитым теми, на кого собирался донести, если бы замысел его почему-либо сорвался, либо арестованным полицией, он отправился в парижскую полицейскую префектуру к самому шефу Первого отделения, ведавшему борьбой с уголовными преступлениями. Тот принял Видока довольно благосклонно, но заявил, что не может предоставить ему никаких гарантий. «Это не мешает вам сделать разоблачения, — сказал полицейский, — мы обсудим, заслуживают ли они внимания, и тогда, может быть…»
Видок попытался было возразить, заявив, что подвергает свою жизнь опасности и что господин Анри не знает, видимо, на что способны злодеи, которых он намерен выдать. Если же его вернут на галеры, то здесь его тоже ждет жестокая кара, станет известно о его контактах с полицией.
Разговор этот кончился ничем, так как полицейский отказался давать какие-либо гарантии. Сделка не состоялась, и Видок покинул полицию, не назвав своего имени.
На некоторое время Видок оставил мысль о сотрудничестве с властями. Вынужден был, как и прежде, скрываться, жить под чужим паспортом, каждую минуту ожидая ареста. Он не сомневался в том, что над ним тяготеет проклятие и напрасно бежать от порока, который настигал его, и некая роковая сила, которой противился всеми силами души, будто издевалась над ним, разрушая все его благие намерения и постоянно подвергая невероятным переживаниям.
Правосудие в конце концов всегда настигало его. И в этот раз он снова оказался в Бисетре. Встретили его заключенные как признанного главаря уголовного мира, называли генералом, королем риска. Его авторитет был непререкаемым. Про него рассказывали чуть ли не легенды, приписывали то, чего он никогда и не совершал, в частности дерзкие налеты и убийства. Будто бы не раз спасался он и от гильотины.
Кое-кто объяснял это тем, что ему тайно покровительствовала полиция, иначе говоря, он был ее осведомителем. Этот слух, кем-то специально пущенный среди арестантов, тем не менее не повредил репутации Видока среди преступников. Ему подчинялись, старались угодить, слава его росла, однако мало утешая его самого. Он жил одной думой — избавиться от компании блатарей и разбойников, которых отныне глубоко презирал. Путь был один — снова попытаться предложить свои услуги полиции. Причем с одним условием: освобождение от каторги, отбывание положенного срока в любой тюрьме. Он вновь написал господину Анри, предоставив в его распоряжение важные сведения и уверив, что и впредь готов будет поставлять подобного рода информацию.
Анри доложил обо всем префекту полиции барону Паскье, и предложение Видока было наконец принято.
После этого его перевели в тюрьму Форс с более легким режимом, а среди заключенных пустили слух, что Видок замешан в одном скверном деле, которое требует дополнительного расследования, поэтому он и должен находиться пока что в парижской тюрьме, а не на каторге.
На первых порах Видок помог ликвидировать шайку беглых каторжников, совершавших грабежи и кражи. Причем действовали ее члены дерзко и нагло, оставаясь долгое время неуловимыми.
По наводке Видока последовал еще ряд арестов воров и бандитов, терроризирующих население столицы. Так что господин Анри мог быть вполне доволен своим новым информатором. Сам Видок скажет позже, что никогда еще не было сделано столько важных открытий, как те, которые ознаменовали его дебют на службе у полиции. Во всяком случае, за двадцать один месяц, что Видок пробыл в тюрьме Форс, благодаря его доносам удалось разоблачить и арестовать многих. Дня не проходило, чтобы он не оказал в этом существенной помощи. И уже тогда принес большую пользу для безопасности столицы и даже всей Франции.
И когда господин Анри доложил префекту полиции о многочисленных разоблачениях и арестах, произведенных благодаря усердию и смышлености Видока, тот согласился наконец освободить его из тюрьмы. Сделать это нужно было так, чтобы никто его не заподозрил. И вот однажды со всеми необходимыми предосторожностями, в наручниках, его посадили в плетеную тележку, якобы для того, чтобы перевезти в другую тюрьму. По дороге, как было условлено, он должен был совершить побег. Все прошло как нельзя лучше. Тем более что полиция, продолжая разыгрывать спектакль, бросилась на его поиски, допрашивала сокамерников, то есть всячески имитировала активные действия.
Новое перевоплощение
Видоку опостылела жизнь травимого зверя, появилось отвращение к побегам и к той временной свободе, которую они доставляли. Ему надоело играть роль мячика между двумя ракетками, из которых одна именуется каторгой, другая — полицией. Постоянный обитатель каторги становится ее поставщиком.
Это было одно из самых неожиданных и поразительных превращений Видока. Из преследуемого и гонимого обществом он становится его рьяным защитником, навсегда приковывает себя к галере власти. Конкретно ее олицетворяли двое — Анри и Паскье. Видок считал их своими благодетелями и спасителями, был обязан им до конца дней. «Они возвратили мне жизнь, если не более, — говорил он. — Для них я готов был подвергнуть себя тысяче опасностей, и мне поверят, если я скажу, что часто рисковал собою, чтобы добиться от них одного слова похвалы».
Наконец-то Видок мог двигаться и дышать свободно, ему нечего было больше опасаться. Господин Анри руководил его первыми шагами на поприще сыска, направлял их. Это был человек с твердым характером, хладнокровный, очень наблюдательный, прекрасный физиономист, способный распознать под самой невинной личиной злостного негодяя. Его изумительная память поражала. Это тем более было ценно тогда, когда картотеки на преступников еще не существовало. В уголовном мире его называли Сатаной или Злым Гением, и он заслужил эти прозвища. В нем соединялись необыкновенная вкрадчивость с изощренной хитростью. На допросе у негр мало кому удавалось вывернуться, он словно читал в душах, побуждая к признанию. Прирожденный полицейский, он обладал истинным талантом сыщика и как никто был предан своему делу. Работал без устали буквально с утра до ночи и, даже будучи больным, не прерывал своей деятельности. Словом, это был человек, каких мало тогда можно было встретить среди полицейских.
У него имелась пара способных помощников — следователь Берто и начальник тюрем Паризо. И вот эти трое задались целью искоренить разбой в столице, как когда-то, за двести лет до этого, папа Сикст V покончил с разбойничеством в Италии. Видоку в их планах отводилась едва ли не главная роль. Было принято беспрецедентное решение: поручить Видоку возглавить борьбу с преступностью. Так бывший каторжник оказался в роли охранителя закона.
Перед ним поставили задачу непосредственного осуществления замысла по очищению от преступников Парижа, где тогда проживало около миллиона человек. В самом деле, почему бы и нет! У него за плечами был богатый опыт, полученный за годы заключения, знание уголовного мира, а энергии и предприимчивости ему было не занимать.
Однако задача, поставленная перед ним, тем более была сложной, что в подчинении новоявленного шефа уголовной полиции имелось всего четверо помощников — таких же, как он, бывших заключенных. Так что чаще всего ему самому приходилось участвовать в облавах и арестах.
Первый его крупный успех на новом поприще был связан с именем знаменитого фальшивомонетчика, человека редкой ловкости пальцев, — некоего Ватрена. Изготовленные им монеты и банковые билеты в изобилии гуляли по городу.
Пользуясь своими старыми связями в уголовном мире, Видоку удалось установить одно из лежбищ Ватрена — квартиру на бульваре Монпарнас, которую он, правда, редко посещал.
Рано или поздно, рассудил Видок, тот пожалует сюда. Он устроил засаду напротив дома и день и ночь сторожил, наблюдал за всеми, кто входил туда и выходил. Через неделю терпение его было вознаграждено. Ватрен появился с одним из своих дружков. Но пока Видок пересекал улицу, Ватрен, почуяв, должно быть, недоброе, исчез. В руки Видока попался лишь его спутник, оказавшийся башмачником. Он быстро раскололся, указав адрес, где живет Ватрен. Бросившись туда, Видок настиг преступника на лестнице. Но в ту минуту, когда он почти схватил его, тот ловким ударом отбросил своего преследователя на двадцать ступеней вниз. Видок, поднявшись, вновь настигает жертву, хватает ее за волосы, валит на пол. Наконец победил более сильный и ловкий Видок.
За поимку этого преступника Видок получил денежное вознаграждение. Заработал то, что заслужил, и Ватрен. Осенью 1811 года «Журналь де Пари» сообщил, что Ватрен, приговоренный заочно, схвачен и казнен.
Разоблачениям Видока способствовал не только талант сыщика и знание мира, с которым ему приходилось иметь дело, но и искусство трансформации, не раз выручавшее его в прошлом. Теперь он применял испытанное средство ради иных целей: во время охоты на преступников появлялся на парижских улицах, в кабачках и ночлежных домах, в притонах и трущобах под видом угольщика и водовоза, слуги и ремесленника, одинаково ловко носил костюм аристократа и бродяги. Можно сказать, что в борьбе с уголовниками он избрал способ личного наблюдения. Посещая под чужим именем злачные места, пользующиеся дурной славой, притворялся, будто его преследует полиция, и тем самым входил в доверие. Недаром он долго жил среди отверженных законом, изучил их повадки и нравы, много лет наблюдал жизнь с ее изнанки. Теперь все это здорово ему пригодилось. Воры, бандиты и мошенники всех мастей были убеждены, что он одного с ними поля ягода. Да и как было не верить, когда он свободно изъяснялся на арго — воровском жаргоне, знал неписаные законы блатного мира и мог такое порассказать о своих похождениях, что оторопь брала даже самых закоренелых и опытных. Не было, казалось, оснований сомневаться, что он прошел через тюрьмы Консьержери и Сен-Лазар и был частым гостем на брестской и тулонской каторге.
Ежедневно Видоку удавалось кого-нибудь да изловить, и никто из арестованных и мысли не допускал, что угодил за решетку по его милости. Даже такой осторожный и хитрый преступник, как Сен-Жермен, на счету которого было не одно ограбление и убийство.
Сен-Жермен — рослый, с железными мускулами, имел громадную голову с маленькими глазками. Лицо его, изрытое оспой, было крайне некрасиво, но нельзя сказать, чтобы оно отталкивало. Напротив, говорило об уме и живом характере. Однако выдающиеся челюсти придавали ему сходство с волком или гиеной. И действительно, он отличался инстинктом хищного животного, любил охоту и вид крови приводил его в восторг. Не меньшую страсть он питал к игре, женщинам и вкусной еде. По манерам принадлежал к хорошему обществу, умел поддержать светский разговор и почти всегда был изящно одет. Таких называли тогда «благовоспитанный разбойник», или «разбойник в белых перчатках». В свои 42 года он уже совершил несколько убийств, не став, однако, от этого менее веселым и разлюбезным малым.
Теперь Видок случайно встретился с ним на бульварах.
Они были знакомы и ранее. Сен-Жермен пригласил его отобедать и пропустить по стаканчику по случаю встречи. С ним был парень по имени Буден. Когда обед подходил к концу, за десертом оба приятеля предложили Видоку участвовать в замышленном ими убийстве двух стариков. Сделав вид, что согласился не без колебания, Видок поинтересовался их планом. Бандиты охотно поделились с ним, но предупредили, что надо ждать благоприятного момента. Когда он наступит, они сообщат ему.
У Видока было время обо всем предупредить господина Анри и посоветоваться с ним. «Полиция, — сказал Анри, — учреждена не столько с целью карать преступников, сколько для того, чтобы предупреждать злодеяния, всегда лучше подоспеть вовремя».
Согласно инструкции, полученной от Анри, Видок стал часто видеться с Сен-Жерменом, проявляя некоторое нетерпение, поскольку куш намеревались взять изрядный. Наконец он услышал, что исполнение плана назначено на завтра.
Когда Видок явился к месту встречи, а было это за городом, Сен-Жермен неожиданно заявил, что первоначальный замысел отменяется, но есть другое дельце, в котором он может принять участие. Вот только есть одно «но». На вопрос, что же это за «но», Сен-Жермен заявил, что ему стало известно от заключенного, сидевшего в тюрьме Форс с Видоком, о том, что его выпустили с условием помогать полиции и что он состоит у нее на службе в качестве тайного агента. При этих словах, вспоминал Видок, он почувствовал, что к горлу подступило удушье, но моментально справился с волнением. Однако надо было что-то отвечать. Недолго думая, он сочинил такую историю. Ничего нет удивительного, что его считают тайным агентом, и он знает, откуда идет эта сплетня. Да, его должны были перевести в Бисетр. Дорогой он бежал, остался в Париже. И по сей день он вынужден скрываться, часто меняя одежду и даже облик. Но всегда находятся бывшие дружки, которые узнают его. Есть среди них и такие, которые не прочь навредить ему и даже передать в руки полиции. Так вот, чтобы лишить их такой возможности, он и заявил им, что состоит у той самой полиции на службе.
Сен-Жермена вполне удовлетворил ответ, и в качестве доказательства своего доверия он посвятил Видока в план одного дельца, которое предстояло обделать тем же вечером. Состояло оно в том, что Сен-Жермен с двумя дружками наметили ограбить дом одного банкира. Видок должен был стать четвертым участником.
«Друзья мои, — обратился к ним Сен-Жермен, когда все они собрались вместе, — когда ставишь на карту свою голову, надо быть осмотрительным. Сегодня нам предстоит крупное дело, и не хотелось бы, чтобы оно сорвалось. Надеюсь, никто не будет внакладе, но ради нашей же безопасности мы не должны расставаться». Слова эти обескуражили Видока, совершенно не ожидавшего такого поворота. Они означали, что ему волей-неволей придется участвовать в ограблении, а главное, он не сумеет предупредить полицию. И все же он не терял надежду — у него оставалось еще два часа до намеченного грабителями срока.
Но что предпринять? Как предупредить полицию?
Между тем вся компания, взяв фиакр, направилась на квартиру Сен-Жермена, где и оказалась взаперти под замком — до начала выхода на дело.
Видок лихорадочно искал повод, чтобы выйти из комнаты, но никак не мог придумать какой-либо предлог.
Если бы Сен-Жермен заподозрил его, он не задумываясь пустил бы ему пулю в лоб.
Делать было нечего, оставалось ждать.
На столе были приготовлены две пары пистолетов. Сен-Жермен, осмотрев их, одну пару нашел непригодной. «Схожу за новыми», — сказал он. Тут вмешался Видок: «Постой-ка, по условию никто не должен отлучаться отсюда, а уж если выходить, то с провожатым». «В таком случае, — согласился Сен-Жермен, — ты пойдешь со мной».
Они вышли, купили новые пистолеты, пули и порох и вернулись. И тут сам главарь, можно сказать, подыграл Видоку. Он предложил выпить. Все дружно поддержали его. А когда Видок объявил, что у него дома припасена корзина превосходного бургундского, восторг стал еще больше.
Тут же послали дворника к Видоку домой, где он жил с Аннетой, своей, можно сказать, тогдашней женой. Вскоре она явилась с угощением. Пока дружки его весело пировали, он написал записку и незаметно, прощаясь, сунул ее в руку Аннеты. Она не замедлила все выполнить так, как он написал ей.
Теперь важно было, чтобы полиция подоспела вовремя.
В означенный час все направились к дому банкира. У столба, который должен был им служить лестницей, Сен-Жермен спросил у Видока пистолеты, и тому показалось, что тот разгадал его намерения и хочет покончить с ним. Но Сен-Жермен лишь проверил порох на полке и, возвратив оружие, первым полез на столб, с него перелез на стену сада и с нее прыгнул вниз.
Видок не торопясь, явно затягивая время, медленно вскарабкался на стену. Его беспокоило лишь одно — успела ли полиция устроить засаду? Если нет, он решил сам предотвратить преступление во что бы то ни стало, пусть даже ценой жизни.
В этот момент Сен-Жермен, раздосадованный медлительностью Видока, закричал: «Слезай скорее». Едва он вымолвил эти слова, как на него набросилось сразу несколько человек. Раздались выстрелы, началась свалка, крики. Некоторые полицейские, как потом выяснится, были ранены, Сен-Жермен и Буден — также. Видок счел за благо притвориться, будто пуля поразила его насмерть. Его завернули в одеяло и перенесли в дом, где уже под стражей и в ручных кандалах находились налетчики. Оба они, казалось, были глубоко опечалены гибелью их дружка. Видок же, вспоминая слова Анри о том, что всегда лучше подоспеть вовремя, радовался, что выполнил наказ наставника.
Начальник Сюртэ
Контора Видока располагалась на улочке Святой Анны, неподалеку от префектуры полиции. Дом был мрачный, запущенный, но это не смущало тех, кто здесь служил. Все они привыкли и к более худшим условиям, ибо помощников себе Видок набирал из бывших уголовников, прошедших тюрьмы и каторгу. Таков был принцип, которым он руководствовался: «Побороть преступление сможет только преступник».
Вначале «банда Видока», как в шутку стали называть его бригаду, состояла всего-навсего из четырех человек, только потом их стало двенадцать. До этого платным агентом был всего-навсего один-единственный человек по имени Гафре. Жалованье они получали из секретного фонда.
С такой горсточкой людей Видок умудрялся в год арестовывать по нескольку сотен убийц, воров, взломщиков, грабителей и мошенников — поистине титанический труд. Так, только за один 1817 год было взято под стражу семьсот семьдесят два преступника, в том числе многие знаменитые уголовники, долгое время державшие в страхе всю столицу. Таков был, например, приговоренный к пожизненной каторге и сбежавший оттуда Фоссар. Он считался самым искусным, самым ловким и самым опасным. Как никто умел подделать ключи, владел искусством переодевания и грима, был всегда вооружен.
Фоссар смолоду вступил на поприще порока. Начал мелким воришкой, со временем став вором высшей квалификации, заслужив лестное прозвище царя воров. Сравниться с ним могли немногие. Пожалуй, что под стать ему был лишь авантюрист Антельм Колле, тоже обладавший даром превращения и тоже окончивший свои дни на каторге. Этот дерзкий мошенник, которого много лет тщетно пытались изловить, появлялся в облике епископа и в сутане монаха, в мундире генерала или просто офицера, похищал крупные суммы и исчезал.
Долгое время не удавалось взять и Фоссара. Тогда обратились к Видоку. Он пообещал к Новому году сделать префекту подарок и изловить негодяя.
Но как напасть на след опытного и хитрого преступника в многолюдном городе? Сведения о нем были самые незначительные. Знали приблизительно квартал, где он мог проживать, и что с любовницей Фоссара дружит какая-то горбунья.
Видок решил пойти по этому зыбкому следу и прежде всего разыскать горбунью.
Приняв вид почтенного, пожилого господина, для чего потребовалось гримом нанести несколько морщин, надеть напудренный парик и треугольную шляпу, а в руку взять трость с золотым набалдашником, Видок стал обходить дом за домом, надеясь встретить горбунью.
Прошло несколько дней упорных поисков, а та, кого он искал, все еще не попадалась ему. Он уже было отчаялся и разуверился в удаче, как вдруг встретил ее на улице Карро.
Изобразив обманутого мужа, он пояснил, что ищет свою непутевую супругу, убежавшую с человеком, портрет которого тут же описал. Растроганная горбунья призналась, что пара, которая его интересует, еще недавно жила в этом доме, но теперь переехала. Адрес можно узнать у хозяина дома, где она живет.
Начало было неплохое. Продолжая разыгрывать обманутого мужа, Видок сумел разузнать заветный адрес. Это было 27 декабря, до Нового года — срока, когда он пообещал преподнести свой подарок, — оставались считанные дни.
Сменив платье зажиточного буржуа, он превратился в угольщика и в таком виде появился у дома, где скрывался Фоссар со своей любовницей, выдававшей себя за мадам Азар, его жену, — фамилия, которую присвоил себе преступник.
Видок знал, что Фоссар вооружен и не преминет пустить оружие в ход. Ему же совсем не улыбалось получить пулю в лоб.
Наступило 31 декабря. Вечером Видок начал действовать. Он расставил на улице своих агентов, а сам отправился к хозяину дома, которому объявил, что жильцы, супруги Азар, хотят его ограбить и необходима помощь, чтобы предупредить их замысел. «В чем она должна состоять?» — спросил тот. Видок, указав на племянника хозяина дома, мальчика лет десяти, жившего тут же, пояснил, что ребенок поможет открыть дверь в квартиру злоумышленников.
Через некоторое время в дверь мнимых супругов Азар позвонили. На вопрос, кто там, детский голос ответил: «Это я, Луи, мадам Азар. Моей тетушке сделалось плохо, не найдется ли у вас одеколона. Ей очень нехорошо».
Дверь приоткрылась, и в тот же миг два агента схватили подружку Фоссара, заткнув ей рот платком. Видок молнией ворвался в комнату и в одну минуту связал изумленного бандита, прежде чем тот успел сделать хотя бы одно движение. Кинжал и пистолеты остались лежать на ночном столике. Обыск, произведенный в квартире, принес столько неожиданного, что даже видавшие виды агенты были поражены, — золотые вещи, драгоценности и бриллианты на огромную сумму.
Свое обещание Видок сдержал и обещанный к Новому году подарок преподнес в срок — 1 января 1814 года.
Случалось Видоку задерживать и укрывателей краденого, и мошенников, обезвреживать целые шайки бандитов, насчитывавших до двадцати человек. Уголовники люто ненавидели его, грозили расправой и не раз покушались на его жизнь. Невзлюбили его и свои же полицейские. Они ревновали к его успеху, завидовали ловкости и удачливости, не раз пытались оклеветать, распуская слух, будто он действует заодно с ворами, получая от них свою долю. В то же время сами вступали в сговор с преступниками, выдавая планы Видока, как, например, поступил полицейский Нансо, арестованный за это и приговоренный к каторге.
Между тем авторитет Видока у начальства продолжал расти, ему поручали самые сложные дела, самые опасные, и он всегда успешно справлялся с ними. Тем не менее Видок по-прежнему числился тайным агентом. Конечно, эта должность вроде бы гарантировала ему свободу, он более не подвергался всем тем опасностям, которым подвержен беглый каторжник, но пока что ему все еще не было даровано помилование. Это означало, что свобода его относительна, — в любое время его могли лишить ее. Не забывал он и о том, какое презрение питали к должности, которую он занимал. Однако по зрелому размышлению заключил, что тяготившие его мысли — не более как предрассудок.
Разве он не рисковал ежечасно своей жизнью в интересах общества? Разве не вступался за честных людей, избавляя их от злодеев? Он раскрывал преступления, предотвращал их, спас не одного человека от смерти и ограбления, и его же ненавидели и презирали! Но совесть его была чиста, вину свою он искупил, сознание этого помогло переносить несправедливость и неблагодарность. И только когда Видока назначили руководить всем сыском, то есть когда он стал начальником Сюртэ — криминальной полиции, — он мог считать, что наконец добился известного признания и благодарности.
Известие о назначении Видока главой полицейского сыска повергло уголовный мир в панику. Всем была известна его личная энергия, но до этого он действовал, можно сказать, почти что в одиночку. Что же будет, когда он возглавит целую бригаду агентов! Тем более что помощников себе он вербовал из бывших рецидивистов.
Среди них самым талантливым на поприще сыска станет Коко-Лакур, заменивший позже Видока в его должности, а тогда ставший его правой рукой.
Чтобы лучше представить себе, с кем работал Видок, стоит познакомиться с биографией хотя бы. Коко-Лакура.
Отец его был портным, исполнявшим вместе с тем обязанности дворника. Рано остался сиротой, воспитывали его соседки — модистки, не отличавшиеся благонравным поведением. Он рос среди мошенников. В двенадцать лет первый раз попался на краже кружев. Сызмальства познакомился с тюрьмами Форс и Бисетр, где числился как опасный и неисправимый вор. В тюрьме сошелся с одним приговоренным к каторге образованным человеком. Тот стал давать ему уроки, научив писать и читать и преподав правила хорошего тона. С тех пор кстати и некстати он употреблял изысканные выражения, производя впечатление вежливого и обаятельного. Он страстно любил роскошь, нарядную одежду и драгоценные украшения, на нем всегда была навешана целая коллекция цепочек и брелоков. Был он также лицемерен и хитер, как сто чертей, напоминая Тартюфа. И еще была у него одна страсть — рыбная ловля. Видимо, это увлечение и привело его на поприще сыска, где он мог заняться ловлей рыбки более крупной, чем речная.
Таких помощников у Видока, начальника Сюртэ, насчитывалось, правда не сразу, чуть более двадцати человек. На них расходовалось более 50 тысяч франков, сам же Видок получал жалованье в пять тысяч.
Большинство из его агентов навсегда порвали с прошлым, и он не колеблясь мог бы доверить каждому из них большие суммы, не требуя расписки и даже не пересчитывая деньги. Один из его подручных пустил себе пулю в лоб, когда имел несчастье проиграть доверенные ему пятьсот франков. Вообще говоря, Видок был полон благих намерений и всерьез думал не только очистить город от уголовников, но и перестроить всю систему карательных мер и наказаний, до этого, по его мнению, столь нелепую и малоэффективную.
Он хотел улучшить режим в тюрьмах и на галерах, так как по себе знал, как тюрьма уродует, лишает человеческого достоинства, как озлобляет особенно тех, кто оказался там впервые и часто за ничтожную провинность — кражу куска хлеба и кочана капусты.
Кое-кто, правда, приплюсовывал к его жалованью и деньги, якобы получаемые им за работу по совместительству на поприще политического сыска. Видок решительно отмежевывался от того, что он будто бы состоял на службе у политической полиции и выполнял функции политического шпиона. Он всегда питал глубокое презрение к такому сыску. И хотя по роду занятий ему случалось иметь дело с агентами политической полиции, он всячески подчеркивал, что никак не следует смешивать их с сыщиками, преследующими воров и мошенников. Все остальные преступники — бунтовщики и заговорщики — были не по его части. И никакие посулы и соблазны не могли заставить его действовать вопреки принципам.
Раздавались голоса и о том, как можно доверять «банде Видока», когда она сплошь состоит из бывших карманников и прочих уголовников; не значит ли это подвергать жизнь граждан и их имущество опасности? Тогда Видок, решивший положить конец этим подозрениям и зажать рот тем, кто распространялся на этот счет, приказал своим людям отныне постоянно носить замшевые перчатки, пообещав, что первого из них, кого увидит без перчаток, немедленно уволит. Даже малосведущие понимали, что «работать» в перчатках никакой карманник не сможет.
Между тем слава Видока росла. Да и как могло быть иначе, когда на его счету было уже более семнадцати тысяч задержанных преступников. Среди них не только безвестные воры и мошенники, но и уголовники, чьи имена наводили ужас на весь город. Ему удалось раскрыть несколько краж, совершенных в апартаментах принца Конде, у маршала Бушю, в музее Лувра, где был задержан вор, карманы которого оказались набиты драгоценностями, и в других домах аристократов и банкиров. Но самыми невероятными стали его разоблачения среди знати, наделавшие много шума.
Как гром среди ясного неба обрушилось на парижан известие, что граф де Сент-Элен, приближенный ко двору и пользующийся покровительством самого герцога Беррийского, никакой не граф, а самый настоящий беглый каторжник. Это уж слишком, заявляют скептики, нужны доказательства. И Видок рассказывает о том, как ему удалось разоблачить мнимого графа.
Ему показалось, что тот живет явно не по средствам, на широкую ногу. У него нет ни земли, ни ренты, он не играет на бирже и вообще не занимается никакой полезной деятельностью, которая приносила бы доход. Не извлекает ли он средства из какого-то подпольного бизнеса? Видок начал собирать сведения о нем. Он узнает, что граф объявился в Париже еще в 1814 году, вскоре после падения Наполеона и начала Реставрации. И чуть ли не сразу же на него полился целый дождь всяческих милостей. Он и член Почетного легиона, и кавалер ордена Людовика Святого, и возведен в чин полковника. А что же было до этого?
Видок разматывает биографию графа назад, в 1801 год. Именно в тот год некий Куаньяр, сын крестьянина, обчистил своего благодетеля графа Монтасье, а заодно и ростовщика, у которого выкрал сто тысяч экю. Куаньяр был приговорен к четырнадцати годам заключения и отправлен на галеры в Тулон. Затем ему удалось бежать в Испанию, где он жил воровством и мошенничеством. Когда французы вторглись в страну, вступил в их армию под именем графа де Сент-Элен, документами которого завладел. Вместе с солдатами вернулся на родину. Во время Ста дней он еще служит Наполеону и предлагает услуги его военному министру Даву. Почуяв близкий крах узурпатора, предпочитает переметнуться на сторону Бурбонов. Теперь он всех уверяет, что будто бы сражался на стороне испанских борцов, служил роялистом и вообще всегда симпатизировал Людовику XVIII.
Мнимый граф — порождение общества, где, по словам Бальзака, «честностью нельзя достичь ничего», — усвоил главное правило этого общества: «в него надо врезаться пушечным ядром или проникать, как чума». Бывший вор пробрался в высший свет, сменив красную куртку и зеленый колпак каторжника на щегольской офицерский мундир. Но что самое поразительное — бывший уголовник не изменил своему ремеслу: псевдограф возглавлял успешно орудовавшую шайку воров. Вот откуда его доходы и возможность жить на широкую ногу. Нюх сыщика не подвел Видока.
Казалось, разоблачить самозванца просто. Видок докладывает префекту о своих разысканиях. Но, к его удивлению, тот не разделяет азарта сыщика. «Подумайте, — говорит глава полиции, — ведь речь идет о фаворите герцога Беррийского, протеже короля, военного министра, графа де Жуине и других! Зачем нам скандал?»
Видок подчиняется, однако негласно продолжает расследование. Он устанавливает, каким образом «графу» удалось заполучить орден Почетного легиона. С помощью подделки документов и подкупа нотариуса. И при этом он не умел даже правильно писать.
Но чтобы разоблачить его полностью и сломить сопротивление в верхах, Видоку нужно доказать свою версию. Он находит бывшего каторжника, который знал Куаньяра по заключению. И однажды незаметно подстраивает с ним встречу. Бывший каторжник Дориюс не сомневается, что Сент-Элен не кто иной, как его дружок по Тулону, сбежавший с галер.
А как будет реагировать Сент-Элен, то бишь Куаньяр, на встречу со своим старым знакомым? Дориюс навещает «графа», но тот притворяется, что видит его впервые, и изгоняет из дома. Тогда Видок ставит обо всем в известность военные власти Парижа в лице генерала Депинуа и убеждает встретиться с Дориюсом. Генерал вызывает к себе господина де Сент-Элена, допрашивает несколько часов, убеждаясь, что Видок прав. Куаньяра берут под стражу в комендатуре. На следующий день ему разрешают отправиться к себе домой, чтобы привезти необходимые для своего оправдания документы. Его сопровождают двое жандармов.
По дороге Куаньяру удается убедить сопровождающих в своей полной невиновности. Дома он распоряжается принести бутылку «Аликанте», и они распивают ее в присутствии графини де Сент-Элен. Куаньяр заявляет, что ему требуется сменить белье и собрать нужные бумаги. Жандармы соглашаются, и «граф» выходит из комнаты. Проходит час, но он не возвращается. Переодевшись в платье слуги, он скрылся по потайной лестнице.
После такого саморазоблачения Видок получает карт-бланш и бросается на поиски. Он выходит на членов банды, занимающейся кражами в богатых особняках. След приводит его на улицу де Мор, где у дружка укрылся Куаньяр. В операции по задержанию участвуют сам Видок, его помощники Фуше, мадам Жерар (переодетая в мужское платье) и восемь агентов. Дом, где укрылся Куаньяр, — это настоящее логово воров и убийц. Взять его здесь будет нелегко. И когда агенты во главе с Видоком врываются, их встречают пистолетными выстрелами. Видока ранят в руку, но самозванца все же захватили. Вскоре он был повешен.
Не менее сенсационным стало еще одно разоблачение, сделанное Видоком.
Однажды Видок вместе со своим помощником стоял у цветочного павильона на площади Карусели. Их внимание, как, впрочем, и всех вокруг, привлек вышедший из павильона господин. Это был важный вельможа, весь увешанный орденами, в мундире с галунами и золотым шитьем. Но для опытного сыщика — не все то золото, что блестит. Видок и его агент, к своему удивлению, узнали в разряженном господине бывшего обитателя тулонской каторги. Ошибки быть не могло — оба они встречали его там. В уголовном мире он был известен своими частыми побегами. Звали его Шамбрей. Впервые был осужден на три года еще во время итальянской кампании за подделку подписей поставщиков. У него был на это замечательный талант. Из тюрьмы он бежал и объявился в Париже, где принялся за старое. Был схвачен, получил восемь лет каторги и снова совершил побег. Впоследствии не раз еще попадал за решетку, освобождаясь тем же способом. И вот он стоял перед Видоком собственной персоной.
Когда Видок с агентом подошли и объявили, что он арестован, Шамбрей обрушил на них лавину своих титулов и званий.
— Знаете ли вы, с кем разговариваете? Да еще в подобном тоне. Я маркиз Шамбрей, управляющий королевского двора, начальник дворцовой полиции! Вы дорого заплатите за такую дерзость и наглость!
На предложение Видока следовать за ними он потребовал немедленно оставить его в покое и убираться.
— Охотно, — отвечал Видок, — но только вместе с вами. — И так как тот сопротивлялся, его силой посадили в фиакр и доставили в полицию. Дорогой он продолжал угрожать и даже в присутствии господина Анри, нисколько не смущаясь, высокомерным тоном требовал освободить его, пугая своими связями и должностями.
Видок явно рисковал. Ведь если бы ему не поверили или просто испугались бы всесильного вельможу, осыпанного милостями при дворе, вся вина обрушилась бы на него. Нужно было срочно подкрепить свое обвинение какими-либо вескими уликами. Необходимо было произвести на дому у Шамбрея обыск. И когда, получив разрешение, Видок приступил к нему, результаты превзошли все ожидания. Обнаружили кучу поддельных документов, бланков, официальных бумаг, чистых листов с печатью «Королевская полиция», «Военное министерство», подложные письма, чистые бланки назначений на должности.
Приговорили Шамбрея к пожизненным каторжным работам.
Приблизительно в то же время яркой «звездой» преступного мира считался некий Саблен — человек атлетического сложения, искусный вор, за которым охотились не один год. Видок взялся его найти и арестовать. Тем более что сам Саблен заявил как-то, что поймать его мог бы только Видок, который один знал его в лицо, но пусть, мол, он и не надеется. И действительно, задача была не из легких. Саблен искусно скрывался. Более года ушло на то, чтобы напасть на его след.
Наконец Видок узнает, что Саблен укрылся где-то в Сен-Клу. Прибыв туда ночью, Видок тут же поспешил проверить, верны ли полученные им сведения о рослом жильце, восемь дней назад поселившемся вместе с дамой в здании мэрии. Утром Видок вместе со своим агентом незаметно проник в дом. Навстречу ему по лестнице спускалась женщина. Заметив его, она опрометью бросилась назад, закричав: «Здесь Видок!» Несколькими прыжками он достиг двери в комнату и прежде, чем Саблен успел опомниться, надел на него ручные кандалы. Женщина, однако, продолжала кричать. Но теперь уже по другой причине. У нее начались роды. Что было делать? Оставить арестованного и отправиться за акушеркой? Это было бы рискованно. И Видок принимает смелое решение. «Уверяют, что Людовик XIV принял роды у мадам де Вальер. Могу вас заверить, что сумею и я принять роды у мадам Саблен», — успокоил Видок ее мужа, надел фартук, засучил рукава, вымыл руки и менее чем за двадцать пять минут помог женщине произвести на свет упитанного мальчугана. Затем он обмыл ребенка, уложил рядом с матерью и приступил к акту регистрации о рождении, благо все происходило в здании мэрии. Мать тут же предложила Видоку быть крестным отцом ребенка, а в крестные матери пригласили соседку. Видок согласился и из собственного кармана уплатил за церемонию и торжественный завтрак по случаю рождения маленького Саблена.
А его папашу увезли в Париж, чтобы приговорить к пяти годам заключения.
Когда он вышел из тюрьмы Форс, где стал привратником и умудрился скопить кое-какие деньжонки, его супруга сидела в Сен-Лазаре за мошенничество. То ли с горя, что остался один, то ли еще почему, Саблен в один прекрасный день отправился в игорный дом и спустил там все дочиста. А через два дня его нашли повесившимся в Булонском лесу на дереве в так называемой «Аллее воров».
Мемуары сыщика
На парижской улице Сент-Луи в начале двадцатых годов прошлого столетия часто можно было видеть хорошо одетого господина. Высокий рост, широкие плечи и развитая мускулатура свидетельствовали о незаурядной силе. Наружность его не лишена была приятности: огненно-рыжая шевелюра, голубые глаза, чуть улыбающийся рот, лицо властное, запоминающееся.
Обычно он пользовался кабриолетом, сзади которого восседал лакей — здоровый детина. Но иногда господин, возбуждавший любопытство всей улицы, позволял себе прогуляться пешком. Тогда в глаза бросалась шпага с рукояткой, украшенной драгоценными камнями, а под тканью его костюма угадывались очертания пары пистолетов. Видимо, человек этот чего-то опасался и вынужден был принимать меры предосторожности.
Никто из соседей по улице толком не знал даже, как его зовут. Называли просто «господин Жюль». И никому в голову не приходило, что под этим именем скрывается всесильный начальник сыскной парижской полиции Видок, имя которого в свое время было известно в любой тюрьме Франции.
В 1827 году префектом полиции становится Делаво. У Видока с ним сразу же не сложились отношения. Конфликт углублялся, и было ясно, что назревал разрыв между ними. Шеф стал придираться, упрекать в том, что сотрудники Видока вне службы ведут себя неподобающим образом, отказываются, например, посещать церковь. Все это говорилось таким тоном, что Видок в конце концов не выдержал и заявил, что подает прошение об отставке. В нем он писал: «Восемнадцать лет я служу в полиции и никогда не получал в свой адрес упреков со стороны Ваших предшественников. После Вашего назначения мне уже второй раз приходится выслушивать от Вас нарекания по поводу поведения моих агентов. Могу ли я отвечать за их поведение вне службы? Конечно, нет. Чтобы лишить Вас возможности, месье, и в будущем обращаться ко мне с подобными претензиями, которые мне неприятно слышать, я имею честь просить Вас принять мое прошение об. отставке».
Через пару дней в прессе появилась короткая заметка о том, что полицейский комиссар посетил Видока и сообщил ему, что по приказу префекта полиции его на посту шефа Сюртэ заменит месье Лакур, до этого являвшийся заместителем Видока.
В тот же день Видок уехал в свой загородный дом. Вслед ему газеты писали: «Отставка шефа полиции Сюртэ уже вызвала немало различных догадок. По надежным сведениям, такие изменения следует объяснить снижением активности самого Видока, который, достигнув определенного материального благополучия, уже в течение некоторого времени сам желал быть освобожденным от выполнения своих обязанностей. Если верить пока не подтвержденным слухам, то Видок после своей отставки получил не пенсию, а благодарственное письмо. Как бы то ни было, но, как мы уже сообщали, Видок тут же в роскошном экипаже отправился в свой деревенский дом в Сент-Манде. Завтра, возможно, ему уже будут досаждать издатели. Кто же тот счастливец, которому удастся заполучить мемуары Видока?»
Пенсии Видока так и не удостоили, выплатили лишь компенсацию в размере трех тысяч франков. Что касается мемуаров, то газеты не ошиблись. Чуть ли не сразу же он засел за воспоминания. Издатель Тенон поспешил закупить их на корню, заплатив за столь ходкий товар 24 тысячи франков.
Пятую часть суммы Видок получил в виде аванса. Дабы ускорить дело, издатель нанял ему помощника, обычного бумагомараку, журналиста с бойким пером. Видок не удовлетворен его работой — слишком много фантазии и домыслов привнес тот в текст. Но и сменивший первого второй журналист, нанятый издателем, не устраивает Видока. По контракту он должен написать два тома. Однако материала у него столько, что хватит и на целую серию. Этим пользуется Тенон и фабрикует третий и четвертый тома, полные отсебятины и всяких домыслов. Тогда Видок подает на издателя в суд. Это не помешало ему изрядно заработать на своих мемуарах — целое состояние, несколько миллионов в пересчете на сегодняшние деньги. Благодаря этим воспоминаниям слава Видока-мемуариста быстро превзошла ту, что он заработал, будучи сыщиком. Его мемуары переводят на многие языки, и он становится европейской знаменитостью.
Подзаработали на нем и бойкие журналисты. Появляются якобы им написанные «Мемуары бывшего каторжника», «Приложение к мемуарам Видока» и т. п. Что касается подлинных его записок, то можно только сожалеть, что он выпустил их слишком рано. После 1827 года, когда они появились, ему предстояло прожить еще целых тридцать лет. И годы эти были столь же насыщены приключениями, как и первая половина его жизни.
В Сент-Манде Видок ведет образ жизни сельского хозяина, приобретает земли, строит новый дом — целое поместье, создает фабрику по производству бумаги.
Рабочих он нанимает из бывших каторжников, которые, освободившись, не могли заработать себе на хлеб: их отовсюду гнали, опасаясь принимать на работу. В результате воры вновь вынуждены были браться за старое. Видок хотел доказать ослепленному ненавистью и предрассудками обществу, что бывшие заключенные могут вести честную жизнь и быть полезными.
Когда мемуары Видока вышли в свет и их прочли, возник вопрос: отчего в них ничего нет о его частной жизни? Многие пытались проникнуть в эту, как казалось, его тайну. Но за исключением близких друзей эта сторона его жизни так и осталась неизвестной. И даже сегодня ее с трудом удается восстанавливать по документам и запискам современников.
Отсутствие таких сведений, как это обычно бывает, компенсировали слухами и разными домыслами. Его враги пользовались этим, сочиняя небылицы о его альковных похождениях, будто иные ему отдавались из страха и его дон-жуанский список включает сотни женщин — сущий гарем султана Видока.
Конечно, он не был анахоретом и не раз переживал любовные драмы. Известно, что одна любовница покончила жизнь самоубийством из-за его неверности, тот же путь избрал некий чиновник, когда узнал, что жена изменяет ему с Видоком. Впрочем, сам Видок предпочитал общаться с актрисами и модистками, чьи притязания не столь обременительны.
В сорок пять лет Видок женился на Жанн-Виктуар Герен, тридцатилетней вдове. Брачное свидетельство раскрывает тайну состояния Видока — несколько миллионов нынешних франков. Четыре года спустя жена умерла. В том же 1824 году он похоронил горячо любимую мать. Вскоре в «гареме» султана Видока появляется Флерид-Альбертин Манье, его тридцатилетняя кузина. Он женится на ней шесть лет спустя. Она станет настоящим другом и помощником, разделит все невзгоды и горести, которые обрушатся на него.
Настает грозный 1830 год — Июльская революция, затем год 1832-й — вновь восстание. Власть Луи-Филиппа висела на волоске. В эти дни вспомнили о Видоке. Ему предлагают вновь возглавить Сюртэ. Подумав, он соглашается. Под его началом — все те же двадцать агентов из бывших уголовников, призванных помочь установить порядок в городе. Пожалуй, лишь они и сохраняли в те бурные и тревожные дни мужество и стойкость. Недаром склонный к парадоксам Стендаль говорил, что только на галерах можно найти людей, обладающих великим качеством — силой характера.
Небольшой отряд Видока успешно действует против восставших. Стоит только защитникам баррикад узнать Видока, как раздаются крики: «Это — Мек! Спасайся, братцы!» («Мек» на арго означает «хозяин», «пахан».) Позже про Видока скажут, конечно преувеличивая, что он спас королевство.
Не успела отгреметь буря, как на Видока обрушилась оппозиционная пресса. Такой оборот совсем не устраивает префекта полиции Жиоке. Он готов отказаться от его услуг. Но как сделать, чтобы это не выглядело черной неблагодарностью по отношению к «спасителю» режима? И тогда приходит решение: слить Сюртэ с муниципальной полицией. Естественно, Видок не может этого стерпеть. Он пишет префекту: «Имею честь сообщить Вам, что болезненное состояние моей супруги обязывает меня быть возле нее, присматривая за ней и моим домом… Должен просить Вас о принятии моей отставки…»
В газетах печатают сообщение о том, что, по утверждению некоторых, у Видока наблюдается психическое расстройство. На другой день появляется, однако, опровержение: «Мы были неверно проинформированы. Как сказал нам сам Видок, он еще в меньшей степени умалишенный, чем прежде…» И скоро он это блестяще докажет.
Схватка с полицией
Не хотите, чтобы он возглавлял официальную уголовную полицию, пожалуйста, но тогда он создаст свою, частную. Такого еще не бывало. Но Видок был человеком слова: сказано — сделано. И вот на улице Нёв-Сент-Юсташ появляется его контора «Бюро расследований в интересах торговли». «Я очистил столицу от воров, которых в ней было видимо-невидимо, теперь могу очистить от мошенников торговлю».
Задача новой организации (первой такого рода в мире) — защищать солидных предпринимателей от аферистов и рыцарей легкой наживы. Каждый заинтересованный должен «подписаться» на услуги бюро и уплачивать взнос по двадцать франков в год. «Подписывайтесь на наши услуги, — призывает он, — и вы никогда не станете жертвой аферистов и прочих мошенников. Мы вовремя предупредим вас об опасности и позаботимся, чтобы поймать вашего обманщика».
Год спустя у него уже четыре тысячи «подписчиков» — это коммерсанты, промышленники, банкиры. Отделения бюро возникают в провинции, за рубежом. Доходы Видока исчисляются миллионами. Пресса трубит о его полицейских успехах.
Оппозиционная пресса оставляет его в покое, зато префектура с улицы Жерузалем не собирается спускать новоявленному конкуренту.
Утром 28 ноября 1837 года четыре полицейских комиссара и двадцать агентов появляются у дверей бюро и врываются в помещение. Первое их впечатление — это удивление. Роскошные апартаменты, чистота и порядок, у входа — рассыльный, в прихожей ливрейный лакей. Но вконец их обескуражил кабинет Видока — сочетание богатой обстановки, комфорта и отменного вкуса.
Видок не сопротивлялся. Он знал, кто стоит за спиной полиции — те, с кем он воевал не один год, те самые аферисты, мошенники и дельцы.
В руки полиции попало около четырех тысяч документов.
— Где остальные? — допытывались агенты.
— У меня в голове! — невозмутимо отвечал Видок.
Не поверив, полицейские отправились к нему на улицу Пон-Луи-Филипп и там обнаружили еще более двух тысяч документов. Это личный архив Видока за период с 1811 по 1827 год.
Видок писал в газеты, протестовал, направлял жалобу королевскому прокурору. Он уповал на закон, надеялся, что суд не осмелится поддержать столь явный произвол. Однако он понимал, что лучший способ защиты — нападение, нанял знаменитого адвоката Шарля Ледру и подал в суд на префекта полиции и действия его подчиненных.
Полиция ответила тем, что бросила его в тюрьму Сент-Пелаги.
Судебное следствие привлекло 350 свидетелей. Дело вели знакомые ему судьи, на чью беспристрастность он мог рассчитывать. На допросе он говорил о том, что в Париже тьма дельцов и мошенников, обделывающих свои незаконные махинации. Они всюду, их можно встретить на самых высоких постах, они носят громкие титулы, увешаны орденами. Всех их он знает и может назвать. И они об этом знают, вот и решили припугнуть.
Публика, взбудораженная этим событием, с нетерпением ожидала неслыханного судебного процесса. Но тех, кто рассчитывал на спектакль, ждало разочарование — Видок был признан невиновным и освобожден из тюрьмы.
Ему в это время было шестьдесят три года, казалось, можно подумать и об отдыхе. Но не таков был Видок. В его голове полно планов и замыслов, пожалуй, он даже активен, как никогда. Его агенты, работающие на бюро, находились в каждом департаменте, мало того — в Кёльне и Ахене, Брюсселе и Льеже, Утрехте и Амстердаме. Само же бюро теперь располагалось на улице Вивьенн, а сам он получил кличку «паша с улицы Вивьенн». Здесь всегда было полно клиентов, среди которых попадались весьма знатные особы — принцы королевской крови, графы и бароны, министры. У самого же Видока в штате находились все те же двадцать человек, в том числе некий Улисс Перрено — подосланный полицией, чтобы следить за Видоком.
Летом 1842 года к Видоку обратилось несколько жертв афериста по имени Шампе. Полиция давно его разыскивала, но безрезультатно. Видок встретился с ним и склонил исполнить требования заимодавцев. На другой день Шампе был арестован, а заодно задержан и Видок. Здесь явно не обошлось без Улисса Перрено — конечно, он подсказал, где скрывался Шампе, от него узнали и о встрече с ним Видока.
Полиция была рада вновь досадить своему старому недругу и объявила, что Видок превысил полномочия, незаконно пытался подменить собой власть. А дальше следовало совсем невообразимое: он-де, Видок, арестовал «именем Закона» Шампе, а потом якобы похитил его. Кодекс предусматривал наказание за такое деяние. Это уж слишком. Но к удивлению Видока, Шампе подтвердил эту небылицу и подал в суд. Из мошенника и фальсификатора документов он превратился в жертву.
И снова обыск у Видока. Были изъяты его бумаги, опечатано бюро, а его самого заключили в Консьержери.
Настал день суда. Публика с нетерпением ждала вердикта. Видок, одетый в черный костюм, в таких же перчатках, с белым галстуком на груди, молча выслушал приговор: пять лет тюрьмы, пять лет строгого надзора и три тысячи штрафа плюс судебные издержки. Зал протестовал, председатель приказал очистить помещение.
Видок подал апелляцию. Его защитником на повторном слушании был адвокат Ландриен, хотя полиция и пыталась отвести его кандидатуру. Он произнес блестящую речь в защиту своего подопечного, восхвалял старца, столь позорно осужденного только за то, что всю свою жизнь посвятил обеспечению спокойствия и мира в столице. Арестовали же его потому, что он вселяет страх в своих соперников из полиции, тех, кому удалось вселить такой же страх в некоторых судей… Адвокат мастерски доказал невиновность своего клиента, перечислив многие его подвиги и рассказав о великих часах жизни этого несравненного сыщика.
Председатель суда прервал его и, посоветовавшись с коллегами, объявил: «Мэтр Ландриен, ваши доводы судом услышаны». Это означало, что обвиняемый оправдан. В зале раздались одобрительные возгласы. Расходилась публика со словами: «Ну и везучий этот Видок!»
Если бы не они…
Однажды в кабинете адвоката Ледру собралось несколько близких ему человек. Среди них — знаменитый френолог Фоссати и Видок. Знакомы они не были, больше того, никогда не виделись. Не раскрывая имени Видока, хозяин предложил френологу обследовать его голову. Ученый приступил к изучению черепа, медленно и внимательно начал пальпировать его. Закончив, произнес, что никогда не встречал такой головы: прекрасный, широкий лоб, превосходны все пропорции, можно сказать, четко просматриваются три качества пациента — отважного льва, тонкого дипломата и нежной сестры милосердия.
С такой характеристикой Видока согласились бы, пожалуй, многие из знавших его. Среди них и Бенжамен Аппер, известный филантроп и редактор «Журналь де призен» — издания, посвященного положению в тюрьмах и проблемах с заключенными. В его доме, где Видок частый гость, он познакомился со многими выдающимися людьми эпохи. Повстречал он здесь и знаменитого палача Сансона.
Во время обеда Видок сел по одну от него сторону, по другую — хозяин.
— Известно ли вам, — обратился Видок к гостю, — что мне частенько в прошлом приходилось обеспечивать вас работой, когда я был шефом Сюртэ?
— Да, господин Видок, это правда!
По просьбе гостей Сансон рассказал о себе. Предки его были ассенизаторами и живодерами, отец унаследовал должность от деда, тоже палача. Так уж повелось, что их дело переходило по наследству. Отцы, дядья, братья, племянники — все были палачами или их помощниками. Точно так же было и в других местах. В Нормандии на этом поприще приобрели известность семьи Ферей и Жуэн; в Шампани — Делюре; «хозяевами» Лотарингии были кланы Барре, Роши и Эрманы; в Берри и Турени — Дефурно, Брошары и Дубло. В Париже вот уже семь поколений с 1688 года, как члены семьи Сансонов являются городскими палачами. Дед его Шарль-Анри казнил самого Людовика XVI.
Как ни странно, но всем им удавалось уцелеть в самые смутные времена, когда кровь лилась рекой. Видно, без них нельзя было обойтись. Жалованья за свою работу они обычно не получали, жили за городскими стенами. Платили же им так: палач обладал правом брать себе небольшую часть от всех продуктов, привезенных на рынок. Но торговцы не хотели, чтобы к продуктам прикасалась нечистая рука, поэтому они предпочитали освобождаться от этой повинности с помощью денежной контрибуции. Со временем обычай этот, правда, исчез и город стал платить своим палачам деньгами.
Отец, передавая свое ремесло, наказывал, чтобы он жил спокойно и незаметно, и тогда никто не будет иметь права вмешиваться в его дела.
— «Кроме тех, кому тебе предстоит отсечь голову», — должен был добавить ваш отец, — заметил Видок.
— Господин Видок, оставьте шутки, ведь моими устами говорит история.
— К сожалению, это так! — согласился тот. И, перехватив инициативу, пустился в собственные воспоминания. Все слушали затаив дыхание. Апперу казалось, что личность этого человека излучает какое-то необыкновенное притяжение, воздействует, как магнетизм. Наверное, и все остальные почувствовали то же самое.
— Не слишком ли мрачной стала наша беседа, — прервался Видок и рассказал один курьезный случай.
Как-то он позировал никому не известному художнику. Портрет вышел плохой, лишенный какого-либо сходства. Он не захотел принять эту работу, выполненную карандашом. Тем не менее предложил небольшую компенсацию за труд. Художник, видимо мнивший себя гением, отказался от столь малого вознаграждения, явно намереваясь сорвать куш покрупнее. Он подает в суд, и Видока обязывают выплатить 50 франков.
— Значит ли это, если я выплачу деньги, что портрет принадлежит мне? — спрашиваю я.
— Рисунок карандашом, — поправляет судья.
— Превосходно, — восклицаю я, — согласен. Теперь можно внизу написать, что рисунок был признан похожим на оригинал вашим судебным решением… — Все покатились от хохота.
Шли годы, и хотя Видок был в прекрасной форме, треволнения, и особенно последнее заключение в тюрьме Консьержери, где он провел более года в ожидании суда, стоили ему не только здоровья, но и состояния. Он лишился своих клиентов, доходы его упали, если совсем не прекратились.
Немало денег уходило на жалованье сотрудникам бюро, на адвокатов и прочее. Одним словом, в один прекрасный день он узнал, что находится на грани разорения. Не могли помочь и гонорары за книги, которые Видок писал. Всего их вышло у него двенадцать, в частности такие, как «Подлинные парижские тайны», «Размышления о необходимых средствах для сокращения преступности и рецидивизма» и др. Почти все они вызывали бурю негодования, так как задевали многих, и прежде всего сильных мира сего.
В Лондоне, куда он приехал после выхода там его книги, Видок посещает тюрьмы, ведет переговоры о создании организации «Всемирное расследование» — нечто вроде будущего Интерпола. Устраивает выставку в театре, где идет драма под названием «Видок». На выставке представлены привезенные им экспонаты: личные его вещи и одежда, а также оружие, принадлежащее знаменитым ворам и бандитам. Он выступает с лекциями, выходит специальная брошюра с его портретом.
В этот момент умирает его третья жена. Пресса, словно сорвавшись с цепи, обвиняет его в ее смерти, вернее, в том, что она будто бы покончила жизнь самоубийством. Видок вынужден через газеты объясняться. Он говорит, что супруга долгое время страдала от опухоли и, чтобы облегчить ужасную боль, выпила чуть больше лекарства, чем нужно. И это была истинная правда.
Настает день, когда он полностью разорен, — это случилось во время революции 1848 года. С приходом к власти Наполеона III Видок отходит от дел и удаляется в свое поместье. В возрасте семидесяти четырех лет можно почить на лаврах, оставаться наедине со своими воспоминаниями и теми небольшими средствами, которые уцелели после кораблекрушения. Власти оставили его в покое, он больше не страшен им. Сам же Видок испытывает «болезненное ощущение», словно после поставленных ему пиявок. «Лучше бы они высосали всю мою кровь до последней капли! Смерть — это сон бедняка!» — восклицает он в тоске. И решает написать президенту, напоминает о своих заслугах. Ответа не последовало. Спустя два года вновь принимается хлопотать о пенсии. Результат тот же — считают, что он вполне обеспеченный гражданин.
Вместо роскошных апартаментов, как бывало раньше, он ютится в комнате на бульваре Бомарше, да и то принадлежащей его другу. Он оказывается за «чертой бедности». Только тогда власти смилостивились и назначили ему «ежемесячное вспоможение» в размере ста франков.
В начале 1854 года он переезжает на улицу Сент-Пьер-Попенкур. Три года спустя ему восемьдесят два года, и он уже не может подняться, отказывают ноги, тело бьется в судорогах. Доктора безнадежно машут рукой. Придя в себя, он говорит врачу: «Мне хотелось бы почувствовать землю под ногами…» Его пытаются отговорить, но он упрямо настаивает. «Разве нельзя, как Геракл, восстановить силы, прикоснувшись к земле?» Вот и он хочет в последний раз в жизни рискнуть — вдруг миф о греческом герое обернется для него правдой. Приносят корзину земли и рассыпают ее перед кроватью умирающего. Его поднимают, ноги упираются в пол, лицо преображается, он просит отпустить его и падает на пол.
Более десяти дней длится агония. Видок мужественно заканчивает свою жизнь, как и жил, не зная страха, рискуя и надеясь.
Говорят, в предсмертном бреду од шептал о том, что мог бы стать Клебером, Мюратом, добиться маршальского жезла, но слишком любил женщин и дуэли. Если бы не они…
В полумраке истории
Летним вечером 1844 года в загородном доме Бальзака в Жарди собрались друзья писателя. Хозяин «угощал» в тот день своих гостей примечательнейшей личностью — Видоком.
Расположившись в глубоком кресле, он занимал окружающих историями из своей жизни. Рассказывал о неписаных законах преступного мира, о ворах и грабителях. Или о том, как «вычищал Тюильри» от самозванцев, разгадывая нюхом бывшего каторжника под платьем маркизов и баронов, под пышными мундирами — клейма обитателей галер. Время от времени Видок сопровождал свое повествование словами: «Комедия! Комедия мира — самый необыкновенный спектакль!»
Это была не первая встреча автора «Человеческой комедии» с прототипом его героев, и прежде всего — Вотрена. Они познакомились задолго до этого, еще в начале двадцатых годов. Бальзака интересовали факты, случаи из уголовной и судебной практики, он запасался материалом для своих романов, изучал жизнь парижского «дна».
Видок, как никто, мог оказаться полезным для него. Возможно, именно после встреч с ним Бальзак записал слова о том, что все ужасы, которые романистам кажутся вымыслом, уступают действительности. Великий писатель не только находил в рассказах Видока подтверждение тому, что мир преступников связан тайными узами с верхами общества, с полицией, но и черпал из его историй темы, сюжеты, образы для своих «этюдов о нравах». Под именем Гобсека выведен старый приятель Видока ростовщик Жюст; «женщина-загадка» Феодора из «Шагреневой кожи» напоминает Сильвию, знакомую Видока; образ Феррагюса был навеян тем же источником. Подтверждение тому — досье на некоего каторжника Феррагюса, обнаруженное в бумагах Видока после его смерти. Не раз на страницах романов Бальзака упоминается имя и самого начальника сыскной полиции.
В своей работе Бальзак не преминул воспользоваться и таким источником, как воспоминания Видока. Из них он узнал о случае с Вотреном, заимствовал это имя и, изменив лишь одну букву, назвал им одну из самых колоритных фигур «Человеческой комедии».
Но не только имя взял Бальзак для своего персонажа из жизни. Писатель придал Вотрену черты реального лица — Видока, создал близкий к подлиннику портрет, наделив его умом и хитростью, присущими прототипу. Даже внешний облик этого литературного героя, его ярко-рыжие волосы, незаурядная физическая сила, приветливое обращение и грубоватая веселость, за которыми скрывался вулкан человеческих страстей, — скопированы с Видока.
Бальзак имел право сказать, что Вотрен «не заключает в себе никакого преувеличения», ибо был списан «с живого человека».
Однако и это не все. Бальзак использовал факты биографии бывшего каторжника при создании своих романов. Сведения, почерпнутые из жизни Видока, послужившего как бы возбудителем творческого воображения писателя, были немаловажным источником для автора «Человеческой комедии» при описании преступного мира, которым, как он считал, нельзя было пренебрегать в описании нравов, в точном воспроизведении состояния общества. Похождения, подобные тем, что описал Видок, часто находили отражение на страницах прессы того времени, печатавшей отчеты о дерзких подвигах беглых каторжников, сеявших смятение в провинции и столице. Факты такого рода получили отклик и в литературе. Создается мода на романы, где действуют пираты, разбойники, беглые каторжники, полицейские.
Не избежал всеобщего поветрия и молодой тогда Бальзак. Уже в ранних произведениях он выводит тип сильного человека, скрывающегося обычно под чужим именем. Это и пират Аргоу, присваивающий себе фамилию графа де Максенди, и неуловимый, таинственный Феррагюс, элегантно одетый, с орденом Золотого руна, звездой на фраке и двумя буквами, выжженными на правом плече, означающими каторжные работы.
Наконец, это Вотрен — по словам самого Бальзака, один из наиболее известных и ярко обрисованных персонажей «Человеческой комедии». В прошлом «Наполеон каторги», известный под именем Жака Коллена, по кличке Обмани-смерть, он впервые появляется в романе «Отец Горио».
Метаморфозы Видока, так же как и перевоплощения Куаньяра, Колле, Жосси, наводят на мысль о различных обличьях, принимаемых Вотреном. Бальзак прямо указывает, что мнимый испанский аббат Карлос Эрера «оказался на месте каторжника Коллена в результате какого-нибудь преступления, столь же искусно совершенного, как то, при помощи которого Куаньяр стал графом де Сент-Элен». Тот же Коллен, скрываясь от полиции, выступает под личиной негоцианта, в роли генерала осуществляет «блистательнейшую из своих проделок» — побег, переодевшись, подобно Видоку, в офицерский мундир.
На страницах жизнеописания Видока перед читателем возникал, по мнению тогдашнего генерального инспектора тюрем Моро-Кристофа, человек «необычайного ума, неслыханной, дерзновенной смелости, невероятной, неистощимой изобретательности, огромной физической силы и ловкости». Но только этого, согласитесь, совсем недостаточно, чтобы не оказаться за бортом истории. Почему же и сегодня мы вспоминаем о Видоке?
Как полагает современный историк Жан Савен, изучавший биографию Видока и написавший о нем ряд книг, имя Франсуа Видока до сих пор не кануло в Лету только потому, что его личность интриговала и вдохновляла великих писателей. И это действительно так. Следы Видока можно отыскать и в творчестве Дюма.
Если Бальзак познакомился с Видоком за столом в доме у господина де Берни, королевского прокурора, мужа госпожи де Берни, с которой писателя связывала многолетняя дружба, то А. Дюма встретился с ним в гостиной Бенжамена Аппера. На вилле у этого известного филантропа и писателя раз в неделю собирались «самые блистательные умы эпох». Здесь можно было встретить писателей, драматургов, политических деятелей, врачей, адвокатов и т. п. Бывал и Видок, утверждавший, что «добрые дела отмечают каждое мгновение жизни почтенного господина Аппера». Любезный хозяин, не желая оставаться неблагодарным, в свою очередь, распинался перед гостем: «Я знаю тысячу штрихов, говорящих о добром сердце Видока, этого замечательного человека».
Завязавшаяся здесь, в доме Аппера, дружба Дюма с Видоком породила своего рода сотрудничество. Результаты его воплотились в таких произведениях, как «Парижские могикане», «Сальваторе», «Габриель Ламберт».
Обязан Видоку был и Эжен Сю. На основе материалов, предоставленных Видоком, созданы «Парижские тайны». Черпали из этого же источника и другие — Леон Гозлан и Фредерик Сулье, Леон Фоше и Паран-Дюшатле, и даже Жорж Санд, для которой Видок послужил прообразом Тренмора в ее романе «Лелия».
Знал ли Гюго бывшего каторжника Видока?
Ответить на этот вопрос не составляет особого труда. Писатель не только читал мемуары Видока, но, как и многие литераторы, лично был хорошо знаком с ним.
Впервые они встретились в конце двадцатых годов, возможно, в доме того же Аппера, когда Гюго опубликовал повесть «Последний день приговоренного к смерти».
К тому времени некогда всесильный шеф полиции Видок уже находился в отставке и занимался коммерческой деятельностью. Он открыл бумажную фабрику, где вырабатывалась его собственного изобретения бумага с особыми водяными знаками, исключавшими подделку векселей. На этой фабрике трудились главным образом бывшие каторжники, те, кто не мог найти себе работу, кого избегали, словно прокаженных. Отношению к освобожденным преступникам Видок посвятит обширный труд, который изучали все юристы того времени.
В нем Видок, в частности, писал: «Хотя нам оказывают честь называть нас самым просвещенным народом на земле, мы все еще находимся во власти предрассудков. Из них самым пагубным по своим последствиям, порождающим наибольшее количество преступлений и, наконец, самым асоциальным является тот, который заставляет отталкивать освобожденных преступников».
Положение отбывшего срок и выпущенного на свободу, по словам Видока, очень похоже на положение должника, который наконец вернул свои долги. Он оплатил свой долг, отбыв наказание, к которому был приговорен. «Отчего же к нему не относятся так же, как к должнику, зачем беспрестанно упрекают в той ошибке или преступлении, которое он совершил? — продолжал Видок. — Отчего его отталкивают так безжалостно? В каких законах, божеских и человеческих, почерпнули люди эти принципы извечного упрека?»
Эти же вопросы волновали и Гюго. И Видок оказал писателю неоценимую услугу. Вспомним, что и Жан Вальжан, превратившись в господина Мадлена, создает фабрику, где трудятся бывшие каторжники. Правда, мастерские, созданные Жаном Вальжаном, находились около Монтрей-сюр-Мэр, а не близ Монтрей-су-Буа, как у Видока. И производили здесь не бумагу, а так называемое черное стекло. Но это не меняет сути дела. Несомненно, писатель воспользовался этим фактом биографии Видока, как до него сделал это и Бальзак, создавший своего Давида Сешара — изобретателя нового дешевого состава бумаги.
Становится изобретателем и Жан Вальжан. Но если Видок, помимо бумаги с водяными знаками, изобрел несмываемые чернила и несколько способов производства картона, то Жан Вальжан усовершенствует производство черного стекла, удешевив метод его изготовления.
Знакомство Гюго и Видока прослеживается на протяжении многих лет, вплоть до того дня, когда писатель вынужден был удалиться в изгнание. Известно, например, что Видок оказывал кое-какие услуги Гюго в тот период, когда стал главой первого в истории частного сыскного бюро. В бумагах Видока после его смерти в 1857 году обнаружили огромное досье Прадье. Это было дело о тяжбе Жюльетты Друэ со своим бывшим супругом скульптором Джеймсом Прадье — дело, которым по просьбе Гюго занимался Видок. Там же оказалось и досье, имеющее непосредственное отношение к Гюго. На папке стояло имя «Биар». Бумаги, находившиеся в ней, относились к 1845 году и касались отношений Гюго с Леони д’Онэ, по мужу Леони Биар. Видимо, Видока, как нельзя лучше умеющего улаживать щекотливые конфликты, пригласил Гюго вмешаться и помочь ему выйти из затруднительного положения.
Столь долгое и, можно сказать, близкое знакомство Гюго с Видоком не могло не отразиться на творчестве писателя. И если вновь обратиться к биографии Видока, то легко установить, что в его судьбе, как и в жизни Жана Вальжана, тоже сыграл роль священник. Звали его Пьер-Жозеф Порион, он был епископом Па-де-Кале, откуда происходил Видок. Этот человек отличался необыкновенным милосердием и, как говорили, совершил не меньше благодеяний, чем епископ Мириэль в своей епархии.
Гюго использовал и многие другие факты биографии Видока в романе «Отверженные». Это, например, история со стариком Фошлеваном, когда на него опрокинулась повозка и Жан Домкрат, как прозвали Жана Вальжана на каторге за его силу, спас несчастного. Подобный случай действительно произошел с Видоком. Однажды в январе 1828 года шел дождь, и дорогу в Ланьи сильно размыло. Тяжелая повозка с бумагой и картоном с фабрики Видока увязла в грязи. Лошади не могли сдвинуть ее ни на шаг, встали на дыбы, повозка опрокинулась, и возница, бывший каторжник, оказался придавленным ею. Позвали хозяина, пришел Видок, подлез под повозку и, словно домкратом, одной лишь силой своих геркулесовых мускулов приподнял ее и освободил беднягу.
Запомнил Гюго и рассказ Видока о его побеге с каторги. Монахиню, которая способствовала бегству, писатель назвал сестрой Симплицией, и она, в свою очередь, помогла скрыться Жану Вальжану.
Словом, без Видока, видимо, не было бы Жана Вальжана, грозного каторжника, «гонимого, — по словам А. Герцена, — целым гончим обществом». Как, впрочем, не было бы и Жавера — олицетворения другой его ипостаси. «В святости Жана Вальжана, — пишет литературовед М. С. Трескунов, — воплощена правота угнетенных, в злобе Жавера — вся жестокость угнетателей».
Но нигде Видок не обрисован так ярко, как в «Человеческой комедии». Его своеобразная фигура, как будто отступившая в полумрак истории, была освещена прожектором бальзаковского гения и наиболее ярко предстает перед нами в образе Вотрена на страницах романов «Отец Горио», «Утраченные иллюзии», «Депутат от Арси», «Блеск и нищета куртизанок», в драме «Вотрен».
ДВЕ ЛИЛИИ, ИЛИ ЖИЗНЬ СВЯТОЙ И ПОХОЖДЕНИЯ ГРЕШНИЦЫ
Ангел дружбы
Летом 1836 года умерла госпожа де Берни — ангел дружбы, сопутствовавший Бальзаку в течение пятнадцати лет. Писатель знал, что Лора де Берни тяжело больна и жить ей осталось недолго. Отчаяние его было безгранично. Но что он мог поделать? В его власти одухотворять литературных героев, давать им жизнь на страницах романов, но над действительной жизнью он был не властен. Лора де Берни оставалась «не только возлюбленной, но и великой любовью». Она стала для него тем, «чем была Беатриче для флорентийского поэта и безупречная Лаура для поэта венецианского, — матерью великих мыслей, скрытой причиной спасительных поступков, опорой в жизни, светом, что сияет в темноте, как белая лилия среди темной листвы», — признавался Бальзак. И утверждал: «Большинство моих идей исходят от нее, как исходят от цветов волны благоухания». Все написанное с тех пор, как в марте 1822 года Бальзак отправил ей пылкое послание, он связывал с ней.
«Проницательная, насмешливая и страстная, — пишет А. Моруа в своей книге о Бальзаке, — не питавшая иллюзий насчет людей и все же относившаяся к ним беззлобно, способная на безграничную преданность, она описывала ему всевозможные интриги, алчные устремления, заговоры. Словом, объясняла жизнь». Ведь она была старше его на двадцать с лишним лет, знала свет и была вправе давать советы. В ней соединились для него сердце матери и душа любовницы. Чувство к госпоже де Берни стало единственным — «подлинная любовь всегда одна в жизни». Послушайте самого Бальзака: «Она была одновременно матерью, подругой, семьей, другом, советчицей; она создала писателя…» Она угадала в нем талант, помогла ему сформироваться. «Не будь этой женщины, — говорит А. Моруа, — гений Бальзака, быть может, никогда не расцвел бы». Госпожа де Берни пробудила в нем, по словам С. Цвейга, мужчину, художника, творца, вселила в него мужество, свободу, внешнюю и внутреннюю уверенность. Словом, она принадлежала к тем женщинам, которые играли своеобразную роль в интеллектуальной жизни общества. Сами они не выступали в литературе, но оказывали влияние на нее косвенно, как собеседницы, советчицы, помощницы известных писателей, как пропагандисты их творчества.
И не удивительно: все, что написано Бальзаком о госпоже де Берни и при жизни ее и после ее смерти, как скажет тот же С. Цвейг, сливается в единую, всепоглощающую благодарственную песнь во славу этой великой и возвышенной женщины.
Когда Лора де Берни узнала, что обречена, она запретила Бальзаку навещать ее. Но перед тем как покинуть этот мир, она пожелала в последний раз увидеть своего Оноре. Увы, Бальзака не удалось разыскать. И все, что могла сделать госпожа де Берни в свое утешение, — это перечитать сцену смерти госпожи де Морсоф в романе «Лилия долины».
Рядом с кроватью на столике лежал самый первый экземпляр, отпечатанный для нее и подаренный автором ей, «ныне и присно избранной».
Перечитывая строки романа, госпожа де Берни думала о пережитом, о минувших днях, когда она имела право говорить ему: «Мой милый, мой любимый, мой друг, сын мой возлюбленный…» Она не сожалела о прошлом, как госпожа де Морсоф в романе, ибо не отвергала любовь, наслаждения. Ее жизнь с того момента, когда она встретила Бальзака, была наполнена самоотверженностью и страстью. В этом ее отличие от добродетельной бальзаковской героини, не пожелавшей отдаться любви и сожалевшей об этом на смертном одре. В остальном же госпожа де Морсоф была ее подобием. Впрочем, сам Бальзак считал, что его героиня — «чарующий образ женщины», «небесное создание» — лишь бледная копия госпожи де Берни.
Что касается самой госпожи де Берни, то она была в восхищении от всей книги. Но радовало ее отнюдь не то, что она стала прототипом (Бальзак и ранее наделял своих героинь присущими ей чертами). Госпожа де Берни была счастлива за автора, полагая, что теперь его чело «увенчано венком», о котором она мечтала для него.
Сегодня «Лилию долины» относят к второстепенным романам Бальзака. Сам же автор был в восторге от своего «великого и прекрасного» создания. И заявлял, что если «Лилия долины» не будет женским молитвенником, то, значит, он — полное ничтожество. Бальзак изваял, по его словам, великую женскую фигуру и предполагал, что над «романом будут плакать навзрыд».
И он не ошибся. Книга привлекла внимание современников. Особенный успех имела она среди женщин. Многие восприняли сочинение как откровение. Импонировало то, что автор поднимал вопрос о семейном и общественном положении женщины, ее зависимости от социальных предрассудков и обычаев.
Нашлись, однако, читательницы, которые набросились на автора с упреками, что на страницах романа он-де предал гласности их семейные тайны. Бальзак не отрицал, что «Лилия долины» содержит много автобиографического и что некоторые образы взяты из жизни (личный опыт часто независимо от автора проступает в написанном). Совпадения же с судьбами иных женщин объяснялись тем, что он, как и другие великие писатели-сердцеведы, дал в своем произведении ключ к «движениям человеческого сердца, захваченного любовью».
Его всегда тянуло на родину, в Тур. Память хранила красоту долин Турени, берегов Луары, зеленых лугов и тополей родного края.
Бальзак считал, что виды Тура и его окрестностей, с которыми он сроднился с колыбели, воспитали в нем чувство прекрасного. Особой прелестью отличалась долина, тянувшаяся от Монбазена до Луары. Она походила на изумрудную чашу, на дне которой змеился Эндр, а на окружающих ее холмах, словно часовые, вздымались старинные замки. Вид этой долины, говорил Бальзак, вызывал в нем чувство глубокого восхищения. «Если вы хотите видеть природу во всей ее девственной красоте, словно невесту в подвенечном платье, приезжайте сюда в светлый весенний день; если вы хотите успокоить боль раны, кровоточащей в сердце, возвращайтесь сюда в конце осени; весной любовь бьет здесь крылами среди небесной лазури; осенью здесь вспоминаешь и тех, кого уже нет с нами».
Поместье Саше, где писатель провел детство, как бы олицетворяло для него родные пенаты, стало на многие годы прибежищем в летнюю пору. По дороге в Саше, тянувшейся вдоль левого берега реки, его сопровождал шум мельниц, стоящих на порогах; вдали таинственно серебрилась полоска Луары. А потом в котловине возникали романтические очертания поместья. Огромные седые деревья и даже сам воздух здесь, казалось, были как бы насыщены тайной.
Поместье располагалось в шести километрах от Тура. За каменной оградой, среди обширного парка, стояло старинное здание под черепичной крышей. Когда-то на этом месте возвышался средневековый замок. Впоследствии его развалины послужили фундаментом для господского дома, который по старой привычке все еще называли замком. В конце восемнадцатого века владельцами его стала семья Маргоннов, близких друзей Бальзаков.
Наезжая в Саше (случалось, что он ходил сюда из Тура пешком), писатель вел здесь затворническую жизнь. Поместье оказывало на него чудотворное влияние, было местом исцеления и отдохновения. В кругу гостеприимных хозяев он забывал о неприятностях, преследовавших его в столице, отстранялся от тяготивших забот. Здесь на него нисходило глубокое спокойствие. «Я свободен и счастлив быть здесь, как монах в монастыре. Я приезжаю, чтобы обдумать серьезные труды». Все способствовало вдохновению: и чистое небо, и красивые дубы. В тишине старинного дома на берегу Эндра были задуманы многие из лучших его творений. Некоторые же были тут полностью или частично написаны: «Утраченные иллюзии», «Луи Ламбер», «Цезарь Бирото», «Отец Горио»…
Сегодня в Саше расположен музей Бальзака.
Каменная винтовая лестница ведет в комнаты, где в точности воспроизведена обстановка времен Бальзака. В гостиной, где обычно он проводил вечера и читал вслух только что написанное, все, как прежде, — та же мебель, те же гравюры на стенах… Этажом выше маленькая комната, которая служила и спальней, и кабинетом. Простая деревянная кровать под балдахином, кресло, лампа, стол. Тот самый стол — «безгласное, четвероногое существо, которое он таскал за собой из одной квартиры в другую, спасал от аукционов и катастроф, вынося на себе, как солдат своего побратима из пламени битвы». Этот стол — единственный, как скажет С. Цвейг, наперсник его глубочайшего счастья, его горчайшей муки, немой свидетель подлинной его жизни. «Он видел мою нищету, — вспоминал Бальзак, — он знает обо всех моих планах, он прислушивался к моим помыслам, моя рука почти насиловала его, когда я писал на нем».
На этом рабочем станке — чернильница и знаменитая спиртовая кофейница — две неизменные спутницы вдохновения Бальзака.
Неизвестно, чего больше истратил этот Геркулес, создавая свои шедевры, — чернил или кофе. Кто-то подсчитал, что за время, которое ушло на создание «Человеческой комедии», Бальзак поглотил пятнадцать тысяч чашек крепкого черного кофе.
Рядом с запасом бутылок с чернилами у него всегда стояло изящное фаянсовое приспособление для приготовления стимулирующего напитка. Простая, в виде большого стакана, белая подставка-спиртовка с голубыми полосками и такого же цвета анаграммой О. Б. Сверху спиртовки небольшой пузатый чайник с такими же голубыми кольцами. «Кофе проникает в ваш желудок, и организм ваш тотчас же оживает, мысли приходят в движение… встают образы, бумага покрывается чернилами…» Потоки чернил, смешиваясь с потоками кофе, превращались в животворящий бальзам, благодаря которому ожили две тысячи персонажей «Человеческой комедии».
Но эта же смесь погубит самого творца. Для него она окажется смертоносным эликсиром. В качестве улики, подтверждающей этот вывод, можно представить тот самый кофейник, который, по словам литературоведа Л. Гроссмана, «сыграл такую заметную роль в жизни романиста, возбуждавший годами его мозговую деятельность и в конечном счете сокративший его жизнь». Неопровержимое свидетельство и листки бальзаковских рукописей, подчас сплошь покрытые бледнокоричневыми кружками от кофейных чашек — следами медленного яда.
Я. Парандовский, автор великолепной книги «Алхимия слова», утверждает, что Бальзак творил лишь благодаря кофе, и уточняет количество поглощенного им темного напитка. Он говорит, что писатель прожил пятьюдесятью тысячами чашек кофе и умер от пятидесяти тысяч чашек кофе. Впрочем, и эти цифры кажутся ему заниженными. Каждую строчку Бальзака сопровождал глоток благоухающего черного кофе, отчего, считает Я. Парандовский, в его стиле чувствуется возбуждающее действие этого напитка.
Бальзак священнодействовал, заваривая напиток бодрости и вдохновения. С его помощью он, «невольник пера и чернил», преодолевал потребность в сне и тем самым удлинял рабочий день. Вернее сказать, сутки, так как трудился, словно одержимый, по двенадцать — пятнадцать часов, главным образом ночами.
По быстроте создания своих шедевров Бальзак являет собой пример феноменальной работоспособности. Он писал без устали, не зная остановок и пауз, всецело захваченный «абсолютно бессознательным процессом». «Мысли сами брызжут у меня из черепа, как струи фонтана».
Заварив кофе, приготовив перья и бумагу, Бальзак погружался в мир своей фантазии. Заглавие и первые строки выводил каллиграфическим почерком, широким и свободным. Кажется, будто он намерен так же не спеша и аккуратно писать и дальше. Но вот внезапно, на четвертой строке, резкое движение руки разбрасывает брызги чернил. С этого момента перо перестает успевать за убегающей мыслью, почерк упрощается, буквы теряют округлость, становятся неразборчивыми. На семнадцатой странице строки настолько коротки, что занимают лишь среднюю часть листка, слова сливаются. Зато возникают интервалы между слогами, почерк становится компактным, несколько букв изображаются одним как бы стенографическим знаком.
Чем объяснить такую быстроту, откуда такой темп? Ответ следует искать в предположении, что к началу работы за столом в голове Бальзака уже отстоялся весь материал, сложился план, характеры и определились детали. Ему предстояло лишь записать выношенное произведение.
Часто Бальзак работал одновременно над несколькими романами и новеллами. Приходилось к тому же писать письма родным, друзьям, возлюбленным. Причем, как тогда было принято, это были длинные, обстоятельные послания. Сегодня они являются для нас ценнейшими документами.
Над романом «Лилия долины» Бальзак работал в 1835 году, когда обрушились на него всякого рода беды. Кроме того, он в тот же год написал еще ряд романов. «Лилия долины» родилась за несколько месяцев при огромном напряжении сил.
В письме к своей незнакомой корреспондентке Луизе, с которой поддерживал оживленную переписку, он восклицал: «Какое произведение! И сколько потерянных ночей!»
Окончив наконец роман, измученный трудом, Бальзак признавался: «Я работал ночи и дни и спал только два часа из двадцати четырех».
Даже у постели больной Лоры де Берни, которую навестил за год до смерти в ее имении, Бальзак правил корректуру «Лилии долины». Больше того, оказавшись в тот год в тюрьме (на пять дней) за отказ состоять в Национальной гвардии, он и здесь продолжал неистово трудиться.
То же было и в Саше, когда он ненадолго, тем же летом, приехал туда, — «писал по пятнадцати часов в день, вставал с восходом солнца и работал до обеда».
За окном простиралась долина, склоны, покрытые кудрявыми виноградниками. Память возвращала к тем дням, когда лет пять назад вместе с Лорой де Берни они путешествовали по Луаре, а потом жили в очаровательной усадьбе. В этих же местах разворачиваются события романа, повествующего о «неведомом сражении, происходившем в долине Эндра между госпожой де Морсоф и страстью».
Роман написан в форме послания, в котором Феликс де Ванденес, герой повествования, рассказывает возлюбленной Натали де Манервиль историю своей необыкновенной и трагической любви к добродетельной госпоже де Морсоф. Мы узнаем, что ему было всего двадцать лет, когда он приехал в Турень, чтобы поправить свое здоровье. Хозяин усадьбы, где он жил, господин де Шоссель, привел его в соседний замок Клошгурд, расположенный в долине Эндра. Здесь Феликс встретил госпожу де Морсоф и влюбился в нее. Она ответила ему пылким чувством. Однако высокие нравственные идеалы, брачный обет и двое болезненных детей — все это стоит на пути охватившей ее страсти. Спустя некоторое время она узнает, что Феликс, уехавший в Париж, встретил там некую англичанку леди Дэдлей, которая, воспылав к нему страстным чувством, стала его любовницей. Госпожа де Морсоф тяжело переживает измену и готова сожалеть по поводу своего непреклонного целомудрия. Права ли она, оставшись верной своему долгу, разумна ли ее жертва? Что правильнее: следовать велениям долга и разума или подчиняться голосу чувства? Не лучше ли ей поступить, как ее соперница — пожертвовать всем ради любимого человека?
Естественно, что, когда Феликс, продолжающий любить госпожу де Морсоф, приезжает в Клошгурд, она встречает его холодно, давая понять, что ей все известно. Однако потом прощает и «уступает» его леди Дэдлей. Тяжело заболев, она умирает, сожалея, что не жила настоящей жизнью, а довольствовалась одним обманов. Подводя итог, герой романа, в свою очередь, признает, что «стал игрушкой двух несовместимых страстей и поочередно подпадал под их влияние»; ему становится понятно, что он «любил ангела и демона — двух женщин равно прекрасных; одну, украшенную всеми добродетелями, которые мы попираем, кляня наше несовершенство; другую, наделенную всеми пороками, которые мы превозносим из себялюбия».
На страницах книги оживает живописный уголок глухой провинции, так хорошо знакомый Бальзаку, места, расположенные по дороге из Тура в Саше, сам замок, который получит новое книжное название Фрапель. Нетрудно обнаружить топографические прототипы и у других названий, встречающихся на страницах романа. Так, например, замку Клошгурд, где живет де Морсоф, соответствует замок Шевриер. И вообще всю бытовую обстановку, окружающую героев, весь житейский материал Бальзак почерпнет здесь, в поместьях, расположившихся в долине на берегах Эндра.
А сами герои? Были ли у них реальные прототипы? Литературоведы подыскали ключи к биографическим и бытовым источникам романа и установили реальные модели почти для всех действующих лиц, начиная с владельца замка Фрапель господина де Шасселя, прототипом которого послужил де Маргонн (друг семьи Бальзаков и владелец замка в Саше), и кончая доктором Ориже, практиковавшим в Туре и так и попавшим под своим именем в роман. Отыскали прообразы и для четы де Морсоф. Казалось, что некие супруги Ландриэв, жившие в Турени и происходившие из древнего аристократического, но обедневшего рода, вдохновили писателя и помогли ему одушевить задуманные образы. Во всяком случае, бесспорно было то, что семья Ландриэвов, исполненная сословной гордости, отличалась фанатической преданностью Бурбонам и вернулась во Францию только после восстановления королевской власти, что нашло отражение и в романе. Что касается госпожи де Ландриэв, то о ее нравственной чистоте ходили легенды. Это дало основание увидеть в ней, когда роман вышел в свет, прототип де Морсоф. Во всяком случае, так полагали жители местечка, где обитали супруги Ландриэв.
Высказывали мнение (и, видимо, не без основания), что в образе де Морсоф отражены некоторые черты Зюльмы Карро, многолетней хорошей знакомой Бальзака, с которой он переписывался и в чьем семействе часто гостил. Однако с тем же правом называли графиню Гидобони-Висконти, связь с которой у Бальзака продолжалась долгие годы. Внешний облик ее, как многим казалось, напоминал госпожу де Морсоф. Видимо, те, кто так полагал, были недалеки от истины. Наружностью героиня Бальзака и в самом деле походила на графиню: густые пепельные волосы, зеленовато-карие глаза, греческий нос, изящно очерченный рот на одухотворенном овальном лице, белом, как камея, с нежным румянцем на щеках, прекрасная шея, ослепительные плечи и стройный стан. Однако самый точный рисунок, самые яркие краски были бессильны передать обаяние бальзаковской героини, как и ее прототипа. В этой же связи называли и другую графиню — Эвелину Ганскую. Но если что и заимствовал у нее писатель для своей героини, то лишь «высокий и выпуклый лоб». Одним словом, предположений и догадок относительно реальных моделей героини Бальзака было множество. Причем в Турени называли одних женщин, в столице — других. А между тем Бальзак, часто действительно заимствовавший у прототипов те или иные черты внешности или характера, использовал их в соответствии со своим замыслом, нередко до того изменяя, что трудно бывало установить точную аналогию.
И все же у госпожи де Морсоф, как я уже говорил ранее, был основной прототип — госпожа де Берни. На это указывал не только сам автор: Лора де Берни узнала себя в бальзаковской героине. Она была счастлива оттого, что вдохновила Бальзака на создание портрета женщины столь высокой добродетели и нравственного величия. Ей, безусловно, льстило, что в книге, которая была задумана как «женский молитвенник», она послужила прототипом идеализированного женского образа. И как часто случалось и ранее, госпожа де Берни позволила себе дать автору совет — убрать одну сцену, которая, по ее мнению, снижала образ де Морсоф. Бальзак и в этот раз послушался своей постоянной советчицы и, «благоговейно подчинившись», уничтожил около ста строк, которые портили этот образ. «И всякий раз, — писал он позже, уже после смерти Лоры де Берни, — как мое перо вычеркивало одну из них, я был взволнован так, как никогда еще не волновалось человеческое сердце. Мне казалось, я видел, как эта великая и возвышенная женщина, этот ангел дружбы, улыбается мне, как она улыбалась всегда, когда я применял эту столь редко встречающуюся силу, позволяющую отсекать члены собственного тела и не чувствовать при этом ни боли, ни сожалений, исправлять себя, побеждать себя!»
Говоря о прототипах бальзаковского романа, следует назвать еще одну реальную модель. Я имею в виду женщину, вдохновившую писателя на создание образа англичанки Арабеллы Дэдлей. Той самой, которую герой романа Феликс называет владычицей тела, в отличие от госпожи де Морсоф — супруги души.
Одна — женщина земли, дочь грешного человечества, другая — дочь небес, обожаемый ангел. Герой мечется между этими двумя полюсами, между демоном и ангелом, не понимая, что соединить их в одно невозможно, как нельзя соединить воду с огнем. Тем не менее обе они кажутся ему равно прекрасными. Его вывод таков: «Горе тому, у кого не было своей Анриетты! Горе и тому, кто никогда не знал какой-нибудь леди Дэдлей…» Счастливым же, думал он, может быть лишь тот, кто обретет обеих женщин в одной.
Кто же послужил прототипом леди Дэдлей, этой «жрицы любви»?
Женщина, ставшая прототипом бальзаковской героини, в свое время была весьма известной особой. Ее имя звучало во многих европейских салонах и дворцах. Правда, известность ее носила, скорее, скандальный характер — это был тип авантюристки, довольно широко распространенный в среде, к которой она принадлежала.
Жрица греха
История помнит многие имена дерзких авантюристок, прекрасных куртизанок, которым порой удавалось вершить судьбами людей и царств. Их образы запечатлены в литературе. Таковы греческие Фрина и Аспазия, многажды воспетые поэтами; Нинон де Ланкло, не раз описанная в романах; Марион Делорм — героиня одноименной пьесы; Мари Дюплесси — знаменитая «дама с камелиями»; Ида Сент-Эльм — создательница «бесстыдных записок современницы», впрочем оказавшихся, кажется, плодом фантазии одного бойкого французского журналиста прошлого века. Все они были «жрицами греха», с той только разницей, что одни наказывали любовью, а другие погибали сами, наказанные ею. Как погибла властолюбивая герцогиня д’Абрантес, знакомая Бальзака, прожившая беспутную жизнь в роскоши и окружении любовников, впавшая в нищету и кончившая самоубийством.
В своем стремлении создать историю нравов, описать общество со всеми высокими и постыдными сторонами его жизни, нарисовать различные социальные типы Бальзак не мог пройти мимо образа куртизанки и авантюристки.
Какая-то часть картины, считал он, должна представлять людей порочных, хотя и знал, что буржуазное общество не прощает тем, кто пытается выставить на всеобщее обозрение его пороки. И многие из знаменитых парижских кокоток, которых писатель наблюдал в столичных салонах, стали прототипами его Торпиль, Акилины или Империи.
Поздней осенью 1829 года в Париже появилась некая леди Элленборо. Она приехала из Лондона, где оставила мужа барона Эдварда Элленборо. Незадолго до этого в английской столице палата лордов начала публичные дебаты вокруг скандала, который так долго приятно занимал воображение лондонского общества. В те времена развод в Англии мог разрешить лишь парламент соответствующим актом при согласии королевы. Иначе говоря, развестись практически было невозможно. (Вспомните, что Горацио Нельсон и Эмма Гамильтон, бывшая уже вдовой, так и не смогли предстать перед алтарем, поскольку парламент не допускал развода адмирала с женой.)
Тем не менее лорду Элленборо разрешили расторгнуть брак «с почтенной баронессой Джейн Элизабет Элленборо, его женой».
Женясь на Джейн, лорд полагал, что лучшей партии ему нечего и желать. Его жена происходила из хорошей семьи, была молода и прекрасна. К тому же могла принести ему наследника. И действительно, Джейн родила сына Артура Дэдлея.
Однако супружеская жизнь не задалась. Не успел епископ — дядя жениха — скрепить узы брака и едва сыграли свадьбу в доме отца невесты адмирала Дигби, как лорд Элленборо, казалось, забыл о жене. Все свою энергию он отдавал политической карьере. Не удивительно, что молодая женщина, жаждавшая внимания, чувства и общения, постаралась компенсировать отсутствие всего этого. Она нашла утешение в светской жизни, закружившись в водовороте лондонского общества. Джейн стали приглашать на званые обеды, вечера и балы. Леди Элленборо была необычайно хороша собой, высокая и статная, с огромными голубыми глазами на безупречно свежем лице, обрамленном мягкими золотистыми волосами. К тому же ее отличал блестящий ум и незаурядное остроумие, она умела быть неотразимой, но главное, что, по-видимому, особенно привлекало в ней мужчин, — это пылкий нрав.
Ее выбор пал на князя Феликса Шварценберга, атташе австрийского посольства, молодого красавца с необыкновенным пронзительным взглядом, дававшим повод говорить, будто он обладал какой-то мистической силой. Держался он просто, был обаятелен и приветлив. К тому же разносторонне одарен: увлекался анатомией, сочинял музыкальные комедии и мог беседовать на любые темы. Много лет спустя, когда он станет министром иностранных дел, о нем будут говорить, как о «суровом, энергичном и мало разборчивом в средствах» политическом деятеле. Пока же он начинал свою карьеру и до того, как попасть в Лондон, успел побывать в России, Бразилии, Франции и Испании.
Единственной его слабостью были женщины.
На одном из приемов он познакомился с леди Элленборо. Через некоторое время они стали любовниками. Причем Джейн очень скоро утратила осторожность. Казалось, что мнение света так же, как и мужа, мало ее беспокоит. Между тем все признали поведение молодой леди неблагоразумным, а один журналист представил ее в таком виде, будто она «однажды утром взобралась на крышу и возвестила на все королевство: я любовница принца Шварценберга. Все леди, которые тоже имели любовников, но не болтали об этом, были весьма шокированы».
Когда слухи дошли наконец до лорда, он не поверил сплетникам и от души смеялся над ними.
Но рано или поздно он должен был узнать о приключениях своей супруги. Джейн решила опередить события и сама призналась в своей любви к князю. Однако, как заметил современный автор биографии лорда Элленборо, даже это не нарушило привычной распорядок жизни. В его дневнике в этот день сделана такая запись: «Обедал у лорда Хилла — вечер сугубо военный». Впоследствии он стойко перенес разразившийся скандал и дебаты по его личному вопросу в палате лордов. Имени Джейн с тех пор он не упомянул ни разу.
Что же касается союза Джейн Элленборо с Феликсом Шварценбергом, то он оказался несчастливым. Они перебрались в Париж, где вскоре у них родилась дочь. Джейн надеялась выйти за князя замуж. Но возражала его семья. Брак с разведенной женщиной казался родственникам, ревностным католикам, кощунством, не говоря о том, что эта женитьба неблагоприятно отразилась бы на карьере Шварценберга. И он оставил Джейн. Она сама предложила ему взять дочь к себе и воспитывать ее.
Более чем через двадцать лет она встретилась с Феликсом и своей дочерью. Тогда она была замужем за греком и у них был сын. Шварценберг служил в чине генерала в австрийской армии и вместе с дочерью приехал в Неаполь, где они и увиделись. Что произошло между ними, неизвестно, но многие уверяли, что Джейн и тогда все еще любила Феликса Шварценберга.
На этом заканчивается первая глава документального рассказа о жизни леди Элленборо. Следующий эпизод приводит нас в Мюнхен, где вскоре после разрыва со Шварценбергом оказалась наша героиня.
Некоторое время Джейн безбедно жила в Париже, получая ежегодно три тысячи фунтов как бывшая жена лорда Элленборо. К этому периоду ее жизни я еще вернусь, а пока последуем за ней в Мюнхен — эти тевтонские Афины, где правил эксцентричный баварский король Людвиг I. Потомок одного из древнейших в Европе королевских родов Виттельсбахов с юных лет загорелся страстью к искусству, был влюблен в античный мир, коллекционировал скульптуры и живопись, сам сочинял стихи и писал картины. Он вел шумный образ жизни. Его окружали друзья-художники. Задавшись целью сделать из Мюнхена лучший город Германии, тратил огромные деньги на его благоустройство. Но в личной жизни отличался необычайной скупостью, носил потертые костюмы и заставлял своих детей есть черствый хлеб. При этом выбрасывал огромные суммы на любовниц, которых менял чаще, чем свой гардероб.
Когда Людвиг I услышал о красоте леди Элленборо, прибывшей в его «Новые Афины», он изъявил горячее желание встретиться с ней. Она была представлена королю, и тот приказал своему придворному художнику Карлу Штилеру увековечить ее классические черты для «Галереи красавиц». В этом собрании, расположенном во дворце, находились портреты всех женщин, которых король любил или которыми просто восхищался. Несколько раз в неделю этот селадон обходил галерею, любуясь прекрасными лицами и черпая вдохновение в их прелести, чтобы создавать свои «отвратительные стихи», как назвал его вирши один биограф.
Известно, что Г. Гейне зло высмеивал этого «великого поэта», усиленно домогавшегося славы и выпустившего четыре тома своих стихотворений. По поводу королевской «Галереи красавиц» Г. Гейне писал:
Он любит искусство, чтоб с лучших дам Портреты рисовали; Как евнух искусства, гуляет он В своем расписном серале.Леди Элленборо не только удостоилась быть запечатленной на стенах «расписного сераля», но и задержалась во дворце. Однако ненадолго. Через год с небольшим она вышла замуж за барона Карла Веннингена. Поговаривали, что поступить ее так вынудил король, опасавшийся скандала, — Элленборо ждала от него ребенка.
Отныне Джейн проводила большую часть времени в поместьях барона. Она родила двоих детей. Одним словом, пыталась стать образцовым типом немецкой женщины. И возможно, ей это и удалось бы, если бы на сцене не возник граф Спиридон Теотоки.
Косвенно король Людвиг I был причастен к появлению графа в мюнхенском обществе. Дело в том, что первым греческим королем стал Отто — сын Людвига Баварского. После этого в Мюнхен зачастили греки, многие приезжали изучать военные науки. В их числе Спиридон Теотоки. Джейн встретилась с ним на балу. Ее покорила красота графа, его романтические рассказы о его родине — острове Корфу. Пылкий граф тут же признался в любви и предложил бежать с ним в Грецию, где она легко могла бы получить развод. Решиться на такую авантюру Джейн еще не могла, но на тайную встречу согласилась. Поздней ночью она выскользнула из спальни, вывела свою арабскую лошадь из конюшни и поскакала на свидание с графом. С этих пор они часто виделись. Когда барону, ее мужу, стало ясно, что его обманывают, он вызвал Теотоки на дуэль. Для любовника она кончилась плачевно — он был ранен в грудь. По словам врача, надежды, что раненый выживет, не было никакой. Тем не менее Теотоки через несколько недель был уже здоров. Джейн уговорила мужа предоставить ей свободу, и тот, благословя, проводил ее и графа в Париж.
Джейн было тридцать четыре года, когда в 1841 году она стала графиней Теотоки. Супруги поселились в поместье мужа на Корфу. Время проходило между благоустройством нового дома, разведением сада, посадкой кипарисов и зваными вечерами и балами с пением и танцами. Затем графа повысили в чине, присвоив звание полковника, и они переехали в Афины. Здесь у Джейн родился ее последний ребенок, вскоре, однако, трагически погибший. После его смерти Джейн развелась с Теотоки. Она отправилась путешествовать по свету. Побывала в Турции, Италии, Швейцарии. Вернувшись в Грецию, уехала на север страны. Здесь, в горах, обитали отважные и молчаливые горцы. Они часто состояли телохранителями при каком-либо военачальнике. Или объединялись в отряды и, подобно гайдукам, грабили богатых, за что в народе их прозвали паликарами — сильными молодцами, удальцами. Это о них писал Байрон:
И паликары, сабли взяв кривые И за руки берясь, вокруг костра Заводят хоровод и пляшут до утра.В то время во главе их стоял семидесятилетний генерал Хаджи-Петрос. Впервые Джейн увидела его в одной деревне провинции Ламия. Вид у него был весьма импозантный: красная шапка, расшитый золотом камзол, за поясом, как у всех паликаров, пистолеты и кинжал. Генерал, хотя и был намного старше Джейн, произвел на нее неотразимое впечатление. Она осталась в горах. Спала у костра под звездами, пила красное вино и ела простой хлеб. С ней обращались, как с королевой бандитов, и ей это, видимо, нравилось. Про нее тогда писали, что «она правила всей Ламией. Город был у ее ног. Когда она выходила на прогулку, барабаны выбивали дробь, приветствуя ее». Их шум был услышан в Афинах. Королева Амалия решила свести с Джейн счеты. И вот уже издан указ, в котором говорится, что генерал Хаджи-Петрос отстраняется от правления Ламией и командования паликарами. Генерал написал покаянное письмо, в котором корил себя за малодушие, за то, что поддался соблазну и из корыстных побуждений вступил в связь с графиней Теотоки: ведь она была богата.
Оскорбительное письмо коварная Амалия предала гласности. Тем не менее Джейн не оставила седого генерала. Вместе с ним она перебралась в Афины, и они поселились недалеко от города.
Но вскоре Джейн решила осуществить свою давнюю мечту: побывать на развалинах сказочной Пальмиры.
Без особых сборов она отправилась в путь. Двинулась через пустыню к величественным руинам некогда цветущего города, расположенного между Дамаском и Евфратом. По библейскому преданию, Пальмира была основана царем Соломоном. Ее стены видели полчища Навуходоносора, не раз ее разрушали римляне (при Трояне и Адриане), пока, наконец, в 744 году она не была арабами превращена в развалины. Город и его былая слава были забыты. Только в 1678 году английский купец случайно набрел на развалины Пальмиры. Перед его взором предстали руины грандиозного храма Солнца, дорога, по двум сторонам которой высились в свое время тысяча четыреста колонн, остатки дворцов, акведуков, городской стены. С тех пор Пальмира стала местом паломничества любителей древности. Джейн была одной из них. К тому же ей, заядлой наезднице, представилась редкая возможность приобрести прекрасных арабских скакунов, как говорится, на месте.
В Дамаске ее пытался отговорить от опасного путешествия английский консул: он пугал Джейн коварными песками, бесчинствующими в тех районах бандитами. Но это ее не остановило. Сопровождать караван вызвался Меджуэл — араб из знатной фамилии, одной из тех, кому подчиняется пустыня.
Пока верблюды неспешно преодолевали барханы, Джейн и Меджуэл ехали рядом на лошадях и болтали по-французски. Спутник, оказавшийся весьма образованным, рассказывал об истории Пальмиры, об обычаях и нравах пустыни. Был обходителен и услужлив. «В его внешности, — писала знавшая его внучка Байрона, — нашли отражение все особенности хорошей бедуинской крови. Он небольшого роста, худой, с темно-оливковым цветом лица, черной бородой с проседью и такими же черными глазами и бровями».
Он был безумно храбр. Джейн смогла убедиться в этом, когда однажды караван подвергся нападению. Она не знала, как его отблагодарить.
Он же готов был ради нее на все, потому что безумно влюбился в свою спутницу. На обратном пути из Пальмиры, где они осмотрели развалины, Меджуэл предложил Джейн стать его женой. Вся знатная арабская родня восстала против этого брака. Консул в Дамаске не поверил, что она собирается замуж за бедуина. Он напомнил, что она Дигби, леди Элленборо, англичанка, а после замужества станет турецкой подданной. В его глазах Джейн выглядела не сумасбродкой, а сумасшедшей. Тем не менее в 1855 году леди Элленборо стала Джейн Дигби эль-Мезраб. Ей было сорок восемь лет, и она была на три года старше мужа. Началась последняя глава ее необыкновенных похождений.
Перед супругами встал вопрос, как жить: на западный манер в городе или по-бедуински — в пустыне. Пришли к компромиссу и решили так: проводить по полгода то на вилле под Дамаском, то в палатке, среди кочевников и песков. Из Парижа Джейн выписала пианино, свои комнаты обставила французской мебелью, в доме была богатая библиотека, постоянно пополняемая новинками. В саду около пруда разгуливали газели, пеликаны и персидские кошки. Она гуляла вокруг пруда, ухаживала за молодыми деревцами, посещала обширную конюшню с любимыми арабскими скакунами.
Когда же супруги согласно уговору переезжали на житье в пустыню, Джейн, как и все арабские женщины, прислуживала мужу, готовила ему еду, омывала руки, лицо и ноги, стояла и ждала, когда он ел. Светлые волосы перекрасила в черный цвет и заплетала их в косы.
Ей шел пятьдесят второй год, и многие продолжали восхищаться ею. И в семьдесят лет ее любви все еще домогались — одни потому, что она по-прежнему блистала красотой, другие из тщеславия и возможности похвастать своей связью со знаменитой леди пустыни. Однако Джейн была по-настоящему преданна мужу, и никакие сплетни и наветы не могли разрушить их союз.
Уже при жизни Джейн появились ее жизнеописания, изрядно сдобренные выдумками. Одно из таких сочинений принадлежало перу Изабеллы Бертон, жены английского консула в Дамаске. В парижском журнале Джейн однажды прочла о себе некролог. «Знатная леди, — говорилось в нем, — злоупотреблявшая замужеством, недавно скончалась». Из следующего выпуска журнала «умершая» узнала, что своей близкой подруге Изабелле она поручила написать ее биографию «и час в день диктовала ей, рассказывая с одинаковой откровенностью и о плохом, и о хорошем».
Джейн Дигби эль-Мезраб прожила после этого еще восемь лет и умерла в 1881 году.
На кресте кладбища, где ее похоронили, можно было прочитать два слова: «Мадам Дигби».
Теперь вернемся к тому времени, кода леди Элленборо покинула Англию и вместе с князем Шварценбергом поселилась в Париже. Именно тогда, в доме баронессы де Терхейн, Бальзак увидел «смелую леди». Ее внешность, как, впрочем, и ее история, заинтересовали писателя. Они познакомились. В те дни Париж бурлил революцией, на улицах стреляли, а леди Элленборо и Бальзак вели в гостиной светские разговоры. «Какие руки и как стройна! Ее лицо нежнее лилии, а глаза сверкают, как алмазы! Но она слишком хорошо скачет верхом и, наверное, любит проявлять свою силу; я думаю, она настойчива и непреклонна; затем, мне кажется, она слишком дерзко пренебрегает приличиями; женщины, не признающие никаких законов, обычно подчиняются лишь своим капризам. Любя блистать и побеждать, они не обладают даром постоянства». В этом Бальзак скоро убедился сам.
Когда князь Шварценберг уехал в Вену, оставив Джейн, она нашла утешение в беседах со знаменитым писателем.
Не остался, видимо, равнодушным и Бальзак. Теперь и он мог убедиться, что его собеседница была остроумна и привлекательна, с изысканными манерами и особым блеском, ослеплявшим и покорявшим всех вокруг. В гостиных она властвовала, как королева, окруженная почитанием мужчин.
Бальзаку льстило появляться в обществе со знаменитой английской леди. Она отличалась экстравагантностью и страстью к приключениям, что тоже, по-видимому, импонировало писателю. «Ей хотелось перцу, — читаем у Бальзака, — остроты в сердечных утехах… таким дамам жизнь светских женщин с ее неизменной благопристойностью, строгостью правил и привычной размеренностью кажется бесцветной, однообразной, и они восхищаются всем романтическим и недоступным».
Впоследствии Бальзак скажет, что ему удалось угадать в леди Элленборо тип английской женщины, но в то же время единственную в своем роде, сверкавшую убийственной красотой, полную особого магнетизма.
Встречаясь с леди Элленборо, беседуя с ней и наблюдая, Бальзак постигал характер этой прекрасной грешницы, отвергшей дорогу добродетели и вступившей на опасный путь куртизанки. В итоге его наблюдений леди Элленборо превратится на страницах романа «Лилия долины» в леди Дэдлей.
Покинув британские эмпиреи, отказавшись от состояния мужа, леди Дэдлей приезжает в Париж. Это воздушное существо, на первый взгляд женщина томная и хрупкая, с точеным лбом, увенчанным облаком золотистых волос, носит две непроницаемые личины, которые с невозмутимой легкостью снимает и надевает при необходимости. «Она так же легко открывает и запирает свое сердце, как крепкий английский замок». Когда ее никто не видит, она пылкая, как итальянка, на людях — сама невозмутимость. В ней смесь дерзости и достоинства, любви и холодности, она «ненасытная, как песчаная почва под дождем». В противоположность госпоже де Морсоф она дарит земные наслаждения, но не приносит счастья. И герой романа мечтает обрести обеих женщин в одной, как сам Бальзак надеялся, что Эвелина Ганская, его многолетняя привязанность, а впоследствии жена, соединит в себе чистоту одной и чувственность другой.
Современники Бальзака без труда узнавали в леди Дэдлей знаменитую леди Элленборо. Признала это и она сама и в письмах к Бальзаку просила прислать ей роман, где была выведена в качестве одной из героинь. Большинство литературоведов и в наши дни согласны с тем, что Бальзак воспользовался своим знакомством и, как это часто у него бывало, изобразил в романе подлинное лицо. Конечно, писатель не ограничился тем, что механически скопировал жизненный оригинал: «отдельно взятый факт не создает еще характера». Чтобы жизненные обстоятельства превратить в элементы литературной правды, художник должен спаять воедино сумму обстоятельств, характеров так, «чтобы все его металлы слились в цельной прекрасной статуе».
В прекрасной статуе Арабеллы Дэдлей просматриваются и черты другой близкой знакомой Бальзака, тоже англичанки, Сары Лоуэлл, в замужестве графини Гидобони-Висконти. Имея в виду эту новую привязанность писателя, появившуюся как раз в момент работы над романом «Лилия долины», Андре Моруа писал, что «любитель и знаток женщин Бальзак был опьянен великолепным типом англосаксонской красавицы, который ему дано было наблюдать».
Однако основной клеточкой, зародышем, из которого развился и вырос образ леди Дэдлей, следует считать леди Элленборо. Она послужила главной «натурщицей».
В начале 1835 года, когда работа над «Лилией долины» была в самом разгаре, Бальзак устремился в поисках тихого оазиса в Вену. Здесь, вдали от парижской суеты и забот, он намеревался закончить роман, а кроме того, увидеться с Эвелиной Ганской, которая приехала сюда и ожидала его. Он «поклялся либо написать эту книгу в Вене, либо броситься в волны Дуная».
Но и здесь, в великосветской Вене, встретившей писателя с восторгом, у него почти не оставалось времени на работу: замучили приемы, званые обеды, вечера.
Среди тех, с кем виделся Бальзак в те дни, был и князь Феликс Шварценберг — он сопровождал писателя при осмотре поля Ваграмского сражения. А незадолго перед этим Бальзак вновь увидел леди Элленборо. По пути в Вену он встретился с ней в Мюнхене, где она тогда жила. Как всегда, Джейн предстала перед ним в окружении толпы обожателей. В письме к Эвелине Ганской, написанном некоторое время спустя, Бальзак признается: «За те два часа, которые я провел в парке с леди Элленборо, в то время, как этот глупец, князь Шенбург, ухаживал за нею, я полностью разгадал эту женщину».
…Современники знали о том, кто стал реальной моделью героини Бальзака. Слишком много было явных совпадений, и они не могли остаться незамеченными. Начиная с того, что муж бальзаковской героини являлся «одним из самых видных государственных деятелей Англии», которого она бросила, поселившись в Париже, и кончая ее именем — Дэдлей. Так звали сына леди Элленборо. Герой романа Феликс, от лица которого ведется повествование, наследовал имя князя Феликса Шварценберга. Находили общее с прототипом и во внешнем облике леди Дэдлей, и в ее повышенной чувственности, страсти к авантюрам, галантным приключениям, и в том, что она, подобно своему прообразу, увлекалась верховой ездой, обожала арабских скакунов.
Угадывались в романе, о чем уже говорилось, и другие реальные лица. Это дало повод недругам Бальзака заявлять, что успех книги объясняется якобы желанием читателей разгадать, какие подлинные фигуры стоят за тем или иным персонажем. На это Бальзак отвечал, что «он имел полное право писать портреты с натуры, однако держался в рамках обобщений».
ОХОТА ЗА ЗОЛОТОМ, ИЛИ СКАНДАЛ В КЕЙПТАУНЕ
Встреча на пароходе
На борт океанского парохода «Скотт», отплывавшего 1 июля 1899 года из Саутгемптона, поднялся человек, имя которого было тогда у всех на устах — Сесиль Родс. Это был среднего роста довольно грузный сорокашестилетний мужчина крепкого телосложения, с лицом хищника, несколько, правда, уже расплывшимся от шампанского и виски. Одет, по обыкновению, в простой фланелевый костюм, в котором, как говорили, осмелился предстать даже перед самим германским императором Вильгельмом. Держался он вполне естественно, без тени напыщенности и высокомерия, всем своим видом как бы подчеркивая, что он такой же, как все, — обычный пассажир, не претендующий на какое-либо исключительное к себе отношение. И тем не менее каждый стремился попасться ему на глаза, засвидетельствовать свое уважение, быть отмеченным его вниманием. Да и как могло быть иначе, когда Сесиля Родса называли королем алмазов и золота, самым удачливым из всех искателей приключений, сумевшим счастливо реализовать выпавший ему однажды шанс и ставшим одним из богатейших людей в мире. Бывший премьер-министр Капской колонии на юге Африки, глава многих компаний, именем которого названа целая страна — Родезия, был кумиром англичан, да только ли их. Помимо того что он владел алмазными копями, золотыми приисками, ему подчинялись огромные территории, он входил в Тайный королевский совет.
Несколько дней назад ко всем его званиям и титулам прибавилось еще одно — Родса избрали почетным доктором Оксфордского университета, где он когда-то учился, и многие пассажиры, пользуясь случаем, считали долгом поздравить свежеиспеченного доктора honoris causa. Удобнее всего это было сделать во время обеда в салоне, где секретарем Родса Джорданом был заказан небольшой столик.
Десять минут спустя после начала обеда в салоне появилась дама. В роскошном наряде, мягко вышагивая, она плыла меж столиков при всеобщем внимании, в полной тишине слышался лишь шорох ее платья. Продвигаясь по салону, она глазами выискивала свободное место и, как показалось, совершенно случайно направилась к столику Родса, где оставался свободным один стул. Немного смущенная, с застенчивой улыбкой, она спросила разрешения занять его. Родс поспешил галантно ответить: «Конечно, княгиня, мы будем очень рады». После чего встал и, как подобает джентльмену, отодвинул свободный стул, чтобы ей было удобно сесть. Только тут, как показалось, дама, которую Родс назвал княгиней, узнала его. Крайне удивленная, она воскликнула: «Боже, это вы! Как поживаете?»
Родс чопорно поклонился, словно подтверждая, что это действительно он, и поспешил представить своего спутника, который, последовав его примеру, поднялся и церемонно наклонил голову.
— Мистер Джордан, мой секретарь, — представил его Родс. И, обращаясь уже к нему, сказал: — Княгиня Радзивилл.
Она снова изобразила удивление:
— У вас прекрасная память. Если не ошибаюсь, мы виделись лишь раз?
— Да, во время обеда у мистера Белла, года три назад.
— Совершенно верно. Это было именно тогда, мы сидели рядом, и я как сейчас помню, о чем беседовали, — ласково улыбаясь, произнесла княгиня.
— Как поживает наш друг Моберли Белл? Все так же энергично руководит «Таймс»? — сказал он, чтобы поддержать беседу.
— О да, энергии ему не занимать, — согласилась она и, пригубив из бокала вина, налитого стюардом, продолжала: — Мой старый знакомый корреспондент «Таймс» Дональд Уоллас жаловался мне, что его шеф одинаково безжалостен в работе к себе и своим сотрудникам, буквально зверь, не дает никому спуску.
Родс безапелляционно заметил:
— Твердая рука и характер необходимы в любом деле, чтобы добиться успеха. Если не ошибаюсь, вы, княгиня, тоже не чуждаетесь журналистики? Во всяком случае, судя по вашим письмам, которые тогда написали мне, вы вполне владеете стилем.
Княгиня изумилась:
— Вы и это помните?
— Да, — подтвердил он, — и присланный вами тогда талисман, который догнал меня в бескрайнем велде, где-то между реками Вааль и Оранжевой. Вы еще не видели нашу южноафриканскую степь? — спросил он, и глаза его заблестели от восторга. — Сказочное зрелище, убедитесь сами.
Княгиня живо припомнила обстоятельства той первой их встречи. Родс показался ей тогда каким-то отчужденным, занятым своими мыслями и, несмотря на все ее попытки разговорить его, оставался молчаливым и едва ли нелюбезным. Княгиня призвала на помощь все свое очарование, отказавшись даже от своего острого язычка. Она понимала, что ей выпал редкий шанс сидеть рядом с миллионером, и старалась воспользоваться столь счастливой возможностью.
Что руководило ею? Желание испытать силу своих чар, проще говоря, пленить знаменитого богача, известного к тому же своей репутацией женоненавистника? Или планы ее шли значительно дальше? Было известно, что с юности Родс не испытывал интереса к женскому полу, он никогда не был женат. В его спальне висел женский портрет, единственный, который когда-либо украшал его жилище, — это был портрет древней старухи, вдовы вождя племени ндебелов, которая помогла ему однажды в горах Матопо при переговорах с туземцами. Загадка его интимной жизни породила массу домыслов, причем подчас самого пикантного характера. Похоже, княгиня вознамерилась разгадать тайну. Но могла ли она взять эту неприступную крепость? Могла ли произвести впечатление на человека, за которым буквально толпами ходили светские дамы, готовые на все ради одного его взгляда. Большинство охотилось за ним, конечно, из-за денег. Кое-кого, быть может, задевало его безразличие, чего, как известно, женщины не могут простить. Для этих он был своего рода крепким орешком, который тем более стоило раскусить. И тех, и других однако постигла неудача. Крепость выдержала осаду, не пала. Тогда еще недавние соперницы объединялись и принимались поносить этого бесчувственного истукана, ни о чем ином не помышлявшего, кроме как о приумножении своего богатства. На него это не производило абсолютно никакого впечатления, разве что делало более грубым, побуждая относиться к своим настырным преследовательницам с плохо скрываемым презрением.
Вот и тогда, в первую их встречу, Родс остался безразличным к попыткам княгини Радзивилл произвести на него впечатление, всем видом показывал, что не склонен к пустой светской болтовне. Хотя, возможно, внимание этой прекрасной иностранки и польстило его самолюбию.
Вскоре он возвратился в Южную Африку и с большой экспедицией отправился в путешествие по стране.
Но не такова была княгиня, чтобы так просто отступить. Похоже, она решила предпринять долговременную осаду, несмотря на разделявшее их расстояние.
Путешествуя, Родс постоянно поддерживал связь со своими компаньонами и даже издалека зорко следил за ценами на бирже, давал указания, руководил. Благо почта работала исправно. Большие тюки с письмами регулярно догоняли его в велде. Днем Родс в светлых фланелевых брюках, куртке цвета перца с солью и фетровой шляпе с опущенными полями трусил на пони вслед за фурой. Свежевыбритый, в отличие от других спутников, он как бы демонстрировал свое особо высокое положение. А по вечерам у костра раскрывались тюки с почтой и начиналась сортировка полученной корреспонденции. Официальные бумаги и деловые письма рассматривались тут же, и на них он немедленно отвечал, послания же более личного характера откладывались на потом, когда доберется до более подходящего места, где удобнее будет писать ответ. Такие письма составляли большую часть почты. Чего тут только не было! Просьбы об устройстве на работу, об оказании помощи, предложения чудаков и маньяков о якобы известных только им местах, где золото лежит чуть ли не на поверхности. Немало было и писем от поклонниц. Женщины из Америки и Новой Зеландии, Австралии и Капской колонии — со всего мира писали ему, убеждая, что готовы разделить с ним очаг и постель, а это будет способствовать его работоспособности и счастью. Такого рода письма тотчас отправлялись в огонь.
Однажды где-то в Родезии, во время привала, когда вскрывали почту, ему попалось письмо от некоей корреспондентки. Вопреки обычаю, он не бросил его в огонь, а сохранил. Написано это письмо было в тот день, когда Родс в последний раз покинул Англию, под ним стояла подпись «Катерина Радзивилл». Это был первый залп в длительной осаде, которую замыслила княгиня. О чем же она писала ему? С нарочитой непосредственностью и как бы наивной искренностью, сдобренной интригующим декором романтического суеверия, она признавалась ему, что одно время относилась к нему с подозрением, считая его финансовым авантюристом. Но после встречи с ним ее мнение коренным образом изменилось. Теперь она полностью признала его истинного величие и желает благословить его самого и его дело. Вот только опасается, как бы с ним не произошло чего-нибудь дурного, и страх этот усиливается тем, что она обладает вторым зрением. У нее такое предчувствие, что в ближайшие полгода на его жизнь будет совершено покушение. Чтобы уберечь его, посылает ему талисман и просит принять этот ее дар, вложенный в письмо, — маленький медальон. Она получила его от своего кузена генерала Скобелева, который носил этот талисман на груди во время всех своих походов и сражений. Ему же этот талисман достался от одной цыганки. Княгиня уверяла, что он приносит счастье и предохраняет от сглаза, и умоляла сохранить его.
Должно быть, на Родса произвела впечатление такая забота о его безопасности, потому-то он и не бросил письмо в огонь. Более того, поручил своему секретарю хранить его и полученный медальон. Но так как никакого покушения на его жизнь в ближайшие месяцы не произошло, Родс, судя по всему, забыл о княгине и ее предсказании. Когда Катерина написала ему во второй раз, он с трудом вспомнил, кто она такая…
Второе ее письмо носило иной характер. В нем она просила совета по поводу одного капиталовложения. Правда, Родс не сразу сообразил, кто такая эта княгиня, испрашивающая у него совета. «Ах да, — наконец вспомнил он, — это интересная дама, очень разговорчивая». Надо думать, он сопоставил ее с той, которая прислала талисман. Хотя сама княгиня в этом втором письме не обмолвилась об этом ни словом. Скорее всего, поняв, что ее оккультные знания и упования на мистические силы не возымели эффекта, она решила использовать более светский подход. Ее просьба носила чисто финансовый характер. У нее было, как она уверяла, двести тысяч фунтов стерлингов, которые хотела бы с выгодой поместить в какое-нибудь дело. Не мог бы Родс оказать ей в этом помощь?
Надо сказать, что к Родсу постоянно обращались с подобными просьбами, веруя в его финансовый гений, но он, как правило, не отвечал на такого рода письма. Однако на сей раз готов был сделать исключение. Он дал поручение секретарю Джордану ответить княгине, но потом, передумав, сам сел за стол и написал ей лично. Ответ был кратким и деловым. Извинившись за то, что не смог ответить ей раньше, Родс объяснил, что не любит давать советы по финансовым вопросам своим друзьям, однако считает, что она обеспечит себе надежную прибыль от своей суммы, если приобретет акции железнодорожной компании «Машоналенд». В постскриптуме вежливо добавил, что надеется увидеть ее снова, когда будет в Лондоне.
Это было единственное письмо, по его собственным словам, которое он ей написал.
В Лондоне встретиться им не пришлось, зато теперь на пароходе они виделись каждый день по нескольку раз: за обеденным столом, во время прогулок на палубе, вечером в гостиной. Свидетель этих встреч Джордан с самого начала настороженно отнесся к столь явному преследованию Родса этой женщиной. Он вспомнил, что незадолго до отплытия клерк судовой компании предупредил его, что в их контору несколько раз наведывалась одна дама и интересовалась, на каком именно пароходе и когда намерен Родс отправиться в Африку. Она даже отказалась от прежде взятого билета, чтобы плыть на «Скотте». Клерку показалось это подозрительным, и он счел необходимым предупредить об этом. Если этой дамой была княгиня, рассуждал Джордан, то не разыгрывает ли она спектакль, изображая неожиданность встречи? И вообще интересно, что влечет ее в Южную Африку? Вряд ли просто так она бы отважилась на столь долгое и изнурительное путешествие в шесть тысяч миль по Атлантике, без какой-либо цели. Джордан продолжал наблюдать за княгиней, все больше убеждаясь, что ее появление на судне неслучайно. Он отдавал ей, однако, должное. За столом она бывала просто очаровательной, знала всех на свете и всем давала меткие характеристики, была остроумной и могла поддержать беседу на любую тему. Ее владение английским и широкие познания в области литературы поражали. Не было такой поэмы или книги, о которой она не могла бы интересно судить, высказывая всегда неординарное мнение, свой оригинальный взгляд. Лишь одно несколько шокировало ее чопорных спутников — довольно откровенные высказывания по поводу «весьма деликатных вопросов», иначе говоря, на темы любви. Что заставило, как свидетельствовал Джордан, покраснеть даже Родса. Впрочем, оба они объяснили себе эту вольность чертой, свойственной многим иностранцам.
Что касается причины, побудившей княгиню отправиться в Южную Африку, то она заявила следующее: ее муж, Вильгельм Радзивилл, мужлан и грубиян, относился к ней чудовищно. Не желая больше терпеть подобное обращение, подала на развод. Но так как расторжение брака в России долгий процесс, она решила провести этот год, покуда дело не будет решено, в Южной Африке. Было ли это правдой? Сомнительно. Скорее всего она лишь думала развестись, однако не могла не знать, что процедура эта заняла бы значительно больше времени, чем год. Тогда какую же цель преследовала княгиня этой выдумкой о возможном скором разводе? Ясно какую: вскоре, мол, она получит свободу и сможет выйти замуж во второй раз. Забросив крючок с наживкой, она принялась довольно откровенно водить им у самого носа Родса. Джордан вспоминал позже, как она подхватывала каждое произнесенное Родсом слово, соглашаясь с ним, всячески льстила ему. С другими всегда была склонна поспорить, возразить, причем становилась нетерпимой, капризной и такой возбужденной, что голос ее можно было услышать в самом дальнем углу салона. Но в беседах с Родсом преображалась, являла собой абсолютную покорность, воплощение кротости и согласия. Вкрадчивым голосом она ворковала, убаюкивала, всем своим видом показывая, что разделяет его тот или иной взгляд, высказанную мысль, точку зрения.
Княгиня то и дело жаловалась на сердце, и однажды, когда гуляла с Родсом на палубе, вдруг начала задыхаться и как бы случайно склонилась к его плечу. Он инстинктивно обнял ее, чтобы она не упала. Пока подоспела помощь и княгине дали нюхательную соль, Родс удерживал ее. Лицо его, вспоминал Джордан, являло собой олицетворение несчастья и растерянности.
С тех пор Родс стал избегать прогулок по главной палубе, предпочитая дышать воздухом на капитанском мостике.
Была ли княгиня Радзивилл столь неотразимой, чтобы с такой самоуверенностью разыгрывать из себя роковую женщину? Тот же Джордан, не питавший, судя по всему, к ней симпатии, говорил, что ей недоставало чисто физической привлекательности. По его словам, она была невысокого роста, склонна к полноте, у нее были черные волосы и черные бегающие глазки. Словом, ее нельзя назвать ни красивой, ни очаровательной. К тому же, замечает Джордан, ей было что-то около сорока семи лет. Что же тогда побуждало Родса разделять с ней компанию, а возможно, как могло показаться, и испытывать к ней своеобразную дружбу? В поисках ответа на этот вопрос иные пришли к выводу, что княгиня — это женщина для развлечения. Другие уверовали в то, что эта толстоватая, средних лет женщина — авантюристка, преследующая богатого холостяка.
Если говорить о портрете, нарисованном Джорданом, то он был тенденциозным. Скорее всего это объяснялось его антипатией к княгине. Достаточно сказать, что Катерине шел тогда всего лишь сорок первый год. На фотографии, сделанной приблизительно в то время, она выглядит хрупкой, элегантной и по-своему весьма привлекательной. Правда, ее когда-то захватывающая дух красота начинала уже увядать, но все же оставалась очень запоминающейся и значительной. Темные волосы обрамляли широкий лоб, глаза — большие с пушистыми ресницами, изящный нос с горбинкой, подвижный, чувственный рот. Но главное очарование заключалось в умении вести беседу, быть живой, находчивой и остроумной, что выгодно отличало ее от остальных. Не было в ее манерах и того, что обычно отпугивает мужчин, — бросающейся в глаза самоуверенности, желания подчинять и руководить. Во всяком случае, она искусно скрывала эти свои черты, если они у нее и были.
Но что несомненно, так это то, что княгиня старалась понравиться Родсу. Собиралась ли женить его на себе — это уже другой вопрос. Она не могла не понимать, что, пока связана браком, надежды на новое замужество у нее нет, а ожидать скорого решения о разводе, как было сказано, было бы наивно. Тогда, может, она рассчитывала завязать с Родсом романтическую дружбу, что не только усилило бы ее влияние, но при огласке помогло бы ускорить развод? Возможно, в тот момент ни о чем другом она и не помышляла. Зная, однако, ее характер, такой односторонний вывод кажется сомнительным. Способная на сумасбродство, она тем не менее всегда оставалась расчетливой, трезво оценивала свои поступки и действовала по плану. Если так, то цель ее могла быть двойственной. Использовать представившуюся возможность и заполучить в свою мышеловку Родса — это во-первых, а во-вторых, расширить свою журналистскую деятельность — ведь до сих пор она материально зависела от гонораров, получаемых за статьи, которые писала. С этой точки зрения Южная Африка представляла выгодный регион. Здесь назревала англо-бурская война, и перспектива оказаться в «горячей точке», да еще в окружении такого человека, как Родс, была весьма заманчивой. И то, что она ехала, запасшись рекомендательным письмом лорда Солсбери, тогдашнего премьер-министра Англии, к верховному комиссару Южной Африки Альфреду Милнеру, указывает, что думала она не только о Родсе, когда заказывала билет на пароход. Игнорировать ее интерес к политике, как это делали иные биографы Родса, представляя княгиню обычной авантюристкой с навязчивой идеей женить на себе ничего не подозревающего Родса, было бы, по крайней мере, наивно.
Верно также и то, что она не намерена была отказываться от намеченной цели — войти в доверие к Родсу, может быть, «охомутать» его, но и имела в виду события назревающие, из которых могла бы извлечь личную выгоду.
Здесь уместно напомнить, что все женщины семейства Ржевуских, к которому княгиня принадлежала по отцовской линии, отличались своенравием, упрямством и авантюрным характером.
Из рода Ржевуских
В октябре 1873 года в имении Ржевуских Верховне, неподалеку от Бердичева, состоялась свадьба. Жених — князь Вильгельм Радзивилл, невеста — едва не девочка пятнадцати с половиной лет, Катерина Мария Ржевуская. Став княгиней Радзивилл, Катерина всегда помнила, что по рождению принадлежит к славному древнему роду. В числе ее предков числились многие выдающиеся вельможи, сыгравшие заметную роль в истории ее многострадальной родины. Дед ее, Адам Лаврентий, начал карьеру послом в Дании, в конце жизни стал российским сенатором. Женился он на собственной племяннице. От этого брака родились три сына и четыре дочери. Все они, можно сказать, по-своему не подкачали, достойно продолжили традиции рода — играли заметную роль и так или иначе стали знаменитыми.
Старший из сыновей, Генрик, был видным писателем, а старшая дочь Каролина, отличавшаяся божественной красотой, прожила бурную жизнь, прославившись своими похождениями. Но, пожалуй, наиболее известной оказалась дочь Эвелина, в первом замужестве Ганская, впоследствии знаменитая мадам де Бальзак. Заметной фигурой был и брат Адам, отец Катерины. Он родился в 1801 году, получил образование в иезуитском колледже, затем поступил в Военную академию в Вене. В двадцать лет был зачислен в русский кавалерийский полк и с тех пор верой и правдой много лет служил русскому престолу.
В 1825 году, когда умер его отец и старший брат отказался от наследства, Адам вступил во владение всеми поместьями Ржевуских и фактически стал главой семьи. Будучи еще совсем молодым, он женился на бывшей фаворитке царя Александра I престарелой Жеребцовой. Брак оказался удачным, хотя жена была на двадцать два года старше и имела дочь, состоявшую в браке с всесильным графом А. Ф. Орловым, впоследствии шефом пресловутого Третьего отделения. Нет сомнения, что успешной карьерой при дворе Николая I Адам Ржевуский был обязан своей жене. Его преданность царю никогда не вызывала сомнений, и, когда случилось известное польское восстание 1831 года, он сыграл весьма неблаговидную роль при подавлении мятежа. Это предательство польские патриоты никогда не могли ему простить. Впрочем, он и не нуждался в этом — раз и навсегда отрекся от своих польских корней, считал себя полностью русским и в доказательство проявлял истовый фанатизм в своих прорусских симпатиях. Такой воспитал и дочь. Катерина признавалась позже, что она не испытывает никого сочувствия к польскому делу, «все мои мысли, привязанности, мнения до конца русские; я люблю свою страну, люблю сильно и страстно, и не хочу принадлежать ни к какой другой». И Николай I по достоинству оценил такую преданность Адама Ржевуского, доверял ему, осыпал милостями, поручал задания особой важности, в частности и ответственные дипломатические миссии. Так, в 1851 году его направили в Испанию, чтобы прозондировать возможность установления дипломатических отношений между русским двором и правительством королевы Изабеллы II. Ржевуский был красивым и представительным мужчиной. Сладострастная королева одарила его особым вниманием и в знак своей привязанности подарила портрет Мадонны работы знаменитого Мурильо.
Через несколько месяцев после возвращения Адама из Мадрида умерла его жена. Два года спустя он женился на Анне Дмитриевне Дашковой, двадцатитрехлетней дочери бывшего министра юстиции, по словам Катерины, самой очаровательной женщине при русском дворе. Дашковы принадлежали к старинной русской знати, хотя и были татарских корней — происходили от «мужа честна Дашка», чем весьма гордились. Это дало право впоследствии Катерине утверждать, что татарская кровь в ней пересилила польскую.
Но узнать свою очаровательную мать Катерине не довелось.
Когда грянула Крымская война, Ржевуский сражался где-то в Таврии, остался жив, вернулся флигель-адъютантом, чтобы занять пост военного губернатора Петербурга. Однако после смерти Николая I звезда его быстро закатилась. Новый царь не жаловал бывших фаворитов батюшки. Адаму пришлось оставить дом в столице и удалиться в свое имение Погребище. Но для его молодой жены самым большим горем оказалась неспособность иметь детей. Она страстно хотела подарить мужу наследника, которого у него не оказалось в первом браке. Только на пятый год замужества у них наконец родился ребенок, правда дочь, нареченная Екатериной. Случилось это 30 марта 1858 года. А пять дней спустя ее мать умерла. Адаму тогда было пятьдесят шесть, по меркам того времени он считался далеко не молодым. К тому же крах карьеры, отстранение от двора наложили отпечаток не только на его внешний вид — он обрюзг, располнел, но и сильно его озлобили, превратив в ворчуна-педанта. Тем не менее, когда Катерине исполнилось два года, отец женился в третий раз. Новая супруга тут же осчастливила его долгожданным сыном, хотя брак, как кажется, не способствовал смягчению очерствевшей и озлобившейся души Адама. Не принес он умиротворения и семье. Катерина, обожавшая отца, с трудом находила оправдание его своенравному и деспотичному характеру. Росла она в родовом имении. Замок в Погребище, где когда-то родились и провели детство и юность ее две знаменитые тетки — Каролина и Эвелина, — славился мрачными легендами, про него рассказывали леденящие душу предания, здесь царила атмосфера жутких суеверий. Страх от всего этого, пережитый в детстве, воспитал в ней привычку к риску или, если хотите, отвагу. Любопытство побуждало бродить по ночам со свечой по коридорам, казавшимся ей таинственным лабиринтом, в надежде встретить наконец то привидение, о котором так много все говорили. Будто это какая-то ее прабабка, проклявшая весь свой род, появляется, чтобы укорить потомков за то, что когда-то один из сыновей замуровал ее заживо в башне замка. Катерина не боялась подняться по скрипучей лестнице на чердак, где среди старинного хлама — чучел, оружия, поломанных сундуков, полуистлевших платьев и пыльных книг — она бродила, словно в музее, разглядывая и перебирая его экспонаты, не испытывая ни малейшего страха. Даже птицы, залетавшие сюда через чердачное окно, не пугали ее хлопаньем своих крыльев.
Когда Катерине исполнилось пять лет, отца призвали снова ко двору, чтобы участвовать в подавлении нового яростного восстания гордых поляков против своих русских хозяев. Видно, вспомнили о его прежних такого рода заслугах. Граф Ржевуский получил назначение в армию, расположенную на австрийской границе. Вместе с ним поехали жена, дочь и двухлетний сын. Там, в каком-то небольшом городе, ребенок внезапно заболел и умер. В утешение жена подарила мужу еще несколько сыновей, за которыми Катерина, как часто бывает у старших сестер, с удовольствием ухаживала.
В юные годы Катерина часто посещала Киев, наезжала в Варшаву, бывала в Петербурге, особенно запомнилось ей присутствие на бракосочетании наследника престола с датской принцессой.
Катерину взяли в Париж на Всемирную выставку 1867 года, где она увидела Наполеона III и миловидную императрицу Евгению, которую ее отец помнил по Испании, еще ребенком. Выставка не произвела на нее большого впечатления, зато до слез тронул вид камеры в тюрьме Консьержери, где сидела перед казнью Мария-Антуанетта. И этот ужасный Лувель — убийца герцога Берийского. Но в Париже было кое-что и поинтереснее, в том числе и жившие здесь две ее тетки. Обе все еще потрясающе красивые, они хорошо запомнились впечатлительной девочке — и Каролина, носившая тогда фамилию своего нового мужа, второстепенного литератора Лакруа, и Эвелина, вдова знаменитого Бальзака. В салоне Каролины Лакруа на улице Сент-Оноре юной Катерине довелось увидеть многих представителей высшего общества времен Второй империи, известных ученых и литераторов, в частности престарелого Жакоба Лакруа, служившего в библиотеке Арсенала и писавшего под псевдонимом Библиофил. Он приходился ей двоюродным дядей и проявлял большую заботу о своей юной племяннице. По ее словам, он «первым поощрил ее в попытках испробовать свой талант в литературе».
Другая тетка, Эвелина Бальзак, вела более скромный образ жизни. Ее семнадцатилетний роман с Бальзаком закончился через полгода после их брака. Жила она небогато, можно сказать, нуждалась, встречалась лишь с немногими близкими друзьями. Бальзак умер за восемь лет до рождения Катерины, и к тому времени, когда она близко познакомилась со своей теткой, та уже была любовницей Жана Жиго, художника-портретиста, связь с которым длилась чуть ли не до самой ее смерти. Эвелина проявила больше внимания к племяннице, чем холодная Каролина, внушила первые понятия о жизни, успехе, научила ценить себя.
По возвращении из Парижа Катерина прожила несколько лет в родовом поместье, куда навсегда удалился ее отец, продав дом в столице. Только три года спустя семья ненадолго посетила Одессу, где их застало известие о капитуляции французов под Седаном. Наполеон III потерпел поражение от пруссаков, и Вторая империя бесславно рухнула. Вслед за этой вестью пришла другая, не менее тревожная, — об осаде Парижа. В письме тетка Эвелина предрекала еще худшие времена, восстание черни, что и случилось. Связь с тетками прервалась. А когда ужасы Коммуны миновали, семья немедленно отправилась в Париж. Они увидели французскую столицу лежащей в руинах, но обе сестры Ржевуские оставались такими же, как прежде, казалось, ни революция, ни голод — ничто не способно было повлиять на их образ жизни и внешний вид.
В этот раз Катерина прожила здесь два года. Именно в это время, по ее словам, начал проявляться у нее интерес к политике. Словно испугавшись этого, отец объявил ей, что пора возвращаться домой. У графа в отношении дочери были свои планы. В 1873 году они вернулись в Россию. Катерине исполнилось пятнадцать лет, детство ее закончилось.
Дома отец объявил ей, что она обручена с князем Вильгельмом Радзивиллом. Такие ранние браки не были диковинкой, поэтому никого не удивило, что двадцативосьмилетний прусский офицер женится на девушке почти в два раза младше его. Неважно, что к тому же человек он был совершенно ей чуждый и не говорил на ее родном языке. Но что могла она поделать — ее судьбу решили за нее, причем в каком-то поспешном порядке. Едва объявили помолвку, как чуть ли не сразу же после этого сыграли свадьбу. Конечно, князь Вильгельм представлял собой достойный улов, и тщеславие графа Ржевуского было вполне удовлетворено. Радзивиллы — старинный польский род, многие члены которого порвали узы с родиной и расселились по европейским столицам. По аристократической иерархии они стояли выше Ржевуских. Радзивиллы жили в Петербурге, Париже, Вене, Берлине и повсюду пользовались влиянием. Муж Катерины принадлежал к прусской ветви Радзивиллов, особенно влиятельной, тесно связанной с прусской королевской фамилией. Его бабушка была урожденной прусской принцессой Луизой, племянницей Фридриха Великого, и благодаря этому возводила всю семью в королевское достоинство. Кроме того, с королевским домом семью связывало и то, что одна из дочерей принцессы Луизы, бабка мужа Катерины, — Элиза Радзивилл — «премилая и прелестная особа», как о ней отозвалась знавшая ее А. О. Смирнова-Россет, была первой любовью германского императора Вильгельма I. И хотя его брак с Элизой окончился неудачей, император на всю жизнь сохранил память об этой своей ранней любви, распространив симпатию и на всю ее семью, пользовавшуюся привилегированным статусом при прусском дворе. Отец князя Вильгельма Радзивилла много лет до самой своей смерти (он умер во время франко-прусской войны) был дружен с императором. Словом, граф Ржевуский, выдавая дочь замуж, имел все основания считать будущее ее вполне обеспеченным. Само собой, что отец не ставил дочь в известность о переговорах относительно ее замужества. И жениха она впервые увидела, когда он вместе со своим старшим братом Антоном прибыл в Россию на церемонию бракосочетания. Сделка отличалась холодным расчетом, если не цинизмом: Катерина становилась обладательницей высокого титула, а князь Вильгельм получал жену с солидным приданым, так как у невесты было что предложить помимо богатых семейных преданий и шляхетской гордости. К тому же она оказалась довольно привлекательной: у нее было смуглое лицо, великолепные густые черные волосы, отчего она походила на цыганку. Это впечатление усиливали выпуклые скулы, темные с поволокой глаза и чувственный рот.
На пути к браку, когда он еще только обсуждался, возникло одно препятствие. Как дочь дворянина, живущего в России, Катерина должна была до замужества быть представлена царю. Ждать формального случая означало бы затянуть венчание, чего нетерпеливый отец никак не желал. И тут неожиданно представилась возможность увидеть царя. Стало известно, что тот проследует вскоре через Киев по пути в Крым. Превозмогая гордость и обиду, нанесенную когда-то царем, граф Ржевуский с дочерью явился на бал, где присутствовал император, — Катерина в каком-то ужасном муслиновом платье, окаменевшая от страха предстала перед усатым самодержцем и его супругой. Александр II натужно обменялся вежливыми репликами с графом и, взглянув на его дочь, воскликнул: «Боже, как она похожа на свою мать!» Что-то в этом роде промямлила и царица. Можно было считать, что формальность соблюдена. Царская чета укатила в Крым, но когда Александр II узнал о предстоящем замужестве Катерины, он направил ее отцу суровое письмо, осуждающее этот брак, не столько заботясь о будущем молодой невесты, сколько о том, что богатая наследница теперь потеряна для России.
Однако недовольство царя опоздало. 26 октября 1873 года в имении Ржевуских Верховне состоялось венчание, после чего молодожены тотчас же отправились в Берлин. Здесь началась, как она сама скажет, ее новая жизнь.
Правда, поначалу жизнь во дворце Радзивиллов показалась ей скучной и сонной. Погода — слякотная зима — усугубляла это впечатление. Ненавистны были и чопорные приемы, бессмысленные светские беседы, сплетни полушепотом. Все это было так не похоже на шумный парижский салон мадам Лакруа и уютную гостиную мадам Бальзак. Постепенно она смирилась со своим «заключением», тем более что ждала ребенка, который всецело занимал ее мысли. Но и личную жизнь Катерины нельзя было назвать счастливой. К одиночеству прибавилась трагедия — ее первенец вскоре умер. Всевозможные увеселения, приемы и балы — ничто не скрашивало ее мрачного настроения. Даже поездка с мужем в Варшаву, куда он отправился на военные маневры, а затем посещение родных в России не убавили у нее меланхолии.
Второго ребенка, девочку, назвали Луизой-Лулу. И первое лето после ее рождения провели в имении Пятина, которое досталось Катерине как часть наследства. Находилось оно в нескольких верстах от Симбирска. Следующие два года чета Радзивилл перемещалась по маршруту Россия — Польша — Германия, и все это время Катерина была постоянно беременна. Родились дочери Ванда, Габриэлла, сын Николай. И снова длительное путешествие — Венеция, Корфу, Константинополь, опять Петербург, где супруги были представлены новому царю Александру III. Год спустя присутствовали на его коронации. Эти довольно частые поездки в Россию составляли ее единственную радость в скучной и монотонной жизни при берлинском дворе, которую она потом вспоминала всегда с отвращением. Чем дольше жила там, признавалась она, тем несносней казалась ей прусская столица, этот унылый, тогда по сути полупровинциальный Берлин. И не чаяла, как бы навсегда вырваться отсюда.
Весной 1882 года пришло печальное известие о смерти ее любимой тетки Эвелины. Она горько оплакивала потерю. «Ее смерть вырвала целую главу из книги моей жизни», — писала Катерина не без некоторого пафоса. Впрочем, она была права, если иметь в виду, что благодаря тетке познакомилась со многими парижскими журналистами, влияние которых позже скажется на выборе ею профессии. Так, в доме Эвелины она встретилась с такой влиятельной дамой, как Жульетта Адам. Ее салон считался при бонапартистском режиме рассадником вольномыслия, а после краха Второй империи мадам Адам стала реальной политической и литературной силой. Ее называли «королевой Третьей республики», и, как говорили, ни один член правительства не отваживался на какой-либо шаг, предварительно не посоветовавшись с ней. Она основала влиятельный журнал «Нувель ревю» — издание с явно политическим привкусом, отстаивающее ее политические амбиции.
Поэтому никого не удивило, когда в 1884 году мадам Адам объявила о своем намерении опубликовать несколько статей о социально-политической жизни в некоторых европейских столицах. Начать серию должны были статьи о берлинском обществе. И вскоре они появились. Под ними стояла подпись — граф Павел Васильев. Двадцать три статьи были написаны в форме писем графа к молодому другу, собирающемуся посетить Берлин. Их отличал насмешливый, порой весьма язвительный тон. Невзирая на лица и их положение, автор описывал представителей высшей знати, политиков и военных, дипломатов, торговцев и журналистов — все слои общества, вплоть до королевской семьи, предстали в этой злой карикатуре. Читатели «Нувель ревю» в течение нескольких недель наслаждались сенсационными откровениями. И все задавались вопросом: кто же он этот граф Павел Васильев — лицо действительно существующее или же маска, за которой скрывается некто, посвященный во все закулисные интриги и тайны берлинского общества?
Стоит ли говорить, как были бы удивлены читатели, если бы узнали, что подлинным автором нашумевших статей был вовсе никакой не русский дипломат и даже не мужчина. Граф Павел Васильев существовал только в воображении своего создателя — двадцатишестилетней Катерины Радзивилл. Неизвестно, родилась ли мысль об очерках в голове самой Катерины, но несомненно, что работала она над ними с большим увлечением, не рассчитывая, однако, на тот успех, который выпал на их долю.
Едва закончилась публикация в журнале, как все статьи вышли отдельной брошюрой под названием «Берлинское общество». Ее сразу же перевели на несколько языков, в том числе и на немецкий. Берлин был взбудоражен, прусский двор предпринял поиски виновника позора. Подозрения в конце концов пали на личного чтеца императрицы Августы месье Жерара. Он был французом, представителем той страны, где появилась эта мерзкая публикация. К тому же его в свое время рекомендовал сам Леон Гамбетта, глава французского правительства, личный друг мадам Адам, которой принадлежал журнал «Нувель ревю». Как ни протестовал бедный Жерар, как ни доказывал свою непричастность, его все же прогнали, и он вернулся во Францию.
А что же Катерина? Она хранила молчание и только тридцать лет спустя призналась в мистификации, освободив несчастного Жерара от груза тяжкого подозрения.
Забегая вперед, надо сказать, что под тем же псевдонимом Катерина позже опубликует целый ряд книг, наводнивших европейский рынок. В них, верная себе, она в сенсационной манере расскажет о закулисной жизни прежде всего русского двора, пользуясь как своими личными впечатлениями, так и всякого рода сплетнями и слухами.
Все это будет потом, а пока что, развивая успех, Катерина вместе с мадам Адам решила продолжить публикацию, но с привлечением новых авторов. Одним из них станет некая Ульяна Глинка. Однако ее анонимная статья о петербургском обществе не будет иметь успеха, хотя и выйдет впоследствии отдельной книжкой. Что касается автора, то его постигнет полная неудача. Ульяну Глинку разоблачат, по повелению царя конфискуют ее имения, а ее саму отправят в ссылку.
Вполне возможно, что при расследовании этого дела возникло имя Катерины Радзивилл и кое-что стало известно о ее роли в публикациях «Нувель ревю». Нетрудно предположить, что информация об этом просочилась в королевский дворец в Берлин. Во всяком случае, это можно предположить, зная, как повел себя по отношению к Катерине прусский двор. Вскоре после разоблачения Ульяны Глинки Катерине дали понять, что она является «персоной нон грата» при этом дворе, и она вынуждена была поспешно оставить Берлин. Говорили, что главную роль в этом сыграла императрица Августа, которой якобы и стала известна вся подоплека с публикацией книжки «Берлинское общество». Но удалить со скандалом представительницу семьи Радзивиллов, с которой императрица была дружна, она не могла. И Катерину выслали под предлогом того, что ее муж нуждается в лечении за границей, что, впрочем, соответствовало истине. В Берлине так и остались убеждены, что автором скандальной книжки является несчастный Жерар.
Много лет спустя Катерина признается, почему была изгнана из Берлина. «Императрица не любила меня и не скрывала этого, — напишет она. — Я была слишком независимой, а написание книги, причем совершенно невинной, она расценила как преступление, что и привело к открытому антагонизму с ее стороны к моей несчастной персоне».
Куда было ехать изгнаннице? Не долго думая, она направилась в русскую столицу. Здесь сразу же окунулась в светскую жизнь, завязала новые знакомства, стала дружна с влиятельными министрами. Среди них особенно близкими стали ей двое: министр финансов Иван Алексеевич Вышнеградский и генерал Петр Александрович Черевин — начальник охраны царя и один из самых доверенных и преданных ему придворных. Под влиянием этих двух всесильных вельмож ее политическое кредо претерпело значительную метаморфозу. Если раньше в Берлине она отличалась, скажем так, либеральными взглядами и чуть ли не поддерживала оппозиционные партии, рискуя вызвать недовольство двора, то теперь превратилась в убежденную сторонницу самодержавия, стала горячей поклонницей русского царя.
Что касается ее отношений с Черевиным, то она написала об этом в своих воспоминаниях. По ее словам, генерал в течение многих лет был самым дорогим ее другом. «Я знала его так хорошо, — писала она, — что даже смущаюсь, когда говорю о нем, потому что все, что я могу сказать, может показаться банальным или игрой на публику, желанием придать себе некую важность, что не соответствует моему намерению». Она лишь хотела отдать ему долг, сказать об искренней привязанности и уважении другу своей молодости. И засвидетельствовать, что этот, по ее словам, замечательный и известный человек обладал многими великолепными качествами — умом, тактом и сердечностью, преданностью делу, благодаря чему до самой смерти оставался самым популярным в петербургском обществе. К числу его добродетелей Катерина причисляла и преданность царю, на которого имел большое влияние и которому на правах друга не стеснялся говорить в глаза правду, когда это требовалось. Был он также бессребреником и умер бедняком, с незапятнанной репутацией, хотя через его руки проходили миллионы. На него совершалось несколько покушений, в частности в 1881 году неким Соньковским, однако генералу посчастливилось умереть в своей постели. Этот сдержанный человек и, как могло показаться, с сухим характером обладал добрым сердцем, хотя и трудно сходился с людьми. «Я многим обязана ему и всегда буду ощущать эту потерю», — признавалась Катерина.
Такой панегирик в устах княгини легко понять. Ведь она была любовницей генерала и вольно или невольно стремилась оправдать себя. Это, однако, не спасло ее от суда людского. С. Ю. Витте, знавший Катерину Радзивилл по Петербургу и отдававший должное ее красоте, назвал княгиню большой авантюристкой. Он писал, что она «попросту жила с Черевиным, а поэтому имела некоторое влияние в петербургском обществе, так как этот Черевин был влиятельным человеком, а вследствие этого и княгиня Радзивилл могла оказывать некоторое влияние. После смерти Черевина у нее обнаружились не вполне чистые дела, и она переехала в Англию».
В эти годы жизни в русской столице у Катерины Радзивилл вновь проявился вкус к интригам и авантюрам. Не успела она приехать в Петербург и поселиться в гостинице «Европейская» (дом отца, вы помните, был продан еще раньше), как оказалась замешанной в одной истории.
В той же гостинице поселилась журналистка Ольга Алексеевна Новикова, жившая с некоторых пор в Лондоне и известная своими проанглийскими симпатиями (кстати говоря, она являлась сестрой братьев Киреевых — старший был известным славянофилом, младший — генералом, погибшим в Сербии). Она не жалела усилий для создания прочного русско-английского альянса, ее хорошо знали в Лондоне, среди ее друзей находился премьер-министр Гладстон. Столь же горячим сторонником сближения двух стран был английский журналист У.Т. Стед, оказавшийся в тот момент в той же «Европейской». Новикова познакомила с ним Катерину. Тогда, кстати говоря, и услышала она впервые о Сесиле Родсе, другом которого являлся Стед. В своей лондонской «Пелл-мелл газетт» и журнале «Ревью оф ревьюс» этот поклонник идей Родса славословил его, называл «новым спасителем Британской империи», за что Родс щедро финансировал издания этого журналиста. Втянутая этой парочкой — Новиковой и Стедом — в сложную политическую интригу, Катерина оказалась замешанной в скандале с похищением каких-то секретных документов. Чтобы избежать дальнейшей огласки и вовремя выйти из игры, она предпочла покинуть Россию под предлогом того, что ее больному сыну потребовалось сменить холодный русский климат. Восемь месяцев она вместе с мужем и сыном провела на острове Джерси, вблизи берегов туманного Альбиона. В это время впервые посетила Лондон, завязала дружеские отношения со многими журналистами, вникала в перипетии политической жизни. Познакомилась с видными политиками Гладстоном и Дизраэли. К концу визита она уже была поклонницей всего британского, стала англофилкой, открыто признаваясь, что после ее родной России — это единственная страна, которая ей нравится.
Домой, в Россию, вернулась, когда умер Александр III и ей предстояло присутствовать на церемонии бракосочетания нового царя Николая II с принцессой Алисой.
Со смертью Александра III, ее кумира, она почувствовала, что пришел конец и ее благоденствующему положению в русской столице. К тому же она с самого начала испытывала неприязнь к новому царю и особенно к царице Алисе — немке по рождению, принявшей русское имя Александра.
И когда во время празднеств по случаю коронации на Ходынском поле разразилась трагедия и погибли люди, она, как и многие, увидела в этом дурное предзнаменование, о чем не раз будет вспоминать в своих книгах.
Незадолго до этого Катерина стала бабушкой. Ее восемнадцатилетняя дочь Ванда вышла замуж за шестидесятилетнего князя Блюхера, и у них родился ребенок. Но если Катерина могла быть довольна этим выгодным браком, то все более становилась недовольна собственным. Муж не разделял ее страсти к интригам, к политике, любви к России. Он всегда считал Германию своим родным домом, но, главное, грубо обращался с женой, впрочем, она платила ему тем же. Обоим было ясно, что дальнейшая совместная жизнь не может продолжаться.
А тут грянул новый скандал, о чем упоминал Витте. В подвале дома, где жила Катерина, накрыли целую шайку мошенников, занимавшихся вроде бы не без ее ведома всякого рода подделками.
Пришлось снова в спешном порядке покидать русскую столицу. Куда ехать, для нее не было проблемы, — конечно, в Лондон (муж отправился в свой любимый Берлин).
Катерина поселилась в английской столице, решив посвятить себя журналистской карьере. Это тем более было кстати, что в средствах она оказалась ограничена. Рассчитывая на помощь своей старой приятельницы мадам Адам и новых английских друзей, она думала поправить таким образом свои финансовые дела. Конечно, в журналистике она была всего лишь энтузиасткой-любительницей, но у нее был вкус к интригам и довольно бойкое перо.
Альбатрос — птица вещая
Родс стоял на пассажирской палубе первого класса и жадно вдыхал свежий морской воздух — в каюте он задыхался. Его слабое сердце постоянно нуждалось в кислороде, напоминая о приговоре врача, вынесенном после первого сердечного приступа, настигшего его еще в молодости. Заключение медика было кратким и суровым: жить ему осталось всего лишь полгода. К счастью, эскулап ошибся — он тогда выжил. С тех пор прошел не один год. Вопреки роковому диагнозу он жив, больше того, достиг успеха, стал богат, его имя гремит по всему миру. И все же нет-нет, а сердце подводит, будто хочет доказать, что тот первый, медицинский вердикт правильный, ошибка лишь в сроке. Опасаясь внезапной смерти, он давно уже составил завещание, в котором просил похоронить его в Родезии, в скалах Матопо, откуда открывался величественный вид на африканские просторы.
Смешно и страшно подумать, но во время очередного сердечного приступа за глоток воздуха он готов заплатить кучу денег, лишь бы кончилась мука и избежать смерти. Поэтому, когда приближалось жаркое африканское лето, Родс стремился уехать в Европу или переезжал в свой дом на берегу океана, где дул свежий ветер. Если и это не помогало, он приказывал класть лед в оконные и дверные проемы, на пути воздуха, чтобы охладить его.
Маршрут, по которому плыл «Скотт» — вполне современный для тех лет океанский лайнер, — Родсу был хорошо знаком. Впервые он совершил плавание на юг Африки тридцать лет назад. Тогда он, безвестный сын провинциального викария, на паруснике «Европа» за два с половиной месяца обогнув континент, достиг порта Дурбан в стране зулусов, на восточном берегу Африки. Припомнилось, что, когда проходили мимо мыса Доброй Надежды, над судном, словно посланец неба, воспарил огромный белый альбатрос — птица добрых предзнаменований. И Родс поверил в свою судьбу, хотя для него это было плавание в неизвестность, как когда-то и для древних мореходов, уходивших в Атлантику и державших курс на юг.
Первыми осваивать этот маршрут начали португальцы (если не считать древних финикийцев и карфагенян) еще со времен Генриха Мореплавателя — португальского принца, целью жизни которого стало проложить морской путь в Индию. Ради своих дерзких, а тогда едва ли не фантастических планов неутомимый Генрих одну за другой снаряжал армады в сторону Моря Мрака, как со страхом называли в те времена неизведанные просторы Атлантики. Именно он, Генрих Мореплаватель, в первой половине пятнадцатого столетия заложил основы будущей широкой колониальной экспансии португальских конкистадоров. И именно ему довелось «впервые углубить в незнаемый предел торжественный полет тяжелых каравелл…».
Наитруднейшим препятствием был мыс Бохадор — самая южная точка на западном африканском побережье, известная тогдашней географической науке. На пути к этому мысу приходилось преодолевать коварные отмели, взрывающие поверхность воды на многие километры вокруг, которые, как считали, отбрасывали корабли в открытое море. Не менее страшными были басни об ужасающих чудовищах, обитающих в море за этим мысом, о том, что всякий, кто осмелится пройти мимо Бохадора, непременно обратится в пепел или будет сварен заживо, и другие суеверия, способные отпугнуть любого смельчака. Когда же каравелла Жила Эаннеша в 1434 году прошла страшный Бохадор, то оказалось, что море за ним нисколько не отличается от обычного, а земля покрыта теми же, что и в Португалии, растениями.
Преодолев этот рубеж, португальцы отважно устремились на юг, опровергая древние небылицы и отметая страх, так долго удерживающий их на пути в Индию. А еще через полвека Бартоломеу Диаш воплотил заветную мечту европейца — обогнул мыс на самой южной оконечности Африки. Он назвал его мысом Бурь из-за ужасных штормов, которые пришлось выдержать, огибая его. Но король не принял это название и дал этому мысу другое, более приятное — мыс Доброй Надежды, то есть надежды на то, что теперь наконец-то будет найдена морская дорога в желанную Индию. Там, верилось, обнаружат загадочное «Царство пресвитера Иоанна» — святую Землю обетованную и легендарную страну Офир, откуда библейский царь Соломон за три года вывез десять тонн золота, серебро и слоновую кость для храма в Иерусалиме. Несметные сокровища таинственной страны Офир много веков не давали покоя, будоражили воображение. Золото было тем магическим словом, которое заставляло, рискуя, преодолевать бурное, коварное море, плыть в неизвестность за несметными сокровищами.
Во второй половине прошлого столетия выдвинули гипотезу, что страна Офир находилась не в Индии, а на восточноафриканском побережье. Отсюда флот Соломона и вывозил золото. Догадку эту тотчас подхватил молодой Генри Райдер Хаггард, тогда еще колониальный чиновник, и использовал для сюжета романа «Копи царя Соломона». К книге была приложена карта-схема, дабы убедить, что действительно существовал португальский авантюрист, владелец карты, которому довелось лично видеть легендарные копи в XVI веке. Публикуя эту карту, автор невольно как бы предлагал воспользоваться ею и отправиться на поиски копей царя Соломона и его сокровищницы, дополна заполненной золотом и алмазами. Для этого, согласно плану-карте, надо было миновать пустыни и переплыть реки, пройти через горы царицы Савской и по дороге Соломона, как и герои Г. Р. Хаггарда, достичь желанной цели.
И нашлись читатели, всерьез воспринявшие выдумку писателя и его слова о том, что, возможно, в будущем найдется счастливец, которому удастся отыскать «секрет потайной двери» — вход в сокровищницу. Полные решимости найти сказочные богатства, они умоляли автора сообщить более точные координаты копей царя Соломона в Африке. Объявился даже энтузиаст, который, несмотря на отказ писателя уточнить местонахождение сокровищ, решил на свой страх и риск отправиться на их поиски. Ему казались вполне достоверными и сведения, сообщаемые в Библии о соломоновых копях, откуда доставлялись тонны золота, и свидетельство португальского авантюриста, тем более что оно было подтверждено картой. Действительно, для каждого, кто имеет глаза и хоть на грош воображения при взгляде на любую карту, заманчиво дать волю своей фантазии. Р. Л. Стивенсон, автор «Острова сокровищ», считал, что не бывает людей, для которых карты ничего не значат. С ним соглашался и писатель-мореход Джозеф Конрад, называвший карты — «сумасбродными, но, в общем, интересными выдумками». В иные времена карты и в самом деле «читались», как мы теперь читаем фантастические романы.
Об этом однажды написал Оскар Уайльд, мечтавший воскресить искусство лганья и неслучайно вспомнивший при этом о прелестных древних картах, на которых вокруг высоких галер плавали всевозможные чудища морские.
Разрисованные пылким воображением их творцов, древних космографов, карты и в самом деле выглядели чрезвычайно красочно. На них пестрели аллегорические рисунки, были очерчены границы «страны пигмеев», легендарных Счастливых островов, обозначены мифические острова Птиц, загадочные Гог и Магог, отмечены места, где обитают сказочные единороги и василиски, сирены, крылатые псы и хищные грифоны. Здесь же были указаны области, будто бы населенные людьми с глазом посередине груди, однорукие и одноногие, собакоголовые и вовсе без головы.
Создатели этих карт руководствовались не столько наблюдениями путешественников, таких, как Плано Карпини, Рубрук, Марко Поло и других создателей ранних глав великого приключения человечества — познания земли, сколько черпали сведения у античных авторов Птолемея и Плиния, следуя за их «географическими руководствами» в описании мира.
Точно так же и в рассказах древнегреческих писателей привлекали прежде всего сообщения о таинственных, мифических странах и чудесах, которыми они знамениты. У Гомера поражало описание страны одноглазых циклопов, а у Лукиана — легенды об «индийских чудесах». Образы чудес загадочной Индии влияли и на средневековую фантастику. Тогда же начал складываться жанр вымышленного путешествия. Его творцы свои вымыслы о неведомых землях преподносили как достоверные свидетельства очевидцев, а, бывало, подлинные сведения землепроходцев и мореходов «переосмысливали» в традиционном ключе, стремясь лишь к тому, чтобы поразить чудесами впечатлительных современников.
Можно представить, как действовали на воображение, пребывавшее в плену тогдашних представлений, «свидетельства» об изрыгающих пламя дьяволах, обитающих в загадочной Индии, где якобы находилось и «Царство просвитера Иоанна». Следуя легенде, капитан Себастьян Кабот на своей карте поместил эту святую Землю обетованную «в восточной и южной Индии». И не случайно Рабле, в эпоху которого легенда эта продолжала возбуждать всеобщий интерес, писал о предполагаемой женитьбе Панурга на дочери «Короля Индии», просвитера Иоанна. Намечал автор «Пантагрюэля» и путешествие своего героя в эту страну, где будто бы находился вход в преисподнюю.
Представления о сказочных странах, населенных фантастическими существами, отразились и в творчестве других писателей. Отелло, рассказывая венецианскому Совету о своих скитаниях, о больших пещерах и степях бесплодных, упоминает и об «антропофагах — людях с головами, что ниже плеч растут». Легенды о призрачном острове Св. Брандана вдохновляли Т. Тассо при описании садов Армиды в поэме «Освобожденный Иерусалим». Описание «индийских чудес» встречается у многих литераторов. Современники Свифта были уверены в реальном существовании тех стран и народов, о которых рассказывал капитан Гулливер. Эту уверенность разделяли и по отношению к Утопии — стране, описанной Т. Мором, и даже намечали послать миссионеров на остров Тапробана (Шри-Ланка), где, кстати говоря, предполагали заодно обнаружить и город Солнца, придуманный Т. Кампанеллой. Так же как на Бермудских островах со временем будут пытаться найти шекспировскую скалистую «державу Просперо».
К жанру вымышленного путешествия относится и сочинение сэра Джона Мандевиля, поведавшего о своем, поистине необычайном, 34-летнем хождении по свету в XIV веке. Где только не побывал сэр Джон: ступал по земле Кадилья, что к востоку от владений китайского хана, был в «Стране пигмеев», видел и описал грифона; засвидетельствовал о существовании живого растения «баранца» и сказочной магнитной горы, притягивающей железные части кораблей, что ведет к их гибели, — горы, которую после этого тщетно пытались отыскать; наконец, разрешил еще одну загадку: пояснил, что Нил берет начало в Раю…
Пять веков верили этим выдумкам, оттиснутым в 1484 году только что изобретенным типографским прессом и сразу же переведенным чуть ли не на все европейские языки, пока не выяснили, что популярное сочинение — мистификация. Автором ее оказался некий Жан де Бургонь, бельгийский врач и математик. Было установлено, что он — всего-навсего ловкий компилятор древних и средневековых авторов, искусно повторявший за ними были и небылицы.
Сочинений, подобных путешествиям Мандевиля, появилось великое множество. Еще при его жизни пользовалась успехом «Книга познания» безвестного кастильского монаха о его неслыханном походе по земному кругу. Считали подлинной и зачитывались «Книгой Дзено» — о путешествии венецианцев к берегам Америки за сто лет до Колумба. Вместе с картой, помещенной на ее страницах, книга эта оказалась фальсификацией столь же изощренной, сколь и бессовестной, составленной, как теперь ясно, на основе различных источников. Позже вышли «Воспоминания Гауденцио ди Лукк», будто бы открывшего неизвестную землю в африканской пустыне — Меццоранию (на самом же деле они принадлежали перу англичанина С. Берингтона), и многие другие фантазии. В том числе и измышления Джорджа Псалманазара — авантюриста и мистификатора, якобы уроженца Формозы, прибывшего в Англию и выдававшего себя за японца.
Как, однако, выяснилось впоследствии, этот «японец» служил кашеваром в войсках герцога Мекленбургского. Здесь, в немецких землях, его встретил священник одного из шотландских полков Уильям Инес.
Он-то и привез «японца» в Лондон, уверяя, что ему удалось обратить в истинную веру уроженца далекой Формозы.
Святой отец мечтал прославиться, и бывший кашевар, прикинувшийся «язычником с неведомого острова», как никто мог способствовать этому (ведь о Формозе тогда толком никто ничего не знал). «Новообращенный» стал рьяным поборником истинной веры, без устали восхвалял англиканскую церковь и ее главу — короля.
Но капелану Инесу этого показалось мало, и тогда он объявил, что поручает своему подопечному перевести на формозский язык катехизис, чтобы затем обратить в христианство весь остров. «Японцу» ничего не оставалось, как сочинить «формозский язык». И он создал его!
Обманщик выдумал алфавит и грамматику. Причем, пользуясь доверчивостью современников и отсутствием у них знаний о далеких, неведомых землях, довольно нахально «изобрел» буквы, удивительно схожие с греческими.
Надо отдать должное Псалманазару, грамматика, которую он сочинил, была весьма логична и довольно проста. Хитроумный автор выдумал и словарный фонд «родного» языка.
Всего несколько недель ушло на создание этого искусственного языка, видимо первого в мире, если не считать алфавита утопийцев, придуманного Т. Мором.
Теперь можно было браться за «перевод». За катехизисом последовал перевод молитвенника. Лондонский архиепископ был в восторге и уже видел себя повелителем душ крещеных островитян.
Обнаглевший авантюрист, действуя после первого успеха и дальше с той же откровенностью, решил написать историю «родного острова». В 1704 году вышло его «Историческое и географическое описание Формозы». Подробно и обстоятельно мошенник рассказывал об острове и его обитателях, описывал одежду, быт и нравы, религию язычников — островитян, среди которых бытуют варварские обычаи. Поражая наивных англичан, Псалманазар описывал обряд ежегодного приношения в жертву ни больше ни меньше как восемнадцати тысяч детей. Их сердца, вырванные из груди, сжигали перед алтарем на гигантской жаровне.
Маловерам автор предоставлял возможность увидеть и храм, изображенный на рисунке, и алтарь перед ним, и жаровню. Вообще в защите своих откровений авантюрист проявлял удивительную изобретательность, нередко апеллируя при этом и к старинным картам.
Но не только «уроженец Формозы», а едва ли не каждый из компиляторов и мошенников — творцов вымышленных путешествий, пользовался творениями древних и средневековых космографов — чертежами португальских, испанских и итальянских картографов, созданных на пергаменте, на медных, а то и на серебряных пластинах, но одинаково сочетавших в себе достоверное с необычайным, фантастическим.
Но вот средневековые вымышленные чудеса мало-помалу сменились на картах загадочными белыми пятнами. И тогда разглядывание карт, как писал Джозеф Конрад, пробудило страстный интерес к истине географических фактов и стремление к точным знаниям — география и ее родная сестра картография превратились в честную науку.
Что влекло семнадцатилетнего Родса в Африку — туда, где еще оставались загадочные белые пятна? Неужели и он, как тот читатель, уверовал в сокровища царя Соломона и сказочную страну Офир? Или его привлекала колониальная романтика и необычайные приключения, наподобие тех, о которых он читал у Жюля Верна? Быть может, его манили экзотическая природа и охота на невиданных зверей? Отчасти, возможно, и то и это. Но главное, что побудило его совершить столь долгое и опасное путешествие, — желание разбогатеть.
За три года до того, как Родс отправился в Африку, весь мир облетело известие, что на юге Африканского материка, где-то возле слияния рек Оранжевой и Вааля, нашли алмазы. Счастливцем первооткрывателем оказался какой-то фермер, которому достался алмаз в восемьдесят три карата. Он продал его за одиннадцать тысяч фунтов стерлингов, что равнялось целому состоянию. И вскоре со всего света, словно саранча, ринулись в это новое африканское Эльдорадо искатели наживы и приключений. Авантюристов не могли остановить ни сотни миль, которые надо было преодолеть по пустыне и тропическому лесу, ни бурные реки, ни угроза смерти от стрелы туземца, ни лишения и голод.
Как грибы после дождя росли в велде поселки старателей, в том числе и Кимберли — столица алмазоносного края. Вскоре весь район стал британским и был присоединен к Капской колонии.
Алмазная лихорадка была в разгаре, когда молодой Родс прибыл в Дурбан — порт английской колонии Наталь на побережье Индийского океана. Страна была недавно захвачена англичанами в результате жестокой войны с зулусами — коренным и весьма воинственным народом.
Вскоре Родс на фургоне, запряженном волами, отправился в район добычи алмазов. Был октябрь месяц, преддверие лета, на пути встречались жирафы и страусы, на просторах велда мирно паслись стада антилоп и зебр, попадались львы, слоны и носороги. Ехать пришлось по бездорожью, перешли Драконовы горы, перебирались через ущелья и реки. Месяц спустя Родс достиг цели — алмазного района. Ему открылась поразительная картина: словно огромный муравейник, на земле копошились тысячи старателей. Одним из них, вооружившись заступом и ведром, предстояло стать и Родсу. Первый камень, который он нашел, весил семнадцать каратов и стоил сто фунтов.
Но вскоре Родс стал скупать участки, благо деньги у него были — две тысячи фунтов, полученные от родных еще дома. Через два года Родс уже владел несколькими участками, приносившими немалый доход. Он скупил их за бесценок в разгар мирового кризиса, когда многие старатели разорились. К тому же он был целеустремлен, расчетлив и изобретателен в бизнесе. К удивлению других старателей, привез на прииски паровую машину, приобрел насос, но, главное, умел подобрать нужных людей. Дела его шли прекрасно, несмотря на волчьи законы, царившие среди старателей, и опасность быть убитым конкурентами.
Через десять лет Родс стал одним из совладельцев компании алмазных копей «Де Бирс» — по названию бурской фермы, где были найдены первые алмазы. Потом Родс занял пост секретаря компании (кстати сказать, существующей и сегодня), наконец — ее президента. Ему было тогда тридцать лет, а его ежегодный доход составлял — пятьдесят тысяч фунтов.
С этих пор богатство Родса росло как снежный ком. А вместе с тем утверждались его авторитет, влияние и власть. Он становится членом парламента Капской колонии, ее премьер-министром. В его голове зреют дерзкие, честолюбивые замыслы. Он думает создать Южноафриканскую федерацию, главой которой намерен стать сам. Более того, его планы идут еще дальше. Родс мечтает о расширении пределов Британской империи и, может быть, о ее господстве над всем миром. Недаром его будут называть «Африканским Наполеоном».
Летом 1886 года мир облетела сенсационная весть: в Трансваале, между бассейнами рек Оранжевая и Лимпопо, найдено крупное месторождение золота. Все сразу же решили, что наконец-то найдена та самая библейская страна Офир. Открытие это вызвало приступ золотой лихорадки.
Ничего подобного мир еще не видел, такого не было ни тогда, когда нашли золото в Калифорнии, ни после открытия его на Аляске и в Австралии. Золотоискатели толпами ринулись к Йоханнесбургу, в то время еще неприметному поселку у подножия возвышенности Хребет Живой Воды. Золотая лихорадка гнала людей в суровый край, где не хватало воды, не было лесов и сутками дул сухой, обжигающий ветер с песком. Но люди в надежде разбогатеть спешили сюда: — ехали на волах и лошадях, шли пешком, увы, многие так и не достигли желанной цели — слишком трудным и опасным был путь. А тех, кто дошел или доехал, самых выносливых и отчаянных, ждал неприветливый поселок, где царили бандитские нравы и правил закон револьвера. И тем не менее поселок быстро рос, уже через три года здесь появились конка, электричество, не говоря об увеселительных заведениях, игорных домах и ночных клубах. Хотя большинство старателей все еще ютилось в сооружениях из жести от керосиновых бидонов.
Мог ли Родс с его неуемной жаждой обогащения оставаться в стороне и упустить такой шанс? Нет, конечно. Одним из первых он ринулся в это новое Эльдорадо, скупил участки на золотых полях, организовал добычу. И уже через год создал свою компанию, которая существует и поныне под тем же названием «Объединенные золотые поля Южной Африки» — одна из крупнейших в мире по добыче золота.
Десять лет спустя Родс мог заявить, что от добычи золота он лично получает до четырехсот тысяч фунтов стерлингов в год. Таким образом была создана могущественная империя алмазов и золота, которую честолюбивый Родс мечтал превратить в Африканскую империю под протекторатом Англии.
На пути к этой мечте лежало немало препятствий. И прежде всего — обитавший в междуречье воинственный народ ндебеле. Непокорный, свободолюбивый народ этот не желал оказаться в пасти льва и быть проглоченным белыми пришельцами. Началась затяжная война европейцев с африканцами. Там, где нельзя было одолеть туземцев силой, действовали хитростью, обманом, подкупом, натравливали на ндебелов народ шона, живший по соседству на территории так называемого Машоналенда.
Действия Родса облегчались тем, что он получил от Лондона своего рода мандат на завоевания в Африке и право управления новыми землями. И то и другое осуществлялось под флагом Британской южноафриканской привилегированной компании, обладавшей монополией на захват громадных областей Африканского материка. Причем слова «под флагом» следует понимать в буквальном смысле, ибо у компании были свой флаг, герб, печать, почтовые марки, да что там — своя армия и полиция! Целая империя в империи. Как же величали человека, который управлял всем этим? Не было должности, звания или титула, которые точно отразили бы полноту его власти. Называли его просто — Сесиль Родс. Всевластие его было безраздельным. Вот как характеризовал этого человека Марк Твен, побывавший в Южной Африке: «Весь южноафриканский мир — друзья и враги — трепещет от какого-то благоговейного страха перед ним. Одни видят в нем посланца Божьего, другие — наместника дьявола, властелина людей, способного одним лишь дуновением осчастливить или погубить; многие на него молятся, многие его ненавидят, но люди здравомыслящие никогда его не проклинают, и даже самые легкомысленные делают это только шепотом».
И вот этот чуть ли не полубог стоит на палубе парохода «Скотт» и, всматриваясь в даль, вспоминает, как впервые плыл этим маршрутом в неизвестность тридцать лет назад. Как и тогда, впереди по курсу над океанским простором реет величественный альбатрос — птица добрых предзнаменований. Нельзя не восхищаться этим великолепным созданием природы — царственным пернатым чудом, белым как снег, с огромными архангельскими крыльями. На память Родсу приходят строки поэмы Кольриджа: «И вдруг, чертя над нами круг, пронесся альбатрос». И еще из Бодлера, задолго до Родса увидевшего эту вещую путеводную птицу, когда плыл в Индию, и назвавшего ее «царем высоты голубой».
Так же и Родс достиг высот, каких немногим удавалось. И так же, как тогда, когда впервые увидел вещего альбатроса, он поверил в свою судьбу, — верит и теперь. Порукой тому птица добрых предзнаменований, встречающая его в море на подходе к Кейптауну.
В алмазном королевстве
…После почти трехнедельного плавания вдоль западного берега Африки «Скотт» бросил якорь в Столовом заливе на кейптаунском рейде. На пристани огромная толпа встречала Сесиля Родса как национального героя. Никто не обратил внимания на женщину, с которой Родс вежливо попрощался, прежде чем направиться в свой дворец Хрут-Скер. Это огромное поместье было куплено им за шестьдесят тысяч фунтов — сумма по тому времени баснословная. Голландское название сохранилось еще от тех времен, когда Капская колония принадлежала Нидерландской Ост-Индской компании. Правда, дом Родс основательно перестроил после пожара, во время которого этот его кейптаунский дворец сгорел дотла. Новое здание сохранило по его замыслу стиль старой голландской архитектуры. Предметом особой гордости хозяина был, однако, не сам дом и не прилегавшая к нему территория в полторы тысячи акров, засаженная разными экзотическими деревьями, а большая библиотека, где были собраны книги, посвященные Африке, и карты этого материка.
И каждый мечтал попасть во дворец — это святилище африканского владыки, где бывали и принц Уэльский — будущий король Эдуард III, и молодой еще тогда, но уже популярный поэт Редьярд Киплинг, и усмиритель туземцев генерал Каррингтон, и другой, отличившийся в Судане, генерал Китченер, впоследствии фельдмаршал, и, конечно, все высшие колониальные администраторы — губернаторы Капской колонии, одновременно являвшиеся верховными комиссарами Южной Африки, — и Геркулес Робинсон, и сменивший его Альфред Милнер, и лорд Рондолф Черчилль со своим молодым сыном Уинстоном, тогда еще корреспондентом.
Впрочем, если не попасть во дворец, то оказаться возле него и даже расположиться на ступеньках дозволялось и простым смертным. Родс, разыгрывавший из себя демократа и радушного хозяина, разрешил пользоваться такой привилегией туристам и горожанам с одним лишь условием — «только для белых».
Надо ли говорить, что попасть в число гостей Родса желала и Катерина Радзивилл. Задачу эту облегчил он сам. Передал ей открытое приглашение на обеды в Хрут-Скер. Она восприняла это с благодарностью и нескрываемой радостью.
Поселилась Катерина в шикарном отеле «Маунт Нельсон». Через пару дней явилась к сэру Альфреду Милнеру и вручила рекомендательное письмо от лорда Солсбери, английского премьер-министра.
Во время этого визита произошло то, о чем потом долго рассказывали в городе. Когда вошел губернатор, сидевшие в зале встали — все, кроме княгини. Ей шепнули на ухо, что сэр Альфред Милнер представляет Британскую корону и в отсутствие монарха обладает всеми правами на почести, обычно тому оказываемые. Но на Катерину это не произвело никакого впечатления, она продолжала сидеть. Каково же было удивление всех присутствующих, когда Милнер, сделав вид, что не заметил дерзости, пригласил княгиню на обед. В тот день она вернулась в отель с таким видом, будто выиграла сражение. Во всяком случае, заставила заговорить о себе, видимо рассчитывая, что история эта дойдет и до Родса. Ей было известно, что он не очень-то жаловал верховного комиссара и был бы рад узнать, что тому утерли нос. И оказалась права. Первые слова, которыми Родс встретил ее, когда она появилась в его доме, были о том, как она здорово поставила на место этого высокомерного Милнера.
Катерина стала часто бывать в Хрут-Скер, и Родс поначалу делал все, чтобы она чувствовала себя здесь как дома. Более того, узнав, что княгиня обожает прогулки верхом, он прислал ей пару лошадей — для нее и ее знакомого майора Хардинга, жившего в той же гостинице, что и она. Во время таких прогулок Катерина ненароком осторожно намекнула о своих чувствах к Родсу, и майор понял, что княгиня испытывает к нему глубокий интерес, более того, можно сказать, влюблена в него. Катерина постаралась утвердить в этой догадке смышленого офицера и однажды доверила ему содержание письма, которое якобы написал Родс ее старшему сыну. Из письма было ясно, что Родс проявляет особую заботу о ее сыне и обещает пригласить к себе.
Майору не показалось странным, что княгиня так легко посвящает его, в общем-то мало знакомого ей человека, в свои интимные дела. Ведь из этого же письма нетрудно было понять, что Родс, словно юноша-романтик, увлекся Катериной так, что чуть ли не готов повести ее под венец. То, что все это было абсолютно не похоже на Родса, этого расчетливого и осторожного дельца, к тому же известного своей женофобией, майора Хардинга нисколько не удивило. Он не мог даже представить себе, что такая дама, княгиня, могла лгать, и поведал обо всем своей жене. Этого было достаточно, чтобы тайна стала достоянием многих.
По сути дела, это был едва ли не первый пример проявления особого таланта Катерины, получившего в будущем столь яркое воплощение. Не раз она будет прибегать к подобной уловке — цитировать отрывки из личных писем и частных документов, якобы адресованных ей.
Все биографы Катерины Радзивилл в один голос утверждают, что ни в коем случае нельзя принимать за чистую монету ее письма (сохранились только в копиях), все они были подделками, причем весьма изобретательными.
Что касается Родса, то увлечение, если и имело место, относилось к совсем другой даме. Во всяком случае, это была единственная женщина, которую можно, пожалуй, назвать его другом. Имя ее — леди Сара Уильсон, она была младшей дочерью седьмого герцога Мальборо и сестрой лорда Рендолфа Черчилля. Вместе с братом и своим мужем капитаном Гордоном Уильсоном она приехала в Южную Африку и провела здесь несколько лет, став свидетельницей многих бурных событий, охвативших в те годы африканский юг. Женщина, что называется, с характером, светская, умная и, как окажется, отважная, Сара сразу же расположила к себе Родса. Она часто сопровождала его во время утренних прогулок верхом, неизменно присутствовала за столом при его завтраке, по вечерам играла с ним в бридж. «Здесь леди Уильсон была непревзойденным специалистом, а Родс очень способным учеником», — пишет современный автор, высказывая мысль, что вряд ли Родс мог в то же время завести интрижку с княгиней Радзивилл. Случись такое, трудно представить, чтобы злые языки Кейптауна не разнесли бы по городу эту потрясающую новость. Однако несомненно, что обе дамы вступили в борьбу за внимание Родса, но леди Сара оказалась удачливее и утерла нос княгине Катерине. Надо ли говорить, что соперницы не очень ладили друг с другом и не случайно леди Сара ни словом не упоминает о Катерине в своих мемуарах.
Но вот летом чета Уильсонов уехала в Булавайо — столицу страны воинственных ндебелов на юго-западе междуречья Замбези и Лимпопо, к тому времени завоеванной войсками, подчиненными Родсу. (Два месяца спустя, когда начнется англо-бурская война, о подвигах Сары Уильсон заговорит весь Кейптаун; особенно поразит всех то, как она, женщина, бесстрашно пробилась в осажденный бурами город Мафекинг, где служил ее муж.)
С отъездом Сары Катерина с новой силой возобновила свои притязания. Но если вначале, когда от нее приходили телеграммы с сообщением о ее намерении позавтракать или отобедать с ним, Родс не имел ничего против, то теперь стал выказывать признаки раздражения и неудовольствия и пытался воспрепятствовать ее появлению в доме, то ссылаясь на свою занятость, то отправляя Катерину на прогулки с Джорданом. Однако княгиня не испытывала ни малейшего желания проводить время в обществе секретаря, не для того она проехала, в конце концов, шесть тысяч миль. Тем настойчивее стала она в своих попытках. И часто Родс буквально спасался от нее бегством, заявляя, что спешит на деловое свидание или заседание.
Почему же Родс так боялся остаться с княгиней наедине? Дело не в том, что он опасался, как бы она его не соблазнила. Джордан объяснял это тем, что Катерина слишком часто и много говорила о политике. А это могло оказаться куда более компрометирующим для Родса, чем попытка его соблазнить. Хотя сам он и отрицал, что вел с княгиней разговоры на политические темы, это было не так. Катерина питала особый интерес к такого рода беседам и постоянно вовлекала в них Родса. Иногда ей удавалось разговорить его и ненароком получить некоторую важную информацию. При ее обширных связях и болтливости это могло обернуться против Родса. Что касается ее связей, то, несмотря на несколько скандальную репутацию, круг ее знакомых был очень широк. Холеная, говорливая, бросающаяся в глаза своими шикарными нарядами, Катерина была центром внимания в любом обществе. Ее имя неизменно фигурировало в списках самых важных гостей. Она появлялась с бриллиантовой диадемой на голове, в роскошном ожерелье.
Из друзей самыми, пожалуй, близкими ей стали Уильям Шольц и его жена Агнесса. В их роскошном доме, в самом центре Кейптауна, можно было встретить все высшее общество города. Шольц был известным ученым в области климатологии, автором книги «Южноафриканский климат», к которой Родс написал вступление, чем обеспечил ей успех. Видимо, княгиня ловко воспользовалась дружбой с четой Шольцев и сумела через них пустить слух о своей тайной помолвке с Родсом, которым якобы уже выделены для нее апартаменты в его доме, и он лишь ждет благоприятного момента, чтобы публично оповестить о предстоящем событии. Однако, поскольку помолвка так и не была объявлена, история получила более банальный поворот — мол, княгиня стала его любовницей. Иначе, чем объяснить ее частые визиты в Хрут-Скер и посещение Родсом княгини в отеле «Маунт Нельсон»? Слухи эти долго ходили по городу, несмотря на то что друзья Родса напрочь опровергали их. Но княгине они бы выгодны — роль любовницы Родса усиливала ее влияние. Это же толкнуло ее на новую авантюру — подделку писем, якобы полученных ею от Родса. Для этого ей понадобилось раздобыть образец его подписи. Труда это не составляло, так как она имела обыкновение невзначай входить в кабинет и рыться в его бумагах. Однажды после ее визита некоторые из них исчезли. Возможно, ее интересовало что-то более важное, чем подпись Родса.
В октябре 1899 года, когда началась англо-бурская война, продлившаяся два с половиной года, Родс сразу же уехал в Кимберли — столицу своего алмазного королевства. Город, возникший лет тридцать назад на месте поселка старателей, назвали по имени британского министра колоний лорда Кимберли, присоединившего район алмазных копий к Капской колонии, а алмазоносную породу — кимберлитом.
Буры, то есть крестьяне, потомки первых голландских поселенцев, яростно сопротивлялись. Вначале они одержали ряд побед, несмотря на превосходство англичан в вооружении — пулеметах, тогда впервые примененных, бездымном порохе, шрапнели и новых видах взрывчатки. Был окружен и Кимберли. Родс прибыл сюда поездом, оказавшимся последним, и пробыл в осажденном городе более четырех месяцев. Только когда сняли осаду и пала Претория — столица бурского Трансвааля, он целым и невредимым вернулся в Кейптаун, где тотчас же выступил с речью. В ней вновь заговорил о своей давней идее объединения Южной Африки под британским флагом в своего рода Южно-Африканскую федерацию.
Что же делала во время войны княгиня Радзивилл? Как ей жилось в Кейптауне? Верная себе Катерина решила сыграть важную роль в англо-бурском конфликте, нажить политический капитал.
Своей целью она поставила достижение перемирия между, как ей казалось, заинтересованными сторонами — Родсом вместе с принадлежащими ему компаниями и Африканер Бондом — крупной политической партией буров. Особенно в первый период войны, когда англичане терпели поражения в степях между Ваалем и Оранжевой рекой в схватке с маленьким, плохо вооруженным народом и мировое общественное мнение склонялось явно не в пользу британского льва. Катерина, видимо, была убеждена, что именно такой исход устраивает Родса, и вступила в тайные переговоры с бурскими руководителями. Родс находился в Кимберли, и у нее были развязаны руки — он не мог опровергнуть того, что она якобы действует от его имени. Не учла Катерина лишь одного — к ней, иностранке, пытавшейся вмешаться в чужие дела, относились с подозрением. Стали поговаривать, что она русская шпионка, регулярно посылающая куда-то в Европу отчеты о положении в стране. Конечно, это было не так. Ее деятельность, в известной степени тайная, была направлена лишь к тому, чтобы добиться для себя большего веса, удовлетворить политические амбиции. Она решила, что настало время создать новый политический союз, в котором бы объединились две группировки белых, — «Англо-Африканскую партию» с Сесилем Родсом во главе. Ради этого, собственно, и вступила в тайные переговоры с Африканер Бондом, что дало повод Клемансо сказать о княгине Радзивилл: «В Париже всем известно, что эта женщина — агент буров».
Катерина не скрывала, что действует в интересах Родса, о чем написала в нескольких статьях, где сравнивала его с Цезарем, Петром Великим и Кортесом. Всячески подчеркивала свою приверженность ему. Не в пример, к слову сказать, Оливии Шрейнер, известной писательнице, одно время очарованной этим «великим человеком, единственным гением, которого имеет Южная Африка». Потом, однако, разглядевшей подлинное лицо Родса и прозревшей. Это было, по ее словам, одним из самых тяжких разочарований в ее жизни. С тех пор она бесстрашно и яростно обличала Родса, карательные походы против туземцев, уничтожение африканцев, захват их земель в надежде найти там новые залежи золота. Об этом ее книга «Рядовой Питер Холкит из Машоналенда».
Катерина Радзивилл решила вступиться за Родса, заявив, что подоплека критики, содержащейся в книге, кроется в личных отношениях, которые имели место в прошлом между Оливией и Родсом. Отвергнутая тогда, она теперь мстила за это. Катерина даже взялась написать «Воскресение Питера» — как бы ответ Оливии Шрейнер, на самом деле книгу предназначавшуюся для глаз Родса. Этим, однако, не смягчила его гнев, когда, вернувшись из Кимберли, он узнал о ее затее по созданию какой-то новой партии. Между ними произошел крупный разговор. Вспылив, Родс заявил, что не намерен больше мириться с ее вмешательством в свои дела, и вообще наговорил ей кучу дерзостей.
Чехарда с векселями
Между тем ее собственные финансовые дела оказались в плачевном состоянии. Катерина жила на широкую ногу, не думая о завтрашнем дне. Только за отель она заплатила тысячу фунтов и оставалась еще должна сто шестьдесят. Родс выручил Катерину деньгами за сутки до того, как ее должны были выселить. В письме, поблагодарив, Катерина попросила его быть гарантом ее кредита в Стандарт Бэнк на сумму три тысячи фунтов стерлингов. Если бы он согласился стать ее финансовым гарантом, да еще на такую крупную сумму, то ее положение могло бы круто измениться. Судя по всему, Родс проигнорировал просьбу, испугавшись планов Катерины навсегда поселиться в Кейптауне, если найдет у него поддержку. Вот уж чего Родс никак не хотел. Не хватало только, чтобы эта прилипчивая дама, и без того изрядно ему надоевшая, осуществила свое намерение. Проще говоря, не чаял от нее избавиться.
Но как заставить эту особу собрать манатки? Он решил использовать ее угрожающее положение с деньгами и предъявить нечто вроде ультиматума. «Я дам указание своему адвокату, — заявил Родс, — и если она уедет из страны, оплачу все ее счета». Что и было сделано. Катерина временно переехала в дом своих друзей Шольцев. Видимо, она дала обещание покинуть Кейптаун. И действительно, скоро объявилась в Лондоне. Верная себе, принялась всячески афишировать свое знакомство с Родсом. В газете «Ревью оф ревьюс» опубликовала статью «Сесиль Д. Родс. Впечатления княгини Радзивилл», выступала в защиту Родса, которого некоторые считали главным виновником развязанной войны против буров. В связи с этим встретилась даже со своим старым знакомым лордом Солсбери.
Но уже через два месяца, забыв о данном обещании, Катерина вместе с сыном Николаем и служанкой Франчиной объявилась в Кейптауне. Родс, узнав об этом, с ужасом воскликнул: «Я заплатил за ее счета, и она покинула страну, но вот возвращается снова…» Он попытался было спастись от нее за плотной стеной «секретарей» или, как их еще называли, «телохранителей», но это не остановило ее. Она снова стала бывать в Хрут-Скер. И, надо сказать, что Родс, словно смирившись с натиском этой дамы, был с ней теперь всегда вежлив, даже устроил ее сына на приличную работу. Может быть, он оценил ее активное желание и борьбу за то, чтобы сделать его премьер-министром, а то и президентом будущей федеративной Южной Африки, о чем втайне сам мечтал. На этот период как раз приходится большая часть сомнительной корреспонденции, полученной ею якобы от Родса. И все же он старался большей частью ее избегать, для чего использовал различные уловки. Держал, например, в конюшне запряженную лошадь на случай, если надо будет незаметно улизнуть от княгини. Ей давали понять, чтобы не вмешивалась в личные его дела. Она возмущалась, говорила, что без так называемых этих своих друзей и советчиков Родс стал бы величайшей фигурой своего времени, но, к несчастью, атмосфера лести и поклонения оказалась настолько ему необходимой и он так привык к ней, что даже не представлял, как могли все эти подлизы и доносчики обходиться без него.
Желая помочь своему кумиру, Катерина решила организовать собственную газету, на страницах которой могла бы пропагандировать идеи Родса, выступать в его поддержку. Когда она сообщила ему об этом, он поддержал ее затею, но отказался финансировать издание. То ли не был уверен в успехе, то ли испугался еще большей зависимости от Катерины. У нее находились некоторые его письма и кое-какие другие бумаги, возможно похищенные из кабинета. В руках такой ненадежной союзницы они в любой момент могли оказаться оружием, повернутым против него. Тем более что теперь она будет располагать трибуной. Родс выразил желание заполучить эти бумаги обратно. Ее отказ вызвал у него ярость, в гневе он пообещал, что все равно получит их. Было ясно, что он опасается быть серьезно скомпрометированным содержанием этих документов.
На что же рассчитывала Катерина, затевая газету? Ее собственные средства находились в плачевном состоянии. Небольшой доход приносило поместье на Волге, некоторую сумму она выручила за свою книгу «Воскресение Питера».
Для редакции газеты, получившей название «Великая Британия», княгиня арендовала через адвоката Биссе дом вместе с лошадью и упряжкой. В качестве аванса с нее потребовали 4650 фунтов стерлингов. Не задумываясь она выписала чек на всю сумму и готовилась переехать в новое здание. Но тут Биссе предупредил, что чек ее не акцептирован и он подает на нее в суд. В этом не было ничего удивительного — на банковском счету княгини находилось всего лишь четыре фунта девять шиллингов и девять центов. Что было делать? Она уговорила Биссе принять расписку, гарантирующую выплату денег после их получения из России, не приминув предъявить письма, полученные оттуда, с упоминанием якобы принадлежащих ей там огромных богатств. Сама же тем временем заложила бриллиантовые серьги. На часть вырученных денег купила в книжном магазине на главной улице Аддерли-стрит большую фотографию Родса с его личной подписью через все фото и повесила ее в редакции… Спустя два дня княгиня вошла в комнату своего управляющего редакцией Ловгрува и торжественно заявила, что у нее в руках незаполненный вексель, обеспеченный господином Родсом. С этими словами она протянула лист бумаги, на котором стояла подпись Родса. Затем предложила заполнить свободное место над подписью цифрой в три тысячи фунтов, после чего отнести вексель в Бэнк оф Африка, где его должны были дисконтировать (учесть). Однако вексель не приняли к оплате. Тогда княгиня предъявила новый вексель, но и по поводу его были высказаны сомнения в достоверности. Родс в тот момент находился где-то в Родезии. Ему послали запрос, подписывал ли он такой вексель, он ответил отрицательно. Ничего не подозревавшая Катерина продолжала свою активную деятельность. Но адвокат Биссе не терял бдительности, он заявил ей, что показал вексель одному из друзей Родса и тот сказал, что это не его подпись. Так что без дополнительных гарантий не сможет принять этот вексель. Над головой Катерины вновь сгустились тучи. Она помнила, что в случае неудачи ей грозит судебное разбирательство.
Тогда она решила увеличить процент заимодавцу и начала поиски нужного ей человека. Вскоре такой нашелся — ростовщик Жозеф Фридион. Готов ли он акцептировать этот вексель, спросила она. Тот проявил к документу интерес, но потребовал доказательства, что подпись не подделана. «Нет ли у нее какого-нибудь письма от Родса, — спросил он, — в котором была бы ссылка на этот вексель?» Она ответила, что вроде есть, и обещала отыскать его. На другой день Катерина явилась с двумя отпечатанными на машинке письмами, под которыми стояла подпись Родса. В одном из них, посланном из Кимберли, говорилось: «Как обстоят финансовые дела? Вкладываю вексель, если случится что-то непредвиденное, думаю вы всегда найдете друга, который выдаст вам деньги под этот вексель, поскольку вы отказываетесь их брать от меня. Только не закладывайте его в банке и ничего об этом не пишите; нет необходимости ставить об этом в известность Джордана. Любой друг может прийти вам на помощь, например Шольц. Я отдам вам деньги для выкупа векселя, как только вернусь, где-то в октябре, ноябре… Не берите больше тысячи для себя лично, а остальное направьте для нужд вашей газеты…» То же самое приблизительно было и во втором письме.
Осторожный Фридион ответил, что он лично не знаком с господином Родсом, так что хорошо бы иметь поручительство под вексель от какого-либо его друга, ну, скажем, от доктора Шольца. Княгиня согласилась и тут же отправилась к Шольцу. Объяснив причину своего визита, она попросила подтвердить достоверность подписи Родса и показала его письма, намекнув, что деньги ей необходимы для защиты интересов Родса. Шольц ни в чем дурном ее не заподозрил и выписал сертификат, свидетельствующий, что подпись достоверна, а также расписался на оборотной стороне векселя. По условию вексель в одну тысячу фунтов подлежал оплате через два месяца, при этом Катерина получала семьсот фунтов, а заимодавец целых триста! Получить чек от Фридиона на причитающуюся ей сумму Катерина отказалась, потребовав выплаты наличными. Теперь она могла оплатить хотя бы часть долга Биссе и приступить к выпуску своей еженедельной газеты.
Первый номер вышел 11 июня 1901 года. Трудность состояла в том, что ей пришлось делать газету практически в одиночку, быть и репортером и издателем. Журналисты, которые вначале согласились было с ней сотрудничать, стушевались. Писала она на вполне сносном английском, хотя была, как заметил У. Стед в лондонской «Ревью оф ревьюс», наполовину полька, наполовину русская, но владела пером, словно родилась в Англии. Однако газета, что называется, не пошла. Пришлось уменьшить ее стоимость, а это означало, по существу, провал и лишало ее всякой надежды на выкуп данного Фридиону векселя. Семьсот фунтов были давно истрачены.
Любым способом ей необходимо было найти тысячу фунтов или пойти на риск своего разоблачения. Сорок пять фунтов, вырученных ею за старинную табакерку, не могли ее спасти. И вот однажды она снова явилась в контору Фридиона с новым векселем на 4500 фунтов стерлингов. Получила она его якобы от Родса перед тем, как тот отплыл в Англию. В нем говорилось: «Я обещаю княгине Катерине Радзивилл выплатить 3 апреля будущего года сумму в 4500 фунтов стерлингов. Вексель подлежит оплате в ее доме „Крейл“ на Кенилуорт. С. Д. Родс». Для достоверности она показала письмо Родса, адресованное Шольцу. В нем Родс сообщал, что передал княгине несколько векселей для оказания помощи в издании газеты, но просил не распространяться об этом.
Фридион принял вексель, но за неимением в тот момент таких денег отказался тотчас его дисконтировать.
Между тем время шло и княгиня все больше волновалась: подходил срок выплаты по векселю. Это толкнуло ее обратиться в кредитную компанию «Острэлиен Лоан энд Дискаунт». Управляющий Мейер Вольф выслушал ее трогательную историю о Родсе, который выдал ей вексель на 4500 фунтов, чтобы поддержать газету, и согласился его принять с таким условием: пусть его удостоверит мистер Мичел — управляющий Стандарт Бэнк и близкий друг Родса. Княгиня нехотя согласилась, но с условием, что ее имя не будет при этом упомянуто. Она, видимо, знала, что Мичел находился в отъезде и его заменяет мистер Гардинер. Однако и он, и Нэшнл Бэнк отказались идентифицировать подпись. Не признали ее подлинной и в других местах. Тогда Вольф предложил обратиться к доктору Шольцу. Катерина понимала, что новый вексель не мог не вызвать у него подозрения. Тем не менее согласилась отправиться к нему. На другой день она явилась к Вольфу и протянула вексель, на обороте которого стояла подпись: «Уильям К. Шольц». Это был, конечно, отчаянный шаг с ее стороны, она балансировала над пропастью. Как и следовало ожидать, произошло худшее — Вольф отправился к Шольцу и показал ему вексель с его подписью на обороте. Шольц заверил, что никогда не подписывал его и вообще в глаза не видел княгиню.
Когда Вольф рассказал Катерине об этом, гневу ее не было конца. Потребовав возвратить вексель, она вырвала его из рук Вольфа и бросилась из комнаты. А встревоженному Шольцу объяснила, что произошла ошибка — речь шла все о том же первом векселе в тысячу фунтов, на обороте которого он еще раньше поставил свою подпись. И даже посоветовала, если к нему вновь обратятся с подобной просьбой, обратиться в полицию.
Однако срок выплаты тысячи фунтов неумолимо приближался. На банковском счету Катерины не было ни пенса. Каково же было удивление заимодавца, когда точно в назначенный день и час княгиня выкупила вексель. Но самое удивительное, что деньги заплатила не Катерина, а сам Фридион.
С этого момента история приобретает все более загадочный характер. В оборот был пущен еще один вексель в две тысячи фунтов. По словам Фридиона, когда вышел срок векселя в тысячу фунтов, к нему явилась княгиня и заявила, что не может выплатить деньги, вместо этого предложила ему акцептировать еще один вексель на сумму две тысячи фунтов, который, как она сказала, тоже получила от Родса. Вексель был принят, и почти тотчас же в контору Фридиона явился адвокат Джон Бернард, заявивший, что действует от имени некоего господина Лоува, и что его клиент готов немедленно оплатить вексель в две тысячи фунтов. Сделка состоялась, и княгиня получила обратно свой первый вексель на тысячу фунтов. Все это выглядело весьма странно.
Но кто же был этот господин Лоув, отдавший в долг деньги человеку, которого никогда даже не видел?! Притом не потребовал никаких гарантий! Все это оставалось загадкой.
Но главный сюрприз преподнесли газеты на другой день. На страницах «Кейп Аргус», а затем и в «Кейп таймс» появился набранный крупным шрифтом заголовок: «Господин Родс предупреждает: подпись его подделана». Далее приводилось сообщение лондонской «Таймс», опубликованное на ее финансовой странице: «Насколько нам известно, предпринимаются различные попытки вести переговоры об оплате векселей, под которыми якобы стоит подпись Сесиля Родса. К нам обратились с просьбой заявить, что если появятся в обращении подобные документы, то их следует считать поддельными».
Это означало, что Родс начал действовать против княгини. Ей следовало быть более осторожной. Но могло ли ее что-либо спасти?
Буквально на следующий же день после того, как появилось сообщение в «Кейп Аргус», Бернард пригласил княгиню Радзивилл к себе в контору. С ним вместе был Джон Кейзер, который представлял интересы Фридиона.
Бернард заявил, указывая на газеты, что испытывает большое беспокойство в связи с займом, сделанным от имени его клиента господина Лоува. И предложил направить телеграмму Родсу, находившемуся в Англии, с просьбой лично подтвердить вексель. Катерина не возражала. Но как вступить с ним в контакт, ведь он путешествует где-то в Шотландии. Не послать ли телеграмму Хоуксли, стряпчему Родса в Лондоне. Адвокаты согласились и тут же составили текст: «Пожалуйста, вышлите тысячу пятьсот фунтов. Крайне необходимо заплатить за вексель». Об ответе княгиня обещала тотчас известить адвокатов.
Газетные сообщения встревожили и Шольца. Катерина успокоила его, сказав, что ждет из Лондона подтверждения подлинности векселя. Она действительно отправила телеграмму Хоуксли, которого хорошо знала еще по Лондону и переписывалась с ним. Но это была не единственная телеграмма, отправленная ею в тот день. Другая телеграмма была адресована в Кейптаун, княгине Радзивилл. Получив ее, зашла к знакомому начальнику почты своего района и наплела ему о каком-то розыгрыше, который задумали ее друзья. Для этого, мол, нужно переделать на бланке место отправления. Почтмейстер отказался выполнить ее невинную просьбу. Но младший клерк, к которому она обратилась с тем же на другой день, оказался более сговорчивым. Он стер слово «Кейптаун» и вместо него вписал «Лондон». В телеграмме говорилось: «Сообщите, когда срок. Сколько? Постараюсь уладить пересылку из Лондона. Если невозможно, попросите друзей. Вряд ли они откажут. Пишите».
С этим текстом Катерина явилась к Бернарду. Но тот, на ее беду, сразу же заподозрил подлог, заметив, что слово «Лондон» написано на месте другого, стертого, которое начиналось на букву «К».
Настало, казалось, время положить конец всему этому мошенничеству и уличить княгиню Радзивилл. Ведь все несомненно указывало на то, что векселя фальшивые. Однако Бернард, как видно, не столько заботился о клиенте, сколько хотел втянуть княгиню еще глубже в мошенничество, чтобы она изобличила самое себя. Он предложил отправить еще одну телеграмму такого содержания: «Две тысячи фунтов к 20 сентября. Держатель требует телеграфного подтверждения. Сообщите о высылке». Катерина прибегла все к той же процедуре. Хоуксли она телеграфировала: «Завтра отсылаю письмо и все необходимые документы». После чего отправилась на почту и, проделав тот же трюк с помощью того же клерка, которому дала десять шиллингов «на конфеты», доставила Бернарду ответ от Хоуксли и почтовую квитанцию. Ответ из Лондона был лаконичным: «Хорошо. Скажите, что подтверждаю».
Теперь, думала Катерина, ее дело в шляпе. Но Бернард снова заметил подчистку. На почте, куда он отправился, без особого труда выяснил все обстоятельства «розыгрыша». Не долго думая, он сообщил княгине, что намерен предать дело прокурору. Катерина бросилась к ростовщику и под именем Мисс Смит заложила свои часы, золотую цепочку и брелок — все, что у нее осталось, но спасти ее это не могло, требовалась крупная сумма, чтобы выкупить вексель. Бернард наседал, грозил судебным преследованием, если она не покроет свой долг его клиенту Лоуву. К этому добавились требования кредиторов ее газеты, которая дышала на ладан. В отчаянии она бросилась к управляющему газеты Лавгроуву. О чем же она его просила? Ни больше ни меньше как подыскать человека, который смог бы оплатить новый вексель, якобы полученный ею от Родса. И что совсем уж странно, он, несмотря на газетное предупреждение, согласился ей помочь. Человека, которого он рекомендовал, звали господином Фоксом. Однако сам он не захотел дисконтировать вексель на сумму 6 тысяч фунтов стерлингов, предъявленный Катериной, а рекомендовал ей купца Дэвида Бенжамина. Это был весьма достойный джентльмен, игравший видную роль в финансовом мире и даже состоявший одно время вместе с Родсом в каком-то комитете. Он строго следил за своей репутацией и отказался обсуждать с княгиней дела у нее дома, пригласив пожаловать к нему в контору. Вот как он описывает то, что произошло там. «После короткой беседы, — свидетельствовал он, — княгиня сообщила мне, что находится в стесненных обстоятельствах в связи с изданием своей газеты, а затем вытащила из сумочки вексель, который якобы был составлен в ее пользу господином Родсом, бывшим премьер-министром. По-моему, он был датирован апрелем 1901 года. Я сказал ей, что это весьма любопытный документ. Прежде всего потому, что главная часть его заполнена очень небрежным почерком. Во-вторых, время выплаты установлено в девять месяцев, хотя обычно подобные финансовые документы составляются на три или, в самом крайнем случае, на шесть месяцев. Кроме того, там было сказано, что вексель подлежит оплате на дому у княгини, но я никогда не видел, чтобы вексель на такую значительную сумму подлежал оплате на дому какой-то женщины. Я не сказал ей о том, что видел предупреждение, помещенное Родсом в газете, но я все же знал о богатстве Родса и его безупречной финансовой репутации, тем не менее все эти обстоятельства показались мне весьма странными.
Затем княгиня сказала, что из этой суммы хочет получить три тысячи. Я ответил ей, что я не ростовщик и не оплачиваю векселей, и как бы невзначай, возвращая ей вексель, поинтересовался у нее, считает ли она эту подпись Родса подлинной. Она, в свою очередь, спросила меня, что я имею в виду. Я ответил, что если это и не подпись Родса, то очень хорошая подделка. После чего я спросил ее, каким образом она предполагает выкупить этот вексель, и тут она нетерпеливо вскочила со своего места, сказав мне, что я задаю слишком много вопросов, и покинула мой кабинет».
В этот день, 24 августа 1901 года, княгиня Радзивилл получила еще один удар: вышел последний номер ее газеты, просуществовавшей ровно десять недель.
О том, что предпринимала княгиня в последующие дни, проследить довольно трудно. Известно лишь, что она посылала срочные телеграммы своей семье, требуя от них прислать денег, чтобы расплатиться с Бернардом. Но и тут ее ждала неудача: оказалось, что счет ее в банке арестован и никакие финансовые операции с ним не могут быть осуществлены. Стоит отметить, что управляющим этого банка был Льюис Мичел — близкий друг Родса и будущий автор его двухтомной биографии.
Катерина металась как рыба, угодившая в сети, но ей и в голову не могло прийти, что ловушка была тщательно подготовлена. Кое-что стало понятным, когда к ней пожаловал человек Родса и предложил определенную сумму, достаточную, чтобы выкупить векселя, в обмен на бумаги, которыми она владела: письма Родса, документы и т. п. Катерина решила перехватить инициативу и сыграть на этом. Проще говоря, задумала шантажировать Родса.
Но не успела она обдумать план действий, как узнала, что Верховный суд приступил к разбирательству судебного иска Лоува против Сесиля Джона Родса и Катерины Марии Радзивилл, обвиняемых в попытке всучить ему поддельный вексель на сумму две тысячи фунтов. Ни один из обвиняемых в суд не явился. Была удовлетворена просьба представителя Родса отложить разбирательство. Но по требованию Лоува суд вынес предварительное осуждение княгини Радзивилл, которая как держательница векселя несла всю ответственность за своевременную выплату денег.
Катерине оставалось надеяться на чудо.
В этот момент к ней явилась жена доктора Шольца Агнеса и без обиняков заявила, что если княгиня согласится выдать имеющиеся у нее бумаги, то можно будет уладить все дело, включая вексель, переданный Бернарду.
Вот уж чего Катерина не хотела, так это лишиться своего последнего оружия защиты. А если ее надуют — бумаги возьмут, а дело не прекратят? Нет, решила она, и отослала эти бумаги в Англию. Похоже, готова была пережить самое худшее, но не отдавать их. Кажется, она начала понимать, что против нее выступают какие-то объединенные мощные силы и ей, несмотря на всю свою ловкость и изворотливость, не одолеть их. Катерина стала подумывать, не исчезнуть ли ей, иначе говоря, не бежать ли из Кейптауна. Как будто читая ее мысли, ей написал теперь уже сам Шольц письмо с предложением помочь покинуть страну. За это она должна была расплатиться все теми же письмами, которых так опасался Родс. Ей же гарантировали оплаченный билет в Европу плюс двадцать пять фунтов на личные расходы.
В это время в игру вступило новое лицо — сам верховный комиссар Милнер. Его вынудило к этому письмо Катерины. В нем она жаловалась на Родса, который будто готов признать свою подпись на векселях, если она передаст ему свою переписку с ним, Милнером. Скорее всего, это был очередной шантаж. Но Милнер клюнул на приманку и подослал своего человека с целью заполучить бумаги. Этим человеком был капитан Барнс Бегг, начальник секретного отдела военной полиции. Катерина вспоминала об этом визите. «Мы одни с вами в доме?» — спросил капитан. «Конечно», — отвечала она. «Мадам, — начал он, — английскому правительству известно о том, что вы располагаете документами, представляющими для него интерес. Я пришел сказать вам, что если вы их передадите мне, то мы добьемся для вас вполне приличного вознаграждения». Княгиня выразила свое возмущение и в резкой форме заявила о своем твердом отказе, как отказывала в этом прежде и Родсу. «В негодовании, — писала Катерина, — полицейский покинул мой дом». Стоит добавить, что она сообщила ему, будто интересующие его бумаги находятся не у нее, а у германского консула. Тем не менее через несколько дней передала Милнеру несколько писем, имеющих отношение к Родсу, и два документа, по ее словам, составленные им же. Все эти бумаги касались главным образом послевоенного устройства Южной Африки. Речь в них шла о предложениях Родса, сделанных им некоторым лидерам буров. Ничего компрометирующего в этих документах не было, как не содержалось и каких-либо секретов. Однако не случайно же Милнера так обеспокоило наличие у этой иностранной авантюристки каких-то его бумаг. Более того, заставило проявить такую заинтересованность к ним. Вероятно, в интриге, затеянной Катериной, было что-то пугающее его, как, впрочем, и Родса.
Между тем весь Кейптаун был взбудоражен слухами о схватке Родса и княгини Радзивилл. Газеты и журналы уделяли этому скандалу первые полосы, публиковали карикатуры, писали, что княгиня подделала векселей на 20 тысяч фунтов стерлингов, и призывали до конца расследовать это мошенничество.
Катерина, находившаяся под домашним арестом, заявляла донимавшим ее журналистам, что близка к безумию, грозила покончить с собой.
Дело Радзвилл
Не менее обеспокоен за свое реноме был и Родс, к тому времени возвратившийся из Шотландии в Лондон. Он принял решение немедленно отправиться в Кейптаун, чтобы лично пресечь разраставшийся, как снежный ком, скандал. Его отговаривали: погода на юге Африки в этот период была убийственной для его и без того больного сердца — стояло изнуряющее жаркое лето. Но Родс был неумолим. «Вопрос не в деньгах, — говорил он в оправдание своего намерения, — и никакой риск не заставит меня отказаться от желания отмыться от тех грязных пятен, которые связывают мою личность с этой женщиной». Он должен ехать, твердил Родс, чтобы защитить свою честь, а сделать это можно, лишь сорвав маску с княгини… Ясно, что Родс был информирован о том, что происходило в его отсутствие в Кейптауне. Его держали в курсе дела по крайней мере двое — Хоуксли и Мичел. Возникает мысль, что из своего далека он направлял действия против Катерины, добиваясь выдачи ею имеющихся у нее бумаг. Впрочем, это было сказано и на суде. «Мы действовали от имени Родса», — заявили замешанные в деле адвокаты, а также чета Шольцев. Было доказано, например, что миссис Шольц переписывалась в то время с Родсом. Выяснилось, что и Милнер по его указанию предпринял попытку через полицейского из секретного отдела добыть у княгини эти злосчастные бумаги. Но самым странным, если не загадочным, было участие во всем этом Бернарда и его клиента Лоува. Каким образом оба они появились на сцене? И тут вновь возникает вопрос о личности этого Лоува. В суде он не появился ни разу, его профессия не была ни разу названа, с княгиней он общался только через адвоката и вообще был таинственной фигурой. Лишь однажды адвокат упомянул его имя — Том, довольно распространенное в Южной Африке. На самом деле речь шла о «выдающемся члене парламента и гражданине полуострова Кейп» Томе Лоуве, выступившем, как ни странно, в роли заимодавца. Объяснить это можно только одним: Том Лоув был старым другом Сесиля Родса и преданным его сторонником и соратником. Они знали друг друга многие годы. Так что вполне можно предположить, что Лоув действовал по поручению своего старого друга Родса. И деньги за вексель на две тысячи фунтов были авансированы княгине самим Родсом. Пожелай Родс, все дело было бы ликвидировано в один миг. Сплетен и газетной шумихи он никогда не боялся. Видимо, опасался чего-то другого, надо думать, тех самых документов, которыми угрожала Катерина. Когда же стало ясно, что она не намерена с ними расставаться, решили вскрыть махинации этой женщины, представить ее как злостную мошенницу, ловко подделавшую подпись под векселями, скопировав ее с той самой большой фотографии Родса, которую в свое время купила. А это означало, что она могла подделать и любой другой документ, например письма, ради того, чтобы скомпрометировать свою жертву.
Разоблачить ее махинации, доказать, что она шантажирует его, Родс мог только на суде. Вот почему он решил отправиться в Кейптаун, несмотря на предостережение врачей. Как азартный игрок, он ставил на карту собственную жизнь только ради того, чтобы заставить замолчать эту зловредную «старуху княгиню», как презрительно он ее называл.
Пока Родс плыл в январе 1902 года в Кейптаун, Катерина не теряла времени даром. Она усиленно распространяла слухи о том, что готова представить на суде компрометирующие Родса документы. Ей удалось подогреть общественный интерес к предстоящему процессу. Все с нетерпением ожидали, что же содержат эти ее таинственные бумаги. Уж не окажется ли этот святоша и женоненавистник Родс сладострастным селадоном, а то и того хуже — развратником, и маска с него наконец будет сброшена.
Однако публика, собравшаяся в зале суда в начале февраля, была разочарована. Скандала не получилось. Родс достойно ответил на вопросы судьи, категорически отрицая причастность к фальшивым векселям, признав, впрочем, что подделаны они весьма искусно. Ничего не сказал он и такого, что позволило бы заподозрить его в близких отношениях с княгиней. Все с разочарованием убедились, что никакой романтической интриги не было, просто заурядная авантюристка пыталась различными способами соблазнить богатого холостяка.
Что касается переписки Родса с княгиней, то это случалось очень редко и письма не содержали ничего серьезного. Опровергнуть это заявление Катерина Радзивилл не могла, поскольку на суд не явилась и никаких компрометирующих бумаг в зале суда не фигурировало.
Зато Родс был вполне удовлетворен. Дело обернулось для него лучше, чем он предполагал. Главное было достигнуто — все документы, представленные княгиней Радзивилл и подписанные его именем, признали «абсолютными подделками». Теперь все зависело от Родса — подаст ли он в суд, обвиняя княгиню в совершении преступления. Родс предпочел не делать этого.
Казалось, и Катерина должна быть довольна — все обошлось и можно покинуть Кейптаун. Как ни странно, она избрала иное — продолжение борьбы. Явно ее снедало чувство мести. И первый удар она нанесла Шольцу.
В те дни, когда Катерина издавала свою газету, Шольц вел яростную клеветническую кампанию против некоего доктора Грегори, своего коллеги в Колониальном медицинском совете. Причем вел ее анонимно, публикуя во многих газетах свои материалы. Одну из его таких статей напечатала тогда и Катерина, сохранив оригинал. Теперь она отослала его в Совет. Доктора Шольца обвинили в «недостойном поведении», прогнали из Совета и вычеркнули его имя из Медицинского регистрационного журнала, лишив тем самым практики.
После этого Катерина ринулась в атаку на Родса, вновь угрожая разоблачить его с помощью все тех же «бумаг». Заодно потребовала выплатить ей две тысячи фунтов стерлингов за якобы выданный им и оплаченный ею вексель.
Проклиная эту несносную женщину, Родс вынужден был подать на нее в суд, обвинив в подлоге. Судья выписал ордер на арест Катерины Радзивилл.
Утром 26 февраля инспектор Джордж Истон из криминальной полиции — один из лучших сыщиков — прибыл в Калк Бэй, где на берегу океана с некоторых пор жила княгиня, и представил ей ордер, по которому она обвинялась в подлоге и фальсификации документов. «В некотором смысле я очень рада, — заявила она инспектору, — теперь будет возможность рассказать, откуда у меня появились все эти векселя…»
Катерину доставили в полицейский участок и после следствия, длившегося два дня, отпустили на поруки. Суд был назначен на пятницу, 28 февраля. Княгиня, элегантная, в широкополой розовой шляпе с черными страусовыми перьями, с гордым видом заняла свое место. Но тут выяснилось, что здоровье Родса не позволяет ему прибыть в суд. Было принято решение провести заседание у него на дому. Так Катерина вновь переступила порог Хрут-Скер, где так часто бывала прежде.
Родс давал показания полулежа на кушетке, он был очень бледен, тяжело дышал и постоянно кашлял. По всему было видно, что человек этот тяжело болен. Княгиня не спускала с него глаз, словно хотела загипнотизировать или, быть может, пробудить в нем чувство жалости, показать, что добился того, чего Хотел, — разбил ее судьбу. Вскоре Родс и вовсе покинул помещение, а княгиня отправилась домой и написала письмо врачу, который лечил Родса и которого она хорошо знала. Она просила передать Родсу, что прощает его и будет молиться за него днем и ночью. Но дошло ли это послание до Родса? «Если бы он получил его, — скажет она позже, — то этот несчастный колосс умер бы более счастливым». При этом Катерина умолчала о том, что стала в известной мере виновницей ухудшения его здоровья. Тем не менее ее жалость к этому больному человеку не была наигранной. Многие так и остались убежденными, что она очень любила Родса. Доктор, которому Катерина написала, считал, например, что она была сильно увлечена Родсом. То же самое заявлял и майор Гардинг ее знакомый: «Княгиня была влюблена в этого человека, и мне трудно поверить в то, что она собиралась его погубить».
Суд несколько раз откладывался, то из-за болезни Родса, то из-за плохого самочувствия Катерины. Наступил март, не принесший заметного улучшения в погоде. Здоровье Родса продолжало ухудшаться. Он уже не выходил из своего коттеджа на берегу океана, куда переехал, спасаясь от духоты в городе. Ни для кого не было секретом, что Родс умирает. Толпы людей собирались возле коттеджа, и никакая сила не могла заставить их уйти. Никто не обращал внимания на даму, одиноко стоявшую под самыми окнами коттеджа. Это была Катерина. Словно немой укор она много дней маячила возле дома, действуя на нервы хозяину и чуть ли не доводя его до истерики. Намеренно ли вела Катерина эту борьбу нервов, или ее влекло к коттеджу какое-то извращенное желание — неизвестно. Но несомненно, что такое ее поведение отрицательно сказывалось на здоровье Родса, все чаще страдавшего от сердечных приступов.
Наконец, после трех отсрочек, началось слушание «дела Радзивилл». Проходило оно в доме Катерины, так как она не могла из-за плохого самочувствия прибыть в здание суда. По свидетельству очевидца, княгиня была похожа на разъяренную тигрицу, пыталась симулировать обморок. Ей было предъявлено двадцать четыре обвинения в подлоге и мошенничестве. Защищаясь, она впутала в дело миссис Шольц, к тому времени овдовевшую. Будто бы она и передала Катерине векселя на имя Родса, чтобы использовать их для ее газеты «Великая Британия». При этом намекнула, что миссис Шольц была любовницей Родса.
Но никакие уловки не помогли. Присяжные признали Катерину Радзивилл виновной по всем статьям обвинения. Ее приговорили к двум годам тюрьмы.
Во время процесса пришло известие о смерти Родса — 26 марта 1902 года, в возрасте сорока восьми лет. Газеты сообщили об этом на первых полосах. По свидетельству его доктора, последние слова этого «самого уважаемого государственного деятеля Южной Африки, бывшего премьер-министра Капской колонии» были: «Так много еще надо совершить, и так мало сделано».
Он завещал похоронить себя в Родезии, в горах Матопо, где когда-то царь Соломон добывал свое золото, а Родс продолжил начатое им, став некоронованным королем нового Эльдорадо. Но, увы, цари и короли тоже смертны. Многие были убеждены, что он принял смерть, стараясь очистить свое имя от поношений дамы, которой предложил в свое время дружбу. Другие прямо говорили, что Родс стал жертвой любовной связи и, хотя никогда особенно не увлекался женским полом, был убит женщиной, оказавшейся к тому же авантюристкой. Впрочем, слово это — авантюрист — в равной мере можно отнести к ним обоим, к Катерине Радзивилл и Сесилю Родсу. Разница лишь в масштабе их действий.
Последняя авантюра
Из двух лет, определенных судом, Катерина просидела за решеткой шестнадцать месяцев, до августа 1903 года. Причиной ее досрочного освобождения было плохое состояние здоровья, усугубившееся известием, что в Петербурге в возрасте пятнадцати лет умер ее младший сын Михаил. Однако так просто покинуть Кейптаун (это было одним из условий ее освобождения) она отказывалась, потребовав каюту в первом классе до Англии и достаточную сумму денег, чтобы по прибытии жить в приличном отеле. И власти пошли на это, лишь бы избавиться от всем надоевшей и опасной дамы. Чуть ли не за руку ее препроводили на пароход и вручили обещанные деньги — в самый последний момент, когда вот-вот должен быть поднят якорь.
Вскоре Катерина объявилась в Петербурге. И первое, что сделала, — засела за воспоминания. Они появились в 1904 году. Одну главу она посвятила Родсу. Пока это был лишь набросок, из которого позже вырастет целая ее книга «Сесиль Родс». Тогда же прошел слух, что княгиня Радзивилл намерена возбудить процесс против попечителей Родса и предъявить иск за нанесенный ущерб в 400 тысяч фунтов стерлингов. Однако, судя по тому, что всю оставшуюся жизнь она нуждалась, ее иск скорее всего был плодом воображения газетчиков.
Два года спустя ей, правда, пришлось снова участвовать в судебном разбирательстве. На этот раз в Варшаве по делу о разводе с князем Вильгельмом. Им было разрешено раздельное жительство. Только после смерти князя Вильгельма, скончавшегося в Вене летом 1911 года, Катерина обрела свободу и смогла во второй раз выйти замуж. Ее мужем стал Карл Эмиль Колб-Дальвин, бизнесмен, проживавший в Стокгольме. Брак этот длился недолго и не сыграл в жизни Катерины какой-либо значительной роли.
Катерина продолжала жить в Петербурге, хотя восстановить свое положение при дворе не удалось, сказалась, видимо, давняя взаимная неприязнь ее и императрицы. Однако это не значит, что она перестала проявлять интерес к тому, что там происходило, особенно к закулисной стороне придворной жизни. Тогда всех занимала таинственная болезнь наследника престола юного Алексея. Всем было известно, что он часто лежал в постели, страдая тяжелым недугом. О том, чем он болен, ходила масса слухов, но толком ничего никто не знал. Это была вроде бы тайна. И вот Катерина, едва ли не первая, раскрыла ее — обнародовала, что мальчик страдает гемофилией, неизлечимой болезнью крови. Она написала об этом в своей книге «Тайны русского двора», изданной в 1913 году — юбилейном для дома Романовых, — под старым псевдонимом «Павел Васильев». В предисловии указывалось, что это посмертное издание. «Граф Васильев, — говорилось в нем, — умер за несколько месяцев до выхода своего сочинения». Но в Петербурге на этот счет не сомневались — здесь хорошо знали подлинного автора.
К Катерине Радзивилл наведалась полиция, и вскоре ее выслали из России. Она философски отнеслась к этому: «Разве это позор — подвергнуться остракизму со стороны русской полиции?»
Некоторое время Катерина жила в Стокгольме. Одна за другой выходят ее книги, подписанные псевдонимом или собственным именем. О содержании их говорят заголовки: «Интимная жизнь последней царицы», «Германия при трех императорах», «Австрийский двор изнутри», «Франция без вуали». Позже выйдут: «Упадок и крах России. Секретная история великого падения», «Николай II, последний из царей», «Распутин и русская революция».
Скорость изготовления этих сочинений поражала современников — чуть ли не по две книги в год!
Катерина жила еще в Стокгольме, когда началась Первая мировая война. Здесь к ней пришло известие, что под Лодзью убит ее любимый сын Николай. В том же году она опубликовала свои «Воспоминания за сорок лет», а два года спустя, уже переехав в Лондон, выпустила книгу о шведской королевской семье. В 1918 году появилось ее сочинение «Сесиль Родс: человек и создатель империи», сработанное, как и большинство ее книг, на скорую руку, путаное и уклончивое. «Те годы, что прошли после его смерти, — писала она, — доказали, что во многом о Родсе сложилось абсолютно неправильное представление. Он всегда был привлекательной, а иногда и просто любезной личностью; это был благородный характер, испорченный мелкими поступками; это был щедрый человек и не останавливающийся ни перед чем враг; яростный и несправедливый, когда что-то было ему не по вкусу, понимающий главным образом только личные, свои интересы, всегда безжалостный к тем, кого в чем-то обвинял. Он являл собой живую загадку, к которой никому так и не удалось подобрать ключи». Характеристика, не лишенная истины. О своих отношениях с Родсом и скандале с поддельными векселями она, естественно, умолчала, изобразив тем не менее себя невинной жертвой какого-то чудовищного заговора.
Но и в Англии она не задержалась, а объявилась спустя некоторое время в Америке. Здесь в декабре 1924 года опубликовала «Одиннадцать неизданных писем госпожи Ганской», адресованных якобы ее младшему брату — отцу Катерины. Публикация наделала немало шума. Многие готовы были уверовать в то, что письма подлинные, хотя оригиналы и не были представлены. По словам Катерины, у нее имелись лишь копии, а сами письма, как и весь семейный архив, были надежно спрятаны еще во время войны и в настоящее время недоступны. И, словно предвидя обвинение в подделке писем своей тетки, заранее пытаясь защититься, она писала: «Стиль этих писем может показаться искушенному читателю отличным от некоторых ранее опубликованных писем Евы де Бальзак, но надо учесть то обстоятельство, что в данном случае перед нами письма, запросто написанные сестрою родному брату». Опубликованный текст, уверяла она, в точности соответствует оригиналу и будет полностью напечатан вместе с другими материалами в 1957 году. Как писал Андре Моруа в приложении к своему роману о Бальзаке, Катерина Радзивилл позировала для потомства, которое в обещанном году так, однако, и не увидело никакой публикации.
Сегодня ни у кого нет сомнения, что письма эти — очередная подделка, вышедшая из-под ловкого пера княгини, — ее последняя авантюра.
Но на этом писательская деятельность Катерины не кончилась. В 1932 году появилась ее автобиографическая книга «Что произошло на самом деле». Это рассказ о жизни Катерины в Англии и США, о том, как, лишившись после революции в России всего своего состояния, она мыкалась в поисках работы, посещала биржу труда, но везде слышала одно: слишком стара и нет никакой профессии. Жила бедно, в комнатке многоквартирного дома в Нью-Йорке. Работала телефонисткой в конторе биржевого маклера, наконец стала зарабатывать как журналистка. Писала много и о чем угодно, особый интерес питая ко всякого рода загадочным и таинственным сюжетам. Те, кого встречала она в эти годы, вспоминают, что Катерина Радзивилл была полной женщиной небольшого роста, с чрезвычайно живыми и умными глазами, поражавшая своей острой наблюдательностью и смелыми суждениями. Но вот странный парадокс: всю жизнь занимаясь подлогами, мистифицируя, она взялась разоблачить «Протоколы Сионских мудрецов» — известную подделку, правда, убедительно доказать ей этого не удалось (это сделают позже).
В последние годы жизни Катерина Радзивилл перешла в католичество, чему сопротивлялась всю жизнь, стала американской гражданкой и очень гордилась этим. «Я стала американкой по зову сердца, — писала она, — и не могу себе представить, что можно жить еще где-нибудь».
В апреле 1941 года Катерину Радзивилл доставили в нью-йоркскую больницу Святой Клары с переломом шейки бедра. Несмотря на болезнь, лежа в постели, она писала статьи, посвященные событиям на фронтах второй мировой войны. Это было последнее, что она написала.
Графиня Катерина Ржевуская, княгиня Радзивилл, племянница Бальзака (по его жене), чья жизнь, по словам Андре Моруа, до странности похожа на бальзаковские романы, умерла 12 мая 1941 года в возрасте восьмидесяти четырех лет.
«МОРСКОЙ ВОЛК», ИЛИ ЛОРД-ИСКАТЕЛЬ ПРИКЛЮЧЕНИЙ
Совет Нельсона
Ему воздвигнуты два памятника. Один в камне, в Вестминстерском аббатстве — Пантеоне английских знаменитостей. В той части, что между органом и западным порталом, в центре нефа на мраморной гробнице можно прочитать: «Здесь покоится умерший на 85 году жизни Том Кокрейн, десятый лорд Дандональд, барон Кокрейн, Пейсли и Очилтри в пэрстве Шотландия, маркиз Мараньян в империи Бразилия, главнокомандующий и адмирал флота, снискавший себе великое имя своим благородством, знаниями и удивительной, поражающей всех отвагой, своим героическим вкладом в дело борьбы за свободу как в своей собственной стране, так и в Чили, Перу, Бразилии и Греции снискавший великое имя. Род. 14 декабря 1775 года, ум. 31 октября 1860 года».
Что касается второго памятника, то здесь надо обратиться к роману Фредерика Марриета «Питер Симпл». Знаменитый писатель-моряк создал своего капитана Саведжа по образу и подобию реального человека — Тома Кокрейна. Иначе говоря, прославленный мореход послужил прототипом литературного героя. Марриету тем легче это было сделать, что он не один месяц плавал вместе с капитаном Кокрейном, хорошо знал его и навсегда сохранил к нему уважение, не переставая восхищаться его подвигами. Впервые будущий писатель поднялся юнгой на палубу фрегата «Повелитель», которым командовал тридцатилетний Кокрейн, в 1806 году. Шла война с Францией. Корабль вышел в море на охоту за французскими судами. Четыре месяца боевых действий в Средиземном море принесли добычу — один бриг, катер и 50 купеческих судов.
Вернулся Марриет с тремя пулями в желудке, значительной суммой денег и горячим желанием вновь отправиться в плавание под командованием капитана Кокрейна: он стал кумиром молодого моряка. Спустя четверть века была напечатана его ода о капитане Саведже, в котором без труда все узнали портрет прославленного Кокрейна.
Имя Кокрейна занимает почетное место в списке английских флотоводцев рядом с именами Нельсона, Худа, Сент Винсента и других знаменитых капитанов. Наполеон назвал его «морским волком», а вице-король Перу, «сущим дьяволом», к тому же он стал последним англичанином, приговоренным к наказанию у позорного столба. Вряд ли существовал когда-либо еще один такой моряк, который вел бы непримиримую борьбу с врагами не только на море, но и со своим собственным Адмиралтейством. Всю жизнь он выступал против «истэблишмента». Этого ему не простили. Тем более что он был аристократом по рождению, потомственным моряком. Но что говорить — в нем сидел дух протеста, и это нередко приводило к конфликтам с начальством. Кроме того, его поступки отличались эксцентричностью, а в глазах досточтимых лордов из Адмиралтейства это выглядело вызовом, противоречило «правилам». Поначалу ему прощали. Да и как иначе, когда у него был истинный талант моряка. В 21 год он стал лейтенантом, в 25 — капитаном. Дерзкий и смелый в сражениях, этот искатель приключений стал кумиром простых англичан и, казалось, надеждой лордов из Адмиралтейства.
Неудобным, доставляющим одни только беспокойства и хлопоты Кокрейн стал с того момента, когда попытался выступить в роли изобретателя. В этом он шел по стопам отца — изобретателя-неудачника, предложения которого не находили практического применения. Кокрейн-младший предложил использовать смолу для пропитки ею днища судов. Каждому моряку было известно, как быстро дно судна приходит в негодность из-за морской воды и червей, разъедающих древесину. Но Адмиралтейство не поддержало молодого изобретателя, оставаясь верным своей репутации «кладбища новых идей». Тогда Кокрейн решил найти сторонников среди судостроителей. Познакомившись с его предложением, они откровенно рассмеялись: «Мы живем ремонтом, а черви — это наши лучшие друзья. Вместо того, чтобы пользоваться вашим методом сохранения днища, мы намажем его медом, чтобы привлечь этих славных червячков».
Как ни странно, неудача не обескуражила молодого изобретателя, и он еще не раз будет большей частью, правда, безуспешно, предлагать свои «выдумки» Адмиралтейству.
Упорный и упрямый, беспокойный и высокомерный, Кокрейн не мог нравиться начальству, но он не переставал одинаково бесстрашно бороться с врагами на море и продажными чинушами из Уайтхолла. Кокрейн родился спустя 17 лет после Нельсона, и ему довелось лишь однажды встретить великого флотоводца. Но морем заболел еще ребенком, когда как-то стащил из дома пару дорогих простыней и соорудил из них паруса. У родителя насчет сына были свои планы — отец, девятый лорд Дандональд, давно имел офицерский чин в пехотном полку и хотел, чтобы его отпрыск поступил именно в этот полк. Но тут вмешался дядя, капитан флота. Он тайно внес имя племянника в судовой журнал в качестве своего стюарта. Так юный Том Кокрейн стал гардемарином, хотя ни разу еще не видел своего судна. Такая практика тогда существовала, хотя официально и не поощрялась. Но вот настал, наконец, день — 27 июня 1793 года, когда молодой Кокрейн, сломив сопротивление отца, появился на палубе «Лани», небольшого корабля флота Его Величества. Видимо, именно в это время он встретил лорда Нельсона и услышал от него совет, которому следовал всю жизнь: никогда не избегать маневра, всегда нападать первым. Вскоре ему представилась возможность на деле воспользоваться этим советом.
Стычка с Адмиралтейством
После «Лани» Кокрейну доверили командование судном «Фетис», которое входило в эскадру адмирала Мюрреля.
Над Европой уже нависала тень Наполеона, успешно действовавшего против сардинцев и австрийцев в Италии. Только на море французам не везло. Нельсон оказался более удачливым в морских баталиях. Получил назначение на передовые рубежи морских операций и лейтенант Кокрейн. Его новый корабль «Быстрый» участвовал в блокаде порта Кадис, потом отправился к Мальте, где под британским командованием находился полк французских роялистов. Однажды его офицеры организовали бал-маскарад. Кокрейн купил билет и, нарядившись в шутку английским моряком, в грязной робе явился на бал. В дверях его задержали и не позволили войти в зал. Напрасно он убеждал, что на нем только маскарадный костюм, такой же, как любой другой, будь то наряд паши или турецкого пирата. Появившийся офицер — главный распорядитель бала, вытолкал его взашей за дверь. Это было слишком, и Том пустил в ход кулаки. Подоспевшие солдаты скрутили его и посадили под замок. Когда выяснилось, в чем дело и кто он есть на самом деле, от него потребовали извиниться перед офицером. Возмущенный Кокрейн заявил, что лорд никогда ни перед кем не извиняется! В результате последовал вызов на дуэль. Они стрелялись на следующий день. Пуля француза задела ребро Тома. Он же угодил противнику в бедро, не причинив большого вреда. Честь была спасена, сатисфакция состоялась, и они расстались друзьями.
«Быстрый» вновь отправился в море докучать французам и их испанским и итальянским союзникам. За тринадцать месяцев плавания «Быстрый» с экипажем из 6 офицеров и 84 матросов захватил около пятидесяти кораблей и послал на дно примерно столько же, пленив пятьсот матросов и добыв семьдесят пять тысяч фунтов стерлингов.
Но однажды судно постигла неудача. Его окружили три французских фрегата. «Быстрому» не удалось, несмотря на личное мужество и смелость экипажа, оторваться от противника. И тогда Кокрейну пришлось спустить флаг, после чего последовали церемониальные рыцарские жесты, которые в те времена еще были возможны. Капитан-победитель отказался принять шпагу Кокрейна, которую тот начал было отстегивать. Последовали слова: «Я не лишу шпаги офицера, который в течение долгих часов вел столь упорную борьбу. Прошу вас остаться при шпаге, хоть вы и являетесь моим пленником».
У лорда Кокрейна не было в общем-то оснований для стыда из-за постигшей его неудачи. Но лорды из Адмиралтейства думали по-иному. Его осудили за потерю судна. Правда, вскоре оправдали. Поводом к этому послужило письмо его дяди первому лорду Адмиралтейства Сент-Винсенту, в котором адмирал напомнил о блестящих победах своего племянника. В частности, о том, как был захвачен им крупнейший испанский фрегат «Эль Гомо». На борту грозного фрегата находилось тогда 319 матросов, у Кокрейна же — 54. Изобретательный на всевозможные хитрости, Кокрейн поднял на своем судне флаг США и, прежде чем обман обнаружили, «Эль Гомо» был взят на абордаж. Его матросы, вымазанные сажей, с саблями в зубах попрыгали на палубу испанского фрегата и завязали рукопашную схватку. Тем временем Кокрейн метким пушечным выстрелом сбил флаг на мачте противника. Решив, что командир сдался, испанцы прекратили сопротивление.
Было Кокрейну в то время двадцать шесть лет. После трех лет отсутствия он вернулся на родную землю, завоевав репутацию отчаянного смельчака и умелого морехода. Мог ли он предполагать, что здесь, на суше, ему придется вести битвы ничуть не менее опасные — за справедливость и торжество правды.
Первая битва Кокрейна с власть предержащими началась из-за его вполне законного требования повысить по службе лейтенанта Паркера с «Быстрого». Его письмо по этому поводу первому лорду Адмиралтейства осталось без ответа. Лорд Сент-Винсент — глава этого морского ведомства, мягко говоря, не симпатизировал Кокрейну, считал его выскочкой, заносчивым и наглым. Не ответил он и на второе письмо. Только после третьего снизошел до ответа. Да и то сообщил лишь, что повышение не может состояться из-за числа убитых (хотя и незначительного) на борту «Быстрого». Том Кокрейн вознегодовал: «Выходит, повышение по службе зависит от числа убитых на борту?!» И не нашел ничего лучше, как напомнить лорду, что в битве при Сент-Винсенте его флагманское судно почти не принимало участие в боевых действиях и все же адмирал получил титул лорда, а всех членов экипажа повысили по службе. Хотя это была правда, едва ли стоило напоминать об этом самолюбивому и злопамятному первому лорду Адмиралтейства. Тем более тогда поговаривали, что победа при Сент-Винсенте была одержана командором Нельсоном, а не хитрецом адмиралом.
Надо ли удивляться, что первый лорд не соизволил ответить на этот выпад! Тогда Кокрейн сообщил обовсем Совету Адмиралтейства, чем еще больше усугубил отношения с начальством.
Попутно скажу, что спустя несколько лет, когда лейтенант Паркер оставил флот, Адмиралтейство под напором непрекращающихся попыток Кокрейна добиться справедливости сыграло с несчастным офицером злую шутку. Его назначили капитаном несуществующего судна «Радуга» в районе о. Барбадос. Офицер совершил путешествие на край света и был полностью разорен.
Неугомонный Кокрейн тем временем затеял еще одно дело.
Путь в парламент
Тщеславие не давало ему покоя. Хотелось совершить что-то великое, вписать свое имя в историю.
Он знал множество фактов, которые, став достоянием общественности, вызвали бы в стране настоящую бурю. Достаточно рассказать хотя бы о том, как надувают морских офицеров, лишая их большей части добычи с захваченных ими кораблей противника. Или о том, что повышение по службе зависит не от подлинных заслуг, а от связей и политических симпатий. Горе тому, чьи политические взгляды расходятся со взглядами первого лорда Адмиралтейства! Контракты для строительства новых судов, поставки солонины и канатов — все это попадало в руки его политических сторонников. Одни без меры обогащались, другие — личный состав флота — влачили жалкое существование. Когда кого-либо из них списывали на берег, то он не получал никакой пенсии или вознаграждения. И многие бывшие моряки были вынуждены просить милостыню.
Но чем мог помочь им Том Кокрейн? Бороться с безобразиями и беспорядком на флоте надо через парламент, — решает он. Получив там трибуну, он всколыхнет общественное мнение. Но место в парламенте покупалось за деньги (сами ж его члены трудились без какого-либо денежного вознаграждения). Итак, правят деньги! Однако и этого мало. Чтобы выступать с зажигательными речами, необходимо образование. И Том Кокрейн отправляется в Эдинбург и поступает в университет.
Не прошло, правда, и года как пришлось оставить учебу. Вновь вспыхнувшая война с Францией призвала на службу во флот. Его назначили капитаном какой-то развалюхи — бывшего французского вспомогательного судна. Было предписано патрулировать побережье в районе Булони. И тут ему повезло. Удалось захватить крупное испанское судно с грузом золота, следовавшее из американских владений. Доля капитана сделала его богатым. Не настолько, насколько, возможно, ему хотелось, но во всяком случае он мог не думать о хлебе насущном. Да и путь в парламент с такими деньгами был открыт.
Случилось так, что когда его судно стояло на якоре в Плимуте, неподалеку, в округе Ханитон графства Девон, проходили выборы в парламент. Кокрейн решил попытать счастья и выставил свою кандидатуру. Но он действовал честно: не стал выплачивать своим избирателям по пяти фунтов стерлингов каждому. Его противник был менее щепетилен. Что же касается избирателей, то они заботились отнюдь не о том, кто станет их депутатом, а лишь о том, кто лучше заплатит, действуя по принципу: «Не спрашивайте за кого я голосую. Я всегда отдаю голос за мистера Кто Больше Даст!» Кокрейн не заплатил и фартинга. Ведь он намеревался бороться с коррупцией и продажностью. Мог ли он начинать карьеру политика с подкупа и взятки?
Справедливости ради надо сказать, что часть избирателей все же проголосовала за него. Каково же было их удивление, когда после выборов он подарил каждому из них по десять гиней! Все решили, что он сошел с ума. Но лорд Кокрейн был далеко не сумасшедший, он точно рассчитал свои действия и был уверен, что не напрасно потратил денежки. Нужно только ждать подходящего момента. И он представился через год.
Летом следующего года его судно встало на ремонт в доке Плимута. Свободное время Кокрейн решил посвятить новой выборной кампании в том же округе.
В один прекрасный день он прибыл в Хонитон в карете с шестеркой белых лошадей. За ним следовал кортеж из экипажей, запряженных четверками вороных коней, это были офицеры и матросы с его корабля. Суть затеи объяснялась довольно просто: пустить пыль в глаза избирателей, показать, что он человек состоятельный. Увидев роскошные кареты, те решили, что если тогда, когда его не избрали, он роздал по десять гиней каждому, кто за него голосовал, то сколько же заплатит он сейчас, если его изберут? После того как Кокрейн одержал победу, у его двери выстроилась очередь за вознаграждением. Каково же было возмущение избирателей, когда лорд заявил, что не даст ни фартинга: они лишь исполнили свой долг, и он не обязан им платить! Да еще: он-то считал их честными и порядочными! Ярость душила их, но что могли они поделать? Никто не обладал монополией на хитрости, а «морской волк» Кокрейн был в них большой мастер. Единственное, на что он согласился, это дать ужин в честь своих избирателей. Надо, однако, сказать, что шутка с выборами подготовила западню и для самого Кокрейна. Узнав о бесплатном угощении, избиратели созвали своих родственников и друзей со всей округи, и ужин, рассчитанный на несколько десятков человек, превратился в лукуллов пир, который обошелся в астрономическую по тем временам сумму — 1200 фунтов стерлингов!
Итак, лорд Кокрейн стал членом парламента. Отныне он мог говорить с чиновниками из Адмиралтейства на официальном языке, а не как обыкновенный проситель.
«Морской волк»
С чего он начал? Потребовал повышения по службе для двух своих лейтенантов, угрожая в случае отказа разоблачением.
Его просьбу уважили, не преминув, однако, напомнить, что прежде всего он морской офицер, а потом уже член парламента. А посему ему предписали отправиться к побережью Франции, отложив на время свои реформаторские идеи. На море, по мнению Адмиралтейства, он наилучшим образом проявит себя.
Год спустя, когда он возвратился в Плимут и, взяв отпуск, отправился заседать в парламент, его постигла неудача. Парламент был распущен, и предстояли новые выборы. Рассчитывать на успех в этот раз он не мог. Избиратели не простили ему обиды! А кроме того, он зарекомендовал себя неподкупным депутатом, отказывавшимся хлопотать за сынков и племянников местной знати и выискивать им тепленькие местечки в Лондоне.
И вот тогда-то Кокрейн принял поистине достойное лорда решение: он отправится на родину самого парламента, в город Вестминстер, и будет там баллотироваться. Его нисколько не заботил тот факт, что четыре других кандидата были уже там названы и ему придется бороться с самым искусным противником в округе — человеком по имени Ричард Бринсли Шеридан, великим политиком, замечательным оратором и автором популярных пьес «Соперники» и «Школа злословия».
Когда друзья высказали сомнение в успехе его кампании, он ответил, как и подобало лорду Кокрейну: он готов противостоять любому противнику как на море, так и на суше. И оказался прав — вышел победителем.
И вновь загремели его речи под сводами парламента, призывы бороться с коррупцией, расследовать махинации, к которым прибегали министры и члены двух главных партий, чтобы получить выгодные места. И конечно же он говорил о нарушениях в морской службе. О том, как в море выходят не подготовленные должным образом корабли, какому риску подвергаются моряки из-за продажности интендантства, о чудовищном воровстве в доках и военно-морских госпиталях, о надувательстве моряков при распределении добычи с захваченных вражеских кораблей.
Те, кого разоблачал лорд Кокрейн, задыхались от гнева, называли его радикалом, анархистом, революционером и искали способы заставить его замолчать. Будь он менее важной персоной, не членом парламента, не родовитым лордом, они бы упрятали его в тюрьму — в те времена запросто сажали за решетку тех, кто осмеливался поднять голос в защиту правды. И все же способ был найден — старый, ранее уже испытанный. Кокрейну предложили отправиться в море. Они знали куда метить — ведь Кокрейн в душе оставался моряком. Парламент или море? Он выбрал то, что для него больше значило — море. Но тут произошло непредвиденное. Избиратели отказались принять его отставку и предоставили ему бессрочный отпуск, как члену парламента.
К тому времени возобновилась война на Средиземном море. Наполеон контролировал чуть ли не всю Европу, лишь Адриатика и Королевство двух Сицилий оставались относительно свободными. В начале следующего года Наполеон направил в Испанию стотысячный отряд, но неожиданно там вспыхнуло восстание, на полуострове началась война.
Операции в Средиземном море приобретали исключительное значение, если учесть, что Наполеон подбирал ключи к Востоку.
Капитан Кокрейн получил приказ отправиться в район Кадиса, патрулировать испанское побережье. В августе совершенно неожиданно его «Повелитель» появился в бухте Марселя, вызвав страшную панику. Матросы Кокрейна высадились на берег и разрушили знаменитые семафорные станции, установленные Наполеоном и передававшие важные сообщения из Марселя прямо в Париж в течение какого-то часа.
Сражения на море следовали одно за другим и в большинстве успешно для Кокрейна. Даже командующий английскими кораблями адмирал Коллингвуд не удержался от похвал в адрес Кокрейна: «Ничто не может сравниться с той настойчивостью, с которой лорд Кокрейн преследует и уничтожает противника. Он держит в постоянном страхе побережье, и, несомненно благодаря его действиям отпала необходимость послать свежие подкрепления в Испанию».
Это была чистая правда. Кокрейн сделал слишком много. Тем печальнее, что не последовало ни вознаграждения, ни повышения по службе. Он не услышал от Адмиралтейства ни одного слова одобрения, ни одной похвалы. Его прошения о повышении в чине отличившихся офицеров оставались без внимания. Газеты молчали о его подвигах, как будто капитана Кокрейна не существовало. Зато во Франции его имя гремело, наводя страх и смятение. Даже сам Наполеон оказал ему честь, присвоив титул «морского волка».
Орден Бани
В начале 1809 года лорда Кокрейна отозвали домой, но он не предполагал, что его ожидает. Чтобы поднять свой авторитет в глазах общественности Адмиралтейство задумало одну акцию. Решило одним махом уничтожить значительную часть кораблей французского флота, скопившихся в гавани Рошфор. Сделать это можно было только одним способом, направив в гавань, где под охраной береговой артиллерии укрылись французские корабли, специальные суда, так называемые брандеры, начиненные порохом и управляемые добровольцами. Предприятие было слишком опасным, требовался умный и способный моряк, который сумел бы его успешно осуществить. При неудаче вся ответственность легла бы на него. Короче говоря, он стал бы козлом отпущения.
Выполнить это задание предложили Кокрейну. Подумав, он согласился, но с одним условием: командующий флотом Гамье не будет вмешиваться в его действия. Такое обещание, правда на словах, он получил. Это позволило командующему отказать в поддержке Кокрейну, когда это потребовалось. И несмотря на личный героизм адмирала, находившегося на одном из брандеров, операция в целом не удалась, хотя и было потоплено несколько французских судов.
К своему удивлению, вернувшись в Лондон, Кокрейн узнал, что Адмиралтейство признало операцию успешной и что ему пожалован Орден Бани. Вскоре стала ясна причина этой «щедрости». Главные лавры достались командующему, тому самому, кто отказал в помощи Кокрейну, можно сказать, в самый критический момент. Благодарность тому, кто несет полную ответственность за провал операции? Возмущенный Кокрейн заявил в Адмиралтействе, что выступит с разоблачением. Однако командующий флотом Гамье подобрал брошенную ему перчатку. Но дальше действовал далеко не по-джентльменски. И когда Кокрейн потребовал разбирательства в парламенте, дело обернулось против него. Над ним учинили настоящий военный суд, где показания давали сослуживцы и друзья Гамье, а то и просто лжесвидетели.
Лорд Кокрейн эту схватку на суше проиграл, а адмирал Гамье получил благодарность. Жаль, что на суде не присутствовал главный свидетель, который мог бы выступить на стороне Кокрейна, — Наполеон. Спустя несколько лет, уже будучи на острове Святой Елены, он признает, что «если бы Кокрейну тогда оказали необходимую поддержку, он не только мог бы потопить все наши суда, но и захватить их и вывести из бухты. Наш адмирал оказался дураком, но и англичанин (т. е. Гамье — Р.Б.) не был лучше».
Адмиралтейство приняло решение отказаться от услуг капитана Кокрейна в королевском флоте сроком на тридцать девять лет. Это означало конец его морской карьеры. Впрочем, не в правилах капитана было сдаваться…
Унизительное наказание
Между тем избиратели вновь помогли ему возвратиться на свое место в парламенте. Для многих из них он по-прежнему оставался лидером смутных надежд. Иные продолжали считать его опасным радикалом — возмутителем спокойствия.
Но Кокрейн окунулся в другую, более приятную жизнь без свиста ядер и пуль, судебных интриг и борьбы с сильными мира сего. Отважный капитан влюбился в шестнадцатилетнюю Китти Барно, девушку без приданого, и женился на ней, несмотря на протест своего бездетного богача-дядюшки, который лишил его наследства.
Китти была представлена высшему лондонскому свету как леди Кокрейн, будущая графиня Дандональд.
Другой его дядя капитан Джонсон Кокрейн воспринял женитьбу племянника на простолюдинке более легко. Он даже пригласил его на обед. За столом в этот день Том Кокрейн встретился с неким Де Беренгером. Через несколько дней тот явился к нему с просьбой одолжить шляпу и плащ, так как с ним, мол, произошло несчастье и его преследуют за неуплату долгов. Доверчивый Кокрейн исполнил просьбу. А еще несколько дней спустя выяснилось, что Де Беренгер замешан в грандиозной афере с биржевыми акциями. Невольно причастным к ней оказался и лорд: ничего не подозревая, он сорвал солидный куш. За поимку Де Беренгера было объявлено вознаграждение в 250 гиней. Скандал разрастался как снежный ком. Те, кто потеряли на незаконной спекуляции, потребовали привлечь и других виновных. В их числе фигурировало и имя Кокрейна. Его привлекли к суду, и вердикт был вынесен более чем суровый.
Лорда Кокрейна приговорили (вместе с Де Беренгером и другими спекулянтами) к выплате тысячи фунтов штрафа (громадные деньги по тем временам!), к году тюрьмы и стоянию у позорного столба напротив фондовой биржи. Более унизительного наказания трудно было вообразить. Против лорда проголосовало и большинство членов парламента, изгнав из своих рядов. Имя его было вычеркнуто из списков морского ведомства, а его знамя извлечено из алтаря рыцарей Бани и сброшено с паперти церкви короля Генриха VII.
В этот драматический момент жизни опального адмирала неожиданно маятник качнулся в обратном направлении. Избиратели вновь поддержали его, возвратив на законное место в парламенте, продемонстрировав тем самым свое доверие. Он все еще оставался героем толпы, что бы о нем ни говорили его политические противники. Спохватившись, власти отменили наказание у позорного столба (с тех пор оно было вообще отменено навсегда), что, однако, не освободило лорда от заключения. Целую зиму он провел в тюрьме Маршалси. К весне у него созрела мысль о побеге. И он бежал. Верный слуга передал ему веревку, по которой Кокрейн спустился из окна и, наняв кэб, спокойно отправился в дом своих родственников.
Шум в городе поднялся страшный, будто сбежал сам Наполеон с острова Эльбы. Объявили вознаграждение тому, кто найдет и доставит обратно в тюрьму беглого лорда. Между тем он и не думал скрываться. Как ни в чем не бывало появился в палате общин, вызвав полное оцепенение присутствующих. Прийдя в себя, спикер вызвал констеблей, и Кокрейн был вновь арестован. Его снова поместили в Маршалси, причем в сырую камеру.
Здоровье узника стало быстро ухудшаться. И тогда он сдался, согласившись уплатить штраф. На тысячефунтовой банкноте написал: «Ввиду того что я давно страдаю от одиночного тюремного заключения, а мои угнетатели полны решимости лишить меня либо моей собственности, либо самой жизни, то я повинуюсь грабежу, дабы защитить себя от убийства, надеясь, что доживу до того момента, когда мне удастся поставить этих правонарушителей перед лицом закона».
Эта банкнота долгое время оставалась одним из самых любопытных курьезов в истории Банка Англии, где ее показывали посетителям.
Выйдя на свободу, неугомонный и непокорный лорд вновь повел борьбу против британского общества, особенно нападая на юридическую систему, продажных судей и подкупленных присяжных, теперь уже опираясь и на свой личный горький опыт. Чтобы заткнуть ему рот, ему предъявили новое обвинение. В этот раз его должны были судить за то, что он убежал из тюрьмы, не отбыв своего первого заключения. Приговор гласил — штраф сто фунтов. Кокрейн вновь отказался платить. И снова его упрятали в прежнюю камеру. Вот тут-то и сказалась популярность его в народе. Бедняки-избиратели стали собирать свои жалкие пенни, чтобы внести за него штраф. Суммы, собранной ими, — более тысячи фунтов — с лихвой хватило, чтобы уплатить новый штраф и компенсировать первый. Избиратели заверили Кокрейна, что верят в его невиновность и что вся судебная одиссея не что иное, как расплата с ним за разоблачение махинаций и интриг, особенно морского ведомства. Однако это не помогло адмиралу вернуться на флот. Тем более что наступили мирные дни после долгих лет непрерывных войн: Наполеон был сокрушен, и надобность в огромном флоте отпала. Суда консервировались, экипажи списывались на берег.
В этот неблагоприятный момент неожиданно свежий ветер издалека задул в его паруса. Ему представилась возможность, о которой он мог только мечтать, — стать командующим целого флота!
Главнокомандующий
Из далекого Чили в Лондон прибыл представитель этой страны, борющейся за независимость от испанского господства. Там рассчитывали, что известный своим свободолюбием адмирал не откажет и «станет на сторону угнетенных и несчастных». Предложение было крайне соблазнительным. Вновь выйти в море, возглавить флот борющейся страны, проявить свой гений флотоводца. Он, не раздумывая, согласился.
Перед отъездом Кокрейн произнес свою последнюю речь в палате общин. Он сказал: «Я не стану отнимать у вас много времени. Тому положению, которым я пользовался в течение одиннадцати лет здесь, в палате общин, я обязан целиком избирателям. Мои самые сердечные чувства я испытываю к тому, как они вели себя по отношению ко мне. Они спасли меня от злого заговора, который чуть не привел меня к окончательной погибели. Я прощаю тем, кто выступал против меня, и надеюсь, что они так же простят себя, нисходя в могилы…»
Ему было в это время сорок два года и он находился в рассвете сил. Теперь он решил круто повернуть руль.
В ноябре 1818 года, после почти четырехмесячного плавания, лорд Кокрейн со своей женой и двумя сыновьями на торговом судне «Роза», благополучно обойдя мыс Горн, прибыл в Вальпараисо.
В порту его приветствовал залпом 50-пушечный, только что захваченный у испанцев фрегат «Мария Изабелла», переименованный в «О’Хиггинс» — по имени генерала, борющегося за свободу Чили. Спустя несколько дней Кокрейн поднял на этом судне флаг главнокомандующего военно-морскими силами Республики. А еще через несколько дней он вышел в море и взял курс к берегам Перу. Там, в порту города Кальяо, сосредоточился весь испанский флот. Кокрейн поставил перед собой дерзкую задачу — либо захватить корабли испанцев, либо пустить их на дно. Кроме «О’Хиггинса», в эскадру входили 44-пушечный «Лаутару», 56-пушечный «Сан-Мартин» и 20-пушечный «Чакабуко». На борту флагманского корабля находилось шестьсот матросов и пехотинцев. Испанский флот, укрывшийся в бухте, по огневой мощи превосходил чилийскую эскадру. Кроме того, его надежно охраняли береговые батареи.
Несколько попыток Кокрейна ворваться в бухту не дали результата. Тогда он решил проникнуть туда под американским флагом, прикинуться нейтралом, а затем атаковать. Густой туман помешал операции. Нужно было ждать нового случая. Тем временем испанцы срочно укрепляли мол, устанавливали дополнительные батареи, сооружали заграждения из бревен и цепей, короче говоря, готовились к длительной осаде. Было ясно, что они и не думают открыто сразиться — слава Кокрейна как искусного адмирала была им известна.
Блокада длилась не один месяц. За это время потребовалось отремонтировать корабли и пополнить запасы — от канатов до питьевой воды. Кокрейн решил вернуться в Вальпараисо.
Сделав необходимые запасы, отремонтировав корабли и увеличив состав эскадры еще на один 20-пушечный корвет «Индепенденсия», Кокрейн снова вышел в море. Его видели то к северу от Кальяо, то далеко на юге, около Вальдивии, где у испанцев находилась главная военная база, откуда они осуществляли нападения на Чили. В Гуякиле он осаждал загнанный в бухту большой испанский флот. Но все это были незначительные операции, а ему нужна была большая победа. Вернуться в Вальпараисо без нее он не мог — это равнялось бы поражению.
И тогда Кокрейн решил прибегнуть к излюбленному своему трюку.
В один прекрасный день на рейде Вальдивии появился корабль с испанским флагом и подал сигнал: «Требую лоцмана». На самом деле это был фрегат «О’Хиггинс». Хитрость удалась, испанцы прислали лоцмана. Арестовав его и сопровождавших офицеров, адмирал потребовал указать проходы в бухте. Лоцман долго не соглашался, тянул время. Когда же наконец согласился, было уже поздно — испанцы, разгадав маневр противника, открыли огонь. Пришлось отступать и разрабатывать новый план. Было очевидно, что только внезапность поможет овладеть фортами на берегу и открыть путь кораблям в бухту.
Кокрейн отобрал триста солдат, посадил их в три лодки — два баркаса и гичку — и во главе этого десанта ринулся прямо на ближайший форт. Внезапность и быстрота принесли желанный успех. Без шума овладев первым фортом, Кокрейн под покровом ночи захватил второй. Когда чилийцы дали залп, извещая свои корабли, что ждут поддержки, среди испанцев началась паника, и весь гарнизон следующего форта бежал. Залпы вошедшего в бухту флагмана довершили дело. Вальдивия капитулировала. Кокрейн мог с чистой совестью вернуться в Вальпараисо, он исполнил свой долг. Захват Вальдивии, по сути дела, означал конец испанского владычества в Чили.
Сорвиголова
На повестке дня стояло освобождение Перу. Здесь в столице Лиме и порте Кальяо все еще хозяйничали испанцы и правил вице-король, угрожая завоеваниям чилийцев.
Порт Кальяо обороняли около четырехсот орудийных стволов, заграждения из железных цепей, в гавани находилось несколько крупных военных судов во главе с флагманом испанского флота 44-пушечным фрегатом «Эсмеральда».
Экспедиция готовилась тщательно, предстояло действовать совместно с наземными сухопутными войсками.
На семи кораблях разместились четыре тысячи человек. Командование предполагалось совместное — лорд Кокрейн и генерал Сан-Мартин. Это сразу же создало определенные трудности — оба отличались своенравием и нежеланием считаться друг с другом.
Высадив по приказу генерала часть солдат к югу от Кальяо, адмирал вернулся к порту, намереваясь блокировать его и тем самым поддержать войска, действовавшие на суше.
Однако Кокрейн предпринял нечто более решительное, чем блокада. Отобрав добровольцев из матросов и солдат, он переодел их в испанскую военную форму. Каждый получил пистолет, абордажную саблю и приказ громко кричать «Да здравствует король!».
Затем Кокрейн всех посадил в семнадцать лодок, сам сел в первую, и вся эта флотилия, бесшумно скользя по волнам, направилась к гавани.
Отыскав в железных заграждениях проход для лодок и сняв часового, подошли к «Эсмеральде». Первым на борт взобрался сам адмирал, увлекая своим примером остальных. К несчастью, он получил удар мушкетом и, упав обратно в лодку, напоролся на уключину, которая прошила поясницу. Сжав зубы, он все же попытался вновь взобраться на корабль, но тут пуля поразила его в бедро. Перевязав наскоро рану, лорд «сорви-голова» бросился в гущу сражавшихся. Через пятнадцать минут все было кончено. Испанский экипаж, захваченный врасплох, не смог оказать серьезного сопротивления. Гордая «Эсмеральда» была в руках Кокрейна.
Между тем, испанцы, поняв, что флагман для них потерян, открыли по нему ураганный огонь. Чтобы спасти корабль, Кокрейн, по своему обычаю, прибег к хитрости. Он знал, что в гавани стоят два судна — американское и английское, подававшие сигналы о своем нейтралитете. Адмирал приказал подавать те же сигнальные огни. В темноте испанцы перестали различать кто есть кто и прекратили огонь. Оставалось вывести прекрасную «Эсмеральду». Однако сделать это самому Кокрейну не пришлось. От потери крови он лишился сознания. Исполнил маневр капитан «Лаутаро».
На «Эсмеральде» в качестве пленных находился испанский адмирал, все его высшие офицеры и две сотни хорошо обученных моряков, можно сказать, цвет испанского флота на Тихом океане. Оправиться от такого удара Испания никогда уже не смогла.
Весной 1821 года освобождение Перу от испанцев близилось к завершению.
Оправившись от ранения, Кокрейн продолжал принимать активное участие в сражениях, захватывал суда, атаковал города, поддерживал с моря действия сухопутных частей. Его корабли вошли в бухту Кальяо. Отсюда оставалось вверх по реке восемь миль до Лимы. Он прибыл сюда, чтобы получить благодарность от освобожденных жителей столицы. Затем присутствовал на церемонии провозглашения Перу независимой республикой, после чего вернулся в Чили. Однако задерживаться здесь он не собирался. Его ждали новые приключения.
Перед тем, как покинуть Чили, он обратился с посланием к народу, завещал охранять свою независимость, отказаться от распрей и анархии — «это самое страшное из всех зол». И закончил такими словами: «Вы хорошо знаете, что цена независимости заключена на кончике штыка. Вы знаете также, что свобода основывается на вере в доброту и на законах чести, а те, кто посягает на все это, и есть ваши единственные враги, среди которых никогда не будет имени Кокрейна…»
Куда же намеревался отправиться неугомонный моряк? Кому решил отдать свой талант морехода?
Благодарность императора
На этот раз он взял курс к берегам Бразилии. Сам император Педро пригласил его принять участие в той борьбе, которую вела его страна против Португалии. «Вас кличет свобода», — писал он Кокрейну. И тот поспешил откликнуться. Ситуация в Бразилии, в отличие от Чили, была иной. Только что она сбросила ярмо португальской короны, объявила о независимости и избрала не президента, а своего собственного императора. «Но может ли быть борцом за свободу император?» — думал озадаченный Кокрейн. Такова, однако, была воля народа, решившего отстоять свою молодую независимость от португальцев, пытавшихся вернуть былое владычество.
В начале марта 1923 года Кокрейн прибыл в Рио-де-Жанейро вместе с несколькими английскими морскими офицерами, служившими под его командованием в Чили.
В тот момент положение в Бразилии было таково: южные провинции выразили свою лояльность новому режиму, а северные находились под полным контролем португальских военных гарнизонов, сохранявших верность Лисабону.
Таким образом власть на море становилась решающим фактором. Но у Бразилии имелось всего несколько кораблей и не было опытных моряков. Поэтому, когда Кокрейна назначили главнокомандующим флота, то это лишь звучало громко. На деле под его командование передали всего восемь судов, из которых только два оказались пригодными для ведения военных действий, — небольшой линейный корабль «Педро Примейро», ставший флагманом Кокрейна, и фрегат «Пиранга». Что касается экипажа, то по его словам, все это были бродяги.
Тем не менее Кокрейну и прибывшим с ним офицерам удалось навести кое-какой порядок на флоте, укрепить дисциплину. И уже в апреле эскадра вышла в море, взяв курс на север, к штату Баийя. Там в бухте находился португальский флот, значительно превосходивший силы, которыми располагал Кокрейн. Но громкая его слава вынуждала остерегаться встречи с ним в открытом сражении.
Скоро португальцы убедились в том, что Кокрейн не склонен играть с ними в бирюльки. Однажды ночью он предпринял дерзкую вылазку вверх по реке Парана, где в семи милях от устья португальские корабли чувствовали себя в полной безопасности под прикрытием мощных береговых орудий. Этот маневр Кокрейна считается образцом морского судовождения. Под покровом темноты, когда португальские офицеры беззаботно веселились на балу, суда Кокрейна подошли к неприятелю, готовые к атаке. Вдруг внезапно упал ветер, обмякли паруса. Пришлось срочно поворачивать обратно, чтобы не попасть под огонь береговых орудий. Только это спасло португальцев от разгрома. Теперь они поняли, что спокойной жизни им больше не видать.
Кокрейн тем временем решил переменить тактику — выманить португальцев из их логова, заставить покинуть свое укрытие. Он вновь прибег к своему излюбленному способу. Распространил слух, что собирается атаковать их брандерами, то есть начиненными взрывчаткой вспомогательными судами. Причем позаботился, чтобы слух этот наверняка дошел до противника. И тот клюнул на приманку. Тем более что перевес был явно на стороне португальцев: тринадцать отлично оснащенных судов с хорошо обученными матросами против двух или трех кораблей Кокрейна.
Осмелев, португальцы покинули свое убежище и устремились в открытое море. Вместе с боевыми кораблями и под их прикрытием шел целый караван транспортных судов. Кокрейн милостиво пропустил всех. Затем начал с конца отсекать по одному судну. К утру, когда португальцы заметили, как общипали им хвост, их разъяренный адмирал двинул все свои тринадцать мощных кораблей против «Педро Примейро». Однако Кокрейн с помощью искусного маневра избежал опасности, и противнику ничего не оставалось, как продолжать плыть вперед. В результате многодневного плавания у португальцев под конвоем осталось не более тридцати судов. Половина транспортного каравана была пленена. Могуществу противника в Южной Атлантике был нанесен ощутимый удар.
После этого Кокрейн отправился в устье реки Мараньян, где располагался мощный гарнизон португальцев, держа под контролем целую провинцию. Но атаковать в лоб форт и укрывшиеся за молом корабли было безумием. Кокрейн приказал поднять португальский флаг. Противник, обрадовавшись, что наконец пришла помощь, отправил навстречу соотечественникам военный бриг с поздравлениями и донесениями. Так в руки Кокрейна попали португальские планы, а с ними вместе и капитан судна. Но игра не была закончена. Капитану брига продемонстрировали всю мощь флагмана, заявив, что сильный бразильский флот вот-вот подойдет и тогда заговорят пушки. Затем капитана отпустили, передав ему письмо для португальского командования с предложением капитулировать. На следующий день на борту «Педро Примейро» капитуляция была подписана. Кокрейн стал полновластным хозяином провинции Мараньян.
Во власти португальцев все еще оставалась провинция Пара, лежащая в устье Амазонки. Недолго думая, Кокрейн направил туда свои корабли и вскоре и здесь добился успеха.
Это означало по сути конец войны Бразилии за независимость. Она была выиграна едва ли не одним человеком и одним единственным кораблем. При этом не был потерян ни один матрос.
В Рио-де-Жанейро Кокрейна ждал настоящий триумф. Сам император поднялся на его корабль, чтобы принести благодарность отважному адмиралу от имени всей нации. Его наградили титулом маркиза Мараньяна и орденом Крузейро
С греками каши не сваришь
Года два после этого Кокрейн оставался в Бразилии. С родины поступали малоутешительные вести. Там был принят закон, который запрещал английским военнослужащим в какой-либо форме принимать участие в военных действиях на стороне иностранных государств или просто служить в составе зарубежных вооруженных сил.
Возвращаться было рискованно, но Кокрейн отважился на это. Он давно уже скучал по дому. Впрочем, в Англию он прибудет не как блудный сын, умоляющий о милости, а как первый адмирал Бразилии, представитель императора. Когда на рейде Портсмута появился его фрегат с бразильским вымпелом и его личным, адмиральским, в порту начался невиданный ажиотаж, тем более что гость потребовал салюта в его честь. Все-таки решили согласиться — как-никак надо уважать иностранный флаг. Так Англия, первая европейская держава, салютовала бразильскому стягу. Это означало, что она первая в мире признавала Бразилию в качестве независимого государства. И это было победой того дела, за которое Кокрейн сражался в далекой Атлантике.
На берегу Кокрейна приветствовали толпы народа, в театре публика устроила ему горячую овацию, а актеры приостановили спектакль, чтобы выразить благодарность за подвиги, совершенные во имя свободы.
И даже в парламенте раздались голоса, предлагавшие забыть его прошлое и все простить.
Но сам герой ничего не хотел забывать — ему нечего было прощать, и он не нуждался в этой милости. Напротив, он жаждал восстановления своего доброго имени, а не извинений.
Уже через неделю пребывания в Англии он отправил премьер-министру письмо, требуя нового разбирательства причин его увольнения с морской службы.
В этот момент прошел слух, что Кокрейн принял приглашение Греции возглавить ее освободительную борьбу на море против турок. В Адмиралтействе возмутились: этот строптивый Кокрейн вновь намерен нарушить закон о заграничной службе. Но привлечь его к ответу не было возможности — ведь он как-никак оставался бразильским адмиралом.
Сам же Кокрейн не стал ждать развития событий на родной земле. Он дал согласие Греции и в апреле 1827 года был назначен первым адмиралом всех ее военно-морских сил.
На месте Кокрейн обнаружил, что под его командованием оказался флот, состоящий всего-навсего из одного фрегата, одного парового судна, двух небольших кораблей и множества невооруженных каботажных судов и рыбацких лодок. Что касается личного состава, то это были неквалифицированные, недисциплинированные моряки, требовавшие денег вперед буквально за каждый свой шаг.
Что и говорить, с такой «грозной» морской силой трудно было помышлять о победах, а тем более об освобождении всей Греции.
Первой задачей Кокрейна было снятие с Афин жестокой блокады, длившейся не один месяц.
Ему удалось пустить на дно все турецкие корабли, принадлежавшие осаждавшим и доставлявшие им подкрепление и припасы. Затем он высадил своих солдат на берег и приказал пробиться в город. Но вместо того, чтобы выполнить приказ и спасти осажденных, среди которых было немало женщин и детей, они окопались и стали ждать нападения турок. Кокрейн, вооруженный одной только подзорной трубой, ворвался в траншею и попытался поднять их в атаку. Напрасно он старался.
То же разочарование ожидало его и на море, невозможно было заставить матросов подчиняться, соблюдать дисциплину, устав. Неудивительно, что он потерпел фиаско, когда пытался неожиданно напасть на Александрию, где формировался турецкий флот. Затем, узнав, что турецкие корабли стоят возле Наварино, на юге Греции, ринулся туда. К тому времени ему удалось раздобыть приличный фрегат «Хеллас», команда которого состояла, к сожалению, из бывших пиратов и юнг. Прибыв к Наварино и оценив обстановку, он убедился, что его шансы на успех равны нулю. Будь у него хотя бы три-четыре фрегата с отважными экипажами, он, ему казалось, мог бы спасти Грецию.
Но с одним кораблем да еще при таком экипаже было безумием тягаться с турками. На это отважились объединенные флоты России, Англии и Франции — 20 октября у Наварино они разгромили турок. Это способствовало освобождению Восточной Греции.
Кокрейн, убедившись, что с греками каши не сваришь, широким жестом отказался от звания первого Адмирала, подарил Греции корвет «Гидра» и шхуну «Афинец», отбитые им у противника, передал паровое судно «Меркурий» и отказался от двадцати тысяч фунтов стерлингов своего жалования, передав все деньги на нужды раненых и родственникам убитых.
Когда он уезжал из Греции, ему предоставили какой-то обшарпанный бриг с командой из темных личностей. И только русские, которые не были ему ничем обязаны, пришли на помощь и доставили его на Мальту, оказав подобающие воинские почести.
Памятник самому себе
Несколько лет Кокрейн прожил вне родины. Но память о выдвинутых когда-то против него обвинениях терзала его. Он должен был восстановить свою честь, потому и обратился к первому лорду Адмиралтейства с требованием пересмотреть его дело. Никакого ответа.
Тем временем в Англии происходили благоприятные перемены: к власти пришли реформаторы. Погода на политическом горизонте способствовала его возвращению.
И Том Кокрейн, к тому моменту унаследовавший после смерти отца титул десятого лорда Дандональда, потребовал: во-первых, объявить о его непричастности к биржевому мошенничеству; во-вторых, восстановить на действительной военной морской службе в королевском флоте; в-третьих, выплатить причитающегося ему жалованья за все время с момента увольнения в 1814 году. Четвертое его требование состояло в восстановлении его прав на Орден Бани. Кокрейн добился своего. Все требования, кроме выплаты жалованья за многие годы, были удовлетворены. Мало того, ему присвоили звание контр-адмирала и даже дали назначение. Через несколько дней после того, как он отметил свое 72-летие, ему доставили пакет из Адмиралтейства. Первый лорд писал: «В ближайшем времени мне предстоит назначить главнокомандующего Северо-американской и Вест-индийской военно-морских баз королевского флота. Не пожелали бы Вы взять на себя эту миссию? Сочту за честь и удовольствие назначить Вас на этот пост; я особенно доволен тем, что это назначение приходится по душе Ее Величеству королеве Виктории, как и всей стране, и особенно нашему флоту».
Стоило ли сомневаться в ответе. Конечно, он согласился. Это было признание и извинение одновременно. Это был, хотя и запоздалый, триумф!
Мало кто уже помнил, как боролся непримиримо он за справедливость, за свободу. Для нового поколения Кокрейн, этот великий старец, был заслуженным героем. Газеты рассыпались в славословии в его адрес, премьер-министр открыто благодарил за службу родине и подвиги во время войны. И даже сама королева Виктория изъявила желание встретиться с ним. Судьба воздала ему за то, что недодала в свое время, — он стал национальным героем.
Ему было 85 лет, когда уже на покое, он решил запечатлеть на бумаге правдивую историю всех своих злоключений. За месяц до своей смерти он закончил «Автобиографию моряка» (два увесистых тома) и «Рассказы о службе по освобождению Чили, Перу и Бразилии». Это был еще один памятник, воздвигнутый Кокрейном самому себе.
ИЛЛЮСТРАЦИИ
Жанна де ла Мотт
Мария-Антуанетта
Людовик XVI
Бриллиантовое ожерелье, вокруг которого разыгрывались события
Император Иоанн Антонович
Петр III посещает Иоанна Антоновича в Шлиссельбургской крепости
Поручик Василий Мирович у трупа Иоанна Антоновича
Джонатан Уайлд
София Главани-Витт-Потоцкая
Станислав Щенсны Потоцкий
Эжен Франсуа Видок
Джейн Элизабет Элленборо
Лора де Берни
Катерина Радзивилл
Сесиль Родс
Том Кокрейн
Примечания
1
Voleuse (фр.) — воровка
(обратно)2
Текст записки В. В. Григорьева и письма Г. П. Данилевского привожу по оригиналам, принадлежащим Е. В. Пузицкому, любезно предоставившему мне возможность воспользоваться этими материалами.
(обратно)3
Нельзя не вспомнить, что Екатерина вообще любила отсутствовать во время всех «не предвиденных» ею катастроф. Она отсутствовала во время переворота, свергнувшего Петра III и потом лишившего его жизни, она специально уехала из Петербурга на день казни Мировича (это известно из официальных бумаг), она отсутствовала, когда назначено было привезти княжну Тараканову в Петропавловскую крепость.
(обратно)
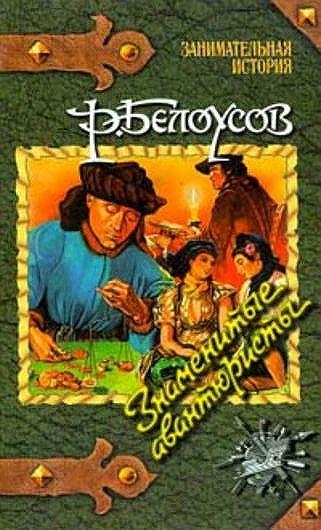
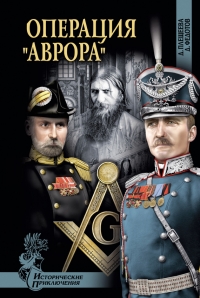



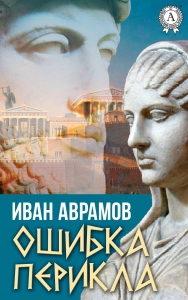
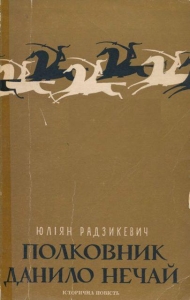

Комментарии к книге «Знаменитые авантюристы», Роман Сергеевич Белоусов
Всего 0 комментариев