Виталий Гладкий Сокровище рыцарей Храма
Пролог
1306 год, весна, Париж.
Амори Оже, хронист и приор церкви Пресвятой Девы Марии, высунув от напряжения кончик языка, писал:
«…Ближе к вечеру, когда солнце клонилось к закату, тысячи парижан высыпали на улицы города, чтобы посмотреть на въезд в столицу Великого магистра тамплиеров[1] Жака де Моле. Его сопровождали 60 рыцарей-крестоносцев, которые шли боевым строем. Несмотря на почтенный возраст, Великий магистр твердо сидел в роскошном восточном седле. На нем был белый плащ с красным крестом на плече; такие же плащи были надеты и на 60 сопровождавших его рыцарях — членах капитула Ордена храмовников. За рыцарями следовали служители в темных плащах с капюшонами, оруженосцы и лучники. Великий магистр привез с собой 150 000 золотых флоринов[2], которые лежали в окованных железом сундуках. А серебра было столько, что его везли в кожаных тюках, навьюченных на 12 мулов. Завершали процессию священники в черных балахонах и убранные во все черное лошади, которые везли черный катафалк.
Когда до Тампля[3] оставалось совсем немного, неожиданно зазвонили колокола всех колоколен парижских церквей, принадлежащих тамплиерам. Молчаливая до этого момента толпа начала выкрикивать приветствия и креститься. Рыцарь, который ехал рядом с магистром, развернул гонфалон[4] и поднял его высоко над головой, дабы каждый из собравшихся зевак мог прочитать следующие слова: Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam[5]. Праздные горожане в едином порыве выразили в общем вопле свое восхищение перед вступившими в их город храмовниками. Париж пал без боя. У воинов Христа никогда не было подобной бескровной и полной победы за всю историю ордена.
Так переезжал в парижский замок Тампль Великий магистр Ордена тамплиеров, который вместе с казной перевозил и прах своего предшественника Гийома де Боже…»
1307 год, 11 октября, замок Тампль
В орденской церкви царил полумрак. Толстые колонны, поддерживающие церковный свод, казались стволами вековых дубов, достающих кроной до самого неба. Впечатление усиливалось оконными витражами: их верхнюю часть застеклили голубыми стеклами, а нижнюю — зелеными, коричневыми и желтыми.
Великий магистр Ордена тамплиеров Жак де Моле сидел на возвышении в массивном кресле, напоминающем королевский трон. Оно было богато украшено слоновой костью, перламутром и драгоценными камнями, привезенными крестоносцами из Святой земли. Перед ним стояли три рыцаря, три его старых и верных боевых товарища: Годфруа де Шарне, Гуго де Перро и Жоффруа де Гонвиль. Их иссеченные многочисленными шрамами темные лица, еще не освободившиеся от восточного загара, были хмурыми и сосредоточенными. Говорил магистр:
— …Нам хорошо известно, что постоянные распри с сеньорами и продолжительная война против фламандцев и англичан истощили королевскую казну. В поисках средств французский король стал фальшивомонетчиком — он выпустил низкопробную монету. Он конфисковал имущество евреев и изгнал их из страны. Но всего этого ненасытному божьему помазаннику показалось мало. Он обратил внимание на наш орден, которому, кстати, задолжал полмиллиона ливров. Сначала король пытался навязать ордену своего сына на пост гроссмейстера, чтобы распоряжаться нашей казной. А когда из этой затеи ничего не получилось, Орден решили обвинить в ереси!
Рыцари взволнованно зашумели. Вперед выступил Годфруа де Шарне.
— Этого не может быть, брат Жак! — сказал он своим зычным голосом, от которого завибрировали стекла в оконных витражах. — Откуда у тебя такие сведения?
Когда Годфруа де Шарне шел в бой с военным кличем храмовников «Босеан!», даже хорошо тренированные дестриэ[6] испуганно шарахались в сторону и становились на дыбы.
— У нас везде есть верные люди. К сожалению, они не занимают высоких постов… Главными обвинителями Ордена выступают духовник короля, Великий инквизитор Франции Гийом Парижский и фаворит Филиппа, новый хранитель королевской печати Гийом де Ногаре[7].
При имени последнего ненависть исказила лица рыцарей. Жоффруа де Гонвиль тихо пробормотал проклятие, а Гуго де Перро яростно стиснул рукоять кинжала. Тамплиеры не могли простить де Ногаре низложения предыдущего папы, который был весьма благосклонен к Ордену. Новый папа, французский епископ Бертран де Го, был всецело на стороне короля Филиппа.
— Они не посмеют тронуть Орден! — запальчиво сказал Гуго де Перро, самый молодой из четверых.
— Уже посмели, — с потрясающим спокойствием ответил Великий магистр. — Четырнадцатого сентября, еще до вступления в должность хранителя королевской печати, Гийом де Ногаре от имени короля приказал разослать секретные послания, адресованные избранным агентам по всему королевству: сенешалям, бальи, прево и особенно новым missi dominici[8]. Эти инструкции заключены в двойные конверты и должны быть распечатаны только в назначенный день и час. Письма содержат обвинения в адрес Ордена и приказ о немедленном аресте наших братьев.
После слов Жака де Моле в церкви воцарилась неестественная тишина. Все будто окаменели. Только во взглядах, направленных в сторону Великого магистра, читались и недоумение, и боль, и ярость. Первым взял слово — по старшинству — Годфруа де Шарне.
— Брат Жак, твои слова, как раскаленный меч. Он пронзили наши сердца. Неужели все, что ты сказал, — правда?
— Да, братья мои, да.
— И когда должны нас арестовать?
— Увы, сие мне неизвестно. Человек, который принес нам эту страшную весть, скоропостижно умер. Он писец, и его отравили сразу же после того, как письма были написаны и вложены в конверты. Наверное, тайные агенты инквизиции узнали, что он наш сторонник. Писец успел пересказать почти весь текст королевского послания, за исключением даты ареста. Он умер в страшных муках.
Храмовники перекрестились.
— Мир праху его… — за всех сказал Годфруа де Шарне.
— Амен, — дружно ответили остальные.
— Завтра я должен присутствовать на похоронах Екатерине де Куртене, супруги Карла Валуа, — сказал задумчиво магистр. — Мне доверено нести погребальное покрывало. Это доверие меня очень беспокоит. А особенно мне не нравится просьба Филиппа быть крестным отцом его новорожденного сына. С чего бы вдруг такое расположение?
— Чтобы усыпить нашу бдительность, — ответил славившийся своей проницательностью Жоффруа де Гонвиль.
— Может, пользуясь случаем, переговорить с королем? — вступил Гуго де Перро. — В конечном итоге мы можем забыть о его долге, лишь бы он оставил нас в покое.
— Брат Гуго, ты плохо знаешь короля, — мрачно сказал Великий магистр. — А еще хуже — Гийома де Ногаре. Этот пес не успокоится, пока не получит все — и наши головы, и наши сокровища.
— Тогда примем бой! — запальчиво воскликнул Годфруа де Шарне. — У нас достаточно сил и средств, чтобы заставить короля Филиппа уважать Орден и отказаться от нелепых обвинений.
— Мой добрый друг… — в голосе магистра звучала глубокая печаль. — Не нужно горячиться. Тебе ведь хорошо известно наше правило: никогда не поднимать оружия против братьев по вере.
— Но что тогда нам делать?!
— Будем надеяться, что Господь не оставит нас в своих милостях. Ну а если придется взойти на эшафот… что ж, мы не раз смотрели смерти в лицо. Каждый из нас мог двадцать раз погибнуть, сражаясь с сарацинами. И тем не менее мы живы, а значит, наше предназначение состоит в чем-то другом.
— В чем? — дружно спросили рыцари.
— Зерно, брошенное в землю, должно дать новый росток, — несколько туманно ответил магистр. — Как скоро это будет, не знаю. Но некоторые меры на всякий случай я уже принял. Брат Годфруа, ты с удивлением спрашивал меня позавчера, почему больше десятка возов вывозят сено из Тампля. Теперь я могу ответить. Под сеном была спрятана наша казна. А сегодня ночью на трех повозках будет вывезен тайный архив Ордена. Повозки должны сопровождать сорок два рыцаря с оруженосцами. В Ла-Рошели их уже ждут семнадцать кораблей.
— Почему так много? — спросил Гуго де Перро.
— В Ла-Рошель свозятся ценности и архивы Ордена со всей Франции.
— И куда отправятся корабли?
— Этого лучше вам не знать. Нет-нет, это не значит, что я вам не доверяю! Но человек слаб, и если нас арестуют, то будут пытать. А пытки редко кто может выдержать. Открою вам секрет: даже мне неизвестны места, где будут находиться наши сокровища. Только страна — и все, не более того. Место тайников определят те наши братья, которым поручена вся эта операция.
— Разумно, — после некоторого размышления выразил общее мнение Годфруа де Шарне. — И все же мне не хочется верить…
— Мне тоже, — грустно ответил Жак де Моле. — Но мы подчинимся воле Господа нашего. И будь, что будет. Нужно молиться, дабы укрепить наш дух…
После ухода рыцарей магистр некоторое время размышлял, прикрыв веки. А затем позвонил в колокольчик. На зов бесшумной поступью пришел служка в темном плаще из грубой овечьей шерсти. Жак де Моле приказал:
— Позвать ко мне графа Гитара де Боже. Быстро!
Служка убежал. Спустя какое-то время в церковь вошел юнец, румяное лицо которого еще не знало бритвы. Взгляд Великого магистра потеплел.
— Мой мальчик… — сказал он, пытаясь улыбнуться; но мышцы лица повиновались с трудом, и вместо улыбки получилась скорбная гримаса. — Как нам не хватает твоего дяди, Великого магистра Гийома де Боже! Он был велик и мудр. Да-да, я знаю, что ты еще не принял обет, но твое сердце и душа всецело принадлежат Ордену. Поэтому я доверяю тебе самую большую нашу тайну. Среди тех, кто находится в Париже и кто предан Ордену, только у тебя есть возможность спастись от тех несчастий и бед, которые скоро обрушатся на рыцарей Храма.
Взволнованный юноша преклонил колени. На его длинных ресницах блеснула слеза. Он пока не понимал, о чем идет речь, но его чувствительная натура сразу уловила настрой Великого магистра.
— Встань, Гитар, и слушай внимательно. Если со мной что-то случится, ты должен скрытно увезти из Тампля один сундук. Он спрятан в полой колонне церкви. Поди сюда…
Магистр поднялся, подошел к одной из колонн, которая находилась напротив входа в крипту[9], проделал какие-то манипуляции, и капитель провернулась вокруг оси, открыв отверстие тайника.
— Запомнил? — спросил он юношу.
— Да…
— Повтори, — сказал Жак де Моле, закрывая тайник.
Гитар де Боже исполнил его приказание, и капитель снова повернулась с легким скрипом. Внутри тайника стоял узкий, но длинный сундук, похожий на пенал для хранения портуланов[10], только больших размеров. Он был опечатан главной печатью Ордена тамплиеров, на которой были изображены два рыцаря, скачущие на одном коне.
Там же находились несколько небольших ларчиков. Магистр открыл тот, что поближе, и потрясенный юноша увидел, что он доверху наполнен драгоценными камнями.
Магистр взял один из них — прозрачный и большой, величиной с грецкий орех, — и сказал:
— Это самый благородный и прочный камень — адамас[11]. Ему нет цены. В других ларцах золотые флорины. Все эти сокровища твои. Употреби их с умом. Главная твоя задача — сохранить для Ордена то, что сокрыто в сундуке. Любой ценой! Вот адреса наших братьев, они помогут тебе в этом деле… — Жак де Моле передал юноше небольшой пергаментный свиток. — Адепты Ордена разбросаны по всему миру. Текст зашифрован, но шифр тебе известен. Однако никто и ни в коем случае не должен знать, где находится тайник! Об этом должно быть известно только тебе, а затем твоему наследнику. Потом его старшему сыну… и так далее.
Гитар де Боже был потрясен тем, что услышал от магистра, но, сдержанный по натуре, не стал вдаваться в расспросы. Приказ есть приказ. И он его выполнит. Любой ценой и во славу Ордена храма. Гитар де Боже лишь высказал сомнение, в котором прозвучал достаточно дельный для его юного возраста вопрос:
— Но если с вами случится что-то… нехорошее, то меня ведь могут и не пустить в Тампль. И уж тем более — не выпустят. Сундук и ларцы в сумке не унесешь.
— Ты представишь дело так, будто хочешь перезахоронить прах своего дяди, Великого магистра Гийома де Боже, в усыпальнице предков. В этой просьбе, я уверен, тебе не откажут. Но в могиле кроме его останков находится часть архивов Ордена и реликвии — корона иерусалимских царей и четыре золотые фигуры евангелистов, которые украшали Гроб Христа и которые не достались мусульманам. Вместе с гробом магистра ты вывезешь сундук и ценности.
— Извините, но я хотел бы спросить…
— Спрашивай, мой мальчик. Не стесняйся. Пока есть время, мы должны прояснить все вопросы.
— Что находится в сундуке?
Жак де Моле нахмурился и острым, жалящим взглядом посмотрел на юношу. Но тот не отвел глаз, искрящихся молодостью и чистосердечием. Взгляд Великого магистра смягчился, он ностальгически вздохнул, вспомнив свои юные годы, и ответил:
— Там лежит ENS ENTIUM[12] — главное сокровище Ордена и главная наша тайна, которой ни в коем случае не должны завладеть наши враги. Ты знаешь, что это такое?
— Нет, — ответил Гитар де Боже, все так же глядя на магистра светлым, ничем не замутненным взглядом.
Он и под пытками не признался бы, даже самому Великому магистру, что ему известно значение этого термина. Гийом де Боже рассказал о нем своему племяннику, будучи на смертном ложе. И присовокупил, что это знание очень опасно для Гитара и он должен держать язык за зубами, если не хочет умереть раньше времени.
— Ну и не нужно тебе знать, — с облегчением вздохнув, сказал Жак де Моле. — Большие знания — большие горести. Тем более в такой сложный для всех нас момент. Возможно, потом… когда-нибудь… Это для тебя сейчас не главное. Основная твоя задача — вывезти сундук из Тампля. Тебе окажут помощь наши люди, на этот счет можешь не беспокоиться. А потом ты покинешь Францию и уедешь в далекую Московию. Только там тебя не достанет длинная рука короля и папской инквизиции. Все. Иди, мой мальчик. Пусть будет благословенен твой путь…
Тени в церкви храмовников сгустились еще больше. Приближался вечер. Неожиданно от одной из стен отделился высокий мужчина в плаще с капюшоном, который скрывал его лицо, и неторопливым шагом направился к Жаку де Моле. Казалось, что незнакомца родил полумрак. Обескураженный и немного испуганный магистр мог бы поклясться чем угодно, что в церкви, кроме юного графа де Боже и его самого, никого не было.
Мужчина подошел вплотную к Жаку де Моле и показал ему свое лицо. Оно было бледным до нездоровой синевы — как у вурдалака. Казалось, что незваный гость много лет провел в заточении. Магистр невольно привстал, с почтением приветствуя незнакомца, но тот жестом разрешил ему сидеть.
— Ты все правильно делаешь, брат Жак, — сказал мужчина. — Сокровища Ордена нужно спрятать. По крайней мере те, что во Франции. Великий магистр Тайного Храма и Высшие Братья шлют тебе благодарность и свое благословение.
Жак де Моле, который немного пришел в себя от неожиданного появления мужчины, ответил резче, чем следовало бы:
— За благословение приношу вам свою искреннюю благодарность, но нам нужна более существенная помощь.
— Увы, планеты расположились не в пользу Ордена. Мы не в состоянии изменить что-либо в Книге судеб. Однако можешь быть уверен — ты будешь отомщен.
— Будь мне двадцать или тридцать лет, — молвил магистр, — я бы сказал, что это слабое утешение.
— Утешься в вере.
— Что ж, коли так, придется… — суровое лицо Жака де Моле закаменело.
На какой-то миг его безмерно страдающая душа воспарила в неведомые выси, а когда вернулась обратно в тело, таинственного незнакомца и след простыл.
Ранним утром пятницы 13 октября 1307 года сенешали, бальи и прево короля приступили к аресту всех тамплиеров королевства и захвату имущества Ордена согласно полученным секретным инструкциям. В Париже только восемь тамплиеров избежали ареста, покончив жизнь самоубийством. Жака де Моле застали в постели…
1314 год, 18 марта, Париж.
Архиепископ Сансский и трое кардиналов-заседателей зачитали Жаку де Моле и его товарищам Годфруа де Шарне, Гуго де Перро и Жоффруа де Гонвилю приговор на эшафоте, воздвигнутом напротив портала собора Парижской Богоматери. Как только решение о пожизненном заключении было зачитано, Великий магистр и Годфруа де Шарне, командор Нормандии, громко провозгласили невиновность Ордена и отказались от своих показаний, которые были вырваны у них под пыткой. Король и его совет были проинформированы об инциденте и приняли решение сжечь Великого магистра и командора как нераскаявшихся еретиков.
Костер сложили на Камышовом острове, расположенном между королевским садом и церковью монахов-августинцев. Жак де Моле приготовился умереть спокойно и даже с каким-то воодушевлением, что произвело глубокое впечатление на собравшихся зевак. Когда пламя уже охватило его тело, Великий магистр указал в сторону дворца и крикнул:
— Папа Климент! Король Филипп! Гийом де Ногаре! Не пройдет и года, как я призову вас на Суд Божий! Проклинаю вас! Проклятье на ваш род до тринадцатого колена!..
Предсмертное предсказание Жака де Моле осуществилось довольно скоро: спустя месяц после аутодафе на Камышовом острове, 20 апреля 1314 года, папа Климент V умер от внезапного приступа дизентерии — его свели в могилу кровавый понос и приступы рвоты. Еще через месяц в страшных муках скончался палач-канцлер Гийом де Ногаре. А в конце того же года, 29 ноября, неожиданно умер король Филипп, всегда отличавшийся завидным здоровьем.
Что касается сокровищ тамплиеров, то они бесследно исчезли. Королю Филиппу IV Красивому досталась самая малость. Когда по Франции прокатилась волна арестов рыцарей Храма, большой флот тамплиеров покинул Ла-Рошель и ушел в неизвестном направлении. А следы графа Гитара де Боже, который разными правдами и неправдами все-таки вывез из Тампля гроб своего дяди, затерялись где-то в Московии.
Глава 1 1914 год. Черный карлик
Ваник Бабаян был мудр. Он очень гордился своей светлой головой. Но только Ануш — жена — знала о его гордыне, которая для владельца погребальной конторы была совсем неуместной. Мало того даже опасной, потому что они жили в Киеве на птичьих правах, а потому должны были вести себя тише воды, ниже травы. Об этом Ануш твердила мужу почти каждый день.
А Ваник, благодушно посмеиваясь, отвечал ей: «Девочка моя, что бы мы делали в нашем Арцахе? На сапогах, которые я тачал, много не заработаешь. А в Киеве я уважаемый человек. У кого можно приобрести приличный гроб, обитый глазетом[13]? Только у Бабая! (Местный народ переиначил армянскую фамилию Ваника по-своему, называя его Ванькой Бабаем, чему он не очень и сопротивлялся; лишь бы денежка шла.) Кто избавит семью усопшего от многочисленных хлопот, связанных с похоронами? Опять-таки Бабай. И все это стоит приличных денег. Никто не экономит на похоронах. Мы же имеем с этого хороший достаток, а потому честно и благородно кушаем свой белый хлеб с маслом».
Но Ануш все равно пребывала в постоянной тревоге и сомнениях. «Чует мое сердце, — говорила она, — что большие деньги принесут нам горе. Люди злы и завистливы». Ваник возражал: «Кто может завидовать человеку, который каждый день общается с потусторонним миром?»
Этот день в погребальной конторе «Бабаян и сыновья» начался как обычно — с перепалки Ваника и его ближайшего помощника Ионы Балагулы, под началом которого была бригада копателей могил.
Нужно сказать, что вся бригада состояла из самых пропащих мужиков. Работы было много, а потому землекопы почти всегда были пьяны. Родственники усопших, согласно обычаю, выставляли копателям могил штоф оковитой с закуской, дабы те могли помянуть преставившихся. Так как Иона не хотел быть среди подчиненных белой вороной, то и он в конце концов пристрастился к спиртному.
Однако это еще было полбеды. Главная проблема заключалась в том, что Балагула, общаясь с подольской голытьбой, стал революционером. В перерывах между похмельем и работой он посещал подпольный кружок анархистов.
— Иона, ты нас погубишь! — в отчаянии стонал Ваник, делая вид, что хочет вырвать из своей головы добрый клок волос. — Я запрещаю тебе водиться с этими нечестивцами!
— Хозяин, шо ты так волнуешься? Таперича усе умные люди стали революционерами. Знающие люди балакают, шо скоро будет большая война, яка принесет нам свободу. А за нее надо бороться, — каждодневное общение с городским пролетариатом сильно сказалось и на лексике Ионы; он разговаривал на характерном для Малороссии суржике — смеси украинского и русского языков.
— Ты дурак! — взвился Ваник. — Твоя борьба, Ион, принесет мне разорение, а тебе — каторгу! Городовой уже интересовался, чем занимаются мои служащие в нерабочее время. С чего бы?
— А ты не жмись, дай ему «катеньку»[14], он и отстанет, — добродушно посмеивался Балагула в рыжие усы.
Неизвестно, чем бы закончился их весьма напряженный диалог, но тут звякнул колокольчик, подвешенный у входной двери, и в заведение Бабаяна вошел господин низкого роста и зловещей наружности.
Почему зловещей? Ваник и сам не смог бы сразу ответить на этот вопрос. Может, потому, что глаза посетителя погребальной конторы светились в полумраке помещения фанатичным огнем, а его аскетическое лицо с большим носом, похожим на ястребиный клюв, казалось маской, вырезанной из дерева и обожженной на костре.
Когда посетитель подошел ближе, то оказалось, что это одетый во все черное горбун. Вернее, карлик-горбун. Следует отметить, что Иона тоже поразил внешний облик незнакомца, поэтому и Балагула, и Бабаян на какое-то время по неизвестной причине утратили дар речи.
— Страфствуйте, хоспода! — старательно выговаривая слова, скрипучим голосом приветствовал он хозяина и его помощника и изобразил полупоклон — слегка кивнул; похоже, карлик был иностранцем.
Очутившись в помещении, он первым делом снял странного вида шляпу с широкими полями и высокой тульей, похожую на головной убор немецких охотников; не хватало лишь обязательного фазаньего пера. Ваник, словно очнувшись, сделал шаг вперед, поклонился странному посетителю (при этом он не спускал с него глаз) и вежливо поинтересовался:
— Чем могу служить вашему благородию?
Его слова прозвучали настолько фальшиво, что Балагула, который с утра успел выпить лафитник казенки, едва не хохотнул. Но сдержался, глядя на очень серьезное, напряженное выражение лица своего хозяина.
Иона знал, что Ваник видит людей насквозь. Так что обращение «ваше благородие» было произнесено вовсе не для красного словца. И уж тем более Бабаян не имел даже в мыслях как-то уязвить раннего посетителя его физическим недостатком. Мало того, Балагула вдруг понял, что Ваник напуган. У хозяина даже изрядно поседевшие курчавые волосы вздыбились.
«Что за чертовщина?! — подумал Иона. — Карла, он и есть карла. Намедни, третьего или четвертого дня, они схоронили почти такого же уродца. Однако знатный был цирюльник… На всем Подоле нельзя было найти лучшего. Может, это его брат? Приехал из-за границы и пришел в погребальную контору с какой-нибудь претензией…»
— Мне надо говорить с хозяин контора, — веско сказал карлик и, словно для убедительности, пристукнул о пол красивой резной тростью черного дерева.
— Я вас слушаю, — ответил Ваник.
— Мне хотелось бы побеседовать с вами наедине, — сказал карлик, бросив на Иону пронзительно-острый взгляд.
— Как прикажете, — ответил Бабаян и кивком головы указал Ионе на выход.
Балагула с большим удовольствием поторопился покинуть контору. Ему вдруг стало очень неуютно в присутствии этого странного карлы. От уродца веяло могильным холодом. А уж в чем, в чем, но в этом вопросе Иона хорошо разбирался. «Вурдалак какой-то, — думал он, усаживаясь в фургон с шанцевым инструментом. — Точно вурдалак, чтоб мне завтра не дали опохмелиться…»
На этой сцене с участием Ионы можно опустить занавес. Что касается Ваника Бабаяна, то он закрыл дверь погребальной конторы на засов — уж неизвестно почему — и предложил карлику собственное кресло с изрядно потертой кожаной обивкой. Ваник обставил контору по высшему разряду (то есть все, что можно было, обил рытым бархатом, покрасил приятными глазу красками и покрыл сусальным золотом), а на кресле сэкономил, благо его почти не было видно из-за письменного стола.
Обычно клиенты сидели на венских стульях — они были весьма прочны и могли прослужить очень долго, — но карлик произвел на Бабаяна столь неизгладимое впечатление, что Ваник просто не мог позволить, чтобы тот гремел своими костями на жестком деревянном сиденьи.
Наверное, немец оценил такую жертву со стороны хозяина погребальной конторы, потому что его суровое лицо на миг утратило жесткость черт, и тонкие сухие губы изобразили подобие поощрительной улыбки.
— Моя просьба несколько необычна… — начал карлик, не спуская с Ваника своих черных, как самая темная ночь, блестящих глаз. — Скажите, в Киеве есть старинное кладбище, на котором уже давно никого не хоронят? Подальше от центра, где-нибудь на окраине…
— Да… есть.
— Вот и отлично! — почему-то обрадовался карлик. — Это то, что нужно.
— Но я не понимаю…
— А вам ничего и не нужно понимать, — отрезал немец. — Внимательно слушайте и, как у вас говорят, мотайте на ус. Ночью на том кладбище нужно вырыть могилу предельно возможной глубины. Только не до водоносного слоя! Яма должна быть сухой. В этой могиле вы похороните цинковый ящик, который доставят вам к утру. Затем перемешайте три бочки мазута с песком, присыпьте этой смесью ящик на метр-полтора, утрамбуйте хорошо и опустите в яму настоящий гроб. Потом могилу закопаете и поставите надгробный камень. Мазут и надгробие вам привезут вечером, перед началом работы. Когда все будет закончено, могиле нужно придать старый, заброшенный вид. Как это сделать, уверен, вы знаете.
С этими словами карлик вдруг поднялся, подошел к двери и принес оттуда большой саквояж. Наверное, он оставил его там, когда вошел в контору. В пылу перебранки с Ионой Бабаян не заметил, с чем пожаловал таинственный уродец.
Открыв саквояж, немец не без усилия достал оттуда шкатулку, поставил ее на стол перед Ваником и небрежным движением поднял крышку. Бабаян оцепенел. Шкатулка была доверху наполнена золотыми царскими червонцами!
— Это аванс, — добил его карлик. — По окончании работы получите еще столько же.
Глядя на золото и слушая слова немца, Ваник тут же решил, что за такие огромные деньги он может зарыть в могиле не только цинковый ящик, но и Балагулу в придачу, который конечно же по пьяной лавочке проболтается о тайном захоронении своим дружкам-анархистам. Что могло быть в ящике, Бабаяна не интересовало. Заказ есть заказ. Его нужно выполнять. Он всего лишь хозяин погребальной конторы, а не сыщик полицейского управления.
Однако у Ваника оставались кое-какие вопросы. У него в последнее время начала побаливать поясница, и по вечерам, кряхтя под сильными руками жены, которая делала ему массаж, втирая какие-то противные мази, он повторял, словно заклинание: «О, эти годы… О, эти годы…» Поэтому, вспомнив свои страдания, Бабаян немного помялся, но затем отважился и робко сказал:
— За одну ночь вдвоем с помощником мы не сможем вырыть яму такой большой глубины…
— А вам и не надо заниматься земляными работами. Для этого у вас существует, насколько мне известно, бригада копачей могил.
— Но как же…
— Как можно сохранить тайну? — закончил карлик мысль Бабаяна и снисходительно улыбнулся: — Ваш помощник и землекопы получат столько денег, что им и их детям хватит до конца жизни. Но… — тут его негромкий проникновенный голос приобрел силу и упругость. — Но они должны будут немедленно покинуть не только Киев, но и пределы Российской империи. И никогда сюда больше не возвращаться. Если же они вздумают открыть кому-либо тайну захоронения или сами решат узнать содержимое ящика… — тут в голосе черного карлика прозвучал металл. — Упаси Господь! В этом случае землекопов ждет неотвратимая и жестокая смерть.
— Ну, если так… — Ваник все еще пребывал в больших сомнениях.
Он думал, что его землекопов только могила исправит, что они никуда не поедут, что деньги — даже миллион — мужики все равно пропьют, а затем, взяв заступы, придут на старое кладбище и отроют цинковый ящик. Кто им может в этом помешать?
Что касается угроз карлика, то землекопам на них наплевать. Тот, кто каждый день общается со смертью, становится циником и фаталистом. Для него переход в мир иной — само собой разумеющееся дело. Он не боится умереть; его просто не посещают такие мысли. Гробокопатели со слабой психикой долго на кладбище не задерживаются.
А еще у Бабаяна мелькнула в голове совсем уж нехорошая мыслишка. Что ни говори, а этот таинственный карлик был всего лишь немцем, иностранцем. Когда-нибудь он вернется же в свою Германию? А если так, то неплохо бы самому Ванику поинтересоваться, что лежит в цинковом ящике.
Карлик словно подслушал мысли хозяина погребальной конторы. Он покривил губы в снисходительной улыбке и сказал:
— Все участники захоронения уедут, а вы останетесь. Будете присматривать за могилой и хранить эту тайну до конца своих дней. Да-да, ваши услуги будут оплачены. Раз в год к вам будет приезжать наш курьер и привозить плату за ваши труды. Золотом.
Ваник был окончательно сражен. Он вдруг понял, что уже не волен распоряжаться своей судьбой. Какие-то высшие силы вмешались в его жизнь, и теперь он должен плыть в том русле, которое ему укажут. Иначе…
Угрожающее «иначе» испуганный до дрожи в коленях Бабаян тут же выбросил из головы. Он не хотел об этом даже думать. Набравшись смелости, Ваник посмотрел прямо в глаза темному карле и спросил:
— Кто вы?
— Вопрос вполне закономерен… — немец глядел испытующе и остро. — Я хотел вам это сказать, но вы опередили меня. Я полномочный представитель общества «Вольных каменщиков» в России.
Ванику показалось, что под ним провалился пол и он летит в одну из тех могил, которые он выкопал за свою жизнь. А их насчитывалось много, очень много. Особенно в первое время, пока его погребальная контора не стала крепко на ноги и не завоевала себе авторитет. Поначалу у Бабаяна был только Балагула, и Ванику пришлось сильно потрудиться, благо в молодости силой он не был обижен и копал могилы, как семечки щелкал. Поэтому теперь и спина болит.
Карлик — масон! Ваник плохо представлял, кто такие масоны и чем они занимаются, но он точно знал, что лучше вольным каменщикам не перечить и с ними не конфликтовать. В этот момент Ваник поклялся себе самой страшной клятвой, что ни за какие коврижки не станет открывать цинковый ящик и что будет прилежно исполнять все указания карлика, благо тот обещал хорошо за это платить…
Спустя неделю после «похорон» таинственного цинкового ящика (по размерам он был немного меньше гроба) Ваник закрылся с женой в спальне, которую хозяин погребальной конторы считал самым защищенным и святым местом в доме, и сказал:
— Ануш, как это ни горько мне говорить, но мы должны на некоторое время расстаться, — а сам в этот момент подумал: «Прости меня, любимая, за эту ложь! И прощай. Наверное, навсегда. Боюсь, что мы уже вряд ли когда свидимся». — Ты с детьми первым же пароходом отправишься в Америку. Я дам тебе письмо к нашим родственникам в Одессе, они помогут вам с билетами и со всем остальным.
Он долго думал над этим вопросом. И в конце концов пришел к выводу, что если уж его жизнь кончена, то нужно хотя бы спасти жену и детей. Ваник не поверил в щедрость и доброту карлы. Поэтому принял решение отправить своих домочадцев подальше, в Америку, где можно затеряться в большой массе людей, прибывающих туда со всех концов света каждый день и куда не достанут даже длинные руки вольных каменщиков. По крайней мере он очень на это надеялся.
Верная супруга Бабаяна не стала устраивать сцен. Она видела, что Ваник несколько последних дней был явно не в себе. Похоже, случилось что-то очень серьезное и даже страшное. Ануш лишь нахмурилась и спросила:
— Почему?..
— Так надо. И пожалуйста, не требуй от меня объяснений!
— Хорошо, хорошо, не буду… Это так срочно?
— Да, моя девочка, да! Более чем срочно.
— А как же ты?
— Я приеду… потом, — соврал Ваник. — Позже. Нельзя оставлять дело.
— Но у нас не так много денег, чтобы обосноваться в Америке…
— Деньги есть. Это вам на обустройство… на первое время.
Ваник достал из комода две шкатулки и открыл их. Вторую шкатулку черный карлик передал ему уже на кладбище. Он приехал, когда ставили надгробие. До этого за работами надзирал угрюмый неразговорчивый тип в плаще с капюшоном — ночью немного моросило.
Посмотрев на золотые червонцы, Ануш даже не ахнула от потрясения, только прижала сухонькие кулачки к груди и сильно побледнела. Теперь у нее уже не было сомнений, что ее Ваник опять влип в какую-то очень опасную историю, как это бывало раньше, в молодые годы…
Семья Бабаяна исчезла из Киева 28 июня 1914 года, ровно в тот день, когда в Сараеве был убит вместе со своей супругой эрцгерцог Австро-Венгрии Франц Фердинанд. А через месяц, 1 августа, Германия объявила России войну.
Глава 2 2007 год. Старый кладоискатель
Официально безработный кандидат исторических наук Глеб Тихомиров, главным (и тайным) занятием которого была «черная» археология, ехал к деду Ципурке, патриарху советского кладоискательства, которому недавно исполнилось девяносто лет. Он не стал выводить из гаража свою «ауди», а трясся в трамвае, готовом рассыпаться на ходу в любую минуту.
Последнее время ему начало казаться, что за ним ведется скрытное и очень профессиональное наблюдение. Глеб не видел своих преследователей, но ощущал их присутствие шейными позвонками. С какой стати?
На этот вопрос у него не было ответа. Возможно, он таился в профессии Глеба. Молодой Тихомиров слыл среди «черных» археологов докой, и у него дома хранились такие уникальные раритеты, что за них некоторые коллекционеры, не очень разборчивые в средствах для достижения своих целей, не пожалели бы ни денег, ни человеческой жизни.
Клан Тихомировых занимался не вполне законным кладоискательством с давних пор. Начало этому увлечению, ставшему для Тихомировых смыслом жизни, положил в эпоху Петра Великого инок Григорий, нечаянно узнавший тайну некоего артефакта, едва не стоившую ему жизни. В конечном итоге он бежал на Дон, где его приняли в казачий курень.
С той поры Тихомировы только тем и занимались, что рыскали по всей Российской империи (и даже за ее пределами) в поисках кладов и различных древностей. И, нужно сказать, делали это вполне профессионально и не без удачи, сопутствовавшей им почти во всех их изысканиях.
Благодаря тайному ремеслу Тихомировы жили безбедно при всех властях, но войны и сталинские репрессии сильно проредили их клан. И теперь кладоискательством серьезно занимались лишь Глеб и его отец, Николай Данилович. Он недавно защитил докторскую диссертацию, и в очередной раз подтверждал свой высокий статус в достаточно узком мирке экспертов по древностям в Англии, куда его в качестве консультанта пригласило на некоторое время руководство «Сотбиса»[15].
Дед Ципурка позвонил вчера, поздним вечером. Глеб очень удивился — до онемения, услышав его глуховатый голос со странным акцентом. Вообще-то старый кладоискатель был то ли чех по национальности (если судить по имени), то ли поляк (если принимать во внимание его отчество), но всю свою сознательную жизнь прожил в России и мог бы за долгие годы изучить русский язык досконально.
Ан, нет. В его речи иногда проскакивали явно иноземные (хоть и славянские) словечки и обороты. Наверное, Ципурка таким образом выражал глубоко упрятанный протест, присущий всем «окраинным» славянским народам по отношению к «старшему», более сильному и значимому в мировой истории «брату» — русскому народу.
Почти каждая нация считает себя пупом земли, а уж братья-славяне в этом отношении всех перещеголяли. Особенно отличаются поляки. Они носятся со своей «очень цивилизованной» прозападной Речью Посполитой, как дурак с писаной торбой, обличая Россию во всех мыслимых и немыслимых грехах.
Но Глеб, историк по образованию, почти наверняка знал, что именно служит польскому «паньству» постоянным раздражителем. Братки-католики никак не могут простить Минину и Пожарскому их славных деяний. Будучи во главе народного ополчения, эти два народных героя дали такого пинка под зад польской шляхте, захватившей Москву и мечтавшей навсегда покончить с Русью, что ее последышам и до сих пор больно.
Что касается чехов, то к славянам они уже имеют весьма отдаленное касательство. Онемеченные и окатоличенные, чехи во все времена по отношению к России старались в глазах Запада выглядеть святее папы римского. А уж Ватикан никогда не пылал страстной любовью к православным христианам. Скорее наоборот.
Ципурка попросил, чтобы Глеб срочно к нему приехал. На вопрос «Зачем?» — старый кладоискатель довольно туманно ответил: «Тебе будет интересно…»
Глеб недоумевал. Ему хорошо было известно, что Ципурка всегда соперничал с Тихомировыми. Конечно, это соперничество не превращалось в нецивилизованную разборку (при всем том Ципурка имел шляхетный гонор и честь), но мирок, в котором они вращались, был настолько мал, что любое неосторожное движение заканчивалось или оттоптанной ногой, или синяком на ребрах.
В общем, Глеб был сильно заинтригован. Ципурка не слыл пустословом, поэтому его намек Глеб понял, как и должно, — у деда было НЕЧТО, какой-то уникальный артефакт, способный заинтересовать такого доку в археологии, как Тихомиров-младший. Ведь старый кладоискатель точно знал, что Тихомировы на мякину не размениваются.
Дед Ципурка жил в пригороде, в старом купеческом особняке. В свое время — сразу после войны — особняк хотели взорвать, чтобы расчистить участок под новое строительство, потому что для одной семьи по советским меркам он был великоват, а для коммуналки — слишком неудобен. Кроме того, от здания остались одни лишь стены, под которые и заложили взрывчатку.
Увы, вместо мощного взрыва, который должен был разрушить особняк, получился большой пшик — метровой толщины стены, сложенные из очень прочного красного кирпича по специальной технологии с применением яичного белка, устояли. Наверное, мало заложили взрывчатки.
Ну, а потом все произошло, как и должно было произойти в плановой социалистической экономике. Материал израсходован (в данном случае взрывчатка)? Да, имеется подтверждающая документация. Смета выполнена? Конечно, на все сто процентов. Вот и отлично. А дальше хоть трава не расти. Конечный результат уже никого не интересовал.
Так и простояли кирпичные стены до хрущевской «оттепели». Пока на них не обратил внимания Ципурка. Уж больно понравился ему бесхозный участок, на котором вырос целый лес, скрывающий здание от нескромных глаз.
Ципурка «подмазал», кого следует, и, когда реставрированное строение приобрело прежний вид, претензий со стороны властей к нему не было, хотя особняк получился вызывающе большим и шикарным. Естественно для гражданина Страны Советов, которому были положены от щедрот родного государства пять соток тощей землицы и разрешение на строительство дачного домика размером с собачью будку.
Трамвайная остановка находилась неподалеку от дома Ципурки. Глеб, стоя на задней площадке вагона, наблюдал, не следует ли за трамваем какая-нибудь подозрительная машина. Но его опасения оказались безосновательными, и когда он покинул трамвай, то оказался на остановке один-одинешенек.
Калитка в высоких кованых воротах поражала вычурностью. Ее тоже сработал кузнец, но он явно был человеком неординарным, потому как в ковке чувствовались мотивы барокко, что для человека малообразованного оказалось бы слишком мудрено, даже если ему дать хорошие чертежи. Так тщательно и со знанием дела приладить все детали ворот и калитки мог лишь большой мастер.
Глеб долго нажимал на кнопку звонка, пока не раздались шаркающие шажки и на дорожке, вымощенной импортной тротуарной плиткой розового цвета, появился дед Ципурка. Он был невысокого роста, седоволос (несмотря на весьма преклонные годы, его шевелюра почти не поредела) и худощав. Подойдя к воротам, Ципурка нацепил очки, и некоторое время внимательно всматривался в лицо Тихомирова-младшего.
— Здравствуйте, Вацлав Станиславович! — бодро сказал Глеб. — Не узнаете?
Они не виделись семь или восемь лет — с того момента, когда совсем еще юный Тихомиров-младший собирал материал для кандидатской диссертации. У Ципурки было несколько старинных раритетных книг, и он оказался настолько любезен, что дал Глебу возможность с ними поработать. Естественно, в стенах своего дома.
Работа эта продолжалась почти две недели, и за это время одинокий старик проникся к молодому представителю конкурирующей с ним династии Тихомировых большим уважением. А все потому, что у Глеба на любой его каверзный вопрос по части оценки антикварных вещей всегда был наготове очень обстоятельный, аргументированный и точный ответ.
— Ну как не узнать? — улыбнулся Ципурка. — Тебе никто не говорил, что ты похож на афганскую борзую? Извини за сравнение… Такой же высокий, худой, поджарый, быстрый — даже молниеносный — в решениях и чрезвычайно эффективный в поиске. Наслышан я о твоих подвигах на ниве кладоискательства, наслышан… Завидую… Эх, где мои молодые годочки?!
— Что вы, Вацлав Станиславович, — засмущался Глеб. — Это всего лишь слухи.
— Перестань… Ишь, зарделся, как девица красная. Ты ведь знаешь, что я не пользуюсь непроверенной информацией. Заходи… — Ципурка повернул ключ в замке и отворил калитку. — А то я уже заждался тебя.
Глеб снова покраснел и покаянно опустил голову — он опоздал почти на час. Так вышло…
Особняк выглядел как новогодняя игрушка. Он блистал недавно вымытыми окнами и новой крышей светло-салатного цвета из металлопластика. Что касается живой природы на участке, то над ней явно потрудился искусный садовник. Все было ухожено и настолько красиво — особенно цветочные клумбы, что Глеб даже замедлил шаг, дабы насладиться зрелищем, приятным глазу.
— Вы не боитесь жить в одиночестве? — спросил Глеб. — Времена нынче смутные, много всякой швали развелось. А у вас здесь окраина, и на участке растет целый лес.
— Что ты, мил дружочек, мне ли в мои годы чего-то бояться… — Ципурка засмеялся, задребезжал жестяным смешком. — Но ты прав — береженого Бог бережет. Это правило я исповедую издавна… потому и дожил до преклонных лет, несмотря на нашу весьма небезопасную профессию, — он снова хихикнул. — Так и быть, покажу тебе своих защитников… — с этими словами он тихо, по-особому, посвистел, и Глеб неожиданно оказался в окружении трех здоровенных псов.
Они не лаяли и даже не имитировали нападение, лишь скалили внушительного размера клыки и смотрели на молодого человека такими нехорошими взглядами, что у него мурашки побежали по коже. Переборов страх, Глеб определил, что перед ним американские стаффордширские терьеры — бесстрашные бойцовые псы. Все они были одного роста и возраста и походили друг на дружку как две капли воды, — поджарые, мускулистые, рыжие, с белой грудью. Наверное, их рожала одна сука.
Тихомиров-младший разбирался в породах собак. И знал, как противостоять их нападению. Эту науку Глебу преподал отец. Полуподпольная деятельность «черных» археологов всегда таила в себе много разнообразных опасностей, и псы входили в ареал оружия, которое применяли друг против друга неразборчивые в средствах конкуренты или охрана. Загрызенный псами кладоискатель в принципе не может вызвать повышенного внимания к своей персоне со стороны правоохранительных органов…
— Круто, — сказал Глеб. — Эти зверюги и сожрать могут. А вы сами их не опасаетесь? Не ровен час…
— Запомни, мил дружочек, простую истину: как ты относишься к животным, так и они будут к тебе относиться. Я с моими мальчиками… — дед Ципурка любовно потрепал за загривок ближнего пса, — строг, но справедлив. И они это понимают. Им известно, что они обязаны меня защищать, поэтому мои мальчики готовы загрызть любого злоумышленника, который рискнет причинить мне зло, хотя я и не натаскивал их на смертоубийство.
— Кто бы в этом сомневался — что стаффордширские терьеры в состоянии перегрызть человеку глотку… — пробурчал Глеб, бочком продвигаясь к спасительной веранде.
Ципурка коротко рассмеялся, свистнул, и псы исчезли в мгновение ока — словно сквозь землю провалились.
В особняке было на удивление пусто, хотя раньше в комнатах стояла антикварная мебель разных эпох, а на полу лежали дорогие персидские ковры ручной работы — старый кладоискатель любил богатство и комфорт. Создавалось впечатление, что дед Ципурка готовится съехать на другую квартиру.
— Вы продаете дом? — не сдержал Глеб любопытство.
— Нет, — ответил Ципурка. — Я с ним прощаюсь.
— То есть?..
— Ухожу я, мил дружочек. Туда… — старый кладоискатель ткнул пальцем в потолок. — Я и так зажился на этом свете.
— Что вы такое говорите?!
— Хочешь сказать, что человеку неведомо, когда наступит его конец?
— Да, именно так.
— Согласен. Ты прав. Это непреложная истина. Но я видел вещий сон. А снам я верю. Правда, не всем, лишь некоторым. Они приходят как откровение. Ты просыпаешься и уже точно знаешь, что сон сбудется.
Глеб не стал спорить, лишь индифферентно пожал плечами. Похоже, у дедушки крышу начало сносить. В его годы это понятно и простительно.
— Что касается мебели и тех раритетов, что еще остались у меня от прежних моих «подвигов», — продолжал Ципурка, — то почти все я раздал своим детям и внукам. Дабы потом они не устроили на моей могиле дележ наследства с мордобоем и судебными тяжбами.
— Разумно, — сказал Глеб, неприкаянно рассматривая пятна на обоях.
— Надеюсь… Пойдем в кабинет. Он остался в неприкосновенности. Там я и сплю.
Они поднялись на второй этаж. Кабинет Ципурки был весьма просторен и не страдал излишествами: большой письменный стол на резных львиных лапах, кожаное кресло-вертушка, сейф в углу, диван у окна, еще два кресла, тоже обтянутые кожей, и книги в шкафах и на полках. Много книг. Среди них были и старинные фолианты. Книги заполнили все стены — до потолка.
Дед Ципурка был очень образованным человеком и знал пять или шесть европейских языков, а также латынь и древнегреческий.
— Присаживайся, — сказал Ципурка, указывая Глебу на креслице возле стола. — Есть предложение отметить нашу встречу, — продолжил он, доставая из тумбы стола хрустальный графин, наполненный янтарной жидкостью, две серебряные с позолотой рюмки (начало девятнадцатого века, Франция, быстро определил про себя Глеб) и фарфоровую тарелочку (эпоха Цин, восемнадцатый век, покрытие — «пламенеющая глазурь») с лимонными дольками. — Не возражаешь?
— С удовольствием, — приободрившись, с энтузиазмом ответил Тихомиров-младший.
Нужно сказать, что вчерашний вечер он провел в компании друзей и уже с утра начал сожалеть, что чересчур много выпил. Притом еще и смешал водку с пивом. Поэтому с утра у него в голове царил сумбур, а в висках скапливалась свинцовая тяжесть.
Напиток был потрясающим. Приятный на вкус, достаточно крепкий и ароматный, он не обжигал нутро, а согревал — мягко и постепенно. По идее, в графине находился какой-то очень дорогой коньяк, но Глеб не поручился бы, что это именно так. Увы, дегустатор из него был аховый.
Его сомнения подтвердил и Ципурка. Он спросил, хитро улыбаясь:
— Как тебе сей животворящий элексир?
— Супер, — честно признался Глеб.
— Хе-хе… Мое производство.
— Не может быть! Я думал, что какой-то дорогой французский коньяк.
— Мил дружочек, нынче все испортилось. В том числе и французские коньяки. От них у меня изжога. Поэтому я разработал личный рецепт. Да-да, на основе коньячного спирта. Травки разные, корешки целебных трав, мускатный орех… Ну и так далее. Длительный и сложный процесс. Но конечный продукт получается выше всяческих похвал. Не влияет ни на сердце, ни на желудок. Скорее, наоборот, лечит.
— Рецепт продадите? — пошутил Глеб. — Готов заплатить любую сумму.
— Тебе даром отдам. Там… — дед Ципурка сделал многозначительную паузу, — деньги мне не понадобятся. Только заступничество Девы Марии. Я, знаешь ли, много нагрешил…
Глеб благоразумно промолчал. От отца он знал, что в свое время Ципурка слыл очень жестким и хватким кладоискателем. Его авантюрная натура нередко приводила к стычкам с другими «черными» археологами, и Ципурка всегда отвечал ударом на удар.
Но с кланом Тихомировых он никогда не выяснял отношений. Может, потому, что и дед, и отец Глеба всегда придерживались неписаного закона «правильных» кладоискателей: не перебегать дорогу коллегам по ремеслу.
Отыскал что-то интересное — копай, там все твое; в земле столько всего спрятано, что на всех хватит. В противном случае может пролиться кровь. Азарт и предчувствие близкой удачи кружат голову, и человек теряет над собой контроль.
— Я вот зачем тебя позвал… — Ципурка открыл сейф и достал оттуда пакет.
Он был небольших размеров, но тяжелый — судя по звуку, который издал пакет, когда старый кладоискатель положил его на стол. Похоже, под бумажной оберткой находился металл.
— История, которую я расскажу тебе, началась давно… — старик сноровисто снял обертку, и Глеб увидел бронзовую квадратную пластину, на лицевой поверхности которой виднелись рельефные изображения. — Я был тогда совсем еще юнцом и только начинал интересоваться археологией…
— Что это? — спросил сильно заинтригованный Глеб.
Он любил различные тайны, в том числе и мистические (обычно «черные» археологи старались обходить их стороной), и нередко впутывался в такие мероприятия, которые могли стоить ему жизни. Но хождение по лезвию ножа лишь добавляло ему в кровь адреналину, и Тихомиров-младший снова и снова затевал дерзкие авантюрные экспедиции — что называется, на грани.
В устах коллег по ремеслу истории его похождений уже начали превращаться в легенды, обрастающие фантастическими подробностями. Поэтому среди «черных» археологов Глеб пользовался бешеной популярностью, и к его советам прислушивались с таким вниманием, будто он был патриархом.
Отец, большой дока в археологии, даже по-доброму завидовал успехам сына на поприще кладоискательства, но всегда напоминал ему, что их фамильный промысел — ТАЙНЫЙ, ПОДПОЛЬНЫЙ. И чем меньше людей будут о нем знать, тем лучше.
— А ты возьми и пощупай, — улыбнулся дед Ципурка. — И выскажи свое мнение. Проверь свою квалификацию.
Пластина явно была старинной, неподдельной. «Где-то пятнадцатый-шестнадцатый век», — подумал Глеб. Примерную датировку можно было определить даже на глаз — по материалу, из которого изготовили пластину.
Средневековая бронза — это сплав меди и олова. В некоторых месторождениях медных руд присутствует до 2 % олова. Если процентное содержание олова больше, значит, сплав имеет искусственный характер, что приближает дату изготовления пластины к началу двадцатого века. Судя по цвету, пластина изготовлена из оловянной бронзы полуострова Корнуолл.
«Интересно… Очень даже интересно…» — Глеб взял предложенную дедом Ципуркой сильную лупу.
По всем четырем углам пластины было отчеканено солнце с волнистыми стилизованными лучами; на самом солнечном диске искусный гравер вырезал изображение обычного прямого креста и три латинские буквы IHS. А посредине пластины возвышался рельефный герб ордена тамплиеров — два рыцаря на одном коне — и над ним крест, очень похожий на восьмиконечный мальтийский. Все изображения поражали точностью и выверенностью мельчайших деталей.
«Уж не сам ли Альбрехт Дюрер[16] резал эту пластину?! — взволнованно подумал Глеб. — По времени совпадает…»
— Ну, и что ты на это скажешь? — нетерпеливо спросил дед Ципурка.
Наверное, ему хотелось побыстрее сразить одного из представителей клана Тихомировых своими большими познаниями в средневековых реалиях. Глеб мысленно ухмыльнулся — держи карман шире, уважаемый Вацлав Станиславович. Мы тоже щи не лаптем хлебаем.
— Пластина действительно старинная. Изготовлена — если на глазок — в конце пятнадцатого века, — уверенно начал Глеб. — Это видно по материалу, качеству литья и внешней отделке. Полировали пластину не качественным порошкообразным абразивом, а мелким песком, который плохо подходит для таких дел, потому что оставляет глубокие царапины. Но гравировали ее где-то в 1510–1520 годах.
— Почему ты так решил? — быстро спросил Ципурка.
— Во-первых, только к началу шестнадцатого века у граверов появились резцы из очень качественной каленой стали. Видите, в углублениях и штриховке хорошо просматривается прямой угол. И так везде. Это значит, что инструмент был весьма прочен и не требовал многократных заточек. В противном случае прямой угол был бы закруглен. Это можно проследить практически на всех изделиях граверов более раннего периода.
— С какой стати у тебя есть такая уверенность, что гравер работал над изображениями в начале шестнадцатого века? — Ципурка был настойчив.
— Это же элементарно… — начал Глеб и запнулся; он хотел сказать «…Ватсон», да вовремя спохватился, чтобы не обидеть старика нечаянной фамильярностью. — На щитах рыцарей, изображенных на гербе Ордена тамплиеров, ясно видны кресты. Это более позднее изображение, которое появилось, скорее всего, в пятнадцатом веке — после того как Орден прекратил свое существование. Уж неизвестно, кто его сделал и зачем, ведь тамплиеры подвергались жестоким преследованиям. Кроме того, на ранних оттисках печати Ордена тамплиеров (она появилась где-то в 1259 году) лошадка, несущая рыцарей, не такая бодрая, как на новом изображении. И то верно — мало радости в том, чтобы нести на спине двух железных болванов весом почти в три центнера.
— Бедная лошадка… — Ципурка явно был удивлен «лекцией» своего молодого коллеги, но старался не подавать виду.
— Но самое главное — крест, — продолжал Глеб. — Это так называемый «патонс пате», ранняя его модификация. Здесь он еще очень похож на мальтийский крест — выпуклости между острыми концами едва просматриваются и сами концы прямые. С течением времени эти концы изогнутся и между ними как бы вырастет тупой шип. В конце шестнадцатого века крестом «патонс пате» начнут расшивать мантии западноевропейских вельмож и вплетут его в различные растительные орнаменты. Так вот, первые сведения о появлении «патонс пате» относятся к началу шестнадцатого века. А точнее — к 1509–1510 годам. Я бы мог сейчас назвать даже источник этих сведений, но, думаю, что в данный момент сие не главное.
— Недурно… — старик с удовлетворением улыбнулся. — Это все?
— Нет, не все. Этот ваш раритет — большая загадка. Мне так кажется.
— Почему?
— А потому, что в углах изображен ранний герб Ордена иезуитов — солнце с крестом. Странное сочетание… Уже одно это обстоятельство наводит на мысль, что пластина — очень даже любопытная штуковина. Хорошо известен исторический факт, что золото тамплиеров, на которое зарились палачи, исчезло. Предвидя аресты, храмовники его куда-то спрятали. Эти сокровища — а они были просто баснословными — до сих пор ищут. Особенно усердствовали в поисках золота рыцарей Храма отцы-иезуиты. Поэтому соседство на этой пластине гербов тамплиеров и «псов Господних», как называли в прежние времена иезуитов, более чем странное. Возможно, пластина принадлежала иезуиту, являющемуся тайным поклонником возрождающегося Ордена храма. Как раз в XV–XVI веках начался ренессанс тамплиеров. В общем, непонятно… В этом есть какая-то загадка.
— Да, мил дружочек, есть… — с этими словами дед Ципурка взял в руки пластину и нажал на выпуклый выступ в виде головки заклепки посреди креста «патонс пате».
Внутри пластины что-то мелодично щелкнуло, и крест приподнялся над пластиной. Ципурка сначала повернул его два раза против часовой стрелки, отчего крест немного опустился, а затем стал поворачивать в обратную сторону — будто заводил будильник.
У Глеба даже глаза от удивления полезли на лоб — пластина начала раздвигаться! Примерно так были сконструированы полевые иконы-складни (или триптихи) — чтобы их легко было транспортировать — во время войны 1914 года, но они раскладывались безо всяких механических ухищрений, при помощи рук.
А тут неизвестный мастер умудрился запихнуть в не очень толстую пластину какой-то мудреный и весьма миниатюрный механизм.
Когда пластина снова стала единым целым (лишь увеличившись в размерах), снова раздался щелчок, и крест опустился в свое гнездо. Как Глеб ни смотрел, он так и не смог определить, где находятся пружина и шестеренки, приводившие в движение две остальные части этого бронзового складня.
— Фантастика… — сказал восхищенный Глеб.
— А то… — довольный Ципурка растянул в улыбке рот до ушей.
Удивительно, но его морщинистое худое лицо не вызывало в Тихомирове-младшем тех неприятных ассоциаций, которые испытывают молодые люди, общаясь со стариками, особенно с чужими, неродными. Как это ни больно сознавать, но к старости человек чаще всего становится безобразным. Что вполне объяснимо. И не только с точки зрения физиологии.
С годами все тайные пороки, которые мы тщательно скрываем от окружающих, начинают выползать на лицо. В этом вопросе плохо помогают даже различные косметологические ухищрения, чем сильна современная медицина. Старческую маску негодяя не скрыть никакими подтяжками кожи, никакими массажами и кремами.
Природа будто предупреждает молодых: взгляните на этого человека и старайтесь прожить свою жизнь без излишеств и в гармонии с окружающим миром. Будьте добры к ближним и окружающим вас и не забывайте, что наказание за ваши проступки придет обязательно, рано или поздно.
Увы, редко кто это понимает…
Старческое лицо деда Ципурки было приятным во всех отношениях. В его чертах чувствовалось благородство и отсутствие озлобленности, присущей многим старикам. Эта озлобленность пожилых людей извинительна; она неосознанная и происходит не от скверного характера, и даже не от того, что начали одолевать болезни и пенсия совсем мизерная, а от осознания той непреложной истины, что молодость уже не вернешь и все в этом мире конечно.
— Здесь какой-то план! — удивленно воскликнул Глеб.
Он взял в руки трансформировавшуюся пластину и перевернул ее — все еще пытался сообразить, как действует таинственный механизм.
— Хе-хе… — дед Ципурка быстро-быстро потер ладонями — будто озяб. — Это как раз то, о чем мы сейчас будем разговаривать.
Гравированная картинка (как и гербы на лицевой части пластины) тоже была выполнена искусным гравером. В этом Глеб убедился, когда начал рассматривать ее через лупу. Изображение оказалось детальным планом части какого-то города. Глебу на какой-то миг показалось, что он уже где-то видел такой план, но где именно и что за местность на нем изображена, он не вспомнил.
План был так тонко выгравирован и настолько детален, что уже сам по себе являлся выдающимся произведением искусства. Между миниатюрными домиками и церквушками мастер сумел воткнуть совсем уж крохотные фигурки горожан, которые спешили по своим делам.
— Что это за местность? — спросил заинтригованный Глеб, потому что на плане не было никаких надписей, и подумал: «Обалдеть… Ну и работа. Гравер будто лазером орудовал. Такая классная проработка деталей… никогда прежде не видел ничего подобного».
— Знал бы прикуп, жил бы в Сочи, — философски ответил Ципурка.
В свое время он слыл заядлым преферансистом и в былые годы даже участвовал в неофициальных турнирах профессионалов карточных игр. Поэтому в его речах иногда проскальзывали жаргонные словечки картежников.
— Это точно, — сухо улыбнулся Глеб.
Он уже взял себя в руки и спрятался, как краб-отшельник, в свою обычную ракушку деловитости и здорового скептицизма. Глеб уже начал догадываться, зачем дед Ципурка устроил это рандеву, но некие тайные соображения держал при себе.
И все же он не угадал. Ципурка не стал ходить вокруг да около, в своей обычной манере, а сказал прямо:
— Эту вещь я дарю тебе.
— Не понял… — Глеб опешил. — С какой стати? Извините, но я должен спросить… Мы ведь не родственники, и не настолько близки, чтобы вы дарили мне такие ценные подарки. Эта антикварная штуковина, как мне думается, стоит больших денег.
— Ты даже не представляешь, каких больших… — Ципурка вдруг нахмурился. — Скажу правду: будь я моложе лет эдак на двадцать, этого разговора не было бы. Но я уже стар и доживаю последние дни. И мне не хочется забирать эту тайну с собой в могилу.
— Тайну?..
— Да, мил дружочек, тайну. У меня достаточно оснований утверждать, что на этом плане указано место, где зарыт клад. А чтобы план не потерялся, не подмок или не сгорел, что часто случается с бумагой или пергаментом, его выгравировали на этой пластине с секретом. Вот и весь сказ.
— Но почему именно мне?
— Потому, что у меня нет достойных наследников, — с горечью ответил Ципурка. — Как я говорил, мои родственники свое уже получили… и еще получат — с банковского счета. Когда я упокоюсь. Никто из них не пожелал заниматься археологией. Они даже смеялись над моим увлечением, считая его несерьезным. Правда, до поры до времени… Но это мои семейные дела, они тебя не касаются.
— И вы, значит, решили сделать меня душеприказчиком… — тут уж Глеб не сумел сдержать иронии.
«Ну, начинается…» — подумал он с тоской. Сколько раз Тихомирову-младшему приходилось слышать подобные предложения, которые на поверку оказывались пустышкой. В маленьком мирке «черных» археологов за ним закрепилась слава не только везунчика, но и специалиста высокого класса, который, прежде чем выйти в «поле», всегда проводил обстоятельный архивный поиск. И он умел это делать как никто другой. Так учили его дед и отец, потомственные кладоискатели.
Поэтому предложений начать совместный поиск было — хоть отбавляй. «Но зачем деду Ципурке еще одно приключение на старости лет? — недоумевал Глеб. — И кстати, он ведь собрался в ближайшее время отправиться на небеса. Если, конечно, верить его словам…»
— Вроде того, — ответил Ципурка. — Только ты не думай, что я навязываю тебе свою компанию. Отнюдь. План теперь твой, и ты волен им распорядиться как тебе заблагорассудится. А я… я уже настолько стар, что самому временами становится страшно. Иду и думаю: вот сейчас упаду и рассыплюсь на запчасти. И никто не успеет меня вовремя собрать.
— Вы бы наняли служанку, — осторожно сказал Глеб. — В наше время слуги уже не гримасы проклятого капитализма и не диковинка, а образ жизни.
— Что ты, мил дружочек! Чужие люди в доме, где полным-полно разных дорогих и весьма соблазнительных вещиц… Нет-нет, незачем губить невинные души. Служанка не удержится от искушения, начнет воровать, а это уже будет грех… и не только ее, но и мой. Ведь я выступлю в роли искусителя.
— А почему бы вам не пожить у своих родственников?
— Предлагали. Но я отказался.
— По какой причине?
— Ох, Глебушка… — дед Ципурка покривился; наверное, изобразил мрачную улыбку. — Ничего ты не понимаешь… Весь тот антиквариат, который меня окружает, — мои близкие друзья. Исследуя раритетные вещицы, я беседую с ними, и они постепенно открывают мне свои тайны. Я не могу представить, что кто-то — пусть и родной мне человек — может вмешаться в наш диалог. Это будет нетерпимо.
— Вот теперь до меня дошло. Извините…
— Ты еще совсем юн… И, наверное, не знаешь, что у вещей есть что-то такое… нет, не совсем душа… но близко к этому. Вещь может полюбить человека, а может и отвергнуть его. Да-да, это так, не смейся! Станешь постарше — поймешь, о чем я говорю.
Глеб благоразумно промолчал. Он уже знал, что деда Ципурку иногда переклинивает и он начинает философствовать. Все было бы ничего, но его философия не походила ни на какую-либо другую и очень попахивала мистикой и фантастикой. Такие философские «лекции» могли длиться часами, но Ципурка сразу же замолкал, если ему не поддакивали; или не вступали с ним в околонаучный спор.
На этот раз старый кладоискатель сдержал свои инстинкты ментора. Он коротко вздохнул и перешел к самой сути дела.
— Восемнадцать лет назад, — начал Ципурка, — ушел из жизни один мой добрый приятель. Можно сказать, друг. Но он был гораздо старше меня. Так получилось, что мы жили на одной улице, в одном доме, и наши квартиры находились на втором этаже — дверь в дверь. Оскар (так его звали) был очень одинок и всегда чего-то опасался. Уже перед самой кончиной он признался, что никогда не расстается с револьвером, даже в ночное время держит его под подушкой.
— Это уже диагноз… — пробурчал Глеб.
— Что ты сказал?
— Говорю, что ему нужно было лечиться. У вашего друга была какая-то фобия.
— Не исключено. Однако я думаю, что все страхи Оскара были отнюдь не беспочвенными. Когда он умер и его похоронили, какие-то люди взломали дверь квартиры Оскара и перевернули все в ней вверх дном. Они что-то искали.
— Я догадываюсь, что именно, — сказал Глеб, чувствуя, что начинает волноваться.
Похоже, дед Ципурка не фантазирует — на горизонте и впрямь нарисовался интересный след. Хотя… «Не знаю, не знаю…» — думал озадаченный Глеб.
— Да-да, это так. Молодец. Ты все схватываешь на лету. Искали эту пластину. Потому что в квартире Оскара просто нечего было взять. Он жил небогато — как все. Ну разве что охотились за револьвером — тогда оружие было в цене. И не продавалось, как сейчас, на рынке из-под полы.
— Я так понимаю, за эту пластину с секретом Оскар держался так же крепко, как и за свой архаический ствол. Каким образом она очутилась у вас?
— За неделю до смерти Оскара я позвал его отметить свой день рождения. Тогда он и подарил мне пластину. Оскар знал, что я занимаюсь антиквариатом.
— И что, он ничего вам не рассказал?
— Увы, нет. Только намекнул, что у пластины очень интересная история. И что он как-нибудь расскажет мне о том, где взял ее и какую роль она сыграла в его судьбе. Я тогда был на подпитии и не очень вслушивался в речи Оскара. А напрасно. Это я понял немного позже, когда его квартиру посетили взломщики. Тут до меня все и дошло. Оскар не просто подарил пластину. Предчувствуя скорую кончину, он вручил ее мне как эстафетную палочку. Оскару было известно, что я люблю разные загадки подобного рода, и он точно знал, что благодаря его подарку память о нем будет жить долго. Но Оскар во мне ошибся — я так и не смог разобраться в этом плане. Хотя уверен — да, да, уверен! — на все сто процентов, что в нем указано место, где лежат большие сокровища.
Ах, эта безапелляционность прожженных кладоискателей! Любой клочок бумаги или пергамента с нечитаемыми закорючками и линиями, явно начертанными детской рукой, они готовы принять за план, в котором указано место захоронения сокровищ Али-Бабы.
Но лишь тот, кто плохо знает таких людей, может подумать, что ими движет только жажда наживы. Отнюдь. В большинстве своем это неисправимые романтики, вольница, которую хлебом не корми, а дай поковыряться в земле или опуститься на дно океана, чтобы найти там золото испанских галеонов. Да что золото! Хотя бы медную пушку петровских времен или, на худой конец, ржавый якорь ганзейского корабля.
Полная свобода, солнце, свежий ветер, морской бриз, костер в ночи — вот главные ценности «черных» археологов. Ну а если им выпадает удача, то это уже сверх программы. Тогда кладоискатели не просто счастливы, а счастливы в превосходной степени.
Но Глеб не стал высказывать свои сомнения. Он лишь коротко ответил:
— Возможно…
— Что ж, без сомнений и колебаний ни одно серьезное предприятие не обходится, — заметил старый кладоискатель. — Надеюсь, в скором времени ты изменишь свое мнение и о старом Ципурке, который, как тебе кажется, выжил из ума, и об этом раритете.
— Я и в мыслях не имел… — начал было оправдываться Глеб, но Ципурка перебил его:
— В принципе мне совсем не важно, что ты думаешь обо мне. Главное заключается в другом — ты должен раскрыть эту тайну. Нет — обязан! Такая задача тебе по плечу. В этом я уверен. У меня есть лишь одно условие: если у тебя все получится и ты найдешь благодаря плану что-то ценное, не продавай найденное по нашим каналам, а объяви его, сдай государству. И при этом обязательно скажи, напиши в газетах, журналах, кому ты обязан такой находке.
«Ну надо же… — подумал Глеб. — Оказывается, дед Ципурка, который долгие годы работал на ниве «черной» археологии тихой сапой, на склоне лет возжаждал мировой славы».
— Даю слово, — сказал он торжественно.
— Верю. Тебе я верю. Тихомировы всегда были в таких вопросах щепетильными. С придурью (извини), как считали многие наши коллеги по ремеслу… — Ципурка улыбнулся. — Зато теперь ваши находки стоят на стендах многих известных музеев, даже в Эрмитаже. Вы почти что бессребреники. А вот я в твои годы и на твоем месте никогда не дал бы такое слово. А ведь ты его сдержишь, в этом у меня совершенно нет сомнений.
— Да, сдержу, — нахмурился Глеб.
Действительно, Тихомировы нередко сдавали особо необычные и ценные (в историческом плане) находки государству. В этом был свой смысл. Во-первых, жажда обогащения никогда сильно не мучила ни Тихомирова-старшего, ни Глеба, а во-вторых, некоторые раритеты просто нельзя было продать в России из-за их большой цены, а вывозить такие находки за границу совесть не позволяла.
— Вот и хорошо, мил дружочек. Теперь я могу отправиться на погост совершенно спокойно.
— Думаю, что вы еще поживете. И очень надеюсь, что мне удастся разгадать тайну этого плана до того, как вы покинете земную юдоль.
— Спасибо тебе, мой мальчик, на добром слове, — у старика подозрительно заблестели глаза.
«Похоже, дед стал совсем сентиментальным», — мельком подумал Глеб. И сказал:
— Мне нужны фамилия и отчество вашего Оскара и желательно год рождения. А также адрес его бывшей квартиры. И хорошо бы узнать о нем поподробней.
— Фамилию — пожалуйста, адрес — нет проблем, а что касается его биографии, то тут я должен тебя разочаровать. Он был настолько замкнут, что я даже не знаю, есть ли у него родственники.
— Ну хоть что-нибудь вы можете вспомнить? Вам ведь приходилось часто общаться. Может, на какие-то подробности вы не обратили тогда особого внимания.
— Попытаюсь покопаться в памяти. Только ты спрашивай. Так будет вернее. А то шестеренки в моей голове уже заржавели, и им требуется постоянная смазка.
Уходил Тихомиров-младший от деда Ципурки со странным чувством. И оно было совсем не похожим на вдохновение, которое охватывает кладоискателя, когда ему удается схватить за хвост голубую птицу удачи. В груди Глеба угнездилась какая-то непонятная тревога, которая не покидала молодого человека до самого порога его квартиры.
Глава 3 1915 год. Киевские мазурики
Известный всему Киеву мазурик[17] Васька Шнырь не очень внимательно слушал сбивчивый рассказ Петра Лупана. Когда-то они даже дружили, но Васька теперь солидная фигура в воровском мире, а Петря так и остался работягой, граком.
Они сидели в трактире Сироштана на Подоле и пили скверную самопальную водку, которую половой подавал им в чайнике. «Сухой закон», введенный царем-батюшкой в 1914 году, продолжал действовать, но его обходили, как только могли. Сироштан, например, варганил свою «смирновскую» в подвале и по ночам. Его очень крепкий «продукт» был уже не самогоном, но еще и не водкой, и пить его могли только люди непритязательные, с лужеными глотками и желудками, способными переварить даже гвозди.
Конечно, риск был, и большой, но он оправдывался простотаки баснословной прибылью. За год Сироштан пристроил к трактиру еще один зальчик, который тоже никогда не пустовал, и даже купил акции одного очень надежного акционерного общества.
— …Вот те крест! — закончил свое повествование Лупан на высокой ноте.
— Брехня… — Васька невозмутимо пережевывал своими крепкими волчьими зубами жилистый кусок мяса.
— Но почему брехня, почему?! — горячился Петря. — Мне надежный человек сказал.
— Такой же румын, как и ты? — насмешливо поинтересовался Шнырь. — У вашего брата семь пятниц на неделе. Уж я-то знаю. Мы с тобой корешимся не один год.
— Это правда… — смутился Лупан. — Иногда на меня находит… Так ведь добрая байка еще никому в жизни не повредила.
— Да, на байки ты мастак… — посмеивался Васька.
По национальности Петря был молдаванин, и он очень не любил, когда его причисляли к румынам. Бывало, и до драки дело доходило. Несмотря на свой небольшой рост и совсем небогатырское телосложение, Лупан был жилист, вынослив и дрался как заведенный. Он запросто мог уложить любого.
Только Васька Шнырь имел право безнаказанно обзывать его румыном — по старой дружбе. Петря знал, что это просто шутка, без неприятного подтекста. Несмотря на свою воровскую сущность, мазурик был добр к нему и щедр. Вот и сегодня он угощает Петрю по-царски. На столе чего только не было.
В очередной раз вспомнив, что у него в кармане пусто, Петря продолжил осаду Васьки Шныря:
— Гришка говорил, что сам закапывал тот ящик. Тяжелый… Еле подняли его вчетвером.
— Чудак человек… Ты сам посуди, какому дураку придет в голову прятать сокровища в могилу? Скорее всего, там схоронили тайно какого-то человека. Так бывает. Грохнули кого-то и, чтобы спрятать следы, закопали его поглубже. Вот и все дела. Копачам хорошо заплатили?
— Гришка не рассказывал, но деньги у него появились, и немалые, это точно. Он прибарахлился, по дорогим кабакам начал ходить…
— Вот видишь… Мужикам расщедрились, чтобы они держали рот на замке. Иначе — кутузка и кандалы. Никому не позволено тайно хоронить мертвецов. Гробокопателям это хорошо известно. Значит, они преступили закон. К тому же, сам подумай, могилу копали четверо… так? Так. И какая после этого гарантия, что никто из них не проболтается? Никакой. Что и доказал твой Гришка. Поэтому я уверен, что в ящике лежит жмурик, а не клад. Да-а, брат, силен ты брехать…
— Ты еще не все знаешь, — сумрачно сказал Петря.
— Так просвети меня, великий сказочник, — живое лицо Васьки вмиг превратилось в маску тупого любопытства; он был опытным ширмачом[18] (таких асов в его среде называли «купцами») и мог практически мгновенно, «по ходу пьесы», изобразить любого человека — от надменного козыря до жалкого, забитого существа, одного из тех, кто пробавляется на церковной паперти.
В общем, Васька Шнырь был еще тем артистом…
— На другой день после нашего разговора Гришку нашли мертвым… — Петря содрогнулся.
Быстро схватив чашку, до половины наполненную водочным самопалом, подкрашенным чайной заваркой, он выпил ее одним духом и занюхал хлебной коркой.
— С печки упал? — безразлично поинтересовался Васька.
— Зарезали… как барана. В его же хате. Кровищи было… — Петря снова побледнел.
— Наверное, дружки… по пьяной лавочке, — высказал предположение Шнырь. — Не водись с кем ни попадя.
— Не было у него дружков! Он общался лишь со своими напарниками по работе, а также со мной — по-соседски, и то очень редко. Гришка всегда сторонился людей. Он так и не женился, хотя мужик был видный. Потому и пошел в гробокопатели — я так думаю, — чтобы быть подальше от мира. У Гришки было намерение податься в монахи, но его сдерживало то, что в монастырях запрещено даже прикасаться к вину. А это для Гришки было как кость в горле.
— Да, это загадка… — Васька разлил «чай» Сироштана по чашкам и сказал: — Давай выпьем… за упокой души раба Божьего Гришки…
Приятели выпили, и Шнырь, подозвав молоденького полового, кивком головы указал на опустевший чайник. Мальчишка с юной прытью побежал выполнять заказ.
— Так говоришь, Гришке всунули «перо» между ребер… — Васька задумчиво разминал папироску своими на удивление длинными и гибкими пальцами.
— Не просто пырнули ножом, а разрезали его на куски, как свинью, — уточнил Петря.
— Да-а, значитца, в этом деле и впрямь что-то нечисто…
— Я ж тебе говорю.
— Ну, это еще не факт, что зарыли что-то ценное. Однако же неплохо бы проверить… Тихо, тихо! Не горячись. Сразу соваться на кладбище нельзя. Нужно все обмозговать как следует, набрать ватагу, а там и… В общем, понятно. Вдвоем мы вряд ли справимся. Уж больно сурьезная картина вырисовывается. А к тебе потом никто не подходил, про Гришку не спрашивал?
Петря похолодел.
— Спрашивали, — сказал он упавшим голосом. — Где-то спустя две недели после его смерти. Какой-то большой полицейский чин приезжал. Странный…
— И что он хотел узнать? — Васька пригнулся к столу и смотрел на своего приятеля с хищным вниманием.
— Дружил ли я с ним, какие разговоры велись между нами…
— Ну, это обычное дело. Сыск. Тебя обязаны были допросить.
— Так ведь допрашивали… на следующий день. Я сказал, что никакого отношения к Гришке не имею, знаю его лишь как соседа («Наше вам…» — «До свидания»), никогда с ним близко не общался, ничего не видел и ничего не знаю. Хорошо, что я в ту ночь подрядился разгружать вагоны… до утра разгружал. А потом пошли в трактир, прямо с утра. Гужевали до полудня, нам хорошо заплатили. Вся бригада грузчиков подтвердила, что я никуда не отлучался.
— Алиби… — сказал Шнырь. — Это называется алиби. Повезло тебе, румын. Иначе хлебал бы ты сейчас пустые щи в Лукьяновском замке[19]. Сшили бы легавые дельце — и привет. Но, я вижу, фараон тебе сильно не понравился. С чего бы?
— Чересчур гладко стелил. Я ведь раньше лишь с околоточным надзирателем общался, но тот, ежели что, сразу кулаком в морду. Этот же все культурно, грамотно, с подходцем. Прям убаюкал. Я едва не начал выкладывать ему все как на духу. Да вовремя спохватился, потому что наступил пяткой на гвоздь. У меня сапоги прохудились, и я, когда их чинил, каблуки прибил чересчур длинными гвоздями. Но концы не все загнул. Просмотрел. Вот гвоздь и начал шпынять меня, когда я из трактира вышел. А дома я даже не успел снять сапоги, как появился этот полицейский.
— Дело пахнет керосином… — Васька Шнырь неожиданно вспотел неизвестно отчего. — Похоже, Петря, это я охломон, а не ты. Извини. Нужно дернуть за эту ниточку. Обязательно нужно. В моей груди уже просто пожар. Когда так бывает, это значит, что дело верное. Там точно закопали что-то ценное. И теперь прячут концы в воду.
— Может, шпиёны?.. — высказал предположение Петря. — Война идет…
— Возможно. Проверим Петря, будь спок. Ежели найдем там барахлишко какое или золото — отлично, ну а если какие-нибудь шпионские штучки — тоже хорошо. Получим благодарность от государя императора… за бдительность. Для городовых будет отмазка — чтобы не теребили лишний раз. А где это кладбище находится?
— В Китаевской пустыни[20].
— Что-то не припоминаю…
— Старый монастырский погост на Китай-горе. Там уже давно никого не хоронят.
— А, ну да… Выходит, ящик заныкали на старом кладбище. Мудро. Но есть одна загвоздка — неплохо бы знать, где именно расположена эта заветная могилка. Гришка об этом тебе говорил?
— Нет, не говорил.
Васька Шнырь скептически ухмыльнулся и сказал:
— Вот так всегда: удача сначала поманит, а потом взмахнет крылышками — и ищи-свищи ее. Или ты предлагаешь все могилки на кладбище разрыть?
Немного поколебавшись, Петря сказал:
— Все могилки трогать не надо. Я знаю точное место.
— Да ну?! — удивился Васька. — Ты ж сказал, что Гришка на эту тему разговор не заводил. Непонятно… И где оно, это заветное местечко? Колись, друг ситцевый.
Даже Ваське Петря не рассказал бы, чем он занимался, когда нашел тело Гришки. Вместо того чтобы сразу бежать в полицейский участок, он тщательно обыскал все потайные места в убогой хатенке своего соседа. Но искомое нашел лишь в сарайчике, где Гришка когда-то держал кур.
Коробка из-под монпансье была спрятана под стрехой. В ней Петря нашел около полусотни рублей, которые Гришка хранил на «черный день», и мятую бумажку с нарисованным чьей-то неверной рукой планом Китаевского кладбища. Заветную могилку обозначили крестиком.
Большие деньги, на которые надеялся Лупан, исчезли. А они точно были. Наверное, их забрали убийцы.
Досконально изучив найденный план, Петря набрался смелости и однажды посетил сначала церквушку, возле которой находился погост, — помолился, — а затем и само кладбище. Надгробие над могилой оказалось старинным, но у Петри был зоркий глаз, и он сразу определил, что оно установлено недавно.
Похоже, кладбище, откуда взяли надгробие, располагалось в другой местности, поэтому мох на могильном камне оказался с южной стороны, а должен быть с северной, как на других надгробиях. Или копачи сделали так намеренно — уж неизвестно зачем, или впопыхах воткнули камень абы как.
А еще в высокой траве Лупан нашел несколько достаточно свежих комочков глины, которую можно было достать только из-под полуметрового слоя чернозема. Наверное, те, кто маскировал захоронение, проглядели их.
— Не все сразу, — ухмыльнулся Петря. — Когда будем на месте (если, конечно, сговоримся), тогда и покажу.
— Выходит, не доверяешь мне… — Васька Шнырь изобразил обиду. — Нехорошо…
— Без доверия к тебе этого разговора не было бы, — неожиданно жестко ответил Петря. — Похоже, в деле, как ты намекнул, будем не только мы двое. Поэтому лучше мне приберечь свой козырь в рукаве. Или я не прав?
— В общем-то да, ты прав… — неохотно согласился Васька. — Ладно, все, никаких обид.
Уж он-то хорошо знал нравы и обычаи воровского сообщества…
— Так ты согласен? — с надеждой спросил Петря.
— Я-то согласен… но нам нужна, как я уже говорил, подмога. Сурьезная подмога. Надобно идтить на поклон к Федьке Графчику.
— Кто это?
— О, это большой человек на Шулявке, — уклончиво ответил Васька. — Если он согласится войти в дело, тогда все будет тип-топ.
— Ну, если так…
— Не переживай. Свою долю в случае удачи ты точно получишь. Мы ж не какие-нибудь фармазоны. Мы солидные, фартовые мазурики. Между прочим, ты и один мог пойти на промысел… Почему не решился?
— Боязно одному.
— То-то… Очко ведь не железное. Гуртом и батьку легче бить. А скажи мне, ты знаешь напарников Гришки?
Петря насторожился. Он сразу понял, куда гнет Васька, и на какой-то миг пожалел, что связался с ним, но потом с присущим ему благоразумием подумал, что другого выхода у него все равно не было. Раскромсанное тело Гришки постоянно вставало перед внутренним взором Петри.
— Откуда? О них он не говорил, — с легким сердцем ответил Лупан; в данном случае он говорил чистую правду.
— Это плохо… — похоже, Васька не очень поверил своему приятелю, однако не стал на него напирать; он уже полностью уверовал в то, что на Китайке спрятан клад, и боялся, что чересчур подозрительный Петря может дать задний ход. — Но не беда. Может, тебе известно, у кого Гришка работал?
— Да, известно. У Ваньки Бабая.
— Понял. Козырное заведение. Это уже легче… Ну что, брат, допиваем ханку и по коням? Сегодня мне много чего нужно сделать. А ты сиди дома, никуда не ходи. Возможно, уже этим вечером понадобишься. Но ежели не сегодня, то завтра — точно. Жди.
— Ты ж не подведи…
— О чем базар? Все сделаем, как надо. Кстати, где ты достал такой козырный кишкотник?[21]
Брюки Лупана поддерживал прочный флотский ремень (почти новый), который застегивался бронзовой бляхой с двуглавым имперским орлом и якорями. Когда началась война, такие ремни начали считаться у городской босоты большим шиком.
— Морячок один подарил. Он был в Киеве проездом.
— Не может быть!
— Ну, не совсем подарил… В общем, мы махнулись: он мне ремень, а я ему зажигалку. Помнишь, ту, что я купил у тебя? Но ремень-то стоит гораздо дороже…
— А… — Васька вздохнул с облегчением — слава богу, что зажигалки уже нет в Киеве.
Зажигалка, которую он продал Петре за бесценок, конечно же стоила больших денег, потому что была серебряной. Да вот только держать ее у себя Шнырь не мог, потому как она была ворованной. Притом Васька украл ее не у кого-нибудь, а у самого участкового пристава Семиножко. И слямзил он зажигалку не ради наживы, а для понта, чтобы выпендриться перед другими карманными ворами, которые боялись пристава как огня.
— Ладно, бывай, — сказал Шнырь. — Я сваливаю…
Первым делом Васька нанес визит Федьке Графчику. Он не очень верил, что тот подпишется на это тухлое дело, — козырный Графчик порхал по верхам и шел лишь на фактурный промысел,[22] — но Шнырь обязан был доложиться. Ведь Китаевский монастырь и кладбище входили в район, который «опекал» Федька.
Графчика он нашел в «малине», которую держал Остап Кучер. Это было шикарное заведение — везде ковры, бархат, фальшивая позолота и жратва с выпивкой от пуза. Вся блатная Шулявка мечтала побывать в «малине» Остапа, да не каждому из мазуриков открывались в ней двери. Васька Шнырь лишь совсем недавно сподобился такой чести.
Федька Графчик сидел в отдельном кабинете в окружении девиц сомнительного поведения, которые, как было известно Шнырю, постоянно обретались в Ямской слободе[23], и лениво потягивал из высокого фужера охлажденное шампанское. Бутылка «Клико» заманчиво светилась фольгой в серебряном ведерке, почти доверху заполненном льдом. Васька невольно облизал пересохшие губы — после острой и соленой трактирной еды очень хотелось пить.
Он минуты две безмолвно стоял перед столом, переминаясь с ноги на ногу, пока наконец Графчик не соизволил заметить его присутствие; первому подать голос в такой ситуации считалось неприличным. В воровской иерархии Федька стоял выше, чем Шнырь, потому-то он и подержал Митьку на фонаре[24] как халдея «Чего изволите?». Васька угодливо улыбался, но мысленно дал себе зарок, что когда-нибудь припомнит Федьке его «гостеприимство».
— А, Шнырь… Наше вам… — Графчик неуловимо быстрым жестом фокусника поймал из воздуха папиросу, и она тут же задымилась в его руках.
Он любил производить впечатление на мазуриков такими выступлениями. Его матерью была цирковая акробатка, а отцом — по косвенным сведениям — какой-то граф, запавший на прелести юной девицы. До четырнадцати лет (пока его не посадили) Федька дневал и ночевал в цирке; там он и нахватался разных штучек, чтобы удивлять ими доверчивых охламонов.
Но Васька Шнырь и сам был еще тот жох. Он умел отводить глаза не хуже Графчика. Таким же небрежным движением, как и Федька, он извлек из ниоткуда папироску и сказал, ухмыляясь:
— Привет честной компании! Разрешите прикурить?
— Прикуривай… — буркнул мигом помрачневший Графчик и бросил Ваське коробок спичек.
Шнырь пыхнул два раза зажженной папиросой и сказал:
— Благодарствуем.
— Присаживайся, — буркнул Графчик. — Выпьешь? — указал он на бутылку шампанского.
Васька мужественно задавил в себе желание утолить жажду и отрицательно покрутил головой. Еще чего — пить на халяву. Такие вещи солидный вор позволить себе не может. Графчик знал этот неписаный закон и все же устроил провокацию.
«Вот сука…» — думал Шнырь, при этом мило улыбаясь девицам. Не принеси Петря в клювике наколку на дело, он никогда бы не пришел на поклон к Федьке Графчику. У них были разные воровские «специальности», и их пути практически никогда не пересекались. Федька был «ювелирщиком» — воровал золотые изделия. При этом нередко вступая в интимные связи с дамами высшего света — он выдавал себя за дворянина.
Такая роль не требовала от него особых усилий: во-первых, сказывалась порода — Графчик с виду вылитый барин, во-вторых, он был красив, а в-третьих, неплохо знал французский язык, которому его научил цирковой клоун, безответно влюбленный в Федькину мамашу. Клоун, отпрыск обедневшего французского дворянина, оставшегося в России после разгрома войск Наполеона, привил мальцу и аристократические манеры.
— Спасибо, нет, — вежливо ответил Шнырь. — У меня к тебе есть одно дельце.
— Да? — удивился Графчик; но сразу же среагировал, как должно: — Дамы, вы немного погуляйте.
Девушки безропотно поднялись и скрылись в дамской комнате. Васька присел к столу и без лишних деталей рассказал Графчику о странном захоронении на Китаевском кладбище. Шнырь, конечно, мог провернуть раскопки и без привлечения Федьки, но он знал, что у того везде есть глаза и если его вместе с Петрей засекут за этой работой, то тогда у них могут быть большие неприятности, вплоть до правилки — воровского суда.
— И ты веришь этому румыну? — со скепсисом спросил Графчик.
— Не так, чтобы очень… — вынужден был признаться Васька.
— Вот и я об этом.
— Так ты подписываешься в компанию? — спросил Шнырь, исподлобья глядя на Графчика.
— Шнырь, это твое дело. Ты и занимайся им… если, конечно, у тебя есть желание превратиться в гробокопателя. А насчет раскопок у меня нет возражений. Можешь ковыряться в гробах, сколько тебе влезет.
В последней фразе прозвучала едва заметная ирония вперемежку с презрением. Васька понял, что Федька не может себе позволить опуститься так низко, дабы не уподобиться какому-нибудь крестьянину-граку. И очень этому обстоятельству порадовался. Если в захоронении будет что-то стоящее, то Ваське плевать на осуждение ряженого фармазона Графчика. К тому же и делиться с ним не придется, что совсем уж хорошо.
— Спасибо, Графчик… — Васька поднялся. — Не забуду… Бывай.
С этими словами Шнырь и покинул «малину» Остапа Кучера.
После его ухода Графчик какое-то время сидел молча, с пристальным вниманием разглядывая пузырьки углекислого газа, поднимающиеся со дна бокала с шампанским, а затем сильно щелкнул пальцами. Позади него раздвинулись портьеры, и появился ближайший помощник и телохранитель Федьки, коренастый здоровяк по кличке Серега Матрос.
— Все слышал? — спросил его Графчик.
— А как же, — ответил Матрос, запихивая наган за пояс под рубаху — она была навыпуск.
Когда половой сообщил, что Васька Шнырь желает встретиться с Графчиком, Матрос, как обычно, спрятался в нише и взял посетителя на прицел. Уж больно времена пошли лихие. Война подняла со дна всю человеческую муть, и теперь даже в надежной «малине», где мазурики были под защитой воровских законов, иногда случались кровавые разборки.
— И что думаешь? — Графчик нервным движением сломал очередную папиросу и бросил ее в пепельницу.
— Ты разве не знаешь Шныря, — с ленцой ответил Матрос. — Как всегда, мутит. Не верю я в эти сказочки.
— Вот и я… не верю. Может, зря? Надо покумекать. А пока… Вот что, Матрос, подбери из блатной[25] шпаны несколько смышленых архаровцев, и пусть они не спускают глаз со Шныря. Ты и возглавишь эту банду. Чтобы не напортачили. Шнырь хитер… Вдруг и вправду что-то нарисуется. Для нас главное — узнать, где та могилка. А раскопать ее мы и сами сумеем. Найдем что-нибудь — хорошо, не найдем — значит, фарт не наш. Всего-то делов.
— Понял, — ответил Серега Матрос и хищно ухмыльнулся.
Остап Кучер, который слышал все разговоры в кабинете благодаря хитро устроенной системе, похожей на большой докторский стетоскоп, оторвал ухо от отверстия в стене, закрыл его деревянной пробкой, а затем пустыми ящиками и быстро вышел из кладовки. Воровато осмотревшись по сторонам, он тщательно запер прочную дубовую дверь на сложный внутренний замок, который не могли открыть даже опытные воры-«медвежатники», спецы по сейфам, и поторопился на кухню.
Глава 4 2007 год. Завещание Оскара Трейгера
Пластина с гравированным планом лежала на столе перед Глебом, который смотрел на нее, как «баран на новые ворота». Так он мысленно охарактеризовал свое состояние. Глеб бился над планом уже пять или шесть часов, с раннего утра, но все его потуги оказались напрасными.
Он отсканировал изображение и ввел его в компьютер, но программа, в памяти которой содержались десятки тысяч карт и планов местности, была безжалостна; она отвечала, что аналогов данному файлу нет. Хотя бы знать более-менее точное время, когда создавался этот план, с тоской думал совсем отчаявшийся Глеб. Но кому это может быть известно?
Таинственному Оскару… Только ему. По идее. Но Глеб — не Одиссей и не может спуститься в преисподнюю, чтобы поспрашивать Оскара о том, как попал ему в руки этот план и что за местность на нем изображена.
Впрочем, у Тихомирова-младшего были подозрения, что и сам Оскар этого не знал. Иначе он давно отыскал бы клад (если, конечно, это не старческие бредни деда Ципурки) и сбежал в какие-нибудь западные или ближневосточные палестины.
Пока вырисовывался лишь один-единственный шанс — покопаться в биографии Оскара. Но как это сделать? Ведь родственников у Оскара, судя по информации, полученной от Ципурки, не было. А может, все-таки были? Что если этот Оскар скрывался?
Тогда еще хуже. Он мог прятаться и под чужой фамилией. Если в советские времена Оскар не боялся носить ствол — а это была серьезная статья в Уголовном кодексе, то от истории его жизни можно всего ждать.
«Будем искать…» — сказал сам себе Глеб с тяжелым вздохом. И невольно улыбнулся, вспомнив, из каких глубин памяти всплыла эта фраза. Так говорил герой одного комедийного фильма. Но ему был нужен всего лишь женский халат с перламутровыми пуговицами, а Глеб должен, как в сказке, «пойти туда — не знамо куда; и найти то — не знамо что…»
Старый пятиэтажный дом, в котором соседствовали Оскар и Ципурка, на удивление и к радости Глеба, все еще стоял; правда, в окружении новостроек. И даже люди в нем жили. Старики.
Наверное, им просто некуда было деться, и они покорно дожидались, пока снесут или дом, или их — на погост. Именно дожидались, потому что жить в таком доме было опасно, судя по фасаду, который пошел трещинами. Издали пятиэтажка казалась побитой молью и изрядно полинявшей фуражкой серо-песочного цвета, надетой на голову пьяного мужичка набекрень.
— Здравствуйте! — поприветствовал Глеб старушек, которые грелись на солнышке, рассевшись по двум садовым скамейкам, державшимся на честном слове: столбики, к которым были прибиты доски, сильно подгнили.
— День добрый, — вежливо ответила одна из них, в больших роговых очках.
«Скорее всего, бывший педагог», — с почтением подумал Глеб. Именно такой он и представлял учительницу на пенсии: строгий, но изрядно поношенный темный костюмчик, белая кофточка с отложным воротником, седые волосы, схваченные на затылке в тугой узел, и главное — большие очки. Они были основным штрихом для завершения образа.
— Можно, я присяду рядышком? — спросил Глеб с любезной улыбкой.
— Садитесь, — опять ответила «учительница».
— Спасибо… — Глеб сел, чувствуя себя немного неловко под обстрелом любопытных старушечьих глаз.
Чтобы раскрепоститься и быстро наладить нужный контакт, он решил сразу же пустить в ход своего «троянского коня» — большую коробку шоколадных конфет, которую захватил с собой именно для такого случая. По-прежнему улыбаясь, Глеб открыл коробку и сказал:
— Угощайтесь.
Долго упрашивать старушек не пришлось. Похоже, им нечасто выпадала такая лафа. И то верно — на пенсию сильно не разгонишься. Последней взяла конфету «учительница»; при этом она вежливо кивнула — поблагодарила.
— Вы будете нас агитировать? — спросила бабулька в цветастом ситцевом сарафане и вязаной кофточке.
— С чего вы взяли? — удивился Глеб.
— А нас нонче тока агитаторы и угощают. Как выборы, так сразу бегуть с пакетами. Чтобы, значит, мы какого-нибудь кандидата поддержали. Но больше водку носят. А нам она зачем? Мы пьем в основном чай.
— Нет, вы ошибаетесь. Я не агитатор. Но если честно, то пришел к вам тоже не без задней мысли. И все же, поверьте мне, угощаю вас конфетами с пребольшим удовольствием.
— Спросить чего хошь? — снова подала голос словоохотливая бабулька.
— Именно так. Может, вы вспомните… Когда-то в вашем доме, в девятнадцатой квартире, жил некий Оскар Трейгер. Вы помните такого?
— Трейгер… — бабулька задумалась.
Остальные старушки тоже зашуршали извилинами, наморщили лбы, но больше из вежливости, как понял Глеб по их безразличным глазам. «Как же их достала эта «демократическая» жизнь, — подумал Глеб. — Теперь никто ради другого человека даже пальцем не шевельнет, тем более — бесплатно. Раньше любого приютили бы, а нынче и на порог не пустят, даже больного или раненого оставят умирать на коврике у двери».
— Нет, не припоминаем, — за всех ответила бабулька спустя какое-то время.
Все, факир был пьян и номер не удался… Глеб огорченно вздохнул и встал.
— Что ж, извините за беспокойство, — сказал он старушкам с легким поклоном. — Всех вам благ, не болейте.
— Я знала Оскара…
Негромкий голос «учительницы» словно ножом полоснул по нервам Глеба. Он даже дернулся от неожиданности и перевел на нее взгляд. Она по-прежнему была спокойна и невозмутима, а ее глаза смотрели сквозь стекла очков не по-старушечьи остро и проницательно.
— Вы… знали Оскара Трейгера? — переспросил Глеб.
— Да. Я живу на третьем этаже, в двадцать второй квартире…
То есть как раз над девятнадцатой, в которой жил Оскар, сразу же вычислил Глеб. И сказал:
— Нам бы поговорить…
Он увидел, что у старушек сразу загорелись глаза, и они насторожили уши. Ох уж эти женщины… Их хлебом не корми, а расскажи какую-нибудь интересную новость. Потом они насытят ее выдуманными подробностями, и начнет по миру гулять уже не новость, а сплетня.
— Пойдемте ко мне, — понимающе кивнув, сказала старушка, и Глеб поднялся вместе с нею на третий этаж.
Нужно сказать, по лестнице он шел с опаской, потому как ему казалось, что она вот-вот развалится и он рухнет вместе с крошащимся бетоном в подвал. Наверное, разыгравшееся воображение Глеба подогревала обвалившаяся штукатурка на лестничных маршах.
Двухкомнатная квартира «учительницы» была удивительно уютной и блистала чистотой. В кухне, куда старушка пригласила Глеба, на подоконнике сидел здоровенный рыжий кот. Он неодобрительно посмотрел на Глеба своими изумрудными глазищами, мягко спрыгнул на пол и удалился с видом аристократа, которому не пристало находиться в одной компании с простолюдином.
— Не хотите чаю? — предложила старушка.
— Нет-нет, спасибо… Меня зовут Глеб, — представился Тихомиров-младший.
— Ольга Никаноровна, — ответила «учительница».
Глеб уже хотел выдать дежурную фразу «Очень приятно», да вовремя сдержался. Она прозвучала бы нелепо. Поэтому он лишь вежливо изобразил легкий поклон.
— Что вы хотите узнать? — спросила Ольга Никаноровна.
— Как вам сказать… — Глеб замялся. — В общем, меня интересует биография вашего бывшего соседа.
— Зачем это вам?
— Я… в некотором роде историк, пишу книги о революции, о войне, — недолго думая, соврал Глеб. — Копаясь в архивных материалах, я нечаянно наткнулся на имя Оскара Трейгера, а потом узнал, что он долгое время жил в нашем городе. К сожалению, его родственников мне не удалось разыскать…
— Чем же Оскар вас так заинтересовал? — допытывалась Ольга Никаноровна.
— Долго рассказывать… — ушел от прямого ответа Глеб. — Короче говоря, его фамилия всплыла в связи с некоторыми событиями на фронте… в сорок втором году… — он врал напропалую, надеясь на русское «авось».
И попался. «Учительница» коротко улыбнулась и сказала:
— Этого не может быть.
— То есть как?..
— В сорок втором году Оскар был далеко от фронта. Он не принимал участия в боевых действиях.
«Блин!» — выругался Глеб. И что теперь? Похоже, у него чересчур быстро закончился запас лапши, которую он намеревался навешать на уши старушке. Но был и положительный момент в начавшемся разговоре: Ольга Никаноровна, несомненно, ХОРОШО знала Оскара Трейгера, если ей были известны такие подробности. Например, его сосед и приятель, почти друг, Ципурка понятия не имел, чем Оскар занимался во время войны.
— И все-таки я уверен, что это был именно он, — не дрогнув лицом, невозмутимо ответил Глеб. — В документах не указано, что Оскар Трейгер был на передовой и ходил в атаки, но его имя упоминалось несколько раз.
— Откуда у вас такая уверенность? Может, это его однофамилец.
— Перед тем как прийти сюда, я беседовал еще с одним вашим бывшим соседом, Ципуркой…
— С Вацлавом Станиславовичем? — оживилась Ольга Никаноровна.
— Да, с ним.
— Он еще жив? Не знала…
— Пока жив. Чувствует себя неплохо, но, по-моему, немного хандрит.
— И он подтвердил, что Оскар был на фронте?
— В какой-то мере… — неопределенно ответил Глеб.
Если хочешь вытащить из клиента какую-нибудь ценную информацию, нужно напускать побольше тумана.
— Ну, не знаю… — Ольга Никаноровна с сомнением пожевала сухими губами. — Мне Оскар говорил совсем другое…
— Если это не большой секрет, то что именно?
— Ладно, вам скажу… — «учительница» испытующе заглянула в глаза Глебу. — Теперь это уже не может быть тайной. Он давно в могиле, а я… — она скупо улыбнулась. — Моим уделом стало одиночество…
Глеб напрягся. Уж больно загадочной была старушка.
— Так вот, молодой человек, в начале пятидесятых Оскар находился за границей, — продолжила после небольшой паузы Ольга Никаноровна. — У него была другая война…
Неужели Оскар Трейгер служил в НКВД? Глеб взволнованно спросил:
— Он был разведчиком?
— Оскар так не говорил. Он сказал лишь, что в 1940 году жил в Гааге. А затем переехал в Швейцарию, в Берн, где и пробыл вплоть до июня 1945 года.
— Понятно, — машинально сказал Глеб, хотя на самом деле понятного было мало; как попала в руки Оскара Трейгера пластина и что за местность на ней обозначена? — Он ничего вам не рассказывал о жизни за границей?
— Совсем немного. Большей частью описывал обычаи в тех странах, где он бывал, говорил о западной архитектуре, о музеях и коллекциях…
— Оскар был коллекционером? — перебил Глеб «учительницу».
Ему показалось, что мелькнул кончик ниточки, за которую можно ухватиться и размотать клубок тайны. Но его надежда оказалась пустышкой.
— Нет, он не занимался коллекционированием. Оскар немного рисовал… — Ольга Никаноровна поднялась. — Пойдемте…
Они прошли в гостиную, и «учительница» указала Глебу на большое живописное полотно; это был натюрморт — полевые цветы в красивой вазе.
— Это работа Оскара. Его подарок.
Неплохо, подумал Глеб, рассматривая картину. Похоже, Оскар Трейгер до того, как стал сотрудником внешней разведки, учился на художника. Так точно и уверенно положить на полотно красочные мазки дилетант не мог.
— А почему нет подписи? — поинтересовался Глеб.
— Оскар подписал картину, — ответила Ольга Никаноровна. — Но только с обратной стороны.
— Можно посмотреть?
— Смотрите… — как ни странно, но «учительницу» почему-то совсем не удивляла назойливость Тихомирова-младшего.
Глеб снял картину, повернул к себе тыльной стороной… и едва не уронил ее на пол. Свою подпись Оскар Трейгер вплел в графическое изображение креста «патонс пате»! Подпись была выполнена крупным, размашистым почерком, толстым грифелем, поэтому крест просматривался достаточно отчетливо.
— Убедились, что картину написал именно Оскар, а не кто-либо другой? — в голосе Ольги Никаноровны звучала нескрываемая ирония.
Неужто она решила, что Глеб — сотрудник ФСБ или какой-нибудь другой подобной «конторы»? Забавно… Тихомиров-младший широко улыбнулся и ответил:
— Я вижу, вы очень проницательны…
— Когда поживете с мое, тогда поймете, что человек не такая уж большая тайна, как о нем пишут в книгах. Редко кто может спрятать свои истинные чувства под маской невозмутимости. Вот Оскар мог.
«Ну надо же… А старушка, похоже, философ, — подумал не без иронии Глеб. — Может, она не учительница, а, например, бывший доцент университета? Толкает речь, будто читает лекцию…»
— Это… все, что у вас осталось от Оскара? — осторожно спросил Глеб.
— Нет, не все… — Ольга Никаноровна указала на янтарные бусы, которые висели у нее на шее. — Бусы тоже его подарок… — она немного поколебалась, а затем потащила Глеба за рукав в спальню. — Примерно за неделю до смерти Оскар отдал мне еще одну картину. Вот она.
Полотно было размером примерно сорок на тридцать сантиметров. На нем художник изобразил пятиглавый православный храм, окруженный церквушками поменьше и какими-то зданиями. Перед храмом он нарисовал озеро (или пруд), а позади строений виднелись поросшие лесом холмы. По манере письма Глеб сразу определил, что картину рисовал не Оскар Трейгер. Мало того, ее написали очень давно, возможно, до революции. Чтобы сделать такое заключение, у Тихомирова-младшего опыта и знаний было вполне достаточно.
— Вы сказали, отдал… — Глеб вопросительно посмотрел на Ольгу Никаноровну.
— Да, именно так. Я всего лишь хранительница этой картины.
— Простите, не понял…
— Все очень просто… — у Ольги Никаноровны вдруг увлажнились глаза. — Так и быть, расскажу… Мне нет никакого смысла тащить с собой на тот свет чужие тайны. Оскар предупредил, что за этой картиной кто-то должен прийти. Уж не вы ли? Те, кто приходил до вас, интересовались лишь бумагами Оскара, его дневниками и документами. Они были… его коллегами по работе. А вам, как я поняла, нужно совсем иное…
Глеб понял, что ошибался в своих умозаключениях. «Учительница» благодаря знакомству с таинственным Оскаром Трейгером имела немалый опыт общения с «конторой» (так раньше называли НКВД и КГБ), а потому сразу определила, что ее собеседник не может быть чекистом. В таком случае…
Да, все верно. Скорее всего, она решила, что Глеб — тот человек, о котором ее предупреждал Оскар. Но почему тогда Ольга Никаноровна сразу не показала ему картину с нарисованным храмом?
Вывод напрашивался сам собой: Глеб должен был сказать какой-то пароль. Или предъявить что-то в качестве пароля. Старушка, которой надоело ходить вокруг да около, ускорила ход событий, решив проверить его своими откровениями.
Глеб размышлял недолго, но очень интенсивно. За считаные секунды он проанализировал свой разговор с дедом Ципуркой и понял, что Оскар Трейгер и впрямь относился к своему соседу как к настоящему другу. Зная страсть Ципурки к разгадыванию исторических загадок, он подарил ему самое дорогое, что имел, — ключ от большой тайны.
Действительно, это был очень дорогой подарок. Возможно, благодаря ему дед Ципурка и прожил так долго. А все потому, что он, как истинный профессионал, просто не мог уйти в мир иной, не разобравшись с планом. Это желание держало его на земле прочнее всяких лечебных процедур и лекарств. Когда у человека есть цель и он страстно желает ее достичь, то на какое-то время даже годы и болезни отступают.
Увы, дед Ципурка не смог проникнуть в тайну Оскара Трейгера. Возможно, тот не очень и надеялся на это. Для него главным было другое — дать Ципурке стимул к долгой жизни.
Но тогда возникает следующий вопрос: кто должен был прийти к Ольге Никаноровне за картиной? Тут есть два варианта — или Ципурка, если у него хватит смекалки разобраться с планом, или кто-то другой. Возможно, даже иностранец, вспомнил Глеб, где находился Трейгер в годы войны.
Потому-то никто за картиной и не явился — железный занавес. К тому же в СССР иностранцы всегда были под присмотром КГБ. А что, это вполне возможно…
И самое главное: как выглядит этот пароль — какая-то фраза, записка, вещь… Может, прямо спросить об этом «учительницу»?
Ага, так она тебе и расколется, с сарказмом подумал Глеб. Уж если Ольга Никаноровна даже сотрудникам «конторы» не рассказала о своеобразном завещании Оскара Трейгера, то она и подавно пошлет его туда, где Макар телят не пас. Естественно, в вежливой форме, но смысл будет тот же.
«А что, если?.. — Глеб невольно прикоснулся к внутреннему карману, где лежали фотографии пластины; он сделал несколько снимков в разных ракурсах — на всякий случай; саму вещь носить с собой он побоялся и спрятал ее в тайник. — Я почти уверен, что Оскар показывал ей этот раритет. Похоже, у них были отношения гораздо ближе добрососедских… М-да… Кто не грешил в молодости, тот пусть первым бросит в меня камень. Показывать-то он показывал, но служит ли пластина паролем? Это вопрос…»
Была не была! Тихомиров-младший достал один из снимков и молча протянул его Ольге Никаноровне. По напряженному выражению, которое вдруг появилось на ее морщинистом лице, Глеб понял, что попал в точку. Или почти попал.
— Выходит, я не ошиблась… — внимательно рассмотрев фотографию, сказала «учительница». — Вы — тот самый человек…
Она подняла на Глеба глаза. Он старался казаться спокойным, невозмутимым и строгим, но все его тело начала сотрясать мелкая противная дрожь — так сильно он волновался. Почему? Глеб не смог бы ответить на этот вопрос. Возможно, причиной его волнения была ложь. Получается, что он обманывает старушку самым наглым образом.
А может, все-таки рассказать ей правду? Все на душе спокойнее будет… Ну, не отдаст она эту картину ему, а он не сумеет раскрыть тайну плана — и что с того? В его профессии разных тайн и загадок — пруд пруди. Сотни жизней не хватит, чтобы со всеми разобраться.
Старушка разом прекратила все сомнения и терзания Глеба. Вернув ему фотографию, она сказала:
— Я верю вам. Но вы должны показать мне сам предмет. Так наказал Оскар в своем устном завещании.
Есть! Выстрел в «яблочко»! У Глеба мгновенно отлегло от души, и он успокоился. На сцену вместо мятущегося интеллигента неожиданно даже для Глеба вышел циник и прагматик — прожженный кладоискатель, «черный» археолог, готовый ради какого-нибудь раритета работать до изнеможения и лгать, если потребуется, без малейших угрызений совести.
— Это не проблема, — ответил он с легкой душой и улыбнулся. — Я привезу вам его… через час.
— Не получится.
— Почему?
— Мне надо идти в поликлинику на процедуры. А там всегда большая очередь. Так что я не знаю, когда вернусь домой. Ну, а после процедур мне нужно зайти на рынок… Давайте перенесем нашу встречу на завтра. До обеда я свободна.
— Хорошо. Завтра так завтра, — не без сожаления, согласился Глеб; ему не терпелось продолжить работу с планом.
А еще он очень хотел подтвердить свои умозаключения, что Ольга Никаноровна — бывшая учительница. Этот вопрос давно вертелся у него на кончике языка. Но Глеб мужественно сдерживал себя, чтобы не уйти в сторону от главной темы разговора. Он боялся, что Ольга Никаноровна, как почти все пожилые люди, ударится в воспоминания и потом ему придется битый час выслушивать разные житейские истории, не имеющие никакого отношения к его делу.
Они еще немного побеседовали — о том, о сем — и Глеб откланялся. Ольга Никаноровна проводила его до двери. У выхода он все-таки не совладал с бесом любопытства и спросил:
— Вы, случаем, по профессии не педагог?
— Почему вы так думаете? — удивилась старушка.
— Как вам сказать… — Глеб замялся. — Я, конечно, плохой физиономист… но мне так показалось.
Ольга Никаноровна неожиданно рассмеялась. С облегчением. Похоже, наказ Оскара Трейгера был для нее тяжелой ношей, и теперь она радовалась, что наконец может выполнить его последнюю волю.
— Нет, я не учитель, — ответила Ольга Никаноровна. — Я инженер. Работала в конструкторском бюро…
Уже сидя в салоне своей «ауди», Глеб довольно улыбнулся. Действительно, физиономист он аховый. Но это была его единственная ошибка в переговорах. Все сложилось как нельзя лучше. Хорошо, что он догадался сделать снимки пластины и взял их с собой…
Сворачивая с улицы на бульвар (там было кафе, в котором хорошо готовили, и Глеб лишь теперь вспомнил, что утром выпил только чашку чая и съел бутерброд, а про обед и вовсе забыл), он вдруг почувствовал холодок между лопаток. Так было всегда, когда за ним велось скрытное наблюдение.
Глеб обладал потрясающей интуицией и даром предвидения, который перешел к нему в наследство от прапрадеда Саввы Тихомирова, казака и сорвиголовы, сумевшего в своих кладоискательских походах добраться даже до Египта. И не только добраться, но и выбраться оттуда с грузом золотых украшений, пролежавших долгие века в гробнице египетского вельможи времен фараона Аменхотепа.
Бросив взгляд на зеркала заднего вида, Глеб разочарованно вздохнул: как можно в городе, в этом огромном муравейнике, да еще и в час пик, вычислить без специальной подготовки того, кто за тобой наблюдает?!
«Да пошли они все!.. — мысленно сказал сам себе Тихомиров-младший. — Будет время — разберусь, в чем дело». И направил «ауди» на стоянку возле кафе.
Электронное табло на центральном городском почтамте в очередной раз подсказало всем интересующимся, что уже половина пятого.
Глава 5 1915 год. Надзиратель сыскной полиции
Шнырь решил навестить Ваника Бабаяна. Прежде чем соваться на Китаевское кладбище, нужно было проверить информацию Петра Лупана. А для этого неплохо бы найти напарников убиенного Гришки, подумал Васька. Шнырь по жизни был осторожным и недоверчивым; может, поэтому его ни разу и не поймали с поличным.
Погребальная контора Бабаяна, или Ваньки Бабая, как его называли горожане, была одной из лучших в Киеве, но ее хозяин одевался на удивление скромно, чтобы не сказать — бедно. После отъезда семьи в Америку Ваник сильно сдал. Он поседел, еще больше потемнел лицом, а его длинный нос с горбинкой стал еще длиннее.
— Желаете похоронить кого? — вежливо спросил он Шныря, который с непонятным томлением в душе рассматривал выставочные гробы и венки.
В небольшом зальчике погребальной конторы было темновато, поэтому Ваник с его близорукостью не мог обстоятельно рассмотреть очередного клиента, как он считал. Иначе Бабаян сразу бы понял, с кем имеет дело. Киевских мазуриков отличал особый блатной шик, который выражался не только в развязном поведении, но и в одежде.
— Желаем, — в тон хозяину погребальной конторы ответил Васька.
— Гроб берем с глазетом или как? — деловито поинтересовался Бабаян.
— Об этом позже… Мне бы для начала с бригадой копачей договориться.
— Будьте спокойны, они много не берут. У меня есть расценки… — Ваник зашуршал бумагами.
— Контора пишет… — Шнырь криво осклабился и подошел поближе. — Нам расценки ни к чему.
Теперь на него падал свет с оконца, который высветил и наглый Васькин прищур, и косую челку, падающую на глаза, и сапоги-хромачи с голенищами «гармошкой», и простонародную косоворотку, но из очень дорогого китайского шелка. Хозяин погребальной конторы вдруг почувствовал слабость в ногах. Он понял, кто перед ним. Конечно, ему доводилось хоронить и урок, но уж больно хлопотно это было. А главное, почти никакой прибыли.
— Что ж, копачей так копачей, — покорно согласился Ваник. — Где будем хоронить?
— А разве я об этом говорил?
— Нет, но…
— Вот что, папаша, мне нужны напарники Гришки. Помнишь его?
— Гришка… — Бабаяна на какой-то миг переклинило; он молча зевал широко открытым ртом, словно карп, выброшенный на берег.
Еще бы не помнить… После смерти Гришки к Ванику снова заявился черный карлик. Разговор у них получился недлинный, но тяжелый. Прощаясь, карла заявил: «Если вы думаете, что нам неизвестно, куда вы отправили свою семью, то это большая ошибка. Еще раз хочу напомнить — благополучие вашей семьи зависит только от вас. Вы обязаны строго соблюдать нашу договоренность. Это в ваших интересах».
Хозяин погребальной конторы никак не мог предоставить молодому человеку приблатненной наружности напарников несчастного Гришки. Несмотря на обещание уехать за границу и большие деньги, которые они получили для этой цели от людей черного иезуита, копачи так и остались в Киеве. А спустя какое-то время всех четверых словно нечистый прибрал.
Один утонул в Днепре, второй сгорел от водки, пропивая шальное золото, Гришку зарезали, а Иона Балагулу за связь с анархистами отправили по этапу в Сибирь. Похоже, с горечью думал Ваник, Иона в нашей компании самый счастливый. Из Сибири еще можно возвратиться живым, а вот с того света даже весточку нельзя прислать.
Нет, Бабаян не горевал по своим работникам. Ваник лишь констатировал тот факт, что из пятерых человек, посвященных в историю с цинковым ящиком, в наличии остался только он один. До поры до времени он будет нужен масонам — пока исполняет роль надзирателя за местом захоронения, — а что потом?
Это «потом» не давало Ванику спокойно спать по ночам, а днем вообще превращалось в сплошной кошмар. Тревожные мысли обсели его быстро седеющую голову как навозные мухи. Бабаян начал бояться даже собственной тени.
— Их нет в Киеве, — наконец молвил Ваник.
— Как нет! А где они?
— Ах, молодой человек, кабы я знал… — хозяин погребальной конторы изобразил скорбь, сложил руки лодочкой на груди и поднял глаза к потолку. — И мы туда когда-нибудь отправимся…
— Хочешь сказать, что?.. — Васькин лоб мгновенно покрылся испариной.
— Ага. Мертвы. Все… — тут Ваник немного приврал; но кто знает, может, и Ионы уже нет в живых?
— К-когда?..
— Еще в прошлом году. А зачем вам эти копачи? У меня есть другие.
— Надо было, — буркнул Шнырь. — А ты, папаша, случаем, не врешь?
— Ваник никогда не врет, — выпрямившись, с достоинством ответил хозяин погребальной конторы. — Можете кого угодно спросить.
Васька резко развернулся и выскочил наружу. Нет, больше спрашивать он никого не будет. Все и так ясно. Те, кому принадлежит таинственный ящик, мочат свидетелей. Это для мазурика было понятно.
«Значит, румын не соврал… В ящике точно есть что-то такое… эдакое… В общем, в нем стоит покопаться. Что ж, буду собирать братву. Нужны надежные люди. Где их только сейчас найдешь?»
После ухода мазурика Бабаян некоторое время стоял как столб. Он размышлял. А затем, ссутулившись, устало побрел к телефону, спрятанному за ширмой.
Нужно сказать, что в дореволюционном Киеве телефон был редкостью. Его ставили только известным людям, в учреждения и присутственные места. Поэтому установка телефона в погребальной конторе была событием из ряда вон выходящим.
Телефон поставили по указке черного карлика. Какие силы он привел в действие, кому и сколько заплатил — про то Ваник не знал. Просто однажды в погребальную контору пришли молчаливые монтеры, опутали ее проводами, поставили аппарат и исчезли настолько незаметно, что Бабаян даже подумал, не привиделись ли они ему.
Но стоявший на тумбочке новенький телефон напрочь отвергал мысль о привидениях. Он не только радовал глаз своими формами и обилием никелированных деталей, но еще и отменно работал. В чем Ваник и убедился спустя час, когда ему позвонили и дали номер, по которому он был обязан обратиться в случае срочной надобности.
Что собой представляла эта «надобность», Бабаяну объяснять было не нужно. Сегодня она как раз и явилась к нему в облике молодого мазурика.
— Алло, барышня!.. — Ваник продиктовал номер.
Спустя считаные секунды его соединили с нужным человеком, которому хозяин погребальной конторы и обрисовал сложившуюся ситуацию. Тот внимательно выслушал, задал несколько вопросов, вежливо поблагодарил за информацию и дал отбой. Ваник вытер холодный пот со лба и поспешил на зов колокольчика, который висел у входной двери, — встречать нового клиента…
Васька уговаривал Клима уже битый час. Это был здоровенный бык с немереной силушкой. И кличка к нему прилипла подходящая — Чугун, что почти соответствовало его фамилии — Чугунов. Он был как железный и дрался так, будто не ощущал ударов.
Поистине чугунные кулачищи Клима были притчей во языцех. Когда устраивались драки стенка на стенку, то появление Чугуна в рядах какой-нибудь команды считалось залогом победы. Так оно и было. Одним ударом Клим валил двоих, а остальные просто разбегались под его бешеным бычьим взглядом. Редко кто мог быть ему соперником.
Чугун не был мазуриком. Однако срок отсидел. Но не за воровство или разбой, а по причине своего буйного нрава.
Как-то по пьяной лавочке он повздорил с городовым, и тот, недолго думая, взял и врезал Климу по мордам. Ответ был поистине зубодробительным. В общем, городовой остался без передних зубов, а Чугун в полной мере испытал на своей шкуре, что такое озлобившиеся фараоны и царская кутузка.
С той поры Клим возненавидел полицию дикой ненавистью. В 1905 году, когда случилась заваруха, Чугун первым полез на баррикады. Но это было в другом городе, далеко от Малороссии. После того как революционные волнения подавили, Клим сбежал в Киев, где у него жила родная тетка. Поговаривали, что он не одного фараона отправил на тот свет, но точно этого никто не знал, а сам Чугун большой словоохотливостью не отличался.
Возможно, полиция искала Клима, но его взял под свое крыло один богатый купец, которому нужны были верные люди, без долгих размышлений и колебаний готовые по указке хозяина свернуть шею кому угодно, и Чугун выпал из поля зрения царской охранки. Возможно, не без помощи купеческой мошны.
Ваську Шныря свел с Климом случай. Однажды в трактире у кого-то из пользующихся авторитетом посетителей украли кошелек, а поскольку среди всей честной компании на тот час лишь Васька был вором-карманником и трактирщик это знал, то все «вопросы» на эту тему Шнырю и достались. Его начали бить, даже не обыскав и не выслушав объяснений.
Если бы не Клим, который вступился за Ваську, возмутившись явной несправедливостью по отношению к невинному человеку, лежать бы Шнырю в городском морге. Или, в крайнем случае (но не в лучшем), в монастырской больнице, где лечили нищих и бездомных.
С той поры Васька и Клим задружили. Наверное, по принципу «единства противоположностей». Более разных людей, чем мазурик и почти революционер с анархистскими замашками, трудно было сыскать. Тем не менее общий язык они нашли быстро и были довольны друг другом.
Это довольство происходило от того, что и тот, и другой умели слушать. Благодарные слушатели всегда в цене, потому что у каждого человека бывают моменты, когда нужно выговориться, поведать другому о своих бедах и невзгодах, чтобы на душе стало легче. Особенно это относится к тем, кто ведет замкнутый образ жизни, — таким, как Васька Шнырь и скрывающийся от полиции Чугун.
— …Говорю тебе, там должно быть золото! — горячился Васька.
— Больше слушай того малохольного румына, — гудел своим басищем Клим. — Ему соврать — как тебе высморкаться. Все это враки.
— Ты Петрю не знаешь! Мне он не соврет. Мы старые кореша.
— Вот-вот… Втянет тебя кореш в гнилое дело, тогда попрыгаешь. Или ты последний хрен без соли доедаешь?
— Не в том дело. А если и впрямь в том ящике какие-то ценности? А теперь скажи мне, не дураки ли мы с тобой будем, упустив возможность стать богатыми? Ведь если не будет нашего согласия, Петря найдет себе других напарников.
— Дураки, — согласился после некоторого раздумья Чугун. — Кабы точно знать…
— Проверим, тогда и узнаем. Подумаешь, большая забота — могилку раскопать. Это мы мигом спроворим. Ну, а ежели там ничего не найдем… что ж, так тому и быть. По крайней мере мы ничего не потеряем. Разве что мозоли набьем.
— Ладно, — хмуро буркнул Клим. — Будь по-твоему… Я согласен. Но чует мое сердце, что ничего хорошего из этой затеи не выйдет.
— Брось… — Васька счастливо ухмылялся. — Я уверен, что все будет тип-топ.
Ему было отчего радоваться — с Климом можно хоть в ад спускаться, он не подведет. За его широкой спиной Васька будет чувствовать себя как у Бога за пазухой. Мало того, теперь их команде не нужен четвертый человек, потому что один Чугун стоил троих…
Хозяин воровской «малины» Остап Кучер едва дождался, пока Федька Графчик и Матрос не уберутся по своим делам. Он совсем извелся, слушая повизгивание пьяненьких девиц и манерные смешки Графчика: «Хо-хо-хо… хо-хо-хо».
Федька каким-то образом умудрялся смеяться через нос и от этого казался гундосым. Наверное, такой смех был признаком изысканных светских манер. Только вот на кой ляд они нужны в обществе девиц из Шулявки? Разве что для тренировки.
Поглазев сквозь окошко на извозчика, который увез всю гоп-компанию Графчика, содержатель «малины» начал быстро собираться. Он надел свой лучший костюм, которому, как говорится, минуло сто лет в обед, смазал ваксой ботинки и даже повязал галстук-бант.
— Ты куда? — придержала его за рукав сожительница, которую звали Сонька, — полная невысокая женщина в пестром бухарском халате и отороченных лисьим мехом шлепанцах на босую ногу.
По молодости она нечаянно попала в воровскую шайку Маньки Соленой, но благодаря связям Остапа Кучера ей удалось избежать острога. Он запал на ее пышную красоту, от которой теперь остались лишь огромные черные глаза и толстая коса, уложенная «короной».
— Надо мне… — буркнул Остап, безуспешно пытаясь освободиться из цепких рук сожительницы. — Покрутись тут немного без меня. Дела…
— Не перебегай дорогу Графчику, — глядя прямо в глаза Остапу, строго сказала Сонька. — Он очень опасен.
— Откуда?.. — смешался Остап. — Что за глупости у тебя в голове?!
— Я все вижу. Не перебивай! Я знаю, ты что-то задумал. Что-то очень нехорошее. И это как-то связано с Графчиком. Мы и так по проволоке над пропастью ходим. Давно пора кончать с «малиной». Деньги у нас есть, вполне достаточно, уедем из Киева — туда, где нас никто не знает, — и начнем новую жизнь. Ты ведь обещал!
— Обещал, — согласился Остап. — Но не так скоро. В Киеве сейчас идет сплошной цымес. И ты хочешь, чтобы я пропустил его мимо своих рук?
Сонька отпустила рукав его пиджака и сказала каким-то деревянным голосом:
— Ну тогда иди… глупец. Ты об этом еще пожалеешь. Жадность фраеров губит.
— Жадность и практичность — разные вещи. Перестань. Все будет хорошо.
— Хорошо уже не будет, — ответила Сонька. — Чует мое сердце, что нас ждет большая беда. А вот убедить тебя никак не удается.
— Не каркай! Я никогда не был вором или убийцей и не буду. И мое дело никак не связано с Графчиком, — соврал Остап, глядя на Соньку честными глазами.
— Тогда скажи мне, что ты задумал?
— А вот это, женщина, тебе знать не следует, — жестко ответил хозяин «малины».
Чтобы избежать дальнейшего разговора, он круто развернулся и поспешил к выходу. Сонька посмотрела ему вслед долгим взглядом, затем тяжело вздохнула и сказала тихо:
— Если человек твердо надумал утопиться, то его никто не остановит. Он сделает это даже среди пустыни, в миске с водой. О, эти мужчины…
Надзиратель городской сыскной полиции[26] Шиловский задумчиво смотрел на Остапа, который под его тяжелым взглядом сидел на стуле как на раскаленной сковороде — все время ерзал. Они встретились на конспиративной квартире вне графика.
Телефонный звонок Кучера в полицейское управление не удивил Евграфа Петровича. Остап был чрезвычайно ценным осведомителем, и нередко его информация помогала предотвращать не только грабежи, но и убийства. Поэтому на оплату его услуг Шиловский денег не жалел.
А еще он очень берег Остапа от «засветки». Поэтому «ближний круг» агента из числа киевских мазуриков (в том числе и людей Графчика) был для полиции практически неприкасаемым; если только воры не попадались случайно. Сведения о других ворах приходили к Остапу косвенными путями, не напрямую от «ближнего круга», однако от этого они не становились менее ценными.
Но сейчас Шиловский думал. Крепко думал. То, что в могиле на Китаевском кладбище схоронено что-то очень ценное, он практически не сомневался. В окрестностях Киева достаточно глухих и безлюдных мест, чтобы можно было без лишней огласки зарыть труп где-нибудь в лесу. Не говоря уже о водах Днепра, которые могут спрятать в своих глубинах что угодно.
Ан нет, ящик привезли на Китайку. Цинковый ящик! Зачем? И потом, убийство рабочего погребальной конторы… Кто-то прятал следы. Кто? Да, в этой истории многое непонятно.
Во-первых, почему для тайного захоронения привлекли сотрудников погребальной конторы? Или хозяева ящика такие наивные, что доверились мужикам, у которых после выпивки языки метут как помело?
Во-вторых, с какой стати яму под цинковый ящик вырыли на Китаевском кладбище? Там ведь давно никого не хоронят. Впрочем, здесь объяснение, кажется, налицо: работы производились ночью, а на старом погосте нет сторожей.
И в-третьих, какая причина побудила Остапа Кучера отдать полиции столь ценную информацию? Шиловский достаточно хорошо знал хозяина «малины» (который плюс ко всем своим грехам занимался еще и винокурением), чтобы поверить в его бескорыстное служение отечеству. Остап очень жаден до денег, и надзиратель сыскной полиции был абсолютно уверен, что Кучер не мог упустить такой возможности разбогатеть.
Вопросы, вопросы… Шиловский мучительно ковырялся в уголках своей отменной памяти, пытаясь найти какой-нибудь аналог информации, добытой Остапом. Но все было тщетно — ничего подобного в Киеве не случалось; по крайней мере с 1907 года, когда Шиловского приняли в штат полицейского управления.
— Что ж, — наконец молвил Шиловский, — спасибо тебе. — Он полез в бумажник, достал оттуда ассигнацию и положил ее на стол перед Остапом. — Это вознаграждение. Если информация окажется ценной, получишь в два раза больше.
— Рад стараться, Евграф Петрович! — быстрым взглядом оценив номинал купюры, преданно воскликнул Кучер. — Мы завсегда… — На этот раз Шиловский был очень щедр.
— Знаю, знаю… А теперь иди. Бывай здоров. Ежели еще что-то узнаешь по этому делу, сразу же ко мне на доклад. Покинешь здание через черный ход. На лестнице осмотрись, иди не торопясь.
Остап кивнул и покинул комнату. Уже на лестнице он облегченно вздохнул и весело рассмеялся — последние две фразы были для Шиловского почти ритуальными. Он всегда их говорил на прощание.
Но оставим содержателя «малины» и возвратимся к надзирателю сыскной полиции. После ухода Кучера он открыл буфет, достал оттуда начатую бутылку шустовского коньяка, рюмку, наполнил ее и выпил, не смакуя, одним махом — как водку. Вторую рюмку он уже закусил — соленой сушкой.
Когда бутылка показала дно, в голове Шиловского забрезжили контуры будущего плана. Он был настолько фантасмагорическим, что Евграф Петрович забормотал «Изыди, нечистая!..» и замахал руками перед своим изрядно покрасневшим лицом, словно отгоняя назойливую мошкару.
Глава 6 2007 год. Ночная тревога
Ночь выдалась беспокойной. Глеб просидел за рабочим столом почти до полуночи, снова и снова пытаясь проникнуть в тайну плана. Но все его потуги опять оказались тщетными. Единственное, что ему оставалось, — так это чувство восхищения неведомым гравером. Он сумел изобразить с помощью резца не только сверхминиатюрные здания, но даже окна и двери в них.
Такая тщательная проработка несущественных деталей говорила о том, что план очень точный, а значит, успех в будущем предприятии гарантирован. Дело оставалось за малым — узнать координаты местности. Скорее всего, они могут быть спрятаны в картине, которая висит в спальне Ольги Никаноровны.
Еще Глебу удалось определить, что план гравировался значительно позже гербов и креста. Штриховка на зданиях была настолько тонкой, что ее могли выполнить лишь с помощью алмазных резцов. А это уже далеко не Средневековье. Конец девятнадцатого или начало двадцатого века, решил Глеб.
Впрочем, это было видно и по архитектуре зданий, хотя гравер изобразил их достаточно условно, а вернее — несколько упрощенно. Все выходило на то, что владелец пластины использовал этот старинный раритет для увековечивания своего замысла, — чтобы план ни в коем случае не пропал.
И то верно: кому нужна бронзовая безделушка? Разве что собирателям старины да музеям. Просто человеку она без надобности. Была бы пластина серебряной, тогда другое дело.
Однако было одно неприятное «но». Если его выводы верны, то в данном случае золотом тамплиеров и не пахнет. Так же как и иезуитами. План мог сделать кто угодно, притом не в столь отдаленные времена, как казалось деду Ципурке.
Да, на плане есть крохотный крестик, который можно увидеть только через лупу, — так обычно обозначают месторасположение клада. Но клада ли? Может, там лежат какие-нибудь ценные бумаги; ценные для хозяина пластины. Или, например, обозначена могила горячо любимого отца. В начале двадцатого века стало модным хоронить некоторых нигилистов не на погостах, а там, где они укажут в завещании.
А кто мог дать гарантию, что с годами от могилки и деревянного креста останется хотя бы холмик? Никто. Только точный план предоставлял возможность родственникам помянуть усопшего спустя много лет у места захоронения, а может, и поставить над ним каменное надгробие.
«Уж не впустую ли я сотрясаю воздух и трачу свое драгоценное время? — подумал немного огорченный Глеб. — У меня и других дел полно. Например, заняться ремонтом дома. А ведь я бате обещал…»
У Тихомировых был собственный дом неподалеку от центра города; вернее, даже не дом, а коттедж. Своим устройством он напоминал крепость и был оборудован новейшей системой сигнализации.
Тихомировы опасались воров; и небезосновательно. В доме хранились исторические раритеты большой ценности. Не говоря уже о крупных суммах денег, которые нужны были для приобретения находок «черных» археологов. И отец, и сын кроме работы в «поле» — в экспедициях — занимались еще и перепродажей старинных вещей.
Кладоискатели знали, что только Тихомировы могут дать настоящую цену за добытые всеми правдами и неправдами старинные раритеты. Потому что только они могли верно и, главное, честно оценить и классифицировать вещь, с виду не представляющую собой ничего особенного.
Поэтому осенью к ним начиналось настоящее паломничество вольных археологов. Были среди них и знатоки своего дела, но большей частью приходили полные дилетанты, которых поманила на незаконные раскопки страсть к обогащению.
Все свои главные археологические ценности Тихомировы хранили в секретных комнатах, в подвале дома. Там же стоял массивный импортный сейф для денег и золотых вещиц. Но немало дорогих раритетов находилось и в комнатах; в том числе и несколько картин старинных мастеров. Так что гипотетическим ворам в доме Тихомировых все равно было чем поживиться.
Глеб лег спать с чувством неудовлетворенности. А еще его преследовали какие-то неприятные, но аморфные, неконкретные мысли и нехорошие предчувствия. Он долго ворочался, а когда все-таки уснул, ему приснился сон, в котором присутствовали и тамплиеры, и зловещие иезуиты, кого-то сжигающие на костре, и даже какие-то монстры, от которых Глеб полночи убегал, но никак не мог убежать.
Проснулся он от дикого ужаса, потому что один из монстров наконец добрался до него и схватил Глеба за горло своими длинными когтистыми пальцами, похожими на куриные лапы в увеличенном виде. Открыв ошалелые глаза, Глеб некоторое время лежал неподвижно, пытаясь успокоиться и собрать в ком мятущиеся мысли, а затем посмотрел на светящийся циферблат электронного будильника.
Был третий час ночи. Глеб сел, пощупал подушку и покачал головой — она была мокрая от пота. Он опять забыл включить перед сном систему кондиционирования. Склероз, подумал Глеб. Не рановато ли?
Недовольно кряхтя, как старый дед, он выбрался из душных объятий постели и отправился искать пульт, при помощи которого включался кондиционер. Глеб уже хотел включить верхний свет, потому что пульт не лежал там, где обычно, а куда-то запропастился, но тут его взгляд упал на стену напротив окна. Тихомиров-младший похолодел.
На него глядело огромное и страшное человеческое лицо с горящими, как уголья, глазами! Оно занимало почти всю стену. Не осознавая, что делает, Глеб схватил диванную подушку и швырнул ее в сторону изображения. Удивительно, но лицо сразу потеряло четкость очертаний и распалось на ряд мелких фрагментов. Когда немного пришедший в себя Глеб присмотрелся, то сообразил, что изображение — всего лишь игра света и тени.
Свет уличных фонарей проникал сквозь пышную крону клена (спальня Глеба находилась на втором этаже), и в отсутствии луны при полном безветрии иногда рисовал на стене различные фантасмагорические картины. На сей раз вышло человеческое лицо, которое тут же стер легкий порыв ветра.
Чувствуя, что ноги стали ватными, Глеб плюхнулся на диван и несколько раз глубоко вдохнул воздух, чтобы избавиться от наваждения в человеческом облике, которое все еще стояло перед его глазами. Однако ему опять пришлось разволноваться, потому что неожиданно сработала сигнализация: на панели у входа в спальню замигала красная лампочка, и тихо, но въедливо забибикал звуковой сигнал.
Что за черт?! Теперь уже Глеб не испугался, а разозлился. Он вскочил, подбежал к панели управления сигнализацией (их было несколько; главная находилась в отцовском кабинете) и включил наружное освещение.
Мощные прожекторы высветили весь двор, да так, что была видна каждая соломинка. Но прильнувший к окну Глеб не заметил ничего подозрительного. Однако, если судить по лампочке на панели и тональности сигнала, какие-то люди пытались перелезть через забор.
Походив по всем комнатам и поглазев на свой ярко освещенный участок, обнесенный высоким забором, Глеб раздраженно сплюнул и выключил прожекторы. «Давно пора починить сигнализацию, — думал он, засыпая под ласковой прохладой кондиционера. — Все руки никак не доходят… За полгода это уже четвертый случай самопроизвольного срабатывания. И три из них — ночью. Сбой в системе или?..»
На этом «или» Глеб и отключился. Он спал до самого утра, как младенец, даже без сновидений. Но когда поднялся и пошел в ванную наводить лоск, то перед его глазами снова замелькали световые пятна. Они сложились в портрет, как мозаика. И это было изображение того страшного лица, что почудилось ему ночью…
Глеб ехал в машине, слушал музыку, смотрел на дорогу и по сторонам, но мыслями был далеко. Он предвкушал, что уже сегодня, заполучив картину, он наконец решит загадку, которую загадал какой-то умник, а потом передал ее Оскару Трейгеру. И тем самым утрет нос деду Ципурке — большому доке по части различных археологических тайн.
Ночные треволнения уже выветрились из его головы, на душе стало легко и радостно, и Глеб даже начал подпевать какому-то ансамблю. Слова песни все время повторялись, будто она состояла всего лишь из одного куплета (а точнее, припева), они были просты и незамысловаты, их вообще насчитывалось ровно столько, сколько нужно, чтобы ее запомнил и дебил, поэтому Тихомиров-младший быстро «въехал в тему» и даже не сбивался с ритма.
Возле дома, в котором жила Ольга Никаноровна, происходила какая-то суматоха. Глеб озадаченно смотрел на старушек, которые сновали туда-сюда и возбужденно переговаривались. Ольги Никаноровны среди них не было.
Глеб заметил знакомую бабульку — на ней были все тот же цветастый сарафан и вязаная кофта, хотя с утра припекало, — и спросил:
— Что тут у вас стряслось?
Бабулька узнала его сразу и скорбно ответила:
— Нетути ее. Ужо нетути…
— Кого это «ее»?
— Олюшки… царствие ей небесное… — бабулька перекрестилась.
— Вы хотите сказать?.. — Глеб похолодел.
— Ну да, Никаноровны, — поняла бабулька. — Вы вчерась с ней разговаривали…
У Глеба внутри все оборвалось. «И что теперь делать?» — подумал он беспомощно. Ситуация и впрямь была хуже некуда. Теперь придется насчет картины договариваться с наследниками. А если их нет? О-о, только не это!
— Ее отвезли в морг? — спросил Глеб, лишь бы сказать хоть что-то.
— Зачем? — удивилась бабулька. — Она ить всегда была одна-одинешенька — ни семьи, ни детей, ни родственников. Мы решили, что схороним Олюшку всем миром.
— Так она наверху? — перед Глебом забрезжила надежда.
— Да.
— А мне можно?..
— Попрощаться с покойником не приглашают, — глянув на него с укоризной, но по-доброму, как на дитя малое, ответила бабулька.
— Я знаю. Это у меня… от волнения… — Глеб сокрушенно вздохнул и тряхнул головой, пытаясь привести в порядок мятущиеся мысли. — Жалко Ольгу Никаноровну…
— Ой, как жалко. Она всегда была готова помочь. И в аптеку ходила, ежели кому было совсем худо, и в гастроном…
Не слушая, что там бубнит позади старушка, Глеб поднялся по уже знакомой лестнице и беспрепятственно вошел в квартиру Ольги Никаноровны — входная дверь была распахнута настежь.
Удивительно, но соседи Ольги Никаноровны обернулись с потрясающей оперативностью. Она лежала в гробу среди цветов, возле стены стояли венки, под образами горели свечи, а вокруг на разнокалиберных стульях и табуретах расселись ее старые подружки — все в платках и все заплаканные.
Глебу стула не нашлось (правда, он на него и не претендовал), поэтому Тихомиров-младший стал немного в сторонке и скорбно потупился. Ему действительно было жалко Ольгу Никаноровну. Ее верность Оскару Трейгеру говорила о том, что она была весьма цельной и порядочной женщиной.
Но трагичнее всего было то, что до картины в скором времени ему никак не дотянуться. (Если это вообще может быть возможно.) И что теперь делать? Может, плюнуть на приличия, зайти в спальню Ольги Никаноровны и слямзить картину?
Ага, как бы не так… Старушки устроят такой переполох, что мало не покажется. Сразу повяжут. И попробуй потом докажи, что Ольга Никаноровна обещала эту картину ему.
Размышляя, Глеб потихоньку, пятясь назад мелкими шажками, приближался к заветной двери. Это он делал совершенно непроизвольно, повинуясь какому-то инстинктивному импульсу.
Дверь спальни была закрыта неплотно. Не оборачиваясь, Глеб толкнул ее рукой, и она тихо приоткрылась. Улучив момент, он оглянулся — и обмер: картина исчезла! На ее месте виднелся светлый и чистый квадрат — такими были обои лет десять назад, сразу после наклейки.
Не веря своим глазам, Глеб снова и снова оглядывался, затем совсем осмелел (благо на него уже перестали обращать внимание) и открыл дверь пошире, но картины нигде не было — ни на стене, ни на полу, ни на кровати. Она испарилась. А может, ее уже забрала какая-нибудь старушка? В качестве сувенира, на память о старой подруге.
Вполне возможно… Блин! Удача была так близко. Убиться и не жить… Глеб поискал глазами давешнюю бабульку и увидел, что она стоит у порога и потихоньку роняет скупые старческие слезы, вытирая их концом белого головного платочка.
Перекрестившись и мысленно пожелав Ольге Никаноровне всех небесных благ, Глеб подошел к бабульке и тихо сказал:
— Нам нужно поговорить…
Она с пониманием кивнула, и они спустились вниз. Глеб отвел бабульку в сторону — чтобы их никто не подслушал — и спросил:
— Как это случилось?
У него неожиданно проснулись нехорошие подозрения. Ведь вчера Ольга Никаноровна была в нормальном для ее возраста состоянии, двигалась бодро и ни на что не жаловалась. Мало того, она сказала, что после лечебных процедур ей стало значительно лучше.
— Несчастный случай, — скорбно потупилась бабулька. — Упала на лестнице…
— На лестнице? Как это?
— Очень просто. Я однажды тоже шею себе едва не свернула. Старые уже мы, ноги не тянут…
— А кто ее нашел?
— Я и нашла.
— В котором часу?
— В половине седьмого. Я в это время своего Мурзика гулять выпускаю. Кот у меня есть… Смотрю, а Ольгушка лежит. Бедная… И чего это она так рано поднялась?
— Дверь ее квартиры была заперта? — быстро спросил Глеб.
— Нет. А зачем? Мы редко когда закрываемся на ключ. Только если идем в магазин. Или в поликлинику. С утра до вечера сидим на улице, нам все видно. Да и что у нас воровать-то? Разве что стоптанные тапочки.
— Нынче пошли такие воры, что подметают все подчистую… — Глеб немного поколебался, но все-таки решился и задал главный свой вопрос: — А из квартиры Ольги Никаноровны ничего не пропало?
— Как будто нет, — ответила бабулька.
— Вы в этом уверены?
— Ну, мы не смотрели… — она заколебалась. — Но вроде все стоит на своих местах — телевизор, хрусталь…
— А из того, что висит?
— Чтой-то я вас не понимаю… — бабулька насторожилась.
— Когда я вчера был у Ольги Никаноровны, она показывала мне старинную картину, которая висела на стене в спальне. На ней изображен какой-то храм… или монастырь. Сегодня картины уже нет на месте.
— Не может быть!
— А вы проверьте. Прямо сейчас. Вдруг квартиру обворовали. Тогда нужно в милицию заявить. Только не поднимайте большой шум — он сейчас не к месту.
— Верно, верно, — озабоченно сказала бабулька. — Незачем до похорон создавать лишние хлопоты. Их и так достаточно. Подождите меня чуток…
Бабулька шустро посеменила к подъезду. Глеб сел на скамейку и задумался. Как-то уж больно не ко времени получился несчастный случай… А если добавить сюда еще и пропажу картины (если, конечно, это так), то задуматься есть над чем.
Глебу вдруг стало зябко. Он вспомнил все произошедшие с ним странности, которые начались с некоторых пор: кошмарные сны, ночное видение, сработавшая сигнализация, картина, которая буквально выпорхнула из его рук, и наконец ощущение, что за ним кто-то следит.
А еще ему вспомнилось, как две недели назад он лишь чудом не попал в автомобильную аварию, которая однозначно закончилась бы для него трагически, — когда ему навстречу неожиданно выскочил груженный песком самосвал. Глеба спасли лишь отменная реакция да предчувствие беды, которое не покидало его весь день. Потому он и среагировал вовремя, инстинктивно заложив единственно верный в данной ситуации вираж.
Допустим, все это связано с таинственным планом. Может, кто-то охотится за пластиной? Это вполне реальный вариант. Она имеет большую ценность сама по себе. А если план — не фикция и действительно указывает на место, где лежит клад, то тогда многое можно объяснить. Глебу уже приходилось попадать в подобные ситуации.
Но слежка началась раньше, до того как дед Ципурка подарил ему пластину. Что бы это могло значить?
Только одно: старый кладоискатель имел неосторожность рассказать кому-то из своих знакомых или друзей о своем намерении «облагодетельствовать» Тихомировых задачей, скорее всего, не имеющей решения. Ведь он так и не смог разобраться с планом, сколько ни бился. А деду Ципурке нельзя отказать в уме.
Глеб погрузился в состояние ступора. Нет ответа, нет ответа, нет ответа… Долгоиграющую пластинку в мозгах заклинило. Бабульке, которая прибежала с новостями, пришлось окликнуть его три раза.
— А, что?! — Глеб дернулся, поднял голову и тупо уставился на взволнованную старушку.
— Нетути! — объявила она, тяжело дыша. — Исчезла картина.
— Вы хорошо искали?
— Куда уж лучше.
— А больше ничего не пропало?
— Ну, не знаю… — не очень уверенно ответила бабулька. — Сережки золотые и цепочка на месте — в шкатулке. Брошь с камушками тоже в наличии. А больше ничего такого у Ольгушки и не было.
— Может, деньги?..
— О, Господи, какие у нас деньги? Как получила она позавчера пенсию, так она и лежит нетронутая. Ольгушка на смерть собирала…
— Понятно. Похоронные… Значит, и они на месте. Извините за любопытство: где Ольга Никаноровна их хранила?
Старушка нагнулась к Глебу и доверительным шепотом, словно их мог кто-то подслушать, сообщила:
— На кухне.
— Да ну? В морозилке, что ли?
— Не смейтесь… — бабулька посмотрела на Глеба с осуждением. — Деньги лежали в железной коробке из-под печенья. А коробка стояла в шкафу, на верхней полке.
— И что, это всем вам было известно?
— А то как же. Вот пришло ее время… и не нужно бегать по собесам за помощью. Похороним ее и помянем по-людски. Все мы так деньги собираем…
У Глеба защемило под сердцем. Эх, дорогие наши бабушки и мамы! Какие же вы несовременные — наивные и доверчивые. Никакая «демократия» вас не может изменить. Вас так учили — быть честными, добрыми, порядочными. С вами уходят в мир иной остатки патриархального уклада жизни, который так не нравится революционерам разных мастей и оттенков… черт бы их побрал!
Тяжело вздохнув, он сказал:
— Понятно. Извините, но мне пора… — Глеб поднялся; но тут его осенила очень даже толковая мысль, и он быстро спросил: — А вы, случаем, не знаете, что за храм нарисован на украденной картине? Уж больно красивое место.
— Не знаю, касатик, не знаю… — бабулька снова прослезилась. — Ольгушка что-то говорила… но это было давно. Не помню.
— Всего вам доброго, — сказал Глеб; достав из кармана сто долларов, он протянул купюру бабульке. — А это мой скромный вклад… Вдруг во время похорон появятся какие-нибудь непредвиденные расходы.
— Спаси вас Бог…
Не оглядываясь, Глеб быстро пошагал к машине. На душе было горько и тяжело.
Глава 7 1915 год. Полицейская засада
Петря от волнения не находил себе места — куда-то запропастился Шнырь. После их разговора прошло уже три дня, а от Васьки ни слуху ни духу. Наконец Лупан не выдержал и пошел к нему домой.
Васька жил на Гончаровке, почти под стенами Флоровского монастыря, в бедной халупе с прохудившейся крышей; глядя на его жилище со стороны, можно было подумать, что оно вот-вот рухнет и придавит своих хозяев. Чтобы этого не случилось, Шнырь понаставил со всех сторон хаты деревянные подпорки, поэтому у человека, имеющего развитое воображение, она могла ассоциироваться с паучком, спрятавшимся под листком лопуха.
Действительно, халупа так заросла бурьяном, что с улицы ее трудно было заметить. Тем более что над ней нависали густые и плотные кроны двух старых лип. Даже сильный дождь не мог пробить эту вторую крышу; может, потому Васька и не торопился заниматься ремонтными работами.
Петря не стал даже стучать в дверь. Она была заперта — если, конечно, можно назвать запирающим устройством тонкий вербовый прутик, воткнутый в ручку двери.
В этом не было ничего необычного. Подольской и шулявской голытьбе мужского пола не имело смысла тратиться на дорогие замки. Все свое ценное имущество они носили на себе (недорогую одежонку) и при себе — папиросную бумагу для самокруток, кисет с махоркой, кошелек с медяками и добрый нож, без которого по вечерам не выходил гулять ни один уважающий себя молодой киевлянин простого сословия.
Немного посокрушавшись на предмет своей неудачи, встревоженный Лупан продолжил розыски ненадежного приятеля. Чуток подумав, он сел в трамвай и поехал на Фундуклеевскую. Петря знал там одно место, где собирались любители игры в «железку»[27]. Васька Шнырь был фанатом этого способа времяпровождения.
Сегодня играли в дворницкой. Собравшийся в полуподвале народ был так увлечен процессом игры, что на Лупана никто не обратил внимания. Присмотревшись, он увидел приятеля Шныря, мелкого мазурика по кличке Белка. Он был худой, щуплый и казался мальчишкой, хотя ему уже стукнуло никак не меньше тридцати.
Говорили, что Белка — квартирный вор. В жилище он проникал через открытые форточки. Похоже, Белка был очень удачлив, потому что в полицейском управлении на него не было заведено ни одного уголовного дела. Возможно, потому, что подельники не выдавали Белку.
Только он один мог пролезть буквально в игольное ушко. А такое мастерство дорогого стоило. Его услугами пользовались многие. Особенно ценен был талант Белки тем, кто возвращался в родные пенаты после отсидки без гроша в кармане. Всего один-два вечера, и бывший заключенный мог кататься с барышнями на извозчике, угощать девиц шампанским и вообще сорить деньгами до тех пор, пока не заживут душевные раны, нанесенные тюрьмой или каторгой.
— Где можно найти Шныря? — тихо спросил у него Лупан.
— Гуляй на хрен!.. — злобно окрысился Белка, который в этот момент проиграл.
Но тут же и остыл. Он был знаком с Петрей, они даже выпивали несколько раз вместе. К тому же у Белки был добрый, быстро отходчивый нрав.
— А, это ты… — похоже, Белка только теперь узнал Лупана. — Хочешь поиграть?
— Нет. Некогда… Ты, случаем, не знаешь, куда мог деваться Васька?
Белка тоненько хохотнул. При этом его не по возрасту юное лицо вдруг превратилось в морщинистую маску смешливого сатира.
— Разве тебе неизвестно, что он не может и дня прожить без бабы? — спросил он не без некоторого осуждения.
Сам Белка был ярым женоненавистником. Может, потому, что девушки совершенно не обращали на него внимания. Даже гулящие шли с ним неохотно. А некоторые, не очень проницательные, советовали Белке вместо себя привести папашу.
— Известно… — буркнул Петря.
Он уже понял, куда клонит Белка. И сильно расстроился.
— Вот и я об этом, — сказал мазурик. — Ищи Ваську у Камбалы. Там его вчера видел Ванька Золотой Зуб.
Прозвище Камбала носила хорошо известная в Киеве «мамаша» — хозяйка дома терпимости. В свое время она тоже была проституткой и отличалась крутым, необузданным нравом. «Заведение» Камбалы славилось тем, что в нем играл пианист-тапер Шишига, виртуоз своего дела, но большой любитель оковитой, которая его и сгубила.
Конечно, в богатых киевских домах терпимости тоже были таперы; там охотно выступали цыгане, профессиональные певицы и танцовщицы. Но в Ямках такую «роскошь» могли позволить себе лишь немногие бордели.
— Спасибо, брат, — поблагодарил Петря. — Пойду я…
Но Белка уже не слушал его. Он снова поставил на кон очередной бумажный рубль…
Проходя по Ямской мимо магазина с вывеской «Искусственные минеральные воды», Петря ностальгически вздохнул: эх, жаль времени в обрез. Ему уже приходилось здесь бывать. За перегородкой, отделяющей бордель от распивочной, бывшие батрачки отдавались солдатам, матросам, гимназистам и кадетам всего за 50 копеек.
Публичные дома Ямок разделялись на три категории: дорогие — «трехрублевые», средней руки — «двухрублевые» и самого дешевого пошиба — «рублевые». Различия между ними были большими. Если в дорогих домах стояла позолоченная белая мебель, зеркала в изысканных рамах, имелись кабинеты с коврами и диванами, то в «рублевых» заведениях было грязно и скудно, и сбитые сенники на кроватях кое-как прикрывались рваными простынями и дырявыми одеялами.
Но для Петри и рубль был большими деньгами. А вот 50 копеек за «сеанс» как раз были ему по карману. Лупан снова вздохнул — на этот раз от предвкушения будущего богатства. «Если выгорит то, что я наметил, — думал он приподнято, — первым делом пойду к Мадам». Эта немного приторная, но приятная во всех отношениях особа аристократической наружности содержала бордель на Прорезной, куда хаживали богатые и видные горожане. К ней «на гастроли» даже приезжали дорогие кокотки из Вены и Парижа.
Камбала и впрямь напоминала своим внешним видом ту рыбу, от которой она получила свое прозвище. «Мамаша» была плоской, как доска, но не высокой, а какой-то расплющенной. Ее лицо, наштукатуренное дешевой пудрой «Лебяжий пух», несло на себе отпечатки всех мыслимых и немыслимых человеческих пороков. Она была жадной до неприличия, злобной, как фурия, и издевалась над своими «барышнями», как когда-то помещица Салтычиха над своими крепостными.
Окинув Петрю с ног до головы опытным взглядом, Камбала мигом определила его незавидный общественный статус. Слащавую улыбку на ее физиономии будто стерли невидимой губкой, и она грубо спросила:
— Чего надобно?
— Мне бы Ваську… — робко сказал Петря.
— Он тебе кто — сват, брат?
Лупан обрадовался. Если Камбала так спрашивает, значит, Васька находится в ее фиалковом «заведении».
— Надо мне… — ответил он с очень серьезным видом.
— А мне не надо, — отрезала Камбала и повернулась, чтобы уйти.
— Э-э, мамаша! — воскликнул Петря. — Брось эти шуточки. Зови Ваську. Ну!
Камбала хотела ответить Лупану какой-то грубостью, но, заглянув в его бешеные глаза, сдалась. Большой опыт общения с мужчинами подсказал ей, что этот чернявый молодой человек, очень похожий на цыгана, пробьется в бордель силой, если она и дальше будет кочевряжиться.
— Какой нетерпеливый… — примирительно бросила Камбала на ходу. — Жди, сейчас позову…
Ваську она не привела, а почти принесла. Он что-то бессмысленно бормотал и улыбался, как идиот. Но увидев Петрю, Шнырь неожиданно резко протрезвел.
— Друг! — воскликнул Васька. — А я тебя ждал. Пойдем к барышням… я плачу. Сегодня я щедр, я всех угощаю, потому что завтра… Тсс! — Он приложил палец к губам. — Про завтра никому ни слова. Понял?
— Понял, — с ненавистью ответил Лупан.
«Неужели Васька проболтался? Убью!» — злобно подумал Петря, и его рука помимо воли скользнула в карман, где лежал большой складной нож.
— Но нам некогда прохлаждаться, — продолжил он с нажимом на слове «нам». — Время поджимает. Собирай свои манатки и потопали.
— Ты что, меня не уважаешь?! — Васька попытался изобразить грозную мину. — Ты мне друг или портянка? Конечно, друг. Кто бы в этом сомневался. Вперед!
С этими словами он цепко схватил Петрю за рукав и потащил его за собой. Удивительно, но Васька, который еще минуту назад, что называется, лыка не вязал, теперь превратился в деятельного и сильного живчика. Лупан поневоле сдался и вскоре оказался в довольно просторной гостиной, где вокруг большого, богато накрытого стола на диванчиках и пуфах сидело много барышень разных возрастов и национальностей. И все они были «жрицами любви».
Там же, в углу возле окна, стояло старенькое пианино, и тапер Шишига, изможденный субъект неопределенного возраста с лысой, как колено, головой и сизым носом в прожилках, наяривал блатную песню «Клавиши»:
…Я впервые с тобой повстречался И увлекся твоей красотой. Я жиганскою клятвой поклялся: «Неразлучны мы, детка, с тобой!» Я, как коршун, по свету скитался, Для тебя все добычи искал. Воровством, грабежом занимался, А теперь за решетку попал…Какая-то особо чувствительная барышня даже пустила слезу — проникновенный голос Шишиги, на удивление сильный и чистый, и впрямь задевал за живое.
…Так прости же, прости, дорогая, Что ты в жизни обманута мной, Что проклятая жизнь воровская. Свой конец ты нашла роковой.— Садись сюда, — сказал Васька, указав Петре на уставленный бутылками и закуской столик в углу — поодаль от гопкомпании проституток, — Выпьем… ик!.. за нашу дружбу и… Ц-с-с!.. — Он опять заговорщицки приложил палец к губам. — Тихо! Никому ни слова!
Лупан машинально выпил. А затем тихо спросил:
— Что у них сегодня за сборище? Выходной, что ли?
— Хе-хе-хе… Выходной… Скажешь такое. У ямских барышень не бывает выходных. Для них жизнь — сплошной праздник. Сегодня они провожают свою старую подругу на пенсион. Вон она, видишь, вся в белом и в кружевах… что твое бланманже.
— А эти барышни… они что, тоже под Камбалой ходят? Многовато…
— Нет, это все товарки той старой шлюхи, что в белом, — ответил Васька, понизив голос. — К ней пришли девки даже из Прорезной.
— Не хило…
— Ну да… Выпьем?
— Некогда здесь рассиживаться, у нас дело, ты не забыл?
— Все будет в ажуре, не беспокойся. Главное, что Графчик теперь нам не помеха. Допьем и пойдем.
Петря сокрушенно вздохнул, но спорить не стал. Ему хорошо было известно, что Васька Шнырь упрямец, каких поискать. Если уж ему втемяшится в башку какая-нибудь блажь, то ее колом оттуда не вышибешь.
Пока они бражничали, действо в «заведении» Камбалы шло своим чередом. С ноги будущей «пенсионерки» сняли туфлю, и каждая из ее подружек положила туда или крупную ассигнацию, или какую-нибудь золотую вещь. Когда туфля наполнилась, все дружно потребовали, чтобы она сняла и вторую, которая тоже вскорости наполнилась деньгами и золотом.
— Это зачем? — тихо спросил удивленный Петря, у которого от жадности загорелись глаза.
— У барышень таков обычай, — ответил Васька. — Если в ход идет вторая туфля, значит, у мадам в белом шибко много «боевых» заслуг… — он хихикнул. — А вот ежели кого они не уважают, то перед той барышней ставят деревянный башмак и ссыпают в него тридцать копеек медью…
Возможно, Васька просидел бы в «заведении» Камбалы до самого вечера, но бандерша вытолкала их взашей — разгулявшиеся барышни хотели провести междусобойчик без присутствия мужчин. Из представителей мужского пола остался лишь один Шишига, но он уже давно не чувствовал потребности в женщинах, а потому барышни считали его всего лишь живым приложением к пианино.
— Потопали ко мне, — предложил Васька. — Продолжим наши посиделки. У меня припрятан штоф оковитой. Правда, со жратвой напряг… Ну да ладно, зайдем на Бессарабку[28], купим чего-нибудь… — он вдруг ни с того ни с сего захихикал.
Петря хмуро кивнул, соглашаясь. Он не был пьян, хотя выпил немало, и свою главную задачу помнил отлично. Но Лупан также понимал, что сегодня Васька ему не помощник. Еще один день потерян, с тоской думал Петря, наблюдая, как Шнырь устроил спор с торговкой из-за цены на сало. Побалаболив с теткой минут пять, Васька зло сплюнул и пошел дальше, так ничего у нее и не купив.
Затем такая же история повторилась и возле другого прилавка, где торговали домашней колбасой. Закончил Шнырь свои препирательства с торговцами лишь возле больших дубовых бочек с солеными огурцами и капустой. Там он чинно-благородно купил на гривенник разных солений и покинул здание Бессарабского рынка с чувством хорошо исполненного долга.
— Это вся наша закуска? — угрюмо спросил Петря.
— Чудак человек… — Васька снисходительно ухмыльнулся. — А это что?
Он распахнул полы своего пиджака, который был размера на два больше, чем нужно, и изумленный Лупан увидел, что из пришитых с изнанки больших карманов торчат кусок сала, колбаса и две большие тарани.
— Как… когда?.. — наконец выдавил из себя Петря, который на какое-то время потерял дар речи.
— Держись меня, хлопец, — снисходительно сказал Шнырь. — С голодухи точно не помрешь. Ловкость рук — и никакого мошенничества. Главное в нашем деле — не жадничать. Бери, сколько хочешь, но не больше, чем нужно. Кстати, нам еще надо зайти в булочную Глейзера…
Когда они подошли к каменным громадам Флоровского монастыря и свернули в улочку, которая вела к хате Шныря, он вдруг сильно занервничал. Васька даже в лице изменился.
— Ты чего? — с удивлением спросил Петря.
— Чует мое сердце что-то недоброе… — ответил Шнырь.
Он остановился и начал пристально всматриваться в глубину узкой тенистой улицы, словно пытаясь что-то там разглядеть. Но вокруг царила поразительная тишина, которую нарушали только монастырские голуби, воркующие где-то неподалеку.
— Пойдем через перелазы, — решительно сказал Васька, и они начали пробираться к его хате огородами и бурьянами.
Хата по-прежнему казалась придремнувшим в тени деревьев паучком. Шнырь готов был раздвоиться: одна его половина рвалась побыстрее продолжить застолье, а другая — та, что отвечала за его безопасность и часто выручала в сложных ситуациях, — цепко держала Ваську за полы пиджака.
Что касается Лупана, то он был менее чувствительной натурой, нежели его приятель, и колебания Шныря казались ему чем-то похожим на начало белой горячки, когда человеку на хорошем подпитии мерещится разная нечисть. Но он мудро помалкивал — чтобы Васька не разозлился; уж больно много надежд Петря возлагал на их временный союз.
Предчувствие и на этот раз не обмануло Ваську. С того места, откуда они вели наблюдение за его хатой, была видна часть безлюдной улочки. И в какой-то момент на ней появился человек. Он шел, словно скользил по льду на коньках — каким-то плавным и бесшумным шагом.
Едва увидев его, Шнырь с дрожью в голосе и с большим удивлением сказал:
— Что здесь Матрос забыл?!
— Кто такой Матрос? — спросил заинтригованный Петря.
— Правая рука Федьки Графчика. Сволочной человек. Жиган. Чуть что, сразу за волыну[29] хватается. Душегуб… Нет, но что ему здесь нужно?!
Ответ напрашивался сам по себе, но Васька боялся даже думать об этом. И все же подлая мыслишка уже втемяшилась в мозг — в самые потаенные его уголки — и время от времени выскакивала как черт из табакерки: «Неужто Графчик вознамерился взять меня и Петрю на цугундер, чтобы под пыткой узнать месторасположение могилки?»
Это было на него похоже. Шнырь достаточно хорошо знал подлую натуру фармазона Федьки Графчика и не питал на его счет никаких иллюзий. Наверное, Федька немного помараковал и решил, что сам займется раскопками. Вот сволочь!
По дороге к нему Васька все же колебался — ставить Федьку в известность о будущем предприятии или нет, — но затем благоразумие взяло верх. Воровские законы были строги и неумолимы — в своем околотке Графчик был главным распорядителем, и мимо него можно было пролететь только с подрезанными крыльями.
Тем временем Матрос приблизился к плетню, который отделял поросшую спорышом улицу от Васькиного подворья, немного поколебался, а затем с грациозностью гимнаста перемахнул его одним скоком. К жилищу Васьки его привел неумный темперамент. Когда набранная Матросом команда блатных пацанов не смогла отыскать Шныря, жиган, недолго думая, решил сам наведаться к нему в гости и вытрясти из вора душу вон, но узнать точное расположение захоронения.
Присев за кустом, Матрос некоторое время наблюдал за хатой, а потом, увидев, что она «заперта» на вербовый прутик, зло сплюнул, поднялся во весь рост и, уже не таясь, пошагал к входной двери.
— Вот гад! — с чувством сказал Васька. — Шмон хочет устроить.
Ему сразу стала понятна задумка жигана. Наверное, Матрос решил, что план Китаевского погоста с указанием точного места захоронения цинкового ящика висит у Шныря на стене. Или лежит в скрыне. Сукин сын!
— Зачем? — спросил Петря.
— Не понимаешь?
— Нет.
— Чтобы найти твою бумажку с планом… которой там нет, — в последних словах фразы явственно послышалось сожаление; Шнырю самому очень хотелось познакомиться с планом, но Петря был неумолим: «Мой козырь пусть лежит в моем рукаве».
— А… — до Лупана наконец дошло, и он мгновенно переполнился лютой ненавистью к Матросу, о котором до сих пор даже не слышал. — С-собака…
Петря так уверился, что в ящике находятся несметные сокровища, что готов был убить любого, кто встанет на его пути (хотя до недавнего времени он был мирным и богобоязненным обывателем и старался избегать не то что драк, но даже ссор).
Если до встречи с Васькой эта уверенность лишь боязливо тлела, то теперь она превратилась в большой костер. Где бы Лупан ни находился, перед его глазами плыл бриллиантовый дым, а купола многочисленных киевских храмов и церквей в обрамлении свежей зелени древесных крон казались золотым ожерельем, брошенным в высокую траву.
Матрос уже дошел до двери и даже вытащил из ручки прутик, исполняющий роль замка, как неожиданно откуда-то сбоку выскочили полицейские и попытались скрутить ему руки. Но не тут-то было.
Жиган обладал недюжинной силой, поэтому стряхнул фараонов со своих плеч, как медведь охотничьих псов. А затем помчался по улице, на ходу грубо сбив полицейского пристава, который дул в свисток, подзывая тех своих подчиненных, которые не горели желанием принять непосредственное участие в задержании.
Разъяренный участковый пристав[30] (в белом летнем кителе, с ног до головы вывалявшись в пыли, он стал похож на замарашку) выхватил револьвер и два раза пульнул вслед Матросу. И тут же опять упал на землю, закрыв голову руками, — жиган ответил ему выстрелами из своего нагана.
Опомнившиеся полицейские открыли бешеный огонь из всех стволов, но жигана и след простыл — он скрылся от преследователей в старом, заброшенном монастырском саду, похожем на лес, где местные пацаны обычно играли в прятки.
Васька Шнырь и Петря не стали досматривать финал полицейской засады. Едва раздались первые выстрелы, как у них словно крылья выросли за плечами. Они бежали вдоль монастырских стен до тех пор, пока хватило духу. А затем попадали в высокую траву и долго не могли прийти в себя.
Шнырь и Лупан лежали молча, пристально вглядываясь в удивительно голубые небеса, на которых не было ни одной тучки. Они словно пытались прочитать там свою дальнейшую судьбу…
Глава 8 2007 год. Странная цыганка
«Недолго мучилась старушка…»
Дурацкий анекдот из так называемой садистской серии упрямо лез в голову, как Глеб ни старался от него отбрыкаться. Он не был циником или совершенно черствым, бездушным человеком, но его большей частью мучила не горечь от утраты хорошего человека, а то, что он пролетел с картиной.
«Ну почему, почему я не приехал к Ольге Никаноровне вчера вечером?! Ведь железо нужно ковать, пока оно горячо. Тебе эта аксиома известна лучше, чем кому-либо другому. В нашей профессии всегда нужно торопиться, иначе опередят. Какие проблемы — подождал бы, пока закончатся все ее лечебные процедуры. Пусть даже до полуночи. А теперь что? По идее, тупик. И как из него выбраться?»
Глеб вдруг понял, что совершенно не верит в несчастный случай. Когда Ольга Никаноровна поднималась по лестнице, то цепко держалась за перила. Это Глеб видел своими глазами. Несмотря на преклонные годы, она не была немощной. Скорее наоборот. Руки у нее были сильными, цепкими.
Конечно, Ольга Никаноровна могла внезапно потерять сознание. Годы есть годы. Но с какой стати ей вздумалось подниматься ни свет, ни заря и выходить во двор? — вспомнил Глеб слова бабульки.
Ладно, допустим, ее убили. Но тогда выходит, что и он «под колпаком». И что НЕКТО охотится за тем же, что и Глеб. И этот неизвестный (или неизвестные? Может, там целая шайка) опередил его, изъяв картину.
Но зачем она ему нужна? Ведь план у Глеба. А без плана картина — всего лишь кусок холста, покрытый красочным слоем.
«Чудак человек… План ПОКА у тебя. Если за ним идет такая серьезная охота, то жди гостей, которые не очень обременены различными законами и условностями…»
Нет-нет, это бред сивой кобылы! Те, кто, возможно, начал за ним следить после его визита к Ципурке (или раньше?), вряд ли могли предполагать, что он так быстро найдет то, что нужно. И уж тем более они не знали, что картина находится у Ольги Никаноровны.
Да, не знали. Но могли узнать. Как? Очень просто. Ах, черт! Глеб стукнул себя ладонью по лбу.
«Нужно было спросить бабульку, — подумал он, — не ходил ли вчера вечером по квартирам какой-нибудь инспектор или мастер ЖЭУ — электрик, сантехник и так далее. Если ходил, то вся история приобретает совсем иное толкование…».
Вспомнив, что утром он вместо завтрака выпил лишь чашку чая с сухариками, Глеб круто вывернул руль и припарковался на стоянке возле придорожного кафе. Он сел за столик на открытом воздухе, сделал заказ и сразу же оплатил его, чтобы не тратить время на ожидание счета.
Весь в плену мыслей, он быстро съел все, что ему принесли, даже не ощущая вкуса; короче говоря, набил себе желудок, чтобы не сосало под ложечкой. Лишь когда ему подали кофе, Глеб наконец сосредоточился на своих гастрономических упражнениях и тут же понял, что лучше бы он этого не делал.
Кофе оказалось «котловым»: не очень горячей водой, возможно, даже некипяченой, разбавили дешевый кофейный порошок, и получилась жиденькая коричневая бурда со вкусом жженой резины.
Но возмутиться Глеб не успел. К его столику неожиданно подсела цыганка и глубоким грудным голосом сказала:
— Дай погадаю тебе, соколик.
Глеб всегда избегал различных толкователей судьбы. Он был чересчур образованным человеком, чтобы верить во всякую чушь. И когда в газетах или на телевидении, по идее, умные люди с совершенно серьезным и многозначительным видом рассуждали о появлении какого-нибудь нового Нострадамуса, чаще всего в юбке, он лишь смеялся.
Все подобные статьи и представления были не больше чем элементами примитивного шоу, крючком с наживкой для простодушных и не шибко обремененных знаниями обывателей. Ведь людьми, которые верят в разную чертовщину, легко управлять.
— А руку позолотить? — с насмешкой спросил Глеб.
Удивительно, но цыганка, которой уже явно перевалило за пятьдесят, не вызвала в нем неприятия. Она была в чистой одежде — черная кофта в мелкий цветочек и длинная юбка, и от нее пахло свежескошенным сеном и какими-то духами — что-то цветочное, но ненавязчивое.
— Не нужно. Когда всю правду расскажу, сам решишь, золотить мне руку или нет.
— Понял. Но вот что я вам скажу, уважаемая: свое прошлое я и так знаю, а будущее меня мало интересует. Большие познания — большие горести. Зачем мне нести на своих плечах такой тяжкий груз? А это вам в качестве презента… на чашку кофе, — он достал из бумажника сторублевку, положил ее на стол перед цыганкой и встал. — Только здесь кофе не пейте, иначе испортите желудок. Всего вам доброго… — Глеб изобразил легкий поклон, приятно улыбнулся и пошел к своей «ауди», мирно загоравшей на солнцепеке.
Но тут же резко тормознул, услышав слова цыганки:
— Перестань, соколик, искать то, что ищешь. Потому что найдешь ты себе большую беду.
Глеб обернулся — и не поверил своим глазам. Цыганка исчезла, будто ее и не было вовсе! Лишь легкий ветерок трепал сотенную купюру, на которую уже накинула глазом молоденькая официантка.
— Где она? — возвратившись, спросил Глеб у девушки каким-то чужим голосом.
— Кто? — официантка смотрела на него с недоумением.
— Цыганка. Здесь… сидела, — указал он на пластиковый стул, который, как ему показалось, еще хранил запах гадалки.
— Вы были одни. Никакой цыганки я не видела.
— Ну как же!.. — загорячился было Глеб, но тут же и остыл. — Извините. Это у меня… — он машинально потер виски. — Перегрелся на солнце.
— Да, сегодня очень жарко…
Глеб кивнул, соглашаясь, и неверным шагом направился на автостоянку.
— Вы забыли деньги! — окликнула Глеба официантка; наверное, у нее вместе с состраданием к клиенту, который явно был не в себе, проснулась повышенная честность.
— Оставь их себе, — сказал Глеб, сел в машину и поторопился выехать на проезжую часть улицы.
Прикоснуться к этой сотенной его сейчас не заставили бы и под пыткой…
«Или мне блазнится… уж не знаю, отчего; может, и впрямь с перегреву; или со мной затеяли какую-то нехорошую игру», — думал он, терпеливо дожидаясь, пока рассосется автомобильная пробка.
Несмотря на молодые годы, ему уже доводилось бывать в передрягах, попахивавших мистикой. Свойства артефактов, с которыми имеют дело практически все серьезные археологи, нередко выходят за рамки обычных человеческих представлений о природе вещей. Их трудно познать (чаще всего невозможно, если быть совершенно точным), но они могут оказывать на людей сильное влияние, иногда оканчивающееся летальным исходом.
Поэтому Глеб в своих суждениях на сей счет старался придерживаться мудрого правила: не буди лихо, пока оно спит тихо. Не стоит забираться в дебри, где человека неискушенного могут ожидать неприятные сюрпризы.
Но иногда в кладоискательском азарте, доходящем до фанатизма, он нарушал это правило, и тогда его выручал только ангел-хранитель. В его существование Глеб не очень-то верил, однако после очередного выхода «в поле», который только чудом не заканчивался трагически, он шел в церковь и ставил с десяток свечей — как бы исполняя некий ритуал покаяния перед неведомыми высшими силами за свое неверие.
Приехав домой, он первым делом позвонил отцу.
— Как ты там? — спросил Глеб после приветствий.
— Не очень, — ответил Николай Данилович.
— Да ну? — удивился Тихомиров-младший. — Что так?
— Скучные они все здесь какие-то.
— Уточняю — чопорные. Это одна из отличительных черт британцев.
— Мне от этого не легче. Только и разговоров, что о работе да о деньгах.
Глеб рассмеялся.
— Понимаю твои страдания… — ответил он. — Тебе бы про политику поговорить да про разные археологические тайны. Увы, времена романтиков в Англии закончились как раз перед Первой мировой войной. А интерес к политике у основной массы британцев пропал после Нюрнбергского процесса, когда повесили главных закоперщиков Второй мировой. Учти, это не мое умозаключение, а исследование серьезных, уважаемых в научном мире мужей. Так что потерпи. Деньги тебе ведь платят немалые.
— Платят… — буркнул отец. — И что они нашли хорошего в этой эмиграции?
— Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше.
— Ты еще скажи, что животные в зоопарке живут дольше, чем их собратья на воле.
— Это тоже факт.
— Да вот беда — многие звери в неволе не хотят размножаться. И это при качественном и изобильном питании, отменном уходе и ежедневных ветеринарных осмотрах.
— Батя, можешь не переживать — об эмиграции я даже не думаю. Мне и на родине хорошо.
— Это я чувствую. Что, опять попал в переплет?
— Ну, я так не сказал бы… — в голосе Глеба почему-то не было уверенности.
— Теперь мне понятно, почему ты звонишь в неурочное время. Я мог бы сразу догадаться… Так что там у тебя случилось? — взволнованно спросил отец.
— Пока ничего. Только вот цыганка напророчила мне какую-то беду…
— С каких это пор ты стал суеверным? Если человек начинает верить в разную чепуху, то как археолог он закончился.
— Понимаешь, есть тут у меня кое-что на примете…
Из-за своей специфической профессии Глеб и отец не очень доверяли телефону. Это уже вошло у них в привычку. Поэтому телефонные переговоры Тихомировых нередко состояли из малопрозрачных намеков или только им известных условных фраз.
— И это «кое-что», — догадался отец, — кусается.
— Ну, пока все тихо или почти тихо, но есть предположение, что ситуация может измениться в любой момент.
— Опять ты куда-то влез!
— Вот именно — куда-то. А идею мне выдал один наш общий знакомый.
— Кто? — в голосе Николая Даниловича послышались тревожные нотки.
Глеб невесело ухмыльнулся. Отец никогда не питал иллюзий по поводу коллег по ремеслу. Тем более что они были не только коллегами, но и конкурентами. И нередко случалось, что конкурентная борьба заканчивалась выяснением отношений, иногда выходящим за общепринятые нормы.
Так что дать сопернику ложный след считалось пусть и не благородным, но вполне нормальным поступком. Как говорится, не зевай Фомка, на то ярмарка. Если жадность затмевает «черному» археологу разум и здравый смысл, то пусть он пеняет только сам на себя.
— Тот, у кого ты купил саксонскую раскладную дагу[31].
В трубке что-то хрюкнуло. Глеб понял, что отец смеется. История с дагой и впрямь получилась занятная. Дед Ципурка, пожалуй, впервые в жизни ошибся в датировке раритетной вещи и отдал Николаю Даниловичу уникальный кинжал за совсем мизерную цену.
Потом, конечно, он понял, что дал маху, и долго сокрушался, что его обвели вокруг пальца, как мальчишку. В свое оправдание дед Ципурка всем говорил, что Тихомировы обладают гипнотическим даром, хотя сам в это не верил.
В какой-то мере его подозрения на сей счет были оправданны. У Тихомировых действительно был дар. Но только дар предвидения. Что касается гипноза, то единственным отличием Тихомировых от многих людей было то, что они не поддавались гипнотическому влиянию.
В их семейном клане бытовало предание, что эти качества перешли к ним в наследство от основателя рода, бывшего инока, а затем донского казака Григория Тихомирова. А если точнее, то от его жены, которую он добыл в одном из походов на басурман. Он взял ее еще девочкой, вырастил, и они поженились.
Девочка происходила из малочисленного и очень древнего племени, которое жило на территории Турции. Женщины ее рода обладали большими познаниями в колдовстве.
Девочке из-за ее малолетства не успели передать все тайны магических искусств, но в ней, видимо, было что-то заложено изначально, с рождения. Она выручала мужа из смертельно опасных переделок, даже будучи на расстоянии. Может, потому казак Григорий и прожил почти сто лет.
— Ему верить можно, — сказал отец. — В последние годы он здорово изменился, стал набожным. И я не слышал, чтобы он кому-либо сделал подлость. А что касается даги… Это дела давно минувших дней. Меня он тоже как-то взял на арапа. Так что мы с ним квиты. Что поделаешь, диалектика жизни.
— Да, диалектика…
— Ты можешь подождать, пока я вернусь? — спросил Николай Данилович. — Вдвоем нам будет проще разобраться… я так думаю.
— Проще, — согласился Глеб. — Но подозреваю, что у меня времени в обрез.
— Даже так? У тебя есть факты?
— Все пока очень зыбко, неопределенно… Фактов нет. Одни предположения и предчувствия.
— Предчувствия? Ну, это уже серьезно…
— И я так думаю.
— Знаю, что отговорить тебя от этой затеи не удастся, поэтому прошу только об одном — поберегись. У тебя уже есть хороший опыт, так что держи ушки на макушке.
— Постараюсь…
На том они и попрощались: Глеб — с чувством неудовлетворения, что не смог рассказать своему самому дорогому человеку на этом свете всю историю в деталях, а Николай Данилович — с обычными страхами любящего отца за свое малое и неразумное, как всем родителям кажется, дитя (даже если ему за тридцать).
Приняв холодный душ, чтобы немного освежиться, Глеб прошел на кухню, сварил кофе (чтобы перебить отвратительный вкус того напитка, которым его потчевали в кафе и который будто застрял в горле), сел за стол и включил телевизор. У Тихомировых телевизоры стояли почти во всех комнатах. Когда отец находился дома, практически все они были включены.
Николай Данилович, размышляя над очередной сложной проблемой, часами расхаживал по дому, словно привидение. При этом, думая, он умудрялся смотреть фильмы, новостные передачи и всю ту чушь, которая изливается на бедного обывателя из голубых экранов сутки напролет.
Но самое интересное: иногда нечаянно оброненная одним из героев бесконечных сериалов фраза или обрывок сюжета какого-нибудь документального фильма вдруг оказывались ключом к решению задачи, и торжествующий Николай Данилович устраивал, как он говорил, «половецкие пляски» — прыгал козликом едва не до потолка и пел дикие варварские песни на неизвестном даже Глебу языке. А иностранных языков Тихомировы знали немало.
Передавали городские новости. Обычно Глеб слушал их со скепсисом. Что интересного может сказать дикторша местного телевидения, если оно куплено с потрохами мэром города? Ничего. А то, что он вор и христопродавец и что по нему давно плачет тюрьма, знают все горожане. Когда на экране появлялась его рожа, Глеб обычно плевался, с чувством говорил «Козел!» и переключался на другой канал.
Но на этот раз мэр был занят чем-то другим и не явил миру свою физиономию прожженного проходимца. Поэтому дикторша благополучно и без помех добралась до криминальных новостей: «… В своем доме убит известный меценат и коллекционер, почетный гражданин города Ципурка Вацлав Станиславович».
Когда была названа фамилия, Глеб от неожиданности дернулся и пролил кофе на скатерть. Однако он даже не обратил на это внимания, хотя коричневая жидкость тоненьким ручейком начала стекать на пол.
Убит дед Ципурка! Это было настолько невероятно, что Глеб поначалу посчитал, что ослышался, но девушка на экране еще два раза повторила фамилию старого кладоискателя, и все сомнения отпали. Тихомирова-младшего будто обухом хватили по голове.
Убит… А как же псы, эти неподкупные и страшные зверюги, охранявшие его дом? Или их тоже?.. Почему убит, кто его убил?!
Ответом на эти вопросы для Глеба неожиданно стал следующий сюжет, который поставили после новостей. В нем говорилось о неразгаданных исторических тайнах, в том числе и о поисках утерянных сокровищ.
Тихомиров-младший просмотрел сюжет до конца. И не потому, что ему было интересно. Он просто оцепенел. До него наконец дошло, какую эстафету он получил от деда Ципурки. Старый кладоискатель немного притемнил, сказав, что видел вещий сон. Он ЗНАЛ, что за ним придут, и предполагал, чем этот визит закончится. Наверное, в своих попытках разгадать таинственный план, выгравированный на пластине, он где-то прокололся.
Неожиданно Глебу пришла на ум известная стихотворная строка великого Гомера: «Бойтесь данайцев, дары приносящих…» И он горько улыбнулся.
Глава 9 1915 год. Пристав Семиножко
Шиловский рвал и метал. Участковый пристав Семиножко, коротконогий, грузный, с бычьим загривком и длинными запорожскими усами, стоял перед ним пунцовый, как рак.
— … Тупицы! Болваны! Биндюжники вы, а не облеченные высоким доверием государевы слуги! — закончил свой достаточно длинный ругательный монолог надзиратель и без сил рухнул в кресло.
Семиножко виновато молчал. Он, конечно, мог стать в позу: не шибко велика шишка — надзиратель сыскной полиции, чтобы перед ним чересчур низко прогибаться; к тому же у свояка Семиножко чин повыше, чем у Шиловского, и служит он в жандармерии, поэтому всегда может замолвить за него слово.
Но пристав, служака до мозга костей, хорошо понимал, что именно он дал маху. А значит, ему и принимать все удары на себя. Тут уж никакое заступничество не поможет. Разве что государя императора. Однако у него сейчас много других забот — война…
С усилием отогнав дурацкие мысли, Семиножко встрепенулся и снова принялся преданно «есть» надзирателя своими блекло-голубыми воловьими глазами. Шиловский мрачно глянул на него исподлобья, налил из графина воды в высокий стакан, жадно выпил до дна и немного успокоился. Закурив папиросу, он сказал:
— Садись, Петро Мусиевич, в ногах правды нет. И расскажи мне толком, что там у вас случилось.
— Да вот какая незадача… — Семиножко достал носовой платок и вытер им потное лицо. — Ждали мы безобидного мазурика, а попался нам вооруженный жиган. Вот мои орлы и сплоховали. Здоров, как бык… его надо было сразу глушить, как сома, но кто же знал?
— Кто таков?
На какое-то мгновение Семиножко замялся, будто не решаясь сказать то, что у него на уме, но потом быстро ответил:
— Не распознали. Но мы поспрашиваем на Шулявке, на Подоле, потрясем содержателей притонов, гляди, что-то и нарисуется.
— И что вы будете спрашивать? — насмешливо поинтересовался Шиловский.
— Ну, изображение его наружности у нас имеется. Это уже хорошо.
— Откуда? — удивился надзиратель.
— Есть у меня один новенький… очень я им доволен. Глаз у него востер, как казацкая шашка. Вот он с помощью одного шаромыжника, спившегося художника, и состряпал портрет. Говорит, очень похож.
— Портрет при тебе? — черные глаза Шиловского вспыхнули.
— А как же… — Семиножко полез в папку, которую прижимал к груди, словно самую большую драгоценность, достал оттуда кусок картона и положил его на стол перед надзирателем. — Вот он… с-сукин сын! — не удержался пристав от крепкого выражения, вспомнив свой изгвазданный мундир.
Портрет явно кого-то напоминал, но кого именно, Шиловский вспомнить не мог.
— Добро, — сказал он, задумчиво покусывая нижнюю губу. — Портрет скопировали?
— Не успели, Евграф Петрович… — Семиножко виновато опустил глаза. — Как только художник закончил работу, я сразу же побежал к вам на доклад. Сделали всего одну копию — для вас.
— Тогда займись этим делом. И проследи, Петр Мусиевич, чтобы копии раздали городским приставам, а также околоточным Подола, Куреневки, Шулявки, Липок… В общем, всем. Думаю, ему на свободе долго не гулять… если только он не залетный. И еще — найди мне Ваську Шныря! Достань его из-под земли!
— Достанем, Евграф Петрович, не беспокойтесь. У меня к Шнырю свой счет… — начал было пристав, но тут же закрыл рот.
Не хватало еще, чтобы начальство узнало, как приставу Семиножко, грозе подольской босоты, почистил карманы какой-то шклявый мазурик. При этом Шнырь украл не только кошелек с деньгами, но и дорогую серебряную зажигалку, подарок свояка. О том, что это Васькина работа, пристав узнал от своих осведомителей.
Семиножко ушел. Раздосадованный Шиловский курил папиросу за папиросой. Он так надеялся, что сегодня на месте пристава будет сидеть Васька Шнырь…
Но что нужно было вооруженному бандиту от карманного вора? Надзиратель знал, что мазурики и жиганы нечасто контактируют между собой. Воры сторонились убийц и налетчиков. Одно дело — сидеть в теплой тюрьме, другое — попасть на каторгу, в холодную Сибирь, и носить кандалы.
А дружба с жиганами была прямой дорожкой в Нерчинские рудники — за компанию. Царская Фемида долго разбираться не будет. Ткнет пальчиком наобум — и суши сухари для длинной дороги по сибирскому тракту.
Шиловский сидел и думал, что Ваську Шныря теперь найти будет трудно. Чересчур шумной получилась баталия с засадой возле хаты вора. Стрельба, крики… А слухи в Киеве распространяются молниеносно, будто по телеграфу. Сиди теперь на Гончаровке, не сиди, все равно толку от этого не будет.
Надзиратель был далеко не глупым человеком. В свое время он стажировался под началом самого Кошко[32] и считался подающим большие надежды. Но из Москвы его перебросили на усиление в Киев, а в провинции не только камни мхом обрастают, но и люди, в особенности чиновного звания.
Нет, Шиловский не поглупел. Отнюдь. Но и звезд с неба не хватал. Хотя бы потому, что в Киеве негде было применить его таланты в полной мере. Шла обычная рутинная работа, на которой даже медаль не заработаешь. Он уже давно мог бы стать чиновником особых поручений[33] сыскной полиции, но на верхних этажах власти шла постоянная чехарда, и по этой причине не имеющий больших связей Шиловский никак не мог попасть в рапорт на повышение.
А тут еще война… Народ начал роптать. Так недолго и до революции. А что такое революция, Шиловский знал не понаслышке. В декабре 1905 года, спустя два месяца после того, как его зачислили в штат московской сыскной полиции, ему пришлось с оружием в руках штурмовать баррикады, сооруженные восставшими пролетариями. Классовая ненависть рабочих к власть имущим поразила молодого полицейского агента до глубины души.
Уже тогда Шиловский решил, что в случае очередной революционной заварухи, только обширнее по масштабам, а значит, более кровавой и непредсказуемой по последствиям он постарается остаться в стороне от этого процесса; а в том, что народ взбунтуется, Шиловский был уверен. Но как тогда ему, сыну небогатого мещанина, у которого за душой только жалованье надзирателя сыскной полиции, не остаться на бобах, вдруг придется оставить службу-кормилицу?
Когда Шиловский узнал от Остапа Кучера о тайном захоронении на Китаевском погосте, надзирателю вдруг подумалось, что судьба предоставляет ему шанс. И грех было им не воспользоваться. Но как найти ту могилу? В этом мог помочь только Васька Шнырь.
Увы и ах, их встреча теперь откладывается на неопределенное время…
Шиловский, раздосадованный до глубины души, снова начал рассматривать портрет неизвестного жигана, который ранил одного полицейского и едва не отправил на тот свет пристава, верного помощника надзирателя. Семиножко, конечно, был хитер и сам себе на уме, но отличался повышенным служебным рвением и исполнительностью. Поэтому Шиловский доверял ему серьезные дела и откровенно обсуждал с ним различные проблемы.
«Может, взять его в долю? Если в том ящике и впрямь что-то есть… — думал надзиратель. — Надо ведь кому-то довериться. Самому мне не удастся сделать все тайно и скрытно. Но где взять верных людей? Петр Мусиевич, пожалуй, лучшая кандидатура. Но он хитер… очень хитер. Сам себе на уме. Поди, знай, что там у него под черепушкой творится. Нет-нет, не торопись! Нужно все как следует обмозговать, подумать без спешки…»
А в это время «лучшая кандидатура» сидела в таратайке извозчика и держала курс на Шулявку. Семиножко соврал Шиловскому. Да, действительно, он по запарке поначалу не узнал жигана, который появился перед ним внезапно — выскочил откуда-то как черт из табакерки. Пристав вообще его не разглядел, если по правде. Но потом, когда ему принесли портрет, Семиножко едва не охнул — это был Серега Матрос!
Художник выделил главное — глаза. На них-то как раз пристав, в отличие от своих подчиненных, и не обратил должного внимания, потому что успел заметить только макушку жигана, который боднул его, словно бык, головой в грудь. Глазищи у Матроса были как у сумасшедшего — большие, круглые и какие-то отмороженные. Поговаривали, что Серега Матрос балуется марафетом.
Семиножко уже доводилось встречаться с Матросом. Мало того, в юные годы жиган был его личным тайным агентом. Пока не сел. А когда он вернулся с каторги, Семиножко счел благоразумным прекратить с ним все контакты.
При первой же встрече Серега сказал приставу: «Все, мы друг друга не знаем. Начнете доставать или заложите братве — убью». Семиножко почему-то сразу поверил этим суровым словам и пообещал забыть прошлое.
Каторга здорово изменила Матроса. Он закалился, стал очень сильным и, главное, бесшабашным. Наверное, ему была только одна дорога — на тот свет. Он мог погибнуть в любой момент — и во время разборок с жиганами, когда подтверждал свой высокий статус в бандитской среде, и когда шел на дело. После 1905 года полиция особо не миндальничала и пускала в ход оружие, долго не думая.
Но тут Серегу Матроса заприметил Федька Графчик и приблизил к себе, сделав его и своим телохранителем, и своего рода «начальником контрразведки». Матрос вычислял полицейских агентов и добровольных стукачей в воровской среде и вершил над ними суд.
Поскольку у него теперь была солидная «должность», Серега Матрос поневоле остепенился и очень редко попадал в поле зрения сыскной полиции. И тем более странно, что он так среагировал на попытку полицейских произвести арест. Ведь за ним ничего серьезного уже давно не числилось. Что касается нагана, то Семиножко не сомневался, что благодаря опытным адвокатам, состоящим на содержании у Графчика, Серегу выпустили бы на другой день.
Тогда почему такая бурная реакция? Что за этим кроется? Семиножко всеми фибрами своей хохлацкой души чувствовал, что наклевывается какое-то большое дело. Ведь не зря же Шиловский просил его не распространяться перед полицейским начальством, когда приказал без шума взять Ваську Шныря и доставить не в участок, а лично к нему. Похоже, надзиратель хочет все победные лавры приписать себе.
«Ну, нет, — думал Семиножко. — Так дело не пойдет. Не век же мне в приставах ходить. Может, я тоже хочу в высоком кресле сидеть, попивать шампанское и кофий и отдавать приказы нижним чинам, а не бегать, как пес, по участку, высунув язык…»
Пристав хорошо понимал, что до Васьки Шныря ему в скором времени не добраться. Васька был ловким и хитрым, как змей. Он теперь ляжет на дно, и попробуй его оттуда выковырять.
Но что касается Матроса, то здесь у пристава был хороший шанс. Несмотря на то что Серега отказался сотрудничать с полицией, Семиножко при помощи своих тайных осведомителей вел за ним негласное наблюдение. Он все еще не терял надежд, что Матрос снова начнет доносить на своих дружков. Хотя бы из-за корысти или чувства мести. Мало ли какие расклады могут случиться среди мазуриков и жиганов. А Серега Матрос много чего знал.
Семиножко был мудр и терпелив. Несмотря на категорический отказ иметь дело с полицией, Матрос все же был на крючке. Пристав не стал его подсекать только потому, чтобы он и впрямь не сорвался окончательно, а попустил леску, дабы создать у Сереги ощущение полной свободы. Но Семиножко был уверен, что в нужный момент он всегда сможет совладать со своим бывшим агентом и заставит его делать то, что требуется.
Похоже, это время наступило. Семиножко нащупал в кармане револьвер и с удовлетворением ухмыльнулся. Он успел переодеться в штатское и теперь, как ему казалось, ничем не отличался от мещан, фланирующих вечерней порой по Крещатику и Прорезной.
Увы, пристав не заметил недобрый взгляд, которым одарил его извозчик. Видимо, он считал Семиножко даже не чиновником в штатском, а неудачно замаскировавшимся полицейским филером, коих после 1905 года расплодилось великое множество.
Пристав был уверен, что сегодня Серега Матрос ни в коем случае не будет гулять в одной компании с Графчиком — чтобы не подставить своего хозяина. Он должен какое-то время отлеживаться в своей «норе». А где находится эта нора, Семиножко знал.
Двухэтажный дом на Шулявке принадлежал одной купеческой вдовушке. Чуть поодаль виднелась церковь Марии Магдалины. Дом был ветхим и неказистым с виду. Ему здорово досталось в 1905 году, когда шли бои за Шулявскую республику[34]. Деревянная обшивка дома была сплошь иссечена пулями, а беседку во дворе разворотило гранатой. Ремонтировать ее никто не стал, благо беседку густо обвил дикий хмель и скрыл следы разора.
После смерти мужа все его дела пришли в расстройство, поэтому вдова некоторое время терпела большую нужду, и только связь с Серегой Матросом не позволила ей выйти на панель и попасть в руки какой-нибудь «мамаши», содержательницы дома терпимости, наподобие Камбалы. Она безропотно выполняла все прихоти своего сожителя и была предана ему до мозга костей.
Семиножко потоптался немного у входа, а затем решительно дернул за короткую цепочку с медной шишечкой на конце. Где-то в глубине дома раздался мелодичный звон. Спустя какое-то время женский голос по другую сторону входной двери спросил:
— Кто там?
— Мне нужен Серега Матрос, — ответил Семиножко.
— Здесь… нет такого, — не очень уверенно сказала вдова.
Матросу казалось, что никто не знает, где находится его «нора». По этой причине он, похоже, не удосужился как следует проинструктировать свою пассию на предмет конспирации. Это Семиножко сразу сообразил, уловив волнение в ее голосе. Значит, Матрос дома.
— Кончай травить, тетка, — сказал он намеренно грубо, подделываясь под наглое высокомерие жиганской речи. — Меня прислал к нему Федька Графчик. Срочное дело. Открывай!
Наверное, вдова, забитое, хотя и довольно симпатичное существо, отодвинула засов чисто инстинктивно. Она привыкла, что ею всегда кто-то командует или помыкает, и грозный голос незваного гостя включил рефлекс повиновения.
Увидев Семиножко, от которого за версту перло казенным полицейским духом, вдовушка мигом сообразила, что опростоволосилась. Она тихо охнула и хотела закричать, чтобы предупредить своего возлюбленного, но не успела. Пристав закрыл ей рот своей широкой потной ладонью и ловко нажал на сонную артерию. Спустя считаные секунды вдова потеряла сознание, и Семиножко осторожно усадил ее на пол.
Достав револьвер, пристав начал подниматься по лестнице на второй этаж, стараясь ступать как можно тише. От агентов ему было известно, что Матрос выбрал себе комнатку повыше: и обзор оттуда лучше — вся улица видна — и окна выходят на обе стороны дома. В случае необходимости он мог бежать через сад.
Этого-то Семиножко как раз и боялся больше всего. Он знал, что Серега Матрос очень осторожен и застать его врасплох трудно, если не сказать — невозможно.
Приставу потрясающе повезло. Сначала с вдовой, недалеким, доверчивым созданием, а затем и с ее квартирантом. Когда Семиножко потихоньку отворил дверь комнаты Матроса, то увидел, что тот дрыхнет, как сурок. Причина сонного состояния жигана была, что называется, налицо: возле канапе[35], на котором валялся Серега, стоял столик с бутылками и закуской.
Наверное, Матрос решил сегодня никуда не ходить и подлечить свои нервы народным способом. Для этой цели он вылакал полторы бутылки «Смирновской», закусил копченым салом и солеными грибочками и теперь почивал сном праведника.
Серега не проснулся, даже когда Семиножко изъял его оружие, спрятанное под подушкой, на которой покоилась кудрявая голова хмельного жигана. Понюхав ствол нагана, пристав с удовлетворением ухмыльнулся — пахло свежей пороховой гарью.
Удобно устроившись неподалеку от канапе на венском стуле (для мягкости подложив под свой широкий зад подушку-думку), Семиножко напевно — как старый сказочник — сказал:
— А не пора ли вставать, соколи-и-ик?
Матроса будто пружиной подкинуло вверх. При этом он успел сунуть руку под подушку, но вытащил оттуда не наган, а одежную щетку, которая до этого лежала на полочке у входной двери и которую Семиножко, большой шутник, подложил ради смеха.
— Пух, пух! — изобразил звуки выстрелов пристав. — Два сбоку, ваших нет. Не дури, Матрос! — резко бросил Семиножко, заметив, что жиган, опомнившись, начал звереть и уже готов был броситься на незваного гостя с голыми руками, несмотря на то что Петр Мусиевич держал его на мушке своего «Смит-Вессона». — Я пришел поговорить. Просто поговорить. Понял?
— Понял… — буркнул Матрос, с ненавистью глядя на Семиножко. — Как вы сюда попали?
— Так же как и ты — через дверь.
— А где?..
— Отдыхает, — коротко и жестко ответил пристав, поняв, о чем хотел спросить жиган.
Немного подумав, Серега сумрачно кивнул. А затем налил себе полный лафитник водки и выпил одним духом. Крякнув, он понюхал хлебную корку и спросил:
— О чем будем говорить?
— О тебе, касатик, о тебе.
— Обо мне мы уже все перетерли, переговорили. Или вы забыли наш уговор? — в его голосе явственно прозвучала угроза.
— Нет, не забыл. Но вот у тебя память короткая. Мы договаривались не становиться друг другу поперек дороги. А сегодня ты едва не пустил меня в распил. Я жив остался только потому, что ты не успел вовремя вынуть свой наган. Или, думаешь, я тебя не узнал? И как нам теперь быть? Ты ведь полицейского тяжело ранил. Может, он даже не выживет… спаси его Господь, — перекрестился Семиножко (револьвер пристав держал в левой руке).
— Так уж вышло. Я не хотел…
— Вот и я не хотел ворошить прошлое, но пришлось.
— Что вы от меня хотите? Но еще раз предупреждаю: фиксонить[36] я не буду!
— Да будет тебе… хе-хе… — изобразил добродушие Семиножко. — У нас и без Сереги Матроса среди киевских мазуриков и жиганов хватает агентов. Эка невидаль… Не все же такие глупые, как ты.
— Значит, вы пришли, чтобы арестовать меня, потому что я ранил фараона?
— А разве я это говорил?
— Нет, но…
— Я пришел, чтобы сделать размен — баш на баш.
— Не понял… Это как?
— Я не доложу по инстанциям, что узнал жигана, пулявшего по полицейским на Гончаровке, а ты расскажешь мне, что за история раскручивается вокруг Васьки Шныря.
— Вон оно что… — Матрос немного приободрился и даже повеселел. — Всего-то…
— Да, всего-то. Как видишь, обмен наш совсем неравноценен. Ты можешь прямо сейчас годы каторги разменять на какого-то кислого «щипача». Думаю, смысл в этом есть, и большой. Не так ли?
— В общем, так… — Серега колебался.
Он лихорадочно думал. Матрос знал, что Семиножко умеет держать слово. Обитатели киевского «дна» ему верили.
Если пристав брал кого-то в оборот, то его не могло спасти ничто, но ежели он проявлял к мазурику снисхождение, то в этом случае вор (а иногда и жиган) мог быть совершенно спокоен, потому что Семиножко умел начинать отношения с чистого листа — будто раньше ничего и не было.
Конечно же преступники не знали, что таким образом пристав маскирует своих агентов, внедренных в воровское сообщество. Несмотря на простоватый вид, Семиножко был далеко не глуп и в некоторых вещах мог дать фору даже самому Шиловскому, который считался большим умником.
Наконец Серега Матрос решился. Действительно, что ему скрывать, когда на кону лет десять каторги? Тем более что Федька Графчик все равно остается в стороне от этой истории. Да и сам он мало что знает. Кроме пустопорожней болтовни Васьки Шныря — ничего конкретного. Кто-то, что-то, где-то зарыл в землю. Чушь собачья!
И Матрос пересказал Семиножко то, о чем говорил Васька Шнырь в «малине» Остапа Кучера.
Пристав долго молчал, переваривая услышанное. А затем спрятал револьвер, встал и сказал, добродушно ухмыляясь:
— Вот видишь… как все просто. Ты сдал Шныря со всеми потрохами. И не только его. И что? А ничего. Мы с тобой снова в одной упряжке. Всего лишь. Да ты не кипятись, остынь! Я ни на что не намекаю. Живи, как жил. Мое дело — сторона. Если только ты не начнешь шарить по моему участку. Тогда извини…
Серега Матрос угрюмо помалкивал. Он чувствовал себя очень неуютно и злился неизвестно на кого. Тут ему вспомнилась бедная вдовушка, которая впустила пристава в дом без предупреждения, и жиган начал распаляться: «Ужо я ей задам… Шмазь сделаю! Выпорю как сидорову козу! Глупая трепливая баба… зараза!»
— Да, еще одно, — молвил Семиножко уже от самого порога. — Это тебе мой подарок… на прощание. Полицейские, с которыми ты бодался, составили твой патрет. Очень похожим получился. Так ты маненько поостерегись, не высовывайся людям на глаза, потому что твою физиономию размножили и раздадут околоточным. Может, заведи усы, бороду, купи новые документы… В общем, не мне тебя учить.
— Благодарствую, — буркнул Матрос.
— Будешь потом благодарить. Когда попадешься. Ежели такое случится, пусть зовут меня. Для опознания. Настаивай на этом. И от всего отказывайся. А я тебя вытащу… если ты сейчас сказал мне чистую правду. Как тебе мой подарок?
— Обнадеживает. Спасибо, Петр Мусиевич.
— То-то… Будь здрав. А наган твой я заберу. На память. Ты себе еще один достанешь. Знаю я вас… хе-хе…
С этими словами Семиножко начал спускаться по лестнице. Внизу его ждала вдова. Она уже оклемалась и смотрела на пристава с робкой укоризной.
— Ты, голубушка, не будь на меня в обиде, — ласково сказал пристав. — Не надо было тебе впутываться в наши мужские дела… да, видно, такова твоя планида. Забудь, что ты видела меня. Напрочь выбрось все из головы. Остальное тебе Серега доскажет… хе-хе… Прощевай, красавица.
Семиножко вышел на улицу и с силой вдохнул свежий вечерний воздух. Он был возбужден до предела. Его глаза горели как два адских фонаря. А может, они просто отражали луну, которая уже поднялась над горизонтом.
Глава 10 2007 год. Отец Алексий
Под утро Глебу приснился кошмарный сон. Он блуждал в лабиринте древних развалин, а за ним что-то гналось. Именно что-то, потому как Глеб не ассоциировал это НЕЧТО с человеком. За ним по пятам полз, как огромная змея, сам УЖАС — бесформенный, вездесущий, готовый в любой момент наброситься на него и разорвать в клочья.
В конечном итоге совсем отчаявшийся Глеб нырнул в какую-то пещеру и очутился в подземном храме, который очень напоминал тайные святилища первых христиан, гонимых римлянами. Это был склеп с куполообразным потолком. В его дальнем конце едва тлела лампадка, подвешенная на цепочке к длинному штырю, вбитому в стену. Она освещала сильно потемневшую от времени икону.
Кто был изображен на иконе, Глеб понять так и не смог. Может, потому, что под иконой стоял цинковый ящик, на котором Тихомиров-младший и сосредоточил все свое внимание. Похоже, ящик исполнял роль аналоя[37], потому что был накрыт куском изрядно побитой молью парчи и на нем лежало напрестольное Евангелие.
Ящик тянул к себе, манил, и Глеб, превозмогая страх, двинулся вперед. Он уже был совсем близко от него — так близко, что мог рассмотреть страницы Евангелия. На удивление Глеба там вместо текста был нарисован храм. Тот самый, который он видел на картине в квартире Ольги Никаноровны.
Но самое удивительное: рисунок на его глазах ожил! Мимо храма ходили крошечные букашки, в которых Глеб узнавал людей, в небе над куполами летали мелкие точечки, при ближайшем рассмотрении оказавшиеся птицами, а легкий ветерок качал верхушки деревьев и наводил рябь на озерную гладь. Но и это было еще не все — в одной из «букашек» он узнал самого себя!
Глеб стоял неподалеку от входа в храм и разговаривал с бородатым мужчиной, одетым в средневековую рыцарскую мантию белого цвета с вышитым золотыми нитями крестом «патонс пате» на груди. Судя по напряженным лицам, разговор был нелегким. Но вот мужчина взмахнул рукой, будто намереваясь ударить Глеба. Небо над храмом потемнело, покрылось черными тучами, сверкнула молния, и грянул гром.
Его раскаты были какими-то ненатуральными, игрушечными, и тем не менее крохотный Глеб испуганно присел, а мужчина, погрозив ему длинным желтоватым пальцем, величественно удалился с книжного листа. Под натиском грозы рисунок стал блекнуть, размываться, пока и вовсе не исчез, и вместо него появились литеры.
Но едва Глеб попытался прочитать текст, как сзади послышался тихий шелест, и в подземный храм вползло кровожадное НЕЧТО. Обезумев от ужаса, Тихомиров-младший бросился к иконе, которая в этот миг почему-то показалась ему единственным прибежищем от страшной опасности… и провалился в бездну.
Он летел долго и кричал, кричал, кричал… И проснулся только тогда, когда наконец упал на самое дно. Однако оно оказалось не таким уж и жестким, как следовало ожидать, и когда Глеб открыл глаза, то понял, что лежит на толстом персидском ковре рядом с кроватью.
«Бред… — думал он, умываясь. — Это же надо, такой кошмар приснился… Как в детстве. Жаль, уже мамки нету, чтобы забраться к ней в постель и накрыться с головой одеялом. Да, брат, похоже, все это неспроста. Не верю в вещие сны, но что-то в них все равно есть… А, что там гадать! Мало ли нам с батей приходилось сталкиваться с такими явлениями, что, расскажи о них в прессе, нас посчитали бы сдвинутыми по фазе. Наподобие уфологов, над которыми посмеиваются все здравомыслящие люди. Надо идти до конца. А там… будь что будет».
Наскоро перекусив, Глеб сел за стол, взял кусок ватмана, карандаши и на некоторое время превратился в художника-графика. Эта специальность для археолога крайне необходима. По крайней мере для археолога, работающего официально. Ведь раскоп нужно нарисовать в масштабе и во всех деталях.
Работа спорилась, потому что изображение пятиглавого храма, еще раз увиденного Глебом во сне, стояло у него перед глазами. И спустя два часа рисунок был готов. Мало того, Глеб не удержался и изобразил на ватмане бородатого незнакомца в мантии рыцарей Ордена тамплиеров. Но затем, повинуясь спонтанному порыву, стер изображение.
При этом Тихомирова-младшего мучил вопрос: что делает этот средневековый персонаж возле православного храма в двадцать первом веке? Как он там очутился?
Дело в том, что увиденный во сне рисунок немного отличался от картины, которая была нарисована не раньше начала двадцатого века, как определил Глеб еще в квартире Ольги Никаноровны. Ожившее изображение на страницах Евангелия имело несколько существенных отличий.
Во-первых, люди-букашки были в современных одеждах, а во-вторых, — что самое главное — на одном из зданий неподалеку от храма Глеб заметил антенну-тарелку. Которой, естественно, быть не могло до революции.
Что бы все это могло значить?
Закончив художественные упражнения, Глеб сел к компьютеру и включил Интернет. Он проторчал в креслице перед монитором часа четыре, но так и не смог найти в изображениях православных церквей и храмов, коих в Сети было великое множество, хоть что-то похожее на свой рисунок. В конце концов, утомленный мельканием разноцветных картинок, он плюнул на это безнадежное занятие и решил подойти к проблеме с другой стороны.
Глеб решил навестить своего одноклассника, который стал священником и теперь был не последним лицом в местной епархии. Поговаривали, что он вскорости может стать даже архиереем. Алексей Щеглов, или Щегол, как кликали его соученики, считался в школе даже не «ботаником», а «профессором». Он подавал большие надежды, и ему прочили славу великого ученого.
Однако Щегол, который в совершенстве знал четыре иностранных языка, в том числе древнегреческий и латынь, обладал памятью новейшего компьютера и щелкал науки словно семечки, не оправдал надежд ни родителей, ни учителей.
После школы он неожиданно для всех пошел учиться сначала в духовную семинарию, а затем и в духовную академию. И проявил в этих учебных заведениях, как и следовало ожидать, потрясающие способности, покинув стены академии кандидатом богословия.
В общем, его быстро заметили в церковных верхах и сразу же предложили отличную синекуру. Что ни говори, но церкви нужны не только многочисленные верующие, но и умные, отлично образованные пастыри. А они на дороге не валяются. Это оригинальный продукт в единичном исполнении.
Не откладывая задуманное в долгий ящик, Глеб быстро собрался, захватил эскиз храма и вскоре уже входил в служебные помещения главного городского собора. Но тут дорогу ему преградил инок с внешностью Добрыни Никитича и с преувеличенной вежливостью спросил:
— Вам назначена встреча?
— Нет, но у меня есть дело к отцу Алексию.
— Извините, но сегодня не приемный день, к тому же отец Алексий очень занят.
— Но мне очень нужно!
— Ничем не могу помочь… — инок своей мощной фигурой напрочь закупорил входную дверь. — Не велено пускать.
— Ты еще скажи — служба такая, — со злостью сказал Глеб. — Как в ментуре. Тоже мне, цербер… А если я хочу срочно исповедаться в больших грехах? Чтобы не натворить еще больших. И именно отцу Алексию.
— Только по записи. Пройдите вон туда, — невозмутимый инок указал на здание напротив, — там вас матушка Евдокия и запишет.
— Везде бюрократы! — возмущался Глеб. — Даже в церкви. Ну жизнь пошла…
Неожиданно в просторном квадратном помещении за спиной инока, похожем на вестибюль, появились два оживленно беседующих священника, и в одном из них Глеб узнал Щеглова.
— Щегол! — вскричал Тихомиров-младший и попытался отодвинуть в сторону инока.
С таким же успехом он мог сразиться с груженым самосвалом. Инок стоял как скала. Но возглас Глеба все-таки привлек внимание отца Алексия. Он посмотрел в сторону двери, и на его лице появилось выражение глубокого изумления.
— Пропусти, — повелительно сказал он иноку, и тот послушно освободил проход.
Глеб вошел в вестибюль и сказал:
— Некому порадеть о заблудшей душе. Приди я в какую-нибудь секту, передо мной все двери открылись бы. Нехорошо, святые отцы.
— Глеб… — отец Алексий весело улыбался. — Ты все такой же. Шутник-озорник…
— Зато вы, отче, стали очень серьезными и так близко стоите к Богу, что нам, простым смертным, до вас даже не допрыгнуть.
Повинуясь доброму душевному порыву, они обнялись и расцеловались, чем немного смутили священника, который до этого беседовал с отцом Алексием.
— Давно мы с тобой не виделись… — Щегол-Алексий внимательно разглядывал Глеба — будто какую-то диковинку.
— Давно, — подтвердил Глеб и бросил быстрый взгляд на другого священника.
Отец Алексий уловил его мысль и сказал, обращаясь к собрату по профессии:
— С Богом, отец Михаил. Мы уже обо всем договорились, так что дело за тобой. Передавай привет матушке.
Священник ушел.
— Пойдем в мой кабинет, — сказал отец Алексий. — Посидим, поговорим…
— С пребольшим удовольствием.
Кабинет отца Алексия был светлым и просторным. Одну его стену заполняли полки с книгами церковного содержания, вторую занял иконостас, красивая лампада (она была зажжена), подсвечники и аналой, возле третьей стояли старинный секретер и напольные часы с боем, а в четвертой стене были прорезаны высокие сводчатые окна.
Однако главной достопримечательностью кабинета, несомненно, являлся очень большой письменный стол с массивной столешницей на толстых резных ножках. Это был просто антикварный раритет, как сразу определил Глеб. Стол сработали в стиле «русский жакоб», который строился на сочетании красиво подобранной древесины и золоченых накладок.
По некоторым признакам Глеб определил, что он был изготовлен где-то в пятидесятых годах XIX века. Возможно даже, в мастерских знаменитого мастера Гамбса; в отличие от стульев и кресел, поставленных на поток, бюро, секретеры и уникальные письменные столы он делал только на заказ. Но как бы там ни было, а стол тянул на многие тысячи американских долларов.
Однако Глеба больше интересовал другой вопрос: где все эти годы хранился этот мебельный раритет? И кто его откопал. Возможно, в том месте находятся целые залежи других, не менее интересных антикварных вещей, пусть и не таких дорогих и броских, как этот стол, но все же пользующихся большим спросом среди коллекционеров старины. Особенно если их грамотно реставрировать.
— Откуда в церкви такая роскошь? — не удержавшись, спросил Глеб, любовно поглаживая хорошо отполированную столешницу, покрытую инкрустацией.
— Подарок одного из наших прихожан, — коротко ответил отец Алексий.
По его виду Глеб понял, что лучше на такие темы не распространяться. Впрочем, разгадка щедрости неизвестного мецената лежала на поверхности.
Нынче многие новоявленные богатеи, дабы замолить грехи приватизации, стали делать государству и церкви поистине царские подарки — картины старинных мастеров, иконы, ценную церковную утварь, вывезенную в свое время за границу, и такие вот столы. Наверное, для того, чтобы расширить игольное ушко, через которое богатей или мздоимец, как пишется в Библии, может попасть в рай; если он, конечно, очень постарается замолить все свои грехи.
— Не возражаешь? — спросил отец Алексий, доставая из небольшого буфетика в углу графин с какой-то настойкой и серебряные рюмашки. — Встречу надо бы отметить…
— Я за рулем… А, ладно! — махнул Глеб рукой. — Как-нибудь прорвемся. Мы же не будем упиваться до положения риз.
— А хотелось бы… — отец Алексий подмигнул. — Помнишь выпускной?
— Еще бы… — Глеб ухмыльнулся.
В школе они дружили. Конечно, Глеб и Щегол не были закадычными дружками, но их объединяла страсть к наукам. Особенно они сблизились на почве древнегреческого и латинского языков.
Но если Алексей изучал их по велению души, то Глеб из-под палки, по настоянию отца, потому что настоящий археолог и кладоискатель, даже если он и не принадлежит к официальным ведомствам, обязан знать хотя бы два-три «мертвых» языка, в частности латынь и греческий. Археолог без знания древних языков всего лишь землекоп.
После выпускного вечера Глеб и Щегол вместе с небольшой компанией дружков не пошли бродить по ночному городу, чтобы целомудренно встретить рассвет взрослой жизни, а поехали в дачный поселок, где находилась дача родителей Алексея. Там они добавили, и не шампанского, как на выпускном бале, а кое-чего покрепче, и к утру уже на хорошем подпитии (много ли нужно пацанам) начали «развлекаться».
Щегол где-то нашел охотничье ружье и патроны, и совсем захмелевшие юнцы сначала стреляли по бутылкам, а потом начали «тушить» уличные фонари. Короче говоря, вся эта эпопея закончилась в отделении милиции. Потом приехали напуганные родители и разобрали своих выпавших из гнезда чад по домам.
Глеб не знал, в какую сумму обошлись похождения Щегла его старикам, а что касается Николая Даниловича, то ему пришлось отдать начальнику милиции старинное золотое колье. И все заведенные на хулиганов дела отправились в корзину.
Настойка была восхитительной. Глеб даже причмокнул от удовольствия.
— Дай рецепт, — попросил он отца Алексия.
И тут же почувствовал легкий укол под сердцем, вспомнив, как совсем недавно просил рецепт коньячного напитка у деда Ципурки. Покойного деда Ципурки…
— Увы… — развел тот руками. — Это подарок афонских монахов. Рецепт является большим секретом. Могу лишь сказать, что эту мальвазию пивали еще римские кесари.
— Когда на аренах цирков травили дикими зверями первых христиан, — подхватил Глеб. — Да-а, умели раньше люди отдыхать…
— Не богохульствуй, — с деланой серьезностью сказал отец Алексий.
— Все, заметано. Не буду. А скажи мне, отче, — если, конечно, это не очередной секрет — кто ты есть в церковной иерархии?
— Благочинный, — ответил отец Алексий.
— Понял, — ответил Глеб, хотя на самом деле ответ одноклассника являлся для Тихомирова-младшего загадкой. — Ты уже женат?
— Нет.
— Прости за любопытство… но я все-таки спрошу: почему?
— Думаю, что этот вопрос для тебя отнюдь не праздный… — пронзил Глеба своими черными глазищами отец Алексий.
— Да, ты угадал. Я пока числюсь в перспективных женихах.
— Я не женат. Мне это не позволено.
— Как это — не позволено? Кем? — искренне удивился Глеб. — Насколько я знаю, православным священникам, в отличие от католических, иметь семью не возбраняется.
— Я готовлюсь к постригу в монашество.
— Во как… — Глеб покачал головой. — Это серьезно… Наверное, метишь в патриархи?
— Все в руках Господа нашего, — коротко и не очень охотно ответил отец Алексий, и Глеб понял, что и этой темы не стоит больше касаться.
— Что ж, кабинетик у тебя высший класс, — сказал Глеб, резко меняя тему разговора. — Мне нравится. Солидный.
Он перевел взгляд на стол, где стоял новейший компьютер (в интерьере кабинета он смотрелся чужеродным элементом) и высились два бокса для хранения дисков.
— Я тоже доволен своим кабинетом… — отец Алексий подошел к окну и раздвинул шторы пошире. — В нем много солнца и света. Это хорошо. — Он обернулся к Глебу и, глядя на него испытующе, сказал: — Я так понимаю, ты пришел ко мне по какому-то делу…
— Выгоняешь?..
— Упаси Бог! Как ты мог такое подумать? Я очень рад нашей встрече. Увы, я ни разу не смог побывать на встрече выпускников. Так получилось… А хотелось бы. Поэтому встреча с тобой для меня как отдушина, яркое и доброе воспоминание о нашей бесшабашной юности. Как недавно и как давно это было…
— В общем, ты прав, я пришел к тебе за помощью.
— И в чем она должна заключаться?
— Смотри… — Глеб достал из кармана рисунок, развернул его и положил на стол перед отцом Алексием. — Я никак не могу определить, что это за храм. Нарисовано, конечно, не очень… Но что есть, то есть. Возможно, ты сможешь определить, где находится это место.
Отец Алексий некоторое время всматривался в очертания храма, а затем включил компьютер, пощелкал «мышью» и сказал:
— Подойди…
Глеб обошел стол вокруг и взглянул на монитор. На экране высились строения пятиглавого храма, который стоял на берегу озера. Есть! У Глеба даже ладони вспотели от волнения. Изображение в точности повторяло картину, исчезнувшую из спальни Ольги Никаноровны. Только это была фотография, и сделали ее совсем недавно.
Но самое главное: на одном из зданий неподалеку от храма была прикреплена антенна-тарелка — похожая на ту, что Глеб увидел во сне.
— Узнаешь? — спросил отец Алексий.
— Ну и память у тебя! — восхитился Глеб — Как не узнать. Что это за храм, где он находится?
— На Украине, в Киеве. Это Свято-Троицкая церковь Китаевской пустыни. Возведена в XVIII–XIX веках. Ныне — приходский храм.
Вспомнил! Глеб едва не хлопнул себя ладонью по лбу — эх, голова садовая! — да вовремя сдержался. Ну конечно же Киев! Как он мог не узнать, что за местность выгравирована на плане, уму непостижимо.
Ведь в свое время, когда Глеб учился в институте, ему приходилось много работать с картами старого Киева. Поэтому гравированный на пластине план и показался ему поначалу знакомым. Да вот беда — он так и не смог его идентифицировать. «Тоже мне… горе-археолог, — подумал Глеб. — Верно говорится: век живи — век учись. А ты уже решил, что собаку съел в археологии. Дилетант! Но Щегол хорош. Башка…»
— И чем, интересно, тебя привлекла Свято-Троицкая церковь? — спросил отец Алексий.
— Скажу — не поверишь. Тебе снятся вещие сны?
— Сны я, конечно, вижу. Иногда. Но так называемые вещие сны — это от лукавого. Не нужно на них обращать большого внимания, а тем более делать далеко идущие выводы. Особенно если тебе снятся сплошные кошмары.
— Нет, мой сон не был кошмаром. Однако не исключено, что он может оказаться вещим. Просто я увидел во сне эту церковь и, проснувшись, тут же по памяти ее и нарисовал. А вот идентифицировать не смог. Потому и приехал к тебе.
— Задело профессиональное самолюбие? — улыбнулся отец Алексий. — Ты ведь по образованию, кажется, историк.
— Да… — Глеб на долю секунды замялся, потому что история, хоть и родная сестра археологии, однако они не близнецы, но затем все же продолжил: — В общем, да, историк.
— Еще по рюмашке? — предложил отец Алексий.
— А можно мне с собой взять? — пошутил Глеб. — Напиток просто потрясающий. Нет, спасибо, мне достаточно. Я все-таки за рулем. Ты куда-то торопишься?
— Как ты угадал?
— Элементарно, Ватсон, — улыбнулся Глеб. — Ты все время незаметно посматриваешь на часы.
— Надо же, какая у тебя потрясающая наблюдательность… Да, мне нужно к моему начальству. Увы, увы, кроме Господа Бога, надо мной еще много руководителей.
— Надеюсь, лет эдак через десять останется только один, которому все мы подотчетны.
Отец Алексий рассмеялся.
— Ты еще и льстец, друг ситцевый, — сказал он весело. — Через десять вряд ли, а вот через двадцать… Но все в руках Господа. А мечтать не грех. Особенно если твои мечты светлы, как весенний майский день, и витают в облацех…
Когда Глеб откланялся, отец Алексий некоторое время задумчиво расхаживал по кабинету, время от времени бросая взгляд на экран монитора, где по-прежнему ярко светилось изображение Свято-Троицкой церкви. Наконец он принял какое-то решение, поднял трубку внутреннего телефона и кому-то позвонил:
— Зайди ко мне…
Спустя несколько минут в кабинет вошел невысокий худощавый человек в монашеском облачении. Его аскетическое суровое лицо, мускулистая фигура и «набитые» костяшки рук наталкивали на мысль, что этот монах не только постится и читает молитвы, но и занимается каким-то видом спорта, скорее всего, боевыми единоборствами.
— Только что у меня был мой одноклассник, Глеб Николаевич Тихомиров, — безо всякого вступления сказал отец Алексий. — Он интересуется Свято-Троицким храмом Китаевской пустыни. С чего бы? А когда я затронул вопрос о его специальности, Тихомиров ответил, что он историк. Но это полуправда. Он археолог. Мало того, он «черный» археолог и кладоискатель. Тихомиров не знал, что все это мне известно. В общем, его неожиданное посещение наводит на определенные размышления.
— Думаете, он нацелился на какие-то церковные ценности в Китаевской пустыни? Тогда нужно сообщить в патриархию. Мы не в состоянии помочь нашим братьям. Тем более что церковь находится в другом государстве.
— И что мы скажем? Предположение не есть факт. Но моя интуиция подсказывает мне, что дело очень серьезное. Я знаю Тихомировых. Это потомственные кладоискатели. И они на мякину не размениваются.
— Может, стоит позвонить в Киев? У меня там есть добрые знакомые.
— Скорее да, чем нет. Нужно немного подумать… но не очень долго! И хорошо бы определиться с самой заявкой. Что может интересовать «черного» археолога в Китаевской пустыни? Нет, нет, Глеб Тихомиров не вор! В это я просто не могу поверить. Но деяния подпольных археологов не очень-то в ладах с законом. Поэтому не исключен вариант, что его интересует даже не церковь, а пещеры. Они ведь до сих пор не исследованы.
— А не связан ли интерес Тихомирова с новоявленными тамплиерами, которые арендуют часть бывшего монастырского корпуса, который занимает еще с советских времен комбинат пчеловодства? В своей половине дома тамплиеры сделали евроремонт, на монастырской крыше водрузили черно-белый флюгер с мальтийским крестом… А в подвале начали строить свой тамплиерский храм. Настоятель монастыря в ужасе, как докладывают мне наши люди. Он не знает, что ему делать.
— Это сатанисты, а не тамплиеры, — угрюмо ответил отец Алексий. — Они только маскируются под Орден. Насколько мне известно, флюгер тамплиеры сняли под давлением некоторых уважаемых верующих. И работы по храму свернули… как будто. Что касается архимандрита, то ему надо бы вразумить настоятеля приходского храма, который находится на территории монастыря, но, к сожалению, монастырю не подчиняется. По моим сведениям, настоятель храма очень благосклонно относится к тамплиерам. Они будто бы пообещали ему восстановить колокольню. Впрочем… Раскол православной церкви на Украине вызвал большое смятение и разброд среди наших украинских братьев. Поэтому, как говорится, не суди сам, и не судим будешь. Архимандриту и настоятелю храма можно лишь посочувствовать. Надеюсь, они в конце концов наведут порядок в своем хозяйстве. А по поводу связи Тихомирова с тамплиерами… Нет, это не лезет ни в какие ворота. Он чересчур большой прагматик и достаточно образованный человек, чтобы не впасть в ересь.
— И тем не менее…
— Да, и тем не менее. Грех чересчур сладок. Его смертельная горечь таится на дне сосуда. А Тихомиров всего лишь человек, душа которого не защищена истинной верой. Увы, больно много ловцов человеческих душ хлынуло в наши православные приходы после распада Союза. Мормоны, адвентисты, сайентологи, другие секты, подозрительные общественные организации, непонятно чем занимающиеся, масоны всех мастей и оттенков… В общем, нужно его проконтролировать. Для начала. Подбери себе несколько человек, желательно самых испытанных и надежных. Мое сердце чует что-то недоброе.
— Задание понял, — монах коротко кивнул головой — поклонился. — Разрешите выполнять?
— С Богом. Только будь крайне осторожен!
После ухода монаха отец Алексий подошел к аналою и начал молиться. В его глазах застыл вопрос, который явно был адресован святым, лики которых смотрели на него с иконостаса. Но они были суровы, бесстрастны и молчаливы. Похоже, их совсем не волновали мирские дела и проблемы.
Глава 11 1915 год. Мсье Франсуа Боже
Шиловский сидел за столиком в отдельном кабинете ресторана «Бель Вю»[38], расположенном на Крещатике, наслаждался прохладой — распахнутое окно кабинета выходило на теневую сторону здания, пил сельтерскую[39] и читал газету «Киевское слово». Он купил ее по дороге, в киоске на углу Лютеранской улицы.
Надзиратель сыскной полиции решил не брать извозчика и прошелся пешком, благо стоял чудный день, а от Большой Житомирской, где находилось управление городской полиции, до Крещатика рукой было подать. На небе неторопливо паслись стада белых пушистых тучек, и солнце время от времени пряталось за их спинами, добавляя зеленым киевским улицам и паркам прохлады, столь желанной в знойное лето.
Некий господин Гном писал: «…Русские законы издавна так уж пишутся, что, как ни поверни его, все равно не избежать тюрьмы или ссылки. Хочется, например, написать о забастовке рабочих. Однако я не могу, я не должен об этом писать. Это возбуждает общество, нарушает покой. Но тюрьма и ссылка нас не испугают, как не пугали и раньше…»
— Бред… — пробормотал Шиловский. — Нынешние газетчики — это стадо непуганых идиотов… — и начал просматривать объявления и рекламу.
Интерес к объявлениям у него был чисто профессиональным. Из них можно было выудить массу интересной и нужной для сыска информации. Работе с прессой Шиловского научил Кошко, а Аркадий Францевич был для надзирателя непререкаемым авторитетом.
«Д-р Шнейдер-Барнай. Редукционные пилюли против ожирения и отличное слабительное средство». «Продается случайно мебель». «Уничтожаю и вынимаю мозоли…» Шиловский невольно поморщился — у него были проблемы с ногами.
«К сведению дам! Крещ. уг. Лютеранс. № 29/1 ряд. Получен больш. разнообразный выбор материалов исключ. хорошего качества. Заказы выполняются с обычной аккуратностью. Работа безукоризн. чистая, крой elegant. Ежедневно новые партии собств. изделий».
«Массаж лица и уничтожение морщин аппаратом Сименс исполняет дама из Вены г-жа Завгайм в дамской парикмахерской Титуса Каливоды и на дому. Прически современные и исторические, уроки причесок. Окраска волос во все цвета».
«Сдаются в наем квартиры от 3 до 9 комнат, подвалы, помещения для контор и банков. Крещатик №№ 27 и 40. Спросить в магазине торгового дома К. К. Людимер и С-вья». «Прачка ищет поден. работы. Андреевский спуск № 2, спр. двор». «Антиком-Лемерсье. Средство для обезволосывания кожи. Цена — 1р. 25 к. за банку».
«Доброволец вольноопределяющийся, оставш. без всяких средств к жизни, просит граждан г. Киева пред. ему какое-либо зан. М.-Благощ., 151, кв. 2». Это объявление Шиловский прочитал два раза. А затем вынул из нагрудного кармана записную книжку и мелким убористым почерком записал адрес.
Он догадывался, что «вольноопределяющийся» без работы не останется. Таких «добровольцев», хорошо умеющих обращаться с оружием, часто нанимали темные дельцы для «мокрых» дел.
— Господин Шиловский?
Надзиратель сыскной полиции невольно вздрогнул и поднял глаза вверх. Перед ним стоял элегантно одетый мужчина, брюнет, явно иностранец. Он носил небольшие, лихо закрученные вверх усики, был худощав, подтянут и держал в одной руке трость черного дерева с набалдашником в виде позолоченной львиной головы, а в другой — небольшой саквояж коричневой кожи.
Опытный сыщик Шиловского сразу определил, что трость иностранца с секретом. Похоже, резное дерево служило ножнами клинка.
— Да, — ответил Шиловский. — С кем имею честь?..
— Это я звонил вам утром. Позвольте представиться — Франсуа Боже.
— Очень приятно.
— Разрешите присесть?
— Пожалуйста, — вежливо ответил Шиловский.
А сам подумал: «Какого черта этот французик ломает комедию?! Делает вид, будто я заказал этот столик. И где — в «Бель Вю», одном из лучших ресторанов Киева! Цены тут совсем не по карману чиновнику полиции моего ранга. Эх, надо было мне не идти в поводу француза, а назначить встречу хотя бы у Стамати на Прорезной. Донесут начальству, как я тут шикую, беды не оберешься…»
— Вы уже сделали заказ? — поинтересовался мсье Боже.
— Не успел, — не без нахальства ответил немного успокоившийся Шиловский, которого уже начала забавлять нестандартность ситуации.
Утром, едва он появился в своем кабинете, раздался телефонный звонок. Недоумевающий надзиратель (обычно он приходил очень рано, чтобы навести порядок в бумагах) поднял трубку и услышал незнакомый мужской голос с легким иностранным акцентом:
— Простите, это господин Шиловский?
— Он самый, — не очень приветливо ответил надзиратель.
— Евграф Петрович?
— Именно так.
— Мне нужно с вами встретиться. Сегодня. Очень важное дело.
— Кто вы?
— Как вы смотрите на то, чтобы отобедать в ресторане «Бель Вю»? — спросил незнакомец, проигнорировав вопрос Шиловского. — Говорят, там отличная кухня…
Надзиратель был скор на решения. Тем более что неизвестный господин своей таинственностью явно намекал на некую информацию, которая может быть полезна полиции.
— Время?.. — спросил коротко Шиловский.
— Два часа пополудни.
— Я приду.
Шиловский всегда отличался сообразительностью. Он сразу понял, почему неизвестный мужчина не хочет называть свое имя. Что ж, разумно, подумал надзиратель. Похоже, незнакомцу известно, что чиновники особых поручений, которым поручен надзор над нижестоящими чинами, не брезговали подслушивать их разговоры, что не составляло большого труда. Обычно этим делом занимались телефонистки — тайные осведомители полиции.
Однако от предложения неизвестного веяло не только тайной, но и еще чем-то, немного страшноватым. Опытный сыщик Шиловский почувствовал это даже на расстоянии. Поэтому он не забыл положить в карман браунинг — на всякий случай.
Мало того, надзиратель начал подумывать, а не прихватить ли с собой пару надежных филеров, но потом решительно отказался от этого намерения. И впрямь, что может грозить сотруднику киевского сыска средь бела дня, да еще и на Крещатике?
Пока официант бегал туда-сюда, сервируя стол, Шиловский и мсье Боже вели светскую беседу (все в общем, а конкретно — ни о чем) и приглядывались друг к другу. Наконец стол был накрыт и француз (он сказал, что третьего дня приехал из Парижа), жадно глядя на стол, воскликнул со страстью настоящего гурмана:
— Потрясающе! Я, знаете ли, большой любитель русской кухни. В ней очень много от французской, но есть еще какая-то изюминка, которая вызывает прямо-таки зверский аппетит.
Шиловский лишь поддакивал. Мсье Боже и впрямь заказал богатый обед, но у надзирателя сыскной полиции почему-то пропал аппетит. Он жевал кусочек белорыбицы с таким настроением, будто ему в рот попала полынь.
Евграф Петрович чувствовал, что скоро наступит момент, когда француз начнет излагать ему мотивы, побудившие иностранца назначить встречу в «Бель Вю». И от этого предчувствия его бросало то в жар, то в холод.
— Где вы остановились? — полюбопытствовал Шиловский.
— В «Континентале». Весьма приличная гостиница. Мне посоветовал ее Шарль Лянчиа, мой хороший знакомый. Он управляющий акционерного общества, которому принадлежит «Континенталь».
Живут же люди, с невольной завистью подумал надзиратель. Апартамент в «Континентале» стоил 15 целковых в сутки; ровно столько зарабатывал рабочий за полмесяца. Построенный в конце XIX века на Николаевской улице, «Континенталь» был по карману только богатым господам.
Шиловскому приходилось бывать там несколько раз — по долгу службы. В четырехэтажном «Континентале» имелись сто шикарных номеров, большой ресторанный зал, зимний сад, роскошные кабинеты, бильярдные, общий салон с четырьмя читальнями, два электрических лифта — пассажирский и багажный, кладовые для хранения багажа и драгоценных вещей, ванные комнаты и летний сад со светящимся фонтаном. В гостинице установили паровое отопление, вентиляцию, электрическое освещение, а по всему зданию провели горячую воду. Для Киева это был просто потрясающий, европейский шик.
— Вы очень хорошо говорите по-русски, — заметил Шиловский, закуривая предложенную мсье Боже пахитоску[40].
Им принесли кофе со сливками, и божественный аромат напитка (лучше, чем в «Бель Вю», кофе готовили только у «Франсуа» на Фундуклеевской) вкупе с дымом дорогого заморского табака приятно щекотал ноздри.
— Ну, это никакой не секрет, — улыбнулся француз. — Мои предки долгое время жили в Российской империи. Между прочим, я родился в Киеве и прожил здесь четырнадцать лет. О, это были прекрасные годы! Впрочем, что я об этом говорю… Детство оставляет в памяти любого человека неизгладимые впечатления. Потом меня послали на учебу в Париж. А год назад мои престарелые родители пожелали уехать во Францию, чтобы доживать свой век на исторической родине. Ностальгия по дымам родного Отечества, знаете ли, бывает не только у русских…
Шиловский кивнул, удовлетворенный ответом, и выпустил дымное облачко, спрятавшись за ним от испытующего взгляда мсье Боже. Он вдруг почувствовал внутри неприятный холодок и понял, что наступает момент истины. Сейчас француз скажет, почему он пригласил надзирателя сыскной полиции на эту интригующую встречу.
И Шиловский не ошибся. Мсье Боже вдруг стал очень серьезным — зловеще серьезным. Немного наклонившись к собеседнику, он тихо, будто кто-нибудь мог их подслушать, молвил:
— Евграф Петрович, мне очень хочется, чтобы вы забыли про историю, связанную с Китаевским погостом. Оставьте Ваську Шныря и иже с ним в покое.
Шиловский ожидал от француза чего угодно. Даже предложения поработать тайным агентом «Сюртэ Женераль»[41], что выглядело как бы не совсем изменой родине, потому что Франция — союзница России в войне против Германии и Австро-Венгрии. Но упоминание Китаевского кладбища было для надзирателя сыскной полиции громом среди ясного неба.
Он некоторое время жевал губами, подыскивая нужные слова, а затем довольно жестко сказал:
— А не кажется ли вам, милостивый государь, что вы вмешиваетесь в дела, которые ни в коей мере не должны интересовать иностранца (даже если он союзник), потому что они находятся под юрисдикцией российской сыскной полиции?
— Кажется, — ответил мсье Боже, приятно улыбаясь. — Потому я и назначил вам встречу. Эта пустяшная история с Китаевским кладбищем — бред какого-то полоумного — только отвлекает полицейских от исполнения ими своих непосредственных обязанностей. И это в столь сложное и тяжелое для страны время… В этой истории нет никакого криминала. Да, я вас понимаю: вам поступил сигнал, и вы должны его проверить. Будем считать, что проверка состоялась и донос оказался пустышкой.
— Вы так думаете? — с иронией спросил Шиловский, который в этот момент совершенно уверился в достоверности информации, которую принес ему Остап Кучер.
— Именно так, уважаемый Евграф Петрович, именно так! — горячо сказал мсье Боже. — Разве можно верить какому-то босяку, у которого язык как помело и куриные мозги? Мало ли что может взбрести ему в голову, особенно в нетрезвом виде.
Готовая версия, чтобы чинно-благородно закрыть дело, понял Шиловский. Но как теперь его закроешь, если в засаде возле хаты Васьки Шныря участвовал добрый десяток полицейских и филеров? А на какую оказию списать ранение городового?
— Никак невозможно, — твердо ответил Шиловский. — Это будет должностное преступление.
— В любом событии, как в монете, есть две стороны — аверс и реверс, — загадочно сказал француз. — Но сколько монету ни верти, все равно цена ей будет одинакова. Вот только чеканное изображение разное.
— Что вы хотите этим сказать?
— Всегда имеется несколько взглядов на одно и то же событие. Часто они диаметрально противоположные. Я понимаю, вас смущает смерть городового…
— То есть?..
— Как, вы не знаете?.. Извините… Должен вам сообщить неприятную весть: сегодня утром он скончался.
— Не может быть!
— Почему не может? Увы, медицина невсесильна…
— Вчера я навещал его, и он был в отменном расположении духа. А доктор сказал, что городовой быстро пойдет на поправку и его выпишут максимум через две недели.
— Уж не знаю, что там в больнице случилось, но… — мсье Боже сокрушенно развел руками. — Все мы ходим под Богом, — добавил он с многозначительным видом.
Шиловский с подозрением взглянул на него и промолчал. Он был сильно опечален. Этот городовой подавал большие надежды, и надзиратель хотел забрать его в сыскной отдел, только дожидался вакансии. Между прочим, лишь городовой знал, что засада устроена именно на Ваську Шныря. Другим полицейским был отдан приказ хватать любого, кто захочет войти в халупу мазурика.
— Вы знаете, почему я решил обратиться именно к вам? — спросил француз.
— Потому что именно я занимаюсь этим делом, — сухо ответил Шиловский.
Он уже вознамерился встать и уйти, но что-то его удерживало; скорее всего, профессиональное любопытство. Предчувствуя неприятный финал беседы, Шиловский быстро сосчитал в уме, в какую сумму ему обойдется этот «дружеский» обед, и решил, что денег у него все же хватит, чтобы расплатиться за себя, — надзиратель ничем не хотел быть обязанным этому подозрительному мсье Боже.
— Не совсем так. Я мог бы действовать через ваше начальство, — с жесткой уверенностью сказал мсье Боже. — Мне не откажут в такой малости, уж поверьте. Вам поступит сверху приказ, чтобы вы занимались другими проблемами. На вашем участке их хватает. Но! — тут француз театрально поднял вверх указательный палец. — Мы имеем дело не со служакой, а с сыщиком от Бога. Конечно же это дело вы не оставите. Вы будете расследовать его в инициативном порядке, тайно. Чего НАМ очень не хотелось бы.
При этих словах француз посмотрел на Шиловского своими черными глазищами с такой угрозой и напором, что надзиратель едва не сунул руку в карман, чтобы проверить, на месте ли браунинг. Улыбчивый джентльмен с манерами хорошо воспитанного дворянина на глазах надзирателя сыскной полиции превратился в монстра, способного убить человека с такой же легкостью, как это делает повар, когда отрубает голову курице.
НАМ… Кому это — нам? Шиловский был в замешательстве. Во что его втягивают? Может, он был прав поначалу, когда решил, что француз хочет завербовать его в качестве агента какой-нибудь иностранной разведки. И что теперь делать?
Арестовать сукиного сына! Без долгих разговоров воткнуть мордой в пол, позвать официантов, и они спеленают мсье Боже, как младенца.
«Сдам французика контрразведке, гляди, получу орден и повышение, — думал, все больше распаляясь, Шиловский. — Почему согласился на встречу с ним, не предупредив, кого следует? Все очень просто — чтобы не спугнуть раньше времени и узнать о его коварных замыслах. Логично? Вполне. Мне поверят…»
Француз будто подслушал мысли Шиловского. Решительным движением он поднял с пола саквояж, поставил его на стол и открыл. В саквояже лежали пачки ассигнаций. Их было много, очень много. Такой суммы Шиловскому еще не приходилось видеть. Он с трудом проглотил ком, образовавшийся в горле, и хрипло спросил:
— Пардон… что это?
— Деньги, любезнейший Евграф Петрович, деньги. И они ваши. Здесь сто тысяч.
— Мои? К-как?.. П-почему?.. — от непонятного волнения надзиратель даже начал заикаться.
— Очень просто. Вы спускаете дело на тормозах — то есть переводите его в другую плоскость, не связанную с Китаевским кладбищем, — а потом, если у вас будет такое желание, можете даже оставить службу в полиции. Этих денег хватит, чтобы открыть свое дело. Солидное дело. Или уехать за границу, что тоже неплохо. Куда? Например, в Швейцарию. Хорошая страна. Нейтральная. Уж ее-то точно никакие войны не коснутся. Но вы должны забыть, напрочь выбросить из головы бредни Васьки Шныря, которые принес вам на кончике языка ваш осведомитель Остап Кучер.
«Они и это знают! Потрясающе… Черт побери, я в западне! Ах, как я промахнулся… Не надо было мне идти на это рандеву. А теперь что ж… коготок увяз, птичка пропала». Шиловский был уверен, что имеет дело с какой-то тайной организацией.
«Может, масоны? — думал он, — Перед войной их много расплодилось. Даже в ближайшее окружение царя-батюшки затесались. Если это так, если мсье Боже — масон, то лучше плюнуть на свои принципы и взять предложенные деньги… иначе их отдадут кому-то другому».
Шиловский выпрямил спину, взял саквояж и встал.
— Я уже забыл, — сказал он сухо. — Но только про это дело. Я все сделаю так, как вы просите. Расписка в получении мзды не нужна? Нет? Ну что же, и на том спасибо. Прощайте. Надеюсь, это наша первая и последняя встреча.
Он развернулся и едва не строевым шагом вышел из кабинета. Глядя ему вслед, мсье Боже задумчиво сказал, отвечая тому, что сказал надзиратель сыскной полиции, и своим мыслям:
— Хотелось бы надеяться. Но человек так несовершенен… Однако господин Шиловский ершист. Как бы он не начал проявлять свой непростой и непредсказуемый славянский характер в самое неподходящее время. Ладно, поживем — увидим…
У выхода из ресторана Шиловский едва не столкнулся с низеньким человечком, почти карликом, который был одет во все черное. Вежливо приподняв широкополую шляпу, карлик что-то пробормотал, и они разминулись.
«Наверное, в Киев цирк лилипутов приехал, — отрешенно подумал Шиловский. — А что, Швейцария — это хорошая идея. Лично у меня нет никакого желания кормить окопных вшей. Но если дела на фронте и дальше пойдут так скверно, как сейчас, то не исключено, что и киевскую полицию проредят — призовут тех, кто помоложе, в действующую армию. Военная контрразведка — это, конечно, для меня престижно, но на передовой ведь стреляют…»
Глава 12 2007 год. Дядька Гнат
Ночью перед отъездом в Киев Глебу опять снились удивительно живые сны. Они не были кошмарами, и тем не менее Тихомиров-младший проснулся в поту.
Особенно запомнился ему один фрагмент сновидения: Глеб в богатом облачении стоит на возвышенности, а мимо него, потупив головы, медленно идут люди. Бесконечная цепочка людей тянется от горизонта до горизонта, но в той стороне, откуда они пришли, небо синее, а там, куда люди направляются, огненно-красное.
Эти две половинки небесной сферы смыкаются ровно над головой Глеба, и в месте их соприкосновения блистает узкая радужная полоса. Цвета на ней постоянно меняются, переплетаясь и свиваясь в жгуты, и от их завораживающего движения равнинная местность, по которой идут люди, покрывается разноцветными мозаичными участками — как в калейдоскопе. А потом все вдруг покрылось серым флером, и раздался взрыв, раскромсавший равнину на мелкие кусочки.
Стоя под душем, Глеб встревоженно думал: «Что-то мне не нравятся все эти сонные картинки… Будто кто-то шлет предупреждения об опасности. Но я это и сам знаю. Раритеты, а тем более сокровища, в руки так просто не даются. Эх, неплохо бы взять с собой Гошу Бандурина… Надежный товарищ. Но где его искать? Исчез, словно сквозь землю провалился».
Три года назад вместе с Гошей Бандуриным они нашли нечто такое, о чем по взаимной договоренности решили не рассказывать никому. Нашли — но не взяли. Потому что ОНО было выше их понимания. К тому же и взять тот артефакт было очень сложно, если не сказать — вообще невозможно.
Гошу с той поры словно подменили. Он перестал заниматься «черной» археологией и большую часть суток проводил в раздумьях — сидел во дворе своего дома на бревнах и с сосредоточенным видом вертел в руках языческий оберег — пластину из неведомого темного металла, на которой была отчеканена голова о трех ликах, окруженная языками пламени. (Оберег они случайно подобрали в том подземелье, где находился артефакт.) А два года назад, похоронив мать, которая была у него единственным родным человеком, Гоша и вовсе куда-то девался.
Глеб вызвал такси, взял спортивную сумку с одеждой и большой «абалаковский» рюкзак, где было все необходимое для работы, и спустился вниз. Он решил ехать в Киев железной дорогой, тем более что в последнее время (если верить рассказам приятелей) фирменные киевские поезда не уступали заграничным. А Тихомиров-младший любил комфорт; может, потому, что в экспедициях, нередко затягивавшихся на месяцы, он жил почти как первобытный человек.
Водитель такси был неразговорчив и хмур. Темное лицо таксиста с большими скулами и слегка раскосыми черными глазами навевало на мысль, что в его крови немало восточных примесей. «Да, — подумал Глеб, — наследили монголы Чингис-хана… И не только они. Верно говорится: немного поскреби русского и обнаружишь татарина».
Неожиданно такси резко притормозило. У Глеба почему-то екнуло где-то под сердцем.
— Что случилось? — спросил он встревоженно.
— Человека надо подобрать… — ответил водитель.
На тротуаре, у самого бордюра, стоял мужчина и размахивал руками, всем своим видом давая понять, что ему позарез нужно куда-то быстро доехать. Глеб не успел даже открыть рот, чтобы возразить, как таксист высунул голову в окно и спросил:
— Вам куда?
— На вокзал, — ответил мужчина. — Возьмите, а? Ну пожалуйста… Опаздываю. Я хорошо заплачу.
— Садитесь, — сказал водитель такси, и мужчина, подхватив небольшой саквояж, уселся позади Глеба — на заднее сиденье.
Глеб посмотрел на мужчину более внимательно — и похолодел. Он узнал его. Тихомиров-младший уже видел этого человека.
Он появился в придорожном кафе как раз в тот момент, когда цыганка предложила Глебу погадать. Мужчина сел за соседний столик и начал изучать меню. Но Глеб мог бы поклясться, что его мало интересовала еда: острый, пытливый взгляд мужчины Тихомиров-младший ощущал даже тогда, когда шел к своей машине.
— Стоп! — скомандовал Глеб, повинуясь внезапному душевному порыву. — Держи, здесь больше, чем нужно, — ткнул он в руки таксисту несколько сотенных. — Я уже приехал.
— К-как?.. — у таксиста от удивления даже челюсть отвисла. — Вы же сказали, что вам нужно на вокзал?!
— Я передумал, — заявил Глеб, вытаскивая из багажника свои вещи. — Поеду завтра. Я вспомнил, что у меня есть еще кое-какие дела. Бывайте. Всех вам благ.
Закинув рюкзак за спину, он быстро пошагал в первый попавшийся переулок, где тут же поймал частника. Слежки за ним как будто не было.
— Куда едем? — поинтересовался водитель видавших виды «жигулей», когда вырулил на центральную улицу.
Глеб, когда забрался в салон, сказал лишь одно слово: «Вперед!» Немного поколебавшись, он разом отмел все сомнения и ответил:
— В аэропорт. Только поднажми.
— Как прикажете, гражданин начальник! — обрадованно сказал частник. — В аэропорт так в аэропорт. Бу сделано.
Глеб мысленно ухмыльнулся. Для водителя-частника поездка в аэропорт окупала все его мытарства на ниве левого извоза, потому что сумма, которую приходилось платить пассажиру, получалась очень даже серьезной. Но денег у Глеба было вполне достаточно, так что он мог себе позволить выбросить в урну железнодорожный билет и улететь в Киев самолетом.
Пока ехали, Глеб время от времени посматривал назад. Дорога в аэропорт оказалась незагруженной, слежку можно было заметить достаточно легко, но ни одна машина не плелась в хвосте «жигулей». Мало того, тихоходных российских авто вообще не наблюдалось.
Мимо со свистом пролетали «мерседесы», БМВ, «нисаны», и частник лишь завистливо вздыхал, провожая глазами разноцветные кометы на колесах. В принципе все было понятно — нынче билет на самолет, в отличие от советских времен, по карману только людям достаточно состоятельным. Так что владельцам «жигулей» и «москвичей», а также их домочадцам в аэропорту просто делать нечего.
С билетом не было никаких проблем, и уже спустя два часа по приезде в аэропорт Глеб сидел в уютном кресле авиалайнера и с интересом рассматривал проплывающую далеко внизу землю. В этот момент его душевное состояние можно было описать следующими словами: облегчение, умиротворенность и настороженное ожидание дальнейшего развития событий, которое тлело где-то глубоко внутри, как уголек в потухшем костре.
Глеб неожиданно понял, что в покое его не оставят даже в Киеве. Похоже, с этим планом связано что-то очень серьезное. А что пользуется самым большим спросом у «черных» археологов? Верно — места, где зарыты клады. Ради них подпольные кладоискатели готовы пойти на все. В особенности, если ими руководят мафиозные группировки.
Судя по последним событиям, за него взялись всерьез. Притом не какой-нибудь партизан-одиночка, а целая банда, в которую входит или гипнотизер, или сильный экстрасенс. Заполучив в свои руки пластину с гравированным планом, Глеб вдруг начал ощущать чужие флюиды, пытающиеся овладеть его мыслями и даже руководить действиями.
Поначалу Тихомиров-младший не придавал этому значения, но после видения в спальне и встречи со странной цыганкой он понял, что дело худо. И быстренько нацепил на шею рядом с крестиком еще и оберег — на всякий случай. Это был тот самый, с изображением трехликого мужчины, который они с Гошей подобрали в подземелье.
Оберег он получил по почте, когда прошло полгода после исчезновения Гоши Бандурина, — бандеролью, из небольшого городка в уральской глубинке. И ни единого словечка. А обратный адрес, указанный на бандероли, Гоша, скорее всего, взял от фонаря, потому что на запрос Тихомирова-младшего в адресное бюро пришел ответ, что в городе такой улицы нет.
С той поры Глеб начал брать оберег в экспедиции. Или когда ему грозила какая-нибудь (чаще всего выдуманная) опасность. Ему казалось, что, когда оберег на шее, у него прибавляются силы, а все чувства — в особенности предвидение — обостряются до предела. Возможно, этому состоянию «адреналиновой атаки» способствовали воспоминания о приключениях, которые ему довелось испытать вместе с Гошей Бандуриным…
В аэропорту Борисполь Глеба никто не встречал. То есть не встречал официально, хотя он и намеревался позвонить одному киевлянину, доброму приятелю отца, да вовремя передумал. При современной технике, если ведется слежка, прослушать переговоры по мобилке — раз плюнуть. А Глебу очень хотелось, чтобы никому не было известно местонахождение его главной «базы» в предстоящем поиске.
По этой причине он отказался от бронирования гостиничного номера (это было все равно что выйти голым на Крещатик и прокричать: «Вот он я, Глеб Тихомиров!») и решил окопаться где-нибудь в частном секторе — подальше от милиции и тех, кто идет по его следу. А в том, что они идут, у Глеба не было никаких сомнений.
Он это понял (похоже, по «подсказке» оберега) еще в такси, когда ехал на железнодорожный вокзал. От хмыря, который подсел в машину, волнами исходила чужая, злобная энергия. Это Глеб ощутил кожей. Конечно, его решение покинуть такси поначалу было спонтанным, до конца неосознанным, но потом, уже сидя в самолете, он понял, что в сложившейся ситуации выбрал единственно верный вариант.
Таксомотор привез Глеба на северо-западную окраину Киева, где располагался курортный район Пуща-Водица. Глядя на пробегающие мимо авто, сосновые леса и перелески, он вдыхал полной грудью чистый воздух, напоенный разогретой на солнце живицей, и почему-то радовался, хотя для радости в принципе причин было маловато.
Наверное, Глебу была очень приятна встреча с Киевом, где он не был больше десяти лет. Виды за окном такси оживили воспоминания, и Глебу вдруг показалось, что он стал значительно моложе.
Впервые Тихомиров-младший увидел столицу Украины в детском возрасте. И сразу же в нее влюбился. Особенно ему запомнились прогулки по Киеву с приятелем отца, Игнатием Прокоповичем. Где и как они познакомились, было тайной. Однако Глеб знал, что Игнатий Прокопович за какие-то грехи отсидел в тюрьме двенадцать лет. Что не помешало ему остаться добрым, великодушным человеком, высоко ценившим дружбу и хорошую компанию.
Правда, последние десять-пятнадцать лет Игнатий Прокопович и отец практически не общались, только иногда созванивались. А все потому, что Игнатий Прокопович был в Пуще-Водице «авторитетом». Такая козырная «должность» старого приятеля настораживала и отпугивала Николая Даниловича. Он не считал себя белым и пушистым, но все же с серьезным криминалом старался не связываться.
В оправдание Игнатия Прокоповича можно было сказать лишь одно: долгие годы ему приходилось не жить, а выживать.
У Игнатия Прокоповича было излюбленное местечко на Андреевском спуске — небольшая зеленая полянка в тени деревьев, где во время прогулок по Киеву он и Глеб обычно полдничали. Игнатий Прокопович расстилал на траве миниатюрную скатерку и выкладывал на нее продукты: кусок сала, несколько луковиц и соль в спичечном коробке. Все это он прихватывал из дому. А две бутылки молока и свежеиспеченный ржаной хлеб покупал в молочном и хлебном магазинах по дороге.
Никогда ни до, ни после этих прогулок Глеб не едал более вкусного сала. Оно было восхитительно ароматным и буквально таяло во рту. А в сочетании с душистым хлебом и зеленым луком нехитрая снедь превращалась в самый настоящий деликатес.
У Глеба от удивления полезли глаза на лоб — вместо старой хаты на обширном подворье Игнатия Прокоповича вырос двухэтажный дом с мансардой и кованым петушком, исполняющим роль флюгера. Добротный забор и металлические ворота лишь утвердили Глеба в мысли, что дела у приятеля отца идут очень даже неплохо. И это при всем том, что Игнат Прокопович уже вышел на пенсию.
Едва Глеб нажал на кнопку звонка сбоку от калитки, как тут же подал голос пес: «Гуф-ф, гуф-ф, гуф-ф…» Судя по басовитому лаю, псина была размером с пони.
— Хто там Рябка беспокоит? — раздался из-за забора голос Игнатия Прокоповича.
— Глеб Тихомиров.
— Шось не помню…
— А вы откройте калитку и сразу вспомните.
— Ну да, открой тебе… — с сомнением проворчал Игнатий Прокопович. — А ты меня железякой по кумполу…
Не успел Глеб заверить Игнатия Прокоповича в своих честных намерениях, как звякнул засов, и в калитке, как в раме, нарисовался эскиз Репина к картине «Запорожцы пишут письмо турецкому султану».
Несмотря на годы, на круглой, как арбуз, голове Игнатия Прокоповича красовалась густая, немного поседевшая чуприна, длинные казацкие усы свисали до самой груди, а фигура у него была такая, что хоть завтра на съемки фильма «Тарас Бульба», где ему могла подойти только главная роль.
Одет был Игнатий Прокопович в вышитую сорочку и широченные штаны, напоминающие запорожские шаровары. А в руках он держал люльку, с которой никогда не расставался.
— Дэсь я тэбэ бачыв… — Игнатий Прокопович прищурился: — Шоб я сдох! Цэ ж Глебушка! Ну да — Тихомиров. Ни, ни, хай лучше сдохнэ сосед. А мы щэ пожывэм. И горилки выпьем. Назло врагам. Ну иды сюды, хлопче, почеломкаемся…
Глебу показалось, что его обнял медведь. Даже кости затрещали. Однако он мужественно выдержал ритуал встречи и даже улыбнулся, когда наконец Игнатий Прокопович разнял свои руки-клещи, но улыбка получилась немного ненатуральной — вымученной.
— Радость-то какая… — приговаривал Игнатий Прокопович, буквально втаскивая Глеба в дом за рукав летней куртки. — А я тут сижу один, як сыч. Баба с внуками на Черном море, молодята в Турции, а мэнэ як того цуцыка привязали биля этой будки. Шоб, сторожил, значит. Вот мы вдвоем с Рябком и дежурим — вин ночью, а я днем.
«Хороший Рябко… — подумал Глеб, опасливо оглянувшись. — Это не Рябко, а Цербер. Сожрет на раз и не оближется».
Пес и впрямь впечатлял. Это была помесь кавказской овчарки с каким-то монстром. При виде чужого человека он с таким остервенением начал лаять и рваться с цепи, что Глеб был просто счастлив, когда за ним закрылась входная дверь.
— Ты надолго до нас? — поинтересовался Игнатий Прокопович.
— Если не выгоните, то с недельку поживу. Может, немного больше…
— Тю на тэбэ! Живи хоть полгода. Места хватит. Будет мне с кем покалякать по-людски. Бо с бабою мы в основном грыземся, як собакы. Ось твоя комната, располагайся. Там усё есть — и сортир, и душ. Помоешься с дороги? Рушнык я зараз принесу…
Когда посвежевший после душа Глеб спустился на первый этаж, Игнатий Прокопович сказал:
— Пойдем во двор, в беседку. Бо тут жарковато.
— Э-э… — замялся Глеб. — А как Рябко?..
Игнатий Прокопович раскатисто хохотнул:
— Шо, злякався? Не боись, вин своих нэ трогае. Пойдем, сам побачыш…
Пес снова встретил Глеба остервенелым лаем. Игнатий Петрович цыкнул на него и сказал:
— Рябко, цэ свий. Поняв, собацюга?! Гавкнэш ще раз — убью.
Глеб не поверил своим глазам. Злобное чудовище вмиг превратилось в доброго цуцика, который приветливо завилял хвостом.
— Усё, — сказал довольный Игнатий Прокопович. — Теперь ты можешь с ним хоть цилуваться по пьяной лавочке.
Они расположились в просторной беседке, увитой диким хмелем. Заметив, что Глеб продолжает с опаской посматривать в его сторону, Рябко, чтобы не портить гостю аппетит, величественно удалился в тень, где лег и, высунув длинный розовый язык шириной в ладонь, принялся флегматично созерцать сценки из жизни разных ползающих и летающих букашек.
— Будем пить спотыкач, — категорически заявил Игнатий Прокопович. — Бо магазинная горилка у нас шо отрава. А спотыкач личного производства, на травках настоянный.
— Я — за, — охотно согласился Глеб и окинул взглядом накрытый стол.
Вся еда кроме наваристого борща и овощей с грядки была из магазина. Он немного помялся, но затем все-таки спросил:
— А как насчет сальца?..
— Ха-ха-ха!.. — громыхнул Игнатий Прокопович. — Вспомнил! Як мы с тобою на Андреевском вышивали… эх! Было времечко… От бисова дытына. Гарна память. Зараз принесу. А я, старый дурень, думав, шоб усё было по-взрослому, як в кращых домах Парижа. Это мне детки оставили, когда уезжали. Набили увесь холодильник — шоб, значит, я не беспокоился. Та хиба цэ еда? Ты его в глотку пихаешь, а воно обратно лезет. Ниякого смаку.
Вскоре на столе появилось и сало. Рюмки наполнились как-то очень быстро, словно по мановению волшебной палочки (Глеб даже не увидел, когда), и они выпили «по единой», как выразился Игнатий Прокопович.
— Привычка, — сказал он, с хрустом разгрызая луковицу. — Бо як начну считать рюмки — перва, друга… — так моя баба сразу краник прикрывает. За здоровье мое беспокоится. А шо ему будэ, тому здоровью? От умеренного потребления оковитой нихто ще нэ вмэр.
Глеб только утвердительно замычал в ответ; в этот момент он усиленно налегал на горячий — с пылу, с жару — украинский борщ, в котором торчала большая кость с мясом. Он точно знал, что таких вкусных и наваристых борщей, как на Украине, не сварит ни одна хозяйка в мире. Может, воздух тут такой, а возможно, вода, но как бы там ни было, а борщи у хохлушек всегда получаются знатные.
— Ты в гости, чы по якому дилу? — спросил Игнатий Прокопович, когда они выпили по третьей рюмашке.
— И по делу, Игнатий Прокопович, и в гости… хоть и не зван. Уж извините.
— Замовкны! — негодующе замахал на него руками Игнатий Прокопович. — Шо значит, не зван? Сын моего друга — мой друг. Приезжай в любое время, усегда будешь желанным гостем. И зовы мэнэ дядьком Гнатом, бо обижусь. А як там батько?
— Жив, здоров, чего и вам желает. Привет вам передавал, — соврал, не моргнув глазом, Глеб.
— От спасибочкы… — у Игнатия Прокоповича на глазах вдруг выступила слезная поволока. — Гарна людына Мыкола, твой батька. Голова у него — дай Бог каждому. А где он сейчас?
— В Англии.
— Та ты шо?! — удивился Игнатий Прокопович. — Шо вин там забув?
— Работает по приглашению. Экспертом. Временно. Скоро вернется.
— О! — Игнатий Прокопович с многозначительным видом поднял указательный палец вверх. — Шо значит умна людына. Даже капиталисты приглашают. Казаки везде в цене. Давай выпьем за здоровье твоего батьки.
— Кто бы возражал… — тонко улыбнулся Глеб. — Но прежде хочу вам преподнести скромный подарок…
С этими словами Глеб передал Игнату Прокоповичу шкатулку из полированного дерева, инкрустированную медными и латунными полосками. До этого она стояла на скамейке рядом с Глебом.
В шкатулке на бархатном ложе покоилась курительная трубка знаменитой фирмы «Kapp & Peterson» из бриара[42]. В свое время — лет эдак сто назад — ее сделали на заказ одному богатому и знатному господину, царскому сановнику, но он так и не воспользовался этим настоящим произведением искусства ирландских мастеров-трубочников.
Что уж там случилось с ним, история умалчивает, но трубка долго пролежала без употребления, так как наследники сановника, во-первых, не курили, а во-вторых, скорее всего, не знали ее истинной цены. А потом пришла революция. И завертелась круговерть. В конечном итоге трубку отец откопал в каком-то провинциальном антикварном магазине. И купил ее за бесценок, потому что в том городке не было настоящего профессионала-оценщика — в отличие от Николая Даниловича.
Глеб решил расплатиться трубкой за гостеприимство. А возможно, и за защиту. Со слов отца, ему было известно, что простоватый с виду «дядька Гнат» имел большое влияние на местных украинских казаков. После распада СССР они организовали курень, с которым не смогли сладить даже мафиозные структуры.
Так что почти вся Пуща-Водица была под «колпаком» казачьих формирований, которые иногда устраивали для публики показательные выступления молодежи — конные скачки, джигитовку, рубку лозы саблями и соревнования по боевым единоборствам, но на самом деле достаточно плотно и эффективно занимались бизнесом.
— Чы я сплю… — Игнат Прокопович бережно, словно трубка была изготовлена из тонкого хрусталя, взял ее в руки и поднял на уровень глаз. — Цэ шо, мэни?!
— Да, вам. Так сказать, от всей души…
Игнатий Прокопович радовался, как малое дитя. Уж в чем, в чем, а в трубках он здорово разбирался. И сразу понял, какую ценность держит в руках.
— Ну удружил, ну удружил… — сияющий дядька Гнат гладил трубку, как котенка. — Дай я тэбэ розцилую! — он облапил Глеба своими клещами и три раза, по христианскому обычаю, поцеловал. — Кращого подарка и желать низзя. Наливай!
Они просидели за столом добрых четыре часа. Но удивительное дело — сколько бы Глеб ни пил, а голова у него оставалась ясной, и он был лишь слегка навеселе. В подобном состоянии находился и дядька Гнат. Наверное, причиной такой выносливости в питие был чистый лесной воздух, напоенный летними ароматами. Он отрезвлял почище капустного рассола.
— Скажите, а я не мог бы взять в Киеве машину напрокат? — спросил Глеб, когда Игнатий Прокопович принес из погребка холодного березового сока — чтобы немного освежиться.
— Шо ты мэнэ зобижаешь, Глебушка? Ишь, до чего додумався — машину напрокат. А дядька Гнат для чого? Пидем зо мною…
Он потащил Глеба в гараж. Там стояли три машины: «Волга», новенький «фольксваген» и подержанный БМВ.
— Выбирай любую, яка тоби приглянулась, — не без хвастовства сказал Игнатий Прокопович. — Усё на ходу. Тилько не надо лихачить, бо у нас менты як собакы. Три шкуры сдерут.
— Спасибо, — поблагодарил Глеб. — Если не возражаете, я возьму «волжанку».
Ему не хотелось чересчур «светиться», поэтому подержанная «Волга» для его дел была в самый раз.
— Цэ моя, личная, — горделиво заявил Игнатий Прокопович. — Сколько годков езжу, а работает як часы. Правильно выбрал. С «Волгой» можно хоть на таран идти.
«Ну, на таран не хотелось бы… — подумал Глеб, мысленно сплюнув три раза через левое плечо. — А вот другие достоинства, в том числе неприхотливость в обслуживании и отличная проходимость, для меня в самый раз. Где может пройти «волжанка», БМВ делать нечего. К тому же можно не бояться, что при езде по кустарникам (если придется) поцарапается красочный слой. Заехал на покраску, подождал несколько часов — и получай почти новый кузов».
В этот день Глеб так никуда и не поехал. Во-первых, потому что был подшофе, а во-вторых, из-за того, что его сморил крепкий сон. Он прилег на диван всего лишь немного отдохнуть — по настоянию Игнатия Прокоповича, — а уснул так неожиданно быстро и крепко, что даже не успел додумать какую-то мысль, которая показалась ему очень важной.
Глава 13 1915 год. Странный бродяга
Однако вернемся к Петре и Ваське Шнырю. После того как они сбежали от полицейской засады, их дальнейший путь мог проследить разве что знаменитый частный сыщик Нат Пинкертон[43], многочисленные приключения которого взахлеб читали гимназисты и романтически настроенные учащиеся различных пансионов и Институтов благородных девиц.
Два приятеля, чтобы запутать следы, опустились на киевское «дно». В каждом городе Российской империи было свое «дно». В Москве это Хитров рынок, Сокольники и Марьина Роща, в Одессе — Пересыпь и Молдаванка, в Ростове — Богатяновка, в Тбилиси — Авлабар, в Питере — Лиговка, а в Киеве — Подол. Подольское «дно» располагалось в окрестностях Житнего рынка, который уже с XV века был основным торговым центром Киева.
Сам рынок, как и одесский Привоз, окружен большим количеством галантерейных деревянных «рундуков». Вокруг рынка стоит стойкий запах испражнений, помоев, гнилых помидоров и арбузов. На мостовых валяются отбросы овощей и фруктов, рыбьи внутренности, конский навоз, пучки соломы и разный хлам.
В близлежащих домах обычно собираются серьезные блатные компании. А ближе к горкам находятся ночлежки, притоны и места, где орудуют барыги — скупщики краденого. Места потаенные — в глубине дворов, среди зарослей сирени. В теплое время года на пустырях и горках в окрестностях Житнего рынка ночуют бродяги и нищие.
Тихо вечерами на пустынных подольских улицах и в кривых переулках. Но эта тишина обманчива. Именно сюда стекаются после «трудового» дня обиженные жизнью: мелкое ворье и базарные аферисты, босяки и карманники, фармазонщики и шмары, паралитики, венерики, попрошайки, дегенераты всех мастей, просто бездельники — после дневных блужданий по базару и от одной церкви к другой. (Во Фроловском монастыре, например, их бесплатно кормят пирогами и квасом.) Они идут сюда, чтобы скоротать ночь.
Петря и Васька Шнырь окопались в притоне Охрима Щербы. Это было достаточно просторное полуподвальное помещение, имевшее несколько выходов; естественно, и входов. Поэтому никакие полицейские облавы в заведении Щербы не были страшны даже тем, на кого шла охота.
Для особо уважаемых «персон», сиречь самых известных в воровском мире Киева мазуриков, вход находился в развалинах старого купеческого дома. Но, поскольку Васька был не один, ему пришлось пройти все необходимые проверки на главном входе, с улицы.
Там первой «заставой» были пацаны, игравшие в «орлянку». Затем их «приняли» молодые воры, которые стояли «на стрёме». И только потом, уже возле входной двери полуподвала, приятелей «освидетельствовал» главный вышибала притона Джулай, смуглый до черноты здоровенный мужик, — то ли черкес, то ли татарин, — который никогда не расставался с длинным кинжалом.
Они забились в самый темный угол, чтобы их поменьше видели. Такая предосторожность была отнюдь не лишней даже в притоне Щербы. Дело в том, что в Киеве существовала категория бродяг-доносчиков. Это были нищие, которые зарабатывали на жизнь тем, что сотрудничали с полицией. В обмен на необходимую ей информацию полиция разрешала таким бродягам заниматься своей «профессиональной» деятельностью.
— … Нет, ну какая сволочь, этот твой Графчик! — подпивший Лупан был взъерошенный и злой. — За такие дела кишки нужно ему выпустить!
Васька посматривал на него с опаской — он никогда прежде не видел обычно тихого и безобидного Петрю в таком состоянии.
— Следовало бы… — отвечал Шнырь.
А сам думал: «Как же, выпустишь ты Федьке кишки. Он сам кого хошь на «перо» поставит. У него под рукой с десяток жиганов. Один Матрос чего стоит…»
— И как нам теперь быть? — тупо вопрошал Петря, обхватив голову руками.
— Да, дело осложняется… Боюсь, что за нами могут следить.
— Выходит, что Графчик рассказал все Матросу…
— Кто бы сомневался… Матрос у него — правая рука.
Петря скрипнул зубами. В этот момент он ненавидел всех, в том числе и Ваську Шныря. Кому доверился?! Если по Подолу пойдет слух, что на Китае зарыт клад, вся местная свора будет там. А тут еще полиция…
— Как думаешь, Матроса взяли? — спросил он Ваську.
— Вряд ли. Ты сам видел, как он палил из волыны. Матрос так просто никому не дастся. Он был на каторге и там якшался с анархистами. А это такие люди, что им и сам черт не брат. Ушел он.
— А как найдут?..
— Не-а, Серегу Матроса не найдут.
— Почему так уверен?
— У него с десяток надежных «нор» на Подоле. Он их и для себя, и для Федьки Графчика давно приготовил. Я знаю. Там можно сидеть хоть до нового потопа. Все припасено — харчи, деньги… Федька хитрый, но и Матросу тоже палец в рот не клади. А еще говорят, что у Графчика есть свой человек в полиции. Он предупреждает его о времени, когда будут облавы… ну и все такое прочее.
— Что же он не предупредил Матроса о засаде? — в голосе Петри явно слышался скепсис.
— Ну, не знаю…
— А может, Матрос просто так к тебе зашел, по какому-нибудь спешному делу? — с надеждой спросил Лупан.
Васька Шнырь посмотрел на Петрю как на местного дурачка.
— Ты думай, что говоришь, — ответил он, досадливо морщась. — Кто такой Серега Матрос, а кто я. Жиганы и воры всегда жили как собака с кошкой. Нет у нас никаких общих дел. И до сих пор Матрос понятия не имел, где находится моя хата. Нет, он шел, чтобы взять меня за горло и потрясти как пустой мешок, в котором были отруби. Авось мне известно гораздо больше, чем я рассказал Графчику. Я это нюхом чую.
К ним подошел половой и принес новую порцию варенухи[44], а на закуску печеные яблоки. Притон Охрима Щербы славился этим напитком, и Васька никогда не отказывал себе в удовольствии выпить тыкву-другую в хорошей компании. Но сегодня даже его любимая варенуха почему-то казалась какой-то не такой. Она чересчур горчила, будто ее настаивали на полыни.
Приятели молча разлили варенуху по кружкам и выпили. Говорить больше не хотелось ни о чем. Они с неторопливой обстоятельностью грызли печеные яблоки и говяжьи мослы, на которых еще оставалось мясо, и рассматривали пеструю публику, заполнившую притон Охрима почти под завязку.
Неожиданно Васька насторожился. К ним сквозь людское скопище пробирался Джулай. Его угрюмое лицо не предвещало ничего хорошего.
— Вам нужно уйти, — заявил он безапелляционно, склонившись к столу. — И как можно быстрее.
— Почему?! — в один голос воскликнули приятели.
— Хозяин сказал, что нам не нужны лишние хлопоты.
— Не понял… — Васька смотрел на Джулая с вызовом. — Это с каких же пор честным ворам Охрим стал отказывать в приюте?! Зови сюда хозяина! Будем разбираться.
— Не будем, — коротко ответил Джулай, и его ручища нырнула под одежду, где угадывалась рукоятка кинжала. — Или вы сами уберетесь, или…
Васька Шнырь сдался. Судя по решительному виду Джулая, спорить было бесполезно. Верный пес Охрима Щербы по приказу хозяина мог перерезать горло кому угодно — прямо здесь, в притоне, — и никто из его завсегдатаев даже не пикнул бы. Что касается полиции, то для них смерть какого-нибудь шаромыжника не представляла особого интереса.
— Ты хоть скажи почему? — жалобно спросил Васька.
— К нам фараоны вот-вот могут нагрянуть, — наконец снизошел до объяснения Джулай.
— Удивил… — Шнырь скептически ухмыльнулся. — С Охримовой хазы можно всю гоп-компанию подмести под одну метелку и засадить в кутузку без суда и следствия. Только места там для всех не хватит. Или у вас давно не было полицейских облав?
— За вами сам Шиловский охотится, — наконец сообщил Джулай главное.
Васька побледнел. Петря с тревогой посмотрел на приятеля: что это с ним? Он не знал, что надзиратель сыскной полиции Шиловский был настоящим пугалом для киевских воров.
Если Шиловский наметил взять кого-нибудь из мазуриков, то того могло спасти от тюремных нар лишь срочное бегство из Киева. У надзирателя было много агентов, и Шнырь не мог бы поручиться, что кто-нибудь из стукачей сейчас не сидит за соседним столом.
— Понял, — ответил Васька. — Мы уходим. Зови полового, нам нужно расплатиться.
Пришел половой, разбитной малый в вышитой украинской рубашке и с улыбкой во все его рябое лицо. Она была как приклеенная, и от нее за версту разило фальшью. Но сейчас Ваське Шнырю было не до физиономических наблюдений. Он заказал еще две бутылки водки, холодной говядины и пампушки с чесноком.
— Зачем?.. — удивленно спросил Лупан, который был уже сыт.
— Надо… — буркнул Васька. — Мы пойдем на ночевку к Овдокиму.
— А это кто такой?
— Узнаешь… потом, — ответил Шнырь, бросив быстрый взгляд на Джулая.
Но тот стоял немного в сторонке, будто ему и дела никакого не было до двух приятелей, — ждал, чтобы выпроводить их через один из потайных выходов.
Половой принес объемистый сверток, и приятели пошли вслед за Джулаем, который по пути сметал всех словно бронепоезд. Сначала они очутились в какой-то кладовке, затем нырнули в люк и оказались в подземелье, которое вывело их на конный двор. Здесь Джулай с ними распрощался.
— Дальше найдете дорогу сами, — сказал он неожиданно потеплевшим голосом. — Ты, Васька, зла на меня не держи. Так надо.
— Да понял я, понял. Заметано. Спасибо, что предупредил насчет Шиловского.
— Это не мне спасибо, а хозяину. Он мудрый, он все знает.
Насчет мудрости и всезнайства Охрима Шнырь был наслышан. Ему было известно, что у содержателя притона были свои осведомители среди полицейских агентов, которые, как говорится, ели с двух рук: получали плату за информацию и от полиции, и от Щербы.
— Ну, бывай… — Васька махнул рукой — изобразил прощальный жест, и приятели углубились в хитросплетение кривых и грязных улочек Подола.
— Куда мы идем? — не выдержал Петря, когда они молча протопали километра два.
Хорошо хоть луна время от времени показывалась из-за туч, иначе кто-то из них точно сломал бы ногу. Иногда им на пути попадались темные человеческие фигуры, и Лупан невольно хватался за нож, но таинственные полуночники лишь прижимались поближе к плетням, уступая им дорогу, и таяли в темноте как привидения.
Наверное, ночные прохожие — скорее всего, мазурики — по каким-то признакам узнавали своих. Потому что ни один законопослушный подольский мещанин не рискнул бы выйти в ночное время на улицу. Разве что на большом подпитии. Или в компании. Но и в таком случае у него не было никакой гарантии, что он вернется домой в одежде и с кошельком.
— К Днепру, — ответил Васька. — Ты разве еще не понял?
— Что к Днепру, я догадываюсь. Но вот что мы там забыли — это вопрос.
— Домой нам ходу нет — ни тебе, ни мне. А нам нужно место для ночлега. Место скрытное, потаенное. Поэтому будем проситься к Овдокиму. У него есть просторная землянка в яру.
— А-а… — до Петри наконец дошел замысел Шныря.
В теплую пору года бродяги устраивали шалаши на побережье Днепра или ютились в землянках. В многочисленных киевских ярах, куда даже у весьма деятельного Шиловского с его агентами и фараонами не доставали руки, было обустроено огромное количество подземных жилищ.
В сезоны дождей бродяги занимали возвышенности, хотя делали это неохотно; они не любили быть на виду. Дело в том, что за бродяжничество можно было запросто угодить в работный дом, в котором, как правило, принудительно заставляли работать (в обмен за проживание, одежду и питание). Похоже, Овдоким был одним из таких отверженных.
С днепровских круч яры смотрелись как ночное небо, опрокинутое на землю. Великое множество костров казалось звездным скоплением наподобие Млечного Пути, в котором по прихоти небесного Создателя то зажигались, то гасли новые светила. Время было еще не совсем позднее, и бродяги готовили себе горячую еду, а некоторые — те, что жили кучно, — собирались вокруг огня в тесные компании, чтобы покалякать о делах житейских.
Наверное, дорога к землянке Овдокима (он выкопал ее немного в стороне от остальных бродяг) была хорошо известна Ваське Шнырю, потому что он шел быстро и уверенно, будто узкая тропинка, замысловато петляющая среди зарослей, сама липла к его ногам. Наконец впереди мигнул огонек, и Васька облегченно вздохнул.
— Слава те Господи! — сказал он радостно. — Хоть здесь повезло.
— Ты о чем? — спросил Петря, придерживаясь за тонкие ветки орешника, чтобы не сверзиться в глубокую промоину.
— Овдоким дома. Значит, переночуем в полном комфорте и в хорошей компании.
— А если б его не было?
— Тогда нам пришлось бы спать прямо на земле среди леса, что очень опасно. Здесь пропасть бродячих собак. Могут и сожрать.
— А кто нам мог помешать войти в землянку и расположиться в ней до прихода хозяина? Тем более что он твой знакомый.
— Тю на тебя! Ты в своем уме? Впрочем, что я… Ты ведь ничего не знаешь. Без спроса никак нельзя. Здесь это закон. Иначе выйдешь из землянки вперед ногами.
— Неужто убьют? Не верю.
— А ты поверь. У бродяги на этом свете ничего нет своего, кроме норы в яру и какого-нибудь тряпья. За землянку он горло перегрызет любому. Не твое — не трожь. Так заведено. Везде и во всем должон быть порядок. Вот я, например, не имею права «работать» на чужом участке. Иначе «перо» под бочину — и в Днепр раков кормить.
— Ух ты!
— А ты думал, что все так просто.
Петря промолчал. Ему вдруг почудилось, что он попал в водоворот и стремнина затаскивает его на глубину — туда, откуда ему уже не выбраться. Ощущение было настолько правдоподобным, что он даже начал задыхаться.
Услышав позади судорожные всхлипы, Шнырь встревоженно спросил:
— Ты чего там?!
— Н-ничего… Хух… Дыхалка забарахлила.
— Это бывает, — успокоился Васька. — Когда спускаешься с кручи вниз, селезенка екает и дух спирает. Здесь и воздух другой…
Овдоким сидел возле костра и варил уху. Заросший по глаза неухоженной пегой бородищей, с шапкой давно не стриженных курчавых волос на большой круглой голове, он показался Петре лешим, который покинул болото, чтобы погреться у костра. Это сходство подкрепляли его живописные лохмотья, замызганные дальше некуда.
Услышав шаги, он поднял голову, присмотрелся к незваным гостям, вступившим в световой круг, и неприветливо спросил:
— Чего надобно? Ходите дальше.
— Это же я, Васька! — сказал Шнырь, радостно ухмыляясь. — Не узнаешь?
— Много тут разных Васек шастает… — Овдоким ловким движением снял пену с ухи деревянной самодельной ложкой. — Мне запомнить всех вас башки не хватит.
— Ну как же… — опешил Шнырь.
— Ты иди, иди, соколик, отседова, — не дал закончить ему фразу Овдоким. — Иначе кликну братву нашу, они вам ноги быстро повыдергивают.
И тут Ваську осенило. Быстрым движением распотрошив пакет с харчами, он достал оттуда бутылку водки и поставил ее на плоский камень, исполняющий роль стульчака; на таком же импровизированном «табурете» сидел и Овдоким.
— Хе-хе-хе… — вдруг благожелательно рассмеялся Овдоким, бросив быстрый взгляд на бутылку. — Василий… А как же, помню я тебя, конечно, помню. В гости пожаловали-с? Это вы хорошо придумали. Милости прошу, присаживайтесь. И ушица уже скоро будет готова…
Он засуетился, начал угодливо подмигивать, а его два глаза вдруг начали жить каждый самостоятельной жизнью. Один (правый) присматривал за ухой и оценивающе оглядывал незваных гостей, а второй будто привязали невидимой нитью к горлышку бутылки с водкой.
Но Васька, разозленный холодным приемом, не дал себя обмануть. Он сразу расставил все точки над «i». Видимо, ему был хорошо известен переменчивый нрав бродяги.
— Ушица — это хорошо, — сказал Шнырь. — Но мы тоже не с пустыми руками пришли, — он с вызывающим видом положил пакет на траву. — Нам нужно пожить у тебя немного… перекантоваться дня два-три. Не возражаешь?
Видно было, что предложение Васьки особой радости у Овдокима не вызвало. Но наживка в виде бутылки водки оказалась на данный момент сильнее его свободолюбивой натуры, и Овдоким заглотнул крючок до самой лески.
— А поживите, чего ж… места хватит, — сказал он с невольным вздохом и быстренько нырнул в землянку, откуда принес три разнокалиберных лафитника (один из них был щербатым), явно подобранных где-то на помойке.
Пока он копошился в землянке, Шнырь тихо сказал Петре:
— Теперь все в ажуре. Овдоким от своего слова не откажется.
— Кто он? — с интересом спросил Лупан. — Откуда знаешь его?
— Бывший ученый человек, — с некоторой долей уважения ответил Васька. — Сбежал к нам из Питера.
— Да ну? — удивился Петря.
— Точно. У него и квартира в Питере имеется… а возможно, ее уже и нет. Может, квартирку кто-то прибрал к рукам. У нас народ ушлый. Овдоким живет в ярах… дай бог памяти… года четыре. А познакомились мы случайно. Однажды мне привалил большой фарт, и я по пьяной лавочке начал угощать всю подольскую босоту… — тут в голосе Шныря проскользнули нотки сожаления. — И проснулся в землянке Овдокима… с пустыми карманами. Как сюда попал, ума не приложу. С той поры иногда захаживаю…
Первая бутылка показала дно с потрясающей быстротой. Ушицу хлебали прямо из котелка, одной ложкой — по очереди. Уха была удивительно вкусной и наваристой.
— Сома поймал, — хвалился Овдоким, настроение которого значительно улучшилось. — Думал, под корягу затащит. Здоровый. Еле справился.
Его движения стали быстрыми, порывистыми, а в прежде безразличных, тусклых глазах появились живой ум и бездонная глубина. Временами Петре начинало казаться, что Овдоким видит его насквозь. Он даже поеживался, когда бродяга обращал на него свой проницательный взор.
— Вам бы уехать из Киева, — неожиданно сказал Овдоким, когда они приступили ко второй бутылке. — Над вами висит черный астрал. Это знак беды.
Васька от неожиданности поперхнулся.
— Ты… ты это чего?! — брякнул он растерянно.
— Ничего… я так. Карма у вас плохая. Надо вам менять место жительства. Киев для жизни не всем подходит.
— Что такое карма и этот… как его… астрал? — спросил Петря, который всегда отличался любознательностью.
— Долго объяснять… — буркнул Овдоким. — Да и поймете ли? Плохи ваши дела, молодцы.
— Не каркай, — ответил Шнырь, успокаиваясь. — У кого они сейчас хороши? Война… Вон сколько народу погибло. А за что?
— Вопрос чисто риторический, — сказал Овдоким. — Некоторые философы считают, что войны — это движитель прогресса. Возможно. Хотя я не сторонник этой теории. А вот как быть с бунтом?
— При чем здесь бунт? — удивился Васька.
— А притом, что он назревает. Как нарыв — вот-вот прорвет.
— Напугал мужик бабу своим дрыном… — Шнырь скептически ухмыльнулся. — Пригонят казачков, те помашут нагайками да шашками, и все будет, как в девятьсот пятом. Кого — в кутузку, кого — на каторгу, а кому… царствие небесное-е-е… — пропел он фальцетом, как пьяный дьячок.
— Слаб ты на голову, Василий, — с осуждением и некоторым сожалением сказал Овдоким. — Ох, слаб. Только без обид. Дальше своего носа не видишь. Смута на Расею надвигается — страшная, кровавая и беспощадная. Почище войны будет. Никакие казачки не помогут.
— Это ты где вычитал, в своих умных книгах? — с иронией спросил Шнырь.
— А мне и читать ничего не надо. У меня все здесь… — Овдоким постучал заскорузлым пальцем по лбу. — Глаза закрою и вижу движущиеся живые картинки. Будто сам там нахожусь. Как в синематографе. Ночами не сплю… страшно мне, Василий.
— Тебе-то чего бояться? Никто на твою землянку не позарится.
— Так-то оно так… Да вот людей жалко.
— А они тебя пожалеют? — фыркнул Васька. — Как же, держи карман шире… Своя рубаха ближе к телу, вот что исповедуют твои люди.
— Не суди их строго, Василий, — сурово сказал Овдоким. — Такова наша природа. Эгоизм у человека не от моральной испорченности, а совсем по другой причине, которая называется продолжением рода. В этом вопросе сентиментов не может быть. Свое — это свое, а наше — это как придется, как кому повезет.
— Мудрено говоришь… — Васька скептически ухмыльнулся. — На вот кусок мясца, закуси. А мы с Петрей выпьем — и на боковую. Поздно уже. Завтра дел невпроворот…
Овдоким посмотрел на него с сожалением, хотел что-то сказать, но сдержался. Все разом умолкли, и удивительно прекрасная украинская ночь наполнила их души негой и непонятным томлением.
Со склона, где Овдоким вырыл себе землянку, был виден могучий Днепр. Он казался ясным серебром, которое рассыпали на широком шляху крымчаки, возвращавшиеся домой из набега на Украину. Полная луна наконец освободилась из плена туч и воссияла посреди небесного купола. Казалось, что эта мирная идиллия будет длиться вечность.
Глава 14 2007 год. Китаевская пустынь
Игнатий Прокопович предупредил:
— Ты тилько не езжай через центр.
— Это почему? — полюбопытствовал Глеб.
— А у нас там очередная майданная революция… шоб им не было ни дна, ни покрышкы тем халамидникам.
— Опять «оранжевая»?
— Мы уже совсем запутались. Помаранчевые, розовые, голубые, красные, серо-буро-малиновые… цилый букет. Як у меня в саду на клумбе.
— Понял. Не скрою, я хотел увидеть Крещатик. Но коли так…
— Чого там дывыться? Революционеры зробылы с него купу гною. Кругом мусор, усё заплевано, стыдно глядеть. Когда такое было? Краще в Днепре искупайся. Вода — як шелк.
— А что, тоже идея. Ну, бывайте, я поехал.
— Ты там, ежля чего, звони мне по мобилке. Бо шось мэни не наравыться твой настрой.
— Почему?
— Ты якыйсь загадочный. А зная твоего батьку, могу представить, шо у тебя на уми.
— И что же?
— Та вы ж оба башибузуки. Не зобижайся. Усё время шукаете себе приключений на отэ мисце, откуда ноги растуть. Хотив спросыть, шо ты удумав, так все равно ж збрешеш.
Глеб рассмеялся.
— Дядя Гнат, что-то вы в последнее время стали очень подозрительными. Уж не думаете ли, что я засланный казачок? Ну, чтобы помочь пророссийским силам на Украине взять верх.
— А хто тебя знает… — буркнул Игнатий Прокопович.
— Все понятно. Значит, вы за «оранжевых». Даю вам честное слово, что ваши политические игрища мне до лампочки. У нас, в России, и своих хватает. Правда, мы еще ваших «высот» не достигли. Тут вы нас обскакали.
— Мы за колхоз, тилько не в нашем селе. Дались вам, москалям, те «оранжевые». Люды як люды…
Чувствуя, что дядька Гнат начал заводиться и вот-вот сядет на своего любимого конька — политическую дискуссию, Глеб буквально запрыгнул в салон «волжанки» и дал по газам. Он уже знал, что если начать с Игнатием Прокоповичем спорить, то можно до вечера простоять возле ворот и заработать себе ларингит от перенапряжения голосовых связок.
До Китаевской пустыни Глеб добрался без особых проблем. На удивление его не остановил ни один сотрудник украинской автоинспекции, которая называлась ДАI, что очень ассоциировалось с кратким и емким словом, первым в словаре мздоимцев, — «ДАЙ».
Наверное, далеко не новая «Волга» не внушала сотрудникам автоинспекции больших надежд на хороший навар. И то верно — что возьмешь с голодранца, который не в состоянии купить даже подержанную импортную тачку? Все-таки осталась в нашем славянском народе капля справедливости, подумал Глеб. Если уж менты стали снисходительны к простому люду, значит, не все еще потеряно.
Проехав с полкилометра вверх по Китаевской улице, Глеб наконец очутился на возвышенности, откуда хорошо просматривались окрестные «горы» — крутобокие холмы-останцы, покрытые редколесьем, и сам монастырь. Тихомиров-младший хорошо изучил план монастырского подворья и успел немного покопаться в исторических материалах по Китаевской пустыни, поэтому знал, что холмы хранят на себе следы многих древних культур: курганы, оборонительные валы, площадку, на которой, как предполагают, находилось языческое святилище…
Пустынь напоминала мыс. Под холмами, в бывшем русле небольшой речушки, монахи старинного монастыря обустроили каскад прудов. Они отражали пронзительно-голубое небо и казались сусальной картинкой с цветной старинной открытки. А за прудами, на возвышенности, радовал взгляд белизной стен и пятью зелеными куполами Свято-Троицкий храм, окруженный меньшими церквами и зданиями.
Слева и справа от дороги — строения; наверное, раньше они были частью монастыря. Там же находится институт садоводства. (Это Глеб вычитал в путеводителе по «Киевскому Афону», как иногда называют Китаево.) На его территории посреди клумб видны старинные надгробия.
Слева от центрального входа — небольшое церковное здание. Строения института старинные, в них угадываются бывшие кельи монахов. За центральными воротами — пустырь. Там когда-то стояла старинная колокольня, разрушенная в тридцатых годах прошлого столетия.
На соседней горе виден вход в пещеры с маленькой часовней. К пещерам тянулась длинная цепочка паломников. Глеб довольно ухмыльнулся.
«Все вэри гуд, парень, — подумал он, закуривая вторую сигарету подряд (Глеб знал, что в монастырях смолить цигарки запрещено и ему предстояло длительное воздержание, поэтому он решил накуриться впрок). — Где легче всего спрятать лист? Ну конечно же в лесу. Вот и притворюсь паломником из шибко образованных. В таком случае моя повышенная любознательность не вызовет подозрений. А разведать все нужно самым тщательным образом. Чтобы потом ночью не плутать…»
Глеб вычитал, что до революции Китаевская пустынь была излюбленным местом посещения паломниками. В те годы, когда к Китаеву почти вплотную подходил Днепр, сюда в навигацию прибывало в день по нескольку пароходов. Особенно паломников привлекал вырытый на крутом склоне Китай-горы лабиринт пещерной обители.
Если верить тем сведениям, что Глеб почерпнул из достаточно скудных источников, самым знаменитым насельником пещер был старец-затворник Досифей. Келью его, простую земляную камеру со скромными иконками, и сегодня показывают посетителям как святыню подземного монастыря. Могила Досифея расположена у самой стены пятиглавого храма.
Рядом с монастырем, на горе с пещерами, находился летописный город Пересечень (или Китаевское городище). Еще со студенческих времен Глеб знал, что Пересечень (или Пересичен), как ни странно, относится к числу наименее изученных древнерусских городищ.
Однако главный для себя факт Тихомиров-младший откопал в записях отца. Николай Данилович, как оказалось, уже давно накинул глазом на Китаево. В архивных источниках он нашел, что в Пересечене существовало когда-то большое подземелье или «погреб», как называли его дореволюционные исследователи. Но вход в этот подземный лабиринт отыскать не удалось ни тогда, ни в нынешние времена…
Монашек-гид попался Глебу несколько суетливый, но словоохотливый. Тихомиров-младший не стал присоединяться к общей группе паломников, а решил взять себе индивидуального проводника. Он долго присматривался к монастырской братии, ходившей по двору, — ее было не так уж и много — пока ему на глаза не попался инок, которого, как потом Глеб узнал, звали Михаил.
Без долгих разговоров Глеб всучил ему двести украинских гривень (примерно сорок долларов) и объяснил ситуацию.
— Хорошо, я согласен, — сказал монашек и засунул деньги в карман брюк, находившихся под рясой. — Деньги пойдут на восстановление монастыря, — тут же поторопился добавить инок, но должного смирения в его голосе Глеб почему-то не почувствовал.
«Похоже, — подумал он, — монашек недавно испеченный. И никак не может избавиться от мирских привычек. Пока для него деньги имеют большой смысл. Потом это пройдет… если, конечно, монашек сильно захочет стать праведником. В противном случае его смирение будет лишь показным, внешним…»
Глеб уже был знаком с монахами и знал, что среди них случаются и паршивые овцы. Увы, от цивилизации, извратившей все, что только можно, сбежать трудно. Даже если ты забьешься в самый дальний скит.
— …В настоящее время известны две пещеры, находящиеся непосредственно под городищем, — рассказывал инок Михаил. — Точное время происхождения пещер неизвестно. Некоторые исследователи относят их появление к XIV веку. Но кое-кто утверждает, что пещеры появились до монголо-татарского нашествия. С XVII века Китаевская пустынь находилась во владении Киево-Печерской лавры…
Он оказался очень толковым гидом. Судя по всему, у монашека было высшее мирское образование — он оперировал такими терминами, о которых малограмотный человек не имел понятия. Что он человек умный, было видно по его живым глазам и большому «сократовскому» лбу. А еще инок был или чем-то болен, или постоянно постился, потому что его тощая длинная фигура, казалось, вот-вот надломится в пояснице и он распадется на две высушенные до звона половинки.
— Кроме пещер под городищем, — продолжал монах, — существовали еще и пещеры примерно в километре отсюда. Вход в них находился на южном склоне глубокой балки, по которой шла дорога из Киева на Триполь, Витечив и дальше на юг. Когда-то на этих склонах располагались монастырские виноградники. Сейчас там все заросло лесом, а вход в пещеры завален…
Они уже бродили по окрестностям Китаевской пустыни добрых два часа. Тихомиров-младший, обладающий фотографической памятью, фиксировал в уме даже малейшие изменения рельефа местности. В его памяти отложился каждый камешек, встреченный по пути.
Монашек попался словоохотливый и сыпал на Глеба информацию, словно горох из мешка. Он действительно много знал об истории монастыря — гораздо больше, чем Тихомиров-младший мог переварить за один раз. Наверное, новоиспеченный инок соскучился по живому общению с человеком светским и теперь отводил душу. Судя по всему, временным гидом он стал совсем не из-за денег. Они были лишь катализатором его ностальгических воспоминаний о прошлой жизни.
Глеб невольно примерил на себя монашеское одеяние и мысленно вздрогнул — бр-р! При всем своем уважении к церковным подвижникам и вообще к православию, он даже не мог представить себя в роли денно и нощно бьющего поклоны перед алтарем. Каждому свое, как говорили древние…
— Это кельи старшей братии пустыни, — показывал монах, — это церковь Двенадцати Апостолов. Ее построили в XIX веке. Первоначально она служила теплой трапезной церковью. Вон дом настоятеля и канцелярия…
Они уже возвратились на главное монастырское подворье. Видно было, что монашек устал, и Глеб сжалился над ним, решив закончить свою «экскурсию». Остальное, подумал он, осмотрю сам, без поводыря.
Тихомиров-младший уже определил примерную привязку на местности того участка Китаевской пустыни, который был выгравирован на плане. Но Глеба ждало разочарование: в том месте, где на плане был начертан крестик, высились лишь холмики и валялся разный хлам. Если когда-то здесь и был вход в пещеры, то теперь он завален. А Глеб почему-то был уверен на все сто процентов, что клад находится глубоко под землей, в лабиринте.
Глеба утешало лишь одно обстоятельство: холмики были старыми (даже очень старыми, судя по кое-где обнажившимся земляным пластам), а значит, никто в них пока не ковырялся. Это давало ему надежду на благополучный исход затеянной им кампании.
— А эти люди что делают на территории монастыря? — поинтересовался Глеб, увидев двух мужчин в штатском. — Или тут до сих пор остались мирские учреждения?
Мужчины как раз выходили из здания, о чем-то оживленно беседуя.
— Нет, не остались, — довольно сухо ответил монах. — Почти не остались, — поправил он сам себя, посмотрев вслед мужчинам каким-то странным взглядом. — Это арендаторы.
— И чем они занимаются? — с невинным видом спросил Глеб, почувствовав, как внутри у него словно кто-то зажег костер.
Разговаривая, один из мужчин — плотный, кряжистый — жестикулировал. Его короткие рубленые жесты выдавали натуру волевую, начальственную. Но Глеб обратил внимание на другое. Мужчина носил массивный перстень-печатку из белого золота с рельефным изображением герба тамплиеров — два рыцаря скачут на одном коне!
Это случайность или?..
Глеб не верил в случайности. Он не зря учил философию в институте. Случайностей в принципе не бывает. Случайность — это непознанная необходимость, или, если точнее, предопределенность, о которой человек не имеет понятия. До поры, до времени.
— Пчеловодством, — коротко ответил монашек, разом утратив весь свой ораторский пыл.
— Давно они здесь?
— Не знаю… не помню. — Монашек уже смотрел на Глеба волком; похоже, ему очень хотелось послать «экскурсанта» по гражданской привычке куда подальше, да сан не позволял. — Года два, а может, три…
«Дело нечисто… — думал Глеб. — Монашек что-то знает, но не хочет говорить. И то верно: с какой стати он должен выкладывать все монастырские тайны постороннему, к тому же совершенно незнакомому человеку. Интересно, какой мед собирают эти «пчеловоды»? И не их ли «мерседес» стоит возле ворот обители?»
Словно в подтверждение его мыслей за воротами раздался мягкий рокочущий звук сильного мотора.
«М-да… Может, и мне стоит заняться пчелами? Похоже, это очень доходное дело. Вон в газетах пишут, что даже у украинского президента есть личная пасека. Гляди, и я благодаря качественному меду в люди — то есть в чиновника государственного масштаба — выбьюсь. Не всю же мне жизнь бегать по полям да лазить по подземельям в поисках древних черепков…»
Невольно улыбнувшись своим мыслям, Глеб тепло попрощался с монахом, который уже немного оттаял, и отправился восвояси. Он не мог видеть (потому что сидел в салоне «волжанки»), как к иноку Михаилу подошел другой священнослужитель. Он появился перед монашеком неожиданно — словно из-под земли вырос. В нем легко можно было узнать того монаха, с которым разговаривал отец Алексий после того, как от него ушел Глеб.
Монах сказал несколько слов, и инок Михаил, до этого стоявший прямо, с высоко поднятой головой, тут же покорно склонился перед ним, и они повели между собой тихий разговор. Когда монахи разошлись в разные стороны, на резко очерченном худощавом лице наперсника отца Алексия появилась загадочная улыбка. Спрятавшись за угол, он достал мобильный телефон, отыскал в электронной записной книжке нужный номер, позвонил и сказал:
— Вы не ошиблись, отче. Его интерес к пустыни отнюдь не праздный.
Выслушав ответ, он спрятал мобилку и поторопился к воротам. Там его уже ждал не очень приметный с виду серый «фольксваген» с водителем за рулем. «Волга», в которой ехал Глеб, уже была не видна.
— Все сделал? — спросил монах водителя.
— Да, — ответил тот. — «Маяк» в машине объекта функционирует в нормальном рабочем режиме. Посмотрите на дисплей… — с этими словами водитель включил небольшой экран, вмонтированный в переднюю панель.
На экране появилась схема Киева и на ней крохотная светящаяся точка, которая двигалась по направлению к центру. Монах с удовлетворением кивнул, и «фольксваген» быстро сорвался с места. Оказалось, что под невзрачной серой оболочкой машины таится очень мощный и хорошо отрегулированный мотор.
«Ну и что теперь? — думал Глеб, внимательно следя за дорогой. — Копать мне в Китаевской пустыни не позволят, даже если я заплачу настоятелю хорошие деньги. Мало того что я не имею никакого официального подкрепления, так я еще и москаль. А это сейчас в Украине звучит хуже, чем поляк. Может, пойти на арапа? Состряпать подметную бумагу со всеми необходимыми подписями и печатями, нанять бульдозер и вскрыть те холмики. Дело накатанное, случалось… Пока будут разбираться, что да почему, я успею достать из-под земли то, за чем приехал, — и ищи-свищи ветра в поле».
Идея была неплохой. Глеб уже мысленно рисовал схему раскопок, но тут ему в голову влез тот «пчеловод» с перстнем тамплиеров на безымянном пальце правой руки, и его настроение сразу же опустилось до нулевой отметки. Нет, брат, что-то здесь не так.
Тихомиров-младший был наслышан о новоявленных тамплиерах. Они водились как в России, так и за рубежом. В основном это были игры великовозрастных дядек, имеющих чересчур богатое романтическое воображение. Но иногда под прикрытием якобы возрожденного Ордена рыцарей храма копошились довольно темные личности с весьма загадочными целями и программами.
И самое главное — они имели немалые средства. Кто их финансировал и зачем? В частные пожертвования на игры взрослых придурков Глеб не верил. Люди, владеющие капиталами, денег на ветер не бросают. Ну разве что для того, чтобы скрасить свою личную жизнь.
Но вот общественные дела их мало касались. Тем более возрождение какого-то древнего ордена. Это даже не благотворительность, которая приветствуется обществом, а сплошной идиотизм.
Конечно, идиотов хватает, притом везде, в любом государстве. В этом Глеб убеждался не раз. Если находятся чокнутые, которые спонсируют чемпионат мира по плевкам в длину, то о чем тогда речь? Человечество сошло с ума и даже не заметило этого. Впрочем, в дурдоме ни один больной не скажет тебе, что он сумасшедший. Так что «все хорошо, прекрасная маркиза…»
На этой мысленно произнесенной фразе Глеб повернул налево и взял курс на центр города. Увы, он не был исключением из рода человеческого и поступил вопреки советам дядьки Гната не ездить на Крещатик.
Запретный плод всегда сладок…
Глава 15 1915 год. Ванька Золотой Зуб
Шиловский пребывал в каком-то непонятном состоянии. С одной стороны, он нарушил служебный долг, а с другой — сто тысяч рублей согревали ему душу и тело как самый лучший французский коньяк. Надзиратель сыскной полиции то погружался в пучину черной хандры, то мысленно переносился в Париж, где царила сплошная небесная лазурь и где ему довелось побывать всего один раз и то в младые годы.
Ах, Париж, Париж!.. «Бросить бы все к черту… и уехать, — думал он, нервно раскуривая сигарету, которая почему-то все время тухла (табак — дерьмо! Пополам с трухой; везде одни воры и проходимцы! — злился Шиловский). — Нельзя… Во-первых, не отпустят, а во-вторых, война. Французам сейчас не до веселья, как было раньше. Но мне-то что делать?! Бежать в Швейцарию… Идея, подсказанная мсье Боже. Именно бежать, потому что официально уйти из полиции — значит попасть в действующую армию. У контрразведки фронта кадровый голод… Но тайный выезд за рубеж в военное время может быть расценен как предательство. Или еще хуже — меня могут записать в шпионы. Швейцария, конечно, далеко, но ведь и наши агенты не дремлют. Спишут в расход, и поминай как звали…»
Несмотря на предупреждение мсье Боже не совать свой нос туда, куда не нужно, Шиловский, фараон до мозга костей, все-таки не сдержался и навел кое-какие справки. То, что попало ему на стол в письменном виде, вызывало оторопь.
Оказалось, что все копатели могил, участвовавшие в тайном захоронении ящика, показаний по делу дать не могут. Один из них утонул в Днепре, второй умер, отравившись водкой, третьего зарезали, а некоего Иону Балагулу, возглавлявшего бригаду копачей, упекли в Сибирь. Что касается хозяина погребальной конторы Ваника Бабаяна, то он жив-здоров, на месте, но вот семья его куда-то исчезла — как раз в четырнадцатом году.
Вся эта информация навевала надзирателю сыскной полиции невеселые мысли. Он был чересчур опытным сыщиком, чтобы не заметить совершенно очевидную связь между этой пятеркой — тремя мертвецами, кандальником и владельцем похоронной конторы. Кто-то очень властный и жестокий сделал предупреждение всем, кто попытается добраться до цинкового ящика, захороненного на Китаевском кладбище.
Шиловский ознакомился с врачебными заключениями по факту смерти копачей. Последний случай предельно конкретен — мужика зарезали какие-то садисты. А вот два первых…
Тот, что утонул, плавал как рыба. Он на спор переплывал Днепр туда и обратно без передышки. Когда его выловили и освидетельствовали, оказалось, что копач был совершенно здоров и, что удивительно, трезв как стеклышко. И тем не менее крепкий мужчина в расцвете лет, отменный пловец, пошел на дно словно камень.
Заключение по второму тоже вызывало массу вопросов. Свидетели в один голос говорили, что да, он пил, но не до положения риз и никогда не пьянел. Вскрытие подтвердило, что гражданин N ничем не болел и печень у него была, как у ребенка. Однако факт был налицо — копач могил умер, выпив всего два лафитника водки в компании каких-то подозрительных людишек; ни один из известных науке ядов в его организме не обнаружен.
«Подозрительные людишки… Нонче все подозрительные, — проворчал Шиловский. — Один французик, этот мсье Боже, чего стоит. Если как следует потрясти «Континенталь», то оттуда такие клопы могут посыпаться… Интересно, чем, черт побери, занимается наша жандармерия?!»
Так что же хранится в том таинственном цинковом ящике? Несметные сокровища? Не исключено. Убиты три главных свидетеля… Да, да, они умерли насильственной смертью! В этом Шиловский уже не сомневался. Так когда-то заметали следы при устройстве серьезных тайников владетельные персоны древности и пираты.
Тогда получается, что те сто тысяч рублей, которые ему всучил в виде мзды француз, — капля в море?..
Ах, сукин сын! Надзиратель от волнения вскочил и забегал по кабинету. Его распирала неожиданно проснувшаяся жажда к деньгам. Раньше — до того, как он получил из рук мсье Боже саквояж, — Шиловский не замечал за собой таких порывов. Ему хватало его содержания. Почти хватало.
Иногда, время от времени, надзиратель «инспектировал» свой участок. И как-то так получалось, что после инспекций карман его сюртука сильно оттопыривался и начинал шелестеть от купюр, которые ловко запихивали туда мелкие лавочники и прочие прохиндеи.
Но разве это были деньги? Так, мизер… Гроши. Те, кто умасливал надзирателя, грешили по маленькой. А вот из рук бандитов и прочих уголовников Шиловский никогда и ничего не брал. Это было его железное правило. Так низко опуститься ему не позволяло воспитание.
И однако же он взял. Правда, от господина с виду вполне положительного и даже как будто законопослушного. Так ему казалось поначалу. Но, копнув поглубже, Шиловский вдруг понял, что влип. Шлюзы прорвались, и все его естество, доселе глубоко упрятанное в потаенных омутах, вылилось наружу.
Да, сто тысяч — это не деньги. Вернее, не такие уж и большие деньги. Хорошо бы покопаться в той таинственной могилке… Но как ее найти? Нет, нет и еще раз нет! Никаких копаний. Дал слово — держи. Иначе…
«Дурак! — обругал себя Шиловский. — Тебе не хватает лишь приключений с масонами. Лови уж лучше своих мазуриков и жиганов, если не желаешь идти в отставку, так будет спокойнее. Хочешь составить компанию тем троим? Зарежут, как цыпленка, несмотря на полицейское звание. Этот мсье Боже весь лощеный и цивилизованный, а глаза волчьи…»
Постепенно мысли Шиловского сосредоточились на Балагуле. Интересно, этот сукин сын еще жив или нет? Если жив, то ему здорово повезло. Все-таки у кандальника-каторжанина есть надежда отбыть срок и вернуться домой. А с того света еще никто не возвращался.
Как это ни удивительно, но надзиратель знал Иону Балагулу. Он несколько раз попадал в участок, но не за политику, а по причине своего буйного характера. Иона очень любил на хорошем подпитии зайти в приличный ресторан и побить зеркала. При этом он кричал что-то про кровопийц и эксплуататоров, но к нему особо не прислушивались, а просто вязали.
Потом, протрезвев в участке, Балагула угрюмо бубнил, что бес попутал, платил за урон, причиненный ресторану, и его отпускали, слегка пожурив. Пьянство в царской России не считалось большим пороком и уж тем более не тянуло на уголовную статью. Полиция на пьяные дебоши смотрела сквозь пальцы.
Шиловскому очень хотелось вызвать Балагулу на допрос. Но он понимал, что это невозможно — где Киев, а где Сибирь. Никто не будет заниматься этапированием каторжанина в обратную сторону, тем более без веских на то причин. Ведь у Шиловского на Балагулу ничего не было.
Мало того, бригадир копачей могил проходил по делу не как уголовник, а как политический. Это был уже совсем другой компот. Так могут и самого Шиловского заподозрить в пособничестве врагам отечества — а ну как Балагула сбежит по дороге? Тогда все шишки достанутся надзирателю…
Размышления Шиловского прервал стук в дверь.
— Входите! — сказал надзиратель и нервно потушил папиросный окурок.
На пороге появился пристав Семиножко. Как обычно, он был красным и потным — на улице парило; наверное, перед грозой. Пристав не выпускал из рук огромного носового платка и время от времени промокал им пот, который не только выступал крупными каплями на лбу, но и стекал на грудь по его длинным казацким усам.
— Хух! — сказал пристав. — Здравия желаю, Евграф Петрович!
— Здравствуй, Петр Мусиевич. Присаживайся…
Пристав сел на стул напротив Шиловского. Его глаза бегали в орбитах как два маленьких зверька. Создавалось впечатление, что Семиножко в чем-то сильно провинился и теперь ждет неминуемого наказания. «Что это с ним?» — удивленно подумал надзиратель, который был хорошим психологом.
Подумал одно и сказал другое:
— Вот что, Петр Мусиевич, забудь про Ваську Шныря. На время! — повысил голос Шиловский, решив, что Семиножко хочет что-то возразить. — Нужно заняться другими, более важными делами. А Шнырь объявится… в этом нет сомнений. Поднимется со своего «донышка» на поверхность, а мы тут как тут.
— Но как же… Ведь убит полицейский… — возражения Семиножко звучали как-то неубедительно.
— Жигана будем искать. Но не в ущерб другим делам. Ты его портреты раздал городовым?
— Конечно. Еще вчера.
— Вот и славно. Пусть потрудятся. И я еще им хвоста накручу. А то совсем перестали мышей ловить. Сладкую жизнь себе устроили.
— Да, да… — поддакнул Семиножко, который вдруг почему-то резко успокоился. — Берут мзду не по чину… — последняя фраза прозвучала чересчур зло.
Шиловский остро взглянул на пристава, но промолчал. Он знал о нравах, царивших в полицейских участках, не понаслышке. Умаслить городового или пристава в среде торговцев и разной мелкой шушеры считалось делом само собой разумеющимся.
«Похоже, Петру Мусиевичу стало не хватать тех подношений, что ему дают городовые, — насмешливо подумал Шиловский. — Процент не тот… Это хорошо. Теперь он с городовых три шкуры сдерет, пока до них дойдет, откуда ветер дует. Для сыска такое служебное рвение только на пользу».
— В Киеве объявился известный ростовский авторитет Колька Рыбалка, — суховато сказал надзиратель. — Его видели как раз на твоем участке…
— Ой, лышенько! — по-бабьи всплеснул руками Семиножко; забывшись от расстройства, он перешел на украинский язык. — Шоб вин в Днепре утопывся! Беда…
— Да, это серьезная личность. Мне приходилось иметь с ним дело… И наверное, он прибыл в Киев не сам, а со своей бандой. Так что нам нужно ждать неприятных событий. Предупреди свою агентуру. Фотографию Кольки Рыбалки возьмешь в архиве. Там он, конечно, гораздо моложе, но хоть какое-то подспорье…
Семиножко шустро выкатился на своих коротких ножках из кабинета Шиловского и расплылся в довольной улыбке. Если бы надзиратель знал… Он шел к Шиловскому лишь с одним глубоко личным вопросом: как спустить дело Васьки Шныря на тормозах?
Конечно, вслух эту фразу он никогда бы не произнес. Семиножко накопал целый ворох разных «безотлагательных» дел и мероприятий по участку (большую часть из них он придумал), которые и собирался вывалить на стол перед Шиловским: мол, работы невпроворот, так что извините, но Васька Шнырь не главный гвоздь программы. Однако надзиратель будто подслушал его потаенные мысли, и все получилось как нельзя лучше.
Эту пока еще маленькую победу нужно было как-то отметить. И Семиножко в радужном настроении отправился на Крещатик, где зашел в кофейню «Люрс и Штифер», чтобы выпить чашечку отменного кофе с круассанами.
Походами в такие солидные и отнюдь не дешевые заведения он приподнимал себя в своих глазах. Сидя в окружении белоснежных накрахмаленных скатертей и о чем-то воркующих дам полусвета, Семиножко представлял себя богатым господином, жуиром, и его крестьянская сущность становилась микроскопически маленькой, почти незаметной. Мысли пристава освобождались от разных наслоений, и он воспарял к невиданным высотам.
Так получилось и на сей раз. Прихлебывая кофе маленькими глотками (фарфоровую чашечку Семиножко держал своими толстыми пальцами-обрубками манерно, оттопырив мизинец) и мечтательно прищурив глаза, пристав думал, что жизнь не такая уж плохая штука, особенно когда в ней намечаются некоторые перемены к лучшему. Дело оставалось за малым: найти Ваську Шныря и вытрясти из него душу вон — пока мазурик не выведет пристава на пока неизвестного ему Петрю.
К сожалению, Серега Матрос не знал фамилии этого человека. Во время разговора с Графчиком Васька называл Петрю румыном, но Семиножко подозревал, что он вполне может быть и молдаванином. А тех и других в Киеве был воз и маленькая тележка. И добрая половина из них носила имя Петр.
В общем, все выходило на то, что нужно искать Шныря. Вот уж когда воистину на человеке сходится клин, уныло подумал Семиножко… и вдруг похолодел. Ах, гадюка семибатюшная! Ах, змей подколодный! Что удумал!
Семиножко показалось, что он понял, почему Шиловский дал отбой по делу Васьки Шныря. Надзиратель, похоже, решил лично заняться этим делом. А зачем? Понятно зачем. В груди у пристава запекло, будто там загорелся огонь, и он тут же возненавидел Шиловского как самого наипервейшего своего врага.
Этот умник хочет перейти ему дорогу! Шиловский решил отстранить пристава от расследования, чтобы не делиться. Накося, выкуси! Пристав едва не скрутил смачную дулю, чтобы плюнуть на нее, как учила его родная бабка-ворожея, да вовремя спохватился: все-таки присутственное место, кругом приятные благовоспитанные мамзели в шелках и кринолинах…
Торопливо допив кофе, который теперь по вкусу напоминал ему касторку, настоянную на горелой резине, он расплатился и как ошпаренный покинул кофейню «Люрс и Штифер». Семиножко торопился на встречу со своим самым способным и деятельным агентом, которого пустил по следу Васьки Шныря. Он дал ему на расходы полста и посулил в случае удачи добавить еще «катеньку».
С агентом пристав встречался на конспиративной квартире, которая была домом свиданий. В этом доме на втором этаже жила так называемая «полушелковая» проститутка по имени Секлетея, или — по-простому — Секлета, скрывающая свое ремесло под вывеской акушерки. Естественно, ей приходилось принимать клиентов только днем, но от этого она сильно не страдала.
Закончив свои дневные заботы, Секлета вливалась в «сливочный» слой киевских проституток — «дам с девочками». Эти «барышни» маскировались под порядочных женщин, используя для прикрытия хорошенькую девочку под видом дочки. Разумеется, ребенка они брали напрокат для прогулок в людных местах, посещений кафе и ресторанов.
«Военная хитрость» срабатывала стопроцентно: охотников завести интрижку с красивой замужней дамой было куда больше, нежели платить за ласки навязчивой проститутки. Вечером «дама с девочкой» Секлета превращалась в интересную, загадочную вдову Селестину, которую переполняла скорбь по мужу-офицеру и дворянину, героически погибшему где-то под Перемышлем или в Карпатах.
Знакомый образ: «…Всегда без спутников, одна, дыша духами и туманами, она садится у окна. И шляпа с траурными перьями, и в кольцах узкая рука…» Мрачный креп, густая вуаль, опущенная на лицо, придавали Секлете-Селестине строгий, неприступный вид, который притягивал к себе искателей острых ощущений со страшной силой.
А утром «вдовушка» Селестина в шелковых панталончиках с шитьем, сладко потягиваясь, брала с туалетного столика несколько десятирублевых банкнот и забывала навсегда имя вчерашнего воздыхателя. Следующим вечером ее снова можно было увидеть в другом парке или дорогом ресторане с очередным респектабельным поклонником, которому она рассказывала по новой все ту же «скорбную» историю.
Нужно отметить, что талант у Секлеты был и впрямь незаурядный. Она сводила с ума мужиков не раз. «Тебе бы в актрисы податься», — говаривал ей восхищенный Семиножко. Секлета лишь загадочно посмеивалась.
Она не была его агентом, но иногда, как бы походя, сообщала ему весьма интересную и даже ценную информацию. К сожалению, воспользоваться этой информацией в полной мере Семиножко не мог — не тот уровень; Секлета вращалась в кругах, которые были гораздо выше того «дна», где хозяйничал пристав. Ее клиенты были не ниже чина коллежского секретаря. (Если, конечно, не считать господ офицеров военного времени; многие из них были с деньгами, но не имели дворянского звания.)
Иногда Семиножко подумывал: а не передать ли Секлету в распоряжение Шиловского? Надзиратель и помоложе, и посимпатичнее, к тому же умен, красноречив. Он мог бы использовать Секлету-Селестину на полную катушку.
Но, немного поразмыслив, он решал: пусть будет, как есть. Тем более что ее квартира была идеальным местом для встречи с агентами. Местный городовой, конечно, знал, чем занимается Секлета, но Семиножко строго-настрого приказал ему оставить барышню в покое. Так они и сосуществовали к обоюдной выгоде — неприкасаемая властями проститутка и полицейский пристав в виде «крыши».
Секлету пристав застал в неглиже. Видимо, ночь у нее выдалась бурной, потому что вокруг постели были разбросаны не только предметы дамского туалета, но и бутылки из-под шампанского, обертки шоколадных конфет и даже кредитки. Наверное, очередной обожатель Секлеты-Селестины по пьяной лавочке осыпал ее деньгами.
— Пу-упсик… — томно простонала Секлета. — Как ты не вовремя… Я не готова выйти на Крещатик в таком виде. Дай мне еще пару часов…
— Еще чего! — освирепел Семиножко, который был под впечатлением своих догадок. — Бери свою пухлую задницу в горсть и быстренько выгребайся отсель. Мне тут недосуг с тобой препираться. У меня работа. Даю тебе на сборы ровно тридцать минут. Понятно?! — рявкнул он, для большей убедительности пнув ногой пустую бутылку.
Она отлетела в сторону как мяч, едва не угодив в небольшую статую древнегреческой богини Афродиты из белого паросского мрамора (она стояла в углу спальни), которую приволок ей в подарок, как уже знал Семиножко, один отставной генерал. Он посещал любвеобильную Секлету два месяца, пока у него не случился инфаркт во время исполнения мужских обязанностей.
Пришлось Семиножко лично отвезти его в больницу, чтобы не засветить свою конспиративную квартиру. Иначе к Секлете было бы много вопросов, а к приставу — еще больше. Особенно со стороны вездесущих бумагомарак-газетчиков.
Секлета соскочила с кровати как ошпаренная. Она уже знала, что своему благодетелю лучше не перечить. Спустя полчаса за ней закрылась дверь парадного. Семиножко посмотрел на часы и с удовлетворением кивнул своей головой-тыквой — как раз вовремя. Он прислушался: на лестнице черного входа послышались шаги.
Агента пристава кликали Ванька Золотой Зуб. Это была известная личность в воровском мире Киева, своего рода легенда. Он был гопником[45], но дешевого пошиба. Ванька работал по мизеру. Хорошо подпив, — наверное, для храбрости — он прямо на людной улице подходил к какому-нибудь хорошо одетому господину, провожавшему даму, и говорил ему с таинственным видом:
— Мусью, на два слова.
А когда недоумевающий господин, оставив свою даму, отходил в сторону, Золотой Зуб самым решительным тоном высказывал категорический ультиматум:
— Рупь или в морду!
Обычно дело до мордобития не доходило…
«Рупь или в морду» сделали Ваньку знаменитым. Многие потом пытались повторять этот трюк, но мало у кого он удавался без эксцессов. Наверное, Ванька Золотой Зуб был очень уж натурален в своем «выступлении». А возможно, он обладал даром внушения, присущим великим иллюзионистам и гипнотизерам. Как бы там ни было, но «рупь» ему отдавали беспрекословно.
Вообще-то Ванька был недооценен воровским сообществом. Это пристав знал наверняка. Золотой Зуб мог без особых усилий мимикрировать; он приспосабливался к любой обстановке. Ванька был убедителен как в костюме фраера, гуляя по Николаевскому парку, так и в облике босяка, жильца приднепровских яров.
Ванька начал «стучать» больше по свойству своей авантюрной натуры, нежели по какому иному случаю. Он любил ходить по краю. И при этом эффектно выставляться. А поскольку так можно было колобродить лишь на участке пристава Семиножко, то он и благодарил свою «крышу» доступным ему образом — сдавал блатных, большей частью жиганов; Золотой Зуб почему-то их недолюбливал.
— Шмара ушла? — спросил он, осторожно заглядывая в комнату.
— Ушла, ушла, — успокоил его пристав. — Внизу дверь замкнул, не забыл?
— Обижаете, Петр Мусиевич…
Сегодня Ванька был одет в рванину. Его черные быстрые глаза так и шмыгали по комнате, а сам он пребывал в постоянном движении.
— Да ты садись, садись… — поморщился Семиножко. — А то у меня начинает в глазах мелькать.
— Премного благодарствую, — изобразил из себя скромника Ванька и сел возле зеркала.
Пристав принимал Золотого Зуба в будуаре Секлеты. Здесь стояли удобные креслица и витал запах дорогих французских духов, что особенно импонировало Семиножко. У него было очень развито обоняние, и приятные запахи пристава пьянили.
— Ну давай, выкладывай, — нетерпеливо сказал Семиножко. — Узнал что-нибудь?
— А как же… — Ванька осклабился. — Нам ли не узнать… В ярах он скрывается.
— Где, в каких ярах? Точное место знаешь?
Приставу лучше, чем кому-либо, было известно, что отыскать человека в ярах — это все равно что найти иголку в стоге сена.
— А чего ж не знать? — Ванька с хитрым выражением быстро-быстро потер большим и указательным пальцами. — Про уговор не забыли?
— Сукин сын! Как смеешь?! — вскинулся было в гневе пристав, но тут же взял себя в руки; он знал, что в денежных вопросах Золотой Зуб непробиваем и угрозами его не испугаешь; придется платить. — Держи… — Семиножко достал портмоне и бросил на дамский столик сторублевую купюру. — Но смотри! Ежели соврал…
— Вы что, первый год меня знаете? Врать вам — себе дороже… — С этими словами Ванька спрятал «катеньку» в карман и продолжил: — Он обретается в землянке Овдокима с каким-то незнакомым хмырем. С виду — чистый грак. Не нашего поля ягода.
— Кто таков Овдоким?
— Грамотей. Шибко вумный. Как задвинет речугу, в башке звон начинается.
— Он что, политический?
— Нет. Дурковатый. Философ. Сбежал в босяки от хорошей жизни. Человек, грит, должон быть поближе к земле-матушке. В общем, безобидный человек. Никому зла не делает и жить не мешает. А приютил он Ваську Шныря по доброте душевной, безо всякого умыслу.
— Понятно… — Семиножко на некоторое время погрузился в размышления. — Вот что, Иван, надо тебе поучаствовать в одной нашей операции.
— Петр Мусиевич, вы… вы чего?! — оторопел Золотой Зуб. — Если наши засекут, что я ходил на дело вместе с фараонами, мне капут. Я, конечно, люблю вареные раки, но в гости к ним, на дно Днепра, мне как-то не по фарту.
— Надо, Ваня, надо! Наденешь машкару, приклеишь усы и бороду, возьмешь в руки клюку — и никакая собака тебя не узнает. Ты ж артист, все можешь, — польстил пристав мазурику.
— Ну ежели так… — Ванька Золотой Зуб все еще пребывал в сомнениях. — И все равно я боюсь.
— Ты будешь отдельно от остальных. Твоя задача — проследить за Васькой и вовремя дать нам знак, когда он выползет из норы.
— Так вы в ярах брать его не будете? — оживился Ванька.
— Нет.
— Тогда другое дело. А чего ж не подать знак — подам. Это запросто.
— Вот и хорошо. Но только не вспугни Шныря! Он хитрый и ушлый. Заметит слежку — забьется еще глубже, в такую нору, что нам оттуда никогда его не достать.
— Понял я, понял. Да, Шнырь — известный хитрец. Но и мы не лыком шиты. Все сделаем, Петр Мусиевич, как надо.
— А теперь слушай…
И пристав начал излагать Ваньке свой план.
Глава 16 2007 год. Покушение
Оставив машину на стоянке, Глеб направился на Крещатик пешком. Ему очень хотелось увидеть «Майдан нэзалэжности», ставшим в одночасье знаменитым на весь мир из-за «оранжевой» революции, бурлившей здесь в 2004 году.
На Андреевском спуске людей было много — как во время большого праздника. Стараясь не выделяться из толпы (а то еще примут за «москальского» шпиона и намнут холку), он шел неторопливой походкой, предаваясь воспоминаниям детства и с интересом наблюдая за происходящим.
Действо было хорошо знакомо ему по многочисленным телевизионным передачам. Как он уже знал, шла вторая фаза «революции», затеянной уж точно не в небесной канцелярии. Президент распустил своим указом Верховную раду, и теперь политические силы мерялись амбициями с помощью «электората».
Спустя какое-то время Глеб сообразил, что лучше всего занять нейтральную позицию. Он шел по довольно узкому пространству между двумя противоборствующими сторонами, которые толпились с разноцветными флагами и транспарантами, и, как приснопамятный генсек Брежнев, механически делал ручкой и тем и другим.
При этом Глеб приятно улыбался, кивал и всем своим видом давал понять, что где-то глубоко в душе он принадлежит к сочувствующим революционным веяниям, но пока еще не определился с выбором стороны. Такая двойственность импонировала собравшемуся на Майдане народу, и все наперебой приглашали Глеба встать в их ряды.
«Революционеров» разделяли две тонкие цепочки стражей порядка, на лицах которых можно было прочитать тоскливую обреченность, неземное страдание и вопрос: «Доколе?!» Похоже, киевским ментам революционные события уже надоели дальше некуда. И, будь на то их воля, они бы выбрали третью сторону, которая характеризуется лозунгом «Моя хата с краю». Он был придуман украинским крестьянством в годы Гражданской войны и не утратил актуальности до сих пор.
Немного потолкавшись среди возбужденного люда, Глеб благоразумно решил не искушать судьбу и зашел в какое-то кафе, чтобы немного отдохнуть от жары и выпить чашку кофе. Его обслужили быстро, и он с наслаждением расслабился в прохладе, исходившей от мощного кондиционера.
— Здравствуйте, уважаемый Глеб Николаевич!
Провались в этот момент под ним пол, и то Тихомиров-младший так не удивился бы, услышав в общем-то обычное приветствие. Он резко повернул голову и увидел немного ненатуральную улыбку незнакомого господина средних лет, который, несмотря на жару, был одет в светлый летний костюм, явно сшитый не на фабрике «Большевичка».
— День добрый, — с трудом проглотив неожиданно образовавшийся в горле ком, вежливо ответил Глеб.
Господин, не дожидаясь приглашения, сел напротив Глеба и попросил мгновенно подлетевшего официанта принести ему какой-нибудь прохладительный напиток.
— Удивлены? — спросил он, продолжая улыбаться.
— Не так, чтобы очень… — ответил Глеб, постепенно успокаиваясь. — Однако странно…
— Что именно?
— По-моему, мы с вами не знакомы.
— Это легко поправить. Позвольте представиться — Кристиан Боже.
— Вы француз?
— В некотором роде… — господин снова оскалился. — В двадцать первом веке национальность можно считать пережитком прошлого. Нынче мы все космополиты.
Он говорил по-русски с заметным акцентом, но фразу строил правильно. «Похоже, — подумал Глеб, — господин Боже — потомок русских эмигрантов первой волны. Мамаша, скорее всего, какая-нибудь русская княжна, а папахен — захудалый французский дворянчик». То, что Кристиан Боже «голубых кровей», можно было определить по его манерам.
— Есть такая теория, — ответил Глеб. — Но откуда вам известно мое имя?
— Как можно человеку, который серьезно занимается историей Западной Европы, не знать Глеба Тихомирова? Ваша книга по древностям Меровингов[46] считается одной из лучших по этой теме.
— Ну, это преувеличение… — не дал себя обольстить Глеб. — Моя монография не может считаться полноценным историческим трудом.
— И тем не менее в научных кругах Франции ее заметили. У меня есть сведения, — тут голос господина Боже стал вкрадчивым, будто он сообщал некую тайну, — что Французская академия предполагает номинировать вас на кавалера ордена Почетного легиона[47]. Да-да, Глеб Николаевич, именно так! И у меня есть уверенность, что это может случиться… в ближайшем будущем.
«Леща кидает, — вдруг понял Глеб. — А что, носить в петлице знак ордена Почетного легиона — это вам не хухры-мухры. Все мои недоброжелатели подохнут от зависти. Однако же какую услугу я должен оказать Франции в лице мсье Боже, чтобы удостоиться столь высокой чести? Мне как-то не очень верится, что моя книжонка произвела во Французской академии такой фурор…»
Ему вдруг показалось, что он знает ответ на этот вопрос, но Глеб тут же напрочь выбросил из головы все свои сомнения и подозрения. Разговор еще не окончен…
— Я буду польщен, — коротко ответил Глеб, испытующе глядя на господина Боже.
— Это большая честь, Глеб Николаевич, — с нажимом сказал француз. — Перед вами будут распахнуты все научные горизонты. Вас будут приглашать читать лекции в лучшие университеты Европы и Америки, ваши труды переведут на все языки цивилизованного мира. Многочисленные интервью, статьи в солидных журналах и газетах, передачи по телевидению… Вы станете знамениты! Надеюсь, вы не равнодушны к славе? Конечно же нет. В нынешние времена слава и широкая известность дорогого стоят.
— Кто бы спорил… — Глеб благодушно улыбнулся.
И подумал: «Гладко стелет, ах как гладко! Так и хочется ему поверить и сдаться без боя. Змей-искуситель… Только вот, похоже, господин Боже не знает, что в подпольной археологии слава, а тем более широкая известность как раз и ни к чему. Меряет на свой аршин… Говорил же я бате: на хрен мне нужна эта кандидатская?! Пришлось статьи и книги писать… Вот и засветился. И все-таки, куда он гнет?»
— Я вижу, вы мне не верите, — сказал господин Боже, уколов Глеба всепроникающим взглядом исподлобья.
— Как раз наоборот. Верю. Вот только не могу понять, что вам нужно от меня конкретно. Давайте начистоту, господин Боже. Мы не мальчики, чтобы стесняться запретных тем.
— Приятно иметь дело с умным человеком, — ответил француз и, склонившись к столу, тихо молвил: — Оставьте вашу затею с Китаевской пустынью.
Глеб даже бровью не повел. Он смотрел на Боже стеклянными, ничего не выражающими глазами. А в голове билась одна-единственная мысль: «Я так и знал… Я так и знал…»
— Почему вы молчите? — Кристиан Боже нетерпеливо скомкал салфетку.
— Жду, когда вы наконец выложите все свои карты на стол.
— Да-да, вы правы. Есть еще один момент…
— Ну и?..
— Мне нужен план. Тот, который вам передал господин Ципурка.
Глеб неожиданно для француза рассмеялся — весело и непринужденно.
— Я сказал что-то веселое? — мрачно спросил Боже.
— Отнюдь. Господин Боже, мне кажется, что вы с кем-то меня перепутали. Во-первых, я приехал в Киев, чтобы навестить старого друга. Во-вторых, меня интересует Китаевская пустынь точно в такой же мере, как и Киево-Печерская лавра, — я ведь историк, с вашего позволения. А в третьих, если вы родственник деда Ципурки, я могу лишь высказать вам свои соболезнования. Он был достойным человеком. Но в свои планы дед Ципурка меня никогда не посвящал, так как мы с ним в какой-то мере были конкурентами. И что это за план, о которым вы говорите, я понятия не имею. Вот и весь мой сказ.
— Подумайте, Глеб Николаевич, хорошо подумайте… — в голосе господина Боже прозвучала скрытая угроза. — Вы человек надежный, умеете хранить тайны, поэтому я открою вам один секрет — этот план принадлежит одному обществу, имеющему большое влияние не только во Франции, но и во всем мире. Вам не стоит сражаться с ветряными мельницами. Это чревато. Если вы считаете, что ордена Почетного легиона для вас маловато, то поговорим о дополнительной оплате. Называйте сумму, не стесняйтесь. Вышеуказанное общество имеет огромные капиталы.
— Ах, господин Боже! Как я хотел бы пойти вам навстречу. Кому не нужны деньги? В наше-то время… Я бы не отказался. Но, увы, мне нечего вам предложить. Вас кто-то ввел в заблуждение. Повторяю: нет у меня никакого плана. Но если когда-нибудь он попадет мне в руки…
— Достаточно! — взбешенный француз вскочил на ноги. — Вы отдаете себе отчет?.. — у него не хватило слов, и он умолк, задыхаясь от внезапного гнева.
— Помилуйте, господин Боже. Что это с вами? — Глеб изобразил удивление и сочувствие. — На вас лица нет. Неужели я чем-то вас обидел?
— Нет… Нет, все нормально… — Боже взял себя в руки и стал холоден, как лед. — Позвольте откланяться. — Он вдруг мрачно осклабился. — И мой вам совет: будьте осторожны. В Киеве сейчас и ходить, и ездить небезопасно. Революция, знаете ли… Случаются разные эксцессы. Берегите себя. До свидания.
— Спасибо вам на добром слове, — твердым голосом ответил Глеб. — Прощайте, господин Боже.
Кристиан Боже вышел из кафе с высоко поднятой головой. От него прямо-таки несло флюидами аристократичности. «Нашел где демонстрировать свое превосходство над “черной костью”, — неодобрительно подумал Глеб. — Братья-украинцы могут и не понять, в чем заключается это превосходство, и надавать по шее…»
Он некоторое время сидел, тупо уставившись в пустую чашку. Все стало предельно ясно. Спасибо тебе с кисточкой, чертов дед Ципурка! Всучил подарочек…
Но, с другой стороны, в Глебе неожиданно взыграло ретивое. Значит, он прав! Если уж за тем, что спрятано под крестом, который начертан на плане, ведется такая охота, то в Китаевской пустыне и впрямь может находиться что-то очень ценное. Но что именно? Поди знай…
Ремарку господина Боже насчет «общества» Глеб понял сразу. Это или новоявленные тамплиеры, или масоны, или отцы-иезуиты, которые тихой сапой пробрались в двадцать первый век из мрачного Средневековья. Действительно, бабок у этих господ хватает.
Надо было запросить пару миллионов «зеленью», не без сожаления подумал Глеб. Интересно было посмотреть на реакцию этого «грозного» Кристианчика… А вдруг он дал бы согласие? Что тогда? Правильно говорят, что жадность фраера губит. Согласиться с предложением француза — значит признаться, что план в моем кармане. В кармане…
«Стоп! — мысленно воскликнул Глеб. — Надо срочно избавиться от копии плана! Я уже и так знаю, где рыть». Не откладывая дела в долгий ящик, он быстро расплатился и прошел в туалет. В одной из кабинок Глеб порвал план на мелкие кусочки и спустил их в унитаз.
Избавившись в туалете от плана, а также облегчив в чисто физиологическом плане душу, которая иногда опускается ниже пояса, Тихомиров-младший поторопился к своей машине. У него вдруг прорезалась идея — что-то сродни наитию. Глеб вдруг придумал, как можно, образно выражаясь, съесть яйцо, не разбив скорлупы.
Он ехал и весело напевал какой-то легкомысленный мотивчик. Глеб думал, что дело оставалось за малым — уговорить Игнатия Прокоповича.
Тихомирову-младшему вдруг вспомнились вечерние посиделки в саду под яблонями, когда они с отцом приезжали к дядьке Гнату в гости. Много чего было проговорено в те вечера — начиная с дел житейских и заканчивая политикой. Но особенно запомнились ему рассказы Игнатия Прокоповича о военных годах — как киевские мальчишки играли в «партизаны» и прятались в Китаевских пещерах.
Однажды юный Гнат, устраивая «фрицам» засаду, провалился в глубокую яму, которая оказалась входом в неизвестный никому пещерный лабиринт. Понятное дело, пацаны тут же принялись его исследовать. Они нашли там человеческие кости, битую керамическую посуду и разный ненужный хлам. А когда одного из них завалило и его откопали едва живым, у мальчишек и вовсе пропал интерес к опасному лабиринту.
«По-моему, дядька Гнат говорил, что подземные ходы идут в направлении монастыря… — вспоминал Глеб. — Если это так, то надо уговорить Игнатия Прокоповича, чтобы он показал, где находится вход в этот лабиринт. Все верно — так и только так! Копать на виду у всех мне точно не позволят (да и какой смысл посвящать власти, пусть и церковные, в такие тайны? Даже если я там что-то и найду, мне достанется разве что шиш с маслом), а вот добраться подземными ходами до места, где предположительно находится клад, есть шанс».
Тут его мысли перескочили на француза, и он сразу же помрачнел. «Почему предположительно? Там точно что-то лежит. Притом очень ценное. Это же надо — орден Почетного легиона мне посулил. Нутром чую, что господин Боже не соврал. И куш с него можно было содрать приличный. Но, боюсь, этими денежками мне воспользоваться не пришлось бы. Общество, на которое намекнул французик, явно не принадлежит к благотворительным. А значит, очень рачительно относится к своим финансам и хорошо умеет хранить тайны. Как это выглядит на деле, и ежу понятно…»
Но главное заключалось в другом: наконец Глеб встретился с представителем тех темных личностей, которые устроили за ним слежку. В этом Тихомиров-младший уже не сомневался. Слежка, все эти видения в спальне, цыганка с ее предупреждением, чересчур любезный француз с возможностями олигарха…
Похоже, игра затеяна нешуточная. Мало того, от нее веет мистикой, чертовщиной, что очень странно. И все это вьется вокруг заурядной личности по имени Глеб Тихомиров, единственным достоинством которой является способность разгадывать различные исторические тайны. Но ведь в этом нет ничего дурного.
«А ведь француз на прощание мне угрожал, — встревоженно подумал Глеб. — Знать бы, насколько опасны эти угрозы…»
Ответ пришел значительно раньше, чем он мог предположить. Впереди двигалась тяжело груженная фура, которая еле ползла. Глеб попытался ее обогнать, но не тут-то было. Водила — наверное, молодой парень — похоже, решил пошутить над лохом, который сидел за рулем старой «волжанки». Едва Глеб добавлял скорость, как он тут же перекрывал дорогу.
«Вот сволочь! — ярился Тихомиров-младший. — Набить бы ему морду! Но, поди, достань этого сукиного сына…» Так они играли в бесконтактные салочки минут десять, пока фура не вошла в поворот. Тут уж ее водитель перестал нарушать правила движения и начал строго придерживаться своей полосы.
Облегченно вздохнув, Глеб дал по газам и пошел на обгон, едва поворот остался позади. Он уже видел в кабине фуры угрюмое лицо водителя, который, вопреки ожиданиям, был совсем не молод и который посмотрел на Глеба с непонятной свирепостью, когда перед «волжанкой» словно из-под земли вырос КамАЗ. Грузовик несся на большой скорости.
«Это конец…» — мелькнуло в голове Глеба, и он в полном ступоре едва не бросил рулевое колесо, потому что уйти от лобового столкновения, как ему показалось, не было никакой возможности. Но тут какая-то неведомая сила заставила его покрепче сжать руль. Совершенно не соображая, что делает, Глеб проделал фантастический трюк: поставил машину на два левых колеса и проехал так метров двадцать.
Наверное, «волжанка» избежала бы столкновения с КамАЗом, но на мысли у водителя грузовика было кое-что другое. Поравнявшись с «Волгой», он резко переложил руль и столкнул машину Глеба под откос.
Дальнейшие мелькания Тихомиров-младший не запомнил. Машина катилась как колобок, и Глеб, пристегнутый к сиденью ремнями безопасности, болтался в ней будто яичный желток в миксере. В конечном итоге (так ему показалось) его совсем размазало по стенкам, и он на какое-то мгновение отключился.
А когда очнулся, то с удивлением констатировал, что «волга», вопреки его опасениям, целехонька (по крайней мере, внутри салона) и стоит на всех четырех колесах. Правда, находилась она не на дороге, а в самом низу откоса, на вспаханной полосе шириной метра четыре, которая отделяла лесонасаждение от шоссе.
Аварию заметили. На дороге остановился джип, из которого вышли два крепких парня. Они уже хотели спуститься вниз, но неожиданно их позвали, и парни быстро возвратились. Взревев мотором, джип резво сорвался с места и вскоре превратился на горизонте в черную точку.
Место джипа занял темно-серый «фольксваген». Глеб с удивлением отметил, что в нем ехали монахи. Один из них подошел к Тихомирову-младшему и с участием спросил:
— Что с вами? Вы целы?
— Как будто…
Кряхтя, словно столетний старец, и болезненно морщась, Глеб выбрался из салона и распрямился. В спине что-то хрустнуло, и боль мгновенно ушла. Он посмотрел на «волжанку» и покачал головой — это же надо так… Наибольший урон понесла крыша салона, которая немного примялась, да краска на дверях была поцарапана. «Танк, а не машина!» — восхищенно подумал Глеб.
— Может, вас отвезти в больницу? — допытывался монах.
Глеб подвигал руками и ногами, несколько раз присел и наконец ответил:
— Спасибо, не надо. Кажись, я в норме.
— А как машина?
— Момент…
Глеб сел за руль и включил движок. Он недовольно чихнул несколько раз, а затем заработал мощно и ровно.
— Доеду, — сказал повеселевший Глеб. — Благодарю за участие.
— Храни вас Господь, — коротко молвил монах и начал подниматься по крутому откосу к «фольксвагену».
Посмотрев ему вслед, Глеб невольно подивился той спортивной легкости и непринужденности, с которой монах преодолевал препятствие. Он буквально взлетел наверх.
«Такое впечатление, что этот монах несет свой крест не в православном монастыре, где приходится постоянно соблюдать посты, а в Шаолине[48], — подумал Глеб. — Хорошо кормлен и здоров как бык. И похоже, отлично натренирован. Наверное, состоит в охране какого-нибудь церковного владыки».
Чтобы выбраться на шоссе, Глебу пришлось проехать около километра по пахоте. Занятие было не из приятных, к тому же несколько раз глох мотор — наверное, из вредности, — но затем все невзгоды Тихомирова-младшего были компенсированы приятной прохладой, которую принесли дождевые тучи. Глеб не старался посильнее нажимать на акселератор, ехал медленно и полной грудью вдыхал свежий предгрозовой воздух.
Он ехал и мысленно благодарил своего ангела-хранителя. Его хотели убить, имитировав дорожное происшествие. Это факт. И потом этот джип… Глебу показалось, что в глубине салона мелькнуло бледное лицо господина Боже.
Возможно, он ошибался. Но с такими физиономиями, как у тех двух парней из джипа, идут не с намерением помочь участнику ДТП, а чтобы добить его. В этом Глеб почему-то был совершенно уверен.
Молния раскроила темно-синее небесное полотнище на две половины, раздались раскаты грома, и полил сильный дождь. Глеб нервно закурил и мысленно подбодрил себя хорошо запоминающимся стихотворным лозунгом, который он услышал сегодня на Майдане от «оранжевых»: «Нас тэпэр багато, нас нэ подолаты!»
К сожалению, у него, в отличие от украинских «революционеров» всех мастей, не было команды, и Глебу ничего не оставалось, как надеяться на Госпожу Удачу.
Глава 17 1915 год. Схимник Тит
Тиха и темна Китаевская пустынь в ночное время. Схлынули толпы паломников, поразбрелись кто куда, ушли, как днепровская вода в песок, уснули монахи после трудов праведных, и только в маленькой келье, обустроенной у входа в пещеры, трепещет огонек одинокой свечи. Там молится схимник Тит. Все желающие посетить Китаевские пещеры должны были получить его благословение и проходили вглубь через внутреннюю дверь кельи.
Сегодня Тит чувствует какое-то волнение. По мере приближения полуночи оно лишь усиливается, несмотря на истовые молитвы старца.
Жизнь схимника полна лишений и тягот, но он не ропщет. Тит не боится ни воров, ни злоумышленников, время от времени забредающих к нему на огонек; несколько раз его даже избивали до крови. Страх для монаха-схимника — чувство иррациональное, которое пасует перед верой.
Но что-то мешает ему полностью сосредоточиться и погрузиться в состояние транса, когда он произносит слова молитв. Тит чувствует какое-то отторжение, отстранение его молитвенных посылов от невидимых взору энергетических каналов, уходящих в небеса, и его вдохновенный запал постепенно угасает.
«Изыди, нечистый!» — шепчет старец и, кряхтя, поднимается с колен. Спаситель смотрит на него с потемневшей от времени иконы каким-то странным взглядом — испытующе, с примесью жалости. Пораженный старец всматривается в икону и не может понять, что случилось. До этого лик Христа был суров и возвышен. Теперь же в нем отчетливо просматриваются чисто человеческие черты.
Испуганный Тит крестится троекратно, и в этот момент едва тлеющая свеча выбрасывает вверх длинный язычок пламени, в келье становится светлее, и монах немного успокаивается — икона опять превращается в обыкновенную старинную парсуну, а Спаситель снова приобретает загадочно-отстраненный вид.
Тит садится ужинать. Еда у него проста: кусок ржаного хлеба, луковица, соль и кружка воды. Зубов у Тита уже маловато, и он ест зачерствевший хлеб, макая его в воду. Неожиданно темнота у входа в келью как бы сгустилась. Тит невольно вздрогнул и поднял руку для крестного знамения:
— Спаси Господь…
— Нынче Господь спасает лишь тех, кто богат и знатен, — раздался от входа насмешливый, немного скрипучий голос, и на пороге кельи появился низкорослый мужчина, почти карлик, одетый во все черное.
Тит вскочил с колченогого табурета и замахал на него руками.
— Опять ты?! Сгинь, нечестивец! — вскричал он в большом волнении.
— Да, да, старый пень, это опять я… — карлик, брезгливо морщась, присел на земляную лежанку — ложе схимника, прикрытую какой-то рванью. — Только не нужно мне тут устраивать театр, выпячивая свою исключительность. Я не покушаюсь на твою веру. А тем более на твою душу. Каждому свое. Во все времена хватало глупцов, которые что только не делали, лишь бы выпятить свое «я» перед Богом, дабы он заметил их и возвысил. Во времена крестовых походов некий Макарий, например, жил на столбе, и, когда с его грязного, никогда не мытого тела падали черви, он подбирал их и навешивал обратно, говоря при этом, что сии создания Божьи тоже имеют право на радость жизни. В тупых головах таких полоумных бездельников никак не могло вместиться понятие, что самое возвышенное — это каждодневный труд на благо своей семьи и общества… — незваный гость говорил с иноземным акцентом.
— Дьявол, дьявол!.. Не искушай меня, прочь, прочь!
— Ну, заладил… — карлик сокрушенно вздохнул. — Как заезженная граммофонная пластинка. Не собираюсь я тебя искушать. Скорее наоборот — хочу предостеречь. Я знаю, ты большой любитель шастать по ночам (бессонница, понятное дело) и при этом частенько заходишь на погост. Место присматриваешь, что ли? Так вот, сегодня туда не ходи. Иначе твоя мечта никогда не сбудется. Ты умрешь раньше времени.
— Тебе известна моя мечта? — спросил Тит, злобно глядя на карлика.
— Она у тебя на лбу написана.
Тит машинально прикоснулся к голове, но тут же резко отдернул темную заскорузлую руку.
— Ты хочешь обустроить в Китаевской пустыне пещерную церковь, — между тем продолжал карлик. — Могу тебя немного обрадовать: скоро сюда явится купец… кажись, из Рыбинска, и подарит для будущей церкви иконостас.
— Откуда знаешь? — быстро спросил приободрившийся Тит.
— Сорока на хвосте принесла, — ответил карлик. — Это не суть важно. Главное, чтобы ты сегодня почивал на своем схимническом ложе и не совал свой длинный нос в те дела, которые тебя не касаются.
— Опять будете устраивать на погосте сатанинский шабаш? — с ненавистью спросил Тит.
— А это не твоего ума дело… — карлик встал и указал на сверток, который он принес с собой и оставил на лежанке. — Там есть все то, от чего ты давно отвык. Устрой себе маленький праздник. Ешь, не бойся, я не отравитель. Est deus in nobis[49]. Запомни эти слова… если, конечно, тебе известна латынь и ты понял, что я сказал.
С этими словами карлик вышел в ночь, оставив после себя, как это ни удивительно, не запах серы, а терпковатый аромат французской туалетной воды, совершенно неуместный в келье схимника.
Тит долго смотрел ему вслед и бормотал слова молитвы. Затем неуверенно подошел к своему ложу и развернул сверток. В нем находились продукты, притом все дорогие и свежие: ситный хлеб, две сладкие булки, копченая венгерская колбаса, буженина, белорыбица и бельгийский шоколад. Все это гастрономическое великолепие дополняла бутылка монастырского кагора.
Первым порывом Тита было намерение выбросить подношение карлика, но ситный источал такой вкусный запах, что схимник не удержался, отщипнул кусочек и торопливо прожевал. Глядя голодными глазами на продукты, Тит после некоторого раздумья решил, что если это искушение, то никогда не поздно замолить этот небольшой грех. Ведь до сих пор он не страдал чревоугодием.
Но потом на него опять напали сомнения, и Тит уподобился коту, который смотрит на хозяйское сало и лишь облизывается от вожделения: и съесть охота, и рука у хозяина больно уж тяжела…
Однако оставим схимника в его убогой келье и попытаемся найти Ваську Шныря и Петрю Лупана. За трое суток, что они провели в обществе Овдокима, бедный молдаванин едва не тронулся умом. Ученый босяк задвигал по вечерам такие длинные и витиеватые речи, что Петря совсем ошалел. Иногда ему начинало казаться, что его голова вот-вот лопнет от большого количества незнакомых понятий.
Что касается Васьки, то он лишь посмеивался. Или у него башка была такая дубовая, что в нее не проникали Овдокимовы словеса, или он уже привык к подобным «лекциям», потому как ему больше приходилось общаться с босяком.
Иногда к костру подходили другие обитатели землянок в ярах, и тогда Васька и Петря старались держаться в тени и не вступали в общий разговор. Такое поведение у босяков удивления не вызывало. Они умели уважать индивидуализм и свободу. Не хочешь — не говори, насильно за язык никто тянуть не будет.
Нужно сказать, что и Васька, и Петря здорово измаялись за эти дни. Шнырю пришлось смотаться в Киев, чтобы договорится с Чугуном о времени, когда они пойдут на дело. Эта вылазка была для Васьки большим испытанием. Ему чудился за каждым поворотом фараон, и Шнырь едва сдерживал себя, чтобы не потерять голову и не дать стрекача, так и не встретившись с Климом.
Но все обошлось наилучшим образом, и подельники повеселели. Но в то же самое время их начала пробирать дрожь — близился миг, которого они так ждали.
— А если твой план — туфта? — не раз и не два вопрошал Васька.
— Фома неверующий! — сердито восклицал Петря. — Разве ты не видишь, какой шум поднялся вокруг нас? Дураку понятно, что это неспроста.
— Графчик, сука, заложил… — белел от бессильной ярости Шнырь. — Его работа. И нашим, и вашим. А братва все думает да гадает, почему это фараоны никак не подметут Федьку? Стучит, падла… Ну ничего, дай дело сладить. Шепну кому следует, пусть Графчика вызовут на правилку. Посмотрим, как он будет вертеться со своим Серегой Матросом.
— Если найдем клад, — рассудительно сказал Петря, — то первым делом нужно будет разделить его на три части и ноги из Киева побыстрее унести.
— И то правда… А план-то у тебя где?
Этот вопрос постоянно крутился у Васьки на языке.
— На месте, — сердито отвечал Петря.
— На кладбище, что ли? — строил догадки вор.
— Угу. Под надгробием… — Петря едва сдерживался, чтобы не рассмеяться.
Лупану не нужен был никакой план. Заветную могилку с кладом он запомнил накрепко. Однако и бумажку с планом Петря не выбросил, а зашил ее в подошву ботинка, предварительно упаковав в большой рыбий пузырь — чтобы не намочить, если придется брести по лужам.
За свою обувь он не сильно переживал. Ботинки у него были старые, порядком изношенные, поэтому на них мог позариться разве что нищий или бродяга.
Но все равно во время сна Петря клал ботинки себе под голову, что тоже не было чем-то из ряда вон выходящим — так делали все босяки, и Васька в том числе. Обувь берегли, потому что у многих она была главной ценностью. Петря, как и почти все небогатые мещане, за городом ходил босиком, перекинув связанные ботинки через плечо, и надевал их, лишь ступив на мостовую.
Яры они покинули под вечер, но еще засветло. Петря было заупирался (опасно ведь: а ну как заметят?), но у Васьки был свой резон. «Ты хоть представляешь, сколько нам до Китай-горы топать? — спросил он с ноткой превосходства в голосе. — Мы туда пехом и до рассвета не доберемся. Не боись, проскочим, держи хвост пистолетом. Постараемся найти извозчика…»
Шнырь храбрился, но на самом деле от разных нехороших мыслей и предчувствий на душе у него кошки скребли. А тут еще извозчик им попался соответствующий Васькиному настроению — угрюмый бородатый мужичище с совершенно разбойничьей физиономией.
На вопрос, как он смотрит на то, чтобы отвезти приятелей в Китаевскую пустынь, извозчик хмуро зыркнул на них исподлобья и ответил: «Я куда угодно поеду, барин. Лишь бы деньгу платили». Уже один этот ответ настораживал. На ночь глядя в сторону Китай-горы извозчики ездить боялись, и их долго приходилось уговаривать.
Некоторые из них распространяли слухи, что в эти святые места в ночное время суток не пускает нечистая сила, а менее суеверные говорили, что по дороге в пустынь балуют грабители, которые для пущего эффекта надевают маски и вымазывают одежду фосфором, светящимся в темноте.
Пока они ехали, Шнырь время от времени украдкой оглядывался: не следует ли кто за ними? Однажды ему показалось, что двуколка, в которую была впряжена пегая лошадка, чересчур долго едет вслед за ними, никуда не сворачивая. Она находилась далеко позади, но у Васьки было потрясающе острое зрение. Он даже в темноте мог хорошо видеть.
Однако спустя полчаса двуколка с пегой лошадью куда-то пропала, и Шнырь успокоился. Теперь он сосредоточил все свое внимание на неторопливо проплывающих мимо них лесных зарослях. В наступивших сумерках ему чудились чьи-то недобрые глаза, которые как бы перелетали с куста на куст.
«А что, могут и пришибить… — думал Васька. — Нонче народу шебутного пруд пруди. Все голодные и злые. Война…» Он совсем не удивился, когда вдруг извозчик громко сказал «Тпру!» и двуколка остановилась.
— Что случилось? — спросил Лупан.
Ему Васькины переживания были неведомы. У Петри в голове билась лишь одна-единственная мысль — побыстрее взяться за лопаты и раскопать могилку.
— Перекур, — пробасил извозчик. — К нам пожаловали контролеры.
— Кто это? — пискнул Шнырь, тело которого от страха мгновенно заледенело.
«Я так и знал… Я так и знал…» — думал перепуганный вор, мысленно готовясь ко всем египетским казням.
— Счас узришь…
Из темноты выступило несколько фигур. Лица грабителей (а это явно были не паломники) закрывали маски.
— Чаво надобно? — спросил извозчик.
— Гоните деньгу, да побыстрее, — с угрозой сказал один из грабителей, наверное атаман.
— Деньгу? А чего ж, можно, — спокойно ответил извозчик. — Ежели просят добрые люди, то отказать никак нельзя.
С этими словами он полез за пазуху и вытащил оттуда… «кольт»!
— Миром разойдемся, али как? — спросил извозчик, нацелив оружие прямо в грудь атамана.
— Э, да это Грицко! — раздался вдруг голос из темноты.
— Грицко? — атаман явно был обескуражен. — Это же надо так… Прости, брат, не признал, ошибка вышла. Езжайте с Богом.
Грабители мгновенно растворились в зарослях. Извозчик вернул «кольт» на прежнее место, причмокнул, сказал: «Но, скотина!», и двуколка опять попылила по едва видимой в темноте грунтовой дороге.
Бледный, как полотно, Васька перевел дух и нервно хихикнул. Петря, который так и не успел до конца осмыслить ситуацию, с облегчением отпустил рукоятку ножа и вынул руку из кармана.
Атаман разбойников, наверное, даже не представлял, как близко был от смерти. При всей своей внешней неуклюжести Лупан, когда нужно было, становился быстрым и ловким. Он уже готов был полоснуть атамана грабителей ножом по горлу и скрыться в лесу.
Петря не допускал мысли, что кто-то может стать между ним и кладом. Грабители были всего лишь досадной помехой вроде мухи на стекле, которую можно запросто смахнуть, и Лупан совсем их не испугался. Едва двуколка двинулась дальше, как он тут же выбросил их из головы и снова переключил мысли на ожидание близкого финала затеянного им предприятия…
Дальнейший путь обошелся без приключений. Васька щедро расплатился с извозчиком Грицком, добавив сверх уговора еще пять рублей. «Моя жизнь стоит значительно дороже», — решил вор и расстался с деньгами со спокойной душой.
Чугун уже ждал их с лопатами, ломом и веревками.
— Что-то вы припозднились… — сказал он недовольно, когда Васька познакомил его с Петрей.
— Была причина, — ответил Шнырь. — Нас едва не ограбили…
И он вкратце рассказал Климу о дорожном происшествии.
— Это Гусёк шустрит, — сказал Чугун. — Известный сукин сын. Богомольцев грабит. Он и моему хозяину однажды насолил. Надо бы его прикрутить, да руки никак не доходят. Чересчур много у него добровольных помощников. «Наводят» под процент. Ваш извозчик, похоже, один из них.
— А что полиция? — полюбопытствовал Петря.
— Фараонам такая мелюзга не в масть. Они больше работают по жиганам и политическим. Спроси Ваську, он лучше меня в этих делах смыслит.
Но разговор тут же и заглох, потому что впереди показались надгробия погоста. Все чисто механически ускорились, и спустя две-три минуты подельники уже стояли у входа на Китаевское кладбище.
— Ну, это… где? — спросил Васька дрожащим от возбуждения голосом.
— Идите за мной, — коротко бросил Петря и пошагал впереди, ловко лавируя между могилок.
Захоронение находилось почти в центральной части погоста. Петря зажег потайной фонарь — его тоже принес Чугун — и прочитал на одной из надгробных плит, отлитых из чугуна:
«Здесь погребено тело Блюстителя Ближних пещер иеромонаха Иеронима из казаков Полтавской губернии Игнатия Козодуба, поступившего в Киево-Печерскую лавру 18 Января 1837 года, с усердием трудившегося в разных послушаниях и с 1 Сентября 1855 г. по день кончины 23 Октября 1859 года бывшего Блюстителем. Скончался 46 лет от роду.
Духовнии мои братие и спостницы! Не забудьте мене егде молитися: но зряще мой гроб, поминайте мою любовь в молитве Христа, да учинит дух мой с праведными».
— Здесь, — сказал он уверенно, отсчитав от могилы иеромонаха три надгробия.
Надгробный камень, на который он указал, ничем не выделялся среди остальных. Он казался очень старым и ветхим. Надпись на нем практически исчезла под влиянием времени и смотрелась как обычная эрозия.
— Точно? — с кислым видом спросил Чугун.
Климу затея с поисками клада (да еще где — на погосте!) казалась пустой тратой времени. Он уже сожалел, что поддался на уговоры Васьки Шныря. Но тем и отличался Чугун от многих людей, что не брал свои слова обратно (дал слово — держи!), никогда не пасовал перед трудностями и не отступал от намеченной цели.
— Вот те крест, — ответил Петря, взяв в руки лопату. — Надо спешить. Не ровен час, заметит нас кто-нибудь…
— Разве что покойники, — с нервным смешком парировал Васька. — Но они тут все почти святые, а значит, смирные, так что бояться нам нечего.
Могилу раскопали быстро. Однако вместо цинкового ящика, как рассказывал Петре покойный Гришка, из земли показался обычный гроб. Никакого клада и в помине не было. Подельники вытащили гроб из ямы, открыли и в некотором смущении переглянулись — в нем находился, как и можно было ожидать, скелет, но не человека, а собаки.
— Нечистыя… — глухо сказал Клим и перекрестился, хотя и не был сильно богомольным. — Надо гроб зарыть и уходить отседа.
— Постойте! — вскричал Петря. — Я уверен, ящик здесь! Нужно копать глубже.
— Вот ты и копай, если тебе охота зря мозоли набивать, — пробурчал Чугун.
Васька колебался. Он верил Петре и не верил. Но тут ему на память пришли слова хозяина погребальной конторы Бабаяна, который сказал, что все копатели могил (вместе с соседом Петри, Гришкой) мертвы, и вор приободрился.
— Будем копать, — сказал он твердо больше себе, нежели Чугуну. — Дело верное, Клим. Петря прав. Ящик может лежать глубже. И, скорее всего, так оно и есть. Гроб поставили в могилу для маскировки.
Чугун что-то буркнул себе под нос (наверное, выругался) и взялся за лом, так как дальше пошла странная земля — тугая и неподатливая. Васька взял земляной ком, попытался растереть его в руках — не получилось, затем понюхал и радостно воскликнул:
— Вот сволочи! Ишь, чего умудрили. Смешали песок с мазутом. Значит, ящик там, — он с победоносным видом ткнул пальцем в яму, где оставался лишь один Клим.
Только ему было под силу выворачивать пласты склеенного мазутом песка, который одновременно стал жестким и упругим, как резина.
Спустя какое-то время из ямы раздался радостный возглас.
— Что там? — спросил Васька, заглядывая в яму.
— Металл! — пробасил Чугун; казалось, что его голос доносится с расстояния не менее версты, — все-таки могилка была очень уж глубокой.
— Ур-ра-а! — крикнул совсем обалдевший от радости Васька, но умудрился сделать это хриплым шепотом.
Петря вдруг почувствовал слабость в ногах и плюхнулся своим тощим задом на холмик свежей земли. «Значит, все правда, значит, Гришка не солгал, — подумал он как-то отстраненно. — Свечу в церкви поставлю ему за упокой. Пудовую. Не жалко…»
Пока вытаскивали на веревках из могилы цинковый ящик, все упарились. Он не был большим и сильно тяжелым (весил примерно два пуда, как определил Чугун), но вверх шел плохо — все время цеплялся за стенки ямы, будто не хотел покидать свою тайную обитель. Поставив ящик на землю между старинных надгробий, все молча сгрудились вокруг него, не решаясь вскрыть припасенной загодя пилой, предназначенной для резки металла.
Что в нем?!
Где-то неподалеку подала голос ночная птица. Ее голос пронесся над погостом словно стон кого-из упокоенных здесь монахов Китаевской пустыни и растворился в тишине; она вдруг стала осязаемо густой и вязкой, как тот самый мазут, который залили в яму вперемешку с песком.
Глава 18 2007 год. Авторитет
Дядька Гнат лишь цокал языком и крутил головой, пока Глеб рассказывал, как летел под откос. И только когда у Тихомирова-младшего иссяк словарный запас (это случилось довольно быстро; после аварии он почему-то скукожился едва не до размеров словаря Эллочки-людоедки из романа «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова), Игнатий Прокопович сказал:
— От ускочыв, так ускочыв…
— Угу, — хмуро буркнул Глеб. — Надо ремонтировать. Вы не беспокойтесь. Я все оплачу. Подскажите только адрес… как его?.. Ну да, рихтовщика.
— Та я не про это. Шо машина — железяка. Мои хлопцы сделают рихтовку задарма. Бо воны мне должны. А вот ты, казак, меня хвылюеш.
— Почему? Обычное дело — дорожная авария. Не надо было мне фуру обгонять, едва выйдя из поворота. Но у вас тут лихачи… КамАЗ пер со скоростью под сто тридцать кэмэ. Как только он не опрокинулся на повороте.
— Лихачи, говоришь? Ага, щэ й яки. То одного большого начальника по дороге размажут, то другого… и усё шито-крыто. Отак все и кажут — авария, дило случая. Той КамАЗ був на «волгу» нацелен. А фура вела тебя до поворота як дурного цуцика. Усе шоферы знают, шо там гиблое место. И нихто с большой скоростью не ездит.
— Может, чужой?.. — у Глеба все еще теплилась надежда, что авария — дело случая.
— Ага, чужой… Бо вси хохлы для вас, москалив, — дурни. Цэ в России есть якась там «птица-тройка», шо любить быструю езду. А мы народ поважный, куды нам спешить? Не, тэбэ хотилы вбыть.
Глеб промолчал. Что тут скажешь? Похоже, это господин Боже показал свои коготки. Вывод однозначен: охота пошла в открытую. Ее финал у француза уже не вызывает сомнений. Глеб приговорен.
А может, плюнуть на этот дурацкий план, «подарочек» деда Ципурки, и свалить домой? Если еще раз появится Боже, согласиться на его условия — и дело с концом. «Мало ли ты, друг ситцевый, находил разных артефактов, — думал Глеб. — Одним меньше, одним больше — какая разница? У тебя еще все впереди. В земле разного добра припрятано на многие годы поисков. А жизнь дороже любого клада… если только это не золото инков, которое им удалось спрятать от конкистадоров».
Так Глеб убеждал себя минут пять, пока Игнатий Прокопович о чем-то сосредоточенно размышлял. Наконец он подкрутил ус и спросил:
— А скажи мне, Глебушка, шо тоби у нас трэба? Тилько не брешы дядьку! Бо знаю я вас, молодых.
Сказать, не сказать… А если сказать, то какую порцию правды добавить? Отвертеться не удастся, это и ежу понятно. Дядька Гнат почище рыбы-прилипалы. Если уж втемяшится ему в голову какая-нибудь блажь, то ее оттуда и колом не вышибешь. Но, с другой стороны, может, это и к лучшему. По всему видно, что без помощи теперь точно не обойтись.
И все-таки до конца нельзя быть откровенным! Вдруг Игнатий Прокопович решит, что все найденное должно принадлежать Украине. Как тогда быть?
Любое правительство нацелено на то, чтобы ободрать человека как липку. А уж в таком случае — тем более. И дадут тогда Глебу за все труды фигу с прибором. Плюс грамотку, которой грош цена в базарный день. Таких грамот у них с отцом уже скопилось десятка два.
— Хочу немного поковыряться в Китаевских пещерах, — ответил Глеб. — Я ведь археолог. Впрочем, это вам известно.
— Тю на тэбэ! Шо ты там забув?
— Интересно…
— Та яки там пещеры? Метров сто вглубь, не больше. Туды экскурсии водят. Усё всем известно. И я там був… раз сто. По молодости. Всэ шукалы якись скарбы. А дэ воны там? В Кытай-горе тилько галерея и кельи схимников. Больше ничего. Все осмотрено-пересмотрено. Чи ты з глузду зъихав? Уже ж не маленький.
— Я говорю не о тех пещерах, которые все знают, — Глеб впился взглядом в лицо дядьки Гната. — Я имею в виду тот лабиринт, в который вы, будучи пацаном, провалились, играя в «казаки-разбойники».
Игнатий Прокопович мгновенно помрачнел и стал, как грозовая туча. Он налил себе рюмку спотыкача, выпил и занюхал хлебной коркой.
— Цэ опасное дило, — сказал дядька Гнат, не глядя на Глеба.
— Почему?
— Ти пещеры дужэ стари. Там сильно опасно. Везде завалы…
Глеб сразу понял, что Игнатий Прокопович недоговаривает. Эта тема была ему явно неприятной.
— Я догадываюсь, что там может быть очень опасно, — ответил Тихомиров-младший. — Но такая специфика моей деятельности — преодолевать опасности. Вы только подскажите, где находится вход в эти старые пещеры. И все дела.
— Ага, оцэ ты гарно придумав… — дядька Гнат скептически ухмыльнулся. — Хочешь, шоб я сына своего друга, якый приехал до мэнэ в гости, отправил на вирну смерть. А як потом я Мыколаю в очи буду смотреть? Ты про цэ подумав?
— Ну, во-первых, не хороните меня раньше времени. А во-вторых, я надеюсь на вашу помощь. Мне нужны ваши хлопцы… для подсобных работ. Я хорошо им заплачу. Для них это будет отличная шабашка.
— От заладыв! — Игнатий Прокопович начал раскуривать свою трубку. — Ну добрэ, расскажу… Всю правду расскажу. Бо ты можешь подумать, шо я нехороший чоловик.
— И в мыслях такого не было!
— Ну, можэ я трохы загнув… Гаразд, слухай. Я про тии пещеры и твоему батьке не усё рассказал. Там едва нэ погиб мой дружок, Толя. Ну, цэ ты, видно, знаешь. И все наши голопупенки сразу перестали туды лазить. Все… кроме меня. Бо я ж тогда був щэ дурнишый, чем ты зараз…
Глеб невольно улыбнулся. Отец тоже считал его глупым и неопытным мальчишкой. И постоянно наставлял уму-разуму. Глеб поначалу злился, а потом вдруг понял, что родное дитя для родителей всегда несмышленыш, требующий заботы и подсказок, сколько бы ему лет ни стукнуло.
— Я тогда був отаманом, — продолжал дядька Гнат. — А шо такое отаман? Это значит быть сильнее и смелее всех. От я и полиз туда… Взял веревку, свичкы, трофейную зажигалку (батько с войны привез), нож, саперную лопату, баклажку воды, окраець хлиба и полиз. Розкыдав я завал, як мог, а за ным галерея — будто коридор. Метра два в высоту. Потолок шо в погребе — закруглен. Иду по цьому коридору потыхеньку и трушусь от страху, як цуцык. И чого, спрашивается? Не первый же раз. И все равно боюсь. Дойшов до якоись развилки, посвитыв… Оцэ скажу тилько тоби, бо я уже старый… чого мне стыдиться? Там була выдовбана ниша, а в ний… скелет! Ну, мертвыми нас, послевоенных пацанов, здывуваты трудно. Но таких скелетов бачыть не доводилось. Стоит вин во весь рост, а очи як жыви — горять фонарями. Я як став, так и прыкыпив к месту. А по ногам струйки бегут. Не удержав, значит… Но это еще пивбиды. Через якусь хвылынку шось як загудело, як завыло… В общем, опомнывся я уже наверху. Все там бросыв — и веревку, и лопату, и зажигалку. Гарна була, с орлом, но без свастики. Можэ, амерыканська? З того часу я туда ни ногой. До сих пор трэмчу. Ось, бачыш, чарку в руках не можу вдэржать.
— Занятная история… — Глеб почувствовал, как его начал охватывать боевой азарт.
Есть! Скелет, разные звуки — это, скорее всего, обманка. Пугало для чересчур впечатлительных. Возможно, первый кордон защиты того, что, по идее, должно лежать где-то в глубине лабиринта (если его оттуда до сих пор не забрали). Не исключено, что там есть и западни, и ловушки… знакомые моменты.
— Та така занятна, шо и врагу не пожелаешь… — Игнатий Прокопович пыхнул дымом раз, другой, а затем задымил как паровоз.
— И все же, покажите мне вход, — сказал Глеб. — Пожалуйста. Очень вас прошу… В разные мистические истории и страшилки я не верю. А все необычное — ладно, почти все — можно объяснить с точки зрения науки.
— А эти… як их… НЛО? В газетах про них пишут, по телевизору показывают…
— Они вам мешают жить?
— Та ни.
— Ну и пусть себе летают. Может, это сгустки энергии, или какие-то летательные аппараты, испытываемые американцами или русскими, а возможно, и космические корабли внеземных цивилизаций. Нам-то что до этого? Мы ничего не можем изменить. «Мы» — это простой народ. Наша задача — обустроить мир вокруг себя. И по возможности раскрывать тайны, подвластные нашему разумению. Вот и весь сказ.
— От шо значит грамотна людына! Ну добро, ты убедил меня. Только сам я туды не полезу, но хлопцев добрых дам. Хай воны за тобою присмотрят. Бо пещеры пещерами, а оти негидныкы, шо хотели тебя пустить на распил, мэни нэ наравятся. Надо принять меры.
Глеб был на седьмом небе от счастья. Получить такую поддержку — лучшего желать и не надо.
— А как мне быть… с колесами? — спросил он осторожно.
— Возьмешь БМВ, — отмахнулся дядька Гнат. — То нэ проблема. Но шоб лизты в пещеры тебе нужны и добрый лихтар, и лопата, и длинна мотузка, — по-вашему, по-кацапски, веревка, значит, — и еще кучу всего. Цэ трэба пидговыть.
— У меня уже все готово.
— И дэ ж воно? Ты ж приехал с одной сумкой.
— На железнодорожном вокзале, в камере хранения. Я заехал туда по дороге из аэропорта.
— А чого ж сразу не взял с собой?
Глеб смутился.
— У меня там большущий рюкзак, — ответил он, пряча глаза. — Я решил не таскать его с собой, потому как не был до конца уверен, что вы согласитесь мне помочь. А без вас я, сами понимаете, могу хоть сто лет искать тот никому неизвестный вход в пещерный лабиринт и никогда его не найду.
Причина того, что рюкзак оказался в камере хранения, была, конечно, совсем другая. Глеб не хотел посвящать Игнатия Прокоповича в свои намерения. Но теперь у него просто не было иного выхода.
— Як тоби нэ стыдно! — взвился Игнатий Прокопович. — Шоб дядька Гнат отказал сынку своего лепшого друга Мыколы… та нэхай подо мной земля провалится! Чи вы там в Московии думаете, шо хохлы тут зовсим показылыся от своих «революций» и на вас скоро пидуть с вилами? Нэ будэ такого! Никогда нэ будэ! Бо мы ж браття.
— Извините… — Глеб изобразил кающегося грешника.
— Та годи тоби… — растаял дядька Гнат. — Бо ще заплачешь. Будем считать, шо ты такого мне не говорил…
Он хотел еще что-то добавить, но тут подал свой басовитый голос Рябко. Он рвался с привязи в направлении ворот с таким злобным остервенением, что, казалось, еще немного, и звенья цепи разлетятся по двору.
— Хто цэ может быть? — в раздумье сказал дядька Гнат и неторопливо пошел к калитке.
Едва он приблизился к воротам, как подал голос и звонок. У Глеба почему-то екнуло под ложечкой, и он весь сжался. За забором явно были нехорошие люди. Ему показалось, что откуда-то издалека к нему прилетел знакомый Гошин голос «Берегись!».
— Кого там нелегкая принесла? — сурово спросил дядька Гнат.
— Это я, Игнатий Прокопович.
— Михайло? Шо тебе надо?
— Потолковать…
— Ну если потолковать… Заходи…
Калитка отворилась, и во двор зашел здоровенный битюг с характерным бритым затылком и с руками в наколках. От него за версту перло бандитским духом. Позади него стояли еще два братка — такие же большие и глыбастые. Но они остались за воротами.
Вместе с дядькой Гнатом Михайло подошел к беседке, где сидел Глеб, и, окинув его цепким оценивающим взглядом, сказал:
— Здорово…
— Здравствуйте, — вежливо ответил Тихомиров-младший, стараясь не выдать волнения.
— Ты, Глебушка, иди в хату, — строго сказал Игнатий Прокопович. — У нас тут свои дела…
Глеб покорно кивнул и поторопился уйти. Он быстро поднялся на второй этаж и притаился у распахнутой двери балкона. Отсюда ему хорошо был слышен разговор дядьки Гната и его незваного гостя.
— …Предложили большие деньги, — гость дядьки Гната старался говорить негромко, но это у него не очень получалось.
— Ну и шо, ты взяв?
— Игнатий Прокопович, я хоть и дурак, но не на столько же. Становиться вам поперек дороги — себе дороже. Но я-то отказался, а вот за других поручиться не могу…
— И хто те люди?
— Не знаю. Не местные. Но крутые. Пришли на встречу со стволами. У одного из них я заметил автомат.
— Так-так… Значит, у них есть намерение замочить моего близкого человека… — голос дядьки Гната стал зловещим. — Якись зайды приехали к нам права качать… До чего мы дожили?! А, Михайло? Як ты мог такое стерпеть?! Ты казак, чы ни?!
— Игнатий Прокопович, я ж не думал, что они такие наглые, — оправдывался Михайло. — У моих пацанов был только один ствол, и тот старенький «макарыч». Но выход есть.
— Якый?
— Пусть едет домой. И все тогда будет тип-топ. У вас — свои проблемы, у него — свои. Пусть решает, не маленький.
— Это они тебе сказали?
— Ну да. Когда я отказался. Меня попросили хотя бы нажать на вас…
— Считай, шо ты нажал… — лицо дядьки Гната стало красным, как тот борщ-свекольник, который он и Глеб совсем недавно ели. — А теперь скажи мне, Михайло, ты смог бы своего лепшого кореша пид пулю подставить, шоб потом умыть руки?
— Никогда!
— Вот! — Игнатий Прокопович поднял указательный палец вверх, будто призывая в свидетели верхние силы. — Почему? А потому шо тогда твой авторитет стал бы ныжче бордюра. И тогда твоя братва стала бы до тэбэ относится як до опущенного. Так чого ж ты тогда вид мэнэ хочеш? Шоб я став Иудою?
— И в мыслях такого не было! Что вы, Игнатий Прокопович… Вы нам как отец родной. Мы ж знаем, что вы человек-кремень.
— Не подлизывайся. Ну ладно, иды, Мыхайло, с Богом. Шо принис таку ценную информацию — дякую. За мною нэ залежится. А шо на бабло не повелся — молодец. Бо якшо мы щэ тут начнем разборки между своими, то Украине зовсим придет капец. Хай кращэ наши гетманы чубы соби рвуть.
— А… а вы как?
— За мэнэ не беспокойся. Ты ж знаешь мои возможности.
— Знаю.
— Ну, а якшо у тебя появятся щэ якись новыны, то звоны…
Михайло ушел. Игнатий Прокопович, подперев свою круглую голову кулаком, надолго задумался. Глеб стоял возле двери на балкон ни жив, ни мертв. Может, и правда уехать? Он не имеет права подставлять дядьку Гната! Что они могут предпринять, если, например, сегодня ночью дом атакуют бандиты с автоматическим оружием? Ничего.
— Глебушка, йды сюды, — позвал дядька Гнат.
Стараясь не выдать мыслей, которые бурлили у него в голове, Глеб подошел к столу, находившемуся в беседке, и сел напротив Игнатия Прокоповича. Тот поднял на него глаза и требовательно спросил:
— Усё слышал?
— Да…
— И шо ты думаешь по этому поводу?
— Хочу попросить у вас прощения за хлопоты, возьму свой саквояж и вечерней лошадью уеду в Москву. Так будет лучше. Для вас, по крайней мере, точно.
— А для тэбэ?
— Разберемся, — туманно ответил Глеб.
— Понятно. Тикаеш, значит. А я думав, шо ты в батька пишов. Мыкола никогда б не отступыв.
— Но ведь они будут стрелять! Вы не представляете, что это за люди!
— А ты представляешь?
— С трудом. Уж не знаю, кто они, но силы у них большие. А денег так вообще, по-моему, немерено.
— Грошей у нас у самих хватает. И силы не занимать. Так шо ты мэнэ нэ лякай.
— Вы что, решили… решили, что мне нужно продолжать?!
— А якого ж ты тогда беса ехал за тридевять земель?!
— Чтобы исследовать Китаевские пещеры, — не очень уверенно ответил Глеб.
Дядька Гнат остро взглянул на него и молвил:
— Шо я тебе скажу, хлопчику… Брехать, конешно, не пахать. Тилько в тэбэ ще молоко на губах не обсохло, шоб меня вокруг пальца обвести. Лучше расскажи дядьку Гнату усё, як воно есть. Бо шось ты сильно много недоговариваешь. А цэ значит, шо дело темное.
Выбора не было. Глеб мысленно сознался сам себе, что Игнатий Прокопович прижал его к стенке. «Фиг с ним, с этим планом и этим кладом! — подумал он с отчаянием. — Самому мне точно не осилить… Боюсь, что я даже ноги не смогу унести — не дадут. Игра пошла с высокими ставками и практически в открытую. Надо делиться. Знать бы, чем… Да ну его все к бениной маме!»
И Глеб рассказал всю историю, не утаив ни единой подробности.
Выслушав его рассказ, дядька Гнат долго молчал — переваривал услышанное. А затем тяжело вздохнул и молвил:
— Малэ — дурнэ… Якбы я знал это раньше, то отой француз уже спивав бы колядки в моем подвале. Да, дило сурьезное… Но и наша нэнька Украина нэ Франция. То у них там адвокаты, прокуроры… У нас таки дила решаются проще. В общем, сиди тут и не рыпайся. А я трохы попрацюю золотарем — буду разгребать усё это говно…
С этими словами Игнатий Прокопович набрал номер на мобильном телефоне и, когда ему ответили, сказал:
— Здоров був, Опанас! Як там твои хлопцы? Байдыкы бьют? То пришли мне пятерых. Так… В полном боевом! А як жэ… И смотри, шоб самых лучших! Та ни, тут другие дела. Потом расскажу. Остальных держи наготове! Шоб по моему звонку явились, як штык. Ну, нэхай нам всем щастыть, Опанас…
Следующий звонок дядьки Гната был официального плана. Ему ответила секретарша.
— Ты дивчынко доложи ему, шо звонит Игнатий Прокопович. Занят? А ты скажи ему, скажи! Бо як не скажешь, то он сильно на тебя обидится. Ага… Жду… Петро Семенович! Здравствуй, дорогэнькый! Шось ты зовсим мэнэ забув… Ни? А я как рад… На охоту осенью пидэм? И я жду не дождусь. Бо зовсим уже закис. А шо поробыш — пенсионер… Петро, дило есть. Не буду тебя задерживать. В Киеве образовався якыйсь непонятный француз. Как фамилия?.. — Тут дядька Гнат оторвался от мобильника, обернулся к Глебу и спросил: — Як там его?.. Понял. — И снова в микрофон: — Зовут того жабоеда Християн Боже. Петро, большая к тебе просьба: достань мне его из-под земли. Срочно! Когда? Еще вчера. Подключи усе свои каналы. Не, брать не надо! Дай мне только его адресок. Мои хлопцы и без твоих волкодавов разберутся. Ну, бывай, Петро Семенович. Жду от тебя ответа, як соловей лета.
Отключив мобилку, дядька Гнат очень серьезно посмотрел на Глеба и сказал:
— А теперь будем ждать…
Глава 19 1915 год. Призраки Китай-горы
Ванька Золотой Зуб дрожал, как в лихоманке. И ругал себя последними словами. Как он мог поддаться на уговоры пристава Семиножко, этого змея подколодного?! Теперь его фартовой карьере точно конец. До чего он дошел — вместе с фараонами начал ловить таких же босяков, как и сам!
Но про то ладно, никто пока ничего не знает. Но среди ночи оказаться на Китаевском погосте — это уже ни в какие рамки не входит. Много разных слухов ходило среди киевлян о Китай-горе. И что в темное время суток там бродят призраки, и что паломники бесследно исчезают, несмотря на святость места, и что иногда среди ночи из-под земли доносятся стоны невинно убиенных, схороненных на погосте в прадавние времена.
А в ночь на праздник Ивана Купалы, говорили знающие люди, в окрестных лесах начинает цвести папоротник, потому что много кладов зарыто на Китай-горе. Да вот только никому они в руки не даются. И если кто отважится сорвать цветок папоротника в Китаевской пустыне, то вместо ожидаемых сокровищ его сразу же подхватывает нечистая сила и уносит в ад.
Сегодня как раз была ночь с 19 на 20 июля[50]. И Ванька, лежа в какой-то канаве неподалеку от кладбища, с тоской думал, что слежка за Шнырем выйдет ему боком. В особенности его смущало то, что к Ваське и его напарнику присоединился Чугун. Этого быка боялся весь Подол. В повседневной жизни добряк и сострадалец, Чугун мгновенно свирепел, когда его задевали за живое. А в гневе, при всей своей силушке, он был страшен.
«Он всех этих фараонов сломает, как веник, — думал Золотой Зуб не без приятного томления в душе. — И где только Семиножко нашел такую гоп-компанию? Как грибы-поганки — плюгавые, на тонких ножках, и слюни у одного текут, словно у юродивого на паперти».
Нужно сказать, что и сам пристав был не в восхищении от своей команды. Он подобрал, что плохо лежало. От услуг этих трех агентов отказались все его коллеги. «Пьянь-рвань подзаборная» — так охарактеризовал их брезгливый Шиловский.
Семиножко сумел привязать их к себе разными послаблениями. И не только. Все трое уже давно могли сидеть в тюрьме, но пристав помог им избежать наказания, и теперь агенты готовы были выполнить любой его приказ.
Старшим среди них считался Тетеря. Главным его достоинством были огромные совиные глаза, которые могли видеть в темноте, и совершенно глупый вид, на который ловились даже большие умники.
Вторым по рангу считался Совпель. Это была его фамилия. И она подходила агенту как нельзя лучше. Обычно он работал среди нищих, на киевском «дне», где его считали своим. Когда Совпель просил подаяние, почти все бросали ему в плошку монеты и торопились побыстрее пройти мимо, потому что его слюнявую (а в зимнее время сопливую) физиономию нормальному человеку нельзя было лицезреть без гадливости.
Третьим пристав взял Жука. Знакомые и приятели называли его Жучилой. Черноволосый, со смуглым цыганковатым лицом, он был проворным, как хорек, наглым и жестоким, словно записной «иван»[51], и мог залезть в любую щель.
Но при всей внешней непохожести этой троицы их объединяла одна-единственная страсть — к выпивке. Они могли квасить сутками, при этом оставаясь в трезвом уме и в состоянии самостоятельно передвигаться. Семиножко приводил их в чувство (чтобы они не бражничали, а работали) простым способом — бил по мордам. А рука у пристава, нужно отметить, была тяжелая.
Жук и Тетеря лежали рядом, прячась за одним из надгробий. Они подобрались совсем близко, и им был виден ящик, который злоумышленники вытащили из могилы. Особенно хорошо рассмотрел его глазастый Тетеря.
— Цинковый… — шепнул он Жуку, почти не шевеля губами, — будто ветерок легкий коснулся его губ.
— А в нем рыжа[52]… — точно так же прошелестел ему в ответ Жук. — Зуб даю…
Он вспомнил, сколько пообещал им Семиножко за помощь в этой операции, и скрипнул зубами. «Вот сволочь! — подумал Жук. — Нам по пятьдесят рубчиков, а себе — пуд золота. Ну, сытая его морда! Так и норовит на чужом горбу въехать в рай».
Тут его осенила другая мысль, и он покосился на Тетерю. Выпуклые глаза напарника, казалось, вот-вот выскочат из орбит, с таким напряжением он следил за каждым движением злоумышленников.
«А может?.. — Жуку вдруг стало жарко, несмотря на ночную прохладу. — Сговоримся с Тетерей, кончим пристава — и в Гуляй Поле. Там все свои, схоронят. Совпель… И его надо грохнуть. Это еще тот гусь. Мне он ни сват ни брат. Тетеря тоже его не любит…»
В это время пристав Семиножко напряженно размышлял, что ему делать дальше: взять гробокопателей до того, как они вскроют ящик, или после того? А вдруг там кости? Вот смеху потом будет… Над ним начнет потешаться весь Киев. Уж что-что, но выставить дураком хохлы могут кого угодно. Был бы повод, а запасов юмора у них хватит. И батьку родного не пожалеет истинный хохол, лишь бы хорошо пошутить, а значит, выпендриться перед всем миром.
Гробокопатели совещались. Что-то их явно смущало. В особенности Ваську Шныря. Он то и дело встревоженно оглядывался по сторонам, будто каждую минуту ожидая какой-нибудь напасти. Остальные двое (в одном из них, широкоплечем здоровяке, пристав узнал Клима Чугунова, известную в полиции личность) тоже чувствовали себя на кладбище не очень уютно, хотя вокруг царила удивительная тишина — будто в округе все вымерло, даже ночные птицы.
Наконец после недолгого совещания сильный, как вол, Чугун легко подхватил ящик на плечо, и все трое пошагали к близлежащему леску — от греха подальше. Вдруг кто заметит? Посторонних на погост ночью и калачом не заманишь, но вот церковные сторожа иногда ради разминки заглядывали и сюда.
Семиножко невольно выругался. Тысяча чертей им в печенку! И как теперь быть? Гробокопатели так быстро вышли из оцепления, что его агентам оставалось лишь своими гляделками беспомощно хлопать.
Смешно оттопырив зад, пристав пополз на карачках к Совпелю, который таился неподалеку.
— Передай Жуку и Тетере приказ: идти вслед за ними, следить. Брать, когда вскроют ящик. Это если я не успею к тому моменту. Окажут сопротивление — бейте их наповал. Но сами под выстрелы не подставляйтесь! Может, и у них есть револьверы. Понял?
— Так точно, Петро Мусиевич, понял!
— Ну давай, давай, соколик! Поспешай! Да пригнись пониже, охломон! За версту тебя видно…
Золотой Зуб заметил маневр Семиножко и хотел уже последовать за агентами, но тут его придержал страх. Он вцепился в душу Ваньки железными когтями, и это было так больно, так страшно, что Золотой Зуб едва не вскрикнул, да вовремя успел захлопнуть рот: услышит пристав — прибьет.
Он так и остался лежать в канаве, млея от дурных предчувствий. Что касается Семиножко, то он решил зайти с фланга. Пристав уже понял, куда направились гробокопатели. На опушке леса, как раз на круче, над прудами, была удобная полянка, скрытая от любопытных глаз. Похоже, Шнырь знал об этом, потому что шел впереди и показывал остальным дорогу.
Пристав был прав. Ваську обуревали примерно те же чувства, что и его «коллегу» — Золотого Зуба. Ему даже почудилось, что некоторые надгробия начали шевелиться. Он с ужасом подумал, что еще немного, и покойники могут выйти из могил, ведь они, по сути дела, занимаются святотатством.
Шнырь не считал себя шибко богомольным, но в детстве у него была родная бабка, которая таскала мальчонку на все церковные службы. Из-за этого Васька верил в разные чудеса и высшие силы и когда воровал кошельки неподалеку от какой-нибудь церкви (а в центре, в самом фартовом месте Киева, церкви и храмы встречались на каждом шагу), то непременно жертвовал на богоугодные дела десятую часть своей прибыли.
Возможно, именно по этой причине карающая десница закона все время промахивалась, и Васька ходил на свободе. Так это или не так, но Шнырь свято уверовал в великую силу «церковной десятины» и никогда не жадничал.
— Надо уходить с погоста, — сказал он подельникам.
— Чего это? — спросил Чугун; справившись с первым волнением, он уже примерялся, с какой стороны удобнее пилить цинковый ящик.
— Того! — отрезал Васька. — Чтой-то мне не по себе, — все же объяснил он недоумевающему Климу жалобным голосом. — Нутром чую какой-то пожар[53]…
— Кончай праздновать труса! — вступил в разговор и Петря. — Здесь только мы и надгробия. Чем скорее мы откроем этот ящик, тем быстрее отсюда уберемся.
В отличие от Шныря Лупан точно не знал, какому Богу молиться. Родился он православным, потом его родители стали по какой-то причине католиками и заставили Петрю креститься по-иному — слева направо. А затем отец вообще принял мусульманскую веру, потому что так было выгодно для торговли.
Но это не спасло его от сабли янычара, который зарезал Лупана-старшего, как барана, только за то, что молдаванин склонился перед ним не так низко, как полагалось. После этой трагедии семья Петри бежала в пределы Российской империи.
Так что Петря в вопросах религии скорее был атеистом, хотя и испытывал некоторый трепет перед величественными православными храмами. Но самое главное: его никогда не мучили религиозные предубеждения и страхи. Он не боялся разной чертовщины, потому что ничего страшнее и кровожаднее янычар ни на земле, ни под землей, как считал Лупан, не существует.
Теперь же, когда вожделенное сокровище лежало перед ним на расстоянии вытянутой руки, Петря готов был сразиться со всеми силами ада.
Но оставался еще Чугун. При всей своей вспыльчивой и дуболомной натуре Клим обладал здравым смыслом и всегда прислушивался к мнению других. Хорошо зная Ваську, он ни на йоту не усомнился в том, что вор и впрямь почувствовал какую-то опасность. Но откуда она исходит? Этого Чугун понять не мог. А раз так, значит, нужно менять дислокацию.
— Сваливаем отседа, — сказал он безапелляционно и одним упругим движением вскинул не очень легкий ящик на свое литое мускулистое плечо. — Васька, указывай путь…
Петря лишь сокрушенно вздохнул. А что делать? Спорить с Чугуном было бессмысленно. Понуро потупившись, он поплелся вслед за дружками, совершенно не обращая внимания на окружающую их обстановку.
Если идущие впереди Васька и Чугун не могли ничего видеть, то волокущийся позади Петря мог бы заметить, как ожили некоторые кладбищенские холмики и начали двигаться, превращаясь в человеческие фигуры. И самое главное: все они перемещались в одном направлении — туда, куда шли подельники.
Семиножко оказался прав в своих предположениях. Гробокопатели и впрямь остановились на лужайке над обрывом. В этом уютном местечке даже Васькины страхи улетучились. Петря тоже повеселел и снова почувствовал азарт.
— Хух! Ну, помолясь, начнем, — сказал Клим, поплевал на ладони, взял пилу и начал водить ею туда-сюда.
Вжик-вжик, вжик-вжик, вжик-вжик… Нервное напряжение достигло предела. У Васьки от волнения зубы начали выбивать дробь, а Петря, чтобы хоть немного успокоиться и не заскулить, сунул себе в рот свою кепку.
— Ну что т-там, что та… т-там?! — нетерпеливо спрашивал Шнырь.
— Не зуди над ухом, — отмахивался от него Чугун.
Цинковый лист, из которого изготовили ящик, оказался тонким, поэтому процесс распиловки, по идее, должен был стать сплошным удовольствием — если учесть кладоискательский азарт Чугуна. Но на поверку все оказалось не так просто, как думали подельники. Выяснилось, что изнутри ящик был покрыт слоем какой-то вязкой мастики, и Клим пыхтел словно паровоз, обливаясь потом, потому что пила уже не вжикала, как поначалу, а шла вперед-назад рывками.
Неожиданно Васька насторожился. Он услышал треск ломающейся сухой ветки. Дернувшись, будто его укололи шилом в мягкое место, он прошипел:
— Чур![54] Братва, в лесу кто-то ходит!
— Где? — разогнулся Клим.
— Там, — махнул рукой Шнырь, указывая направление.
Все прислушались. Ничего. Только легкий ветерок прогуливался по верхушкам деревьев, но его дуновения замечала только древесная листва, которая тонко трепетала, практически не создавая шума.
— Тебе показалось, — напряженным голосом сказал Петря.
— Когда мне кажется, я крещусь! — огрызнулся Васька. — Там кто-то есть. Я даже запах его чую.
— Тоже мне ищейка… — фыркнул Клим; но чувство настороженности почему-то не покидало его. — Ладно, ладно, без обид — шучу…
Он положил пилу и достал револьвер. Петря тоже сунул руку в карман, где нащупал рукоятку ножа. Лупан и верил Шнырю, и не верил, но точно знал, что, если придется, он умрет возле ящика, но никому его не отдаст.
— Стойте как стоите! — шепнул Чугун. — Пойду на разведку…
И он тихо пошел к темнеющим невдалеке зарослям.
Тетеря подошел к гробокопателям ближе, чем следовало. Но это было еще полбеды. Главная проблема заключалась в другом: сегодня агента подвело его уникальное ночное зрение. Впервые за многие годы. Он не заметил сухой ветки, а когда наступил на нее, уже было поздно что-то предпринимать.
Агент как остановился, так и застыл столбом, мысленно моля все высшие силы, чтобы его приняли за дерево. Но Чугун подходил все ближе и ближе, мало того, он держал в руках револьвер (это Тетеря видел почти так же ясно, как днем), и агент не выдержал такого испытания. Выхватив свой «Смит и Вессон», он крикнул:
— Руки вверх! Ложись! Полиция! — и сразу же выстрелил, целясь в Клима, скорее инстинктивно, нежели по необходимости.
Его тут же поддержали Совпель и Жук, которые находились неподалеку. И началась такая беспорядочная пальба, словно все участники ночного действа неожиданно оказались на передовой, где-нибудь в Пинских болотах.
Но они не на того нарвались. Клим не только обладал недюжинной силой, он еще и неплохо стрелял. Упав на землю и откатившись с линии огня, Чугун начал шмалять в ответ, целясь по вспышкам от выстрелов. И попал. В зарослях кто-то истошно завопил от боли, и на какое-то мгновение стрельба затихла. Чтобы спустя три-четыре секунды возобновиться с новой силой.
Однако вернемся к Ваське и Лупану. Едва послышались первые выстрелы, как совсем потерявший голову Шнырь молниеносно сиганул с обрыва и побежал к пруду. У него будто крылья выросли. А затем и плавники — пруд он переплыл за считаные минуты. С этого момента имя Васьки Шныря больше ни разу не мелькало ни в протоколах полицейского управления, ни в расстрельных списках народной милиции города Киева, созданной в 1917 году.
Лупан при первых выстрелах быстро опустился на четвереньки, вцепился обеими руками в ящик и начал тащить его к обрыву — по-рачьи, пятясь назад. Над его головой свистели пули, однако он совершенно не обращал на них внимания — трудился, как муравей, пыхтя и обливаясь потом.
Но оставим его на несколько минут. Возвратимся к Чугуну. Его уже легко ранили, но он упрямо продолжал отстреливаться. Мало того, Клим наконец добрался до зарослей и теперь укрывался за деревьями, что уравновешивало шансы противоборствующих сторон. Тем более что к двум агентам, оставшимся в живых (погиб записной неудачник Совпель), пришел на помощь Семиножко.
— Окружай их, окружай! — закричал пристав, прячась за большим пнем. — Слева обходите, слева! Сдавайся, Чугунов! Ты в ловушке!
Своим кличем он хотел смутить Клима, представив дело так, будто в его распоряжении находится едва не весь полицейский участок. Но лучше бы он этого не делал.
Услышав свою фамилию, Клим закусил удила. Он понимал, что если еще раз попадет в лапы полиции, то живым они его не выпустят. Поэтому Чугун решил не сдаваться и драться до последнего вздоха.
— А хрен тебе в глотку! На-кося, выкуси! — яростно прокричал он в ответ и, тщательно прицелившись, выстрелил в Тетерю, который, на свою беду, в этот момент как раз менял позицию.
Агент умер, даже не вскрикнув. Он упал словно подрубленный. Жук, который находился недалече, в отчаянии сплюнул и зло выматерился. Дружбы как таковой между ними никогда не было, но они понимали друг друга с полуслова и случалось, что приходили на выручку друг другу, рискуя собственными жизнями. А это уже и так очень много для человеческих отношений.
Жук тихо, как змея, пополз вперед. Теперь у него в голове была лишь одна мысль — убить Чугуна, отомстить за Тетерю. От большого напряжения он превратился в одно большое ухо, поэтому услышал очень тихий звук падающих на землю гильз — это Клим перезаряжал револьвер.
Тогда Жук вскочил, стремительно пробежал метров десять и всадил в Чугуна, который опешил от неожиданности, увидев в двух шагах от себя тщедушную фигуру агента, три пули. Несмотря на смертельные раны, Клим нашел в себе силы подняться и сделать несколько шагов в направлении Жука. Если бы он добрался до агента, то, наверное, задушил бы его.
Но силы оставили Клима, и он свалился, словно подрубленный дуб — вперед и ровно, не сгибая ноги в коленях. Жук стоял в метре от него ни живой, ни мертвый…
Смерть Тетери и Чугуна неожиданно вызвала странное явление, от которого все живые участники драмы, развернувшейся над обрывом, оцепенели. Сначала в неподвижном воздухе, напоенном ароматом разнотравья, который после полуночи стал похожим на остывающее парное молоко, раздался мощный, но мягкий звук трубы. Люди глубоко верующие назвали бы его «гласом Божьим».
А затем среди деревьев появились белые призрачные фигуры. Они неторопливо продвигались в направлении участников схватки, и временами казалось, что фигуры плывут над землей то поднимаясь, то опускаясь. Возможно, такой эффект достигался тем, что новые участники действа преодолевали невысокие холмики и неглубокие овражки; но как бы там ни было, а впечатление они производили потрясающее.
Первым опомнился Семиножко. Он попытался сначала крикнуть, но его голос почему-то стал тише шелеста листвы; затем пристав нацелил на одно из привидений пистолет и попытался нажать на спусковой крючок. Но рука ему не повиновалась; она вдруг стала закостеневшей и совершенно чужой.
Тогда совсем обезумевший пристав тонко, по-заячьи, заверещал и бросился бежать. Однако убежать далеко Семиножко не успел. Раздался тихий свист, и в спине пристава вырос железный штырь. Он упал и мгновенно умер. Подойди к его телу кто-нибудь поближе, он сразу понял бы, что в спине пристава торчит арбалетный болт.
Жук оказался смышленее своего начальника. Он, как и Ванька Золотой Зуб, тоже слышал байки про Китаевскую пустынь, в которых фигурировала разная нечисть. Поэтому Жук не сильно удивился появлению призраков. И не стал, как Семиножко, оказывать сопротивление. Что можно сделать с бестелесным духом? Только попытаться от него убежать.
Он рванул по тому же пути, что и Васька Шнырь. Стреляющие призраки пустили ему вслед два или три арбалетных болта, но все они застряли в древесных стволах. Жук уже мысленно благодарил судьбу, вырвавшись на поляну, — обрыв был совсем рядом, — но он не учел, что на его пути встанет Петря Лупан.
На Петрю призраки не оказали никакого влияния. Все его помыслы были сосредоточены на одном — как защитить свое сокровище. И когда Жук приблизился, Лупан метнулся к нему навстречу с быстротой молнии и вонзил нож прямо в сердце. Агент упал, дернулся несколько раз и затих, а Петря с потрясающим спокойствием продолжил свой муравьиный труд — снова потащил ящик к обрыву.
Его остановили лишь белые фигуры, которые вышли из лесу. Увидев их, Петря спрятался за ящиком. Нет, он не пытался затаиться; ему нужно было немного отдышаться.
Где-то в глубине души он понимал, что пришла его смерть, но эту мысль Петря гнал от себя прочь. Он считал сокровище своим (а в том, что в ящике находится клад, Лупан не сомневался) и готов был, если понадобится, умереть за него. Но умереть богатым! Мысль о богатстве, которое находится рядом, под боком, будоражила воображение и напрочь разрушала инстинкт самосохранения.
Когда призрачные фигуры подошли к ящику, с земли вскочил уже не человек, а кровожадный зверь в человеческом обличье. Пока его не схватили, Петря успел убить двоих и еще одного ранил.
Наверное, тут бы ему и пришел конец, но неожиданно последовала команда на незнакомом Петре языке, и его лишь крепко спеленали тонким, но прочным шнуром. Будь на месте Лупана надзиратель сыскной полиции Шиловский, он сразу бы узнал в начальнике «призраков» мсье Франсуа Боже.
Впрочем, призрачными казались лишь длинные плащи со странного вида крестами. Под ними находились живые люди во плоти. Правда, они выглядели немного несовременно — три человека держали в руках старинные арбалеты, а на боку мсье Боже висел рыцарский меч. Как были вооружены остальные, Петря не видел, потому что они находились вне его поля зрения.
— Что будем делать с этими?.. — спросил один из «призраков», горбун невысокого роста, почти карлик, кивком головы указав на тело Жука.
— Оставим здесь, — коротко ответил мсье Боже. — О них позаботится Господь.
Они беседовали по-французски, и Петря ничего не мог понять из их разговора.
— Мы нашли подходящее место для тайника… — продолжал карлик.
— Да, я знаю. Место и впрямь отличное… — мсье Боже остро взглянул на Лупана. — Но ему нужен сторож.
— Вы думаете?..
— Несомненно. Он убил двух наших братьев, поэтому его смерть должна быть долгой и мучительной.
— Будет сделано, господин!
«Призраки» подняли ящик на плечи, забрали убитых товарищей и углубились в лес. Двое из них поставили Петрю на ноги и повели его на веревке как скотину, грубо подгоняя пинками. Но он был ко всему безразличен. Его мечте не суждено было осуществиться, и теперь от Петри осталась лишь одна оболочка — внутри у него все выгорело.
Вслед за ними направился и непривычно задумчивый и угрюмый мсье Франсуа Боже. Он шептал: «Проклятая война! Пока она не закончится, во Францию путь заказан. Эх, надо было раньше все вывезти! Не сообразил, не успел. Теперь нужно ждать… Ждать!»
Над Китаевской пустынью снова воцарилась тишина. Однако спустя какое-то время она начала постепенно наполняться какими-то шорохами и тихими звуками, которые могли слышать только лесные обитатели. Это на запах свежей крови торопилась разная лесная живность…
Утром на Китай-горе нашли трупы пристава Семиножко, полицейских агентов и совершенно седого умалишенного, который бормотал что-то несвязное и крестился как автомат — безостановочно. Это был Ванька Золотой Зуб. Но его никто не узнал.
Ваньке, как и остальным, тоже «повезло» наблюдать явление «призраков». Но он не смог даже пошевелиться от ужаса, а не то чтобы попытаться убежать. Едва Золотой Зуб увидел белые призрачные фигуры, которые одна за другой начали вырастать среди надгробий погоста, как он тут же потерял сознание. И очнулся уже совсем другим человеком. Вернее, подобием человека.
Расспрашивать его о чем-либо было бессмысленно. И совершенно невменяемого Ваньку отвезли в Кирилловские богоугодные заведения[55].
Эта странная история наделала в Киеве много шума, но, как всегда бывает с любой сенсацией, разговоры о событиях на Китай-горе постепенно сошли на нет, и на первых полосах в газетах снова появились военные сводки. И только сторожа Китаевской пустыни да схимник Тит долго не могли забыть ту кошмарную июльскую ночь на Ивана Купалу.
Сторожа все запомнили потому, что никогда прежде в этих местах не случалось такого страшного и массового смертоубийства, а Тит до конца своих дней не мог простить себе, что испугался угроз нечестивца и позволил ему свершить черное дело.
Глава 20 2007 год. Нападение
Команда из пяти человек, которую прислал таинственный Опанас, впечатляла. Все парни как на подбор были рослыми и, судя по их уверенным движениям, хорошо тренированными. Выслушав наказы Игнатия Прокоповича, они быстро распаковали большие сумки, привезенные с собой, и за десять минут экипировались.
У Глеба глаза полезли на лоб, когда он увидел эту экипировку. Парни разрисовали свои лица маскировочной краской, надели камуфляж, бронежилеты и вооружились ножами и автоматами. А затем распределились по обширному двору и саду дядьки Гната и словно растворились в летней зелени.
— Не сумлевайся, воны дело свое знают туго, — сказал Игнатий Прокопович и цыкнул на Рябка, который даже не лаял, а ревел, как тигр: — Я ж тоби говорю, собацюго, шо цэ свои! Закрый свою конфорку, бо зубы выбью! Геть в будку!
Обиженный пес растерянно посмотрел на дядьку Гната и залез в свой домик — очень даже симпатичное сооружение, раскрашенное в приятные глазу яркие цвета. Наверное, мозги у животного съехали набекрень: по двору разгуливают чужие люди, а хозяин запрещает ему исполнять служебный долг.
Недовольно проурчав — видимо, ругнувшись по-своему, по-собачьи, — Рябко лег, положил лобастую морду на мощные передние лапы и начал усиленно изображать равнодушие. Но Глеб не очень поверил в его смирение. Он уже знал, что пес может взорваться в любой момент. И тогда, как говорится, мама не горюй.
— И долго мы тут будем сидеть, как в осажденной крепости? — недовольно спросил Глеб.
— Будем ждать… — неопределенно ответил дядька Гнат.
— Чего?
— Чего, чего! — вдруг рассердился Игнатий Прокопович. — Пидождэм, когда рак свистнет на горе. Прыслухайся. — И тут же сменил гнев на милость: — Ходи со мной…
Они поднялись на просторный чердак, исполняющий роль кладовки для разного хлама. Там дядька Гнат подошел к неприметной двери, открыл ее ключом и пригласил Глеба зайти внутрь.
У Тихомирова-младшего глаза на лоб полезли, когда он увидел начинку комнаты. Это была прекрасно оборудованная операторская с десятью мониторами, мягким удобным креслом и коммутатором для спецсвязи. Дядька Гнат включил общий рубильник, и экраны мониторов ожили, показав в деталях и подворье со всех сторон, и подходы к дому.
— Думав уже нэ знадобыться… — сказал Игнатий Прокопович и сокрушенно вздохнул. — Як ото пишла у нас перестройка с перестрелками, так я тут днював и ночував. Як сыч сидел. Сурьезные булы времена… В мэнэ пять раз стреляли. Ну да шо об этом сейчас говорить. Шо было, то сплыло. Тех, хто стриляв, ужэ давно нэма на цьому свити, а я, як бачыш, щэ живу. И теперь выкарабкаемся… с Божьей помощью.
— Так вы тут вроде… вроде бугра? — Глеб едва подыскал нужное определение.
— Цэ у вас там, в москалив, бугры, — недовольно ответил дядька Гнат. — А я кошевой атаман.
— Слыхали мы…
— И шо вы там слыхали?
— Ну, что у вас даже гетман есть… Бывший президент.
— Ты шо, с глузду зъихав?! С него гетман як из мэнэ японский городовой. Гетман — цэ… ого-го! Авторитетный, уважаемый человек, кращый вояк.
— Понял.
— А якшо понял, то сидай в кресло и займись делом. Будешь моими глазами. Оци кнопочкы — цэ связь с хлопцами. Як заметишь шось нэ такэ — предупреди. Усек?
— Усек. Дело знакомое.
— Добрэ. Ну, а я трохы на трубе посижу. Позвоню нужным людям. Трэба подключить еще кой-кого. Безопасности, як и грошей, много не бывает.
— Интересно, где у вас стоят видеокамеры? — спросил Глеб. — Я почему-то их не заметил…
Дядька Гнат довольно рассмеялся.
— Бо их ставили профессионалы своего дела. Нэхай вражина думает, шо моя хата беззащитная. О, чуть нэ забув! — он открыл один из шкафчиков и достал оттуда великолепный «штучный» бокфлинт[56]. — Ты стрелять умеешь?
— В общем, да… — ответил Глеб и загадочно ухмыльнулся.
Он мог бы много рассказать Игнатию Прокоповичу о своей профессии «черного» археолога. Иногда среди вольных кладоискателей случаются настоящие войны. И Глебу уже не раз доводилось защищать свою жизнь с оружием в руках.
— Значит, зарядить и нажать на курок сумеешь, — деловито сказал дядька Гнат. — Патроны в шкафу. Это я на всякий случай. Усё может быть. Ежля зловыш кого на мушку — бей, не задумываясь. Бо знаю я вас, интеллигентов… Замешкаешься — и прыйдеться мне слать Мыколе чорну весточку. Так шо не подведи ни батьку, ни дядька Гната.
— Не подведу, — пообещал Глеб.
— От и добрэ. А я тоби зараз щось пожевать и выпить принесу. Шоб легше було коротать время…
Игнатий Прокопович ушел, а Глеб начал осваиваться на «боевом посту». Несмотря на некоторую запущенность, пыли в операторской было немного, а вся аппаратура функционировала, как и должно. Мало того, выяснилось, что видеокамеры по желанию оператора могут менять положение, что значительно увеличивало их возможности.
Вахта оказалась мучительно длинной. Уже близился вечер, и Глеб решил, что скоро его бдениям придет конец, потому что в темноте видеокамеры практически бесполезны. Почему дядька Гнат молчит? Он как доставил еду и питье, так больше и не появлялся в операторской.
Наверное, обзванивает всех знакомых ему боссов, предположил Глеб. А может, пришли какие-то сведения о французе от Петра Семеновича, который явно был большой и важной шишкой и, похоже, работал в органах.
Глеб несколько раз умывался холодной водой, чтобы снять напряжение и освежить воспаленный ум (в операторской были туалет и умывальник), но все равно тревога в его душе по мере приближения ночного времени все нарастала и нарастала. Он часто прикасался к оберегу, который подарил Гоша Бандурин, и в такие моменты ему чудились зловещие бандитские физиономии, роившиеся вокруг его головы словно навозные мухи.
Когда начало темнеть, наконец появился и дядька Гнат. Он был чем-то сильно озабочен. Это было видно по его хмурому лицу и по глазам — обычно добродушные, с хитроватым прищуром, теперь они метали молнии. Игнатий Прокопович принес Глебу ужин — две свиные отбивные размером с добрый лапоть, жареную картошку и малосольные огурчики.
— Ты заправься, — сказал он, ставя тарелки на столик. — Бо хто зна, когда еще придется перекусить.
— Что, все настолько плохо?..
— Не важно, — хмуро ответил дядька Гнат. — Бо тот жабоед все-таки нашел среди наших христопродавца.
— Кого?
— Ну, ты его не знаешь… Мой бывший ученик. Навчыв на свою голову… Бачыв я, бачыв, шо он с гнильцой! Но никогда не думав, шо Махно способен меня предать.
— Махно?!
— Чого ты удивляешься? У нас ця фамилия распространена як у вас Сидоров. Ну, может, трохы меньше. Кажуть, шо он и впрямь якыйсь родыч того самого Махно, который в революции рубав на капусту и белых, и красных. Но нам от этого не легче. Думаю, — тут в голосе Игнатия Прокоповича проскользнули угрожающие нотки, — шо и ему скоро будет не до тых грошей, которые дал ему француз.
— А самого господина Боже нашли?
— Шукають, — коротко ответил дядька Гнат. — Ты не переживай, от нас француз не сбежит. Он в Киеве. Но в гостиницах его нэма. Десь затаився на частной хате. Хитрый жабоед, матери его ковинька…
Дядька Гнат ушел. Глеб съел свой ужин и выпил какую-то таблетку. Игнатий Прокопович сказал, что она напрочь прогоняет сон. Такие же таблетки приняли и пятеро бойцов, стороживших подходы к дому. В общем, ночь, по идее, обещала быть очень интересной.
Глеб был абсолютно уверен, что господин Боже просто обязан форсировать события. Француз уже знает, что Глеб определил примерные координаты клада и может в любой момент предпринять попытку до него добраться. Увенчается она успехом или нет — это другое дело.
Но когда последует нападение? И где? Первый звоночек уже прозвучал — на дороге. Там они застали его врасплох. Это факт. Прискорбный факт. Он ждал чего-то подобного — и все равно оказался в дураках. Его объехали в прямом смысле слова. Объехали и слегка подтолкнули в нужном направлении — чтобы он разбился. Никаких подозрений — автомобильная авария. По нынешним временам никакая не диковинка.
Слава богу, что «волга» когда-то проектировалась как «членовоз» — в качестве служебного авто коммунистических боссов, поэтому обладает повышенной прочностью и живучестью. Жизнь таких персон при советской власти считалась священной. Они должны были оставаться в живых даже после серьезных автокатастроф.
И то верно — ведь на свободе твердокаменные большевики не растут, им требуются особые, тепличные условия. А тепличный овощ весьма капризен в производстве и дорого обходится производителю.
Первый блин у господина Боже вышел комом. Но уж второй (а если понадобится, то и третий, и четвертый…) он постарается приготовить по всем правилам подпольной кулинарии. Шустро французик оборачивается. С Михайлом у него номер не вышел, но он тут же нашел какого-то Махно.
Ученик дядьки Гната… Глеб хмуро ухмыльнулся. Он знал, что после отсидки Игнатий Прокопович долго и успешно занимался запрещенным в то время карате. У него даже была своя школа боевых искусств, находившаяся в одном из пионерских лагерей, расположенных в Пуще-Водице. За что ему снова едва не дали срок.
Когда распался Советский Союз и начались большие перемены, ученики Игнатия Прокоповича тем или иным способом быстро пробрались наверх иерархической лестницы деятелей нарождающегося капитализма. Некоторые стали депутатами и бизнесменами, а кое-кто возглавил братков и начал заниматься рэкетом. (Наверное, и Михайло, и неизвестный Глебу Махно были из этой когорты.).
Об этом Глебу рассказывал отец; правда, очень скупо, совсем немного. Он не одобрял методы, при помощи которых его добрый приятель Гнат навел порядок в Пуще-Водице и выбился в авторитеты. Но его сын, имеющий авантюрный склад характера, ради достижения своей цели готов был заключить договор хоть с Бабой-ягой.
Тут мысли Глеба опять возвратились к французу. Интересно, почему он хочет заполучить именно план? Не проще ли немного подождать, пока Глеб не доберется до клада, а затем взять его тепленьким вместе с сокровищем. Затрат никаких (ну разве что на слежку), а эффективность стопроцентная.
Может, господин Боже боится, что Глеб привлечет к себе внимание правоохранительных органов? Тогда, конечно, с кладом ему придется попрощаться. Да, это веский довод.
И все же, все же… Что-то в этой истории смущало. Какой-то мистический подтекст. Он не очень выпячивается, но присутствует, это Глеб чувствовал кожей. Такая чувствительность и в какой-то мере дар предвидения были даны ему с рождения. К тому же он, сколько себя помнил, все время занимался подпольной археологией. Отец брал его в «поле» начиная с десяти лет. А приступил к обучению сына азам археологии едва Глеб начал читать.
Уже к четырнадцати годам, когда Глеба, как и любого подростка, начали увлекать веселые дружеские компании, где присутствовали девушки, он, прежде чем пойти гулять, должен был отгадать очередную историческую загадку. Чаще всего Тихомиров-младший должен был сделать экспертное заключение по какой-нибудь археологической безделушке: возраст, материал, из которого она сделана, где и кто ее сработал, и наконец — цена на подпольном рынке антиквариата.
К моменту поступления в институт Глеб считал себя докой в таких вопросах. И не очень грешил против истины в своем, возможно несколько завышенном, юношеском самомнении. К концу учебы с ним консультировались даже известные профессора…
Шел четвертый час ночи. Несмотря на хваленую таблетку, глаза Глеба начали слипаться, и он только силой воли заставлял себя бодрствовать. На удивление все мониторы показывали картинку. Может, потому, что дядька Гнат везде повключал наружное освещение, и теперь его дом сверкал огнями, как новогодняя елка.
В какой-то момент Глеб отключился. Он уснул, откинувшись на спинку кресла. И сразу же ему начали сниться какие-то кошмары. Глеб пытался проснуться, отчаянно сопротивляясь невидимой силе, увлекающей его в черный провал, но все его попытки грубо и жестко пресекались, и, совсем обессиленный, он в конце концов прекратил сопротивление.
«Наверное, я умираю… — думал он как-то отрешенно, падая в бездну. — Именно так выглядит смерть…» Глеб смотрел на себя как бы со стороны и думал словно посторонний зритель. Ему очень не нравилось собственное безволие, но он ничего не мог с собой поделать.
Неожиданно перед его мысленным взором появилось ехидная физиономия француза. Он скалил зубы в отвратительной ухмылке, корчил разные гримасы, ставил себе при помощи пальцев «рожки». В конечном итоге его светлое европейское лицо приобрело красновато-смуглый оттенок, нос удлинился и стал крючковатым, а на голове и впрямь выросли козлиные рога.
Трансформировавшийся господин Боже начал тянуть к нему свои руки, больше похожие на лапы грифа, намереваясь схватить за горло, и Глеб не выдержал этой страшной картины и закричал. А затем случилось неожиданное — между ним и французом выросло пламя. Оно вмиг превратило в уголь господина Боже, и он рассыпался в прах. На Глебе лишь загорелась одежда, которую он начал тушить, хлопая себя ладонями по груди и животу.
Падение в пропасть тут же прекратилось, но жжение в области груди было настолько сильным, что Глеб вскрикнул и проснулся от боли. Первым делом — совершенно инстинктивно — он схватился за подаренный Гошей Бандуриным оберег — и тут же отдернул руку. Металлическая пластина была раскалена!
Дуя на пальцы, Глеб вскочил с кресла и нагнулся, чтобы оберег болтался на цепочке, не касаясь груди. Так он быстрее остынет. И тут его взгляд упал на мониторы. То, что он там увидел, потрясло Глеба. В трех местах через забор лезли вооруженные люди!
«Мамочки!» — мысленно возопил Тихомиров-младший и вышел на связь со старшим группы.
— Первый, ты меня слышишь?! Первый, отзовись, прием!
— Не кричите, а то соседей разбудите, — миролюбиво прошелестело в ответ. — Я слышу вас, в чем дело, прием.
— К нам пожаловали «гости»!
— Спасибо за предупреждение. Где?.. А, одного я уже вижу! Где остальные?
— Они забрались со стороны сада. Ближе всех к ним Четвертый и Пятый.
— Понял, принимаем меры…
Дальнейшее напоминало компьютерную «ходилку-стрелялку», только без звука. Глеб видел, что на подворье дядьки Гната забралось человек пять или шесть. Почти все они заходили со стороны сада, который вытянулся в длину на добрую сотню метров. Хороший сад…
Но что еще больше поразило и удивило Глеба, так это молчание Рябка. Он что, обиделся на хозяина и объявил забастовку? Или у него со слухом и обонянием не все в порядке? Глеб посмотрел на монитор, где была видна будка, и увидел пса, который сладко спал и даже не шевелился. «Тоже мне, сторож», — подумал негодующе Глеб».
События разворачивались стремительно. Нападавшие быстро рассредоточились и двинулись вперед с намерением окружить дом. Неожиданно один из них упал, будто споткнулся, затем второй… И все это происходило в полной тишине. Глеб глазам своим не верил. Казалось, что бандитов прибирает нечистая сила — невидимая и беспощадная.
И только когда в группе незваных гостей осталось всего двое и когда рядом с ними беззвучно свалился их товарищ, они наконец поняли, что попали в смертельную западню. Один из парней сломя голову побежал к забору, чтобы покинуть сад, а второй — наверное, чересчур тупой, чтобы грамотно соображать в критической ситуации, — дал очередь из автомата, целясь только в ему видимую цель.
Теперь уже Глеб услышал выстрелы. В ночной тишине они прозвучали так, будто какой-то великан разорвал огромное парусиновое полотнище. Но это длилось от силы две-три секунды. В следующее мгновение стрелок последовал за своими товарищами — пуля попала ему точно в лоб…
Ошеломленный Глеб сидел, тупо пялясь на экраны до тех пор, пока не отворились ворота и во двор не въехал джип… в котором сидел дядька Гнат! «Это когда же он успел смайнать?!» — подумал Глеб. Чудеса…
Став перед видеокамерой, Игнатий Прокопович включил свое переговорное устройство, и Глеб услышал:
— Усё, сынку, отбой. Спускайся до нас.
Когда Глеб вышел во двор, вся команда уже была там. Из пятерых бойцов лишь один был ранен, но не очень сильно. Его тут же перевязали. Присмотревшись, Глеб понял, почему он не слышал выстрелов, — оружие у всех пятерых имело глушители.
— Ну, шо там? — спросил дядька Гнат старшего группы.
— Шесть человек. Из них пять — «груз 200». Один ушел.
— Цэ нэ зовсим хорошо, ну та шо поробыш…
— Что делать со жмуриками?
— Тоби подсказать или сам сообразишь?
— Уже сообразил. Сделаем…
— А ну достаньте мне из машины еще одного гаврика. Мы трохы с ним побалакаем…
Парни вытащили из джипа отчаянно брыкающегося бугая. Его голова была рассечена, и кровь все еще продолжала сочиться, а руки были связаны за спиной. «Неужели дядька Гнат взял его самолично?! — подумал удивленный Глеб. — Вот тебе и пенсионер…»
— Оставьте его, — приказал Игнатий Прокопович. — Он уже неопасен. Ну шо, сынку, сильно помогли тебе твоих ляхи? Звыняй — французы. А? Чого мовчыш? Стыдно? Та ни, у тэбэ, Вовусик, николы совести не было. Такый уродывся… Беда… И шо мне теперь с тобой делать?
— Виноват… Игнатий Прокопович. Сильно виноват. Каюсь. На большие деньги позарился… дурак! Все было как в тумане… Подкупил меня этот гад. На мякину повелся. Трижды дурак! Простите меня.
— Цэ точно, шо дурак. Бо умни люды приходят до мэнэ с добром, а я им отвечаю тем же. Мало я с тобой возился? От ментов раз десять спасал. И оцэ така благодарность…
— Простите! — бугай вдруг упал на колени. — Я молиться за вас буду!
— Вишь, якый богомольный… Хибы ты не знав, шо я в церковь, конешно, хожу, а вот заповеди церковные не исполняю. Якшо меня бьют по левой щеке, то я даю сдачи с правой руки. Не, Володька, надо отвечать. Горбатого тилько могила исправит. Заберите его!
Парень упал на плитки двора и завыл словно волк-подранок. Старший группы подошел к нему и одним точным ударом автоматного приклада по голове бугая погрузил его в беспамятство. Тем временем дядька Гнат подошел к Рябку и, поднатужившись, поднял пса на руки. По щекам Игнатия Прокоповича потекли слезы.
— Убылы песика… — он всхлипнул. — За шо?! Така гарна була собачка… Лучший друг. А воны убылы… Як можна после этого простить?! Жаль, шо один сбежал…
Спустя полчаса парни завершили «зачистку» территории и уехали. Убитых и все еще пребывающего в беспамятстве бугая они положили в фиктивную «скорую», которая последовала за ними. Подворье опустело. Дядька Гнат сидел в беседке какой-то опустошенный и жалкий. Глеб маялся неподалеку, не решаясь с ним заговорить. В том, что случилось, он винил только себя.
Игнатий Прокопович будто подслушал мысли Тихомирова-младшего.
— Ты, Глебушка, сильно не переживай, — сказал он и начал раскуривать свою люльку. — Ты тут практически ни при чем. Махно давно думал свести со мной счеты, шоб прорваться на мой рынок. Мне уже не раз докладывали. А тут пидвернувся такый удобный момент — замочить меня та щэ й за вэлыки гроши. И вин его не упустыв… Дурень!
— Так это был Махно?
— Ага… а то хто ж. Собственной персоной. Гроза Подолу… хе-хе… Ладно, первый бой мы выиграли, а сражения пока нет. Надо быть ворога, шоб вин не опомнился. Завтра… — шо я кажу?! Уже сегодня — идем на Китай-гору. А чего оттягивать? Як ты, готов?
— Я как пионер — всегда готов.
— От и добрэ. А теперь пойдем трохы покемарим. Бо я шось став як та перестоявшая квашня.
Глеб немного поколебался, но все же спросил:
— А вы не думаете, что нас могут взять тепленькими? Прямо во сне? Охрана ведь уехала…
Дядька Гнат скупо улыбнулся и ответил:
— Ты меня недооцениваешь, Глебушка. Я уже вызвав смену. Тилько воны будут охранять нас снаружи по периметру. Спи спокойно…
Едва голова Глеба коснулась подушки, как он тут же уснул. На этот раз без сновидений.
Глава 21 1918 год. Иона Балагула
В один из теплых весенних дней по улицам Подола вышагивал скверно одетый гражданин босяцкой наружности. Из разбитых ботинок выглядывали большие грязные пальцы, изрядно потрепанный и пыльный пиджак был одет на голое тело, а матросские брюки-клеш едва доходили до щиколоток. По всему было видно, что гражданин носит одежду с чужого плеча.
Большинство улиц Подола не были вымощены брусчаткой, и гражданину то и дело приходилось обходить большие лужи, в которых плескались домашние утки. Присутствовала на улицах и другая живность — козы и куры. Причем подольские козлы явно обладали бандитским характером. Они провожали гражданина какими-то нехорошими взглядами, а самый старый из них, здоровенный черный козлище, вдруг безо всякой причины больно боднул его рогами.
На углу одной из улиц гражданин остановился, прочитал табличку с ее названием — «Ул. Александровская», — удовлетворенно хмыкнул и направился к дому № 91, на котором висела изрядно выцветшая вывеска: «Центральный магазинъ и мастерская часовъ Л. Я. ШАПОВАЛА».
Дверь магазина была заперта. Подергав ее за ручку, гражданин почесал в раздумье нос, а затем, неожиданно рассердившись, пнул дверь несколько раз ногой. При этом он умудрился разбить большой палец правой ноги, который не ко времени выскочил наружу, и начал тихо материться, морщась от боли.
На его удивление за дверью послышался шорох, и чей-то голос робко сказал:
— У нас закрыто.
— Вижу, не слепой… — буркнул гражданин. — Это ты, Лёва?
— Допустим, это я. А кто спрашивает?
— Не узнаешь?
— Прошу пардону — нет.
— Да-а, давно я не был в Киеве. Забыли старые друзья Иона Балагулу, забыли…
— Балагула?! Тебя же убили.
— Где, когда?!
— Намедни — третьего дня — я разговаривал с Гершком Лейбовичем, так он сам мне это сказал. То ли тебя немцы застрелили, то ли добровольцы из команды охраны Киева. И в газетах будто бы было написано.
— Контора пишет… Вот он я, живой и здоровый. Ты долго будешь держать меня под дверью?! Открывай.
— А ты точно Балагула?
— Вот те раз… Гумажку показать, что дали мне вместо пачпорта? Али так обойдемся?
— Ты лучше подойди к окошку. Хочу тебя видеть.
— Ладно, смотри… чтоб тебя!
Балагула подошел к витрине, которая теперь была забита деревянными щитами, и стал перед крохотным оконцем, прорезанном в нестроганых досках. Снаружи послышался возглас удовлетворения, и спустя минуту, прогрохотав засовами, дверь магазина отворилась.
— Вы что тут, совсем сбрендили?! — возмущался Балагула. — Попрятались все, как крысы, и сидят, нос наружу не кажут.
— Здравствуй, Иона, — сдержанно сказал хозяин магазина, протер очки и снова водрузил их на нос.
— Ну, здорово, Лёва…
Они обнялись. Ни Шаповал, ни Балагула не были друзьями. Их объединяло анархистское прошлое. Шаповал поддерживал группу анархистов, в которую входил Ион, материально.
— Ты голоден?.. — спросил Лёва.
— А ты как думаешь?
— Думаю, что надо тебя покормить… да вот чем?
— Ну-ну, не прибедняйся.
— Эх, Иона, ты сильно оторвался от реалий жизни. У нас почти каждую неделю то погромы, то конфискации. Живем одним днем. Ты посиди, я сейчас…
Помещение магазина выглядело каким-то серым и запущенным. О былом процветании напоминали лишь таблички на стенах: «Продажа часов: карманныхъ, золотыхъ, серебряныхъ, стенныхъ и будильниковъ. Постоянно большой выборъ». «Принимаю заказы на починку часовъ, золотыхъ и серебряныхъ вещей».
Шаповал принес миску говяжьих мослов, горбушку ржаного хлеба и кувшин молока.
— Козье, — сказал он с гордостью. — Очень пользительное. С деревни привозят. А знаешь какие теперь кордоны? В город не пробиться.
— Благодарствую, — ответил Иона и жадно вгрызся в остатки мяса на большой желтоватой костомахе. — А что касается кордонов, то я знаю о них не понаслышке. Как собаки цепные. И не только лают, но еще и кусаются. Германцы едва не пристрелили меня…
Пока он насыщался, Лёва рассказывал:
— …Просто какой-то последний день Помпеи. Все грабят, пьянствуют и везде сплошной разврат. Командующий войсками генерал Келлер издал приказ: «Если не можешь пить рюмки — не пей; если можешь ведро — дуй ведро». Каково, а?
— Правильный приказ. Для кого и лафитника достаточно, а кому и четверть принять, словно раз плюнуть. А у тебя есть что-нибудь?..
— Ой, забыл! Извиняюсь… — Шаповал снова исчез в глубине магазина и возвратился с бутылкой самогонки.
— Тоже привезли из деревни? — поинтересовался Балагула.
— Привезли. Но местные тоже гонят. Самогон нынче в цене. Это главный конфискант. Все могут оставить, а водку заберут.
— Да уж… главный наш продукт. Выпьешь со мной? За встречу.
— А, наливай! — махнул рукой Лёва. — Все равно работы никакой.
Они чокнулись и выпили. Балагула снова принялся за еду, а Шаповал лишь погрыз сухую хлебную корку.
— В газетах пишут, что союзники уже близко, — меланхолично продолжал рассказывать Лёва. — Союзники в Жмеринке! В Бирзуле! На Черном море показались вымпелы! Немцы готовы поддержать гетмана и добровольцев! Это все заголовки газет. И все они брехливые. Никому мы не нужны. В Киеве голодно, а по селам продуктов — завались. Знакомый офицер рассказывал, что захватили обоз, в котором граки везли петлюровцам яйца, сало, хлеб, мясо, масло, водку… Крестьяне окрестных сел откровенно поддерживают Петлюру, надеясь с его помощью отвести и большевистскую угрозу, и Добровольческую армию, и, разумеется, немцев, в которых видят не союзников, а врагов.
— Ну и что стало с крестьянами, сопровождавшими обоз?
— Расстреляли, — ответил Шаповал и вздрогнул. — По законам военного времени…
— Знаем мы эти законы… — Балагула поискал глазами какую-нибудь тряпку, не нашел и вытер жирные пальцы о свои брюки. — Лёва, ты деньжат мне не подкинешь? На первое время. Я отдам…
— Что ты, Иона?! — замахал на него руками Шаповал. — Откуда у меня деньги? У меня почти все забрали. Немного осталось на жизнь, но это так, слезы. И кто бы ты думал меня ограбил? Наши, местные босяки. Пришли, приставили нож к горлу: давай, говорят. Иначе будет с тобой то, что с Дехтеревым. Помнишь, у него магазин был на противоположной стороне улицы? Ночью всех сторожей и двух приказчиков зарезали. А магазин ограбили и подожгли. Ах, какой был магазин!.. Пришлось отдать. Жизнь дороже денег.
Балагула не поверил ни единому слову Шаповала. Чтобы у Лёвы не было денег… нет, это невозможно! Сокрушенно вздохнув, — увы, номер с заимствованием денежных средств на халяву не выгорел — Иона полез в карман и достал оттуда узелок. Положив его на стол среди хлебных крошек, он развернул тряпицу, и взору заинтригованного Шаповала предстали украшенные рубинами золотые часы фирмы «Павел Буре» в отличном состоянии.
— Часы купишь? — спросил он, наблюдая за реакцией Лёвы.
И не ошибся в своих предположениях. Часы для Шаповала — это было все. Вся его уже немолодая жизнь. Он жадно схватил часы и начал их рассматривать с таким трепетным обожанием, с такой любовью, что словами не передать.
Смотрины несколько затянулись, и Балагула нетерпеливо сказал:
— Если берешь, гони деньгу. Ежели нет, тогда покеда. Мне бы приодеться по-человечески да в баньку сходить…
— Сколько? — не спросил, а выдохнул Шаповал; и тут же, спохватившись, продолжил: — Если сговоримся, попрошу у кого-нибудь взаймы. Если, конечно, дадут…
Балагула мысленно заржал — узнаю Лёву! хитрован… — и сказал:
— А сколько дашь? — Иона слабо представлял, какую цену в новых деньгах, отпечатанных в Германии по заказу Центральной рады, просить за часы.
Они торговались больше часа. Балагула, хорошо зная бывшего однопартийца, предложенную Лёвой цену умножил на десять. После длительных препирательств сошлись в цене, которая превышала первоначальную в пять раз. Шаповал куда-то сбегал и принес толстую пачку новеньких дензнаков.
Иона с удивлением рассматривал сторублевку Центральной Рады. На невзрачной голубовато-серой банкноте были изображены женщина в национальном костюме с хлебным снопом в руках и рабочий. Внутри большого венка, по бокам которого стояли человеческие фигуры, было напечатано «100 гривень» и нарисован трезуб.
— Что, карбованцы уже не ходят? — спросил Балагула.
— В Украине сейчас что только не ходит: гривни, рубли, карбованцы, шаги[57], немецкие рейхсмарки и остмарки… — мрачно ответил Лёва; он мысленно ругал себя за то, что пошел на поводу у Ионы и заплатил ему за часы больше, чем планировал изначально. — Теперь банкноты печатают все кому не лень, в том числе Бердичевское общество поощрения коннозаводства, фирма «Одесский трамвай» и даже екатеринославский кооператив с удивительно «денежным» названием «Долой хвосты».
— Да-а, отстал я немного от жизни…
— Еще как отстал. В центре не был?
— В таком-то виде… Не смеши меня. Я не дошел туда. Но побываю.
— Посмотришь на Крещатик — многое поймешь. Извини за вопрос… — Шаповал замялся. — Где… э-э… где ты взял эти часы?
— Там их уже нет, — коротко ответил Иона и поднялся. — Не волнуйся, никто их у тебя обратно не потребует. Прощевай, Лёва. Может, уже и не свидимся. Спасибо, что накормил.
«Где взял, где взял… — мысленно брюзжал Балагула. — Где взял, там их уже нет. И хозяина тоже…» Тут он невольно вздрогнул, вспомнив, как толстый помещик, которого он задушил и ограбил где-то под Киевом, хрипел и дергал ногами. «Сволочь! — с ненавистью думал Иона. — Хоть бы пару тыщ положил в портмоне».
Действительно, «улов» бывшего каторжанина, отпущенного революцией на свободу, был бы совсем мизерным, — всего две сотенных бумажки, правда «катеньки», — не окажись в жилетном кармане помещика золотых часов фирмы «Павел Буре» на цепочке.
Одежду помещика Балагула побоялся присвоить, так и продолжил свой дальнейший путь в рванине. А ну как прищучат? У помещика был отряд вооруженных до зубов казачков, которые, как потом человеческая молва донесла до ушей Ионы, перешерстили в поисках убийцы хозяина весь уезд. Хорошо, что он вовремя смекнул податься на железку. Ночью на одной из станций Балагула запрыгнул на ходу в пустой товарный вагон и доехал в нем до грузовой станции…
Оказавшись на улице, Иона сразу же зашел, как гласила вывеска, в «Магазинъ и спецiальное заведенiе шляпъ, шапокъ и фуражекъ И. КОЗЛОВА». «Специальное заведение» находилось совсем рядом с магазином Шаповала, в доме Попова под № 87. На удивление магазин функционировал, и Балагула вскоре оказался обладателем английской фуражки с клапанами, которыми можно было закрывать уши в холодные дни.
Дальнейший его путь лежал на Фундуклеевскую, в мастерскую мужских платьев братьев Крыжановских. Там ему не без некоторых препирательств (из-за его непрезентабельного вида) подыскали вполне приличный и недорогой костюм и рубаху. Новые ботинки он купил у какого-то кустаря, когда шел на Фундуклеевскую. Они были пошиты из хорошей кожи, на толстой подошве и, главное, не скрипели на ходу.
Балагула не любил лишнего шума…
Закрыв за собой входные двери мастеркой Крыжановских, Иона направил свои стопы в самое вожделенное для него на данный момент место — в недорогие бани Бубнова на Жилянской улице, которые находились неподалеку от Еврейского базара. К радости Балагулы, бани работали в обычном режиме. Разные революционеры и демократы, а также борцы за самостийность, как и нормальный люд, тоже были не прочь постирать свои изгвазданные подштанники и погонять в парной пот вместе со вшами.
Балагула не стал скупиться и купил билет в «дворянское» отделение бани. Дело в том, что бичом бань, особенно простонародных, были кражи у моющихся белья, обуви, а иногда и всего узла с одеждой. Существовали даже корпорации банных воров, выработавших свою особую систему. Они крали белье и платье, которое сушилось в «горячей» бане. А Ионе очень не хотелось оказаться без порток.
В «дворянских» отделениях бань за пропажу одежды отвечали «кусочники». Эти служащие платили аренду хозяину бани, набирали и увольняли персонал (кроме парильщиков). Моющийся сдавал платье в раздевалке, получал жестяной номер, иногда надевал его на шею или привязывал к руке, а то и просто цеплял на ручку шайки, и шел мыться и париться.
Вор, выследив жертву в раздевалке, ухитрялся подменить его номерок своим, быстро выходил, получал чужие вещи и исчезал с ними. А неосторожный посетитель бани вместо дорогой одежды получал рвань и опорки. Иона знал, что банные воры были сильны и неуловимы.
Некоторые хозяева, чтобы сохранить престиж своих бань, даже входили с ними в сделку, платя ворам ежемесячно отступные, и «купленные» воры сами следили за чужими мазуриками. Если же кто-то попадался на воровстве, ему приходилось очень плохо. Пощады от конкурентов ждать не приходилось; если и не убивали совсем, то калечили на всю оставшуюся жизнь.
Лицо «кусочника», который принял одежду Балагулы, показалось Иону знакомым. Приглядевшись, он радостно воскликнул:
— Привет, Шнырь! Какая нелегкая занесла тебя в баню?
Балагуле хорошо был известен род занятий Васьки Шныря до революции. Друзьями они не считались, но пребывали в приятельских отношениях, так как часто посещали одни и те же злачные места.
Обычно после первого часа застолья в трактирах и кабаках начинается всеобщее братание. А под утро, когда уже и карманы пусты, и в глотку больше ничего не лезет, и трактирщик начинает пинками выгонять на улицу, гуляки, обнявшись, требовательно спрашивают друг друга: «Ты меня, такой-сякой, уважаешь?»
«Неужели лихой и удачливый карманный вор «перековался» при новых властях?» — с удивлением подумал Иона.
— Ц-с-с! — зашипел на него Васька, умоляюще приложив указательный палец к губам и встревоженно оглядываясь на клиентов бани, которые уже одевались. — Заклинаю тебя, помолчи!
— Это почему? — недоумевал Иона.
— Потом… Ты иди, мойся, а вечером я сдам смену и, если желаешь, мы посидим где-нибудь, потолкуем.
— Заметано, — сказал Балагула, взял номерок, шайку и веник и пошел париться.
Оставшиеся после покупки одежды и обуви деньги он безбоязненно отдал Ваське, так как знал, что Шнырь у своих не ворует.
Попарившись от души и помывшись, Иона сначала зашел к мозольному оператору, а затем его взял в работу парикмахер; все эти услуги были организованы прямо при бане. Когда наконец все процедуры остались позади, и Балагула подошел в раздевалке к большому зеркалу во весь рост, то не узнал себя.
Перед ним стоял совсем другой человек: высокий, статный, чисто выбритый, с модной прической и в костюме, в котором не грех было зайти даже в приличный ресторан. Вот только с чем?
Иона пересчитал деньги, которые вернул ему Васька, и кисло скривился — на кабак, конечно, хватит, но это было не то. Балагуле хотелось развернуться во всю ширь своей анархистской души, чтобы напрочь выветрились из головы воспоминания о каторге и о скитаниях по Расее-матушке, пока он добирался домой.
С Васькой уговорились встретиться у него дома. Шнырь пообещал выставить угощение и оставить его переночевать. Этот вариант вполне устраивал Балагулу, который не знал, где приютиться. До ареста Иона снимал угол у одной вдовицы на Подоле, но идти туда ему не хотелось, чтобы не пробуждать амурных воспоминаний. В данных обстоятельствах они были совсем некстати. К тому же не существовало никаких гарантий, что место под ее теплым мягким бочком до сих пор не занято.
Чтобы убить остаток дня, Балагула, как и обещал Шаповалу, вышел на Крещатик. Увиденное поразило Иону до глубины души. Поначалу его едва не затолкали, и он стал прижиматься поближе к домам, потому что по мостовым и тротуарам катился сплошной поток экипажей и людей. Все кафе и рестораны были набиты битком, музыка гремела из всех открытых окон, и создавалось впечатление, что киевляне и беженцы праздновали Масленицу.
Элегантные мужчины всех возрастов и сословий, военные, проститутки, спекулянты, дамы в шикарных туалетах, фармазоны, изображающие из себя приличных господ, чистильщики обуви и разносчики газет, заглушающие своими звонкими криками даже звуки оркестра, наконец, чопорные немецкие офицеры в сопровождении каменноликих солдат… И все это скопище людей бурлило, пенилось, как уха в котелке, и выплескивалось с Крещатика на другие улицы и площади Киева.
«С ума сойти! — подумал ошарашенный Балагула. — Содом и гоморра!» На каторге он познакомился с умными товарищами — такими же, как он, революционерами-анархистами, но образованными, которые пристрастили его к чтению. Поэтому Иона значительно пополнил свой словарный запас, хотя в голове у него все равно остался сумбур.
Немного потолкавшись среди пьяного люду, Балагула почувствовал себя совсем чужим на этом вселенском шабаше. Веселье праздношатающихся по Крещатику было чересчур вызывающим, слишком громким и кричащим, чтобы можно было в него поверить. Создавалось впечатление, что все это происходит под девизом «А завтра после нас — хоть потоп».
Заметив военный патруль, выборочно проверяющий документы, Иона быстро свернул в первый попавшийся на его пути проходной двор, и вскоре Крещатик остался далеко позади. Бумаги, выданные ему при освобождении, могли показаться подозрительными, а снова оказаться в Лукьяновском замке у Балагулы не было никакого желания…
Васька расстарался, накрыл шикарный стол. Он где-то достал даже колбасу. Но главным украшением стола были четверть казенной водки (дореволюционной!) и керамическая миска с жареными карасями в сметане.
— Сам наловил? — удивился Балагула.
— Шутишь… — Шнырь ухмыльнулся. — Это меня один дедок снабжает. В Днепре рыбы — пропасть. А раки — как мои две ладони. Здоровущие! Еды для них сейчас хватает. Каждый день вниз по течению трупы плывут.
— Смута, — угрюмо сказал Балагула. — В селах и хуторах граки без обреза и в нужник не ходят. Чужого заметят — сразу на распил. Если чужой, значит, конокрад или просто вор. И никакие отговорки не помогают. Озлобился народ… Однажды я едва ноги унес.
— А, что там говорить! — Васька сокрушенно покачал головой. — Давай лучше выпьем за старые добрые времена.
— Не такими уж они были и добрыми. Но вспомнить есть что. Бывай здоров!
Они чокнулись и выпили. Изголодавшийся за день Балагула приналег на еду, а Шнырь лишь задумчиво поглядывал на своего гостя да смолил самокрутку.
— С табаком плохо, — пожаловался он Ионе. — Папиросы, конечно, можно достать, в основном у спекулянтов, но с большим трудом и задорого.
— Это да… А как ты стал «кусочником»? По-моему, у тебя совсем другая «специальность».
— Обижаешь… Под хозяина меня и сладкими коврижками не заманишь. Я теперь бригадир «купленных». Так что статус у меня все тот же — козырный, — в голосе Васьки появились хвастливые нотки. — И денежки хорошие идут. Народу в Киеве стало много, бани работают без выходных, сутками. Всем помыться, попариться охота. Многие думают: может, в последний раз… Такие нынче времена.
— Понял. Значит, ты со своим ремеслом завязал…
— Можно сказать, что так. А зачем? Живу я бобылем, одеться, выпить и закусить есть на что, никто меня не кантует, в уголовку не тащит… Знаешь, как немцы свирепствуют? У них везде и во всем должон быть порядок, «орднунг» по-ихнему. Чуть что — сразу в расход. Особенно не жалуют нашего брата — деловых и большевиков.
— Немцы — они такие… Меня тоже задерживали.
— Ну и как?
— Сбежал. Хорошо хоть документы недодумались отобрать. Посчитали меня подозрительной личностью. Это мне переводчик так сказал. Я ему долдоню, что бывший каторжанин, сидел в тюрьме при царе-батюшке, пострадал за правду, а он мне в ответ: мол, у вас тут все бандиты, все в тюрьмах сидели, и нужно всех русских в одну могилу положить. Ну не сволочь, а?!
— Сволочь, — легко согласился Васька. — Все они сволочи. Ну ничего, скоро наши придут, и будут немчики шпарить без оглядки до самого своего фатерлянда.
— А наши — это кто? — осторожно поинтересовался Балагула.
Его осторожность была оправданной. Поскитавшись год по России и Украине, он уже имел представление, что собой представляет революция. Брат шел на брата, сын на отца, и все это творилось по одной причине — в связи с расхождением во взглядах на будущее устройство страны. Так что «нашими» могли быть и господа офицеры, и петлюровцы, и большевики, и анархисты, затеявшие бузу в Гуляй-Поле.
— Какая разница? Лишь бы немчуру прогнали, — ответил Шнырь. — А там разберемся.
— Ты, случаем, не знаешь, жив мой хозяин, Ванька Бабай, или нет? — спросил Балагула, когда четверть опустела до половины.
Васька Шнырь вдруг сильно побледнел — стал как домотканое полотно, которое бабы расстилают летом на косогорах, чтобы их отбеливало солнце.
— Помер, — ответил он глухо, опуская взгляд на стол. — Еще в пятнадцатом году.
— Что ты говоришь? — удивился Балагула. — Надо же… А ведь был здоров, как бык, несмотря на годы.
— Здоровым он и умер. Его убили. Зарезали.
— Кто?
— Полиция убийцу не нашла… — Васька зябко передернул плечами. — Но есть у меня подозрения, есть…
Он замолчал, однако видно было, что уже пьяненькому Ваське страсть как хочется рассказать Балагуле какую-то интересную историю. Иона смотрел на него выжидающе и почему-то с неприятным томлением в груди.
— А, все равно помирать когда-нибудь придется! — махнул рукой Шнырь. — По моим следам смерть уже давно крадется, так что… Чего уж там. Ладно, слушай. В пятнадцатом один кореш пригласил меня на дело. И я, как последний дурак, недолго думая, сел на кукан…
Васька Шнырь увлеченно и красочно расписывал свои приключения на Китаевском погосте, а Балагула сидел ни живой, ни мертвый. На глазах Ионы рушилась его самая большая надежда. Он только себе мог признаться, почему с такой настойчивостью и страстью рвался в Киев.
Балагула хотел раскопать могилу, чтобы посмотреть, что лежит в цинковом ящике. Он был на девяносто процентов уверен, что там находятся какие-то ценности, потому что карлик-горбун, руководивший погребением, смотрел на ящик как кот на сало. Мало того, этот гнусный карла приказал опускать ящик в могилу очень бережно, словно в нем находилась спящая царевна… или дорогой фарфор.
— …А дальше ничего не помню, — тараторил Васька. — Как я бежал, как бежал… Словно конь на скачках. Представляешь, покойники в белых саванах идут по кладбищу! Ужас! Бр-р-р… — Его затрясло. — А наутро — куча трупов. В том числе и пристав Семиножко. (Он хоть и гад был, но с ним можно было договориться.) В общем, я едва умом не тронулся. Потом прятался больше года. Жил в такой норе, что до сих пор вспоминаю с содроганием. Но, с другой стороны, если бы я так не сделал, меня точно замочили бы. Как Бабая. Похоже, он слишком много знал.
«Это точно, — вяло подумал Иона. — Выходит, что все, кто участвовал в захоронении цинкового ящика, мертвы. Нет, не так — почти все. Я последний в этой очереди. И где же теперь этот ящик? Может, его обратно зарыли?» — мелькнула в голове мысль, принесшая надежду. Об этом он и спросил Шныря.
— Нет, не зарыли, — уверенно ответил мазурик. — Монахи сказывали, что могилка была разрыта и гроб, что мы вытащили, стоял на поверхности. Они потом его снова закопали и надгробие приладили. А ящик исчез. Может, те, кому он принадлежал, и вовсе увезли его из Китаевской пустыни. Жаль…
— Жаль… — как эхо повторил Балагула.
Он уже успокоился и предался философским размышлениям: «Кому написано на роду умереть нищим, тот нищим и умрет. Так что не будем зазря душу травить…» Все-таки прочитанные на каторге книги явно пошли Ионе на пользу…
Утром, прощаясь, Васька всучил Балагуле на дорогу большой кусок сала, завернутый в кусок домотканого полотна.
— Вот, — сказал он, смущаясь. — Чем могу…
— Спасибо, Василий, — от души поблагодарил его расчувствовавшийся Иона.
— А, чего там… Так ты точно решил уйти из Киева? Может, к нам?.. Устроим тебя банщиком или в парилку. Дело нехитрое. Лишь бы сила была и здоровье. А ты вон какой мужичище… только больно худой. Но это дело поправимое, откормишься.
— В Киеве мне делать нечего, — сухо ответил Балагула. — У меня сестра живет в Жмеринке, поеду к ней. Давно не виделись…
У него все никак не могли выветриться из головы дурацкие мысли о сокровище, которое могло находиться (нет — находилось!) в цинковом ящике. Оно было так близко… Увы и ах…
На том они и попрощались. Стараясь миновать чересчур оживленные центральные улицы, Балагула вскоре добрался до Днепра, перешел мост и…
И увидел карлика! Да, да, того самого горбуна, который руководил погребением цинкового ящика. Он разговаривал с немецким офицером. Иона бочком, бочком, словно краб, сошел с мостовой и спрятался за какими-то строениями. Отсюда было хорошо видно место, где стояли немчура и карлик. Он по-прежнему носил черную одежду, но казался немного выше. Наверное, из-за ботинок на высоком каблуке.
Наговорившись всласть (Балагула извелся, наблюдая за беседой), карлик любезно пожал руку офицеру и пошел в сторону Ионы. Бывший копач могил принял решение моментально. Не совсем осознанная ненависть к проклятому карле, который ходил в друзьях у немцев, вдруг всколыхнула все его естество.
Балагула быстро осмотрелся (поблизости не было никого), привычным движением достал нож и спрятался за выступом стены. Карлик шел и беззаботно насвистывал какой-то опереточный мотивчик. «Счас ты у меня посвистишь…» — злобно подумал Иона и, когда карлик вышел из-за угла, сильно и точно ударил его ножом в горло…
Спустя час Балагула уже сидел на телеге словоохотливого крестьянина-грака. Он привозил сено в город для нужд конных сердюков[58] и теперь возвращался домой, в свое родное село. Невнимательно прислушиваясь к его болтовне и поддакивая, Иона время от времени прикасался к нагрудному карману, где лежали бумажник с приличной суммой в рейхсмарках и бронзовая пластина с рельефными изображениями на одной из сторон. Все это добро он нашел в карманах убитого им мерзкого карлы.
Сначала Балагула подумал, что ему достался золотой портсигар, и сильно обрадовался. Однако немного позже, присмотревшись, понял, что это всего лишь хорошо полированная бронза. Он уже хотел выкинуть пластину, но тут внутренний голос вдруг приказал ему этого не делать.
Озадаченный Иона некоторое время размышлял над этим странным явлением, а потом сообразил: если черный карлик носил пластину в потайном кармане, значит, тут есть какая-то загадка. Что она собой представляет, Балагула не имел ни малейшего понятия, но на всякий случай завернул пластину в тряпицу и засунул ее в карман…
Дальнейший путь Ионы Балагулы был тернист и извилист. Собственно говоря, как и у всех зрелых мужчин той нелегкой поры революций, переворотов и междоусобицы, названной гражданской войной. Проследить за перипетиями его судьбы практически невозможно. Известно лишь то, что в 1937 году он был расстрелян как враг народа.
Но в архивных документах есть одна интересная деталь, очень важная для нашего повествования. Следствие по его делу вел сотрудник НКВД младший лейтенант госбезопасности Оскар Трейгер.
Глава 22 2007 год. Ens entium
Жизнь — очень интересная штука. (Это чтобы не сказать — коварная.) Она напоминает охотника, который притаился на звериной тропе и ждет удобного момента, чтобы пустить в зазевавшегося зайчика свою смертоносную стрелу.
Вот идет себе человек — веселый, жизнерадостный, бодрый, по прямой, как стол, дорожке — и понятия не имеет, что даже на недавно положенном асфальте существуют мелкие рытвинки. Наступил на одну из них неудачно — и кранты: упал, сломал руку, обморок, очнулся — гипс.
Так случилось и с Глебом. Нет, он ничего себе не сломал. Только провалился в такие тартарары, что теперь понятия не имел, как из них выбраться. Однако все по порядку. На следующий день после нападения братков Махно дядька Гнат решительно сказал:
— Усё, Глебушка. Надо действовать. Бо хто поспел, тот и съел. Давай номерок, я пошлю людей, шоб забрали твои вещи из камеры хранения.
Спустя два часа Глеб уже рылся в своем «абалаковском» рюкзаке, отбирая все, что ему нужно было для работы в подземных условиях.
— Я тебе дам двух гарных хлопцев, бо в подземельях одному страшнувато, — дядька Гнат топтался рядом, как любопытная сорока заглядывая через плечо Тихомирова-младшего внутрь рюкзака. — По себе знаю.
— Нет! — отрезал Глеб. — Мне не нужны неопытные в таких делах помощники. Это лишняя обуза. Я пойду один.
«Еще чего, — подумал он с неожиданно проснувшимся жлобством. — А если в Китаевских пещерах и впрямь спрятано что-то очень ценное. Лишние глаза — лишние языки».
— А можэ я… — осторожно сказал Игнатий Прокопович.
— Это еще лучще. Вы, конечно, извините меня, но фигура у вас уже немного не того… не совсем спортивная. В подземных лабиринтах есть такие места, где может протиснуться только худой человек.
— Твоя правда… — дядька Гнат сокрушенно вздохнул. — Дэ мои семнадцать… Ну ладно, иди один. А я буду ждать наверху…
Провал все-таки пришлось раскапывать. К счастью, он находился в лесочке, на косогоре, вдалеке от главного входа в Китаевские пещеры, где, как обычно, было людно, поэтому парни дядьки Гната с лопатами не привлекли к себе повышенного внимания.
Нужно сказать, что Глеб им не завидовал. Непривычные к тяжелому физическому труду, бедные бегемоты о двух ногах обливались потом и пыхтели так, что слышно было за версту. Хорошо, что их некому было слушать. (Игнатий Прокопович и Глеб, естественно, не в счет.)
На удивление вход раскопали быстро. Он был больше заплетен корнями и высокой травой, нежели завален землей. К тому же грунт оказался лёссом[59], и работать с ним было не так уж и трудно, как могло показаться со стороны. Когда наконец на желтом фоне песчаника нарисовалось черное пятно входа, Глеба уже бил мандраж. Это было его обычное «предполетное» состояние, означающее, что он готов к любым перипетиям в подземном поиске.
— Ну, с Богом! — проникновенно сказал дядька Гнат и перекрестил Глеба.
Уставшие «казачки» наблюдали за ними с неподдельным интересом. Но этот интерес не был вызван ритуалом прощания. Их сильно заинтриговали таинственность раскопок и тот фон, на котором они происходили. Нападения на хату кошевого атамана было событием из ряда вон выходящим.
Первое время все шло по «сценарию», о котором рассказывал дядька Гнат. Сначала Глеб шел по узкому подземному ходу, которому не было видно ни конца ни края. Впрочем, опытный кладоискатель Тихомиров-младший знал, что это впечатление обманчиво. Во всем виновата темень, раздвигающая расстояния до бесконечности. Похоже, этот ход был боковым ответвлением от центральной галереи.
Завал, где погиб дружок юного Гната, находился метрах в сорока от входа. Чтобы перебраться на другую сторону, саперная лопата, которую Глеб взял с собой, не понадобилась — со временем завал слежался и просвет между полом и потолком стал шире. Он был настолько широк, что Глеб даже не переполз через него, а перешел на четвереньках.
Он попал в коридор с высоким — около двух метров — циркульным сводом и шириной не менее девяноста сантиметров. По бокам коридора были выкопаны углубления — скорее камеры — размером примерно два метра в ширину и пять в длину. Видимо, это были кельи монахов-схимников.
Глеб по ходу дела заглянул в одну из них. Вдоль стен кельи были вырезаны две лежанки и устроены полукруглые ниши для икон, свечей и лампад. И больше ничего. Глеб не нашел ни единого свечного огрызка, ни клочка ткани. Похоже, монахи тут жили очень давно, возможно, во времена татаро-монгольского нашествия.
А дальше началась та самая «чертовщина», о которой Глебу рассказывал дядька Гнат. Действительно, в нише во весь рост стоял скелет. Его руки и ноги были в цепях и оковах, прикрепленных к штырям, глубоко вбитым в стену. А в глазницы скелета какой-то умелец вмонтировал сильно фосфоресцирующие в лучах прожектора вставки — то ли из специального стекла, то ли из металла.
Во всяком случае, впечатление было жутким. «При виде такого «клиента» и впрямь можно обмочиться», — с внутренним трепетом подумал Глеб, вспомнив рассказ дядьки Гната.
А потом раздался вой. Он очень напоминал сирену воздушной тревоги и в замкнутом пространстве коридора мог произвести на неподготовленного к таким вещам человека потрясающее впечатление. Казалось, все исчадия ада голосят и бегут по подземным ходам, чтобы наказать того, кто нарушил покой скелета.
Но Глеб был прагматиком и вполне современным человеком, поэтому если и верил в мистику, то совсем немного. Он больше склонялся к мысли, что все странности человеческого бытия можно объяснить с точки зрения науки. Но, как говорится, нельзя объять необъятное. Человек многое познал в окружающем его мире, но еще больше ему придется познавать — до тех пор, пока жизнь на Земле не исчезнет и не канет в бесконечное НЕЧТО.
Секрет устрашающего воя Глеб раскрыл очень быстро. Неподалеку от ниши, в которой стоял скелет, находилась замаскированная песком широкая металлическая пластина. Любой, кто шел по коридору, должен был на нее наступить.
Когда Глеб надавил на пластину еще раз, звуки сирены умолкли. Похоже, она включала какой-то хитрый механизм, который по замыслу его создателей должен был отпугивать нечаянно (или намеренно) забредших в лабиринт людей.
Все это так, но почему скелет не рассыпался? Глеб уже безбоязненно подошел к нише вплотную и увидел, что кости соединены в единое целое медными скрепами. Там же, в углу, лежала истлевшая от времени одежда.
Глеб поковырялся в трухе лопатой и нашел лишь одну хорошо сохранившуюся вещь. Это была бронзовая бляха с изображенным на ней двуглавым имперским орлом с короной, опирающимся лапами на два якоря. Такие ремни, насколько было известно Глебу, носили матросы царского флота в войну 1914 года. Но остатки тряпья совсем не напоминали флотскую форму. Наверное, распятый в нише человек прикупил матросский ремень по случаю.
Тихомиров-младший очистил бляху от песчинок и посмотрел на нее с другой стороны. Все верно, он не ошибся, владелец ремня оставил свою метку — на прочной бронзе бляхи были выцарапаны кончиком ножа буквы, которые сложились в имя «ПЕТРЯ». Похоже, владельцем одежды и ремня был молдаванин.
«За что его так?..» — подумал не без жалости Глеб, глядя на скелет. Похоже, этого неизвестного Петрю раздели догола и распяли. А затем, когда кости дочиста обглодали разные подземные зверушки, посетили подземелье еще раз и устроили страшилку со скелетом и воем сирены.
Интересно, голосящий скелет — это первый и последний сюрприз? Или меня ждут впереди новые, возможно, более неприятные открытия? — размышлял Глеб. Скорее всего, так оно и будет, «утешил» он себя после некоторого раздумья. Уж больно умелые мастера варганили страшилку. Скорее всего, скелет они установили для разминки.
Бляху Глеб не взял, хотя она и представляла для него определенный интерес. Ремень с бляхой принадлежал мертвецу, возможно, был его гордостью и он им дорожил, поэтому Тихомиров-младший положил ее у ног скелета. А затем он достал походную фляжку с коньяком, по древнему обычаю пролил несколько капель на пол галереи и отхлебнул глоток — помянул несчастного Петрю.
Исполнив этот обряд, Глеб пошел дальше. Но перед этим он возвратился немного назад, чтобы подобрать с пола старинную зажигалку. Она была сделана из стали-нержавейки, поэтому лишь немного потемнела от времени. Рядом с ней лежали лопата и совсем сгнившая веревка. Это были вещи дядьки Гната, которые он оставил здесь в далекие послевоенные годы.
Все верно, зажигалка была с орлом. Но не германским, а американским. Наверное, ее презентовал отцу Игнатия Прокоповича какой-нибудь янки, восхищенный подвигами советских солдат в войне с фашистами. «Как быстро они все забыли, — подумал Глеб. — В особенности то, что Россию никто и никогда не побеждал…»
Теперь Глеб продвигался вперед, словно сапер на заминированном поле: пока не проверит, не прощупает перед собой пол, не сделает ни единого шага. И все же мастера ловушек перехитрили даже такого опытного археолога, как Тихомиров-младший, не раз и не два раза плутавшего в подобных подземных лабиринтах.
Земля разверзлась под его ногами тогда, когда он меньше всего этого ждал. Уже проваливаясь в пустоту, Глеб вдруг почувствовал, что оберег снова стал горячим и буквально прожигает хлопчатобумажную майку. Он пододел ее под рубаху, потому как знал, что в подземельях чаще всего сыро и прохладно. Наверное, оберег предупреждал его об опасности и раньше, но Глеб этого не ощущал, так как оберег висел поверх майки.
Удивительное дело, но Тихомиров-младший никогда не задумывался над странными свойствами подарка Гоши Бандурина. Может, потому, что знал, откуда он взят. Глеб даже не пытался сделать анализ металла, из которого он изготовлен, хотя запросто мог это сделать. Тихомиров-младший лишь определил, что трехликий мужчина, вычеканенный на обереге, — это древний бог Агни[60].
Глебу сильно повезло. Его совсем не присыпало землей. Наверное, так и задумали устроители ловушки: пусть помучается, сволочь, нечего зариться на чужое добро. Он посветил на потолок и увидел там такой же свод, как и в верхней галерее. И только если хорошо присмотреться, то можно было заметить контуры люка, в который он и провалился.
«Хитро… — как-то отрешенно подумал Глеб. — Меня тут не найдут и до скончания века». А открыть люк, который сделан из армированного сталью бетона (это он определил на ощупь), ему не под силу. Люк можно было только взорвать.
Конечно, он был уверен, что дядька Гнат пошлет на его поиски целую бригаду. Но толку с того? Разве что у него появится один или два напарника по дороге на тот свет. К тому же не исключено, что уже активированы и другие подобные ловушки, поближе к выходу. А значит, копать будут не там, где нужно.
Но предаваться отчаянию было рановато. Вот только как насчет кислорода… Верхняя галерея проветривалась просто-таки замечательно. Видимо, монахи очень грамотно сделали систему воздуховодов. А как будет обстоять дело в нижнем ярусе?
Глеб зажег спичку и удовлетворенно хмыкнул — есть! Огонек отклонился в левую сторону. Значит, где-то там должен быть выход… или вытяжное отверстие, куда может пролезть только крыса. Однако выбирать не было из чего, и Глеб пошел направо. Тем более что галерея, судя по стрелке компаса, шла в нужном ему направлении.
Он шел минут двадцать (осторожничал), пока не наткнулся на сплошую стену. Тупик… Тупик! Отверстие воздуховода (диаметром примерно двадцать сантиметров), как Глеб и предполагал, было сделано в потолке.
Чувствуя, как к нему потихоньку начало подкрадываться отчаяние, Глеб сел и занялся очень важным на данный момент делом. Он решил подкрепиться. Еда обычно приносит человеку успокоение и дает возможность здраво оценить сложившуюся ситуацию. Этот странный феномен обеденного перерыва Глеб уже успел оценить в свое время.
Направив рефлектор коногонки на стену тупика, чтобы пользоваться рассеянным светом, Глеб начал жадно есть бутерброд с салом, который положил ему в качестве тормозка дядька Гнат. Сало — самый энергоемкий продукт, незаменимый в путешествиях. Оно и хранилось долго, и силы от него прибавлялись быстро, притом от совсем небольшого количества.
Пока Глеб полдничал, его ум работал, словно атомный котел, а глаза чисто механически ощупывали каждый бугорок на освещенной стене. И в какой-то момент он вдруг понял, что стена искусственная! Это открытие просто ошарашило Тихомирова-младшего. Он едва не подавился куском бутерброда, да вовремя прочистил горло двумя глотками воды.
Не доверяя зрению, Глеб встал и постучал в стену черенком лопаты. Стена отозвалась звонким звуком. Да, точно — перегородка! Но зачем она здесь?
Это уже был для Глеба не вопрос. Выход! Там должен быть выход из лабиринта! Откуда к нему пришла такая уверенность, Глеб не знал. Но это и не было столь важно на данный момент. Отцепив от пояса небольшую кирку, он начал с остервенением вгрызаться в кирпичную кладку, оштукатуренную под желтый цвет глиновидного песчаника.
Вскоре образовался достаточно обширный пролом, и Глеб, забрав все свое снаряжение, нырнул в него, чтобы очутиться… точно в такой же галерее, как и та, что осталась позади! Похоже, это было ее продолжение. Не останавливаясь, он быстро пошел дальше. Теперь Глебу почему-то казалось, что впереди не будет никаких ловушек.
Но далеко идти ему не пришлось. Свет фонаря уперся в цинковый ящик, стоявший посреди подземного коридора. Сердце Глеба забилось с такой страшной силой, что, казалось, вот-вот выскочит из груди.
Он нашел! Нашел!!! Глеб упал на колени возле ящика и начал ощупывать его со всех сторон. Увы, он был запаян. На почерневшем от времени цинке хорошо просматривались следы паяных швов. В одном месте Глеб увидел довольно глубокий пропил, замазанный вязкой мастикой, но толку от этого не было никакого. Узнать, что находится в ящике, без соответствующих инструментов не представлялось возможным.
И что теперь дальше делать? Глеб сел и тут же вспомнил басню дедушки Крылова про лису и виноград.
«Да, брат, близок локоть, но не укусишь… — подумал он с сарказмом. — Этот ящик для меня как чемодан без ручки: и выбросить жалко, и тащить с собой невмоготу. Хотя он и не очень тяжелый, — Глеб попытался поднять ящик. — Дотащил бы… вот только хорошо бы знать, в какую сторону его тащить. Интересно, что в нем? Ой, как интересно… Открыть бы его. Но как? Вопрос… Впрочем, он вторичен. На первом месте у меня стоит другая задача — как отсюда выбраться? Потом можно будет возвратиться в подземный лабиринт с казачками дядьки Гната и поднять ящик на поверхность».
Надо что-то делать… Надо! Глеб решительно встал и подошел к стене, которой оканчивался коридор. Может, и здесь искусственная перегородка?
К сожалению, это было не так. Перед ним находилась стена из глинистого песчаника. «Все, приехали…» — подумал Глеб. Конечно, он и не думал впадать в отчаяние, потому что ему удавалось выбираться и не из таких передряг. Но все равно положение было серьезным.
Неожиданно Глебу послышались голоса. Они подействовали на него как удар тока. Он прислушался. Голоса доносились из-за стены! Неужели он ошибся, неужто стена искусственного происхождения?
Глеб схватил кирку и начал вгрызаться в песчаник. Все-таки это был песчаник… Но голоса не затихали. Они становились громче, приближались. А затем все стихло. Обман слуха, галлюцинации? В яростном остервенении Глеб ударил киркой раз, другой — и она куда-то провалилась. От неожиданности Глеб выпустил ее из рук, и какое-то время стоял, тупо глядя на образовавшуюся дыру.
Затем до него дошло, он поднял с пола свою саперную лопату и начал торопливо расширять отверстие. Внутри бурлила радость, но Глеб старался не поддаваться на ее шальное буйство. Вскоре он раскопал отверстие до такого размера, что вполне мог пролезть через него, что Глеб и сделал.
За стеной тоже был коридор, но когда Глеб посветил на пол, то с удовлетворением отметил, что на нем много капель свежего воска. А когда обернулся, то понял, почему так легко пробился сквозь стену.
Оказалось, что стена с другой стороны имела глубокую нишу, в которой находилась икона. А перед иконой кто-то зажигал свечи. Несколько огарков валялось тут же, вперемешку с песчаником.
Мысленно попросив прощения у святого, изображенного на иконе, Глеб поднял ее с пола и, убедившись, что с нею все в порядке, водрузил икону на прежнее место и зажег один из свечных огарков. Правда, для этого ему пришлось немного поработать (Глеб закрыл образовавшийся лаз кусками песчаника).
А затем он быстро пошел по подземному коридору на звуки голосов. Вскоре Глеб увидел мерцающие огоньки свечей, и спустя какое-то время он незаметно присоединился к группе экскурсантов, осматривающих Китаевские пещеры. Группу вел монах. Только он заметил, что среди его подопечных появился чужак. Но ничего не сказал, лишь посмотрел на Глеба долгим и очень серьезным взглядом…
Дядька Гнат весь измаялся в ожидании Глеба. Когда он увидел его, пробирающегося сквозь заросли, у Игнатия Прокоповича глаза полезли на лоб.
— Шоб я сдох! — с чувством воскликнул дядька Гнат. — Дэ тэбэ носыло?! Звидкиля ты взявся?
— Расскажу — не поверите. Но это потом, дома. А сейчас я снова полезу под землю. Но уже не сам, а с парнями. Одному мне не справиться. Только нам нужно как следует экипироваться…
Ящик вытащили на поверхность спустя два часа. Долго пришлось повозиться с «мышеловкой» — так назвал Глеб ловушку, в которую нечаянно угодил и в которой оказался тот самый пресловутый бесплатный сыр. Ловушку нужно было не только открыть, но и удержать бетонные створки, чтобы они не вернулись на прежнее место. А еще через час цинковая «труна» (так назвал ящик дядька Гнат) уже стояла в гараже Игнатия Прокоповича, и Глеб с помощью газового резака аккуратно сдувал паяные швы, чтобы снять крышку.
Но вот наступил торжественный момент. Глеба от волнения била неутихающая дрожь; он даже начал заикаться. Дядька Гнат держался солидно — все-таки кошевой атаман, — но в его глазах появился лихорадочный блеск, а пальцы рук все время шевелились, будто он ощупывал большой невидимый шар.
В гараже они были одни. Дядька Гнат бесцеремонно вытолкал за дверь всех своих казачков, которые тоже сгорали от предвкушения какого-то чуда. Еще бы — в подземельях Китай-горы нашли цинковый ящик! Одно это обстоятельство дорогого стоило. Ведь все киевляне, особенно старожилы, были уверены, что в Китаевской пустыне хранятся несметные сокровища. Да вот только в руки они никому не даются. Место такое…
Глеб и дядька Гнат осторожно подняли срезанную крышку и поставили ее под стену. А когда обернулись и заглянули внутрь ящика, их охватило огромное разочарование — на грани отчаяния.
В ящике не было никаких сокровищ! Там стояло какое-то страное сооружение с массой бронзовых деталей, стеклянных трубочек и колбочек. Оно было похоже на современный лабораторный прибор, но гораздо заковыристее, если можно так выразиться. Спирали, конусы, цилиндры, трубки разного диаметра были сплетены в фантасмагорическую композицию, сродни тем, что показывают на выставках новомодные «художники», которые находят материал для своих «произведений» на свалках и в пунктах сдачи металлолома.
— Шо цэ такэ?! — наконец прорвало Игнатия Прокоповича.
— А полегче вопросов у вас нет?!
— Ни, нэма.
Глеб взял себя в руки и ответил уже спокойно:
— Какой-то средневековый прибор. Скорее всего, из лаборатории алхимика. Возможно, он был создан для поиска «философского камня»… — Глеб скептически покривился.
Дядька Гнат не спросил, что такое философский камень. Наверное, знал.
— И из-за этих железяк ты скилько времени угрохав… Ц-ц-ц… — Игнатий Прокопович покрутил головой. — Глебушка, ты б кращэ зайнявся якымсь полезным делом. Якшо у вас грошей маловато, шоб открыто свое предприятие, то я на раскрутку дам. Даже без процентов, по-свойски.
— Спасибо, — немного раздраженно молвил Глеб. — Каждому свое, дядя Гнат. А что это за ручка? Ну-ка, ну-ка…
Он потянул за рычаг, в механизме что-то заскрипело, затем щелкнуло… и он ожил! Где-то внутри раздался тихий гул, будто включились электромоторы, в колбочках заискрились голубоватые огоньки, а в воздухе сильно запахло озоном.
— Свят, свят!.. — перекрестился сильно побледневший Игнатий Прокопович и отшатнулся от ящика.
Глеб уже знал, что дядька Гнат обращался к верхним силам лишь тогда, когда ему припекало и когда это было выгодно, а потому лишь скептически ухмыльнулся. Но машина работала! Древняя средневековая рухлядь тикала, щелкала, бормотала, чмокала, поскрипывала, будто и впрямь что-то производила. Что за чудеса?
Неожиданно раздался звонкий металлический звук, затем другой, третий… Создавалось впечатление, что где-то падали золотые монеты, — эти звуки Глеб мог вычленить среди десятков других.
Он заглянул в ящик — и не поверил своим глазам. Машина методично выплевывала золотые флорентийские флорины! Глеб узнал их сразу: на аверсе монеты был отчеканен герб города — лилия, а на реверсе — изображение Иоанна Крестителя.
«Флорины 1252 года! Ни фига себе… — Глеб был словно в трансе, только голова у него работала, как и должно. — Что за чудеса?! А может, это прибор какого-нибудь средневекового шарлатана?»
Из истории он знал, что в те времена было много разных проходимцев, которые обещали владетельным господам — королям, графам, герцогам и прочая — добывать золото из свинца, ртути и даже воздуха. Жадные и чересчур доверчивые правители давали им большие деньги для проведения опытов и исследований, надеясь впоследствии обогатиться.
Обычно такие истории заканчивались или бегством шарлатана (некоторые из них называли себя учеными-алхимиками), или плахой, куда его приводил палач. Но иногда ради продления своей безбедной жизни особо одаренные умельцы-фокусники мастерили что-то наподобие машины, которая стояла перед Глебом.
Сраженный наповал видом монет, которые выдавала машина, или кусочка золота, образовавшегося в пробирке невесть из чего, король (граф и т. д.) продолжал осыпать милостями и деньгами хитрого проходимца, а тот жил в свое удовольствие, сладко ел и мягко спал и занимался своими делами.
Правда, кое-кто из алхимиков действительно работал на науку. И даже совершал открытия. Только «гранты», которые выдавались им владетельными особами, в любое время могли обернуться пытками в подвалах замка и виселицей.
— Цэ шо, гроши?! — наконец прорезался голос у дядьки Гната.
— Да еще какие… — Глеб быстро прикинул в уме, сколько могут стоить эти флорины на аукционе (а машина все работала, и монеты падали, падали, падали…), и почувствовал легкое головокружение. — Это золото.
Даже тех монет, что уже выплюнула машина из своего чрева, хватит, чтобы купить по «мерсу» себе и дядьке Гнату.
— Ох ты Божэ ж мий… — Маленькие глазки Игнатия Прокоповича вдруг увеличились вдвое и стали размером с те флорины, что падали в приемный лоток машины.
Но тут их сплошной кайф перебил голос одного из казачков:
— Панэ атаман, панэ атаман!
— Чого тоби?! — рявкнул дядька Гнат.
— Тут хлопци прывезлы якогось француза.
— Француза? А… — Игнатий Прокопович повернулся к Глебу. — Ты поняв?
— Как не понять…
Значит, поймали господина Боже, подумал Глеб. На кой хрен он теперь нужен? Хотя… Надо с ним поговорить, поспрашивать кое о чем. И объяснить, что «здесь» — это не «там». Украина и Россия далеко не Франция.
Глеб попытался выключить машину, но у него не получилось. Наверное, заклинило рычаг, решил он. А, ладно, махнул Глеб рукой. Пусть работает. Если это просто аппарат фокусника, созданный для демонстраций, то машина остановится, когда закончится запас флоринов в накопителе. Ну, а ежели это что-то из ряда вон выходящее, какое-то «ноу-хау» средневековых умельцев, то тогда пусть пашет, пока хватит исходных материалов.
Глеб не удержался и, зачерпнув горсть флоринов, положил их в карман. А затем вышел во двор.
Кристиан Боже стоял в окружении бойцов дядьки Гната. Удивительно, но он не выглядел затравленным, как это обычно бывает с похищенными людьми. Француз стоял с гордо поднятой головой и посматривал на окружающих свысока.
Цивилизованный европеец среди варваров… Глеб криво осклабился. «Знаем мы таких «цивилизованных», — подумал он. — Поди, предки этого Боже помогали в 1812 году Наполеону, а потом еще более «цивилизованные» германцы, белокурые бестии, цвет западноевропейских наций, бомбили Киев в 1941… мать их!..»
— Так оцэ той жэвжык? — дядька Гнат критическим взглядом окинул господина Боже с ног до головы. — Сопля, — сделал он заключение.
Боже лишь крепче стиснул зубы и ничего не ответил. Подошел Глеб.
— Здравствуйте, господин Боже! — сказал он, приятно улыбаясь. — Как жаль, что я не последовал вашему совету. Действительно, по киевским дорогам ездить небезопасно. Вы как в воду глядели.
— Вы должны отпустить меня, — резко ответил Боже. — Иначе у вас будут большие неприятности.
— А поговорить?.. — Глеб откровенно куражился.
— Мы уже говорили. Думаю, что этого вполне достаточно.
— Товарыш нэ понимае… — лицо дядьки Гната закаменело, а в глазах появился нехороший жесткий блеск. — Слухай ты, жабоед. Я зараз скажу своим хлопцам, шоб воны тебя трохы взялы в оборот. И потом ты станешь мягким, як воск. Цэ я тоби обещаю.
Боже лишь дерзко, с вызовом посмотрел на Игнатия Прокоповича и ничего не ответил. Дядька Гнат уже хотел исполнить свое обещание и открыл рот, чтобы позвать охрану, но Глеб остановил его:
— Не стоит. Все-таки зарубежный гость… Конечно, мне хотелось бы кое-что узнать у вас, господин Боже… ну да ладно. Если поступать по закону, то нужно сдать вас в милицию. В российскую милицию. В России вы сильно наследили. Вот только доказать это будет трудно. Но возможно… при большом желании заинтересованных организаций. А в Киеве вас отпустят немедленно. Это и ежу понятно — при нынешней-то власти… И потом у нас могут возникнуть проблемы. А зачем они нам?
— Ото и я кажу — зачем? — совсем успокоившийся дядька Гнат принялся раскуривать трубку. — Глебушка, а як ты думаешь, оцэй француз купався в нашем Днепре, чы ни?
— Думаю, что нет. Ему некогда было.
— Ага. Цэ добрэ. То я думаю, шо надо бы ему скупнуться. Там на дне и раки, и сомы… Такого в Франции нэ побачыш ни в якому аквариуме. То нэхай подывыться. Як ты, Глебушка? Отправим этого пана на экскурсию?
— Не знаю… — прищурившись, Глеб наблюдал за Боже. — У меня он не вызывает неприятия. Господин Боже, как я понимаю, всего лишь ответственно относится к данному ему поручению. Пусть катится на все четыре стороны. Кстати, карту я вам отдам, уважаемый. Если уж вы так ею дорожите. Естественно, не бесплатно. Договорились?
— Вы это серьезно?! — видно было, что Боже пребывает в большом напряжении.
— Вполне. Мне не хочется, чтобы вы преследовали меня всю оставшуюся жизнь. Конечно, можно с вами разобраться прямо сейчас, но, в отличие от вас, «высококультурных», я не кровожаден.
Господин Боже хотел что-то ответить, но тут ему на глаза попалась неплотно прикрытая дверь гаража, и он умолк на полуслове. Глеб проследил направление его взгляда — и невольно ахнул.
Гараж светился ярким голубым светом! Свет лился не только из щели в воротах гаража, но и пробивался сквозь крышу, которая из-за этого казалась дуршлагом. Тонкие лучики света напоминали лазерное шоу, при этом они ритмично пульсировали.
— Вы… вы нашли ENS ENTIUM и включили?! — в отчаянии вскричал господин Боже. — Святая пятница, это невозможно! Не верю!!!
Врать было бесполезно — факт, что называется, был налицо, — и Глеб ответил:
— Я не знаю, что это такое, но да, нашли и включили. А вот выключить я не смог. Не сумел. Может, вы подскажете, что это за штуковина?
— Поздно… — с трагическим видом прошептал Боже, не сводя глаз с гаража.
На его бледном лице не было ни кровинки. Казалось, что еще немного, и он умрет стоя.
И в этот момент гараж озарила сильная вспышка, а затем раздался приглушенный взрыв. Из гаража повалил едкий дым, и испуганный Глеб невольно подумал: «Как хорошо, что там нет машин…» «Волгу» отогнали в ремонт, а БМВ и «фольксваген», которые были задействованы в поездке на Китай-гору, не успели поставить на место.
Дядька Гнат, а за ним и все остальные (включая господина Боже) бросились к гаражу. Когда открыли дверь, взорам собравшихся предстал дымящийся ящик, в котором виднелись одни искореженные железки. Стеклянных трубок и колб и в помине не было. Открытого огня тоже не наблюдалось, но весь потолок гаража был в мелких сквозных дырочках и сильно закопчен.
— Что вы наделали, что вы наделали?! — Боже встал возле ящика на колени, обнял его двумя руками, словно гроб с младенцем, и плакал, не стесняясь слез. — Это катастрофа… Это конец…
Все остальные молчали. Охранники — потому что не понимали смысла происходящего, дядька Гнат — потому что мысленно благодарил Бога за его милость (а ну как взорвался бы весь дом!), а Глеб — потому что понял, какую ценность только что загубил собственными руками.
Значит, это правда! Значит, ученые рыцарей храма все-таки нашли способ превращать в золото другие металлы! Это была уже не алхимия с химией, а нечто большее. Похоже, им удалось решить проблему ядерного синтеза. С ума сойти… Это в Средние-то века! Так вот откуда у тамплиеров появились баснословные сокровища, которые смущали современников и которые до сих пор не дают покоя кладоискателям, потому что исчезли бесследно.
ENS ENTIUM — сущность сущностей. Глебу уже попадалось это определение в старинных манускриптах. И только теперь он наконец понял, ЧТО оно означает.
«Господи, какой я идиот! — думал он в полном отчаянии. — Но я же не знал… Не знал! А если бы знал? — тут Глеб обреченно вздохнул. — Все равно включил бы…»
— Панэ отаман, панэ отаман! — раздался вдруг крик со двора. — Смотрите!
Дядька Гнат поднял голову вверх — туда показывал охранник — и растерянно спросил; наверное, сам себя:
— Шо воно там летает?
Ответ не замедлил — во двор, как горох, посыпались вооруженные люди. Они спускались с небес на управляемых парашютах. Глеб знал, что их называют «парашют-крыло». Не успел никто опомниться (даже охрана), как парашютисты окружили дядьку Гната и Глеба, а охранников заставили бросить оружие, что те и сделали без сопротивления, потому что нападавшие были вооружены автоматами.
Господин Боже вышел из гаража последним. Он приблизился к парашютистам (один из них, наверное, командир группы, козырнул ему двумя пальцами), обернулся к Игнатию Прокоповичу и Глебу и глухо спросил:
— И как нам теперь быть?
Ответил дядька Гнат. На удивление он очень быстро успокоился и посматривал на француза с хитрецой.
— А никак, — сказал он, улыбаясь. — Ваша взяла, признаю. Сядем, выпьем пляшку горилкы, и розийдэмся, як в море корабли. Бо мы ж скоро в ваш ЕС войдем, и наша дружба воссияет на века, — в его голосе послышались насмешливые нотки.
— Вы забрали у меня смысл моей жизни! Мой род был хранителем ENS ENTIUM. Теперь я опозорен. Опозорен! И понесу суровое наказание.
— Да, цэ проблема… И як ее решить?
— Для начала сделаем то, что вы предлагали… — лицо господина Боже перекосила злоба.
— Оцэ так… — дядька Гнат откровенно куражился. — А я думав, шо тилько я такый нэгиднык… Но я ж хохол, по-вашему варвар, нэ цивилизована людына. То вы, ясновельможный пан, хотите нас, як отых кошенят, в Днепре утопить? Идея, конешно, моя, но я був нэ прав. Признаю. Конешно, на колени падать не буду. Бо як упаду, то вжэ не поднимусь. И стыдно к тому же. А можэ, пан француз не знает, шо козаки ни перед кем не становились на колени? Ладно, шоб не усугублять дальше наш конфликт, вы кращэ посмотрите по сторонам. Хорошенько посмотрите. И вам сразу станет понятно, якый добрый дядько Гнат. Чому добрый? Бо вы щэ до сих пор жыви и здорови.
Глеб, как и все остальные, осмотрелся. На крышах и чердаках соседних домов сидели снайперы. А из-за забора торчали стволы автоматов. Это были бойцы дядьки Гната. Но откуда они взялись?!
— Ну шо, умрем все за компанию? — спросил дядька Гнат. — Я уже, может, и зажился на этом свете. А от вас, хлопцы, мне жалко.
Боже принял решение моментально.
— Опустить оружие! — скомандовал он хриплым от большого напряжения голосом.
Парашютисты мгновенно выполнили приказ. Но видно было, что они готовы драться до конца. «Фанатики… — понял Глеб. — Это серьезно…»
— Оцэ инша справа, — весело сказал дядька Гнат. — Думаю, шо нам трэба подписать мировую. Воевать уже не за шо.
— Я хочу забрать свое, — решительно сказал господин Боже. — Может, нам удастся восстановить …
— Не исключено. Нынче техника сильно шагнула вперед. Забирайте, нет проблем, — ответил Глеб и посмотрел на дядьку Гната; тот с одобрением кивнул, соглашаясь. — А как быть с планом?
— Можете оставить его себе, — сухо ответил француз. — Теперь он уже не нужен.
— Спасибо. А скажите, если это не секрет, почему вы искали этот план? Неужели вам не было известно, в каком месте спрятан ящик с ENS ENTIUM?
— Увы, точно мы этого не знали.
— Почему?
— Длинная история… — француз чуток заколебался, но все же продолжил; наверное, в разговоре он получал хоть небольшое, но все же облегчение от произошедшего с ним фиаско: — Если вкратце, то ящик был спрятан в подземном лабиринте Китаевской пустыни моим прадедом Франсуа Боже в 1918 году. Но прадеда и его людей потом расстреляли какие-то бандиты, и пластина с планом исчезла… на долгие годы.
— И как вы на нее вышли?
— Случайно. Мы предполагали, что пластина может появиться на антикварном рынке, и терпеливо ждали этого момента. Нам пришлось долго ждать, очень долго… Но что такое какие-то девяносто лет по сравнению с вечностью? Господин Ципурка имел неосторожность показать пластину одному из наших людей, большому специалисту по древностям, который случайно оказался в вашем городе, на предмет консультации. Дальнейшее вам известно.
— Ну, а зачем вы старушку обворовали (а может, и кокнули), деда Ципурку убили? Я уже не говорю о себе. Меня вы тоже хотели отправить на тот свет.
— Так получилось… Мы не желали смерти ни ему, ни вам. Я хотел договориться миром, но вы не пожелали.
— Да, это так… — Глеб сокрушенно вздохнул. — Увы, мир жесток, а люди глупы. Но вы ведь европейцы, записные демократы — и такие методы. Нехорошо…
Господин Боже промолчал, лишь одарил Глеба ненавидящим взглядом и начал отдавать приказания. Он вызвал несколько машин, в которые уселись парашютисты, и «газель», куда поместили цинковый ящик с остатками «сущности сущностей». А затем они уехали. И во дворе дядьки Гната воцарилась мертвая тишина.
— Хух… — сказал он, усаживаясь на скамейку. — Шось я трохы устал…
— Откуда появились ваши люди? — спросил Глеб.
— А як ты гадаеш, за яки таланты меня выбрали кошевым отаманом? Бо я умный и предусмотрительный. То-то… Я знав, шо отой жабоед нас в покое не оставит. Думаю, шо воны за нами следили. Издали. Ну, цэ я так предполагаю. И зробыв свой ход.
— Классный ход! — восхищенно сказал Глеб.
— Учись, сынок, пока я живой, — дядька Гнат гордо выпятил грудь; то есть все то, что выше пояса. — Жалко только, что ота хитрая машинка взорвалась. Нам бы золото тоже не помешало… Эх, жалко!
— Я тут немного прихватил… — сказал Глеб и достал из кармана новенькие флорины. — Тыщ сто «зеленью» можно за них выручить.
— Не может быть!
— Точно. Эти флорины очень редкие, а значит, дорогие.
— И шоб отой машине не поработать на нас хоть бы часок! От не везет… Глебушка, а шо это с ними творится?!
Глеб и сам был поражен. Монеты на ладони сначала почернели, а затем рассыпались на порошок с металлическим блеском.
— Блин! — воскликнул он с огорчением. — И тут пролет!
— А шо случилось?!
— Раньше в советских столовых был такой термин — «недовложение». Это когда в котлетах вместо мяса один хлеб. Наверное, чтобы получить настоящее золото и чтобы оно не превратилось в пыль, необходимы еще какие-то компоненты. Увы, мы этого не знали. Видимо, по этой причине и случился взрыв.
— Ну ладно, не переживай. Деньги, золото — усё это прах. Мы, однако, остались в выигрыше. Ты гарно у меня отдохнул, отвел свою пиратскую душу в том Китаевском погребе, а я тряхнул стариной, вспомнил молодость. Знаешь, как сейчас в моих жилах кровь играет? Ух! Глебушка, а не хряпнуть ли нам по ромашке оковитой? Бачу, бачу, шо согласен…
Летний день клонился к вечеру. Нега и умиротворенность вливались в душу Глеба как божественный нектар. «Все не так уж и плохо, — расслабленно думал он, сидя в беседке и слушая воспоминания дядьки Гната. — Хотя бы потому, что я еще молод и что у меня впереди еще много захватывающих приключений и интересных открытый».
Quod praeteriit, effluxit[61].
Сноски
1
Тамплиеры, храмовники — первый по времени основания из религиозных военных орденов, Орден храма Соломонова (лат. Templique Solomonici); был основан в 1118 году группой рыцарей во главе с Гуго де Пейном после Первого крестового похода. Первоначально орден именовался «Нищенствующие рыцари Христа», но вскоре его стали называть «Рыцари храма», поскольку первая резиденция ордена в Иерусалиме находилась в крыле королевского дворца, воздвигнутого на месте, где некогда, согласно легенде, стоял храм Соломона (ныне на этом месте находится мечеть Аль Акса). На Венском соборе в 1312 году Орден был распущен.
(обратно)2
Флорин — высокопробная золотая монета (вес около 3,6 г); золотые флорины, чеканенные Венецией с 1284 года, обычно называли дукатами.
(обратно)3
Тампль — храм (франц.). Замок Тампль был построен в 1222 году. Его высокие стены окружал глубокий ров, поэтому замок считался неприступной крепостью. Внутри, вдоль стен, тянулись конюшни и казармы. Посреди крепостного двора располагались плац для воинских упражнений, колодец и маленький садик с лекарственными растениями. Над ними высились собор и семь башен. Главная башня являлась резиденцией Великого магистра; она не была связана ни с одним из зданий замка Тампль. Местом заседания орденского Капитула являлась церковь с толстыми стенами и окнами, похожими на бойницы. В Тампле захоронен и привезенный из Палестины гроб с прахом Гийома де Боже.
(обратно)4
Гонфалон — средневековое знамя или баннер квадратной формы, всегда заканчивающееся несколькими лентами, вымпелами или полосами. Использовался в военных, церемониальных и религиозных целях. Военные и церемониальные гонфалоны украшались гербом или замысловатым орнаментом, религиозные — изображением святых.
(обратно)5
«Не нам Господи, не нам, а во славу имени твоего» (лат.).
(обратно)6
Дестриэ — громадные боевые кони рыцарей Средневековья, жеребцы; весили тонну и больше. Боевые кони были обучены избегать ударов, они не знали страха и без колебаний шли на сомкнутые ряды пехоты, били пехотинцев копытами, давили своей массой и людей, и более мелких лошадей. Копья не могли проткнуть (или пробивали с трудом) кожу и мышцы дестриэ и ломались о кости.
(обратно)7
Гийом де Ногаре (ум. в 1313) — французский легист, канцлер Франции с 1307 года, профессор права в университете Монпелье, с 1296 года — член королевского совета, советник Филиппа IV Красивого. Сыграл большую роль в борьбе Филиппа IV против римского папы Бонифация VIII — во главе посольства был отправлен в Италию, чтобы низложить папу. Делегация во главе с Ногаре осыпала папу бранью и угрозами, а сам Ногаре якобы ударил его железной перчаткой по лицу. 86-летний Бонифаций вскоре после этого умер.
(обратно)8
Сенешаль — во Франции со времен Меровингов так назывался высший придворный чиновник, заведовавший внутренним распорядком при дворе, а также отправлявший судебные обязанности. Бальи — в северной части средневековой Франции королевский чиновник, глава судебно-административного округа (бальяжа). Прево — староста. Missi dominici — государевы посланцы, рыцари короля (лат.).
(обратно)9
Крипта — сводчатое помещение под алтарной и хоральной частями христианских храмов, служащее для погребений и экспонирования мощей святых.
(обратно)10
Портуланы (портоланы) — морские навигационные карты, употреблявшиеся в XIII–XVI вв. мореплавателями Средиземного моря. Береговая полоса показывалась на портуланах подробно, указывалось много географических наименований; внутренние части суши обычно оставлялись пустыми. Для определения и прокладки пути корабля на портулане в ряде точек наносились компасные сетки, указывавшие положение стран света и промежуточные направления, а также помещались (впервые) линейные масштабы. В кон. XV — нач. XVI в. портуланы уступили место картам с сетью меридианов и параллелей.
(обратно)11
Адамас — алмаз.
(обратно)12
Сущность сущностей (лат.).
(обратно)13
Глазет — французская парча с шелковой основой.
(обратно)14
«Катенька» — сторублевая ассигнация с изображением царицы Екатерины II.
(обратно)15
«Сотбис» (Sotheby and Co) — крупнейшее в мире аукционное предприятие по продаже произведений искусства, антиквариата, мемориальных предметов и коллекций. Основано в 1744 году в Лондоне С. Беккером; до 1917 года функционировало исключительно как книжный аукцион. С 1930-х открыты филиалы в Амстердаме, во Флоренции, в Милане, Мадриде, Париже, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и других городах.
(обратно)16
Альбрехт Дюрер (1471–1528) — немецкий живописец и график, один из величайших мастеров западноевропейского искусства эпохи Ренесанса.
(обратно)17
Мазурик — вор (жарг.).
(обратно)18
Ширмач — карманный вор (жарг.).
(обратно)19
Лукьяновский тюремный замок — сначала острог, затем тюрьма в Киеве, основанная в 1863 году; в настоящее время — СИЗО под № 13.
(обратно)20
Китаевская пустынь — находится в Голосеевском районе Киева (в девяти километрах от Киево-Печерской лавры). Основателем обители считают князя Андрея Боголюбского (XII в.), прозванного «Китаем»; другое толкование названия связано с находившимся здесь древнерусским укрепленным городищем — южным форпостом Киева (тюркское слово «китай» означает укрепление, крепость). До XVI–XVII вв. здесь находился небольшой лаврский скит с пещерами. Вплоть до 1870-х гг. Китаевская пустынь служила местом погребения почивших иноков лавры.
(обратно)21
Кишкотник — поясной ремень (жарг.).
(обратно)22
Фактурный промысел — выгодное дело (жарг.).
(обратно)23
Ямская слобода, Ямская улица, Ямки — до октябрьского переворота центр ночной жизни Киева, улица, на которой было много борделей, так называемых «Зойкиных квартир»; в отличие от Запада, где подобные кварталы отличались от других красными фонарями, дома и заборы на Ямках были выкрашены зеленой краской.
(обратно)24
Быть на фонаре — ожидать (жарг.).
(обратно)25
До переворота 1917 года блатными называли не профессиональных преступников, а тех, кто был близок к ним, помогал ворам; «блатным» мог быть и полицейский, и чиновник-взяточник, и юнец, попирающий нормы общественной морали.
(обратно)26
Надзиратель сыскной полиции — при каждом полицейском участке состоял надзиратель сыскной полиции, под началом которого находились 3–4 постоянных агента и широкая сеть агентов-осведомителей, вербовавшихся из различных слоев населения данного участка. Несколько надзирателей составляли группу, возглавляемую чиновником особых поручений сыскной полиции. Деятельность чиновников особых поручений контролировал лично начальник сыскной полиции.
(обратно)27
«Железка» — игра базируется на номерах денежных банкнот; из цифр номера игрок выбирает какое-то количество себе, а остальные предоставляет противнику. Цифры складываются, но выигрыш определяет не все число, а только его последняя цифра. Выигрывает большая. Если же цифры окажутся одинаковыми, то объявляется ничья.
(обратно)28
Бессарабка, Бессарабский рынок — крупный крытый рынок, расположенный в центре Киева на Бессарабской площади, которая находится на западном конце Крещатика. Построен в 1909–1912 гг. по проекту варшавского архитектора Генриха Гая.
(обратно)29
Волына — здесь: револьвер (жарг.).
(обратно)30
Дореволюционный Киев с вошедшими в его состав в 1879 году предместьями (Куреневка, Приорка, Лукьяновка, Шулявка, Верхняя и Нижняя Соломенка) состоял из восьми полицейских участков (частей): Печерская часть, Дворцовая или Липки, Старокиевская, Лыбедская, Бульварная, Лукьяновская, Плоская и Подольская части.
(обратно)31
Дага — кинжал, предназначенный для левой руки; клинок раскладной даги при нажатии кнопки под действием пружины разделялся на две или три части, что позволяло без особого труда поймать меч или шпагу противника и обезоружить его.
(обратно)32
Кошко Аркадий Францевич — знаменитый сыщик царской России; в 1913 году на международном криминологическом конгрессе в Швейцарии московская сыскная полиция, возглавляемая Кошко, была признана лучшей в мире.
(обратно)33
Надзирателей возглавлял чиновник особых поручений сыскной полиции. Эти чиновники ведали не только участковыми надзирателями и их агентами и осведомителями, но имели также своих особых секретных агентов, с помощью которых и контролировали деятельность подчиненных им надзирателей. Чиновники и надзиратели состояли на государственной службе. Агенты и осведомители служили по вольному найму и по своему общественному положению представляли весьма пеструю картину: извозчики, дворники, горничные, приказчики, чиновники, телефонистки, актеры, журналисты, кокотки и т. д.
(обратно)34
Шулявская республика — квазигосударственное образование бастующих рабочих Киева, которое на протяжении 4 дней (с 12 по 16 декабря 1905 г.) существовало на территории нескольких рабочих кварталов Шулявки и было разгромлено царскими войсками.
(обратно)35
Канапе — небольшой диван с приподнятым изголовьем.
(обратно)36
Фиксонить — стучать, доносить (жарг.).
(обратно)37
Анало́й — употребляемый при богослужении высокий четырёхугольный столик с покатым верхом.
(обратно)38
Прекрасный вид (фр.).
(обратно)39
Сельтерская вода — вода из минеральных источников Сельтерс (или Зельтерс) в Германии, сильно насыщенная углекислотой. Пытаясь воспроизвести его, изобретатели научились газировать обычную воду (первоначально, как правило, с содовыми добавками). До того как в обиходе распространилось слово «газировка», ее называли «сельтерской водой».
(обратно)40
Пахитоска — испанская сигарета или папироса в листке кукурузы.
(обратно)41
Французская разведка в годы Первой мировой войны.
(обратно)42
Бриар — корень древовидного вереска.
(обратно)43
Алан Нат Пинкертон (1819–1884) — известный американский детектив, был сыном ирландского полицейского. Переселившись в Америку, основал «Национальное детективное агентство Пинкертона». Девизом агентства стали слова «Мы никогда не спим», а эмблемой — открытый глаз. В 1861 году Пинкертон раскрыл заговор против президента Линкольна. В годы Гражданской войны в Америке агентство Пинкертона вело разведывательную работу для Северных штатов, а после войны основным полем его деятельности стал запад Америки. Именно Пинкертон стал одним из главных героев детективов в мягких обложках, очень популярных в XX веке. Нат Пинкертон мало походил на своего реального прототипа; по сути, он стал не более чем условной литературной фигурой.
(обратно)44
Варенуха — хмельной напиток, употреблявшийся в старом Киеве вместо вина. Гостям обычно предлагалось по чарке крепкой водки, а потом подавалась варенуха. Напиток изготовлялся из «двойной водки» (спирта), в которую добавляли ситу, сушеные вишни, груши, сливы, приправляли гвоздикой, мускатным орехом, корицей. Варенуха настаивалась несколько часов в хорошо протопленной печи в специально выдолбленной бутылочной тыкве, которая придавала ей специфический мягкий привкус. Подавали на стол горячей.
(обратно)45
Гопник — грабитель (жарг.).
(обратно)46
Меровинги — первая династия франкских королей в истории Франции. Короли этой династии правили с конца V до середины VIII века на территории будущей Франции и Бельгии.
(обратно)47
Орден Почетного легиона — высшая награда во Франции, присуждаемая президентом республики за военные или гражданские заслуги. Учрежден Наполеоном Бонапартом 19 мая 1802 года. В настоящее время орден имеет три степени: кавалер (серебряный знак на левой стороне груди на алой ленте), офицер (золотой знак на левой стороне груди, подвешенный на ленте с розеткой), командор (золотой знак на алой ленте вокруг шеи) и два достоинства: Высший офицер (золотой знак на ленте с розеткой на левой стороне груди и серебряная звезда справа) и кавалер Большого креста (золотой знак на левом бедре на широкой муаровой ленте, надетой через правое плечо, и золотая звезда на левой стороне груди).
(обратно)48
Шаолинь — буддистский монастырь в Центральном Китае (провинция Хэнань, г. Дэнфэн). Основан в 495 году. Монастырь славится как центр боевых искусств.
(обратно)49
Бог в нас самих (лат.).
(обратно)50
По старому, юлианскому, календарю; по новому, григорианскому, с 6 на 7 июля. Григорианский календарь введен при советской власти с 14 февраля 1918 года. Разница между старым и новым стилями составляла в XVIII веке — 11 суток, в XIX веке — 12 суток, в XX–XXI веках — 13 суток, а в XXII веке будет составлять уже 14 суток.
(обратно)51
До 1917 года среди преступников Российской империи были четыре основные криминальные касты: «иваны», «храпы», «игроки» и «шпана». «Иваны» специализировались на грабежах, характеризовались агрессивным поведением и склонностью к лидерству. «Храпы» предпочитали промышлять обманом и мошенничеством. «Игроки» — карточные и иные шулеры — были самыми интеллигентными представителями преступного мира. «Шпана» — низшая каста, уголовное отребье. Почти все они были известны полиции, и их деятельность (по возможности) находилась под контролем.
(обратно)52
Рыжа — золото; рыжевьё — золотой лом; рыжьё — 10 руб. золотом (жарг.).
(обратно)53
Пожар — беда (жарг.).
(обратно)54
Чур — внимание (жарг.).
(обратно)55
Кирилловские богоугодные заведения — находились в Кирилловском монастыре на окраине Киева (в урочище Дорогожичи); в 1803–1805 гг. там были возведены каменные постройки Кирилловских богаделен со специальным отделением для душевнобольных на 25 мест. Потом туда с Подола был переведен дом для умалишенных, преобразованный в советское время в психиатрическую больницу им. Т. Г. Шевченко. Кирилловские богоугодные заведения (в сущности, губернская земская больница) круглосуточно принимали стационарных больных. Здесь помимо душевнобольных лечили и алкоголиков, причем бедных совершенно бесплатно.
(обратно)56
Бокфлинт — двуствольное охотничье ружье с гладкими (без нарезов) стволами, расположенными друг над другом.
(обратно)57
Шаг — разменная марка Центральной рады; выпущена в апреле 1918 года; номиналы — 10, 20, 30, 40, 50 шагов.
(обратно)58
Сердюки — гвардейские части гетмана Павла Скоропадского (1918); набирались преимущественно из сыновей зажиточных крестьян и помещиков.
(обратно)59
Лёсс — горная порода светло-желтого цвета, глиновидный песчаник.
(обратно)60
Агни — ведический бог огня; основная его функция — посредничество между людьми и богами. У Агни тройственная природа, так как он родился в трех местах: на небе, среди людей и в водах; у него есть три жилища, он имеет три жизни, три головы и три силы.
(обратно)61
Что прошло, того уже нет (лат.).
(обратно)


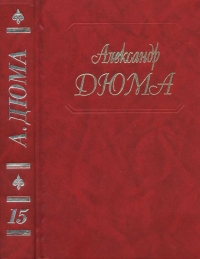
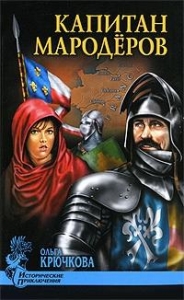
Комментарии к книге «Сокровище рыцарей Храма», Виталий Дмитриевич Гладкий
Всего 0 комментариев