Сергей Булыга Железный волк
НОЧЬ
Проснулся он от крика. Вскочил, протер глаза и осмотрелся. Нет никого. И тихо. Ждал, затаив дыхание… Спят все. Коптит лучина. Черно в окне. А может, крика не было? А может, сам кричал во сне? Но ты давно не видишь снов. Да и что в такие годы снится? Чего желать?
Знобило. Лег, подоткнул под себя полушубок. Лежал, смотрел на черный закопченный потолок. Вчера отужинал, молился. Потом читал «Александрию» — час, два. Почувствовал, что мерзнет. Пришел Игнат и натопил.
— Еще? — спросил.
— Еще! Еще!
Еще топил. Потом сказал:
— Довольно, князь. Изжаришься.
Ты отпустил его, но сам читать уже не мог: в. глазах рябило. Да и к тому же писано по–еллински, а ты стал забывать… Лег, думал о послах. Потом о сыновьях. И вдруг привиделся отец. Он вот здесь лежал, где ты сейчас. А ты стоял тогда. Тебе тринадцать… нет, уже четырнадцать исполнилось. Да не все ли равно! Стоял, трясло тебя, шептал:
— Отец, не уходи! Что я один?!
Отец молчал. Он, наверное, не слышал. Смотрел в окно и думал, думал. А может, ждал кого… Потом тихо попросил:
— Дай руку.
Рука отца всегда была крепкой, а тут…
И ты тихо заплакал. Упал на колени и прижался лбом. Отец пытался руку вырвать, да не смог. Тогда он сказал:
— Не надо. Так, видно, Бог велел. Встань, князь. Встань!
Нет, встать не смог, лежал, словно бревно, на полу и задыхался. И не четырнадцать тебе, Всеслав, а семьдесят. И нет давно отца, и схоронил ты жену, а теперь и сам уже… Закашлялся. Поднялся на локтях, хотел позвать кого–нибудь и провалился в сон.
А сейчас лежишь, не спится. Потрогал лоб — горячий, весь в поту. И печь горячая. Дух в горнице тяжелый. Перетопил Игнат. А все равно знобит! И шум в ушах; как будто кто–то ходит, снег под ногами — ш–шух, ш–шух, ш–шух. Но кто идет, не видно. А ты лежишь под деревом, весь сжался, нож изготовил, ждешь… А он прошел — ш–шух, ш–шух…
Ш–ш–ш–ш!
Что это?!
Лучина догорела. Остался только красный уголек. Но и он погас. Темно, хоть глаз коли… Князь вздрогнул, ухмыльнулся. А что? С них станется. Давыд же Свято–полку говорил: «Не оставляй Василька в Киеве, не то…» И не оставили. Правда, сперва глаза ему выкололи, а после на телегу — свезли. Давыд в прошлом году раскаялся, они его простили, один брат двести гривен дал, второй три сотни отжал ел…
А ведь и ты мог, Всеслав, из Любеча без глаз уйти. Тебя ведь тоже звали. «Нет, — сказал ты, — и не просите. Я не поеду, я изгой. И крест не надо целовать, отцы ваши уже целовали, помню!» Они обиделись. И пусть. Пусть говорят, что выжил из ума, что в детство впал. Зато я при глазах и моя отчина при мне. И волоки — мои. Идут купцы по волокам — платят. Войско пройдет, войско тоже платит. А не заплатят, сам приду и всех пожгу. Сам не справлюсь — наведу Литву. Литва, она…
Как кистенем ударило по боку! Вскочил, едва не задохнулся. Ночь, тишина. Шаги. Чуть слышные…
Да, во дворе это. Собака заскулила. Бряк цепью, бряк. Опять скулит…
Шаги — к крыльцу… Она! Пресвятый Боже! Я весь в руце Твоей, и знаешь Ты безумие мое, и прегрешения мои не скрыты от Тебя…
А может, это все же сон? Нет, ты не спишь! Просто темно. Вот печь горячая, вот полушубок, вот крест нательный, рядом — оберег… Князь осенил себя, прислушался…
Идет. Минует сторожей. Да, так и должно быть; никто Ее не остановит. Ее, кроме тебя, сейчас никто не видит и не слышит. Она к тебе идет. Подойдет и станет в головах…
Князь торопливо сел, спиной прижался к изразцам, нащупал нож.
И отложил его. Смешно! Ей нож не страшен. Ведь нельзя убить Ее? Она и так мертва. А ты… Сейчас живешь, а после твое тело здесь, в тереме, останется, приедут сыновья, снесут его в Софию, народ будет глазеть. А что с душой? Куда она? Ведь не взлететь душе, уж больно тяжела от грехов. Ну что ж… Князь — он на то и князь, чтобы грешить. Князь — это зло. Нельзя отречься от венца, когда ты от рожденья князь. Кровь княжья — вот твой крест. Ведь даже если потеряешь все, останешься сам–перст, ты все равно князь. И так не раз бывало. Зимой… да, тридцать лет тому назад шел вниз по Волхову. Один. Пришел в селение. Спросил…
Нет–нет, не то! Пресвятый Боже! Ради врагов моих спаси меня! Не на меня, на них излей огонь ярости своей!
— Всеслав!
Князь вздрогнул. Вот Она! Стоит в дверях. Широкий плащ, глубокий капюшон…
Нет! Нет там никого! Тьма непроглядная, невозможно ничего разглядеть!
— Что, не ждал?
А голос у Нее надтреснутый, визгливый. Князь вытер лоб, перекрестился, потом сказал как можно тверже:
— Нет, ждал. Входи, садись. Небось устала?
Она усмехнулась, ответила:
— Да, есть маленько. Сяду.
И подошла к нему. Нет, он Ее не видел. Он только слышал — заскрипели половицы. Потом на лице почувствовал ее холодное дыхание.
— В ногах! В ногах садись! — хрипло воскликнул князь и вжался в стену, задрожал. И снова нож схватил.
Она склонилась над ним и сказала:
— А ты, как молодой, за жизнь цепляешься. Не стыдно, князь? В твои–то годы!
Он молчал. Она, немного подождав, спросила:
— Ты что, Всеслав, еще на что–нибудь надеешься?
— Я пока жив…
— Ну–ну. Смотри, как бы потом не пожалел.
— Не пожалею!
— Ладно!
И отошла, села в ногах. Тюфяк под Ней прогнулся… А князя бросило в озноб. Потом в жар. Опять в озноб. Сидел, молчал и ждал, что будет дальше.
И вдруг приказала:
— Брось нож, Всеслав! Нож, говорю. Ну!
Нож глухо брякнул об пол.
— Вот так–то лучше.
Она чуть–чуть придвинулась к нему и продолжала:
— Я оказала тебе честь. Да, князь, великую. С другими знаешь как? Р–раз — и готов. А с тобой церемонюсь. Сижу жду. Ты помолись, Всеслав! Чего молчишь? Молиться–то тебе, поди, придется долго. Боюсь, и до–светла не справишься… Или ты и меня захотел переюпокать? Как этих… дальних своих братьев!
— Нет, тебя не обманешь.
— И то! И об отсрочке не проси. Не дам.
Князь затаил дыхание, не шевелился, то открывал, то закрывал глаза. Пресвятый Боже!.. Наконец спросил:
— А почему?
Она негромко засмеялась, ответила:
— Смешной ты, князь. Не понимаешь, кто к тебе пришел? Сейчас умрешь. Ну, не хочешь молиться, и ладно. Я знаю, в Бога ты не веруешь. Так встал бы, подошел к окну да подышал. Вон дух легкий какой! Весна, князь, на дворе!
— Так не надышишься уже.
— Но все–таки… Да и потом: яви смирение. Все говорите о смирении, а сами… — И замолчала.
Ночь за окном. Далеко, на Великом Посаде, завыла собака. Ну что же, смерть так смерть. Ты не в полоне, не в бегах. Ты — в своей отчине. И волоки твои. И честь — тебе, Она и впрямь не с каждым станет разговаривать. И все–таки…
Князь облизнул пересохшие губы, спросил:
— Так почему нельзя просить отсрочки?
— Жить больше, чем положено, нельзя. Всему свой срок. — Она зашевелилась.
А он спросил:
— Й мне?
— Да, и тебе. И так вон семьдесят отмерили!
И подвинулась ближе, еще ближе…
Он закричал:
— Нет! Подожди!.. — Спохватился, закусил губу: он князь!
— Жду, жду, — насмешливо откликнулась Она. — Я даже, если хочешь, отодвинусь. А ты кричи, не бойся, все равно нас никто не услышит.
И ведь права. Игнат давно ушел к себе и крепко спит. А там, внизу, только младшая дружина.
— Да, — сказала Она, — всем свой срок. Вот, скажем, твой прадед Владимир, дед Изяслав, отец — все уходили вовремя.
— Отец?! — Князь отшатнулся. — Он вовремя?
— Да, в самый срок.
— Но почему? Ответь!.. Не можешь?!
— Да, не могу. Здесь не могу. Вставай, пойдем. Я расскажу тебе, но уже там, ты знаешь где. — И вновь придвинулась, уже почти вплотную.
И князь почувствовал, как закипает в жилах кровь, а руки холодеют. Он мог кричать, но молчал. Сносил Ее дыхание…
— Здесь, — сказала Она, — я тебе ничего не скажу. Здесь — жизнь живых. Пойдем. — И обняла его.
Он стерпел и это. Сжал в кулаке нательный крест и оберег, произнес:
— Пойдем, пойдем. Вот только…
— Что «только»? — Она взяла его за горло.
Он захрипел:
— Послы… Я жду послов. Не для себя!
— Я знаю это. Ну и что? Пойдем. Пора!
Захрустел кадык. Но князь успел крикнуть:
— Семь дней! Семь! Семь!..
Свет! Гром! Огонь!
…Очнулся. Где он — здесь, там?.. Нет, еще здесь. А где Она? Сел и окликнул:
— Смерть!
Молчание.
— Смерть! Смерть!
Не отзывается. Тьма непроглядная. Ни шороха, Ни звука… Но он сказал:
— Я знаю, ты здесь. И говорю: встречу послов, созову сыновей, а потом приходи. Семь дней прошу. А за это… Вот! — Он сорвал со шнурка оберег и швырнул в темноту. Кто–то невидимый не дал ему упасть, поймал.
— Довольна? — спросил князь.
— Довольна! — Она усмехнулась.
И стоит, не уходит. Всеслав зажмурился, стиснул зубы… А Смерть задумчиво сказала:
— Семь дней! Глуп, слеп ты, князь… Но будь по–твоему. Нынче среда, считай, она прошла уже, через семь дней еще одна среда пройдет… — И спохватилась: — Нет! В ту среду я тебе весь день не дам — полдня! Да, князь, в час пополудни будет самый срок, на том и порешим. Жди, князь! — И засмеялась. И ушла. Хоть дверью и не хлопала, и половицы не скрипели, а знал Всеслав, почуял, что ушла.
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
1
Сна больше не было. Но и вставать боялся. Ведь знал, нет Ее, а все равно робел. Лежал, смотрел по сторонам.
Темно еще. Все спят. И ты будешь лежать. Живой — и ладно. Семь дней тебе отпущено…
Семь дней! Смешно. Семь месяцев сидел ты в Киеве, а что успел? А ведь тогда молод был, и вече стояло за тебя… А Новгород сказал: «Не дам!» — с того и началось. А потом Болеслава навели, и ты, как волк, болотами да топями бежал. Обидно было, зло душило. Одно тогда лишь и утешило: когда ляхи пришли на Верх, то Болеслав взял Изяслава за грудки и стал трясти его да приговаривать…
Нет, видно, лгали люди, все же не таким был Изяслав, чтобы позволить вытворять над собой подобное. Да и бояре бы не дали. Попировали ляхи, пошумели, пограбили маленько и ушли. Только зарубка на воротах и осталась — это истинная правда! У ляхов так заведено. Обычай. Как возвратят они киянам князя, так ворота и рубят. Вначале возвращали ляхи Святополка Окаянного. И тоже Болеслав тогда был ляшским королем, только другой — Брюхатый. Или Храбрый. Все едино… И был у Болеслава меч, хвастал, ему ангел его дал. И тем мечом, когда они пришли в Киев, Болеслав Золотые Ворота рубил. Ну, разрубить не разрубил, потому что их ему открыли. А после снова Болеслав, но уже Смелый, или Необузданный, привел киянам Изяслава, а ты бежал. В третий–то раз кого ляхам вести?
Кого–нибудь да приведут, не сейчас, конечно, не д. эти семь последних дней. Ляшский король и сам чуть жив, доходит. Да к тому же именуют его Германом… И почему король? Он просто князь, не коронован. Короны в Польше больше нет — исчезла.
А меч тот Болеславов в Кракове хранится, зовется он Щербец, из–за шербины. Ворота у киян крепкие. Тьфу–тьфу! Навяжется!
Лег на бок и зажмурился.
Что ляхи?! Что кияне?! Семь дней идут. А семь десятков лет уже прошло. Не раз гадал: как доведется помирать? Молил, чтоб не во сне и чтоб не от раба, как сват. Тот, говорят, вскричал тогда: «Ведь ты убил меня, Нерядец!» Ложь это все, он не кричал, он кровью захлебнулся, даже и не понял, кто ему нанес удар, молча умер. Ну, разве что хрипел… А мстить за смерть его кому? Нерядцу этому, рабу?! Срам–то какой!
Нет, лучше лечь, как Харальд. Он — в битве, от стрелы погиб. Однако где стрелы взять? В Берестъе? Да, там на стрелы нынче не скупы, но за семь дней туда не доберешься. Весна, распутица, в полях черно; Ярила–коновод в пути еще… А Ярослав зовет: Великий осадил! И ждет, надеется. Великий тоже ждет. Он, Святополк, силы собрал достаточно, что ж ему теперь не подождать. И расквитаться ему хочется с тобой, Всеслав. Хоть много лет прошло, а не забыл, поди, как убегал он от тебя, обоз, рабов бросал. Великий! Как меды распивать, так брюхо ему пучит, а кровь — всегда горазд. И не спешит, он знает — хороша приманка. Невесткин брат в беде, не выдержит Всеслав, поднимется, заступится. И — бряк! — силок захлопнется. Да только раздавленное мясо не едят! Вон Феодосий в Поучении сказал…
Не то! Опять не то! Все это суета. Княже, твой час настал, опомнись! Ведь ты столько раз о чем молил? Чтоб те, которые тогда обманно целовали крест, вперед тебя ушли. Они и ушли! Вначале Святослав, а после Изяслав. Последний — Всеволод, тот восемь лет тому назад. Выходит, Она права? Врагов своих ты пережил, держишь волоки, реку до устья. Отец ушел в свой срок. И дед…
За окном уже не так темно. Двина шумит. А на Двине, прямо напротив, Вражий остров. А двести лет тому… Да нет, уже поболее…
Володша–князь смеялся, говорил тогда:
— Мы — Бусово племя, мы дани не платим. Град Полтеск — только наш.
Поляне, вятичи, радимичи хазарам поклонились. Чудь, ильменцы — варягам. А Полтеск — никому. И так оно от веку, на том мы и стоим и детям то оставим. А прочим, видно, под ярмом способнее. Например, ильменцы: урок они не выдали, полюдье перебили, а после — года не прошло — в обрат зовут: идите, мол, владейте нами, земля наша обильна и обширна. Тьфу!..
Так говорил Володша. А что произошло на Ильмене? Пришел к ним Рюрик с братьями, сел на столе в Словенске. И все молчат! Рабы! Кто Рюрик? Он от младшей дочери, ее за море увезли, там замуж выдали. И значит, за морем твой род. Чего пришел сюда? Здесь старший есть… Но ильменцы молчат. А Рюрик в силу входит и лютует. Вадим — в бегах…
Выставил Володша сторожей на Ловати да на Касопле, чтоб волоки держать. Держал, ждал. И не напрасно! На следующий год прибежал из Словенска муж именитый, Нечай Будимирович. Он говорил:
— К Рюрику опять пришла подмога из–за моря. Но он ее не принял, братьям роздал, сказал: довольно вам при мне ходить, идите сами ищите. И по рукам они ударили, дружину поделили поровну, а земли так: средний брат, Синеусый, пойдет на Белоозеро, а младший, Трувор, — к вам. Упредим находников, ударим, братья, разом! Мы ж кривичи, одно племя!
На что Володша ему ответствовал:
— Одно, да не совсем. Вы сами по себе, мы сами. А Белоозеро нам и совсем никто. Да и потом… ведь это княжье дело — звать заодин идти. А ты кто? Князь?
— Я князем послан, Вадимом. Он — наш, исконный, не находницкий, он ведь…
— Вадим! — Володша засмеялся. — Вот оно что! Ты так бы сразу и сказал: зовем, чтоб Вадима посадить. Ведь так оно?
— Так. Ты пойдешь?
— Нет, не пойду. Я ж говорю: мы сами по себе, вы сами. И вот еще: князь должен сам садиться. Ну, можно пособить ему да подсадить. А посадить… Кто посадит — тот и князь, а не тот, кто воссядет. Так Вадиму и передай — пусть сам садится. А что про Трувора ты говоришь… Так то еще от Буса завелось — все к нам идут. Пусть и он придет, ждем мы его! — засмеялся князь Володша.
Нечай, озлясь, ушел.
А летом, в самый липов цвет, явился Трувор. Пока шел по волокам, никто его не тронул. Шел по Двине — опять словно все повымерли. К Полтеску пришел — и тут никто его не встретил. Тогда он стал на острове, напротив города. С той поры тот остров Вражьим и зовется. Там, впрочем, после Трувора многие стояли. Но это было после. А тогда день, два они стоят. Костры жгут, рыбу ловят, едят и пьют, поют. Володша ждет. На третий день не выдержал, оделся простым гриднем, взял лодку и поплыл. Приплыл к варягам.
— Где, — спрашивает, — старший ваш?
Хотели у Володши меч отнять, да он не дался. Тогда поспорили они по–своему, подумали и повели. Шатер у Трувора просторный, из золотой парчи. Сам он в дорогих одеждах, в красных сапогах, высокий, кряжистый, беловолосый, белобровый. Один сидел.
— Ты кто? — только и спросил.
— Володша, здешний князь. — И знаки показал.
— Тогда садись.
Володша сел, меч отстегнул. Трувор пальцами щелкнул, вина приказал принести. Он, Трувор, важный был, надменный. Пил, говорил:
— Мне все известно. Затаились, с Вадимом снюхались. А зря! Кто есть Вадим? Простого он корня. Пусть рыбу ловит, землю пашет, как и отец его. И будет жить. А то, что мать его была из терема, про то забыть пора. Мы тоже внуки Гостомысла. И наша мать, и мать Вадима — сестры. Да, наша — младшая. Но зато наш отец — король. Ты знаешь, что это такое?
Володша ничего не отвечал. Кто много слушает, тот больше понимает. А Трувор продолжал:
— Поднимется Вадим, поймаем и убьем. А тебя, обещаю, не тронем. Я буду здесь сидеть, на острове. Стены поставлю, обживусь. Есть у тебя закон, ему и следуй. А мне — только плати.
— А сколько?
— Как договоримся. Я не жадный.
— Но у меня есть только меч да голова. А остальным владеет вече, — сказал Володша.
Рассмеялся Трувор на его слова и сказал:
— Я не с вечем, с тобой говорю. И потому тебе выбирать: меч или голова. Подумай, князь! Завтра я к тебе приеду и спрошу, что ты решил. Иди!
И князь ушел к себе. И приказал готовить стол.
— Какой? — спросили.
— Как на тризну.
— А много будет?
— Много.
Так оно и вышло. Назавтра прибыл Трувор. Открыли ему Верхние Ворота. Он вошел, с ним сорок лучших воинов, все при оружии, настороже. Князь встретил его у крыльца. Взошли, сели за стол. Володша повелел подать. Подали кашу, постную. И воду.
— Да что это?! — взъярился Трувор. — Я так ли тебя потчевал?
— Так то было у тебя, — сказал Володша. — Ты ж пировал. А у меня здесь тризна.
— А по кому это?
— Да по тебе! — И закричал князь: — Бей!
И побили их всех. А те, которые на острове остались, тоже не ушли. Их всех потом — и тех и этих — сложили и сожгли на Вражьем Острове. И корабли сожгли — все пять.
А осенью узнали, что на Белоозере убили Синеусого. Один лишь Рюрик и отбился, сжег по злобе Словенск, поставил Новый Град на Волхове и сел — опять же князем ильменским. Вадима разорвали лошадьми. А именитые словенские мужи все, как один, бежали, — кто в Полтеск, кто на Белоозеро, а кто и вниз, к полянам. Там, в Киеве, надежнее всего. Их князь Оскольд большую силу взял. Хазар отбил, с Царьграда дань собрал, хотел опять туда идти — ромеи запросили мира. Он снова дань затребовал — и получил. Насытился. «Теперь, — сказал, — пойду в варяги…»
Петух поет! Пора. Всеслав отбросил полушубок, сел. Посмотрел в красный угол…
Лампадка мигает! А ночью света не было. Но лик и теперь почти не виден. Черна доска. Глеб говорил — искусное письмо, из тех еще времен. Глеб это знает. Глебова — тем более. Глазастая! А все из–за нее…
Да что это?! Она–то здесь при чем? Она одна, быть может, только и осталась из тех, кто в среду по тебе загорюет.. >
А! Что теперь! Ноги спустил. Позвал:
— Игнат!
— Иду, иду. — Вошел Игнат.
— Готовы ли?
— Вот только что.
— Пусть ждут. Накрой на стол.
Ушел Игнат. Князь встал и как был, в одном исподнем, босиком, так и пошел по стертым, стылым половицам, встал на колени, не поднимая головы.
Почувствовал, слов–то нет! Язык словно присох. И голову поднять — еще страшней, чем ночью. Пресвятый Боже, что это со мной?! Лгала Она, безносая, я верую! И ведь не за себя Ее просил — за них за всех, за сыновей, за род. Мы ж не находники — исконные. От Буса счет ведем. И чтим Тебя. София кем построена? А вклады чьи? А что колокола снимают, так то… Все так живут. И был за то наказан. Потом свои отлил. Вон как звенят! Во благость всем. Дай мне еще семь дней. Мир заключу, уделы поделю…
Поднял глаза. Рубаху распахнул.
Вот видишь?! Есть только крест, а то я Ей отдал. Зачем мне то? Теперь я, как и все, лишь под Тобой хожу. И верую. И… помоги, пресвятый Боже, укрепи! Прошу Тебя! Прошу Тебя! Прошу Тебя!
И в половицу лбом. Как Мономах — он, говорят, как пение услышит…
Да что это?! Не путай! Вот святый крест! Вот крест!
Еще раз осенил себя крестным знамением. Встал. Смирил взор. И лик вроде улыбнулся, грустно, чуть заметно. А может быть, и нет, лишь показалось. Лик — черен, ничего не видно, письмо еще из тех времен. Да и привезено, купец говорил, оттуда.
…А перед тем как ты пошел снимать колокола, Волхов, говорят, четыре дня тек вспять. Знамение! А недавно Волынь трясло. И Киев. На Десятинной крест чуть устоял. Робеет брат твой Святополк, Великий князь, ибо почуял недоброе. Великий! Тьфу!..
Игнат гремит, собрал уже на стол. Значит, пора идти. Всеслав накинул свиту, натянул порты, подпоясался, обулся в стоптанные валяные чуни. А разве прежде ты б в таком обличил пошел?
А и пошел! Пришел, сел во главе стола. Уха, налимья печень.
— Тот самый? — спросил князь.
— Тот, да, — мрачно кивнул Игнат. — От Дедушки…
— Иди.
Игнат ушел. Налим — от Дедушки. А хороша уха! Горячая, с наваром… А Глебова не ест! Другие все боятся и молчат, хоть давятся. А эта сразу отказалась, сказала:
— Грех это. Нельзя. Сом, налим, раки — суть грязные твари. Можно беду накликать.
— А какую?
Смутилась, не ответила. Глеб, видно, в бок толкнул.
— Ну так какую, дочь моя?
Смолчала, глаз не подняла. Ты ведь мог сказать. Только зачем? Ну, верят они в это — и пусть верят. Им, молодым, так легче жить. И молодым и старым — всем легко, кто по обычаю живет и старины не нарушает, не вводит новины, не то что ты, Всеслав… Вот оттого–то и сидишь в гриднице один, волк–одинец, так и помрешь — один. А в Киеве, Чернигове, Переяславле — да где ты ни возьми, — везде иначе. Где князь, там и гридьба, дружина. Все за одним столом. Все чин по чину. И, говорят, в этом княжья–то сила и есть. Может быть. А ты — изгой. И меченый с рождения. Да и осталось тебе жить не много.
Отбросил ложку, встал. Снова сел. Есть больше не хотелось. Широкий стол, просторный, длинный. Сват приезжал, здесь Глеба и обговорили. Сват сильно захмелел, стал наговаривать на Мономаха, на Василька…
Вошел Игнат, встал у двери. Всеслав гневно спросил:
— Чего тебе? Как смел?!
— Гонец явился.
— Чей?
— Ярослава, Ярополчича.
Князь тяжело вздохнул. Вот, Ярослав! Вот только об отце его, Ярополке, о свате, вспоминал. Опять вздохнул, долго молчал, потом сказал–таки:
— Зови.
Ушел Игнат.
…Когда убили свата, ты свое слово, князь, сдержал, взял его дочь за Глеба. Зима тогда была, лютый мороз. А сыновей его взял на воспитание их дядя Святополк. Ну, младший, Вячеслав, молчу о нем. А старший–то, Ярослав… Брат и сестра похожи, такие же глазастые, лобастые. И молчуны. Вот Ярослав, он десять лет жил в Киеве, имел подворье на Подоле, держал село Курбатово. Великий дядя Святополк звал и в пиры его, и в походы. А волостей не то что не давал, не обещал даже. И Ярослав не просил. Тогда Великий решил его женить, нашел богатую невесту. Ярослав опять ни слова. А ведь знал: как женишься на черной, так сразу кровь испортишь, и сыновья твои уже не князья — княжата, и никогда князьями им не стать. Недаром Трувор о Вадиме говорил: «Пусть рыбу ловит, землю пашет…» А Ярослав молчал! И только когда Великий приказал, чтоб завтра ехали на смотрины, Ярослав исчез! Его искали, не нашли. Он после объявился сам, в Берестье. Посадника прогнал, сам сел. Великий звал его, советовал одуматься. А Ярослав прогнал гонцов, велел, чтоб дяде передали:
— Здесь мой удел. Городня — тоже мой, там брата Вячеслава посажу. А силы соберу, так все отцовское возьму, ибо Волынь — моя!
Вот так–то: сидел, сидел… А нынче попробуй поперечь ему! Прав Ярослав: Волынь — отцова вотчина. И более того, когда бы свата не убили, так он бы и на Киев венчан был. Он, а не Святополк!
Шаги! Князь поднял голову… Угрим! Вот кто пришел гонцом! Ну, Ярослав, совсем плохи твои дела. А сдал Угрим, ох сдал! Глаза ввалились, серый весь. Вот каково оно от сытых–то хлебов на волю бегать! Ох–х, за грехи мои…
Угрим отдал поклон и замер, ждет.
— Садись, Угрим. Поешь, небось проголодался.
— Весть у меня. Преспешная!
— Ешь, ешь. Весть никуда не денется.
Угрим вздохнул, прошел и сел напротив. Взял ложку, принялся хлебать. Потом, словно обжегшись, спохватился. Всеслав сказал:
— Налим, налим. Он самый. Вкусно ведь?
Угрим пожал плечами, снова начал есть. Князь улыбался. Вот придумают! Что с чешуей, то хорошо, то чисто. А если без нее? А если человек посты блюдет да сирым помогает, на храмы жалует, пение услышав, умиляется, слезы льет — он хорош? Но если этот человек поганых наведет и все вокруг сожжет, а крест на мир поцеловав, потом совершит убийство?.. Так кто же есть налим? И кто от Дедушки, от нечисти зеленой? Я или он?!
Бряк ложка, бряк. И — тишина. Князь поднял голову. Угрим поел, утерся гадливо. И сплюнул даже. Он злой, Угрим. Тогда, зимой, после смерти Ярополковой, привез он сюда Глебову, а ты, Всеслав, думал, а надо ли принимать ее. Да что теперь об этом вспоминать? Теперь вот брат ее, князь Ярослав Ярополчич…
— Ну, что, — мрачно сказал Всеслав, — чую я, побежал Ярослав из Берестья. Так?
— Так, — кивнул Угрим. — На север, на Городню. На Неру–реку вышли и стоим. Там Вячеслава ждем. Он…
— Вот! — зло перебил Всеслав. — Вот так всегда! А я что говорил? Я говорил: «Не выходи! И брату своему не верь!» Так нет, идут! Сидели бы за стенами, никто бы вас не взял. А нынче что? Да будь я там на месте Святополка…
— Великий не пошел. Он сел в Берестье. За нами сыновей послал.
— А, сыновей… — Всеслав задумался.
— И теперь мы стоим, — сказал Угрим, — сыновья его стоят. Вот Вячеслав придет…
— Уж он придет! Придет!.. — Всеслав не выдержал, встал.
— Да! Придет! — Угрим вскочил, побагровел, закричал: — Придет! Ибо он брат родной. А ты… Тебя всю зиму ждали!
Князь стиснул зубы, помолчал, потом тихо сказал:
— Ты сядь, Угрим. Чего кричать? Я тоже сяду.
Сели. Долго было тихо. Стучало в висках, унялось.
Вот всегда так: брат, не брат. Брат — он какой ни есть, а свой, а ты всегда чужой, изгой. Нет тебе веры. Ты — как степняк! Степняку не грех и клятву дать, крест целовать, наобещать, а после заманить, как хана Итларя брат Мономах заманивал… И ты хорош, пока…
Вздохнул, заговорил неспешно, тихим голосом:
— Ну, что я не пришел… так не пришел. Но не предал я вас. И не предам. Понял, Угрим?
— Понять–то понял. Да только это не ответ. Мой господин хотел, чтобы ты…
Всеслав рукой махнул, зло перебил:
— «Мой господин! Мой господин!» Твой господин, Угрим! А мне он кто? Он сын того, кто бил меня, жег мой удел. Он внук того, кто звал: «Приди, Всеслав, помиримся, поделим дедово, рассудим; мы ж одна кровь!» И я пришел. А он, дед господина твоего, меня — в поруб! Но и тогда я зла не затаил. Как погнали его из Киева, я, один на всей Руси, сказал ему: «Брат Изяслав!..» И Ярополку Изяславичу не поминал Голотческа, когда же он из Волыни выбежал, опять я один… А и зарезали его, но я от своих слов не отказался, взял его дочь за Глеба. А мог не брать. Ведь мог?
— Мог. Да…
— Вот то–то и оно! А взял! Мог не вступаться я за Ярослава Ярополчича, ибо вы сами по себе, мы сами… А ведь вступился! А то, что я к Берестью не иду, понимать надо! Вот ты седой совсем, Угрим, пора понять: мечом славы добыть ума много не надо. Вот без меча… — И усмехнулся князь и бороду огладил, сказал, как малому: — Да Святополк давно бы подушил вас всех, когда бы без оглядки шел. А так ведь знает: есть Всеслав, сидит у себя в Полтеске спокойно. Вот Великий и медлит. Всю зиму под Берестьем простоял. Он и сейчас стоит; он сыновей послал вдогон, а сам ни с места, ибо он страшится: вдруг Всеслав, как в прежние годы, двинется. Вот так–то вот, Угрим. А ты: «Брат! Брат!»
Опять долго молчали. Потом Угрим сказал:
— Пусть так. Но как нам быть? Ведь ты же не идешь.
— Да, не иду. А быть вам так! Пусть Ярослав брата не ждет, уходит в ляхи. Здесь, на Руси, никто ему…
— Князь!
— Я сказал! Никто за Ярослава не заступится! Да и потом… — Всеслав вздохнул, печально улыбнулся. — Ну что мне стоило наговорить тебе с три короба, наобещать, мол, передай, что я, Всеслав, целую крест…
— Но ты же не целуешь!
— Не целую. Не целовал и не пришел. А Вячеслав ведь целовал? Чего молчишь? Вот то–то и оно, что целовал, а тоже не пришел. У вас там на Руси давно такой обычай: кто поцелует, тот и предает. Потому Святополк и ждет, когда брат Вячеслав…
— Князь!
— Сядь, Угрим!.. Охолонись. И слушай, что там дальше будет… — И головой мотнул, утерся рукавом, «говорил хрипло: — Кто первым выбежал из Киева? Не Вячеслав, а Ярослав. Ярослав же брату написал: мол, жду, даю тебе Городню, станем заодин и отобьемся, а после на Волынь пойдем, на отчину. Ведь так?
— Да, так.
— То–то же! Теперь приходит Святополк и Вячеславу говорит: я знаю, ты не виноват, а это старший брат тебя сманил, и посему тебя прощу и Городню тебе оставляю, владей, но ты за это, Вячеслав…
— Нет!
— Да! Запомни, что я говорю, Угрим, запомни! И Ярославу передай: Всеслав почуял! Понял? И чтоб бежал он в ляхи, Ярослав, нам, полочанам, не успеть уже собраться. Гони, Угрим! — Всеслав встал. — Гони! Тебе коней дадут, каких захочешь. Скажешь, что я велел… Угрим! День нынче года… жизни стоит! Ну!
И поднялся Угрим. И был он черен, зол. Да он всегда такой, еще со времен свата памятен. Встал и ушел, не поклонившись. Пес! И пусть Ярославу говорит, что хочет. Пусть — мертвые сраму не имут…
Но гадко, грязно, подло было на душе! Ходил по гриднице, садился, вновь вставал. Да, мертвые сраму не имут, это верно. А кто еще живой, тем как? Семь дней еще так ходить, носить в себе эту тяжесть. А что ты можешь? Когда бы не Она, тогда б сказал: «Беги ко мне!» Гонец два дня туда, день там, и Ярослав через два дня сюда прибудет. А если что в пути? Бежать–то им не просто — через ятвягов. Да и кто в среду сядет в Пол–теске? Кого назвать? Глеб, Ростислав, Давыд, Борис?..
А если б ты этой ночью умер, тогда бы не застал тебя Угрим. И говорили б все: вот был бы жив Всеслав, заступился бы за Ярослава! И Святополка бы разбил, и племя его выгнал из Владимира, и отдал бы Волынь законным, Ярополчичам. А так…
Выходит, Она права? Всем нужно уходить в свой срок. А ведь лишь только первый день пошел! Их семь всего. И за семь дней…
Сел, обхватил руками голову. Гордец! Что возомнил! Володша, тот…
Смеялся Володша и говорил:
— Молчат находники! Не лезут.
И не лезли. Рюрик опять ушел за море. И долго его не было. В Новом Граде посадник сидел, из варягов. Брал дань, но только с ближних, с ильменцев.
Зато Оскольд в силу вошел. Любеч подмял, Чернигов. А после взял Смоленск. Зима пришла. Явились они к Полтеску. Лед на реке, голод в городе. И слух — это наказание за убиенных. Пошел Володша на кумирню и жег дары, рабов. Не помогло — молчал Перун.
А у Оскольда новый Бог, ромейский. Всесильный, грозный Бог. И сам Оскольд теперь зовется Николаем и чтит того, ромейского, который на кресте распят. К полянам из Царьграда волхв пришел, он звался Михаилом, принес Писание и уверял: вот где истинная вера. Смеялись все, Оскольд тоже смеялся. Тогда сказал им Михаил: «Смотрите!» — и бросил то Писание в огонь. И отступил огонь! И все они, кияне, поклонились и были крещены. А теперь они с тем грозным и всесильным Богом пришли сюда. Их тьма. Мечи, щиты, кольчуги — все на них ромейское. А у Володши что? Да и Перун молчит. И отворили люди Лживые Ворота — те, которые раньше Верхними назывались и через которые Трувор входил.
Побежал Володша, но поймали его. И разорвали здесь же, под окном. Оскольд дань положил и ушел, посадника оставил. И тихо было в Полтеске. Володшу, и жену его, и сына, и братьев — под корень всех извели.
Всех, да не всех! Микула уцелел. Они с Володшей — одного отца, но разных матерей. Говорят, ушел Микула по реке куда–то вниз, возможно, к варягам. А было оно так или нет, кто знает…
Князь поднял голову. Игнат в дверях.
— Ну, что тебе?!
— Так ждут давно. Те, на реке.
— А что Угрим?
— Уехал. Скоро.
— Как?
— Все честь по чести. Взял Лысого. А в поводу — Играя и Стреножку.
— Хорошо. Иди. Я приду.
Игнат ушел. Тихо в гриднице, пусто. Стол, миска, хлеб. Здесь за столом отец сидел. И дед. И много еще кто. А первым сел Микула. Хлеб… Князь отломил краюху и понюхал. Постоял… Потом подошел к печи и опустился на колени. Тихо позвал:
— Бережко! Бережко!
Никто не ответил. Да он ответа и не ждал. Переломил краюху, покрошил. Опять позвал:
— Бережко! Ешь!
Высыпал в подпечье. Подождал. Ни звука. Заглянул туда.
И улыбнулся — угольки светятся. Да, словно угольки. Моргают, тусклые. Значит, жует. Сыпанул еще, потом еще. Лик, он издалека привезен. Микула ликов не имел, он кланялся кумирам. А Полтеск у Оскольда взял! Прости мя, Госпоги!..
Перекрестился, встал и осмотрелся. Никого. Стол, миска, хлеб. А за окном давно уже светло. Пора идти. Небось заждались.
2
Спустился по крыльцу. Крыльцо скрипело. Когда живой идет, оно всегда скрипит. А вот Она ходит неслышно.
Грязь во дворе. Перемостить пора. Ведь говорил же им не раз. Да что им грязь? Им грязь привычна. Им надо, чтобы все было в грязи, чтобы никто не вылезал. И думают, так здесь и ловчей всего. И правильней. Ровней. Бух в Зовуна — и глотку драть. Как будто что по–дедовски идет — это и есть венец всему. Глушь, темнота людская.
Щека задергалась.
Да что теперь тебе до них до всех? Осталось–то всего ничего, терпи! Терплю. Вон Хром идет. Бог в помощь, Хром. Будь здрав, Бажен. Кивнул, опять кивнул…
Остановился, оглянулся на Софию, снял шапку, осенил себя крестом. Отдал поклон — не Зовуну, а ей, ибо Зовун сам по себе, мы сами по себе. Шапку надел — на самые глаза. Прошел мимо него, не покосился даже… А ведь хотел идти без шапки. Взял сапоги варяжской юфти, нагольный полушубок, меч. А шапку отложил.
— Застынешь, князь, — сказал Игнат. — Вон ночью как тебя знобило.
— Так то не от этого.
— Все от того. И все к тому.
— К чему?
Игнат не ответил и подал шапку.
К тому ли, не к тому… А шапке сколько уже лет? Еще за море в ней ходил. Значит, с десяток будет. Ворс вытерся совсем. В такой, что ли, положат? А хоть бы и в такой!
Не выдержал, оглянулся. Висит Зовун, веревку ветер треплет. Озяб небось… Но погоди, даст Бог, скоро согреешься — и еще как, звону будет, радости!.. Тьфу, тьфу!
В воротах — отроки, Вешняк и Чмель. Заметили, как расплевался ты, теперь щерятся, зубастые. Что им Зовун? Им ты — Зовун, они — твои, не градские…
Ворота. Лживые. Трувор через них входил, Оскольд. А прадед твой, Владимир Святославич, внук Игорев и правнук Рюриков, тот на коне въехал, по костям. От Буса счет ведем, случалось всякое, но никогда еще такого не бывало, чтобы к нам в род въезжали — незвано и через нашу ж кровь! И от них, от этих ворот, ото дня того и зачалась вражда!
Мосток над рвом. Тропинка идет вниз, к реке. А вот и лодка. Ждут.
Князь помрачнел. На веслах — два Невьяна, Ухватый и Копыто. Недобрый это знак. А что теперь к добру?! Сел меж Невьянов, повелел:
— Не шибко.
Выгребли на стрежень. На Вражьем Острове кричали галки. На Заполотье было еще тихо, туман лежал. И ветер стих, а пробирало крепко. Князь запахнулся поплотней. Сидел, смотрел на воду. Вода была мутная. Ну, здравствуй, Дедушка. В Никитин день я одарил тебя. Ты отплатил — значит, дар мой принял. Отведал я нечистого да жирного. В последний раз. Теперь у меня все будет последнее; сначала ты, теперь на Хозяина иду. Молчишь? Ну–ну, молчи, а что тут скажешь?
Вздохнул Всеслав, расправил плечи. Невьяны гребли молча, споро. Князь осмотрелся и спросил:
— Там, что ли, Дедушку нашли? — И указал на заводь.
— Нет, пусто там, — сказал Копыто. — А мы вон там, подалее. И то не сразу отозвался. Полдня искали, аукали. Заспался, должно быть, Дедушка. Зима–то была знатная.
Копыто — он словоохотливый, Ухватый — нет. Зато умелец. Он и услышал Дедушку. Ходил по берегу и звал. Не дозовешься — худо будет. Ибо потом на реку лучше не ходи. Сети порвет, челн опрокинет. В Никитин день просыпается голодный, злой. Уважь его, лошадку сбрось, он более всего лошадок любит… И тогда уже все лето будь спокоен. Как Ратибор…
Нет–нет! Князь отмахнулся, словно от видения, криво ухмыльнулся, спросил:
— А рыбу тоже ты прибрал?
— Я, господин, — кивнул Ухватый.
— Он, князь, а кто еще?! — опять заговорил Копыто. — Вот вроде рядом, вместе мы стояли. И у меня — ничего. А он ладошкой по воде плясь–плясь, потом что–то пошептал — и зверь к нему идет! А он его за жабры! Он слово знает, князь. Он, этого, он и креста не носит.
— Ношу! — обиделся Ухватый. — Тогда только и снял.
— Вот видишь, князь, снимает! Значит, не зря. Да я хоть целый день буду стоять — и ничего. А этот только пошептал… Да ты не бойся князя! Князь ^ам…
— Что сам? — Всеслав нахмурился.
— Да так… — Копыто поперхнулся, — Глуп я. Не слушай меня, князь.
— Я и не слушаю. А ты молчи.
Город уже скрылся. Теперь по левой стороне стояли одни курганы. Поганые. Заросшие. Туда ходить нельзя. Ты это сам им запретил. Ибо не вера это, а обман, не боги — зло. Стозевые и ненасытные. Пресвятый Боже! Вот как я верую! Зачем мне то?! И жарко мне. Распахнут полушубок. Рука — на грудь, под ворот… Крест.
Сжал его — сильней, еще сильней. Крест крепкий, впивался в руку, не ломался. Казалось, вот–вот проткнет ладонь, а ты сжимал его, сжимал. Крест — в нем сила. Кем ты ни будешь, а он сильней тебя. Жил в Кракове епископ Станислав. Он говорил: король погряз в грехе. И подбивал на бунт. А может, и не подбивал, но обличал. И объявил, что не допустит короля к причастию. И вообще не примет его в храме. А Болеслав — тот самый, Необузданный, который вел на Киев Изяслава и изгонял тебя, законного… Законного! Ибо кто ты? Внук Изяславов, старшего из сыновей Владимира, и принял ты венец его, Владимиров, по чести, всенародно, и сам митрополит тебя венчал… Да, Болеслав. Так вот, тот самый Болеслав явился–таки в храм, схватил епископа прямо во время мессы и угрожал ему мечом. А Станислав сказал: «Побойся, Болеслав! Что будет мне, то будет и всей Польше. Вот на том и целую крест, что свершится так». И поцеловал. А Болеслав засмеялся. Схватил епископа, выволок на площадь и убил, четвертовал. И что получилось? Нет прежней Польши, нет короны. Изгнали короля, исчезла и корона; он, Болеслав, ее унес, спрятал под рубищем, бежал. И где–то в Швабии, Тюрингии — никто не знает точно — сгинул. Тот самый Болеслав, который Киев брал, Поморье жег, богемцев, угров воевал… Теперь брат его Герман — просто князь. А Польша, как тот Станислав, разрублена и четвертована. Вот как через святой крест–то переступать! И твоя сила, князь, — в кресте, а не в бесовских чарах. Чары — дым! Сожгли Перуна — и ушел Перун, рассеялся, как дым, курганы заросли. А ты правил и правишь. Оберег сорвал, крест поцеловал — и Она отступила! Сколько же лет носил ты его, оберег, надеялся… Все зря! Всего семь месяцев ты был Великим князем. Когда узнал, что Болеслав идет, выступил ему навстречу, верил, что оберег спасет тебя, как спас из поруба и как вознес на Место Отнее, над всею Русью! А после… предал он тебя. И ты ушел без боя. Срам. Обидно было, зло душило. Одно лишь и утешило, будто Болеслав взял Изяслава за грудки…
Да только лгали люди! И так всегда. Лгут, если это им на пользу или в утешение. Лгут еще и для устрашения.
Микула говорил:
— Страх — зло. Не должно никого бояться, и тогда ты князь.
Семь лет был Полтеск под Оскольдом, семь лет Микулы не было. Бежал совсем еще мальчишкой, вернулся воином, привел с собой дружину. Собрал их, рассказывал, по зернышку: свей, урманы, руянцы, пруссы. Им всем что Один, что Перун, что Святовит или ромейский Бог — едино. Пришли, стали на Вражьем Острове. Семь кораблей — драккаров. Под вечер стрелой пустили грамоту. В ней было сказано: «Завтра зажгу. Бегите». Не поверили. Опять собрали вече. Потом всю ночь готовились, утром взошли на стены.
А он зажег! Метал огонь. Потом пошли на приступ. И взяли. Резали. Кричал Микула:
— Всех! Под корень! За брата! За жену его! За род! За страх мой! Режь!
Порезали, пожгли. Только через год отстроились, и снова жизнь пошла. Терем новый поставили, капище, стены. Пришел Бережко, Дедушка приплыл. Микула строго княжил. Детей своих от королевны урманской, как подросли, послал варяжить. Послал троих, вернулись двое. Опять послал — один вернулся, Глеб. Этот Глеб потом и правил. Ятвягов воевал, литву, летталов в кротости держал.
А с Русью был особый уговор: вы сами по себе, мы сами. Это когда еще Олег пошел на Киев, тогда послали в Полтеск меч. Микула меч переломил и возвратил. Олег один пошел. Сел в Киеве, Оскольда порешил. Микула меч послал — Олег его переломил. На том и порешили: Двина моя, Днепр твой, а волоки — едины. К тебе идут купцы, ко мне — пусть вольно ходят, ибо меча меж нами нет.
И не было. У них Олег сидел, а после Игорь, Ольга, Святослав, — они держали мир. А что делить? Земля наша обильна и обширна, и от города до города не докричишься. Оттого и не воевали.
У Святослава было трое сыновей, у Рогволода двое. И еще дочь–красавица. Вот Святослав порой и говорил…
Гребут Невьяны, упираются. Уже миновали Бельчиц–кий ручей. Близко теперь. Тихо, гладко кругом. Ну, где ты, Дедушка? Хоть бы взыграл, волну пустил, ладошкой хлопнул. Ведь я ж тебя не просто одарил — я Орлика пожаловал. Его также по весне от угров привели. Купец попался въедливый, цену не сбавлял, набрасывал. Хвалил, гриву трепал да языком пощелкивал. А жеребец храпел, приплясывал. Красавец! Масть каурая, глаз бешеный, холка двужильная: по всем приметам — надо брать. И взял, взнуздал, смирил. Провел маленько в поводу, вскочил. Да, не ошибся. Стать — видная, шаг легкий, бег размашистый. Но ох как давно это было! Теперь и сам ты кляча клячей. А конский век — он и того короче. Четыре дня назад пришел Игнат, спросил:
— Кого дадим?
— Так этого, — ответил, — ну, этого…
Но так и не назвал кого, не смог. Игнат аж побелел:
— Да что ты, князь?! Как можно?! Грех какой! Его — да водяному!
— Я сказал!
И взяли Орлика, свели к реке. Голову медом намазали, солью посыпали, в гриву ленты вплели, стреножили и повалили в лодку. Ухватого на берегу оставили, а сами выгребли на стрежень и стали знака ждать. Дождались — бросили. На дно. Отведал Дедушка, ублаготворился, привел Ухватому налима. И, выходит, не налим это, а Орлик. Конина. Так–то, князь! Только какой в том грех, когда ты сам сейчас как Орлик? Приплывешь, накормят тебя, выведут. Конечно же поганство, но так давно заведено. Сперва отец ходил, а ты смотрел, после сам — с пятнадцати годов, каждой весной. А этот раз — последний. И вон они, стоят на берегу, должно быть, устали ждать.
— Шибче! Шибче давай!
Зачастили Невьяны. Брызги летят, студеные. А берег — ближе, ближе. Ну да, как Орлика… Ш–шах — прошуршало днище. Он встал, поправил шапку, запахнулся.
— Под ребра, князь!
— Как водится.
Сошел. Поднялся на бугор. Сказал выжлятникам:
— Не обессудьте, припоздал. Дела.
Выжлятники, их было трое, согласно закивали. Старшой из них, Сухой, сказал:
— Так не беда. Дни нынче длинные, успеем.
— Пошли!
Ноги скользили, грязь. И это на бугре, а там будет еще хуже.
Свернули в густой ельник. Шли, хлюпали. Молчали. Потом Сухой заговорил:
— Все в срок идет. Он еще с ночи встал, походил маленько, теперь лежит.
— На ветках? — спросил князь.
— Нет, у себя. Вчера на ветках был, позавчера. А тут словно почуял. Лежит, не кажется. Я думаю, то добрый знак. Так, князь?
— Так, так…
Хотелось тишины. Все в срок. Река проснулась, лес, скоро пахать пойдут. Грязь, холодно, дождь собирается. Вот сколько лет ты ходишь, князь, а так и не привык… А им–то что? Сухому тридцать лет от силы, а Третьяку и того меньше. Ждан вообще еще безусый. На следующий год они другого князя поведут и будут говорить ему «все в срок». Им жить да жить!
Собака тявкнула. Костром повеяло… Вдруг Сухой спросил:
— А правда, князь, про кречета?
— Про кречета? Которого?
— Так, говорят, тебе пообещали.
— Кто?! — Князь остановился…
Сухой пожал плечами. Сказал:
— Так ведь болтают всякое…
— Ну–ну!
Сухой вздохнул и отвернулся. Опять пошли. Ишь, кречеты! Откуда взял? Спросил:
— А что тебе до кречетов?
— Так, ничего. Я их ни разу и не видел. А говорят, они получше соколов. Их за Камнем, говорят…
— Так то за Камнем! Вон куда хватил! — Только рукой махнул.
Опять шли молча. Хлюпали. Думать не хотелось.
На поляне ждут. Костер горит. Увидели — вскочили. Один Ширяй Шумилович. Нет, и он встает. Любимов прихвостень, заводчик. Поди ж ты, нашли кого прислать! Сейчас начнет во здравие да приторно. Ну, говори, говори…
Ширяй молчал. И все они молчали. Князь настороженно спросил:
— Не удержали, да? Ушел–таки?
— Н–нет… не ушел… — уклончиво ответил Сила.
— А что тогда? Ширяй!
Ширяй степенно произнес:
— Хозяин плачет.
А что ему, смеяться? Но спросил:
— Как это плачет?
— Так. Послушай.
И замолчал Ширяй, застыл. Тишь–тишина. Собак и то не слышно, лежат, уши прижав, не шелохнутся. А, вот… вот опять… Опять…
Князь облегченно выдохнул, сказал:
— Так это скрип, не плач. Ну, дерево скрипит, а вы… как бабы старые!
— Нет, князь, то плач, — тихо сказал Ширяй. — Мы подходили. От Хозяина.
— А хоть и от него! Ее почуял, вот и плачет.
— То, что Ее, это верно. Вот только чью Ее!
Пес! Что мелет! Рот сразу повело, оскалился! Рука — сама собой — к мечу!..
— Князь! Князь! — Сухой схватил его, сдержал.
Сдержал бы он, когда б я не хотел, ага! Князь оттолкнул Сухого, зло сплюнул под ноги, сказал:
— Живи, Ширяй… Садись! И вы… чего стоите?!
Сели. А князь стоял и слушал… Да, скрипит. Но где,
не рассмотреть. Валежник, ели, вывернутый пень… Пусть так! Приказал:
— Бери! — И руки развел.
Сухой снял с него меч, шапку, полушубок. Знобит, но то от холода. Князь подошел к костру, сел, осмотрел собравшихся. Выжлятники глядели настороженно, Ширяй — никак. И пусть себе!
— Ковш!
Дали ковш. В ковше кисель овсяный на меду. Испил, утерся.
— Ком!
Дали ком. Он разломил его, съел половину, запил, еще откусил, а остальное передал по кругу. Ком был как ком, гороховый, Хозяин это любит. Как и овес. И мед. А скрип — вовсе не плач…
Выжлятники запели — тихо, заунывно. Хозяин, дай, хозяин, не серчай, не обессудь, мы твои дети, мы… Пресвятый Боже, что это, зачем, вот крест на мне, чист я, руки тяну к огню, и лижет он меня, а не согреться мне — мороз дерет по коже. И прежде драл. К такому не привыкнуть. Но так заведено, терпи. Отец терпел и дед, от Буса все идет. Ты для того и князь, чтоб за других стоять. Ты им — как оберег, как Орлик. Поют и смотрят на тебя, надеются, что отведешь, задобришь, усмиришь.
А нет так нет, в лес не пойдут. Ударят в Зовуна, другого выкрикнут. А ты…
— Я готов, — сказал князь и встал.
Все тоже встали. Ширяй перекрестил его. Сухой подал рогатину. Пошли, он впереди, все остальные следом. Слышал, как Третьяк поднял собак, как те залаяли, не оглянулся. Перехватил рогатину, поправил крест. Пресвятый Боже! Наставь меня. И укрепи. Дай сил. Ибо один лишь Ты есть защита моя и твердыня моя, щит и прибежище. Велика милость и щедрость Твоя… А ведь не то, не то! Она права. Сейчас или через семь дней — ведь все едино. Что есть семь дней? Ничто. А сам ты кто?.. Знобит — и не от холода.
— Куси! — крикнул Третьяк. — Куси!
Собаки кинулись к берлоге. Лай. Крики. Топот. Гиканье. В рога дудят…
И — рев! И… никого. И снова — рев!
Выскочил Хозяин! Матерый, да. Собак — хряп лапой, хряп. И завертелся, ринулся, вновь вздыбился и заревел. Присел, упал, вскочил. А собаки знай рвут его. За гачи, за спину. Так его! Так! Так!
— Ату! Ату!..
Наконец встал. Теперь в самый раз! Ну, князь!
— Хозяин! — закричал князь. — Сюда! Вот я, вот брат твой! Вот!
Схватил рогатину, одним концом уперся в землю, шагнул вперед, рожон — вперед. Иди!
Пошел! Рев! Пена! Пасть!
…Темно. И — тяжесть, духота. Кровь хлещет, липкая, горячая. Трясет его, хозяина, хрипит, бьет лапами. Задавит ведь, зацепит! Хоть кто бы пособил… Нет! Нельзя. Тут — сам на сам, или ты, или он. Хозяин! Не гневись, я брат твой… Нет, я сын твой, раб. И кабы моя воля, да разве б я… Но так заведено. Вот, привели меня, я должен… И я не за себя молю — за них. Да что мне эта жизнь, я взял свое, с меня довольно.
Обмяк Хозяин, все, значит, доходит. Ну, еще раз… Затих. Слава тебе, Господи! Услышал, уберег. Теперь бы хоть еще так, под лапу бы, да на бок, и выползти…
Ф–фу! Кончено. Утерся. Встал. Его качало.
— Я… — И упал.
Только тогда они и подбежали. Шумят, суетятся, теснятся, поднимают.
— Князь! Жив!
— Жив, жив… — И оттолкнул их, сел. Круги в глазах. Ломило спину.
Сухой спросил участливо:
— Помял топтун?
— Помял. Как водится.
Ширяй пролез вперед, сказал:
— А кровищи! Кровищи–то! Дай, князь, сотру.
— Зачем? Мне в ней привычно! — Зло усмехнулся, встал, расправил плечи. И вправду, весь в крови. Засохнет! Осмотрелся, спросил: — Ну, кто ваш господин, я или он?
— Будь славен, князь! Будь славен, князь!
— Вот так–то! Жив я! — И засмеялся, горько.
Потом пировали. Пылал костер. Хозяина разделали.
Собакам — кости, потроха. Череп и правую лапу Сила в холстину завернул, в лес отнес и там, где надо, схоронил. А им — все прочее. Мясо резали на тонкие ломти и ели — так Святослав, сын Игорев, внук Рюриков, любил. А было у него, у Святослава, трое сыновей: Олег, Ярополк и Владимир. Олег и Ярополк — от королевны, Владимир — тот никто, рабынич. Когда же Святослав решил оставить Русь, то Ярополку Киев дал, а Олегу — Древлянскую землю. Тогда обиделись, спросили новгородцы: «А нас кому?» А Святослав ответствовал: «Нет больше сыновей». — «Ну дай нас хотя бы Владимиру». Дал. И ушел в болгары. Там воевал — да так, что по сей день стоят те города болгарские пустые.
Всеслав лежал возле костра. Было еще светло. Пахло паленой шерстью, кровью, медом. Пил, заедал и снова пил. Рог был большой и наливался до краев, а хмель не брал. Хмель — для живых, для молодых. Вот и смеются они, пляшут, поют, пьют здравицы, кричат. Ширяй и тот отбросил спесь, руками машет, рассказывает, как он в прошлом году ездил в Смоленск и там охотился, как видел Мономаха, а у того есть лютый зверь, зовется пардусом, тот зверь ученый, но цепной, и если напустить его…
Не слушали, запели. Кто им Ширяй? Посадский чин, он только языком болтать и может, вот пусть там, на посаде, и болтает. А пардуса и без него видали. Вышел Третьяк, накинул на себя еще мокрую, липкую шкуру, гикнул, упал в костер и покатился по угольям, и зарычал, завыл. Все хохочут. Вот это разговор! Будь славен, князь. Лес — наш, мы сами по себе, а Мономах — он далеко. И Зовуна здесь не услышишь. Медов давай! Еще медов!
Пир шел горой. Они про все забыли. И это хорошо, всему свой срок. Князь встал. Сухой поднялся следом. Ширяй сидел — хотел тоже встать, да не смог, — смотрел на них и удивленно моргал. Любимов прихвостень, крикун. В среду, видно, покричит…
Пускай себе кричит. Князь развернулся и пошел. Сухой шел следом, провожал. Ну вот и кончилась последняя охота. И день прошел. А что ты сделал? Ничего.
Сел в лодку. Плыл и молчал. Быстро темнело.
У Святослава было трое сыновей. Два — от Предславы, дочери угорского хакана, то бишь короля, а третий — от Малуши, ключницы. Собираясь в болгары, Святослав так сказал: «Не вернусь. Не хочу. Вот поделил вам Русь — владейте». «А старшим кто?» — спросила бабка, Ольга. «А старшим — старший». И ушел.
А старшим был Владимир. Но Ольга не любила старшего. Он был, как и отец, поганцем. Младших, Ярополка и Олега, бабка склоняла в истинную веру — в ромей–скую. А Святослав ромеев бил, едва Царьград не взял. И взял бы, если бы не предали. И отступила Русь, и мало их осталось, и зимовали на Белобережье, голодали. Весной стал Святослав просить у Киева подмоги на ромеев, послал гонцов и ждал. А не дождавшись, так сказал: «Приду и сам возьму. Ужо не обессудьте». Пошел… Не устерегся. Перехватили его на порогах. Дружина, прежде храбрая, вся разбежалась, кто куда, и степняки срубили Святославу голову и сделали из черепа ковш для вина. Одни говорят, печенегов ромеи купили, другие говорят… Да если б этим кончилось! Ярополк на Олега пошел — и убил. И стал грозить Владимиру. Владимир убежал за море, привел варягов и пошел на Ярополка — чтоб, значит, за Олега отомстить. И за отца. Тогда пошел такой слух, что, мол–де, это Ярополк, убоявшись прихода отца, и купил печенегов. Атак ли было, не так, никто на Полтеске не знал, знать не желал и не загадывал, ибо вы сами по себе, мы сами, меча меж нами нет, и уже со времен Оскольда, сто лет мирно живем, а что вы там, находники, не поделили, так вы и далее между собой рядитесь ли, рубитесь ли — нам дела нет. И вдруг…
Является в Полтеск–град Добрыня, Малушин брат, дядя Владимира. И… сватает за князя своего нашу Рог–неду! Сулит дреговичские земли, волоки, как будто все это его, и говорит еще притом, что князь его столь щедр, что–де готов платить по пригоршне диргемов за уключину, а тех уключин на ладье столько–то, а тех ладей ты вывел бы на Днепр столько–то, и если посчитать, то и в Царьграде больше не возьмешь, чем Владимир сулит!
Слушал Рогволод, слушал, кивал. А когда Добрыня замолчал, немного подождал и лишь потом тихо сказал:
— Нет, не пойду. И не зовите.
— Но почему?
— А потому, что зла на вас не держим. Твой князь мне брат. Но и киянин Ярополк мне брат. А разве брат на брата ходит? — Улыбается князь Рогволод. Ну, вроде все сказал, яснее некуда, вставай и уходи.
А Добрыня сидит! И говорит еще, и удивляется:
— Как это «брат»?
— Так, брат, ибо есть братья по отцу, по матери — это по крови, а есть… совсем другие братья. Только тебе такого не понять, рабынич.
Рабынич! Гак он и сказал, насмешливо, прищурившись, будто плетью оттянул. Позеленел Добрыня, закричал:
— Ну, пес! Не отсидишься!
— Да, — кивнул Рогволод, — не отсижусь. Но и тебе сидеть передо мною не позволю. Эй, сыновья мои!
И подступили Бурислав и Славомир, взяли Добрыню под белые руки и вывели прочь. И указали путь рабы–ничу. И подсобили, чтоб скорей отъехал. Ведь срам какой! Такое предложить! Да что они, находники, совсем ума лишились? Ведь он, Владимир Святославич, давно уже женат, жену в варягах взял, и есть у них и сын, младенец Вышеслав… И снова свататься? Позор! Вовек такому не бывать, чтоб я да дочь свою…
Было, было. Даже горше. Пришли они, варяги с новгородцами. Встречали их всем Полтеском. Но одолела Русь, и полегли князь полтеский и сыновья его, дружина и просто черный люд. По их костям въехал Владимир, прадед твой, в Ворота Лживые, в терем вошел, сел там, где прежде Рогволод сидел, и повелел — и привели ее, простоволосую, и опустилась она перед ним на колени, разула, и взял он, прадед твой, ее…
А после говорили, что будто был в ту ночь Рогнеде Бусов глас, Бус призывал ее смириться и обещал, что не оставит он ее и сыновей, наведет он сыновей ее на их отца… Но так ли то? Ведь Бус прежде являлся лишь князьям, а кто Рогнеда? Княжеская дочь, а дочь — не кровь, не род, дочь — так. Тебе, Всеслав, Бог не дал дочерей, лишь сыновей…
3
— Князь! Князь! — послышался голос. — Вставай! Очнулся. Встал. Сошел. Втроем втащили лодку на песок. Постояли еще, помолчали. Копыто — всегда разговорчивый без удержу, а тут словно что почуял. Стоял
и отводил глаза, переминался с ноги на ногу. Зато Ухватый сказал:
— Не бойся, князь. Бог не оставит.
Вздрогнул Всеслав, спросил:
— Чего ты это вдруг?
— Так. Тень стоит.
— Тень? Где?
А сам похолодел, сжал кулаки.
— Тень! — встрял Копыто. — Тень! Какая тень, когда кругом темно? Не слушай его, князь. Глуп он. Глуп! — И засмеялся. Отпустило.
— Глуп, — повторил князь. — Да, верно.
Развернулся и пошел по тропке вверх. Темнотища, не
видать ни зги. Поскользнулся раз, второй…
В воротах — свет. Прошел, не оглянулся, не кивнул. И отроки молчали. Быстро через двор, на крыльцо. Заскрипели ступени. Скрипят — значит, жив.
Тихо в тереме. Спят. А если и не спят, таятся. Раньше, когда возвращался… Да ведь и не один ты приходил. И не ночью, как тать, а при свете. В бубны били, плясали. Игнат встречал, рог подавал; ты пил, а после возглашал…
Тихо. Темно. Прошел наверх. Снял полушубок, положил на лавку. Меч отстегнул. А шапку смял. Так и сидел он за столом, держал шапку в руках, молчал.
Долго молчал. Вошел Игнат и ждал. Всеслав сказал ему:
— А позови–ка мне Неклюда. И чтоб при всем пришел.
— Так ночь уже.
— Я подожду.
Ушел Игнат. Он ждал. Мял шапку, потом отбросил ее. Она упала мягко на пол. Тихо в тереме, даже Бережки не слышно. Отец в последний год молчать любил. Позовет, бывало, и скажет: «Сядь!» Сидят. Молчат. Темно уже, но вставать нельзя. Отец все смотрит на тебя да смотрит… Страх брал. Ведь, кажется, родной отец перед тобой, а страшно. Почему молчит? Он так и умер молча. Только за три дня до этого сказал: «Не будь таким, как я. Не верь. Не обещай». Схоронили его по обряду. Бабушка очень сердилась, кричала, не послушали ее, снесли к Илье.
Шаги! Вскочил.
Нет–нет! Шаги — пускай себе. Он сел. Вошел Не–юпод. Отдал поклон и замер. Помятый, заспанный.
— Ты подойди, Неклюд. Нет, ближе стань. Вот так… — Замолчал Всеслав, собрался с духом. Наконец сказал чуть слышно: — Так вот, Неклюд. Ты убегай.
— Как это?
— Так. Коня возьми. И — к брату моему.
— К которому?
— Да к старшему. Великому. В Берестье, И там… Ты наклонись, Неклюд… — И зашептал. А после резко отстранился, долго смотрел дружиннику в глаза, спросил: — Запомнил?
— Да.
— Так–то, слово в слово. Спеши. А я тебя здесь не обижу. Вот крест! Но если что, Неклюд… Ты ж знаешь! Да?
Неклюд молчал.
— Иди.
Ушел Неклюд. Да, правильно. Молод, горяч Ярослав. Такому разве что втолкуешь? Может, потом поймет. Хотя… У всех одни глаза, и все одно и то же видят, а потому идут и спотыкаются, и падают, и бьют их, головы срубают. А рубят их такие же слепые! И все это «Мир Божий» называется. Прости мя за сомнения… Но так ведь это, так!
Встал, заходил по гриднице. Ночь, тьма. Жизнь — тьма, познание — лучины свет. Страшно, зябко во тьме, неуютно. Тянись к познанию! И тянешься. Притронулся — обжегся. И отшатнулся. И снова все сначала. И так мечись всю жизнь — свет, тьма, свет, тьма. А дальше что будет — свет или тьма? Молчит Она, не говорит, только зовет: «Иди! Там сам увидишь». А если я уже ослеп, тогда как бьгть? И вообще, кто я такой? Червь? Червь и есть. Всю жизнь грешил — жег, грабил, убивал, обманывал и дальше жить хочу, цепляюсь. А нужен ли я здесь? Удерживает кто–нибудь? Да нет, конечно же никто. Всем надоел, зажился я, как…
Да, как и он, как прадед мой Владимир Святославич. Брата убил, всю Русь подмял, кровью залил, потом крестил. Грешил и каялся. И вновь грешил. Имел пять жен, двенадцать сыновей, своих и не своих. Любимых изгонял, а нелюбимых возвеличивал. Давал и отнимал. В последний раз Борису отдал Ростов, а Ярославу — Новгород. Святополка сперва заточил, а после при себе держал. Когда совсем отъехал в ближнее село, Свято–полк вместо него сел в Киеве. Ярослав, озлясь, сказал, что если так, то он — сам по себе. А тут явились печенеги, дружина вышла в степь. Повел ее Борис, не Святополк. Борис был молод и послушен, его отец больше других любил. Он от ромейской царевны рожден, а Святополк — отродье Ярополка, приемный сын, в степь не пошел, сидит и ждет гонца из Берестова. Да и не он один, весь Киев ждет. Слаб старый князь, вот–вот умрет. А дальше начнется смута. Святополк Бориса выше себя не посчитает, хотя Святополк — старший сын, пусть и приемный. А Ярослав — родной, и новгородцы с ним, варяги. И если он даже отцу грозил, рать собирал, то уж Борису–то и подавно…
Владимир умирает. Ночь в Берестове. Тихо. Челядь за дверью ждет. Коптит свеча. Комар звенит. Нет никого — ушли бояре. Они долго сидели вдоль стен, молчали. И он молчал, все собирался с силами, чтоб голос не дрожал. Потом спросил:
— Что Ярослав? Одумался?.. А Святополк, здесь он? Ведь звал!..
Промолчали. Больно стало. Но боль и помогла: привстал, сказал, как прежде, ясно, громко:
— А все она, отродье Бусово. Накликала! — Упал. Пот выступил на лбу. Хотел воды попросить, да промолчал.
Они ушли, а он остался. Лежал, не шевелясь. Кровь стынет, руки, ноги отнимаются. А голова по–прежнему ясная. И дух не сломлен. Бил Ярополка, ляхов, печенегов. Жег Полтеск. Новгород сожжет. Вот только бы…
Нет, поздно, князь. Меч крепок и остер, а вот поднять его уже нет сил. И ты смешон, как сын твой Изяслав Рогнедич, Рогволожич, Бусович. А ведь ты над ним смеялся тайно. И гордился им. И ненавидел. Да, все это было. Но ты ведь не рабынич, князь — и поступил по–княжески…
Нет, не по–княжески: ведь все с того и началось. Нельзя было так делать, ибо гордыня князю не советчик. Гордыня — хмель. Гордыня — хлеб глупцов. Вот Рогво–лод: как он собой гордился! Прогнал рабынича, честь сохранил. А голову? А власть? А дочь свою? Глупец! И Ярополк глупец. Сперва предал отца, затем младшего брата убил, а старшего прогнал за море… И верил в то, что можно все забыть, Русь поделить и самому сесть в Киев.е. И убили его опять же за гордыню. Тех, кто прикончил его, примерно наказали. И воцарился мир. И правил он, Владимир, старший сын, один, всей отчиной. А также Полтеском и Червенской землей. И Степь в страхе держал. И сыновей растил, своих и Ярополковых; и были они все ему равны, он всех любил. И жен… Был грех! Была жена варяжская, была жена чехиня, была жена, даже не жена, вдова, ромейская черница Яропол–кова. И Горислава. Так ее прозвали за глаза, а на самом деле ее имя Рогнеда. На пирах она всегда сидела рядом, к ней шли заморские послы, ей подносились лучшие дары, и лишь одну ее Владимир называл княгиней. Старший сын ее, смышленый Изяслав, был весь в отца.
А потом… Все рухнуло! Крестились. Князь поступил по–княжески и стал вровень с царем, он больше не поганец, и царь за то сулил в жены ему свою сестру царевну Анну. Пока царевна ехала на Русь, низвергли идолов. Перун плыл по Днепру, кричал: «Вернусь — не пощажу!» Над ним смеялись. Шли берегом, и если он пытался пристать, кололи копьями его глаза, пинали сапогами.
А князь Владимир выехал в Предславино, сельцо на Лыбеди, в летний княгининский дворец. В нем прежде Предслава, жена Святослава, жила. Святослав для нее тот дворец и поставил. И там Предславичи, Олег и Ярополк, родились и выросли. Когда Предслава умерла, они и показали на Малушу: мол, ключница, мать этого рабыни–ча, и извела ее, княгиню. Да не они одни, тогда все так кричали. А отец… Всегда всем бабка заправляла. Святоша! Ездила в Царьград, брала с собой дядю Глеба Заморыша, которого отец потом казнил в болгарах за измену. И брат Олег в земле, и Ярополк в земле. И бабка. А он, Владимир, выступил, Корсунь взял, Царьграду угрожал. Теперь везут ему жену, дары везут, епископа. А он едет в Предславино…
Приехал. Сказал все как есть. Не плакала Рогнеда, не кричала, а только побелела как стена и спросила:
— Так что же, теперь мои дети — рабыничи, да?
Засмеялся Владимир, ответил:
— От судьбы не уйдешь, Горислава.
Горислава! Зачем так сказал? Сам не знал, сорвалось. А она… Да Бог сохранил! Ведь если б не было на нем креста, убила бы! А так нож по кресту скользнул и прошел мимо. Оттолкнул он ее, закричал:
— У, рогволожина! Змея! — И ударил изо всех сил.
Упала она, лежит, не шелохнется. А он вскочил,
сказал:
— Не жить тебе! Готовься! — И ушел.
Пришел, но не один уже, с боярами. Она, ноги поджав, сидит на ложе, ждет. На ней длиннополая летняя шуба из белых соболей, на голове убрус, расшитый жемчугами, изумрудные колты в ушах. Губы поджаты. Веки чуть дрожат.
Невеста! Оробели все. Всем Полтеск вспомнился, пожар. Стоят молчат. Рогнеда улыбается. Вот–вот захохочет. Ведьма! А князя трясет. Кричать нет сил и говорить — тоже. Долго стоял, шумно дышал, потом–таки сказал не своим голосом:
— Молись! Твой час пришел.
Молчит она. И смотрит пристально. Глаза пустые, как у Смерти. И говорит:
— Молиться? А кому? Ты ж всех поверг. А этому, которого…
— Молчи!
И все они молчат. Крещеные, покорные. А ведь у каждого в душе — червь, великое сомнение. И слабая надежда — что, если рогволожина и впрямь, как говорят…
И закричал Владимир:
— Меч! Дайте меч!
Никто не шелохнулся. Страшно. Ибо одно — меч на поход, на брань, а тут — совсем иное! Да и потом у князя есть свой меч…
И вдруг…
Выходит Изяслав! Он держит меч, большой, не по руке. Встал перед матерью, прикрыл ее собой. Владимир к нему руку протянул, велел:
— Сын! Дай мне меч!
А он не шелохнулся, стоит, смотрит исподлобья. Меч–то тяжел, дрожит в руке, вот–вот не сдюжит Изяслав, ведь слаб еще.
И жарко князю стало! Гадко! Когда Предслава умерла и Малушу стали винить, то ни отец его, ни гриди, ни бояре, ни волхвы, ни даже он, Владимир, никто тогда за мать не заступился! А тут…
— Сын! — закричал Владимир. — Сын! — И бросился к нему. Схватил, прижал к груди, стал целовать. Слезы текли, все видели — пусть видят. Сын — это сын!..
Меч брякнул об пол. Бояре зашумели вразнобой:
— Князь! Князь! Хвала!..
Он их не слушал. Шел по дворцу, нес сына на руках, шептал что–то — а что, теперь уже не помнит.
Уехали они, вернулись в Киев. А вскоре прибыла ромейская царевна Анна. Владимир вывел сыновей — своих и Ярополковых. Царевна приняла их всех. Сказала:
— Это наши дети.
И промолчали, покорились сыновья. И отреклись от кровных матерей своих. Ибо отец им посулил: Вышесла–ву, как старшему, — Новгород, Изяславу, любимому, — Полтеск, Святополку — Туров, Ярославу — Ростов. Так оно и получилось, слово в слово. Вошли они в лета, разъехались и сели по уделам. Тишь воцарилась, благодать. И он, единственный владетель всей Руси, был рад. Чему? Кого взрастил? Слаб человек, единожды предав, уже не остановишься. Вот и идут они. Жди, князь! От сыновей своих и примешь смерть, если, конечно, не…
Нет, не успели сыновья. Сам отошел. Лежал, держал в руках распятие, шептал, что, никто уже не слышал. Да и зачем им его слова? Ведь не им шептал, а Ей. Она услышала. Она всегда все слышит! Пришла и забрала его, в свой срок, грех отвела. Лучина догорела. Тьма…
Вскочил Всеслав, глаза протер… А тьма так тьмою и осталась. Один он в гриднице, ночь во дворе. Значит, заснул. Устал — ведь день какой, охота.
Сел князь, прислушался. Ни шороха. Все спят. Наверное, уже за полночь. А ему не спится. Вот так же, говорят, и дед его сидел, любимый сын Владимиров, смышленый Изяслав. Уж до чего он был смышлен, всем на удивление! В такие–то годы сообразить, что при отце оно надежнее, сытней. Тут нужно ого–го как хорошо подумать! А мать… Она ведь некрещеная. И пусть ее бросают на телегу, и пусть везут ее, простоволосую, в одной рубахе, словно ведьму, а ты молчи. Брат Ярослав молчит, и Судислав молчит. Она им тоже мать, а они — ни слова. А ты молчи тем более. Ты ж поднял меч — и на кого?! А он тебя простил, он поступил по–княжески. И ты ему как сыном был, так сыном и остался. И получил удел, как все. А мать… Все говорят, отец ее помиловал. И мать прозрела. И крестилась. И, говорят, по сей день живет где–то затворницей, Христовою невестой. А имя ей дано Анастасия. И значит, чинно все, по–божески. Женили Изяслава. Было у него двое сыновей, Всеслав и Брячислав, была жена–красавица, дочь Мене–ска, дреговичского князя. И был почет, была любовь… Сна только не было! И оттого он, говорят, книги любил. Так же в гриднице сидел до самого утра, читал, думал… И здесь же ночью он и умер. Двадцать два года даже не прожил. А ты уже за семьдесят перевалил, а все цепляешься. Негоже! Встал князь…
И вздрогнул — тень! Кто–то стоит возле двери, молчит.
Нет, не Она. Ее никто не видит. И все–таки… Свят! Свят! Перекрестился. И шепотом:
— Ты кто?
— Да что ты, князь?! Спать надо бы!
Игнат. Уф–ф, чтоб его! Махнул рукой, сказал:
— Иди! Занянчил, словно малого!
Ушел Игнат. И он ушел к себе. Лег. Отче наш! Да что это со мной? День прошел, день, как вся жизнь. Кто по дорогам ходит, кто по тропам, а кто по буеракам, но вперед. А я куда? Кружу, кружу — не вырваться. Пресвятый Боже! Слеп я! Червь я! Умру — на все готов. В геенну, в огонь… Но мне еще шесть дней осталось! Дай мне из круга вырваться, дай шаг ступить — один! И все. Твой раб навеки, Отче!..
Шептал, крестился, вновь шептал. Так и заснул. Заснул, словно провалился в бездну…
ДЕНЬ ВТОРОЙ
1
Открыл глаза и удивился — жив! И голова ясная, и руки–ноги целы. Не обманула, значит, слово держит. А за окном уже рассвет. Явилась пятница, торг будет…
Встал, оделся. Прошел к божнице, опустился на колени. Поклоны клал, шептал, но без души, заученно. Отец, такое увидав, всегда корил, грозил. А бабушка смеялась, говорила:
— Оставь его, не наша это вера. Крест носит, что тебе еще?
И с бабушкой отец не спорил, уходил. О, бабушка! Ее сам Ярослав боялся… Ну, не боялся, чтил. Да и не он один. Все говорили:
— Ведьма!
Только какая она ведьма? Пресвятый Боже, ты ж все знаешь! Осталась она вдовою с двумя младенцами. Муж умер, свекор прислал боярина. Народ сошелся. Им сказали:
— Скончался Изяслав, зовите Вячеслава. Он тоже сын Владимиров, он брат…
Согнали, не дослушали. И затворились в граде. Явился Вячеслав с дружиною. Не приняли. Он встал на Вражьем Острове, грозил. Не слушали. Тогда на Вячеславов клич явились Ярослав и Вышеслав, то бишь Ростов и Новгород. Сошлись они и, изготовившись, пошли на приступ — и не взяли.
На следующий день пришел к градским вратам — без провожатых, без дружины — Ярослав. Ему поверили, открыли. Потому что один лишь Ярослав был Изяславу брат по матери и, значит, рогволожский внук, свой, полочанин, тогда как Вячеслав рожден от чехини, Вышеслав же — варяжского корня.
И вот явился Ярослав. Взревел Зовун. Собрали вече. Три дня они сходились, расходились, грозились и клялись. Три дня орали крамольники, три дня брат Ярослав увещевал… А что Сбыслава, Изяславова вдова? Ее там не было, на площади, она сидела, затворившись в княжьем тереме, при ней младенцы — двое сыновей, Всеслав и Брячислав. Бог дал, Бог взял…
Три дня был крик, лишь на четвертый замирились. И целовали крест на том, что Полтеск кланяется Киеву, и чтит его, и ежегодно платит выход, но сядет здесь не Вячеслав, а Изяславов сын Всеслав, племянник Ярослава, внук Владимиров. И написали о том грамоту и запечатали ее двумя печатями: князь Ярослав — своей, Полтеск — своей, с Ярилой на коне. И разошлись. Владимир принял грамоту. Вячеслав, озлясь, подался в греки и там служил и не вернулся. Вышеслава вскоре Бог прибрал, и Ярослав поднялся в Новгород, Борис сел в Ростове, Глеб — в Муроме. А Святополк — тогда еще не Окаянный — был в Турове, Святослав — у древлян, Всеволод — на Волыни, Мстислав — в Тмутаракани. После Судиславу дали Плесков, теперь–то Псков. А Позвйзд умер без дела, в юных летах. Потом умер Всеволод, и Святополк, стакнувшись с польским Болеславом, прибрал Волынь. Взъярился старый князь, разгневался, пошел на пасынка… но отступил, не сдюжил Болеслава. И Святополк сел в Киеве. И отложился Ярослав, и Судислава взял с собою заодин: был робок Судислав. А брат Мстислав молчал, гонцов не возвращал. Шаталась Русь…
Полтеск ежегодно платил выход, и принимал послов, и отсылал богатые дары, и клялся в верности. По смерти братовой сидел там Брячислав, но заправляла всем Сбы–слава, высокая, сухая, черная. Она и умерла, не поседев. Но то когда еще случится! А в те годы была она красавица, которых поискать. И умна, и скрытна. Но коли надо, так заговорит — не остановишь. И во все поверишь. Свекра умаслила, да так, что стала у него любимою невесткой. Носила шубу из белых соболей, ту самую, пиры давала, сирых ублажала. И верой не неволила. Хочешь, молись Христу, хочешь — Яриле, Перуну, Дажбогу, Роду, Велесу, Симарглу… Хочешь — иди, кричи на вече, а хочешь — не ходи. Но помни, князь твой господин, и чти его. И старших чти. Не лги, не укради, законы соблюдай. Пресвятый Боже, разве это ведьма? Ведь что есть ведьма? Зло. А зла она не делала. Она любила мужа и растила сыновей,* народ при ней жил вольно, не роптал. Зовун и тот молчал. Да, она в церковь не ходила, да, в Таинства не верила. Но когда умер старый князь и брат восстал на брата, Полтеск молчал: она так повелела. А были ведь гонцы от Ярослава и от Окаянного. Это потом уже…
Потом! Князь встал. Лик на божнице черен, не рассмотришь. Бог далеко, а Смерть всегда близка. Это у них близка, а у тебя и вовсе за спиной, дышит–то как… Вот и мечись теперь, спеши, а руки колотит! Все из них валится. Здесь не успел, там просмотрел. Неклюд уже далеко проскакал. А коли перехватит его кто? А коли не поверит Святополк?..
Но что тебе до этого, Всеслав?! Шесть дней тебе всего–то и осталось. Ты со своими разберись, хоть здесь успей. А Русь… Им на Руси виднее. Пусть делят отчины, съезжаются, глаза один другому вынимают, воюют, снова мирятся. Убьют, потом в святые возведут. А Полтеск как стоял, так и стоит… Шум за стеной. Игнат уже собрал. И вправду есть пора.
Прошел, сел за накрытый стол. Блины с икрою, квас. Поел, спросил:
— Что слышно?
— Тихо.
— Как это?
— Так. Торг пуст.
— Что?! — не поверил князь. — Сегодня ж пятница! Да что они?!
— Не знаю. Нет никого, и все.
— Ну, это… Нет! — Князь встал, заходил по гриднице. Давно такого не было, давно… Спросил: — А сразу почему не сказал?
— Так только сам узнал. Пока ты ел, Батура приходил. Он и сказал.
— Позвать его!
Игнат ушел, привел Батуру. Князь встретил его, сидя за столом. Сказал:
— Ну, слушаю. Как на духу говори.
Батура криво ухмыльнулся, помолчал, потом ответил:
— Так никого там нет. Чего и говорить?
— А то и говори. Нет торга. Почему?
— Так повелели.
— Кто?
— Сотские. Народ стал прибывать… Да и народу–то не так и много было. Ждут все.
— Чего?
— Так ведь видение…
— Видение? Какое?
Молчит изветчик.
— Ну!
Опять молчание. Князь встал.
— Князь! Пощади! — Батура побелел. — Ведь ты же сам все видел, князь! — И на колени пал.
Князь глянул на Игната. Тот опустил глаза. Так, значит! Видение. Знамение… Как дети малые! Как муравьи: копаются, спешат куда–то, что–то тащат. Тень упадет на них — и замерли. И всякий мнит: Он смотрит на меня, Он только одного меня и видит, Он подает мне знак… Глупцы! Князь улыбнулся и спросил:
— Видение? Какое? Да говори, не бойся ты, я в это не верю. Ну… Что?
Батура не ответил. Уткнулся головою в пол и замер. Князь снова глянул на Игната. Глаза их встретились. Игнат служил уже лет сорок, может, даже больше… Но таких глаз князь никогда еще не видел — больших, пустых, испуганных. И губы белые, и лоб в испарине. Все, выходит, знает.
— Так, — сказал князь. — Так. Хорошо. Иди…
Батура встал и спешно вышел. Игнат за ним.
— А ты постой пока!
Игнат остановился.
— Подойди. Сядь… Да не бойся ты! Одни ведь мы… Рассказывай.
Игнат молчал. Князь пригрозил:
— Игнат!
Игнат вздохнул, сказал:
— Смерть люди видели.
— Смерть?
— Да. Над теремом. Сегодня ночью. Была она укрыта белым саваном, с косой. К тебе пришла. Вот люди и скорбят. Решили, что ты умер.
— Но я ведь жив, Игнат! Ведь так?
Игнат молчал. Всеслав спросил:
— Так что мне, показаться им? Пусть видят — вот он, князь!
— Но… Смерть была! Ее все видели…
— Да жив ведь я!..
— Ты, князь, не серчай, мало ли что. Может, душа твоя уже ушла, а тело еще здесь. Так люди скажут.
Скажут! Это верно. Князь встал и посмотрел в окно. Там, далеко, у пристани, и вправду было непривычно пусто. Плоты качались на воде, ладьи. А берег — пуст. Ждут, значит, не дождутся…
— Кто видел Смерть? Когда?
— Так уж за полночь. Вдруг небо просветлело. Увидели, стоит Она над теремом, а ветер саван треплет… Свят, свят! — Игнат перекрестился.
Князь облизал пересохшие губы, спросил:
— Ты крещеный, Игнат?
— Князь!..
— Да, князь я! И крещеный. А ты… Не знаю я, сомнения берут. Вот ты в храм ходишь, там поклоны бьешь. Писание слушаешь. А слышишь ли?!
— Я…
— Помолчи пока! Так вот, Писание там слушаешь… Ну а слыхал ли ты в Писании про Смерть? И чтоб была Она при саване, с косой.
— Н–нет, такого я не слыхал…
— И не услышишь! — Князь улыбнулся. — Нет Смерти той, которую вы будто видели. Все это суеверие. Поганство. Есть Смерть только одна, христианская. Понял? Душа покинула тебя, тело охладело — и все. Вот это Смерть. А после — Суд. Но это уже Там, не на земле. А Смерть с косой, гундосая, это, знаешь… — Князь рассмеялся, подал Игнату руку и сказал: — Пощупай. Теплая? Живая? То–то же. И без рогов я, без копыт. И крест на мне, вот, посмотри. Доволен, да?
Игнат кивнул.
— Тогда вставай.
Игнат послушно встал.
— Так, — сказал князь задумчиво. — Так, значит, так… Посадника — ко мне, владыку — ко мне, сотских — ко мне, старост — ко мне. К обеду жду, не поскуплюсь. Иди распоряжайся.
— Но если, князь…
— Иди! И не гневи меня, Игнат. И им также скажи, чтоб не гневили!
Игнат ушел. Князь посидел еще, подумал, а после встал, смел крошки со стола и подошел к печи.
— Бережко!
Зашуршало. Значит, жив. Сыпанул. Еще. Захрумкало. Так, хорошо. Вот если бы не брал, вот если б выл, тогда страшись. Да и чего страшиться? Мы Бусово племя, чужого не ищем. Микула терем сей возвел, ему наследовал его сын Глеб, Глебу наследовал племянник Воло–дарь, Володарю — внук Рогволод, Рогволоду — муж дочери его Владимир, Владимиру унаследовал сын его Изяслав, Изяславу — сын Всеслав, Всеславу — брат Брячислав, Брячиславу наследовал я, а мне наследует…
Да, кто наследует? И сколько их, сыновей, у тебя — четверо? Или если руку на сердце, то пятеро? Да, пятеро. Старший, Давыд, — в Витьбеске, любимый, Глеб, — в Менске, Борис — в Друцке, Ростислав — в Кукейне.
А Святослав? Пять лет уже прошло, как нет о нем вестей. И Святослав ли он? Ушел Георгием, пешком, меча и то не взял. Сказал:
— Не обессудь, отец. Не мое это все, не хочу. — И ушел.
Встану я, не благословясь, пойду, не перекрестясь,
и не воротами, а песьим лазом, тараканьего стежкой, подвальным бревном… Прости мя, Господи, не удержал. Да и не мог удержать, не смел. Он от рождения был мне в упрек, на нем мой грех, мое вдовство. Не Святослав он, а Георгий, нет Святославов в святцах, есть только Георгии…
А сам ты кто: Всеслав или Феодор? Как князь — Всеслав, как Божий раб — Феодор. А прадед твой Владимир звался по крещению Василий. И было у него двенадцать сыновей, правда, не все до смуты дожили. Тем, кто не дожил, им легко. А прочие…
Нет, лучше дочерей растить! Но дочерей Бог вовсе не дал. Вот сыновей родилось семеро, а возмужали пятеро, потом один ушел, осталось четверо, и те сидят не кажутся, у каждого своя обида, и каждый ждет… А если кто и помнит хорошее, так только одна Глебова. Никто к отцу на Пасху не явился, всем некогда, а Глебова пусть не сама приехала, но был гонец с подарками. Подарки те — пустяк, безделица, и все–таки…
Бог не дал дочерей! За что? Встал князь, вновь посмотрел в окно. Тишь, пустота. И это хорошо… А почему? Совсем ты одичал, сидишь один, как сыч, всех сторонишься. Вот все и ждут, когда… Так выйди и скажи: «Недолго вам терпеть! Шесть дней всего!» Ну, выйди, князь! Так ведь не выйдешь, оробеешь. Тогда сиди и жди, когда Она придет. Жди, князь!
И ждал. Ушел к себе. Сидел и не смотрел уже в окно, а только слушал. Зашумели внизу, загремели. Должно быть, на поварне шум… Да, на поварне. Готовят стол, посадник будет, сотские, владыка. Давно пиров здесь не было. На Рождество и то не велел принимать. Хворал. И не хотел — все опостылели. Свое отпировал. Зажился ты, ох как зажился! И Изяслав давно ушел, и Святослав, и Всеволод, отродье Ингигердово, змееныши… Ну, Изяслав да Всеволод тогда, при Рше, молчали, все Святослав решил, крест целовал, послал гонца, а ты поверил. Взял сыновей, Давыда с Глебом, сели в лодку, переплыли через Днепр. Давыд — двенадцати годов, а Глеб — семи. Жара была, ты снял шлем. Так и явился к ним в шатер с шлемом в руке. И ты еще успел сказать:
— Вот, братья, я пришел…
Ну сам бы ты и шел. А сыновей зачем с собою брал? Что, думал, сыновья спасут, укроют, словно щит? О нет, Всеслав! Не так люди устроены, особенно князья. Да и тебе ли это объяснять — ты сам же князь. И помнишь, что отец тебе рассказывал.
А он, отец твой Брячислав, когда пришла большая смута, не вмешался, сидел смотрел, как кровные дядья его рядились да рубились, Степь наводили, сонных резали. В день смерти старого Владимира их на Руси сидело семеро, а после…
Глеба зарезали, Бориса, а Святополк умер от ран в Берестье, в ляхи бежал, не добежал. А Святослав Древлянский, примиритель, встал на пути его — и пал. И остались только Ярослав, Мстислав и Судислав. Мстислав был далеко, в Тмутаракани, Судислав и прежде никогда головы не поднимал, а тут и подавно. Ярослав сел в Киеве. И рассудил, кто прав, кто виноват. И была скорбь о Глебе и Борисе, и Святополка назвали Окаянным. И сказали, что не в Берестье умер он, что наша земля его не приняла, побежал он далее, никем уже не погоняемый. Вселился в него бес, ослеп он и оглох, члены его расслабились — низринулся с коня… По сей День в пустыне стоит его могила — смрадный курган, полынь–травой поросший.
Что ж, пусть будет оно так, как сказано. Мир на Руси, тишь и покой. Чего еще желать? Только Ярослав тогда еще не Мудрым был, Хромцом. Стрела попала в ногу, он и захромал. Но хромота владыкам не помеха. Ведь если помните… Молчу! Тишь на Руси. Всех Ярослав подмял, тот самый Ярослав, брат деда твоего, Рогнедин сын, внук Рогволожий. Не будь его, не видать бы нам Пол–теска. И Брячислав, собрав дары, послал ладьи на Киев. Зима пришла, лед стал, ладьи не возвратились.
А по весне из Киева пришли варяги. Привел их Эймунд, ярл. Отец не звал их, не хотел. Встретил на пристани, спросил:
— Зачем вы мне?!
Эймунд ответил:
— Пригодимся. И очень скоро, князь! — И рассмеялся.
Был этот ярл высокий, кряжистый, беловолосый, белобровый — совсем как Трувор. Это не к добру. Отец сказал:
— Уходите, я вас не держу. Хотите, дам дары, только уходите.
А ярл сказал:
— Я денег не возьму. Я буду так служить. Твой дядя Ярислейф — мой враг. — И приказал своим сходить на берег. Они сошли.
Тогда отец произнес:
— Ты не слуга мне — гость. Мой дом — твой дом. Зову!
Пошли. Пришли на Верх. И был богатый пир. И было много выпито меда и съедено мяса, и захмелели варяги, и запели они свои дикие песни, а иные уже повставали из–за стола и принялись похваляться храбростью и воинским умением. И осерчали мужи Брячиславовы, да и сам князь нахмурился, стал уже подумывать, что–де не бывает добра от варягов, прав был Володша, резать надо.
Но тут тихо сказал ему ярл Эймунд:
— Князь, не серчай, это простые воины. Ты накормил их, напоил, я тебе благодарен за это. И они благодарны, поверь, и не забудут твоей щедрости. — Сейчас же ничего они не смыслят, и им не до учтивых слов, ибо они пьяны. Если желаешь, я их прогоню.
Отец кивнул. Встал Эймунд, крикнул им по–своему. Притихли они, вышли, поклонясь. Тогда Эймунд сказал:
— Пусть и твои мужи уйдут. Мы будем говорить, князь, о больших делах. Таким делам чужие уши не нужны.
Князь приказал, ушли и полочане. Теперь вдвоем они остались. Эймунд нахмурился, попросил:
— Пусть уберут и это!
Князь повелел убрать со стола. Свет пригасили. Выгнали собак. Темно стало и тихо. Эймунд сказал:
— Вот так–то оно лучше, князь. Зачем нам крик да свет? Ведь мы ж не женщины! — И засмеялся. Потом продолжал: — А Ярислейф совсем обабился. Скупой стал, подозрительный. Не верит никому. Мы от него ушли. К тебе.
— Зачем?
— Сейчас узнаешь. У Ярислейфа был отец — князь Вольдемар. Льстецы именовали его Красным Солнцем. Он всех вас окрестил и всех вот так держал! Но это уже после. А поначалу был никем. Явился к нам, набрал дружину — в нее пошли и мои дядья. Но никто из них обратно не вернулся. А почему?
Отец молчал. Все знал и потому молчал. Эймунд обиделся, сказал:
— Не хочешь говорить, так слушай. Когда мои сородичи добыли Вольдемару Киев, он тотчас их прогнал, но не на север, а к ромеям. Вы так их называете?
— Да, так. Но не прогнал, а отпустил. А мог бы и прогнать! Ибо твои сородичи убили Ярополка, брата Владимира. А это грех. — Ярл засмеялся. Долго он смеялся. Потом заговорил: — Какие вы, южные люди, смешные! Зачем им было убивать его? Ради потехи? Ради славы? Так славы в этом не было. Вошел он, безоружный, в сени, и те, кому было приказано, заплачено…
— Ложь!
— Князь! Ты же должен знать, как все это случается. Вот мы пришли к тебе. И разве мы кого–то убиваем? Нет. А было бы заплачено — убили. Да мы и не затем совсем пришли. Я лишнее говорю. Так вот. Когда твой дядя Ярислейф, бежавший от отца, явился к нам и тоже набирал дружину, мы знали — Ярислейф обманет. Но мы пошли, ибо нам было сказано, что нас ведут на Вольдемара, а мы очень желали посчитаться с ним за наших родичей. Однако Вольдемар нас не дождался, умер, и мы уже хотели возвращаться… А Ярислейф был щедр, он обещал нам Киев… — Ярл замолчал, задумался.
Отец с усмешкою сказал:
— И ведь не обманул.
— Не обманул, — как эхо отозвался Эймунд. — И был он щедр и милостив. И мы ему служили. И далее служили бы, если б… — Снова Эймунд замолчал. Он ждал, когда отец не выдержит, начнет расспрашивать.
Отец молчал. Был ярл высокий, кряжистый, беловолосый, белобровый — то не к добру…
И так оно и вышло! Ярл вдруг спросил:
— Почуял, да?
Вновь отец не ответил. Тогда Эймунд, озлясь, вскричал:
— Так слушай же! В тот день я взял с собой только самых верных людей — Рагнара, Аскелля, обоих Тордов, Бьорна, еще двоих. Но этих уже нет, мы умолчим о них. Так вот, мы все переоделись купцами, сели на коней и ехали, таясь от встречных, целый день. Лес был очень густой, таких я прежде никогда не видел. Наконец нашли то, что искали, спешились, затаились. Вскоре до нас донесся шум, который ни с чем нельзя спутать — то двигалось войско. Потом шум стих — это они стали лагерем. Мы ждали. Когда уже достаточно стемнело, я обрядился в рубище, подвязал себе лживую бороду, встал на костыль и двинулся к кострам. И так, на костыле, с протянутой рукой я обошел весь стан. Мне щедро подавали. А я увидел все, что было нужно. И потому, когда в стане все уже крепко заснули, я безошибочно нашел палатку конунга и показал, куда бить. Потом мы все вернулись туда, откуда прибыли. Я развернул плащ и сказал: «Вот эта голова. Ты узнаешь ее?» Он мне не ответил, он только побелел как снег. Тогда я продолжал: «Этот великий подвиг совершили мы, северные люди. Ты теперь прикажи предать своего брата земле с надлежащими почестями». И только тут твой дядя закричал: «Зачем ты сделал это? Кто научил тебя?» «Как кто? — удивился я. — Ты, господарь. Ты сам же говорил, что брат твой Бурислейф…» Но конунг не стал меня более слушать, прогнал. И еще восемь дней со мной не разговаривал. А тело брата своего велел прибрать…
— Ложь! — закричал отец.
— Ложь? — усмехнулся Эймунд. — Как бы не так, мой господарь! Я рассказал все по совести. Пусть мне не умереть на поле битвы, пусть мне никогда не увидеть Вальхаллы! Клянусь Одином, Фриггом, Тором, Локи, Фреем и Фрейей, клянусь Югдрасилем… Ну чем тебе еще поклясться, южный человек?!
Отец тихо произнес:
— Сегодня уже поздно. Ложись и отдыхай. А завтра уходи. Я не держу тебя.
Ярл не обиделся. Сказал:
— Ты молод, князь, горяч. Конечно, мне уйти нетрудно. А что будет потом? Твой дядя Ярислейф придет сюда, уж я–то его знаю.
— Нет, не придет. Меча меж нами нет.
— Мечи всегда найдутся. А я уйду. Встану на Острове и подожду. Дай мне три дня передохнуть, потом совсем уйду. Если отпустишь.
— Отпущу.
— Князь! — Ярл тихо засмеялся. — Не зарекайся, князь!
Встал и ушел. На Вражий Остров. Они стояли там три
дня, а на четвертый день, когда уже'подняли паруса… примчал гонец из Киева, Ходота, из больших людей. Он сказал:
— Брячиславе! Да как же это так? Зачем ты кормишь Эймунда? Ведь он же дядин враг, и это тебе ведомо.
Отец обиделся, ответил:
— Но я не звал его. Да и к тому он уже уходит.
— Куда?
— Не знаю. И зачем мне это?' Мы — сами по себе, варяги — по себе.
— Пусть так, — сказал Ходота. — Идут и пусть идут. Им на Руси не место. От них лишь зло.
— Какое?
Ходота только махнул рукой — и весь ответ. И продолжал:
— А дядя ждет тебя.
— С дружиной?
— Нет. Утихло, слава Богу. Тихо! Но тишина такая, словно на погосте. Вот дядя твой и говорит: «Земля наша обширна и обильна, а сколько нас на ней осталось? Я, Мстислав, да Судислав, да Брячислав, племянник наш, и все». И оттого желает он рядиться и говорит, что, мол, собраться б вам всем четверым, обговорить, как Русь держать, чтоб дедино не расползлось, не разбежалось, а то ведь получается — Волынь без головы стоит, да и Древлянская земля, Муром, Туров, Ростов…
И долго так Ходота говорил, мягко стелил, приманивал. Отец не спорил, слушал, соглашался. Да, оба мы Рогнедичи, да, как же забыть, что только Ярослав и встал за нас встречь Вячеславу, крест целовал, перед дедом обелял, и дед, не устояв, смирил свой гнев и Полтеск нам оставил. А ныне Ярослав еще земли сулит, что в том худого? Или я не прав?
Прав, прав. Вздыхал отец. Смотрел в окно…
Ушли варяги, как и обещали. Нет больше полосатых парусов, двухсот мечей, нет Эймунда. Он утром приходил, сказал:
— Есть у меня скальд, зовется Бьорн. Он будет петь у нас на севере о том, кого он видел в ваших землях. Он мог бы петь и о тебе. Прощай, князь! — И ушел.
И корабли его ушли. На следующий день уехал и Ходота. Напомнил еще раз:
— Спеши, князь! Дядя ждет тебя. А то как бы тебе не пришлось его ждать!
Отец пообещал поторопиться. Так и поступил! От всех таясь, сошел к реке, взял лодку и поплыл вниз по течению. Гребцам сказал:
— Озолочу!
И те гребли без продыху. Два дня. На третий, точнее, уже вечером настигли Эймунда. Ярл ни о чем отца не спросил, только посадил к костру рядом с собой. Рог подавал, сам мясо нарезал и потчевал. Варяги пели — тихо, не по–нашему. Но мы и по–варяжски знаем, и по–еллински. Двина — река широкая, для всех открытая. Ночь наступила, все ушли. Тогда отец сказал:
— Дядя зовет меня в Киев. Земли сулит.
Эймунд с удивлением посмотрел на отца и спросил:
— И что, из–за этого известия ты и гнался за мною три дня?
Отец кивнул. Тогда Эймунд улыбнулся:
— Какие вы смешные, южные люди! Когда зовут, нужно идти.
— Но я не верю дяде!
— Это другое дело. Но все равно нужно идти. Только не в Киев — нам его пока не проглотить, подавимся. Ведь у меня всего две сотни воинов. А у тебя?
Отец молчал. Эймунд хлопнул его по плечу и сказал:
— Еще раз повторяю, какие вы смешные! Вот ты не веришь, а пойдешь туда. И без дружины. Так тебе велели?
Отец опять не проронил ни слова. А Эймунд продолжал:
— Вот видишь. Не веришь, а пойдешь. Бурислейф тоже не верил, но пошел. И Ярислейф его зарезал.
— Дядя не резал!
— Да, он не резал, — согласился Эймунд. — Резал я. Теперь, думаю, найдутся и другие. Ведь не может же Ярислейф отступиться от данного слова! Потому что уж если он пообещал дать тебе землю, то ты ее получишь. Потому что, лежа в земле, ты никому уже не повторишь того, что слышал от меня: Бурислейфа убил Ярислейф! А я был только мечом его.
— Ярл!
— Погоди!
Они еще немало пререкались и лишь к утру пришли к согласию. И двинулись — вверх по реке, в обратный путь. Пришли, стали на Вражьем Острове. Дальше отец пошел один, говорил с дружиной. Позвали Эймунда и снова совещались. Били в Зовун, но вече разделилось. Шатался град. И мать увещевала, говорила:
— Добра не будет, сын!
Он все равно пошел на волоки. Спешили. Ибо, когда он уходил, мать объявила, что пошлет гонца дядю упредить. И как она сказала, так и было. Скакал гонец, плыл по Днепру…
Да не успел. Был он еще под Любечем, когда отец и Эймунд, никем не жданные, пришли под Новгород. Крик был, смятение, едва–едва успели затвориться. Но Эймунд на Детинец не повел, а через мост, на Ярославов двор. Там и была злая сеча. Посадник Константин, сын того самого Добрыни, насмерть стоял. Но все равно они мечей не удержали! Мы их загнали на крыльцо, терем зажгли. Взвыл люд! Дым! Гарь!
И разделились Ярославовы мужи, одни стояли, а другие побежали — но не себя спасать. Да не смогли, перехватили их уже на Малом Волховце и посекли.
Вернулись — здесь еще не догорело, Константин упорствовал, отец его теснил — рубились на Майдане, у воды. Вот бы еще чуток…
А Эймунд закричал:
— Бежим! На корабли!
— Почему?
— Бежим!
Побежали. И только там, на корабле, ярл показал отцу добычу. Была она в шлеме и в кольчуге, волосы упрятаны, щека в крови, молчит. Не знал бы, не признал. И ярл молчит, варяги ухмыляются. Отец спросил:
— Ты кто?
Молчит. Пальцы дрожат, тонкие, холеные, в перстнях. Смотрит отец и ничего не понимает. А Эймунд говорит:
— Я сразу их признал. Сигурд и Лейф, упландцы. Псы Ярислейфовы! И если побежали — неспроста. Вот я их и достал, мы посчитались. А это, князь, тебе. Бери!.. Да ты сними с нее шелом. Сними, я говорю!
Отец и снял шлем. Волосы ее рассыпались, белые как снег. А брови начерненные. Глаза — холодные, надменные. Губы презрительно сжаты. А руки так и бьет дрожь, не унять.
— Так… кто же ты?
Опять молчит. Эймунд сказал:
— Оставь ее, не скажет. Ведь кто мы для нее? Никто!
Кивнул — и увели ее, она им не перечила. Сидела на
корме, смотрела на воду, молчала. Ветер трепал волосы. Шли Ильмень–озером, спешили. Эймунд говорил:
— Взять град — ума много не надо. А вот отдать его… Да ты не печалься, князь! Ушли мы вовремя. Твой дядя, думаю, уже покинул Киев. Спешит — и мы спешим. Посмотрим, кто удачливей!
Ильмень прошли, свернули на Шелонь. Молчала пленница, отец робел, не подходил к ней, не смотрел. Теперь он знал, это Ингигерда, супруга дядина, дочь Олафа Свейского. Сперва за нее сватался конунг норве–гов Олаф Толстый, и даже отец уже склонялся к тому, чтобы отдать ее ему в жены. Но тут явился Ярослав — и все переменилось. Чем он их, свеев, взял — посулами? дарами? Но что он мог сулить и что дарить, если бежал с Руси сам–перст, в чем был?! О том никто не знал… Раздружились свей и норвеги, женился Ярослав, вернулся в Новгород с заморской королевной…
А вот теперь она — его, отцова. Пристали к берегу и развели костры. Пленнице поставили шатер, его шатер, а сам он лег к костру. Лег и отец. И вдруг его окликнули:
— Князь! Пленница зовет.
Он сразу подскочил. Эймунд сказал, смеясь:
— Будь осторожен, Вартилаф. Когда я уходил из Киева, она хотела, чтоб меня убили. Но я ушел… Иди!
Отец вошел в шатер. Она сидела, запахнувшись в плащ. Сказала:
— Стой! Не подходи!
И он стоял, она сидела. Немного помолчав, спросила:
— Кто ты?
Он ответил. Тогда она опять спросила:
— Где мой сын?
А он ответил:
— Не знаю.
— Поклянись!
Поклялся.
— Уходи!
И он ушел. Никто и впрямь не знал, куда исчез Владимир Ярославич, дитя двухлетнее. Дым был, горело все, ярл после сокрушался:
— Двоих бы взять — вот была б нам добыча! И щит…
А утром дальше двинулись. А ночью вновь она отца
призвала. Вновь он стоял, как раб. Спросила пленница:
— Куда вы направляетесь?
— Не знаю.
— Лжешь!
Обидно стало, но сдержался. Сказал:
— Да, лгу. — И не отвел глаза.
Тогда она… вдруг усмехнулась.
— Я ты, я вижу, смел. Такие мне нужны. Когда вернусь, возьму тебя к себе в охрану… Нет, что я говорю? — И громко засмеялась. — Ты трус. Бежишь как заяц, без оглядки. И ярл твой трус. Да и отец его — Ринг, конунг гейдмаркский, не лучше. Мой муж убьет тебя, а твой удел раздаст другим.
Отец хотел ей возразить, она не стала слушать. Приказала:
— Уходи.
И он ушел.
На третью ночь она его не позвала. Отец не спал, лежал возле костра и ждал — напрасно. А на четвертую он сам пришел. И сел напротив. Ярл говорил, чтоб не ходил, а он пошел. Она не удивилась. Спросила тихо:
— Ты зачем пришел? Я не звала тебя.
А он сказал:
— Ты — пленница, не забывай об этом.
— А ты?
— Я — князь, сын старшего в роду.
— Так отчего тогда ты здесь? Коль старше всех, так и пошел бы в Киев. Мой муж, твой дядя Ярослав, звал тебя на ряд. Ты б ему все сказал, а он послушал бы. Ведь больше ему слушать некого. Брат Судислав и духом слаб, и телом, а брат Мстислав — где он? Не отзывается. Потому муж мой Ярослав и звал тебя… Муж! — Засмеялась Ингигерда, тихо и недобро. Потом спросила: — Что задумал? Убить меня? Продать? Или себе взять?
Отец молчал. Тогда она сказала:
— Значит, себе решил взять. Но Эймунд не велит. Он знает: Ярослав настигнет вас и одолеет. Тогда вы обменяете меня на свою жизнь — мой муж, желая возвратить меня, даст вам слово на мир. И вы поверите ему, отдадите меня и пойдете к себе… А Ярослав опять настигнет вас и в этот раз уже не пощадит, а умертвит!
— А его слово?
— А разве можно верить слову? Верят только в свой меч. И женщин покоряют только силой, а не словом. Так что молчи!
И высокомерно посмотрела на него. Ее отец — сын Эйрика Победоносного, Сигрид Гордый, брат — Амунд Злой. Ее отвергнутый жених — Олаф Толстый, не знающий себе равных в битве. Прошлой зимой против него сошлись пять конунгов, он разбил их в одну ночь и полонил, а старшему из них, Хререку из Хайдмерка, Олаф повелел выколоть глаза ратной стрелой, той самой, которой Хререк созывал свое войско в поход. Вот каковы они! А Ярослав…
Засмеялся отец и спросил:
— А дядя мой? В чем его сила?
— Когда сойдешься с ним, тогда узнаешь. И если победишь его, тогда кто защитит меня? И я, хоть и не хочу того… буду твоя. Твоя, мой князь… — И она улыбнулась впервые. И не было в улыбке ни насмешки, ни обмана. И прошептала она: — Князь… — И протянула ему руку. На пальцах, тонких и холеных, сверкали самоцветы. И пальцы эти вовсе не дрожали, а были они теплые, губы отца едва коснулись их…
Рука тотчас отдернулась.
— Довольно, князь, — тихо сказала Ингигерда. — Не искушай меня. — Я ведь как и все, я слабая. И у меня есть муж. Узнает — не простит… — И, опустив глаза, долго молчала.
Отец, не выдержав, спросил:
— А если я буду убит?
Княгиня посмотрела на него — и этот взгляд был холоден и пуст, нехотя ответила:
— Тогда мы посмеемся над тобой — я и мой муж. И Эймунд. А пока уходи. Я спать хочу. — И отвернулась.
Он ушел. Пришел к костру. Эймунд спросил:
— Чего она желает?
— Чтоб я сразился с Ярославом.
— И ты пообещал?
Отец кивнул. Эймунд сказал:
— Беды в том нет. Я сам уже этого желаю. Твой дядя стар и глуп. И скуп. И без ума от Ингигерды. Он будет гнать свою дружину. Они придут сюда усталые, а мы, напротив, отдохнем и приготовимся. И разом кончим это дело!
Наутро начали готовиться. Установили частокол, волчьи ямы, дозоры. Ждали. А дядя спешил из Киева. Так скоро никто еще не хаживал. После только Мономах так же шел к Смоленску. Спешил дядя, гнал, тьму коней загнали.
Наконец пришли. И сразу ударились на приступ. Отступили. Вновь налетели, прорвались… И отбежали. Спешились. Ударили — и сбили строй, заволновались, дрогнули. Тогда Эймунд сказал:
— Пора!
И двинулись отец и ярл, вышли из стана. С дядей сошлись. И начали теснить его. Варяги пели, наши били молча. И вдруг рога затрубили.
Ладьи показались на повороте. То псковитяне шли. А вел их Судислав. Вот этого никак отец не ждал! И повернул он рать, побежали, затворились в стане.
А Судислав сошелся с Ярославом, обступили они стан, но не атаковали. Смеркаться начало. Эймунд сказал:
— Стоят, и это хорошо. Ночью уйдем. И как еще уйдем — ладьи у них пожжем!
И тут… выходит Ярослав, в простом плаще, в простой кольчуге. Встал на пригорке и кричит:
— Где Брячислав? С ним говорить хочу!
Молчат. Дядя опять кричит:
— Брячислав! Заклинаю тебя, выходи!
Меч отстегнул, бросил в траву. Стоит. Хромой, тщедушный, словно отрок. Эймунд говорит:
— Князь, не ходи, обманет. Он как змея, язык раздвоенный.
Задумался отец, не знает, что и делать. Ингигерда вышла из шатра и ничего не говорит. И даже на него не смотрит. Мрачная. Убьют его — тогда и посмеется.
Смейся! Отстегнул он меч, вышел из стана. Подошел. Глаза в глаза…
Нет в дяде зла! Обнял племянника, сказал:
— Присядем, Брячислав?
И сбросил плащ. Сели на плащ. Как плащ один, так и земля одна, делить ее нельзя. Когда–то и Святослав с Рогволодом сидели — меча меж ними не было.
Дядя сказал:
— Вот мы и встретились. И будем ряд держать. Видишь, Брячислав, вышло по–моему! — И улыбнулся.
Отец молчал. А дядя продолжал:
— Я не виню тебя. Ибо не ты виновен — я. Весь грех на мне, на старшем. Не так, значит, рядил, не те слова сказал. — Замолчал, посмотрел внимательно. Слова! И голос — мягкий, вкрадчивый.
— Слова! — сказал отец. — Но разве можно верить слову?
— Можно. И нужно, — ответил Ярослав. — Ибо Слово, ты помнишь, есть Бог, Слово у Бога, Слово — начало всех начал. И смерть всего. Вот мы с тобой умрем, дети наши умрут, наши внуки, потомки, а Слово будет жить. Когда и Оно умрет, то ничего уже не будет. Вот что есть Слово Зла. Слово Сомнения. Гордыни. Она ведь привела тебя сюда — гордыня, Брячислав. Гордыня, а не Эймунд. Эймунд потом уже пришел, прибился, подал меч. Ведь так? — И замолчал, и голову склонил, ждет, не моргая.
Змея! Воистину змея! Раздвоенный язык… Молчал отец. А дядя словно подползал, обвивал, сжимал, в глаза заглядывал… И говорил чуть слышно, задушевно:
— А все от брата моего пошло, от твоего отца, от Изяслава. Сперва за мать нашу вступился, а после оробел. Зло затаил. И вас во зле родил. А чей был грех? Его. Чего хотелось? Киева. А получил всего лишь Полтеск. И ты про Киев думаешь, только про Киев. И снится он тебе. Ведь снится, Брячислав?
Не отвечал отец. И улыбался дядя. Продолжал: . — Ну и придешь ты в Киев, сядешь. А дальше что? Удержишь ли ты Русь? Хватит ли ума? Хитрости? Крутости? Да, крутости. И снова крутости! И снова! — Он покраснел даже, налился кровью. И заиграли желваки на скулах. Где мягкость, где добросердечие? Нет ничего и словно никогда и не было!
Унялся, улыбнулся Ярослав. Тихо сказал:
— Да что это все я да я? Пора бы и тебя послушать.
Долго отец молчал, все примерялся, не решался.
Потом таки сказал:
— Не от гордыни все это, а от неверия. Не верю я тебе. И оттого и не пошел я в Киев, убоялся.
— Чего? Да разве я…
— Того! Что изведешь меня. Знал я…
— Так! — Ярослав улыбнулся, вздохнул, легко, словно только проснулся. — Так… — повторил. — Вот оно что! Рассказывай, рассказывай. Вдвоем мы здесь.
Вдвоем! Живые — да, а так… И рассказал отец, зло, без утайки. Дядя все выслушал, задумался. Потом произнес:
— Вот, значит, как! А я–то, грешный, думал, все было иначе.
— Как?!
— А зачем тебе? Кто я тебе? Убивец. Брата казнил, тебя в Киев заманивал… Верь Эймунду! Я тоже ему верил. Пока… — И головою покачал.
— Пока? — переспросил отец, — А что «пока»?
— Что? Да так, безделица. Верил ему до той поры, пока я не сказал: «Мир на Руси, мне в войске больше нет нужды». И расплатился с ним, как было оговорено. А он стал требовать еще. Я отказал. Он тогда сказал, что я об этом горько пожалею, что он еще придет ко мне, но не один. И ушел — к тебе. Я почуял — это не к добру, послал гонца, да не успел. Вот видишь, чем все это обернулось? — И обвел рукою окрест.
Тихо было. Гадко на душе. И если б это все — так нет! Опять язык раздвоенный! Опять слова:
— А брат мой, князь Борис… Ты же знаешь, Брячислав, как это было! Но я опять расскажу. Борис оставил Степь, шел к Киеву и, не дойдя, стал лагерем, крест целовал, послал гонцов, он жаждаллтримирения. Но не послы пришли от Святополка. А Пушта, Еловец и Ляш–ко. Была ночь, брат, сидя в шатре, читал псалмы Давидовы. Лег, и они вбежали. И поразили его копьями, завернули в намет, повезли к Святополку. Борис был еще жив, но Святополк повелел — и закололи брата… А голову ему никто не отрезал. Отрезали Георгию, Борисову мечнику. Была у мечника на шее золотая гривна, так, чтоб снять ее, его и обезглавили. Вот как было, Брячислав. И я на том целую крест! — Сказал, поцеловал. И улыбнулся. Были у дяди карие глаза, веки припухшие, ресницы редкие, короткие. А губы — бабьи, красные. В чем сила его скрыта? Родился — думали, не выходят. А поди ж ты, братьев пережил. Сел в Киеве…
Отец сказал:
— Но Эймунд тоже клялся.
— Кем?
— Одином.
— Вот то–то и оно, что Одином. — И снова дядя улыбнулся. Спросил: — Ты кому больше веришь: Христу или Одину? А? — Смотрит, не моргает. И нет в нем зла, мягко стелет. Вон скольких постелил — своих, чужих…
Сказал отец:
— Но Один Эймунду — как нам Христос. Как мог Эймунд лгать?
— А так и мог. Кто мы для них? Отступники. Как Степь для нас. Мы степнякам тоже целуем крест. И что с того? В том нет греха. И с варягами то же. Вот если б ты, как Эймунд, поклонялся Одину, тогда… — Долго он думал. Потом спросил с усмешкой:
— А Глеба тоже я убил? Что Эймунд говорил?
Отец молчал.
— А Святослава Древлянского? Я? Молчишь? То–то же! Эймунд уйдет, и все они уйдут, а нам здесь жить. А сколько нас? Ты, я да Судислав с Мстиславом. Однако нет Мстиславу веры. Ты погоди еще, поднимется Мстислав, попомнишь мое слово. А Судислав? Одолел бы ты меня, тогда и Судислав бы при тебе ходил, как нынче он при мне. И значит, двое нас на всей Руси. И быть нам заодин; отринув меч, крест целовать. Так, Брячислав?
Молчал отец…
2
— Князь!
— Что?!
Встрепенулся князь. Игнат стоял в дверях. Сказал:
— Пришли. Накрыли мы.
— Иду.
Игнат ушел. Князь встал и, подойдя к стене, открыл сундук. Достал оплечье и надел его, потом корзно — короткий синий плащ с красным подбоем, по краю волчий мех. Усмехнулся. Тогда, в тот первый твой приезд, Хромец принял тебя под колокольный звон и приласкал, расспрашивал о бабушке, задаривал, а как ушел ты, говорят, произнес:
— Волчонок!
И повелось, прилипло: Волчонок. После — Волк, а потом — Волколак. Ты тогда и повелел, чтоб корзно волком оторочили. А в Степь призвали — ты при волке и явился. Брат Изяслав увидал — побелел, — он суеверный был…
Чу! Что это? Поспешно обернулся. Нет никого. Ну, князь! Над Изяславом потешался, а нынче сам — чуть что, и… Перекрестился. Иди, ведь ждут. Ты повелел — они явились. А не хотели бы. Вот что значит княжья власть! Так и Борису бы. Что им псалмы Давидовы? Не поднял меч — не князь, рать разбрелась, остались только отроки. Ляшко, Пушта, Еловец пришли… А что потом тебя с почетом погребли, к лику причислили, так то суета… Прости мя, Господи! Глуп, суетлив я, духом немощен. Ждут в гриднице. Иду.
Вошел. Стол накрыт богатый. Еды, питья — не счесть. Сидели за ним лишь трое: Любим Поспелович, посадник, Ширяй — опять он! — и Ставр Воюн, артельный от купцов. При виде князя встали, поклонились; он сделал знак рукой — они сели.
А князь стоял. Грозно спросил:
— А где владыка?
— Владыка хвор, — ответил Любим. — Ты, князь, не обессудь, я сам к нему 'заходил…
— Хвор! — Князь начинал сердиться все более и более. — А сотские? А старосты? Что, тоже хворь на них? Так, может, снова мор?
Молчали. Хмурились. Князь сел, сказал:
— Вы угощайтесь, гости дорогие. Вот пиво, мед. Вепрятина. Али конины вам? А то и медвежатины…
Ширяй осклабился. Любим и Ставр и ухом не повели. Князь продолжал:
— А фряжского вина? Я повелю, и принесут. Игнат!
— Так здесь оно…
— А, вот! Так наливай гостям. Чего стоишь?
Игнат не шелохнулся. Любим сказал:
— Князь, не гневись. Мы не за тем пришли.
— Не за тем? А вы откуда знаете, зачем? Я вас призвал. Я и угощать буду. Ибо затем вас и призвал, чтоб ели, пили, видели: вот он, ваш князь! А то, мне донесли, болтают всякое. Болтают?
—, Болтают, князь. — Любим кивнул, вздохнул.
— И верите?
— Не верим. Только видим.
Замолчали, сидели смотрели в стол. Князь взял горсть каленых орехов, разгрыз один и выплюнул — пустой. Второй разгрыз. Пожевал. Опросил:
— А что купцы? Торг будет? Нет?
Ставр молчал. Князь высыпал орехи из горсти, произнес презрительно:
— Купцы! Кресты на всех… Срам один от вас, купцы! В церквах торгуете.
— Князь!
— Я здесь говорю! Ты слушай, Ставр, молод еще. И грешен. Где твой амбар устроен? В подвале у Святого Власия. А у других? В Успенской церкви, в Пятницкой, в Ивановской — там что? Товары. И закладные там у вас, и обязательства. А Он что говорил? «Дом мой молитвой наречется», — сказал Он. И, сделав бич из вервиев, изо–гнал вас всех и столы опрокинул… А вы опять пришли! И говорите: «Веруем». Во что? В Тельца? В видения? Узрели, мол, над княжьим теремом недобрый знак. Закроем, братья, торг, схоронимся в подвалах, они освящены, в них святость, благолепие, и будем ждать, когда наш господин уйдет. Так, Ставр?
Не ответил купец. Любим тяжко вздохнул, сказал задумчиво:
— Ну–ну!
— Что «ну–ну»?!
— А ничего. Внимаем, князь. И повинуемся. Как повелишь, так оно и будет. Товары из подвалов вынесем, сожжем. Церкви закроем. Сами разбежимся — ты только прикажи нам, князь! — Замолчал посадник. Смотрит исподлобья. Сидит копна копной, сопит, зарос до самых глаз, опух.
Он разбежится — да! Князь усмехнулся… А Любим сказал:
— Не сомневайся, князь, разбежимся. Ибо устали мы, ох как устали! Чего ты на купцов накинулся? Купцы — прибыток Полтеску, немалый. А что амбары по церквам, что торжища на папертях, так то еще твоим родителем заведено…
— Позволено!
— Позволено. Как и по всей Руси. И не о том сегодня нужно речь вести, а о другом.
— О чем?
— О другом. Вот я ж не говорю тебе, что нынче пятница, а на столе скоромное. Хотя пусть и скоромное, это не самый страшный грех, слаб человек. Согрешил, потом замолит…
— Виляешь ты!
— Виляю. Привык вилять. С тобой иначе и нельзя. Вон вызверился как. Уйти б живым… — И засмеялся, как всегда, беззвучно, заколыхался, как кисель. Такому брюхо не проткнешь, меч вытащит, утрет и удивится: «А это что?» Другое дело Ставр, цыплячья шея…
— Ставр!
— Что?
— Пошел бы ты отсюда, Ставр! И ты, Ширяй. Ставр подскочил, налился кровью. Ширяй сидел,
моргал, словно не слышал. Любим сказал:
— Негоже, князь. Позвал — так пусть сидят. Вон сколько яств…
— Так пусть едят!
— Как повелишь. Отведайте, князь желает.
Ели. Игнат налил вина. Князь поднял рог, произнес:
— За здравие гостей моих.
— И за твое, — сказал Любим.
— И за мое!
Вино было холодное и кислое, Всеслав поморщился, утерся и спросил:
— Так, говоришь, видение. Кто видел?
— Видели, — уклончиво ответил Любим. — Нынче много всякого можно увидеть. Только одно не замечают, что не хотят, ибо не ждали. Я ж говорю: устали все. Сегодня на торгу юродивый кричал: «Камень, стоявший во главе угла, стал камнем преткновения!»
— Взяли его?
— Зачем? Он и сейчас кричит, не убегает.
— А что народ?
— Так все так думают, просто молчат.
— Лжешь!
— Не веришь, выйди да спроси.
— Не верю.
— Поверишь, когда услышишь. Выйди. Только не один — с дружиной.
— Грозишь?
— Зачем? Я просто говорю, как есть. Устал народ. Видение было, поверили, вздохнули. А тут оказалось — ты жив, невредим! Тут, знаешь, князь… — И замолчал посадник, глянул на Игната.
Игнат опять налил вина. И снова выпили — уже без слов. Молчал и Всеслав.
Посадник много ел, громко чавкал, рвал мясо, щурился. И вдруг, не дожевав еще, сказал:
— Видение… да тут еще охота… Все к месту, князь! И снова начал есть. Охота! Князь глянул на Ширяя.
Тот уронил кусок, проговорил испуганно:
— Что я? Я ничего! Меня как привезли, без памяти, так я и спал. Подняли — я к тебе…
— Любим!
Посадник перестал жевать. Князь посмотрел на Став–ра. Тот сказал:
— Тебя медведь порвал, все видели, а ты все равно живой — и ни одной царапины. Ты не Всеслав, ты тень его. Князь умер. И потому было видение. Не Смерть, Всеслав был в саване. Так люди говорят. И крестятся, чураются.
— Ставр!
Замолчал купец. Застыл, окаменел.
— Ширяй! — князя затрясло от гнева. — Ты рядом был! Скажи им, было так?
Ширяй смутился.
— Не гневи! Рассказывай!
Побелел Ширяй, прошептал:
— Не знаю я. Болтают люди. Пусть болтают…
— Да как это? Ты что, Ширяй?! — Князь перегнулся через стол, попытался схватить его за грудки.
Вскочил Ширяй, отшатнулся, словно от змеи. И выпалил:
— Да, было так! Он смял тебя. Стал рвать. Мы онемели…
Князь сел, закрыл глаза. Темно, в ушах шумело… Унялось. И гнев прошел. И пусто стало, безразлично. Открыл глаза, глухо спросил:
— А дальше?
Ширяй по–прежнему стоял, стрелял глазами то на князя, то на посадника.
Любим сказал, не глядя на него:
— Ширя–ай!
И тот опять заговорил:
— Да, онемели мы! И вдруг… Ты вылезаешь, поднимаешься. Сухой сказал: «Молчите, олухи! Вы ничего не видели!» Я и молчал, пил, как свинья… — Голос Ширяя сорвался на визг: — А знаешь ты, как страшно было?! Сидели мы, дрожали, вот, думаем… и все…
— Да что ты городишь?! Опомнись!
— Я–то помню! А ты? Волколак!!
Тут и Любим вскочил. И Ставр. Игнат метнулся к князю, толкнул его в бок — и меч врубился в стол.
— Вон! — закричал Всеслав. — Всем вон! Всем! Всем!
Кричал — и бил, рубил, крошил, меч только и мелькал. Треск! Грохот! Звон!..
Упал. Лежал хрипел. Свет жег глаза, слепил. Кровь — как вино, холодная и кислая. Рот не разжать.
— Игнат! Игнат!..
Завыл, застонал! Душно! И тяжело, словно опять медведь на нем, и рвет, бьет лапами. Хозяин!
Ничего. Тишина. И сколько было так, не знал — миг, день, неделя, год…
Нет, час всего, а то и меньше. День на дворе. А он лежит в одном исподнем у себя. Век не поднять, рта не раскрыть. Гул в голове. Язык опух, не повернуть его — искусан весь. Кровь липкая течет…
Игнат кричит:
— Князь! Князь!
Нет, не кричит он, шепчет, поднимает, трясет его, просит:
— Выпей, полегчает!
И рот ему разжал, и влил воды. Пил, поперхнулся, снова начал пить. Клацал зубами.
Отпустило! Упал. Глаза открыл. Да, точно — день. Он слабо улыбнулся, жив, не обманула! Хотел сказать, чтобы налил вина — не смог, язык не слушался. Потом глаза сами собой опять закрылись. Брат говорил: «Не бойся смерти. Жизнь — это сон, смерть — пробуждение». И он заснул…
Очнулся. Все болело. Вот опять… Ведь знал же, кого звал! И чуял ведь: вошел — как варом окатили.
Нет! Как было, так и было. Кем ты рожден, тем и умрешь: ни крест, ни оберег не оградят. Волк — он и есть волк, волк–одинец, волк в княжьей шкуре, зверь…
Взвыл! Затрясся! Сжал зубы, скорчился, завыл.
И… Тишина. И свет. И боли словно не было. И голова легкая. И на душе покой. Стер ПОТ 90 дба; Л5Г на ббК, полежал. Бее хорошо, все хороши, и день хорош. Вот только боязно! Чего? Блажь это, князь! Ты — князь, ты — человек, как все, не волколак, не лгал ты, не казнил, а был любим, сынов взрастил и отчину держал, а срок пришел… Поежился. Уперся в изголовье, сел. Позвал:
— Игнат!
Игнат принес воды — заговоренной, из криницы. Игнат всегда имел ее про запас; чуть что — подавал, не спрашивал. Владыка гневался, говаривал: «Негоже пастырю!» Так пастырь — он, владыка, а не я, а я такой же, как и все, обыкновенный.
Напившись, лег. И вдруг спросил:
— Иона здесь?
— Как здесь? Нет никого. Ушли они. А он совсем не приходил, Любим сказал, хворает…
— Знаю! Но здесь он или нет? В Детинце? При Софии?
— Нет, в Окольном. Еще ж только апрель.
Князь повторил:
— Апрель… — Подумал, спросил: — А день какой?
— Девятый.
Девятый, пятница. А в среду… Усмехнулся. Апрель четырнадцатого дня — вот какова будет среда! То есть день в день, как восемь лет тому назад брат Всеволод был погребен… Брат? Дальний брат! Отродье Ингигерди–но… Последним он ушел из тех троих, что целовали крест на мир, а после заманили… Уф–ф! Жарко как! Не продохнуть! Вот и тогда, при Рше…
Жара была, июль. Ты снял шлем и вошел в шатер, успел только сказать…
Лежал, смотрел перед собой. В красном углу — лампада. Лик черен, ничего почти не видно. Проси Его, моли, а Он… А кто еще? Кого просить? Вот хорошо уже, боль унялась, и голова ясная. Сел, никто не помогал. Посижу еще и встану…
Дух заняло! Сидел, держался за тюфяк, шумно дышал.
— Князь, ляг.
— Нет, душно здесь. Так, говоришь, в Окольном он?
— Да, у себя.
— И ладно… Коня, Игнат, и отроков.
— Князь!
— Знаю, не впервой. Велели — исполняй. Иди!
Игнат ушел. И боль мало–помалу уходила. Брат говорил: «Ты одержимый. Бес жрет тебя. Сожрет — и выплюнет».
Брат на пять лет был старше. Брат… Настоящий брат, не Ярославичи. Брат не любил тебя, брат говорил: «Ты мать мою убил. Ты. Вместе с бабушкой».
И бил тебя, когда никто не видел. А ты молчал, терпел. Ты только говорил: «Дождешься, брат! Вот вырасту — убью тебя». А брат смеялся, отвечал: «Нет, не убьешь. Кишка тонка».
И не убил ты брата. Умер отец, ты князем стал. А брата уже не было — с охоты не вернулся. Лодку нашли, весло. Шапку на берег вынесло. А тело пропало, так и отпели без тела…
Отпели и отпели. Всех отпоют. Князь встал, прошелся, постоял… Да, отпустило. И даже сил прибавилось, будто сбросил тяжесть. А что? А то, спит зверь, устал, потому и легко. И ты опять сам по себе, ты — князь. Свита, шапка, оплечье, корзно, вот и готов, пойду…
Зачем? Ты звал его, он не пришел. Теперь ты к нему придешь, а он не ждет. Ждет, да не того. Устал! Давно устал Иона, уже пять лет прошло, как он отъехал из Детинца, и не он один. Отъехал и поставил двор, тын вокруг него, псов цепных завел. А прежний двор — вон, за окном, нетопленный стоит. И врет Игнат — владыка здесь и летом не живет, он, как и все, тебя чурается. А ты к нему собрался.
Да, я к нему! К кому же еще? К Любиму?! Меч пристегнул, пошел.
Игнат был в гриднице, стоял возле стола.
— Где отроки?
— Ждут на крыльце, — ответил Игнат.
Князь повернулся, пошел к двери.
— Князь! Не ходи!
Он вздрогнул, обернулся. Игнат — белый, словно полотно. Руки дрожат.
— Да что ты? — удивился князь. — Не бойся, видишь, отпустило.
— Князь, я не то…
— А что? Ну, говори!
— Князь, не гневайся… Убьют они тебя!
— Они? Убьют?! — Князь засмеялся. — Кишка тонка! Хозяин рвал — не разорвал. А эти… тьфу!
И вдруг… Исчез Игнат! И все вокруг исчезло. Темно. Душно… Давит он! Хрипит, бьет лапами, ревет, вот–вот достанет… Бей, бей, Хозяин! Я раб твой. Срок мой пришел. Рви, потроши, глодай! Вот, без кольчуги я, в одной рубахе. Рви, чтоб не Ей досталось, безносой, бей!
Затих. Обмякнул. Смрад, кровь. И…
Отступила тьма. Игнат стоит. Стол прибранный. Да, жив. Не обманула. И не отпустила! Просил семь дней — семь дней ты и получишь, сполна, не вырвешься. Теперь твой срок — среда, а раньше и не жди, и не надейся. Сам хотел, просил… А теперь — хоть подавись! Иди, ждут на крыльце. Вздохнул, стер пот со лба, шагнул…
Игнат опять тихо попросил:
— Князь! Не ходи. Смерть чую…
— Смерть? — Князь удивился. — Чью?
Молчит Игнат, страшно ему. Не знает он… И никто не знает! И знать того нельзя, ведь что за жизнь, если ты точно знаешь, когда твой срок придет. Ты не жилец тогда, ты — тень. И зло в тебе, и зверь в тебе… 'Вот, снова заворочался, оскалился… И князь, прищурившись, спросил:
— Смерть, говоришь, учуял? Чью? Мою? А может быть, свою? А? Что?!
Вздрогнул Игнат, рот приоткрыл. Слаб человек! Труслив! И ненасытен — жить, жить ему надо. Князь усмехнулся, сказал:
— А что! Сколько тебе? Поди, за шестьдесят?
— Да, так…
— Ну, вот и срок пришел. Чего тут удивляться?!
Стоял Игнат ни жив ни мертв. Князь подошел к нему
и хлопнул по плечу.
— Блажь это все! Забудь. Подумаешь, учуял! А я с Ней разговаривал, вот как с тобой, и ничего.
— К–когда?
— Когда, когда! Я ж говорю: блажь это все. Пойду.
Быстро пошел, как будто двадцать, тридцать лет с
него слетело. А что? Нет боязни — нет старости. Живи! Сошел, едва ли не сбежал с крыльца. Митяй держал коня, помочь хотел — куда там! Вскочил в седло, поводья подобрал, властно приказал:
— В Окольный! Шагом!
Зацокали копыта. Он впереди, а четверо за ним. Мимо Софии, мимо Зовуна, мимо конюшен — в Шумные Ворота, в Окольный Град. Там — по Гончарной, а потом налево взяли, на Босую, и вверх по ней. Неспешно, шагом. Сбруя бренчит, лаги скрипят. И перестук копыт…
Тишь! Как вымерло все. За стенами, за тынами никого. А смотрят ведь! Гадают, шепчутся — неужто он… да как же он… Князь усмехнулся. Молчишь, посад, вот то–то же! И далее смолчишь. Да, я камень преткновения. Камень, отринутый строителем, стал во главе угла. И кто взойдет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. И было так. И будет. Цокают копыта. Неспешно, шагом, только шагом. Кто скоро едет — не туда приедет, не то узреет и не то обрящет. Да, мне всего семь дней дано, но зато верных семь! А сколько вам — того никто не знает. Кому, быть может, десять лет отпущено, кому прямо в этот миг, когда к щели припал, глазеешь на меня, конец придет. Смейся, Любим, болтай, Ширяй, Ставр, Сухой…
Сухой! Третьяк, выжлятники… Князь вздрогнул. Ложь! Ширяй это наплел, а не они, он, только он! Он с тем и ездил, чтоб… А я — живой, и вам меня не взять. И крест на мне, и еду я… И он мне скажет все как есть, он не солжет, не должен, не посмеет.
Приехали. Владычин двор, ворота нараспашку, чернец стоит. Князь придержал коня, спросил:
— Владыка у себя?
— Так он…
— Здесь, нет?!
— Здесь, здесь, вот только…
Только! И — на дыбы коня! Во двор! Чернец метнулся в сторону. А он к крыльцу. Служки забегали.
Крикнул:
— Взять!
Ринулись к поводьям, впились в стремя. Он сошел. Глянул на отроков. Те тоже спешились, стояли, оробев. Ведь как–никак, а боязно, владыка, осерчав, бывает крут. Князь приказал:
— Митяй за старшего! Ждать здесь.
Митяй кивнул. Князь, осенив себя крестом, стал подниматься по ступеням.
В сенях было темно, окна еще с зимы не открывались. Ступил, зацепился за ведро, чуть не свалил его, перекрестился. Дальше прошел на ощупь, в дверь направо, в светлицу.
В светлице сидели келарь Мисаил, ключник Лаврентий, иноки. И свечи, свечи, образа, дух приторный. Спасаются! А бес — он вездесущ… Вон сколько вас, а вошел — и все к стене!
Лаврентий, старый лис, вскочил из–за стола, залебезил, расшаркался. Другие подхватили, загундосили. Вишь, подобрели, обрадовались, что пронесло. И свет в глазах, почтение. В другой бы раз…
В другой! Князь чинно выслушал, кивнул, спросил о владыке. Лаврентий взялся провести. Пошли по лесенке вниз, голову склонив, чтоб лоб не расшибить…
ПСКШЛИ: Келья, как склеп, сырая, темная. Иона восседал возле окна, читйЛ. удивленно
поднял брови, но промолчал. Продолжал читать. И князь молчал. Пресвятый Боже! Что есть власть? Весна на дворе, и мне уже пять дней всего осталось, ну а ему, быть может, и того не будет… А он сидит. А я стою. Зачем я здесь?
Лаврентий потоптался и ушел. Когда шаги его затихли, князь плотно закрыл дверь, подошел к Ионе. Тот читал тихо, едва слышно. А может, он и не читал, а так, повторял по памяти. Он это мог, ты удивлялся, спрашивал, Иона отвечал: «Во мне это, мое, и потому все помню». А помнил ли он, кем был, когда сюда пришел? Чернец бродячий, голь босоногая!
Князь сел на лавку, осмотрелся. Лампада, крест, божница. И бревна серые. И плесень на стене. Озноб берет! Прислушался…
Не понял. Ни словечка. Иона для себя читал. Всеслав еще немного помолчал, потом сказал:
— Владыка! Я к тебе. За утешением.
Иона перестал читать. Губы поджал. Переспросил, не глядя:
— За чем?
— За утешением.
— За утешением! — Иона усмехнулся. — А голос — княжеский…
— Вот в том–то и беда. Гордыня одолела. Устал я от нее. Совсем устал!
Иона повернулся. Слаб был владыка, немощен, и бороденка редкая, и руки высохли, брови — длинные, седые, глаз из–под них почти не видно. «Все помню, говорил, все знаю». А вот молчит… И князь тогда сказал чуть слышно:
— Я ждал тебя, ты не пришел. Меня опять скрутило…
— Вижу. Знак на тебе, — владыка заморгал.
— Знак? — Князь вздрогнул.
— Знак. Примирись, Феодор. Спеши. Дел у тебя — ого!
— Иона! — Князь вскочил. — Ты это брось! Ты не юродивый, не ворон. Ты — пастырь мой. И мною же поставлен! И я тебя… Советчик! Доброхот. И он как все. Зверь это, не я, Зверь закричал.
Иона засмеялся тихо, сказал:
— Сядь!.. Сядь!.. Охолонись, Феодор!
Князь едва не упал на лавку. Глаз дергался, щеку свело.
Иона сказал:
— Дай руку, князь.
Дал. Й затих. Сидели и молчали. Слаб, немощен владыка, стар. Чужой он здесь, когда пришел, никто его не знал. Это потом уже, поди, лет через семь, его приблизили и рукоположили. Когда не стало Феофила, стояли вечем у Святой Софии, обедня шла, все ждали жребия. Усопший называл троих: его и двух своих, исконных, а дальше — как Бог повелит. И вот…
— Идет! Идет! — вскричали в толпе.
Вышел слепец и вынес жребий на Иону! Народ возликовал. Все знали: Киев не одобрит, Киев Никифора желал, митрополит прислал его, с ним и грамоту, а в ней слова: грех это, когда епископа всем миром выбирают, когда не Провидение, а жребий решает… Но отстояли!
Вече постановило, а князь велел отправить послов, дары великие, потом еще. И был тогда весь Полтеск заодин! Был. А теперь…
— Иона! Пусто на душе. Слыхал ведь, что они болтают?
— Слыхал. Потому и не пошел к тебе. На хворь сослался.
Сказал — и опустил глаза. И так всегда, чуть что — и в сторону. Тем он и берет. А ведь легко–то как! Ни вериг, ни власяниц не надо, ни чудес тебе, ни исцелений; все просто: будь кроток, будь как воск. И к тебе потянутся даже жребий и митрополит. Нет, зверь, лежи молчи! Я сам…
Сглотнул слюну, сказал как можно спокойнее:
— Хвораешь ты. Говорили мне… А хорошо ли то? Ведь бросил ты меня. Любим еще молчал, а эти… взлая–ли! Мол, я уже не я, а тень, мол, умер я. Слыхал?
— Как не слыхать!
— А скажешь что?
— А ничего. Темен народ. Им разве что втолкуешь? — Сказал и замолчал. Словно и не говорил ничего. Сидит и смотрит, тих, покоен. Князь даже растерялся, прошептал:
— Иона, как же так?!
— А так. Ты посмотри на них. Они что, веруют?.. А ты?
— Я?..
— Да. Бережку кормишь? Кормишь. Водяному лошадку дарил? А вчера ввечеру? Там же на тебя и наплели. А мне что говорить им? Про то, что князь вчера ходил поганское действо справлять и его медведь чуть не задавил, вот вам в том крест. Так, что ли, мне витийствовать? — И улыбнулся. И вздохнул.
Долго молчали. Потом HQHa вдруг сказал:
— Знак на тебе, Всеслав, а ты молчишь. Не о том говоришь, — не то. Что пусто на душе, что утешения взалкал… Ты не затем пришел. Ведь так? — Смотрит пристально. Глаз почти не видно. И что в них, в тех глазах?!
— Да! Не то! А что бы ты хотел?
— А то, что ты скрываешь, носишь в себе. И не кричи, князь, я не глухой. Кто я тебе, Неклюд, чтоб голос повышать?!
— А что Неклюд?
— А то! Хоть речь и не о нем!
Смех, смех! Иона распалился! Дрыг–дрыг ручонками, сопит, главой трясет.
— Клобук слетит!
— Молчи!
— Молчу, молчу!
— Князь, не юродствуй! Смерть за тобой стоит, а ты!..
Махнул рукой Иона, отвернулся. Осерчал…
— А что Неклюд? — Князь помолчал. — Так, значит, надо было. Что, донесли уже?.. Иона!
Владыка тяжело вздохнул.
— Не знаю я о нем. Не знаю! Только… люди говорят… если один гонец подался к Ярополчичам, то второй — к Великому. А это — грех. А кого смерть застанет во грехе…
Князь улыбнулся и сказал:
— Ну, если только в этом дело, то не печалься за меня. Я семь десятков лет живу в грехе, все о себе да о себе, а тут, может, впервой да о других… Ну а зачем тебе это, Иона? Мирское дело — тлен. И сам я весь мирской.
— Зачем тогда пришел?
— Опять же за мирским. Дай мне благословение. При всех.
— Как?
— На крыльце. И я сразу уеду. Да, это суета, я знаю. Но разве по–иному им докажешь? Пусть видят: я не тень, я жив, я князь! — Он встал, спросил: — Ну, что молчишь?
Иона не ответил. Смотрел, смотрел… Потом тихо сказал:
— Я знаю, ты не веруешь. И знаю: ты умрешь. Скоро умрешь. Очень скоро. И ты об этом тоже знаешь. Нет, я не об исповеди. Не хочешь, уноси с собой. Но, князь!.. Всеслав! Ведь ты как перст один. Всю жизнь… Сядь, я прошу.
— Зачем?
— Поговорим.
— О чем? О вечном не хочу, и прежде это не любил, а нынче… срам один, лукавство. А о мирском… Так от мирского ты всегда бежал. Но, может, ты и прав, ты ведь не варяжский поп. Это у них — клейми да наставляй, глаголом жги. А вы… вы помните: любая власть исходит от Него, добро прими как милость, зло — как наказание. Терпи, ибо земная жизнь — лишь краткий миг перед жизнью небесной. А сами мы… — И сбился, замолчал. Ну вот, опять, как перед Ставром! И не о том ведь, не о том! Пади, Всеслав, скажи!..
Нет, не сказал. Вымученно улыбнулся и спросил:
— Так?
— Так. — Иона кивнул.
— Вот и ответ тебе. Пойдем?
— Пойдем, пойдем. А не страшно?
— Чего?
— Всего. Не гложет? Гложет ведь! Жить столько лет! А помираешь псом. Ни сыновей, ни внуков, ни бояр, ни слуг даже… Один Игнат и тот… Ему просто податься некуда! Да и боится, уйдет — прибьешь его, вот и сидит…
— Что?!
— То, что слышал. И не боюсь тебя, еще не то скажу! Стефана задушили, так и меня души…
— Иона! — Князь побагровел. — Стефан–то здесь при чем? И задушил его холоп. Его холоп! А почему, и по сей день никто не знает!
— Как же не знают… — Остыл Иона, вновь замкнулся. Сидит как сыч, молчит.
И князь сказал:
— Стефан! Был бы жив Стефан, может, и по сей день владел бы я Киевом! А ты: «Стефан! Стефан!» Пойдем.
Иона встал, пошли. Вверх, вверх по лесенке. На свет, к весне…
А то было зимой, в лютый мороз. Стефан, владыка новгородский, собрался в Киев–град. Вече роптало. Кричал народ: «Кто в Киеве? Изгой! Его отец нас жег, и он нас жег, колокола срывал, а мы теперь к нему с поклоном? Нет! Владыка, не ходи!» Не послушался, пошел. И не пришел. Его, как говорили, холоп задушил. Холоп, полочанин. А коли так…
Ложь это все! Ложь, ложь! А был бы жив Стефан…
Взошли, прошли через светлицу, через сени, на крыльцо. Уже смеркалось. Митяй держал коня. Тишина. Никого. Никто не смотрит…
И не надо! Всеслав встал на одно колено и, опустив голову, тихо сказал:
— Благослови!
— На что?
Всеслав молчал.
— На что, сын мой?
На что?! Пресвятый Боже! Жив я, но словно убиенный, во мраке я, во рву, в бескрайней бездне! Тяжела мне ярость Твоя, кара Твоя. Но не ропщу я, Господи, а всем сердцем своим славлю имя Твое и преклоняюсь перед храмом Твоим. И если я…
— Встань, князь!
Он встрепенулся, но не встал. Тогда Иона тронул его за плечо:
— Встань, князь, встань!
Он встал. Иона осенил его крестом, размашисто, сказал:
— Иди. Христос с тобой.
Пошел. Сел на коня. Махнул рукой. Зацокали копыта…
3
Вернулся, разделся. Ходил по гриднице, снимал нагар с лучины. Игнат принес поесть. Давился, ел через силу. Вина спросил. Игнат не дал. Сказал:
— Нельзя. Три дня еще нельзя, а то обратно скрутит.
Ну и скрутит! Скрутило бы да и держало до среды.
Но промолчал и больше не просил. Приказал:
— Уйди пока. Я позову.
Игнат ушел. А он сидел. Уже полвека так сидит, нет, даже больше. Один сидит, владыка прав, один как перст. Жена была, умерла, грех на нем. Сыновья все разошлись — и это его грех. И Полтеск–град хоть не ушел, да оградился… Да! Все Детинцем оградились. Ров, стены, частокол, ворота на запоре, и сторожат, но не тебя — их от тебя. Зверь, волколак, со всех сторон обложенный, брать не решаются, но ждут, когда же сам ты околеешь. И околеешь, да, вот только придут послы, ты с ними сговоришься, потом, собрав сыновей, разделишь между ними отчину. И сядешь — так же за столом, и будешь ждать. Среда придет, среда — Иудин день, в среду Иуда предал и получил за то…
Князь снова заходил по гриднице. Ведь тридцать сиклей, говорят, были тогда большие деньги. Иуда мог бы купить дом, кусок земли, рабов… А взял и удавился. Выходит, понимал, что смерть ему во благо. А тут… Ведь не Иуда я, а смерть нейдет! И не придет, как ни зови. Князь схватил нож…
Смотри, Всеслав! Медведь тебя не взял, толпа не тронула, жить надо до среды. И даже нож… Он, что ли, тоже не убьет? Ну так ударь! Ну! Ну!..
Нет, выпал нож. Качнулся раз–другой и замер на столе. Лежал поблескивал, хороший, длинный нож, насквозь пройдет. Но ты ведь заговорен! Тебе еще пять дней отпущено, ну, попробуй, бери да бей. Чего робеть?.. Не веришь, значит! И цепляешься. Как все ты, князь, как все. И не гордись, и не ропщи. Может, вообще не было Ее, только сон приснился, видение^ А то, что оберег исчез, так, наверное, сам и сорвал его во сне да уронил где–то. Встань, сходи, пошци. Найдешь — и успокоишься. И будешь жить, не зная, сколько тебе отпущено. А руку на себя поднять — это великий грех, ты ж не Иуда, князь!
Остановился князь. Стоял, не двигался. Не срок еще, не срок. Придут послы от Мономаха, ты примешь их и скажешь им…
Молчок, молчок! Не думай даже, князь! Что скажешь, то и скажешь. А то вон как Неклюд — еще отъехать не успел, а все уже болтают. А здесь — дела великие! Не оплошать бы только, не довериться. Брат Мономах хитер, весь в деда своего был. Тот дед, когда впервой тебя встречал как князя, так слаще меда был, мягче паволоки, а после, говорят, сказал: «Волчонок! Да ничего, волк на цепи свдел, и этого приручим!» Приручил?! Князь засмеялся…
Спохватился. Стоял прислушивался. Нет, тишина. Нет никого. И хорошо. Взял со стола горбушку, раскрошил ее, пошел к печи, сел и позвал:
— Бережко!
Зашуршало. Он сыпанул. Захрумкало. Владыка говорит, что это мыши. Но разве мыши могут выть? Или стонать?
Когда отец, расставшись с Эймундом, вернулся в Полтеск, то бабушка его не приняла, закрылась у себя. Дружину вовсе в ворота не пустили. Отец пришел сюда и сел с краю стола. Ему подали хлеб да квас.
— А больше, — сказали, — не велено.
Отец был очень голоден, два дня в пути не пил, не ел. Но он и тут не стал ничего трогать, уж больно осерчал. Долго сидел. Потом квас вылил на стол, хлеб отнес и положил в подпечье. Бережко принял, заурчал. Отец ушел к себе, лег, еще было светло, он сразу и заснул — устал. А ночью…
Просыпается. Слышит: кто–то ходит. Шажки короткие и легкие, в углу, там, где сундук стоял… Он и сейчас стоит… А тьма такая — ничего не видно. Отец перекрестился, ходит. Отец молитву прочитал, прислушался…
Скрип половица, скрип… Не выдержал, окликнул:
— Эй!
Тишина. А после… Ка–ак метнется кто–то! К двери! Дверь приоткрылась…
Тишина. Отец сидит на ложе, слушает. Не верит, что ушел.
И точно! Шур, шур, шур — крадется вдоль стены. И — скок, вскарабкался на ложе, замер. И снова — шажок, еще шажок. Идет. Легкий, как дитя. Шел, шел, за спиной прошел, встал возле левого плеча.
Отец не шевелится. А он… Ладошкой по щеке его пригладил. Потом еще, еще. Ладошка маленькая, пухлая, пушистая… холодная! И коготки, как у зверька. Гладит, урчит, урчит. Отец цап за плечо его! А он зубами — р–раз! Вскричал отец, кулак разжал. А он — скок на пол и под ложе спрятался.
Замер отец, не знает, что делать. Ноги поджал, сидит.
Этот вдруг заныл, запросил:
— Дай молочка! Дай молочка! Дай молочка!
И до того жалостно заклянчил, и до того слезливо, что не выдержал отец, хоть и знал, нельзя с ним говорить! — а все–таки сказал:
— Нет ничего! Я сам некормленый. Пшел вон!
Захихикал тот, захрюкал, завизжал. И пропищал:
— Нет — и не будет! Не хозяин ты в доме своем! И в уделе! Век будешь ты ходить при чужом стремени! Ха–ха–ха!
Еще чуток похрюкал и затих. И отец молчит. В жар его бросило, в пот, в дрожь. Чур, чур меня! Хотел перекреститься — сбился. Опять хотел, уже руку поднял…
А из–под ложа:
— Поздно, князь! Того, с кем заодин пошел, ты предал. А дядя съест тебя. И молочком запьет. Ха–ха! Ха–ха!
Не выдержал отец и на пол соскочил, наклонился, а этот — нырь! — меж рук пробежал. Луна уже взошла, отец и рассмотрел его. Бежит всклокоченный, бородатый, лысый, глаза как уголья, а сам с локоток, в длинной рубахе, в коротких портах. Встал, оглянулся у стены.
— Ха–ха! Ха–ха!
И — в стену. И Исчез. Отец перекрестился.
— Чур! Чур меня!
Лег, накрылся с головой. Лежал, всю ночь не спал. Бережки больше не было. Дурь это, бабий забобон. И после никогда отец его не видел.
Тогда, на взгорке у реки Судомы, отец и дядя Ярослав крест целовали на примирение. Отцу Усвят и Витебск отошли, а дяде — Торопец: так поделили они волоки. И Ингигерда возвратилась к дяде. Когда она садилась на коня, отец стремя держал, тихо сказал:
— Ну вот, теперь и смейся.
Засмеялась. Произнесла горько:
— Глуп ты, князь! Глуп, как и дядя твой!
Рванула удила и…
А ночью Эймунд снялся. Он ничего не говорил, не клял, не упрекал. Собрал своих, взошел на корабли, отчалил. А Судиславовых ладей не тронул, обошел. Да и Ярослав не посылал погоню. Сказал:
— Бог им судья.
И Эймунд словно сгинул. Где, никто не знал. А Ярослав сел в Киеве. И снова не было вражды меж Киевом и Полтеском. Но был великий соблазн! Как дядя и предсказывал, и года не прошло — восстал Мстислав Тмутараканский, брат Ярославов, сын Владимиров. Мстислав скорбел, что обделен, просил уделов. Ярослав, рассудив, посулил ему Муром. Мстислав еще хотел, но Ярослав не дал. Тогда Мстислав сказал:
— Сам поищу!
И двинул рать. Мира не приял, гнал послов. Взъярился Ярослав, тоже послал гонцов к отцу и Судиславу, звал к стремени.
Звал и Мстислав. Чего он только не сулил — и земли, и дары! Отец знал, не пустые это слова. Мстислав и впрямь слыл щедрым. И был он ликом бел, и телом крепок, хитер и храбр, ромеев бил, касогов и хазар. И ясно было, чья возьмет… Но крест на то и крест, его не переступишь. Прогнал отец Мстиславова посла, и Судислав прогнал. И вышел Судислав, и встал у стремени, и был он с Ярославом заодин. Пришел Мстислав. Сошлись братья у Листвена, два брата с этой стороны, третий с другой. Стояли долго, ждали. Знали: не трое их, а четверо от племени Владимира. Когда четвертый подойдет, тогда и ряд держать. Кровавый ряд!
Но не пришел отец. Прибыл только гонец, ножны привез — пустые.
— Ну что ж, — дядя сказал, — хоть так.
И повелел уйти всем из шатра. Ушли, и он один остался. Молился. Была ночь, шел сильный дождь, гром гремел. Никто и в мыслях не держал… Как вдруг рога завыли! Пошел Мстислав. И навалился, словно на Реде–дю. Не выдержали Ярослав и Судислав, побежали. Мстислав встал на костях, два дня стоял, всех схоронил — своих, чужих.
Но в Киев не пошел, а сел в Чернигове, не жег, не лютовал. Все думали — насытился… А он гонцов погнал, призвал братьев на ряд и так сказал:
— Поделим Русь. Мне — эта сторона Днепра, вам — та. Согласны?
Молчал брат Судислав и выжидал. Ему–то что, град Плесков далеко, он, Судислав, ничем не поступается. А Ярослав вслед за Черниговом терял Переяславль, Муром, Смоленск, Ростов. Но можно потерять и больше! И дядя, смирив гнев, пошел к Мстиславу. И целовали они крест, и пировали, и в Степь пошли, и били печенегов, и — снова пир закатили. Потом уже явился Судислав, одарили его братья. И — мир меж ними и любовь. И ликовала Русь, земля ее обильна и обширна…
А об отце никто даже не вспомнил. Мстислав его не звал, Ярослав не попрекал, и даже Судислав, когда обратно в Плесков шел, крюк сделал, обошел. Лето прошло, лед стал… И — ни гонцов, ни послов, ни купцов, ни даже странников с Руси. Такие вот пустые ножны оказались…
Нежданно–негаданно на Рождество — день в день — зовут отца:
— Ходок из Киева. К тебе.
Вышел отец. Сидит ходок, в снегу весь, шапка на глаза надвинута. Отец спросил:
— Ты чей?
— Ничей, — тихо ответил ходок. — А это вот тебе. — И подает что–то в платке завернутое, шнурком надежно перевязанное. Отец как развязал да развернул… И уронил! Стоит ни жив ни мертв. Ходок вскочил, поднял, опять в руки подал. Глянул отец…
Он! Сам он, Брячислав, на него смотрит! Пластинка гладкая, блестящая, а в ней, словно в воде, все отражается! Отец и так, и эдак повернул ее, глаз не отводя, спросил:
— Он передал? Зачем?
— Нет, — говорит ходок, — не он. Ему это неведомо. Она.
Она! Смотрел отец, смотрел… Спросил:
— Ну а она… зачем?
Ходок губами пожевал, сказал:
— Пусть все уйдут.
Ушли. Тогда ходок спросил:
— Живым отпустишь?
— Да!
— Тогда… Смотри сам на себя. И смейся!
Вздрогнул отец, пластинку чуть не выронил. Ходок к
двери пошел. На пороге оглянулся, сказал:
— Сам только и смотри. Ибо другим видеть тебя противно! — И в дверь. И вниз по лестнице, бегом. Во двор. Псы забрехали, кинулись на него…
Ушел ходок. Отец велел его не трогать.
А та пластинка — зеркало, ее так называют, — в огне вся скрючилась, померкла. Ее потом вместе с золой и выгребли, во двор снесли, за угол. К утру запорошило ее снегом.
А боль только еще сильнее стала! Не спал отец, не ел, к Илье ходил, поклоны бил, смирял себя… А бабушка смеялась, говорила:
— Напрасно убиваешься. Илья твой — не Перун, гремит, да не о том. И кто, скажи, под крышей молится? Под крышей света нет. И дух туда нейдет. А коли так, о чем и просить его.
Сгорел потом Илья, как на грех, от молнии. Бабушка уже ничего не видела, ее к тому времени сожгли — по древнему обычаю, в ладье. Но той зимой церковь Ильи еще стояла, и бабушка была жива. И еще кричала:
— Не сын ты мне! Слизняк! За чей подол цепляешься?! Вон! Вон!
Он и ушел. Собрался ночью с малою дружиной, погрузились на сани — и по льду.
— Гей! Гей!
Потом с дороги был гонец: не жди, ушел варяжить.
А как ушел, так и пропал. И слух пополз. Весной дядя прислал гонцов к племяннику с дарами. Мол, не знал, что нет его на Полтеске, узнал — опечалился. Бабушка в сердцах ему сказала: «Ты бы своих смотрел, как бы свои не разбежались». И — словно отрезало. Забыли, успокоились. Сидят братья в Плескове, Чернигове да Киеве, невестка — в Полтеске. Мир на Руси. На ляхов братья ходят, в Степь. А Брячислава нет да нет. Год, два прошло…
Является! И не один. Жену привез. Сказал, что королевна.
— Как звать? — спросила бабушка.
— Как назовем, так и будет, — отец ответил.
— Как это так?
— А так!
И больше — ни словечка. Владыку крикнули. Сошли к Илье. Крестили, Анной нарекли. И тотчас обвенчался с ней отец. А как она прежде звалась, и где прежде жила, и кем была, и впрямь ли королевна, о том отец не говорил, ни сама она, ни дружина. Да и вернулось–то из той дружины лишь семеро, и привез добра с собою Брячислав всего один сундук — и тот с ее нарядами. Наряды — так себе, невзрачные, и сама она — худая да глазастая, пугливая. Молчит. Сказала на венчанье «да» — и вновь молчит…
Невзлюбила ее бабушка! Бывало, сядет в своей белой соболиной шубе, смотрит на мать и говорит что ни попадя. А мать только виновато улыбается. А потом встанет, поклонится в пояс и уйдет. Уйдет, как уплывет, легко, неслышно. И плачет до утра — и тоже тихо, чтобы никто не слышал. И еще заметили: в грозу она к окну не подходила, кто бы и как бы ее ни подзывал. А кто она, откуда, не говорит. Отец, коль спросят, отвечал:
— Жена она моя! Довольно ли?
Довольно. И только Кологрив однажды приоткрыл тайну:
— Не королевна, а княжна. С Руяна–острова. Сам брал! — А после отпирался Кологрив, бил себя в грудь, кричал: — Пьян был, не помню, что молол! Пьян! Пьян!
Но бабушка не поверила. Сказала:
— Вот ведь как! А я сразу почуяла. Тиха, овцой прикинулась. Разбойничье отродье!
Отродье или нет, разбойничье или нет — ты на Руяне не был, князь, не видел ее сам и потому и судить не станешь. А что иные о Руяне говорят, так море–то вокруг Варяжское, а не Славянское, как некогда. И отходим мы, отходим, все на восток да на восток вдоль берега, и все привычней нам именовать Руяну — Рюгеном, Следж — Шлезвигом, Древину — Голыптейном, Гам — Гамбургом, Згожелец — Бранденбургом. И только Бремен Бременом остался, а Буковец переименован в Любек. Вот и кричат они: мол–де, сидят в земле вендов разбойники да нехристи, кумирам поклоняются…
Но бабушке–то что с того, что нехристи? А невзлюбила, и все, и никогда не подобрела. Мать понесла, родила первенца, назвали Ратибором, в крещенье — Иоанн. Брат, говорят, родился белолицым и плакал жалобно, ручки тянул, а бабушка к нему не подошла. Брат рос, бабушка его не признавала. Велела не пускать к себе, и слуги выполняли ее наказ. Отец, как будто не его дело, молчал. Охотился, воевал литву, ятвягов да латгалов. В Киев звали — не ходил. Дары обратно отсылал. И так прошло еще три года. И как–то раз…
Брат прибежал к отцу, плачет, кричит что–то про бабушку, а что — непонятно. Вышел отец, спустился вниз. А во дворе — обоз. Бабушка стоит в своей богатой соболиной шубе.
— Да что ты задумала? — спрашивает отец.
— А ничего. Всему свой срок. И всем. И мне мой срок пришел.
Сказала бабушка и улыбнулась грустно. И снег вдет и тает на ее щеках. И — тихо так, и вроде ничего не происходит, только оторопь берет. Дух заняло!
— Да, срок, — чуть слышно повторила. — Взрастила я тебя, женила…
— Мать!
— Помолчи! Женила — и женила. — Брови свела, губы поджала. Стоит, высокая, сухая, волосы как смоль из–под платка, а снег на них — словно седина… — Женила. И внука дождалась. Наследника!
— Ты…
— Да! Наследника! Не этого попервыша слюнтявого, а настоящего. Ни ты о нем еще не знаешь, ни она. А он будет настоящим князем. Князь всем князьям, уж я–то чую! А посему прощаю ее, жену твою, — уважила. Теперь ей носить, держи! — И шубу из белых соболей снимает, подает.
— Я… Мы… — Отец не знает, что и сказать.
— Молчи! Бери! Она — твой господин. А я… Не мной придумано: коль баба на сносях, ей должно потакать. Чего ей больше всего хочется? То и делаю, ухожу. Прощай!
И съехала. И почитай, целый год жила за стенами, по–над Двиной, в летних хоромах. Тихо жила, в город не являлась. Не принимала никого.
Мать сразу ожила, повеселела. Ходила в белой соболиной шубе.
Покруглела, разрумянилась. Брат говорил, стала она красивей всех. И всех добрей. И Кологрив рассказывал, что на Руяне–острове ее любили все, король дочь свою не хотел отдавать.
— Нет! — он сказал отцу. — И не проси. Она — мой оберег, так Святовит говорил.
А Святовит — грозный бог, ему не золото несут, только кровь. И храм его возведен на крови, и крыт он черепицей цвета крови. Отец, отвергнутый, ушел…
И все, что было добыто за два года, отдал руянским сторожам. И по рукам ударили. И ночь была, и море бушевало, и гром гремел. А сторожа молчали, словно и не видели, как по скале люди ползут — вверх, вверх, И — к терему, на стену, под решетку. Наконец она, заветная светлица, и в ней княжна, встает, идет к отцу. Как вдруг… «Аркона! Кр–ровь, кр–ровь!» — кричат, бегут со всех сторон. И подступают все ближе. Ах, вот вы как! Вот что задумали, засаду! И крикнул отец:
— В мечи! Бей! Бей!
И били. Сами — и отбивались, отступали. Шли, ползли — все ниже, ниже по скале. Стрела, боярин говорил, ему в бок угодила, под ребро, так он ее не вынимал, а обломил. И — на ладью, и — к веслам.
— Вот, — показывал Кологрив, — сюда она, треклятая, вошла. И упади я, оробей — достали бы и князя, и королевну, и тогда не было б тебя, Всеслав. Да и меня бы не было, не пощадили бы руянцы. Они — ого! — воители. И злы, как псы!
А мать, говорили все, — добрее ее не было. А как она отца любила! В ту ночь, когда он нес ее к ладье, она кричала тем:
— Он муж мой! Муж! Опомнитесь!
А те со стен — стреляли. И не попадали. Так Святовит велел!
Ушел отец. В Полтеск пришел, венчался. Еще пять лет прошло — и примирилась бабушка, отъехала за стены, мать поправилась, похорошела. Весна была. Не первый уже год такое было — дядя гонца прислал, звал К себе. И отказался бы отец, но мать неожиданно запросилась:
— Едем! Едем! Грех столько раз отказывать!
Уговорила. Поехали. Зачем она поехала, понятно.
Пять лет прошло, и наконец она — княгиня, самовластная, и правит Полтеском не бабушка — она. И сын растет, и она снова на сносях, и муж при ней: завидуйте!
Приехали. Дядя принял их, одарил. Так одарил — все удивлялись: что это с ним на старости? Совсем размяк! Если, конечно, не задумал какое–то лихо…
Задумал или нет — то не холопье дело. И вообще ничье! А посему пусть князь черниговский Мстислав, а также Судислав, князь плесковский, спокойно спят: в то лето Ярослав, князь киевский, Великий князь, братьев своих и соправителей никак не поминал. Не до того было — племянника встречал и привечал; пировали, по селам они ездили, на лов — на туров, на диких лошадей. А иногда вдвоем — только вдвоем! — пускались они в тихое Предславино. В Предславине тогда сидел затворником… тот самый Олаф Толстый, конунг, сын конунга, отвергнутый жених, соперник дядин.
Вон она, жизнь! Кнут Свенсон, конунг датский и английский, разбил его, и бонды его предали, и бежал Олаф из отчины. Пришел на Русь об одном парусе, с дружиной в сорок три меча, сына привез. И сидит теперь в Предславине, помалкивает. А дядя явится — все равно ни слова. Рог подадут — не пьет. И мяса не берет. На нем, на беглом конунге норвежском, широкий черный куколь, четки в руках. Сидит, перебирает их и хмурится.
Сам–то Олаф ростом невысок, румян, широк в плечах. Но сила была в нем. Стрелой без наконечника с тридцати шагов пробивал подвешенную на шесте свежеснятую воловью шкуру. А двадцать лет тому назад на реке Темпе он вот этими самыми руками, которые сейчас перебирают четки, обвязал сваи Лундунского моста веревками, а потом они всей дружиной навалились на весла… И мост рухнул! Датчане, стоявшие на нем, попадали в воду, другие бросились спасаться в крепость. Да не спаслись!
Где теперь прежний Олаф? Дядя сколько уже раз сулил ему на выбор Волынь, Берестье, Червенскую землю, войско давал. И ничего взамен не требовал, владей и богатей, будь с нами заодин. А конунг только морщился и отвечал, что меч его отныне в ножнах и что он не собирается обнажать его ни здесь, ни в Норвегии. Придет зима, он простым паломником отправится к святым местам.
Лицо у Олафа широкое, румяное, кожа белая, а в темно–серых глазах иногда вспыхивал такой неистовый огонь, что даже дядя Ярослав смущался и вставал. И уходили дядя и племянник. А Олаф их не провожал. Он даже не кивал им на прощанье. Сын его Магнус однажды не выдержал, сказал:
— Вы на него не гневайтесь. Он хочет умереть.
— Умрет, умрет, — ответил дядя. — Мы все умрем. Вот только кто скорей? — И засмеялся зло.
Магнус пожал плечами. А отец…
Он вдруг почувствовал, что смерть витает где–то рядом. И весь обратный путь был сам не свой.
Мать встретила его, она была здорова. И брат здоров. И не приходил гонец из Полтеска… Начался пир. И дядя вывел сыновей. Тогда их было трое: Владимир, Изяслав и Святослав. Владимиру, старшему, — девять лет, Изя–славу — пять, Святославу — три. А Всеволод, тот самый Всеволод, он был еще в утробе. Владимир вырастет, дядя посадит его в Новгороде, Владимир будет править там, ходить на чудь, поставит златоверхую Софию, и там же первым его похоронят. Ты с ним, Всеслав, не встретишься — он рано умрет.
А младших брат не любил, избегал, играл один. Мать сидела в тереме, ей уже было тяжело, срок подходил, боялась сглаза. Брат рассказывал: проснется он ночью, а она все молится да молится… Днем — опять она всех веселей, добра, кротка. А эта, дядина жена, всегда находилась при ней, но ничего плохого не делала, не замечали. Напротив, как могла, оберегала, говорила:
— Будет сын. Красивый, смелый, как отец. Не бойся! — И смеялась.
А отца увидит — замолчит. При нем она ни разу даже не улыбнулась. А чтоб о прошлом… Ни она, ни дядя — ни словечка.
Жара прошла, дожди пошли, и на Илью решили отъезжать. Тогда в последний раз дядя с отцом отправились в Предславино.
И в этот раз, как и всегда, Олаф сидел в куколе и с четками. Но попросил вина. И мясо ел. Дядя спросил, что это с ним. Олаф ответил:
— Я видел сон.
— Какой?
Он не ответил. И больше ничего не говорил. Ел, пил, как все. Потом, когда дядя собрался уходить, Олаф кивнул ему и попросил, чтобы отец остался. Дядя обиделся, но виду не подал, вышел. Отец сидел не шевелясь. Олаф откинул капюшон, огладил бороду, сказал:
— Я слышал о тебе, князь Вартилаф.
— От Эймунда?
— Нет, Эймунд уже там. — И конунг посмотрел на небо. — Он был отважным воином, и, думаю, они помилуют его. Ярл Эймунд умер хорошо, в бою, с мечом… — Олаф нахмурился, сгреб четки, отбросил их. Проговорил в сердцах: — Завидую! Я и тебе завидую. Ты еще молод, князь, а скальды уже знают о тебе. И говорят добрые слова. А дядя твой… — Конунг замолчал. Долго молчал. Потом спросил: — Его супруга Ингигерда красива, да?
Отец кивнул. Конунг сказал:
— А я так никогда ее не видел. Тогда, в Норвегии, нас сватали, но прибыл Ярислейф, и шведы передумали. Все ждали, я разгневаюсь… А я был рад. И знаешь почему? Я видел сон. И не простой, а вещий. Такие сны, не верь глупцам, совсем не колдовство. Они Божье пророчество, и потому я верю им. Итак… — Он задумался, полуприкрыв глаза… Вновь заговорил: — В ту ночь мне впервые приснился отец. А я ведь никогда живым его не видел. Вначале он ушел, потом родился я. Ты знаешь, где и кем он был убит?
— Да, знаю.
— Хорошо. Итак, каким он уходил, таким мне и привиделся. Его лицо и руки были покрыты страшными ожогами, а поверх почерневшей кольчуги болтался обрывок плаща. Я лежал на траве, укрывшись щитом, а меч держал под головой — у нас так принято в походах. Завидев приближающегося отца, — а я, поверь, сразу узнал его! — я попытался встать… Но отец навалился на меня, сдавил плечи и зло сказал: «Олаф, сын мой, ты никогда не женишься на ней! И, более того, я даже запрещаю тебе видеться с ней, внучкой проклятой Сиг–рид!» Я оробел, я хотел вырваться… Но отец крепко держал меня в своих объятиях и продолжал: «Бойся ее! И всем скажи, пусть все ее боятся!» «Но почему?» — воскликнул я. А он… Исчез! Вот так–то, князь… — Олаф опустил глаза. Помолчал. Потом сказал: — Такой тогда был сон. А утром я сказал, что не пойду на Уппсалу. И повернул обратно, хотя мои бонды были очень недовольны. Я промолчал про сон. Зачем им было это знать? А вдруг я ошибся? Вдруг мой отец был в гневе и погорячился? Хотя я знал… И ждал… И лишь Ярислейф вернулся в Новгород и обвенчался с Ингигердой, сразу все и началось. Князь Бурислейф был славный князь. Он знал — к нему идут, а слуги его бросили, но он не побежал. Он, говорят, стоял у образов и пел псалмы, и ждал… — Олаф нахмурился, закрыл лицо ладонями, открыл. Наконец опять заговорил: — Так, говоришь, она красива? А если бы вернуть все вспять, ты… снова отдал бы ее?
— Да!
— Почему?
— А потому, что вспять я не хожу. Есть у меня жена, есть сын, второго жду. И есть земля, дружина…
— Ого–го! Ого! — смеясь, воскликнул Олаф. — А ты горяч!
— Горяч.
— Завидую. — Конунг усмехнулся. — Да, завидую. — И, помрачнев, сказал: — А я постарел. Кровь как вода. Труслив… Вот я пришел сюда, а больше было некуда, и сразу повелел, чтоб никого ко мне не допускали. И это не оттого, что боюсь кого–то. Я только ее боюсь! И сам потому ни разу не был в Киеве, чтоб не встречать ее. Здесь сижу… И смейся, князь! Но ты был мудр, когда не стал удерживать ее. Ты только оттого и жив до сих пор!
— А он? — Отец кивнул на дверь.
*bss On! Ол»ф–5аймслЛ£Я«жв On разве жОЬ1 iax, текъ одна. Поверь мне, Вартилаф, уж я–то знаю! И да хранит тебя Господь, чтоб ты не поминал меня, когда… — Он спохватился, замолчал. Потом сказал: — Тебе, князь, жить да жить. И не накликать бы беды. А я… — махнул рукой, спросил: — Ты не устал от моих слов?
— Нет, говори.
— Тогда тебе придется выслушать еще один мой сон. Вчерашний. Но, возможно, это был и не сон, ибо я видел и слышал все как наяву. Отужинав, я лег и долго размышлял о своей жизни. Потом мне показалось, что я заснул… Вдруг раскрылась дверь, и ко мне в опочивальню вошел некто в островерхом позолоченном шлеме и длиннополом плаще. Лицо вошедшего было скрыто глубокой тенью… но я почему–то сразу уверился, что это опять мой отец! И не ошибся. Отец неслышно приблизился ко мне, низко склонился надо мной, сказал: «Олаф, сын мой! Все говорят, что ты решил отбросить меч. Но разве конунг вправе совершать такое? Власть, которую ты получил от рождения, дарована тебе Богом, и только Бог может забрать ее, но уже вместе с жизнью!» Услышав такое, я рассердился и с горячностью ответил: «Так ты хочешь, чтобы я вернулся? Но мои бонды предали меня! И там никто меня не ждет! А здесь… Предаться Ярис–лейфу? И добывать ему уделы?! Ему — и ей…» «Нет–нет! — вскричал отец, — Конечно нет! Негоже конунгу служить и получать владения из чужих рук, когда у него есть собственные наследные земли. А ждут тебя там или нет, об этом пусть потом расскажут скальды. Их слава — в их словах. А слава конунга в том, чтоб побеждать врагов, а самая славная смерть — пасть в битве во главе своих воинов. А посему я говорю тебе: бери свой меч, иди!» И я проснулся! Но, клянусь Словом Христовым, я еще успел заметить тень уходящего в дверь человека! Вот ^ак–то, Вартилаф, такой был сон. Что скажешь?
Отец сказал:
— Ты все уже решил. А я не чародей, я не даю советов.
Тут Олаф рассмеялся и сказал:
— Да, правильно. Но я пришел на Русь кружным путем, через Финнмарк и Ладогу. А говорят, есть другой, короткий путь.
— Их даже два, — подтвердил отец. — По рекам Двине и Неману. Если пойдешь по Неману, придешь в Поморье, а если по Двине — на Готланд. И тот, и этот путь лежат в моей земле.
— А велика* она, твоя–Земля? ' *
— Вот здесь все помещается, — сказал отец и сжал кулак.
Олаф опять рассмеялся и воскликнул:
— Как жаль, что я только сегодня заговорил с тобой! — Потом спросил: — Ты завтра уезжаешь?
— Да.
— Тогда у нас еще довольно времени!
И Олаф приказал подать вина и мяса. И они много пили и ели, и разговор их был весел и шумен. Когда же Бьорн, окольничий, пришел к столу и что–то прошептал на ухо Олафу, тот рассмеялся:
— Да, Ярислейф может уехать, я не держу его. Но пусть и он не держит на нас зла, ибо мы не собираемся затевать здесь худые дела против него, мы просто пьем и веселимся.
И дядя Ярослав уехал. Отец стоял возле окна и видел, как он выезжал, чуть сгорбившись, из ворот…
И снова шел веселый разговор, и было много съедено и еще больше выпито. Когда же и отец собрался уезжать, то Олаф проводил его до самой нижней ступеньки крыльца, и уже во дворе они еще долго беседовали и громко смеялись, лица у них были красны от вина, бороды всклокочены. И продолжалось это до тех пор, пока Бьорн, окольничий конунга, не подвел отцу коня, а воины не помогли Олафу вернуться в дом. Так они распрощались в тот раз…
Когда отец вернулся в Киев, стояла глубокая ночь, и даже в дядиных окнах не было видно огней. И мать спала, и брат. Было спокойно, тихо…
Но в ту, последнюю ночь в Киеве отец глаз не сомкнул. Лежал и слушал. Ему казалось, вот–вот кто–то войдет в дверь…
Нет, это не хмель гулял в нем, хмель выветрился весь еще в пути. И страшно не было. Наоборот, пускай бы он вошел, высокий и благообразный, ведь он, говорят, и был таким, его отец, князь Изяслав. Пусть бы что–нибудь посоветовал, наставил бы. А так неизвестно, как дальше жить? Приехал он в Киев, прожил здесь недолго, в словах ни зла, ни обиды. Да, дядя щедр и добр, гости, пируй, принимай дары. Даже терем он племяннику поставил, назвали Брячиславовым подворьем. «Все здесь, — сказал дядя, — твое, владей, приезжай, когда захочешь, всегда приму и буду рад». Да, так оно и есть, дядя не лжет, он рад племяннику — ведь он один у него. Мстислав И Судислав ему давно чужие, вот и зовет племянника, и Олафа зовет. И одарит, чем только пожелаешь. А эта, дядина жена…
Нет, пусто здесь! И холодно, мрак. Домой, скорей домой!
Назавтра и уехали. Брат говорил, что дядя был угрюм, он ничего не спрашивал об Олафе, отец не рассказывал. А день стоял солнечный. Сошли они к Днепру. Простились с дядей, с младшими. А эта, дядина жена, ее и вовсе не было, сказали, что хворает. Мать только что была так весела, смешлива, а тут неожиданно разобиделась, сказала, что все не по чести. Насилу успокоили. Сам дядя увещевал, даже руку ей поцеловал, словно владыке. Мать унялась, порозовела. Поднялись на ладью. Отец и дядя, через борт уже, под колокольный звон, еще раз обнялись, облобызались троекратно.
И — по Днепру, вверх, вверх. А после — волоки, Двина. Вернулись все здоровые. А лето уже кончилось. Лист пожелтел и полетел. Мать округлилась и отяжелела. Уже не ходит, не поет. Лежит, спит по целым дням. Или скучает. Но сама она ничего не говорила. Разве что все поминала Киев. И храмы там светлей, хоромы краше, и люд богаче, и умней, и расторопней. А здесь что ни прикажи, тут же норовят схитрить да увильнуть. И гневалась на челядь, на отца, недобро поминала бабушку, мол, это все ее порядки! Терпел отец. И челядь не роптала. А что сказать? Княгиня вот–вот родить должна, тут грех перечить. И сносили, ждали.
И срок настал. Еще с утра пошли готовить мыльню. Отец послал к Илье богатые дары и повелел служить, пока не разродится. Призвали Лушку Криворотую — ту самую, что брата принимала. Она потом пять лет еще жила.
Сперва все было чин по чину: хлеб с солью и отвар на воробьином семени подали, съела, запила. И, помолясь, в мыльню пошла, отец и Лушка взяли ее под руки. И вдруг схватило! Так схватило, что обмерла она. Снесли обратно, положили. Ждали. Отец еще послал дары.
А ей час от часу все хуже. Горит! Бредит. Бросились отпаивать. Травы курили. Заклинания творили. Мать то придет в себя, то снова в жар. В озноб. Прибили Лушку, выгнали, других нашли. И звон по всем церквам. А мать — жива ли, нет… Отец хотел послать за бабушкой.
Мать услыхала — вскинулась.
— Нет! Нет! — закричала.
Не стали звать бабушку. И брата увезли. Обманом вызвали во двор, а Там. как РЛегщгц 3&1лйй0е0Ту 5 .ССДДй, Отец так повелел. А матери то легче, то хуже, то плачет, то молчит.
И в ночь никто уже не спал, решили — княгиня помирает! Ночь прошла. И день. И снова ночь. А третья ночь наступила — мать уже совсем извелась: стала белой, холодной. Накрыли шубой, все равно дрожала.
За окном — зарницы, гром. А небо чистое. И звезды с неба сыпались. Отец сидел у изголовья, молчал. Причащать не дал, надеялся еще. Владыка просил, увещевал — отец не слушал. Владыка отошел и встал под образа.
И вдруг… Явилась бабушка, вся в черном. Мать, увидав ее, зажмурилась и зашептала что–то, никто не разобрал. Отец вскочил, хотел остановить… Да не решился, замер. Бабушка к невестке подошла, склонилась, посмотрела, к шубе рукой притронулась. И словно обожглась! Опять притронулась — и снова пальцы скрючило. Тогда она сказала:
— Уйдите все. Оставьте нас.
Мать застонала, замотала головой — не уходите! Не ушли. Отец стоял, замерли, не знали, как и быть. И так умрет, и так…
А бабушка опять:
— Оставьте нас! Грех на себя беру!
Стоят. Тогда она к отцу оборотилась, говорит:
— Ты что, не слышишь? Сын будет у тебя, сын, настоящий сын!
Гром загремел! И ливень хлынул! Только небо было чистое, а тут стеной, как из ведра! И в дымоходе загудело. Все оробели, крестятся. Один отец стоит, не шелохнется. А бабушка снова грозно:
— Уйдите! Все уйдите!
И тут владыка выступил вперед и с гневом выкрикнул:
— Не кощунствуй! Бог дал, Бог взял. Смирись!
А бабушка в ответ ему:
— Ваш — взял, а мой — отдаст! — И засмеялась зловеще.
И снова гром! Грохочет кругом, трясется. Владьпса поднял крест — и к бабушке… Но тут отец схватил его, к себе прижал и молча, ничего не говоря, повел к дверям. И все — за ними…
Вышли. Остались только мать да бабушка…
Ждали в гриднице. Гроза не унималась. Такая ночь раз в год лишь и бывает, когда рябина наливается.
И внезапно… Крик! Детский крик! Распахнулась дверь, Ьышла бабушка и вынесла младенца. Возвестила:
— Сын! В сорочке. Смотрите все!
В сорочке, да потом из той сорочки тебе сделали оберег, и ты его носил, и был в битвах яр, меч не брал тебя и яд не брал, мор обходил, огонь не жег. Носил — до той поры, пока позавчера Она…
А мать скончалась родами. Убили ее ты да бабушка, так брат сказал. Бабушка–то клялась:
— Внучек, не верь! Тебя спасала я, а не ее губила.
— Как?
— Так. Не спрашивай.
— Не скажешь? Никогда?
— Скажу. Потом, как подрастешь.
— А если я не доживу? А если, как и матушку…
— Нет, — бабушка улыбнулась, — ты будешь долго, очень долго жить. Никто тебя не изведет, ты сам себе предел положишь…
И положил! Два дня уже прошло, осталось пять. И в них надо многое успеть. Гонцов нужно послать к сыновьям, вече собрать…
Почернел Всеслав. Долго молчал, крепился, не выдержал, позвал:
— Игнат!.. Игнат!..
— Иду!
Пришел и, не спросясь, — к печи, к дровам.
— Не надо!
— А чего?
— Того! — Помолчав, сдержал себя: — Ты не серчай, Игнат, я… это… А! — махнул рукой, спросил: — Ты крепко спишь?
— Как повелишь.
Сидел Игнат на корточках возле печи, смотрел… а как смотрел, не разберешь; темно. «Как повелишь…» Так и Любим сказал! Князь усмехнулся, сказал:
— Ты, если вдруг увидишь что–нибудь, буди меня.
— Ты про видение?
— Да, про него. А то, что днем я говорил, так ты тому не верь, Игнат. Я это так, со зла. Ко мне Она идет, а не к тебе.
— Как знать… — сказал задумчиво Игнат, — никто…
— Никто! Из вас! А я… — Князь спохватился, замолчал. Сказал потом: — Ида. И спи. Но чутко! — Повернулся и ушел к себе. Лег. Сложил руки на груди, глаза закрыл, прошептал: «Отче наш!..» И…
Словно провалился!
ДЕНЬ ТРЕТИЙ
1
В Предславино прибыл гонец, Гюрд Однобровый, и сказал, что Торир Собака времени даром не теряет. Вое это лето он провел на севере, в горах, и много говорил на тингах, и бонды взяли его сторону. Теперь, собрав большое войско, Торир сошелся с Хареком из Тьотты. И Эйнар Брюхотряс за них. И Кальв, сын Арни. И менее достойные люди из Рогаланда, Хёрдаланда, Согда, Фьордов. А еще говорят, некий человек доставил Ториру двенадцать заколдованных оленьих шкур. Торир повелел сшить из них латы, и они оказались крепче любой кольчуги: это все видели!
Услышав об оленьих шкурах Торира, Олаф долго смеялся, а потом сказал:
— Ну что ж, тогда пора идти его проведать. С Божьей помощью!
И Олаф начал собираться в путь. Сперва князь Ярослав пытался отговорить конунга от этой затеи или хотя бы повременить с отъездом до йоля — варяжского Рождества, но Олаф говорил:
— Я видел сон! А в знак доверия к тебе я оставляю здесь Магнуса, сына.
Убедившись в том, что конунг непреклонен, князь Ярослав велел снабдить Олафа всем необходимым и даже кликнул клич, обещав снарядить за свой счет всякого, кто пожелает разделить с норвежским конунгом славу его будущих побед. Но, к сожалению, охотников нашлось не много.
Когда ж все приготовления были закончены, Олаф в самых дружеских словах поблагодарил Ярослава за гостеприимство — и двинулся вверх по Днепру.
Корабль у Олафа был не такой, как у других конунгов: спереди его украшала не драконья, я человеческая голова. Говорили, сам конунг вырезал ее. А воинов в тот день у Олафа было шестьдесят пять, и на всех надеты кольчуги и вальские шлемы, а на щитах синей краской начертаны святые кресты. Стяг на корабле — белый, с оскаленным красным драконом. Дружинники гребли, Бьорн, окольничий, стоял у руля, а Олаф у мачты. На голове у конунга надет золоченый шлем, в одной руке он держал шит с золоченым крестом на белом поле, в другой копье. Потом это копье сын его брата, Олаф Тихий, велит поставить в алтаре церкви Христа.
Меч был у пояса. Он звался Хнейтиром. Олаф гордился им — ведь меч был до того остер и крепок, что люди говорили шепотом: «В нем скрыт Белый Огонь!» Конунг гневался: он не любил языческих поверий. И никогда, ни при каких обстоятельствах, не прибегал к колдовству и другим запрещал делать это. И даже поминать о колдовстве при нем было нельзя. Так и тогда, отправляясь в поход, никто и словом не обмолвился о новых латах Торира.
Олаф прошел сначала по Днепру, потом по волокам, а после по Двине. И вышел к Полтеску на третий день после того, как мать похоронили. Отец в это время вернулся от Ильи: он там стоял обедню. Узнав о корабле, сошел к реке. Обнялись они. Но ни о чем не говорили. Через двор прошли в ворота. А на крыльце, ступив на первую ступеньку, Олаф застыл и посмотрел на бабушку. И бабушка смотрела на него. Она сидела, он стоял. Смотрели они пристально и долго… Наконец она сказала:
— Вот наш дом. Входи. — И поднялась, и протянула руку.
И Олаф, осенив себя крестом, взошел по лестнице.
За скорбным столом Олаф молчал. Бабушка с него глаз не сводила. Потом, когда все поднялись, конунг спросил, нельзя ли провести его к младенцу. Отец и бабушка провели. Когда они вошли, младенец закричал. Кормилица вскочила.
— Сядь! — приказал ей конунг.
Подошел, склонился к колыбели. Младенец сразу замолчал. Кормилица сказала:
— Испугался.
— Нет, — возразил Олаф. — Ждет. Дай хлеба.
Она подала. Он выдрал из горбушки мякиш, размял его, смочив слюной, слепил крест…
— Он не крещен еще, — сказал отец.
— А кто же он пока?
— Всеслав.
— Всеслав! — Конунг улыбнулся, — Держи, Всеслав!
И княжич… открыл рот! А Конунг, отломив от креста
крошку, подал ему. Княжич взял, закрыл рот, зачмокал. Конунг стоял, смотрел на княжича. Потом еще дал крошку… И еще… Так скормил весь крест. И лишь потом ушел. С ним ушел и отец. А бабушка осталась.
Прошло еще три дня. И все время отец и Олаф были вместе. Сидели в гриднице, молчали. Были скорбные дни. Пел скальд…
А на четвертый день они опять пришли к младенцу. Отец взял сына на руки, понес. Пошли к Илье. Там уже все было готово. Окрестили. Крестным отцом был Олаф, крестной матерью — Евфимия, просвирница при храме. Одна она только на это и решилась, ибо владыка гневен был, он и крестить–то не хотел, а говорил:
— Князь, не греши! Конунг не нашей, а варяжской веры!
На что отец вскричал:
— Молчи! Христос на всех один!
И много чего еще отец тогда сказал. И окрестил младенца владыка, дал имя Феодор, а отслужив, произнес:
— Прости мя, Господи! И ты, чадо, прости. Ибо крещен ты в беззаконии, во зле, а коли так… — И не договорил. И если бы не конунг, был бы грех, великий грех! И уподобился бы Брячислав Болеславу, ляшскому королю, сразившему бискупа во храме. Но, благо, миновала сия чаша владыку. Ушли князь и Олаф; младенца унесли. И был великий пир, весь Полтеск праздновал, один только владыка не явился. И, может быть, с того и началось, кто знает! Отец потом дарил великие дары и земли жаловал, постился. Год миновал, владыка допустил его к себе, простил.
А Олафа в то лето уже не было, ни в Полтеске, ни за морем — нигде. Брат говорил, всю зиму он готовился: ходил вниз по Двине и возвращался, принимал мужей от свеев и норвегов, и говорил с ними, и покупал оружие, и строил корабли, и нанимал дружинников. А лед сошел — ушел Олаф. С ним было двести воинов, три корабля. Брат не хотел, чтоб Олаф уходил, он говорил:
— Тебя убьют. Останься!
А Олаф отвечал:
— Ты еще мал и ничего не понимаешь. Я ухожу не потому, что так хочу, а потому, что такова моя судьба.
— Тогда возьми меня с собой!
— Нельзя. Здесь у тебя отец и брат. И здесь твоя земля. Ведь так?
Брат не отвечал, молчал. Он хотел плакать от досады, но боялся, потому что знал, воины не плачут, молчал. И Олаф ничего не говорил. Ведь он же был не слеп, он видел — есть бабушка, отец и есть его крестник Всеслав. А Ратибор…
И в день отплытия Олаф призвал брата к себе и так сказал:
— Однажды, уже будучи конунгом, я прибыл в дом своей матери Асты и отчима Сигурда и встретил своих трех младших братьев: Гутхорма, Хальвдана и Харальда. Они тогда были еще совсем детьми. Братья очень обрадовались моему приезду, и я решил достойно их одарить. Я вывел их на берег моря, к кораблю с добычей, и спросил, чего бы им более всего хотелось получить. И братья ответили, каждый по–своему. Гутхорм, старший, даже не посмотрел на корабль, он повернулся к нему спиной и сказал: «Я бы хотел каждое лето засевать весь этот мыс, ныне покрытый лесом, ибо только тот, у кого много пахотной земли, действительно богат!» Я опечалился, но виду не подал и приказал принести Гутхорму топор и лопату. Потом взял слово средний, Хальвдан. Он сказал: «А я хочу иметь столько коров, чтобы когда они приходили на водопой, то стояли бы вплотную вдоль всего этого мыса!» Я засмеялся и велел подать Хальвдану туго набитый кошель, поскольку коровы в наших землях стоят дорого. А самый младший, Харальд, сказал так: «А я хочу иметь дружинников!» — «А много ли?» — «Ровно столько, чтобы они в один присест могли съесть всех коров Хальвдана!» Тут я не удержался, схватил Харальда на руки и расцеловал в обе щеки, а затем отнес на корабль, и там он выбрал себе меч — лучший из лучших. Надеюсь, этот меч будет в его руке еще острее моего… А ты что пожелаешь, Ратибор?
И брат ответил:
— Ты много нам рассказывал о своих странствиях, и эти рассказы так глубоко запали в мою душу, что я теперь не успокоюсь до тех пор, пока не увижу все те земли, которые видел ты. И это есть мое первое и последнее желание!
Олаф нахмурился, сказал:
— Прости меня, княжич, но сегодня я не могу подарить тебе корабль, ибо на двух оставшихся моим воинам негде будет разместиться. Но зато…
И с этими словами он отстегнул от пояса кошель и достал оттуда маленький синий камень.
— Вот, — сказал Олаф, — держи. Да, с виду этот камень неказист, но для тех, кто пускается в неизведанные морские дали, он дороже любого алмаза. Ты спросишь почему, и я отвечу: потому, что в любую непогоду, в шторм, в туман и даже когда ты собьешься с пути и не сможешь найти верную дорогу, этот камень всегда укажет, в какой стороне скрыто солнце и высоко ли оно поднялось над горизонтом. И потому держи этот камень, он всегда тебе поможет. Держи!
— А как же ты? Ведь твои воины уже садятся к веслам и поднимают парус!
Олаф печально усмехнулся и сказал»:
— Не беспокойся. На том пути, который меня ждет, еще никто не заблудился. Туда ноги сами несут… Ты лучше посмотри сюда, я научу тебя.
И Олаф объяснил, как управляться с этим камнем — норвеги называют его солнечным. Брат очень дорожил подарком Олафа и никогда не расставался с ним, носил, словно оберег, возле нательного креста. И только один раз показал, как этот камень светится. Таясь, зашли под лестницу, и брат сказал: «Зажмурься!» Ты зажмурился. «Теперь смотри!» Ты посмотрел. В кромешной тьме горел синий огонь — словно осколок яркого летнего неба. И ты хотел было притронуться к нему, чтоб ощутить его тепло… «Не тронь!» — прикрикнул брат, ударил по руке. Сильно ударил — кожа загорелась. И ты схватился за руку, сказал: «Бей, бей! А я…» И не договорил, брат так толкнул тебя, что ты упал, ударился об угол… Три дня лежал, сказал: сам упал. А брат за эти дни ни разу не пришел к тебе. Такой он был, брат…
А Харальд, встретив Олафа уже в варягах за морем, сказал:
' — Брат, при мне тот самый меч. Ты помнишь?
Олаф ответил, что помнит. И брат встал рядом с ним. Всего же к Олафу сошлось двенадцать сотен воинов, потому как только он высадился в Jlere, то сразу разослал по всей стране своих людей, которые говорили: «Всякий, кто хочет добыть себе добро у варгов конунга, пусть поспешает!» Олаф в короткий срок собрал большое войско и двинулся на Торира и его бондов. Достигнув Ямталанда, он повернул на север, к Кьелю. Речной путь кончился. Олаф оставил корабли и двинул войско в горы.
Когда они взошли на Кьельский перевал, Олаф велел войску остановиться и долго смотрел на расстилавшуюся внизу перед ним долину… И все, кому тогда посчастливилось стоять рядом с конунгом, рассказывали, что им открылась чудесная, неповторимая панорама — они отчетливо увидели не только весь Трандхейм, но и всю Норвегию разом! А за Норвегией им открылось море, а в море — далекие, никому дотоле не ведомые земли, а за землями вновь синело море, а за ним — вновь земли и вновь море…
Спустившись с гор, Олаф узнал, что войско Торира совсем близко, а воинов в нем намного больше, чем поначалу можно было предположить.
— Ну что ж! — воскликнул Олаф. — Чем многочисленнее враг, тем больше славы нам достанется!
И повелел, чтоб все примкнувшие к нему воины начертали на своих щитах такие же святые кресты, какие уже были на щитах у тех дружинников, которые пришли с ним с Руси. Однако не всем этот приказ Олафа при- 'Шелся по душе: оказалось, под его рукой сошлось девять сотен язычников. Олаф настаивал, епископ убеждал… И дело кончилось тем, что только четыре сотни приняли святое крещение, а пять сотен воинов, не пожелавших отказываться от веры своих отцов, повернули обратно и разошлись по домам.
— И это хорошо! — воскликнул Олаф. — Ибо оставшимся достанется вдвое больше добычи!
И войско двинулось дальше, и дошли они до Стик–ластадира. Там Олаф приказал остановиться, посчитав это место более других подходящим для решающей битвы. Войско бондов было еще далеко, и Олаф позволил своим людям сесть на землю и немного передохнуть. Все так и поступили. И Олаф тоже сел, положил голову на колени Бьорну, окольничему, и на него набежал сон. Когда же Бьорн увидел стяги приближающихся врагов, он поспешил разбудить конунга. Проснувшись, Олаф укоризненно посмотрел на Бьорна и сказал:
— Зачем ты это сделал? Мне снился сон, и я вполне бы мог досмотреть его, поскольку бонды еще далеко!
Бьорн удивился и спросил:
— Неужели твой сон был так важен?
— Да! Это был вещий сон. Мне снился мой отец. Он подошел ко мне, взял за руку, перед нами возвышалась высокая серебряная лестница. Она была столь высока, что ее вершина скрывалась в облаках. Мы чинно взошли на нее и поднимались все выше и выше, отец мой поначалу молчал, а потом вдруг начал приговаривать: •«Сейчас ты увидишь, сейчас ты увидишь…» Но я так ничего и не успел увидеть, потому что ты разбудил меня. Зачем ты это сделал?!
Бьорн ничего не ответил, он только закрыл глаза руками и застыл как каменный. Тут Олаф понял, что ему приснилось, и сразу помрачнел и велел, чтобы к нему немедленно привели его брата Харальда. Харальд пришел, Олаф сказал ему:
— Сейчас ты немедленно сядешь на коня, поскачешь в усадьбу Торгильса, сына Хальмы, — вчера мы ночевали у него, — и будешь делать то, что он тебе прикажет.
Харальд долго не соглашался, но Олаф настоял. И Харальд уехал, ему в ту пору исполнилось только что тринадцать лет.
А бонды были уже близко. Первыми подошли люди Кальвы, сына Арни, и Харека с Тьотты, затем подоспели другие. Последним к полю битвы прибыл Торир Собака: он и его люди шли последними и следили за тем, чтобы никто не повернул назад. Явившись к войску, Торир немедля вышел вперед, стал под стягом и крикнул:
— Вперед, вперед, войско бондов! — Такой у них был боевой клич.
А Бьорн, окольничий, вскричал иначе:
— Вперед, вперед, люди Христа, люди креста, люди конунга!
И только прозвучали эти крики, солнце вдруг побагровело, словно налилось кровью, а потом стало темно как ночью! Но воины конунга и бондов уже сошлись в сражении. Те, которые были в первых рядах, рубили мечами, следующие за ними кололи копьями, а все остальные стреляли из луков и метали камни. Вскоре люди бондов начали теснить людей конунга, и тогда Олаф, разгневавшись, вышел из круга воинов, прикрывавших его щитами, и ринулся в самую гущу битвы. Первым от его руки пал лендерманн Торгейр из Квиста–дира, а затем та же участь постигла и многих других. Когда же Олаф наконец сошелся с Ториром, то воскликнул: — Готовься к смерти, лживая собака! А Торир только рассмеялся в ответ. Тогда Олаф ударил его Хнейтиром… И меч сломался пополам, а латы Торира из заколдованных оленьих шкур остались невредимы! Олаф отбросил меч и взглянул на небо. Тут Торир и поразил его копьем в живот, ниже кольчуги. А Кальв, сын Арни, подскочил и ударил Олафа мечом по шее с левой стороны. Торстейн Корабельщик нанес удар конунгу секирой по ноге выше колена. Олаф упал. Бьорн, окольничий, склонился над ним и был убит. В тот день погибли многие. Когда вновь стало светло, бонды уже теснили войско конунга в долину. Даг, сын Хринга, попытался было остановить бегущих, но вскоре он и его люди отступили. А было то в августе, в последний день месяца, в среду. Опять среда! Пресвятый Боже!..
А ночью, когда люди Торира разыскивали беглецов в лесу близ Верадаля, Харальд, брат Олафа, и Торгильс, сын Халъмы, тайно пришли на поле битвы, взяли тело конунга, вернулись с ним в усадьбу, уложили в гроб, сели на корабль, поднялись по фьорду, а затем еще долго плыли по реке, пока не нашли одиноко стоящий песчаный холм. Там они его и похоронили, заровняли землю, чтобы никто не заметил могилы, потому что люди Торира грозились сжечь тело Олафа, а пепел утопить в море.
Пять лет никто чужой не знал о той могиле. Теперь ■ там стоит церковь Христа, а холм находится в самом центре города. — А брат твой Ратибор исчез бесследно, еще отец жил, когда это случилось. В то утро Ратибор был весел, разговорчив. Сидели локоть к локтю в гриднице. В те времена за стол садились все: отец и сыновья, дружинники вместе с ними. Отец хоть сам и был молчалив, но не любил мрачных застолий. Обычно Кологрив вел общую беседу, а брат, как и отец, молчал. А тут будто
чувствовал… Нет, знал. Знал брат! И веселился, как никогда. И только выходя из–за стола, он неожиданно остановил тебя, попридержал, глянул в глаза и, оттолкнув, сказал: «Иди, иди! Чего уставился?!» Ты и ушел. И брат спустился к реке, взял лодку и невод, двоих посадил на весла. А был он, брат, высок, красив, в плечах широк. Когда отец и дядя в последний раз ходили замирять ятвягов, Ратибор с ними был. И там, на Слонимских Полях, когда они сошлись для битвы, брат, говорят, метал— обеими руками! — копья. И пробивал щиты и латы. И кричал: «Ар–ркона! Кр–ровь! Ар–ркона!..» Отец потом сказал ему:
— Не знаешь — не кричи.
А брат сказал:
— Все знаю!
Отец побагровел. И если бы не дядя, быть беде. Но обошлось в тот раз. Вернулись. Пировали. Потом дядя уехал к себе в Киев. Прошел год с тех пор. И вот теперь брат встал из–за стола, сошел к реке…
Через три дня лодку нашли, весло. Прождали сорок дней, сходили к Илье, отпели. Туда, обратно шли — подавали сирым, хворым. Отец был щедр, бабушка потом его корила за это. Отец не спорил — встал и ушел от скорбного стола. И девять дней не выходил и никого к себе не допускал. Потом призвал тебя, сказал:
— Ну вот, теперь один ты у меня. Один наследник! Что скажешь?
Ты молчал. А что сказать? Ответить, что ты не веришь в смерть брата? Рассказать, как ждал и вздрагивал, если шли корабли вверх по Двине, или гонец скакал, или ночью скрипели половицы…
Молчал и головы не поднимал. Отец гневно спросил:
— Ты что, не рад?!
Сказал — словно хлестнул. И обожгло тебя! Ты вскинул голову и с вызовом произнес:
— Чему?! Тому, что брат… — И не договорил. Слова застряли в горле.
Отец, покраснев, вскочил, рука рванулась к поясу, к мечу! Еще миг…
А ты не шелохнулся, не моргнул. Стоял, смотрел ему в глаза… И оробел отец! Отбросил меч, чертыхнулся. На лавку повалился, закрыл лицо руками. Долго сидел. А ты стоял, не шевелясь. И было тебе холодно, и бил тебя озноб. Смотрел на меч, лежавший возле ног. Впервые ты так близко видел смерть…
Вдруг отец сказал тебе:
— Садись! — И указал рукой напротив себя.
Сел. Ждал. Но отец молчал, долго. Лицо его потемнело, глаз не поднимал. Когда заговорил, то и слова его были страшные.
— Да, зверь я! Зверь! — выкрикнул отец. — Вот чуть не зарубил тебя. И зарубил бы — да! Во гневе я себя не помню. А дядя твой… Тьфу! А дядя говорил, мол, уймись, Брячислав, гордыня — тяжкий грех, прощать надо! Молчал бы уж! «Прощать!» — вскочил отец и заходил туда–сюда. Меч пнул ногой, вновь заходил. Сказал язвительно: — «Прощать!» А где братья его?! Где брат Мстислав? Где Судислав? Да кто ему поверит, что Мстислав разболелся и помер?! И сына его нет — значит, нет корня Мстиславова. А Судислав… За что его в железа?! Да чтобы Судислав на Ярослава плохое задумал? Смешно! Смешно? А вот шесть лет уже сидит в порубе! И будет век сидеть! А я… Зверь я! И только потому и жив, что зверь! И только потому на воле! Вот так–то, сын… — Замолчал отец. Стоял посреди горницы, тяжело дышал. И лик его был черен, глаза метали молнии. И меч у ног лежал. Отец поднял его, огладил, поцеловал, что–то прошептал ему, потом сказал: — Что нужно князю? Только меч, и больше ничего — ни добрых слов, ни даров, ни крестов целованных. Князь, настоящий вольный князь — всегда один, сам по себе. И сын только один у князя, ибо два сына — кровь, три сына — много крови. Потому прав был Микула, прав был Глеб, когда пускали сыновей варяжить до тех пор, пока только один из них возвращался. И благо это Полтеску, а значит, радость. Да, страшные слова, да, не по–христиански все это! А как по–христиански? Растить вас, пестовать… и знать, что, только отпоют тебя, вы тотчас же друг на друга… Ты ведь не раз кричал брату: «Убью! Убью! Вот только погоди!..» Не погодил. И грех отвел, кровь снял с тебя, Всеслав. А ты… рад ты теперь? Ну, отвечай!
Не смог сказать, только кивнул, и то едва заметно. Отец нахмурился, сказал:
— Ну вот, хоть так… Держи! — И подал меч.
Меч был хорош: остер и по руке, не тяжел, но и не легок — в меру. И поднял ты его. И…
Выпал меч из рук! И сам ты на колени пал и выкрикнул:
— Рад я, отец! Рад! Рад!.. — Не сдержался, зарыдал, как чадо малое, как женщина, как смерд. Отец схватил тебя за плечи, прижал к себе, молчал… и дрожал! И ночь была, и тихо было в тереме, все спали. А ты, Всеслав…
Нет, не рыдал уже, а только слабо всхлипывал. И стыдно было, гадко на душе… И сладко, и покойно! Отец сказал:
— Плачь, сын. Завидую тебе, ты еще можешь плакать.
А через месяц прибыли гонцы от Ярослава. Он шел в Мазовию, на помощь Казимиру, звал с собой, обещал платить за каждый меч. И заплатил бы он, и не скупился бы. Но отец сказал:
— Нет, не пойду! И сыну не позволю!
— А почему?
— Так… Не хочу. — И отпустил гонцов, и одарил их щедро. И ласков был, напутствовал, шутил, передавал поклоны. А после ночь не спал! Говорил: — Вот, сын, запоминай. Меня, словно варяга, нанимали! И кто? Мудрец этот, хитрец зарвавшийся… А Казимир? Чернец расстриженный, германцами приведенный и ими же посаженный. Не хочет Моислав ходить при Казимире — и отказался он, сел на Мазовии. И я при Ярославе не хочу. И не пойду! И пусть себя не тешат, что, мол, в другой раз посулят вдвойне, и я приду, а то и прибегу, встану у стремени. В другой раз. Ха! В другой…
Да только другого раза не было. На следующий год ушел князь Брячислав, совсем ушел. А ты, Всеслав, белее молока, вышел на площадь, встал под Зовуном и, задыхаясь, возгласил: «Отец мой, а ваш князь, преставился и вас оставил мне, а меня вам. Хотите ли иметь меня за–ради вас?»
Вздрогнул князь, поднял голову. Светло уже, вставать пора. Встал. Зачем? Настает день третий — из семи. И третий ангел вострубил, и сорвалась с небес звезда, а имя той звезде Полынь. Да, знаю я, стезя моя пришла к концу, но не ропщу я, Господи, а заклинаю: прими меня во всех моих грехах и осуди — только прими…
Оделся он. Подошел к божнице. Колени преклонил, поспешно прочел «Верую», встал и вышел в гридницу.
Стол был уже накрыт, Игнат стоял возле стола, а у двери…
Батура! Здесь, допущен без него! Тут, стало быть… Кивнул Батуре, сел, придвинул мису. Ел, не спешил. Зачем спешить? Зло — не добро, зло не спугнешь и не отвадишь, зло терпеливо, подождет, а ты, пока стоит оно в воротах, успеешь приготовиться. К чему? Вот ночь прошла, Игнат не разбудил, и, выходит, не было видения, и тишь над Полтеском, над всей твоей землей, от моря и до волоков. Сидел, низко склонив голову, коря–бал ложкой, слушал… Нет, такое не слушают — чуют, шкурой, нутром. Князь, настоящий князь — зверь от рождения, ибо жизнь княжья — ночь, лес, бурелом. И — ни луны тебе, ни звезд, дождь только прошел, смыл следы. Тишина, лишь с веток капает — кап, кап… А ты лежишь, уткнувшись в душный мох, и нож к щеке прижал, и ждешь — сейчас, сейчас он подойдет… Идет — ш–шух, ш–шух. Шаги слыхать, а самого не видно. И молишь ты: «Пресвятый Боже, я весь в руце Твоей, склонись ко мне…»
Доел, отставил мису и утерся рушником. Батура поднял голову, ступил было вперед… Но князь свел брови — и Батура замер. Сказал:
— Князь!..
— Знаю, знаю. Что, началось уже? Рядят?
— Нет, поднимаются пока. На Великом Посаде все вместе сошлись. А на Окольном — врозь, по улицам и не везде еще. На Заполотье — будто тихо… — Батура говорил чуть слышно, нехотя.
И князь тоже тихо спросил:
— А мутит кто?
— Да кто их разберет?! Все мутят. — Помолчав, сказал в сердцах: — Осатанел народ! Совсем! Онисим–старос–та… ну, тот, с Горшечной, конопатый… Так он орал, как зверь, рубаху в клочья рвал. И верят же!
— Чему?
— Да все тому же, князь, вчерашнему. А что ты у владыки был, что он тебя благословил — им это тьфу и растереть! Им и владыка — тьфу! Погрязли во грехе.
— Да, — Всеслав кивнул, — погрязли. А что владыка?
— Заперся. К нему ходили — не открыл. И на хулу не отзывается. Ушли они, Бог спас, отвел.
— А что…
— Любим? — перебил Батура и ощерился. — Любим Поспелович изволят почивать. Так и сказал с крыльца: я, мол, вчера у князя был, у господина нашего, и так наугощался, что брюхо по сей час болит, и голова трещит, и плечи ломит, и холку в кровь содрал — ярмо–то не с привычки!
— Так и сказал9 — тихо спросил Всеслав.
— Так, так! И, поклонившись всем, ушел.
— Пес.
— Пес и есть. И надо пса учить, пока не одичал, пока…
— Цыть!
Замолчал Батура. Встал князь, сказал:
— Иди. Скажи своим, чтоб хорошо смотрели. А я пока… — И замолчал, задумался.
Ушел Батура. Князь спросил:
— Как там, внизу?
— Сидят, — сказал Игнат.
Всеслав прислушался, усмехнулся.
— Тихо сидят!
— Как велено.
Всеслав кивнул. Вновь сел. Взял ложку, повертел ее и положил на стол. Так–то, князь! Тихо внизу… И, может, это хорошо. Крестный твой за день до той, последней, битвы все видел наперед. К нему Торгильс пришел и сказал… А крестный перебил его: «Нет, бонд, сегодня у меня и без того довольно войска, а ты лучше послужишь мне иначе: завтра придешь и уберешь погибших, а с ними и меня, если Господь так пожелает». И пожелал Господь, такая уж была у крестного планида. А у тебя… Лишь третий день идет, четыре впереди. Пусть чернь рядит себе, кричит, а ты… Ты еще многое успеешь. Послы приедут, сыновья, ты скажешь им… Вот только что ты скажешь? И кому? Кто будет твоим Торгильсом? Здесь, на столе этом, тебя положат, придет Иона, приведет с собой… Но то когда еще! Усмехнулся князь, головой тряхнул, на Игната глянул. Игнат, склонившись у печи, подбросил дров. Потом еще, еще. Всеслав сказал:
— Окстись, Игнат. Бережку пожалей!
Замер Игнат. А князь сказал насмешливо:
— Изжаришь ведь его! А как нам без Бережки?!
Игнат пожал плечами, встал. Помолчав, произнес:
— Самим бы не сгореть!
Князь тоже встал.
— Глуп ты, Игнат. Сорок лет смотрю я на тебя — и за сорок лет ты не поумнел. Устал я, ох устал! — Вышел из–за стола, к двери пошел.
— Куда ты, князь?
— Сойду вниз. А пока на плечи приготовь.
— Князь!..
Ушел, не оглянувшись. Мягко ступал, как зверь. В дверь заглянул — сидят, лежат: Ухватый, Хром, Бажен, Митяй… На лавках, на столе — ковры ромейские богатого узора, на столе кувшин серебряный и ложки — йз серебра, кубки, мисы, блюда… А дух какой! Тяжелый, кислый, бражный. И печь чадит. Копыто у огня сидит и палочку строгает, говорит:
— И вот мотало их три, восемь, сорок дней. Ну, думали, конец. И вдруг…
Заметили! Вскочили вразнобой. Вараксу вовсе повело. Да что уже теперь! Князь руку поднял, мол, садитесь. Сели. И сам он около порога сел. Копыто снова принялся строгать, помолчал, но, видно, не терпелось. Князь сказал:
— Мотало сорок дней. А дальше что?
Копыто сразу оживился.
— А дальше? Щас… А дальше вот что было. На сорок первый день вдруг море успокоилось, и видит Ян — гора. Ну, он и приказал: «Гребите!» Гребут. Гора все шире, выше поднимается. Полдня гребли… И догребли. И видят — прямо на горе, на берегу, — а берег там — стена стеной, а на стене этой — лик, Деисус. И лик — нерукотворный. А за горой поют, и музыка слышится чудесная. А дух от той горы стоит, как благовоние. Тут оробели все и шапки поснимали. А солнце уже за полдень склоняется, море — тихое и гладкое, синее, как небо. Ян «Отче наш» прочел… — Копыто замолчал, отбросил палочку. Да от нее уже почти что ничего и не осталось.
Важен вздохнул, спросил:
— А дальше что?
— А дальше? — Копыто задумался.
Князь усмехнулся.
— Брехня это! Брехня! — Ухватый встал, ударил кулаком. — Да кто тебе поверит, чтобы вот так, на ладье, взял да и в рай приплыл. Бре–хня! — И сел.
— Брехня? — Копыто зло прищурился. — Ну, может, и брехня. Свинье, ей что ни говори, а все брехня. А тут, да про святое… Ей, свинье…
— Что?! — Ухватый вновь вскочил.
— А то! Свинья ты, говорю. Ух–х, как ты мне!.. — И, оскалясь, за меч схватился.
И Ухватый за меч!
— Цыть, петухи! — Князь поднялся. — Успеется еще, успеется!
Куда там! Если бы не Хром, да Бажен, да Митяй, порубились бы.
Чуть удержали их, разняли, усадили. Ухватый зыркал зло, шипел едва не по–змеиному, Копыто красен был, подскакивал, грозил:
— Тварь! Гадина! Да я тебя, налим…
— Цыть! — зло крикнул князь.
Онемели все и враз затихли. А князь прошел к столу, сел во главе и осмотрел дружинников. Затем сказал:
— Не знаю я. И вы не знаете. Никто не знает… так ли в рай идти или не так, по морю или посуху… А может, вовсе и не в рай! Вон Бус про реку молочную сказывал. Не знаю! Но коли дальше вы так будете, скоро все уйдем. И все узнаем! Вон… там, — он указал на дверь, — поди, уже слыхали, что происходит? Пока там не утихнет, чтоб обо всем ином забыли! Я так велю! Я! Я! — И кулаком об стол ударил. Заплясали миски, чаши, кубки! Звон! Треск!
Молчат. Вот то–то же! Спросил уже спокойнее:
— Ворота как?
— Надежные, — откликнулся Митяй и добавил: — За Тучей послали. Горяй еще с утра сидит, обложен. Но говорит, чуть что придет, пробьется. И все мы, князь, с тобой, ты не смотри, что…
— Хорошо, — сказал князь. — А Хворостень, он как, откликнулся?
— Нет, князь, — мрачно ответил Митяй. — Ждет Хворостень, молчит. Все вынюхивает.
Князь встал, долго стоял, смотрел пустыми, мутными глазами… Ох, Хворостень, боярин, пес! Ох, говорил Иона, да сколько их, таких, вот и Ухватый — пес, и сын твой, князь. Пустое все это, брось…
Очнулся князь, встряхнулся, сказал:
— Вот как! — Зло хмыкнул. — Ну что ж! Пойду и я, как Хворостень, понюхаю!
Митяй вскочил.
— Нет, сядь! И все сидите. Митяй, ответишь головой! Ведь я не в рай иду — вернусь!
Вышел в дверь и закричал:
— Игнат! Шапку, корзно, оплечье!
А меч был при себе, князь без меча — как баба без платка: бесчестье!
2
Проехал мимо Софии, мимо Зовуна, мимо конюшен. Перед воротами попридержал коня, дал знак — побежали открывать. Чуть только приоткрыли. А выехал — и тотчас же закрыли, загремели затворами. Вот псы! А ты слепец! Один, без кольчуги даже, без шлема, без щита, как рак линялый… Хмыкнул. Миновал мостки, спустился косогором. И — по Гончарной, рысью, шагом, рысью. То сушь, то грязь, то лаги разошлись, то сгнили. То цоканье, то хлюпанье. Грязь, теснота, помои, смрад. Да, столько лет прошло, мать была права, и как еще права: и улицы там чище и ровней, и люд богаче, расторопней. Кто строит град? Не князь же, вы сами, люди, строите, для себя. Вон сколько вас, глазеете. Вчера так ни один себя не показал, а нынче осмелели! И скалитесь, а кинуться боитесь. И — по Гончарной, на Кузнецкую, под горку, рысью и внамет, вновь рысью, шагом… В грязь! Хлюп копыта, хлюп.
…Кологрив тебе рассказывал и брат, а сам ты никогда там прежде не был. Да и отец в последние годы туда не хаживал, хоть дядя звал его. Не тот уже был дядя, не один. Владимира, старшего сына, посадил в Новгороде, Изяслава — в Чернигове, Святослава в Переяславле, а Всеволода — в Смоленске. Вячеслав и Игорь, младшие, пока держались при отце. И дочерей еще не разобрали. Генрих Германский, говорят, брал Анну, старшую, да дядя отказал. А может, и германец усомнился: как знать, про то кто правду скажет! Но что Ярослав силен, что робеют перед ним, что Киев–град велик, богат, красив — это правда! Но ведь и ты, Всеслав, тогда юн, дерзок был! Вся жизнь впереди. Ладьи твои бежали по Днепру, все ближе, ближе. «Смотри! — кричат. — Смотри!» Ты встал, посмотрел из–под руки, ты, князь Всеслав, сын Брячи–слава, Изяславов внук и, значит, старший по Владимиру, по прадеду, крестителю Руси…
…Шум! Гам! Очнулся он, глянул вперед. Да, так и есть: толпа перед посадничьим двором. Стеной стоят. Князь усмехнулся, оскалился по–волчьи. Не сдерживал коня, но и не понукал. Толпа притихла, замерла. Цок копыта, цок. Пятнадцать, десять шагов…
Соскочил легко, как молодой. Пошел на них, коня вел в поводу, смотрел перед собой на толпу.
И дрогнули! И молча, суетливо расступились. Прошел. Вошел во двор и отшвырнул повод, не глядя, и кто–то подхватил, увел коня. Он шел к крыльцу, он не спешил, толпа молча валила следом. Подошел, ступил на нижнюю ступеньку…
И топнул сапогом! Еще раз топнул. Мимо него, как побитый пес, Ширяй взбежал наверх и сипло, злобно выкрикнул:
— Где честь, болваны? — Там, наверху, забегали, засуетились.
А он стоял, смотрел по сторонам — надменно, чуть прищурившись. Толпа сопела за спиной, дышала жарко, дожидалась…
— Честь!.. Честь! — кричали наверху.
Наконец нашли. Раскатали ковер. Всеслав ступил на него, стал подниматься по крыльцу. Ковер был мягкий, затхлый, битый молью.
Ковры постлали в сенях, в клети, в трапезной. Князь сел за стол — под образа. Тотчас вбежал слуга, подал вина. Князь пригубил, сказал:
— Довольно.
Слуга ушел, унес с собой вино. Однако! Хотя, быть может, оно и правильно, рачительно…
Дверь скрипнула! Он вздрогнул, обернулся. В дверях стоял Любим, Любим Поспелович, степенный полтеский посадник, пять, нет, уже шесть лет народу угождает, князю служит, владыку чтит. В трудах всегда. Вот и сейчас — прилег после обеда, Одрейко–раб Псалтырь ему читал, а он дремал. Но коли князь приехал, стоит посадник перед господином в длинной, богато вышитой рубахе, златой цепочкой подпоясанный, румяный, сытый, в берестяных ступанцах. Шаги в них мягкие, звериные. Даже он, Любим, гора горой, а ходит в них словно кот. Подошел, сел, уперся брюхом в стол. И смотрит преданно, доверчиво, по–сыновьи, по–отечески — все враз! Ну–ну… Урвал, сглодал — и ластится, как будто ничего и не было, как будто он ни при чем, он слыхом не слыхал…
— Вот что, Любим, давай без кривотолков. Ты на меня пошел, я знаю.
Князь говорил тихо, без злости, как с равным. Любим глазами застрелял, руки развел, едва не запел, перекрестился.
— Ой, что ты, князь! Да я бы никогда! Да вот те крест! Да я, ты ж сам…
— Любим! — Князь хлопнул по столу ладонью. — Я не затем пришел! — Встал, лавку опрокинул.
Любим враз побелел, вскочил, рявкнул:
— Князь!
— Что «князь»?! — вскричал Всеслав.
— А то… — Посадник замолчал, а потом шумно выдохнул: — Погорячился я. Не время еще, князь. Давай–ка лучше сядем. В ногах ведь правды нет.
Сели. Помолчали. Потом Любим сказал тихо, но твердо:
— Я на тебя не шел. Не подбивал. Удерживал. Вот те крест, удерживал! И говорил–я им, и говорю… и буду говорить: еще не время, погодите. Князь наш одной ногой уже стоит в могиле. Таких подталкивать — великий грех. Дождитесь, сам сойдет. И что он вам? Молчит, гниет за стенами. И пусть гниет! А когда снесем его да отпоем, тогда все и решим! — Замолчал Любим, но глаз не отводил. И крест сжал в кулаке, крепко держал.
Князь повторил:
— Решим… А что решим?
— А то, князь… Довольно ты, князь, правил. Полсотни и еще семь лет, куда уж больше! Потрудился ты и за себя, и за сынов своих, за внуков, за весь род, а посему… Не надо больше нам князей, устали мы! Будем сами по себе: как вече порешит, как Зовун отзвонит. Вот так–то, князь! Как на духу все тебе сказал!
И ждет, что князь ответит. А князь молчал. Долго молчал. А что тут говорить? Все уже сказано, вставай да уходи… И уходить нельзя! Побитым — нет. Сидел. Вот без кольчуги ты, без шлема, без щита. Есть только меч… Нет, нет, Всеслав! Четыре дня тебе всего–то и осталось. Терпи, чего уж там, сам напросился. Вставай, иди, и пусть плюют тебе вслед. Плевали ведь не раз. И уходил ты. Убегал. Хоронился, как подлый тать. Бес рвал тебя, зверь грыз, и сам ты — зверь. Зверь зверем!
Побледнел Всеслав. Спросил не своим голосом:
— Так, говоришь, неймется им?
— Неймется, князь. Кричат: «Сейчас! Немедля!» А вот поди ж, пришел ты — и не тронули. Колдун ты, князь!
— Колдун, колдун, — сказал Всеслав задумчиво. — Так завтра, думаю, подниметесь. Ну что ж, я жду. Всех… На Великий Ряд! — Князь встал, пошел к двери.
Любим сидел не шевелясь, сил не осталось.
А князь сошел с крыльца — толпа сразу отхлынула — и вышел со двора. Вверх по Кузнецкой, вниз, вверх, вниз. То грязь, то сушь, там лаги сгнили, здесь разъехались. Помои, смрад…
— Князь!.. Князь!..
Он отмахнулся, голос стих. И лишь остались позади шаги да перестук копыт. Молчал Ширяй, уже не окликал, следом шел, вел в поводу коня. О чем он думал, пес? Зачем он увязался? Кто я? Сегодня князь, а завтра — в грязь…
Шли по Кузнецкой, шли по Гончарной, взошли на косогор. Лишь на мостках Ширяй остановился, стегнул коня. Ворота приоткрылись и закрылись.
Придя к себе, князь повелел подать на стол и молча, много ел. Встал… Закружилась голова, в глазах потемнело, еле устоял на ногах, и то лишь потому, что подхватил его Игнат. Игнат довел его до ложа, раздел, разул. Князь лег, попросил водицы, выпил. Маленько полегчало, сел. Игнат привел Митяя, и тот сказал, что послали за Тучей и Горяем, велели, чтоб шли они скорее, и не одни, так? Ушел Митяй. Игнат ушел. Князь снова лег, открыл «Александрию» и стал читать, да буквы прыгали, глаза, как на ветру, слезились, он утирал их, утирал. Захлопнул книгу, отложил. Отец их не любил читать, говорил:
— Ложь все это, соблазн.
И он, отец, все книги дедовы пожег. А дед Изяслав был книгочей, большой охотник, собиратель. Потом младший брат его тем и прославился.
Князь вздрогнул, положил руку на книгу. Дед… Дедов младший брат князь Ярослав Владимирович Югевский стар уже был и сам не мог читать, когда впервые ты…
Да тебе тогда пятнадцать было, и вече уже выбрало тебя, дружина приняла тебя и на руках несла тебя к Илье, и пел Зовун, служил владыка, и ряд ты, князь Всеслав, уже держал с послами Моислава Мазовецкого, и бил уже литву, и замирял ятвягов… А в Киеве ни разу еще не был…
И наконец пришел под колокольный звон — на пир честной. Посадили тебя по правую руку, и нож дали серебряный, и чашу в самоцветах. Стол от яств ломился, а слуги все несли и несли перемены: лебедей, медвежатину, сохатину и прочую зверину, вина фряжские, ро–мейские, яблоки печеные, ягоды в меду и еще разную диковинную снедь. И все это — сперва тебе отведать, а уж потом — другим. Сам хозяин тебя потчевал, подкла–дывал да подливал, здравицы — за тебя да за тебя. И величал князь киевский тебя по имени и отчеству, как равного себе. А кто ты был — внук брата его старшего и господин земли… Да не земли даже — землицы. А вот поди ж — слепцы тебе поют, гудошники, рожечники играют, после в пляс пошли. Сама княжна Анастасия идет к тебе, подает вина с поклоном: отведай, господин. А ты как волк! Сидишь, молчишь, губы кусаешь. И смотришь в сторону — чтоб не смотреть на ту, которая лишь только вошла, так глаз с тебя не сводит. Змея она, змея! Пусть мед в глазах ее — да яд на языке!
Нет, князь! Ты князь, а не холоп, ты представитель Полтеска в Киеве, ты бабушке божился, все, что было тебе говорено, — забыто и закопано, затоптано. Князь, он на то и князь! Нет у него ни отца, ни матери, а есть только земля, и только о земле своей печется он. Посмотри на дядю. Он пьет чашу за чашей, а ведь вино ему в его–то годы в тягость, и пение, и пляс этот ни к чему. И те слова, которые уже произнесены и еще будут сказаны в твою, князь, честь, словно камни тяжкие да раскаленные… Но дядя говорит! И пьет! И вон как разрумянился!
А та, змея, глаз не спускает…
Так и сидел ты, пил — губы лишь мочил, молчал. И наконец встал Ярослав Владимирович Киевский, Хромец, Мудрый, Переклюка. И встали все. И пение замолкло, утихли песенники, застыли плясуны. И потянулись вон, без шуму, толкотни: мужи храбрые, купцы, бояре, тысяцкий, и княжич Вячеслав, и княжич Игорь, и княжны. Вначале — младшая, Анастасия, та, что потом выйдет за короля угорского Андрея, отвесив гостю поясной поклон, щекою к батюшке припав, пошла к дверям; следом — Анна, старшая, ее потом за Генриха Французского отдадут, а после — средняя, Елизавета, ей быть супругой Харальда Норвежского.
Ушли княжны. Теперь только она из–за стола встает и руку подает, князь киевский целует эту руку, а она…
Змея она! И взгляд ее — не взгляд, а приворот! И ты зажмурился, персты сложил для крестного знамения!
Засмеялась она тихо. Сказала:
— А как похож–то! Посмотри!
— Да, — согласился старый князь, — похож. Вот только мы уже не те. Ступай, душа моя, ступай.
— И… уступаю, — смеясь, ответила она. И вышла вон. Не шла — плыла…
— Сядь, брат мой. Сядь!
Вздрогнул ты, очнулся. Когда ты встал, зачем, не знал. Стоял смотрел на брата дедова. Тот грустно улыбнулся, повторил:
— Сядь, сядь.
Ты сел. А дядя, дедов брат, снял шапку и огладил редкие, с проплешиною волосы, сказал:
— Идут года! Вот ты уже — внук брата моего, мне брат. Отец про деда сказывал?
— Нет, не любил.
— Так, так… — Ярослав смиренно сложил руки, вздохнул, задумчиво посмотрел куда–то вверх, во тьму, после тихо, словно сам себе, сказал: — А зря! Брат Изяслав был настоящий князь. И кабы он себя не уморил, сидеть бы ему в Киеве. Ему — не мне, уж я–то это знаю. Отец наш перед ним робел… Да, видно, такова была планида Изяславова — раньше отца уйти. — И замолчал князь киевский, и лик его застыл. В глазах, словно в неживых, свеча не отражалась. И тихо было в тереме, и тихо во дворе, и страшно было — хоть кричи!
А жив ли он? А князь ли я? Пресвятый Боже! Юн я, и нет на мне греха, а то, что мной было говорено, замыслено, так то…
Очнулся Ярослав. И головой тряхнул, и усмехнулся, и сказал:
— Стар стал. Ох стар! Сонлив, забывчив. И сыновья уже смеются, говорят, мол, пора… Да что их слушать? Умом своим бахвалятся да дерзостью. А где дела? Вот то–то и оно! Срам да позор один. Владимир чуть живой вернулся — и то кто откупил? Отец и откупил, старик ленивый. Ромеям кланялся. Вот, дожил я! Все за грехи мои… А ты–то как? При бабушке?
Смолчал, стерпел ты, глаз не отводил. А Ярослав .опять насмешливо:
— Молчишь, и хорошо уже. Ведь знаю я: и ты туда же. Да! Вот Моиславу помощь посулил. Зачем? Кто Моислав твой на Мазовии? Никто, холоп, при Болеславе был простым дружинником. А ты — князь по рождению, и Полтеск — отчина твоя, по праву. И так, поди, и бабушка рядила. Ведь так? Так, а? — И смотрит Ярослав, ждет, не моргая.
Все говорят, были прежде у него другие, карие глаза, а нынче — рысьи, желтые… Но нет в них зла! И голос — мягкий, вкрадчивый:
— О бабушка! Отец твой Брячислав и дядя, тезка твой, Всеслав, были тогда совсем еще маленькими, когда я к вам пришел, на вече, и ряд держал… А бабушка сидела, запершись, и к Зовуну не выходила. Я, осерчав, сказал: «Сестра, а хорошо ли так? Ведь я не о себе, о сыновьях твоих пекусь!» Она ответила: «Зачем? Все в руце Божьей. Был Полтеск сам собой — и будет. Рожден ты князем — князем будешь. И сядешь в Киеве». Я засмеялся и сказал: «А как же Вышеслав? Он — старший». «А Вышеслав, — сказала твоя бабушка, — умрет. И прочие умрут, кто во грехе, кто в святости. А ты, брат Ярослав, только ты сядешь в Киеве. И помянешь меня. Ведь помянешь?» И я, как глянул на нее, поверил, брат! Вот те крест! — И Ярослав перекрестился и продолжал, чуть слышно, шепотом: — Нет, не радость, страх меня объял. Не знаю, брат, но словно кто меня за горло взял и стал душить… Вскочил я, кричу: «Сестра!..» А! — Ярослав махнул рукой и, помолчав, сказал: — Вот таю–то, кто в грехе, кто в святости… Страшна она, Сбыслава, ох страшна! Как смерть… Да что ты в смерти понимаешь! Доживешь до моих лет, вспомнишь бабушку, да поздно уже будет. — Он замолчал, опустил голову, сгорбился.
Сбыслава, бабушка… Когда б ты, старик, знал, о чем она повелела! Да, гневается бабушка, говорит, зачем нам распри ляшские, гони послов и не ходи в Мазовию к
Моиславу, за Казимира встанет Ярослав, а кто за нас? Литва?!
Встал Ярослав, сказал:
— Вот, брат, все за грехи наши… — Усмехнулся и спросил: — А Киев часто тебе снится?
— Нет, никогда. Зачем? — Ты пожал плечами и тоже встал. — Да и впервой я здесь…
— Ну, значит, будет сниться, — сказал, все так же улыбаясь, Ярослав. — Вам, полочанам, завсегда…
— Брат! — вскричал ты тогда.
— Что? — Ярослав вздрогнул.
— Так, ничего. Ведь ты мне брат?
— Да, брат. — Ярослав прищурился. — Ты князь, я князь, и здесь мы с тобой братья. А сыновья мои — тебе дядья.
Не ответил ты. Ярослав хлопнул в ладоши. Вошел слуга с огнем. И братья — дед и внук — пошли из трапезной.
Когда ты вернулся к себе, на Брячиславово подворье, было уже совсем темно. Дружина спала, отпировав. А ты ходил, сидел и вновь ходил по горнице. И думал. Зачем ты здесь? Явился поклониться, встать у стремени? Так нет, ты — равный ему, сам Ярослав тебя так величает. А верит ли тому или душой кривит и, как всегда, задумал перехитрить — не в том беда, в другом. Ты увидел Киев–град, а теперь закрой глаза, Всеслав, закрой! Что видишь ты? Не Полтеск, не Двину, а… Да! Прав Ярослав, теперь лишь стольный град и будет тебе сниться! И будешь теперь как раб, которому однажды посчастливилось сесть за господский стол… Нет! Брат — не раб, братья все равны, отчину пристало делить поровну, а коли нет, тогда — ведь Мстислав еще говаривал: «Не дашь — сам поищу!» И поискал. И ты, Всеслав, пришел искать. Да оробел. Дед твой робел, отец робел — и ты теперь? А вы–то старшие в роду по прадеду Владимиру…
Ночь шла. Ты ходил, садился, вновь ходил. И вдруг ввели ее! И вышли тотчас же. Она стояла у порога, улыбалась. Волосы как снег, а брови начерненные. «Змея!» — говорила бабушка. Ты отшатнулся.
А. она сказала:
— Князь! Я к тебе пришла. Прими.
Ты не ответил, онемел. Стоял, не знал, куда деть руки, куда смотреть…
Она прошла и села под божницей. Улыбнулась. Свечу пальцем поправила, и пламя ярче вспыхнуло. Сидела и смотрела на огонь. Уже не улыбалась, строга была, задумчива, брови свела. Не поднимая головы, приказала:
— Сядь, князь!
Ты не посмел ослушаться, сел с краю.
— Нет! Здесь сядь.
Ты сел напротив. Стол, на нем свеча, огонь, а за огнем — она. Волосы украшены самоцветами, глаза черные, блестят, а губы сжаты. Змея! Хотел вскочить, однако…
Сидел не шевелясь, боялся опустить глаза, но и смотреть уже было невмочь.
Она чуть улыбнулась, сказала:
— А как похож на отца! Представить себе не могла, хоть говорили мне. Мать у тебя была красавица, так лучше бы в нее пошел. Зачем в него?!
Молчал. Она вздохнула.
— Нет, я не корю, — сказала она тихо. — Не твой то грех.
— Грех?
— Грех. Всяк человек рождается единожды, и всякому своя судьба уготована. А коли ты, как он, то тебе и судьба его. А это грех жить под чужой планидой. Грех, чадо, грех…
— Не чадо я! — не выдержав, вскочил ты. — Князь я! Брат мужу твоему!
— Брат? — Она засмеялась. — Брат! Сядь, брат, охолонись.
Ты сел, сжал кулаки. А она продолжала чуть слышно:
— Я так и думала. Я ж говорю: ты — вылитый отец. И он мне так же говорил, как ты сейчас. Да, говорил… — Задумалась и посмотрела вверх, на черный потолок, сказала: — Всем вам одна судьба, вам, волчанам. Отец твой спал и видел Киев, дед. И ты такой, и сыновья твои такими будут, внуки. И биты будете, и пожжены, и будут вас на цепь садить, и в поруб ссаживать, и прогонять, и проклинать, а вы… А все из–за чего? Из–за того, что дед твой Изяслав по старшинству первей супруга моего. Пресвятый Боже! Глуп человек, завистлив, алчен!
— Всяк глуп?
— Всяк, чадо. И чем мудрей он кажется, чем более ученостью своей да книжностью гордится, тем более он глуп. Поверь! Уж я–то знаю. За тридцать лет, поди… — И покачала головой, и замолчала, и долго на свечу смотрела, снимала воск и поправляла пламя… И вдруг призналась: — Я — змея.
Ты вздрогнул.
— Да, змея. Змея! — И рассмеялась. — Огонь люблю. Вот, видишь, пламя трогаю, а пальцы не горят. Пальцы–то тонкие, холеные, кожа на них мягкая… И руки мои гибкие… Вот, посмотри! — И протянула к тебе руки.
Ты отшатнулся, вскочил.
— Сиди, сиди! Я это так…
Руки убрала. Ты сел. Трясло тебя… Она за свое.
— Да, не горю я, только греюсь, — говорила мягко, с присвистом. — Змея! Только змеей среди людей и можно выжить. Так и живу. Так мать моя жила. И бабушка… — Поднесла руку к свече. Огонь плясал меж пальцев. Стало страшно…
— Я мужа не люблю, — сказала он тихо. — И не любила никогда. А твоего отца могла бы полюбить. Не полюбила. А полюбила бы — убила. Как мать моя отца. Как бабушка… О, Харальд! Сын Гудреда и отец твоего крестного, Олафа. Ему тогда было тринадцать лет, когда убили Гудреда, напали ночью и убили… А Харальд уцелел, бежал, долго скитался в дальних странах, а после объявился в Уппсале и сразу же примкнул к дружине Тости. Два лета подряд Харальд и Тости ходили в ви–кингские походы и одержали множество славных побед, а зимовали они у Тости. Тости был вдов, поместьем заправляла его дочь. Она была красивая, очень красивая! Тости любил их подразнить: он заговаривал, что, может быть, когда–нибудь расщедрится… Харальд краснел, как девушка, а Сигрид гневалась, и Тости замолкал…
Змея. Змея! Шипи, пой свою песню, гадина, ты думаешь, что усыпишь меня и подкрадешься, подползешь… Пой! Пой, гадина! Пой — не смолкай!
И — не смолкала. Смотрела, не мигая, пристально и говорила — тихо, медленно:
— Да, князь, да, так оно и было.. И миновало две зимы — холодные, глупые и тоскливые. На третье лето Тости вдруг сослался на недомогание и попросил, чтоб Харальд шел в поход один. Харальд поверил, вышел в море и одержал много побед и взял много добычи. А вернувшись, узнал, что Тости выдал свою дочь за Эйри–ка, конунга шведов. Харальд так сильно разъярился, что повелел немедленно повесить Тости прямо на воротах tero собственной усадьбы, но передумал и уехал, вернулся в те края, откуда некогда бежал. Через год уже его признали конунгом, и его земли были: Вингульмерк, Вестфольд и Агдир по Лидандиснеса… Ты слушаешь меня?!
Кивнул, вздохнул.
— Слушай, Всеслав, внимательно, быть может, что–то и поймешь. Шли годы, Харальд правил. Женился. Жену взял из весьма достойного рода, красивую. Харальд был храбр и щедр, и супруга его Аста была счастлива. И Эйрик, конунг шведов, храбрый и неутомимый, держал многочисленное войско и много кораблей, и очень скоро подчинил себе Кирьяланд, Эйстланд, Кур–ланд, Финнланд и многие другие земли на востоке, и никому не позволял на них посягать. Вот почему его прозвали Эйриком Победоносным… А когда Эйрик умер, власть перешла к его старшему сыну Олафу. Сигрид в то же лето удалилась в свои владения и долго там жила, не принимая никого. И ей уже казалось, что жизнь кончена. Так продолжалось до тех пор… Ты слушаешь меня?!
— Да, слушаю, — сказал ты. В горле пересохло. — Только зачем мне это?
— Как зачем? Затем, что ты уже не чадо, князь, и должен знать, что такое любовь. Любовь змеи… Дай руку!
Рука ее была холодная, сухая, цепкая… И пусть! Тешься, змея, глумись, так даже лучше.
— Да! — Ингигерда покачала головой, задумалась. — Да! Так продолжалось до тех пор, пока однажды ее люди не сказали ей, что совсем неподалеку, в усадьбе Тороль–ва Гугнивого, остановился зимовать тот самый Харальд, который некогда… — Ингигерда замолчала, улыбнулась, сжала твою руку так, что занемели пальцы. Отпустила, снова улыбнулась. — Да, сколько лет уже прошло! И Сигрид поначалу тоже верила, что это так… И лишь на третий день, не выдержав, она призвала к себе Горма, конюшего, и приказала ему немедля ехать к Харальду и пригласить его на пир. Харальд прибыл в тот же день. Так как он совсем недавно вернулся из удачного похода в восточные страны, то он привез с собой великое число даров. Сигрид с благодарностью приняла их, а после проводила Харальда и его людей к пиршественному столу. Люди конунга много пили и ели в тот вечер, а Харальд и Сигрид сидели на престоле и, смеясь, вспоминали те две холодные и бесконечные зимы, когда они оба были еще так глупы! А потом, все так же смеясь, Сигрид проводила Харальда в опочивальню, где загодя стояло приготовленное высокое ложе с пологом из драгоценной ткани и укрытое златоткаными покрывалами. Харальд был сильно пьян, пьяна была и Сигрид, а вино в их крови — как огонь, а огонь — это юность, Всеслав! Ты слышишь? Юность!
Вновь ее рука впилась в тебя — да так, что ты невольно вскрикнул.
— Князь, что с тобой? — спросила Ингигерда, не разжимая своих пальцев. Облизнула губы, улыбнулась и подалась вперед.
Но ты вырвал руку. Сжал и разжал кулак. Глухо сказал:
— Ну, говори же ты! Я слушаю.
— Да, да. — Она тряхнула головой. — Да, говорю… Итак, вино — это огонь. Огонь сгорает, остается пепел. Когда конунг заснул, она ушла к себе. А утром все опять сошлись к столу, и С игр ид спросила, хорошо ли им здесь. Харальд ответил, что ему до того хорошо, что он намеревается остаться здесь навсегда. Здесь!! Навсегда! Не опускай глаза! Смотри!
Смотрел. И чувствовал — кружится голова.
А Ингигерда продолжала тихо, злобно:
— Он захотел остаться навсегда. Тогда Сигрид засмеялась и ответила: «Конунг, ты пьян и глуп! Ты разве мне ровня?!» Как ты, Всеслав, как твой отец… — Она запнулась, побледнела, но тотчас же тряхнула головой и продолжала, жарко, торопливо: — Харальд разгневался и приказал своим людям немедля собираться в дорогу. И, даже не заезжая к Торольву, направился в Норвегию. В ту зиму сельдь подходила к берегам по всей стране, и ее было столько, что даже старики ничего подобного не могли вспомнить. Все говорили: это добрый знак. Как Волхов, когда шел вспять, так, князь?!
Ты не ответил. Ты не мог ответить. Ты задыхался. Почему?!
— …А Сигрид все ждала его и заклинала, чтоб он скорей возвращался, хотя и знала, чем все это кончится, ибо она была змея. Змея, Всеслав! Медведя можно приручить, орла, и волка можно посадить на цепь и сделать из него собаку. Змея же сбрасывает кожу, а вместе с ней и все, что было в ее прежней жизни. Так и Сигрид. Когда Харальд весной опять явился к ней и вновь стал говорить о женитьбе, Сигрид повелела отвести ему и его людям большой старый дом, и убранство в том доме тоже было старое. А стол накрыли втрое лучше прежнего. И вновь люди конунга много пили и ели, а Харальд и Сигрид опять сидели на престоле. Сигрид была весела, то и дело наполняла ему кубок, а потом, когда конунг и его люди крепко заснули, она вышла из дома и приказала завалить дверь и все окна бревнами и хворостом и первой поднесла огонь…
Огонь! Огонь сжигал тебя! И руки скрючивал! Кипящей кровью заливал глаза!
— Слушай! Слушай! — едва ли не кричала Ингигерда. — Слушай! Вот почему она его убила! Олаф лгал, а может, просто не знал правды, когда рассказывал, будто его отец попал в ловушку, что все было подстроено по наущению датчан. Неправда! Змея сжигала свою кожу. Змее любить нельзя, змея — она и есть змея, змея — не женщина. Когда бы твой отец не отдал меня, увез с собой, я полюбила бы его… и убила! А так, Всеслав… — Поперхнулась, закашлялась, замолчала. Пот катился по ее лицу, взгляд ее был мутным, неподвижным.
— Змея, — сказал ты тихо. — Змея. Ты не отца, ты мать мою убила.
— Я?! — она вскрикнула и отшатнулась.
— Ты! — закричал ты исступленно. — Ты! Все знаю! Пятнадцать лет молчала бабушка, а уезжал я — поведала! И я… — Ты вскочил, тебя трясло, душило. — Убью! Убью!
И кинулся с мечом! Ударил! Еще! Рубил! Крошил!.. В глазах вдруг все померкло — и упал. Кричал:
— Убью! Убью–у–у!
Кровь клокотала, выл, зубами скрежетал, хотел встать — не смог. Ломило тебя, корежило, а после — словно обухом ударили.
…Очнулся. Ты лежал на лавке. Она, змея, склонясь над тобою, шептала:
— Изыди! Вот святый крест! Вот святый крест!..
А за окном светать начало. Ты — в Киеве, ты — старший по Владимиру, по прадеду. Застонал и слабо, едва слышно попросил:
— Пить!.. Пить…
— Сейчас, сейчас! — Она засуетилась. — Пить — это хорошо, бес, стало быть, не взял. И не возьмет теперь!
Ковш подала, сесть помогла. Ты пил захлебываясь, жадно. Вновь лег. Спросил:
— Что это?
— Спи! Зачем тебе? Спи, говорю. День придет, расскажу. Спи, спи. — Руку поднесла, закрыла глаза тебе, по щекам погладила, по лбу, зашептала: — Спи, князь, спи, чадо малое, спи, спи… — А пальцы у нее мягкие да теплые, брат говорил, у матери…
Заснул. Спал тяжело и долго — до полудня. Проснувшись, не вставал, лежал. Горел, слаб был, хотелось пить, и надо было бы позвать, да не решался. Скосил глаза, стол стоит, на нем свечной огарок, меч на полу. Все, стало быть, не сон. Пресвятый Боже! Хотел встать. Чуть.припод–нял голову — и тотчас же упал. Опять — как обухом по голове! Скрючило! Затрясло! Выл, кусал губы, падал.
Неожиданно кто–то навалился на тебя, в лавку вдавил, ножом раздвинул тебе челюсти и стал вливать в тебя что–то вонючее, звериное да жирное. Ты вырывался, кашлял, плевался.
И все словно рукой сняло! Глаза открылись. Свет. Двое над тобой стоят — Тхор, Кологрив. Боярин улыбнулся:
— Ну слава Богу, жив князь. А мы уже… Жив! Жив!
Ты сел. Тхор держал чашу с этим жирным, белым.
— Что это?
Тхор пожал плечами. Тогда ты нехотя взял чашу, пригубил, понюхал, посмотрел на Кологрива. Тот, помрачнев, сказал:
— Пей, князь.
Ты выпил. Противно, гадко… А Кологрив сказал:
— Мы утром приходили к тебе. Лежал ты, князь, как деревянный. Я веки поднимал тебе, ножом колол — не добудился. Ну, думал я… А тут зовут и говорят, она опять пришла.
— Кто?
— Она, сама. Спросила, спишь ли ты. «Да, — говорю, — и так крепко, что не поднять. Как бы чего не
. случилось». «И хорошо, — сказала она, — очень хорошо. Пусть спит, не трогайте. А как проснется, дайте ему еще». И подала…
— Так что это?
— Не знаю, князь, не знаю. И Тхор не знает, и никто. Не знаешь ведь?
— Нет, — ответил Тхор, — не знаю.
Лжет! Знает! И боярин тоже знает.
— Ляг, князь, ляг, отдохни. — Боярин взял тебя, как малого, и уложил, прижал. — Спи, князь, спи, — Держал и приговаривал, пока ты не заснул. Слаб был, потому и заснул. И впрямь как чадо, отведал молочка — и в сон.
Проснулся уже вечером. Боярин разбудил тебя:
— Вставай, она пришла.
Ты встал. Хотелось есть, но Кологрив сказал:
— Нельзя еще, терпи до ночи, — И ушел.
Вошла она. Змея! Снова села под божницу. А ты сидел на лавке у стены. Встал.
— Нет! Ляг, князь. Ты слаб еще. А хочешь, я свечу задую. Зачем нам свет? Змея да волк…
— Волк?
— Волк, Всеслав. Ты — волк. Или забыл уже? — Она улыбнулась печально.
Волк! Зажмурился. Сидел, оцепенев. Жар, дрожь не унимались.
— Ляг, князь, ляг, полегчает.
Лег. Голова кружилась. Качало, словно в колыбели, глаза сами собою закрывались… Нет–нет, нельзя! Лежал, взгляд не отводил.
Наконец она сказала:
— Убила, говоришь. Ее… Так расскажи мне, как, когда. Чего молчишь? Я знать хочу.
А ты не отвечал. Тогда она сказала:
— Могла убить. Могла. Я даже думала об этом. Но нет. Вот крест! — Она перекрестилась. — А вот еще. Еще. Довольно ли?.. Да что ты, онемел? Ведь отпустило же, я вижу.
И ты заговорил с трудом, словно выдавливал слова:
— Мать умерла из–за того, что ее белый волос душил. Белый, длинный, живой. Не волос то — змея. Он в шубе прятался. Но бабушка нашла его и раздавила, да только поздно уже было. — Лежал, не мог пошевелиться. Подумал: так, наверное, смерть приходит…
А она, змея эта, свистящим шепотом спросила:
— И этот волос — мой, так, да?
Ты коротко кивнул. Она задумалась, смотрела не мигая. Потом тихо сказала:
— Чадо! Чадо… Вернись спроси у бабушки, зачем душой кривить? Ведь знает же она, чей это волос, знает! — Быстро поднялась, вышла вон, дверью хлопнула. И тишина. Лежал. Думал, может, оно к лучшему…
Кологрив вошел. Сел в изголовье, улыбнулся, сказал:
— Когда бы не она, не жил бы ты. Она да оберег. Да молоко… А я, винюсь, проспал тебя. Она разбудила, растолкала. Говорит: «Беги, неси!» — «Да где же взять его?! И грех какой!» — «Беги! Не то помрет!» Я побежал, нашел. Теперь, князь, будешь жить, всех нас переживешь.
А ты лежал, закрыв глаза. Жив, князь, и будешь жить. Проснешься утром бодрый, сильный, сойдешь с крыльца, подадут тебе коня, поедешь к дяде, и он еловой лишним не обмолвится, не улыбнется даже, как будто ничего и не случилось.
Открыл глаза. Ска;зал:
— Пора!
— Да что ты, князь?!
— Пора, я говорю! Пора, пока не обложили. Дай руку! Ну!.. — И оскалился.
Ушли, как волки, ночью, скрытно. Вверх по Днепру, на волоки, вниз по Двине. Гребли, словно за ними кто–то гнался. Пришли…
Да не успели. Нет бабушки. Сожгли ее, насыпали над ней курган и тризну уже справили: она так повелела. Владыку выгнала и причащаться отказалась. Сказала:
— Нет Того! И не было. Чужая это вера, пришлая. Хочу как мать моя, как бабушка, как весь мой род…
Сожгли, перечить не посмели. А отчего она так неожиданно, скоропостижно, никто не знал. Ушла, и все, и нет ее. И ты — один теперь со всей своей болью. Один, как волк. Нет, просто волк. Тот князь, князь–человек Всеслав, сын Брячислава Изяславича, Изяславов внук, правнук Владимира, праправнук Святослава, умер в Киеве, а этот там же и родился, в ту ночь, когда она, змея, поила его волчьим молоком. Да, волчьим, потому что только зверь мог хворь ту одолеть, волк беса жрал, и отступила смерть, и ты, Всеслав, князь–волк, родился. Спасла она, змея, тебя, жизнь подарила. Живи, князь, правь, но знай, что ты уже не человек.
Нет! Не верил ты. Ходил по колдунам, по ведунам и в храме каялся, и епитимью принимал, смирял себя. А зверь — он только дальше, глубже забивался, скулил, царапался — и жил! Пустынник Ксенофонт сказал:
— Когда бы бес, изогнал бы я его, а так… Живи, князь, мучайся. Господь терпел и нам велел.
Терпел. Молчал. Ходил в поход на невров, рубился зло, искал Ее — да не брала Она. Значит, не срок. Вернулся. А тут Илья сгорел! Дотла. И прах отца и матери, и дяди, деда — все по ветру. Ну вот, теперь совсем один. Кто говорил, что подожгли, кто говорил, что молния ударила… Ведь ночь была! Поди теперь узнай. Утром стоял ты на еще жарком пепелище. Слез не было. Отец тому два года говорил: «Плачь, сын…» И впрямь, какое это счастье — слезы. Да что теперь! Сказал, нет, приказал:
— Ушел Илья — придет София. Здесь будем ставить, здесь!
1 — Такую же, как в Киеве?
— Нет, благолепнее!
И ставили. Пять, десять лет прошло — и поднялась она, красавица, Святая София Премудрость Божья. А тот, князь Ярослав, мудреный переклюка, уже лежал в земле, и та — змея ли, нет, кто теперь скажет, — и она ушла навек. А сыновья их поделили отчину. Потом, как, умер Вячеслав, переделили. После Игоря еще раз переделили… И уже трое крепко сели и ощерились: князь Изяслав, как старший, — в Киеве, и Новгород за ним; князю Святославу Чернигов и Волынь достались, а младший, Всеволод, любимый Ярославов сын — в Переяс–лавле, рядом сел. А Ростислав, племянник их, бежал в Тмутаракань и там остался. Ходили его ссаживать — отбился. Князь Ростислав, сын самого старшего из Яро–славичей — Владимира, давно уже усопшего, еще при Ярославе стал изгоем, выпал из гнезда, он не в седле, он — словно Брячислав при Ярославе: его потом не то убьют, не то отравят корсуняне. Но так ли это, нет, кто узнает. А племя же его — Василько, Рюрик, Воло–дарь — еще дядьям своим припомнят! Но то когда еще будет. И не твоя это, а Ярославичей беда. Ты же, князь полтеский Всеслав, сам по себе, ходишь воевать литву, ятвягов, невров, ты и варяжишь, с Харальдом братаешься. Щедр Харальд, храбр, меч, Олафом подаренный, не посрамил. И сыновья у Харальда на зависть, и жена… И как–то раз, на пиру, она, Елизавета Ярославна, сказала:
— Женился б ты, Всеслав. Вон сколько уже лет тебе, а все как волк. Ведь волк ты, говорят? — И засмеялась.
— Волк, волк. — Ты даже почернел. — Твоим братьям, змеенышам, на страх! — И, чаши, блюда разметав, встал и пошел к двери.
— Всеслав! Ты что, Всеслав?!
Ушел… А после уже Харальду сказал:
— Прости. И впрямь я словно волк вчера.
Тот мрачно улыбнулся:
— Все мы волки.
Волки… Да, истинно! Зверье поганое да кровожадное. А мним себя людьми. Христолюбивыми! И тешим себя надеждами, и презираем ближнего, и — вверх и только вверх! И забываем Моислава Мазовецкого. Князь Моислав, разбитый Казимиром, бежал и взят был пруссами, не раз уже обманутыми им, и те ему сказали: «Ты, князь, нас подбивал на брань, мы слушали тебя, шли За тобой, и теперь мы здесь, внизу, в грязи, а ты опять пришел? Вновь домогаешься высокого? Так получи!» И наклонили пруссы две березы и привязали Моислава к двум вершинам…
А ты, Всеславе, к Моиславу так и не пришел, а ведь обещал! Вот каково оно — других–то попрекать. А сам?!
Шум внизу! Нет, во дворе. Вскочил Всеслав, подошел к окну, встал так, чтобы его не видели, выглянул.
Пришли, шумят возле конюшен: это Горяй своих привел. Считал Всеслав: пятнадцать, двадцать… двадцать два меча. И то. Пробился, значит. Или так прошел? Нет, злы и веселы они, топтали, значит. Ну, вот и началось оно… Стоял, смотрел в окно. Идут. Важен Горяю что–то объясняет, тот слушает вполуха, хмурится…
На Горяе броня ромейская так и горит, и борода, усы — руда рудой. И сам боярин как огонь, зубаст, науськивать не надо. Князь усмехнулся. Прошлым летом от свеев прибыли, просили: «Уйми пса своего! Сошел на берег, жег, чуть откупились мы…» А что ответить? Обещал. Они благодарили. Вот таковы теперь варяги стали! Как Харальд в землю лег, так словно все с собой забрал — и дерзость, и умение, и жар в крови. Кто Харальду Суровому наследовал? Да Олаф Тихий. Тихий! То–то и оно. Да, говорят, при Тихом стало сытно: и сельдь шла к берегу, и хлеб родился хорошо, и печи уже ставили, и пол соломой устилали круглый год, а не как прежде — только в холода. А умер Тихий, явился Голоногий. Тьфу! Вырождаются. Прости мя, Господи!
Вошел Горяй, стало слышно, что внизу шумят. А солнце уже вон как низко опустилось — за тын цепляется. И третий день, отпущенный тебе, уходит, князь. Неклюд, поди, добрался до Берестья, и Святополк, сын Изяслава Ярославича, князь киевский, Великий князь… поверил ли? Приманка–то колючая, и день ему тот помнится, когда он прямо отсюда бежал через Лживые Врата и зайцем прыгал на ладью. Нет, не стреляли вслед ему, не велел, ибо не ем зайчатину, суха она, горька.
Усмехнулся князь, но не тому, что было, а тому, что будет. И в угол посмотрел, за печь. Темно там, ничего не видно. Да и нельзя Ее узреть, а можно лишь учуять.
Князь поежился. Нет там Ее, не срок еще. И подошел К божнице. Лшс, едва видимый, лампадкой освещен.
Ш–шух! — за спиной. Ш–шух. Ш–шух. И половица скрипнула.
Нет, не Она, Бережко балует. И пусть. Ему здесь жить, он здесь хозяин. А мы — все пришлые.
Ш–шух… Ш–шух… Затихло. Князь вытер пот со лба, перекрестился… Из–за двери послышалось:
— Князь!.. Князь!
Игнат зовет. Шум в гриднице, пришли.
— Иду! Иду!
Шапку надел, корзно, поправил меч — и вышел к ним. Горяй, а с ним Дервян и Ведияр, десятники его. Приветствуют. И он им отвечает. Стол уже накрыт, князь пригласил, сели. Игнат налил вина. Князь поднял рог, сказал:
— За вас, мужи мои!
— Нет, за тебя! — сказал Горяй.
— Ну, за меня, — согласился Всеслав.
И выпили. Ели. Молчали. Еще раз выпили, теперь уже за них. Снова молча ели. Игнат прислуживал. Князь ждал, Горяй не начинал. Мясо было пережарено, вино — подкисшее, но им–то что, едят и будут есть до ночи и всю ночь, и будут пить и не хмелеть, и слова не промолвят, ибо не в деда ты, Горяй, дед твой, боярин Кологрив, тот был… И усмехнулся князь, недобро усмехнулся, спросил:
— А Туча где?
Горяй поднял глаза, пожал плечами.
Пять лет тому назад сдерзил Горяй — и долго после одним глазом смотрел, сопел, да кроток был! Так то пять лет тому!..
Игнат еще налил. И выпили — без здравицы. Дурной то знак. И, закусив, Всеслав опять спросил:
— Как там, внизу?
— Сидят, — сказал Игнат.
Всеслав прислушался. И на Горяя посмотрел, тот — на десятников, на князя, не выдержал, покрылся пятнами и нехотя сказал:
— Сходите, соколы, проведайте, как там, внизу.
Ушли они. Князь, помолчав, сказал:
— Вот то–то же. И впредь, Горяй, без спросу чернь не води.
— А самому? Ходить к тебе?
— Ходить, — Всеслав кивнул, — ходить. Да только в срок, Горяй.
— А я, — Горяй побагровел, — не в срок?! И Тучи еще нет, и Хворостеня нет…
— И Тучи нет, — опять кивнул Всеслав. — Но Туча кто? Вот! — Он брякнул кулаком об стол. — А Хворостень? Ну, тот, сам знаешь кто… Но ты, Горяй! Ты пришел. Огонь тушить, когда уже и крыша занялась?! А где ты утром был? А где вчера? Ты думаешь, что я не знаю ничего, не понимаю и не вижу? Или… — И усмехнулся князь, тихо сказал: — Или меня уже и нет? Ну, говори!
Молчал Горяй и только зыркал зло. А князь опять спросил:
— Так? Нет?
— Так! — сказал Горяй. — Так! — Трясло его, побелел, а говорил: — Да, так! Навь ты. Давно уже. Это когда человек помирает, тогда ему и смерть. А князю смерть, когда он без меча, без дел великих, без… — И замолчал Горяй — словно поперхнулся.
Всеслав задумчиво сказал:
— Я — навь… Тогда зачем ты шел ко мне?
— Я не к тебе, Всеслав! Я — против веча, к князю. А кто здесь князь — ты или кто из сыновей твоих…
— Из сыновей! Вот–вот!
— Да, князь, из сыновей. Давыд придет, буду ему служить. А Глеб — так, значит, Глебу. Да я уже сейчас им, не тебе служу.
— И хорошо, Горяй, мне большего не надо. Я и сам, как ты. Давно уже. Служу, иду при стременах сыновьих.
— Не видно что–то, князь!
— И хорошо, если не видно. И хорошо!.. Вот сколько тебе лет, Горяй! Есть сорок?
— Есть.
Всеслав глаза прикрыл, сказал:
— Когда бы мне сейчас при том, что знаю я, да сорок лет было! Тогда, в мои–то сорок лет, и Святослава уже не было, и Изяслава, и только Всеволод…
— Да сын его!
— Да сын. Владимир–князь, ромеич. Как же, помню! Ведь это он тогда поганых наводил. С него все началось, а не с Олега Святославича. Поганые! — Князь зло прищурился. — И затворились мы, и отсидеться думали… Не видел ты того, Горяй, и не увидишь.
Что это? Шум, топот, кто–то поднимается по лестнице. Вскочил Всеслав, Горяй вскочил, руки — к мечам.
Ввалился Туча! Мокрый, злой, без шлема. С порога закричал:
— Князь! Идут! Я — первый. Мост подожгли — я вплавь. Я им…
— Сядь! — гаркнул князь. — Сядь, говорю!
«Сел Туча, сплюнул в сторону. Утерся рукавом, маленько отдышался, взял поданный Игнатом рог и выпил разом. Крякнул. Сказал уже спокойнее:
— Идут! Нарубят мяса!
— Туча!
— Да поднялись мои! Стояли, не пускали. Мост подожгли. Ну, я и указал. В Полоту их бросали, топили. Бьют и теперь, бегут они. А я — сразу к тебе. Вот люд какой, осатанел! Налей, Игнат.
Налил. Теперь Туча пил медленно, с удовольствием, с передышками. Допил, сказал:
— Подкисло. Ну да ладно. А поднялись мои! А целый день молчали. А ты как?
— Так и я, — зло ответил Горяй. — Только мои с утра еще шумели.
— Этак лучше! А я собрался выезжать, гляжу… — Запыхтел боярин, задумался, а может, просто захмелел. Был Туча слаб, быстро хмелел. И вообще толст, прост.
— Сколько привел? — спросил Горяй.
— Не меньше твоего. А Хворостень, — Тут Туча снова оживился: — А это я его спровадил! Когда узнал, что он шатается, послал сказать: вот Глеб придет… — Осекся, выпучил глаза, привстал даже.
— Сиди, сиди, — насмешливо сказал Всеслав. — Так, говоришь, Глеб придет. Всеславич, да?
— Всеславич, князь, — растерянно ответил Туча.
— Значит, Глеба ждешь?
— Я, князь…
— Ты не виляй! Так Глеба, да? Или Давыда? Или Ростислава? Да и Борис хорош. Хор–рош! — усмехнулся князь недобро. Туча набычился, засопел, ответил:
— Ты князь, тебе решать. А мы кто? Подневольные.
Князь засмеялся.
— Подневольные! А кто неволит вас? Я, что ли? Чем?
Молчал боярин, тяжело дышал. Горяй сказал:
— Он не посмеет, князь, не жди. А я скажу: неволишь тем…
— Горяй! — Всеслав вскочил. — Что, и тебя неволю?!
— Нет, почему? Я волен, князь!
— А волен, так иди! И ты иди! — Князь, распалясь, уже почти кричал: — Да не пойдете, нет! Как тихо все, вам князь — не князь, видали, мол. И зубоскалите, дерзите. А как проспали, время упустили, так бегом сюда! Почуяли, что порознь уже не отсидеться, что их уже не удержать и что завтра не вы их, они вас в Полоту загонят, топить будут, топтать. А если кто и остановит их, так это я. — Да, только я! — И князь ударил кулаком, загремели мисы, чаши, кубки. — Я, — сказал он уже тихо, — я… А для кого? Да все для тех, при чьих я стременах… — Сел, обхватил руками голову. Долго молчал.
Туча, не выдержав, спросил:
— Ты у Любима был, что он сказал?
— Не он, а я сказал, позвал на ряд.
— Кого?!
— Всех. К Зовуну.
— Как это, князь? А мы тогда зачем пришли?
— Затем, что завтра — не последний день. Ум — хорошо, а ум да при мече… Ждать, соколы, — вот вы зачем пришли! — И встал из–за стола. — Вот, стол накрыт. Игнат еще подаст. А я… — Не договорил, махнул рукой, пошел.
Все видел, а шел, словно слепой. И ногами шаркал, и голова тряслась, и все внутри горело. И хорошо это, ляжешь, князь, сразу же заснешь…
Лег. И не спал конечно же. Да разве тут заснешь?! Лежал и, затаившись зверем, слушал. Долго было тихо за стеной, очень долго. Потом, когда, видно, решили, что заснул, заговорили. Вот Туча говорит. А вот Горяй… Но слов не слышно. И не надо. Уйти решат — пускай уходят. Решат задавить… Князь усмехнулся, посмотрел на печь. Стоит за ней, небось ждет, думает: зря обещала я, он нынче уже мой, да и потом ведь обещала только на словах, а крест не целовала. А хотя бы и крест, вон Ярославичи покойные, те целовали и клялись, призывали: «Брат! Ждем мы тебя!», а он, овца… поверил.
Князь заворочался. Кому овца, а кому зверь. Неволю я их! Чем? Да тем уже, что жив ты, князь, а уходить нужно в свой срок, когда зовут, а ты всю жизнь ловчил, вертелся да выгадывал… Вот снова Туча говорит. А сейчас Горяй… Заспорили! Вдруг Она возьмет да передумает, нашепчет им да наведет, и ты, как сват, вскочить даже не сможешь, а только захрипишь…
Встают! Идут! Железо брякнуло… Нет, князь! Не всякому дано зарезать сонного! Ушли они. Тихо. Темно. Зажечь, что ли, лучину, взять книгу и прочесть: «Царь Александр был…»
Нет! Нечего вставать. Ты отходил свое. Теперь лежи и жди. И слушай. Тишина–то какая! Ночь, тепло уже, весна. Ведь весной–то все и началось, а ты того не знал, хоть сам все и задумал. Вот так же перед Ярилой–коноводом отправил гонца к Гимбуту сказать: «Зашлю сватов». Гимбут ответил: «Сам иди! Иначе не получишь».
И ты пошел. Снега уже сошли, была распутица, даже купцы и те только зимою в Литву ходят, потому Гимбут и сказал: «Иди», был уверен, что еще долго ты не сунешься. Но оттого ты и пошел, знал — не ждут. Шли скрытно, по ночам. Ладей не брали — на челнах. И долго шли, болотами, протоками, заросшими озерами. А набредали на кого — не жгли, но и не упускали, резали. Вышли к Кернову! И сразу в клич:
— Бей вижосов! Руби!
И взяли на копье. Гимбут выбежал, ушел едва ли не сам–перст. А мог и не уйти, но дали. И встали на костях, не жгли, не грабили. Более того, Перкунаса уважили, ты повелел, отвели на капище семерых полоненных литовских бояр и там заклали их. Перкунас жертву принял. Потом, через три дня, Гимбут пришел и дочь свою привел, Альдону. Литва расположилась станом, и было много их, но ты опять велел сказать: «Отдай!» От Гим–бута ответили: «Бери!» И вывели ее. Видел ты, стоит возле шатра Альдона, высокая, стройная, головной венец на ней огнем горит на ярком солнце, а перед ней стеной — литва. Плечом к плечу, мечом к мечу. Почуял ты, загонщики то!.. И все же приказал:
— Коня!
И выехал. Один, без шлема, без кольчуги. Рога завыли, ты так повелел, дико, по–волчьи. Конь под тобой храпел, грыз удила, бесновалась литва, потрясала мечами, кричала. А ты слышал одни лишь рога, волчий вой, видел только ее. И ехал ты, меча не обнажал, щита не поднимал, смотрел поверх голов. И наехал бы ты, и стащили б тебя, разорвали б, сожгли б…
Но Гимбут крикнул им:
— Прочь! Волк идет!
И расступились они, ты проехал — ряды сомкнулись. И знал ты, князь, к чему это, но поворачивать не стал, да и не дали бы уже. Подъехал, сошел. Ноги не гнулись. Оборотился к Гимбуту, сказал:
— Вот я, князь полтеский Всеслав, пришел просить тебя… — И замолчал. Противно было говорить. «Просить»!
А Гимбут засмеялся.
— Бери. Если довольно сил.
Альдона была словно неживая. Стояла, сложив руки на груди, сжав кулаки, чуть–чуть склонив голову, опустив веки. Венец на ней золотой, усыпанный каменьями. И косы словно золото. Ты подошел к Альдоне, и она не шелохнулась, поднял руку, снял с нее венец… И бросил его Гимбуту, сказав:
— Вот моя плата за нее!
— И что, это все?! — спросил Гимбут.
— Нет. Еще Кернов. Кернов мне не нужен. Уйду — бери его.
— А… кровь?
— Что «кровь»?
— Твоя, князь, кровь? Ее хочу… Альдона! — крикнул Гимбут.
Ты резко обернулся. В руке Альдоны блеснул нож. А ты был без кольчуги, князь. А нож едва не упирался в грудь. И тишина наступила, такая тишина! Ждали небось, что кинешься, а то и упадешь. Ты не выдержал и рассмеялся, громко и презрительно. Литва хоробрая, вот я один против тебя, я, волк, Железный Волк, как вы меня прозвали, то, что беру, не отдаю, зубов не разжимаю. И протянул к ней руки. Альдона вздрогнула и отступила. Ты наступал. Ее рука рванулась вверх, и нож уперся в горло — ей. А горло было белое, как снег, и губы стали белые.
Зажмурилась Альдона! Ты снова приблизился. И осторожно, как дитя, взял ее на руки. Литва молчала, онемев, не зная, как поступить.
А ты уже поднес ее к коню и усадил в седло, затем сел сам. Все делал не спеша. Альдона нож не убирала, нож возле горла держала. Гимбут стоял, как столб, шептал что–то, клял дочь небось. Пресвятый Боже! Я весь в руце Твоей, я раб Твой, червь.
Нет! Спас Ты, Господи, от сечи нас отвел. Альдона вдруг заговорила:
— Отец! Я и Всеслав зовем тебя и всех твоих лучших людей к себе на пир. Я так сказала, муж мой?
— Так…
И был в Кернове богатый пир, и пили алус, и клялись, и шли к Перкунасу, и там опять клялись, и возлагали щедрые дары, а в Полтеске, в красавице Софии, Апьдону окрестили Анной. А после венчания снова пир, а после пира, здесь уже, она вон там остановилась и сказала:
— Зябну. Дай мне шубу.
Ты засмеялся.
— Шубу? Душа моя…
— Да, шубу! Белую. Мою.
Ты думал, что ослышался. Ты сделал вид, что ничего не понял, взял ее за руку.
— Всеслав, — сказала она тихо, — дай мне шубу. Ту самую, из белых соболей.
Ты отшатнулся и спросил:
— Ты знаешь хоть?..
— Да, — торопливо сказала она, — я все знаю. Но я ведь отныне княгиня. Так, князь?
— Душа моя! — Уступил ты ей.
Вот какова была она, жена твоя, душа твоя, солнце твое. И вот каков тогда был ты. И вот кто правил в то время Полтеском, на храмы щедро жертвовал, гостям подарки дарил и для сирых не скупился на подаяния. Мир, покой воцарился, народ был сыт. Давыд родился, Глеб. В тот год, когда родился Глеб, пришел посол от Ярославичей, Коснячко, тысяцкий. Дядья оказали честь — призвали в Степь, на торков, на поганых. Ты, выслушав посла, сказал:
— Нет, не пойду. Мною обговорено уже с литвой по Двине идти. А за дары земной поклон дядьям, добры они ко мне.
На что Коснячко отвечал:
— Так, князь, все так. Двина — река богатая. Но есть еще другие реки. И города другие есть, и познатнее Полтеска и Кернова. Но то — другим князьям. Да, кому Русь, кому… Ну что ж, будь здоров, Всеслав!
И поднял рог. И выпили. И больше ни о чем не говорили, а только об охоте да мечах, о лошадях — обо всем, о чем пристало беседовать тогда, когда о прочем все и так уже обговорено.
А вечером, уже хмельной, отъехал тысяцкий Коснячко. Подняли они парус, сели к веслам — погнали ладью вверх по течению, а там по волокам да по Днепру.
А ты, Всеслав, сидел за уже прибранным столом, смотрел перед собой, молчал. Совсем стемнело, ночь пришла, все спят. Один сидел, как настоящий князь. Еще отец говаривал: «Мечами рубят, словами вяжут, а посему не слушай никого, смерть от меча почетнее». Ты и не слушаешь, ты ищешь, ты сам с собою держишь ряд, ибо с кем еще посоветоваться, кого спросить? Был Кологрив, да нет его. А кто еще? Пресвятый Боже! Наставь меня, не дай мне оступиться, зверь жрет меня, зверь мутит разум.
— Всеслав! — — послышалось за спиной. — Ночь, спать пора.
Она! Пришла. Сидел, не повернув головы, зверь жрал тебя, в висках стучало.
— Всеслав! — Положила руку ему на плечо. — Ведь я это, Всеслав…
Закрыл глаза. Вжал руки в стол. Молчал. Потом сказал:
— Устал, душа моя. Дай пить… Из–за божницы.
Принесла. Ты выпил. Отпустило. Водица была теплая, безвкусная. Ее Игнат, мальчонка, приносил, из–за водицы ты его и взял, старцы надоумили. Водицей лишь и пробавлялся. Зверь от водицы кроток становился. Мальчонка говорил:
— Она его отводит. Пей, князь.
Княгине же никто ни слова не сказал. Да и зачем ей говорить, когда она и так все понимала. Бывало, ты проснешься ночью, видишь, она сидит, руки сложив, а то шепчет что–то по–своему. Ты спросишь:
— Что с тобой, душа моя?
Она ответит:
— Нет, все хорошо. Просто не спится.
— Сон был дурной?
— Нет, я не вижу снов. Спи, муж мой, спи…
А в ночь после того, как отъехал Коснячко, а вы ушли к себе и погасили свет… она сказала вдруг:
— Зачем мне спать? Вся жизнь моя как сон! — И оттолкнула твою руку.
А ты тогда, озлясь, спросил:
— Что, страшный сон?
— Да, очень. Вот сплю и знаю, проснусь, увижу — рядом лежит зверь, и этот зверь сожрет меня, и страшно мне, и спать уже невмочь, а проснуться и того хуже. — Упала и заплакала.
И ты упал. Лежал, сжав зубы, гладил ее волосы, шею, а шея была тонкая и нежная, волосы тяжелые, длинные. Пальцы твои сами собой сжимались, разжимались, а зверь уже не шептал, выл! рвал тебя!
Вскочил! Пал на колени, закричал:
— Пресвятый Боже! За что ты меня так? За что?!
А больше ничего не помнишь. Наутро встал так,
словно постарел на двадцать лет. Есть–пить не мог. Попросил:
— Прости меня, душа моя, мне жить нельзя.
Она молчала, была белая как снег. Вышел, велел, чтоб собирали вече. Там сказал:
— Коль не вернусь, Давыду быть после меня. До тех же пор, пока он не в годах, жена, вдова моя, для вас как я!
И покорились. Закричали:
— Любо!
Тогда никто и в мыслях не держал тебе перечить.
Дружину взял, в Киев пришел. И было на тебе корзно с волчьей опушкой, ты застегнул его на левом плече. Князь Святослав Черниговский сказал:
— Зверь да левша еще. Бог шельму метит!
Братья засмеялись. А ты с ладьи сходил, не слышал. А
после вы, князья, три да один, сошлись, обнялись, облобызались под славный колокольный звон. Потом князь Изяслав, Великий князь, старший из вас, звал на почестей пир, где много было сказано и еще больше съедено и выпито, но правды было еще меньше, чем тогда, когда ты в первый раз сидел за тем столом с теми, кого уже снесли к Киевской Софии. Отпировав, еще три дня ждали, пока сойдутся земцы, вой, — и двинулись, кто на ладьях, кто конно, берегом. Дойдя до Сулы, повернули в Степь…
И хоть бы раз сошлись, сшиблись бы! Нет, побежали торки, бросали станы, табуны, колодников. Добро и то с собой не брали. Где их искать? Степь велика! Тогда спустились к Лукоморью и выжгли все, чтоб негде было торкам зимовать, потому что луга в Лукоморье знатные, там и зимой трава стоит высокая. И двинулись на Русь. Шли, пировали. А как не пировать, когда добра полон обоз?! И как–то раз, когда почти уже пришли, и ночь была теплая, и полная луна смотрела на землю, и зелено вино лилось рекой, спал уже Всеволод, а Святослав молчал — он грузен стал, неповоротлив, Изяслав, князь киевский, Великий князь, сказал:
— Вот как оно повернулось! Мечей не окропив, не обнажив даже, — домой. Зря, брат, тревожил я тебя. Зря! Зря!
А ты, Всеслав, ответил:
— Ну почему же? Был я при тебе, ел–пил, шел стремя в стремя, а обнажить мечи еще успеем.
— Успеем! — засмеялся Изяслав. Он пьян был, ничего не понял.
А Святослав недобро усмехнулся и спросил:
— И окропим?
— И окропим, брат, непременно, — ответил ты.
— Выпьем за то?
— А как же, брат, и выпьем.
Выпили. И улыбался Святослав, молчал. Спал Всеволод. А Изяслав смеялся. Он прост был, Изяслав. И говорил:
— Я бы не звал тебя, мы бы и сами справились, да Святослав сказал: «Он что, не брат нам, что ли? Честь брату оказать — и сам в чести!» Так ты сказал?
— Так, — Святослав кивнул.
И ты, Всеслав, сказал:
— Так, братья, так. — И засмеялся, громко и надменно. Ибо терпеть уже не мог: зверь жрал тебя и под руку толкал. Но сдюжил ты, меча не взял, а встал, сказал: — Так, братья! Спасибо вам за все. Пойду теперь.
— Куда? — не понял Изяслав. — Сядь, ешь да пей.
— Нет, я сыт. Довольно. Уж похлебал из вашего котла, побегал по Степи, как пес при стремени, наслушался.
— Да что ты мелешь, брат?! — вскричал Изяслав. И почернел Великий князь, и протрезвел сразу. Всеволод вскочил, ничего понять не может. Один лишь Святослав сидит, окаменев, и усмехается, и ждет.
Нет, не дождешься! Гнев спал, и кулаки разжались. Зверь утихомирился. Ночь, тишина, костер. И не один ты был: ведь отец за тобою стоял, и дед, и прадед Рогволод, и все, от Буса начиная, вся Земля, и все мечи, вся кровь Ее, — все за тобой! И ты, Всеслав, сказал, как мог, спокойнее:
— Уйду. Дружину уведу. И больше не зовите. Не брат я вам — изгой, варяжский крестник, волчий выкормыш. Ведь так вы меж собой зовете меня? Так не шепчитесь более, а говорите прямо. И зачем призывали, скажите. Прикормить, приручить… Только зря. Был я один и буду один. А вы… — И задохнулся. Затрясло тебя. Вот–вот одолеет зверь. И рука потянулась к мечу. Нет! Совладал с собой. Стоял: пот застилал глаза.
Молчал князь Всеволод. Скривился Изяслав, проговорил надменно:
— Пьян ты! Сядь лучше.
— Нет! — крикнул Святослав. — Он не пьян. Ты пьян, а он… Он дело говорит! Он… волк! Да я — выжлятник! Ур–р! Ур–р! — Вскочил, меч выхватил.
Гикнул Всеволод, набежали гриди. Хрипел князь Святослав, кричал, грозил, удержали. А ты, Всеслав, повторил:
— Да, волк я. Одинец. Сам по себе. А вы…
Выл Святослав, катался по земле, бил гридей, вырывался. И Всеволод вскричал:
— Уйди, Всеслав! Не доводи!
— Уйду, уйду, — проговорил Всеслав. И закричал: — Я–то уйду, а вы здесь, при Степи, останетесь! Сгинут торки, другие придут! Вам на погибель!
Ушел. Увел дружину. Пришел к себе, там, на Двине уже, ты только и остыл. Сказал жене:
— Вот, не берет Она. Хоть ты прими. — И склонил голову.
Обняла она тебя, заплакала. Давыд рядом стоял, Глеба держал. И плакала она у тебя на плече, и ее слезы смыли гнев, остался только стыд, стыд перед ней да сыновьями, перед родом. А гнев на тех… Что гневаться? Пустое. Ты — волк, они — змееныши, откуда быть любви? Зря, князь, ходил, зря клял, грех это — зла желать. И наперед тебе…
Как вдруг, зимой уже, известие! С купцами. Торки ушли, откочевали за Дунай, ромеям покорились. Зато пришла орда. Вся Степь в кибитках, вежах. Привел их хан Секал. Был тот С екал голубоглаз и белолиц, желтоволос, словно полова, солома. Их так и стали называть — половцы. И та полова двинулась на Русь. И вышел ей навстречу Всеволод и был побит, едва спасся. Ходил голубоглазый хан по его землям, жег, грабил, брал полон и приговаривал:
— Попросит князь, тогда уйду.
Откупился Всеволод, не поскупился, ушел Секал. Но года не минуло — опять пошел, теперь уже на Изяслава, пожег, пограбил и ушел. Повадилась полова. Били их, они опять приходили, их снова били, жгли, разоряли вежи, брали в плен, а они — снова на Русь. И как нападут они, так говорят о них:
— Опять Волк поганых накликал.
Вот и выходит! Мечами рубят, а словами вяжут, твоими же словами, князь. Волк ты! Мор на Руси, разбой, полова рыщет. Волхов пять дней тек вспять, звезды с неба сыпались, на Сетомле выловили рыбу: не в чешуе она была, а в волосах, как человек. Убоявшись, бросили ее, она обратно в реку уползла, след от нее был весь в крови. И шептались люди:
— Ждите! За грехи ваши расплата грядет!
И ждали. Знали, кого ждать. А ты, Всеслав, понимал: не миновать, рога уже трубят… Гимбут, приезжая, говорил:
— Теперь–то что сидеть? Скажи, я пособлю. Не то не мы пойдем — так к нам придут и передушат.
А ты смеялся, отвечал:
— Не срок еще, не срок.
Ты знака ждал. Какого, сам еще не знал. И пировал пока. Охотился. Табун коней угорских купил, пригнали через ляхов. И снова пировал. Альдона по ночам молилась, а ты лежал, делал вид, что крепко спишь. Ладьи пришли из Уппсалы, на тех ладьях — мечи, кольчуги, сбруя. А ты опять на озера хаживал, бил гусей. Гуси уже отлетели, и ночи стали холодней, и первый снег выпал. А Гимбут вновь сказал:
— Смотри, Всеслав! Когда гром грянет, поздно будет.
— Так гром уже гремел.
— Мстислав — не гром.
Мстислав — сын дяди Изяслава. Посажен ими в Плескове. Сперва тихо сидел, а прошлым летом вдруг взял малую дружину, пошел на волоки. Он после говорил, что, мол, купцов его пограбили, шел замирять. Где ж те купцы, кто грабил их?! Ты повелел, отогнали Изя–славича, приступили даже к Плескову, огни метали, жгли. Мстислав крест целовал, винился — тем и кончилось. И ты молчал, и Ярославичи того не поминали, год с той поры прошел. И вдруг был тебе сон, короткий. Из темноты неожиданно появился Ратибор, сказал: «Брат, я ушел, владей!» Ты вскочил! Ночь. У костра все спят. Ты сошел к воде, лед проломил, напился. Потом стоял, смотрел во тьму и долго думал. А когда вернулся, Гимбут не спал уже, сидел и молча на тебя смотрел. И ты сказал ему: «Езжай!» И в тот же день отъехал Гимбут, и младших взял с собой, Бориса с Ростиславом, а воев, которых привел с собой из Литвы, оставил. Старшие, Давыд и Глеб Всеславичи, остались в Полтеске, град без князей — не град.
Идти пора! Скоро ты собрался и всех собрал. В последний день перед походом встал затемно, парился в мыльне, обедню отстоял. Потом накрыли стол для всех. Шумели все, ты молчал, немного посидел, ушел к себе. Игнат, когда стелил тебе, сказал:
— Князь, Лепке ждет.
— Рабов привел? Поздно! Гони его.
Лег. Крепко спал. Весь день проспал. И это хорошо перед дорогой, отдохнул. Проснулся с первою звездой. Оделся. А Игнат опять:
— Князь, Лепке…
— Вон! Я ж сказал — вон!
И, оттолкнув Игната, вышел в гридницу. Лепке, сидевший у стены, вскочил и поклонился. Был этот Лепке маленький, короткорукий, толстый, серолицый, всегда в кольчуге, с мечом, в длиннополом сером плаще. И ходил боком, крадучись, а пальцы — толстые, короткие да цепкие.
— Ну, что тебе? — спросил ты зло. — Ну, говори!
Лепке смотрел, моргал. Смотрел, однако, насмешливо! Купить за марку, продать за гривну, а после подстеречь и снова взять…
— Ну, говори же ты!
Но опять Лепке промолчал. Только моргал. Потом сказал:
— А что тут говорить? Да, я привел товар. Отборный. Но ты, я вижу, думаешь найти дешевле.
— Да! — ответил ты. — И я спешу.
— Дешевле. Или хочешь взять даром, — продолжал купец, как будто и не слышал твоих слов.
— Да! — Ты засмеялся. — Даром. И много, очень много!
Ну вот, все сказано, можно уходить. Но ты почему–то не спешил, стоял, смотрел на Лепке, ждал. И он сказал:
— Это только кажется, что даром. Потом получится куда дороже, чем можно было бы предположить.
— Не каркай!
— Я не каркаю. Ворон не смеет каркать перед волком, пока волк жив.
— Лепке, не забывайся!
— Я не забываюсь, я знаю, кто передо мной. Я потому и пришел сюда, а не в Хольмград, не в Плесков. Мало того, за свой товар, — а он, поверь мне, наилучший, — я прошу всего лишь по две ногаты за голову! Твои люди безо всяких хлопот могут перепродать это даже в Смольграде уже вдвое дороже. Но!.. — И Лепке вдруг пошел к столу, остановился, обернулся, сказал: — Еще раз «но»! Так как ты надеешься получить ничуть не худший товар даром, то и я… — Сел и продолжил уже по–варяжски: — То и я могу предложить тебе кое–что тоже даром. Да это и есть дар!
Ты, князь, стоял, купец сидел. Серобородый, серолицый, сероглазый… Нет, глаз–то и не видно — сощурился.
Ты глухо уронил:
— Игнат!
Игнат послушно вышел. А ты прошел, сел во главе стола.
— Дар, говоришь, привез, — сказал ты тоже по–варяжски. — Так покажи его.
— Я не только покажу, но и отдам. Но прежде тебе, князь, будет нелишне узнать, как он попал ко мне. Чтобы потом без нареканий…
— Хорошо! Говори!
Замолчал купец. В прошлом году его настигли в Свейских Шхерах и пограбили, чуть не убили, еле ушел, плыл в ледяной воде, однако бойчее был. А тут…
Заговорил все–таки:
— Так вот, когда мне стало известно, что Харальд Хардрада, брат Олафа, твоего крестного отца, направляется в Англию с тем, чтобы поразить Харальда Годвин–сона и занять тамошний престол, я поспешил за ним. Таков мой хлеб, Всеслав! И я надеялся… Но зря! Та и другая сторона рубились насмерть, пленных не брали. А после битвы Годвинсон позволил норвежцам беспрепятственно отойти к кораблям. И в тот миг, когда я с горечью наблюдал за их действиями, последними словами проклиная себя за глупую самонадеянность, к англичанам прибыл гонец, и все — кроме меня! — с ужасом узнали, что на юге, в Кенте, высадился Вигхельм Незаконнорожденный и ведет свое войско прямо на Лондон. Годвинсон немедленно бросился ему навстречу, я тоже поспешил…
— Постой! — перебил ты его. — Он был убит стрелой?
— Кто, Харальд Хардрада? Стрелой. Мечи его не брали, на нем была его знаменитая кольчуга Эмма, длинная, едва ли не до пят. Он, говорят, сразил,уже более двух десятков воинов, и тогда тингаманн Иори Малютка вознес молитву Пресвятой Деве, а после натянул свой лук… Стрела вошла Харальду в горло, он умер мгновенно. А Харальд Годвинсон тоже погиб. Он и Вигхельм сошлись при Гастингсе, и битва длилась целый день. После этой битвы было очень много пленных, их отдавали очень дешево. Ну вот! И наступила ночь, и я зашел в какой–то дом. Туда согнали пленных англов, тех, кто не мог идти. Какая–то уродливая ведьма варила в каменном котле вонючую похлебку из лука и поила этим раненых. Я сел в углу, ничего не хотел, только спать. Тут кто–то тронул меня за плечо. Я обернулся. Рядом со мной лежал человек, судя по его одеждам, он был не из простых. Все вокруг кричали и стонали, а этот человек с достоинством обратился ко мне и попросил, чтобы я осмотрел его рану. Я ощупал окровавленный бок этого человека и сказал, что там застряло железо, если я вытащу его, то он умрет. Тогда раненый спросил у меня, кто я такой. Я ответил. Тогда он спросил, а не собираюсь ли я в такие–то места. Я ответил, собираюсь. Тогда он улыбнулся и сказал, что это очень хорошо, сам Бог послал ему меня, ведь он когда–то бывал в тех местах и даже не раз охотился и пировал… с тобой, Всеслав. И что об этих встречах у него остались самые лучшие воспоминания, и потому ему хотелось бы передать тебе на память от него вот это! — И Лепке протянул тебе ладонь, на которой лежал маленький тусклый камешек.
И взял ты камешек, сжал в кулаке, долго молчал. Потом спросил:
— А дальше что?
— А дальше ничего. Он стал шептать, наверное, читал молитву. А потом попросил, чтобы я вытащил железо из раны.
— И ты вытащил?
— Да. Отказывать умирающему в его последнем желании — великий грех. Потом я спрашивал, как его звали. Никто не знал его имени, только сказали, что это был один из корнуэльских ярлов. Вот, собственно, и все. Наутро я ушел. — Лепке замолчал.
Ты смотрел на камешек. Брат ни разу не дал тебе к нему притронуться, говорил: «Пока я жив…», а теперь — владей. Ты повернул его, еще, еще… Света не было. Так ведь ночь уже, откуда будет свет, солнце давно зашло. А днем, в любую непогоду, в шторм, в туман, и даже тогда, когда сам воздух, которым ты дышишь, будет пропитан самым сильным колдовством…
Ты сжал кулак и посмотрел на Лепке. Сказал:
— Я согласен. Завтра придешь сюда, и княгиня выдаст тебе за твой товар ровно столько, сколько ты запросишь: по две, по три ногаты голова, сам назначай. А после ты уйдешь. И больше никогда здесь не появишься. Ни–ког–да. Иначе я убью тебя. Вот этой вот рукой. Понял меня?
Лепке встал и ушел. Время прошло. Мороз был, снегопад, луна. А луна — волчье солнце, Всеслав. Ступай, владей, так брат велел, такой вот сон, такой вот знак, такая плата — кровь братова — за тот венец, которого ни ты, ни брат твой, ни отец в глаза не видели.
А! Что теперь! В сани упал, махнул рукой — поехали.
— Гей! Гей! — кричали в темноте. Выли в рога — по–волчьи. Судислав ушел, Ратибор, теперь ты — старший по Владимиру, тебе — венец Владимиров.
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
1
Бус умер на охоте. Они травили вепря, Бус бил его копьем, сошел с коня, вепрь развернулся, побежал, Бус ударил его в голову и сшиб. Связали вепря за ноги и на жердине понесли к кострам. Происходило все глубокой осенью, лег уже первый снег. Шли, оставляли черные следы. Полем прошли, вступили в лес.
Неожиданно затрещали ветки. Оглянулись. К ним подъезжала женщина, в белом, на белом коне. И лик ее был бел, и волосы белы, и губы бледные, прозрачные, холодные глаза. А голос — ласковый и тихий. Она сказала:
— Бус! Я за тобой пришла.
Он засмеялся и спросил:
— Ты кто?
Она не ответила. Он снова засмеялся, посмотрел на гридей. Все опустили головы, никто с ним не смеялся. Тогда он снова посмотрел на женщину, сказал уже серьезно:
— Но я не стар еще!
В ответ она лишь кротко улыбнулась. А белый конь под ней перебирал копытами, головой мотал и храпел. Она его погладила по шее, он заржал, шагнул вперед.
И все побежали. Вепря бросили, копья, щиты.
А Бус стоял, с места не сошел. Она к нему подъехала, наклонилась. Он ей что–то сказал, она ему ответила. О чем они говорили, никто не слышал, ведь отбежали далеко. Но видели: она подала ему руку, он ухватился за руку, легко вскочил на коня, сел впереди нее… И белый конь помчал их. И исчез, легко, неслышно, как видение. А Бусов конь, соловый, в яблоках, стоял под деревом, смотрел им вслед, на глазах его были слезы… Его потом заклали и сожгли, насыпали над ним курган. И каждой осенью туда сходились. И если собирались в поход или ждали нашествия, то прежде всего шли к тому кургану. Потом они покинули ту землю. И Бус с ними ушел. Он иногда являлся им, не всем, а лишь князьям, внукам своим, и лишь перед большой бедой — упреждал. Последним Буса видел Рогволод, но с той поры Бус не является, поскольку креста не любил. Сними, князь, крест, и Бус придет к тебе и скажет, что ожидает тебя.
Не снял ты крест. Шел. Мрачен был. Ни с кем не разговаривал. На третий день послал гонца Мстиславу, чтоб тот упредил: «Иду! Встречай!»
Встретил. Сошлись на Черехе–реке. На льду и бились — яростно. Мстислав кричал:
— Волк! Волк! Ату его! — И пробивался, хотел сойтись, силою помериться, молод, горяч был, глуп, его удержали.
А тут литва сбоку зашла, конные ударили — и побежал Мстислав. Догонять его не стали, в стан не пошли: князь спешил. Он шел на Новгород, как и отец, только не тайно. Вперед гонца послал, чтоб тот сказал: «Не затворяйтесь!» Гонца порвали в клочья, затворились. Пришел Всеслав. Полдня стоял и ждал, никто к нему не выЩел. Тогда сказал:
— Сожгу!
И запалил посады. И гром — зимой! — вдруг загремел, и буря поднялась, и ветер крыши рвал, и черный дым душил, и снег в огне кипел. Спасались люди, бежали, а их рубили. И подступил Всеслав к Днепру. Каменные стены Ярославовы не помогли, не удержали волка, перемахнул через них и вошел. Крик стоял, стенание! А он на вороном коне в Софию въехал, шапки не снимая, крестом не осенясь, повелел рвать все, сдирать, крушить паникадила, колокола снимать. Стефан, владыка новгородский, срамил его и проклинал, а он… Не он, а ты, Всеслав! Ведь ты это содеял! И смеялся. И говорил тогда:
— София на Руси одна — моя!
Стефан тебя удерживал, а ты, владыку оттолкнув, едва конем не затоптал. Из храма выехал и, Волхов перейдя, сел в княжеских палатах, сказал:
— Сыт я! Не бойтесь более.
Не лютовал больше, затаился, ждал. Ходили бирючи по городу, кричали:
— Князь повелел: живите как хотите! Он первый по Владимиру…
А город не отвечал, онемел. Посадник Остромир бежал на Белоозеро. И многие ушли, кто куда. Один Стефан к тебе приходил и говорил:
— Бес жрет тебя. Покайся! Отступись!
Не каялся. Но и не гнал Стефана. Он снова приходил, снова. Но не грозил уже. Придет, станет пред тобою и молчит. Долго стоит, потом уйдет. И ты уже привык к этому…
А в тот день он пришел и попросил разрешения сесть. Ты позволил. Он сел и неожиданно поинтересовался, велик ли Полтеск–град. Ты все обсказал, как есть, не бахвалился, сдержан, краток был. Тогда Стефан спросил, а какова река Двина. Ты о Двине сказал. Он покивал.
— Как Иордан, — произнес задумчиво. И стал рассказывать про Иордан, какие берега, какие рыбы там, когда вода чиста, когда мутна и почему. Рассказывал пространно, не по–книжному. Потом замолчал, улыбнулся.
И ты ждал, что будет дальше. И он уже не спрашивал. Был тот Стефан не стар еще, и борода его черна, и сам он крепок, высок, а родом из греков из корсуньских, значит, ромей. Там, в Корсуни, зимой тепло. А в Царе–граде и того теплей.
Наконец ты спросил:
— А далеко ли до Святой Земли?
Стефан с улыбкою ответил:
— Далеко. Иным всю жизнь идти и не дойти.
— А ты был там?
— Был, чадо, был. Только земля — она везде святая, она ведь Божья твердь.
И вновь тихо стало. Огонь в печи горел, тепло было. И бес уснул, должно быть. Ф–фу! А то ведь с той Поры, с той ночи, когда Лепке приходил, не знал ты покоя.
Сидел ты, князь, не шевелясь, держал в зажатом кулаке тот самый камешек, тьма в горнице, за окном темно, тепло, листья шелестят, липы цветут, отец уехал на охоту, брат с ним, а бабушка уже, должно быть, давно спит, ты один, сам по себе, в руке у тебя камешек, подарок крестного, и пусть кругом темно, а этот камешек горит, как негасимая лампада, в ней не поганский — Божий свет, и этот свет отныне и всегда будет вести тебя, с ним не заблудишься. И вдруг Стефан спросил:
— А как все это началось промеж вас?
И совсем стало легко! Нет зла, нет стыда, словно долго ждал, когда же тебя спросят, чтобы наконец все высказать, чтоб не носить в себе. Да и где Стефан? Ведь не Стефан это — отец. Не стар еще, и борода черна, и крепок, и высок. И — улыбается. Он редко улыбается и еще реже говорит, а чтобы спрашивал, так того не дождешься.
И ты, Всеслав, заговорил, сам себя перебивая. Ты так однажды прибежал к отцу и закричал: «Я видел Буса!» — «Да что ты, сын, крест на тебе, не может того быть!» — «Нет, было, слушай! Я взошел на Микулин курган…» — «Ты ходишь на курганы?! Я…» — «Слушай! Слушай!» И слушал он тебя, вначале гневался, потом задумался, потом сказал: «Нет, быть того не могло! И хорошо еще, что Бус молчал… А может быть, ему уже и говорить нам нечего…» И теперь он слушает, молчит, порой только кивает, а ты, Всеслав, поспешно говоришь, все говоришь: не так, как прежде вещунам да старцам, а все: что ты сказал и что она тебе ответила, что думал ты, как страшно было, как хотел убить, как ПШ1 это, звериное, вонючее, как после каялся и как не отпускало, корчило, душило, как ты лежал с женой и гладил ее волосы, а бес тебя подталкивал, персты сжимал… и как бежал ты, князь, как Святослав сперва учил свою дружину, клял за спиной, и как потом кричал, все рассказал!
Кулак разжал, и камешек упал на стол.
— А это что? — спросил Стефан.
Стефан, а не отец. И пусть Стефан, все равно легко и зверь не жрет. Тепло. Умер отец, брат убит, Новгород сожжен, крест твой на тебе, и никому его не снять. И легко, и спокойно на душе.
— Так это, безделица, — ответил ты. И спрятал камешек.
Помолчали. Стефан сказал:
— А ты не волк, Всеслав, ты человек. Заблудший, но человек. А весь твой грех… Да это и не грех — беда — в том, что рожден ты князем. Ну да чего теперь?! Встань, Божий раб Феодор.
И встал ты, князь. Встал и владыка. И благословил. А уходя, сказал:
— Я больше не приду к тебе. Теперь сам приходи. Я на Софии, строимся, там и будем говорить. Жду, князь!
Ушел. Ждал, да не дождался. Сначала сидел ты в тереме безвылазно, а после стал выходить и выезжать, но с опаскою, и не один на Плотницкий конец, на Торг, на Варяжский двор, в Липню, Нередицу, на Лисью Горку. А через Волхов даже не смотрел, не мог. Там, на Софийской стороне, стучали топоры, там строились, ты сам же им сказал: «Живите как хотите», вот и живут. А ты сидишь тихо, зверя не дразнишь, тоже ждешь. И думаешь, они уже и не расходятся, и уже слушают. Да в тот же вечер прискакал гонец и прокричал:
— Идут они! Все трое! И не сюда — на отчину твою!..
…Вставать! Вставать пора! Вскочил, перекрестился.
Зазвонили на Святой Софии! Воскресный день пришел, четвертый день, четвертый ангел вострубил. Сегодня мученик Антип, неделя святых жен–мироносиц. И собрались они, Мария Магдалина, и Мария Иаковлева, и Саломия, и, взяв ароматы, пошли еще до солнца. И пришли. Камень был уже отодвинут, и юноша в белых одеждах сказал им: «Его нет. Вот место…»
Жарко как! Пресвятый Боже! Восстаю я ото сна, словно на казнь иду, ибо развеялись, как дым, мечты мои, и очерствело сердце мое, червь источил его, и руки мои словно плети, нет силы в них, а ноги мои — корни, впились в землю и держат, и не дают ступить.
Упал. Поклоны бил: пресвятый Боже! Я весь в руце Твоей, склонись ко мне, согрей дыханием Твоим и упреди, ибо нищ я и слаб, еда моя — зола надежд моих, питье мое — слезы ближних моих, коих не смог я оградить…
А лик молчал. Лик черен был. Лампада чуть светилась.
А на Софии — звон! Иона там и все они.
Нет! Велено закрыть ворота — и закрыли. Нет в храме никого, вот разве что сошлись одни холопы — твои холопы, князь, челядь твоя в твой храм пришла. А прочим — у ворот стоять. Так–то, князь! Ты сам так повелел, сам пожелал, чтобы в последний твой воскресный день — ведь до другого ты уже не доживешь — одни холопы были при тебе в храме. Ну, так иди и стой с холопами, молись, поклоны бей и славословь… Феодор, Божий раб! Вот какова она, вера твоя!
Пусть будет так! Испей свою чашу до дна. И изопью! Оделся, только меч взял. И вышел в гридницу.
А там уже ждут Туча, Горяй, Игнат. Стоят. Кивнул им, сел. Взял ложку. Ел, чуть ли не давился. Спросил, не поднимая головы:
— Ну, что там?
— Тихо, — сказал Горяй.
— А ворота?
— А что ворота? Нет там никого. Никто к нам, князь, не ломится!
Задумался. Ком подступил к горлу, сглотнул. Хрипло спросил:
— Как это так? А служба?! А Иона где?
— Иона здесь. И служба будет. А этих нет.
— Так, так…
Снова поел. Сказал, как будто про себя:
— И то! Церквей на граде много! Не всем в Софию же ходить.
Туча вздохнул. Горяй сказал:
— Но сходятся они, там стоят, Батура говорил…
Туча опять вздохнул. Звонили на Софии. Знатно
звонят! Слушай, князь, слушай, больше не услышишь!..
Спросил:
— А на реке — там тоже никого?
Бояре не ответили, переглянулись. Игнат ответил:
— Нет, князь.
Задумался. Приказал:
— Горяй, послать надо кого–нибудь надежного вверх по реке.
— Дервян пойдет.
— А хоть и он. — И снова нахмурился.
Горяй спросил:
— А ждать ему кого? Кого искать?
Князь ложку отложил, руку об руку потер, глаза поднял, нехорошо прищурился, сказал:
— Послов. От Мономаха!
— Как?!
— Так, от Мономаха. А к Святополку уже посланы. Неклюд пошел. Ведь нет Неклюда?
— Нет.
— Вот то–то же! — Князь ложку взял и зло сказал: — Ушел Неклюд! — Хлебнул, передразнил: — «Не видно, князь!» Воистину не видно! — Ложку бросил, встал.
Постоял, снова сел. Взял ложку, отложил. — Уноси все, Игнат! Сыт я.
Собрал Игнат, унес. Втроем остались. Они стояли, он сидел. А на Софии отзвонили, тихо было. А он сказал:
— Вот, говорят они, я — волк. Пусть так… Тут станешь волком! — И замолчал. Три дня прошло, Неклюд уже в Берестье, сказал, как велено, Святополку. И вдруг начал говорить, не им, а себе, для себя все это он высказывал: — Вот, я уйду, скоро уйду, совсем недолго вам ждать. Уйду, а вы останетесь — с Давыдом, с Глебом ли… И все, что я задумывал, откроется — и про Неклю–да, и про Мономаха. Что я это, себе? Вон, говорил Стефан: «Земля — она везде…» — Замолчал, сидел и в стол смотрел.
Горяй произнес:
— Ты, князь, как будто перед смертью!
— А что?! — сказал Всеслав задумчиво. — Стар я, в ногах нетверд. Вот разве что в речах! — И засмеялся. — Служба идет, а мы сидим. Грех это! — Встал и пошел к двери.
Митяя кликнули. Митяй повел, а князь за ним, бояре вслед за князем. Светло уже. И пусто на Детинце. Молчит Зовун пока. Прошли мимо него, свернули, подошли к Софии.
Остановился князь. И все остановились. Князь сказал:
— Митяй, ты не ходи за мной.
— Я, князь, и не пойду. Мне у ворот надобцо быть.
— Вот то–то же! Пока обедня не пройдет, чтобы градских здесь никого не было! Ступай.
Ушел Митяй. А он с боярами вошел в храм.
Не было никого на паперти, нет никого в приделе. И в храме–то не более десятка наберется. Стряпуха. Конюх. Тиун… Челядь! Прости мя, Господи! Остановился князь, перекрестился. Иона глянул на него и далее читает. От Марка чтение, последняя глава. Стих пятый… Стих шестой… Всеслав прошел вперед, остановился там, где всегда, где Мстислав упал. Стоял, склонив голову, прикрыв глаза. Стоял — в последний раз. Господи! В Тебя лишь верую, и только о Тебе думы мои, все остальное — тлен, я раб Твой, червь, гордыня жрет меня. Так ведь не для себя — все ради них делал, а сам бы я давно ушел, воистину не лгу. Когда Георгий уходил и меч не брал, ведь знаешь же Ты, Господи, как я ему завидовал. Слаб я! Глуп я! Завистлив! Видишь, даже чаду своему завидовал, а что о прочих говорить? Я и сейчас здесь стою, а мысли мои где? Грешу я, Господи, всегда грешу, дышу — и тем уже грешу, но не прошу я милости и не молю о снисхождении, а говорю: рази меня и низвергай, и пусть враги мои меня растопчут, разорвут, и пусть даже потом замолят грех этот, прости Ты им… Ха! Господи! Никифор моду завел: в соборах служба каждый день идет, и каждый день Великий князь в храме, а если пост, то до полудня там стоит, и тогда одних земных поклонов кладет до тысячи и более, а Мономах, так тот… И пусть они себе! Им, Ярославичам, так надо, а я не Святополк, не Мономах, в рост не даю, послов, пусть и поганских, не гублю… Вот видишь, Господи, опять я согрешил! Даже во храме мысль моя черна. Срази мя, Господи! Вот как Мстислава Ты… Срази!
Закрыл глаза Всеслав. Семь куполов у подтеской Софии, семь месяцев сидел ты в Киеве, и кабы не холоп…
Нет, суета это! Смотри, Всеслав, перед собой смотри. Вот Царские Врата, Спаситель, Богородица, а справа — София Премудрость Божья, ты ей и посвятил сей храм, а слева — Феодор Тирон. Мстислав же, гневаясь, кричал, что это не Тирон — варяжин, а варяжин есть никто. Грех в храме кричать, хулить же лики — смертный грех.
Лют был Мстислав, желчен, желт. Бежал с Черехи, прибежал к отцу. Отец, князь Изяслав, поднялся и пошел, не медля, Мстислава же оставил в Киеве. И Всеволод пошел, и Святослав. Смеялся Святослав, говаривал:
— Зачем меня держали? Волк — он есть волк, он не уймется! Вот завалил бы я его тогда… а нам, князьям, негоже за тварью бегать. Сам прибежит, или в логове возьмем!
И взяли. Пришли под Менск, горожане затворились, посадник вышел, увещевал, бил челом, крест целовал, отрекался он от князя своего и клял его. А Ярославичи смеялись! И подступили они к стенам, и вошли, и все сожгли, и порешили всех, и отошли, и стали на реке Немиге. Ждали.
Ты пришел! Ходил молча по пепелищу. Золу мело в глаза. Пусто кругом, все вымерло, ни челядина, ни скотины. А на холме — дозор от Ярославичей. Ничего, подождут! А небо было серое, пепелище черное, ветер теплый дул — к весне это. И крест был на груди, и оберег. И ждали Ярославичи. И зверь, восстав, цепью гремел. В висках стучало, и дергалась щека.
И тут привели мальчонку, в саже весь, дрожит.
— Не бойся, — сказал ты, — я пришел, твой князь Всеслав.
Не отвечает мальчик. Жмется к ногам Липая. Тогда ты опустился перед ним и руку протянул, по волосам погладил, опять сказал:
— Я пришел. Не бойся… Кто ты?
Молчит, только глаза расширились, заблестели, и — страх в них, дикий страх! Тогда ты взял его — мальчонка отбивался изо всех сил, — встал и прижал его к груди, спросил:
— Откуда он?
— Да там нашли, при храме, — ответил Липай. — Прости мя, Господи! — И широко перекрестился. Не чуял он, что его в тот день убьют.
Был храм! Был град. Отсюда бабушку везли, она здесь родилась.
— При храме, говоришь? Ну так и быть ему при храме! Есть хочешь? Голоден, поди?
Зажмурился мальчонка, не мог смотреть, боялся.
Ты огляделся, помолчал, сказал:
— День на исход. Здесь станем. — И пошел к саням. Мальчонку нес, прижав к груди.
Мальчонка так в тот день и не сказал, что его звали Николаем. Поел молча, перекрестился, лег. Его накрыли шубой. Он заснул в княжеских санях. Липай сказал, смеясь:
— Ох, высоко взлетит!
И так оно и случилось. Был Николаем, стал…
Но это когда еще произойдет! А в тот же день спал Николай. Мороз ослаб, снег пошел, небо потемнело. Костры на пепелище жгли, не все ведь догорело, ставили котлы, доставали снедь. А ты ушел в шатер.
Дозорные съехались и объявили Ярославичам — на лежке волк. А снег все гуще и гуще шел, задул ветер, поднялась вьюга. Им, Ярославичам, мело в глаза. Никто из них не ожидал такой метели.
А ты выждал и ударил! И рвал, как волк, и было в их рядах великое смятение. Святослав без шлема, без кольчуги метался меж возов, потрясал мечом, и выл в злобе, и звал тебя:
— Всеслав! Всеслав!
А потом наступила тишина! Только снег сыпался с небес. Нет воинства Всеславова, явились из ночи, в ночь и ушли. И кровь на льду.
Тогда–то и сказал князь Святослав:
— Душу сгублю, а все равно его достану! Затравлю!
Травили. То была охота так охота! От Менска ты
бежал на Туров, оттуда — на Берестье, там петлял, реки
уже вскрылись, и грязь была кругом, и бездорожье. Застряли Ярославичи, мостили гати, гневались, мор напал на лошадей, а ты по пущам кинулся на Новогородок, на славу Ярославову — и сжег его, пять дней стоял и ждал, пока они придут. И снова сгинул. Они тогда пошли на Полтеск, а ты, обойдя их, — на Случеск. И они — на Случеск!.. А там — гонец сказал дядьям:
— Всеслав сел в Полтеске. Сошелся с Гимбутом, собрался на Смоленск.
А была уже макушка лета, липы цвели, жара стояла. И не было уже единства в Ярославичах. Пришли они, и стали на Днепре, и вывалили языки, ведь полгода бегали за тобой! Стояли и смотрели на тебя, ты по ту сторону Днепра находился. А Днепр там, при Рше, можно вброд перейти, даже стремян не замочишь. Да вот не шли, стояли — и они, и ты…
…Открыл глаза Всеслав. Он в храме, в Полтеске. Иона на амвоне. Смотрит на него из–под бровей своих встопорщенных. Сух, немощен владыка, стар. А Изяслав, Великий князь, был лицом кругл, румян, высок, толст. И силы было в нем много. И прям всегда в словах, а посему клял брата своего: «Зачем ты так? Ведь грех какой!..»
Что это? Гром?! Вздрогнул Всеслав, персты сложил…
Да не перекрестился, так застыл. Не гром это — Зовун. Гремит Зовун! Сзывает! Да как же так?! Ворота ведь затворены, Митяй при них… Князь оглянулся…
Пусто в храме! Он да Иона — больше никого, ни бояр, ни холопов, все ушли.
Гул на площади. Толпа кричит. Зовун гремит. Господи!
Нет, стой, князь, не ходи! Обедня–то еще не кончилась, последняя обедня, князь, другой в жизни твоей уже не будет, в среду — предел, в среду Иуда предал Христа, тебя же, князь, в воскресный день. Ведь помнишь ты, такого не забыть, как шли холопы, не эти, другие, как Изяслав бежал, как они ворота вышибали, как жгли, метали камни в окна. И как тебя, князь, на руках несли, а ты им говорил: «Брат мой ушел», а они кричали: «Любо!» Тогда ты, князь, рад был, потому что то было в Киеве, и шли не на тебя, а за тобой.
Гремит Зовун, молчит Иона. Персты свело. Ну, осени себя! И осенил. И положил поклон. И на колени встал. И бил челом. И замер.
Гудит народ на площади, кричит, Зовун ревет. И пусть себе!
Пришла Она, подождет, до сроку ведь пришла. Служи, Иона, коль рукоположен! Служил. Читал. Дьякон выносил просфору и вино.
А князь стоял коленопреклоненный. Поклоны клал, крестился, руки не дрожали.
Ибо при Рше было страшней, ты ведь туда один пришел, литва тебя покинула. Гимбут сказал:
— Доколе можно бегать? Медведя волку не задрать. Мирись, Всеслав.
И Альдона говорила, молила:
— Его хоть пожалей! Дождись, благослови хотя б!
Она тогда была тяжелая, Георгием ходила. Веснушками ее тогда усыпало, нос заострился, того не ела, этого. А волосы… Ты гладил их, шептал:
— Душа моя, не гневайся. Я ж сам устал. Не любо все, мне при тебе лишь любо.
И целовал ее. Потом ушел. И старшие твои ушли с тобой — Давыд да Глеб. Давыд — двенадцати, а Глеб — семи годов. Она заплакала, сказала:
— Может, так и лучше. При войске им надежнее.
А младшие, Борис и Ростислав, те так и были в
Литве, при Гимбуте…
Пришли и стали на Днепре, при Рше, оставив за спиною волоки к Двине. Прибыли и Ярославичи. На берегах жгли костры. Коней поили на Днепре, купали: жара была. И что там Днепр при Рше! И молчали те и эти…
А ты к реке не ходил и сыновей не отпускал. Хотя стрела — она и здесь, в шатре, достанет, коли надо. Но Бог хранил, стрел не пускали. И вообще как будто были на одном берегу Днепра только эти, на другом — только те.
И так шесть дней прошло. Шесть дней ты смотрел на их шатры, на них самих, как выходили, как садились на коней. Но и они к реке не подъезжали.
А на день седьмой, и было то десятого июля, туча нашла, и дождь пошел, и Подумалось: вот загремело бы…
Тут бегут, кричат:
— Князь! Князь!
Ты вышел. И увидел — от них кто–то верхом к реке спускается. И вброд погнал. Одной рукою правит, а во второй… крест держит!
Коснячко это! Тысяцкий. Тот самый, что на торков звал. Подъехал, соскочил с коня и подал крест — серебряный, усыпанный каменьями. Тяжелый крест. Ты взял его, поднес к губам. Однако целовать не стал, задумался.
Потом все будут говорить: мол, нюхал волк!..
Отстранил крест, спросил:
— Чего хотят они?
— Любви хотят, — ответил Коснячко. — Приди к нам, говорят, мы зла тебе не сотворим, на том целуем крест. И ты целуй.
Не стал целовать. Смотрел на реку, на шатры, на стан их, Ярославичей. Вон сколько их! Семь дней стоят. И ты, Всеслав, будь даже вместе с Гимбутом… Вот уж воистину медведя волк не задерет! Целуй крест, Всеслав, иди, и ряд держи, и обговаривай, стой на своем, а мысли черные отринь, все было на Руси: ложь, кровь, но крест еще никто не преступал.
Нет! Так сказал:
— Пусть крест будет при мне. Я знака жду. Будет знак, поцелую крест и приду. Пусть они ждут. Ведь братья же!
Коснячко ничего не ответил, сел на коня, уехал, не простясь. Быть может, то и был тот знак, да ты, Всеслав, не понял, другого ждал. И день прошел, и ночь, и снова день, и ночь, и наступил день памяти Феодора Варяжина. Тогда взял ты крест, взял сыновей, сели в лодку. Жара стояла, ты снял шлем, переплыли Днепр, по берегу пошли. Подступили вы к шатру, стража расступилась, вы вошли…
Зачем ты шел туда? Ведь не было в душе твоей любви, и ты не верил им, и мира не хотел, ты ненавидел их, только зла желал — змеенышам. А сыновей ты вел с собой лишь для того, чтоб показать им, Ярославичам, — вот как я верю вам, вот весь я здесь, и здесь мой род, и верьте мне, всему, что буду говорить.
Вошли… И навалились гриди! И били зло, руки крутили. И ты… Не говорил — кричал уже! Клял, грозил! Да только не было в шатре братьев, не слышали они злых слов твоих. Шлем упал, и крест серебряный в каменьях пал гридям под ноги, они его топтали, ты так и не успел его поцеловать, и то, что говорить хотел, то, что два дня обдумывал, ты не сказал, а лишь кричал:
— Не троньте сыновей! Их–то за что?! Не тро… — Не слушали.
Упал ты, князь, тебя связали, били лежачего сапогами, били до того, что кричать уже не мог и видеть ты не мог, весь был в крови, а только выл, как волк, кусал губы да хрипел.
А после ничего не помнишь. Вот так–то, князь, так ты пришел, и так–то тебя приняли братья твои!
А сыновей твоих они не тронули, только вывели их к берегу, ножи к горлу приставивши, и огласил бирюч твоей дружине:
— Князь ваш велел, чтоб вы домой, на Полтеск шли, а он потом придет! Ведь так, Всеславичи?
Но сыновья твои молчали. Грозили им, стращали их и обещали отпустить. Давыд молчал. И Глеб молчал. А потом Глеб заплакал тихо, слезы текли, он их боялся утирать: нож горло жег.
И тогда воевода Бурната, сын Кологрива и отец Горяя, сошел к реке, сказал:
— Мы–то уйдем. А вы к себе дойдете ли?!
Дошли — выходит, Бог так хотел. И все за грехи твои,
Всеслав. И привели тебя и сыновей твоих на Брячисла–вово подворье, и на веревках в яму опустили всех троих, и заложили сверху бревнами, оставив только малое оконце, и сторожей приставили, и тих был Киев–град, никто не возмутился.
…Князь поднял голову. Ну, вот и все, служба пришла к концу. Сейчас ты подойдешь и причастишься. «Сие, — Он говорил, — тело мое и кровь моя». Храм пуст, в нем только ты, да Иона, да дьякон… И Он, незримый, стоит у Царских Врат, ведь то Его Врата, Царя Небесного. Земные же цари, будь то ромейские во Цареграде, будь то в Киеве, не здесь, как ты, моления свои возносят, а восходят на хоры, ибо не в честь им здесь, среди рабов.
Стоял. Смотрел на Царские Врата. Врата были закрыты. Нет никого…
А помнишь, как ты спрашивал: «Отец, Его можно увидеть?» Отец же, улыбаясь, отвечал…
Пустое, князь! Забудь о том. И тех, кто к Зовуну пришел, не слушай. Иди к последнему причастию. И думай лишь о Нем…
Легко сказать! «Не слушай»! Да, верую, Господи, верую, а вот…
Он подошел. Руки у дьякона дрожали, и губы сведены, дрожали, взгляд он прятал. Иона же прямо смотрел, строго, и не было в глазах его ни зла, ни добра. Да он всегда такой, и в среду понесут тебя, а он таким же будет.
Князь опустился на колени, причастился. «Прости мя, Господи, хлеб да вино это, не более… Где ж вера моя, Господи?! Дай веры мне — в последний–то ведь раз! Молчишь? О Господи!..»
Зовун ревет! Толпа напирает. Вон сколько их! Не удержал Митяй. Да и держал ли он? И жив ли? А Горяй!
Ну что ж, Всеслав! Ты звал их — и они пришли. Да не по твоему зову все–таки. Когда ты ждал, их не было, и озлобился ты, и повелел закрыть ворота и не пускать, гнев разум твой помутил, кричал ты: «Как повелю, так оно и будет!» Ан нет! Иуда им открыл или вошли они, как к Изяславу в Киеве, это все равно теперь. Но не все равно, потому что ряда еще не было, а ты уже никто, Всеслав, и в дому твоем, в исконном твоем логове, твои холопы заправляют. Ха! В логове! Ха! Волк! Какой ты волк, Всеслав? Ты — пес. Ну так скули, пес, вымаливай, юли, как ты всю жизнь делал. Ну!
Встал Всеслав! Схватил владыку за руку.
Тот головою покачал, сказал:
— Нет, князь, то не мое — мирское.
Князь отпустил его, отвернулся. Ревел Зовун, толпа ревела. Народу — тьма. А ты — один. Теперь уже совсем один.
А князь и должен быть один! Вот, даже зверь затих. И страх ушел. Да и чего тебе страшиться? Тебе ж три дня осталось. Если Она еще не передумала! Иди, князь, ждут тебя. Как ждали когда–то Ярославичи на Рше, а ты к ним шел, и тоже было страшно, и знал, что будешь говорить. Ты и сейчас, князь, знаешь, что им скажешь, да вот только дадут ли они говорить? Иди, иди, только не горбись, князь, толпа таких не любит, она или страшится, или презирает.
Пошел. Хотел перекреститься, да не стал.
2
Дверь храма закрыта. Шум, крик за ней. Толкнул ее, вышел. Прямо перед ним, спиной к нему, стеной стояли гриди. А дальше — головы, головы, до самой звонницы, до Зовуна, под Зовуном на возвышении стоял Любим, а рядом с ним Ширяй, сотские, старосты. Любим, раскинув руки, говорит, Ширяй, подняв свиток, что–то оглашает, Онисим–староста кричит. Да кто их слушает? Кто слышит?! Ревет толпа, волнуется. Давка, смрад, а гридей — только два ряда. Рев, рык над площадью.
— Князь! — Кто–то схватил его за плечо.
Горяй! Держит крепко. Глаза блестят. Кричит, иначе не услышишь: '
— Князь! Не ходи! Зверье они! Митяй открыл ворота! Князь…
Оттолкнул Горяя. Шагнул вперед…
Заметили со звонницы. Ударили! Еще! Еще! И — загремел Зовун! Загрохотал, да так, что в ушах заныло, земля гудела, воздух сотрясался, а он все бил и бил.
Звонарь давно уже оглох, очумел, озверел, а все бил! Бей, звонарь! Чтоб лопнул он!
Очнулся. Тишина. Звон замирает, уходит ввысь, в небеса, все дальше, дальше, а они стоят и слушают, никто не шелохнется, и ждут, будто лишь этот звук умрет, как тотчас придет, наступит что–то для них необычное.
— Князь!..
Опять Горяй! Князь усмехнулся. Тишина какая! Молчит толпа. И там, на возвышении, молчат. Все, повернувшись, смотрят на него, ждут. Чернь, земство, люди, как ни назови, все они толпа. Ждут, и нет в них страха, нет и зла, злорадства, смотрят так, словно на торгу увидели диковину. Ну смотрите же! И он пошел. Горяй, забежав вперед, зло закричал:
— Пади! Пади!
Никто не пал, но стали расступаться. Шествовал князь, а впереди шли гриди и молча, не скупясь, пинали зазевавшихся, те так же молча подавались в стороны. Шел князь, смотрел перед собой, на спины гридей, думал…
Да не думалось! Подошел к возвышению, и расступились гриди, он один поднялся по ступеням и встал под Зовуном. И не было уже под Зовуном никого, кроме Любима, державшего в правой руке заветный свиток. Князь усмехнулся, поправил шапку. Грохнул Зовун. В толпе начали креститься, да не все, ох не все! Князь снова усмехнулся. Любим стоял столбом, лицо его было красным, на шее жилы вздулись. Молчит толпа. Толпа — как тот медведь, не жди, когда она…
Он и не ждал, заговорил так, как всегда говорил, как отец учил, как дед еще говаривал, как должен говорить добрый хозяин с верными холопами, что бы ни случилось, ты всегда — добрый, щедрый князь, ты зла не держишь.
— Господарь Полтеск–град! Вот я, сын твой и князь… — И поднял руки. И головой тряхнул. И продолжал уже не так громко: — Прости мя, град. Вот, задержался. — Он кивнул на храм. — Обедня шла, никак раньше не мог. Винюсь! — И голову склонил, и опустились руки.
В толпе пошло движение. Любим шагнул было вперед. Но князь опередил его, опять заговорил так, что и глухой услышал бы:
— И я не в том только винюсь, что задержался, много на мне грехов. И то сказать! Пятьдесят и семь лет служу я тебе, град. Уж как могу, так и служу. Много чего за эти годы было. Да кой–чего и не было. Поганых на Полоте не было. Варягов не было — мы сами к морю вышли. И торг ведем по мере сил своих. Мы торгуем, не нами. Так, град?
Зашумели. А он — в толпу:
— Свияр Ольвегович! Ты кого нынче привел? Почем платил? А в Киеве почем отдашь?! Не говорит! — И засмеялся громко, как и пристало перед толпой.
И засмеялось, загалдело буевище. Свияр махал руками, что–то объяснял, только кому теперь до него дело?! Толпа — она дитя, неразумное, злое. И только тот, кто еще злей ее, кто витийствовать не будет, а станет говорить понятно, ясно, просто, — тот и победит. И чтобы крест тебя при тех словах не жег. Он прижал руки к груди, к кресту, и продолжал:
— Да, так вот и живем: торгуем, строимся, а если и горим, так сами по себе, своим огнем, ибо Боняк на нас не ходит и не жжет, полон не собирает. Это у них там, на Руси… — Князь даже показал рукой, где это «там», и продолжал: — Там брат мой Святополк, что ни год, с погаными мир покупает, у них там, у киян, есть и побор такой со всех дымов — поганым называется, и князь там в рост дает, а после ужо и того больше взыщет! А здесь… Живи, град Полтеск, богатей, я, сын твой и князь, пятьдесят и семь лет служу тебе и вот на столько… — ноготь показал, — ни разу у тебя не взял! И более того: мою долю с волоков уже который год не платите, и с веса не имею я, и с волостей, и судных вир не беру. И ведь молчу! Да и на храм еще даю, и сколько буду жить, всегда буду давать. Вот так–то, Полтеск–град! А мне за то… — Замолчал, дух перевел. Посмотрел на толпу.
И на него смотрели. Да, не было в толпе ни зла, ни лютости, но и… А, будь оно как будет! Молчать нельзя — на то оно и вече. И он сказал:
— Я терпел и сейчас терплю. И что с того? Да стали думать вы: «Чудно! Князь, а все терпит. Да князь ли это?» И стали говорить: «Нет князя! Помер! Видение над теремом стояло!» Теперь вот я стою! Смотрите на меня! Жив я! И еще долго буду жить! До той поры, пока сам не устану, пока сам не скажу «Довольно!» и не призову Ее и… — Он поперхнулся.
Что это? Словно копытом в грудь ударило! Круги в глазах. Он закачался… И тотчас же открыл глаза.
А может, и не тотчас же. Он, может, так полдня стоял. Нет, солнце — вот оно. Но мало ли… Глянул на толпу, на буевище.
Молчат они, глядят во все глаза и ждут… Не шелохнутся. Один… как звать его, забыл, с Гончарной улицы, закричал. И этот, рядом, подхватил! И эти! Все! Кричат.
Стоишь ты, князь, шатаешься и ни звука не слышишь. Оглох ты, князь. Вот и Любим что–то кричит. Ширяй стоит возле. И Ставр тут же, и Свияр, и Ждан… О чем они кричат, не знаешь ты. Ты только видишь: вон Горяй стоит, белый как снег, губы закусил аж до крови, она течет по рыжей бороде… У Тучи — дикие глаза. И гриди в страхе. Не только тебя, князь, всех сметут, затопчут и пожгут, ведь толпа — не Степь, там можно откупиться, задарить, крест целовать, а то и породниться, как Святополк, а здесь…
Стой, князь. Прислонись к стене. Руку положи на грудь, к кресту, сожми его. Молись, пес! Обещай! Клянись! Ты же веришь! Что оберег?! Он разве тебя спас? Он тебя в скверну ввергал, и ты сорвал его и под ноги бросил, ибо прозрел. Пресвятый Боже, дай силы устоять, услышать дай, дай дожить мне до того дня, что Ею обещан, а после — будь что будет! В геенну — на века, и пусть там рвут меня, терзают, пусть казнят.
Шагнул к Любиму. Руку протянул. Не дотянулся. Посадник отскочил, поднял грамоту и закричал…
И Всеслав услышал! Кричал Любим:
— Господарь Полтеск–град! Вот она! Так любо ли?
И загремело вече:
— Любо!
И заревели, и завыли! И руки подняли! К ступеням хлынули! Пусть давят! Пусть орут! От Буса заведено — давить, всех не подавят. Прости мя, Господи! Пес я…
Отхлынули.
— Любо! — кричали, — Любо!
Все тише крик, вразнобой.
И замолчали. Только гул над буевищем. И то разгорячились, вон как раскраснелись, захмелели, и пусть еще не пили, да знают: княжья кровь сладка, крепка, словно старый, настоявшийся мед.
Засмеялся князь! Ох, он давно так не смеялся! Вздулись жилы на шее, глаза налились кровью, трясло его и корчило, голову закидывал, руки разводил. И отпустило враз! Стоял весь в поту, его шатало. Расставил ноги, поправил шапку, оборотился к куполам, перекрестился.
Осмотрелся. И шумно выдохнул.
Страх! Во всех глазах светился только страх. Он снова руку протянул, сказал негромко:
— Дай!
И отдал грамоту Любим. Злобно шепнул:
— Нахрапом, сатана!
Всеслав кивнул: нахрапом, да. Губы поджал, взял грамоту и развернул ее, осмотрел, тряхнул печатью, сказал — так, чтобы все уже услышали:
— Она, родимая. Так что ты хочешь, град?
А самого шатало. Дай силы, Господи! Дай! Стоял. Толпа молчала. Любим зло прокричал:
— Так сколько уже сказано?! Еще раз говорю! Пятьдесят и семь лет мы под тобой ходили, клялись тебе и целовали крест. А больше не хотим! Хотим быть сами по себе. И возвращаем уговор. Рви, князь, в нем силы уже нет!
Всеслав молчал, посмотрел на грамоту, потом свернул ее, зажал в руке, спросил:
— А крестоцелование?
— Иона на себя возьмет.
— Возьмет? — Князь усмехнулся. — А сдюжит ли? Ведь стар владыка, немощен. Боюсь, а не придавит ли его тем целованием? — И к вечу обратился, смеясь: — Что скажете?
Молчало вече, не отвечало. И страха у них уже поубавилось.
Князь оглянулся на Софию. Храм был закрыт. Иона не придет, мирское дело ведь. Вздохнул. Расправил грамоту. Читал: «Мы, господарь Полтеск–град, и я… А старины не нарушать, новины не вводить… И так пошло от дедов и от отцов, от твоих и от нацщх, и быть так при… Целую крест. И мы целуем крест…»
А ныне — сами по себе. Вернули тебе грамоту, крестоцелование же Иона на себя возьмет; все по обычаю, от дедов и от отцов, от Буса так заведено, и изгоняли, и призывали так. И Глеб, Микулин сын, вот здесь так же ссажен был. Три года Полтеск жил без князя, а крови пролито, голов порублено было — не счесть. После призвали Володаря, племянника Глебова, от сестры его, а затем ссажен он был и вновь посажен, а сыновья его, Сбыслав и Мечислав, и вовсе не приняты, оба ушли варяжить и не пришли, потому что не ждали их, не звали. Оглашен был Рогволод, тогда совсем еще младенец, тот самый Рогволод, сын Мечислава и отец Рогне–ды. Потом было тихо! Владимир, Изяслав, и Брячислав, и ты, Всеслав, — пока… Да и ссадили–то тебя в тот, в первый раз, князь, без тебя, и уговор ты не рвал, и крестоцелование владыка на себя не брал. Ты, придя в Полтеск, этот самый уговор, эту грамоту, которую ты держишь, сам и писал, своей рукой, ибо тогда уже, по волчьему обычаю, верхним чутьем почуял…
Князь усмехнулся. Да! То, что хотел давно сказать, теперь и скажешь!
Но прежде посмотрел на вече. И те смотрели на него. И хорошо! Ведь большего и пожелать нельзя!
Ты сказал им, а не Любиму, только им:
— Господарь Полтеск–град! Ты хочешь по обычаю? И я того хочу! Не люб я вам, а любо «сами по себе» — пусть будет так! Я во как накняжился! Во! похлебал! Во — до изжоги! Но… Полтеск–град! Я не один! Род мой за мной! Сыновья! И они здесь — все прописаны! — И поднял грамоту, потряс и продолжал: — Давыд здесь, Глеб, Борис, Ростислав, Святослав, тот, который Георгий. Но нет его, Георгия. А Глеб, Давыд? А младшие? Ты, Полтеск–град, не со мною одним, ты и с ними рядился, а посему не стану я за них решать. Придут они, пусть станут здесь и вместе со мной порвут сей уговор. Я думаю, порвут, ибо не в честь князьям с такими вот, как вы… И когда они уйдут, и я уйду! А пока что… Держи! — И ткнул Любиму грамоту, и, гневно отстранив Горяя, сошел от Зовуна прямо в толпу. Расступились перед ним и давились, а он прошел к терему, поднялся по ступеням.
Успел только сказать:
— Закройте двери!
Его подхватили! Не упал, держали крепко.
— Князь! Князь! — испуганно шептал Горяй. — Князь…
А глаза его блестели. Туча спросил:
— Иону звать?
Зашикали. Игнат что–то сказал, понесли, стали поднимать по лестнице. А в среду будут опускать. Может, и не в среду. Да, обещала, но вот передумала, и нет на Нее зла, и на Любима нет, на чернь и на Митяя нет, как есть — так пусть оно и будет. И страха нет, да и чего страшиться? Несут тебя, зверь тебя не жрет, боль отступила, дышишь ты легко, все вокруг свои, Она — и та своя, Она такая добрая, и говорит Она: «Не бойся, князь, не скорби, ведь не о чем скорбеть, нагими мы приходим в этот мир, нагими и уходим из него, ибо так легче уходить, когда ты ничего не оставляешь, когда цепляться не за что и незачем». Внесли тебя, прошли через гридницу. Бережко вышел из подпечья, шапку снял, в ногах у тебя идет, молчит, теперь сказать нечего, и так все сказано. Положили, укрыли.
А руки что?! Сложите руки! Свечку дайте! Лик поднесите! Приложиться…
Нет! Игнат глаза ему закрыл, сказал… А что сказал, князь не услышал — провалился. Темнота и тишина.
Спал князь. А коли спал, значит, жив еще. Но, может, это уже не жизнь и он не здесь, а там…
Спал князь. И снилось ему, будто сидит он в порубе на Брячиславовом подворье. Ночь за окном. Да разве то окно? Оконце! Кружку подать, кулак просунуть — вот и все…
Ну и копье еще. Когда ты подходил к окну и говорил что–нибудь, тогда они копье совали и грозили. И был бы ты один, не отходил бы — ну, пырни! А так, при сыновьях…
Спят сыновья, Давыд да Глеб, Давыд тринадцати, а Глеб восьми годов. Лето прошло, сентябрь настал. Тьма в порубе, тишь за окном. Спит Киев–град. И ты, князь, спи, спешить–то некуда. Князь Судислав, брат деда твоего, тот двадцать восемь лет отсидел. За что, никто не знал, а только шептались, будто оговорен был, а кем и что было в том оговоре, ни слова. И Ярослав, Великий князь, Хромой, Хоромец, Мудрый, Переклюка, о том молчал. Уж он–то знал, что Судислав ни в чем не виноват, что и навета не было, а вся вина у Судислава лишь в том, что он был ему братом! А брат есть брат, и через Кровь не переступишь, и если ты, князь Ярослав, умрешь, то, по обычаю, твой брат, а не твой сын тебе наследует, и, значит, Судислав сядет после тебя. Вот ты и заточил его, вот ты и очернил. И умер ты, а Судислав еще был жив! Хоть и сидел он в порубе во тьме, голодал, а пережил тебя! И выходит, сын твой Изяслав сел в Киеве не по закону и власть его не от Бога! А Судиславу явили милость! Пришли Ярославичи в Плесков и высадили дядю из поруба, к горлу нож приставили, велели говорить, что стар он, немощен и слаб умом и что–де жаждет он постриг принять и жить тихо, безгрешно… И устрашился Судислав, сказал, как было велено. И жил еще три года. А после, слезы лживо проливая, снесли его и погребли, и сам митрополит служил сорокоуст… Вот так–то, князь Всеслав, ляг да засни и не спеши, вон сколько еще лет тебе томиться, а после тоже с превеликой честью снесут тебя, и слезы будут лить, и поминать: мы, дескать, говорили, брат, приди, помиримся, поделим дедино, а он меч обнажил, он первый, а не мы.
Змееныши! И встал ты, князь.
Сел. Тут стена, там стена. Ты как в мешке, и не ступить тебе. Тьма непроглядная. И кабы даже был с тобой дар брата твоего, то бы и он, тот камень солнечный, который и в туман, и в гром, и в беде, и в несчастье…
Но этот камень, уходя, ты ей, жене своей, оставил и сказал:
— Если сын родится, ему отдашь. На том пути, который меня ждет… туда ноги сами снесут.
Вот и снесли, Всеслав! И ты брошен в поруб, как Судислав. Но только Судислав сидел один, без сыновей, была у Судислава только дочь, ее пощадили, дочь — не наследница. А сыновья… Их первыми снесут, им долго здесь не выдержать, и ты, Всеслав, один будешь сидеть год, пять, и вся вина, князь, на тебя падет, зачем брал сыновей с собой, ведь клялся ты, кричал, что все делаешь ради них, для них, во благо им, им в честь, а получается…
Пресвятый Боже! Что есть крест? Не тот, на коем Ты страдал, а этот, что на мне. Вот взял купец ромейскую монету и растопил ее, в форму залил, потом шнурок продели, окропили… А оберег? Господи! Слаб я, но я не за себя молю — за сыновей! И вот целую оберег, кощунство это, знаю, но…
Шаги! Ты вздрогнул. Встал, прислушался.
Шаги. Не наверху, а здесь, оттуда они слышатся, куда ты руку протянул. Ведь в яме ты, земля вокруг. Так что, в земле эти шаги?! А может быть, вокруг тебя и не земля черная, а ночь, и ты не в яме, а…
Чур! Чур меня!
Изяслав, Великий князь, вышел из тьмы, остановился в трех шагах. Корзно на нем и шлем, в правой руке — узда. Темно, и ничего вокруг не видно, только Изяслав один.
Как будто и не в яме он и ты не в яме, а просто ночь кругом, луна ушла за облака, а за спиной твоей костер, как и тогда, когда вы, трое и один, вместе пошли на Степь, на торков.
И сказал Изяслав:
— Что, брат, не ждал?
Ты не ответил. Прости мя, Господи! Слаб я, глуп я, спесив, кощунствую, но знаю я: здесь я один, спят сыновья, а этот с братьями ушел, и нет их в Киеве, в степи они.
И ты в степи, а за спиной твоей костер, а у костра спят сыновья. А Изяслав насмешливо говорит:
— Не ждал, не ждал! Да я не к тебе пришел. Я вот, — уздой тряхнул, — коня ищу. Ты не видал его здесь, не слыхал?
Ты опять не ответил. Вот он, змееныш, пред тобой, и не сразить его, потому не плоть это — дух. А сыновья твои, и плоть и кровь твоя, спят за спиной твоей. Вон он куда их задумал — в ров! Да за такое… Нет, Всеслав, злу воли не давай, ведь мать его так же вползла, и ты тогда…
А Изяслав спросил:
— Так что, видал коня?
— Нет, не видал, — ответил ты тихо. — Но коли б и видал, так не сказал бы я тебе.
— Ого! — Изяслав засмеялся. — Вот ты каков! А я не верил. А Святослав не раз ведь говорил: «Куда ты смотришь? Волк он — наш Рогволожий брат!» Вижу, так оно и есть. Может, волк, ты моего коня — того?! — И снова засмеялся Изяслав, тряхнул уздой, та забренчала. Отсмеялся. Подошел к костру — ты отступил на шаг — и сел. Ты тоже сел. А он кивнул на спящих сыновей, спросил: — Твои?
— Мои.
— А хороши! — сказал Изяслав, скривясь.
— Да уж получше твоих будут.
— Ой ли!
— Да, брат. И вот за то, что хороши они, да и за то, что им по прадеду Владимиру выше твоих стоять, ты их в поруб и вверг.
Великий князь шумно вздохнул, прищурился и, глядя на огонь, сказал:
— Нет, брат. Ты сам их вверг. Я не искал того. Что я тебе сказал? Я сказал: «Приди, Всеслав, помиримся, поделим дедино, рассудим, мы ж одна кровь!» И ты пришел, и мы сошлись при Рше, я здесь, ты там. Я, старший, ждал, а ты, младший, не шел. Почему?!
— Уж больно Днепр там широк, при Рше, — сказал ты, улыбнувшись, — вот робость и брала.
— Юродствуешь, Всеслав! Прямо скажи: «Не верил я тебе!» Ведь я крест тебе послал. Ты и кресту не поверил?! А после креста еще два дня прошло, ты все стоял!
— А после ж я пришел.
— Ну и пришел! — Великий князь все больше распалялся. — А зачем? Ведь не затем ты шел, чтоб ряд держать. Ты лгать, брат, шел! Шел ввергнуть нас в раздор, чтоб меж нами лег. Признайся, того хотел?! Ну, отвечай!
Ты кивнул: да, так хотел.
— Вот! — вскричал Изяслав. — Вот, вот! И Святослав так говорил! И все! И только я один… Но как увидел тебя в лодке… и этих вот, — он кивнул на сыновей, — с тобой… Так словно пелена упала, брат! Волк, вижу — волк! Вот как они волчат натаскивают! И встал я, вышел из шатра, а им велел: «Чтоб без греха — он брат мне!» А теперь… теперь бы я повелел, чтоб… — Запнулся Изяслав, головой затряс, перекрестился, замер.
А ты сказал:
— Да, брат, все правильно. Волк я. Только зачем ты к волку ходишь? Иди к своим и ищи. Так нет! — Ты запнулся. И вскочил.
И он вскочил. Темнота, а во тьме… Все ближе, ближе конский топ! И вот совсем уже рядом…
Конь выбежал к костру, остановился, холеный, статный конь, каурый, со звездой.
— Мой! — закричал Великий князь, узду перехватил.
А ты ему насмешливо:
— Нет, мой! Мне в масть, мне в бороду. — Вперед шагнул, к коню.
— Мой! Мой! — взревел Великий князь, кинулся к коню и стал узду на него набрасывать.
А конь как мотнет головой! А голова–то у него в крови! И кровь — на Изяслава, на лицо. Князь как закричит!.. И тотчас же исчез! И конь исчез.
И говорил потом князь Изяслав: в ту ночь, когда они сошлись на Льте, когда он повел дружину за собой, когда полова перед ним была уже совсем близко, ты, Всеслав, явился ему вдруг и закричал…
Давыд вскочил, испуганно спросил:
— Отец, кто здесь?
— Спи, сын, нет никого, — ответил спокойно ты и подсел к нему, взял за руку, погладил.
Давыд вновь лег, глаза закрыл, долго молчал, так долго, что тебе уже казалось — сын спит. Вдруг Давыд спросил:
— А нас убьют?
Убьют! Когда бы все просто было — придут, убьют… Но ты сказал:
— Нет, сын, князей не убивают. Князей могут судить, и то только князья, и самое большее, к чему нас могут приговорить — к изгнанию. Таков обычай, сын, от Буса так заведено. Спи, спи. — И вновь к нему рукою потянулся.
Сын отмахнулся, вновь спросил:
— А в битве? В битве ж убивают!
— Так это в битве, сын. — Ты улыбнулся. — Погибнуть в битве — честь великая. Так Рогволод полег, так Олаф, крестный мой, так Харальд, его брат…
— Не убивают!.. — повторил Давыд, опять долго молчал. Неожиданно спросил: — А Бориса и Глеба? Убили!
— Убили, да… Но то не смерть была.
— А что?
— Спи. А не то вон Глеба разбудишь. Спи! Утром обскажу.
Давыд перевернулся на бок, замолчал. Ровно задышал. Спит, стало быть. Ему уже тринадцать. Когда же твой отец ушел…
И вздрогнул ты! Глеб, младшенький, лежал с открытыми глазами! И ты, к нему склонясь, чуть слышно прошептал:
— А ты чего? Не спишь, что ли?
— А я давно не сплю, — ответил Глеб. — Я слышал, как вы здесь рядились. Коня слыхал…
— Коня? Здесь, в порубе? Окстись!
Глеб заморгал.
— Спи! Спи! Почудилось… — успокоил ты сына.
Молчал он, на тебя смотрел. Сказать ему? Кто я?
Волк, зверь! Не знаю я, не умею, да и откуда! мне уметь, откуда знать, что надо говорить.
А он, малеча этот, приподнялся, подполз, уткнулся тебе в грудь и засопел, притих. Согреется — заснет. А там и ночь пройдет.
— Отец! — позвал вдруг Глеб, — А мне не страшно! А тебе?
И ты, ком проглотив, сказал:
— И мне. Чего бояться? Кто сюда сунется? Оконце вон какое тесное. Спи, сын! — И еще крепче его обнял.
Притих Глеб. Сопит. Но не спит конечно же! И Давыд не спит, вон снова заворочался. Скоро развидне–еагся, день придет, будет великий день — Воздвиженье Животворящего Креста Господня…
Знак! Знак, Всеслав! Моли Его, проси!
Триста лет тогда прошло, думали они, что грех их скрыт, ничего не осталось, можно говорить, будто не казнили на Голгофе никого, что все это россказни. И никого Он не спасал, и не страдал Он там, и вообще — да был ли Он?! Но пришли люди и разрыли землю и рбрели тот самый Крест, на котором Он страдал, и врзведен был храм, и вознесен был Крест над всей землей: смотрите, люди, помните! И знайте: зло нельзя скрыть, срок придет — каждому воздастся по делам его.
Так и здесь будет: воздастся тебе, брат Изяслав, преступивший через клятву! А то, что я, к оконцу подходя, изо дня в день предрекал суд и что придут Гог и
Магог, — так ведь по–моему и вышло, Изяслав! Кричал и накричал: пришла она, полова, тьма тьмой. И побежал ты навстречу и должен был в эту ночь сойтись с половой, и… Пресвятый Боже! Воздай же брату моему за все грехи его, избавь меня из рва сего, покажи силу крестную, Господи! Господи!
Упал ниц. Лежал, окаменев. И ничего не слышал. Давыд потом рассказывал, что добудиться не могли. День уже пришел, крик был по Киеву и звон во все колокола, прибежали сторожа, и звали тебя, и глумились, и копьями грозили. Потом убежали вдруг, снова пришли и даже бревна сверху стали разбирать, да бросили и скрылись. А ты все спал! И страшно было сыновьям, и думали, что умер, ибо лежал и не дышал…
И снова прибежали люди: чернь, земство, меньшие. Поднялся великий крик, разметали сруб, открыли яму и веревки сбросили.
И ты, словно слепой, зажмурившись, восстал из той ямы, и понесли тебя, и принесли на княжий двор, звонили на Софии, по всем церквам; сам митрополит, Георгий грек, белее савана встречал тебя.
Потом уже узнал: на Льте разбили Ярославичей, и побежали они, братья, полова же гнала их, и рубила, и топтала, и Святослав ушел к себе в Чернигов, а Изяслав И Всеволод пришли сюда, на княжий двор, затворились. Дружина же на Бабином торге ударила в набат, сошелся люд, и было ему сказано: идут поганые на Киев, не удержали их, Бог отвернулся, заступиться не пожелал. А Изяслава лишил разума — оттого и биты мы! И вскричал народ! И слух, который по дворам ходил крадучись, с оглядкой, прорвался наконец: вот–де нам казнь за то, что князь наш, преступив чрез честной крест, невинного вверг в поруб и тем навел на нас полову, а нынче только он, невинный, нас и оградит! А коли так, бросились все к порубу.
И вот несут тебя, невинного, на княжий двор, разор кругом, пожары и грабеж. Изяслав, Всеволод и чада их бежали. Но тот разор, тот крик тебе, Всеслав, как пение чудесное, ты рад и возглашаешь ты:
— Брат мой князь Изяслав ушел и вас оставил мне, а меня вам, хотите ли иметь меня за–ради вас?!
И всеобщий крик над Киевом:
— Хотим! Всеслав — наш князь! Венчать!
И понесли к Софии. Валом к алтарю, к Царским Вратам! Крик, ор в храме. Гремят колокола где–то в вышине. Раздалась толпа, ты сошел. Кричат:
— Венчать! Венчать!
И напирают сзади. Георгий, оградясь крестом, взывал:
— Всеслав, опомнись! Грех великий! Власть — не от черни, от Бога! Всеслав!
Кричал, слюною брызгал и хрипел, ибо сдавили вас, прижали к алтарю.
— Всеслав! — Георгий черен был. — Всеслав!
Выла толпа. И ты, Всеслав, в толпе кричал:
— Отче! Молю тебя! Чист я! Не в помыслах!
— Бес! Волк! Прочь!
Куда там прочь! Вой! Ор! Напирают со всех сторон. Подавят сами себя в храме. Георгий, отче, вразумись! Грех тем, кто сотворил сие, но больший грех тому, кто не унял, кто не желал унимать, кричал что–то не по обычаю.
— Венчать! — вскричал митрополит. — Венчать! Кия–не! Чада мои!
Храм дрожит от крика. Вой, смрад, толкотня. И — крик Георгиев:
— Венчать! Прости мя… — Крестится! В глазах страх, гнев. Чернь побежала, голося и причитая, призывая кары небесные, тащат из ризницы златокованый княжеский стол с высокой резной спинкой, на ней — сокол Рюриков.
— Прочь, нехристи!
И отступает люд, ревет и пятится, снова наступает. Вот он, стол, уже рукой можно достать, дед не достал, отец, а ты, Всеслав… Стоит стол киевский, великокняжеский! Рык злобный в храме, духота. Георгий весь в поту.
И вновь кричат:
— Несут! Несут!
Заволновались, зашатались — взад, вперед, и крик на вой сошел.
Вынесли блюдо, положили на… налой. Запели сверху:
— Господи, помилуй!
Враз! — отхлынула толпа. И даже ты, Всеслав, покачнулся. Сыновья твои к тебе прильнули. И вся толпа эта, чернь, словно бы опомнилась, онемела, замерла. Воистину, помилуй, Господи, помилуй их, безумных и слезных, глухих, стоят за спиной и дышат тяжело, внимают, оробев…
А хор затих. И тишина наступила в храме. Тогда митрополит к налою подошел, снял покрова.
И вздрогнул ты! Зажмурился, открыл глаза.
Вот он, венец Владимиров! И бармы самоцветные. Ромейский царь их прадеду прислал в знак равенства с тобой.
Стоял ты, князь, склонив голову. Глеб, тебя за руку схватив, дрожал. Малеча, что с тобой? Не бойся! Господь наш милостив, явил Он силу крестную, извлек из ада земного, а брат Димитрий… Изяслав… низвергнут за грехи свои.
— Отец! — шепнул Давыд. — Отец!
Опомнился! Шапку сорвал.
И тотчас наверху запели «Богородицу». Служба пошла. Служил митрополит. И то! Богородица, радуйся! Ликуй, Премудрая София! Вот, мы к тебе пришли, во скверне были мы, и были наши помысли черны, и бес нас жрал, ибо кто были мы? Грязь, гной. И на ногах своих несли прах тщет своих, гордыня нами правила, гнев погонял, глухи мы были, Господи, глаза были пусты, ибо не к Царству Твоему стопы свои направляли, а к мести, лютости, а теперь — вон сколько нас, и кротки мы, ибо…
Прости мя, Господи, слаб я! Вот и сейчас, молитву вознося, не о Тебе я думаю! Но Ты же говорил, что не затем пришел, чтоб спасать праведных, но чтоб привести заблудших к покаянию. И каюсь я! И коли праведен суд Твой, то смягчи кару Свою, и яви милость Свою, и дай мне силы, Господи!
Молебен кончился. Молчат все, ждут.
И ты взошел. И подошел к митрополиту. И голову склонил. И возложил Георгий на тебя животворящий крест и порфиру, и виссон, и бармы, и венец Владимиров и возгласил:
— Божьею милостью, здравствуй, господин, сын мой благоверный и христианнейший князь великий Феодор на мно–га–я ле–е–та!
И хор немедля подхватил и «Многолетье» пел. Георгий же, взяв тебя под руки, подвел к столу великокняжь–ему, ты сел и обозрел собравшихся.
Огромный храм! Прекрасный! Благолепный! Стоит народ, молчит, и свет у всех в глазах — наш князь! Так встань же, раб Феодор, и скажи, ведь ты же всем… Как вдруг крик во всеобщей тишине:
— Степь в Киеве! Степь!
Суматоха в дверях. Вбежал кто–то, продирается в толпе, расступаются пред ним, он все ближе, ближе. И; кричит:
— Степь! Степь!
Вбежал наконец — в кольчуге, без шелома, пал перед тобой ниц, поднялся на колени, сказал:
— Великий князь! Степь в Киеве! — Глаза его горят, борода всклокочена, кровь на лбу — своя ли, половецкая…
И ропот в храме, голоса:
— Князь! Князь!
И встал ты, князь, и руку властно поднял. Замолчали. Кивнул. Дружинник встал с колен, и ты спросил его:
— Что Степь?
— На Выдубичском броде! Большой дозор. А хан еще не перешел.
— Так!..
Стоял смотрел. Толпа… Нет, князь, люд пред тобой, весь Киев здесь: мужи храбрые, купцы, бояре, чернь… Тишина в храме, все молчат, ждут. Брат твой, князь Изяслав, мечей не удержав, бежал, и Всеволод бежал, а Святослав ушел в Чернигов, затворился. А верст до Выдубичей и десяти не наберется, хоть и велик сей град. Вот, князь, каков венец великокняжеский!
Снял его! Глеб был одесную — ему и передал. Глеб взял венец Владимиров, прижал его к груди.
Знак, князь! Великий знак! Ты усмехнулся, спросил дружинника:
— Как звать тебя?
— Купав.
— Ну что ж… Меч мне, Купав!
Купав дал меч. Меч был коротковат, и рукоять не по руке и липкая, но…
Меч поднял, осмотрел толпу. Чернедь, купцы… А вон кольчуга там, кольчуга здесь… Воззвал:
— Мужи мои! Дружина княжая!
И так, подняв над головой меч, ты пошел в толпу. Расступались пред тобой, кричали: «Князь! Всеслав! Наш князь!» На хорах запели «Богородицу», и — звон во все колокола! Шел ты впереди, следом Купав, еле поспевал, обсказывал все. Вышел ты, с тобой дружина, подвели коня — каурого и со звездой — вот, в руку сон!., подали кольчугу, щит, шлем. Помчались вскачь — Клов, Берестов, Печеры, — и сшиблись, и погнали, прижали к берегу и перебили весь дозор, и стали, «и рубились, а Степь все шла и шла, Днепр запрудили. «Йй–я! Йй–я!» — кричали и визжали, и лют был смертный пир. Все рубил, рубил без продыху, и лег бы да лежал — топчите, рвите, да не лег, откуда только брались силы, и пал уже Купав, и пали многие, и сам бы ты, Всеслав, смерти б не миновал, да подоспела чернь, толпа, земство, люд киевский — и дрогнула полова, побежала. А ты, князь–волк, — за ними вслед, в Днепр и за Днепр, и только уже к ночи возвратился и, осадив коня, швырнул толпе под ноги голову — желтоволосую, голубоглазую да черноротую, — так хан Секал достал–таки Киев! Достал — и покатилась голова.
А Изяслав, не потеряв своей головы, бежал, сел у ляхов в Гнезно, там и сыновья его — Мстислав, Святополк и Ярополк. А Всеволод ушел и затворился в Курске, при нем младенец Ростислав, а старший, Владимир, сын покойницы гречанки, царевны Мономахини, — в Ростове. Один лишь Святослав как был в Чернигове, так и сидит, и сыновья при нем, все пятеро. Степь, отбежав от Киева, подалась к Лукоморью. И только, говорят, курень Гулканов не унялся, а, миновав Десну, пришел под Сновск. Там их черниговцы и встретили, и порубили, и погнали, да только невелик почет побитых добивать — так и сказал ты, князь, на вече. И смеялся. И люд вместе с тобой смеялся. А тысяцким был выкрикнут Истома Острогляд, муж крепкий, из Свенельдичей. Пусть так! Им, градским, лучше знать, кого кричать, им под Истомою ходить, не князю. А что шипят про то, что все не по обычаю, при Изяславе–де такого не было, тот–де не так рядил, — пускай себе шипят. А где ваш Изяслав? И терем его каменный как был пожжен, пограблен да порушен, так и стоит. И будет таким стоять! Великий князь Всеслав в нем жить не будет. Он пришел по прадеду Владимиру, и сидит в тереме Владимира, и ходит в Десятинную, а не в Софию. От Десятинной благодать пошла, не от Софии, в ней пусть Георгий служит. В Софию с той поры ты, князь, лишь раз и заходил, и никого с тобою не было, так повелел, один ходил, молчал, искал, нашел и, руку положа на саркофаг, долго стоял и слушал сам себя, но ничего в своей душе ты не услышал, и даже зверь молчал… Зверь! В храме! Господи! За что?! И кто я, Госцоди? Волк, человек?! Да только тишина в храме, мрак, рука дрожит на саркофаге, а под рукой твоей спит Божий раб, брат деда твоего, брат твой, ведь так он говорил? Так, так воистину, ведь вы с ним одна кровь, оба Рогнедичи. Ну, коли так, ступай себе, Феодор, не томись, на все есть Высший Суд, и никому от Его гнева не укрыться. Ступай, ступай.
Ушел. И больше никогда уже не приходил, даже когда на Болеслава выступал.
Но то случится когда еще, весной! А нынче осень на дворе. И ты, Великий князь, сидишь в светлой гриднице на Отнем Месте. Сей стол, еще Владимиров, покоится на четырех индрик–зверях, из желтой кости резанных, а за спиной — сокол Рюриков из червонного золота крылья воздел. А Константин, ромейский царь, велел себе такой престол устроить, чтоб «был он десяти локтей, чтобы двунадесять златых лютых зверей на шести ступенях сюду и сюду лежали, и чтобы звери те, вставая, рыкали, коль кто к престолу приближается, и чтобы вкруг престола древеса стояли, и чтобы древеса те были златокованны, и чтоб на древесах седяху же златые птицы, и чтобы птицы те пречудно воспевали песни медвяные…» И как им Константин велел, так и было, ибо кто есмь человек? Хитр суть! И многокознен — чего и бесу не удумать, то человек тотчас изобретет.
А начиналось–то все как! Пришел, одолев Секала, и был почестей пир, каких Киев давно уже не видывал. Семь дней праздновали. Пятьсот вар меду было выпито, несчетно гривен роздано убогим. Везде столы расставлены: и в теремах, и во дворе, и на торгах — на Бабином, на Подоле, на Ввозе, и по улицам. Все по Владимиру, по прадеду! И так же по Владимиру меды, хлеба, дичину, яства всякие валили на телеги и везли, и вопрошали люди княжие: «Где сирые, недужные?!» Вот как! Ибо, давая сирому, вы Господу даете. И давал. И так и судил: не казнь, но виру налагал, а кому вира — половинил, и воспретил испытывать водою и огнем, ибо кощунство это, не по–христиански, и на поток не отдавал, рук не рубил — и тишь по Киеву, и благодать, и изобилие на всех семи торгах, и храмы — восемь сороков, большие, малые, тесовые и златоверхие — тебе, князь, пели «Многолетие», а стены неприступные, а валы крутобокие, да и кому, князь, на тебя идти, коль сторожа по самый Вороскол Степи не видели?! Но…
Донесли — в Печерах смута: игумен Феодосий в ектении по–прежнему поминает Дмитрия Великим князем и старшим над всем родом, а о тебе, Всеслав, как о хищнике стола не по достоинству говорит. Он так сказал: «Глас крови брата его вопиет на него к Богу, яко кровь Авеля на Каина!» И братия не ропщет и служит, как Феодосий повелел… А что, ты их спрашивал, Антоний? А ничего, ответили. Я, говорит, как говорил всегда, так и сейчас скажу: при Изяславе в глаза ему все высказывал, не робел, и ныне так же повторю: Великий князь нарушил крестоцелование, и воздалось ему за то, не стану его славить, а вас, чада мои, судить я не берусь, князя же Всеслава вашего не видел и не слыхивал, вот почему о нем молчу.
Ездил ты, Всеслав, в Печеры. Там, спешившись, сняв шлем и отложив меч, пришел к вратам обительским, день на ветру стоял, ждал, приняли тебя, но не Феодо–сий, Антоний. «Чего, — спросил, — тебе?» Ты покаянно преклонил перед ним колена, ни слова не произнес. Тогда он так же молча подал тебе руку и повел. Привел к себе… Он как семнадцать лет тому назад первым пришел в Печеры, затворился, так и жил. Другие приходили и селились рядом, храм возвели, а после в кельи ушли и обросли добром, а он все жил в пещере. Вошли к нему. И преломили хлеб, и чечевицу ты вкушал, и рыбу. Хотел ты говорить об Изяславе да о порубе, о том, как Святослав тогда еще, в степи… Ан нет, пустое это все! Вдруг вспомнил ты и рассказал, как ты, отец и старший брат по осени отправились на лов и били лебедей. Брат удачлив был, отец смеялся, а брат подхватывал и говорил: «Куда тебе в князья? Куда тебе в варяги? Вон, руки дрожат, не князь ты, брат, и даже не варяг!» А ты молчал, стрелял, стрелы уходили мимо, и думал ты, зачем стрелять, когда огнем за голенищем жжет и рукоять торчит, только согнись, брат отвернется, и… «А дальше что?» — спросил Антоний. «Ничего. Домой пришли, брат опять смеялся, а я в душе все клял его…» — «А дальше что?» — «Пропал брат мой, двадцать пять лет скитался и только прошлым летом был убит за морем. А перед смертью он меня простил!» — «А ты его?» — «За что?! Весь грех на мне! И что прощение? Вот кабы он живой пришел!..» И замолчал, и больше ничего не говорил, не мог: ком горло сдавил. И стыдно было, горько, гадко, руками заслонился и молчал… пока Антоний не сказал: «А зря ты приходил ко мне». И вздрогнул ты, руки убрал, смотрел, смотрел… спросил: «Как зря?» — «А так. Все в тебе есть, Всеслав, слушай себя — и все услышишь. Ступай… Ступай, Христос с тобой!»
Ушел. Назавтра повелел на месте поруба, на отчем, Брячиславовом, подворье поставить храм. И золото дал. Немало. И застучали топоры. В тот же день прибыл из Полтеска гонец, поведал: Альдона разродилась сыном. А из Печеры донесли, мол, Феодосий на ектении первым назвал Дмитрия, а вслед за ним Феодора, то бишь тебя, Всеслава, и вам обоим пели «Многолетие». Пусть так! Киев–то смирен был и сыт. В Переяславле крикнули посадника, и ты, Всеслав, то похвалил, принял грамоты, хоть говорили, что надо бы Давыда посылать в Переяс–лавль, потому и был бы сей удел под вашею рукой, под Рогволожьею. Смолчал. Переяславль прислал дань. И Туров, и Смоленск, и Псков. А Новгород не слал, на вече прокричали: «Отцы и деды наши Полтеску не кланялись и дани не давали, и мы хотим жить, как отцы и деды наши! И ничего не дадим!» В Чернигов ушел посол и по сей день не возвращается. И на Волынь посол ушел и тоже словно сгинул. Коснячко же отъехал к ляхам, к Изяславу. Отъехал сам, никто его не посылал. Перед отъездом он пришел к тебе, сказал:
— Князь, отпусти. Зачем я тебе здесь? И кто я, князь?
И то: есть тысяцкий Истома, на вече выкрикнутый,
и это он, Истома, привел тогда людей на Выдубичский брод. А кто Коснячко? Бит на Льте, бежал и затворился у себя, сидел кротом, молчал и в терем не являлся… Он и сейчас вон смотрит как! Зверь зверем. Ты улыбнулся и спросил:
— А отчего ты вдруг? Совсем невмоготу?
— Совсем, — кивнул Коснячко. — Погибель чую, вот и ухожу.
— Свою погибель?
— Нет. Твою.
— Ну, это еще как сказать!
— И говорить тут нечего.
— Не каркай!
— Когда бы каркал, был бы вороном, а был бы вороном — не уходил, а дожидался б мертвечины. Чтоб поклевать!
Вот такая была в тот день беседа! Еще он, бывший тысяцкий, сказал:
— Ты — князь, Всеслав, по стати, по крови, храбр ты, мудр, крепок на рать. Но… не Великий князь, а так… На торков шел — не дошел, на Ршу пришел — «г перешел. А нынче вовсе сидишь. А кто бездействует, тому не усидеть. Вот потому–то я ухожу.
И встал Коснячко, усмехнулся. И ты, Всеслав, не выдержал, вскричал:
— Постой!
Остановился бывший тысяцкий. А ты спросил:
— При Рше… тогда ты знал, что будет?
— Знал.
— И не сказал?!
— И не сказал. И ты, когда еще на торков шел, знал, что… сюда придешь. Да вот не сдюжил. И… опять пошел! И там, при Рше, ты сам сказал, что если бы был знак, то… что ждешь его. А был от меня знак — не поклонился я, ушел, как лютый недруг. Я и сейчас уйду. Ты ведь опять боишься, князь!
— Так что же мне?!
— А ничего. Сиди. Прадед твой, Владимир, тот не сидел. И крови не боялся! И Ярослав… А Брячислав, отец твой, не посмел — и ряд держал, и Ингигерду отпустил, и Эймунда отринул, потому–то Ярослав так и остался в Киеве. Их всего трое, князь, от рода Яросла–вова. Но страшно, ох как страшно! А коли страшно, лучше уходи, и будет поминать тебя люд младший, чернь…
— Иди!
Ушел Коснячко. Да! Их трое. А у Владимира и того меньше, двое — братья Олег да Ярополк. И кровь была. У Ярослава же — Мстислав, и Судислав, и Святополк, и Святослав, Борис и Глеб. И снова — кровь… А у тебя… Не трое, князь! Это дядьев лишь трое, это старшие. А сыновей у них, твоих, князь, дальних братьев, таких же, как и ты, шестого поколения по Рюрику… У Изяслава: Святополк, Мстислав да Ярополк; у Святослава: Глеб, Роман, Давыд, Олег да Ярослав… А еще Всеволод: в его роду младенец Ростислав да Мономашич Владимир в Ростове. И от усопших Ярославичей: Вячеславов сын Борис да Игорев Давыд. От новгородского Владимира, от старшего из Ярославичей, сын Ростислав Тмутаракан–ский хоть и умер, но ведь за ним осталось трое, князь, твоих племянников: Василько, Рюрик, Володарь… Но их–то что считать? Окстись! И без того кровшци–то сколько! Ушло время, ушло. Но ведь соберутся вместе и сожрут! И будет кровь — твоя уже. Сойдутся и сюда придут, никто не остановит, ибо к себе идут, на отчину. Хоть и далеко они и не шумят пока, молчат. Но уже сходятся, гонцами сносятся! И говорят, что Изяславов Святополк тайно пришел из ляхов в Новгород и Чудин с ним. Вече сошлось, и Чудин подбивал, тебя хулил, Стефана же никто не слушал, и тогда он, Стефан, им всем наперекор, пошел к тебе… А где теперь Стефан? Митрополит сказал: «Раб удушил владыку, раба предали лютой казни». Стефан, Стефан! Ты говорил, что далеко нам до Святой Земли, всю жизнь идти — и не дойти. Ан нет! Намедни старец был, калика перехожий, сказал: град Иерусалим и Киев–град похожи, там есть Золотые Ворота—и здесь. Там из Гефсиманского сада выходишь — сразу через них — и на Голгофу, а здесь — на княжий двор. И засмеялся пес! И увели его… Ох, лют ты, князь! Зачем ты так того калика? И его кровь, Всеслав, на твоих руках.
А за окном осень прошла, зима, и весна явилась, и ледоход, и паводок, на низком левом берегу, черниговском, все затопило: куда ни глянь — одна вода. На то он Днепр! Двина потише будет. Там, на Двине, твой младший сын растет, Георгий–Святослав, ты, князь, его еще не видел, полгода сиднем сидишь в тереме, боишься. Всех боишься, князь! Учуял, волк затравленный! А тихо ведь. Бояре улыбаются, чтят, славят на пиру. Но только заикнулся ты о том, что надо бы из Полтеска дружину… И замолчал ты, князь! И было по–боярски. И мир по сей день в Киеве. Вот хочешь ты отстроить терем Брячиславов — отстраивай! Подновили нижние венцы, золотом крыльцо украсили, крыша медная, наличники в узорах. И храм Феодора строй, князь… А мед не тронь! Мед — наш, от дедов и от отцов наших, так исстари заведено. Олег, Оскольда уморив, и тот на наши отчины не покушался! N
И тихо в Киеве. Храм ставят там, где поруб был: каждый день в княжьей гриднице почестей пир шумит, а люди княжие меды, хлеба и яства всякие слагают на телеги, и везут, и вопрошают сирых и недужных, и то тебе, Всеслав, воздастся Там. А здесь…
Гонец из Полтеска. Еще один. Еще. А ты сидишь! Высок он, стол великокняжий, ох как высок, что и земли под ним не видно, и крепко ты сидишь, вон как вцепился… И ослеп, оглох, коли гонцов не слышишь! И грех ты на себя берешь, великий грех, ты подумай, князь: когда пред Ним предстанешь, что скажешь ты? Молчишь? Вот то–то же! И Там будешь молчать. А в Притчах сказано: «Кто высоким возводит свой дом, тот ищет разбиться, а кто покатит вверх камень, к тому он и воротится, кому гордыня явится, тому придет и посрамление…»
И ведь идет уже! Брат Изяслав и сыновья его Мстислав и Ярополк, а вкупе с ними ляшский Болеслав уже прошли Волынь и Луцк и дальше движутся, и рать у них несчетная. А Всеволод из Курска выступил, и ждет его брат Святослав в Чернигове. Изяславова Святополка на вече новгородском крикнули князем, и он собирает рать… А что же сыновья твои, Всеслав, Давыд да Глеб? Малы еще, какой с них прок, да… уже взирай на них, Всеслав, и ужасайся же тому, что в них тобой посеяно! Давыд на брата косо смотрит, губы поджимает, он старший, а не Глеб, но Глебу ты вручал венец Владимиров, когда шел на Секала. Да, правда то: ты в мыслях не держал, так получилось: Глеб одесную встал. А старший не простил того малече! И жги его теперь, казни, но не признается Давыд, а скажет: «Брат — мне брат, зла не таю, то домыслы», но ты же видишь, знаешь, сам был младшим и любимым, и помнишь, это — как ржа, гнилая, ненасытная… Воистину же сказано: ни богатства, ни бедности не дай мне, Господи, а дай лишь хлеб насущный, ибо коль буду я богат, то вознесусь в гордыне, а буду беден — стану замышлять татьбу или разбой^..
А Изяслав да Болеслав — все ближе, ближе! Вот она, кровь, идет, Великая!
А в Полтеске Альдону обошли — кто, как, никто не знает. И сохнет она, гложет ее червь. И отняли младенца от груди, и поят ее травами, и служат службы Ьо церквах, дары носят волхвам. И ждут тебя.
А на Подоле, говорят, скакали верховые, по–волчьи выли, дико хохотали, после них остались следы — не от копыт, а волчьи, преогромные, все видели! А кони те — каурые, со звездами.
А Всеволод да Святослав, сойдясь в Чернигове, послали Изяславу слово, чтоб тот на Киев ляхов не водил, как Окаянный, что–де сами справимся, обложим да затравим.
Да не послушал Изяслав, шел с Болеславом, а при Болеславе меч Щербец, тот самый, которым еще дед его, и тоже Болеслав, врата киянам порубил и Святополка Окаянного возвел, а ныне–де пора зарубку подновить! И волчью кровь пустить.
Только когда сошлись на вече и кричали, выступил Великий князь Всеслав на Изяслава с Болеславом, пришел с дружиной в Белгород, встал, ждал, пока Истома, тысяцкий, подняв народ, приспеет. А он не шел, Истома, день, два, три. Изяслав с Болеславом пришли, расположились станом в поле. Ночь настала, киян все нет, и ты, Всеслав, взойдя на вал, стоял и вниз смотрел. Град Белгород — он на горе, гора в полета саженей будет, тут можно лето простоять и без киян, если бы, князь, стоял ты с полочанами. А так опять один. Стоял молил и Господа и оберег и Буса вспоминал. Пуста была дорога!
А в поле стан Изяславов стоял, несчетно войска у змееныша! А у тебя кто за спиной? Его же, князь, змееныша, дружина! Своих ты так и не привел, хитрил да ублажал, выгадывал. Ну так теперь… Чу! Верховой от них!
Опять Коснячко! Да только не та была нынче беседа, князь, не та! Бел ты был, мрачен и просил Туров, Смоленск, хотя бы Псков — Коснячко лишь смеялся. И говорил, смеясь, что поздно, князь, что хищник ты, не по достоинству взошел, но по достоинству низвергнут будешь! Дерзок был Коснячко! И гневлив, многоречив. Как в шапке вошел, так и сидел, на лавке развалясь, к вину и не притронулся, и без того был пьян и краснолиц, и в пот его шибало от гордыни. Ты же, рукой от света заслонясь, молчал, и меч был при тебе, и мог бы ты его, хмельного, как свинью, вот прямо здесь… Не тронул!
Встал, сказал:
— Иди. Скажи ему: утром сойду. И в поле встретимся.
— Сойдешь?! — засмеялся Изяславов тысяцкий, повторил: — Сойдешь! — И еще громче засмеялся и сказал: — Один сойдешь, Всеслав! Дружина не сойдет, ибо дружина не твоя, его. А если и сойдет она, так только для того, чтоб привести тебя к нему в оковах. И уж на этот раз не будет тебе поруба, Всеслав! А знаешь, что тебя ждет?!
— И пусть! — Сел ты, князь, руки положил перед собой, не дрожали руки.
— И пусть! — повторил Коснячко, кивнул, и словно хмель с него сошел! Тихо, мрачно так сказал: — Да, пусть. Ибо ни хитру, ни горазду суда Божия не избежать. А… сыновья твои? Им–то такая судьба за что?! Ведь их, как и тебя, не пощадят!..
Тихо стало в горнице. Молчал Коснячко. Ты молчал. И долго вы так сидели. Капал воск. Мотылек летал у пламени. Коснячко отогнал его рукой, еще немного помолчал, потом встал, сказал:
— Пойду. Скажу ему, что в полдень ты сойдешь — один и будешь говорить ему… Скажу, скажу! — В дверях остановился, обернулся. Сказал: — Вот видишь, князь, как сыновья твои тебя спасли!
И ты вскочил! Кровь в голову! И… в стол вцепился, не пошел. Сказал только:
— Ты — сатана!
— Я? Нет. Вот, крест на мне. И разве сатаны бояться надо?!
С тем и ушел. И в поле повторил слова свои. Изяслав стоял, ждал до полудня, не стронулся с места. И в Белгороде ждали. Когда же поднялись к тебе, вошли, ан след уже простыл! Рубили, говорят, крушили и топтали! Погоню снарядили наилучшую. Рассказывали, тогда–то Болеслав и драл у Изяслава бороду и приговаривал! А после, на Подоле, уже не Болеслав, не Изяслав даже, а сын его Мстислав тебе, князь, за Череху мстил, за Новгород, за Выдубичский брод, за все! Вот где кровищи–то пустил! И не спасло Истому, что он тебя, князь, предал, не пошел! И прочим, князь, досталось. Сто двадцать пять голов на копья подняли! А сколько глаз достали! Поотрезали языков! Ноздрей повырывали! На что брат Святослав лют был, и тот Мстислава укорял, в Печеры не пустил, а то бы и Антонию несдобровать было тогда. Вот так–то, князь! Ты крови не хотел, а кровь была! В улей полез, а пчел не поморил… И кровь, вся эта кровь, князь, на тебя! Пришли они и порубили тех, кто пуще прочих за тебя кричал, и тех, кто просто подвернулся. И отчий терем, Брячиславово подворье, сожгли и пепелище запахали. Только храм Феодора не тронули, он, храм, и по сей день стоит, как стены при тебе взвели в сажень, так и стоят они и по сей час.
А сыновья твои, Всеслав? Ведь не они тебя тогда остановили, не оттого ты побежал тогда, чтоб их спасти. И вот опять, сейчас уже, Всеслав, ты что Ей обещал?! Ты говорил: приму послов, сыновей созову, а четвертый день уже кончается, а ты, как и тогда, забыл о них!
Пресвятый Боже! Глаза открыл…
3
Вскочил, упал и закричал:
— Игнат! Игнат!
Темно уже. Сердце стучало. Было жарко. Вошел Игнат. Зажег лучину.
— Игнат! — снова тихо позвал Всеслав. — Воды. Игнат подал воды, той самой. Держал под голову,
пока князь пил. Напившись, снова лег. Сказал:
— Игнат, хочу послать за сыновьями. Игнат долго молчал, потом сказал:
— Так посланы уже.
— Нужно, чтоб скорей, Игнат!
— Куда еще скорей? Дымами вызваны. Дымами. Ну, князь, дождался ты… Он через силу
усмехнулся и сказал:
— Так, может, я еще и поживу, чего вы так?
— Так то не мы — Любим велел.
— Любим?! — как обожгло, рот скривило! — Ох, рано он меня!.. — Князь, взявшись за Игната, сел, отдышался, зло спросил: — Что, он меня живого понесет?! Дымы! Быть может, по нему дымы еще скорей… — Поежился.
Дымы! Восемь лет уже прошло, как был последний дым из Киева; брат Всеволод почил, смута началась, не принимали Святополка Изяславича, звали Владимира, Владимир не желал, пустили дым на ряд, ты не пошел… Спросил:
— Сколько дымов?
— Четыре.
Да. Четыре. На Витьбеск, на Менск, на Друцк и на Кукейну. Всем сыновьям. Ох, рано ты, Любим…
Игнат сказал:
— Князь, то не по тебе. На вече дым. По грамоту.
— По грамоту… — Закрыл глаза. Немного погодя спросил: — А что послы?
— Молчок пока. А ждет тебя Ширяй. Любим его прислал.
— Пусть ждет. Накрой ему. Иди.
Ушел Игнат. А он лежал… По грамоту. Припекло, неймется им. Дымы ушли. И сыновья придут. Да не к тебе, Всеслав, а к Зовуну, на вече. И будут там… Гадал ты, князь, выбирал, кому удел оставить… Никому! Лю–биму! Черни! Сел, перекрестился. Прости мя, Господи, ведь права Она, надо было Ее слушать, надо уходить в свой срок, и не было б позора. Отец, чем на мазур идти, совсем ушел, дед меч не обнажал, Русь не мутил — и только тем ныне и памятен, что книжен, кроток был. Рогволод в чистом поле пал, и Бус с охоты не вернулся. А ты, Всеслав… Ведь это же из–за тебя сто двадцать пять голов тогда на копья подняли! И это только в Киеве. А после, в Полтеске, когда Мстислав сюда вслед за тобой пришел. И был Коснячко прав: не сатаны надо бояться, а себя. Хитр человек, многокознен, подл! Ведь ты тогда бежал не оттого, что сыновей спасал, хотя и их, конечно, но не себя; себя ты, князь, быть может, больше всех не любишь, ненавидишь… Это — нынче, а тогда — змеенышей! И оттого–то, князь, ты хоть сейчас признайся, ты и бежал, что жаждал кровью их упиться, да силы не было. В Полтеск прибежав, гонцов погнал в Литву, к ятвягам, пруссам, ливам, чуди, за море — к варягам…
А сын твой младшенький, Георгий, таким смышленым рос! И ты ходить его учил, он гугукал, пузыри пускал, просился на руки. И ты носил его… А к ней не подносил! Она так повелела. Сказала:
— Мне так легче будет. — Да не сказала! И не прошептала, ты по губам прочел.
Она давно уже лежала, не вставала… А ведь родила она легко. И грудь младенец взял. Так прошло семь дней. А в ночь перед Воздвиженьем, когда тебе явился Изяслав, когда ты призывал на его голову все казни смертные, тогда то и случилось! Вот чем ты заплатил за тот венец, за бармы и за Место Отнее, за Киев. А может, вернись ты, князь, с первым гонцом или потом, уже на масленой, когда Коснячко уходил, когда по Подолу проскакали верховые, когда Стефан к тебе двинулся, да не дошел, а Болеслав и Изяслав стакнулись, то бы и ожила она, и поднялась! Так нет! Сидел, цеплялся! А теперь от
Гимбута гонец: не сын ты мне, ты дочь мою сгубил, внуков отдай, а не отдашь, сам приду за ними. И что Литва?! Здесь, на Торгу, кричат: «Убил, околдовал, кровь отравил! Ромейский царь пообещал ему сестру свою, и соблазнился он, захотел стать как Всеволод, с ромеем породниться и нас ромею же продать! Волк он!»
Одна она молчала, не корила. Ты приходил, садился в головах, сидел как каменный. Она, не открывая глаз, искала твою руку и подносила к волосам своим, и ты их гладил, потом шею, волосы и снова шею, снова волосы, шея была тонкая, сухая, а волосы, как и прежде, мягкие, душистые. Гладил ты их, гладил, гладил. Но свет никогда не зажигал, зачем ей свет, если глаза ее всегда закрыты; а твои глаза — это твои! Князь — он на то и князь, чтобы никто не видел, какие у него глаза бывают в такие часы, а кто увидит — лучше бы ослеп! И сам ты, князь, как не ослеп в те дни, ведь ты тогда иссушил глаза свои! Воистину прав был отец, сказав: «Плачь, сын!», да где же слезы взять, когда не плачут камни, им, камням, не больно и не стыдно; камень, отринутый строителем, на то лишь и способен, чтоб давить…
И умерла она. Она лежала, ты сидел и гладил ее волосы и шею, снова волосы и снова шею. И зверь вдруг засмеялся, завизжал! А после заскулил, заныл. Вон сколько дней молчал, а тут…
Обмыли Анну, обрядили, снесли в собор, гроб стоял пред алтарем, и пели уже литию, стоял ты в черном рубище с непокрытой головой, сыновья уже простились с матерью, и тогда ты склонился к устам ее… Вдруг мальчонка, как потом дознались, тот самый Николай, которого ты, князь, привел из Менска и он здесь при Софии в служках был, закричал:
— Волк! Волк! Кровь пьет! — И взвыл, руки воздел.
Загудел народ! И хлынул врассыпную. Кивнул Бурна–та — кинулись в толпу хватать зачинщиков. Да встал народ стеной! И ты зло глянул!
Погребли ее, Альдону, Анну. А Николай сбежал; да ты и не искал его. Ты и на тризне не был, из храма вышел — и… Как жив тогда остался! А все Игнат. А может, это и зря, а может, был тогда твой срок, Всеслав, ведь что произошло потом, и вспоминать не хочется. На третий день явился Гимбутов боярин и сыновей забрал, ты не перечил. А на седьмой пришел Мстислав, привел с собой киян, черниговцев, переяславцев, прислал гонца, народ составил вече. А ты на вече не пошел, в Софии был, сорокоуст читали. Гонец же говорил, что Мстислав берет вас, полочан, под свою руку, покоритесь — будет тихо, не согласитесь — пожжет, как жег менян, порубит, как киян, и на том крест его, Мстиславов, он целовал и вы целуйте! Бурната, осерчав, крест у гонца отнял, оземь бросил, кричал, мол, нет им веры, Ярославичам, и гнал посла, и вече разделилось, смута началась, великий крик. Вызвали тебя, вышел ты, да говорить тебе не дали, только пуще крик поднялся, ударили в Зовун, а потом, вовсе озверев, сошлись на буевище — и в мечи. Вот какие были поминки по Альдоне! Город запылал! Открыли Лживые Ворота. Мстислав вошел.
И отступили вы на Торг, а там прямо к ладьям, подняли паруса. Мстислав же, разум потеряв, как был верхом, впереди всех, так и погнал коня прямо на сходни. И тут ты, князь, копьем его! Под шлем. В глаза его звериные! Упал Мстислав с коня в Полоту, в воду черную. А ты возликовал! Убил! Убил! Смеялся ты, кричал, сойти к нему хотел, еле удержали. Ушли вы вниз по Двине. Ты лежал под парусом, в небо смотрел, оно было чистое, ни облачка, пела душа. Да, не по–христиански это все…
Спасли его, Мстислава, отходили. Вышел он, Мстислав, на буевище, повелел звонить в Зовун, сошелся люд — и свершился над ними княжий суд! Голов порубили — гора была, рукой не дотянуться! И грамоту твою, твой ряд с Землей, Мстислав тогда порвал прилюдно. А после — пир в твоей, князь, гриднице.
Спали уже все, когда закричал Мстислав! С ложа вскочил, метался, мечом рубил, достать кого–то хотел, убить. Да разве домового кто убьет?! Только беду накличешь! Так оно и случилось. С утра пошел Мстислав в твою конюшню и самолично выколол твоим лошадям глаза, обрезал губы, уши отрубил. И как был в крови, пошел в Софию. И встал он перед алтарем, там, где ты с той поры всегда становишься… И долго он, Мстислав, молчал, смотрел, но не на Царские Врата, не на Спасителя, не на Софию даже — на Тирона. Шрам от твоего копья все больше наливался кровью. И неожиданно спросил:
— А кто это?
? Владыка кротко отвечал:
— Святой Феодор, именуемый Тироном.
— А почему он при копье? — опять спросил Мстислав.
— Так по канону…
— А почему тогда… — Мстислав уже кричал, — на нем варяжский плащ? А почему?! Да потому, что не Тирон это — волк! Варяжский крестник! Выкормыш! Меня вон как пометил! Так же и я его! — И меч он выхватил, и замахнулся на Феодора, на лик и… упал! И дух из него вон! И там, где он упал, ты, князь, потом стоял, когда служили «Избавление», и с той поры ты там всегда стоишь, ногами попираешь это место, ты и сегодня там стоял.
А он, Тирон, чего греха таить, и впрямь был на тебя похож — тогда. Теперь–то уже нет, не тот ты стал, Всеслав, вон, заплешивел, усох, как прошлогодний гриб: Мстислав тебя и не узнает. А скоро встретитесь, и вместе вам гореть. Вот и четвертый день уже прошел, так же и пятый, и шестой пройдут. А Мономах молчит, нет от него послов. А в день седьмой придет Она, засмеется, скажет:
— Ну что, Всеслав, обвел тебя твой дальний брат? А я ведь знала это, знала! И говорила же — пойдем!
Что это? Она?! Тень у двери…
И хоть бы и Она! Чего стоишь? Бери меня. Чем выходить к Ширяю, чем сыновей встречать да под Зовун идти драть грамоту — лучше уж с Нею идти.
Нет, привиделось — нет никого. А Ширяй ждет. Встал, облачился. Подошел к окну. Темно там, тихо.
Эх, зря Орлика скормил. Зря оберег отдал. Все в этой жизни суета! Был тебе срок, Всеслав, да проморгал, сам себя переклюкал. Иди!
Вышел в гридницу. Как прежде вышел — важно, гордо. Сел.
Защемило в боку, закрутило, сдавило! Игнат шагнул было к нему. Махнул рукой, Игнат остановился.
— Уйди!
Ушел Игнат. Ширяй остался. Стоялг стрелял глазами, оробел. Сказал Всеслав:
— Садись.
Тот сел. Всеслав спросил:
— Пошли дымы?
— Пошли.
— А ряд когда?
— Когда сойдутся. Все.
— Так… Так… — И усмехнулся .в бороду.
Все. Четверо! Воистину — как жил грешным, так и умрешь… Все воедино сходится: Она, послы и сыновья. Ну, Витьбеск здесь, под боком. А Менск? А Друцк? Сказал:
— Два дня на то уйдет, не менее, пока все четверо приедут. Весна! Распутица.
— Весна, — кивнул Ширяй. — Так и Любим сказал: на среду ряд назначен.
— На среду! Так…
Руки лежали на столе. И не дрожали. А ногти были темные, должно быть, синие, да при свече не рассмотреть. И прав Любим: во вторник только съедутся, а в среду поутру как раз и бить в Зовун. Вот видишь, князь, ты угадал! Как раз успеешь подвести итог жизни своей и здесь падешь, и там… Нет, там Она тебя подхватит, повлечет, пальцы у нее, ты ж помнишь, цепкие, они в кадык вопьются, и захрипишь ты, князь, как сват хрипел, когда его Нерядец резал, и Олаф, говорят, хрипел, а не молился, хоть после и причислен был к святым, и Изяслав, Великий князь, твой ненавистный брат, во поле убиенный, и он хрипел, и Святослав, во гное захлебнувшийся… Вот где судьба была! Тьфу–тьфу! Князь головой мотнул.
Ширяй шарахнулся, вскочил.
— Не бойся! Не трону!
Сел Ширяй. Всеслав спросил:
— Зачем ты шел за мной?
— Когда?
— Когда я от Любима возвращался. Через толпу, один. А ты — за мной, как пес!
Ширяй скривился, сморщился, зло сказал:
— А пес и есть! А кем мне быть? Свиньей?! — И, помолчав, тихо1 добавил: — Свиней и так довольно.
— Это верно!
А про Митяя не спросил. Негоже князю спрашивать, пусть скажет сам!
И Ширяй заговорил негромко, запинаясь:
— Любим велел град запереть. И если кто из сыновей твоих придет с дружиной, так чтоб дружину не пускать. И чтобы Туча и Горяй крест целовали, из Детинца вышли, и чтобы Шумные Врата стояли распахнутыми, и чтоб при них Митяй и Хворостень были.
— Что Хворостень?!
— А ничего. Это Любим так говорил. А Хворостень сказал, что не придет и людей своих не даст. Он на селе стоит.
— Ждет?
— Ждет… Митяй же черный ходит. — И замолчал Ширяй, смотрел прямо в глаза, хоть страшно ему было, но смотрел.
И князь тихо произнес:
— А зря это Митяй. Он не жилец теперь.
Сказал — как припечатал. Ширяй перекрестился — по Митяю. А что Митяй, как, почему и чем его купили — все едино. Зверь ощерился. Ты ж знаешь, князь, не раз так уже было! Зверь знает наперед, зверь чует. Когда начал брат Изяслав учить племянников, веселился зверь, когда брат Святослав хоть крепок был, да вдруг… Да мало ли было случаев, когда зверь скалился, все разве вспомнишь? А вот теперь — Митяй… И князь перекрестился. Помилуй, Господи, но Ты же знаешь, что я никогда не ворожил, след не затаптывал и прутьев не ломал, волос не жег, иглою не колол, воды в лукошке… Ничего не делал. Оно само собою выходило. Вот и сейчас, поди ж ты…
Закрыл глаза, открыл. Сидит Ширяй как каменный. Почуял! Князь улыбнулся, сказал:
— А ты — жилец, Ширяй, жилец, тебя не чую.
Ширяй перекрестился, зашептал, опять перекрестился. Ишь как его задергало!..
— Ширяй! А там… в лесу, на охоте, он что, и вправду меня… да?
Долго молчал Ширяй. Потом еле выдавил:
— Порвал он тебя, князь. Ох как порвал! И не сказать!..
— А после что?
— Словно кто глаза наши отвел! И встал ты, князь! Мы оробели. Третьяк сказал: «На то он и волколак!»
Вот, волколак! Не свинья. Не пес. Не ворон. Не змееныш… Встал, опершись о стол, потому что качало. Сказал:
— Иди, Ширяй. Скажи Любиму: в среду ряд. И Шумных Врат не затворю, и сыновей одних, без воинства, приму, и Тучу и Горяя усмирю. Иди!
Ушел Ширяй. Князь сел. Стиснул зубы, перекрестился. Пресвятый Боже! Господи! Превыше облаков милость Твоя, но до небес и гнев Твой праведный! И знаю я, что Ты не оставишь меня спасением Твоим, ибо того я недостоин, черна душа моя и помыслы черны… Но и враги мои — несть им числа! Да облекутся они в бесчестия, как ныне в злато облекаются… Всеслав, опомнись! Встал. И позвал:
— Игнат!
Вошел Игнат, и Туча, и Горяй, Батура, Хром, Сухой, Невьян Копыто и Невьян Ухватый, Ведияр, Базыка, Зух. Вошли и замерли. Всего–то их! Ну, и внизу еще. И у конюшен. И у Лживых. А было–то, пока по сыновьям дружину ты не разделил, не раздарил. В те годы разве бы
Любим посмел?.. Бы! Бы! Как баба, князь, разбыкался… И засмеялся, сказал:
— Вот, отпустило меня, соколы. Жив я. А то небось уже думали… Ведь кто–то из вас и ждал, поди!..
Молчали. Ну и пусть молчат, заговорят еще. Сказал издевательски:
— Ширяй тут бегал, видели? Вынюхивал. Пусть нюхает! На то и пес. А мы… — Подошел к столу, взялся левою рукою за столешницу, за самый угол… И несильно лишь сжал да повернул. Заскрипела доска, затрещала, запела! Усмехнулся князь и столешницу отпустил, огладил и сказал: — Еще послужит, да! А коли так… — Повернулся к Игнату: — Так накрывай на стол! Вина хочу. И всем вина!
Игнат брови поднял:
— Князь, нынче ли?!
— Да, нынче. Еще дичины прикажи, хлебов. А вы чего? К столу! А ты, Игнат, не стой!
Ушел Игнат. А остальные расселись — нехотя, с опаской. Князь стоял молчал: иной раз помолчать, да по–хозяйски оглядеть, да бороду огладить, да подморгнуть кому…
А служки уже бегали, Игнат приказывал. И уже ломился стол, и сняли сторожей от Лживых Ворот, от конюшен, усадили их рядом. И пил Всеслав вино, как давно уже не пил, и возглашал тосты за сыновей своих, и за дружину, и за Полтеск.
Ох, как слаб ты, человек! И хорошо это! Хмель бьет в голову, думы отступают. И легче, особенно после такого дня, сознавать, что есть пред тобою тот, кто поведет и приведет. И это ваш князь. Как скажет он, так и будет. И так было всегда. Не взять его, Всеслава, а если даже и возьмут, не сдержат — уйдет! И в порубе он был — ушел, и был на Гзени бит, на цепи приведен — ушел, однако. Все он потерял, остался уже один, без отчины и без дружины, лежал, накрытый рубищем, и умирал без покаяния, но поднялся, в Полтеск пришел, и все себе вернул, и еще крепче стал, чем прежде! И сейчас: коль говорит, что перемелется, коль говорит, пусть тешится Любим и пусть стоит Митяй в распахнутых воротах, — так пусть и стоит.
А про завтра молчок, то будет завтра. Ушел князь почивать и приказал, чтоб не будили, пока Дервян знать о себе не даст. Да вот даст ли? Даст, коли князь приказал. А князь он или нет и правда ли, что он как волк, а то и просто волк, — так это…
Пейте, мужи, не думайте! Уж вам ли думать?! Вон сколько было вас, а ведь не устояли, ведь переюпокал Митяй — и чернь пришла, ударили в Зовун… И подушили б всех! И только он, Всеслав, ту чернь остановил! И завтра укротит! Скорей бы это завтра!
Всеслав лежал, не спал. Не спится — и не надо, через два дня глаза сомкнешь навеки, там и выспишься.
А Мономаховых послов все нет. А Святополк стоит в Берестье. Неклюд уже, поди, пришел к нему, сказал: «Великий князь! Волк вышел из норы, Случевск пожег, на Туров двинул, а далее грозит…» Это вам не солью торговать, не в рост давать. Князь–мытарь. Тьфу! А здесь, на этом самом ложе, он, Святополк, лежал. Тогда, возвратившись сюда, ты повелел, чтоб сняли все, сожгли, чтоб их духу не было, братьев. Мстислава Божий гнев сразил, а этого, младшего, Святополка… смерть не берет! И ты его не тронул, когда он, словно заяц, скакал к реке, велел — и не стреляли, потому что зайчатина — нечистое, пускай себе бежит. Да, видно, зря!
А самого тебя тоже — зря? А ведь могли в то время на Гзени…
Гзень! Тогда от Полтеска ушли, когда ты думал, что сразил Мстислава, спустились по Двине. Метался ты. И гнал гонцов, и сам в гонцах ходил. Литва, ятвяги, пруссы, ливы — никто не отозвался. Ты до вожан дошел. И приняли тебя вожане, ваддя, ватья–лайсен, то бишь болотники, и встретил тебя Keep–князь в городище, Оловянным именуемом. Не знал Keep креста и тем хвалился, и весь народ его креста не знал и поныне не знает, и боги у вожан не светлые, а черные, и души умерших влекут они не к небу — под землю. Но и Кеер–князь сказал:
— На Полтеск не пойду, и не зови, пойду на Мойско–озеро, на реку Мутную, на град Словенск…
А понимать надо: на Новгород, на Волхов, Ильмень. И ты пошел. Видно, Господь ума тебя лишил. И подступили вы к Новгороду — Keep с вожанами и ты с дружиной, полочанами, было той дружины всего–то двадцать шесть мечей, вожан — тьма, как и литвы под Керновом. Вышли новгородцы, а вел их Глеб, сын Святослава. В ту пору сидел там Глеб, Святополк же по смерти брата своего ушел на Полтеск. Лист уже слетел, октябрь наступил, сошлись на Гзени в пятницу, на день Иакова, брата Господня, в час пополудни. И была сеча зла, и крепко ты стоял, и полочане яро бились, и полегли все, как один! Keep побежал, он креста не знал, Господь его не поддержал, Господь за Глеба был, за Святославича. А ты рубился, князь, и выл, как волк, и полегли кругом, один ты остался. Стоял ты, меч тебя не брал, стрелы не разили, кровь, не твоя, рекой лилась, и оберег жег грудь.
Замерли они, не подходили, ждали. А ты меч опустил, потому что руки уже поднять не мог, ступить не мог, истомился. Подъехал Глеб, сошел с коня и подошел к тебе.
Был Глеб высок, весь в отца своего, жилист, плечист, да и лицом похож. Только гнева в Глебе не было! Посмотрел он на тебя, как на живых не смотрят, в плечо толкнул — ты и упал. Лежал ждал — сейчас Она придет!
Не пришла. Глеб повелел:
— Вяжите!
Повязали цепью. И потащили, словно пса, на Торг, созвали вече. И ты стоял, смотрел на них и слушал, как они глумятся. А Глеб молчал. Он братом тебе был, он через кровь не переступил: коль в сече не сразил, так и потом уже не мог. Дал накричаться людям до хрипоты и лишь потом, руку воздев, дождавшись тишины, сказал:
— Вот он, в цепях. Я взял его! Отец мой брал, не удержал, ибо обманом брал, и оттого великий грех на нем, отце моем. А я держать не буду! Волк без зубов — не волк. Я отпускаю брата своего. А вы… как знаете! Хоть рвите, хоть… а цепи снимите.
Сняли. Глеб сказал:
— Иди, Всеслав!
И ты прямо в толпу спустился. Шел — и Смотрел по сторонам, Ее в толпе искал. Да не было Ее! Гнев тебя душил, и лик твой, говорят, был черен, и трясло тебя, и корчило, и губы были искусаны в кровь, кровь текла по бороде, ноги заплетались. Упал бы ты, наверное, да, сказывали, некто невидимый вел тебя под руку, поддерживал, и паленой шерстью от него разило. Другим же казалось, что дух легкий был, как липов цвет. Но молча расступались все, крестились. А ты, волк, ничего не чуял, не видел и не слышал, а просто шел, и шаг твой был легким, и голова твоя была светлой. Так и ушел ты, не оглянувшись. Никто вслед за тобою не бросился, шагал ты вдоль берега, вдоль Волхова день и ночь и снова день и ночь. Падал, засыпал, снова поднимался, шел. Есть не хотелось. Только пить. И пил ты, князь, из Волхова, пил из ручьев, из луж, сжигала тебя жажда неуемная. Сыпал мелкий снег, берег замело, стал он белым, а небо потемнело, и неожиданно впереди — огни, селение, собаки залаяли. Ты подошел, собаки замолчали. Вышел навстречу старик. Ты спросил:
— Где я?
Старик перекрестился. А ты опять спросил:
— Где я?
Старик снова не ответил. Взял тебя за руку. Ты не противился. И он повел тебя. А ты все повторял: «Где я?.. Где я?» Он привел тебя к себе в дом, посадил около огня. Все, кто был в хате, повставали, отошли к окну, стали шептаться. Но ты на них не смотрел, не слушал. Сидел, а пред тобой горел огонь. Вдруг подскочил ты! Шагнул! И кинулся в огонь!
…А больше ничего не помнишь. Так и зима прошла, лежал ты, помирал, тебя искали, враги и свои, одни не нашли, других отвели, не выдали тебя и этим доказали свою преданность. А было их — Давыд, твой старший сын, Игнат да Ус, боярин Едзивилла. Игнат с собой воды привез, той самой, от нее и ожил ты. Давыд сказал, что ждет тебя твоя Земля, а Ус сообщил, что Едзивилл придет, Едзивиллу Гимбут не указ, муж сестры есть брат.
Ты смотрел на них, на старика — он здесь же, у окна, стоял, — на свои руки. Руки были черные, а ногти — длинные, изломанные, загнутые, как копи. А сам ты лежал в тряпье, босой. Не было у тебя и меча, только крест да оберег.
Давыд же говорил и говорил: мол, Святополк, Зовун, Земля, София, род…
Игнат тебя под голову поддерживал, слаб ты еще был.
А Ус в ногах сидел. Едзивилл, сын Гимбута, брат Альдоны и, значит, брат тебе. Брат — и не Ярославич. Вот как, князь!
Князь? Засмеялся ты. И, повернувшись к старику, спросил:
— Где я?
— Здесь, князь.
— Здесь! Князь! А почем ты знаешь, что я князь?
Старик пожал плечами, не ответил. Давыд схватил
тебя за плечи и встряхнул, сказал:
— Отец! Отец!
Ты оттолкнул его, лег, закрыл, глаза. Сказал тихо:
— Устал. Попа зовите…
Руки сложил, зубы стиснул. И долго лежал, пытался вспомнить, и ничто не вспоминалось! Вот вышел он, старик, навстречу тебе, привел в дом, посадил к огню, и ты смотрел, смотрел и думал, а после встал и кинулся… Да жив ты, князь, и не берет тебя Она! Не открывая глаз, ты спросил:
— Старик! Зачем я здесь? Как я?
— А помирал ты, князь. Всю зиму помирал. А вот и оживел. — Помолчал. — Других всех прибрало. Один я остался.
— Один?! — Ты вздрогнул, открыл глаза, посмотрел на старика.
А тот пояснил:
— Один. Мор был. Прости мя, Господи! — Перекрестился, отвернулся.
А во дворе светло, трава зеленая, и сыновья твои растут, Давыду уже надо бы удел дать, пошлю на Вить–беск…
Закрыл глаза. Лежал. Как хорошо–то, Господи! Никто я, лишен всего, а кем был, тем и остался. Уж коли не берешь Ты меня, Господи, так на то Твоя воля. И разве волк я, Господи? Нет во мне зла, и ничего–то во мне нет, пуст я, как дырявый мех, никчемный. А сын каков! Вот бы ему…
Давыд сказал:
— А Глеб искал тебя. Не наш Глеб — новгородский, Святославич. Убить хотел!
Убить… Поморщился, спросил:
— А наш Глеб? Мой?!
— Наш с Едзивиллом.
Ус кивнул, подтвердил:
— И Ростислав там, и Борис. А Святослав у Гимбута. Мал Святослав!
И горько стало, гадко! Ложь все это. А прав был Харальд! Олаф, сын мой, все говорят, что ты решил отбросить меч, но разве конунг вправе совершить такое? Власть, которую ты… А что есть власть? Твой крест! И сыновья твои — твой крест! И зверь, который опять проснулся и оскалился… Господи, слаб я! Червь я! Да, самому мне ничего не надо, но род! От Буса так заведено, от него все идет.
И встал ты, князь, и повелел, чтобы призвали старика. Позвали. Ты одарить его хотел, но ничего старик не взял. Он даже отказался отвечать, как звать его. Сказал только:
— Восстал — и уходи! Тогда и я, даст Бог, уйду.
Не стал перечить ты, смолчал, поклонился ему в
пояс. Давыд подвел тебе коня. И тропами звериными, день и ночь, день и ночь, пробирались в отчину. Видны уже купола Святой Софии. И Едзивилл пришел и сыновей твоих привел, всех пятерых. Громыхнул Зовун, и поднялся город, Святополк бежал, служили «Избавление», и ряд составили, и прописали в грамоте тебя и сыновей твоих — всех пятерых, ибо для них все это, а тебе… Для них, единственно для них! И прописали, припечатали Ярилой на коне.
Ночь! Темно. Сон без сновидений…
ДЕНЬ ПЯТЫЙ
1
— Князь!
Он вскочил. Темно еще совсем. И разве день…
— Князь! Едут! Князь!
…Ф–фу! Не Она это, Игнат. И Всеслав головою мотнул и задышал легко. Еще одна ночь прошла — и жив ты, князь… Сел, повелел:
— Игнат, огня.
Игнат высек огонь, зажег лучину. Ну вот и свет и, значит, новый день. И пятый ангел… Едут! Наконец–то. Перекрестился и спросил:
— От Мономаха?
— Да. Вот только что. С того и разбудил.
Вздохнул Всеслав. Зажмурился. Сказал:
— Иди. Я скоро.
Ушел Игнат. Дверь за ним тихо затворилась. И ты опять один. Можно открыть глаза и увидеть свет. Ты, князь, ты сам того хотел, так слушай же, как пятый ангел вострубит… Но тихо, не идет Она, и не зови, не срок еще. Что же далее?! «И вылил ангел чашу гнева Божия на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания и хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, но не раскаялись в делах своих…»
Открыл глаза. Лучина, мрак вокруг. И кто ж не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты один свят…
Рано еще. И петухи, поди, не пели. Так и той зимой, пятнадцать лет тому назад, разбудил тебя Игнат, сказал:
— От Ярополка.
— От кого?!
— Да от него!
Ты засмеялся.
— Оттуда не являются. Мир праху Ярополкову!
Игнат пожал плечами, проворчал:
— Как знаешь. Только ждут тебя.
Ты, осерчав, вскочил, толкнул его и закричал:
— Что мелешь, пес?!
А сам ведь знал, не лжет Игнат, не путает, явились! Вот только кто, зачем? Чист ты и невиновен, не подкупал, не подсылал, ты о Нерядце и не слышал, да и к чему тебе та кровь?
Оделся ты и вышел. А в гриднице, у двери Угрим стоял — и не было на нем лица, бел был Угрим, глаза пустые, смотрел он на тебя и не смотрел, словно ослеп! И ничего не говорил, и рук не поднимал, стоял как столб. И ты застыл.
Страх тебя объял! Хоть жарко было в гриднице, Игнат всю ночь топил, гремел поленьями, а он, Угрим, шубы не снял, не распахнул ее даже, он вроде сейчас же и уйдет, только немного постоит. Да что и говорить, убили Ярополка подло, сонного, а он, Угрим, не усмотрел, весь грех на нем.
Нет, не на нем, на том, кто подкупил, кто подослал. Все крест целовали, отреклись, не мы то, да как мы могли, он, Ярополк, нам брат, ищи, Угрим, не здесь, иди… И он пришел. Молчит! Да ведь ни сном ни духом я, Угрим…
И ты сказал чуть слышно:
— Угрим…
А больше ничего не сказал, не смог. И отвернулся.
Увидел девочку. Простоволосую, в белой рубахе. Она стояла на коленях у печи, смотрела на огонь. И руки то протянет, то отдернет. Забавлялась. Мала еще, совсем дитя. Ты, Всеслав, узнал ее сразу. Усмехнулся, пригласил:
— Ну что ж, гостья дорогая, уважь хозяина!
А девочка словно и не слышит. Стоит на коленях, играет с огнем. И пламя на щеках ее и в волосах. Гостья к хозяину! Зверь широко зевнул, высунул язык, часто–часто задышал. Нет, князь, не гостья! Угрим — вот гость. Стоит в дверях, не распахнув шубы, сейчас уйдет, а девочка останется.
Смолчал. И ничего ты У гриму тогда не сказал, не посмел. Ведь знал уже, что будет так, как было с Яро–полком оговорено, а все–таки послал гонца, еще надеялся. Ушел Угрим в мороз. Это была вторая ваша встреча. А в первый раз встречал ты его в Друцке, тогда еще и девочки той не было, еще не родилась. И в Друцке тоже трещал мороз, и под Угримом конь плясал, он его сдерживал, а конь брыкался, на дыбы вставал. Да и отец той не рожденной еще девочки тоже тогда в седле еле усидел. И было им, Угриму с Ярополком, поди, не по себе, ведь лют Всеслав, ох лют!.. А ты сказал своим: «Один пойду!» И вышел к ним, к Угриму с Ярополком, меча из ножен не вынимал. Снег скрипел! Он и сейчас в ушах твоих скрипит, рука колотится и тянется к мечу.
Тридцать лет уже после Друцка миновало! И Ярополка Изяславича пятнадцать лет как нет. Та девочка давно княгиня и при князе… Младший брат ее убежал в Берестье от дяди Святополка, дядя следом выступил, и младший брат за помощью прислал к тебе Угрима. Опять его, и опять к тебе! И ты снова покривил душой, а надо бы хоть раз сказать ему: Русь велика, и много в ней князей, Угрим, чего ты к волку ходишь?! Ведь даже и захотел бы я помочь — и что с того? Вон у печи уже Она стоит. Я вижу, ждет. Ну, жди–пожди, отъеду ненадолго, приму послов, вернусь, день кончится, мой пятый день, а там — шестой, сойдутся сыновья, все четверо, давно такого не было, а там — седьмой… Да сколько там того седьмого дня?! В час пополудни выходи бери, как раз вернусь от Зовуна, сам лягу, руки подберу, глаза закрою, и…
Вот там и стой! И жди. А я пойду пока. Вернусь, вернусь… Перекрестился, вышел.
Ждут в гриднице. Сидят. Вошел, они вскочили. Отмахнулся, сели кто куда. Чад, смрад, объедки… Сел и князь, носом повел, поморщился. Игнат кинулся прибирать. Князь осмотрелся. Ночью не ложились! Хвосты поджали, псы! Спросил насмешливо:
— Да что вы как на тризне?!
Туча встал, сказал:
— Митяй повесился!
Сжал кулаки. Сыт зверь, молчит. Приказал Всеслав:
— Сядь!
Туча сел. Опять они молчали. Тогда Всеслав спросил:
— Где? Как?
Теперь уже Горяй ответил:
— А прямо на воротах. Мы здесь сошлись, мы и не знали. Ты спал. А он был там. Как вече порешило ворот не запирать, он и стоял при них, и люди были с ним, посадские. А он… не уследили, говорят.
— Висит? — хрипло спросил Всеслав.
— Висит.
— И пусть висит. Я так хочу!
Горяй кивнул. Никто не перекрестится, не смеют. Поданную еду отодвинул, взял только хлеб, надломил, вырвал мякиш… Спросил:
— А где послы?
— За Черным Плесом.
Дожевал хлеб, утерся. Сидел, смотрел перед собой, на крошки хлеба, думал. Не поднимая головы, сказал:
— Горяй, останешься здесь. Ворот не закрывать. Митяя не снимать. Сюда же, в терем, никого не пускать, так князь велел. И еще передашь вот что Любиму, да… А коли сам он не придет, призовешь его моим велением и скажешь: чтоб до среды он, пес, — так и скажешь: «пес»… чтоб до среды он, пес, все посчитал и под Зовуном всем сказал, что мне и роду моему от града причитается за волоки, за виры, и за вес, и за рабов — за все. И чтобы срок назвал, когда отдаст. Понял? — Встал Всеслав и осмотрел мужей своих, и зверь вскочил и зарычал. И он, князь, продолжал: — Не то висеть ему, Любиму, там же, на воротах! Приду — спрошу! Шубу, Игнат!
И вышел из–за стола, к дверям направился. Скрипели половицы. Так снег в Друцке скрипел. А когда брат Владимир на тебя бурчевичей навел, снег тоже, может, и скрипел, да слышно не было: визжала Степь, черно было от них, и дрогнули, и побежали все, и ты, князь, побежал, как волк, — волк от волков. Вот была охота! Тогда бы Святославу на коня, науськивать да загонять… Но не было Святослава, он уже год, поди, лежал в Чернигове, его за Спасом положили, потом туда и Глеба привезли, погиб от руки чуди заволоцкой. Скрип половицы, скрип, ступени скрип, двенадцать их. Морозно на душе, озяб, и не согреться, кровь не бежит, устала кровь… Хром на дверях стоял, открыл. Темно еще…
Висит… Ничего не видно, а этого усмотрел. Висит Митяй, как на осине. Вчера, когда в Софию шли, он был с тобой хмур, в землю смотрел, и чуял ты, князь, чуял беду! Да не сделал ничего. Ты в храм шагнул, он вслед за тобой. А ты остановил его! Послал к воротам. Он пошел. А если бы… Слаб человек, поддержи его, он и не оступится. А ты прогнал, вот он висит, как ты того хотел. Рад, князь?! Молчишь! И зверь молчит, что ему, он сыт, он знает — хозяин щедр и не оставит зверя своего некормленым.
Вздохнул. Сошел с крыльца. Свернули к Лживым Воротам. И только там, уже ступив на мостки, Всеслав остановился, обернулся, долго смотрел, и морщился, и силился что–то сказать — да что тут говорить! Наконец руку поднял и перекрестил Митяя! Сгорбился, глаза отвел, пошел к реке, к ладье. Потом стоял на берегу, ждал, когда все усядутся, поставят мачту, парус. В последний раз — а теперь все в последний раз, Всеслав.
Нагими мы приходим в этот мир, нагими и уходим. Вот только бы не оступиться. Прошел по сходням, сел, прислонившись спиной к мачте. Махнул рукой. Отчалили. Споро гребли. Светало. Туча сидел напротив и молчал. Дремал. Вдруг встрепенулся, спросил:
— Не зябко, князь?
— Не зябко.
— А то — ковром можно укрыться.
— Ковром пока не надо! — Князь усмехнулся. — Спал нынче?
— Нет. Гуляли. Потом… Митяй! — И засопел.
Какой он, Туча, мятый! Да и все они… Напугал их
Митяй! Не Митяй, слова твои, князь, волк беззубый, дряхлый волк, плешивый. На сани положить, ковром накрыть — и в храм. Ан нет! Вон, старец упреждал: «Тебя, Всеслав, в санях нельзя, конь не пойдет, конь духа убоится». — «Какой от меня дух? И что я, на конях не ездил?!» — «Так то, пока ты живой, дух не слышен. А как помрешь, он и пойдет». — «Дух?» — «Да. Звериный, волчий дух! Вот конь и станет рваться. Глядишь, и обернет сани. Болтать начнут, мол, знак плохой. Зачем это тебе?!» Ты засмеялся и прогнал его, сказал: «Глуп ты, старик!»
А теперь и сам ты, князь, старик, сам глуп. Сказать надо, когда сойдутся завтра, чтоб на руках несли, дескать, так хочу! Чтоб только на руках, чтоб только сыновья, они не выдадут, снесут, какой бы дух ни шел!
Бабушку–то сожгли. Вон ее курган. А там, чуток левей, ты видел Буса. Прибежал к отцу, сказал, он не поверил.
Но ты видел! И не молчал он, Бус, да мал ты был и ничего не понял, потому и сказал, чтоб не смеялись над тобой, что ничего не слышал, что Бус просто стоял и на тебя смотрел. А был он во всем белом, и ликом бел, и белые глаза, и губы белые, и говорил он, Бус, слова, каких на свете не бывает, ведь знаешь ты, Всеслав, по–еллински и по–варяжски, и фрягов слышал ты, и прочих многих, но, выходит, есть еще слова другие… А может, то вовсе не Бус был, просто ты хотел его увидеть — и увидел, хотел услышать — и услышал, но не понял, и жизнь прошла, а те слова и по сей день звучат в ушах твоих, что в них скрыто, ты не знаешь, может, если бы узнал, жил бы ты не так, может, и не жил бы вовсе, подошел бы он к тебе, взял за руку…
А так Она придет. Два дня тебе осталось. Спеши, Всеслав! Не забывай: в последний раз идешь на Черный
Плес, оступишься — уже не встанешь, не исправишь, не успеешь. А Мономах… Что Мономах? И что мне все они, змееныши?! Бьют лишь того, кто ничего не видит, кто ослеп. Василько Теребовльский оттого и дался им, что ничего не видел от гордыни, слеп был, — и заманили и навалились на него, вынули глаза, слепые глаза вынули! Так же было бы и с тобой, если бы поверил. После того, что здесь творилось, по терему тяжелый дух стоял, и ты велел, чтоб каждый день развей–травой курили… А Изяслав уже звал тебя в Киев и божился, что нет в нем зла, что сын его Мстислав почил сам, не от наговора. То, что Святополка ты из Полтеска прогнал, так это твоя отчина и дедина, град Полтеск твой, и волоки твои. Приди, Всеслав, составим ряд, подворье Брячиславово отстроим, поставим храм Феодора, вот крест!.. Ты крест не целовал, вернул, с тебя и Рши уже довольно. Тут и слепой увидел бы: брат Изяслав язык раздвоил! В пирах едва не каждый день кричал:
— На Льте не Степь меня побила, а Всеслав! Он меч мой удержал! Он, волк, завыл тогда во тьме — все слышали!
Ложь! Ты крест ему вернул, кликнул литву. Гимбут смолчал, а Едзивилл пришел. Ты его в Полтеске оставил, а сам уже по чернотропу пришел на Друцк, там и лег и изготовился. Давыд же встал при Рше, он Днепр стерег. Ты ждал киян и думал: ну вот и сын подрос, и есть брат Едзивилл…
Примчал гонец, предупредил: идут! Еще сказал: не сам Великий князь выступил, а его младший, Ярополк, пока небитый и непуганый, киян ведет. И мало их! Закружилась голова! И ты, Всеслав, ум потерял. Выбежал навстречу и под Голотческом навалился на Ярополка. И бил ты их, и рвал, они из–за возов и не показались, а ты, от сечи охмелев, кричал: «Брат, выходи! Авось пощажу!» Упрям он был, Ярополк, рубился, потом говорил: «Когда бы не Угрим, я бы обоз поджег, сгорел бы, но не дался!»
И тут Угрим подоспел! Привел волынцев. Волынцев–то гонец и проморгал, не ждал ты, князь, волынцев. Кони были у них свежие, сами сытые и злые.
Мог бы ты, Всеслав, ударить на Угрима, мог бы остановить волынскую дружину, разве полочане хуже?! И бился б ты, может, победил бы, может, побежал бы тот Угрим. Так бы только слепой князь поступил. А ты завыл, загикал, зарычал. И побежали вы, своих не подобрав, в лес, на Друцк. А Ярополк, Угрим — вслед. Слепые! Кровь их ослепила, гнев разума лишил, один нюх остался, на снегу много следов, следы в крови. Охота! Да не та. Охотится не тот, кто настигает, а тот, кто более зрячим да прозорливым оказался. Ярополк был слеп. Вот и Друцк, его ворота, а за воротами захаб — всегда так строились и строимся, ты что, князь Ярополк, ворот не видывал? Кто эдак слепо лезет?! Да и темно уже, ночь спустилась, пока до Друцка добежали, ворота похожи на черный зев, волочане — в зев, так то свои, а он куда? И что с того, что зев не затворен? Слеп, слеп был Ярополк! Друцк–то не Овруч, куда другой князь, Ярополк, когда–то на плечах Олеговых ворвался. Давно это было. Нет, ума лишился Ярополк, в гневе захлебнулся. И он, а с ним Угрим и еще четверо, коней не удержав, по переметному мосту галопом — и прямо в захаб! А за спиной ворота — клац! Захаб захлопнулся, вой, князь, кляни свою судьбу, зайцем визжи, шипи змеей, а он, силок, не распахнется! И оробел ты, Ярополк, конь под тобой плясал, ржал, а сверху, со стены, смотрели полочане, у них уже и стрелы были вложены, и тетивы натянуты, и лишь только разреши тогда Всеслав — пали бы вы в снег. Да не позволил, сказал:
— Один пойду.
Вошел в захаб. Меч в ножнах был, а руки свободные! Конь пред тобою вздыбился, а ты, Всеслав, узду перехватил и на себя рванул. Смирился конь, встал, зафыркал, пена во все стороны полетела. А Ярополк в гриву вцепился, еле удержался. На Угрима и этих четверых ты не смотрел, Ярополку руку протянул, сказал:
— Вот видишь, брат, все по–моему! Ты вышел, я тебя пощадил. Слезай, гость дорогой.
Вы не обнялись, пошли так — ты впереди, он сзади. И был с ним меч, ты без шлема был, но не оглянулся. В терем привел, и сели вы за стол, служки забегали, а вы сидели и смотрели друг на друга. Крут был князь Ярополк, не приди Угрим, зажег бы он себя вместе с обозом. Он и за столом сычом сидел, снег в тепле растаял, и капли светились на усах, на бороде и на бровях его, а щеки были красные с мороза, губы — белые, обветренные, тонкие, брови — девичьи, крутые, ресницы длинные, глаза — как у нее. Только тогда ее, той девочки, той гостьи дорогой, в помине еще не было, и кто б сказал тебе в то время, что ты… Ты б засмеялся!
Ты и тогда смеялся, но — потом уже, а поначалу молчал, не знал, как быть. И он молчал. Принесли вина, ты налил ему, сперва сам пригубил, после уже он отведал. Ты сказал:
— Хмельное! А твоя бабушка меня поила молоком. Слыхал, поди?
Он вздрогнул. Ты сказал:
— Пей!
Он выпил. А ты опять спросил:
— Слыхал? Про молоко.
Он головой мотнул, нет, дескать, не слыхал. А ты сказал:
— Слыхал, слыхал! Звериной оно пахнет, липкое. Я после этот грех еле отмолил. Да грех ли то? Кабы не твоя бабушка, так и не жил бы я… А ты подал бы мне зверины?
Он смотрел прямо тебе в глаза. И тем судьбу свою решил. Ты рассмеялся и сказал:
— Пей, брат, вино. Оно ромейское. Рабами за него платил. Так и вино зато какое!
Пили вы вино, ели дичину. Он, Ярополк, не хмелел; сидел, насупившись, молчал, лишь брови его девичьи то поднимались, то сходились, а щеки все сильней румянцем наливались, губы тонкие в подковку изгибались, и пусть себе! Ты, князь, тоже не хмелел, и зверь в тебе дремал, легко было, и ты пошел рассказывать, как Рогволод, твой прадед, и Святослав, прадед его, сойдясь при Рше, отправились на лов — бить туров, и кто где встал, и скольких кто свалил, и что при том сказал, и каковы были рога у вожака, как те рога делили, а после — кто где сел и какие произносили здравицы… Подробно все ты, князь, тогда в Друцке обсказывал, как будто сам ты присутствовал на том лове, и речь твоя лилась хмельным вином, слова хоть и были сладкие, но кружили голову. Видел ты это, видел, подковка разогнулась, брови разошлись, и думалось тебе уже, что вот…
Да Ярополк неожиданно засмеялся и сказал:
— Все это так, брат, так. Только зачем мне это? Быльем все поросло.
А ты ответил:
— А просто так! — И тоже засмеялся. И хриплым был этот смех, да шипенья зато не было. Волк — не змея, волк терпелив, волк может гнать и день, и два, и три. И ты опять налил.
Он пить не стал. Откинулся к стене, стер пот со лба и долго, пристально смотрел, и брови опять сходились к переносице. И вдруг спросил, а правда ли, что Менеск был нечист. А ты, не дрогнув, ответил, что то тебе ^Неведомо, да, был у него млын, мельница по–вашему, на–семь колес, только молол тот млын не камни, а муку, про камни ложь. Была также у Менеска дочь красоты невиданной, звалась она Сбыславой, ее за Изяслава выдали, за старшего из сыновей Владимира, запомни это, Ярополк, и никогда не забывай, как никогда не забываешь о волчьем молоке. У Сбыславы с Изяславом родился сын, князь Брячислав, тот Брячислав и Ярослав крест целовали на Судоме, и крестоцелование они свое блюли, не нарушали, ибо от веку так заведено, опять я повторяю: еще и Святослав, и Рогволод, хоть некрещеные, а слов на ветер не бросали, слова их были крепче камня и железа, а посему и я, Всеслав, сын Брячиславов, правнук Рогволожий и Менесков — да, Ярополк, и Менесков! — коли скажу: мир тебе, брат, то так оно и будет, никто с тебя пылинки не сдует, иди, брат Ярополк! — встал ты, князь.
И Ярополк вскочил. Кровью налился, взмок, с трудом выговорил:
— А коли так, то я тогда…
А ты, смеясь, сказал:
— А ничего не надо! Я это просто так. Пусть порастет все быльем. Мир тебе, брат. Ступай!
И он ушел. Совсем ушел — от Друцка к Киеву, а там и на Волынь в свой град Владимир.
…А Менеска меняне разорвали! За нрав его. Бабушка тогда уже на Полтеске сидела, но менян не покарала, промолчала. А млын и впрямь камни молол, да и не только камни. Сожгли меняне млын, плотину развалили. Менск — место злое! И Николай, мальчонка тот, он из Менска вышел. Да он давно уже не Николай, его Ни–кифором назвали при постриге. А Менск змееныши сожгли, ты его отстроил, его опять сожгли, а ты вновь поднял его из пепла. И не отступишься! Ибо из Менска корень твой идет, князь Менеск — прадед твой, какой бы он ни был, ты его семя. И Бусово.
А Бус — Перунов сын. Его в лесу нашли после грозы, на пепелище, лес выгорел, осталась одна зола, земля и та на три вершка прогорела. Черно кругом! Младенец лежал на белом полотне, и было полотно это тонкое и гладкое, у нас такого полотна в то время ткать не умели, тогда мы были совсем дикие, и не было у нас ни городов, ни правды, веры не было, и жили мы, как зверье, в берлогах, это потом уже началось, когда Бус возмужал. А поначалу он лежал на белом полотне, вокруг волчьи следы виднелись, подходили звери, постояли, ушли, разорвать не посмели. А может, он их отогнал. Людей увидел, ручки протянул, заплакал. Взяли они его, завернули в полотно и понесли. То полотно хоть и лежало на золе, но было белое, словно снег, и теплое, как молоко, а пахло от него травою луговою. Вот так к нам Бус пришел — из Никуда, и в Никуда ушел, увела его не Смерть, о Смерти зря болтают, Перунов сын разве умрет?! То Матерь Сва за ним пришла, и он с ней говорил, и понял те слова заветные, которых нам, рожденным на земле, вовеки не постичь, может, й хорошо это? Ведь дух свыше дан, а плоть — от сатаны, дух возносится, плоть уходит в землю. И нет Страдания и Искупления, есть лишь Страх и Ублажение. И рая нет! И ада нет! Есть ирий, и есть пекло. И предавать земле нельзя, ибо тогда усопший будет томиться еще сорок дней. Бабушку сожгли, она так повелела. А к Бусу Матерь Сва пришла и увела его, только один раз ее и видели, а после только слышали о ней. И говорили: Матерь Сва — птица вещая, она незримая, слышен только шелест ее крыл да пение, и то не всем это доступно, а лишь избранным. Вот как было, когда креста еще не знали! А нынче едут кланяться ромеям, чтоб патриарх решал, причислить к лику святых или нет. Прости мя, Господи, но так это. Да Ты лучше меня обо всем знаешь. Владимира Крестителя и по сей день в Царьграде не признали. А Глеба с Борисом, сыновей его, причислили! Борис и Глеб — ромеичи. Но, Господи, я не ропщу, я верую! Да поразит меня Твоя десница, коли я виновен. И я, узнав о том, возликовал, когда гонец явился и сообщил: «Причислены, свершилось!» Уж мне ли, Господи, не знать, что есть междоусобица и надругательство над словом?! Не я ли сам был ввергнут в поруб, не я ли ждал, когда за мной придут, чтоб и меня — волка, знаю, волк я, волк! — чтоб и меня заклать, как агнца?! И у меня сыновья Борис и Глеб, я их назвал в честь тех, причисленных. И потому я и Святополка отпустил из Полтеска, и с Ярополком в Друцке стол делил, и после зла не держал, к себе вернулся, молчал, а по весне уже, узнав о торжестве, я, отринув меч, как все братья мои, собрался в Киев, хоть не звали, до Любеча дошел… и повернул. Слаб оказался, Господи! И люди наболтали. А может быть, и правду говорили. Да и подумать только: какая была радость на Руси, какая честь всем нам, рожденным от Владимира, — дядья наши причислены. Надо было хотя бы в ту пору забыть про прежние раздоры… Так нет! Брат Изяслав велел, чтоб торжества назначили на май, на тот самый день, в который он и ляшский Болеслав четыре года назад в Киев пришли. Второй день торжеств был днем избавления от хищника Всеслава и перенесения мощей святых страстотерпцев Бориса и Глеба. Мол, помни, Русь: Всеслав — он тот же Окаянный. А кто ты, Изяслав?! Уж не твоим ли именем сын твой Мстислав тогда, в тот черный день мая, сто двадцать пять голов на копья поднял? А сколько глаз достал! А языков наотрубал! Ноздрей повырывал. И сам ли я в Киев пришел? Не ты ли, брат, меня в цепях привез и ввергнул в поруб и погубил бы. Но не успел, поганых не сдержал, бежал, и я тогда, старший по Владимиру, его венец приняв, пошел на Выдубичский брод и Степь побил…
…Смирись, Всеслав! Гордыня — тяжкий грех. Слаб человек, и память у него короткая. Конечно, с такой легче жить, свет слепит глаза, а тьма и тишина несут покой. Закрой глаза. Гребут, споро гребут. Ладья качается. Река сон навевает. И ты уже спишь. А может, и не спишь, может, не сон это. Ведь видел ты, как Святослав и Рогволод, сойдясь при Рше… А нынче видишь Вышго–род. Идут они, братья твои, три Ярославича, и гроб — со святыми мощами — несут, а перед ними черноризцы со свечами, дьяконы с кадилами, игумены, епископы, митрополит. За гробом — бояре и народ. И солнце светит, пение слышится. И радостно как, Господи! Когда в храме митрополит святой рукою Глебовой благословил князей, пал на колени средний брат, князь Святослав Черниговский, руки воздел и снял клобук. И все увидели, что нет на шее княжеской кровавого и синюшного вереда, а раньше был он. И возопили: «Господи! Помилуй нас и отпусти грехи наши несчетные!» И ликование началось всеобщее, снизошла благодать, и каменную раку страстотерпцев несли легко, словно пушинку, поставили ее, совершили литургию.
Черна душа человеческая, и помыслы нечисты. Вышли Ярославичи из храма… и разошлись! И не один, но три пира закатили, накрыли три стола: Великий князь сел в тереме своем, в том самом, который кияне разорили и в который ты вступать не пожелал, а он пришел и снова отстроил; младший Ярославич, Всеволод, уехал в Михайлов монастырь и там сидел с боярами своими; средний, Святослав, остался в храме и там молился дотемна и славил святых страстотерпцев за чудо, за избавление свое от хвори, потом там же, в Вышгороде, тоже пировал.
Наутро уехали Святослав и Всеволод. Ни средний брат, ни младший со старшим не простились. И не от тОго, что, как потом говорили, волк посеял рознь между братьями, а в душах гнев поселил, — нет! Давно семя раздора в землю было брошено и наконец проросло. Еще зимой брат Изяслав говаривал, что–де негоже получается: где ж это видано, чтоб Новгород держал сын среднего в роду? Забыли слова отцовские, все должно быть по старшинству, по правде, и, значит, Святополку Изясла–вичу должно идти на Новгород, а Глебу Святославичу, оставив новгородский стол, искать другой удел — Русь велика! Святослав про те слова прослышал. И было также ему сказано, будто Изяслав гонял послов на Полтеск, волк тех послов якобы знатно принимал и отсылал своих. А коли так… Стакнулись Изяслав с Всеславом! И слух пошел! Ладят они ряд, чтоб Русь переделить: дать Изяславу Новгород, чтобы посадил там Святополка, а Изяслав за это отдаст Смоленск, Всеслав посадит в нем Давыда, старшего… Божился Изяслав, крест целовал, что все лишь наветы, не забыть ему тех зол, учиненных ему Всеславом: Мстислава, сына старшего, сгубил, Святополка, среднего, побил, Ярополка, младшего, смирил обманом, и за все это он, Изяслав, Великий князь…
Не верили. И он тогда велел, чтоб час перенесения мощей назначили на день изгнания Всеслава из Киева, и братьев пригласил, и стол такой накрыл, каких и сам Владимир Красное Солнышко не видывал… А братья с ним не сели. Святых дядьев своих почтили и разъехались: брат Святослав в Чернигов, брат Всеволод в Пе–реяславль. Племянник Глеб ушел на Новгород, племянник Владимир Мономах — к Смоленску. Зима пришла. Тишина наступила на Руси. Ты, Всеслав, сидел на Полтеске и ждал, что дальше будет. А уже на масленой прибыл посол от Изяслава, первый посол, прежних, тех, о коих говорили все, в помине не было, был только один гонец от Ярополка, он дары прислал, и ты спросил гонца:
— К чему это?
А он, гонец, ответил:
— А просто так. Господин мой повелел сказать: «А просто так!», и больше ничего.
Засмеялся ты, принял дары. И отдарил Ярополка щедро. А Изяслав, узнав о тех дарах, гневался на Ярополка, грозил ссадить его, кричал: «Обошел тебя волк, переклюкал!» Теперь же сам князь Изяслав посла прислал на масленой неделе, а ты был сыт и пьян, Всеслав, князь–волк, варяжский крестник, выкормыш, ведун. Принял ты посла и одесную посадил, сам угощал его два дня, из своих рук поил. О деле же не велел говорить. Терпел посол, лишь на третий день, когда ты, князь, позволил, он сказал:
— Всеслав! Великий князь не шлет тебе креста, ибо он знает, не поверишь ты, а шлет только слова: «Прости, Всеслав, и будь мне братом!»
А ты спросил:
— И это все?
— Нет, — отвечал посол. — Еще Смоленск.
— Смоленск! А Псков? А Туров?
Ушел посол, гнал коня, спешил: такое было время! А ты сидел и думал: да, прижало Изяслава, коли Смоленск сулит. Почуял, стало быть… Грех было не почуять! А ты, князь, ослеп, и, прибеги тогда еще один гонец, скажи: «Дают тебе и Псков, и Туров!» — и пошел бы ты за Изяславом!..
Да Гимбут не пустил! Спас тебя Гимбут, князь, в который уже раз. После киянина недели не прошло, прибыл гонец из Кернова:
— Гимбут зовет прощаться!
И ты Давыда оставил в Полтеске, а с младшими пошел. Спешил. Едва успел. Гимбут сидел одетый во все лучшее, Едзивилл над ним стоял, служил ему. Пил Гимбут, пили воины. Женщины кричали. И в потолке уже дыра была проделана, чтобы душе легче взлетать. И кострище сложили, осталось огонь поднести. А старый князь еще был жив. Он повелел, чтоб ты, Всеслав, встал перед ним на колени, и ты встал, и Едзивилл подал тебе от него чашу, и пил ты алус, князь, а Гимбут говорил:
— Все знаю, слышу! Железный Волк затявкал. Позарился на кость. Не тронь ее, подавишься. Я так сказал! А я — уже не здесь, я — там, мне все оттуда видно. Встань, подойди ближе!
А ты не встал. И тогда Гимбут закричал:
— Пес! Пес! Плюю я на тебя! — И плюнул.
Но ты и это стерпел, не встал. И он тогда, все еще гневаясь, спросил:
— Чего ты хочешь?!
А ты ответил:
— От тебя я уж ничего не хочу. А вот это — тебе от меня!
И только тут ты встал и положил на стол сафьяновый кошель, обшитый жемчугом и драгоценными каменьями. Гимбут развязал кошель и высыпал на стол… медвежьи когти, длинные, толстые и острые, один к одному. Замолчали все. А Гимбут встал, сгреб когти, сжал в руке, ударил ими об стол — только щепки полетели! И засмеялся старый князь, сказал:
— Ого! Псу таких не добыть! С такими–то когтями я… Ого! Уважил ты меня, Всеслав, уважил!
И неожиданно застыл, поднял голову, посмотрел на потолок, на черную дыру, на небо звездное, на Гору Тьмы, где ждет его Перкунас. Он будет судить дела его и, может быть, пощадит… Но прежде ты взойди, взберись к нему, вскарабкайся — вон когти какие, а все Всеслав, ему хвала! И силы–то еще есть, коль щепки так летят… И смотрят на тебя все, ждут, они Горы не видят, не их черед, а твой, так не медли, князь!
Крикнул он:
— Иду! Иду! — Опустились руки, упали на столешницу, но пальцев Гимбут не разжал, когтей не выпустил, то добрый знак, взберется.
И Едзивилл сказал:
— Прощай, отец! Легкой тебе дороги!
А после чашу пригубил и передал тебе, Всеслав, ты пригубил, Усу передал, Ус пригубил…
И пировали до утра. И Гимбут с вами был — сидел молчал. А утром вынесли его и посадили, положили рядом меч, лук, стрелы, подвели коня, борзых. Не выдержал ты, князь, и отвернулся, и сыновьям велел, чтоб не смотрели. Рабы покорно шли, молчали. Перкунас — грозный бог! А Святовит, отец рассказывал, еще грознее. Дядя твой, Готшелк, брат твоей матери, отринул его власть, крестился, крестил народ и примирился с ляхами, варягами и цесарем. И от сына казнь принял! А Святовит возликовал. Молчи, Всеслав. Не можешь — не смотри. Ведут рабов, горит костер, догорит — пойдешь и ты, как Едзивилл, брат твой, и будешь возлагать дары…
И возлагал! Ибо Перкунас есть Перун, а Бус — Перунов сын, и прадеды твои от Буса род вели, креста они не знали, а Полтеск славен был. И возведен он на крови, на древнем буевище, где некогда костры поган–ские горели. Вы и поныне сходитесь под Зовуном. Ох, тьма какая, Господи! Слеп я. В Литве сидел и пировал на капищах, а прискакал гонец от Изяслава, звал, заклинал крестом — прогнал его! Подступили Святослав и Всеволод под Киев, рать привели, испугался Изяслав, подался на Волынь, там Ярополк Изяславич сидел, туда и Святополк Изяславич пришел. И мнил уже Великий князь, что с сыновьями–то он как–нибудь вместе справится. Ан нет! Шли Святослав и Всеволод, грозя и обнажив мечи. Опять побежали Изяслав и сыновья его, прибежали в ляхи. Снова ляшский Болеслав драл Изя–славу бороду, а Изяслав метал пред ним казну и снова звал на Русь. Лях взял казну, а воевать не шел. Тогда побежал Изяслав к цесарю германскому. Срамил он Болеслава, Болеслав казны не отдавал, и цесарь втайне потешался. Зима пришла. Потом еще одна, еще. И вновь тихо стало на Руси. Князь Святослав обосновался в Киеве, Всеволод пошел на Чернигов, Олег Святославич — на Волынь, Давыд Святославич — на Туров. А ты, Всеслав, сойдясь с Едзивиллом, ходил тогда по Неману да по ятвягам, а после по Двине и замирял всех. В то время и срубил ты Кукейну, теперь там Ростислав сидит, сын твой, а внук твой, Ростислав Давыдович, в Кукейну, в Литву не пойдет — сядет в Вильне, всех изведут змееныши, и только он один, князь Ростислав Давыдович…
Ростислав Давыдович? Нет у Давыда сыновей! И вдов он, третий год уже. Вот святой крест! У Глеба есть, у Ростислава есть, у Бориса, а у Давыда нет. Георгий ушел и не вернулся, прости мя, Господи, из–за меня ушел, а коли столько лет не возвращается, значит, никогда мне с ним не свидеться, где он, меня грехи не пустят, да и не рвусь я, Господи, волк я.
Гребут они — и пусть себе гребут, а я лежу, я сплю. Вон, Бельчицкий ручей проходим, а там уже и Черный Плес недалеко, приму послов, вернусь, завтра сыновья сойдутся. Я скажу, чтоб на руках несли, саней не надо, так хочу — и согласятся сыновья.
А как у Святослава было! Тогда, на мая второй день, веред сошел и следа не оставил, ликовал брат Святослав, рассылал дары, нищим подавал, а день его пришел — утвердился Святослав на киевском столе, в царстве своем, приказал собраться всем тысяченачальникам, и сто–начальникам, и судьям, главам поколений — и все они сошлись и были кротки и медоречивы… А зверь, твой зверь, Всеслав, только заслышав его имя, рычал, взвизгивал, рвал цепь! Выходит, не жилец брат Святослав, возомнивший себя Соломоном. Не Соломон он — Каин, печать на нем, вы что, не видите? Так хоть учуйте — смрад какой! Сперва один веред вскочил, за ним второй, третий, и вот несть им числа! Гниет брат Святослав, сидит на Отнем Месте и гниет, живьем. Ну что с того, что рассадил ты сыновей по всей Руси и покорилась Русь, а рать твоя пошла на чехов и обрела там честь великую?! Кровь есть кровь, открылись вереди, она и течет, а с нею истекает сила. Смирись, остановись, подумай о грядущем и не тревожь святых дядьев своих и не зови волхвов, не спрашивай меня, я не колдун, на ветер не шепчу, тряпиц в кипящем молоке не омываю, иглою тени не колю. В храм вхожу, к иконостасу станов–jnocb лицом, а не спиною. Вот так–то, брат, значит, больше не посылай ко мне гонцов, не от меня это, а от Него, и не мотаю я тебя и не держу — не хочешь жить, так кто ж тебя удержит. А ты, гонец, так и скажи ему: я не держу, что было, то и было, не мне судить, прощай, брат Святослав!
Ушел гонец. Передал ему слова твои. И он, говорили, сразу успокоился и перестал кричать, боль утихла, вереда закрылись, и жил брат Святослав еще до вечера, укрепилсядухом, ликом светел стал, просил у всех прощения и всех благословлял, вот только о тебе, Всеслав, не вспомнил… И тихо отошел. На санях свезли его в Чернигов: он так велел. Везли, а кони, говорят, храпели, вставали на дыбы, да сыновья — их было пятеро, сдержали, довезли. Положили Святослава за Спасом. И был великий плач, заглушал он пение. И князь Всеволод, поминая брата своего, немало о нем сказывал достойного, утешал племянников, жертвовал на храмы, злато–серебро метал в толпу горстями, стенал, на скорбном же пиру был молчалив… А уже рано поутру его призвали: сел Всеволод на киевском столе, венчал его Георгий. Робел народ. Изяслав в это время в ляхах войско собирал. А ты, Всеслав, велел по брату своему, по Святославу, служить сорокоуст, но сам в Софию не пошел. Затворясь с гонцом, беседовал. Гонец тот прибежал издалека, и речь его была пуста и лжива, но ты кивал, поддакивал. Да что тебе слова его: ты свою правду чуял! И думалось: вот жили три змееныша, теперь остались два, и оба венчаны на Место Отнее, а Место ведь одно… Так почему не пособить сойтись змеенышам да силою помериться? Глядишь, и из двоих один останется, а там, Бог даст… Слушал ты гонца, кивал, обещал, срок оговорили. Ушел гонец. Куда? Да в ляхи, к Изяславу Ярославичу, куда ж еще? Коль пошел слух по Руси, что–снюхались, так вот вам и не слух уже! И в ту весну стояли заодин Всеслав и Изяслав и слово взятое сдержали, хоть крест и не целовали: ты выступил в свой срок, Изяслав на этот раз не обманул, выступил на Всеволода, брата своего. Вот как было тогда! А что было потом…
А то, что и всегда! Кровь пересилила…
Кровь! Вздрогнул князь…
2
Очнулся. Гребут. А далеко уже прошли, за поворотом — Плес. А прежде ты, Всеслав, послов не так встречал, не здесь, а в тереме и выходил к ним… Да прежде все было иначе! Всех в граде поименно знал. И не чурался. Придешь на Торг, к любому подойдешь, заговоришь… А скольких ты крестил! И новобрачных под венец водил. И весел был: на святках на игрищах первым выходил. И ничего не было в тягость: тогда ты жил, силу в себе чуял, а князь до той поры князь, пока он в силе, кровь в нем бежит. Рассказывали, Бус оттого ушел, что хворь почуял. Стал жаловаться: руки тяжелеют, шум в голове стоит, ноги не гнутся. Ворчал: «Совсем я нынче как чурбан! И боли уже не чувствую. Коли меня, руби, а мне не больно». И кололи. Раны открывались, а кровь не шла.
А может, это только бабьи россказни. Все книги старые сожгли, потому как не теми письменами писаны — поган–скими. Вот и гадай теперь…
А вон и Плес, шатер посольский. Пнул Тучу в бок. Тот заворочался, глаза продрал, вскочил. Гребцы затыкали. И то, можно голову проспать. Махнул ему, сядь, мол. Гребли, все ближе к берегу. Скуп Мономах! Шатер–то у посла затрепанный, поди, уже и латаный. Ковры к реке положены с опаской, чтоб не замарать, ладью и ту втащили на берег, не поленились. Сидят у костра. Вскочили…
А где посол? Где Дервян?! Прищурился: глаза уже не те.
— Боярин, где Дервян?
Туча пожал плечами.
Ткнулись в берег. А эти, Мономаховы, стоят, не подходят. Ну и мы не подойдем. Убрали парус, положили мачту. Ждут. Вот и они, мужи мои, почуяли! Сказал им:
— С оглядкой, соколы!
Сойдя наземь, встали дугой, как лук натянутый, молчат. И те молчат. И нет посла. И нет Дервяна! Да что они его, сглодали, что ли?! Дервян и есть Дервян, он ничего не скажет…
А солнце еще вон как низко, день лишь начинается, кто в такую рань дела ведет?! Я подожду, спешить мне некуда, мужи мои сошли и сторожат меня, а я, старик, полежу подремлю. Был бы молодым, вскочил бы во гневе… А что есть гнев? Гнев — слепота. Сила — хмель. А хмель и разум вместе не живут, хмелен или умен — сам выбирай. И сейчас, чтоб вышло по уму, надо парус поднимать и возвращаться. Это холопы ждут, а ты, князь, не холоп… И раньше ушел бы восвояси, затворился, Мономах опять посла бы прислал, а ты б того посла держал у ворот семь дней, куражился…
Но нет тех семи дней! Сегодня принимай посла, завтра сыновей, послезавтра и Ее уже, в час пополудни. И если обойдет тебя посол, тогда…
Закрыл глаза. Заснуть хотел, но сон не шел. Всеволод… Брат Всеволод был прост, ленив, и за него все сын его решал, ромеич. Брат Всеволод без сына своего Владимира шагу не мог ступить. И в Киев он тогда пошел не сам собой, а оттого, что сын его надоумил. Да и народ желал: боялись Святославичей, Изяслав находился в ляхах, тебя, Всеслав, хоть тоже венчали, да волк ты, князь, колдун! Ты и сам тогда уже молчал, не снился тебе больше Киев. Вот крест! Ни разу! Как ушел, словно отрезало, не вспоминалось даже, не любил, не ходил в Киев, видеть не желал, один лишь раз решил своих святых дядьев почтить, и то не дошел. Потом зима пришла. Похоронили брата Святослава. Той же зимой брат Всеволод сел в Киеве…
А уже раннею весной прибыл к тебе тайный гонец от брата Изяслава, опять звал он тебя, и ты опять ему не верил, но пошел. Силу почуял. Сила — хмель. Хмель голову кружил: князь, не робей, раз зван на пир, что ж руки не протянуть, уйти голодным — что за честь? А будет пир! И вот она, дичина — Русь. Брат Изяслав сперва Волынь отрежет, после Отчий Стол, пусть давится! А ты, Всеслав, бери куски поменьше, не спеши, придет и твой черед. Видишь, что я говорю, чему учу? Не бойся, князь!
И ты не побоялся. Выступил. На Глеба Новгородского, на старшего из Святославичей, на того самого пошел. Продвигался шумно, не спешил, два раза посылал сказать: «Не бойся, брат, ты отпускал меня — и я тебя не удержу, я тоже вече соберу и тоже повелю: иди! И коли, брат, дадут тебе уйти…» Смеялся: не дадут! Ты храбр был, Глеб, когда меня в толпу гнал, когда потом волхва рубил, подло рубил! Он не таился, волхв, он перед тобой стоял и вещал, а ты внимал ему, выспрашивал, а сам же под полой топор держал. И зарубил его. Прилюдно! И онемел народ. Пал волхв, да после, рассказывают, восстал, по реке пошел, по Волхову — прямо в туман. Более никто того волхва не видел. Но ждут. И верят: волхв придет, и отольются тебе, Глеб, их слезы — епископу Феодору уже отлились. Кто б мог подумать, что ему, владыке, такая погибель будет, что его на собственном дворе его же пес загрызет? И челядь не отбила, не смогла, вцепился пес — и нет Феодора, владыки новгородского. И тебя, Глеб, не будет, за псом волк явится, за волком — волхв! О том шептались на Торгу, на вече громко кричали…
И сбывается все! Всеслав идет. И обещает: не бойся, брат, не трону! Но заперся князь Глеб на Ярославовом дворе, погнал гонца в Смоленск, к Владимиру, а ты, Всеслав, того гонца перехватил, и, выспросив, куда он и зачем бежит, ты отпустил его, дал свежего коня, поспешать приказал. Гонец прибыл в Смоленск, и князь Владимир, Всеволодов сын, был скор на сборы и поторопился на помощь брату своему.
Да не успел. Ибо сошлись они на вече, и поднялся великий крик на Глеба, всю кровь ему припомнили. И озверели, а озверев, пошли на Ярославов двор, Глеб не усидел, ушел с малой дружиной, оставив град на Яна, воеводу. Обступила чернь Ярославов двор, грозили Яну, Ян грозил, и они позвали тебя, князь, Перуном заклинали, ты мог бы войти, и понесли б тебя, как в Киеве несли, и одолели б Яна, и сел бы ты на новгородский стол…
А ты велел, чтоб помогли тебе сойти с коня, чтоб ковер постелили, и лег. Игнат воды принес, заговоренной. Ты выпил, полегчало, лежал, смотрел на небо, думал. А солнце поднималось, поднялось, пошло спускаться. Давыд взывал:
— Отец, очнись!
А что он понимал?! Да и они ничего не понимали. Венец не от крика, от Бога. А кто есть Бог? И есть ли Бог у них? Нет, князь; у них — Перун! Род! Велес! Макоша! Вон как орут — и здесь слыхать! И паленою шерстью разит. Давыд того не чует, Давыд не волк.
И не пошел ты, князь, на Новгород; день в поле простоял, а ночью в лес ушел. И словно сгинул! Наутро прибыл Мономах, по следу кинулся, а тебя нет! Здесь твои костры горели, уголья еще теплые, кругом натоптано, следы остались. Он по следам коней погнал. Да не настиг! И, как когда–то Ярославичей, водил ты его, князь, мотал. Всеволод, не утерпев, пошел сыну на помощь, но ты умело петлял: то выходил на них, то исчезал,. след заметал. Лаяли они тебя, срамили, а был бы ты слеп, князь, тогда б выступил, сразился…
А зачем? На все есть Божья воля. Кого Бог поддержит, кого и отринет. Глеб ведь не вернулся в Новгород, потому что топор ему припомнился, и за волком волхв пришел. А случилось это, когда Глеб у костра лежал.
Вдруг слышит крик: «Идет! Идет!» Вскочил и видит — стаи–то расположился на опушке, у реки, рядом с лесом, — как кто–то босой, в рубище, голова в крови запекшейся, выходит из чащи. Тихо идет, шатается. Глебу бы бежать, да ноги онемели, осенил бы себя крестом, рука не поднимается. Стоит Глеб, белый весь, дрожит. И хоть бы кто из дружины бросился ему навстречу. Так нет, стоят они! Волхв подошел, поднял перст, на небо посмотрел — а небо было чистое, ни облачка, да потемнело вдруг. И закричали все… и смолкли. А волхв перстом на Глеба указал и с гневом произнес: «Пади!» И пал Глеб на траву, и шапка на нем вспыхнула, и волосы, оплечье… А волхв исчез, как будто его не было совсем. Огонь погас. Лежит Глеб. И до того он был горяч, что не притронуться, ликом чист, волосы огнем не пожжены, и шапка, и оплечье. Только кольчуга в том жару оплавилась — невозможно снять ее было. И так и положили Глеба в гроб в кольчуге. Потом, когда к отцу его везли, в Чернигов, а ты, князь, на Днепре в тот день как раз стоял, так, увидав ладью, остановил ее, взошел и повелел, чтобы открыли гроб, но они не повиновались. Сам ты не решился открывать, только спросил, где брат убит, ответили, в Чуди Заволоцкой, в сече. А ты о волхве захотел узнать. А про волхва сказали ложь: не было огня, нет оплавленной кольчуги, не веришь, князь, открой и убедись. Нет ничего, есть лишь сила крестная, чего стоишь, князь, открывай, тревожь усопшего, кощун! И почернел ты, князь, меч выхватил, и зверь ревел…
Да, слава Богу, удержал Игнат и другие пособили, свели с ладьи. И ты стоял на берегу, смотрел — они гребли, парус над ними раздувался, а небо было чистое, а солнце ясное, а на душе у тебя черным–черно.
А ты опять бежал, как волк! Но не от них теперь, за ними. Поскольку сдержал князь Изяслав свое слово и выступил на Русь в оговоренный срок, и Всеволод и сын его Владимир заспешили ему навстречу, да ты, князь, не давал, за ними шел, грозил. Замешкались они, а время шло. Тогда разделились Всеволод и сын его! Отец пошел на Изяслава, Владимир остановился, изготовился и ждал тебя. А ты не шел! А он выступил — ты отступил. Он отступил — ты начал наступать. Так и ходили вы — он на тебя, ты на него, слепца. И Всеволод, Великий князь, один шел на Волынь, и, значит, была с ним лишь половина его силы! А Изяславу ляхи дали помощь, и, не сходя с коня, покорил он Червенские грады, вышел на Волынь, взял Владимир, Олега Святославича ссадил, дальше направился на Луцк, на полпути между Владимиром и Луцком они сошлись, два брата, два Великих князя, обнажили мечи.
Да кровь есть кровь! На полпути между Владимиром и Луцком два брата съехались, сошлись две рати, встали, взвыли рога — и в седла! Съехались в поле князья, сошли с коней. И младший на колени пал и стал просить у старшего прощения, и старший зло отринул, взял брата за руку, поднял, и обнялись они, облобызались, вместе вернулись в Киев, и Всеволодов сын Владимир туда же поспешил — на пир. А ты, Всеслав, за ним уже не побежал, не догонял и не грозил, стоял. Ушел Владимир Всеволодович в Киев; там Изяслав, Великий князь, воссев на Отнем Месте, поделил Русь: он сам как старший — в Киеве и Турове, а брат его, раскаявшийся Всеволод, — в Чернигове, старший сын, Святополк Изяславич, пойдет на Новгород, младший, Ярополк Изяславич, — на Волынь, племяннику Владимиру придать еще и Переяс–лавль. А прочим племянникам, отродью Святославову, — знать их не хочу! — сидеть без мест. И так оно и было, ссадили Святославичей.
А о тебе, Всеслав, и вовсе речи не было, ни доброй, ни худой; пробегал волком от зимы до лета и думал, что для себя добычу загоняешь, ан нет! Брат Изяслав сел в Киеве, молчит, того тайного гонца будто и не было, будто Смоленск тебе и не. сулили. Да как теперь сулить, когда Смоленск ri Переяславль под Мономахом, под ромеичем, племянником любимым, а ты сиди, Всеслав, где и сидел, и не ропщи. Тому уже и радуйся, что не грозят тебе, вон, осерчав, ссадили Святославичей, а ты сидишь пока. Но придет и твой черед, хорошо еще, что у тебя ума хватило меча не обнажать, дружину сохранить: скоро она тебе ой как сгодится! И в Новгород на крики не пошел, не замарался, значит, и перед Богом чист… А был бы еще умней, так не стал бы держать Мономаха, а отпустил его, пошел бы Мономах вместе с отцом на Изяслава, и, силу почуяв, не упал бы брат Всеволод перед братом Изяславом на колени, а сошлись бы и сразились. Вот был бы пир! А кто б живым с того пира ушел, то Полтеску не важно, важно, чтоб дичину резали.
Да, перехитрил ты, князь, сам себя. Слеп был и глуп, верил в поле брани. Это потом уже, когда поднялся Ярополк, ты сказал, зачем идти, я, лежа на печи, всех порешу. И так и случилось бы, если б не сын Давыд. Давыд не волк; слаб человек, нет у него чутья звериного…
А посла все нет и нет. Дервяна нет. Гриди стоят. Солнце высоко поднялось. Ты лежишь и ждешь, когда кто–то невидимый заставит тебя встать, под руку возьмет и поведет. Ведь говорили, не шерстью от него разило, напротив, дух легкий был, как липов цвет… Но не зовет невидимый, и ты лежишь и ждешь. Темно в лесу, земля сырая. Туман упал. А ты весь сжался среди корней, нож изготовил, думаешь: ну, подойди, ну, подойди только! Но тихо. И неожиданно шаги: ш–шух, ш–шух…
Шаги! Дервян идет. От шатра по ковру. Идет и щурится, ему глаза река слепит. Тебя не видит он. С опаскою идет, всклокоченный. Боярин косо глянул, ты кивнул. Подошел Дервян. Гриди расступились. Он еще сделал шаг… Одни сомкнулись, другие навалились, скрутили, Дервян и охнуть не успел.
Только тогда ты встал, князь Всеслав, сошел с ладьи, неспешно подошел к нему, склонился и спросил беззлобно:
— Так что ж ты, сокол? Я жду тебя, а ты… Ну, отвечай!
Молчал Дервян. Губы кусал, пытался отвернуться, прятал глаза.
А те, возле шатра, стояли, изготовившись. Но не шли. И ты опять спросил:
— Ты что, Дервян?
Он дернулся. Его ударили, затих. Смотрел во все глаза, после спросил не своим голосом:
— Князь, ты?
— А то не видишь! — Всеслав усмехнулся. — А что у них?
Дервян опять задергался и быстро заговорил:
— Там чисто, князь! Там чисто!
— А что еще?
— Крест целовал! Молчу! Но чисто, чисто! — Зажмурился, губы закусил, его теперь хоть режь, не скажет, Дервян и есть Дервян…
Князь встал, осмотрелся. Все молчали. Грех вспоминать, но когда волхв к Глебу подходил, все так же происходило. Ты ведь не Глеб, Глеб с Ней не виделся и свой предел не знал. Тебе еще два дня до часа пополудни, иди, Всеслав, Она там, в тереме, осталась и ждет тебя, Она же и убережет здесь, если возьмут, так не зарежут, ну, глаз лишат, ну, языка… Так ты ж, Всеслав, на этом свете уже все видел, все сказал и даже более того — все лишние слова позабыл. Иди, Всеслав! Кто–то невидимый уже берет тебя, ведет — и ты идешь, гриди расступаются, ступаешь по ковру, это великий почет, брат Мономах не всякому ковер стелет и не пред всяким Мономахова дружина вот так стоит, даже крестятся некоторые. Слаб человек, и глуп, и слеп, и ты, князь, слеп, а ведь идешь. Да, при Рше у Изяслава шатер покраше был, так то — Великий князь, а здесь — простой посол. Кого он, Мономах, прислал?
Пустое, князь! Кто есть — тот, есть. Откинул полог и вошел. И… Вот кого не ждал, того не ждал! Воистину!
И он не ждал! Вскочил, просветлел лицом, засмеялся даже. Воскликнул:
— Брат!
И обнялись они, облобызались. И сразу же:
— Садись! Садись!
Не любит он стоять, больно приземистый, приземистые все больше сидеть любят. Смотрели друг на друга. И то: ведь сколько лет не виделись! Брат постарел. Он прежде был кудрявый. Борода уже не та, прежде топорщилась, кулаки подсохли. Одни глаза такие же большие, удивленные, словно отрок пред тобой, а ведь ему уже полета минуло. А говорят, ромеи рано вянут. Да не все! Брат Мономах силен, с таким сойтись…
Вот ты и сошелся, князь. Сидишь, и смотришь на него, и улыбаешься, как будто рад ему. А может, и рад! Когда ты зрячий, тогда чего бояться? Дед брата, Константин, ромейский царь, был тоже рудовлас, и тоже сила в нем была немалая, в горсти железо гнул! И нрав имел веселый. Как–то велел царь Константин устроить ему такой луг, где бы трава росла высокая, душистая и стояли на том лугу груши и яблони с плодами сочными. Да чтоб никто луг не охранял, а люди, покусившись на запретное, бежали бы к тем яблоням и грушам, и под ними проваливался бы этот луг, и падали бы они в искусно скрытый пруд, кричали бы, барахтались, а он, царь, наблюдал за их страданиями и тем бы тешился. Вот каков он, братов дед. А мать тиха была, христолюбива. А младший братов брат…
Пустое это, князь, грех так усопших поминать, брат перед тобой, брат Мономах, кровь царская. Вот честь! Ведь мог посла прислать и обещал посла, но сам пришел, уважил. И улыбается! Веселый, легкий нрав у Мономаха, устроить луг, сесть и смотреть на тех слепцов, которые, завидев сладкий плод… Но я, брат, не Василько Тере–бовльский, волк в волчью яму не полезет, зачем ему, разве охотник он до яблок? Вот если бы…
Засмеялся Всеслав! Смеялся и Владимир, а отсмеявшись, радостно сказал:
— Как славно! А я уже не чаял свидеться.
— С чего это?
— Дымы прошли.
— Ну и дымы! А я пришел. И ждал. А ты не вышел.
— Винюсь, брат. Не серчай. Не ждал, воистину не ждал уже… Дервян сказал, что ты на вече зван, что обозлился град, что поднялись они. Вот и подумал я: коли дымы… — Перекрестился. Помолчав, продолжил: — Я ночь не спал. Гадал: уйти или стоять. Остался. Не ждал уже, а так стоял. И вдруг — ладья. Твоя! А что тогда дымы? Мы оробели.
Всеслав усмехнулся, сказал:
— И ты — как все они.
— Нет, брат, я не о том подумал.
— О чем это «о том»?
— О чем и ты. — И глаз не отводил, смотрел, как отрок, ясно, не по–княжьи. Налим! Не взять тебя. Да я и не беру. Молчу и слушаю. И Мономах сказал: — Что я? И ты, брат, оробел. А то с чего ты из ладьи не выходил? И я уже подумал, Глеб, средний твой пришел, на вече его выкрикнули, он теперь и у власти.
— А я куда?
— А по тебе — дымы. Глеб сел на Полтеске, Глеб и пришел вместо тебя.
— И от того и оробел? Давыда, значит, ждал?
— Тебя я ждал. К тебе я шел, тебя и ждал. Да что мы все! Я — гость в земле твоей, ты — гость в щатре моем. А коли так… — Взял колокольчик, побренчал. Вошел Богдан. — Несите!
Было много яств и много вин, медов, но ели братья мало, еще меньше пили, все больше жаловали гридей; там, меж кострами и ладьей, и был почестей стол, там хмель плясал в чашах да приплясывал и пел, в шатре было тихо. Брат Мономах на пирах молчун, нетороплив, он прежде, чем сказать, семь раз подумает — хитер.
Хитер был дядя Ярослав, который много говорил, любого мог заговорить, а потом станешь вспоминать — нет ничего, одни слова. А этот, как купец прижимистый, бросает на весы по зернышку, по зернышку. И оттого, поди, в питье он умерен, в речах нескор: только на третьей перемене спросил брат Мономах про вече, и брат Всеслав, куска не вынимая изо рта, сказал, что чернь есть чернь, сперва дай ей покричать, не унимай, а там уже свое бери. И взял? Взял, один, мечей не доставали. А что тогда дымы? А сыновей зову: положим Полтеск вдоль лавки и, оборвав Зовун, его же языком…
Засмеялся брат Всеслав, пожал плечами Мономах, но улыбнулся, однако кривая улыбка получилась. И вдруг спросил Всеслав:
— А что Давыд? Передавал поклон?
— Давыд? Который?
— Мой, Всеславич. Ты ж по Двине шел, брат, и, значит. Витьбеск миновал. Вчера? Или когда?
— Другого дня. Но сына твоего не видел. Мы скоро шли. И я… без шапки был. И при весле. Зачем всем знать, что Мономах идет? Ведь я не к ним — к тебе. За здравие! — И поднял рог.
Так, так… А ты, князь, о Митяе сокрушался! Пей, князь, в последний раз ты с Мономахом пьешь за свое здравие. И за его. И за Давыдово… Выпил и сказал:
— Ну, не видал так не видал. Теперь не встретитесь — он берегом пойдет. А может, и вдет уже.
Вздохнул. Идет Давыд. И Глеб идет. Борис. И Ростислав. Пир кончился, чаши стоят пустые. Сейчас вот приберут, оставят вас одних, и тогда скажет Мономах, зачем явился. А слушать–то тебе уже не хочется. Но и вставать нельзя. Сидел. На берегу шумели. А солнце уже за полдень склонилось. Час пополудни, да, не менее. Пришел Богдан, стал прибирать. Молчали. А Витьбеск; говоришь, ты так прошел, не открывался…
Устал! Прилечь хотелось. Не ложился. Еще два тебе дня терпеть, потом отдохнешь…
Ушел Богдан. Тогда Мономах сказал:
— На Степь иду.
Всеслав кивнул: на Степь…
— На Степь, Всеслав!
— Бог в помощь.
— Я и тебя зову.
— Меня?! — Он сразу даже не поверил, подумал, ослышался. Но Мономах повторил:
— Тебя, Всеслав. И сыновей твоих.
Ну вот, встретил ты посла, услышал! И ради этих слов ты перед Нею падал, выпрашивал дни, рвал оберег! Вот уж воистину: в свой срок уйди, иначе… Что ж это?! Степь! Всеслав и Мономах — на Степь?! И засмеялся даже, спросил:
—■ А брать кого будем, бурчевичей? На Боняка пойдем?
Но Мономах не улыбнулся. Сказал:
— И на бурчевичей. На Боняка. На всех. Всей Русью на всю Степь!
Всеслав откашлялся, проговорил:
— На всю могу. А на бурчевичей — никак. На Боня–ка — совсем никак. Он — волк, я — волк. А волки меж собой дружны.
— Брат! Не глумись!
— А я и не глумлюсь. Я говорю как есть. Ведь волк Боняк?
— Ну, волк.
— А я?
— Ты мне брат.
— Пусть брат. Но волк? Молчишь! И знаю я, отчего ты в шатре затаился, не вышел. Ты не по Глебу заробел… — И замолчал Всеслав, запнулся.
А Мономах спросил:
— А по кому?
Налим! Не улыбнется и не встрепенется, сам первым не пойдет, а сядет, затаится, будет ждать, смотреть на луг, на траву высокую да на яблони и груши, на ветви, до земли склоненные, на сочные плоды: слепцы, хватайте!.. Но я, брат Мономах, совсем ослеп и тех плодов уже не вижу, вот и сижу пень пнем, да и куда спешить, чего желать? Мне Место Отнее давно не снится, а вот тебе, поди…
Вдруг зверь рыкнул. И вновь затих. Всеслав огладил бороду, сказал задумчиво:
— На Степь! Ты, брат, пойдешь. И Святополк, Великий князь. И Святославичи, все трое: Давыд, Ярослав и Олег. Ведь и Олег, так, брат? Вот и вас уже пятеро. Сила какая! Зачем же с нами, полочанами, славу делить?!
— Я, брат, не для того…
— Постой, постой! Ведь вас не пятеро, а больше будет. Пойдет еще один Давыд, сын Игорев, внук Ярославов, его чуть не забыл. Его ведь тоже призовете. И что с того, что он Василька ослепил, но свой ведь он, корня Ярославова, надо взять и его с собой!
— Я…
— Помню, помню! Кто ж о твоих скорбных словах не слышал?! Да ведь, брат, так оно и есть, того, что Игорев Давыд содеял, воистину вовек еще на Руси не было. Но родная кровь заговорила, и ты простил его, и все его простили, а теперь вместе на Степь пойдете. Конечно, Василько этого не увидит, Василько слеп, пусть плачет по глазам своим. Да и кто он, Василько? Изгой! Он страшен был с глазами, а нынче кто его, слепого, убоится?! — Замолчал Всеслав, ждал. Не дождался. Брат Мономах лишь улыбнулся, а отвечать не стал. Пусть так! Всеслав опять заговорил: — Ну вот, с этим Давыдом вас уже и шестеро. Но если он с вами пойдет, то ни Василька, ни
Володаря вам не дозваться. Жаль, потеряли Ростислави–чей… Но Русь, брат Владимир, обширна! Есть на Руси еще и Ярополчичи — Ярослав и Вячеслав; брат Ярослав — в Берестье, брат Вячеслав — в Городне. Их призовете. Так?
— Так… да не так, — ответил, подумав, Мономах. — Не будет с нами Ярослава. Поскольку Берестье держит Святополк, а Ярослав Ярополчич сел там, в Берестье, самочинно. И посему не князь он, Ярослав.
— А Вячеслав Ярополчич в Городне, он как?!
— А Вячеслава Ярополчича брат мой Великий князь Святополк Изяславич помиловал и жаловал ему Городню.
— Отчего ж такая честь? Не оттого ли, что он, Вячеслав, снесясь с Великим князем, посулился предать родного брата своего Ярослава? И чем тогда Великий князь чище Давыда Окаянного? Тот нож меж братьями бросил — и этот. Ты растолкуй мне. Стар я стал и ничего уже не понимаю, слеп, как Василько Теребовльский!
— Слеп! — Мономах засмеялся. — Стар! Слаб! Оно и видно. Вон вече усмирил. Один!
— Один, — кивнул Всеслав. — Слепой. Зачем волку глаза? Был бы у волка нюх! А нюх — он есть! Потому и не зови, уж больно он смердит, Давыд, мне рядом с ним невмочь. Так и скажи ему, когда на Степь пойдете… Да ведь не скажешь — убоишься. И не Давыда, нет, а… сам знаешь чего! Ведь так?
— Так, — кивнул Мономах, усмехнулся. — Ведь… как ты это говоришь? Да! Слаб человек!
— Воистину. А как по твоей присказке? А? Господи помилуй!
— Не заносись, Всеслав!
— А я не заношусь! Я… — Нет, сдержался.
А зверь так за язык тебя и дергал:, скажи, Всеслав, скажи! Какая Степь, какой поход, когда брат Ярослав тобой предупрежден, в ляхи бежит, а к лету вернётся не один, — вот тогда–то вам и будет Степь, такая Степь, змееныши!
Молчал. Насторожился. Лес. Темнота вокруг. А ты идешь на ощупь: сюда, теперь сюда, коряга под ногой, переступил через нее — и в мох, он мягкий, чавкает… И надеешься: столько раз ходил — и теперь пройду, это другие вязнут, тонут, а я хитер, меня не проведешь, вот эта кочка хороша, ступил — держит. И эта держит.
Нет, Господи, не я это тону! Дошел Угрим, все Ярославу обсказал, и Ярослав поверил и бежал, а Святополк замешкался и не перехватил его, ибо Неклюд наговорил…
А ведь тону я, Господи! Кричу!..
…Мономах сидит, смотрит и не улыбнется… Но чуешь — нет, не от него эта беда придет, он, Мономах, христолюбив и кроток, он если в храм войдет и пение услышит… А в пост поклонов бьет не счесть, а посему топить не будет. Пресвятый Боже! Коль дал ты мне узреть сей свет, так хоть на миг открой…
И впрямь ты слеп, Всеслав. Волк ты, зверь. И Мономах такой же зверь. И слеп он, Мономах. Вся Русь слепа. А над Васильком насмехаются. И Ярослава, ежели догонят его, то же самое — глаз не сберечь ему. А ты, Всеслав, молчи. Град Полтеск твой, и волоки твои: идут купцы по волокам — платят, войско пойдет — пусть войско тоже платит, а не заплатят — сам придешь, а то и наведешь литву на них, змеенышей, отродье Ингигер–дово, вон сколько расплодилось их — не перечесть и не упомнить, грызутся меж собой — и пусть себе грызутся, и что тебе тот Игорев Давыд, и что тебе тот Ярослав, ну, брат он Глебовой, ну, зять тебе, так зять — не родная кровь!..
— Брат! — окликнул Мономах. — Ты слышишь меня, брат?
Брат! Всеслав усмехнулся, сказал:
— И Василько вам брат. И тот, который ослепил его, он тоже брат. Так, брат?! — Зубы сжал. Щеку свело, глаз задергался. И вот еще б чуток…
— Дай руку, брат! — тихо это сказал Мономах, Всеслав едва его расслышал. Но руку протянул! Зачем, он сам не знал, ложь все это, нет правды на Руси, и не было, и никогда не будет. А руку дал! Мономах сказал:
. — Всеслав, я не на Степь тебя зову — на Русь. И не на брань — на ряд. А будет после ряда Степь или не будет, время покажет. Свеча бы не погасла, брат, вот я о чем пекусь.
— Свеча?
— Свеча, Всеслав. Будет она гореть — будет Русь, будет Русь — мы будем. Наши дети. Вот ты кричал: мы — Рогволожьи внуки, а вы — змееныши, вы — Ингигердичи! Нет, брат. И ты, и я, и Святополк, и Святославичи, и Ростиславичи, и Ярополчичи, вся Русь — Рогнедичи. И значит, все мы, брат, от Рогволода. И от Буса.
Вот! Руку выдернул. Прищурился. Спросил:
— А не от Рюрика?
— И от Рюрика, брат, но и от Буса. Ведь так? Твой дед Изяслав Владимирович и мой и всех моих ближних и дальних братьев дед Ярослав Владимирович суть единоутробные братья, Рогнедичи. Ведь от других жен Владимира потомства нет, вот и выходит, что вся Русь — Рогнедичи. Так что же, брат?! Что, Полтеск — не Русь, то почему ни ты, ни твои сыновья ни в Любеч не пришли, ни в Витичев? Мы все, род Ярославов, там были и ждали. — И смотрит, не моргнет.
Смешно! Ну не снится мне Киев, не снится! Хоромы рубят по себе, и шапку выбирают по себе, как и меч. И путь. И крест.
Спросил:
— Вот Святополк, не ровен час, сойдет, кому тогда садиться в Киеве?
Мономах улыбнулся, ответил:
— Великий князь еще всех нас переживет, зачем о том загадывать?
Всеслав кивнул:
— Конечно. Что меня переживет, это да, а вот иных… А все равно когда–нибудь сойдет! И сядут Святославичи. Они ведь от среднего брата, а ты, Владимир, от младшего!
— И что с того? Вот мы с тобой разве…
— А то, пусть они и пекутся о том, дабы свеча не погасла. А что тебе? Тебе, брат, до Киева еще… ого! И доберешься ли? Подумай, брат! Стрела и та, боюсь, не долетит! — Засмеялся зло.
И пронял! Почернел Мономах! Закричал:
— Нож бросаешь, Всеслав!
— И бросаю. В ответ. Рогнедичи! — он снова засмеялся. — Свеча! Не лги мне, брат! Какие вы Рогнедичи! Кто заступился за нее! Мой дед и заступился! А Пере–юпока промолчал, за спины спрятался! А после все — к отцу, к отцу! С того и повелось, мы приняли удел Рогнедин, вы — Владимиров, и оттого — варяги вы, находники, а мы — от Буса здесь, все наше здесь, все…
Засмеялся Мономах! А Всеслав замолчал. Мономах сказал:
— Так мы варяги, ладно. А кто твой крестный, брат? От кого ты приял первый кус? И где твой старший брат схоронен, уж не в варягах ли?
— В варягах. В сече лег. Хоть говорят, что утонул. Мир праху братову. Прости мя, Ратибор!.. А твой, Владимир, младший, где? Что с ним? А то, слыхал, поди, о чем болтают! Слаб человек! И лжив. Чего, брат, не смеешься?
Не ответил — ромеич, змееныш. Сидел, полуприкрыв глаза, смотрел перед собой. Долго молчали. А у реки было шумно. Туча кричал, Копыто порывался петь. Пьяны они, все как один. Кто же к веслам теперь сядет?! А уходить пора. Брат затаился, не сболтнет, да он не из таких, ромеич он, ромеи же хитры, варягам не чета. Пора уходить!
— Брат, погоди!
Всеслав застыл. Мономах сказал:
— Вот ты уходишь, брат. А не уйдешь! Всю жизнь ты уходил, а так и не ушел. Как на Руси родился ты, так на Руси и умрешь. И еще в Степь пойдешь. А не успеешь сам, так сыновья твои пойдут. — Он тихо, кротко говорил, как черноризец. И лик его такой же кроткий был… А жгли слова, в кровь резали. — Всеслав, а знаешь, кто не отпустил тебя? Не Киев, нет. И не ненависть к змеенышам. А Глебова. Такая маленькая, слабая, а всех нас пересилила! Вернусь, обедню закажу, во здравие…
И зверь словно с цепи сорвался! И ты, Всеслав, не зная, отчего и кто тебя надоумил, откуда это все взялось, внезапно сказал:
— А знаешь, брат, ведь быть тебе на Киеве, двенадцать лет, потом помрешь. Дед твой двенадцать лет сидел на Цареграде, ты просидишь двенадцать на Киеве. Но сколько ты ради того грехов, брат, на себя возьмешь! Ох, скольких ты давыдов окаянных за то простишь да расцелуешь! Да что с того, свеча бы не погасла… Тьфу! — И встал ты, князь, давно так не вставал, и вышел из шатра. Закричал дружине, быстро побежали за тобой, все побросав, к веслам кинулись, подняли парус, и — прочь, прочь, ни разу ты не оглянулся! А ждал–то ты как, в ногах у Нее валялся и выпрашивал: «Приму посла»! Вот, принял, возвращаешься, Она тебя за печкой ждет, солнце склоняется, наступит ночь кругом, и жди шестого ангела, да не увидишь ты его, увидишь — сыновья пришли, а среди них — Давыд, Давыд в крещение, а Рогволод по имени… Как ты радовался первенцу! Думал, возмужает он — вместе выступим, все вернем. Рос он, старший сын, мужал, и на него ты уже Полтеск оставлял, знал, он сдюжит, что бы ни было, а после сдержать сына не мог, когда, собрав дружину, он кинулся вверх по Двине, затем по волокам на Днепр… И ты за ним! Это был последний твой поход, Всеслав, на Русь, он славы не принес, да ее ты и не искал, но тишины… И наступила она, та тишина! Гребут. Молчат. Вода черная, как сажа. Вдали показался курган, еще один. Володша по реке ходил, железные кресты в воду метал, река крестов не принимала. Лжет Мономах! Не Русь это, а Бусова Земля. И Бусова Река, а не Двина! И оттого, что здесь не Русь и не Двина, я в Любеч не ходил и в Витичеве не был, в Степь не пойду.
Тьфу–тьфу, не сглазь, Всеслав! Ш–шух весла, ш–шух. Едва гребут, напировались! Дервян лежит. Вверх смотрит, в небо.
— Дервян!
Дервян поморщился, но головы не повернул. Тогда князь повелел:
— Развяжите его!
Развязали. Дервян зашевелился, сел. Вздохнул. Глянул, отвел глаза, еще раз глянул и снова отвел глаза. Князь засмеялся, сказал:
— Сядь ближе, сокол!
Пересел. Всеслав спросил:
— А страшно было?
— Когда?
— Когда ладья моя появилась.
Дервян молчал. Тогда опять Всеслав сказал:
— А брат сказал, было страшно. Ведь, говорил, когда дымы прошли, решили мы, задавили–таки волка! А что еще?! Дымы ж прошли! И ночь прошла, все было тихо. И вдруг ладья! И там Всеслав! И значит, точно волколак! И изготовились, чтоб зверя брать, да оробели. А тут ты вызвался, так сказал: дескать, не такое видывал, пойду… Так мне рассказывал Владимир–князь, мой брат по Рюрику. И каялся, крест целовал. Так было? Так? Чего молчишь?! Он, знаю, с тебя слово взял молчать, он же и вернул его, ты что, не веришь мне?! Я пред тобою или кто? — И закричал уже: — Так было?!
— Так…
Засмеялся князь. Воскликнул:
— То–то же!
А после пнул его в плечо, Дервян упал. А ведь я его тихонечко толкнул, для виду. Страх повалил его.
Молчат все, гребут. Как будто и не слышали. Ш–шух весла, ш–шух. Слаб человек. Лжив и труслив. И ненасытен! Вот Изяслав, три года в ляхах просидел, как мышь в норе, дружины не было, и чести не было, казны и той лишился — как с неба все обратно свалилось! Сел в Киеве, в силу вошел, племянников, отродье Святославо–во, загнал в Тмутаракань, чего еще тебе? Чего?!
Всеслава дай! Да стыдно признаться, все знают: кабы не Всеслав, пошел бы Всеволод на Изяслава не один, а с сыном, и кто б тогда одолел, еще неведомо, а так сидишь ты, Изяслав, на Отнем Месте, и на тебе венец Владимиров, вся честь — тебе, и все поклоны тебе бьют, и кроток Всеволод, и Святославичи молчат. Да и Всеслав молчит, не поминает о Смоленске, а мог бы, мог!
Ждал, не сам Великий князь пойдет, а вроде как оно само собой случится. Ведь сын Изяслава Ярополк сел на Волыни, Святополку, старшему, пора идти на Новгород, там с лета стол стоит пустой — убила Глеба Святославича чудь заволоцкая. Потому собрал дружину Святополк и выступил, всем говорил: на Новгород садиться. В Чернигове сошелся с ним Владимир, Всеволодов сын. Вместе пошли. Им до Смоленска, всем сказали, по пути. И повели братья с собой… бурчевичей, волчью орду. Полову по Руси повели! Полова мирно шла, не жгла, не грабила, и оттого Великий князь, как после рассказывали, о том не слыхал. И сына своего не останавливал. Шел Святополк, Всеволод шел с ним, и Владимир, и орда бурчевичей, Аклан их вел. Зима уже наступила, снега пали глубокие, шли по Днепру, по льду. Любеч, Копысь прошли. Да кони начали падать, меньшие ханы стали говорить, что не к добру это, куда идем, не наши то угодья, степному брату степь нужна, лесному — лес, зачем лесного травим, ведь мы не псы, Аклан! Аклан только смеялся. Друцк обложили, подожгли. Добычи мало было, уныние роптали. А рыжий русский князь был щедр, все им отдал и говорил, что дальше еще больше будет!
Под Менском встретили его, лесного брата. Храбр он был, крепко бился, и стрелы его не брали. А конь под ним оказался слаб! Коня свалили, брат на другого пересел, под стены поспешил — перехватили, отогнали. Брат к лесу кинулся, рыжий князь за ним погнался, да ночь пришла, лесной брат и сгинул. Рыжий вернулся, сказал: его теперь не взять, он в ночь до Полтеска домчит — луна ведь нынче полная!
А Менск сожгли. Добычи снова было мало. Хотели хоть полон взять, да рыжий воспротивился, и черный был с ним заодин, нет, черный даже круче. И порубили всех менян. Зачем? Свести бы да продать… Вот псы какие на Руси! Дикий народ!
Дальше пошли. Аклан с князьями пировал, князья ему много чего посулили: ему — Окольный град, жирный кусок, им Заполотье, Детинец же брать вместе, с него и добычу пополам. Скоро двигались, хоть кони и падали. Не жалели коней, как и людей. И снова уньшие разгневались, кричали, чтоб Аклан одумался, — князья, кричали, как лесного затравят, так примутся за нас, степных, а на чем нам тогда без коней–то ходить, двумя ногами, что ли?! Мы что, колодники?! Аклан Куртанопу зарезал, Безея, другие
затихли. Пришли под Полтеск–град, стали на Вражьем Острове. Лесной брат затаился, тихо было. А как смеркаться начало, у них в колокола ударили, а рыжий–то князь смеялся, говорил, что лесной брат в колокола не верит, он, как и вы, бурчевичи, кощун. Зря так сказал! Разгневался Аклан, но виду не подал. До ночи пировал с князьями, потом к себе вернулся, сильно замерз: завьюжило, и ветер юрту рвал и выл нещадно, злобствовал. Здесь в эти дни всегда такие вьюги и такой вой — сказывают, волки справляют свадьбы, да вам, бурчевичам, чего волков бояться, когда вы сами волки и волку поклоняетесь! Аклан поправил: «Не волку, но волчице». И ушел. Вернулся к себе и долго кутался, согревался и заснул.
А ночью хан Аклан увидел сон. Будто спал он, потом проснулся, а головы поднять не может, словно кто–то ухватил его за волосы и держит. Долго глаза не мог открыть, наконец открыл и видит: склонился над ним кто–то в высокой княжьей шапке, волком отороченной, и сам он ликом сер, и глаза серые, усы и борода, губы серые и зубы. Зубы блестят, глаза блестят, лик злобно перекошен. И что–то говорит он, князь, сердито говорит, не говорит даже, клокочет!..
Замолчал, смотрит, ждет. Аклан хотел вскочить — не смог. И на руках сидят, и на ногах, не шелохнуться. А этот… лесной брат, узнал его!.. Одной рукой опять он схватил хана за волосы и запрокинул ему голову, второй ребром ладони — по кадыку!..
Очнулся хан. Долго кровью харкал, потом затих. Вот это сон! Вдруг слышит, огонь шипит. Подполз к огню. В золе лежит казан, днище копьем пробито. Позвать хотел! Не смог. Дальше пополз, откинул полог. Ночь, вьюга, и следов уже не видно — все замело. Удальцы его лежат, все шестеро, порезаны, их тоже замело совсем. Завыл Аклан, упал в снег, грыз руку, бился головой.
А за рекой опять колокола звонили. И ночь была, и ветер выл, ревела волчья свадьба!
Утром хан орду поднял и приказал идти обратно. Рыжий князь прибежал, руками махал, кричал, все сулил отдать. Но Аклан так сказал:
— Нет, князь, уйду. Не волчье это дело — волка травить!
Шел, жег, грабил всех. И быстро двигался. Князья за ним не поспевали. Так и ушел он в Степь и залег. Только [ через год почти опять нагрянул, но уже не на Полтеск — на Русь. И вел его уже не Мономах, не Святополк, а Святославичи на Мономаха да на Святополка!
Да так всегда оно бывает. Брат Изяслав, Великий князь, потом гонял послов на Полтеск, говорил: «Брат, то не я, не знал я, брат, да Святополку я за то…» А ты ничего не отвечал, Всеслав. А мог бы сказать, потому ты и под Менск тогда пришел, что знал: идут они, что был гонец от сына твоего, от младшего, от Ярополка Изяславича, тайный гонец. Он и сказал: «Князь, берегись, ведут они полову, бурчевичей, ибо ромеич говорит, что только волком волка одолеем!» Да не сбылось, волки сошлись — и разошлись, у каждого свои угодья, и потому не мне ходить на Степь, и не зови меня, Владимир, не пойду!
Усмехнулся князь Всеслав, головой мотнул: как славно сказано! Да если б и хотел, не успел бы ты, чего ж тут грозить! Твой путь закончен, князь, и ноги как колоды. Везут тебя к Ней на заклание. Вода черная. И берега черные. Вон на том кургане ты стоял, Бусу внимал, а под курганом лежит Микула, пращур твой. Креста не знал, а Полтеск при нем славен был.
Всеслава ты всю жизнь боялся, Изяслав, и от него ты смерти ждал: что он выше тебя, что не по тебе, а по нему стол киевский. Оттого думалось тебе: «Изведу Всеслава, и тогда…»
Не извел! Да и не Всеслав был на тебя рожден — другой. А ты того и в мыслях не держал. И рос он как сорняк в поле княжеском — племянник брата младшего, изгой. Их было двое, младших братьев Ярославичей, Владимировых внуков, — Вячеслав и Игорь, оба они рано умерли, но от обоих осталось по сыну: Борис от Вячеслава и Давыд от Игоря. Давыд пока был тих, Давыд еще свое возьмет, еще он бросит нож меж братьями, но то когда еще случится! А вот Борис…
Кто б мог помыслить, что Борис поднимется?! Кто он такой? Изгой. И нет ему пути по лествице. Есть на Руси три брата Ярославича, и есть их сыновья, они и держат отчину, им, только им рядить, кто сядет в Киеве… Есть еще Всеслав, он тоже русь, но — сатана, от веку так заведено, чтобы везде был сатана, ведь не бывает дня без ночи и лета без зимы.
А кто такой Борис? Сын брата младшего, и потому за кровь его и воздается ему милость, и есть у него двор, есть даже малая дружина, и на пиры его зовут, на ловы и на рать. Чего еще ему надо?
А поднялся Борис Вячеславич! Ударил, да так, как никто и не чаял. Пока вы, старшие, рядились да сшибались, он сел на Чернигове. Один! С дружиною всего в четырнадцать мечей град покорил, неделю в нем сидел, судил и жаловал, казну раздал, амбары отворил, вече собрал и был всем люб.
Обложили Ярославичи Чернигов! Но не склонился град, а затворились и кричали.
Мог Борис сидеть за стенами, они там крепки и высоки, долго сидел бы, пока не взяли бы, пока не уморили, пока, как и в Киеве, сто двадцать пять голов на копья не подняли бы.
А он зло отвел, весь грех на себя взял — мол, я народ смутил, с меня весь спрос, но спросите с меня, когда повяжете. Ну, вяжите!
Выбежал с дружиною в четырнадцать мечей, прямо через стан, через возы, в галоп! И — в Степь, как в белый свет. Разгневался брат Всеволод, в погоню посылал, ханов поднимал и им сулил много всего. Ушел Борис, никто его не взял — ни Русь, ни Степь. Пришел в Тмутаракань, к Роману Святославичу, — и там мутил! Говорил: «Земля наша обильна и обширна, много в ней князей, и все мы — братья, равные, и нет над нами старшего. Какой он старший, Изяслав, какой он Богом данный, если при нем, живом, Всеслава венчали нам в отцы, после Святослава, за ним Всеволода, нынче снова Изяслав сидит?! А я чем хуже, братья? А чем вы? Были б мечи, всякий достал бы венец Владимиров! Но любо ль то?!» И по Борису выходило, если все равны, то и Русь надо делить всем поровну, всем по уделу, а лествичным восхождениям чтоб больше не бывать. Где после ряда сел, там и правь, и сыновьям то оставляй. Тогда и смутам конец, делить–то нечего, все поделено, все равные, нет старшего.
И полюбились его речи Святославичам! Сперва Роман крест целовал быть заодин, а после прибежал в Тмутаракань брат Ярослав, за ним Олег пришел. И сотворили они ряд. И выступили трое Святославичей, ведомые Борисом. Исполнилось Борису только двадцать лет, и не было при нем ни злата, ни дружины, не сиживал его отец на киевском столе — а шли за ним, при стремени. Кликнул Борис, поднялся и Аклан, и он пошел, и над Акланом стал Борис за старшего.
Был Борис и не высок, и не силен, и не сладкоречив, и не криклив. А скажет — как огнем прижжет. И в сече первый был. Смотрел только в глаза. Бил только в грудь. Ступал легко. И с ним было легко! А не сулил он ничего, он говорил: «Сами возьмете». Шли — скоро, как могли.
На Порубежье встретили их черноризцы, печерские, так Иоанн велел, митрополит, Божьим словом заклйна–ли их. князей, одуматься. Но Борис слушать их не стал, только испросил благословения на путь. И Николай… Что я? Тогда уже не Николай, Никифор, тот самый, князь. Никифор и вскричал: «Борис! Одумайся! Ведь ты ж не волк!» На что Борис ответствовал: «Да, я не волк. Но лев!» И рассмеялся. И проклял его Никифор! Гриди кинулись к Никифору, повалили черноризца наземь. Борис велел отпустить. Стоял Никифор, кричал, проклятью предавал. А Борис дальше пошел. Бурчевичи с ним, Олег. Однако младшие из Святославичей, Роман и Ярослав. смутились, коней поворотили, ушли в Тмутаракань. Борис их не держал, сказал только: «Псам — псовое, а нам — вся Русь».
Пришел на Русь. На Сожице ждал его Всеволод. Борис велел ему сказать: «Брат, я не на тебя иду, не заступи пути». Взъярился Всеволод, разум потерял, вышел из стана. А было то после дождя, земля набрякла, вязкой стала, споткнулся конь под князем, не удержался он, упал, нога застряла в стремени. Тогда завизжала, записала орда! И — ринулась! И сшиблись, и рубились люто, и в грязь летели головы. Снова дождь пошел, кровь смывал. Но срам ничем не смыть! Бежал князь Всеволод, не удержав племянника, оставив во поле лежать бояр Порея, Чудина и Жирославича, а воев его легло — не счесть, до ночи подбирали их, наутро хоронили.
Аг после разошлись они, Аклан, добычу взяв, подался в Степь, Борис и Олег — на Чернигов. Чернигов открыл ворота им, сели они в Чернигове. Олег на Киев звал, Борис не пошел, ответил: «Нет, брат, нас там не ждут, то не Чернигов. Да и не ради Киева я шел — но против лествицы. А лествица длинна, поле широко — всем места хватит!» На том и порешили, ждали Изяслава в поле…
Да еще больше ждали Святославичей, Романа с Ярославом, Олег чем только не приманивал, но не пришли они. И ты, князь, не пришел! А был гонец! И ты в глаза ему смотрел и обещал. Волк! Волком и остался. Это потом уже сказал сыновьям: «Взял бы верх Борис — и поделили б Русь. Сел бы Борис в Смоленске, Смоленск ему по отчине, отец его сидел в Смоленске. Но наш Смоленск! От Буса повелось так! И оттого не пошел я к Борису». Лгал ты, князь, сыновьям, а больше лгал себе. Не убоялся ты Бориса, но почуял — выше он тебя. И это в двадцать–то лет! И предал ты из зависти Бориса, ибо легко быть волком среди псов, но волком перед…
Борис воистину был лев! Пришел брат Изяслав, пришел брат Всеволод, их сыновья пришли, Ярополк и
Владимир, и собралась у них сила великая, Олег Святославич вскричал: «Брат, уйдем!» Борис засмеялся, сказал: «Не уходи пока. Встань на холме и посмотри, как бьется настоящий князь!» И двинул рать на лествицу один. Шел первым. В тот день он ехал на белом коне, и латы на Борисе были белые, ромейские, шлем он снял, бросил в траву, и на ветру развевались его волосы, и были эти волосы золотые, длинные, кудрявые, как грива! Конь ладно под ним шел, размашисто, а одесную от него, на вороном, Коснячко был. Вот где он объявился–то, боярин, дождался князя своего! И…
Сшиблись рати. Была сеча зла на поле Нежатины Нивы. И Она те Нежатины Нивы косила! И лег Борис, Коснячко лег, лег и Изяслав. Его, князя Великого, потом свезли в санях и положили в храме Богородицы. Бориса воронье склевало. Олег бежал. А Всеволод второй раз сел на киевском столе, теперь уже по старшинству, и задарил племянников — Давыду Игоревичу Туров дал, Ярославу Святославичу — Муром, Роману Святославичу — опять Тмутаракань. А Всеславу Брячиславичу пожаловал обоз даров богатых…
Взял ты, князь, дары, раздал на Торгу. И Киеву в ответ подарков не послал. А Изяслава и не помянул! По Борису заказал сорокоуст и сорок дней в Софии простоял… А Нежатины Нивы все снились и снились, снились кости белые, непогребенные. Просыпался ты, вскакивал, выл, зубов не разжимая. Да разве волк ты, князь? Нет, ты не волк, не пес даже — свинья. Борису позавидовал, убит Борис, а радость где? Нынче вот — Мономах… Как ликовал ты, князь, когда кричал ему про те двенадцать лет! Так то двенадцать! Тебе же и двух уже не жить, а все визжишь, словно свийья.
Вскочил. Еле удержали.
— Князь!
Опомнился. Сел. Стиснул голову руками. Смотрел на берег, на Лживые Ворота. Ш–шух весла, ш–шух… Закрыл глаза. Прости мя, Господи! «Вкушая, вкусих мало меду и се аз отхожу. Несть бо власти аще не от Бога». Борис от меча погиб. И Ярополк. И Изяслав тоже, хоть схоро–нясь за спинами и стоял, а все же в сече пал, и то есть честь великая! А ты, как Всеволод, от страха, князь, уйдешь, да ты уже ушел, да ты уже не жив, ты тень одна, не зря было видение, не зря весь Полтеск ликовал — нет князя! Так и нет! Вон Святослав, вередами изъеденный, и тот цеплялся за жизнь, а ты…
Вставай! Уже и парус убран, мачту положили. Туча руку подает, ведут тебя, ты идешь, ноги скользят, да как колоды они. Бус говаривал…
Иди и голову держи прямо. Пот со лба не утирай: темно уже, никто его не видит. Наконец мостки. И ворота. Лживые! Вошел…
И не на терем, не на Зовуна, не на Софию, даже не на костры на буевшце, а поверх них, костров, сразу посмотрел на Шумные…
Висит Митяй! Всеслав вздохнул, снял шапку и перекрестился. Прости мя, Господи! Да, не по–христиански то, но коли радуюсь, то жив я еще, жив!
3
Жив, Господи! Хоть и темно кругом, зато костров прибавилось. Значит, Хворостень пришел, своих привел. Ведь о сыновьях твоих уговор был, чтобы они с дружиной в Полтеск не входили. А он, боярин, — здешний пес, захотел — ушел, сел на селе, захотел — пришел. Любим его не отговаривал, Любим о нем молчал, Любим его тайком прикармливал, а он… к тебе шел. Перемудрил Любим. И вот теперь… Пот высох, голова гудит! И шел он, князь, кивал по сторонам, как будто ничего и не было. И то, чего только на свете не случается, жизнь — как блуждание в лесу. Слаб человек, ушел, пришел..,.
А вот и Хворостень. Вскочил.
— Князь!
— Что, боярин? Давненько не видал тебя!
Другой бы тут с поклонами. А этот — нет. Ощерился,
развел руками боярин, блудный пес. Только и сказал:
— Князь!..
Усмехнулся Всеслав. Велел:
— Ну, говори.
— А что и говорить? Слаб человек…
Слаб, слаб воистину. А еще больше слеп. Вот ты, боярин, думаешь… И думай! Мни себе. А я должен гнев свой показать — все ждут. И покажу!
— Чего пришел? Не звали!
— Так я ж и говорю: слаб человек. Зря я опасался, князь! Прошел я, никто ко мне не сунулся. Бегут они. С чего бы это?! — И ощерился.
Никогда он не смеялся, только ощеривался. И в битвах, и на пиру. А в храме, князь, ты никогда его не видел. Да ходит ли он в храм? Есть ли на нем крест?
Зимей случилось: Иона повстречал его, боярина, и плюнул, сказал…
Так на то и Иона, на то он и поставлен. Ионе — души, а тебе — мечи. И вон теперь их сколько, тех мечей, сошлись, стоят вокруг. Бояре, гриди, отроки… Псы! Силу почуяли, взъярились. Теперь ты только им кивни…
Пустое! Разве гнев советчик? Вон Хворостень пришел, вон и Митяй висит, а им — еще!.. Спросил:
— И сколько ж ты привел?
— Со мною тридцать, князь, — ответил Хворостень.
— Вот как? Уже повеселей. А завтра сыновья мои сойдутся и тоже приведут. И тогда уже, град–господарь!.. Так, соколы?
Молчат. А ведь неймется им! И ухмыльнулся князь, сказал:
— Да, соколы, сойдутся сыновья, тогда и посчитаемся. За все! Вы думаете, мне вчерашнее забылось? Вы думаете, я… — Замолчал, снова осмотрел их всех, и щеку свело. Нет, князь, охолонись! Не по годам тебе.
Внезапно Горяй выкрикнул:
— Вчерашнее? А нынешнее, князь?!
И разом зашумели все. Князь руку поднял, замолчали. Сглотнул слюну, проговорил как можно спокойнее:
— Так, так… Был здесь Любим?
— Нет! — зло ответил Горяй. — И никого не присылал. Тогда я сам к нему пошел, и все твои слова, как ты того желал, я передал, все слово в слово!
— Так! Ну и что Любим?
— Смеялся, пес! Глумился! Какие, говорил, долги? Град ничего ему… тебе, князь, не должен! А ты у них в долгу, князь, и сыновья твои, и внуки, и весь ваш род… Так и сказал!.. Да, весь ваш род вовеки с градом не расплатится!
— Вот как! Ай–яй–яй!
— Да, князь! А вы, кричал, уже на нас, князь, на мужей твоих… — Смолк Горяй, сплюнул зло. А эти, псы, в рев! Ох, донял их Любим!
И вскричал Всеслав:
— Ну так и что? Что, соколы?! — Не слышат, заорал, всех перекрыл: — Молчать! Я говорю! Помру, тогда…
Притихли псы! Ух, пот прошиб! Охолонись, князь, не отрок ведь. И, отдышавшись, он заговорил, негромко, медленно, как с малыми:
— Стар я, слаб. Но из ума пока не выжил. Вот и скажу. Зачем он потешался, пес? Да чтобы нас разгневать. И чтоб пошли мы иа него, рубили б, жгли. Он что, посадник, смерти ищет? Нет. Но правды. А правда у меня. Есть уговор, есть и печать при нем, и в уговоре все прописано, кому и что положено и кто есть господин, а кто есть пес. И соберутся сыновья мои, и мы опять составим ряд, и выйду я, скажу: «Град–господарь…» — Махнул рукой, сказал: — Нет, чую я, не верите. Тогда еще послушайте. Нынче проснулся я, лежал и не хотел вставать. Вчерашнее давило,~ такой был срам! За все за годы мои долгие такого я не видывал. А ведь был и в цепях, и в порубе, и зельями травим… Вот нынче утром и лежал я, соколы, и думал я: «Пресвятый Боже, зачем ты отпустил мне такой срок, зачем ты прежде не забрал меня, зачем…» А тут Игнат пришел и говорит, что, мол, на Черный Плес надо идти, посла встречать. Посла! Когда такая грязь и такой смрад в душе моей! Но… Князь я, соколы! От Буса род ведем. Пошел, хоть и не знал, куда глаза девать, что говорить… Пришел на Черный Плес. А он, посол… — И горько улыбнулся князь и повторил: — Посол! Кабы посол! Так нет, брат мой, Мономах.
Дал пошептаться, пошуметь, вновь заговорил:
— И встретил меня брат, и пировали мы, держали ряд. Брат звал меня на Степь. Вот, соколы, на Степь! И отказался я. Юлил, кривил душой, обиды вспоминал, и, мол, из–за тех обид не пойду… А что мне ему сказать? Что я и так уже в походе? Что моя Степь — мой град?! И еще, что более того, что я возьму в Степи, мне мои же холопы должны? Вот и кривил я душой, соколы. А после возвращался и думал: князь я или не князь? Князь, соколы, князь, пока жив, я князь. И дружина, я думал, при мне: Туча, Горяй… и Хворостень, поди, уже пришел. Да, Хворостень, знал я, что ты не усидишь!
— Откуда, князь?
— Потом скажу. Ночь впереди!
Слушают они.
— Вот так–то, соколы! Князь я, сила у меня, и правда у меня. А посему я в граде господин, а не Любим! Смеялся, пес! Смеялся, да? Горяй!
— Да, князь!
— А теперь я смеюсь! Завтра сыновья мои придут — и не одни! А в среду — ряд. И пальцем я не шевельну, а он приползет, пес, и все, что мне… всем нам — и мне, и вам, мужи мои, — положено, в зубах принесет и подаст. Как, спросите? А так! — Ух! Дух перевел и снова, тихо, ; Медленно: — Еще в тот, в прошлый год я призывал их и говорил: «Отдайте то, что мне положено по ряду, вон сколько уже лет не плачено». И что они? Ответили: «Не можем, князь, как мышй мы!» Я стерпел. И то, град–то мой. И все, что у рабов моих, — как бы мое. А тут долгов не отдают и самого ссадить задумали! Выходит, мне в одной шубе уходить, вот в этой, что на мне? Так я бы и ушел, мне не привыкать, сколько мне уже того житья осталось… А сыновья мои? А вы? А правда где? А где добро мое? Не знаете? Все знаете! Вот ты скажи!.. Йу, ты тогда! Не слышу я!
И в полной тишине произнес Копыто:
— А… в амбарах. Тех, что… — И осенил себя крестом. Вот пес!
Засмеялся князь, повторил:
— В амбарах! Все слыхали?! И если ты, Горяй, и впрямь хочешь Любима задавить, вот где его смерть — в амбарах, а не в сече! Туда иди и там дави! — И показал, как давить.
Шум, крики, смех! Понятно, что им надо, псам! Ох–х, Господи, прости мя, Господи, ведь знаешь ты — не ради злата я, не ради зла. И… Говорил ты им, мужам своим, они кричали: «Любо!», а коли так, не бывать тому, как он, Любим, замыслил, будет как ты, князь, повелел! Идти надо, мечей не обнажая, Туче — на свой конец, на Заполотье, Горяю — на Окольный Град, и выставить дозоры при церквах. Божились ведь: «Как мыши мы!» Ну, смотрите, соколы, чтоб из церквей и мышь не убежала! Чтоб все, что там упрятано, осталось нетронутым до веча, до среды. А там, под Зовуном, посчитаемся по правде. По правде и поделим. В среду. А пока… Идите, соколы, я так велел, весь грех на мне; идите!
И пошли. Шли тяжело, как сонные, но шли. А ты, Всеслав, стоял, смотрел им вслед.
Нет, князь, ты не на них смотрел, а на Митяя. Висел Митяй. А тот, кто приманил его, да прикормил, да надоумил, тот крепко спит… Может, и не спит, ходит в мягких берестяных ступанцах туда–сюда, туда–сюда по трапезной светлице. Одрейко–раб на стол накрыл — он не притронулся, все ходит, ходит, чует ведь, что господину донесли уже слова его! Да, стоит тот господин одной ногой уже в могиле, но из ума тот господин еще не выжил! И разве станет он, как пес, рвать и крушить то, что ему и сыновьям его от Буса дадено?!
Засмеялся князь, негромко и невесело. Висит Митяй. Висел бы и Любим, да время твое кончилось, Всеслав, и зачем ему висеть, Любиму? Другой придет, он будет не лучше, а хуже, так всегда бывает. А ты уйдешь — другой придет, и тоже…
Нет! Поплотнее запахнулся в шубу. Знобит, от земли тянет холодом. Вон, у костров сидят…
А Хворостень не отходил, рядом стоял. Всех отослал, все у костров, он один рядом с тобой. «Ночь впереди!» Три сам так говорил ему, сам обещал… Теперь стоит он И ждет слов твоих. Смотрит на тебя, прямо в глаза, такой он пес! Все они такие, кощуны, им, кощунам, что?! Здесь их земля,, и что им ты, что им крест — и без креста им сладко, и без…
А звал ты его, князь! И обещал сказать. А сил–то уже нет! Ушли они, их унесли на Заполотье да в Окольный, дозором при церквах поставили. Прости мя, Господи! Нет сил! Игната бы позвать, довел бы он да уложил…
Нет, не лукавь! И ухмыльнулся князь, поманил его. Подошел боярин. И князь тихо сказал:
— А я и вправду чувствовал, что ты придешь. И ждал тебя. И потому спокойно отъезжал на Плес — знал, не сунется Любим. И… знал еще… что ты, боярин, не ко мне идешь, а на дымы. Ведь так?
— Князь!
— Да, боярин, на дымы. Но я на то не гневаюсь. Ты ж мог на те дымы и не сюда, а к ним пойти, прибиться. А не пошел. И почему ты здесь, я тоже знаю. Веришь?
Замер боярин, помертвел. Да, это не та зима тебе. Тогда Иона, повстречав тебя, грозил: «Гореть тебе, ко–щун, всем вам гореть, а святый крест неколебим!» Ты ничего ему не ответил, прошел мимо и пировал с такими же, как ты. Иона, придя домой, встал перед божницей и упал. И слух пошел…
Я грозить не буду. Горят костры на древнем буевище, стоит София в отблесках костров, молчит. Зверь зверя встретил, и принюхиваются. Зверь — волк, зверь — пес… Вдруг князь сказал:
— Да, на дымы ты шел. И если б только на дымы. Ведь приманил–таки тебя!
— Кто?
— Ростислав Всеславич. Давно вы с ним друг к другу послов гоняете, давно! Да было тебе боязно, даже на село ушел. А прибежал–таки! Решился!
— Князь! На что?!
— Все на то же. Все знаю. Но… молчу!
Боярин головой повел, сглотнул слюну… пес, он есть пес!.. Спросил с оглядкою:
— А… почему молчишь?
— А потому, что все в руце Его. Как пожелает, так и будет. Поверь, хоть ты и без креста.
— А ты?
Князь не ответил, засмеялся. А после, помрачнев, сказал:
— И хоть дымы и не по мне… но будет и огонь! Великие дела содеются во среду! . Л
— Князь!.. "'и
— Князь я, князь. Но слаб и немощен. Пойду. А ты смотри!
Повернулся и пошел. Перекрестился на Софию.
А Ростислав, как донесли, кричал в пиру: «А что мне крест? Я на земле стою! Своей земле!» И завтра он придет. И Хворостень с ним станет заодин: решился. Горяй станет за Глеба. Туча — за Бориса. А за Давыда…
Нет, князь, почудилось, не может того быть, не таков он, Давыд, чтобы так вот с Мономахом вместе.
Все в руце Божьей! Всеслав поднялся на крыльцо, еще раз мельком глянул на Митяя, на Софию.
Вошел, посторонились отроки, а' кто — не разобрал. Темно в сенях, ты сам так повелел, сам говорил: «Чтоб ночью — ночь». Прошел к лестнице, там, на седьмой ступени, как всегда, перекрестился. Семь — вот твое число, семь куполов, семь дней, семь помазков тебе!
Игнат спиной к двери стоял, не повернулся на шаги. Святоша. Тьфу! Всеслав сказал ему:
— Нагар сними. Коптит.
Снял. И опять повернулся спиной. А на столе уже остыло. Князь сел, взял ложку, повертел ее. Игнат не пошевелился, казалось, не дышал.
— Сядь! Князь велит.
Сел.
— На меня смотри!
Взглянул.
— Вот то–то же.
Брал кашу ложкой, стряхивал, глотал, не шло в горло, колом стояла, липкая, холодная. В Степи земля сейчас такая же, как эта каша, которую Игнат сварил. А там земли этой! Щедр Мономах, он накормит… Тьфу! Плюнул, ложку бросил.
Игнат зажмурился.
Отец как–то сказал: «Все есть земля, и мы с тобой — земля, из земли мы приходим и в землю уходим, и если землю чуешь, то тогда пора уже — зовет Она». Ты побелел. Он засмеялся: «Чего бояться? Зовет Она, и это хорошо.
Вот если принимать не станет — худо… Ведь там, в земле, и я уже буду лежать, ждать тебя. Как будет Она звать тебя, Всеслав, знай, это я тебя зову и дед твой, прадед… все, от Буса начиная». Зовет уже. А этот… зверем смотрит! Амбары пожалел. «Грешно при храме стражу ставить» — так скажешь, если я спрошу. А в храме прятать чужое — не грех? А прикрываться словом Божьим? Если говорят «отдай», а ты глумишься — это что? То сам грешишь и меня в грех ввергаешь. Ждешь, пес Любим, что я, осатанев от твоей дерзости, меч обнажу. Только зачем мне это? И так грехов на мне не перечесть, придет среда, взвалю я их… А этот грех уже не унести, он сыновьям останется, на них падет, сойдется град и спросит с них… Вот так–то, пес Любим! А посему кидайся, лай до хрипоты — я все стерплю, правда при мне, с ней я и приду на вече, ты же, амбарами придавленный, не придешь, приползешь, и будет все по уговору, ибо увидит град: как князь сказал — так оно и есть; князь слова не нарушил, врата не затворил, мир сохранил, и, выходит, правда с ним, а не с тобой, Любим.
Нет, этак подавиться можно! Отставил еду, сказал:
— Иди отдай ему.
— Кому это?
— Ему. Под печь.
Игнат не шелохнулся. Князь помрачнел.
— Ты что это, не слышишь?!
— Да, не слышу, — тихо, но твердо ответил Игнат. — Устал я, князь, такое слушать. Сам аки бес, так чтоб и я…
— Устал? — Князь засмеялся. — Так отдохни, Игнат. Иди! Совсем уходи,, ты мне усталый не нужен. И не трясись! Никто тебя не тронет, не позволю. Ступай, пожитки собирай. И серебра дам–и земли, построишься. А хочешь, так велю — и женят. Хочешь?
Не отвечал Игнат, смотрел прямо в глаза, сказал:
— А ты и впрямь не человек. Волк ты!
— Да, волк. — Всеслав кивнул, — Сам знаю. И бес я, сатана. Зачем же сатане служить? Грех это, смертный грех. Вот я и говорю: иди, душу спасай. Чего стоишь?
— А ведь уйду!
— Иди. Только это убери. — И отодвинул кашу. — Землей разит! И книгу принеси. Читать хочу.
— Князь, шел бы, лег. Лица на тебе нет.
— Нет — и не надо.
Вздохнул Игнат, ушел, книгу принес и положил перед Всеславом. А к миске не притронулся. Сказал: о— Ночь. Спать хочу. Окликнешь, если что.
— Нет! — зло выкрикнул Всеслав, — Как я сказал, так будет! Сойдешь в подклеть, возьмешь, что пожелаешь. А хоть и все бери! И уходи. Совсем! Ключи отдашь Бажену. Чего стоишь?! Смерти хочешь?
Отступил Игнат, головою покачал, руку поднял, персты уже сложил… да опустил. И, сгорбившись, вышел из гридницы.
Ну, вот и все. Ушел. А завтра сыновья сойдутся, завтра Важен будет служить, он глуп, Важен, еще глупей Игната, а ты, князь, — волк. Ночь, темно вокруг, что в углах, не видно, здесь только и светло, здесь только ты да книга. Сидишь ты, князь, как волхв, и книга перед тобой — греховная, писал ее тот, кто креста не знал, и про таких же писал, про некрещеных. Открыть ее? Зачем? Ты, князь, ее и так знаешь, вон затрепал, зачитал всю. Царь Александр был не Филиппов сын, но Некто–навов. От него Александр и обрел ту силу и мудрость, которыми и Дарий был сражен, и по сей день умы наши смущаются. Был Нектонав владыкою египетским, телом немощен, рати вовсе не имел, но всех побил! Лишь только узнавал тот Нектонав, что ополчились на него враги, как облачался в ризы сатанинские и запирался в потаенной горнице, браЛ воду из заветного источника, наливал ее в медную лохань, потом в ту лохань бросал человечков из воска, которые корчились, словно живые. А Нектонав топил их посохом и приговаривал… И тотчас умирали все, кто шел в тот день войной на Нектонава! Долго он властвовал, тот Нектонав, пока не отвернулись от него силы поганские, ибо всему на этом свете есть предел, и устрашился Нектонав, и убежал за море, в Пеллу македонскую, взяв себе облик…
Тьфу! Зачем тебе вся эта чушь, князь? Не Александр ты, не волхв египетский, не волк даже — ложь все это. Стефан тебя благословлял, Антоний. Да если б волком был, то разве б ты тогда ушел, когда звал тебя Новгород?! А им все — волк да волк. Вот Ярополк пришел сюда, здесь сидел и пил твое вино, и ел твой хлеб, и говорил, мол, у меня есть дочь, а у тебя есть сын, и мы с тобою заодин, а Мономах есть пес, и Святополк есть пес, и Всеволод, все они псы! Он охмелел тогда, брат Ярополк, и сорвалось у него слово. Одни вы оставались в гриднице, все прочие ушли, и сказал он, Ярополк:
— Вот каковы они! Что я даже с тобой… — И поперхнулся! Замолчал, глянул на тебя.
А ты словно не расслышал, князь, вроде не по^ял, ты как будто пьян был, шумлив и говорлив, и гостю своему не внимал, и бровью не повел на те слова его, наливал ему, поддакивал. И то, как не подлить, веда он даже с тобой… Ох–хЫ Вот каково оно, то слово «даже»! Кабы ножом он полоснул, и то бы легче было, чем то «даже». Весь он, пес, в этом коротком, злобном слове. Но смеялся, пил, весел был, и лик твой открыт и чист… А зверь в душе твоей метался, топотал, цепь рвал, кричал: «Скажи ему! Скажи!» Но ты молчал. Зачем то ворошить? И пусть он верит, не он один такой, вся Русь верит, что ты волк. И бес. И искуситель. И что тогда на Льту это ты накликал полову. И Святослава уморил опять же ты. И Нежатина Нива — твоя, ибо ты надоумил Бориса. И Коснячко, который находился при нем, значит, тоже — ты. А вот сказать бы!..
Да зачем? Лежит Борис неприбранный, лежит и Коснячко, мертвые сраму не имут. Да и быльем все поросло, семь лет с тех пор прошло, зачем теперь о Ниве вспоминать и о тебе, Всеслав, когда уже иные поднялись, и не чета они тебе, да и Борису не чета — куда свирепее! Вот и пришел он, Ярополк, к тебе — даже к тебе! — и ест твой хлеб, князь–волк, пьет твое вино, дочь свою за сына твоего сватает, вот грех какой, думает, что, породнившись, ты заодин с ним выступишь и Туров вместе отстоите. Град Туров был дан не тебе, брат Ярополк, но сироте, Давыду, Игореву сыну, чтоб сирота Русь не мутил. А ты ссадил его! И Всеволод, Великий князь, смолчал. Да Давыд не смолчал! И на тебя пошел, а ты его побил, а он опять пошел — да не один уже, к нему присоединились Всеволод и Мономах… Вот и грызитесь, русичи, а я–то здесь при чем? Мы, полочане, сами по себе, довольно, находились мы, стар я уже, слаб, устал, и КиеЁ мне давно уже не снится. А породниться… Что ж! Ты и сказал за Глеба — «да». И по рукам ударили. И целовали крест! Ты не хотел того, Всеслав, но ведь от дедов и прадедов заведено, пришлось целовать. И он уехал, Ярополк. И бил их Ярополк, и били Ярополка, и бегал в ляхи он и ляхов наводил — и снова бил, и сам был бит…
А ты сидел на Полтеске и ждал, ты и подмогу Яро–полку обещал, да не давал. Но и не предавал! Другие свата предали — отродье Ростиславово: Василько, он еще зрячий тогда был, и братья его старшие, Рюрик и Володарь. Брат Ярополк их взял когда–то, несмышленышей, пригрел, выкормил, воспитал в дому своем, каь сыновей родных, ничем не отличал от своих детей.
И они же его и уели! Кто говорил, что не они, а Мономах. Кто — что это сделал Всеволод. А кто — что–де Давыд, сын Игорев, изгой. А кто и на тебя грешил.
Что произошло — на самом деле никто ничего не знает! А было так: он, брат Ярополк, замирился–таки с Мономахом, ушел брат Мономах к отцу на Киев. Давыд же затворился в Луцке и молчал. Одни лишь Ростиславичи ярились, ибо Волынь, кричали Ростиславичи, их отчинаь–и не отступятся они! И вышел Ярополк из града своего, шел на Звенигород, вместе с дружиной, сам он на возу лежал, без кольчуги, накрыли его шубой, он заснул. Отрок его Радко потом рассказывал: «Спал князь, мы рядом ехали, я и Нерядец, молчали, грязь была, дорога вся разбитая, чую я, подпруга ослабела, хотел остановиться, да, повернув голову, вдруг вижу: Нерядец меч выхватил — и в грудь его, князя, тот вскинулся, захрипел, а он его еще! Бил молча, не кричал, а после — в ночь…»
Так и ушел Нерядец, бывший сватов отрок, пропал во тьме, а после, по весне уже, его, говорят, видали в Перемышле, у Рюрика, старшего из Ростиславичей.
Но то весной уже было. Как снег сойдет, все и открывается, даже кости по весне белей — ибо земля черна.
Угрим Глебову привез к тебе еще зимой, в Крещенье, в самые морозы. И не было на нем лица, бел был Угрим, глаза были пусты, понимал Угрим: помер Ярополк, с того света не возвращаются, и что с того, что сватались, что целовали крест, Ярополка ведь нет, и нет того креста, и сыновья его теперь изгои, а дочь его даже не изгой.
Да кабы так! Ты многое бы отдал, Всеслав, за то! Вон сколько лет уже прошло и сколько было с той поры видано–перевидано, когда она, еще не Глебова, совсем тогда никто, стояла на коленях у печи. Того, князь, не забыть! Такую ты ее и унесешь с собой Туда. Ибо никто, даже отец родной и родной брат, никто так не держал тебя, как Глебова. И держит. Не отпустит. Для всех ты волк и сатана, но для нее…
Бог не дал дочерей! Дал только Глебову. И вот теперь хоть плачь, хоть смейся. Кротка она, тиха, слова поперек вовек не скажет, а при ней ты и постишься, князь, и сдержан на язык, и судишь праведно, и милостив к гостям. И тот, кто ведает о ее приезде, идут к тебе, когда она сюда является, выходит и садится на крыльце в той самой шубе из белых соболей. Ты этой шубой одарил ее в тот день, когда прибыл гонец от Глеба и передал слова его: «Быть так, как крест велит, она — моя, отец». Вышел ты, она стояла и смотрела на тебя, брови чуть свела, лоб наморщила, ждала решения своей судьбы, она ведь ничего еще не знала, а ты, как раб, вдруг оробел, велел Игнату подать белую шубу, накинул ее ей на плечи слабые, сиротские, и заструился мех, и засверкал, и просветлела Глебова, и едва слышно прошептала: «Господи, жива!» Поддержал ты дочь свою и не дал ей упасть, и закричал Ишат, и набежали служки, девки, бабы — тогда их еще полон терем был, — к ней кинулись. Ты стоял у печи, нем был, не знал, кому молиться, и ждал, похолодев, что сейчас проснется зверь, зарычит, завизжит… Но не проснулся зверь, и ожила она, очи раскрылись, щеки зарумянились, только губы белыми остались.
И ты упал пред нею на колени, князь. Вот сколько их, грехов да черных дум, накопилось, что и не удержал ты их, не устоял! Исходило от нее, от Глебовой, тепло и свет, и легко было при ней, и зверь не ел. И потом так всегда было: она приедет — зверь замрет, затаится, кроток ты становишься и весел, Глеб, глядя на тебя, говаривал, когда Давыда рядом не было: «Вот видишь, как все ко двору пришлось, все — Ярополков крест и целование твое».
Глуп Глеб! И слеп. Что тебе свет, когда жизнь наша — тьма, когда обречены блуждать мы и грешить, а после каяться и вновь грешить. А что слова и крестоцелование? Слова вьются, словно веревка, веревкой задушить можно, а целовать… так и Иуда целовал. Меч — тот же крест, доля княжья — быть распятым на мече, от веку так было, и так будет до веку, вот почему князь — настоящий князь! — не свет ищет, но меч, и не должно быть у него ни братьев, ни друзей, ни дочерей, Всеслав. Прав Мономах, давно бы ты ушел, забыл бы Русь, если б не Глебова. А так ты все цепляешься, признайся хоть сейчас! — все еще надеешься. Не на себя уже — на них, ведь для того ты и женил его. Прав Мономах! Родился на Руси, на Руси умрешь, хоть сам не Русь, но держит тебя Глебова, такая маленькая, слабая и кроткая. Даже зверь, с которым самому тебе не сладить, при ней молчит…
Слава Богу, жив пока. Но головы не повернуть, рта не раскрыть. Лежишь, как пес побитый, под столом. Ночь, все спят. Спит и Любим. Митяй висит. А что Она? Она не подойдет, не пособит, не заберет тебя — ведь не среда еще; лежи себе, князь, жди часа своего, не встать уже тебе, позвать — нет сил. Пресвятый Боже! Вот весь я перед тобой, наг, слеп, а ведь не раскаялся, не унял 1©ебя, надеюсь все еще, исхитряюсь, гневом полон я, гичего не боюсь: ни их суда, ни Твоего. Прости мя, Господа, но кто они и кто даже Иона, раб Твой, а мой зладыка… И кто Никифор, Господи? Он что, Никифор, впрямь митрополит? Он что, ходил в Царьград и патриарх его признал? Нет ведь! Он… Знаешь ведь Ты, Господи, как был Никифор тот посажен — хищницки! Когда Ефрем преставился, брат мой Великий князь своею волею, своим хотением все и решил, ибо милее прочих был ему Никифор, враг мой и враг земли моей, оттого он и избрал его, он единолично, не епископы, они лишь покорились брату моему, перечить не осмелились. И возвели Никифора, и теперь Никифор — наш священнейший, он — вседержитель и опора веры, он — наш митрополит; вот каковы дела творятся на Руси, пресвятый Боже! И если такое творится и не наказуется, то как тут, Господи, быть кротким, как не замышлять козней на брата моего, как не стать за Ярослава Ярополчича против того, кто надругался над всем?! Лежу я, Господи, словно пес, может, и умру без покаяния — пусть так, на все Твоя воля и промысел Твой, но Святополку я не покорюсь, Никифора я не признаю, перед вечем не склонюсь, потому что есть у меня день, а там еще полдня, и верю, Господи, что не оставишь Ты меня, поднимешь Ты меня с колен, дашь в руки меч…
Ох–х, душит как! Ох–х, жар!.. Скосил глаза…
Игнат в дверях стоит. Совсем уже одет, с котомкою. Уходишь, стало быть, уходи. Чего стоишь? Не жди, не срок еще, мне еще и завтра маяться, только послезавтра за полдень Она придет. И не кривись, я ж не кривлюсь, совсем это не боязно, чего Ее бояться. Она не хуже вас и не страшнее вас, Никифор вон куда страшней, отлучить грозился, но разве я тогда кривился? Нет. Кто Никифор? Это для вас он вседержитель и митрополит, а для меня как был испуганным мальчонкою, которого я подобрал на менском пепелище, таким для меня остался и сейчас, Никифор–Николай. Это он тогда кричал, когда Альдону хоронили. Это он Бориса сглазил — и пал Борис на Ниве. Это он тогда не проклял тех, кто Неряд–цу меч вложил — и пал брат Ярополк. А кабы сват был жив, так бы и сел он в Киеве, и я б тогда…
Иди, иди, Игнат, не стой, я не держу тебя. А покатилась слеза, так это не моя слеза, просто бес попутал, бесу ты не верь, сейчас руку подниму, утру слезу… Да смотри, бес каков: навалился, рукой не шевельнуть, рта не раскрыть, не позвать тебя… А если не отпустит он, как исповедаться буду тогда? эд
А он, Игнат, котомку на пол — бряк. Подошел. Склонился, обхватил, поднимает. И несет. И все молчком. Кругом все плывет. И давит — затхлым и сырым — землей…
А каша?! Стой, Игнат! Бережку мы забыли! Бережке каши дай! Бережко — ох, его злобить нельзя! Он выть начнет, затопает, он шапку снимет, выбросит, а это страшный знак! Ох, говорил отец…
И — все…
ДЕНЬ ШЕСТОЙ
1
Открыл глаза. Светло уже. Совсем светло. Значит, проспал, значит, никто не разбудил. Хотел поднять руку—не поднимается. И голову не повернуть. Все тело словно онемело и застыло. Хотел позвать кого–нибудь, не смог. А рот открыт, пересохло во рту. Скосил глаза. Кувшин стоит у изголовья. Тот самый, Игнатов кувшин, с водой заговоренною… Но не дотянуться до него! И Игнат не идет. Ушел все–таки. Совсем ушел. Поднял тебя вчера и перенес на постель, а потом насовсем ушел, ведь ты повелел, он не посмел ослушаться. Вот и лежи теперь и помирай, да не помрешь, будешь целый день маяться. Приедут сыновья, войдут сюда, рассядутся, потом Иону призовут, и он придет, принесет седмь помазков, ибо один придет, а семерых тебя соборовать никто не соберет, как бы он ни грозил, ибо кто ты? Святейшего не принял, хулил его, грозил ему и поминал то, в чем он не виновен, ну и отходи теперь как пес, хорошо, если Иона явится, а то и он не придет. Над храмами надругался, сторожей приставил.
Как сухо во рту! Кувшин рядом стоит, в нем вода, заговоренная и–освященная. Все вместе сплетено — и рай, и ирий. Сам ты говорил, грех кумирам кланяться, грех их звать, а сам же первый призывал! Хворостеня выгораживал, говаривал владыке, мол…
И мысль оборвалась. Пусто было в голове, и спокойно на душе, зверь спал, веки отяжелели, смыкались, а ты пытался поднять. Тем только и жил, что открывал глаза да закрывал и снова открывал. А голова пустая, язык присох, слова невозможно вымолвить, упредить их, сыновей, и потому не понесут тебя, а положат на сани да и повезут. А кони вздыбятся, учуют волчий дух, рванут и опрокинут гроб — и будешь ты низвергнут в грязь, и будут ликовать они, чернь, смерды, и загремит Зовун, и…
Вот так ты закончишь днй свои, Всеслав! И будут говорить над тобою, лежащим в грязи, одни лишь злые слова. А доброго никто из них не вспомнит. И как ты ни живи, как ты ни правь, а все равно для них будешь олицетворением зла, иного и не жди. Тебя Переклюка учил, а ты не верил, князь, думал, умней его окажешься., хитрей, обманешь их, задобришь, и тем при жизни*б^- дешь ты им люб, после смерти твоей — сыновей признают. Отпустил ты их, сказал, живите как хотите, земли раздал, доли своей не требовал, про Киев ради них забыл, стал кроток, Всеволоду кланялся и отсылал ему дары, а если меч и обнажал, то не на Русь — на некрещеных: вейналов, земгалов, латгалов. И бил ты их, тех некрещеных, и полонил, и раздавал мужам своим, мужи их продавали на Киевском торгу, богатели, ты же, князь, дальше шел и ставил городки. Некрещеные те городки сжигали, а ты их, некрещеных, снова бил и снова ставил городки и дальше шел, и покорялись некрещеные и призывали тебя господином, хоть они и по сей день клянут тебя, и ждут смерти твоей, и молятся своим мерзким божкам, чтобы иссох ты, князь, и твой род. Но сын твой Ростислав им так сказал: вперед Двина высохнет, чем наш род! Он на Двине теперь один хозяин, от Полтеска до моря — он.
Ты десять лет шел к морю, князь, жег, полонил, и усмирял, и снова жег. А сколько полегло на двинских берегах твоей дружины? Однако по морю ты не ходишь, ходят мужи твои, купцы, берут на Готском берегу рабов, возвращаются и продают втридорога, но Киев рад и этому, ибо в ромеях раб втрое дороже станет. Бегут ладьи вверх по Двине, вниз по Двине, туда везут рабов и рыбий зуб, жемчуг, меха, оттуда — рытый бархат, сбруи, паволоки, вино, дигремы, благовония. И богатеет Полтеск–град, и строится, и поднимает голову, и бьет в Зовун. А вам, князьям, за ваши ратные труды — что? То–то и оно! Добро меж ваших пальцев, как вода, струится и оседает в церковных амбарах и множится там. Видал, как Любим на том добре заматерел! А ты, Всеслав, как был в одном корзне, с одним наборным пояском, с одним мечом… И даже славы не прибавилось! Ибо одно — пойти и брата одолеть и сесть на Отнем Месте, другое — побить некрещеных. С них даже дани не возьмешь. Что Ростиславу брать — рыбу, веники, что ли? Воистину: нагими мы приходим в этот мир, нагими и уходим. Вон тихо как!
А прежде шумели! Прежде одной младшей дружины набирали столько, сколько теперь и Хворостень, и Туча, и Горяй вместе не держат. Тогда б разве Любим посмел? Да если б и посмел, разве б град за ним пошел? Ну, если б и пошел, тогда бы ты вчера Горяя не удерживал, сам повелел: «Идите, соколы, и поучите град!»
Раздал дружину ты, расчетверил: одна часть в Вить–бееке с Давыдом, другая — в Менске с Глебом, третья — в Друцке, четвертая — в Кукейне. На Мясопуст приходил из Кукейны чернец и говорил, что Ростислав совсем осатанел, крест снял и в храм не ходит; Иона гневался, а ты, князь, только отмахнулся, сказал: «Все образуется, приедет Ростислав, укорочу». Вот и укороти теперь, его и Хворостеня. И град смири. И Зовуна лиши языка. Вон сколько дел, вставай, Всеслав!
Но как тут встать, когда и шелохнуться ты не можешь, позвать нет сил, да и кого звать? Игнат ушел, ты сам его прогнал, а сыновья еще в дороге, дружина в град сошла и встала при церквах. А первым должен бы Давыд прийти, ему из Витьбеска всех ближе, но не придет он первым, ему прежде с Мономахом надо встретиться, они, чуешь ты, стакнулись, только в чем их уговор? На что крест целовали? Против кого, известно — против Глеба. Глеб–то один придет. Глебову ты вовсе больше не увидишь. Сойдутся сыновья, здесь рассядутся, если Глеб сядет в ногах, то Давыд — в головах, а если же Давыд в ногах… Нет, он в ногах не сядет, он ведь Старший, он Глебу скажет: «Брат, посторонись!» Глеб враз почернеет, мотнет головою, столбом станет, не соступит, а Ростислав не встрянет, промолчит, ибо его такое только тешит. Бориса они ни во что не ставят, он если и заговорит, отмахнутся от него,.и встанут сыновья твои Давыд и Глеб один на одного! А ты будешь лежать, Всеслав, бревном, даже слова не вымолвишь: иссох язык, прежде Двины иссох, и ты не остановишь их, никто не остановит. Вот если б Глебова!.. И Глеб пред ней робеет, и Давыд; когда она на Полтеске, Давыд на Полтеск не идет, чурается.
Да не увидишь ты Глебову, приедут только сыновья. Бог не дал дочерей тебе, Всеслав, сыновья глаза тебе закроют, положат в гроб, поставят гроб на сани, волчий дух пойдет, кони вздыбятся — и в грязь! А Глебова…
Только одной ты ей и говорил, как надо бы тебя похоронить, да помнит ли она? Давно ведь это было, могла и не запомнить: она тогда ходила на сносях, здесь жила, здесь и родила. Но до того еще, она уже тяжелая была, Глеб в Кукейну выступил на помощь Ростиславу, и ждали от него вестей — жив, нет, но не приходил все гонец, ночь наступила, Глебова лежала у себя, была она тиха и молчалива, ты при ней сидел и говорил, что всякое случается, могли далеко уйти, а там леса непроходимые, болота топкие, заплутать недолго, да и мало ли, гонца могли подстеречь, убить, но чтобы Глеба — нет, Глеб не таков, помнится, когда в Литве Виганд поднялся и… Многое еще чего ты поминал в ту ночь и утешал, как мог, а Глебова лежала, слушала, и когда ты замолчал на миг, сказала тихо, просто:
— А ведь не мне ты это говоришь, себе.
— Себе?
— Да, себе. Ты себя утешаешь. Тяжко тебе. И боязно. А мне… — И, помолчав, добавила: — А мне, как и тогда, когда я у печи стояла. Угрим ведь не хотел сюда идти, все я. — Улыбнулась Глебова, плечами повела.
А ты… Похолодел! Руки затряслись, ты их сцепил, пальцы сжал, в пот тебя ударило, в холодный пот, Всеслав! А Глебова… Да ничего. Лежит себе калачиком, укрывшись белой шубой, и говорит без горечи, без гнева, без радости, просто говорит:
— Как Бог велит, того не миновать, я так Угриму и сказала. И коли будет мне позор, пусть будет позор, коли нет, так буду жить. Еще сказала я: «Угрим, и волк под Богом ходит, волк — тоже Божья тварь, идем!» И мы пришли к тебе.
Замолчала Глебова. Тихо было в тереме, пусто, горько, гадко на душе. И ты, не выдержав, сказал:
— Прости. Был грех. Я не желал, чтоб ты пошла за Глеба. Ох–х не желал! И о твоем отце я не скорбел, когда узнал, что с ним.
Она тихо ответила:
— Я знаю. И мой отец тебя не жаловал. Его прости… А Бус, он что, и вправду был рожден от волка? — И смотрит. Ждет.
Да кто она такая, чтоб вот так… Да если б кто другой… А тут стерпел. Снес. Проглотил. И только хрустнул пальцами, глухо произнес:
— Пустое. От волка только волк рождается, от человека — человек.
— Так Бус рожден от человека?
— Нет.
— А от кого тогда?
— Слыхала ведь, поди.
— А все равно скажи!
— Нельзя то поминать. Ведь ты ребенка носишь.
— Кого?
Ты вздрогнул:
— Как кого?
— А так, — тихо сказала Глебова. — Я внука твоего ношу. А если ты от Буса, то и он от Буса. Вот и скажи ему, не мне, кто я тебе..,
Молчал ты. Потом сказал:
г— Нет, ты тяжелая, крест на тебе, нельзя о том. Одно скажу: Бус не от волка рожден, а только вскормлен волчьим молоком. Когда его нашли на пепелище, вокруг волчьих следов много было, — Вздохнул, глаза закрыл.
А Глебова спросила:
— А волчье молоко — оно какое?
— Как и всякое. Только звериной оно пахнет, вот и все. И кабы не оно, так давно меня бы не было. Мы, Бусов род, им только и спасаемся, когда к нам смерть приходит. — Помолчал ты, сказал: — Но когда буду снова помирать, не давай мне молока звериного. И Глебу не давай. И никому из роду нашего, как бы ни просили. Потому коли Смерть зовет, то надо уходить, не надо молока. Вон даже Бус ушел… Не дашь?
Покачала Глебова головой, зажмурилась. И долго лежала, ты уже думал, заснула, встать хотел, перекрестить, она глаза открыла, сказала:
— Вот Бус был всемогущ, а все равно ушел. Почему?
— А больше не хотел он с нами жить, потому и ушел. Устанет человек и уходит. Так мой отец ушел.
— И мой. — Глебова вздохнула. — Утром проснулся он и Господа молил. Нет больше сил, сказал, но пусть придет Она по–княжески, с мечом, дабы смог я омыть грехи свои своею кровью… Нерядец рядом ехал, слушал, ухмылялся. А вечером лежал отец мой на возу, глаза закрыл, а Радко только отвернулся…
Поднялась Глебова, сидела, обхватив руками голову, неприбранные волосы рассыпались. Ночь, тишина, темно. И ты сказал ласково:
— Не плачь, всем таково — и нам, и тем, кто не рожден еще. Вот я устану и уйду… — И совсем для себя неожиданно: — Уйду! И ты, я так хочу, глаза мои закроешь. А после скажешь сыновьям моим, чтоб не везли меня в санях, а на руках несли.
— Но…
— Так хочу! Ты скажешь им?!
— Скажу…
А ведь не скажет! Глеб один приедет. И скачет уже Глеб и загоняет лошадей, к тебе спешит, а ты еще
надеешься, что встанешь и выйдешь с сыновьями к Зовуну, и обнажите вы мечи свои и устрашите град…
А Бус тихо ушел, хоть он не тебе чета. Ведь до него мы были совсем дикими, мы ничего не знали и ничего не умели. Он нас научил ковать железо, объезжать лошадей, собирать мед, плести сети. И он же нам сказал, что есть Правь и есть Навь, как Прави следовать, как Нави избегать, и затвердили мы слова его, и записали их, ибо он, Бус, дал нам грамоту, эту грамоту по сей день именуем мы «Бусовы резы», да только порубили их, сожгли, пепел развеяли, это случилось, когда уже к нам крест пришел. Прежде эти книги почитали, считали священными, и Бусу поклонялись мы, он нас оберегал, никто не смел ходить на нас, Бус всех победил, он от моря до моря ходил, он горы преодолевал, твердь сотрясал… Но и этого ему казалось мало! Он обещал: я отведу вас в рай!.. Нет, что я говорю! Тогда про рай еще не знали. Креста еще не было. Был ирий, где река молочная течет из вымени нашей кормилицы Земун. В ирии живут наши пращуры, они пашут и сеют, убирают хлеб, пасут свои стада, охотятся, сражаются, словом, живут так же, как и мы. Только смерти нет в ирии, там все молоды, сыты, нет лживых, предателей боязливых — души и сердца у пращуров чисты, как молоко нашей кормилицы Земун!
А разве может быть такое на земле? И разве могут все в ирии жить? Нет, Навь это, смущение! И отвернулись люди от Буса. Сошлись все вместе и отвернулись. Он их собрал, стал говорить, что знает, куда идти. И звал их всех. И знали все, кто он, и чей он сын, и кто он, Бус, для них. Но закричали: «Не пойдем! Останемся здесь жить!» И не пошли. Он остался с ними. Про ирий больше он им не говорил, молчал и никуда не выходил. Придут к нему, спросят о чем–нибудь, научит, не придут — молчит. И не зовет никого. Потом стал говорить, что боли не чувствует, что кровь ушла. А в первый снег неожиданно повелел собираться на охоту. На охоте она, Матерь Сва, и явилась, и забрала его. Потому что жить среди нас он уже не желал. Нет, что я?! Ложь это! Он и сейчас при нас.
Пресвятый Боже! Не оставь меня! От впал в грех! Знаешь, когда много мыслей, не миновать греха! Да воскреснет Бог, да воссияет свет Его, как от солнца.
Что это?! Крики! Топот! На крыльце? Опять кричат, видно, много их! Кажется, не твои, князь, — градские. j
Ответили! Погнали их. Но снова крик… Нет, говорит — один, а градские притихли… Кто говорит? Что говорит?
J
Кто это здесь смеет с крыльца говорить?! Я князь! Я жив еще! И закричал:
— Игнат! Сюда!..
…Нет, не кричал ты, князь, нет сил кричать. Там, за окном, слышится шум, окно закрыто, ничего не разобрать, а может, просто тебе крики чудятся? Вот снова толПа гудит, а Борис им отвечает. Да, Борис! Он, сын твой, князь, и говорит с крыльца. Игнат, окно открой!
Нет Игната. Борис говорит. А градские молчат. Ночь, тьма в лесу, а ты лежишь, затаился, рукою бок зажал, кровь между пальцами течет, теплая, сила уходит вместе с нею, слабеешь, глаза закрываются, ты их хочешь открыть, князь, а они снова закрываются, в ушах шумит… Может быть, и впрямь кто–то идет: ш–шух, ш–шух. А кто идет? Свой, враг? Темно в лесу, глаза закрыты, их не открыть уже, а он идет, все ближе и ближе, рука твоя в крови, кровь липкая, руку от раны не отвести, а, наверное, мог до голенища дотянуться и приготовиться к встрече. Он бы подошел, склонился над тобой, ты бы тогда и глаз не открывая догадался, кто над тобой — враг или друг. Враг засмеялся бы, а ты б его тотчас ножом! А если свой, обнял бы он тебя, сказал…
И обнял! И сказал:
— Отец!
Открыл глаза. Борис! Сын, младший, друцкий князь, первым пришел! Вот, старшие Бориса ни во что не ставят, а где они? Да там же, где их спесь! И пусть себе, не будут помянуты. Ты уже не один, сын с тобой. Обнимает он тебя, поднимает, подает кувшин, рот твой открыт, язык присох, не захлебнуться бы… Нет, осторожно льет. Да он всегда такой, семь раз осмотрится и подумает. Отнял кувшин, уложил тебя, поправил твои волосы и по щеке погладил, руку убрал, сидит молчит, в глазах его покой, лоб чистый, таить–то нечего, он не Давыд, он держит свой удел хоть тихо, зато крепко, змееныши не ходят на него, люд не ропщет; то, что его, — его, тем он и сыт, на храмы жалует, и сирых оделяет, и к тебе первым пришел…
Сказал Борис:
— А я с рассвета здесь. Будил тебя, не добудился. Страх взял меня. Иону звать хотел…
Ох–х! Обожгло! Кричать тебе, князь, захотелось, да голоса нет. И рук не поднять, головы не повернуть. Одни глаза, должно быть, еще живут.
А сын сказал:
— Да после передумал. Кликнул бояр. Рядились мы. Решили повременить. Даст Бог, поднимешься.
Поднимешься! Закрыл глаза. Сын продолжал:
— Я думал, не успею. Спешил очень. Считай, один пришел. Ну, пятеро со мной. — Замолчал Борис. Долго молчал.
Всеслав открыл глаза. Борис опять заговорил:
— Слыхал, кричали?
Опустил веки — слыхал.
— Так то, — говорил Борис, — от градских приходили. Онисим, Ставр, Свияр Ольвегович, Прокуд… Про амбары кричали. А я сказал, чтоб они спесь уняли, что срам это, что Его дом не вертеп, он для молитвы создан, святое это место. Господи!.. — Поднял глаза Борис, рукой по горлу провел — вот как ему! — продолжал: — А после я обещал, что мы того добра не тронем, мы не находники, не Степь, мы за уговор стоим, и все свершится по уговору под Зовуном, и потому надо ждать Зовуна, а не шуметь. Там все и порешим, а пока мы никого не пустим: как же быть тогда, если в амбарах завтра пусто станет? Кому тогда платить? Всем, что ли? Поровну? Нет, не бывать тому! — Тряхнул головой Борис, даже руку поднял! Видно, он и там так говорил! Вот тебе и Борис…
А он не унимался, продолжал:
— И я еще сказал: отец повелел, уплатит тот, кто брал, кто наживался. А прочие, сироты, вдовы, меньший люд, пусть не печалятся, с них вот столечко не возьмем. Вот так–то, град–господарь! — И рубанул рукой.
И я им то же сказал! Молодец, сын Борис, утешил!
Заморгал Всеслав.
— Воды? — спросил Борис. — Еще?
Еще! Горит нутро! Язык не повернуть, рукой не шелохнуть — только одни глаза живут пока еще. Подай воды, Борис!
Подал. Не полегчало. Жгло. Борис посмотрел, покачал головой, ничего не сказал. «Бог даст — поднимешься». А не дает. И ты молчишь, Борис. А дальше что?
— Сейчас, сейчас, — сказал Борис. — Сейчас… Ушли они. Посмотрим, как Любим их соберет* Чернь не пойдет теперь. Зачем ей идти? Я ж сказал: йе с вас возьмем, с них, а как возьмем, так сразу и уйдем. И тебя заберем. Ты в Менске сядешь?.. В Витьбеске?.. Со мной пойдешь?.. В Кукейну?..
Князь лежал, смотрел на сына. Тот, оробев, спросил:
— Куда ж тогда?
Князь взглядом показал на потолок.
— Отец!
Всеслав закрыл глаза. Борис немного подождал, встал, заходил туда–сюда, остановился, посмотрел на лик, перекрестился… Долго стоял неподвижно, смотрел на лик, хоть губы у Бориса и не шевелились, но знал Всеслав, сын молится. Во здравие отцово. А тихо» в тереме. И тихо во дворе. Крепок Борис, плечист, разве что сутулится немного. Давыд над ним за это насмехается, ты, говорит, словно холоп, где голова твоя, в ногах?
А где твоя, Давыд? А Глебова где? А Ростиславова? Один Борис пришел, вас всех опередил… А начинал–то как! Такая же весна была, тепло, и вышли мы во двор, народ кругом, шум, гам, Альдона еще была жива. И брат твой Ратибор жив, да ты того не знал… Лепке здесь был! И подошел он, пес, поднес Альдоне в дар постав паволоки, жемчужный повой и рукавицы готские перстовые, как паутина тонкие, тебе, князь, — сарацинский нож весь в самоцветах, а сыновьям — кому что, безделицы.
И вывели коня. Спустился Борис с крыльца, мать оттолкнул, сам шел. Смешной он был тогда. В постриги все смешны! И то: еще с утра волосы были до плеч, как у девочки, а теперь муж и князь уже, это трех–то с половиной лет! Ты подвел его к коню, подсадил, сел Борис, шлепнул ты коня по крупу, и пошел он, все закричали:
— Князь! Князь Борис!
А Борис смотрел на всех, как на рабов своих, и весь светился, горд был, смел. Впервые он с мечом и на коне! И вдруг поехало набок седло! Ты кинулся, не удержал. Упал Борис. Притихли все…
А он сидел на земле, смотрел на вас испуганно…
Засмеялись старшие, Глеб да Давыд. А ты к ним гневно повернулся, закричал:
— Чего смеетесь?!
Замолчали. А ты, князь, поднял Бориса и громко, чтоб все слышали, сказал:
— Да, сын, вижу, не быть тебе находником, будешь сидеть, где посажу. Но также крепко сиди, как ты сейчас сидел на коне. Вот крест на том. Целуй! — И дал ты ему свой нательный крест, он целовал, ты целовал, люд кричал:
— Князь! Князь!
А после, как вошел Борис в года, дал ты ему Друцк, И уже двадцать ль г он там сидит, крепко сидит, один лишь раз к нему приходили, зато сам Мономах. А через кого? Да через Давыда же!
…А сейчас стоит Борис и смотрит на тебя. Хочет что–то сказать, да не решается. Скажешь ведь! Я спрашивать не буду, сам обо всем расскажешь, ты и так о том сказал, однако думаешь, вдруг я не понял, понял, сын! И кабы мой язык ворочался, я б пособил тебе, а так… сам говори!
И он сказал:
— Ну, соберемся мы, ну, сломим их. А дальше что? Они опять поднимутся. Сгнил Полтеск–град, осатанел. Уйдем. Отец, я заберу тебя.
Всеслав отвел глаза. Смотрел на стену серую, на трещины. Раньше–то здесь были ковры. И на полу ковры. Ел ты, князь, на золоте, накрывался одеялом горностаевым, а не овечьей шубой. Потом не стало ни того, ни этого… И что? И в Друцке люд живет. Живут и в пещерах — Антоний ведь жил. Разве ты за что цепляешься, Всеслав? Да и цепляться уже некогда, завтра уйдешь, нагим уйдешь, как все, как и Борис когда–нибудь уйдет — без жалости, ибо ему Полтеск и впрямь не нужен, он не кривит душой.
А род? Ведь здесь, в этой земле, отец твой, пращуры твои.
Затопали по гриднице! Открыли дверь. Борис руками замахал, чтоб не входили. Немного погодя кивнул. Кому, не видно. Сам прошел к окну, открыл его, глянул во двор. Кто–то приехал, слышен говор… Борис закрыл окно, нахмурился, сказал:
— Ты погоди, отец, я скоро. Прислать кого?
Князь не закрыл глаза, смотрел на потолок. Борис
вздохнул, опять заговорил:
— Пустое это все. Только себя травить. Град жечь. Ну и пожжем, а дальше что? Над кем тогда стоять? Над пеплом! Вот пусть они, Давыд да Глеб… — В сердцах махнул рукой. Предупредил уже в дверях: — Я скоро.
Затопали по гриднице. Ушли. И на крыльце затихли. Те, что приехали, вошли, должно быть. Или же уехали… Нет, не уехали, вон конь сбруей бренчит. Значит, вошли. Не сыновья то — о них Борис бы не промолчал. Выходит, это от Любима… Вот опять все на Бориса, опять ему за всех ответ держать, как и тогда, когда еще был сват живой и звал тебя, а ты не шел и сыновей своих держал… Да одного не удержал, Давыда. Кинулся Давыд вверх по Двине, по волокам, вверх по Днепру — к Смоленску. А ты, узнав о том, — за ним! То был последний твой поход, Всеслав, на Русь, бесславнее похода не было. Пришел, Смоленск еще дымился. Давыд, как тать в ночи, накинулся и сжег: слаб оказался Смоленск, хозяин отлучился. Сын — тать! Весел был Давыд и горд, встречал тебя — сошел с коня, подошел, шапку снял, успел только сказать:
— Отец!..
А ты его — наотмашь плетью по щеке! И кожа лопнула! Шрам у Давыда по сей день!..
Устоял Давыд, только ухмыльнулся. Даже кровь не стер. А ты кричал:
— Коня ему! Всем уходить! Добра не брать!
Не стали брать, так ушли. Давыд ни слова не сказал. На Полтеск не пошли — к Люкомлю двинулись, и Глеб туда к вам заодин спешил из МенсКа. Борису же в Друцк послали гонца, чтоб затворился, не выходил, ждал, готовился к встрече, если не сможем Мономаха удержать, и побежим тогда уже на Друцк. Юн был Борис, ты пожалел его.
И Мономах на то не покусился! Шел, гневен был, жег так, что и пней, и головней не оставалось. Но до Лукомля одного перехода не дошел, — а вы уже и приготовились все трое, — неожиданно повернул и кинулся на Друцк.
Юн был Борис, кроток. А отца ослушался! Пришел брат Мономах под Друцк, а друцкая дружина уже в поле, стоят и ждут. И выехал брат Мономах под стяг, и выкликал Бориса, и грозил…
Не вышел Борис! Стояла его рать щитом к щиту. Да сколько рати той было? У Мономаха ее вчетверо больше. Стояла рать, а князь не выходил. Видит Мономах, отрок вошел в шатер Борисов, вышел, другой вошел, котел дымящийся несет…
А друцкие стоят, переминаются. Мономах не выдержал, поскакал, один, к шатру Борисову. Расступились друцкие, пропустили Мономаха, спешился он, вошел в шатер…
Борис сидел в кольчуге, при мече… и ел, из рога запивал. Увидел Мономаха, кротко улыбнулся, сказал:
— Винюсь! Ты так, брат, быстро подступил, что я и пообедать не успел. Но если погодишь, то я…
Не дослушал Мономах, взревел как зверь! И вышел — молча. К своим пришел, так же молча сделал знак рукой, увел дружину. И только, говорят, уже в Смоленске посмеялся вдоволь. Отходчив Мономах, он — князь. А затворился бы Борис… Что стены друцкие? Плечом толкни — повалятся. И по сей день они стоят благодаря Борисову уму. Умно поступил Борис, когда ятвягов мирил. Взял у Зебра дочь, теперь она крестилась, ее зовут Евфимия, и родила Евфимия Борису трех сыновей, сыновья все в отца, разве что они тебя, Всеслав, чураются, а так все хорошо у них на Друцке, любо.
А у Давыда шрам и по сей день горит. И третий год он вдов. Без детей, один. Таков твой сын Давыд. Таков твой сын Борис. И если б кто и смог взойти на Место Отнее, так это он, Борис. Только ему и Полтеска не надо! И братья ни во что его не ставят: мол, не князь ты.
А вы князья? А Всеволод был князь? Выше всех сидел брат Всеволод. Пятнадцать лет царствовал брат Всеволод в Киеве, а на самом деле правил и не он, а Мономах, сын его старший, опора, ум и меч. Умер Всеволод — позвали Мономаха: все, чернь, бояре, клир…
А он отвечал:
— Кто я? От младшего из Ярославичей. Выше меня по лествице стоит брат Святополк, он крови Изяславо–вой. Ему и быть над нами!
Сел Святополк Изяславич в Киеве, а Мономах ушел в Чернигов, брату своему Ростиславу отговорил у Свя–тополка в вотчину Переяславль. Но Ростиславу впрок это не пошло; и лета не миновало, как Бог его прибрал. Может, вовсе и не Бог. И посему негоже меня братом попрекать, когда у вас самих вон что содеялось! Я молчал тогда, я слова не сказал, а вчера кричал про те двенадцать лет, так глуп я был. И гадко мне теперь. Ибо уж кто–кто, но я знаю, что ты пятнадцать лет при брате Всеволоде Русью правил, сейчас, при Святополке, еще восемь, и дальше брат Святополк останется на Отнем Месте, Русь держать ты будешь, Мономах.
Русь, да не нас! Давыд придет, я его, как и в Смоленске, поучу, чтоб впредь не забывал, чья здесь земля, чтоб знал: Бус не ушел, он и сейчас при нас.
Нет! Закрой глаза, Всеслав! Навь это! Наваждение! Закрой!.. Не закрываются! А он — вот, над тобой! Гони его!..
И до креста тебе, Всеслав, не дотянуться, хоть он и на груди, лишь руку подними, протяни да положи на грудь.
А не поднять руки, не перекреститься! Пресвятый Ъоже! Не оставь меня! Я раб твой, червь…
А Бус, склонившись над тобою, улыбается и сноба говорит слова свои заветные да непонятные. Зверь заурчал, доволен зверь, сыт он, заворочался, улегся, зверь тоже Буса слушает, открывши пасть и вывалив язык, тихо, покойно в тереме, и веки снова тяжелеют, Бус что–то говорит и говорит, так бабушка когда–то сказки рассказывала, а ты, прижавшись к ней, глаза свои доверчиво смежал. Спи, князь, не бойся, сон — это ведь не смерть.
2
Очнулся…
Нет, долго оживал, к свету карабкался, вдохнуть хотел, воздуху не хватало, рот разевал, а может, и не разевал, тебе это казалось. Сам лежал пластом, так Дедушка лежит, когда его на берег выбросят и держат кольями, обратно в воду не пускают. Он поначалу извивается, трепещет, бьется, пузыри пускает. А его — кольями, кольями! Для этого колья нужно брать дубовые, дуб на сухом растет, воды не любит, но и не боится, дуб, если в воду попадет; не гниет, только крепче становится… Дедушку бьют кольями, поют что–нибудь духовное, осеняют себя крестом. Тогда вода из Дедушки вытечет и черный дух его с водой уйдет, останется одна тина, а в ней сила. Тину надо высушить, истолочь и, произнеся заветные слова, сложить в мешочек лягушачьей кожи: вот тебе и оберег, хоть по реке, хоть по морю с ним плыви и ничего не бойся. Так сын твой Ростислав никого не боится, на Руяне Ростислава привечают, ходит он с руянцами, кричит: «Аркона! Кровь!», а после возвращается, бахвалится, как жгли они град Гам, что нынче по–германски Гамбург, как брали добро, гнали пленных и продавали их, а потом ударили на Магнуса, и он побежал, известно, Голоногий. Руянцам Святовит помог, а Ростиславу Дедушка.
А ты, Всеслав, вскормивший Ростислава, очнись, открой глаза, вдохни, плечи расправь, руку подними и потянись к кресту — он на груди.
Лежал, даже глаз не открывал — не мог. И хорошо это, ты не один, кто–то стоит возле окна, молчит.
И не один он там, их двое. Шепчутся! О чем? Прислушался…
Шумит в ушах. Так волны разбиваются о каменную гору, бушует море, гром гремит, ночь, молнии, и в свете их, на горе — храм, крытый черепицей цвета крови, и где–то высоко над храмом слышится: «Всеславе! Внук мой! Кровь моя! Кр–ровь!» Пресвятый Боже! Верую в Тебя лишь одного, а то — обман, видение, все от Тебя приму, дай лишь глаза открыть, персты сложить.
Жив, нет?.. Жив. Тишина в тереме. Лишь те, что у окна стоят, еле слышно шепчутся. Открыл глаза… Георгий! Сын! Вернулся! Господи, вот радость–то! А ведь не ждал уже! Нет, Ростислав это. А рядом с ним Борис. Стоят, о чем–то шепчутся, на тебя не смотрят. Нет чуда, князь, не заслужил ты его. Ушел твой младший сын без меча, не взяв меди в поясе, хоть ты и молил его: «Земля — она везде святая, сын, не ходи, хочешь, на колени встану». А он не внял, ушел. Далеко ли до Святой Земли? Всю жизнь можно идти и не дойти, потому Георгий до сих пор и идет. Ты свою землю, грешную, и ту не удержал, завтра примет ли она тебя? Кони вздыбятся и сани обернут…
А Георгий, уже за воротами, говорил тебе:
— Я, отец, не своеволзо. Все по обычаю, от Буса так заведено, чтоб уходили сыновья, а возвращался один. Оттого и смуты не происходили, не было нужды землю делить. Только когда креста еще не знали, сыновья брали меч, уходили варяжить, искали смерть. Перун жаждал чужой крови, Спаситель отдал свою. Вот я и ухожу без шапки княжеской и без меча — за верой. Вернусь — так и вернусь, а нет — значит, такова Его воля. Благослови, отец.
И ты благословил Георгия. Он вышел уже за ворота, но ты догнал его, остановил, сказал:
— Возьми хоть это. В нем не поганский, Божий свет, этот свет будет тебя вести, с ним не заблудишься, если вдруг возьмут тебя сомнения: зачем иду, куда и надо ли… Бери!
И взял Георгий камешек, дар Олафа. Нынче варяги величают Олафа Святым, нынче никто из них не вспоминает, как ополчались на него за то, что он стоял за веру, за веру и сражен был.
Ушел Георгий. Через год приехал купец ромейский, рассказал: видели его, Георгия, в Царьграде, там сошелся он с такими же, как сам, и далее пошли они. Лихие времена настали для Святой Земли! И где он нынче, сын твой, жив ли, нет? Вон, говорят, которые уже и возвращаются, ибо повергло войско фряжское поганых сараци–нов, добыло честь великую…
А о Георгии ни слуху. И срок твой близится, были дымы, сойдутся сыновья…
Вон схватились двое. Жарко шепчутся!
И сгреб его Борис! А Ростислав — да по рукам ему, да в грудь! Срам, Господи! Да как же это? Борис, да где ж твой ум?!
Нет, унялись. Стоят словно драчливые петухи.
Закрыл глаза.
— Молчи! Что понимаешь?! — зло, по–волчьи сказал Ростислав у окна.
Борис слова не вымолвил. Ростислав пошел, зацокали подковки, дверью хлопнул, выходя, распалился.
Тихо стало в тереме. Борис стоит. Должно быть, успокаивается. Кажется, молйтея. К ложу подошел, чуть слышно окликнул:
— Отец!
Всеслав лежал, не открывая глаз. Борис рукой к нему притронулся, ощупал лоб. А пальцы у тебя дрожат, Борис, дрожат! И это еще начало, сойдутся старшие, Давыд да Глеб, начнут спорить, один другому не уступят… Ох, слаб человек. И поделом тебе, Всеслав. От Буса как было заведено? Входили в силу сыновья и разъезжались, и варяжили, и смуты между ними не было. И Ратибор, брат твой, ушел. А сыновьям ты запретил, гордился этим, говорил, что не по–христиански отправлять свой род на смерть, вот и дождался, князь…
— Отец!.. Отец!
Открыл глаза. Борис одной рукой держал кувшин, другою тебя обнял, приподнял. Поил, вода не шла, ком в горле стоял, вода текла по бороде на грудь, на крест, вода–то заговоренная, нутро ее не принимало. Уложил тебя Борис, вытер губы, сидел, смотрел, словно виноватым себя считал, что остается здесь, а ты уходишь. И ты всегда смотрел на тех, кто обречен… Но обречен ли, Господи?! А жить, как мы живем, разве не казнь? Я отмучился уже, а вы обречены еще…
Борис опять позвал:
— Отец! — Подождал, глаза их встретились, тогда продолжил: — Градские молчат. А тут и Ростислав пришел, они и вовсе оробели. Брат не один явился, с большой дружиной. Руянцы с ним, варяги, ливы. Его уже четвертый день как упредили, собрался он, успел. А от кого был зов, не говорит, смеется. От Хво–ростеня, да?
Всеслав закрыл глаза, открыл. Борис сказал:
— Я так и думал. Он был здесь, Ростислав, на тебя смотрел, ты спал. А после… — Глаза у Бориса забегали. — А после брата кликнули. Иона сидит у Любима, рядятся они, неспокойно, потому Ростислав и поспешил туда. Глянет, придет… — И спохватился: — Нет! Ты не думай! Кроток Ростислав! Сказал, меча не обнажит. Божился… — И опять глаза забегали.
Божился Ростислав! Кем, Дедушкой?! Вот уж волк воистину! Твое отродье, князь…
Но коли даже Ростислав не сдержится, град сам виноват, только чтоб между собою не схватились, то страшный, смертный грех, отец еше живой, а сыновья — в мечи! А Любиму или даже Ионе они пригрозят.
Это ты Иону посадил, Всеслав, вместе с градскими. Тогда вы были заодин; стояли вечем у Святой Софии, вышел слепец и вынес жребий на Иону, возликовали все, хоть знали — Киев озлобится, Ефрем–митрополит, поди, и не признает. Ефрем владыкою Никифора хотел… И даже не Ефрем, Мономах да Святополк. Никифор был им люб, вот и кричали там, на Киеве: чем, мол, Никифор плох, он ваш, он менский, а кто такой Иона, сажа босоногая, чернец бродячий, пес, грех епископа всем миром выбирать, когда есть Провидение… А вы стояли на своем, вы были заодин тогда, князь и Земля, Никифора не приняли, он ушел, вслед за ним пошли дары. И Святополк не устоял, признал Иону, затаился, потом, когда Ефрем преставился, велел, чтобы поставили Никифора… теперь уже митрополитом! И клир перечить не посмел, вышло, как Святополк велел, все перед Ники–фором склонились — и Иона. Один лишь ты, Всеслав…
За то и называют тебя хищником. И отлучить грозят. Пусть себе грозят, ничего сделать не успеют — день пройдет, а завтра…
А завтра, Святополк и Мономах, и все вы, племя Переюпокино…
Отмучался Всеслав! Отбегался и отгрепшл свое, а вам, Бог даст, ох сколько вам еще!.. Вот ты, брат Мономах, все думаешь, что всех умней, всех хитрей, все с рук тебе сойдет, все можно замолить… Ан нет, не все! Вспомни: брат твой Ростислав, хоть разные матери у вас, хоть не ромеич он — половчанин, но по отцу–то родной брат: высоко он летал, гордый, свирепый, ему, поди, тоже казалось — все смогу, все мне позволено. И шел он, Ростислав, сын Всеволода, князь переяславльский, к тебе, брат Мономах, чтоб после заодин Степь жечь и полонить. А блаженный Григорий, печерский чернец, сидел на берегу, молчал, он за водой к Днепру пришел, он кроток был и, завидев рать, посторонился. Да не уберегся! Начали гриди Ростиславовы срамить его да обзывать. Чернец, устранись за души их, сказал: «Чада мои, одумайтесь, чем лаять на меня, лучше покайтесь в прегрешениях своих, ибо грядет ваш смертный час, придется вам и князю вашему казнь от воды принять!» Засмеялись гриди, не поверили, Ростислав же, осерчав, вскричал: «Попридержи язык, чернец! Я–то плавать умею, я не утону, а вот ты!..» И приказал князь Ростислав связать чернеца Григория, камень ему на грудь повесить и в Днепр бросить. И бросили, и утонул чернец. Ростислав пришел к тебе, брат Мономах, вы встали заодин, пошли на Степь — и у Триполья били вас поганые, топтали и рубили, гнали, как овец, но ты ушел, брат твой Ростислав упал с коня… и утонул, да не в Днепре, в Стугне, там, где брод, на мелкоте, если пешим идти — за голенища не набрать, а брат твой утонул, и гриди его вместе с ним. Воистину: каким судом мы судим, таким и нас осудят, какою мерой мерим мы, такой и нам отмерится. И тебе, брат Мономах, припомнится, как хана Итларя ты заманил, крест целовал на мир, а после сам велел загубить Итларя: боярин твой Ольбер стрелой его пронзил. Да, он, Итларь, немало бед содеял, так он на то и поганый, но не по–христиански — крест целовать, а после убивать. Страшись, придет твой час! А то, что я про двенадцать лет вчера кричал, так мало ли чего я еще успею прокричать, но сбудется ли все, кто знает?! Я ж не пророк, не волхв, я даже не волк, хоть и желал, молил о том, оберем к губам прижимал и целовал… Да где теперь тот оберег? Пришла Она, и я… Слаб человек, мерзок, глуп.
…Лежал Всеслав. Борис возле сидел. Умрет отец, он будет сидеть, сложив руки, смотреть умильно, кротко. Другой встал бы, позвал кого–нибудь, чтобы принесли не знаю чего, хоть травы какой, золы семи печей, да мало ли… чтоб отпустило язык, чтоб за Ионой не побежали, Иона — раб, сперва Никифору поддался, нынче Любиму, а сам говорил, мирское это все, не мое… Тьфу! И еще раз тьфу! Прости мя, Господи, но чтоб так помирать, как Всеволод, за что?!
Шаги! Идут по гриднице. Вошли. Глаза скосил, увидел: Ростислав вошел, Хворостень и этот, белобровый… Самс, брат Ростиславовой. Мрачны! Борис вскочил, схватил кувшин, прижал к груди.
Брат молча указал ему на дверь. Борис не шелохнулся. Брат снова указал. Борис перекрестился, перекрестил отца, глянул на лик — лик черен, ничего не разглядеть, — медленно пошел к двери. Дверь за ним тихо затворилась…
Но не ушел Борис, за дверью встал. Ждет, стало быть…
Ростислав подошел, сел в головах, помолчал, сказал:
— Весь грех на мне. Борис тому свидетель. И старшие придут — и не осудят… Слышишь меня?
Всеслав закрыл, открыл глаза. Страшно уже не было, слеза сама собою побежала. Сын наклонился, смахнул ее. Рука у сына твердая, шершавая, он кулаком весло перешибает, его и на Руяне привечают, и в норвегах. А
ты, Всеслав, когда мимо Руяны хаживал, то даже не смотрел в ту сторону, псалмы шептал, крепок в вере ты…
— Отец! Весь грех на мне… Самс!
Подхватили, подняли, тебя сдавили, что даже если бы и мог, не трепыхнулся бы. А Хворостень чашу подал, и Ростислав схватил ее, стал заливать тебе в открытый рот…
Вонючее! Звериное! Жирное! Лилось оно в горло, обжигало, корчило тебя, руки дергало, челюсти сводило…
Самс нож между зубов вставил, Хворостень держал тебя, Ростислав вливал зелье, оно обжигало тебя, топило, топило. Внезапно полыхнуло так, будто рвут тебе глаза, — такой вспыхнул свет!..
И наступила тьма кромешная. Кровь бежит, гудит по жилам. Всеслав, не открывая глаз, повел рукой, нащупал крест. Прости мя, Господи! Сына ввел в грех, он не желал того, а все из–за меня… Открыл глаза. Борис над ним. Ростислав поодаль, бледный. А больше никого нет, ушли. Князь губы облизнул, сказал:
— Ступайте. Жив я. Жив…
Ушли, оглядываясь. Тишина в тереме. Бережко спит, Бережко ночи ждет, он ночью выйдет, и пойдет бродить, и будет тихо петь псалмы поганские — ведь и тогда же, до креста, были псалмы, только слова у них другие, — будет он петь, потом замолчит, подойдет к покойнику: его никто и не заметит, он маленький, Бережко, вот такого росточка, а в тереме темно, только свеча теплится в желтых руках усопшего да лампадки — и весь свет. Разве Бережку рассмотрит кто–нибудь, он подойдет к покойнику, шапку снимет, заморгает часто–часто, вздохнет, и стены вслед за ним вздохнут, и треск пойдет по терему, все вздрогнут, он опять вздохнет — и снова треск, Копыто часто закрестится, скажет: «Пришел!», на него»зашикают: «Молчи! Молчи!», он замолчит, а домовой уткнется носом в шапку и запыхтит. Бережко плакать не умеет, ему слез не дано, свеча начнет мигать, к ней кинутся, заслонят, чтоб не погасла совсем, а руки желтые вдруг скрючатся…
Нет, чур меня! В ночь разве срок придет? Ночь мне еще дана, и надо не забыть приказать, чтоб еще с ночи затопили мыльню, утром схожу, первый пар возьму, оденусь во все чистое, чтобы когда Она придет…л
А будет ведь покойник этой ночью, будет!.. Нет, есть уже! Вон зверь как заурчал! Вон облизнулся как… И заскулил, и хвост поджал. Что, пожалел? Невидаль какая: зверь пожалел! Когда брат Всеволод лежал, — было это ровно восемь лет назад, день в день, апреля в день
тринадцатый, в страстную он преставился… — ты тогда визжал, зверь, от радости.
Нет, не по мне ты визжишь! Вот, встал я, хожу, гребнем волосы расчесал, руки не дрожат, сила в руках, и плечи не сутулятся, и кровь бежит–гудит. Я в сапогах уже, корзно на мне, подбой красный, словно кровь, по краю волком оторочен, брат Всеволод когда впервой меня увидал в корзне при волчьей оторочке, так думал я, как бы чего не случилось с ним.
А шапка — смех. Ей десять лет, а то и более, ворс вытерся, в такой, что ли, положат? Или сказать, чтоб новую нашли?
И так хорош! Всеслав огладил бороду, шумно вдохнул и выдохнул, постоял, походил туда–сюда, глянул на лик, на тусклую лампадку…
Молчит душа! А что ей говорить? Волк! Волчье пьешь. Ну, иди и делай дело волчье, а лик не про тебя, лик черен, ничего тебе не видно, не для твоих глаз этот лик, иди, Всеслав, ждут в гриднице.
Пошел. Легко шагал, сам удивлялся, сам того страшился. Но не сутулился, голову держал по–княжьи, ясно было в голове — так, словно и не приходила Она, словно град не поднялся, словно не семьдесят тебе, а как пять лет тому назад, в тот день, когда вейналла засмущалась, и собрались тогда все сыновья, ладей приплыло — не перечесть, все с парусами. А нынче в гриднице один лишь Ростислав. Стоял в углу у печки, одной рукой вцепился в пояс так, что пальцы побелели, вторая висела плетью. А взгляд открытый, ясный, все они такие, ко–щуны, и говорят еще: «Что нам смерть? В землю уйдем — так ведь в свою».
Всеслав прошел к столу и отодвинул лавку, собрался было сесть, да передумал, остановился. И Ростислав стоял молчал. Всеслав провел рукою по столешнице: зарубка, свежая. Те, прежние, уже затерлись и засалились локтями, а эта еще нет, еще недели не прошло, как приходил Любим и эти двое, здесь рядились, потом Ширяй сказал…
Князь усмехнулся. Сел. Сжал кулаки, чтоб пальцы не стучали по столу, а то всегда, чуть разгневается, сразу пальцы в пляс! Они тогда притихнут, а она… Она: «Опять?! Всеслав!» А нынче не кори меня, душа моя, жена моя, солнце мое, спи спокойно. Да разве мне время пороть сынов наших? Внуков и тех теперь уже не поучишь, да они в Полтеск и не кажутся. И то, что сыновья сошлись, так то на дым, душа моя Альдона, вот ведь как! Вот завтра и встречай… Вздохнул. Руки унял, пальцы разжал. Сидел молчал. А Ростислав не подходил — там, у печи, ему спокойнее — Бережко там.
— Так что?! — спросил Всеслав. — Явился?
Ростислав кивнул. Князь снова пальцы сжал, сказал:
— Ишь, кроткий какой. А приходил от вас чернец, так он поведал, что ты совсем осатанел, крест снял и в храм не ходишь. Так это?
— Так, — ответил Ростислав, как будто и не о себе, и сам не шелохнулся даже.
— Вот–вот! — хрипло протоворил Всеслав. И пальцы застучали по столешнице, их не унять уже, и пусть себе стучат, а то ему не видно, что ли… Комок проглотил и продолжал: — Иона гневался, я вклады жаловал, я не жалел, умасливал, я говорил, что то навет, не слеп мой сын, не мог. А выходит — мог?
Кивнул!.. Язык, видно, не повернулся, вслух не посмел ответить. Всеслав уперся пальцами в столешницу, провел ногтями по ней: нет, не вскарабкаться тебе… Тьфу! Чур меня! Головою мотнул и громко, зло сказал:
— Но и это не все! Кто в пиру кричал: «А что мне крест? Я на земле стою! Своей земле!» И это было?
— Да. — Тихо сказал, но твердо.
И это всего горше, коли твердо. Теперь и говорить–то не о чем… И все–таки Всеслав не удержался:
— Поди, пьян был, потому и кричал. Да если б и смолчал, так все равно бы выплыло — не здесь, так там. Вон с Хворостенем как таились, а мне давно все ведомо… Он упредил тебя сюда идти?
— Он.
— То–то же! А брату почему не отвечал? Он что, не брат тебе? Что, Хворостень родней?
— Борис не князь…
— Опять! Поди сюда!.. Я что велел?!
Подошел, стал напротив. Всеслав сказал:
— Так, значит, снюхались. И затаились. Ждете, когда помру, чтобы потом — все прахом, с корнем. Ох–х, высоко берешь, сынок! — Замолчал Всеслав, пристально смотрел на сына.
А тот не отвечал. Побелел, губы дрожали в гневе. И не выдержал:
— А кабы ждал того, так бы и ждал, не брал бы грех…
— Так все же грех?! Отца звериною поить, от смерти вызволять — грех. И это ты сказал. Чудно!
— И не чудно. Грех — на тебя. Ведь ты к Нему пойдешь.
— А ты? Ты не к Нему, что ли?
— Нет, — покачал головой, — не к Нему.
Всеслав недобро рассмеялся и сказал:
— Вот даже как! Так что же тогда получается? Кто в кого верует, тот к тому и идет?
— Все может быть, отец. Не знаю я.
— Не знаешь, ничего ты не знаешь! А судить берешься. В пиру кричишь, как пьяный смерд. А на Бориса говоришь, что он не князь. Да если кто из вас и сядет в Киеве, так то Борис!
— А Глеб?
— Что Глеб?
— А то.
И смотрит. А что в глазах? Пустота одна. И вот что будет после тебя — тьма беспросветная. А Мономах предупреждал тебя, Всеслав, он говорил: «Свеча бы не погасла». А ты ему что ответил? Игнат сколько раз…
Игнат! Как обожгло! Вскочил Всеслав, испуганно спросил:
— А где Игнат?
— Внизу. Там и Борис, там все. Ждут тебя. А то…
— Что — «то»?]
Сын не ответил. Вот оно! Вот что ты чуял, князь, вот почему так легок ты, вот почему так кровь скоро бежит.
Ростислав едва успел посторониться, Всеслав быстро пошел к дверям и — вниз; ступени громко, тяжело скрипели. Сошел, свернул… Дух приторный! Вошел. А дух еще сильней, совсем не продохнуть, надымлено, окна закрыты, тишина. Сидят вдоль стен. Всеслав снял шапку, широко перекрестился, прошел к столу.
Игнат лежал, уже обряженный, завтра ты сам будешь так лежать. В желтых руках свеча, дигремы на глазах — два желтых кругляшка. Князь Святослав, сын Игорев, внук Рюриков, говаривал царю ромейскому Цимисхию: «И пусть мы станем желты, аки золото, если отступимся». И отступились ведь, и стал князь Святослав желт, аки золото, ибо срубили печенеги ему голову и сделали из черепа ковш для вина и оковали его золотом. Годы прошли, кость пожелтела… Глуп ты, Игнат, сорок лет смотрю я на тебя, и за это время не поумнел ты. Помню, еще Альдона не моя была, а я… сам себя страшился, старцы отвернулись от меня, я все вклады жаловал и епитимью принимал, смирял себя, но ничто не помогало… Ты пришел, нет, привели тебя, был ты совсем еще мальчонка, вон там стоял, кувшин держал, а я лежал, спросил, что в кувшине том, ты сказал: не знаю, кйязь, нам не постичь того, я, князь, молился за тебя, как мог, испей воды, отпустит — я рад, и больше ничего не надо, нет — руби меня, нет во мне веры, а коли веры нет, тогда зачем мне моя жизнь? Я пригубил. Вода была безвкусная и теплая. Ты сказал мне: пей, князь, еще, я выпил еще, и отяжелели веки, я глаза закрыл, сон тотчас пришел. И снилось мне, будто я в тереме, окно открыто, небо синее, тепло, отец и брат отправились на лов, бабушка ушла к себе и спит, и мы с матушкой одни сидим, я прижался к ней, жарко мне, весь дрожу, она меня гладит и говорит: «Сынок, не бойся, то разве хворь, ты просто испугался, я обниму тебя, и хворь уйдет». И обняла она меня, и стало легко и радостно, и засмеялся я, вскочил и матушку расцеловал, сказал ей, какая она у меня красивая, красивей всех и всех добрей, и плакала она вместе со мной от радости и восклицала: ну вот ты и здоров, сынок, видишь, Бог милостив, люби Его и славь Его…
Такой сон мне приснился, Игнат, но я его тебе не рассказал. И никому не рассказал, не расскажу. Зачем всем это знать? Как не надо всем знать, что только ты один мог перечить мне, а то и осадить меня, накричать, — ведь ты и кричал на князя своего, Игнат, ведь я все это сносил, Игнат, и зверь только скулил, и зверь тебя страшился, твоей веры, и я страшился и сейчас страшусь, хоть крест на мне… Но разве такой им князь нужен? Нет! Князь должен только их страшиться, вера им ни к чему. Не верят ведь они ни в Буса, ни в Спасителя, а лишь в себя, в свой крик, в силу свою, вон сошлись, кричали, покричат еще, только услышу ли, успею ли услышать? Вон Бус — ушел и не услышал, и мне бы так. А сыновья и без меня управятся, им без меня даже способней будет, зажился я и сыновьям стал в обузу. И Земле… А когда князь Земле был не в обузу? И был ли такой князь? Ведь когда Бус говорил им, что ему ведомо, как ирия достичь, они разве пошли за ним? Только смеялись! Им Бус не в указ?! Вот Тороватый — да. Его слова им слаще показались, и пошли за ним. Три года шли, искали, где ж она, заветная река молочная, и где те берега, из коих бьют ключи медовые, где смерти нет, где все чисты… А сами вы чисты? Привел он вас на реку Бусову, Двину. Ну так и дальше б шли, чего остановились, разуверились, чем Тороватый вам не угодил? Устали от речей его? Но Тороватый предупреждал, что то не он, а Бус его устами с вами говорит, Бус вас ведет, Перунов сын, как же вы могли от Тороватого отверг–нуться? А ведь отверглись. Вече собрали и, накричавшись всласть, приговорили: «Устали мы плутать, пусть Гороватый Буса призовет, пусть Бус возглавит нас, без Буса дальше не пойдем!» И связали Тороватого, и на костер взвели, и подожгли, пылал костер, ветер налетел: такого ветра больше мы не видели, он с ног сбивал, деревья выворачивал, пламя пуще разгоралось, дым в небо уходил, пепел во все стороны развеялся.
Так мы пришли сюда, Игнат, так и живем, и ждем, может, и не ждем уже, когда же Гороватый Буса приведет и Бус укажет путь к молочным берегам, ключам медовым. Но нет Буса, и никуда мы не идем, живем, как и при Бусе: град повелит, князь приговорит, старины не нарушая. Лежишь ты, Игнат, желтый, аки золото, а завтра мне желтеть, зверина не спасет — и хорошо, ибо великий грех задержаться на земле больше чем положено. Придет Она, и я возрадуюсь, воскликну: Господи, отмучился я, прими меня, раба, не князь я, раб, какой я князь, я, сколько себя помню, знал это, чуял, потому и обрадовался, когда вселился в меня зверь, вот, думал я, отныне я уже не раб, зверь никому служить не будет, зверь волен быть сам по себе, зверь — князь, князь — зверь…
О Господи! Так что же это? Рожден во тьме, прожил во тьме и ухожу во тьме. Когда прозрею я, когда увижу свет? А может, света вовсе нет?
Князь поднял голову. Сидят все вдоль стен. Дух тяжелый, приторный. А руки у Игната желтые, свеча чуть теплится, фитиль дрожит. Перед тем как Ей прийти, он натопил, хоть беги, а ты все говорил: еще, еще…
Кто–то вошел… Горяй это. Знак подал. Князь не шелохнулся. Горяй приблизился, склонился, прошептал:
— Пришли они.
Князь словно не расслышал, сидел, смотрел пустыми, безразличными глазами. Горяй опять шепнул:
— Пришли.
Князь не встал. Тогда Горяй взял его за руку. Князь нехотя поднялся, направился к дверям. Внезапно остановился, обернулся, посмотрел на Игната. Горяй пояснил:
— Давыд и Глеб пришли.
— Знаю, — ответил князь.
Стоял. Не уходил. Бережко спит еще, Бережко придет ночью, уткнется носом в шапку, запыхтит, потому что ему слез не дадено.
Чур, чур меня! Князь широко перекрестился, громко сказал:
— Прощай, Игнат. Прости!.. — Закашлялся, глаза утер.
Важен вышел вперед, спросил:
— Когда?
— Сегодня же. Положил» возле ограды. Он так желал… Ведь так, Игнат?.. А! — И махнул рукой Всеслав, повернулся, вышел вслед за Горяем. Не обессудь, Игнат, но я сегодня еще князь и как велю, так будет, а завтра кто тебя к ограде понесет? Прощай, Игнат, прости, больше не свидимся, вон Ростислав сказал, кто в кого верует, тот к тому и идет. Что, если ни в кого не веришь, даже в себя, тогда как?
3
Вышел Всеслав, встал на крыльце. Уф–ф, как легко здесь дышится! А небо серое, солнце в серых облаках. Митяй висит. Глеб и Давыд стоят, коней не расседлали. У Глеба конь гнедой, у Давыда чалый, у Глеба в пене конь, у Давыда — свежий; за Глебом пятеро, за Давыд ом — не сосчитать, сколько мечей! Глеб день и ночь скакал, Давыд не торопился, стоит, оглаживает щеку со шрамом, шрам так и не сошел — и не сойдет уже.
Да что это ты, князь?! Сыновья твои перед тобой, ты ждал их, ты Ее просил подождать: встречу их…
Приосанился Всеслав, ликом посветлев, руки поднял, развел их, не сбежал с крыльца, как молодой.
— Сыны мои!
И — к Глебу. Обнял. Обнял и Давыда. Снова руки раскинул, отступил, сказал:
— Вот сколько ждал. Дождался!
И смотрел на них — на Глеба, на Давыда, опять на Глеба, улыбался, хоть и сводило губы, знал, что нужно б дальше говорить, да слова не шли, горло сжимало. Стоял, слезу смахнул, еще раз произнес:
— Сыны! — И руки опустил. Только головою покачал, стар стал, слезлив…
А Давыд неожиданно бойко сказал:
— Вот ты каков, отец: кровь с молоком! А говорили — слег.
— Как это слег? — удивился Всеслав. — Болтают почем зря. А ты ромеича не слушай!
— Ромеича? — переспросил Давыд.
Как будто бы не понял! Глаз даже не отвел, только шрам побелел.
— Да, сын, ромеича, — повторил Всеслав. — А что, разве не он… — Посмотрел на Глеба и тихо спросил: — Да что вы, вместе, что ли, ехали?
— Нет, — ответил Глеб. — Я здесь давно уже, с обеда.
С гневом сказал!
Всеслав спросил:
— А где ж ты пропадал?
— За воротами стоял. За градскими.
— Что, не пускали тебя, что ли?
— А кому не пускать? Там открыто. И нет никого. А я стоял! — И тоже смотрит, глаз не отведет. Вот и сошлись они, и уже началось.
Давыд с усмешкою пояснил:
— Брат ждал меня. Брат мне сказал: «Чтоб ты потом не говорил, будто я ужом вперед пролез, оттер тебя».
И замолчал Давыд. И Глеб молчал. Стояли у них за спинами: за Глебом пятеро, за Давыдом вон сколько, старше он, Давыд, и злей, с ромеичем стакнулся, но ни за что в том не сознается, юлить будет…
— Да что это?! — сказал Всеслав. — Ко мне вы или не ко мне? А я вас ждал или не ждал?! — И оглянулся на крыльцо.
На крыльце стоял Борис. И вниз сходить не собирался.
— Борис! — позвал его Всеслав, но тотчас передумал и спросил: — Где Ростислав?
— Он наверху, распоряжается. Уже накрыли. Поднимайтесь.
— Вот, — виновато сказал князь, — и стол уже накрыт. С дороги–то… Сыны мои!
Хотел взять их за руки, чтоб вместе войти, заодин. Не взял! Первым пошел, сыновья за ним. А ковер на ступенях ромейский лежал, наилучший ковер, его купцы еще Аль–доне поднесли, пушистый, густой и мягкий, словно пух… Ступени скрипят, как снег в мороз. Так же и в Друцке было, снег под твоими ногами скрипел, трясло тебя, Всеслав, рука к мечу тянулась, но ты ни разу не оглянулся, а за тобой следовал Ярополк Изяславич, змееныш, это потом уже… Так, может, и сейчас: сядут сыновья, вином кровь разогреют, а кровь у них у всех одна, твоя…
Взошли на крыльцо. Прошли мимо Игната — дверь была закрыта — и поднялись наверх, двенадцать так, двенадцать сяк, а на седьмой ступени, как всегда, Всеслав перекрестился: «Господи, не за себя прошу, за них, только за них, не покидай их, Господи!..»
Сели за стол. За всем смотрел Бажен, он наливал, покрикивал на служек, песельников не было — грех петь, когда покойник в доме, и пусть он был холоп, а мы кто, Господи? Все мы рабы, все нагими пришли в этот мир и нагими уйдем…
А заправлял Давыд, он одесную сидел, он здравицы провозглашал: вначале за отца, затем за Землю, а третий, как всегда, подняли за Альдону, четвертый — за Георгия… И было уже много выпито и ничего почти не съедено, Туча, захмелев, начал рассказывать о том, как двигался от Заполо1ъя, как «этих» в реку загонял. И засмеялся! Его не поддержали. Туча набычился, притих, смотрел по сторонам, сопел… И до того стало тихо, только и слышалось его сопение.
Тогда встал Всеслав, взял рог, оглянулся на Бажена. Важен налил ему вина. Князь поднял рог, но ничего не говорил, стоял, смотрел на дверь.
Шаги. Скрип половицы, скрип… Все оглянулись. В дверь заглянул чернец. Всеслав кивнул ему, мол, погоди, а всем сказал:
— За Игната. Земля ему пухом. — И выпил.
Все встали, молча выпили. Стояли, не садились. Всеслав произнес:
— А теперь… проводите его. Ступайте, соколы. И я… душою с вами. Положите у ограды, как. он просил. Прости мя, Господи! — Перекрестился, сел.
Сели и сыновья его. Остальные вышли из гридницы. И Важен с ними, Всеслав сделал ему знак: иди, иди.
Ушли. Дверь за собою притворили. Протопали по лестнице. Бережко еще спит, ночью встанет и пойдет бродить по терему, учует дух покойницкий, засуетится, тут пробежит, туда заглянет, шумно воздух понюхает и снова побежит, но ничего не найдет и прибежит к тебе, к хозяину, поначалу затаится, после осмелеет, выглянет…
Отец рассказывал, он вот какой: в длиннополой рубахе, в коротких портках, всклокоченный и бородатый, лысый, из–за лысины и шапку носит, да она набекрень всегда надета, но если только шапку снимет, быть беде! И отвечать ему нельзя, о чем бы ни спросил… А ты не побоишься, князь, ответишь: «Знаю, как не знать! Покойник — он перед тобой».
Бережко не поверит, подойдет к тебе — бочком, бочком, а ты протянешь ему руку, и он в нее уткнется и понюхает, учует волчий дух…
Чур, чур меня! Князь встрепенулся, головою замотал.
Опомнился: он в гриднице, с ним сыновья, все четверо. А больше никого, все остальные ушли, ты так им приказал, а сам к Игнату не пошел, не провожал его, а не приди в то время Игнат, давно бы тебя не был о, Альдону не встретил бы…
Бы, бы. Кабы! Всеслав откашлялся и, глядя в стол, сказал:
— Вот что, сыны мои. Годы мои немалые, когда Она придет, кто знает? Игнат еще вчера был жив–здоров… И потому вам говорю… Велю! Велю, чтоб не везли меня в санях, а чтобы на руках несли и чтоб не кто–нибудь, а только вы.
— Отец… — начал было Борис.
Князь гневно глянул на него, сказал:
— Молчи! Я так хочу! Я так велел — так и будет! — И — кулаком об стол. Оглядел их, четверых. Борис вздохнул. Давыд пожал плечами. Глеб бровью не повел. Один лишь Ростислав сказал:
— Как сказал, так будет. Понесем.
— А ты б молчал! Тебе в Софию ходу нет!
Ростислав ощерился — вот пес! — бросил:
— А это мне уже тогда будет решать.
Пес! Пес! Кровь в голову!
Борис вскочил, крикнул:
— Отец!
И словно плетью осадил! Молчал Всеслав. Пальцы стучали по столу… Встал Ростислав — уже не щерился, белый весь, глаза пустые, отдал поклон…
— Сядь! — глухо сказал Всеслав. — Гнев князю не советчик.
Сел Ростислав. Помолчав, Всеслав повторил:
— Гнев не советчик. Да… Вот Бус: не мне чета, а сыновья ушли, он молчал. Вече прокричало «нет», и снова он молчал. Как будто и не князь, как будто и не воевал от моря до моря, через горы не переходил… Это потом опомнились, насыпали курган, это потом стали говорить, мол, надо бы… И так всегда! И ты, сын мой, когда–нибудь поймешь, что я был прав: то, что минуло, никогда не возвращается, пусть даже было оно много лучше того, что нам теперь дано. Минуло — умерло. И всем нам, веруем ли, нет, а представать пред Ним. — Князь снова посмотрел на сыновей. Замкнулись сыновья. О Чем кто из них думает, пойми теперь! Да и не нужно ничего, поздно понимать, а скажи как есть. Он и сказал:
— Перун сожжен. Курганы заросли. Мы, племя Бу–сово, когда–то жили здесь и на Днепре, на Ильмене, а ныне только здесь живем. Пусть так! А мог я, Ростислав… Да вот Давыд тому свидетель!.. Мог я сесть на новгородский стол, звали меня, и я рядом стоял с дружиной, а Глеба новгородского волхв покарал, упал он, огнем взялся, кольчуга на нем плавилась — такое вот было знамение. Вече новгородское кричало мне: «Приди, Всеслав!» И ты, Давыд, ты тоже призывал. Но не пошел я! Знал: для того чтоб крепко сидеть на том столе, должен буду от креста отказаться и вцовь Перуна вознести… Однако что минуло — умерло! Да, много я грешил, ту же Софию Новгородскую разграбил, сжег. А тут… Бог спас! Ушел я от искуса. И по сей день радуюсь. И из Смоленска я ушел, тебя, Давыд, увел и тоже рад. Ибо прозрел: оставил Бог нам только Полтескую землю. Ничего, и на ней проживем… Проживете! Вы проживете, а не я, ибо устал я, ох устал! Уйти хочу…
— Отец! — опять крикнул Борис.
Всеслав руку поднял, замолчал Борис. Рука легла на стол, пальцы свело и отпустило. Князь продолжал:
— Я опять о минувшем. Когда подрастали сыновья, отец отправлял их варяжить, возвращался один… И смуты не было. А я сказал: «Мы не поганцы, мои сыны на свою кровь мечей не обнажат, я не боюсь своих сынов, они сами решат, кому из них на мое место сесть». Я говорил так?.. И этот срок пришел, чую я, мало мне осталось, очень мало. И, уходя, хотел бы услыхать, кто сядет в Полтеске. Как вы присудите, так и будет… Вот, крест на том! — Всеслав перекрестился.
Сыновья молчали. Тогда Всеслав сказал:
— Давыд, ты старший, говори.
Давыд отвел глаза, смотрел на Глеба. Он так же смотрел тогда, когда Секал дошел до Выдубич, а ты дал не ему, Давыду, но Глебу, младшему, венец Владимиров. Только в то время Глеб ничего не понял, а ныне он… Пресвятый Боже, что я натворил?! Лучше уж пусть при мне, я, может быть, не допущу…
— Давыд, ты не молчи!
— А я и не молчу, отец. А говорю: не тот сегодня день. Сегодня нужно о другом рядить: с чем выходить на вече, что им сказать…
— То я скажу. Да и все уже сказано им. Но молчат! И завтра промолчат! А ты нам ответь!
Давыд погладил щеку, шрам, сказал:
— Опять отвечу: не срок. Тень меж нами бросаешь, отец. Кого б ни присудили мы, а ни к чему это сегодня. Завтра на вече выходить, надо, чтобы все заодин, а так…
— Что «так»?
— А ничего. Добра с того не будет. И знаю я, чего ты ждешь! Чтоб я сказал: надо, как у них, всходить по лествице, а коли я старший, так мне и садиться. Только они, находники, нам не указ, мы сами по себе.
— Ого!
— Да, отец, по себе.
— Вот даже как! Это тебя Мономах надоумил?
— Мономах или нет… А я одно скажу, и только от себя л за себя: я в Полтеск не пойду, мне Витьбеска довольно. И не проси, отец!
— А я и не прошу. — Всеслав улыбнулся. — Сегодня вам решать. Как братья твои скажут, так и будет.
— Братья! — Давыд рукой махнул; и ладно, что еще не засмеялся, но вдруг в лице переменился, покорным стал, кротко сказал: — Воистину, чего все я да я? Братья и скажут. Вот хоть бы Глеб. — И посмотрел на Глеба.
А Глеб к Давыду и не повернулся, произнес:
— Я после Давыда крошки подбирать не стану. В Менске сидел и буду сидеть. Мало будет земли — пошцу. Благо есть где искать. А здесь… Вон, пусть Борис садится. Ты ж нам говорил, что он всех нас умней. Пусть ум и покажет. Борис!
Все посмотрели на Бориса. И тот, как старший младшему, сказал:
— Коль просишь, Глеб, так я и покажу. Ты даже при своем уме идти сюда не хочешь, а я да при своем — тем более! — И так сжал кулаки, что даже пальцы хрустнули.
Глеб потемнел лицом и еле выдавил:
— Ну, братец!..
— Да, братец я тебе. Давыду тоже братец. Но лишь сяду я на Полтеске, вы про мою кровь тотчас забудете!
Вот каков Борис, не промолчал. Дождался ты, Всеслав…
— Борис! — тихо сказал Всеслав. — Ох, негоже, Борис! От тебя такого не ожидал.
— Чего, отец?!
— А ничего.
Молчали все. Вдруг Ростислав сказал насмешливо:
— А я ведь тоже братец. Тоже младший. И тоже ум имею, хоть небольшой, да свой. И тоже буду говорить, хоть ты, отец, не хочешь. И я скажу: я тоже в Полтеск не пойду!
Всеслав не выдержал: ишь как ощерился сынок — и осадил:
— А собирался ведь!
— Нет, и не собирался.
— А с Хворостенем что?
— А с Хворостенем просто. Не я сюда, а он ко мне придет. И не один, с дружиной. Нам под Софией делать нечего, да ты и сам же говорил, мне в нее ход заказан.
Пусть заказан! У меня Кукейна есть, есть море, Варяжское, зато оно куда поболее, чем… вся твоя земля!
— Ну, сын!..
— Да, сын. Такой вот сын, такой, какого ты вырастил. Что на уме, то на устах. Не как у этих. — Ростислав посмотрел на братьев, хмыкнул, опять заговорил: — Не про Бориса я, Борис хоть и умен, да не князь. Про Глеба я! И про Давыда. Глеб сел бы на Полтеске, и Полтеск его принял бы. И принял бы Давыда. Да боязно братьям садиться, вот и кривят они душой, не говорят, чего страшатся, а я скажу: они еще не знают, какое наследство ты им оставляешь!
— Как это так?!
— А так. Ты вчера брата Владимира встречал, ряд с ним держал, крест целовал…
— Не целовал!
— Не целовал, пусть так. Но ряд держал. Вернулся с ряда и молчишь. Им ты не говорил, рабам своим, а нам, сыновьям твоим, почему не рассказал? Ведь если вдруг что… а Мономах потом придет и скажет: ваш отец мне то и то сказал и то и то мне обещал… А у кого тогда спрашивать, Так это было или нет? Ты ж сам нам говоришь: когда Она придет, никто не знает…
— Да, никто! И никогда!..
Князь, князь! Охолонись! Гнев не советчик! Лжет Ростислав, и все они, поганые, такие, он затаился, ждет… А ведь прав! Да как же это я…
— Да, — тихо сказал князь, — никто из нас не знает, когда Она придет, то правда. Что Мономаха же касается, я от вас никогда ничего не таил и сейчас не таю. Да, был здесь Мономах. Еще зимой был от него гонец, брат Мономах передавал, что надо б нам сойтись да порядиться, и звал… на Ршу! А я на те его слова ответил, что я на Рше уже бывал и там с его отцом сходился, а после мы — я, и отец его, и Изяслав, и Святослав — подались по Днепру на Киев, но то давно было, тогда я крепок был и цепи оказались мне не в тягость, а нынче стар я, немощен, и никуда я уже больше не ходок, а посему не обессудь, брат Мономах, сам приходи ко мне, коли не страшно, а то пришли посла или гонца. Брат обещал прислать посла… Но сам пришел! — Князь замолчал, передохнул, оглядел сыновей и вновь заговорил: — Но что брат Мономах от Полтеска хотел, того он так и не сказал. А рассказывал всякие безделицы: о том, что оба мы Рогнедичи, что нужно заодин на Степь идти, чтобы свеча не погасла… А ведь не для Того он приходил, не для того! Почуял я! И не ошибся. Ведь так, Давыд? О чем ты с Мономахом ряд держал всего два дня тому? А? Что молчишь? Крест целовал? Ведь целовал же?! Говори!
Давыд окаменел. Он не дышал даже. Но глаз не отводил. Страх и ненависть в глазах его светились. Давыд, князь, твоя кровь и твоя плоть, и зверь в Давыде, как в тебе, сидит, и гложет его, и рвется зверь…
Не выдержал, опустил веки Давыд. Снова посмотрел, глаза уже пустые, — не отрекся:
— Да. Целовал.
— На что?
— А как и Глеб.
— Глеб?! — Всеслав на Глеба глянул, тот не шелохнулся, и опять на Давыда. Давыд сказал:
— Да, как и Глеб. Ты Глебу не перечил, так не перечь и мне.
…Что ж, чем проще слова, тем они страшнее. «Не перечь!» Князь головой повел — жар в гриднице, не продохнуть; и Игната уже нет, а натопили как! Бережко небось старается, другие разве б так… Князь ворот расстегнул, губы облизнул. Глеб улыбался. Улыбался Ростислав. Борис сидел словно неживой, Давыд — зверь, князь, такой же зверь, как и ты сам.
— Так… Не перечил, говоришь, — хрипло сказал Всеслав, откашлялся, не помогло, просипел: — А в чем я не перечил Глебу?
— А в том, что он Марию взял, дочь Ярополкову. Тогда брат Ярополк был твоим наизаклятым врагом, а ныне — Мономах.
— И ты, Давыд…
— И я. Глеб взял Марию… Ну и я возьму Марию! Дочь Мономахову. На том и целовали крест.
Ростислав не удержался, проговорил елейным голосом:
— Была одна Мария, Глебова, а скоро и еще одна придет — Давыдова Мария. Вот радость–то!
Все словно не расслышали, промолчали. Вот как все обернулось, князь, объехали тебя, переклюкали! Бог не дал дочерей, зато невестки — все от змеенышей! Прав Мономах, и еще как! Не отпустила тебя Русь и не отпустит, и если не ходил ты в Степь, то сыновья твои пойдут, и в Любеч тоже, а там их, как Василька, встретят и…
Тьфу–тьфу! Перекрестился. Совсем забыл, что не один он здесь, громко сказал:
— Пресвятый Боже! Я ж, ты знаешь… — Язык сковало, руку свело. Смотрел на сыновей. Альдоны давно нет, сыновья твои — и Ростислав даже — уже поседели, за сорок им, но все равно сыновья, как дети малые, ты им отец, ну и будь, князь, отцом, тень не бросай на них и не гневись, а то: «Опять?! Всеслав!» Нет, не опять, душа моя; солнце мое, стар стал, слезлив, глупею да слабею… Махнул рукой и опустил глаза.
Давыд заговорил тихо, упрямо:
— Да, целовал я крест. От слов своих не отступлюсь. А что? Вот у Бориса сыновья, у Глеба сыновья, и даже у тебя, — кивнул на Ростислава, — пусть некрещеные…
— Крещеные!
— Ну и крещеные, пусть так. А я? Мне что, так уйти? И все? Словно не было Давыда! Потому и беру я Моно–махову. Бог даст, будут сыновья. Да, будут, Ростислав, не щерься! А первенца — все слышали?! — назову в честь тебя, чтоб ты знал!
— Запомню, брат.
— Запомни!
«Князь Ростислав Давидович». Вздрогнул Всеслав, как обожгло его… А Ростислав засмеялся:
— Вот это славный день! Дочь Мономахову сосватали. Теперь и Полтеск–град, град–господарь, сосватать бы. Бери и град, Давыд. Такой сегодня день!
И тут неожиданно Глеб встал и сказал:
— А ты бы помолчал! Ты не в варягах, брат! Да и не пьян еще!
Вскочил и Ростислав:
— Да, не пьян!
— Я рад тому! Не часто это, брат, бывает.
— Брат?! Я…
Тут и Борис вскочил, схватил Ростислава.
Вскочил и Давыд. Но ничего он не сказал, а только смолкли все и замерли. Потом Давыд сказал:
— Неладно получается. Ряд это или что? А коли ряд… так надо и рядиться. Так, брат?
— Так, — согласился Глеб. — И я уже сказал. И ты сказал. Сказал?
Давыд кивнул.
— А ты? А ты?
Борис кивнул. И Ростислав.
Все они теперь смотрели на отца. Теперь они все заодин, все четверо, чего еще желать тебе, Всеслав?! И ничего они тебе не говорят, да и не надо говорить, и так понятно: ты тень меж ними бросил, ты принуждал их наговаривать один на другого… Зачем, Всеслав? Разве то по–христиански? По–христиански так: лег, отошел, отвезли тебя — в санях! — и погребли, а потом сошлись сыновья, поклонились старшему из них, встали при стремени… А ты как зверь, всю жизнь как зверь… Прибыли все они, сыновья твои, и встали заодин, а ты — снова волк–одинец, как настоящий князь… Ну так и поступай, как должно настоящему князю! Ну, говори, Всеслав!
И он заговорил:
— Ну что ж, послушайте. Горько мне, гадко! Не так я чаял с вами свидеться. А на кого кивать? Сам виноват. Ибо за всю жизнь ни к тем я не прибился, ни к этим. Одну Софию выстроил, другую сжег, разграбил. Один мой сын ушел в Святую Землю, другой… — На Ростислава глянул, помолчал. — А вот еще. В храме стою: все молятся, и я молюсь, произношу те же слова, что и другие, а на душе… О Бусе думаю, о тех, кого сожгли и пепел над Двиной развеяли… А вот еще люблю я вспоминать, как не вошел я в Новгород, грех на себя не взял, горжусь собой, любуюсь… И корю, и на чем свет стоит кляну, и ругаю себя: Всеслав, что ты наделал, да это если б на охоте лук ты натянул… Вот какова душа моя! Узнал сейчас я, что Ростислав и Хворостень стакнулись, черное задумали… А и не знаю, как мне быть! Поклоны бью, прошу, чтоб просветил, чтоб укрепил меня Господь, а Он молчит! И знаю, надо уходить, зажился я, мешаю всем… — И в полный голос закричал: — А не уйду! Не уйду, пока не передам то, что мне отец передал!.. — И снова тихо, кротко продолжал: — И пусть земля наша не так обильна и обширна и Полтеск–град лжив и своеволен… Но это наш крест! Отец нес его, и дед, и все, от Буса начиная. И вам нести. Вам! — Улыбнулся князь — печально, головой покачал. — Не всем, а только одному из вас. А кому, и сам не знаю. По–христиански, надо бы Давыду, он старший сын. А если по Бусову обычаю, то Ростиславу. Он варяжить ходил и вернулся, а тот, кто не ходил, тот и вовсе не сын. Выходит, Ростислав, захочешь прошлое вернуть, но прошлое, каким бы оно ни было, ушло и умерло, а умерших нам должно только почитать, возвращать нельзя, покойники с собою только смерть приносят. Прости, Ростислав, но не сидеть тебе на Полтеске. А Хворостень… Бери его со своей дружиной. Еще коней я дам, мечей. Возьмешь?
Ростислав кивнул. И был он тих и кроток, давно его таким не видели, а может, и никогда не видели…
— Теперь Давыд, — обратился Всеслав к старшему сыну. — Не верю я, чтоб ты, Давыд, только о свадьбе с
Мономахом говорил. Нет. Знаю, о чем ты думаешь, Давыд: женюсь на Мономаховой и буду с Мономахом заодин во всем, чего бы он ни пожелал. Святополк, Великий князь, не вечен, год, два, ну, пять пройдет, сядет Мономах на Киеве, и я с тестем Мономахом опять же буду заодин, и начнем в Степь ходить, на Ростисла–вичей, на Святославичей, в силу я войду, а Мономах силы растеряет, и с ним мне справиться легко будет, с Мономахом я и сам взойду на Место Отнее: отец мой там сидел, был на нем венец Владимиров, будет он и на мне… Но все произойдет не так, Давыд. Ты прежде не на Степь пойдешь, и не на Ростиславичей, и не на Святославичей… а на Всеславичей! Ибо на них, родных братьях твоих, прежде всего и станет Мономах тебя испытывать. А испытав, покличет тебя в Любеч, как Василька. Потому что не нужен ты уже им будешь на Руси, там и без тебя князей хватает. А посему хоть то и не по–христиански, но не сидеть тебе, Давыд, после меня на Полтеске. В Витьбеск иди, как сам о том сказал!
— А и пойду, — глухо сказал Давыд. — Из Витьбеска оно до Киева поближе будет.
— Дай–то Бог!
Опять надолго замолчали. И завтра они будут молчать здесь, в гриднице, а ты, Всеслав, будешь лежать, как и отец когда–то лежал; ты стоял у печи, подойти боялся, и Кологрив шептал тебе: «Там хорошо, река молочная, медвяные ключи, там смерти нет, если убьют, наутро просыпаешься и снова меч берешь…»
Князь головой мотнул, перекрестился.
— Теперь Борис.
— Нет! — перебил Борис и встал.
Князь посмотрел на сына и сказал:
— Что ж, нет так нет. Садись, Борис.
Сел Борис, отвел глаза. А если б кто и смог содеять то, ради чего… Нет, князь, забудь, давно забыть пора; что не дано, то не дано, не Мономахи мы. И наш Борис — не тот Борис, тот так на Ниве и лежит неприбранный.
И посмотрел Всеслав на Глеба. Вот и решилось все само собою, осталось лишь подтвердить.
Да не говорилось! Почуял, что ли, ты? Да нет как будто, Глеб смотрит на тебя, глаза его чисты, замыслы его давно ты знаешь, князь: Глеб Ярослава Ярополчича не принял, в подмоге отказал, и оттого Угрим уже зимой к тебе ходил и по весне снова был. Угрим Менск миновал, а Мономах бахвалился, мол, Глебова тебя держала на Руси и далее удержит; знал бы он, что Глебова родному брату отказала, ибо от Буса мы и сыновья ее от Буса!.. Ох, Господи, грешны мысли наши. Быть Глебу после Всеслава в Полтеске. Притих Давыд. Глеб глаз не отводит.
— А ведь на мне есть грех, отец.
— Какой? — спросил Всеслав, оборвалось все внутри, огнем запылало, зверь начал урчать.
— Такой! — Глеб недобро усмехнулся. — Грех, как и все грехи… Угрима я перехватил!
— И что Угрим? — тихо спросил Всеслав и затравленно посмотрел на сына. А как внутри пылает все, как жжет!
— А ничего Угрим, молчит. И потому я удержал его. На цепь посадил.
— На цепь! — Всеслав закрыл глаза. — Значит, не дошел Угрим до зятя нашего?
— Нет, не дошел.
Глеб отвечал ровно и спокойно. Всеслав открыл глаза. Глеб сидел, в себе уверенный, на братьев не смотрел, лишь на отца, но так, как сам ты, князь, вчера смотрел на Мономаха… И ладно бы! Но Глеб еще сказал:
— Вот ты тут про Давыда говорил… Да ты и раньше нас убеждал: мы — сами по себе, Русь — по себе… Тогда зачем нам Ярослав? Кто он такой? Великий князь не дал ему, изгою, волости, он убежал, перехватил Берестье, Великий двинул на него… Ну пусть и сходятся! Пусть рубятся! И пусть Угрим в Менске сидит, не бегает; не наше это дело!
— Сидит! — Всеслав вздохнул. — Когда бы всем нам можно было отсидеться!.. Да и потом Угрим вам мог обсказать, что я ему велел. А я сказал: мечей не дам, и сам на Святополка не пойду, и чтоб Ярослав в ляхи подался^ там переждал. Вот как все было, Глеб!
Глеб головою покачал, сказал:
— Не знаю я, не знаю. Угрим молчал. А Неклюд не молчал!
— Неклюд?!
— Да, тот самый Неклюд, которого ты посылал к Святополку.
… — Ты и его перехватил, Неклюда?!
— Нет, Неклюд сам ко мне пришел и сам все рассказал. Я ночь не спал, думал, что же это деется, опять отец на Русь идет!
— Ох–х, Глеб! — Князь только рукой махнул. — Ох, до чего ж ты… прост! Да, я послал Неклюда. Да, я велел, чтоб он Великому сказал, мол–де, Всеслав и сыновья его идут на Туров… Мы что, идем? Мы здесь! — И кулаком о стол ударил. — Мы здесь сидим! Открой глаза, сын мой Глеб!
— Открыл, давно открыл, отец. И уже сорок лет смотрю. Ты думаешь, все кругом слепцы, ты один прозрел, и видишь всех насквозь, и чуешь всех, ибо ты волк, а мы все… Нет! Не веришь, послушай. Скажу я тебе о том, о чем ты никогда и никому не говорил, ты, может быть, и сам себе не признавался, а я теперь при всех скажу. Сказать?
— Скажи!
— И говорю! Ты решил: и Ярослав Ярополчич мне враг, и Святополк мне враг, оба змееныши. И пусть змееныши грызутся, ослабеют. Святополк сильней, чем Ярослав, потому я Ярослава поддержу, но не мечом, а словом, и этого змеенышу довольно. Он, змееныш Ярослав, в ляхи уйдет, потом вернется, но не один уже, а с ляхами, может быть, и Ростиславичи пойдут с ним заодин, и начнется смута на Руси великая. Русь кровью истечет, это Полтеску во благо, ибо тогда никто уже из них на Полтеск не пойдет, не до того будет Руси. Русь — медведь, жить под боком у медведя небезопасно и боязно, не ровен час — придавит, но это если сила у медведя есть, если же кровью начнет истекать, заляжет, так почему бы мне…
— Глеб! Не о том ты говоришь. Я про Угрима спрашивал. Зачем Угрима взял?
— Затем и взял, чтоб к Ярославу не пошел. Пусть Ярослав своим умом живет и пусть своим мечом себя защищает. И Неклюду нечего ложь разносить, чтобы на день, ну, на два погоню задержать, пусть Святополк сам решает, как поступать с племянником, не наше это дело! Ведь говорил же ты, крест целовал на том, что больше ты на Русь не пойдешь. Посмотри на Давыда, не ты ли сына своего так пометил за то, что он Смоленск перехватил?! Так это или нет?!
Молчал Всеслав. Давыд ладонью шрам прикрыл, глаза его — словно два клинка.
Встал Глеб:
— Да, так оно и есть, отец, опять на Киев смотришь, опять сети плетешь, опять копьем на Место Отнее…
— Нет!
— Да! — И кулаком о стол грохнул, совсем как ты. — Да! Да! А коли так, а коли крест ты преступил, какой ты князь?! Сойди, Всеслав! И не ввергай нас в смуту! Мы смутами сыты! — И Глеб рукой по горлу резанул, сел.
Ростислав подал ему вина. Глеб выпил. Борис смотрел поверх голов, небось молился… Вот так ряд! И встал Всеслав, сказал:
— И вече говорит: «Сойди, Всеслав!», теперь и ты… А и сойду! Устал я, спать хочу. А вы… Я от слова своего не отрекаюсь. Решайте, кому быть после меня. Как приговорите, так оно и будет. Вот крест на том! — Всеслав перекрестился. Пошел, в дверях остановился, сказал: — Бережку не забудьте покормить. И… вот еще. Проснусь, в мыльню пойду. Велите, чтобы натопили жарко и чтобы трав поболее, чтоб крепкий дух стоял! И чтобы приготовили все чистое да новое… Бог в помощь!
Пришел к себе, свет не зажигал, лежал. Темно было. Эта ночь — твоя последняя. А как легко о том подумалось! Говорят, должно быть страшно уходить, покидать этот мир. Нет, совсем не страшно. Свершится, ну и ладно, как будто и не тебе это все предстоит. Вот Глеб сказал тебе «Всеслав», сын родной, а обратился, как к чужому. И говорит «сойди»! А сам всходить не хочет. И ведь сказано не из–за красного словца, никто из них, всех четверых, и впрямь не хочет садиться в Полтеске. А все из–за гнева. Князю гневаться нельзя… А кто есть князь? А что есть власть? Вот как–то решили дерева избрать себе царя и предложили смоковнице: царствуй над нами. Ответила смоковница: оставлю ли я сладость мою и хороший плод мой и пойду ли скитаться? И не пошла. Так и маслина не согласилась. И виноградная лоза… И лишь один терновник принял предложение, но приказал: коль вы воистину поставили меня царем своим, так идите и станьте под тенью моею…
Когда Георгий уходил, он сказал: я не терновник!
А ты терновник, князь? Терновник вон какой, всего–то ничего в нем росту, и чтобы стать под ним, кедры ливанские должны были пасть ниц — и пали. Но и тогда их вздыбленные корни тенью своею укрыли тот терновник, и разъярился царь деревьев, и напустил огонь мщения — и всех пожег! И будет еще жечь! И будут в Любеч звать якобы на ряд, и будут вынимать глаза, как у Василька. А ведь и ты был зван туда!.. Да отказался ты, а Василько поехал. И там сошлись они, князья, их было шестеро, а ты бы был седьмым… опять седьмым! Сошлись они, и поделили Русь, и целовали на том крест, и мир меж ними был… И нож! Увидел Святополк, что он в тени Васильковой. И как разъехались они все шестеро из Любеча по волостям своим, поехал и Василько в Теребовль, дорога через Киев шла, и там гонец
Великого князя его перехватил и в терем свой призвал, Василько, не ведая предательства, пришел. В тереме сидел Давыд, сын Игорев, внук Ярославов, Святополк. Великий князь Василька ласково встречал, а Давыд тихо сидел, это он нашептал о тени той, Святополк поверил, затаился. Василько пришел к нему как к брату, и пил, и ел, а Святополк вдруг встал и вышел, следом вышел Давыд. Произошло то в день Святого Михаила, на именины Святополковы: гриди вошли, расстелили ковер, повалили Василька и, сняв с печи доску, придавили его доской, насели, а торчин подошел с ножом…
А что за тот навет Давыду было? Да ничего! Покаялся Давыд, и то только в прошлом году. Ему за покаяние один брат двести гривен дал, второй и того больше отвалил. А что Васильку? Тоже ничего! Была у него, вотчина — и той слепца лишили. И так же случилось бы и с тобой, Всеслав, приди тогда ты в Любеч. И то же ожидает и сыновей твоих…
А тихо за стеной! Ушли они к себе, сыновья, там и рядят, поди… Слышал ты, как приходит Важен, служек приводил, прибрали со стола, и тишина наступила. Ночь в тереме, все спят, один Бережко ходит взад–вперед и нюхает, а не найдет ничего, придет ко мне, к хозяину, а я ему скажу…
Суетлив ты, князь, все ловчишь! Мыльню топить велел, в мыльню пойдешь, но ведь не для того, чтоб чистым положили, а чтобы дух звериный отбить. И для того же велел побольше трав в мыльне напарить, чтоб ясным духом пахло, чтоб кони не почуяли, не понесли, не веришь ты, что сыновья твои поступят, как ты велел… Да и можно ли верить им теперь?!
Думал ты Глебу все передать. А нынче как поступишь? Лжет Глеб! И ничего не знает и не видит: слеп он! Когда б я желал того, о чем он говорил, когда бы и Она еще не приходила, все равно не бывать мне в Киеве, не сесть на Место Отнее — больно много сказано и еще больше сделано за эти тридцать с лишним лет. Если б я опять сидел в том порубе, нынче не пришел бы Киев–град ко мне, не вызволил бы и не понес к Софии. Теперь всем ведомо, что волк я…
А и волк! А Русь — медведь. Ты еще прозреешь, Глеб, все будет так, как я того хочу, поскольку сын для отца — стрела, отец же — лук, и лук крепко натянут, ибо рука, его держащая, — весь наш род, от Буса начиная. И знает род: когда добыча далеко, лук нужно поднять чуть выше, пусть кажется, будто стрела в небо уйдет, да не
так это — она на излете и сразит, только б силы ей хватило доспехи пробить. Доспехи у Мономаха'за двенадцать лет… — ты сам ему пророчил — но до того ему еще надо взойти по Святополку и только потом уже двенадцать лет сидеть на Киеве. Да он когда еще взойдет! А I Глебу уже сорок, а прочим сыновьям твоим и того I больше. Может, Глеб и прав: все это суета, мы — сами по себе, Русь — по себе. И, может, это Бог повелел и снова спас тебя, сын твой гонцов перехватил — и смуте не бывать. И нет греха, и радуйся! Ведь радовался ты, когда преодолел искус и не пошел садиться в Новгород, крест поправ. Уймись, Всеслав, зажился ты на этом свете, и семь дней, которые ты выпросил у Нее, — великий грех. Она ведь говорила: князь, смирись, всем надо уходить в свой срок. И если б ты ушел сразу, то не принял бы Угрима, Неклюда не отправил бы гонцом, Неклюд не побежал бы к Глебу, а Глеб, придя сюда, не сказал бы: «Сойди, Всеслав!», он бы другие слова произнес.
Тишина. Ночь в тереме. Все спят. Бережки и того не слышно. В красном углу лампадка чуть мерцает. И если ты встанешь и подойдешь, то ничего тебе не рассмотреть — лик черен и строг. Рассказывали, в Софии Новгородской писали иконописцы на куполе Спасителя, написали раз, написали два, с рукой благословляющей, утром придут, а Он с рукою сжатою, они опять берутся переписывать… И так продолжалось три дня, а на четвертый день вошли, Он опять со сжатой рукой и говорит им: «Не пишите меня с благословляющей рукой, пишите со сжатою! Я в этой руке держу град Новгород, а когда рука моя разожмется, тогда и придет \ граду сему конец!» Убоялся ты, Всеслав, руки Его и не | пошел в третий раз на Новгород, и по сей день ты рад J тому, так радуйся и нынче, гонцов «твоих перехватили, поскольку Его рука тебя везде настигнет. Лик черен, строг, лампадка еле мерцает. Ночь в тереме, и эта ночь — твоя последняя. Встань, князь, иди! | И встал, босой, в одной рубахе, держась за стену, как слепой, пошел. Страшно было, ноги подгибались, вот и держался, чтоб не упасть. Вышел в гридницу. В печи f. уголья теплились. Всеслав стол обогнул… I А половицы не скрипели! Перекрестился он, дальше | пошел. Наконец дверь в сыновью гридницу. Слышны I голоса. Не спят, рядятся. С тобой не пожелали разгова–I ривать, князь, тебе ответили: не хотим. А сами вон… I Толкнул дверь рукой, она не поддалась, оказалась К закрытой. И надо б постучать, окликнуть, но стоял и
слушал. Не подслушивал, просто слушал голоса. Вот Глеб сказал… Давыд ему ответил… Заговорил Ростислав… Снова Глеб… И говорит, говорит… Опять Давыд. Не слышно лишь Бориса. Он небось лежит; он у окна, в дальнем углу. Борис когда узнал, что Георгий ушел, то сказал: и я пойду. Ты разгневался, и он остался. Борис — не князь. А Георгий ушел и пропал; грех на тебе, Всеслав, не смог остановить сына, слов не нашел, а был бы нынче здесь Георгий…
Перекрестился князь. Стоял, слушал голоса. Вот любо как! Сошлись — и не кричат они, рядятся, и хоть и слов не слышишь, князь, да чуешь, нет меж ними тени, и на душе твоей легко, зверь спит, он тоже ничего не чует, и можно дверь толкнуть сильней, можно окликнуть — и откроют. Только зачем? Уже шесть дней прошло, один тебе остался. Она сказала: всем свой срок. Уйдешь — само собой решится, кому они присудят, тот и сядет, ты сам так им сказал; уйди, князь, не мешай.
И он пошел к себе. Тихо, как тать, крался в своем дому! А на душе легко. Вот если бы еще Геор… Замер! Половицы скрипнули. Стоял и не дышал…
Ночь. Тихо в тереме. И только из сыновьей голоса…
Крест сжал в горсти, тихо спросил:
— Кто здесь?
— Я, князь… Батура.
Да, это он. Стоит в дверях.
— Ну, что еще?
— У Любима сошлись. И кричат.
— А что кричат?
— Собираются сюда идти.
— Пусть кричат. Чем нынче больше покричат, тем завтра тише будут. Митяй висит?
— Висит.
— Ступай.
— А…
— Я сказал: ступай! Ночь — волчье время, а не песье.
Повернулся князь, пошел к себе и лег. И не знобило,
легко было. И страх ушел. Чуял, Она тоже ушла. Думал: хорошо, что не призвал тогда Борис Иону, а то было бы шуму. Любим возликовал бы: соборовали, вот завтра бы на вече он сказал… А так кричите там, визжите хоть всю ночь, а сунутся не посмеете! Пришла Она, Игната прибрала, за ним и ходила, а я… Жив я, и не было Ее, привиделось, да разве так бывает, чтобы пришла Она, да говорила с кем, да торговалась, как купец, — семь дней, не семь! И…
ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
1
Мрак, тишина, ветер дует, жаркий, летом в степи и ночью жар… А может, это и не степь, в степи ковыль растет, а здесь… Наклонился, ощупал… А ничего тут нет, только камни да песок! И ничего здесь не вырастет, земля сухая, мертвая. И небо черное: ни луны, ни одной звезды, да и не бывает их в этом месте, здесь — ничего, никого, только ты. Иди, Всеслав!
Хрустел песок. Шел наугад. Может, прямо шел, а может, плутал — ведь ничего не видно. Тяжело было идти. Ветер горячий, и от земли зной, как будто ты не по песку, а по огню идешь, но от огня хоть свет. Увязал в песке. Ноги гудели. И лег бы, да негде лечь — изжаришься. Снял шапку, выбросил. Еще прошел, снял корз–но, тоже выбросил, оплечье снял — и под ноги его. Прошел немного, меч достал. Стоял и размышлял… Ножны, пояс выбросил, а меч в руке держал. А меч тебе зачем? Ведь никого здесь нет, брось меч, Всеслав! Ведь ты один здесь, брось!
Не бросил. Шел, спотыкался, тяжело дышал. Во рту все пересохло, пот застилал глаза, и хорошо, что никого вокруг нет и ничего не видно. Однако чуял: дойду и все увижу, ибо Тот свет…
Остановился, меч опустил, протер глаза…
Да, свет, но ох как далеко, высоко над землей, чуть видимый. Ну, князь! Иди!
.. Лежишь ты, князь, трясут тебя, зовут. Открыл глаза…
Борис. Склонился над тобою, шепчет:
— Вставай, отец! Пришли они!
А ночь еще, не развиднелось даже. И он, Борис, поди, и не ложился. Всеслав закрыл глаза.
— Отец! Вставай!
Опять открыл. Сухо во рту, дерет. Попросил:
— Воды, Борис.
Борис подал воды. Князь пил, Борис его придерживал. Князь снова лег. Смотрел на сына, приходил в себя: да, то вчера было; приехали они… А сон какой!..
Борис опять сказал:
— Пришли они. И мы все ждем. Вставай.
— Сейчас, сейчас… А кто пришел?
— Свияр Ольвегович, Ставр Вьюн, Онисим–староста…
— И он?!
— И он. И Зыч. Васюк. Братья Кичиги.
— Все заполотские?
— Есть и с Окольного. Но больше заполотские. Купцы.
— Купцы! — Всеслав недобро усмехнулся. — Что говорят?
— Молчат пока. И мы молчим. Все ждем тебя.
— Меня!.. Дай–ка еще.
Борис опять подал кувшин. Князь пил долго, не спешил. Вот сон какой, там бы воды!.. А эти… Когда душа в мошне…
Отдал кувшин, сказал:
— Ступай. А я сейчас… Только на стол не накрывайте!
Борис ушел. Князь одевался, ходил по гриднице,
молился. Сон не шел из головы! А ведь пустячный, глупый сон. Натопили в гриднице, не продохнуть, укрылся полушубком — вот и сон. Вещий–то сон снится по–другому.
Пресвятый Боже! Нет! Я спал, глаза мои были закрыты, мой сон — не вещий, просто сон, и Она не за мной приходила, Ее Игнат к себе призвал, ведь так же, Господи?!
Но лик был черен, и лампадка чуть мерцала.
Да и за окном уже светло. Иди, Всеслав, ждут тебя! Князь встал с колен, еще раз широко перекрестился. Приснился — и пусть. Коли на то Твоя воля, то разве убежим мы от гнева Твоего?! Да и отбегался я, Господи, устал, теперь покоя жду…
Они свдели в гриднице — купцы по руку левую, а сыновья по правую, — молчали. Всеслав вошел — все встали, поклонились. Свияр Ольвегович всех ниже спину гнул… Слаб человек! Ведь знаешь, кто он таков, Свияр этот, а все равно тебе его согбенную спину отрадно видеть.
Поклонились они — поклонился и князь. Сказал:
— Будь здрав, град–господарь!
Зашумели. И то! «Град–господарь» им сказано!
Сел князь. Сказал:
— И вы садитесь, град. И вы, сыны мои. В ногах правды нет.
Все чинно расселись. Князь помолчал. И начал, как всегда, издалека, умно, кругами, ибо их, как малых ребят, надо обхаживать:
— Да, правды нет в ногах. А где она? Говорят, пошли как–то раз святой Никола и святой Илья по земле походить — по нашей или не по нашей… Идут они день, два, неделю, две — по городам, по весям, где у хозяина переночуют, а где под чистым небом. Идут… Спрашивает святой Илья святого Николу: «А что, Никола, есть ли среди людей правда? Сколько я ни смотрю…» — Умолк Всеслав, задумался, потом опять заговорил: — На то они святые! А я вот семьдесят и один год ходил и ничего не выходил. И вам, я думаю, так будет. Вы ведь за правдою пришли, так, град?
Не отвечают, не кивают даже. Ждут. Тогда Всеслав сказал:
— Ты говори, Свияр.
Свияр Ольвегович… Одень его в отрепья да на паперть выведи — и будут люди подавать. Шапку надень, корзно — начнут кланяться… Свияр Ольвегович откашлялся, нерешительно произнес:
— Болтали всякое. Мы слушали. Теперь к тебе пришли. Был Мономах здесь?
— Был. Другого дня, на Черном Плесе.
— А что он говорил?
— А всякое… Но о тебе не поминал.
Никто не улыбнулся, даже сыновья. Свияр опять откашлялся, опять спросил:
— Тогда кому нам верить?
— Мне.
— Но ты ж молчишь.
— Да, я молчу. Ибо о чем между нами был ряд, о том и был. Одно скажу, граду Полтеску с того урону нет. И не будет.
— А говорят…
— Что говорят?..
Замолчал Свияр. А Ставр Вьюн — опять он, Ставр! — сказал:
— А говорят, был меж вами ряд, чтоб вече извести. Чтоб жили мы, как в Киеве, Смоленске да Чернигове, — под князем.
Зашумели! Князь улыбнулся, ответил:
— Нет, Ставр, такого ряда не было. А если бы и был, вы разве покорились бы? Ну, привел бы Мономаха я с дружиною его. А дальше что? Вон, дальний брат мой Мстислав Изяславич сюда приходил, кто постарше, тот помнит, и сколько голов нарубил. — Руку князь поднял, показал: — Вон сколько их лежало там… А где он нынче, брат Мстислав? Кто поразил его?!
Помолчали. Всеслав опять заговорил:
— Мстислав прост был, он думал устрашить, дескать, нарублю голов… Но чтобы дух ваш выветрить, тут нужно все пожечь, всех порубить! А что тогда я сыновьям оставлю? Кости да пепелище?.. Нет, Ставр, такого ряда не было. Да и не стал бы я о том рядить. Заведены от Буса князь и вече, пусть и останется все, пока Двина не пересохнет. Я крест целовал, на том и стою — старины не нарушаю и новины не ввожу, ем дедов хлеб. Это вы… Да и не вы, поди, и не об этом нынче ряд. Зачем еще пришли?
Старший Кичига — он дальше всех сидел, в самом конце стола, сказал:
— Ты говорил, что мы тебе не платим. А я платил! Давыд тому свидетелем.
Давыд подтвердил:
— За волоки уплачено, по прошлый год. За этот же…
— Так этот только… — начал Кичига.
— Только, да, — прервал его Всеслав. — Давыд, а с веса он платил? А судные виры?
— А я не судился!
— А брат твой?
Брат молчал.
— Вот так–то, град мой господарь! — насмешливо проговорил Всеслав. — И это только про Кичиг. А с Полтеска? Вот, загибаю пальцы. Виры судные — раз! За восемь лет… Опять же платы с веса — два! Дар с волостей за четыре года — три! Черный сбор…
Зашумели все.
— А что, — спросил князь, — черный сбор — это как? Мне, господарь Полтеск–град, столько воев не надо! Я свои шубу да шапку и сам защищу. А больше у меня и нет–то ничего, не нажил! Все, чем град богат, — все ваше. И мои вой ваше стерегут. За это и платите. Уйду, тогда уже сами рядите, нужен вам черный сбор или нет. Быть может, Мономах — а то и кто другой — вас даром защитит, они на то охочие. Но прежде заплатите мне, и я уйду, с Любимом было все обговорено. Ибо… Не я, а ты, град–господарь, старину нарушаешь и думаешь, что жить без нас, по Зовуну, не так накладно будет. Да накладете, вот вам крест, нак…
Глеб схватил его, а то бы встал да и…
Сел князь, тяжело дышал, зверь в груди рычал, горло рвал, а Ставр смотрел на князя белыми глазами и вспоминал, поди…
А так все чинно было, все молчали. Васюк толкнул Свияра раз, другой… Да и другие уже зашушукали… И решился Свияр, сказал:
— Так то Любим сказал! Любим — не мы.
— А вече? — спросил Глеб.
— А вече, сами знаете, — как море. С севера подует — забурлит! А если с юга, опять же… Слово нужно знать. Так, Ростислав? Ты ж моря не боишься?
— Нет, — Ростислав улыбнулся, — не боюсь. Я и слово знаю и… покупаю я его, море это. Все можно купить, ведь так, Свияр?
Свияр даже с лица спал. А Ростислав сказал:
— Да, покупаю. Как в море выхожу, дигрем ему бросаю. Только и всего! И море… ти–и–хое становится. А если захочу, чтоб ветер был…
— Брат! — перебил его Борис.
Замолчал Ростислав. Зато Давыд сказал:
— Вот мы тут сошлись да рядим. Любима, правда, с нами нет, да он, Любим, свое уже сказал, он не отступится… О море говорим. А моря–то не слышно! — Оглядел их, градских. Они молчали. Тогда Давыд опять сказал: — А море — ти–и–хое! Ибо плывет корабль по морю — и пусть себе плывет. Сцепились меж собою корабельщики, рвут бороды… А морю что с того? Оно от этого не высохнет, из берегов не выйдет. И что амбары ваши затворили и что я не один пришел, а с гридями, надо будет, и вдвое, втрое наведем… ведь не на море, а на вас, град–господарь!
— Давыд! — прикрикнул Глеб.
— А что «Давыд»? Ты что, своих не приведешь, как я привел? А, брат!
Глеб сжал кулаки, уперся ими в стол и, глядя прямо на Свияра, сказал:
— И приведу. Да не на вас. А за отца, за деда, за свой род, за всех, от Буса начиная. Я крест на это целовал, не обессудь, град–господарь!
— И я, — как эхо отозвался Ростислав. Да и привел уже.
— И я! — подал голос Борис, словно боялся, что не успеет свое слово сказать.
Градские ничего не ответили опять. Князь пристально посмотрел на сыновей. Да, все они уже решили, порядились. А посему и не Давыд, а Глеб нынче с тобою рядом сел, Давыд же — вслед за Глебом — уступил, а за ним — Ростислав, Борис — дальше всех. Не спали сыновья ночь, поди…
И снова Глеб заговорил:
— А брат Давыд сказал как есть. Море молчит! Ночью сошлись к Любиму, покричали. А сколько было их? Смех, да и только.
Вот Любим и затаился. А вы почуяли, чей верх, пришли сюда. Ибо известно вам: ваш князь, а наш отец хоть гневен, да отходчив, и старины не нарушал и не нарушит. И если он сказал, что вечу быть, то так оно и будет. А что долги ваши… Так я могу и подождать. До осени. А вы как, братья?
Давыд молчал. Борис молчал.
— Не знаю я! — сказал вдруг Ростислав. — Не знаю! Сегодня они так рядят, а завтра сяк… Я свое не отдам! Не для того я приходил. Мое — положь! — И кулаком об стол! Как ты, Всеслав.
И наконец проняло их! Зашумели. Свияр вскричал:
— Но почему?! Как всем — так всем!
— Нет! — уперся Ростислав. — Не знаю я здесь ничего. Не понимаю! Да и не я один. Там, за морем, надо мной смеются. Мне говорят: ты князь или не князь, вот, тинг у нас, как ваше вече, но… А я не знаю! Морю слово заветное скажешь, бросишь ему дигрем. А здесь все не так… — Рукой махнул, что, мол, говорить!
Опять градские ни слова в ответ. Тогда начал Борис:
— А ведь брат прав. Вот нас здесь не было, а вы сошлись и прежний уговор подрали…
— И не подрали! — возмутился старший из Кичиг.
— Ну, не подрали, не успели. Но ведь отступились от него. А посему вы сейчас уходите, и, как было прежде обговорено, сойдемся уже все под Зовуном, всем градом, большие и меньшие, и Заполотье, и Окольный, все. Там опять будем рядить, составим новый уговор. И тогда мы, Рогволожьи внуки, и откроем амбары, и… — Замолчал Борис, посмотрел на Глеба. Тот сказал:
— Я этого пока не знаю. Откроем или нет… Любиму не открою!
— А что Любим?! — сказал Давыд. — Утром Любим, а в полдень… Ведь сами ж говорили, вече — это море. Так, Ростислав? Так, Ставр? Свияр?
Никто не ответил: ведь все сказано.
Встал князь.
— Град–господарь, идите и скажите: жду всех. И составим уговор. Бог в помощь, град!
И встали градские, пошли. А сыновья сидели.
Встал Глеб. Встал и Давыд. Всеслав остановил их:
— Сидите.
Сели. Всеслав позвал:
— Бажен!
Вошел Бажен. Отдал поклон, сообщил:
— Давно готово, князь. Стемна еще.
Князь головой тряхнул, спросил:
— Стемна? О чем ты это?
— Так мыльня ж, князь. Ты сам велел. Протопили, на травах. Дух там такой, что…
Князь нахмурился. Важен тотчас умолк. Мыльня. Дух. Сани… Нет! Князь сказал:
— Теперь куда уже! Давно стоит. И дух уже не тот, сошел. Нет, не пойду. На стол накрой. Вон, день уже совсем, а мы еще и ложек не держали.
Важен ушел.
В мыльню! Перед вечем. Дурной то знак, чтоб в чистом к вечу выходить. В чистом на рать идут, на смерть…
Когда Она придет, зверь заскулит небось, ведь нам тогда обоим помирать — не только мне. И заскулишь ты, зверь, и страх тебя возьмет, и будешь биться ты, юлить, а я посмеюсь, посмеюсь тогда! Ты сколько лет рвал да глодал меня?! Так я хоть напоследок посмотрю, как ты дрожишь, — и посмеюсь, уж посмеюсь, ого!
Чуть не рассмеялся князь, да спохватился. Служки на стол несли. Хмельного не было — ни меда, ни вина.
Ушли они. Князь встал, перекрестился. И сыновья, даже Ростислав, перекрестились. Князь «Отче наш» прочел, опять перекрестился, сел, взял ложку. Взяли и они.
Ел, не спешил. С такими–то зубами поспешишь! А солнце уже вон как высоко… А сон, приснится же такое! Но то — не вещий сон, глаза мои были закрыты, и так я крепко спал, что ничего не слышал, а ведь Бережко ходил, вздыхал, стены небось опять трещали: есть дух покойницкий, да нет покойника, снесли его, лежит он возле ограды, он о таком и помышлять не смел. Сходить бы надо к нему, когда еще то вече сойдется.
А где отец твой, князь, а мать, а дядя, дед? Сгорел тогда Илья, дотла сгорел, с той поры тебе и поклониться некому, нет их могил, их прах ветер развеял. Есть только бабушкин курган, да ты ведь сам велел забыть о тех курганах, курганы заросли давно, и не бывает там никто.
А скоро полдень, князь! Час пополудни скоро. И если б не Игнат, и не поверил бы, будто Она тогда к тебе являлась. То был сон, был и страх! А нынче не сон, безделица, ну, натопили жарко, и привиделось…
Да! Ложку отложил и мису отодвинул. Сказал:
— Вот ехал я другого дня от Мономаха, думал: зря ногу бил. Ан нет! Мономах и помог: устрашились они… А еще нынче ночью я думал, Давыд… И не о Мономахе, о тебе. И звери ведь имеют норы, и птицы небесные — гнезда, и приходит весна, и прорастает всякое зерно, и даже, сказывают, если есть вера и посеешь песок, то — песок и взойдет, не помню, кто мне это говорил, забыл, стар стал, но верю… Благословляю я тебя, сын мой Давыд, бери Марию Мономахову. А если будет у вас сын, назовите его Ростиславом. Я так хочу, да и сам так говорил. Ведь так будет, Давыд?
— Так, отец.
Давыд был строг и ликом чист, вроде и шрам исчез. А много бы ты дал, Всеслав, чтоб шрам и впрямь исчез? И так все отдал. Сыновья молчат, зверь молчит, только давит, давит. В глазах — круги кровавые…
Князь взял кувшин, отпил воды, поставил. На Глеба посмотрел, сказал:
— Спас ты меня. Рад я, что ты гонцов перехватил.
— Не я, отец.
— Не ты, я знаю. В полу бросается жребий, но все решения его — от Господа. — Перекрестился князь.
И сыновья перекрестились — четверо, трое легко, истово, четвертый же…
— А тебе, Ростислав, — сказал князь, — ничего не скажу. Тебе я уже все сказал, потом вспомнишь. Одно только повторю еще: на море и песок не всходит, помни!
Ничего не сказал Ростислав. А хотел!
А Борис… Сидел Борис, склонив голову, сплел пальцы, чтобы не дрожали. Один Борис все уже понял, князь. И ты еще того не понял, не веришь ты, а он почуял, знает.
— Борис! А что тебе сказать?
Долго молчал Борис и головы не поднимал… но все же посмотрел тебе в глаза, сказал чуть слышно:
— Скажи, что все это не так, отец.
Переглянулись братья, ибо не уразумели. А князь
сказал:
— А я и сам не знаю, так или не так. Все в руце Божьей, сын… — Но спохватился, улыбнулся, продолжил: — Да что же это мы? Вон солнце где уже! А я… вот что решил. Сегодня выйду и скажу, кого я по себе оставлю. Так присудили вы, кого? А?
Не ответили! И в глаза не смотрели: кто в стол, кто в потолок. Нет, князь, не уйти тебе от этого и не переложить на них, сам все должен решить. Ну так и быть тому! Пресвятый, укрепи! Князь встал.
Быстро вошел Горяй, не кланялся, шапки не ломал — не до того было, сразу сказал:
— Сходятся! Везде, по всему граду!
Началось–таки! Всеслав спросил:
— И что они?
— Где как. На Великом Посаде — ох и злы! Их даже эти, Ростиславовы, еле удержали. А заполотские тихие. Но тоже вышли. На Окольном, где Любимов двор, туда мы не прошли: они стеной стоят. Там, слух прошел, гонец из Киева. Вот почему, князь, я поспешил сюда! Из–за гонца!
Князь, помолчав, спросил:
— А что Батура?
— Нет его.
— Как это нет?
— А так. Был Батура — и вышел. Убили его!
— Кто?
— Да они и убили, затоптали. И этот, что с ним был, забыл, как звать его… И его затоптали. Кричали: «Княжьи псы!» Толпа — она и есть толпа, кто подвернется, того и затопчут.
Сказал Горяй без зла, равнодушно, потом перекрестился.
Всеслав спросил опять:
— Ты говоришь, гонец из Киева. Что за гонец? Кем послан? И к кому?
— Не знаю, князь. Мы и гонца того не видели. Там, у Любимова двора, я ж говорю, стеной стоят. Мы дважды подходили. А чтоб в мечи… Н–не смог я, князь. Ведь как–никак свой град и своя кровь… Не обессудь!
Князь, лавкой загремев, вскочил, заходил по гриднице. Долго ходил… А может, и не долго, уж больно тяжко на душе стало. Потом остановился. Сказал:
— Вот что, Горяй. Иди и приведи кого–нибудь оттуда.
— Кого?
— А хоть кого. Один не возвращайся.
Горяй стоял. Князь гневно выкрикнул:
— Чего тебе еще?!
Горяй скривился, противно было, но не выдержал:
— Я–то пойду, мне что?! Но кто я им? Ну, меч при мне, ну, шлем на мне. А так… Никто! Как и они.
Всеслав мрачно кивнул — да, никто, — задумался. Потом сказал:
— Борис!.. Нет, не Борис…
— Я! — Ростислав легко встал.
Ты сам когда–то, князь, так же, как и он… И князь, как выдохнул, произнес:
— Да, ты! — И отвернулся, смотрел в окно, на солнце, думал… Потом добавил: — И вот что, Ростислав. Ты будешь там… как я! Твоя воля — моя. Слыхал, Горяй?
— Слыхал.
— И всем скажи. Идите. Быстрее идите!
Князь повернулся, посмотрел на сыновей. Глеб, Давыд да Борис… Борис мрачнее всех. Да, рано ты меня, Борис, хоронишь.
Сказал Всеслав задумчиво, словно утешал себя:
— Вот как, бывает, обернется… Море!.. Да ничего, ничего, мечей достаточно. Да и Свияр, поди… Винюсь! Стар стал. Ноги не держат. Пойду пока прилягу. А вы, чуть что… Нет, за мной не ходите, я сам. После поднимете! — И, словно хмельной, направился к себе.
А у себя в опочивальне не лег. Сидел, свесив ноги, на ложе. Ноги и впрямь не держали, горели. Разуться бы… Да побоялся, так и сидел, а то придут они, князь босой лежит, в шапке, с мечом — босой. Негоже, князь. Терпи. Ведь разуешься, сразу ляжешь, а ляжешь, сложишь руки, сложишь руки, уже и не разнимешь, и веки сами по себе закроются. Она только того и ждет, Она вон там стоит, ты Ее чуешь, не обманет! И не разуюсь я, не лягу, глаза не закрою. И не ко мне Ты приходила, а к Игнату — и забрала его, я ж не перечил, хоть он и мой холоп… Но больше делать Тебе нечего, я здесь князь, как скажу, так и будет. Пошла прочь! Пошла, говорю!.. Нет, затаилась. А может, это вовсе не Она?;. Да, не Она. Она давно уже ушла, Игната увела. А там, за печкою… Князь вперед подался, прошептал:
— Бережко!.. Бережко!..
Молчит, не отзывается. Немудрено, день сейчас, полдень скоро, совсем скоро, а может, и наступил уже… И снова громко позвал:
— Бережко!.. Бережко!..
Не хочет отвечать. Вот как его сморило! Всю ночь, поди, ходил искал, да так и не нашел…
И засмеялся князь чуть слышно. Добрый это знак, раз Бережко спит. А кабы что, он разве уснул бы?! Он бы пришел и встал вон там, у сундука, и шапку б снял, и сказал, а то и прокричал: «Всеславе! Уходи, зажился ты!..»
Да, и стоял бы около сундука. А в сундуке, на самом дне, в Альдонином платке, завернуты семь бобовых стручков — седмь помазков, ты их здесь же, на подоконнике, сушил лет пять назад, не то семь… Нет, пять. Это когда Никифора брат Святополк возвел в митрополиты, когда все поклонились, а ты отказался. Смел был на словах и в делах… Понимал, что взял великий грех на себя, и оттого положил седмь помазков, чтоб под рукой были всегда, чтоб если вдруг собороваться — так вот они!.. А полдень, князь, пришел уже, и что тебе Любим, с Любимом сыновья управятся. Тебе о своей душе надо беспокоиться. Гонца к Ионе, князь, скорее посылать кого–нибудь…
Встал князь, прошел к божнице, опустился на колени. Пресвятый Боже! Я твой раб. Твой червь. Я… Слезы навернулись на глаза. Плачь, сын, завидую тебе… Поклонился низко, до самой земли. Земной поклон! Так и застыл. Душа моя, солнце мое, грешил я, ох грешил, но перед тобой всех более.
Темно, ничего не видно. И хорошо, что темнота. Зачем слепому свет? Встать нет сил, а и вставать зачем?! Придут, ты — перед божницей, в шапке, с мечом…
Ох–х, грех какой! В последний час о чем ты, князь, думаешь? Видно, больше тебе не о чем и думать. Встань, не юродствуй, не позорь себя. Пуста душа — так и не кланяйся. Встань!
Встал. Походил по горнице, посидел на ложе, посмотрел в окно. Время шло, никого во дворе не было, пуст он был. И ты опять склонялся перед божницей…
И вдруг — топот! Скачет кто–то. Подъехали, взбежали по крыльцу. Идут… Шум в гриднице, Борис что–то говорит.
Встал князь, перекрестился, вышел к ним. Горяй и Ростислав Ширяя привели! Ширяй весь в пыли, без шапки, смотрел затравленно. Но страха в глазах не было.
Князь медленно прошел, сел во главе стола, кивнул.
Рванули Ширяя за руки, бросили на пол. Он повозился, встал на колени, так и застыл.
— Ширяй, — обратился к нему Всеслав, — посмотри на меня.
Ширяй поднял голову, посмотрел, без страха и беззлобно. Всеслав спросил:
— Что скажешь?
Ширяй ответил:
— Я сам к тебе пришел. Любим Поспелович велел — я и пришел. А эти перехватили по дороге.
— Это — не эти, а сын мой. И мой боярин. А ты — мой раб. И твой Любим — мой раб. А коли сам пришел, так говори зачем.
— А затем, чтоб сказать: нынче мы не пойдем.
— Мудрено говоришь, Ширяй. Скажи ясней.
— Куда еще ясней? Не будет нынче веча. Не хотим.
Молчал князь, ничего не говорил. Смотрел на Ширяя,
однако не видел его. Кто он такой, Ширяй, и кто Любим, когда вон солнце уже где, полдень, поди, уже наступил…
Ширяй сказал:
— Как было обговорено? Как сойдутся все, кто в уговоре упомянут, тогда и будет ряд. А не сошлись еще! — Замолчал Ширяй.
Сыновья встрепенулись!.. Да все промолчали. И в этой полной тишине… Всеслав опять услышал те слова: «А не сошлись еще!» И чей–то смех. А кто смеется? Больше некому, как только Ей, Ей все наше смешно. И князь печально улыбнулся и спросил:
— А кто же еще не пришел? Все мы здесь.
— А младший не пришел, Георгий!
— Георгий! — удивился Всеслав. — Георгий, да. Но где он, мой Георгий?
— В Киеве!
Князь вздрогнул. И чуть слышно сказал:
— Лжешь!
— Нет! Прибыл гонец, он и сказал.
— Гонец к тебе?.. К Любиму?.. К граду?
— Нет, к тебе. А мы его перехватили.
— А хорошо ли это, Ширяй?
— А к церкви сторожей приставлять хорошо?
— За это я отвечу.
— И мы ответим, князь. Мы — за свое. Гонец сказал: Георгий возвращается, к субботе будет здесь. В воскресенье и сойдемся. А сегодня — не жди.
Всеслав оцепенел. Георгий в Киеве! Все возвращаются, и он идет. В субботу будет здесь… В субботу! В ушах зазвенело. Всеслав покачнулся и, чтоб не упасть, схватился за столешницу.
— А что еще гонец сказал?
— Не знаю, князь… Вот крест, не знаю! Да я его, гонца, почти не видел, Любим его к себе увел…
— Лжет он, отец! — гневно выкрикнул Давыд. — Лжет! Почуяли, что нынче верха не видать, вот и виляют. Псы!
— Нет! — сказал Ширяй. — Не лгу. Прибыл гонец, он от Георгия, от брата вашего.
— А чем докажешь? — спросил Глеб.
— А вот… — Ширяй полез за пазуху, достал оттуда что–то, сжал в кулаке.
— Княже, позволь.
Всеслав кивнул. Ширяй поднялся, подошел к нему и передал — из руки в руку. И отступил, и голову склонил, исподлобья смотрел, а на колени он уже не опускался…
Всеслав пальцы разжал.
Свет! Не поганский, Божий свет, лампадка негасимая. Когда Георгий уходил, он взял с собой лишь этот камеШек, дар Олафа. Всеслав чуть повернул ладонь — и свет еще ярче вспыхнул, полдень, князь, и сын твой жив. Когда Лепке приходил, то камешек не светился, ибо ночь спустилась и Ратибор был мертв… А свет от камешка какой! Сей свет будет вести тебя, с ним не заблудишься, а если возьмут тебя сомнения, зачем идти, куда и надо ли… Нет, не возьмут! Ведь когда Олаф этот камешек дарил, он Ратибору сказал: «На том пути, который ждет меня, еще никто не заблудился». Торир нанес ему удар копьем — в живот, ниже кольчуги. Вот как ушел твой крестный, князь, — с мечом!
И вновь Давыд сказал:
— Не верь ему, отец.
И Глеб, и Ростислав, и даже Борис — молчали, ибо они с Давыд ом заодин. Князь сжал кулак, разжал, свет заливал ладонь.
Сказал князь растерянно:
— Сыны мои! Ваш брат — живой. Вы что, не рады?!
Помнишь, князь, отец спросил у тебя: «Ты что, не
рад?!» Это было, когда твой брат исчез, а тут сын явился!
Не дышалось уже, не смотрелось, да и зачем дышать и на кого смотреть?! Георгий жив, в субботу будет здесь, и сыновья примут его, а после выйдут, впятером, — и вече покорится им. Покорится! А если не покорится, что с того? Пусть только сыновья станут заодин, чтоб нож никто не бросил между ними, чтоб даже тень вражды не мелькнула. Вот лишь о чем молю я, Господи! Чтоб вражды между ними не было, а землю разве можно отобрать? Земля, как срок придет, сама к себе зовет, больше земли и не надо. Антоний жил ведь и счастлив был, еще меня жалел, поддерживал да наставлял.
Борис сказал:
— Надо идти к Любиму. Пусть выдаст гонца. Не к нему шел гонец.
— Не к нему! — подхватил Ростислав. — Пойти и взять!
— А вече? — спросил Глеб. — А Свияр?
— Свияр! — Давыд только рукой махнул и встал из–за стола, — Возьмем Любима, будет и Свияр. Сам прибежит! А то снова затаился, пес!
— Пес и есть! Все псы!
— Псы! Псы!
И встали сыновья, вышли из гридницы. Ростислав взял Ширяя за ворот, мотнул, поволок, тот хоть бы трепыхнулся. В дверях Давыд остановился и зло сказал:
— Будет вече, отец, нынче будет! Свое возьмем и братово обговорим. Чтоб было с чем его встречать. А то придет, поди, босой. Х–ха!
Вышли сыновья.
Когда они съезжали со двора, конь о конь ехали, Всеслав, стоя в окне, перекрестил всех четверых. Оглянулся лишь Борис, махнул рукой, мол, не печалься, скоро возвратимся, а то, о чем ты думаешь, привиделось, забудь!
Забудь! Видишь как обернулось. Просил же я семь дней, семь полных днрй — и все как раз сложилось бы. Так нет — «в час пополудни». Час мой настал. Скупа безносая, ух как скупа!
2
Хотел пойти к себе и лечь, хотел руки сложить, да не решился, хоть и грешен ты, очень грешен, князь, но уходить без покаяния — нет, боязно. И вино не кровь, и хлеб не плоть, а веруешь ведь, веруешь! А раз веруешь, так может ли Она прийти и торговаться, как купец, и дать всего семь дней? Нет, то было видение, кощунство, сиди и жди, князь, вернутся сыновья, сойдется град на вече, огласите уговор, крикнут люди: «Любо!», Свияра крикнут, а Любима выведут, свершится, чуешь ты, князь, только бы Она не приходила, погодила немного.
И не придет уже, привиделось! Солнце–то уже где, на закате. Час пополудни наступил, а Ее нет! И будешь ты жить. Георгий явится — и встретишь ты его, за стены выйдешь, сын твой сойдет с ладьи, вы обниметесь под колокольный звон; так ты прикажешь.
Нет, князь, не сбудутся твои мечты. Георгия выйдет встречать Давыд, Давыда нынче крикнут, старший он твой, сегодня вечером скажет: «Отец мой, а ваш князь, ушел и вас оставил мне, а меня вам…» И хорошо это, по–христиански. Взойдет Давыд по праву первородства — и будет мир на Полтеской земле, никто меж братьями ножа не бросит, а большего и пожелать тебе, отцу, нельзя! У киян–то смотри что сотворилось. Ярослав Ярополчич бежал и сел в Берестье, дяде грозил, а дядя вместе с братом Ярославовым — брат брата предал! — придут на Неру–реку, и возьмут его, и в цепи закуют, и в Киев приведут. И хоть и сам митрополит Никифор — опять Никифор! — станет за него, за Ярослава, говорить, и начнет Ярослав крест целовать при гробе святых страстотерпцев Бориса и Глеба, и падать ниц, молить… Но Святополк, Великий князь, упрется, не отступится, и в поруб посадят Ярослава, через год умрет в порубе, и Вячеслав, неверный брат его, умрет без чести, и пресечется племя сватово… А сыновья твои, Всеслав, как были, так и будут заодин, даже когда вся Русь на них пойдет и будет им, всем Рогволожьим внукам, смерть, всем, кроме Ростислава, Давыдова сына.
Но то когда еше будет! Едва не через тридцать лет, а нынче, в среду, за полдень, сидишь ты, князь, и ждешь Ее. Иону звать не хочешь. Уж лучше уйти без покаяния, а то Иону призовешь — и слух пойдет, и укрепится град, а сыновьям твоим то не с руки, и коли ты всю жизнь кричал, что жизнь твоя ради сыновей, пусть и смерть твоя им тоже на пользу пойдет. Не зови Иону, сундук не открывай, седмь помазков не доставай. А что Она все не идет, так подождешь Ее — Она семь дней тебя ждала и не роптала. И ты, князь, не рогаци, жди.
Хотел пойти книгу взять, открыть и почитать. «Царь Александр был…» Вздохнул и не пошел. Сидел. Смотрел на камешек. Свет в нем уже едва мерцал. Когда царь Александр помирал, то он велел, чтоб его одр поставили на возвышении посреди гридницы и чтоб открыли настежь двери и ворота,и все бояре, вся дружина македонская шли и прощались с Александром, а он лежал и их благословлял…
А ты один сидишь, и никого здесь нет. И уйдешь один, без покаяния, без Святых Тайн, воистину как волк. Встань, князь, пойди и преклони колена перед ликом, лик темен, ничего не видно, да что тебе с того — ты ж слеп, тебе и этого довольно. А может, Буса вспомнил? Так ты не жди его, Бус не придет. Если б и пришел, ведь слова его черны, чужие, та слышал их и ничего не понял — не для тебя они, прозвучали они и умерли, и сам ты говорил, что умерших не возвращают.
Нет, то Бережко пробежал, это его шаги. Ишь балует, ишь радуется как! А то — к добру. Вот разве что…
Хрррр! Хх–ха! Зверь вскинулся, рванул! Ударил в грудь. Хруст, кровь и темнота. Упал на стол…
Очнулся, огляделся. Нет, полежал ты, князь, всего–то ничего. Солнце где стояло, там и стоит, видно, за полдень склонилось…
А как легко! Нет в тебе зверя, князь. Грудь проломил и выпрыгнул, почуял, стало быть, что смерть твоя пришла, и сбежал. Где он теперь? К кому бежит? Не все ли равно. И засмеялся князь, ну, а ты печалился, что они забудут и не на руках понесут, а на санях… А теперь как хочешь, все едино!
Зверь выбежал, и духу его нет, и кони не рванут, гроб не перевернут!.. Вот, значит, как от зверя надо избавляться — от смерти он бежит. А ты гадал, князь, все они гадали.
Да что теперь! Слаб человек. А зверь еще слабее оказался. Человек сидит и смерти ждет — и не бежит. А зверь — где он сейчас?
Пресвятый Боже! Я, раб твой, испил чашу'до дна, и что познал — то и познал, что сумел — то и сумел и согрешил, прими меня таким, как есть, суди, казни…
И отложил князь камешек, персты сложил и поднял их ко лбу…
И замер! Чья–то рука легла ему на правое плечо. Уф–ф! Хоть на правое…
И та рука была ни холодная и ни горячая, и ни легка она была, ни тяжела.
— Альдона! — удивился князь.
Она чуть слышно произнесла:
— Узнал! Я знала, что узнаешь.
— Как не узнать! Я ждал тебя.
Альдона не ответила, только рука ее вдруг задрожала, она сильней схватилась за его плечо, дрожь унялась. А князь сказал:
— Да, ждал тебя. Покаяться хотел перед тобой. Пока еще я жив, ибо что будет мною Там говорено, не то уже. Грешил я, ох грешил, но самый страшный грех — это когда я не пришел к тебе, не бросил Киева, а ты умирала, солнце мое, душа моя… — Не мог дальше говорить. Хотел еще что–то сказать, горло сдавило, не дыхнуть. И начал задыхаться князь, губы, веки тяжелели, опять в глазах круги пошли.
Неожиданно ее рука поднялась с его плеча и стала гладить его волосы, шею, снова волосы, снова шею. И стало легко дышать, стал ясен взор, но князь не шелохнулся: боялся, оглянется он… Сколько ей уже? Под семьдесят, наверное, а годы разве красят? Седа, поди, в морщинах вся… Ты ее помнишь молодой, красивой, такой и нынче представляй. Да и она тебя не видит и, может, даже думает, что ты по–прежнему тоже молодой.
Сидел князь, боялся шелохнуться. Ее рука была легкая, мать никогда тебя не гладила, Всеслав, мать умерла твоими родами, кто уморил ее, за что и почему, ты так и не узнал. Много этих «почему» осталось в твоей жизни. Жизнь — лес ночной, лежишь ты, князь, нож у тебя в груди, и кровью ты изошел, глаз не открыть, а кто–то подошел — ш–шух! ш–шух! — и на колени встал перед тобой, огладил нож, за рукоятку потянул… Не трожь! Нельзя! Вот так брата моего…
И нож он отпустил, не вытащил. И ты лежишь…
Нет, сидишь ты еще. Альдона гладит твои волосы и говорит:
— Всеславе! Муж мой и душа моя! Я пришла, и так ты меня обрадовал! Живы сыны наши, все пятеро. И заодин они. И нет меж ними тени. Чего еще желать? Злата? Земли? Венца? Солнце, видишь, светит — это наше злато. А что земля? Мы на земле стоим. И по земле идем всю жизнь, да и не только жизнь. Вставай, пойдем!
И встал Всеслав. Смотрел только вперед. Кто–то невидимый взял его под руку и голосом Альдоны говорил:
— Злато. Земля… А вот и наш венец, Всеславе. Слышишь?
Слышал он, колокола звонили на Святой Софии. И на Успенской, Богородицкой, Феодора… И шел Всеслав, легко было. И, рассказывали, в тот день в Час пополудни по всей Руси колокола сами зазвонили. И то: Всеслав, князь–чародей, мир этот покидал.

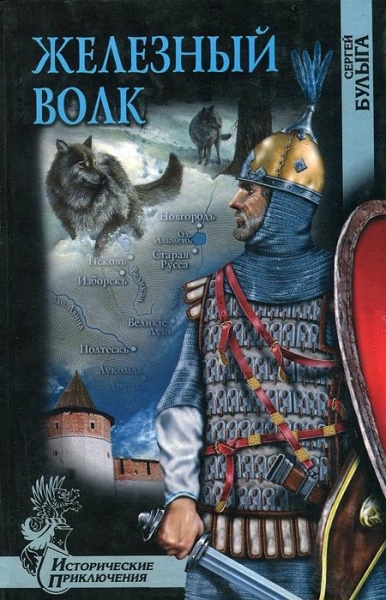

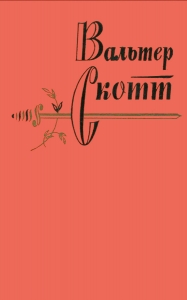
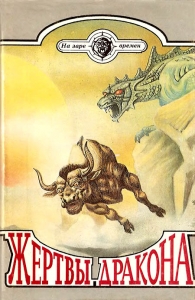
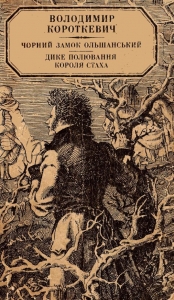
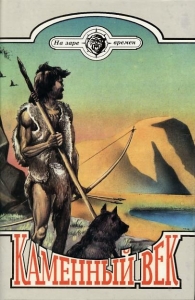


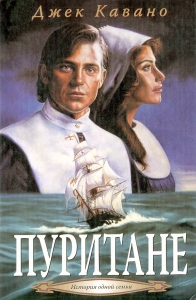

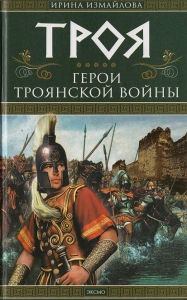
Комментарии к книге «Железный волк», Сергей Алексеевич Булыга
Всего 0 комментариев