НА КРАЮ ОЙКУМЕНЫ
Часть первая ПУТЕШЕСТВИЕ БАУРДЖЕДА
Глава первая ЗАВЕЩАНИЕ ДЖОСЕРА
Над низкими глинобитными оградами взвились клубы пыли, послышались пронзительные крики. Что-то случилось в лабиринте узких улиц, у самой пристани города Белых Стен[1] — столицы Черной Земли, страны Та-Кем.[2]
Уахенеб — кормчий царского казначея — стремительно поднялся и стал всматриваться в сторону города, откуда доносился тревожный шум. Сидевшие рядом гости не двинулись, даже не оглянулись на происходившее за стенами маленького сада.
— Что происходит там? — нетерпеливо спросил кормчий, пытаясь заглянуть в потупившиеся лица друзей.
— Вестники Великого Дома[3] ловят преступника… — неохотно ответил седовласый тесть Уахенеба.
— Но шум около дома Антефа, моего друга и друга детей моих! — с беспокойством воскликнул кормчий.
— Ловят самого Антефа, — вмешался молодой сосед. — Мы знаем, что за ним приходили вестники нашей окраины.
— Как! Ловят Антефа, а вы сидите, словно идет погоня за антилопой? — негодующе вскрикнул Уахенеб. — Этот человек не может быть преступником! Кто не знает корабельного плотника Антефа!
Кормчий негодующе оглянулся на неподвижные фигуры своих гостей и выскочил на улицу, а за ним оба его юных сына, такие же высокие и плечистые, как отец. К ним присоединились и корабельные ученики Уахенеба, находившиеся в числе гостей.
— Уахенеб слишком много времени проводит в плаваниях и еще не знает, как свирепствуют сейчас посланцы фараона… — тихо сказал тесть кормчего.
— Если не научится быть покорным, то скоро его поволокут, закованного, в каменоломни! — угрюмо проворчал худой кузнец.
— Стыдно тебе, говорящему худое, — вмешалась жена кормчего. — Мой Уахенеб умен и испытан в опасностях. Его любит и сам казначей бога Баурджед…
— Любит, как крокодил антилопу, — бурчал упрямый кузнец, — пока у его лучшего кормчего все хорошо. Но стоит только Уахенебу оступиться — кто защитит его? Кто посмеет выступить против повеления Великого Дома?..
Крики приблизились к воротам сада, и жена кормчего тревожно выглянула на улицу.
Слева, в конце узкого прохода между однообразными оградами из серого речного ила, показался одинокий беглец. Он опередил на два десятка локтей[4] своих преследователей, во главе которых неслись, словно гончие собаки, два полуобнаженных человека, в пестрых поясах вестников фараона, вооруженные кинжалами и тяжелыми палками. За вестниками бежал всякий сброд: бездельники — сыновья пристанских чиновников, погонщики ослов и случайные прохожие, обрадовавшиеся перемене в однообразии неторопливой жизни. Все вопили и визжали, будто увидели “отвращающего лицо” — злого духа пустыни или подземное чудовище древних преданий.
Беглец не походил ни на злодея, ни на чудовище. Его измученное лицо в разводах грязи, глаза, расширенные и полные отчаяния, могли вызвать только жалость и негодование в каждом, кто знал этого человека.
Беглец приблизился к Уахенебу.
— Антеф! — негромко окликнул его кормчий и продолжал скороговоркой: — Беги улицей Гребцов налево, повернешь у сада богини к складу товаров, доставленных нами… Скажи сторожу — я велел, и он укроет тебя среди тюков. Там жди ночи… Беги и не оглядывайся.
Антеф поравнялся с Уахенебом. Преследователи почти настигли свою жертву. Кормчий закричал и ринулся прямо на Антефа.
Наблюдавшая из сада женщина вскрикнула от негодования. Но когда ее сыновья и трое из учеников мужа кучей бросились вслед Уахенебу, столкнулись с преследователями и свалились в густую пыль, она поняла, что Уахенеб и молодежь действуют по уговору.
Антеф исчез за углом, а молодые люди продолжали удерживать преследователей с криками: “Поймали, поймали!..”
Бежавшая позади вестников толпа остановилась в недоумении. Наиболее азартные приняли участие в свалке, и пыль совершенно закрыла все происходящее на улице. Вестникам фараона не скоро удалось разобраться в сумятице и освободиться от рук своих усердных помощников. Но когда выяснилось, что беглец избежал поимки, то старший вестник подскочил к Уахенебу с угрозами:
— Как смел ты, старый бегемот, вмешиваться в дело Великого Дома? Твое глупое усердие и неловкость твоих щенков привели к тому, что преступный Антеф убежал от законного возмездия. Но кара не минует злодея, тебе же придется держать ответ перед начальником. Пойдем. — И вестник положил грязную, исцарапанную руку на плечо Уахенеба.
Тот резким движением сбросил руку представителя власти.
— Я не виноват… я старался помочь тебе и сам не знаю, как вышло, что преступник ускользнул. Но мне нельзя идти с тобой — казначей бога приказал мне прийти сегодня вечером, я не могу ослушаться повеления… Где я живу, ты знаешь, — спокойно добавил Уахенеб.
Кормчий солгал, но расчет его оказался верным.
Вестник нахмурился и огляделся в раздумье. Плечо к плечу с кормчим стояли сильные юноши, на лицах которых читалась твердая решимость не уступать никому. Толпа, только что объединявшаяся яростным преследованием, разбилась на группы. Люди выжидали в молчании, не проявляя никакого сочувствия вестникам, терпевшим очевидное поражение.
Бормоча проклятия, вестники удалились вслед скрывшемуся Антефу. Кормчий с помощниками вернулся в сад. Молодежь дала волю смеху, горячо обсуждая случившееся и вспоминая, как грохнулся под ноги вестникам фараона старший сын Уахенеба. Встревоженные гости скоро разошлись; участники побоища отправились к реке смывать пыль. Уахенеб сидел в раздумье до темноты, потом встал, захватил приготовленный женой мешок с пищей и вышел в непроглядную тьму.
Ни одного огонька не было видно в домиках пристанского предместья. Жечь масло или жир в светильниках было дорого, да и проводимый в труде день был слишком длинен, чтобы люди засиживались в своих домах после наступления темноты. Только неутомимая молодежь, таясь от старших, собиралась у маленького храма. Из темноты доносились тихие разговоры, легкие шаги босых ног…
Кормчий быстро добрался до склада, побеседовал с Антефом, возвратился домой и молча взобрался на плоскую крышу дома, где все его семейство спасалось от духоты и насекомых и лежало в ряд на жестких циновках из папируса.
— Удалось тебе? — прошептала жена, когда кормчий улегся с тяжелым вздохом усталого и печального человека.
— Антеф в безопасности, — помолчав, ответил Уахенеб. — Он знает тайное место на краю западной пустыни, в городе мертвых. Там спрячется он… пока не отчалит снова мой корабль. Но это малое дело… — Кормчий угрюмо умолк.
— Что же еще плохо, во имя священной девятки?[5] — с беспокойством спросила жена.
— Плохо все… плоха наша жизнь, трепещущая перед людьми Великого Дома, перед посланными жрецов. Они гнут ее, как ветер пустыни гнет тонкий стебель тростинки, как сгибает раба кнут надсмотрщика!
— Разве это ново для тебя? — удивилась жена.
— Нет нового в этом, но почему плохое должно длиться вечно? Неужели никогда не наступит хорошее? Еще совсем недавно, когда ты носила нашего младшего сына,[6] фараон — строитель великой пирамиды,[7] — обрек нас, простых неджесов и роме[8] на голод и разорение. Если бы не добыл я пищи и золота в опасном плавании в страны Зеленого моря,[9] может, не осталось бы в живых никого из наших братьев и сестер. Но великая пирамида построена, фараон отошел в вечность, а разве жить стало легче? По-прежнему требуют с нас непосильной работы, бьют и отдают в рабство за недоимки. Множество чиновников смотрит за нашими путями, записывает каждую меру собранных плодов, каждого журавля[10] и еще не родившегося детеныша антилопы…
— Ты был в разных странах. Неужели и там так тяжела жизнь?
— Плохо везде, где есть бедность. Я не видел страны, в которой бы не было бедняков, мучимых страхом, болезнями и голодом. И я не видел страны лучше нашей Кемт. Только здесь земля так плодородна, только здесь не свирепствуют ветры, сокрушительные ливни. Страна защищена пустынями от набегов хищных соседей. Прекрасны наше вечно ясное небо, могучая река — источник жизни, богатые сады и поля. Все мы любим нашу Кемт, и всем нам плохо жить тут!
— С детства я любила сказки о Стране духов — волшебном Пунте.[11] Вот там хорошая жизнь, там люди, похожие на нас, роме, живут подобно духам полей Иалу.[12]
— Никто не видел Пунта, безмерно далек он от нас и недостижим смертному, — неохотно ответил Уахенеб. — Плохо, что нет защиты для нас в родной нам Черной Земле. Надо спасать друзей, а они спасут нас… так, — твердо решил кормчий. — Слушай, ты еще не знаешь всего о несчастии Антефа. Он тяжко поранил себя теслом и не мог работать пять времен года.[13] Дом его стоит на земле храма Хнума[14]… Антеф задолжал начальнику мастеров,[15] не уплатил долга, и жрец захотел взять в храм его дочь.
— Как, ясноглазую То-Мери? — воскликнула жена.
— Тише. Да, ее. Она красива, и жрец может продать ее с выгодой в храм Нейт или… оставить рабыней у себя. Рабы храма под начальством младшего жреца ворвались в дом Антефа, избили его и жену и увели дочь, Антеф побежал сказать вестникам…
— Зачем? — удивилась жена.
— Теперь я тоже скажу: зачем? — ответил кормчий. — За один вечер я стал умнее на десять лет…
— Антеф так любил свою То-Мери!
— Потому и сделался гонимым подобно робкой антилопе. Дом его без хозяина и отца, жена и дети оплакивают его как умершего. Пойди к ним на рассвете и скажи тайное утешение. А я… — Уахенеб умолк.
— Я слушаю тебя!
— Антеф сделал то, что должен был сделать отец и мужчина. Он проник в храм Хнума в поисках дочери, проследил, что она заперта в кладовой дома начальника мастеров, и, пытаясь освободить То-Мери, напал на жреца…
— И…
— И едва спасся из храма. Вернулся в дом свой в великом горе и напрасно размышлял, придумывая, как спасти дочь. Вестники объявили его врагом города… Остальное ты знаешь.
— Ты задумал опасное дело, господин мой, — сказала жена, поняв затаенные думы кормчего.
— Не опасайся, я сумею исполнить это, не привлекая внимания чиновников Великого Дома. Я почти гость здесь — так редко приходится бывать мне дома, за мной нет записей и глаз… Если хочешь помочь мне, пойди скорее в дом, где живут мои ученики Ахавер и Нехеб-ка, разбуди их. Скажи, что я заболел и зову.
— У нас в саду спит сегодня тот — большой и темнокожий, твой мастер паруса…[16]
— А, большой Нехси здесь? Это помощь от богов… Я разбужу его!..
Проснувшиеся сыновья Уахенеба стали умолять отца позволить им тоже идти на таинственное дело. Но кормчий оказался неумолимым.
Во тьме и тишине четыре человека выскользнули на улицу и молча направились к храму Хнума, стоявшему среди большого сада, на возвышенном участке берега. Уахенеб обладал хорошей зрительной памятью и навсегда запоминал те места, в которых ему приходилось бывать. Теперь он уверенно обошел главный вход, в глубине которого мерцал слабый огонь двух светильников, и приблизился к небольшим воротам, ведшим во внутренний двор около дома главного жреца.
— Теперь ты, Ахавер, и ты, Нехеб-ка, по сигналу Нехси начинайте драку у ворот, бросайте камнями, выкрикивайте проклятия… Когда раздастся вопль шакала, убегайте, но сначала в верхнюю улицу, чтобы спутать мысли врагов, потом бегите к реке. Мы будем ждать в лодке за Кедровой Пристанью…
Все последующее произошло быстро: крики Ахавера, грубая брань Нехеб-ка, грохот камней о доски ворот, неистовый лай собак главного жреца, кинувшихся к ограде. Замелькали факелы в руках младших жрецов, которые спали в храме и теперь выскочили на шум.
Мрак во внутреннем дворе казался особенно непроглядным. Большой Нехси, увлекаемый за руку Уахенебом, быстро добрался до крепкой двери в низкой кубической постройке из плотной, затвердевшей на жарком солнце глины. Дверь быстро уступила огромной силе моряка. В душной тьме помещения царило молчание.
— То-Мери, где ты? Я Уахенеб, друг твоего отца, ты знаешь меня. Выходи скорей!
В глубине кладовой раздался слабый крик.
Уахенеб устремился внутрь, вытянув вперед руки. Его ладонь коснулась плеча девушки. Кормчий провел рукой по лицу и волосам То-Мери, чтобы успокоить девушку, и нащупал твердый ремень бегемотовой кожи, прикрепленный к металлическому ошейнику, замкнутому на тонкой девичьей шее.
— Я привязана, — прошептала То-Мери.
Кормчий дернул изо всех сил, но ремень был крепок. Медлить долее было нельзя: там, у ворот, жрецы могли опомниться и схватить Ахавера с его другом, а собаки — почуять присутствие чужих во дворе.
— Нехси, скорее! — позвал Уахенеб.
Гигант потянул, и прочная кожа в два пальца толщиной разорвалась.
Нехси бросил легкую То-Мери себе на плечо и побежал за Уахенебом. Они перелезли через изгородь там, где двор граничил с садом. Пронзительный вопль шакала пронесся в темноте, повторился раз, другой, третий…
Ахавер и Нехеб-ка катались по земле, браня друг друга и осыпая ударами. Услышав сигнал, они вскочили на ноги.
Жрецы, домовые рабы и сам главный жрец столпились вокруг них с факелами, наблюдая за дерущимися со злорадством и негодованием. За воротами неистовствовали свирепые собаки. Внезапно оба юноши повернулись и бросились вверх по улице. Они бежали рядом изо всех сил, и быстрые ноги унесли их далеко от растерявшихся жрецов. Ахавер и Нехеб-ка пробежали четыре квартала и, не услышав погони, свернули в поперечный переулок. Они долго неслись вдоль реки, пока решились спуститься к берегу, и подошли к Кедровой Пристани с другой стороны.
Лодка отплыла беззвучно, весла искусных гребцов гнали ее с возрастающей скоростью. Там, где находился храм Хнума, мелькали огни факелов.
Ахавер и Нехеб-ка торжествующе засмеялись.
— Гребите, гребите! — весело сказал кормчий. — Путь далек, скоро рассвет… — И сильным толчком кормового весла Уахенеб прибавил ходу лодке.
Нехси заставил сидевшую на дне лодки девушку опереться спиной на его колени и старался разогнуть запор ее ошейника, путаясь в массе густых вьющихся волос. Ошейник был заперт на толстый бронзовый крючок.
Лодка удалилась на шесть тысяч локтей от города Белых Стен и плыла вдоль ненаселенного западного берега великой реки. Позади осталась гигантская пирамида и город мертвых для знати и богатых, примыкавший к северной стороне пирамиды. Мрак рассеивался, гладь реки заблестела тускло и неприветливо.
Мастеру паруса наконец удалось справиться с крючком. Ошейник раскрылся, и Нехси швырнул его далеко на середину реки.
Все сидевшие в лодке следили за его полетом. С легким всплеском орудие унижения и плена навсегда погрузилось на дно реки. И в тот же миг за восточной пустыней поднялся краешек солнца, яркие лучи алого света загорелись на реке в том месте, где потонул ошейник.
— Утопить бы так все, что гнетет нас! — задумчиво сказал Уахенеб, выразив этим неясные стремления своих спутников.
Лодка причалила у двух одиноко росших пальм.
В сотне локтей от берега, в пределах высокой бесплодной равнины, расположился город мертвых простых роме. Здесь не было ничего похожего на массивные каменные или кирпичные гробницы знатных людей, только бесчисленные ряды маленьких холмиков отмечали места, где хранились останки отошедших в западные края.
— Неужели Антеф не боится оставаться здесь в ночные часы? — удивился большой Нехси.
— О, мне пришлось один раз быть здесь поздно вечером, — отозвался Нехеб-ка. — Выли шакалы, хохотали гиены, страшные птицы ночи летали над головой. Вдали ревел лев, глухим плеском отзывались в реке крокодилы, — мне показалось, что стонет земля, наполненная умершими. Я едва удерживал свое сердце от бегства…
— Антеф не здесь, он скрывается в древнем подземелье, близко от берега. Если каждому из нас придется выбрать между позорной смертью и страхом перед отошедшими, — я думаю, что он меньше убоится мертвых, — спокойно сказал Уахенеб. — От мертвых еще никто не погиб. Здесь давно живет старый сторож с семьей, и все от мала до велика здоровы и целы. У нас, бедняков, не знающих вещей,[17] тут нет ничего — ни таинственных гробниц, ни подземелий. Про город мертвых для знатных рассказывают страшные предания… А может быть, для того, чтобы… никто не смел трогать вещи, хранящиеся в богатых гробницах? — Кормчий тихо рассмеялся, а его спутники посмотрели на него с удивлением.
— Мы будем здесь жить? — тихо спросила девушка, устремив на Уахенеба глаза, еще полные грусти.
— Вовсе нет! — рассмеялся кормчий. — Тебя завтра возьмет на корабль мой верный друг, кормчий Саанахт. Ты будешь жить в Дельте, у моих родных, пока не повернется лицо богов…
— А отец?
— Антефа нельзя отослать с тобой. Я возьму его на свой корабль тайно, в день отплытия. Нам не дадут много отдыхать — скоро пойдем мы опять за кедром для храмов на Великое Зеленое море…
В доме Уахенеба вновь собрались гости — кормчий решил отпраздновать спасение Антефа и его дочери, не объясняя никому причины торжества. Опустели два кувшина вина, громадный глиняный сосуд с пивом. У захмелевших людей развязались языки, всё смелее становились выкрики и взволнованные речи о несправедливости жизни в Та-Кем, о том, что жрецы обманывают бедняков, что государство не жалеет своих подданных.
— Рабы у богатых и во дворцах живут лучше, чем мы! — воскликнул тот же хмурый кузнец, который угрожал Уахенебу каменоломнями в прошлый раз.
Кормчий поднял руку:
— Слушайте сказку о стране счастья!
Низенький старик с круглой лысой головой говорил о трудности жизни без просвета и защиты.
Гости стали кивать головами, соглашаясь.
Сказка описывала чудесную страну Пунт, Страну духов счастья. Никто не согнут страхом и голодом, золото сверкает в речных песках, деревья отягощены чудесными плодами, благовонные смолы текут по стволам, прекрасные девушки дарят всех ласковыми улыбками. Все равно сыты, нет тяжких работ и свирепых зверей…
— Там, там! За восточной пустыней, за Лазурными Водами,[18] в безмерной дали!
Старик вскочил, указывая на восток; поднялись и все гости, всматриваясь в пыльную мглу над восточными холмами, точно стараясь сквозь нее разглядеть призрачное видение чудесной страны…
— Никто, никто, кроме могучих людей-богов древности, не достигал пределов Пунта!
— Недоступна, прекрасна желанная страна, отрада смертных, живущих там наравне с духами, похожих на нас, детей Черной Земли!..
Внезапно раздались удары палки в калитку сада. Громкий деревянный стук оборвал сказку; люди насторожились, воцарилось молчание, полное опасений. Угрюмый человек, морщинистый и суровый, подошел к кормчему. Уахенеб поджидал его с затвердевшим, как у статуи, лицом.
— Мой и твой господин, казначей бога Баурджед, велит тебе прийти завтра, после дневного сна! — громко, не допускающим возражений тоном сказал посланный, и Уахенеб перевел дыхание. Зов казначея еще не был бедой.
Пестрые занавеси в оконных просветах колыхались под легким ветерком. По коричневой полированной поверхности деревянных колонн пробегали слабые блики света. В комнату, тяжело ступая, вошел великий властитель, молодой фараон Джедефра.[19] Следом за ним спешили два человека с золотыми нагрудными знаками. Они с привычной ловкостью распростерлись на полу перед фараоном. Нетерпеливое движение руки Джедефра заставило их встать. Один, высокий и худой, носивший звание хранителя царских сандалий, снял с ног фараона сандалии из позолоченной кожи. Другой, смотритель ларца с притираниями, осторожно освободил Джедефра от тяжелого парика, прикрытого полосатым головным платком и пшентом,[20] и снял футляр, заменявший бороду. Фараон с облегчением провел ладонью по гладко выбритой голове.
Вельможи удалились. Джедефра сбросил длинную белую одежду из серебристого льна, выделанного так тонко, что ткань просвечивала. Он остался в короткой рубашке, перетянутой голубым поясом с тяжелыми синими лентами на золотых пряжках.
Фараон устало потянулся. Нелегко было соблюдать каменную неподвижность поз, требуемых ритуалом при публичных появлениях.
Сухое, жесткое лицо Джедефра было хмурым и сосредоточенным. Он медленно подошел к окну, выходившему на запад, и слегка отодвинул плотный занавес.
В прозрачном воздухе под густой синевой чистого неба предстал перед Джедефра предел его страны. Дворец фараона стоял на невысоком холме, близ которого плодородная темная земля Нильской долины резко граничила с красновато-желтой пустыней. Вдали отчетливо вырисовывались изгибы огромных песчаных бугров. Там пески, поднимающиеся горами по пятьсот локтей вышиной, пылают под знойным небом, как гигантский костер, преграждающий живым путь в страну запада, царство ушедших, обиталище мертвых…
От песчаных холмов к долине сбегали голые каменные уступы. На них за белой каменной оградой колыхалась темная зелень высоких пальм.
Джедефра угрюмо усмехнулся. В глубокой тишине доносился лишь плеск воды в ступенчатых бассейнах. Рабы, выстроившись длинной цепочкой, с утра до ночи качали воду из реки, чтобы вокруг пирамиды мог существовать зеленый сад. А некоторым деревьям сада было уже больше двадцати лет…
Но фараон, конечно, не думал об этом. Миллионы роме, сотни тысяч рабов, как трудолюбивые муравьи, копошатся у него под ногами, обожествляя все четыре имени царя.[21] Джедефра думал о древнем обычае царей воздвигать на краю западной пустыни — границе страны мертвых — особые сооружения, получившие название “священная высота”.[22] Эти “высоты”, резко возвышаясь над плоской страной, поднимали ввысь, утверждая в вечности личность фараона.
Со времен великого Джосера,[23] создателя могущества страны Черной Земли, эти сооружения стали строить из камня. Недалеко от его дворца, на том же западном плоскогорье, высится исполинская пирамида Хуфу[24] — беспощадного властелина, грозного фараона, неожиданным наследником которого явился он, Джедефра, сын одной из самых молодых и незаметных жен Хуфу. Сын, знавший отца только в образе живого бога, владыки сурового и недоступного, Джедефра рос вдали от дворца и воспитывался в маленьком храме, у старого жреца, даже не думая о том, чтобы занять видное место в государстве Черной Земли.
Его мать — умная и хитрая южанка, происходившая из области древнейшей столицы Та-Кем, тайно готовила сыну иное. Она сумела добиться доверия могущественного союза жрецов Ра, безраздельно владычествовавших в “Городе” — храме Солнца, у начала Дельты, к северу от столицы. Жрецы осмелились противостоять даже могучему Хуфу, фараону, впервые сумевшему согнуть непокорных служителей богов и взять у бесчисленных храмов часть богатств и рабов для постройки великой пирамиды.
Этот грозный пришелец из средней Кемт, выдвинутый старой знатью и жрецами бога Хнума, сменил владык потомков Хасехемуи[25] и еще более возвеличил божественную власть фараонов. Перед его железной волей и безграничной жестокостью вся Кемт в страхе распростерлась ниц. Всю мощь государства, укрепленного фараонами-предшественниками — Джосером и Снофру[26] — и их советниками — учеными Имхотепом, Кегемни, Птахотепом, воспетыми в народе, все богатства Та-Кем и его многочисленных рабов Хуфу употребил на достижение единственной цели — постройки огромной пирамиды, невиданной от сотворения мира.
Гигантская пирамида должна была навеки утвердить имя Хуфу, поразить все будущие поколения. Она стояла над каждым жителем страны, господствовала над мечтами, мыслями, поступками и снами миллионов людей. Все другое, даже великие и грозные боги, требовавшие непрестанных жертв, обрядов и празднеств, отошло на задний план. Количество громадных камней, уложенных в пирамиду, каждый новый десяток локтей ее вышины сделались важнейшими новостями страны.
Забыты были далекие походы в неизвестные страны, неведомые и манящие дали морей Великой Дуги. Забыт был и самый мир, окружающий страну Та-Кем, словно все средоточие вселенной сошлось на узкой ленте Черной Земли и внутри нее, на острие пирамиды Хуфу…
Страна обеднела, ропот недовольства все чаще раздавался не только среди бедных земледельцев, но и среди могущественной знати и великих жрецов.
А фараон продолжал постройку. И вот белая пирамида в триста локтей высотой ослепительно сверкает под вечно голубым небом, в кольце садов и храмов. Каждый из ее камней, весом в шесть быков, так тщательно пригнан к другим, без следов соединения, что пирамида кажется единой массой. В глубине белой громады заключен саркофаг из черного гранита, и в нем лежит отошедший в страну запада грозный фараон.
И теперь он, Джедефра, живой бог, принявший власть и силу всего государства, хочет возвеличить себя исправлением бед, нанесенных постройкой великой пирамиды. Он тоже строит свою “высоту” там, против дворца, на северном конце плоскогорья, не считая возможным нарушить священный обычай. Но всего в шестьдесят локтей будет это сооружение — жалкий холмик перед колоссальной гробницей Хуфу.
Джедефра отменил подати с храмов, вернул им тысячи рабов. Он посылал суда к Великому Зеленому морю, и на восток, и на юг, в страну Куш.[27] Посланные возвратились благополучно, с добычей золота, меди, кедрового дерева. Но в стране неспокойно. Начальники округов недовольны, урожаи уменьшились, голодные земледельцы опять осмеливаются грабить государственные склады.
А он, живой бог, молод и не знает, что нужно сделать еще, хотя и хочет быть подобным Джосеру и Снофру, возвеличившим Та-Кем и без конца прославляемым в легендах и преданиях. Если бы у него был советник, мудростью равный Имхотепу…
Недавно он беседовал с великим ясновидцем,[28] который снова намекнул фараону на неправильный путь, избранный им в управлении государством. Верховный жрец настаивал на строительстве новой огромной пирамиды, уверяя Джедефра, что такова воля богов и заветы высшей мудрости. Народ Та-Кем многочислен, трудолюбив, рабы должны быть непрерывно заняты самым тяжким трудом, иначе толпы их разъярятся и возникнут бунты. Что может быть лучше постройки новой великой пирамиды! Народ будет все более убеждаться в ничтожестве своей земной жизни и обратит свои мысли к загробному существованию в счастливых полях Иалу. Знатные властители сепов[29] должны будут отдать для постройки пирамиды свои богатства, рабов и даже часть свободных людей — значит, у них не будет сил противиться фараону. А ему, живому богу, останется только требовать покорности себе и богам, возвышая храмы и жрецов, одаривая их золотом, рабами и скотом.
Великая пирамида прославит его на миллионы лет. А он построил ничтожную гробницу, роняя свое божественное достоинство. Это посеет пагубные сомнения в умах людей, которые могут перестать чтить жрецов и — страшно сказать! — богов. И без того не только знатные, но даже простой народ начинает требовать себе хорошей жизни здесь, сейчас, а не в стране ушедших.
Джедефра не сумел хорошо возразить великому ясновидцу. Он только сказал, что хочет искать других путей, подобных путям Джосера, но не знает, как это сделать.
Жрец, затаив злобную усмешку, объявил царю, что времена Джосера миновали безвозвратно. Теперь фараон должен идти другими путями, и Джедефра не может отступить от них, иначе страну постигнут бедствия. Угроза, скрытая под внешней почтительностью верховного жреца, встревожила молодого фараона. Он, сам получивший власть из рук жрецов Ра, знал их могущество и знал истинную цену своему божественному достоинству, незыблемому только в глазах простого народа.
Он был одинок, занял трон владык Черной Земли силой жрецов Ра и мог опираться только на них. Но они направляли его по пути, не казавшемуся достойным ему, с детства воспитанному на преданиях о деятельности великих фараонов — потомков Хасехемуи, выходцев с юга, откуда была родом и его мать. И тут он вспомнил, что его отец, грозный Хуфу, не раз призывал жрецов древнего бога знания, письма и искусства — Тота и требовал от них открыть ему тайну храмов Тота, по преданиям хранивших бесчисленные сокровища и тайные книги знаний. Хуфу, старавшийся добыть как можно больше сокровищ для постройки своей пирамиды, грозил жрецам Тота всевозможными карами, но ничего не добился. Жрецы объявили ему, что тайные замки Тота — не более как легенда, оставшаяся от очень древних времен, когда их бог был одним из главенствующих.
Джедефра решил обратиться к служителям Тота, в надежде на их знания. Жрецы бога, главенствовавшего во времена Джосера, должны были научить молодого фараона тайнам власти и созданию мощи и богатства.
И сейчас Джедефра ожидал главного жреца Тота, обещавшего явиться к фараону на закате солнца.
Джедефра отвернулся от окна, прошел по мягким коврам и опустился в легкое кресло из черного дерева.
Снизу, со двора, обнесенного высокой глинобитной стеной, донеслось негромкое бряцание оружия. Стукнул медный щит, и в тишине поплыл протяжный звенящий звук.
Внезапно и бесшумно в комнате появился крепкий, коренастый человек с блестящим бритым черепом. Он был в простой набедренной повязке, но переброшенная через левое плечо леопардовая шкура означала сан главного жреца. Жрец не распростерся на полу, а только склонился перед Джедефра, согнув локти у пола, и брови фараона недовольно поднялись. Пришедший выпрямился как ни в чем не бывало и, осторожно ступая, приблизился к фараону. Джедефра пристально всматривался в его лицо — тяжелый лоб, резкий выступ крупного носа, недобрый прищур смелых глаз.
— Он звал меня, великий царь, анх уда снеб (жизнь, здоровье, сила),[30] — негромко сказал жрец, избегая назвать имя фараона и обращаясь к нему только в третьем лице.
— Ты великий начальник мастеров Носатого?[31] — спросил фараон. — Ты вовсе еще не стар. — Тень недоверия скользнула в словах Джедефра.
— Всего два года как я назначен вместо ушедшего Джехути, Мощный Бык Черной Земли, — ответил жрец.
Джедефра нетерпеливо нахмурился:
— Можешь избегать хорошей речи. Мы будем говорить, как два жреца.
Жрец склонился в знак послушания.
— Два года — это немного, — продолжал фараон. — Ведомы ли тебе тайны Тота?
— Ведомы, Великий Дом, — спокойно ответил жрец.
— Тогда слушай и потом скажешь мне все, что открыла тебе премудрость Носатого, — приказал фараон.
Огонек мелькнул в непроницаемых глазах жреца, точно искра, высеченная в черном кремне.
Джедефра говорил медленно, стараясь придать словам тяжесть и прочность бронзы.
Он хочет быть продолжателем великого Джосера. Страна обеднела, постройка великой пирамиды отняла прежние богатства. Повсюду недовольство, и только страх, оставшийся после царствования Хуфу, еще сдерживает гнев знатных людей и голод бедняков. Нужно дать богатства знати и хлеб земледельцам. Но в сокровищнице бога мало золота, каналы и плотины попорчены, так как оставались долго без ухода и починки. Презренные негры страны Нуб, согнутые прежде в покорности, теперь осмелели настолько, что разрушили Дом Снофру — стену в пятьдесят тысяч локтей длиной, воздвигнутую на южных границах Та-Кем. Теперь эта сильная крепость южной границы больше не угрожает неграм: они добывают золото не для Та-Кем, а для себя, у самой стены.
Чтобы найти дорогу истины, фараон хочет знать о других странах, окружающих Та-Кем, до самых пределов Великой Дуги. Какие сокровища можно добыть оттуда? Куда нужно послать верных и отважных людей? Если же, кроме жалких негров, на краю Великой Дуги обитают только духи… тогда нужно искать иные пути для поднятия могущества Та-Кем!
Джедефра замолчал и вопросительно посмотрел на жреца. Тот выждал несколько минут и заговорил:
— Одиннадцатая из сорока двух великих и тайных книг, называемых “Души Ра”, содержит перечень всех местностей и учение о том, что они заключают в себе. Писец ее — сам Тот.[32] Но разве Великому Дому неизвестно завещание его предка Нетерхета-Джосера?
Жрец заметил удивление, мелькнувшее в лице Джедефра, и быстро спросил:
— Неужели верховный жрец Ра не сказал об этом?
Джедефра поднялся, лицо его стало грозным:
— Я хочу видеть завещание теперь же! Где скрыто оно? В его высоте?
— Да, на этой плоской горе, против Белой Стены, — ответил жрец и заглянул в окно. — Ра вступает,[33] — продолжал он, — во время жатвы[34] ночь хороша для пути.
Жрец опустил глаза и, отойдя в угол комнаты, безмолвно и бесстрастно уселся на ковре.
По зову фараона молчаливые комнаты ожили.
Просторное судно с высоко поднятой кормой поплыло вверх по широкой реке. Джедефра расположился на троне из черного дерева под навесом, раскрашенным в желтую и синюю клетку, цвета царского покрывала. Четыре светлокожих гиганта-ливийца, стоя наготове с луками и секирами, охраняли священную особу царя.
Плавание должно было занять весь вечер и часть ночи: от дворца фараона до столицы страны — города Белых Стен — было не меньше шестидесяти тысяч локтей.
Медленно проплывали мимо унылые берега — ровные крутые уступы плоскогорья западной пустыни, болотные заросли восточного берега. Мертвые склоны долины казались издали лишь невысокой, красной в лучах опускающегося солнца полоской. Между ней и рекой колыхалось обширное зеленое пространство густой болотной растительности. Кое-где поблескивали озерки воды. Группы высоких пальм трепетали темными перистыми кронами, чеканно выделяясь в золотистом небе.
Под ветром высокая трава сгибалась, словно серебряные волны широко катились по сплошным зарослям осоки.
Стройные “дары реки” — папирусы стояли в самой воде, поднимая звездчатые метелки из узких листьев почти на два человеческих роста, а около них были разбросаны крупные яркие чаши голубых и белых лотосов.
Временами пальмы образовывали небольшие рощи; за кольчатыми стволами виднелись низенькие, скученные домики, построенные из зеленовато-серого нильского ила. На плоских крышах некоторых домов расположились отдыхать семьи земледельцев. Кое-кто уже спал, завернувшись в мягкие циновки из папируса, другие еще доканчивали скудный ужин из стеблей того же папируса, политых касторовым маслом. При виде барки фараона люди проворно поворачивались к реке и утыкались лбами в глину крыши или в мягкую пыль вытоптанной вокруг домов земли.
Солнце зашло, закат быстро мерк, ослабевший ветер стал прохладным. Фараон встал, нарушив молчание:
— Я сделался усталым, сердце мое следует дремоте![35]
Джедефра удалился в каюту на корме в сопровождении хранителя сандалий. Кормчий потряс жезлом, и весла послушных гребцов стали осторожней опускаться в воду.
Жрец направился на плоский нос судна, низко нависший над водой, где стоял помощник кормчего с шестом, беспрерывно измерявший глубину. До восхода луны необходимо было плыть с осторожностью. Река изобиловала мелями, часто менявшими свое место и неведомыми даже самому опытному кормчему.
В сумеречном воздухе быстро замелькали неясные мечущиеся тени — множество летучих мышей вылетело из своих дневных убежищ. Слева, из-за темной стены скалистого берега, медленно поднималась ущербная луна. Ее красные высокие рога первыми бросили дробящийся свет на гладь широкой реки,[36] черные полосы теней вонзились в освещенный край пустыни.
Луна поднималась все выше, свет ее принимал все более яркий блеск серебра, и наполнявшая долину темнота быстро отступала к северу.
Жрец стоял на носу судна, глубоко задумавшись.
Он думал о том, что завещание Джосера не исполнилось. Могучий фараон, создавший единое и крепкое государство, вместе с могуществом заложил и другие семена, которые могут дать гибельные всходы. Старое главенство бога наук, письма и искусства Тота уступило место богу солнца Ра, символу безграничной власти, отождествленной с личностью фараона.
Было понятно, почему жрецы Ра, давно оттеснявшие от фараона служителей Тота, скрыли завещание.
Совсем близко на песчаной отмели раздался громкий всплеск. Огромный эмсех — крокодил — показал в свете луны свою гребнистую спину, и расходящиеся перед его головой волны заблестели, развертываясь серебряным веером. Жрец невольно оглянулся и с минуту провожал глазами священное животное. Потом вернулся к своим мыслям.
Новый фараон сам позвал жрецов Тота. Значит, ему не хочется править по указке жрецов Ра. Он пытается сам найти свой путь, ищет советника. Это разумно и хорошо; хорошо потому, что таким советником может стать он, верховный жрец Тота — Мен-Кау-Тот.
Тогда возродится былая слава и сила жрецов Тота, умножится их число и богатства… Настало время, ибо плохо стало в стране, обедневшей во время владычества Хуфу: новый фараон не знает, что делать, как стать настоящим владыкой. Недаром хранители божественной премудрости не должны открывать всего фараону, чтобы противопоставлять воле владыки мудрость вечного знания, обуздывать власть и силу…
Уже давно ушел помощник кормчего, судно шло быстрее, а жрец все еще размышлял в тишине.
Вдали послышался громкий лай собак. Изредка пронзительные вопли ослов прорезали ночной мрак — судно приближалось к Белой Стене, и по берегу реки тянулись дворцовые имения и сады храмов столицы.
Пробудившийся фараон появился на палубе и приказал войти в столицу тайно. Судно причалило к большой каменной площадке у храма сокола Гора,[37] близ северной оконечности города.
Джедефра сел в кресло-носилки, и дюжие негры быстро понесли фараона через сонную окраину. Кривые и тесные пыльные улицы были ограждены ветхими глинобитными стенами сливавшихся друг с другом домов. Небольшая охрана фараона, пользуясь лунным светом, шла без факелов.
Дома по сторонам становились реже, улица расширялась. Внезапно перед глазами идущих открылся пологий подъем, усыпанный остроугольными камнями и испещренный черными пятнами теней. Справа слабо блестела река, а налево подъем переходил в плоскую возвышенность, за которой неясно обозначались размытые обрывы и бугры песков. Оттуда доносились хохот гиен и стонущие вопли шакалов. Перед обрывом, пересекая наискось возвышенность, резко выделялся огромный прямоугольник рубчатых белых стен. В центре прямоугольника поднималась на сотню локтей ступенчатая пирамида. Под луной ее белый цвет казался чистым и матовым, тени на уступах лежали рядами горизонтальных черных полос. С правой стороны пирамиды над стенами выступали крыши каких-то построек.
Под тяжелой поступью носильщиков хрустел песок, нанесенный ветром на плиты старой дороги, проложенной еще во время постройки. Пирамида приближалась, вырастая над окружающей местностью; уже можно было различить скошенные ребра ее уступов. У ближайшего, юго-восточного, угла стены несколько низких чахлых деревьев обозначали место входа. Под деревьями стояла низенькая мазанка сторожей.
Шествие приблизилось к стенам, сложенным из крупных кусков известняка. В четыре человеческих роста высотой, с выступами в виде вертикальных брусьев, стена производила впечатление несокрушимой прочности.
Из домика выскочили две темные фигуры и в страхе упали в пыль перед фараоном. Стройные белые полуколонны, похожие на связки крупных стеблей папируса, подпирали над входом плоскую плиту с насечкой в виде фестонов. Высокое дверное отверстие прижималось вплотную к левой колонне.
Зажгли факелы. При неровном вихрящемся свете Джедефра вошел в дверной проход следом за жрецом и телохранителями. Дальше начинался длинный коридор, обрамленный множеством столбов, в сечении имевших форму длинных овалов. На закруглениях колонн были продольные валики в виде стеблей папируса. Между широкими стенообразными сторонами колонн царил глубокий мрак. В просветы, сделанные в кровле, лился косой лунный свет.
Коридор вывел пришедших на гладкий большой двор, обсаженный раскидистыми и корявыми сикоморами.[38] На плитах двора лежал толстый слой нанесенного ветром песка. Огромная пирамида замыкала задний конец двора. Разбуженные шумом и светом факелов хищные птицы поднялись в воздух, издавая пронзительные клокочущие крики. Глаза сов заблестели в темных впадинах крыш и стен, летучие мыши носились взад и вперед над двором.
Жрец, взявший на себя роль проводника, повернул направо, потом назад и через короткий проход провел фараона на второй, меньший двор храма Львиного Хвоста (Хеб-Сед), построенного в честь одноименного праздника тридцатилетия царствования великого фараона.
Двор был заполнен гробницами приближенных и родственников Джосера. Как сундуки со слабо выпуклыми крышками, стояли они в ряд на своих пьедесталах.
Четыре тонкие, как пальмовые стволы, колонны лепились на фасаде каждой гробницы.
Таинственно и мрачно стояли эти тяжелые, наглухо закрытые ящики, с единственной узкой дверью посередине, сохраняя внутри весь жизненный обиход давно умерших любимцев фараона Джосера.
Храм Львиного Хвоста окончился. Новый узкий проход вывел пришельцев к восточной грани пирамиды. Справа за стеной колыхались под ветром сикоморы. Еще дальше, за деревьями, вновь поднимались массивные белые колонны двух гробниц: дочери фараона — принцессы Инт-Ка-С и матери Джосера Нимаат-Хапи. На стене, совсем близко от угла пирамиды, лепились столбики, увенчанные массивными изваяниями коршунов с опущенными крыльями. На груди каждой птицы зияло большое круглое отверстие. Ветер, врываясь в эти отверстия, производил мелодичные низкие звуки, полные глубокой печали. Казалось, что самые стены гробниц вечно плачут о похороненных в них женщинах.
Джедефра изумился искусной выдумке прославленного строителя, ученого врача и первого советника великого Джосера — премудрого Имхотепа.
У подошвы пирамиды с северной стороны располагался храм самого Джосера. На шум оттуда вышло несколько почти обнаженных жрецов, поспешно и безмолвно отступивших в тьму боковых проходов.
Жрец повел фараона через короткие запутанные переходы и перегородки между черными, расписанными золотом и синью колоннами в глубь храма.
Незаметно они очутились далеко внутри пирамиды. Впереди чернел коридор, ведший в камеру с саркофагом фараона. Жрец остановился перед плитой из красного гранита.
На левой стене вырисовывался барельеф фараона с занесенной над головой палицей. Жрец быстро притронулся к палице.
Гранитная плита повернулась, встала ребром поперек прохода, под ней зачернела пустота. Вниз вели широкие ступени. Жрец быстро спустился, освещая путь фараону. Джедефра последовал за ним, осторожно поддерживаемый телохранителями, и очутился в просторной квадратной комнате, расположенной как раз под саркофагом Джосера и высеченной прямо в скале.
Джедефра приказал своим слугам удалиться обратно в коридор и, оставшись вдвоем с жрецом, огляделся.
Вся стена подземной комнаты была покрыта плитками зеленого фаянса, углубленными посередине и увеличивавшими отражение пламени факелов.
Выкрашенный в темно-синюю краску потолок, казалось, уходил высоко вверх, и написанные на нем золотом изображения как будто парили в ночном небе. Налево в стене была неглубокая ниша, впереди которой стояла известняковая статуя фараона Джосера.
Великий Нетерхет-Джосер сидел на своем простом троне, высоко подняв подбородок, прижав одну руку к груди, а другую свободно положив на колени. Голову обрамлял полосатый царский платок, высеченный грубыми деталями. Застывшее скуластое лицо фараона, с низким лбом, приплюснутым носом и выпяченным крупным ртом, было исполнено силы. Костлявые челюсти, сведенные напряжением, говорили о непреклонной воле. Большие, глубоко посаженные глаза были сделаны из черного полупрозрачного камня, зрачок из серебра, белки покрыты эмалью, а веки и брови обозначены черной медью.
Красные огоньки светильников мелькали в этих необыкновенно живых глазах, придавая взгляду статуи зловещее упорство. Окрашенные в темно-коричневый цвет лицо и руки резко выделялись на белом камне.
Два фараона Черной Земли встретились взглядами — два олицетворения всемогущей земной власти.
Со смутной тревогой Джедефра отвернулся и посмотрел в ту сторону, куда вечно обречены были смотреть неподвижные глаза Джосера. Там, в рамке из светлых фаянсовых плиток с изображениями сокола, высилась обнаженная и отполированная часть каменной стены, испещренная глубоко врезанными иероглифами, покрытыми зеленой краской — цветом, воскрешающим мертвое.
По сторонам стояли две тончайшие вазы древней работы с именем богини Маат,[39] вырезанные из цельных кусков горного хрусталя. Рядом с вазами оба простенка охраняли две большие бронзовые статуи сокола Гора с головами, отлитыми из золота, и глазами из красного камня. Птицы, увенчанные сложными золотыми коронами, сидели совершенно симметрично, обратив друг к другу хищные загнутые клювы. Сходство статуй с живой натурой было так велико, что невозможно было не верить в действительность существования таких громадных соколов. Полированные выпуклые глаза блестели пронзительно и надменно.
Джедефра глухо сказал жрецу:
— Надпись сделана священным письмом, тебе знакомым. Читай!
Жрец свободно разбирал особый секретный шрифт, которым иногда делались надписи, составлявшие тайну для непосвященных. Он быстро и громко начал чтение. В душной темноте подземелья, под глухое потрескиванье светильников звучали отрывистые, иногда щелкающие звуки языка Та-Кем, выражавшие последнюю волю умершего более ста лет назад Джосера.
— “…Я был в моем дворце в великом беспокойстве, — читал жрец, — ибо река не поднималась семь лет и страна находилась в величайшей нужде. Тогда я собрался с сердцем и спросил премудрого Имхотепа, где находится родина Хапи[40] и какой бог там правит. Имхотеп ответил: “Мне необходимо обратиться к богу. Я должен пойти в хранилище Тота и справиться в “Душах Ра”. Он пошел и вскоре вернулся и рассказал мне о поднятии реки и о всех вещах, с этим связанных; он открыл мне чудеса, к которым не был еще указан путь никому из царей изначала…”[41]
Жрец сделал паузу. Фараон быстро спросил:
— Разве Нетерхет-Джосер не ходил по прекрасным путям, по которым ходят достойные? Почему мудрец открывал ему тайны только в большой беде?
Взгляд жреца стал тяжелым и пристальным, он погрузил его, словно копье, в глаза Джедефра.
— Великое знание, — медленно заговорил он, — опасно, если открыто для не умеющих держать сердце свое. И мудрец, если царь не пойдет по дороге бога, может многое исправить…
Джедефра шумно вздохнул, загораясь гневом.
Жрец поспешно закончил:
— Великий Имхотеп открыл царю тайны в час бедствия. Раньше в этом не было нужды…
Джедефра сдержал себя и знаком велел жрецу читать дальше.
Голос жреца развертывал перед фараоном волшебные дали неведомых стран. Джедефра узнал, что жизнь его страны — могучая река Хапи — вовсе не вытекает из двух пещер на краю Великой Дуги. Далеко на юге она берет свое начало в беспредельных болотах, а из гор таинственного Та-Нутер течет вторая река прозрачно-голубой воды,[42] которая вливается в Хапи выше последней шестой ступени. Дожди необычайной силы льют в стране Пунт все время наводнения, и голубая река дает тот подъем воды на двенадцать локтей, от которого зависит жизнь его страны. Если воды поднимаются на два локтя ниже — страна Та-Кем обрекается на голод.
Шесть огромных каменных ступеней-порогов ведут к месту слияния обеих рек; первый — у границ Кемт, на острове Неб.
И еще узнал фараон Джедефра, что мир велик и населен множеством народов. За песками восточных пустынь, между двумя могучими реками, живет оседлый и многочисленный народ, не уступающий в познаниях народу Та-Кем.[43] Позади Та-Кем, на Великом Зеленом море, есть большая страна с многочисленным населением. Там есть города с величественными постройками.[44] Таинственные обитатели этих городов покрывают стены непонятными письменами, создают искусные изображения зверей и людей.
— “Нетерхет-Джосер говорит для своих потомков, повелевая им помнить об этом. В трудный час Черной Земли можно повернуть силы Кемт на покорение стран, и народы их отдадут свои богатства.
Тяжелы пути по земле — только Великая Дуга, покоряясь смелым сердцам, проносит людей на необъятные расстояния и соединяет их между собой. В покорении Великой Дуги — будущее счастье земли Кемт, в познании всей необъятности мира — ее мудрость, в хорошем и многочисленном флоте — сила. Строй суда, способные бороться с морем, как то открыто мне премудростью Имхотепа…
Укрепи свое сердце и следуй по этому истинному пути…”
В подземелье становилось душно. Мелькающие блики факелов, дробившиеся на тысячи светлых пятен в глазури изразцов, упорный жуткий взгляд статуи Джосера, пронзительные красные глаза золотых птиц, торжественно размеренный голос жреца, слова, падавшие, как камни… Джедефра почувствовал, как воля его слабеет и он, владыка, становится мальчиком на берегу безбрежного моря, жадно раскрытыми глазами смотрящим в неведомую даль… Фараон знал о сэтэп-са, могучем гипнотическом воздействии, которое умели применять жрецы. Джедефра собрал волю и стукнул своим посохом в пол.
— Ты прочел мне все? — спросил он вздрогнувшего жреца.
— Да, все, Великий Дом, — поспешно ответил жрец. Горящие глаза его погасли, морщины усталости легли вокруг рта.
Бряцая оружием, телохранители зашевелились у лестницы. Джедефра в последний раз осмотрел тайное подземелье и направился к выходу.
Прозрачное, сияющее утро заглядывало в просветы крыши храма Джосера. В просторе развернувшейся справа долины, у подножия сверкающей белой пирамиды, зеленая подземная комната показалась сном.
Джедефра благосклонно кивнул жрецу, остановившемуся в почтительной позе у входа в храм.
— Я пошлю своего казначея на юг, в Пунт, и дальше, в Страну духов, узнать край Великой Дуги… Доволен ли ты?
Жрец молча поклонился фараону.
— Тогда ответь мне еще! Знаешь ли ты, где находится храм Тота, в котором хранятся тайные книги, планы и вещи из дальних стран?
— Храм бога Тота, Великий Дом, в котором были планы и “Души Ра”, — это тайна Имхотепа…
— Тебе неведомая? — резко спросил Джедефра, проницательно взглянув на жреца.
— Я только след на пыли от ног великого мудреца, — бесстрастно ответил жрец.
Фараон отвернулся, жестом подозвал рабов с носилками. Жрец проводил фараона через дворы храмов до выхода из наружной стены и остался, скрестив руки, в дверном проходе.
Неподвижный подобно статуе, он следил, как слегка покачивались носилки Джедефра на дороге к городу Белой Стены.
Двое юношей в одних набедренных повязках широко шагали по обе стороны носилок. Они несли на длинных шестах полукруглые опахала.
Юноши держали их так, что голова фараона всегда находилась в тени. Золотые основания опахал, ручки носилок, отделка сидений фараона, полированная медь оружия телохранителей сверкали на открытом склоне в ярком солнце.
Шествие скрылось за первыми домиками, и жрец пошел обратно в храм Джосера, согбенный, в раздумье.
Жрецы храма окружили его, и самый старший почтительно приблизился.
— Ты хочешь знать, почему я открыл тайную комнату фараону? — спросил жрец, не дожидаясь вопроса старика.
— Именно так, мудрый Мен-Кау-Тот!
— Для подчинения нам фараона, для возвеличения нас, служителей Тота! — громко сказал жрец, названный Мен-Кау-Тотом. — Все больше уходят от власти служители Тота, — продолжал Мен-Кау-Тот. — Его величество, жизнь, здоровье, сила — молод. Совет отца мудрости Имхотепа, — ибо кто, как не он, говорит через Джосера! — поможет ему идти праведно, так, как это считаем мы. А может быть, и не будет так. Жрецы Ра давно помышляют о господстве бога солнца в стране Кемт. Давно боремся мы с ними за власть и богатство, за почет нашим богам, какой был в древние времена Нармера.[45] То ведомо тебе…
— Слушаю и запираю рот свой, — тихо ответил старый жрец. — Ты мудр, как и надлежит быть великому начальнику мастеров…
В это время утомленный фараон, покачиваясь на носилках, тоже размышлял о виденном. Огромная надпись с завещанием Джосера неотступно стояла перед его глазами.
“Я построю много судов, — размышлял Джедефра, — по сто локтей в длину. Для Черной Земли близкими станут Зеленое море и страны Иаа[46] за Лазурными Водами… Трус тот, кто прогнан со своей границы, — я согну трусов, разобью бродячие народы и заставлю работать для Черной Земли…”
Приветственные клики помешали фараону размышлять дальше. Над воротами большого дворца трепетали флаги на высоких шестах. Красная корона над входом обозначала, что это северные ворота.
Фараон удалился на омовение и отдых, приказав позвать к себе чати — главу над всеми царскими работами (то есть главного строителя и первого сановника) и одного из двух казначеев бога, заведовавших сокровищницей Верхней и Нижней Кемт.
Когда Джедефра вошел в тронный зал, оба вельможи уже ждали своего владыку. По знаку фараона первым приблизился казначей бога Баурджед. Это был совсем еще молодой человек. Его гладкая бронзовая кожа оттенялась простым белым передником. Пестрый воротник обнимал шею и плечи. Широкое лицо с горбатым носом и твердым ртом, обрамленное витыми прядями короткого парика, дышало энергией.
Баурджед упал к ногам фараона. Джедефра оказал ему особую милость, разрешив поцеловать свою ногу, вместо праха у ног царя, как это следовало по обычаю. Затем, по воле Джедефра, Баурджед приподнялся и остался коленопреклоненным у подножия трона.
— Ты посетил чужие страны, ты перешел пространства, — начал фараон. — Мое величество довольно в своем сердце: ты привел с Зеленого моря двадцать кораблей с кедром для храмов и дворцов, ты был у озер Змея[47] и врат Юга. Теперь надлежит тебе следовать в Пунт и быть оком фараона в этой неведомой нам Стране духов. Из Пунта надлежит тебе проникнуть еще дальше на юг, до пределов земли на берегах Великой Дуги. — Джедефра умолк, выжидательно глядя на Баурджеда.
Тот вздрогнул, приподняв голову, мускулы его напряглись, и лицо приняло желтоватый оттенок. Но почти мгновенно молодой человек справился с собой и бесстрастно поник головой.
— Какой избрать путь для следования, — продолжал фараон, — предоставляем тебе: плыть Лазурными Водами или же идти через страны Вават и Иэртет,[48] вверх через ступени Хапи. Спроси совета у мудрого Мен-Кау-Тота… Через два дня придешь ко мне, и я дам тебе ту силу, какая потребуется.
Джедефра замолчал и велел приблизиться чати — главному строителю.
Баурджед поспешно вышел из зала. Приказ фараона застал его врасплох, он никак не мог ожидать такого поручения. Неведомый путь в безмерную даль, в пугающую Страну духов… Что может быть страшнее для сына Кемт, чем возможность погибнуть на чужбине, без погребения по магическим обрядам, обеспечивающим душе вечность!
Оглушенный и растерянный, Баурджед прислонился к деревянной колонне и долго стоял, пока не овладел собою.
Джедефра и чати долго беседовали в опустевшем зале. Фараон, удалив всех присутствующих, немедленно приказал главе работ сесть рядом с собою, без всякого этикета. Чати, тучный и низкорослый, выпячивая круглые глаза, снял парик, обнажив лысое плоское темя.
Наступил вечер. Фараон повел своего приближенного в покои и продолжал беседу за ужином.
Джедефра хотел что-нибудь сделать для расширения пришедшей в упадок оросительной системы. Завещание великого Джосера неотступно стояло перед ним, указывая путь к великой славе. Его отец Хуфу построил величайшую пирамиду, а память его проклинает множество людей, ненависть реет над его могилой — нет, это не слава! Молодой фараон понимал, что ему не придумать лучше сказанного в завещании, где опыт выдающегося правителя Черной Земли соединился с мудростью Имхотепа.
Джедефра чувствовал, что нужно торопиться. Причина неопределенной тревоги, оставшейся после разговора с великим ясновидцем, теперь стала яснее для фараона. Он начинал понимать борьбу разных сил за власть и богатство, происходившую в государстве, борьбу, в которой жрецы, объединяясь с частью знатных людей, играли главную роль. Если он хочет повернуть к былым временам Джосера, то его поддержат богатые владельцы земель в сепах — провинциях — и жрецы Тота. Но тогда он пойдет наперекор намерениям жрецов Ра, поставивших его у власти. Могущество Ра ему хорошо известно, а с ними ведь вся знать столицы, армия чиновников и еще одна сила — жрецы Пта. Опасно вступить в эту борьбу. Нужно до времени скрывать свои намерения, укрепляясь в решении…
Чати, осторожный и хитрый вельможа, не противоречил фараону, но старался охладить молодого владыку, указывая на неисчислимые трудности возобновления строительных работ в провинциях, когда все рабочие государства оказались сосредоточенными в области столицы, а окраины обеднели, и сокровищница бога уже не может собрать нужных средств…
В то время как Джедефра совещался с чати, Баурджед в тоске одиноко сидел на берегу реки, не смея вернуться домой. Ему не могло прийти в голову попытаться изменить приказ фараона, это веление живого бога. Как истинный сын Черной Земли, молодой казначей только свою страну мыслил местом своей жизни и смерти. За что посылают ему боги такое тяжкое испытание?
За спиной Баурджеда послышался шорох. Казначей обернулся и увидел старшего кормчего своего корабля. Он вспомнил, что еще вчера он послал ему приказание прийти. Уахенеб почтительно склонился перед Баурджедом:
— Я помешал тебе в размышлении, господин… Вестник передал мне твое повеление…
— Нет, хорошо, что ты пришел, Уахенеб! Ты будешь нужен мне… Его величество, жизнь, здоровье, сила, повелел мне идти вверх, в Страну духов, пока не достигну я края земли, и не возвращаться в Та-Кем, не проникнув на юг, до самой Великой Дуги…
Кормчий, при упоминании фараона склонившийся еще ниже, отшатнулся.
— Я беру тебя и других, ходивших со мной на Зеленое море, опытных в путешествиях, — продолжал Баурджед, пристально вглядываясь в лицо кормчего с неосознанным желанием найти в нем выражение растерянности и ужаса. Но кормчий овладел собой, и его суровое лицо не отразило желанного Баурджеду страха.
— Что же ты молчишь, Уахенеб? — недовольно спросил молодой казначей. — Разве тебя не страшит гибель там, так далеко от Черной Земли?
— Страшно остаться без погребения далеко от гробниц предков, — тихо сказал суровый кормчий. — Я маленький, сын простого человека, и мое дело повиноваться… Но я знаю — давно живет в народе мечта о богатом Пунте, стране, где никто не согнут страхом и голодом, где широка земля и множество деревьев со сладкими плодами… Нет больше страха, как погибнуть в дороге, но не будет и большей славы в веках, если проложить туда пути для сынов Черной Земли… — Уахенеб оборвал речь, сверкнувшие было глаза его потухли.
— Хорошо, — сказал удивленный Баурджед. — Ты храбр и закален в странствиях… Я призывал тебя для другого дела, еще не зная воли Великого Дома. Можешь идти в дом свой, я опять позову тебя, когда будет нужно.
Молодой казначей проводил взглядом уходившего кормчего. Короткий разговор с суровым Уахенебом как будто облегчил его душу. Может быть, Баурджед почувствовал себя менее одиноким, вспомнив, что сотни верных людей будут служить ему в пути. Может быть, выполнение воли фараона стало казаться не столь безнадежным.
И еще смутная досада на самого себя придала твердости Баурджеду. Казначей сознавал, что он, знатный и могущественный вельможа, оказался в чем-то слабее своего кормчего — простого человека, встретившего страшный приказ с подобающим воину мужеством и спокойствием.
Несколько успокоившись, молодой казначей медленно направился к дому.
Но бурное отчаяние его юной жены снова повергло Баурджеда в смятение. Он не смог скрыть от нее страшную правду…
После слез и исступленных воплей, после нежной мольбы молодая женщина бросилась в храмы, обратившись к помощи богов.
Вместе с Баурджедом она склонялась в полутемных святилищах перед звероголовыми изображениями тех, кто должен был спасти Баурджеда от судьбы, изменив ее, и дать другое направление мыслям фараона.
Страшные, выкрашенные в черный и темно-красный цвет статуи богов-зверей сидели перед молодой четой в пугающей неподвижности. И оба невольно вздыхали с облегчением, выходя на солнечный свет из храма, в котором оба чувствовали себя одинокими, придавленными и отвергнутыми, несмотря на льстивые уверения жрецов.
Тоска, снедавшая молодого казначея, только усилилась, когда поздно вечером они с женой вернулись в свой богатый и уютный дом. И Баурджед снова ощутил бы недовольство собой, если бы мог узнать, что делалось в это время в домике Уахенеба, стоявшем у самого берега, на нижней окраине города. Когда явившийся домой кормчий рассказал жене о плавании, предстоящем ему, та испугалась, но быстро овладела собою. Еще крепкая сорокалетняя женщина, вырастившая троих детей, она привыкла к невзгодам жизни без Уахенеба, так часто отлучавшегося в свои плавания. Тут было иное: страшная угроза нависла над небогатым, но благополучным существованием всей семьи. И все же жена Уахенеба старалась не показать мужу своей жестокой тревоги, зная, что он ничем не сможет помочь ни ей, ни себе.
Уложив мужа отдохнуть, она принялась стряпать; достала пива, созвала друзей. И в этот вечер на маленьком дворе Уахенеба долго не смолкал шум возбужденных разговоров, воспоминаний о перенесенных опасностях, бодрящих напевов, что помогают жить морякам, земледельцам и водителям караванов через безотрадные, мертвые пустыни…
Отчаяние, слезы и мольбы перед богами не помогли: в назначенный срок Баурджед предстал перед фараоном. Долгая беседа со жрецом Тота Мен-Кау-Тотом ободрила молодого человека. После наставлений жреца Баурджед получил надежду на возвращение, хотя в доме его оплакивали как идущего на верную гибель.
— Я повелел казначею севера освободить тебя от забот, — сказал Джедефра.
Баурджед ничего не ответил.
— Какой же путь ты избрал? — негромко продолжал фараон.
— Я думал идти вверх, — ответил Баурджед, — но мудрый Мен-Кау-Тот отсоветовал мне. Я поплыву Лазурными Водами — так будет скорее…
Джедефра удовлетворенно наклонил голову.
— Я прикажу рабам умастить тебя. Пошли в гавань Суу[49] мой приказ впереди себя, чтобы лучшие суда прибыли туда от озер Змея и стояли в готовности. Возьми лучших воинов, рабов, опытных в плавании, оружия, продовольствия и сокровищ, сколько понадобится. И не медли с отправлением — путь невообразимо далек, ни один из сынов Черной Земли не дерзал еще совершить его… А я хочу, чтобы ты вернулся быстрее. Весть об открытии пути в землю богов ободрит голодных, богатства, которые ты привезешь, успокоят вожделения знатных. До пределов мира достигнет власть Черной Земли, и польются богатства в нее потоком, подобным Хапи. Богатства, взятые из чужой страны, скорее приведут Та-Кем к новой силе, чем долгая постройка каналов и плотин. Вот почему на тебя большая надежда. Будь смел, как подобает сыну Та-Кем и твоему высокому назначению. И обнимешь ты детей своих, успокоишься в гробнице своей.[50] А я позабочусь, чтобы гробница была достойна тебя! — Неподвижное лицо фараона осветилось благосклонной улыбкой.
Баурджед, припав к ногам владыки, благодарил Джедефра и удостоился новых знаков милости.
Большая толпа собралась у истертых ступеней, сходивших к реке против главной торговой площади. Три больших грузовых судна медленно выплыли на середину реки. Борясь с течением, гребцы ударяли по воде, и легкие брызги искрились на солнце вокруг мерно качавшихся желтых весел.
Все стоявшие у пристани отдельными кучками: сановники и жрецы, воины, густо усеявшие площадь и берег, толпы простого народа и только что закончившие погрузку рабы — все были по-разному взволнованы отправлением невиданной экспедиции. Многоголосый шум толпы то стихал, то снова усиливался, заставляя недовольно хмуриться группу вельмож и жрецов, стоявших у северного края причала.
Многие смотрели на отъезжавших с тревогой и сожалением, как бы не сомневаясь в неизбежной гибели храбрецов. Другие оживленно переговаривались, высказывая смелые надежды. Нашлись и такие, которые завидовали отправляющимся и хотели бы быть в их числе. Их было больше всего среди бедных ремесленников и садоводов столицы, в особенности молодых, еще не смирившихся с однообразием своего тяжелого ежедневного труда.
За судами, уходящими из пределов страны, молчаливо и грустно следили рабы, которым суждено было кончить здесь свои дни в унижении и плену.
Не раз слишком отважные возгласы, раздававшиеся в толпе, заставляли людей испуганно оглядываться назад. Там, вдали, на балконе дворца, подпертом высокими столбами, невидимый в глубокой тени навеса, присутствовал сам живой бог, фараон, даже имя которого не смел произнести житель Кемт…
На каждой мачте, составленной из двух высоких, сходящихся кверху стволов, поднялись огромные квадратные паруса. Мастер паруса, большой Нехси, сидевший высоко на корме, потянул за веревки — широкая рея повернулась, и парус надулся. Кормщики-негры навалились на рулевые весла, привязанные по два с каждой стороны высокой кормы. Суда стали быстро удаляться от города Белых Стен.
Баурджед с кормы головного судна жадно вглядывался в берег. Городские постройки медленно принимали туманные, нерезкие очертания.
Уже около часа шли суда вверх по реке, а все еще позади, на левом берегу, можно было различать далекую зелень пальм и над нею едва заметную белую полоску. Но вот долина повернула прямо на юг, красноватые обрывистые скалы выдвинулись справа и закрыли отдаленный низкий берег…
День за днем плыли суда мимо сел и городов. Низменности сменялись скалами. Ничто не нарушало дневного покоя безлюдных болот, дремавших в жарком солнце. Северный ветер — друг Черной Земли — дул почти непрерывно, ослабевая лишь к рассвету, и днем снова возобновлял свою благодатную деятельность.
До зимней прохлады было еще далеко, и птицы не скоплялись на реке в таком несметном количестве, как во время наводнения.
Великолепные цапли поднимали вверх свои гибкие шеи и смотрели на проходившие суда зоркими, ясными глазами. Священные птицы Тота[51] иногда проносились над судами к радости всех, веривших, что их тяжелый, угловатый полет сулит удачу и доброе напутствие. Временами встречные суда сообщали новости из провинций Юга, и надрывные голоса разносились по реке, пока не замирали вдали. Десять из сорока двух сепов — провинций обеих стран[52] — уже были пройдены Баурджедом на пути от столицы государства.
Выше по реке долина снова расширялась, отклоняясь на восток, — начиналась провинция Антилоп. С древних времен здесь среди домашнего скота преобладали антилопы разных пород.
Суда проходили близко от каменоломен, в которых трудилось множество рабов. У самой воды люди пилили камни, превращая грубо обтесанные глыбы в гладкие, правильные плиты и брусья.
Длинные медные пилы сверкали на солнце, с визгом и скрежетом врезаясь в камень при помощи беспрерывно подсыпаемого мокрого песка. Черные и бронзовые тела голых рабов блестели от пота.
Одного раба били палками, растянув во всю длину на горячем прибрежном песке.
Спутники Баурджеда равнодушно смотрели на привычное зрелище: раб, военнопленный, назывался в стране Кемт “живой убитый” — между ним и настоящими людьми лежала тень смерти, не дававшая ему того права на жизнь, которым обладали роме, истинные сыны Черной Земли.
Суда экспедиции повернули к левому берегу, в тихую воду, пересеченную длинными выступами зарослей тростников и папируса. Вода реки уже стала прозрачной, папирусы качали свои опахала, туманно отражаясь на ее желтоватой поверхности. Внезапно из-за изгиба колеблющейся зеленой стены показались две лодки из связок стеблей папируса, с изогнутыми, как гусиные шеи, кормами и длинными носами. На той, что была ближе к судам, величественный бородатый мужчина с копьем в руке всматривался в чащу зарослей.
Во второй лодке стройный юноша держал наготове круто изогнутый лук, а старый нубиец стоял на коленях на корме, уперев длинный шест в дно реки.
Мужчина, повернув лицо, стал вглядываться в суда, и Баурджед узнал Сенноджема — самого начальника Антилопьего сепа.
Лодки быстро подошли к судам. В это время с противоположного берега послышались крики. Там, где работали рабы, пилившие камни, забегали надсмотрщики в длинных пестрых одеяниях, с посохами в руках. Наказываемый палками человек вырвался из крепких рук своих мучителей и мгновенно бросился в реку. Он был, по-видимому, незаурядным пловцом — так легко и быстро рассекал он спокойную желтую гладь реки, лежа на боку, щекой к воде. Крокодилы не появлялись — они или не заметили еще пловца, или их было мало в этой области. Пловец быстро достиг середины реки и приблизился уже к левому берегу. Он плыл близко от судов, и Баурджед мог хорошо разглядеть беглеца. Это был ливиец — светлокожий, с большими синими глазами юноша, красивый той очаровательной, задумчивой, почти девической красотой, которая свойственна ливийцам в юном возрасте.
Обе лодки, ставшие рядом, оказались между беглецом и берегом. Юноша, видимо сын Сенноджема, быстро натянул лук, и стрела, пущенная меткой и безжалостной рукой, глубоко вонзилась в бок ливийцу. Беглец слабо вскрикнул, обратив побелевшее лицо с огромными, широко раскрытыми глазами к лодкам. Несколько судорожных движений — и красивый раб скрылся под водой.
Сын начальника провинций улыбнулся и гордо вскинул голову, но отец, недовольно нахмурившись, обратился к нему с упреком:
— Напрасно ты сделал это! Наша земля и наши постройки требуют много рабочих рук. Это не мудро, и не годится для мужчины такая горячность.
— Достойный отец, ведь опоздай я с выстрелом, и раб уже скрылся бы в тростниках, — попытался оправдаться сын.
Сенноджем спрятал в бороде суровую усмешку:
— Мальчик, ты не знаешь, что из нашей страны некуда убежать. Страшные песчаные горы хранят границу на западе — этот безумец не прожил бы и дня в пламенном зное. Наши воды стерегут крокодилы, заросли — гиены и львы. Не прошло бы двух дней, как беглец бы погиб, или же, что вернее, приполз бы обратно в плен, согнутый страхом и голодом.
Юноша виновато потупился, но отец продолжал:
— Ты ошибся, но это урок. А сейчас не будь печален и идем встречать знатного сановника — казначея самого Гора, фараона…
И начальник сепа первым взобрался на судно Баурджеда, подхваченный десятками раболепных рук.
Баурджед остановился на один день для отдыха в доме Сенноджема, окруженном чудесными садами.
Путь по родной стране был уже недолог — всего пять дней плавания оставалось до столицы древних царей Та-Кем. Там долина реки описывала крутую дугу и шла прямо на восток на протяжении трехсот тысяч локтей. Животворный Хапи глубоко врезался в пустыню, отделявшую Лазурные Воды от Черной Земли. От середины этой извилины до моря было не более четырехсот тысяч локтей, и здесь пролегал единственный путь к Лазурным Водам и дальше — в древние медные рудники на северо-востоке, в стране Ретену.
Этой дорогой ходили очень редко, раз в десятки лет, только большими военными караванами. Трудности пути через пустыню были очень велики.
Только самая неотложная необходимость заставляла сынов Та-Кем идти в этот раскаленный ад. Даже великому Джосеру не удалась попытка вырыть колодцы на страшном пути, хотя на этих работах погибло много людей.
Последние приготовления заняли четыре дня. Грузовой караван из трехсот ослов, навьюченных большей частью мехами с водой, уже отправился вперед. Выступление главного отряда с самим Баурджедом было назначено на середину ночи.
Вечерний свет, прозрачный и мягкий, ложился на благословенную землю Кемт. Баурджед, отослав всех, вышел один на плоский берег. Ветер утих, селения противоположного берега казались совсем близкими — так спокойна была река.
Свободные земледельцы группами и в одиночку спешили к своим домикам, под сень сикомор и пальм. Рабы, в сопровождении надсмотрщиков, толпой шли в свой поселок, скрытый высокой оградой. На невысоком холме, в зелени виноградников, сновали люди, доносились смех и заунывное пение. Обнаженные рабы несли в плетенках, раскачивавшихся на длинных палках, высокие только что запечатанные кувшины с вином.
Вдали заклубилась розовеющая пыль, расступилась, в ней замелькали гладкие желто-серые бока и спины, выдвинулись длиннейшие рога: пастухи гнали стадо больших антилоп — ориксов.[53] Два пастуха позади несли на коромыслах в корзинках маленьких новорожденных антилоп; их матери доверчиво шли рядом и косились черными влажными глазами на медленно переступавших людей.
Мальчики загоняли в ограды птичьих дворов стада журавлей, которых они пасли на берегу реки.
Со смехом и шутками охотники вели на веревках крупных хойте (гиен). Серые с острыми ушами пятнистые собаки в широких ошейниках бежали впереди.
Несколько лодок плыло через реку на правый берег. В них переправляли с пастбищ антилоп и коз. Животные спокойно лежали на дне лодок.
Мирное оживление вечера только растравляло тоску Баурджеда. Он знал, что видит свою родную страну в последний раз перед неведомо долгим, опасным путем туда, где не ступала еще нога жителя Кемт. В страны, населенные невиданными людьми и зверями… Неслыханно повеление фараона, но он обязан выполнить его. Умереть или жить, но идти вдаль, на юг. Нет другого пути, и нет сейчас у него другой жизни…
На обнаженную спину Баурджеда повеяло жаром. Он обернулся, и взор его, только что отдыхавший на зрелище возделанных садов и полей, перенесся на красные скалистые обрывы, изборожденные черными промоинами и трещинами. Две красные стены расходились к реке, образуя подобие широких ворот, а вдаль, на восток, шел как бы коридор из голых, бесплодных скал, исчезавший в мутном дрожании раскаленного воздуха. Ни одного звука не доносилось оттуда, ни одно деревце не оживляло крутых обрывов, окаймленных у подножия холмами крупного щебня и гладкими волнами песка. Через несколько часов Баурджед со своим караваном скроется в этой раскаленной долине, пересекающей горы восточной пустыни…
Звонкая отрывистая песня пронеслась над рекой, послышались плеск и возня. Молодежь вышла купаться к реке, пользуясь последними лучами солнца.
Баурджед снова повернулся к реке и увидел почтительно стоявших поодаль чиновников своей экспедиции. Они явились с докладами, но не смели нарушать раздумья начальника. Баурджед глубоко вдохнул в свою широкую грудь прохладный живительный воздух и медленно направился к своим подчиненным…
Последний глоток воды из любимой могучей реки. Не из богатой, разукрашенной чаши — нет, подобно простому земледельцу, погрузив колени во влажный речной песок, низко склонившись над серебрящимися маленькими волнами.
Как призраки, как уже отошедшие в Страну запада, молча двигались люди в ярком свете луны. Мрачные скалистые стены — разверзнутая пасть неведомого — приняли их, сошлись позади, сомкнулись, отделив от радостных садов Та-Кем. Родная земля отвернулась от путников, прошлое скрылось вдали, будущее было неведомым, осталось одно настоящее — тяжелый далекий путь. На нем высокие скалы дышали гневным жаром, их изрытые знойными ветрами склоны надвигались, как грозные духи пустыни, песчаные бугры шелестели, дымясь мельчайшим багровым песком, веявшим смертью над опущенными головами идущих…
Два жреца неторопливо шли по внутреннему двору храма Ра. Солнце слепило, отражаясь от стен и прямоугольных столбов белоснежного известняка. Оба жреца, как по команде, быстро оглянулись и свернули направо, в высокий портик.
В тени, под толстыми плитами камня, тяжко давившими на верхушки колонн, сразу повеяло прохладой. Дальше, в глубь храма, полумрак все более сгущался, и жрецы, ослепленные переходом от сверкающего снаружи дня к темноте храма, пошли осторожней, протягивая вперед руки. Они остановились у черного отверстия невысокого входа.
— Это ты, Каамесес, и ты, Хориахути? — Мощный голос, раздавшийся из мрака, заставил вздрогнуть обоих жрецов.
— Да, это мы, великий ясновидец, сердце и язык бога на земле! — дружно откликнулись названные.
— Войдите, произнеся магические слова для очищения глаз и сердца!
Жрецы, бормоча заклинания, вступили в темный проход. Впереди горел маленький светильник, и его огонек показал вошедшим направление. Едва только жрецы поравнялись со светильником, он мгновенно угас, а впереди и слева вспыхнул другой.
Пришедшие достигли тяжелой кожаной завесы. Тут второй светильник тоже угас, и они остановились во мраке.
Жрец постарше громко произнес священную формулу отражения зла.[54] Прежний голос снова разрешил им войти. За занавесом находилась небольшая квадратная комната, в самой толще массивных стен храма. Мягкие шкуры на полу заглушали шаги.
У задней стены на роскошном кресле из черного дерева восседал великий ясновидец — верховный жрец бога Ра. Девять золотых светильников на высоких подставках давали достаточно света, чтобы разглядеть властное лицо сидевшего и острый блеск его жестких, спокойных глаз.
Оба пришельца упали на колени перед креслом верховного жреца. Тот указал им на львиную шкуру перед собой.
— Не нужно почестей, мы одни. Садитесь и говорите просто, не тая дурных вестей. И не бойтесь ничего, я давно знаю вас.
Жрецы переглянулись, и старший из них заговорил:
— Позволь сначала мне довести до твоего сведения. Потом Хориахути расскажет тебе вести с юга. Он только что прибыл из Шмуна — города восьми богов.[55]
Верховный жрец Ра молча кивнул головой.
— Его величество, жизнь, здоровье, сила, — продолжал старший жрец, — как то ведомо тебе, получил из гавани Суу весть о том, что казначей бога на семи кораблях благополучно отплыл, и затем более трех месяцев не было никаких вестей о кораблях. Из этого Великий Дом заключил, что путешествие началось хорошо, и Баурджед уже прошел далеко на юг. Тогда их величество дал сто колец золота храму Тота в Белой Стене, а древний храм Тота в Шмуне одарил землей, рабами и скотом. Начальник мастеров Мен-Кау-Тот часто бывает у фараона, ободряя его в новых мероприятиях. Два дня назад чати поехал на юг, чтобы осмотреть место рытья большого канала у пирамид Снофру. Вместе с ним послано войско для князя юга, который обещал Великому Дому поход в страну Нуб…[56]
Жрец поклонился и замолчал.
— Ты не сказал еще мне, что говорят в столице, как велика сила их речей.
— Истинно сказано: “Враг для города — это говорящий…” — Жрец лицемерно потупился, заметив, как блеснули глаза великого ясновидца. — Много недовольных среди знатных людей. Все смелее говорят их языки в домах. Они недовольны тем, что начинается возвышение владык сепов, которым фараон раскрывает сокровищницу, посылает людей для войны и построек. Они боятся, что толпа маленьких людей разъярится, ибо народ начал мечтать теперь о стране Пунт, где все живут в довольстве, как издревле говорилось в сказках. Благочестие падает… Недавно военачальник Уахкарт осмелился сказать, что лучше завоевывать далекие страны, как то делал Снофру, чем строить пирамиды!
Верховный жрец Ра злобно схватился за свою бороду.
— Я был в Шмуне глазами начальника мастеров Пта,[57] — робко заговорил младший жрец. — Начальник Антилопьего сепа Сенноджем написал начальнику Юга. Сенноджем хорош для его подданных, он собирает отряды воинов, он хвалится своим величием, происходящим от древних царей — потомков Гора. Жрецы Тота возвышают его, они заключили союз с жрецами Хнума, обогащенными Хуфу и ныне злобствующими на жрецов Ра и Пта… Но главный враг наш — Мен-Кау-Тот. Он говорил начальнику мастеров Хнума, что скоро богатство трех главных храмов Ра перейдет храмам Хнума и… и… прости меня, великий ясновидец… что он, Мен-Кау-Тот, низведет тебя до простого жреца в захудалом храме Дельты!..
Верховный жрец внезапно встал:
— Ты понял правильно. Вот враг мой и ваш, дети мои! Но напрасно тщится он отобрать нашу славу и наше богатство — скоро познает он все величие бога Ра на дерзкой шее своей! Хвалю ваши глаза и уши, вы оба будете награждены и возвеличены в совете. Идите, я не забуду вас!
Джедефра заболел.
Целыми днями молодой фараон угрюмо лежал в верхней комнате своего загородного дворца, глядя в окно на широкую реку и свою маленькую пирамиду — будущую крепость в загробной вечности. Законченная постройкой, она едва возвышалась над пальмами окружающего сада… Уже более двух лет назад отправился Баурджед в неведомые дали юга. С тех пор никаких вестей не было о судьбе посланных, да и не могло быть. Они или погибли, или еще странствуют там где-то, или возвращаются со славной добычей. Так медленно осуществляются великие дела… Постройка большого канала задержана по совету чати до возвращения войска из страны Нуб с золотом и другой добычей. Хорошо хоть то, что великий ясновидец перестал надоедать ему с постройкой большой пирамиды и храма Ра при ней. Сейчас, когда фараон болен и ослабел духом, ему трудно было бы противостоять настойчивости верховного жреца…
Фараон вздрогнул, когда, как бы в ответ на его мысли, в прорези двери показалась высокая фигура верховного жреца. Кряхтя, он распростерся перед фараоном.
— Его величество, жизнь, здоровье, сила, болен, кости его стали серебром, — ласково заговорил жрец. — Большая вина на мне — давно я не был в городе, и не услышали мои старые уши зова божественной необходимости. Теперь прибыл я отразить болезнь, возродить силу бога!
И поднявшийся по приказу фараона жрец поведал Джедефра о страшной магической силе древнего обряда, записанного в тайной книге, известной только верховным жрецам Ра. Только в самых крайних случаях разрешалось применять этот обряд, разглашение тайны его карается немедленной смертью. Сейчас болезнь живого бога, конечно, позволяет применить великую силу обряда для немедленного излечения царя. Только выполнить его нужно в полной тайне, ночью, в уединенном месте, в присутствии самого великого ясновидца и трех главных и доверенных жрецов. Найдет ли его величество силы, чтобы сегодня же ночью тайно удалиться из дворца? Обряд можно сделать поблизости, в пирамиде самого Джедефра. Постройка ее только что окончена, и там нет никого, кроме садовников, которые будут ночью мирно спать. Если живой бог ослабел, жрецы понесут его. Только ему нужно спуститься одному, не привлекая ничьего внимания, в сад, к боковой двери в ограде.
Джедефра слушал ласковую и искреннюю речь говорившего, и прежняя вера в могущество Ра, вера, с детства внедрявшаяся в него, возрождалась в ослабевшей душе фараона. Болезнь изнурила его, лекарства помогали мало, а ему нужно, очень нужно было скорее стать снова властным и твердым.
— Разве служителям Ра известно больше, чем жрецам Носатого, владеющим всеми тайнами храмов Тота? — спросил Джедефра.
— Великий Дом сегодня же ночью убедится в ничтожестве жрецов Тота! — воскликнул великий ясновидец, и глаза его засверкали.
Фараон согласился исполнить все, как говорил великий жрец, и высокий старик поспешно удалился. Спустившись в сад, он скрылся в тени деревьев и вышел через боковую калитку, оставив ее незапертой.
Джедефра, ободренный возможностью скорого излечения, с нетерпением дожидался ночи. К вечеру он отпустил всех приближенных и слуг, объявив, что будет один беседовать с богами и чтобы никто не смел приближаться к его покоям.
Верховный жрец выбрал удачно время. Угольно-черная тьма безлунной ночи объяла сонный дворец, погасила блеск реки. В домике стражи у главных ворот светился слабый огонек.
Фараон, неслышно ступая босыми ногами, пошатываясь и вытирая пот от слабости, спустился по лесенке прямо с балкона. Джедефра был взволнован тайной предстоящего обряда, но нисколько не боялся. Чего мог бояться живой бог Та-Кем в подвластной ему стране, где все живое покорно простирается в пыли, целуя следы владыки!
Едва фараон подошел к боковой дорожке, как четыре тени возникли перед ним, склоняясь до земли. Подхваченный крепкими почтительными руками, Джедефра с облегченным вздохом опустился на носилки. Его быстро понесли к реке. Под покровом темноты пересекли широкую площадку на речной стороне дворца и спустились к маленькой пристани. На темной реке фараон разглядел очертания небольшой лодки. Все было, видимо, приготовлено заранее.
Жрецы поставили носилки с фараоном в лодку. Пирамида находилась на левом берегу немного ниже дворца, и лодка спускалась по течению. Провожатые фараона только несколько раз ударили веслами.
На левом берегу повторилось то же. Носилки понесли не к главному входу, а налево, за угол южной ограды. В зловещей тишине чуть скрипнула небольшая дверь южного входа, закрылась снова, и шаги носильщиков стали совсем бесшумными на плитах дорожки. Звезды исчезли, темнота вокруг сделалась совершенно непроглядной, повеяло запахом влажного камня. Джедефра догадался, что его внесли внутрь пирамиды или заупокойного храма, врытого в землю у ее восточной стороны. Носилки опустились на гладкие плиты пола. Жрецы помогли фараону встать и зажгли факел. Джедефра осмотрелся. Они находились в заупокойном храме, отстроенном для того момента, когда он, Джедефра, отойдет в вечность, когда ему, объединившемуся с богами, здесь будут совершаться служения, а его набальзамированный труп будет заключен глубоко под каменной толщей пирамиды.
Странное, необъяснимое, похожее на страх чувство сжало сердце фараона. Но строгие лица жрецов были спокойны. Они повели фараона в святилище маленького храма. Четыре статуи самого Джедефра занимали всю широкую сторону святилища. Фараон в четырех одинаковых ликах сидел с мрачной и величественной неподвижностью, устремляя взоры из загробного мира на ничтожных и дерзких пришельцев. И опять грудь молодого фараона стеснилась тревожной тоской.
Великий ясновидец, почтительно согнувшись, попросил Джедефра встать у жертвенника — большого куска отполированного гранита, — прямо против четырех статуй.
Джедефра коснулся коленями и руками холодного камня и вздрогнул. Внезапно факел потух, во мраке Джедефра услышал лишь тяжелое дыхание жрецов, видимо взволнованных предстоящим страшным обрядом.
Фараон открыл рот, чтобы спросить о чем-то, но в этот момент слабый свет появился сзади, блеснув на поверхности жертвенника.
Верховный жрец Ра, стоявший около фараона, вдруг взмахнул тяжелой палицей, обмотанной тканью, и обрушил страшный удар на затылок Джедефра. В мозгу фараона вспыхнул ослепительный свет и сразу померк. Без звука Джедефра рухнул на пол, перестав быть владыкой, живым богом Черной Земли.
Жрец отпрянул от падающего тела, как бы сам ужаснувшись содеянного. Долгое время мрак и тишина царствовали в пустом, казалось, храме. Наконец, тихий и хриплый, прозвучал голос великого ясновидца:
— Зажгите факел, все кончено!
Жрец подошел к лежавшему ничком фараону, приник ухом к сердцу и ощупал затылок. Твердость руки не изменила жрецу — удар был верен. Кость оказалась раздробленной, но снаружи, под волосами и париком, ничего не было заметно.
Жрецы подняли мертвеца и положили на кусок гранита.
— Делайте, как я сказал, — снова обратился к своим сообщникам великий ясновидец. — Нужно спешить!
Двое жрецов могучего телосложения взяли медные молоты, третий высоко поднял факел. Согнувшись и тревожно оглядываясь, мучимые страхом, жрецы дружно ударили по статуям Джедефра. Грохот раздался по храму, посыпались куски голов, плеч, рук, открывая белый излом известняка под темной раскраской.
— Не бойтесь, бейте смелее! — закричал окрепшим голосом великий ясновидец. — Снаружи никто не услышит. А если и услышит — кто может осмелиться войти сюда в ночь, когда властвуют мертвые…
Через несколько минут все стихло. Жрецы погасили факел, унесли из прохода носилки. Под ясными звездами было светлее, страх перестал угнетать убийц. Лодка понесла их на середину реки, жрецы дружно гребли вверх по течению, торопясь в столицу. Задолго до рассвета они причалили к пристани у города. Один повел лодку дальше, а три жреца, никем не замеченные, скрылись в храме Ра.
Великий ясновидец устало опустился в кресло.
— Брат покойного — Хафра будет фараоном. Он уже оповещен, и все решено между нами… Мы ошиблись, выбрав сначала другого, но сами же исправили ошибку! Теперь дорога Ра исполнится славы в веках и даст множество благ вам, верным служителям бога. Пусть будет ваш отдых спокоен…
И великий ясновидец удовлетворенно закрыл глаза, чтобы вздремнуть перед смутой грядущего дня.
Пять лет миновало с того ужаснувшего всю Кемт дня, когда фараон Джедефра был найден мертвым в своем заупокойном храме, неведомыми путями перенесенный туда из дворца и пораженный рукою богов.
Пять лет лежал Джедефра в своей пирамиде, а его брат, мрачный, деспотичный Хафра, снова с неслыханной силой утвердил безмерную власть фараонов, тождественную с властью самих богов, и прежде всего бога солнца Ра.
Снова все силы Черной Земли были собраны для постройки второй гигантской пирамиды, подобной пирамиде Хуфу. Но и этого уже было мало для единого средоточия всей мощи государства, которое представлял собою фараон.
Советники Хафра требовали новых, невиданных построек, чтобы поразить народ и создать непоколебимую основу царскому трону.
На том же плоскогорье, рядом со строящейся пирамидой, тысячи искуснейших рабочих обтесывали громадный выступ скалы. Все яснее обозначалась гигантская статуя лежащего льва с человеческой головой, с лицом фараона Хафра, увенчанного царским пшентом и змеей. Передние лапы могучего зверя по двадцать пять локтей в длину мощно вытягивались вперед, к берегу реки, как будто пытаясь объять и придавить всю страну Кемт.
Величайшая статуя — древний символ мощи фараона, — называвшаяся Ху,[58] смотрела на протекавшую под ней реку, словно сам Хафра молчаливо, величественно и грозно взирал на ничтожную жизнь своего народа. Около статуи Ху строили заупокойный храм Хафра — весь из прозрачного алебастра и красного гранита; из такого же гранита делалась облицовка пирамиды, поражая самих строителей великолепием. Семь статуй Хафра с величайшим трудом высекались из очень твердого черного камня — может быть, новый фараон помнил, как легко разбиваются статуи, изготовлявшиеся прежде из известняка.
Семь лет не было никаких известий об экспедиции Баурджеда. Отважные путешественники были забыты теми, кто их послал. Другие интересы владели государством гигантских построек.
Прошла молва о гибели Баурджеда.
Но в народе говорилось другое — свои надежды на лучшую жизнь народ вкладывал в песни и сказки об отважных путешественниках, ищущих Страну духов.
Главный жрец Тота Мен-Кау-Тот, устраненный от двора фараона, уединился в своем храме, мрачно выслушивая жалобы служителей своего бога на обиды и ущемления, чинимые им жрецами Ра и Пта.
Но там, в безмерной дали, воля погибшего фараона продолжала действовать.
Обессиленный трудностями пути, изнуренный болезнями, Баурджед дождался своих спутников, посланных им еще дальше Пунта, за пределы мира. Лишь небольшая кучка людей вернулась в Та-Нутер из далей юга — все, что осталось от когда-то столь многочисленной экспедиции.
Рабы, воины, знатные чиновники — все равно гибли в волнах бурного моря, в знойных лихорадочных болотах, в зубах диких зверей, под копьями и стрелами злых и воинственных племен.
Только сила приказа умершего Джедефра удерживала здесь скитальцев, всеми помыслами стремившихся в родную Кемт, цепеневших от ужаса, что, подобно многим товарищам, их души навсегда останутся на чужбине. Семь судов, когда-то покинувших гавань Суу, давно уже перестали существовать, но были готовы новые, заботливо хранимые на берегу в большом тростниковом сарае, на высоких столбах.
Глава вторая ПОДВОДНЫЕ САДЫ
Под высоким солнцем море, лениво колыхаясь, мутно клубилось тяжелыми испарениями. На отлогой прибрежной равнине толпились песчаные кочки, кое-где поднимали свои раскидистые зонты одинокие акации.
Дозорный воин, протирая слезящиеся от солнца глаза, еще раз посмотрел на голубую туманную полосу горизонта и быстро выскочил из-под тростникового навеса на вершине высокой кучи аккуратно сложенных камней. Бегом спустился с холма и вбежал в ворота толстых глинобитных стен крепости Суу — крайней гавани Та-Кем на Лазурных Водах.
Начальник крепости, за минуту до того изнывавший от зноя, тоски и безделья, сразу сбросил сонную одурь.
— Ты не ошибся? — переспрашивал он воина, спеша на дозорную вышку.
— Нет, я хорошо видел: корабль не похож на наш, но парус, как белая стена, очень широкий.
— Наш корабль, оттуда — это может быть только он, — тяжело дыша, проговорил начальник.
— Осмелюсь спросить — кто “он”? — негромко сказал один из сопутствовавших начальнику чиновников, но тот недовольно нахмурился и промолчал.
Одинокий парус приближался, вырастая; уже видны были борта, выкрашенные в черную и красную краску, странный высокий нос и необычайный помост на корме. Слабые крики донеслись в глухом плеске волн, разбивавшихся о прибрежный риф.
Нос корабля устремился в проход между рифами; стукнув, упала тяжелая рея, весла взбили пену, и киль зашуршал о прибрежный песок. Негры по пояс в воде потащили канат, другие сбросили ветхие мостики. Послышались четкие удары — в песок забивали причальный столб.
Двое людей в измятых цветных воротниках вели под руки исхудалого человека в длинной одежде.
Золотой знак фараона Джедефра ослепительно блестел у него на груди. Ступив на берег, приезжий зашатался и опустился на колени, сжав руки и склонив голову. Спутники окружили его, некоторые последовали его примеру, другие стояли в молчании. Спешивший навстречу со своей свитой начальник крепости остановился, почувствовав, что для этих людей сейчас неуместны приветственные слова.
Наконец прибывший поднялся и хрипло заговорил, обращаясь к своим спутникам:
— Вот достигли мы родины; взята колотушка, вбит столб, носовой канат брошен. Скоро, о, скоро увидим тебя, благословенная река Хапи![59]
Он двинулся навстречу начальнику крепости, простирая руки. Редкие слезы катились по исхудалым, изборожденным морщинами щекам.
Жирный, опухший от безделья начальник крепости смутился. Великие переживания этих так долго разлученных с родиной сынов Та-Кем нашли отклик в его душе. Глаза его широко раскрылись; он, потрясенный, зарыдал в объятиях знатного царедворца.
В своем дворце, поблизости от строящейся исполинской пирамиды, фараон Хафра поджидал вестника далеких стран, чудесно возвратившегося Баурджеда.
Каменно-неподвижным сидел Хафра на массивном золотом троне в конце узкого зала, окаймленного двумя рядами деревянных колонн из пальмовых стволов. За спиной фараона застыли два прислужника с опахалами.
Баурджед остановился у входа, отделанного белыми фаянсовыми плитками, в ожидании начальника церемоний, распоряжавшегося приемом. Баурджед шел сюда со странным чувством, не покидавшим его с тех пор, как вернулся он на долгожданную родину. Он точно вырос в страданиях на далеком пути, точно побывал на высоте неба, откуда впервые развернулась перед ним вся необъятность мира, неизмеримая безбрежность Великой Дуги, невероятная протяженность суши.
И горячо любимая родная страна представлялась ему теперь полоской садов перед просторами гор, степей и лесов далекого юга. А гигантские пирамиды! Только он и его спутники, созерцавшие величие исполинских гор Пунта, видят ничтожество постройки, исполненной по приказу фараона. Там, в рядах островерхих горных цепей, пирамиды затерялись бы жалкими холмиками…
Баурджед украдкой посмотрел на застывшего, положив руки на колени, Хафра, перед которым распростерлись самые знатные люди страны, не смея поднять голову и посмотреть поверх возвышения, на котором стоял трон фараона.
Великий владыка, живой бог — фараон. Тот, кто послал его, уже умерший, тот, кто семь лет назад казался ему полным властелином всех его дум и поступков… И этот, еще более величественный и властный, подчинивший всех своему желанию…
Перед мысленным взором Баурджеда пронеслись пройденные им земли, бесконечное море, множество видимых им людей разного цвета кожи, разной жизни, богов и обычаев, вспомнились рассказы о новых странах и селениях там, за пределами виденного.
Величие фараона померкло, фараон не был более богом; впервые предстал он перед Баурджедом только неограниченным смертным властелином своей богатой и могучей, но все же небольшой страны. Впервые почувствовал Баурджед, как мало мог значить фараон во всем большом мире, как ничтожна воля владыки перед ходом жизни этого необъятного мира. Устои привычных понятий рушились, отзываясь страхом в душе путешественника.
Он вздрогнул, когда распорядитель приема неслышно подошел к нему и коснулся его плеча. Лицо царедворца было полно надменной суровости: фараон Хафра не посылал своих даров навстречу Баурджеду и ничем еще не проявил своей милости за великий подвиг, совершенный путешественником. Дары далеких стран, привезенные Баурджедом, уже лежали в царской сокровищнице, и это было, конечно, известно фараону…
Царедворец подвел Баурджеда к лесенке из белоснежного алебастра, ведшей на тронное возвышение. Здесь распростерся Баурджед, а фараон, слегка опустив глаза, скользнул взглядом по спине путешественника, покрытой пятнами и рубцами от залеченных ран и язв. Не поднимая головы, Баурджед рассказал в немногих словах о своем прибытии, о совершенном пути, о целях, с которыми послал его Джедефра.
— Ты выглядишь больным, — медленно проговорил фараон, — пойди отдохни среди родных. Через несколько дней я призову тебя, и ты расскажешь мне все, что видел и узнал в Стране духов.
Едва заметное движение Хафры — и на палец Баурджеда был надет тяжелый золотой перстень. Прием окончился — Баурджед попятился ползком до второй колонны, поднялся и скрылся за ней в сопровождении теперь уже ставшего приветливым распорядителя.
Баурджед вышел через боковую дверь в дворцовый сад, остановился и со вздохом поглядел на дар фараона. Этот маленький кусочек золота, хотя бы и с именем божественного владыки, — разве это нужно ему, перешедшему пространства? Какая награда вернет потерянное здоровье, годы вдали от родных и близких, даст ему детей, которые могли бы быть у него, возродит красоту его жены?.. И что вообще нужно ему, отдавшему так много?..
— Не огорчайся! Нет награды, не будет и наказания, — услышал он знакомый твердый голос.
Внезапно вышедший из-за цветущих кустов Мен-Кау-Тот смотрел на Баурджеда с суровым участием.
— Пойдем отсюда. Я пришел поговорить с тобою, — продолжал старый жрец с прежней властной манерой.
Они вышли из ворот дворца и повернули налево к реке. Мен-Кау-Тот молчал, и только когда они уединились под пестрой колоннадой маленького храма Нейт, старик заговорил снова.
— Я знаю, что гнетет тебя, — пристально глядя на Баурджеда, начал жрец. — Будь осторожен и бойся фараона.
Нерадостно усмехнулся путешественник, и, читая его мысли, Мен-Кау-Тот спросил:
— Ты думаешь, что слишком ничтожен для того, чтобы навлечь гнев Хафра? Тогда послушай меня, сын мой. Я скажу все, и истинны будут эти слова. За семь лет, с того времени как ты ушел, мало было в Та-Кем людей, которые бы так ждали тебя. Ты служил моим целям, и теперь ты и я — одно…
Удивленный Баурджед хотел спросить старика, но тот остановил его.
— Это не важно теперь — мне недолго осталось жить. А ты должен еще много сделать… Берегись фараона — он ослеплен собственным могуществом. А ты видел большой мир и слишком много знаешь. Фараону не нужно познание далеких стран — весь мир ему лишь средство для собственного возвеличения, для окончания постройки его высоты. Но он хочет узнать о путях легкого овладения сокровищами стран, лежащих вокруг Черной Земли. Имей его желание в сердце, когда будешь рассказывать о своем путешествии.
— Не смогу, отец, — грустно ответил Баурджед, — и незачем. Ты прав: я не жду награды, и сердце мое томится печалью.
— Еще раз говорю — берегись, сын мой! Ты уже получил так много, видев то, о чем не мечтал ни один владыка Кемт. Твоя страна, твой народ — разве не наградили они тебя за верность и твердое сердце? Ты еще не слыхал, какие сказки ходят о тебе в народе, как прославил народ в своих песнях тебя и твоих спутников. Твое имя в народе почти наравне с именем отца мудрости Имхотепа. И еще потому берегись Хафра. Когда твоя слава дойдет до жрецов Ра… — Старик замолчал и нехотя поднялся со ступеней.
Внизу едва слышно струилась речная вода.
— Надлежит нам расстаться, — тихо сказал Мен-Кау-Тот. — Исполнится время — и я приду к тебе. — И жрец скрылся между колоннами.
На маленькой площадке близ храма собралась небольшая толпа. Люди разных возрастов и профессий окружили худого большеглазого юношу с лирой через плечо — уличного певца и сказочника.
Он начал рассказывать нараспев что-то, стоя и ударяя ногой о землю, в такт речитативу и отрывистому гудению струн. Люди слушали с жадным вниманием, изредка хором подхватывая ударения на созвучных слогах.
— Маасен пет, маасен та, мака шебсен эр маау,[60] — напевал юноша.
Радостно взволнованный, Баурджед понял, что песня прославляла его и его товарищей.
— Они видели небо и видели землю, и храбры были их сердца, более, чем у львов, — тихо повторил путешественник.
Песня-сказание, порожденная душой народа — свободной в своей любви и ненависти, неподкупной в оценке свершившегося, — прославляла его. Его, чувствовавшего себя беспомощным изгнанником, думавшего, что родина его забыла. Что могло быть выше и прекраснее такой награды!..
Баурджед обогнул храм с другой стороны площади и направился к дожидавшейся его у пристани фараона лодке, чтобы ехать домой, на северную окраину города Белой Стены.
Усевшись на ковре посреди низкой затемненной комнаты, Баурджед начал свой рассказ. Фараон Хафра, окруженный сыновьями и приближенными, восседал на кресле рядом с главной женой.
Баурджед был плохим рассказчиком. Но сейчас, во дворце Хафра, он опять почувствовал себя человеком из иного, огромного мира, что простирает свои пространства далеко за пределы Та-Кем. И перед ним, этим миром, вся роскошь дворца и грозная близость фараона казалась не более как торжественной игрой детей в старом и тесном отцовском доме…
Он говорил медленно, стараясь передать отрывочными картинами теснившиеся в памяти воспоминания.
Он начал с того, как семь лет назад его экспедиция пересекала восточную пустыню.
Время путешествия не было благоприятным: едва достигнув полосатой горы Сетха, экспедиция потеряла от жажды и жары двести рабов и полтораста ослов. Они шли дальше с великой поспешностью, сжигаемые зноем, познавшие вкус смерти на своих губах.
Наконец в переливчатых волнах горячего воздуха скрылись позади последние скалы, с плоской равнины заблестело впереди сияющее голубое море. Экспедиция пришла в гавань Суу. Вскоре семь лучших кораблей углубились в безвестную даль на юг.
Баурджед вначале думал плыть открытым морем — там, где манила моряков чудесная сияющая синь. Он надеялся на прохладу и более сильные попутные ветры.
Это оказалось невыполнимым. Удушливая влажная жара изнуряла людей, все предметы покрывались соленой липкой слизью, сильные порывы ветра сменялись долгим затишьем. Опытный в плаваниях кормчий Уахенеб посоветовал вернуться к берегу, от которого они так необдуманно удалились. За несколько тысяч локтей от берега лазурная вода как бы обрезалась белой полоской пены — волны непрерывно бились о выступы подводных рифов, бесконечной цепью тянувшихся вдоль берега. За этой пенной чертой вода принимала цвет изумруда и почти не колебалась. Корабли пошли по изумрудной воде между берегом и рифами. Этот путь оказался самым лучшим. Здесь дули почти непрерывно северные ветры, корабли плыли быстро, не изнуряя гребцов. Пустынный берег был гол и мертв — редко-редко деревья или высокие кустарники виднелись вдали на плоской прибрежной равнине да по ночам доносились вопли шакалов. Ни следа пребывания человека не встретилось путешественникам на протяжении шестидесяти дней плавания.
Зато в море довелось увидеть незабываемые чудеса. Вначале корабли, затерявшиеся среди сверкавшей расплавленным серебром воды, быстро подгонялись сильными ветрами, и моряки, следя за мелями и островками, ничего не замечали. Позднее они освоились с плаванием, и однажды, когда ветер ослабел и суда медленно двигались по зеркальной глади кристально-прозрачной зеленой воды, впервые предстали перед сынами Кемт прекрасные подводные сады.
В теплой воде под кораблями дно моря было на глубине всего в четыре локтя, устланное серебристым белым песком. Сначала заметили желтые и красные кустики каких-то растений, оказавшиеся при пробе веслом твердыми, как камень.
Затем под кораблями замелькали большие лиловые шары, коричневатые связки прозрачных бокалов, темно-красные клубни, усеянные массой мельчайших отверстий. Пестрые раковины лежали на дне, между каменными кустами сновали маленькие черно-белые рыбки. Угрюмо клубились над дном черные, мягкие и пористые массы — это были губки, знакомые бывавшим у Зеленого моря. Люди часто бросались в воду, загоняя в сети стаи крупных серебряных рыб.
Однако после того, как путешественники познакомились с опасностями этих изумрудных вод, беспечность сменилась осторожностью.
Какие-то плоские мерзкие рыбы[61] погубили двух воинов, распоров им животы своими тонкими хвостами, вооруженными острыми, как бритвы, иглами.
Гигантские черные морские ежи[62] с иглами в локоть длиной наносили долго не заживающие раны.
Попытки схватить диковинно-прозрачных, похожих на студень животных,[63] переливавшихся смесью розового и небесно-голубого цвета, кончались воплями непонятным способом обожженных людей.
Но подлинное волшебство подводных садов открылось только после того, как корабли приблизились к белой полосе прибоя. Мелкая изумрудная вода протянулась широким каналом вдоль берегов. Этот канал отделялся от синего открытого моря подводными скалами. Когда частые мели задержали дальнейшее продвижение, кормчий передового корабля Уахенеб повел суда вдоль подводных скал.
Невольный крик вырвался у наблюдателей — из сине-зеленой глубины внезапно начали всплывать кусты, грибы, деревья, причудливые кружева, смутные, подернутые нежно-зеленой дымкой. Несколько дальше четко вырисовывались, словно вырезанные, молочно-белые и бирюзовые каменные кусты. Их белые, лазоревые и сине-фиолетовые ветви переплетались сказочным узором, ярко освещенные солнечными лучами. Кусты сменялись тончайшей замысловатой вязью цвета сливок, перемежавшейся с тонкими ярко-алыми и пурпурными кустиками.[64]
Забыв все, люди всматривались в прозрачную воду, а там, по мере движения кораблей, подводные сады развертывались в великолепном разнообразии красок и тонов, в неисчерпаемом богатстве оттенков, зависящих от глубины воды. То они едва чудились в полутьме прозрачными голубыми, красными и изумрудными тенями, то выступали совсем близко к поверхности, принимая удивительно яркую и чистую окраску.
Ближе к самому краю рифов ступеньками сбегали в глубину белые и фиолетовые зонтики и чаши, блюда, словно сделанные из слоновой кости; высокие прозрачные розоватые бокалы, извивы просвечивающих голубым огнем пластин и гребней.
Над обрывами в качающихся бликах солнца висели на выступах круглые купола, как будто из чистейшего снежно-белого фарфора, усеянного бирюзовыми пятнами и звездами.
Бесконечное разнообразие форм и красок ослепляло растерявшихся наблюдателей. Долго шли корабли над подводными садами Лазурных Вод. Все участники экспедиции, во главе с самим Баурджедом, провели много часов, лежа на бортах кораблей и без устали следя за проплывающими мимо картинами.
Красота подводных садов была волшебной. Десятки раз люди, очарованные небесно-голубым кустом или алым кружевом, бросались в воду и обламывали твердые, как камень, ветви или фестоны, обжигающие таинственным огнем. Но, вытащенные из воды, они мгновенно превращались на воздухе в серые или грязные обломки, теряя всю свою красоту. Желтые и светло-зеленые живые цветы,[65] шевелившие длинными щупальцами между волшебными кустами, едва только их поднимали на судно, превращались в бесформенные комки отвратительной слизи.
Подводная красота не давалась в руки человеку, безвозвратно терялась, едва только люди хотели поймать ее, удержать для себя. Суеверный страх охватил сынов Кемт при виде необъяснимых превращений.
Тех наиболее неистовых, которые хотели, нырнув, насладиться очарованием волшебных садов под водой, стерегли страшные ядовитые рыбы.[66] Похожие на толстых змей, по семь локтей в длину, эти рыбы были коричневого и стального цвета, усеянные на спине мелкими черными пятнами. Они обладали пастью с необыкновенными острыми и длинными зубами. Скрываясь в темных проходах меж дивных кустов, они поднимали вверх голову и страшными выпуклыми глазами следили за пловцами, раскрывая пасти.
Края рифов, обращенные к открытому морю, обрывались сразу в безвестную темную глубину. Там исчезали, растворяясь во тьме, последние силуэты кустов и выступов на крутом обрыве, и глубокая таинственная пучина была черна и страшна.
Иногда оттуда всплывали гигантские рыбы с острым рылом и щелевидным ртом,[67] снабженным пилой острейших зубов. Они безжалостно хватали неосторожных купальщиков, мгновенно откусывая руки или ноги. Безмятежное сияющее море оглашалось отчаянными криками, окрашивалось кровью. Приобретя опыт, путешественники купались только в мелкой зеленой воде за рифами. Когда на поверхности моря показывались треугольные спинные плавники гнусных рыб, боязнь и отвращение наполняли мореплавателей.
В первом месяце плавания экспедиция не терпела недостатка ни в продовольствии, ни в пресной воде. На берегу находились родники, рыбная ловля или охота на птиц доставляла вкусную пищу во время ночевок. Моряки вели суда вдоль берега, готовые при первых признаках бури спасать корабли на суше.
К концу первого месяца корабли обогнули тупой красный мыс,[68] за которым берег огромной пологой дугой врезался в материк. Странная белая вода окружила корабли. Путешественники вначале испугались, но потом разглядели, что белизна воды происходила от мельчайшего белого песка,[69] взбаламученного прибоем, набегавшим на плоское дно. На берегу поднималась высокая гора с закругленной верхушкой, на которой сверкал огромный круглый глаз, слепивший отражением солнца. Будто око неведомого бога строго смотрело на незваных пришельцев, сея смущение в суеверных сердцах детей Черной Земли. Баурджеду удалось успокоить спутников, объяснив, что такие блестящие пятна встречались ему и раньше на склонах гор, где обнажены скалы из кварца или гипса.
Тем не менее строгий глаз горы навлек на экспедицию целый ряд испытаний.
Еще с утра моряки заметили отсутствие птиц. До сих пор пеликаны, бакланы и чайки в огромном количестве скоплялись на скалистых островках, выступавших на краю рифовых гряд, у полосы прибоя. Здесь они пожирали пойманную рыбу и доверчиво подпускали охотников. В этот день птицы исчезли, и хотя по-прежнему рифы шли нескончаемой грядой к югу, до края горизонта не было видно ни одной. Почувствовав недоброе, опытные проводники и кормчие решили на всякий случай пристать к берегу.
Около полудня неизменно ясное небо впереди закрылось извилистой грядой черно-красных туч, похожих на стадо огромных быков. Скоро во всю высоту неба встали закрученные столбы темных облаков, ветер стих, удушающая темнота скрыла корабли один от другого. Над морем нависла страшная мгла кровавого цвета, и вода тоже казалась озером темной крови.
Путешественники в ужасе пали ниц. Горячий ветер вдруг обрушился на суда с пронзительным свистом. Воздух наполнился мельчайшей песчаной пылью, причинявшей сильную боль глазам, носу и горлу. Жалобные стоны раздавались на кораблях, быстро заглушаемые массой горячего песка, несшегося в море из пустыни.
Кровавая ветреная мгла разъединила людей, каждый оказался предоставленным самому себе, одиноким перед лицом невиданного бедствия. Баурджед, прощаясь с жизнью, закутал лицо плащом и упал на том же месте, где стоял, а на него навалились окружавшие его люди.
Крутящийся песок бушевал не более двух часов. Так же внезапно все прекратилось, яркое чистое небо встало над кораблями, серебристое сияние моря опять разлилось до самого горизонта. Несколько человек поддались страху и выпрыгнули на берег, другие, упав в воду, не смогли выбраться, задыхаясь в тучах песка.
Потрясенные испытанием люди думали только о воде, но, к их горю, вода, запасенная на кораблях, почти вся высохла, а на берегу нигде не удалось обнаружить родников. Баурджед приказал спешно плыть дальше, останавливаясь только для поисков воды. К счастью, попутный ветер окреп и погнал корабли, иначе сжигаемые жаждой гребцы не смогли бы долго двигать суда. До захода солнца не удалось найти воды в прибрежных ущельях.
Пришлось плыть ночью. До сих пор с наступлением ночи суда приставали к берегу, и путешественники раскидывали лагерь на берегу, не смея доверить свой ночлег изменчивому морю. Точно так же при первых признаках бури они быстро вытаскивали свои корабли на берег и, недоступные ярости моря, спокойно пережидали непогоду. Теперь, в первый раз, корабли при свете угасавшей в пустыне зари покинули береговой канал и вышли за гряды рифов, в синюю морскую даль. Глубочайшая чернота ночи уже не удивляла Баурджеда. Небо было настолько черным, что звезды казались серебряными, и их яркие блики колыхались в темных волнах.
Страдания людей усиливались — хриплое дыхание едва проходило через ссохшееся горло, растрескавшиеся губы были сведены судорогой. Порой звезды вертелись в бреду перед воспаленными глазами.
Вдруг Баурджед увидел, что очертания корабля явственно обрисовались на воде, лица спутников выступили из темноты. Он невольно ухватился рукой за борт — казалось, корабль поднимается на воздух в волнах непонятного света. Хор испуганных воплей показал Баурджеду, что он не грезит. Преодолев головокружение, он огляделся. Все море вокруг было охвачено пламенем, волны крутили и взметывали голубые вспышки, а пенные всплески у носов кораблей рассыпали миллионы золотых огоньков. Каждое весло, опускаясь на воду, рождало вспышку света, и огненная полоса уходила в даль за кормой корабля.
Пронизанная светом вода стала прозрачной и легкой, корабль качался в ней, будто брошенный в неведомый мир между водой и небом.
Освоившись с неведомым зрелищем и поняв, что им не угрожает опасность, люди стали замечать в воде животных невероятного вида. Подобные прозрачным лентам, гребням, зонтикам,[70] точно сделанные из волшебного гибкого стекла, эти животные колыхались в горящих волнах, сами испуская еще более сильный голубой или золотистый свет. Некоторые из них были огромны — их прозрачные купола достигали двадцати локтей в поперечнике, видимые издалека, как сияющие островки.[71]
Отважный гребец-азиат, бросившийся в море для того, чтобы схватить одно из этих существ, почти мгновенно погиб. Поспешившие к нему на выручку товарищи покрылись сплошными ожогами, нанесенными тонкими нитями, свешивавшимися с краев зонтика и достигавшими многих локтей длины.
Долго плыли корабли по светящемуся морю, и пораженные люди забыли о своих невзгодах. Но когда волны внезапно погасли, жажда начала мучить людей с новой силой. С рассветом ветер утих, при ярком солнце суда еще двигались к берегу на веслах.
Сияющая голубизна моря здесь пересекалась узкими полосами кровавого цвета, простиравшимися вперед и назад до горизонта.[72] Как красные змеи, извивались эти странные полосы, с поразительной четкостью выделявшиеся на прозрачной синей воде. По приказанию Уахенеба, когда корабль находился на одной из красных полос, зачерпнули воды. Вода в сосуде отливала багрянцем, потеряв прозрачность, и действительно походила на жидкую кровь, но без запаха. Откуда же взялись в море эти исполинские потоки крови, какие животные, духи или боги могли пролить такое ее количество? Или это была кровь самого моря?
Страх перед непонятным так же владел Баурджедом, как и всеми его подчиненными.
Но его поддерживала отвага спутников — опытных воинов и моряков: кормчего Уахенеба, его помощника Ахавера, парусного мастера Нехси, начальника воинов Имтоура. Они своим мужеством иногда заставляли Баурджеда — повелителя сотен людей — недоумевать и изумляться: откуда, из каких глубин души черпают они спокойную отвагу, веселый задор и неутомимость, когда, казалось, их усталые тела должны были бы беспомощно простираться по палубе? Мужество людей, постоянно, много дней находившихся с ним рядом, одолевало испуг перед сверхъестественным, перед проявлениями неизвестных сил, во власти которых он находился…
Напрягая последние силы, гребцы вывели корабли из кровавых полос. Вскоре послышался шум прибоя, и наконец суда оказались за пенной границей, у берега. Еще издали было видно широкое устье ущелья, через которое сбегали к морю заросли высоких деревьев — первые рощи, встреченные экспедицией. Никогда еще весла не мелькали с такой скоростью, причал кораблей не выполнялся так быстро. А дальше, за песчаными холмами, была вода, свежая и чистая, дивного вкуса, изливавшаяся обильным ручейком в прохладной тени пальм, в зарослях собачьих башмаков…[73]
На этом месте Баурджед прервал свой рассказ и, сощурив глаза, словно утомленный от блеска жаркого моря, посмотрел на фараона.
Тот сидел оцепенев; рот грозного властелина приоткрылся, глаза, прикрытые тяжелыми веками, были устремлены вдаль, туда, где в прорезе окна виднелось длинное плоскогорье со строящейся пирамидой.
Хафра медленно выпрямился, принимая снова облик божественного владыки, и приказал принести угощение.
Но едва только присутствовавшие заговорили, обмениваясь впечатлениями, переспрашивая Баурджеда, фараон прервал их нетерпеливым жестом.
В молчании подкрепились едой и вином, и Баурджед снова продолжал повествование.
В рощах деревьев у чистой воды экспедиция отдыхала несколько дней, схоронив четырнадцать спутников, погибших от жажды. Окрестность изобиловала дичью, и путешественники насладились свежим мясом антилоп и диких свиней. Искусные мастера переделали сосуды для воды, чтобы избежать повторения перенесенного бедствия.
Повернув за мыс, оканчивавшийся холмом удивительно круглой формы,[74] корабли долго шли вдоль безжизненной плоской равнины, покрытой солью и ослепительно блестевшей на солнце. На яркой лазури моря были разбросаны дикие скалистые острова. Их число все увеличивалось, росли и размеры. Попадались острова с хорошей пресной водой, поросшие лесом или кустарником или увенчанные высокими холмами по пятисот локтей вышиной.
На берегу протянулась длинной полосой песчаная равнина с буграми дымящихся под ветром песков, а за ней, из сухой мглы, начали всплывать отдельные горы такой высоты, о которой путешественники не имели никакого представления. Первая огромная вершина широким куполом поднималась в заоблачные выси, за ней вдалеке другая, пониже, была покрыта лесом. Острые гряды черных камней пересекали равнину, подползая к самому морю, береговые обрывы были рассечены узкими зловещими ущельями.
Плавание шло без особых приключений. За белыми скалами на берегу начались обширные болота, поросшие деревьями с необычайными, торчавшими в воздухе корнями.[75] Болота охраняли три стража — близко от моря высились три острых черных конуса высотой не меньше четырехсот локтей.
Едва только корабли миновали болота с их нездоровыми испарениями, в прояснившейся дали берега показались цепь за цепью величественные островерхие горы.[76] Они возникали вдалеке, как бы плавая в синеватой дымке. Сразу чувствовалось, что они должны быть невероятной высоты. Баурджед и его спутники были уверены, что эти горы те самые, которые отделяют Страну духов от верховьев Хапи, и радость проникла в их сердца. Здесь впервые заметили людей на берегу — черных нагих дикарей, быстро скрывшихся в зарослях. Только здесь гордые, презиравшие других, не похожих на себя людей сыны Черной Земли поняли радость встречи с человеком.
Беспредельные пустые пространства сотнями дней тянулись перед ними, и ужас одиночества в огромном и пустом мире, чувство беспомощности перед необъятной природой овладевали путешественниками. Теперь оказалось, что они не одни; здесь живут, пусть черные и нагие, но настоящие, подобные всем другим люди. Все моряки с грустью смотрели вслед им, исчезнувшим, точно призраки.
Вскоре путешественники подверглись новому испытанию. Небо потемнело от тяжелых туч, и в неистовом сверкании молний и сокрушающем грохоте грома на сынов Та-Кем полился такой дождь, о котором не слыхали никогда на их родине, где дождь — событие, случающееся раз в несколько лет. Темные облака извивались над кораблями, уподобляясь образу вызывающего бурю злого змея Апопа,[77] вспышки молний освещали разверзнутые пасти и хищные лапы.
Сплошные потоки ревущей воды низвергались с небес, заливая корабли; люди захлебывались, едва переводя дыхание; все мгновенно пропиталось водой. Испуганные яростным громом и ослепленные непрерывными вспышками молний, задыхавшиеся моряки отчаянно вычерпывали воду, наполнившую корабли.
Ливень прекратился быстро; все стихло, засияло горячее солнце, и только на дымившихся берегах долго журчали скатывавшиеся в море потоки.
Кончался второй месяц плавания. Путешественники научились не бояться зловещих скал, ярости прибоя, неземной красоты подводных садов. Даже в багровой темноте песчаной бури или потоках неистовых ливней корабли шли вперед, ныряя черно-красными носами, послушные воле великого фараона Джедефра, движимые упорством людей, закалившихся в борьбе с неведомым. Будто змеи, драконы и другие сказочные чудовища, без конца выползали в море скалистые мысы, уходили назад за корму горящие на солнце бухты.
Но новые трудности ожидали смелых путешественников, подстерегали их за выступами берега, скрывались за пылающим южным горизонтом.
До сих пор берег Лазурного моря был почти прямой, короткие мысы и неглубокие заливы нарушали однообразие этой стремящейся вдаль, подобно полету стрелы, линии. В начале третьего месяца плавания корабли вошли в глубокую бухту, врезанную в берег в южном направлении. Перед кораблями сошлись береговые скалы, прохода вперед не было, и пришлось огибать на веслах длиннейший скалистый мыс, против которого в море виднелись большие острова. За этим мысом корабли встретили сильный ветер. По ровной, подернутой мелкой рябью поверхности моря быстро перебегали отдельные редкие волны. Каждая из волн катилась, поднимаясь округлым горбом с оторочкой пены впереди. Они начали бросать затрещавшие суда, заливать их через борты. Моряки едва успели укрыться между островами. К вечеру ветер ослабел, и можно было бы плыть по успокоившемуся морю, но оказалось, что сила гребцов не способна преодолеть сопротивление непрестанно дующего ветра. День за днем дули встречные ветры, люди выбивались из сил. Суда проходили ничтожные расстояния.
Баурджед решил выйти в открытое море, но и там встречные ветры не давали хода кораблям, постепенно отгоняя суда к востоку.
Вскоре путешественники увидели берег и с удовольствием узнали, что ширина Лазурных Вод здесь так же невелика, как и на севере, где суда Кемт переплывали его, отправляясь в военные походы на рудники восточных стран. Значит, подобно исполинскому каналу, Лазурные Воды протянулись прямой узкой полосой вдаль на миллионы и миллионы локтей расстояния. Восточный берег моря здесь был совершенно мертв и безводен.
Страдая от палящего зноя, моряки приложили все усилия к тому, чтобы пробиться обратно к своему берегу, и пристали туда почти на том же месте, откуда отошли — у больших островов. По пути видели черных рыб невероятной величины,[78] превосходивших в несколько раз длину кораблей. Эти рыбы выставляли над поверхностью моря свои гладкие черные спины, похожие на острова из черного гранита, громко сопели, выбрасывая фонтаны воды, и разбивали воду чудовищными хвостами. Путешественники удалились от этих рыб со всей возможной скоростью. Крепкие корабли Кемт впервые показались им утлыми, ненадежными скорлупками.
Встречные ветры не только не прекращались, но, наоборот, дули почти непрерывно. Баурджед сдался, на время побежденный. Выбрав удобное место, изобиловавшее водой и дичью, путешественники вытащили корабли далеко на берег. Здесь провели они остаток времени наводнения на три месяца посева в томительном ожидании перемены ветров, сражаясь со множеством хищных зверей и ядовитых пауков, казалось собравшихся со всей пустыни вокруг. Люди страдали без привычной пищи — плодового и пшеничного хлеба, овощей. Все запасы кончились, и дальнейшее пропитание всецело зависело от удачи охотников или от тех съедобных растений, которые изредка попадались в небольших перелесках, заполнявших горные долины высокого берега.
В последний месяц посева вновь подули сильные и постоянные северные ветры, и корабли, починенные и осмотренные, продолжали путь.
Восточный берег Лазурных Вод вдруг начал приближаться к западному. К изумлению Баурджеда, море сузилось до полусотни тысяч локтей.[79] Оба берега были мрачны и бесплодны — черные горы торчали подобно множеству свиных сосцов. Грубая черная земля, не родившая ни травинки, покрывала все вокруг.
Едва корабли миновали это узкое место, берега стали быстро расходиться, беспорядочные волны толкали суда, опасно кренившиеся и иногда зачерпывавшие воду.
У двух кораблей оборвались реи, корабль Баурджеда дал течь. Полдня плыли при таких угрожающих обстоятельствах, затем огромная, просторная бухта раскинула свою гладкую, спокойную поверхность.[80]
Моряки поразились внезапной перемене — исчезла влажная и душная жара, сопровождавшая их все долгое плавание по Лазурным Водам. Воздух стал легок и чист, как воздух благословенной Кемт. Люди обрадовались этому как счастливому предзнаменованию.
Берега вдали зеленели, издали чувствовался странный аромат, доносившийся от земли.
Горы были покрыты кустарниками и низкими деревцами с плотной блестящей листвой. Все эти растения издавали очень приятный запах.
Корабли плыли еще несколько дней вдоль берега, на юг, и тут случилось непонятное. Берег встал против дневного солнца, пути на юг дальше не было. Баурджед и его спутники растерялись: вместо того чтобы достичь края суши на берегу Великой Дуги, они дошли до края моря. Смущение закралось в сердца — приказ фараона оказался невыполнимым.
Корабли повернули на восток и двенадцать дней плыли вдоль берега, подолгу простаивая на суше от бурных налетов ветра и волн по восьми локтей высоты. Страшные темно-красные тучи неслись яростными шквалами, сильнейшие дожди с ревом изливались на пустынный берег, усеянный горами сыпучих песков. А берег все более отворачивал от восточной стороны к северной.
Сомнений не было — Великая Дуга таинственно исчезла куда-то, и они достигли пределов мира. Но где же волшебный Пунт с его богатствами, с похожими на народ Черной Земли жителями, со множеством селений на берегах моря?
В необозримую даль вперед уходил безлюдный берег, и все так же в глубине суши над ним возвышался ровный и невысокий скалистый уступ, изрезанный сухими оврагами.
Баурджед остановил экспедицию. Никто не ожидал такого конца. Готовились к новым, неслыханным трудностям, невероятным чудесам, может быть, к гибели. А здесь, после дивных приключений в пути по Лазурным Водам, — сухая и жаркая ненаселенная земля, преградившая путь на юг.
Снова вытащили корабли на берег, построили хижины. Из лагеря у подножия желтых утесов разошлись в разные стороны вооруженные отряды — для разведки страны и в поисках пищи.
Сам Баурджед во главе ста двадцати воинов и вооруженных рабов двинулся на юг. Он поднялся на голые плоские горы, пройдя пятьсот тысяч локтей от берега.
Далеко на западе высилось полчище гор той же неслыханной высоты, какие они видели за большими болотами в пути по Лазурным Водам. Они теснились грозной толпой, поросшие лесами, прикрытые облаками, лежавшими, точно на отдыхе, на их острых, иззубренных плечах. На юге перед Баурджедом расстилалась, насколько хватал глаз, желтая горячая пустыня без оврагов, рощ или оазисов. Ни одна река не пересекала светлую, казавшуюся рыхлой равнину, ни одно озеро не блестело радостным огоньком на однообразной плоскости.
А с востока шли без конца такие же плосковерхие уступы, как и тот, с которого Баурджед пытался проникнуть взглядом в неведомое. Ни следа городов или селений, ни даже признака кратковременного пребывания человека.
В тяжелом раздумье Баурджед возвращался назад. Трудности похода его отряда, дни без питья под злобным, гнетущим солнцем, бессонные ночи, полные тревожных мыслей, — все оказалось напрасным, загадка осталась неразрешенной.
Но в лагере встретили его неожиданные вести.
Один из отрядов, посланных на запад, после пятидневного пути наткнулся на маленькое селение, расположенное в лесистой долине, уходившей к подножию западных грозных гор. Неведомые люди были умны и понятливы. Вооруженные только легкими копьями и кремневыми ножами, они пасли стада коз на склонах гор, в изобилии населенных дикими зверями. Язык их был неведом никому из рабов, взятых из-за Врат Юга.[81] Но с помощью жестов и рисунков на песке людям Баурджеда удалось объясниться с ними. Смелые и гордые, они нисколько не боялись странных пришельцев с оружием из невиданного металла, снабженных дальномечущими луками. Никто из них не согласился идти в лагерь, и угрозы начальника отряда Имтоура едва не испортили дела.
Наконец они поняли, что пришельцам нужно узнать об окружающей стране. За меч из блестящей меди двое юношей отправились вверх по долине и возвратились через десять дней с тремя старцами, проведшими свою долгую жизнь в беспрестанных перекочевываниях по стране со стадами скота и в охотничьих походах. После долгих и трудных объяснений выяснились неслыханные вещи.
К югу лежала бесконечная богатая страна, но путь к ней был прегражден высокими горами и безводными пустынями. Расстояние было так велико, что требовало многих месяцев пути, и без вьючных животных нечего было и думать пускаться в такое предприятие. Но море, оказывается, вовсе не кончалось здесь. Старики не могли объяснить этого в подробностях, но единодушно утверждали, что дальше к востоку находится край земли и только одно безбрежное море омывает этот предел мира.
Обрадованный вестями, Баурджед решил плыть дальше. Но прежде чем корабли могли тронуться в путь, пришлось потратить еще три месяца на заготовку запасов продовольствия.
Три месяца посланцы Та-Кем жили бок о бок с жителями бесплодных гор. Надменный царедворец Баурджед, у себя в Та-Кем смотревший на каждого темнокожего человека из пределов Юга как на заведомого раба, здесь восхищался своими случайными соседями, любовался их гибкими, сильными телами, сказочной смелостью охотников, выходивших с копьями против львов в одиночку.
Не раз Баурджед охотился вместе с вождями племени, забыв о всякой важности, заглядывался на юных стройных девушек, едва прикрывавших свою наготу скудной одеждой.
За малейшую обиду, нанесенную местным жителям, Баурджед установил немедленную казнь, но строгий указ не пришлось привести в исполнение: никто, даже заносчивые ливийцы, ни разу не поссорились с соседями — так сильна была у них тоска по человеку после страхов безлюдного моря.
Пять месяцев стояли здесь корабли; уже год прошел со времени отплытия из гавани Суу.
Глава третья ВЕЛИКАЯ ДУГА
Снова поднялись истрепанные, много раз чиненные паруса, заскрипели весла в истершемся дереве. Не подозревая о грозной опасности, Баурджед повел свои семь судов на новые поиски края Великой Дуги и волшебного Пунта. Опять прохладный, могучий простор морского воздуха оживил привыкших к нему моряков. Длинной лентой развертывался однообразный песчаный берег; возвышавшиеся поодаль утесы окрашивались в солнечных лучах в разноцветные, то мрачные, то радостные узоры. Встречное течение замедляло путь, но, несмотря ни на что, уходили на запад всё новые и новые тысячи локтей берега, неуклонно увеличивая расстояние до священной Черной Земли, отдаляя срок возвращения.
При появлении багровых туч суда поспешно укрывались на берегу, вытаскиваемые десятками сильных рук. Так удавалось избегать внезапных ветров потрясающей силы, которые иначе давно бы покончили с экспедицией Баурджеда. Здесь пришлось плавать больше ночью, чем днем. После полудня ветры дули с моря и относили корабли на мели к берегу. Ночами яркая луна хорошо помогала морякам избегать небольших, но острых подводных скал, обозначавшихся в блестящем серебре моря матовыми кругами разбитых волн.
Луна была уже на сильном ущербе, когда ночью моряки заметили, что черная стена скалистого берега повернулась вправо, на юг. Взволнованный кормчий разбудил Баурджеда. Но берег не кончался, и суда шли вдоль него всю ночь. Встала заря. Носы кораблей были направлены на ее алый огонь, и вдруг берег справа исчез, удаляясь назад, за корму последнего судна.[82]
Навстречу вставали волны невиданных размеров. Высотой они лишь немного превосходили уже виденные моряками восьмилоктевые волны Лазурных Вод. Но те возникали только при бурных ветрах, вздымаясь с яростной быстротой, и, словно разгневанные духи моря, метались в поисках жертвы.
Теперь же волны, при слабом береговом ветре, широко развертывали перед моряками свои темные склоны, величаво, медленно и грозно вздымая свои верхушки, увенчанные багряным светом зари. Они не метались, наталкиваясь друг на друга, — нет, волны шли спокойно рядами, цепь за цепью, будто наступающее полчище многих великанов. И само необозримое море казалось чудовищной грудью, дышавшей мерно и плавно, порождая при каждом вздохе новую гряду водяных гор. Страх охватывал людей, словно сама их жизнь исчезала в величавой бесконечности океана.
Не было больше голубого сияния, лазурного цвета прозрачного теплого моря. Вода потускнела, темно-зеленая ее масса не давала возможности проникнуть взором в глубину, синевато-серые отблески ложились на гладких скатах колышущейся пучины.
Корабли взлетали на тяжкую грудь водяного вала, быстро низвергались в темные провалы и снова, задрав носы и поникнув кормой, устремлялись вверх до следующего падения. Казалось, чьи-то мощные, безжалостные руки играли судами, точно скорлупками, мерно подбрасывая и опуская беспомощные корабли. Паруса захлопали, провисая и снова надуваясь, загремели реи, затрещали весла под давлением водяных гор. Кормчие, покрывшиеся потом с головы до ног, испуганно призывали себе на помощь гребцов. Неверное управление угрожало страшным бедствием, при малейшей ошибке растерявшихся гребцов весла переламывались, как тростинки, или тяжко ударяли людей, калеча их.
Молчание нависло над кораблями, нарушаясь только ударами воды и треском дерева. Настороженное, прерывистое дыхание выдавало волнение людей. Все понимали, что перед ними какое-то новое, невиданное море, более грозное, чем то, по которому они так долго плыли. Непобедимая мощь чувствовалась в его просторе, подавляла вздымавшимися грядами водяных гор.
Баурджед приказал во что бы то ни стало повернуть обратно к берегу. С большим страхом кормчие принялись выполнять опасный маневр. Благодаря веслам удалось быстро развернуть корабли, не подставляя их открытые борта ударам громадных волн.
Берег уходил круто на юг, устремляясь еще правее, и Баурджед наконец понял. Они обогнули огромный, величиной с целую страну, выступ суши и достигли Великой Дуги. Лазурные Воды оказались не более как ее заливом, узким отростком. Теперь берег отклонялся к западу; если это так, то скоро они увидят южный край мира на берегу Дуги.
Баурджед поделился своими соображениями со спутниками. Неописуемая радость осветила лица, только что помрачневшие перед зрелищем мощи океана.
Значит, скоро будет выполнено поручение фараона, скоро начнется обратный путь, пусть бесконечно далекий, пусть угрожающий снова всеми перенесенными страхами, опасностями и страданиями, но путь, ведущий к мирным полям святого Хапи!
Как далеки были эти наивные мечты от страшной действительности! Корабли приблизились к берегу, и сейчас же новый страх смял возникшую было радость.
Угрюмые утесы высились отвесно, залитые светом утреннего солнца. Море билось о них с оглушительным грохотом, высоко вверх летели столбы сверкающих водяных брызг. Громадные водяные горбы, побелевшие сверху, вспучивались под берегом, черные гряды злобно ощеренных скал вставали и снова скрывались в рушащихся валах пены. При каждом спаде волны черные зубы утесов будто выпрямлялись, сбрасывая с себя бешено льющиеся струи воды. Этот берег более не сулил безопасного приюта кораблям Баурджеда. Острые скалы грозили смертью, рев прибоя возвещал немедленную гибель.
И суда, подчиняясь всемогущей силе, во власть которой они так внезапно и незаметно вошли, опять повернули от спасительной суши к грозному лицу Великой Дуги.
Вода вокруг была необыкновенно холодна и темного цвета. Гнилой, неприятный запах бил в лицо вместе с брызгами пены. Корабли шли медленно, беспомощно мотаясь в громадных волнах. Кормчие стремились сохранить направление вдоль берега, едва заметного справа.
В своем соединенном упорстве люди не сломились, а продолжали борьбу еще более ожесточенно. Понемногу моряки освоились с волнением, гребцы заработали увереннее и смелее, часто сменяя друг друга. После полудня ветер с моря понес корабли быстрее и быстрее прямо на юг, и к вечеру суда проплыли большое расстояние, подошли к берегу, и моряки снова убедились в невозможности пристать.
Ветер становился сильнее, с шумом рвал паруса; их пришлось спустить.
С поникшей головой Баурджед стоял на переднем корабле, оглядывая остальные шесть, нырявшие и качавшиеся подобно игрушечным деревянным уткам, какие он любил пускать мальчиком в садовом бассейне. В памяти мелькнули теплые, яркие краски родных садов, покой и тишина отцовского дома.
С чувством попавшего в западню зверя Баурджед оглянулся вокруг.
По-прежнему мерно вздымались огромные волны, только ритм их дыхания заметно убыстрился. Последние лучи солнца угасали вдали, за белевшей полосой бурунов, а в небе висела зловещая густая облачная масса, освещавшаяся снизу частыми вспышками молний.
Тяжелое ощущение недоброго, готовящегося ему и его спутникам, давило Баурджеда. Маленькие, недавно казавшиеся такими уютными и надежными корабли скучились вокруг головного — начальники кораблей ждали приказа, отвергнутые землей, затерянные в море на краю мира.
Все более крепло у Баурджеда сознание, что корабли Та-Кем не годились для плавания по Великой Дуге.
Но ничего нельзя было сделать. Он — полный владыка душ и тел своих спутников, начальник воинов, исполнитель воли всемогущего фараона — чувствовал себя сейчас неопытным, робким мальчиком, готовым спрятать голову в коленях у матери, если бы она была здесь.
Тьма сгущалась над морем, свист ветра становился резче и заунывнее, а молнии все чаще сверкали, освещая рваные края темных облаков.
С корабля на корабль прокричали распоряжение Баурджеда — плыть всю ночь по ветру, ни в коем случае не разлучаться, держась ближе друг к другу. Подавать постоянные сигналы ударами в медные щиты…
Мрак разъединил корабли, погрузив людей в одиночество. Он был так густ, что с носа нельзя было видеть, что делается на корме. Только огни молний давали возможность следить за соседними кораблями.
Страшные крики, вой и вздохи неслись из-за туч, как будто сам мрачный Сетх[83] или грозная Сохмет[84] — львица, пожирательница людей, спорили там из-за добычи. В вое ветра люди слышали окликавшие их голоса и в страхе оглядывались с бьющимися сердцами. Зловещее томление и тоска охватывали людей, точно звавший их голос принадлежал самой смерти.
В надрывный скрип дерева и унылое завывание ветра со всех сторон вплетались зловещие медные удары, подобные невыразимо напряженным вскрикам. Им изредка вторили глухо доносившиеся человеческие слова — отрывочные, бессвязные и от этого казавшиеся испуганными.
В полной угрозы ночи корабли быстро шли к югу, гонимые, как сухие листья в ветер. Слева и спереди часть горизонта непрерывно светилась, будто там собрались со всего мира зарницы и молнии.
Вздох, вырвавшийся из груди Баурджеда, потонул в громовом реве вдруг налетевшего ветра. Корабль повалился набок, и Баурджед упал на колени, сильно ударившись головой. Сознание покинуло его, и он неминуемо полетел бы за борт, если бы смелый моряк, по имени Антеф, не удержал его, прикрыв собственным телом в углу между краем борта и палубой.
Когда Баурджед снова открыл глаза и сознание вернулось к нему, он долгое время не мог сообразить, где находится. Его окружало что-то исполински громадное, несущееся, давящее. Он чувствовал под собою по-прежнему твердую палубу корабля, но она исчезала под крутящейся пеной. Размахи судна превратились в быструю смену взлетов и падений, похожую на скачку раненой антилопы. Понемногу Баурджед заставил себя соображать, отчаянно сжимая голову в ладонях.
Полное злобы рычанье ветра, душившего его, мешало ему прийти в себя.
Гром вздыбленного моря убил все звуки. Только рев ветра яростно спорил с раскатами водяных гор.
На палубе корабля, под обломками сломавшейся мачты, лежали гребцы, вцепившись в вытащенные на палубу весла. Часть людей, обвязавшись веревками, держала рулевые весла.
Группа воинов распростерлась на палубе, удерживая своими телами покрышки трюмных отверстий, наскоро сооруженные из парусов.
Бледно-серый мертвый свет слабо освещал все происходящее. Иногда вдруг все выступало с жуткой отчетливостью в слепящей вспышке молнии, подобное бредовой картине.
Баурджед в смертельной тревоге старался разглядеть другие корабли, скрытые провалами волн и полосами пены. Посмотрев на эти заливаемые водой скорлупки, он понял до конца весь ужас своего положения.
Два корабля слегка опередили корабль Баурджеда, держась справа от него. Сквозь дикую пляску гребней волн и взмахи хвостов пены он различил на них тонкие треугольники уцелевших мачт. Слева и сзади шли еще три корабля, а седьмого нигде не было видно. Великое чудо было в том, что шесть кораблей пока шли, и еще большее чудо, что бешеная сила бури не разметала их по темному кипящему морю.
Внезапно один из трех кораблей, шедших слева, резко накренился; мелькнули людские руки, вздыбленные весла. Через мгновение дно опрокинувшегося судна показалось в косматом гребне исполинского вала и исчезло. Оцепенев от ужаса, Баурджед и державший его воин смотрели на гибель спутников. В волнах едва виднелись головы нескольких людей.
Боевой огонь возмущения зажегся в угнетенном Баурджеде. Он должен был что-то делать, сражаться с этой губящей, пусть необоримой силой. Цепляясь за что попало, он пополз к кормовой части судна, где дверь в заднее, крытое помещение уже подавалась под напором заливавшей корабль воды. Все дальнейшее вспоминалось Баурджеду неясными, спутанными обрывками. Он помнил, как рубили борта, чтобы облегчить сток воде с палубы, как он сам и знатные чиновники его свиты вместе с рабами бешено отливали воду в черной тьме внутри судна, избитые ударами качки, как неистово пытались заделать все отверстия в палубе, неосмотрительно прорезанные строителями, никогда не знавшими ничего о Великой Дуге. Баурджед помнил искаженные, мокрые, неузнаваемые лица, мелькавшие вокруг него во вспышках молнии. Сыны Кемт и рабы — негры, ливийцы, азиаты — сражались со стихией во имя жизни.
С чувством благодарности и восхищения Баурджед следил за сильной фигурой Уахенеба, обрисовывавшейся на корме сквозь пелену летящей пены. Иногда особенно яркие вспышки молнии вырывали из тьмы его твердое лицо с запавшими от невероятного напряжения щеками. Кормчий с тремя помощниками изнемогал, удерживая рулевое весло — единственную надежду корабля.
Уахенеб криками подбадривал товарищей по другую сторону кормы, его резкая команда прорывалась через оглушительное неистовство бури. И люди, забывая страх смерти, беспрекословно подчинялись рулевому, сумевшему держать корабль против неслыханной силы Великой Дуги, вселить надежду в их потрясенные сердца, помочь найти силу в усталых телах. И работали с нечеловеческим напряжением.
Баурджед помнил еще одно страшное зрелище, неизгладимо запечатлевшееся в душе. С его кораблем сблизились два других. Один — с украшенным медью носом, где начальником был любимец Баурджеда, веселый Симехет, — внезапно стал погружаться кормой. Десятки людей посыпались за борт, в губительные волны, стремясь к шедшему рядом кораблю Мерира. Протянутые руки конвульсивно цеплялись за его борта, спасение пловцов казалось совсем близким.
Но тут, закрывая полнеба и касаясь вершиной низких туч, поднялся вал двадцати локтей в вышину. Корабль Мерира не смог, отягченный спасавшимися, своевременно повернуть и ускользнуть от чудовища. Косматая вершина гигантской волны хищно загнулась вперед, и тяжелая масса воды обрушилась на корабль, отшвырнув в сторону судно Баурджеда. Никто не всплыл на месте гибели двух кораблей, только какие-то обломки иногда мелькали между волнами.
Смерть была неизбежной, и всё же люди на судах продолжали борьбу, перестав сознавать все, кроме необходимости сохранения корабля.
Моряки не заметили, что борьба становится легче, что хриплые, отрывистые восклицания уже слышны сквозь бурю, что серый полумрак синеет и размахи корабля замедляются.
Но только когда яркий солнечный свет залил все вокруг, они поняли, что вырвались из лап ревущей неумолимой смерти, что будут жить.
Солнце уже клонилось к закату — так долго несла корабли ужасная буря. Из уцелевших обломков долго собирали мачту; подняли ее, распустили большой синий флаг — Баурджед давал сигнал тем судам, которые спаслись. Если спаслись… Но вскоре приблизился один корабль, потом другой. Невыразимо велика была радость снова увидеть товарищей. Три корабля направились к заходящему солнцу и тут заметили впереди, в бушевавших вдали волнах, черную точку. То был четвертый корабль…
Баурджед замолчал и провел рукой по изменившемуся, взволнованному лицу. Потрясенный фараон велел принести вина и крепкого пива.
Отдохнув немного, Баурджед продолжал рассказ.
Каждый из путешественников после бури сделался “подобным человеку, схваченному в темноте. Тела их дрожали, сердца отсутствовали в них, и они не могли отделить жизнь от смерти”.[85]
Разбитые, наполненные водой корабли тяжело переваливались на высоких волнах, треща и содрогаясь, словно в воспоминаниях пережитого. Все помыслы людей были устремлены к берегу. Если земля снова отвергнет их, встретив грохотом и пеной прибоя, то смерти не избежать. Не хватит сил пробыть еще ночь в объятиях Великой Дуги, невозможно спасти поврежденные суда…
Медленно подвигались суда к берегу — далекая туманная полоска против солнца оставалась все той же, не давала ответа на терзавший моряков вопрос.
Корабль Баурджеда, на котором осталось больше весел, шел опять впереди. Незаметно море посветлело, качка ослабла — корабли медленно взлетали вверх и плавно опускались на редких длинных волнах. На взлете с высоты большого вала с судна внезапно увидели берег, оказавшийся совсем близко. Низкий и песчаный, он полого уходил под широкие разливы и всплески накатывавшихся волн. Водяные валы медленно вставали длинными стенами, их верхушки горбились, блестя на солнце, как спины громадных животных. Неуловимо быстро гребни валов закручивались вперед и с глухим шумом простирались на гладком песке.
Путешественники не успели оглянуться, как суда оказались на песчаной отмели, заливаемые водой.
По горло в воде, под могучими и ленивыми ударами волн моряки отчаянными усилиями вытащили свои корабли дальше на берег.
Несколько пальм, покорно склонивших свои стройные кольчатые стволы перед лицом Великой Дуги, говорили о присутствии пресной воды.
Под их растрепанными морским ветром кронами чувство покоя и безопасности наполнило сердца измученных людей. Очень скоро все забылись тяжелым сном, не думая о дальнейшем, все еще переживая случившееся.
Здесь, на этом пустынном берегу, к Баурджеду с полной ясностью пришло сознание необъятности мира, исполинского величия еще не покоренной человеком природы и чувство бесконечной оторванности от милой родины.
К утру суда оказались далеко от моря, на голом песке. Путешественники уже знали, что море с правильными промежутками то наступает на сушу, то отступает от нее, и поэтому не удивились. Осмотр кораблей показал ряд серьезных повреждений.
Снова построили лагерь на неведомом берегу, снова разошлись в разные стороны отряды в поисках нужного дерева, смолы и пищи.
Страна была жаркой, пустынной и неприветливой, но прошло много времени, прежде чем удалось ее покинуть. Путь на юг продолжался. Оставалось уже меньше половины людей, отправившихся из гавани Суу, износилась одежда, кончились взятые с родины запасы.
Корабли шли и шли вдоль берега, избегая мощного волнения, неуклонно стремясь на юг, в нетерпеливом ожидании окончательного поворота берега на запад.
Ночами на берегу раскидывалось над ними необычайно черное небо, на котором всплывали с юга новые, чуждые по очертаниям созвездия, а родные, знакомые звезды с каждым днем опускались все ниже, назад, к северному горизонту.
Чужое небо пугало людей, вечная неизменность его, усвоенная опытом многих веков у себя в Та-Кем, рушилась, непонятное вновь вставало перед людским умом, терявшимся в догадках.
И даже солнце как будто бы взбиралось все выше на небо; в полдень оно стояло прямо над головой, обрушивая каскады прямых, как стрелы, все пронзающих лучей.
Ветры, дувшие с суши, приносили странные запахи. В них чудились ароматы неведомых цветов, удушливые испарения громадных болот, сухое и горькое веяние сожженных степей. Там, за невысокими горами, на запад шла загадочная, полная тайн земля, несомненно изобиловавшая всевозможными чудесами. Но берег оставался пустынным в течение двадцати дней плавания, пока прибрежные горы не стали высокими и кругловершинными и не оделись в зеленый ковер густейших лесов. В знойные часы дня от них шел одуряющий запах, круживший голову. Словно все драгоценные ароматы смешались и пропитали тяжелый воздух. Леса подползали к берегу, редкостные обезьяны гуф и киу во множестве скакали по ветвям и спускались на землю, привлеченные видом судов.
Тут обнаружилась новая беда — в днищах кораблей образовались большие дыры. Какие-то морские черви источили крепкое дерево, и оно стало распадаться при ударах волн или трении о песок во время причалов.
Испытанные во всех опасностях, избежавшие столько смертей, путешественники впали в безысходное отчаяние.
Единственным крепким мостиком, связывавшим их с далекой родиной, были корабли — залог возвращения. Без кораблей на чужих берегах края земли, в безмерной дали от Черной Земли — как смогут они вернуться, как найдут покой смерти в Кемт? Починяя разваливающиеся корабли, экспедиция продолжала путь.
И вот наконец гигантские деревья неслыханной, невообразимой высоты подошли близко к морю. Устье большой реки обозначилось пятном темной воды, вторгшейся в сине-зеленые волны Великой Дуги. Тысячи синих птиц с длинными носами покрывали воду у берегов, розовые тучи фламинго[86] светились на солнце, белые цапли сновали повсюду, и важные пеликаны отдыхали, покачиваясь на глади широкой, открытой бухты.
Корабли обогнули небольшой плоский мыс, и тут перед глазами путешественников предстало все то, о чем они мечтали в бурных волнах моря или на мертвых берегах под молчаливыми звездами все долгие дни невероятного пути.
Большое селение раскинулось на плоском берегу моря. Круглые дома с коническими крышами из тростника стояли на высоких сваях, под сенью отягченных плодами деревьев. Вдали, на склонах холмов, виднелись засеянные поля. Огромное стадо коз и коров с неимоверно длинными рогами отдыхало в тени широколиственных толстых деревьев. Желтые вислоухие собаки бегали по берегу и лаяли на приближавшиеся суда.
Навстречу спешили толпой крепкие, стройные мужчины в белых набедренных повязках и женщины в коротких белых платьях с одинаковыми узкими белыми лентами поверх длинных вьющихся волос. Цвет кожи незнакомцев был такой же, как у сынов Кемт.
Затаив дыхание, они следили, как один за другим приближались и причаливали невиданные корабли.
Медленно подошел бородатый вождь с кинжалом за поясом, со множеством золотых браслетов на правой ноге.
Повинуясь его знаку, навстречу Баурджеду несли плоские корзины с грудами ярко-желтых и зеленых чешуйчатых плодов.
Так свершилась мечта народа Черной Земли, предвидение Джосера, воля Джедефра — экспедиция достигла сказочного Та-Нутер, или Пунта, после полутора лет беспримерного плавания. Страна была обширной, богатой благовониями и золотом; необычайно вкусные плоды доставляли обильную и разнообразную пищу.
Жители Пунта и в самом деле походили на сынов Кемт и, несмотря на то что не понимали их языка, гостеприимно приняли путешественников, которым показалось, что они прибыли в сказочную Страну духов счастья. Но то было лишь первое впечатление после многих месяцев борьбы с морем и пустынями, со страшными силами Великой Дуги.
Баурджед хорошо запомнил, как однажды, в ответ на его восхищение страной, кормчий Уахенеб сердито сказал, что высокие сановники в Та-Кем и здесь, в Пунте, не хотят видеть страданий простых неджесов — бедняков. А Пунт, по мнению Уахенеба, только тем и отличался от Черной Земли, что здесь не было армии чиновников, но зато во главе каждого рода стоял свой вождь, притеснявший своих подданных по своим собственным законам — иными словами, без всякого закона.
Скоро Баурджед сам убедился в этом. Легенда о счастливой стране развеялась дымом костра на морском берегу. Не хотелось возвращаться с такой вестью на родину, всегда, с очень древних времен, видевшую в Пунте страну мечты, страну надежд народа на хорошую жизнь.
Оставалось узнать край земли на Великой Дуге, и эта задача казалась легкой: так далеко уплыли корабли Баурджеда, что никто не сомневался в близости Пунта к окраине мира. Теперь они достигнут ее даже по суше, без своих источенных червями судов.
Полгода экспедиция знакомилась со страной мнимых духов; изучала обычаи и язык, узнавала дороги, вела торговлю, меняя оружие, ткани и украшения на золото и ароматные смолы деревьев Пунта. Потом настало время идти на поиски края суши. Лишь после выполнения этого следовало думать о возвращении.
Но больше трех лет пришлось еще пробыть в далекой стране, а пределы суши так и не были достигнуты.
Оставив наиболее искусных людей на берегу для постройки новых судов, Баурджед послал отряд на запад, а сам отправился на юг с основными силами оставшихся воинов, используя в качестве вьючных животных маленьких пестрых быков с длинными рогами. На восьмом дне пути тяжелая лихорадка свалила Баурджеда. Его отнесли обратно в прибрежный город, а экспедицию вместо него повели начальник воинов Имтоур и кормчий Уахенеб…
Баурджед поник головой и печально посмотрел на фараона. Лучи заходящего солнца осветили его лицо с запавшими щеками, глубокие тени легли вокруг глаз и рта печатью бесконечной усталости. Длинный рассказ, потрясающие воспоминания измучили путешественника.
Баурджед приподнялся и достал из принесенной с собой шкатулки несколько свертков, которые с низким поклоном подал фараону.
— Дальше моя речь не может быть полной, — тихо проговорил он. — Я был между жизнью и смертью много месяцев, а потом сделался слабее недавно родившегося младенца. Вот здесь писцы, по моему приказанию, записали все то, что случилось с нами в попытках достичь края земли. Я осмелюсь предложить эти книги его величеству, жизнь, здоровье, сила…
Хафра недовольно сдвинул брови.
— Мы слышали от тебя так много чудес, — прозвучал металлический ясный голос фараона, — и хотели бы узнать скорее конец путешествия. Соберись с сердцем, отдохни в моем дворце и перед ночью продолжишь рассказ. Помни, что я еще не слышал от тебя самого главного…
Удивленный словами фараона, Баурджед покорно дал отвести себя в маленькую угловую комнату. Там путешественник лежал в одиночестве, наслаждаясь прохладой. Перед его закрытыми глазами без конца проплывали видения из далекого мира, потревоженные в памяти. Баурджед не мог заснуть, размышляя о том, чего же хочет от него фараон, и вспоминая недавний разговор со старым жрецом Тота.
Наступила ночь, когда его снова позвали к фараону.
Слабое мерцание светильников в глубине обширного балкона не мешало свету ярких звезд. Часто сбиваясь и путаясь, Баурджед поспешил окончить фараону отчет о своей экспедиции.
Он рассказал о том, как западный отряд достиг огромного пресного моря,[87] переплыть которое они не смогли и возвратились.
На обратном пути отряд прошел мимо исполинской горы, ушедшей в глубину неба своей двуглавой вершиной чистейшей сверкающей белизны.[88] Со склонов горы сползали вниз, в долины, пласты необычайно холодного голубого камня. Этот камень был прозрачен и в руках превращался в воду, исчезая без следа.
Баурджед говорил о деревьях чудовищной высоты, касавшихся своими верхушками звезд, о других деревьях, более низких, но толщиной превосходящих всякое воображение.
Миллионы зловредных мух и разноцветных муравьев терзали путников.
Необозримые стада антилоп, свирепых быков, слонов, жирафов теснились на просторах степей, на опушках темных лесов… Тысячи зверей, похожих на больших ослов, дико раскрашенных в черные и белые полосы, бешено проносились перед путешественниками; черные чудовища с рогами на носу и на лбу бросались из-за кустов с ужасающей свирепостью.
Разные народы встречались путешественникам, разные оттенки кожи, звучания непонятных языков, разные виды оружия — все перемешалось в их памяти.
Отряд, направленный на юг, шел бесконечно долго, пока не достиг высоких гор. На тех горах росли мрачные леса из деревьев с иголками вместо листьев.[89] По ночам все деревья светились пугающим синеватым светом. Там же видели светящихся зверей, и — страшно сказать! — люди стали светиться сами, покрываясь как бы одеждой из холодного огня. Этот свет предвещал ужасные грозы, нещадно крушившие все вокруг, избивая людей, ломая деревья и зажигая леса.[90]
В страхе отряд поспешно пересек горы и пришел к большой реке,[91] равной самому священному Хапи. Здесь жили люди со странным серым цветом кожи, искусные в скотоводстве и выделке оружия.
Посланцы Баурджеда долго жили здесь, познакомились с языком серых людей и смогли узнать о пути дальше на юг.
Оказалось, что край суши невообразимо далек, никому не известны его пределы. Местные жители уверяли, что дальше на юг, за горами и лесами, идут просторы степей с голубыми травами.[92] Там, на юге, холоднее, чем здесь, и живут воинственные племена. Воины их бегают быстрее антилоп и бросают копья дальше, чем летит стрела.
Несмотря на предупреждения об опасности, Имтоур и Уахенеб направились на юг от реки, стремясь во что бы то ни стало выполнить волю фараона.
В кровопролитных сражениях отряд быстро лишился лучших, испытанных, сильных воинов и поспешно отступил назад, не выполнив намерения. Погиб сам начальник Имтоур, был ранен Уахенеб, из семидесяти человек к большой реке вернулось всего четырнадцать.
Баурджед говорил, как долго томился он в чужой стране, ожидая возвращения посланных им отрядов. Сто три человека, закаленных годами тяжкого пути, не боявшихся ни необъятного моря, ни зверей, ни людей, исчезли, растворились в просторе огромного, поистине бесконечного мира.
Едва оправившись, Баурджед двинулся на поиски южного отряда, собрав всех способных к походу людей.
Волею богов им удалось встретить маленькую группу сынов Кемт, пробивавшихся на север, к Пунту. Едва живые, поведали они начальнику, что пределы мира так и остались непознанными. Стало ясно только одно — земля на юг простирается на такое громадное расстояние, перед которым вся страна Кемт не более маленького островка в дельте Хапи. Пройти до конца суши можно только с тысячами воинов, и на это потребуются десятилетия…
Строители, остававшиеся на берегу, приготовили три корабля, давно уже бережно сохранявшиеся в тростниковом сарае на уступе берега.
Эти корабли были выстроены по-новому — борьба с волнами Великой Дуги не прошла даром. Высокие и прямые носы закрыли досками твердого дерева, крепкая палуба не имела ни одного отверстия, не закрывавшегося плотными крышками. Рули поместили на высокой подставке, защищенной от волн, днища кораблей были обиты тонкими листами золота, чтобы избежать разрушения дерева от морских червей.
Но все уцелевшие спутники Баурджеда помещались на одном корабле. Два других некому было вести. Напрасно пытался Баурджед уговорить вождей Пунта дать ему гребцов, напрасны были и попытки соблазнить кого-нибудь щедрыми посулами. Все жители Пунта наотрез отказались покинуть родину.
Пришлось идти на одном корабле, несмотря на всю опасность такого плавания. После четырех с лишним лет пребывания на суше люди Баурджеда с радостными возгласами спустили корабль в объятия Великой Дуги. Сейчас ее волны были легкими, весело и ласково бежали они из безбрежной дали неведомого. Корабль нагрузили тысячью больших колец[93] золота и серебра, уложили двадцать толстых стволов черного дерева, пятьдесят огромных слоновых клыков, пятьсот мер драгоценных благовоний, шкуры и рога необычайных зверей, перья невиданных птиц. Все это прибыло благополучно и лежит сейчас в сокровищницах обеих стран, у казначея бога.
Тяжел и долог был обратный путь, по нескольку месяцев приходилось стоять в ожидании благоприятных ветров. Но они пробились через бури и дожди, страшные зубы подводных скал, спаслись от громадных волн, были пощажены песчаными ураганами, чтобы повергнуть к стопам их величества все добытое в тяжких лишениях, сообщить познанное о великом и чудесном мире, простирающемся на юг от родной Кемт…
По знаку фараона все присутствующие покинули балкон. Остались только чати и верховный жрец Ра.
— Ты совершил неслыханные подвиги, — медленно заговорил Хафра, — перешел необозримые пространства, и сердце твое крепче красного камня Врат Юга.
Баурджед склонился лбом к полу, почтительно внимая словам фараона.
— Но ты вернулся с малой добычей, потерял много храбрых воинов и умелых рабов, — продолжал фараон. — Чем же возвеличил ты божественное имя царей Кемт в далеких, посещенных тобою странах?
Баурджед молчал — ему нечего было отвечать.
Хафра помедлил, в то время как чати и верховный жрец одобрительно закивали головами.
— Я не порицаю тебя, — слова фараона тяжело падали на сердце путешественника, — ты выполнял волю моего божественного брата и не мог ничего знать о переменах в Черной Земле. Иначе ты бы вернулся, едва достигнув Пунта, с богатой добычей и сам не подвергся бы лишениям в попытках достичь недостижимого. Мне нужно знать, много ли воинов потребуется, чтобы разбить эти южные страны, хороши ли будут рабы тех племен, много ли драгоценных камней можно взять оттуда для украшения моего храма. Ты еще ничего не сказал об этом.
Негодование стеснило грудь Баурджеда. Он только что пережил снова все величие широкого мира, и надменная самовлюбленность владыки вызвала в нем почти отвращение.
— Великий Дом, сын Гора, — тихо ответил путешественник, — там много разных племен, не объединенных дружбой, и ни одно из них в отдельности не смогло бы противостоять огромному войску Та-Кем. Но южная земля велика и людей там, как песка в западной пустыне, — все войско, весь народ Черной Земли растворился бы в ней подобно горсти соли, брошенной в воду. Мы не могли бы удержать завоеванного, ибо наша сила велика, покамест мы все вместе на нашей земле, как муравьи в муравейнике…
— Ты хочешь сказать, — гневно перебил фараон, — что мне и моему избранному богами народу не подвластны земли жалких негров? Вот как ты укреплял величие фараона в далеком Пунте!
— Сын Гора, жизнь, здоровье, сила, — поспешно ответил Баурджед, — я только хотел сказать, что мир так велик…
— Что вся земля Кемт перед ним не более островка в просторах Дельты? — быстро спросил Хафра.
Баурджед утвердительно наклонил голову.
— Может быть, и моя высота, которая станет больше всего, что было и будет создано людьми, покажется тебе лишь ничтожным холмиком? А может быть, ты посмел меня, бога и владыку мира, сравнить с презренными вождями презренных далеких племен? — последовали быстрые вопросы фараона.
Растерявшийся Баурджед прижался лбом к полу.
Фараон отгадал его мысли, еще неясные и смутные, порожденные тоской по свободе и простору минувших лет путешествия.
Хафра замолчал и устремил неподвижный взгляд поверх головы Баурджеда, подняв и сжав челюсти.
С затаенным дыханием Баурджед готовился встретить новый удар судьбы. Прошло несколько томительных минут.
— Иди домой, — наконец заговорил Хафра. — Завтра утром созовешь своих спутников и передашь им мое запрещение рассказывать сказки о твоем путешествии. Всякого, кто нарушит приказ, постигнет кара. И ты сам запомни мои слова…
Ошеломленный путешественник спустился с балкона, провожаемый молчаливыми взглядами двух первых советников владыки Кемт.
Ночная темнота сомкнулась вокруг Баурджеда, и так же темно стало в его душе; настоящее и будущее его жизни потерялось во мраке.
Победитель необозримых пространств побрел, спотыкаясь, по прямой пальмовой аллее к воротам дворца…
Сильные удары весел разбивали мутную воду Хапи.
Три могучих негра-гребца быстро гнали вверх по течению легкую лодку. Под плетеным сводом навеса сидели двое. Это были Баурджед и старый Мен-Кау-Тот.
Суровое лицо жреца было печально; он говорил, не спуская глаз с жадно внимавшего ему Баурджеда:
— Тяжелы камни судьбы, и горе тому, кто очутился под ними. Но в темную ночь мудрый познает свое родство с безднами неведомого. Сердце его трепещет, а мысли ширятся… Великое дело совершил ты, но суждено ему пройти без пользы для родины, исчезнуть до времени в сокровищнице тайной мудрости. Я предвижу падение жрецов Тота, предвижу худшие бедствия и падение могущества Кемт, если владыки его пойдут путем Хуфу и Хафра. Горько, что нет ныне человека, подобного премудрому Имхотепу, ибо сила фараона возросла величайшим образом. Народ Черной Земли стал былинкой, распластанной под копытом быка…
Мен-Кау-Тот тяжело вздохнул, меряя глазами уходившую вдаль долину, словно стараясь разглядеть будущее.
— Знай же, — помолчав, снова заговорил жрец, — что фараон приказал сжечь все записанное твоими писцами о путешествии. Мало того, в храме Джедефра была доска черного гранита с перечислением дел отошедшего фараона. Там было написано и о том, что он послал тебя разыскивать Пунт и край Великой Дуги. По приказу Хафра надпись стерта, твое имя уничтожено, и теперь ничто не передаст векам свершенного тобою подвига. Твои гребцы и воины отосланы надолго к озерам Змея. Уахенеб исчез.
Но народ — он не забыл тебя и продолжает прославлять тебя в песнях, новые сказки о тебе передаются из уст в уста в городах и селениях. Вот почему, пока гнев Хафра не обрушился на тебя всей силой, я посоветовал тебе укрыться во дворцах Тота. Давно уже фараон разыскивает их, но никогда не найдет, ибо верны слуги бога мудрости. Там искусные резчики смогут запечатлеть навеки на твердом камне описание твоего путешествия, а ученые жрецы запишут все, что познал ты в странствованиях по далекому югу. Так в поколениях людей сохранится память о могуществе и знаниях жрецов Тота. Отойди от жизни на время, пока не загладится смятение, внесенное тобой, под подошвой великой пирамиды. И гробница твоя сохранится для тебя, и пляска Муу[94] будет совершена перед ее дверью. Те твои спутники, которые вняли голосу мудрости, тоже будут целы…
— Как мне благодарить тебя, отец мой! — взволнованно произнес Баурджед. — Сколько раз я уже шел по путям твоей мудрости, и все сбывалось, как ты говорил… Прими же в дар прекрасную память далекого мира, которую сохранил я для себя во всех испытаниях…
Баурджед порылся в складках одежды и извлек оттуда плоский обломок камня величиной с наконечник копья, с округлыми краями. Камень был тверд, чрезвычайно чист и прозрачен, и его голубовато-зеленый цвет был неописуемо радостен, светел и глубок, с теплым оттенком прозрачного вина. Зеркальная поверхность камня была отполирована, видимо, рукой человека.
— Его доставил Уахенеб, — продолжал Баурджед, протягивая сверкающий камень жрецу, — с берегов большой южной реки. Такие камни добывают далеко на юге те, кому удается пройти мимо свирепых племен. Для меня он олицетворяет сияющую даль Великой Дуги, увидев которую хоть раз, забыть уже нельзя…
Мен-Кау-Тот взял камень с едва заметной улыбкой и сказал:
— Мне, слуге Тота, не нужно ничего. Но мы спрячем камень в сокровищнице Тота, среди других вещей, ибо сейчас ему лучше сохраняться не у тебя.
Баурджед согласно наклонил голову и устремил спокойный взгляд на зеркальную гладь реки.
За кормой лодки убегал назад, к далекому городу Белых Стен, струйчатый узкий след. Он живо напомнил Баурджеду широкие полосы, взборожденные его кораблями в просторах неведомых морей. Сколько раз, тоскуя по родине, он часами следил за разматывавшейся нитью пенного следа, растворявшегося в дали, отделявшей его от Черной Земли…
А сейчас на родной реке этот след от маленькой лодки быстро исчезает на гладкой воде. Это все, чем окончились его мечты и стремления, думы, выношенные за пределами знакомого мира, надежды, заботливо оберегавшиеся в грозных опасностях…
В неторопливых беседах с Мен-Кау-Тотом шло время плавания вверх по Хапи. Путники торопились. Останавливаться в селениях они избегали, и только изредка лодка причаливала к ступени какого-нибудь одинокого, бедного храма, стоявшего на берегу. Там брали они припасы и подкреплялись вином.
На пятый день пути, на рассвете, лодка вошла в лабиринт зеленых островков, разделенных узкими протоками чистой воды. В полутьме, между высокими папирусами, лодка, поворачивая то направо, то налево, углубилась в непроницаемую стену болотных зарослей. За ней оказался тихий залив с чистым песчаным дном. Лодка причалила. Мен-Кау-Тот в сопровождении Баурджеда вышел и направился по едва заметной тропинке, поднимавшейся к прибрежным скалам.
Солнечные лучи, вспыхнув, осветили верхний край обрыва, у подножия которого еще лежал полумрак. На мгновение в этом полумраке мелькнули две фигуры в белом и исчезли…
По ту сторону узкого и длинного ущелья в скалах, ничем не отличавшегося от тысяч ему подобных, оказалась замкнутая в голых, опаленных утесах долина. В центре ее возвышался плоский бугор, окаймленный зелеными кустами. Двойное кольцо наполненных водой оросительных каналов окружало холм.
В долине было душно и безветренно, тусклое марево поднималось от черных блестящих скал.
На противоположной стороне долины виднелось небольшое ущельице. Мен-Кау-Тот уверенно направился к левой стороне холма, раздвинул густую заросль и вскарабкался на вершину. Баурджед последовал за стариком.
Резкий крик священной птицы Тота пронесся по долине. Перед пришельцами выросли неведомо откуда взявшиеся четыре громадных негра, вооруженных до зубов. Они почтительно приветствовали старого жреца и помогли спуститься к подошве холма на его противоположную сторону. Несколько старых сикомор росло здесь, отбрасывая густую тень на склон, в котором Баурджед заметил высеченный прямо в скале ход.
В прохладной темноте по длинному и высокому коридору жрец и Баурджед проникли в круглое подземелье. Вокруг в стенах, разделенные равными промежутками, виднелись узкие, как щели, входы, числом девять. Мягкий свет падал откуда-то сверху — очевидно, подземелье сообщалось с поверхностью холма.
Более двадцати жрецов, низко кланяясь, вышли встретить Мен-Кау-Тота и путешественника. Трое из них, по-видимому старшие, выступили вперед.
— Приветствуем тебя, отец мудрости! — заговорил один, маленького роста. — Давно мы поджидаем тебя, и все приготовлено по полученным указаниям! — Жрец повернулся и знаком отпустил всех остальных.
Трое старших повели новоприбывших вокруг зала в девятый, последний вход. Узкий пустой коридор был наглухо перегорожен каменной плитой. Сопровождавшие жрецы постучали по стене — плита была поднята скрытым вверху механизмом. Они вошли в продолговатую большую комнату, обрамленную колоннами из гранита. Между колоннами были закреплены гладкие плиты черного диабаза, без всяких письмен или изображений. Посередине стояла статуя Носатого, бога Тота, на высоком пьедестале. В ногах статуи Баурджед заметил плоскую чашу.
— Осмотрись, сын мой, — сказал Баурджеду Мен-Кау-Тот, — в этом убежище тебе придется пробыть до времени. Видишь, готовы плиты из камня вечности. На них неизгладимо будет вырезана вся повесть о твоем путешествии, и сохранится она в веках. Воздадим же хвалу великому богу мудрости, обучившему людей языку и письму, возвысившему нас, его верных служителей! Пусть твой камень из недостижимо далеких стран юга будет смиренным даром божеству и сохраняется навеки перед его очами. — И Мен-Кау-Тот положил сверкающий обломок кристалла на медную чашу в ногах статуи.
Потянулась вереница медленных дней, как капли тягучей смолы, истекавшей из деревьев на жарких берегах Лазурных Вод, палимых безжалостным солнцем. Так не похожа была теперешняя жизнь Баурджеда на всю прошлую, что путешественнику она казалась лишь преходящим забытьем, подобным тому, какое наступало после тяжелого приступа лихорадки…
На восходе солнца жрецы шли купаться к реке, предводительствуемые Мен-Кау-Тотом. Они выступали лениво и важно, как это могут делать лишь люди, которых жизнь ни разу не заставляла спешить. После легкого омовения процессия так же неторопливо возвращалась назад, и люди, поев, принимались за дело.
Баурджеда усаживали в прохладном подземелье, напротив высоких светильников, рядом с сидевшими поджав ноги опытными писцами. Снова и снова записывались все подробности путешествия, какие только мог вспомнить Баурджед. Затем его отправляли отдыхать, а совещание жрецов вновь прослушивало записанное и решало, что следует включить в вечную надпись на камне.
В большом зале началась работа. Каменотесы протягивали ряды параллельных шнурков, прочерчивая и разграфляя по ним гладкую поверхность диабаза. Но медленная и тщательная разметка плит оказалась маленьким делом по сравнению с чудовищным трудом высекания письмен. Коптящее пламя светильников нагревало воздух подземелья, и рабочие-резчики обливались потом и задыхались, трудясь утром, днем и вечером, получая лишь короткое время на сон.
Измазанные копотью и покрытые каменной пылью лица были угрюмы, люди молчаливо терпели тягость работы, подчиняясь угрожающим окрикам и жестам наблюдавших за ними жрецов. После того как искусные чертежники вырисовывали мелом письмена, резко выделявшиеся на черной стене, их место на мостиках занимали рабы с бронзовыми зубилами и тяжелыми медными молотами. Они грубо выдалбливали середину очерченных контуров, неистово борясь с твердым и нехрупким камнем. Неверный удар мог испортить весь труд, и всю плиту пришлось бы делать снова. Поэтому рабы выполняли свою задачу под угрозой смерти — кара за порчу плиты была именно такова. Медленно-медленно, осторожно подвигалась работа. Время, количество человеческого труда, усилий, страданий не имели никакого значения.
После первой грубой обработки мастера-резчики с острыми зубилами и деревянными колотушками заканчивали вырубку контура. Им на смену снова шли художники, которые без молотков, одним усилием нажима рук, сглаживали резцами края углублений, добиваясь изящества и четкости линий. Наконец все изъяны и следы резцов стирались кожей с мелким песком и водой, полировались охряной землей — только тогда надпись была готова.
Баурджед никогда не представлял себе ранее, как велик труд по вырезанию надписей на камне, всегда восхищавших его своим изяществом, удивлявших точным подобием одних и тех же знаков, одинаковых во всей надписи.
Наблюдая месяц за месяцем чудовищную работу, путешественник ужаснулся. Время жатвы сменялось посевом, наводнением, снова жатвой, а стук молотков в мрачном подземном зале продолжался, прерываясь лишь поздней ночью. Иногда с мостков падал один из тружеников, сраженный истощающей работой. На другой день он или возвращался и продолжал труд, еще более согбенный, пошатываясь и полузакрыв глаза, или же исчезал и заменялся другим.
Медленно и неуклонно, иероглиф за иероглифом, плита за плитой, стены зала покрывались повестью о путешествии Баурджеда.
Люди Черной Земли, не щадившие усилий на увековечение своей памяти, считали, что нужно во что бы то ни стало изготовить записи, способные противостоять тысячам лет всеразрушающего времени. Они не могли подозревать, что их надписи, сохранившиеся действительно тысячелетия, с чрезвычайными ухищрениями ума прочтенные потомками, доживут до времени такого могущества человека, что величайшие подвиги сынов Кемт не смогут поразить ничьего воображения.
Как ни был мудр Мен-Кау-Тот, как ни велик был подвиг Баурджеда, разве могли они знать, что настанет время, когда путь из Белой Стены в Страну духов будет совершаться беззаботными юношами по воздуху за время, недостаточное, чтобы выполнить обряд утреннего омовения, когда исчерпаются пределы мира на всей земле и люди, гораздо более могучие, чем страшные зверобоги Черной Земли, обратят свои помыслы к путям между звездами! Ничего этого не подозревала ограниченная мудрость древнего человека, и первый дальний путь по океану казался неповторимым, невероятным подвигом.
Баурджед торопливо шел по тропинке через скалистое ущелье. Скоро он достиг берега реки, где в тихом, заросшем тростником заливе, он знал, были спрятаны лодки. Путешественник долго искал, раздвигая тростники и папирусы, пока не увидел наконец две лодки, укрытые в подмыве берега, между зарослью колючих кустарников на берегу и стеной зелени в воде.
Баурджед выбрал маленький и легкий челнок.
Зеленая стена расступилась под напором изогнутого носа лодки и открыла сверкающий простор широкой реки. Северный ветер, ровный и прохладный, рябил поверхность воды. Энергично гребя веслом, Баурджед выбрался на середину реки. Лодка повернулась носом на север и быстро понеслась вниз, к далекой столице Черной Земли.
Позади остался тайный храм в скалах, где Баурджед провел несколько томительных месяцев.
Баурджед осмотрелся кругом с чувством выпущенного из мрачной темницы, грудь его расширилась, вбирая живительный ветер, сощуренные глаза впивались в далекий горизонт пустынной равнины левого берега.
Путешественник положил весло, предоставив лодке, медленно крутясь, идти по течению, и задумался.
Хорошего не ждал он впереди, грозная неопределенность будущего отравляла ему радость возвращения в мир.
Но что бы ни было уготовано ему судьбой, Баурджед знал, что он больше не может скрываться в храме Тота. Его угнетали месяцы, проведенные в молчаливых и прохладных подземельях, одинокие прогулки по маленькой долине среди скалистых теснин, чуждое ему общество жрецов с их постоянными секретами, таинственными разговорами вполголоса, отъездами неведомо куда… жрецов, старавшихся даже простые житейские дела облекать тайной.
Баурджед за свою трудную жизнь скитальца научился верной оценке людских поступков и вещей, тому пониманию мира, которое дается жизнью. И вся эта таинственность более не казалась ему насыщенной святой и непогрешимой мудростью. Подчас она то смешила, то раздражала его.
Баурджед питал глубокое уважение к умному, старому Мен-Кау-Тоту, но все яснее понимал, что никогда не сможет приобщиться к жизни жрецов.
Ему, видевшему необъятные просторы мира, победившему Великую Дугу, окончить свои дни в тесных подземельях!
Никогда он не сможет жить без своих верных спутников, отважных и способных на всякое дело. Теперь, пробыв почти год без них, он чувствует, как сроднился с ними за семь лет великого пути. С удивлением Баурджед понял, что даже рабы, сопутствовавшие в походе, ближе и дороже ему, чем важные жрецы Тота.
И, поняв это, он решил идти навстречу судьбе, как много раз ходил прежде, в реве моря и ветра, в зное солнца и блеске молний.
Несмотря на все уговоры Мен-Кау-Тота, путешественник покинул тайный храм, и вот — он на реке, на пути к людям и миру!
У Баурджеда не было никаких ясных планов. Он знал, что не может покинуть свою страну, хотя это и было легко ему, знавшему и Зеленое море, и восточные страны, и дали Юга. Нет, в путешествиях он понял, как дорога ему родина.
Он не покинет Черной Земли, не расстанется с родными, не бросит товарищей-спутников. Прежде всего ему надо разыскать их, хотя бы Уахенеба, этого спокойного храбреца, сумевшего возвратиться из таких крайних пределов земли, которые даже самому Баурджеду казались недостижимыми. Он разыщет Уахенеба, вместе они соберут товарищей и попросятся на службу в низовья Дельты, в береговую стражу Зеленого моря, или будут водить суда на острова, лежащие позади,[95] и на восток, за лесом. Фараон не будет преследовать их, не занимающих высокого положения, удаленных от города и селений на границу страны…
Баурджед взял весло, выправил лодку и уверенно погнал легкий челнок вниз по течению. Предстоит еще несколько дней пути, и придется позаботиться о пропитании. Но разве не блестит у него на пальце тяжелый перстень с именем фараона Хафра? А на левой руке есть два кольца золота, предусмотрительно надетых, как браслеты.
Туман белой пыли заполнял гигантскую выемку каменоломни. Грохот молотков, скрип деревянных салазок для перетаскивания глыб камня, крики надсмотрщиков сливались в непрерывный глухой гул.
В каменоломне не было ветра, и палящий зной казался особенно нестерпимым. Баурджед отер со лба пот и пошел вдоль проложенной к реке дороги, всматриваясь во всех попадавшихся навстречу.
Надсмотрщики застывали от удивления при виде Баурджеда — прогулка этого, по-видимому, знатного человека по каменоломне была неслыханным явлением. Навстречу путешественнику группа людей тащила тяжелую глыбу известняка, обмотанную веревками и укрепленную на деревянных салазках. Рабочие упирались то грудью, то спинами в пеньковые лямки, другие помогали им рычагами сзади. Салазки не позволялось останавливать — их было очень трудно сдвинуть с места. Люди, мокрые от пота, надрывались изо всех сил, вздох вырывался разом из нескольких грудей.
Один из передовых тянульщиков, шедший спиной к Баурджеду, внезапно перевернулся в лямке, подставив ей грудь вместо наболевшей спины. Путешественник не удержал восклицания — он узнал Уахенеба…
Бывший кормчий взглянул на своего начальника, угрюмо отвел глаза и крепче навалился на лямку. Но Баурджед спешил ему навстречу с поднятой рукой. Каменная глыба остановилась, двое подбежавших с бранью надсмотрщиков испуганно согнулись и отступили, когда Баурджед ткнул одному из них прямо в лицо перстень с именем фараона.
Уахенеб, тяжело дыша, приблизился к Баурджеду, грязный, потный и недоумевающий.
— Сколько здесь еще твоих товарищей, Уахенеб? — спросил Баурджед, не теряя времени на объяснения.
— Здесь Нехеб-ка и Антеф, Ахавер и большой Нехси и другие, тебе известные, всего семнадцать человек, — торопливо прохрипел Уахенеб.
Баурджед знаком подозвал перетрусившего надсмотрщика, на лбу которого остался красный отпечаток имени фараона.
Спустя несколько минут вокруг Баурджеда столпились его бывшие сподвижники из простых неджесов. Изможденные лица засветились радостью, люди приветствовали своего начальника.
— Идемте, на реке ждет большая лодка! — нетерпеливо крикнул Баурджед и зашагал назад по широкой дороге к берегу.
Люди поспешили за путешественником, повинуясь ему беспрекословно, как в прежние дни.
Уахенеб догнал Баурджеда:
— Как тебе удалось освободить нас, господин? Разве Великий Дом…
— Вовсе нет, — перебил кормчего Баурджед; оглянулся и продолжал вполголоса: — Я тоже в немилости и хожу под угрозой кары!
— Но как же тогда?..
— Потому я и спешу. Здесь не знают меня, а перстень их величества дает мне власть… пока. Я разыскал твой дом, Уахенеб, и там узнал, что тебя схватили за рассказы о стране Пунт, где не оказалось духов, и послали сюда ломать камень для великой пирамиды. А вместе с тобой были схвачены еще другие мои люди. Я достал лодку и прибыл сюда… Там на веслах твои друзья — вот, смотри!
Гребцы махали им с реки.
Освобожденные каменотесы хотели вымыться, но Баурджед не позволил и велел усаживаться в лодку. Только когда они отчалили, Баурджед облегченно вздохнул.
— Что хочешь ты делать дальше, господин? — осторожно спросил Уахенеб. — До Белой Стены нам плыть вверх всего тридцать тысяч локтей, но ведь там скоро узнают…
— Мы не пойдем к городу, а поплывем вниз, в Дельту, на запад, к горе Рогов Земли. Там укроетесь вы все где-нибудь до времени, а я вернусь в город просить милости у Великого Дома — позволения нам быть в береговой страже или на кораблях Зеленого моря: Черной Земле требуется много дерева для построек!
— Я опасаюсь за тебя и за всех нас, господин, — угрюмо проворчал Уахенеб. — По себе я узнал, как твердо сердце Великого Дома и его царедворцев. Плохо надеяться на их милость, и особенно нам, беднякам, на которых все большие люди смотрят, как на врагов.
— Напрасно так говоришь, Уахенеб, — нахмурился Баурджед, — я уверен…
Путешественник оборвал разговор, вглядываясь в берег. Неясный шум несся из каменоломен, большая толпа людей бежала к реке, а впереди мчались, путаясь в полах своих длинных рубах, несколько надсмотрщиков и два чиновника, начальствовавшие над работами.
— Погоня за нами! — взволнованно крикнул Баурджед.
Уахенеб покачал головой; глаза его загорелись, он вытянул шею, будто стараясь приблизить голову к берегу. Его товарищи возбужденно вскочили, гребцы подняли весла.
Шум разрастался, гулко раскатываясь по реке. В пыли на берегу мелькали неясные фигуры бегущих, кое-где воины взмахивали копьями и, окруженные со всех сторон, падали.
Кучки дерущихся таяли и рассыпались и опять возникали в другом месте.
— Это мятеж, господин! — воскликнул Уахенеб. — Неугасимо горит пламя гнева в согнутых тяжкой работой, не знающих вещей, осужденных свирепо и безвинно… Придавлены они силой, палками и угрозами, но жажда правды и свободы не умирает! Видишь, маленькой причины достаточно, чтобы всколыхнуть толпу. Сюда, к нам, явился ты и освободил нас, смутил надсмотрщиков и воинов, разъярил всех рабочих. И вот, видишь, они тоже хотят освобождения. — Кормчий встал на колени на дно лодки и поднял умоляющий взгляд на Баурджеда. — Господин, ты храбр и справедлив, мы знаем тебя много лет… Там наши товарищи, мы сроднились с ними. Так же, как и они, мы не ждем свободы и счастья от знатных правителей и беспощадных судей. Ты узнал, что в далеком пути рабы оказались такими же людьми, как и мы, храбрыми и сильными, нашими товарищами. Так было и тут для нас, потерявших тебя, беззащитных и осужденных. И мы все просим тебя, господин: поверни лодку, возьми начальство над толпой. Ближе к Белой Стене есть еще каменоломня и рабочие дома. Мы пойдем туда, откроем их, число наше умножится, и придем мы в город, где мало сейчас войска…
— И что же дальше? — встревоженно спросил Баурджед.
— Весь бедный народ, стонущий под пятой великой пирамиды, пойдет с нами. Мы разгоним воинов, уничтожим чиновников, разобьем дома больших людей… Ты тоже был большим, ведомы тебе пути и склады оружия, и ты можешь управлять военной силой! — Уахенеб замолк, вне себя от волнения.
Другие освобожденные спутники Баурджеда согласно закивали головами, все глаза устремились на путешественника.
Баурджед беспомощно огляделся.
Толпа на берегу всё увеличивалась, воины и чиновники исчезли, сотни рук делали призывные жесты лодке, неясные крики становились все громче, и путешественник разобрал имя Уахенеба.
Никогда не думал бывший казначей фараона о возможности мятежа. Подняться против божественной власти казалось ему высшим преступлением. С детства воспринятые им поучения повторяли только одно: что завистливые и неумелые бедняки всегда враждебны богатым и знатным, олицетворяющим добро и правду. “Не пристрастен тот, кто богат, ибо он владыка вещей, не имеющий нужды”[96] — таково было любимое изречение его отца.
В своих скитаниях Баурджед узнал нужду, увидел величие человека в простых людях. Все это пошатнуло первоначальные воззрения знатного царедворца на жизнь. Но мятеж! Встать во главе грязных бедняков и рабов, вести их на столицу, на дворцы приближенных фараона, может быть на самого владыку… Нет, это невозможно! Баурджед отстраняюще выставил вперед руку:
— Нет, Уахенеб, я этого не могу сделать. И без того всех нас обвинят в том, что мы дали разъяриться толпе. Надо плыть скорее вниз, укрываться и дальше делать, как я сказал!
Лицо кормчего замкнулось и сделалось непроглядно суровым.
— Тогда, господин, верни меня на берег. Я не верю в милость Великого Дома и не могу оставить тех, кто долгое время делил со мной и труд, и голод, и побои. Я пойду с ними… А вы? — властно обернулся Уахенеб к остальным товарищам.
— Мы с тобой! — без раздумья ответили четырнадцать человек; только трое отделились и умоляюще взглянули на Баурджеда.
— Ты погибнешь, Уахенеб! — вскричал изумленный и возмущенный Баурджед.
— И ты, господин, тоже, — спокойно, с оттенком печали отозвался кормчий. — Прощай! Ты был хорош для нас и мог бы сделаться хорошим для всей Черной Земли… Прикажи править к берегу, господин!
Плотная толпа сгрудилась вокруг выскочивших на пристань бывших спутников Баурджеда, приветствуя их восторженным воплем.
Уахенеб пристально посмотрел прямо в лицо своего начальника, и в глазах старого кормчего Баурджед прочитал последний вопрос, мольбу и тоскливую тревогу.
— Они пойдут за мной, — тихо сказал Уахенеб, — и я знаю, где правда, но не знаю путей… Как прийти к другой, хорошей жизни, куда нанести удары?
— И я не знаю, — так же тихо ответил Баурджед, — и не верю, чтобы это могло быть…
— А я верю. Мы можем погибнуть, но погибнем все вместе. И товарищи простят мне мое незнание, если до конца я буду с ними… — Кормчий замолк и вдруг встрепенулся, словно вспомнив что-то. — Где хранится оружие для новых воинов в городе? Скажи мне это, господин, и мы всегда будем хорошо вспоминать тебя…
— В большой кладовой около сокровищницы бога, рядом с улицей Кузнецов, — без колебания ответил Баурджед. — Ты узнаешь этот дом по красной и белой полосе вверху стен, под крышей…
Уахенеб поклонился начальнику.
Баурджед вздохнул и знаком велел гребцам оттолкнуть лодку.
Внезапно четыре гребца — все товарищи по плаванию в Страну духов — выпрыгнули на пристань.
Баурджед сделал вид, что ничего не заметил. Весла схватили трое из оставшихся. Лодка отчалила.
Мятежники, окружившие Уахенеба и внимательно слушавшие его, не обратили внимания на отъезжавших. Чувствуя себя усталым, Баурджед опустился на кормовое сиденье.
И опять, как тогда, давно-давно, при разговоре с Уахенебом о повелении фараона идти в Страну духов, тоскливое недовольство собой и стыд овладели Баурджедом. Словно опять его кормчий оказался в чем-то выше его, более мужественным и более правым.
— Достойный Мен-Кау-Тот, помнишь, как ты мудро остерегал нашего гостя?
— Говори дальше! — воскликнул старый жрец. — Скажи все, что узнал ты в Белой Стене.
— Баурджед освободил сосланных в каменоломни, разъярил толпу. Мятежники дошли до города, захватили его окраины. Во главе были спутники Баурджеда, которым он повелел начальствовать бунтовщиками. Они захватили оружие, но победа их длилась недолго. Мятежники разбрелись, а воины фараона, стража храмов и молодые джаму,[97] соединили свою силу, истребив всех порознь. Сам Баурджед скрылся в Дельте, но почему-то вздумал вернуться. Мятежник из Дельты в руке бога[98] и теперь он исчез без следа и слова.
— Проходит жизнь мятежника на земле, не продлится она, — мрачно пробормотал старый жрец, — бьет бог грехи его кровью его![99] Не ожидал я, что Баурджед окажется зачинщиком мятежа… Впрочем, он отдал нам все, что имел, исполнил свое назначение и более не нужен. В великой тайне будем мы хранить все записанное. Будет открыто оно только тому властителю, которого найдем и направим по нашим путям.
— Истинно так, мудрый Мен-Кау-Тот. Да не воспользуются знанием служители Ра и Пта, не будет и простой народ пленяться рассказами о свободной жизни! Все будет скрыто в наших подземельях!
Но мудрый верховный жрец ошибся.
По-прежнему в хижинах бедных земледельцев, казармах воинов, храмовых сторожках, рабочих домах рассказывалась повесть о великом и отважном путешествии сынов Кемт. Неведомые певцы из народа слагали всё новые песни, вплетая в действительность исконные мечты о справедливости и свободе, дополняли повесть тем, что хотелось бы всякому видеть в своей настоящей жизни. И все большее число умов начинало задумываться над поисками путей к правде и сомневаться в божественности величия фараонов.
Часть вторая НА КРАЮ ОЙКУМЕНЫ
ПРОЛОГ
Свежий осенний ветер несся над простором подернутой рябью Невы. Острый шпиль Петропавловской крепости в блеске солнечного дня казался золотым лучом, взвившимся в голубую высоту неба. Под ним плавно выгибал свою широкую, могучую спину Дворцовый мост. Волны, качаясь и сверкая, мерно плескались на светлые гранитные ступени набережной.
Сидевший на скамье молодой моряк посмотрел на часы, вскочил и быстро пошел по набережной вдоль Адмиралтейства. Желтые стены легко поднимали ввысь свой венец белых колонн в прозрачном осеннем воздухе.
Автомобили мягко неслись по отполированному асфальту, играя мечущимися вспышками солнца на начищенных стеклах и разноцветной эмали кузовов.
Молодой человек быстро шел по набережной, не обращая внимания на праздничную суету кругом. Он шагал уверенно и легко. Юноше стало жарко, он сдвинул на затылок свою морскую фуражку. Звенели, сползая с моста, трамваи. Моряк пересек садик с деревьями, горевшими осенним багрянцем, прошел вдоль большой площадки и на секунду остановился перед входом, где великаны из полированного гранита подпирали массивный балкон над горбатым подъемом тротуара. Залеченные рубцы от фашистских бомб еще виднелись на двух исполинских гранитных телах. Юноша вошел в тяжелую дверь, снял черную шинель и поспешил к широкой лестнице белого мрамора, устремлявшейся из полутемного вестибюля к светлой колоннаде, обрамленной рядом мраморных статуй.
Навстречу ему, радостно улыбаясь, шла стройная девушка. Ее внимательные, широко расставленные серые глаза потемнели, сделавшись теплыми. Моряк чуть смущенно взглянул на девушку. Она на ходу прятала номерок вешалки в раскрытую сумочку — значит, он не опоздал. Юноша оживился и уверенно предложил начать осмотр снизу, с отделов древностей.
Пробившись сквозь толпу посетителей, юноша и девушка прошли между колоннами, подпиравшими расписанный яркими красками потолок. Они миновали несколько огромных залов. После обломков ваз и плит с непонятными надписями, после мрачных, черных изваяний Древнего Египта, саркофагов, мумий и всех других предметов погребального обихода, выглядевших еще более сумрачно под сводами хмурых залов нижнего этажа, захотелось ярких красок и солнца. Юноша и девушка заторопились наверх. Они быстро прошли еще две комнаты, направляясь к боковой лестнице, ведущей в верхние залы из небольшого помещения с узкими окнами, сквозь которые глядело бледное небо. Несколько восьмигранных конических витрин стояло между белыми колоннами — мелкие произведения древнего искусства, выставленные в них, не привлекали внимания проходивших.
Внезапно перед глазами девушки в третьей витрине выступило пятно чудесного голубовато-зеленого цвета, такого яркого, что, казалось, оно излучало свой собственный свет. Девушка подвела своего спутника в витрине. На серебристом бархате был наклонно прикреплен плоский камень с округлыми краями. Он был чрезвычайно чист и прозрачен, его сверкающий голубовато-зеленый цвет был неожиданно радостен, светел и глубок, с теплым оттенком прозрачного вина. На гладкой, видимо отполированной рукой человека, верхней грани выделялись четко вырезанные человеческие фигурки размером в мизинец.
Цвет, блеск и светоносная прозрачность камня резко выделялись среди пасмурной строгости зала и бледных красок осеннего неба.
Девушка услышала шумный вздох своего спутника, увидела его затуманенный воспоминанием взгляд.
— Таким бывает море на юге в ясную погоду, в полдневные часы, — медленно сказал молодой моряк. Непреклонная уверенность очевидца прозвучала в его словах.
— Я не видела этого, — откликнулась девушка, — только чувствую в этом камне какую-то глубину, свет или радость, не могу сказать, что именно… Где это находят такие камни?
Ни крупная, общая четырем витринам надпись: “Антские погребения VII века. Среднее Приднепровье, река Рось”, ни маленькая этикетка в самой витрине: “Гребенецкий курган, древнее родовое святилище” — ничего не объяснили молодым людям. Непонятными были и предметы, окружавшие замечательный камень: обезображенные до неузнаваемости ржавчиной обломки ножей и копий, плоские чаши, какие-то подвески в форме трапеций из почерневшей бронзы и серебра.
— Это раскопано в Киевской области, — пытался сообразить юноша, — но я не слыхал, чтобы там или где-нибудь на Украине добывались подобные камни… У кого бы спросить? — Молодой человек оглядел просторный зал.
Ни одного экскурсовода, как назло, не было поблизости, только в углу около лестницы сидела сторожиха.
Послышались шаги: в зал спускался высокий человек в тщательно отглаженном черном костюме. По тому, что сторожиха встала со стула и поздоровалась почтительно, девушка безошибочно догадалась, что этот человек здесь какое-то начальство. Она тихонько подтолкнула своего спутника, но тот уже шагал навстречу пришедшему и, вытянувшись по-военному, начал:
— Разрешите спросить?
— Разрешаю. Что угодно? — сказал ученый, и его спокойные глаза близоруко сощурились, рассматривая молодых людей.
Юноша объяснил, что именно их интересует. Ученый улыбнулся.
— У вас есть чутье, молодой человек! — одобрительно воскликнул он. — Вы напали на одну из самых интересных вещей нашего музея! Изображение на камне вы хорошо рассмотрели?.. Нет?.. Мелко? А зачем же здесь это приспособление? Смотрите!
Ученый схватился за деревянную рамку, прикрепленную на верхнем срезе витрины, опустил ее. Как раз против камня установилось большое увеличительное стекло. Щелкнул выключатель, яркий свет залил поверхность камня. Заинтересованные еще более, девушка и юноша заглянули в стекло. Вырезанные на камне фигуры, увеличившись, стали полными жизни. С одного края прозрачной голубовато-зеленой пластины тонкими скупыми линиями была обозначена фигурка обнаженной девушки, стоявшей с поднятой к щеке правой рукой. Завитки густых вьющихся волос ложились на намеченную четкой дугой округлость плеча.
Всю остальную часть поверхности камня занимали три обнявшиеся мужские фигуры, выполненные с еще большим мастерством, чем изображение девушки.
Стройные, мускулистые тела замерли в момент движения. Повороты тел были сильны, резки и в то же время изящно сдержанны. В центре могучий человек, выше двух стоявших по сторонам, широко раскинул руки на их плечи. По бокам его двое, вооруженных копьями, стояли с внимательно наклоненными головами. В их позах была напряженная бдительность мощных воинов, готовых с уверенностью отразить любого врага.
Три маленькие фигурки были исполнены с большим мастерством. Идея — братство, дружба и совместная борьба — была в них выражена с необычайной силой.
Глубина прозрачного и светлого камня, служившего одновременно и фоном и материалом, усиливала красоту произведения. Теплый влажный отблеск, казалось исходивший откуда-то из камня, придавал телам трех обнявшихся людей золотистую веселость солнечного света…
Под фигурами и на гладком сломе нижнего края можно было заметить неровно и поспешно нацарапанные непонятные знаки.
— Насмотрелись? Вижу, что вас захватило! — Голос ученого заставил вздрогнуть обоих молодых людей. — Хорошо. Хотите, немного расскажу про камень? Этот камень — одна из загадок, какие встречаются нам иногда в исторических документах древности. В чем загадка? Слушайте по порядку. Это берилл,[100] минерал не из очень редких. Но такие голубовато-зеленые бериллы чистейшей воды крайне редки. Во всем мире находятся только на юге Африки. Раз. Теперь, на камне вырезана гемма[101] — подобные вещи любили делать в расцвете древнегреческого искусства в Элладе. Но берилл — камень очень твердый. Чтобы вырезать на нем изображения с такой тщательностью, нужно резать только алмазами — эллинские мастера их не имели. Два. Далее, из трех мужских фигур средняя, несомненно, изображает негра, правая — эллина, а левая — это какой-то человек из других средиземноморских народов: может быть, критянин или этруск. И, наконец, по технике изображения человеческого тела гемма должна бы относиться к эпохе расцвета Эллады; в то же время целый ряд особенностей указывает на время несравненно более раннее. Я уже не говорю о том, что копья, здесь изображенные, совсем особенной, не свойственной ни Элладе, ни Египту формы… Целый ряд противоречивых, несовместимых указаний… Но гемма-то существует, вот она…
Ученый помолчал, потом продолжал так же отрывисто:
— Есть еще много исторических загадок. Все они говорят одно: мало, мало мы знаем! Плохо представляем жизнь древности. Например, здесь у нас в золотой кладовой есть среди скифских изделий одна золотая пряжка. Ей две тысячи шестьсот лет, а на ней изображен ископаемый саблезубый тигр[102] во всех подробностях. Так. А палеонтологи вам скажут, что этот тигр вымер триста тысяч лет назад… Ха!.. В египетских гробницах вы увидите фрески, где с поразительной точностью нарисованы все породы зверей, обитавших в Египте. Среди них неизвестный зверь огромной величины, похожий на гигантскую гиену, — такой неизвестен ни в Египте, ни во всей Африке. Или в Каирском музее есть статуя девушки, найденная в развалинах города Ахетатона, в Египте, построенного в XIV веке до нашей эры, — вовсе не египтянки, и работа совсем не египетская — будто из другого мира. Мои коллеги вам сразу объяснят коротко — сти-ли-за-ция, — шутливо растянул слово ученый. — А я всегда при этом вспоминаю одну историю. В тех же египетских стенных росписях часто встречалась одна рыбка. Небольшая, ничем не особенная. Но нарисована всегда кверху брюхом. Как это так: египтяне, такие точные художники, и вдруг неестественная рыба? Объяснили, конечно: и стилизация тут была, и религия, от влияния культа бога Аммона. Вполне убедительно, ну и успокоились. А спустя пятнадцать лет выяснилось: есть в Ниле и сейчас такая рыбка, и — совершенно точно — плавает она всегда кверху брюхом. Поучительно!.. Вот заговорился я, увлекся! До свидания, молодые люди, интересуйтесь загадками истории…
— Одну минутку… профессор! — воскликнула девушка. — Неужели вы сами не можете объяснить… эту вещь? Ну так, сами для себя. Скажите нам… — Девушка смутилась.
Ученый улыбнулся:
— Что с вами поделать! То, что я скажу вам, будет просто догадка, не больше. Одно несомненно: настоящее искусство отражает жизнь, само живет и поднимается к новым высотам только в борьбе против старого. В те далекие времена, когда была создана эта гемма, процветали бесправие и рабство. Множество людей влачило безысходную жизнь. Но угнетенные поднимали оружие против беспощадного рабства. И вот, глядя на изображение трех воинов, хочется думать, что их дружба возникла в битве за свободу… Может быть, они вместе бежали на родину из плена… Мне кажется, это гемма еще одно свидетельство далекой борьбы, которая бушевала тогда, но скрыта от нас веками. Сам неизвестный художник, возможно, участвовал в борьбе… Да это и не может быть иначе… От этого так и совершенно его произведение. Это, так сказать, одинокая победа нового над старым, совершенная в глубине прошлых веков. Эти свидетельства, доходящие до нас, особенно привлекают внимание наших людей, поднявшихся на борьбу со всем тем, что мешает росту нового. Во всем — в жизни, науке, искусстве. Вот и вы оба сразу обратили внимание на эту гемму среди множества резных камней.
Девушка и юноша снова приникли к стеклу, ошеломленные потоком сведений. Камень казался им таинственным и влекущим.
Глубокий, ясный и чистый цвет моря… На нем братское объятие трех людей. Сверкающий камень, как бы передавший свой свет прекрасным телам, здесь, в пасмурном строгом зале… Юная девушка, полная жизни и женственного обаяния, стояла будто на краю моря.
Молодой моряк со вздохом распрямил уставшую спину. Девушка еще продолжала смотреть. Издалека по гулким проходам донесся топот ног и шум приближающейся экскурсии. Тогда и девушка оторвалась от стекла. Щелкнул выключатель, рамка была поднята, а голубовато-зеленый кристалл продолжал сверкать на бархате.
— Мы придем еще сюда, правда? — спросил моряк.
— Конечно, придем! — отозвалась девушка.
Юноша нежно взял ее под руку, и они задумчиво пошли вверх по белым ступеням лестницы.
Глава первая УЧЕНИК ХУДОЖНИКА
Плоский камень далеко выдавался в море. Оно, невидимое в ночной темноте, слабо плескалось внизу. Камень еще не потерял дневной теплоты, и юноше не мешали порывы прохладного ветра, пробегавшие между скалами.
Юноша задумчиво смотрел вдаль, туда, где тонул во тьме конец серебряной полосы Млечного Пути. Он следил за падающими звездами. Они вспыхивали сразу во множестве, пронизывали небо сверкающими иглами и скрывались за горизонтом, потухая, как раскаленные стрелы, упавшие в воду. Вновь рассыпались по небу огненные стрелы и улетали в неведомую даль, в сказочные страны, лежавшие за морем, у самых пределов Ойкумены.[103]
“Спрошу у деда, куда они падают”, — решил юноша и тут же подумал, как хорошо было бы лететь так через небо, прямо к неизвестной цели.
“Да он уже не юноша — еще несколько дней, и он достигнет возраста воина. Но не воином он будет, а сделается знаменитым художником, прославленным скульптором. Он отличался от многих людей врожденной способностью видеть формы природы, чувствовать и запоминать их… Так сказал ему учитель — художник Агенор. И в самом деле, там, где другие равнодушно проходили мимо, он останавливался, потрясенный до глубины души, замечая то, чего еще не мог осмыслить и объяснить. Многообразные лики природы влекли его своими ежечасными переменами. Позже взор стал острее. Юноша мог сам выделять и надолго удерживать в памяти те черты, которые находил прекрасными. Неуловимая красота таилась повсюду — в изгибе гребня бегущей волны и в развевавшихся ветром завитках волос Тессы, дочери учителя, в стройных колоннах сосновых стволов и в грозных утесах, надменно возвышавшихся над морем. С тех пор стремление к созданию прекрасных форм стало его целью. Показать красоту тем, кто не в состоянии уловить ее. И что может быть прекраснее, чем тело человека! Но его передать — как раз самое трудное…
Вот почему так не похожи эти подхваченные памятью живые черты на те изображения богов и героев, которые он видит вокруг, которые сам учился делать! Даже творения самых искусных мастеров Энниады[104] не могли дать убедительного изображения живого человеческого тела.
Юноша смутно чувствовал, что в них искусственно выпячены и грубо усилены только отдельные черты, выражающие радость, волю, гнев или ласку, но и только. Ради силы впечатления скульптор жертвовал всем остальным. Нет, он должен суметь передать красоту! Тогда он сделается величайшим скульптором своей страны, и люди будут прославлять его, восторгаясь созданными им произведениями. В них живая красота впервые будет навеки запечатлена в бронзе или камне!
Юноша далеко унесся в смелых мечтах, но тут сильная волна гулко плеснула внизу. Несколько капель попало на камни и на лицо юноши. Он вздрогнул, очнувшись, и смущенно улыбнулся в темноте. Боги! Еще, наверно, далеко то время… А сейчас Агенор часто бранит его за неумелую работу и почему-то всегда оказывается правым… А дед? Тот мало интересуется его успехами как художника. Он озабочен только тем, чтобы сделать из своего внука знаменитого борца. Как будто для художника нужна сила! И все-таки хорошо, что дед так воспитал его!.. Юноша знал, что он на редкость силен и вынослив. Как приятно показать свою силу и ловкость на вечерних состязаниях в селении перед Тессой, радостно замечая огонек одобрения в глазах девушки!
Юноша вскочил с горящими щеками, все мускулы его тела напряглись. Он с вызовом подставил грудь ветру, поднял лицо к звездам и вдруг тихо рассмеялся.
Медленно приблизился он к краю камня, взглянул в темноту, казавшуюся бездонной, и, звонко крикнув, прыгнул вниз. Сразу ожила тихая, молчаливая ночь. Внизу было море, ласково охладившее его разгоряченную кожу, засверкавшее мельчайшими огоньками вокруг рук и плеч.
Волны, играя, выталкивали юношу наверх, стремились отбросить назад. Он поплыл, угадывая в темноте колебания воды, уверенно вскидываясь на высокие волны, внезапно встававшие перед ним. Сердце слегка замирало — море словно не имело ни дна, ни края, сливаясь с темным небом в одно целое. Он был наедине со звездами.
Большая волна подбросила юношу; он увидел на берегу отдаленный красный огонь. Легкое движение — и волны послушно понесли юношу на берег, к едва серевшему пятну песчаной отмели.
Слегка вздрагивая от холода, он снова вскарабкался на плоский камень, поднял свой плащ из грубой шерсти, свернул его и пустился бежать по берегу к огоньку костра.
Далеко вокруг разносился ароматный дым горевшего хвороста, собранного в зарослях кустарника.
В слабом свете тусклого пламени обозначалась стена маленького дома, сложенного из угловатых камней, а над ней выступ камышовой крыши. Далеко протянутые ветви одинокого платана прикрывали жилище от непогоды. У костра задумчиво сидел старик в сером плаще. Услышав шаги, он с улыбкой повернул в сторону подходившего юноши морщинистое лицо, темный загар которого оттенялся седой курчавой бородой.
— Где ты был так долго, Пандион? — с укоризной сказал старик. — Я уже давно вернулся и хотел поговорить с тобой.
— Я не думал, что ты так скоро, — оправдывался юноша, — и бегал купаться. Я готов слушать тебя хоть всю ночь.
Старик отрицательно покачал головой:
— Нет, беседа будет длинной, а утром тебе рано вставать. Я хочу завтра сделать тебе испытание, и нужно, чтобы ты был в полной силе. Вот свежие лепешки — я привез новый запас — и мед. Сегодня праздничный ужин: поешь, но, как подобает воину, немного и без жадности.
Юноша с удовольствием разломил лепешку и погрузил ее белый мягкий излом в глиняный горшочек с медом. Он ел, не отрывая глаз от деда, молча и нежно смотревшего на внука. Удивительны и совершенно одинаковы были глаза у старика и юноши — сияющие, золотистые, подобные сгущенному цвету солнечного луча. Народное поверье говорило, что люди, обладавшие такими глазами, происходили от земных возлюбленных самого “сына высоты” Гипериона,[105] бога солнца.
— Я думал сегодня о тебе, когда ты уехал, — заговорил юноша. — Почему другие аэды[106] живут в хороших домах и сытно едят, ничего не зная, кроме своих песен? А ты, дедушка, знаешь так много, так искусно слагаешь новые песни, а должен трудиться у моря. Лодка уже тяжела тебе, а я только один у тебя помощник. Ведь у нас нет рабов!
Старик улыбнулся и опустил перевитую жилами руку на кудрявую голову Пандиона:
— И об этом я хотел говорить с тобой завтра. Сейчас скажу только, что разные песни можно слагать о богах и людях. И если ты честен перед самим собою и открыты глаза твои, эти песни не будут приятны знатным владельцам земель и военным начальникам. И ты не будешь иметь ни богатых даров, ни рабов, ни славы, тебя не будут звать в большие дома, и песни не доставят тебе пропитания… Пора спать, — оборвал себя старик. — Смотри, Колесница Ночи[107] уже поворачивается в другую сторону неба. Быстро мчатся ее черные кони, а отдых нужен человеку, чтобы быть сильным. Идем. — И старик направился к узкому входу убогой хижины.
Старик рано разбудил Пандиона.
Приближалась холодная пора осени: небо было в тучах, пронизывающий ветер шелестел сухим камышом, платан зябко трепетал разрезными листьями.
Под суровым и требовательным наблюдением деда Пандион занялся гимнастическими упражнениями. Тысячи тысяч раз, с детских лет, проделывал он их на восходе и закате солнца, но сегодня дед выбрал труднейшие упражнения и все увеличивал их число.
Юноша метал тяжелое копье, бросал камни, перепрыгивал через препятствия с мешком песка за плечами. Наконец дед привязал к его левой руке тяжелый наплыв орехового дерева, в правую дал узловатую дубину, а к голове прикрепил обломок каменного горшка. Сдерживая смех, чтобы не потерять дыхание, Пандион по знаку, данному дедом, пустился бежать на север, туда, где береговая тропинка огибала крутой каменистый склон. Он вихрем пронесся по тропе, вскарабкался на первый уступ обрыва, спустился и еще быстрее побежал обратно. Старик встретил внука у хижины, освободил от всего снаряжения и приник щекой к его лицу, стараясь по дыханию определить степень утомления.
Юноша, помолчав, сказал:
— Я мог бы проделать это еще много раз, прежде чем попросить отдыха.
— Да, это так, — ответил старик медленно и гордо выпрямился: — Ты можешь быть воином, способным сражаться неутомимо и носить тяжесть медного оружия! Мой сын, твой отец, дал тебе здоровье и силу, я укрепил их в тебе и сделал тебя выносливым и смелым. — Старик окинул взглядом фигуру юноши, одобрительно посмотрел на широкую выпуклую грудь, на сильные мышцы под гладкой, без единого пятнышка, кожей и продолжал: — У тебя нет родных, кроме меня, слабого старика, нет богатств и слуг, а вся наша фратрия[108] — три небольших селения на каменистом берегу… Мир велик, и много опасностей грозит одинокому человеку. Самая большая из них — потерять свободу, быть захваченным в рабство. Потому я приложил столько усилий, чтобы сделать из тебя воина, отважного и способного на всякое боевое дело. Теперь ты свободен и можешь служить своему народу. Пойдем принесем сейчас жертву Гипериону, нашему покровителю, в честь наступления твоей зрелости.
Дед и внук направились вдоль зарослей побуревшей осоки и камышей туда, где, выдаваясь далеко в море, длинным валом поднимался узкий мыс.
Два толстых, широко распластавшихся дуба росли на конце мыса. Между ними из грубых плит известняка был сложен жертвенник, а позади стоял потемневший деревянный столб, обтесанный в виде человеческой фигуры. Это был древний храм, посвященный местному богу — реке Ахелу, впадавшей здесь в море.
Устье реки терялось в зеленых зарослях, кишевших птицами, прилетавшими с севера.
Впереди открывалось затуманившееся море. Оттуда шли волны, с плеском набегавшие на острый конец мыса, похожий на шею громадного животного, погрузившего голову в воду.
Торжественный гул волн, пронзительные крики птиц, свист ветра в камышах и шум дубовых ветвей — все эти звуки сливались в тревожную раскатистую мелодию.
На грубом каменном жертвеннике старик развел огонь. Он бросил в пылающий костер кусок мяса и лепешку. Окончив жертвоприношение, старик подвел Пандиона к большому камню у обрывистого края мшистой скалы и велел отвалить его в сторону. Юноша легко справился с тяжестью и по указанию деда засунул руку в глубокую щель между двумя слоями известняка. Звякнул металл — Пандион извлек покрытые зелеными пятнами окиси медный меч, шлем и широкий пояс из квадратных медных пластин, служивший панцирем для нижней части туловища.
— Это оружие твоего рано погибшего отца, — тихо сказал дед. — Щит и лук ты должен будешь добыть себе сам.
Юноша, взволнованный, склонился над боевыми доспехами, осторожно счищая с металла налет окиси.
Старик сел на камень и, прислонившись спиной к скале, молча наблюдал за внуком, стараясь скрыть от него свою печаль.
Пандион, оставив доспехи, бросился к деду и порывисто обнял его. Старик обхватил рукой стан юноши, чувствуя твердость его могучих мышц. Деду казалось, что он и его давно погибший сын как бы возрождались заново в этом юном теле, созданном для борьбы.
Старик повернул к себе лицо внука и долго смотрел в открытые золотистые глаза:
— Теперь тебе надлежит решить, Пандион: пойдешь ли ты к вождю нашей фратрии, чтобы стать его воином, или останешься подручным у Агенора.
— Останусь у Агенора, — не раздумывая, ответил Пандион. — Если я пойду в селение к начальнику, мне придется там жить, есть вместе со всеми в собрании мужчин, и тогда ты останешься один. Я не хочу разлучаться с тобой и буду помогать тебе.
— Нет, теперь мы должны расстаться, Пандион, — с усилием, но твердо сказал старик.
Юноша удивленно отпрянул, но рука деда удержала его.
— Я исполнил обещание, данное моему сыну — твоему отцу, Пандион, — продолжал старик. — Теперь ты вступаешь в жизнь. Начало твоего пути должно быть свободно, а не отягчено заботой о беспомощном старике. Я удалюсь из нашей Энниады в плодородную Элиду,[109] где живут мои дочери со своими мужьями. Когда ты станешь прославленным мастером, ты найдешь меня…
На горячие протесты юноши старик только отрицательно качал головой. Много ласковых, умоляющих, негодующих слов было сказано Пандионом, пока он не понял, что непреклонное решение деда выношено годами, укреплено жизненным опытом.
С печалью, камнем лежавшей на душе, юноша весь день не отходил от деда, помогая ему готовиться к отъезду.
Вечером они оба уселись у перевернутой, заново проконопаченной лодки, и дед достал свою старую, видавшую виды лиру. По-молодому сильный голос старого аэда понесся вдоль берега, замирая вдали.
Печальный напев напоминал размеренный плеск моря.
По просьбе Пандиона старик пел ему предания о происхождении их народа, о соседних землях и странах.
Сознавая, что он слушает деда в последний раз, юноша жадно ловил каждое слово, стараясь запомнить песни, с детства неразрывно слитые у него с обликом деда. Пандион образно представлял себе древних героев, объединявших разные племена.
Старый аэд пел о суровой прелести своей родины, где сама природа есть земное воплощение богов, о величии людей, умеющих любить жизнь и побеждать природу, не прячась от нее в храмы, не отворачиваясь от настоящего.
И сердце юноши взволнованно билось перед дорогами, бегущими в неведомую даль, открывающими за каждым поворотом новое и неожиданное.
Утром как будто вернулось жаркое лето. Чистая синева неба дышала зноем, неподвижный воздух наполнился звоном цикад, и солнце ослепительно отражалось от белых скал и камней. Море стало прозрачным и лениво колыхалось у берегов, приняв вид старого вина, колеблющегося в исполинской чаше.
Когда лодка деда скрылась вдали, тоска стеснила грудь Пандиона. Он упал, упершись лбом на скрещенные руки. Он почувствовал себя мальчиком, одиноким и покинутым, потерявшим с отъездом любимого деда часть своего сердца. Слезы текли по рукам Пандиона, но это уже не были слезы ребенка — они катились редкими тяжелыми каплями, не облегчая горя.
Далеко отошли мечты о великих делах. Ничто не утешало юношу — он хотел быть вместе с дедом.
Медленно и неумолимо пришло сознание невозвратимости потери, и юноша справился с собой. Устыдившись слез, закусив губы, он поднял голову и долго смотрел в морскую даль, пока смятенные мысли не потекли последовательно и плавно. Пандион встал, окинул взглядом горящий на солнце берег, маленький домик под платаном, и снова тоска сделалась нестерпимой. Он понял, что дни юности миновали, что не вернется уже никогда беззаботная жизнь с ее наивными, полудетскими мечтами.
Медленно побрел Пандион к дому. Там он опоясался мечом и завернул в плащ свои вещи. Юноша плотно закрепил дверь, чтобы буря не ворвалась в дом, и пошел по каменистой тропинке, чисто выметенной морскими ветрами. Сухая и жесткая трава грустно шелестела под ногами. Тропинка подошла к холму, покрытому густым темно-зеленым кустарником, мелкие листья которого, нагретые солнцем, издавали аромат свежих оливковых выжимок. Здесь тропа разветвлялась на две: одна вела направо, к группе рыбачьих хижин, стоявших на берегу моря, другая шла вдоль берега реки к селению. Пандион повернул налево; за холмом его ноги окунулись в горячую белую пыль, стрекотанье цикад заглушило шум моря. Основание каменистого склона горы у реки тонуло в деревьях. Узкие листья олеандров, тяжелая зелень смоковниц перемежались с пышными кронами огромных орехов — все это сливалось в сплошную клубящуюся массу, казавшуюся почти черной у обрывов белых известняков. Тропинка нырнула в прохладную тень и после нескольких поворотов привела к поляне, застроенной небольшими домиками, теснившимися к пологим скатам виноградников.
Юноша ускорил шаги и направился к низкому белому строению, скрывавшемуся за узловатыми стволами олив. Он вошел под навес, и навстречу ему поднялся невысокий чернобородый пожилой мужчина — мастер-художник Агенор.
— Ты пришел, Пандион! — радостно приветствовал юношу художник. — А я уже думал посылать за тобой… А, вот что! — Агенор заметил вооружение Пандиона. — Дай я обниму тебя, мой мальчик… Тесса, Тесса! — крикнул он. — Смотри, какой воин пришел к нам!
Пандион быстро повернулся. Из внутренней двери выглянула девушка в темно-красном химатионе,[110] накинутом поверх выгоревшего голубого хитона.[111] Радостная улыбка показала безупречные зубы, но через мгновение девушка нахмурилась, спрятав улыбку, и холодно обвела юношу взглядом.
— Видишь, Тесса рассердилась на тебя: два долгих дня ты не мог прибежать к нам и предупредить, что не будешь работать, — упрекнул Пандиона художник.
Юноша стоял молча, опустив голову, и исподлобья переводил взгляд с девушки на учителя.
— Что с тобой, мой мальчик… то есть уже не мальчик, а воин? — спрашивал Агенор. — Ты печален сегодня. И что это за сверток ты принес?
Прерывающимся голосом, бессвязно, вновь переживая испытанное, Пандион рассказал об отъезде деда.
Пришла жена художника — мать Тессы.
Художник положил обе руки на плечи юноши:
— Мы давно полюбили тебя, Пандион, и рады тебе. А я счастлив, что ты выбрал путь художника и предпочел его жизни воина. Она не минует тебя позднее, сейчас же тебе нужно достичь много, что дается лишь долгим трудом и размышлениями.
Пандион, по обычаю, склонился перед женой Агенора, и та покрыла его голову краем плаща, а затем ласково прижала к груди.
Девушка радостно вскрикнула и, смутившись, скрылась в глубине дома, провожаемая улыбкой отца.
Агенор, отдыхая, присел у входа в мастерскую. У дома росли старые оливковые деревья. Их огромные узловатые стволы причудливо переплетались, и задумчивый взор художника находил в них очертания людей и животных. Одно дерево напоминало коленопреклоненного великана, поднявшего над согнутой шеей широко расставленные руки. У другого корявые выступы ствола сливались в скорченное страданием, безобразное туловище. И все деревья сгибались, казалось, с усилием подталкивая вверх тяжелую массу бесчисленных ветвей, покрытых серебристыми мелкими листьями.
По другую сторону дома мелькнула женская фигура в праздничном ярко-синем химатионе с золотыми блестками. Художник узнал дочь в тот самый момент, когда девушка скрылась за склоном холма. Неслышно ступая босыми ногами, к Агенору приблизилась его жена и села рядом.
— Тесса опять пошла в сосновую рощу к Пандиону, — сказал художник и прибавил: — Дети думают, что нам неизвестна их маленькая тайна!
Жена его весело засмеялась, но, внезапно став серьезной, спросила:
— Что ты думаешь о Пандионе теперь, когда он прожил у нас больше года?
— Я полюбил его еще больше, — ответил Агенор, и жена согласно наклонила голову. — Но… — Художник замолчал, обдумывая дальнейшие слова.
— Он хочет слишком многого, — закончила за него жена.
— Да, он хочет многого, и много ему дано от богов. И некому научить его — я не могу дать ему то, что он ищет, — сказал художник с ноткой грусти в голосе.
— А мне кажется, что он мечется, не находя себя… Он не похож на других юношей, — тихо сказала жена. — И я не понимаю, что ему еще нужно, а иногда просто жаль его.
— О милая, ты права: не даст ему счастья стремление достигнуть того, чего никто не сумел еще сделать. А тревогу твою… Я понимаю ее причину: ты боишься за Тессу?
— Нет, не боюсь, дочь моя горда и смела. Но я чувствую, что любовь к Пандиону может принести ей много горя. Плохо, когда человек, как Пандион, одержим исканиями — тогда любовь не излечит его от вечной тоски…
— Как излечила меня, — ласково улыбнулся жене художник. — А когда-то я, пожалуй, походил на Пандиона…
— Ну, нет, ты всегда был спокойнее и крепче, — сказала жена, погладив седеющую голову Агенора.
Тот смотрел вдаль, за деревья, куда скрылась Тесса.
Девушка торопливо шла к морю, часто оглядываясь, хотя и знала, что так рано в праздничный день никто не пойдет в священную рощу.
От белых обрывов бесплодных каменистых гор уже веяло жаром. Сначала дорога пролегала по равнине, покрытой колючками, и Тесса шла осторожно, чтобы не порвать подол своего лучшего хитона из тонкой, полупрозрачной материи, привезенной из-за моря. Дальше местность вспучилась холмом, сплошь покрытым кроваво-красными цветами. В ярком солнце холм пылал, как будто залитый темным пламенем. Здесь не было колючек, и девушка, высоко подобрав складки хитона, побежала.
Быстро миновав одинокие деревья, Тесса очутилась в роще. Стройные стволы сосен отливали восковым лиловым блеском, раскидистые вершины шумели под ветром, а ветви, опушенные мягкими, в ладонь длиной, иглами, превращали яркий солнечный свет в золотую пыль.
Запах нагретой смолы и хвои смешивался со свежим дыханием моря и разливался по всей роще.
Девушка пошла медленнее, бессознательно подчиняясь торжественному покою рощи.
Направо среди стволов перед нею возвышалась серая, обсыпанная хвоей скала.
На полянку падал столб солнечного света, и сосны вокруг казались вылитыми из красной меди. Сюда яснее доносился рокочущий гул моря — невидимое, оно беспрестанно напоминало о себе низкими мерными аккордами.
Из-за скалы навстречу Тессе выбежал Пандион и привлек девушку к себе, затем слегка оттолкнул ее и зорко осмотрел, словно стремясь вобрать в себя весь ее облик.
Завитки ее блестящих черных волос трепетали вокруг гладкого лба, узкие брови приподнимались к вискам, переламываясь чуть заметно, и это придавало большим синим глазам едва уловимое выражение насмешливой гордости.
Тесса мягким движением отстранилась.
— Поспеши, сюда скоро придут! — сказала она, нежно глядя на юношу.
— Я готов. — С этими словами Пандион подошел к скале, рассеченной узкой вертикальной пещерой.
На глыбе известняка стояла незаконченная статуя в половину человеческого роста из плотной глины. Тут же были разложены деревянные инструменты скульптора — изогнутые пилочки, ножи и лопатки.
Девушка сбросила синий химатион и медленно подняла руки к застежкам, скреплявшим сборки разрезанной вдоль плеч легкой ткани.
Пандион следил за ней, улыбаясь и перебирая инструменты, но когда он отвернулся к статуе, восторженная улыбка медленно сползла с его лица. Еще очень далеко было этому грубому изображению до восхитительной живой Тессы. Но все же в глине появились уже все пропорции ее тела. Сегодня решающий день: подготовка кончена. Он перенесет на недвижимую глину обаяние живых линий.
Пандион хмуро и решительно повернулся к Тессе. Та, искоса взглянув на него, кивнула головой. Потупив глаза, девушка оперлась на ствол сосны, подложив одну руку под затылок. Пандион молча погрузился в работу. Взгляд юноши сделался пронзительным, глаза перебегали с тела подруги на глину и обратно, запоминая, соразмеряя и сравнивая.
Много дней уже шла эта борьба творческих рук с мертвой, безразлично податливой глиной, которую нужно было заставить принять прекрасную форму живого.
Время шло. Чуткое ухо юноши уже несколько раз улавливало подавленные вздохи уставшей Тессы.
Пандион прекратил работу, отступил от статуи, и Тесса невольно вздрогнула, услышав горький стон разочарования. Изображение стало гораздо хуже. То, что жило в нем и привлекало едва намеченными чертами, теперь, приглаженное и определившееся, умерло. Изваяние стало лишь тяжелым подобием смуглого тела Тессы, стоявшей перед огромным сосновым стволом.
Закусив губы, юноша сравнивал Тессу со статуей, напряженно стараясь отыскать ошибку. Ошибки не было — это нельзя было назвать ошибкой: просто он не смог передать жизнь, остановить изменчивое движение форм тела. Ему казалось, что сила его любви, его восхищение красотой Тессы позволят ему подняться высоко, совершить великий творческий подвиг — и явится миру невиданная статуя… Так было вчера, было еще полчаса тому назад! И вот он не может… не умеет… не в силах… Даже для Тессы, которую так любит! Что же теперь делать? Весь мир померк для Пандиона, инструменты упали на землю, кровь бросилась в голову. В отчаянии, сознавая свое бессилие, юноша бросился к девушке и упал, обняв ее колени, перед ней.
Девушка, смущенная и недоумевающая, положила ладони на горячее, поднятое вверх лицо Пандиона.
И вдруг инстинктивным чутьем женщины она поняла, что делается в душе художника. С материнской любовью она склонилась над юношей, говорила ласковые слова, прижимала к себе голову Пандиона, скользя тонкими пальцами по кольцам коротких волос.
Бурное отчаяние юноши улеглось.
Вдали послышались голоса. Пандион оглянулся кругом; порыв его угас, а с ним ушла и гордая надежда. Ему казалось, что его юношеская мечта никогда не сбудется. Скульптор подошел к своей статуе и остановился в раздумье. Маленькая рука Тессы легла ему на сгиб локтя.
— Не смей, неразумный мальчик, — прошептала девушка.
— Не могу, не смею, Тесса, — согласился Пандион, не отрывая взгляда от изваяния. — Если бы эта… — юноша запнулся, — не была сделана с тебя, если бы не ты, я уничтожил бы ее сейчас же. Эта вещь так груба и некрасива, что не должна существовать и чем-то напоминать твой облик… — С этими словами юноша легко сдвинул камень вместе со статуей в глубь пещеры. Он старательно замаскировал узкую щель обломками камней и пригоршнями сухой хвои…
Юноша и девушка направились на звук морского прибоя. Они долго шли молча. Пандион заговорил, стараясь передать любимой свою тоску и разочарование. Девушка убеждала Пандиона не оставлять попыток, говорила о своей уверенности в нем, в его способности выполнить задуманное. Но Пандион был непреклонен. Сегодня она поняла, что еще далеко от подлинного мастерства, что дорога к настоящему искусству лежит через долгие годы упорного труда.
— Нет, Тесса, я теперь знаю, что не могу воплотить тебя в статуе! — страстно говорил он. — Я беден здесь и здесь, — он притронулся к сердцу и глазам, — чтобы передать твою красоту…
— Разве она не твоя, Пандион? — Девушка порывисто закинула руки за шею художника.
— Да, Тесса, но как я иногда страдаю от нее! Я никогда не устану любоваться тобою и в то же время… не могу этого выразить… Каждый миг кажется последним. Точно вот-вот исчезнет твоя красота подобно улетевшему звуку песни… Ты ушла, и я не могу изобразить твои черты, самому себе рассказать о них! А я должен воплотить тебя в глине, дереве, камне. Я должен понять, почему так трудно передать красоту, ибо если я сам не осмыслю этого, то как я могу сделать живыми свои творения?
Тесса внимательно слушала юношу и, чувствуя, что сейчас перед ней открыта вся душа Пандиона, с горечью понимала свое бессилие. Тоска художника передавалась и ей, на сердце росла неопределенная тревога.
Вдруг Пандион улыбнулся, и не успела Тесса опомниться, как мощные руки подняли ее на воздух. Пандион побежал к берегу, опустил девушку на влажный песок и сам скрылся за круглым холмом.
Мгновение — и девушка увидела голову Пандиона на гребне приближавшейся волны. Скоро юноша вернулся. От недавней печали не было и следа. И происшедшее в роще показалось Тессе не таким серьезным. Она тихо рассмеялась, вспомнив свое жалкое глиняное подобие и удрученное лицо его создателя.
Пандион тоже подсмеивался над собой, как мальчик, хвастался перед девушкой своей ловкостью и силой. Так, медленно, часто останавливаясь, шли они к дому. И только на самом дне души Тессы продолжала гнездиться тревога…
Агенор тронул рукой колено Пандиона:
— Народ наш еще молод и беден, мой сын. Нужны века жизни в достатке, чтобы сотни людей могли посвятить себя высокому мастерству художника, сотни людей могли предаться изучению красоты человека и мира. А мы еще так недавно изображали своих богов, обтесывая каменные или деревянные столбы… Но вот ты стремишься понять законы красоты, и я могу предсказать, что наш народ пойдет далеко по пути изображения прекрасного. А сейчас в древних и богатых странах мастера гораздо искуснее нас…
Художник встал и извлек из угла комнаты большой ларец желтого дерева, достал из него сверток, покрытый красной материей. Сняв ее, он осторожно поставил перед Пандионом статуэтку в локоть величиной, сделанную из слоновой кости и золота. Слоновая кость от времени порозовела, и ее полированная поверхность покрылась мельчайшими черными трещинками.
Статуэтка изображала женщину, державшую в протянутых руках двух змей, завившихся кольцами до локтевых сгибов. Тугой пояс с валиками по краям охватывал необычайно тонкую талию, поддерживая длинную, до пят, юбку, сильно расширявшуюся книзу и украшенную пятью поперечными золотыми полосками. Спину, плечи, бока и верхние части рук закрывала легкая накидка, оставлявшая обнаженной грудь и живот до талии.
Тяжелые волнистые волосы были подняты узлом не на затылке, как у эллинских женщин, а на темени. От узла отделялись густые пряди, покрывая сзади шею и спину.
Ничего подобного Пандион еще не видел. Чувствовалось, что эта статуэтка — создание великого мастера. Особенно привлекало внимание странно равнодушное лицо статуэтки — плосковатое и широкое, с тяжело обозначенными скулами, с толстыми губами, со слегка выдающейся вперед нижней частью.
Прямые широкие брови усиливали выражение равнодушия на лице женщины, но пышная грудь высоко вздымалась, точно в нетерпеливом вздохе.
Пандион оцепенел. Если бы он обладал искусством неизвестного мастера! Если бы резец его мог с такой же точностью и изяществом передавать форму, оживавшую под розовато-желтой поверхностью старой кости!
Агенор, довольный произведенным впечатлением, следил за юношей и медленно поглаживал щеку концами пальцев.
Прервав молчаливое созерцание, Пандион отставил драгоценную статуэтку подальше. Не отрывая глаз от тускло поблескивавшего творения древнего мастера, юноша тихо и грустно спросил учителя:
— Это из древних восточных городов?[112]
— О нет! — отвечал Агенор. — Она древнее их всех, древнее богатых золотом Микен, Тиринфа и Орхомен.[113] Я взял ее у Хризаора, чтобы показать тебе. Его отец в молодости плавал с отрядом на Крит и нашел ее среди остатков древнего храма в двадцати стадиях,[114] от развалин города морских царей[115] разрушенного страшными землетрясениями.
— Отец, — юноша, сдерживая волнение, с мольбой прикоснулся к бороде художника,[116] — ты знаешь так много. Неужели ты не смог бы, если бы захотел, перенять искусство древних мастеров, научить нас, повести туда, где сохранились прекрасные творения? Неужели ты никогда не видел этих дворцов, воспетых в легендах? Я много раз мечтал о них, слушая деда!
Агенор опустил глаза. Тень набежала на спокойное и приветливое лицо.
— Я не сумею объяснить тебе, — ответил он после недолгого размышления, — но ты сам скоро это почувствуешь: то, что умерло, нельзя возродить. Оно чужое нашему миру, нашей душе… оно прекрасно, но безнадежно… чарует, но не живет.
— Я понял, отец! — страстно воскликнул Пандион. — Мы будем только рабами мертвой мудрости, хотя и в совершенстве будем подражать ей. А нам нужно стать равными древним мастерам или сильнее их, и тогда… о, тогда!.. — Юноша замолчал, не находя слов.
Агенор загоревшимися глазами посмотрел на своего ученика, и его жесткая маленькая рука одобрительно сдавила локоть юноши.
— Ты хорошо сказал то, что я не мог выразить. Да, древнее искусство для нас должно быть мерой и пробой, а идти нужно своим путем. А чтобы этот путь не оказался очень далеко, учиться нужно у древней мудрости. Ты умен, Пандион…
Вдруг Пандион мягко скользнул на глиняный пол и обнял ноги художника:
— Отец и учитель, отпусти меня посмотреть древние города… Я не могу, боги мне свидетели… я должен видеть все это. Я чувствую в себе силу достигнуть высокого… Мне надо узнать родину тех редкостей, что иногда встречаются у наших людей, поражая их. Может быть, я… — Юноша умолк, покраснев до ушей, но его прямой, смелый взор продолжал искать взгляда Агенора.
Тот сосредоточенно смотрел в сторону, хмурился и молчал.
— Встань, Пандион, — наконец произнес художник. — Я давно ждал этого. Ты не мальчик, и я не могу удержать тебя, хотя и хотел бы. Ты волен идти, куда тебе угодно, но я говорю тебе, как сыну, как ученику… более того, как равный — другу… что желание твое гибельно. Оно грозит тебе страшными бедствиями.
— Я не боюсь ничего, отец! — Пандион откинул назад голову, ноздри его раздувались.
— Я ошибся: ты совсем еще мальчик, — спокойно возразил Агенор. — Выслушай меня, положив сердце на ладони, если любишь меня.
И Агенор рассказал, что в восточных городах, где еще живут древние обычаи, осталось много произведений древнего искусства. Женщины, как тысячелетие тому назад на Крите, носят длинные жесткие юбки, раскрашенные с необыкновенной пестротой, и обнажают грудь, прикрывая плечи и спину. Мужчины — в коротких рубашках без рукавов, с длинными волосами, вооружены маленькими тяжелыми бронзовыми мечами.
Город Тиринф окружен гигантской стеной в пятьдесят локтей вышины. Эти стены сложены из колоссальных обтесанных глыб, украшенных золотыми и бронзовыми цветками, издалека сверкающими на солнце, как огни, разбросанные по стене.
Микены еще величественнее. На вершине высокого холма располагается этот город, ворота из огромных камней заперты медными решетками. Далеко видны большие постройки с равнины, окружающей холм.
Хотя свежи и ярки краски стенных росписей во дворцах Микен, Тиринфа и Орхомен, хотя по-прежнему по гладким дорогам, выложенным большими белыми камнями, иногда проносятся колесницы богатых землевладельцев, но все больше зарастают травою забвения эти дороги, дворы пустующих домов, даже скаты могучих стен.
Давно прошли времена богатства, времена далеких плаваний в сказочный Айгюптос.[117] Теперь вокруг этих городов обитают сильные фратрии, обладающие множеством воинов. Их начальники подчинили себе все вокруг на далекие расстояния, захватили города в свои темены,[118] согнули слабые роды и объявили себя властителями страны и людей.
Здесь, в Энниаде, еще нет таких могучих вождей, как нет городов и красивых храмов. Но зато там больше рабов — жалких, потерявших свободу мужчин и женщин. И среди них не только пленные, захваченные в чужих странах, но и рабы из своих же сограждан, принадлежащих к бедным родам.
И что уж говорить о чужеземных странниках: если не стоит за их плечами могущественная фратрия или племя, с которым ссориться небезопасно даже сильным вождям, или если нет у путешественника многочисленной дружины воинов, тогда только два пути могут быть у странника — смерть или рабство.
— Помни, Пандион, — художник схватил юношу за обе руки: — мы живем в суровое и опасное время! Роды и фратрии враждуют между собой, общих законов не существует, вечный страх рабства висит над головой каждого скитальца. Эта прекрасная страна не годится для путешествия. Помни, что, покинув нас, ты будешь на чужбине без очага и закона, всякий может тебя унизить или даже убить, не боясь пени и мести. Ты одинок и беден, я тоже ничем не могу помочь тебе — значит, тебе не собрать даже небольшого отряда. А один ты погибнешь очень быстро, если только боги не сделают тебя невидимкой. Видишь, Пандион, хотя кажется так просто: проплыть проливом тысячу стадий от нашего Ахелоева мыса до Коринфа, откуда полдня пути до Микен, день до Тиринфа и три до Орхомен, но для тебя это все равно что отправиться за пределы Ойкумены! — Агенор встал и направился к выходу, увлекая за собой юношу. — Ты стал родным мне и моей жене, но я не говорю о нас… Представь страдания моей Тессы, если ты будешь влачить жалкие дни в рабстве на чужбине!
Пандион густо покраснел и ничего не ответил.
Агенор чувствовал, что не убедил Пандиона, а тот в нерешительности колебался между двумя могучими влечениями: одним — удерживавшим его на месте; другим — влекущим вдаль, несмотря на неизбежную опасность.
И Тесса, не зная, что будет лучше, то восставала против его путешествия, то, полная благородной гордости, упрашивала Пандиона уехать.
Прошло несколько месяцев, и когда весенние ветры донесли из-за пролива[119] слабый запах цветущих холмов и гор Пелопоннеса, Пандион окончательно выбрал свой жизненный путь.
Теперь ему предстояло единоборство с чужим и далеким миром. Полгода, которые он хотел провести вдали от родных мест, представлялись ему вечностью. Временами Пандиона тревожило ощущение, будто он навсегда покидает свою родину… По совету Агенора и других мудрых мужей селения, Пандион ехал на Крит — обиталище потомков морского народа, родину древней культуры. Хотя огромный остров находился посреди моря, несравненно дальше древних городов Беотии и Арголиды,[120] поездка туда представлялась более безопасной для одинокого путешественника.
Остров, лежавший в центре морских путей, был заселен теперь разными племенами. На берегах его постоянно встречались иноземцы — купцы, моряки, грузчики. Разноязычное население Крита занималось торговлей и жило в большем мире, чем Эллада, и лучше относилось к приезжим. Только в глубине острова, за горными перевалами, еще ютились потомки древних племен, враждебно относившиеся к пришельцам.
Пандион должен был переправиться через Калидонский залив к острому мысу, расположенному против нижней Ахайи, и здесь наняться гребцом на одно из судов, отправлявшихся на Крит с шерстью после зимнего перерыва: в бурное время года утлые суда избегали далеких плаваний.
В день полнолуния молодежь селения собиралась для танцев на большой поляне священной рощи.
Пандион в задумчивости сидел на маленьком дворике у дома Агенора, угнетенный тоской. Завтра совершится неизбежное — он оторвет от сердца все любимое и родное ему и предстанет перед неизвестной судьбой. Тоска разлуки, жалость к покинутой возлюбленной, неверное будущее — вот ядовитая чаша его пути, одиноких исканий.
В темном и молчаливом доме Тесса шелестела одеждами, потом появилась в черном отверстии двери, оправляя складки наброшенного на плечи покрывала. Девушка негромко окликнула Пандиона, который мгновенно вскочил и устремился ей навстречу. Черные волосы Тессы были закручены на затылке в тяжелый узел и обрамлены по темени тремя лентами, сходившимися вместе под узлом.
— Ты причесалась сегодня, как аттическая девушка! — воскликнул Пандион. — Это красиво!
Тесса, улыбнувшись, грустно спросила:
— Ты разве не пойдешь танцевать в последний раз, Пандион?
— А разве ты хочешь пойти?
— Да, я буду танцевать для Афродиты, — твердо промолвила Тесса. — И еще журавля.
— Танцевать журавля, этот аттический танец! Для него ты так и причесана. У нас его, кажется, ни разу не танцевали.
— А сегодня будут все — для тебя, Пандион!
— Почему для меня? — удивился юноша.
— Разве ты забыл — журавля в Аттике танцуют в память, — голос Тессы задрожал, — счастливого возвращения Тезея[121] с Крита и в честь его победы… Пойдем, милый! — Тесса протянула обе руки Пандиону, и, прижавшись друг к другу, молодые люди вошли под деревья на краю селения.
…Море шумело навстречу, зовуще раскрывало свою беспредельную ширину. В ранних солнечных лучах морская даль вздымалась, подобно выпуклой поверхности исполинского моста. Да и в самом деле, море было мостом к далеким странам, мостом, соединяющим народы.
Медленные волны, розовея с зарей, несли издалека, может быть, от самого сказочного Айгюптоса, клочья золотистой пены. И солнечные лучи плясали, дробясь и качаясь, на неустанной, вечно подвижной воде, пронизывая воздух слабым мерцающим сиянием.
За холмом скрылась тропинка, с которой еще были видны селение и семья Агенора, посылавшая последние приветы.
Прибрежная равнина была пустынна. Пандион остался наедине с Тессой перед морем и небом. Впереди, на песке, чернела маленькая лодка, на которой Пандион должен был обогнуть мыс при устье Ахелоя и переплыть Калидонский залив.
Девушка и юноша шли молча. Их медленные шаги были неверны: Тесса в упор смотрела на Пандиона, и он не мог отвести взгляд от лица любимой.
Скоро, слишком скоро они подошли к лодке. Пандион выпрямился, в глубоком вздохе расправил стесненную грудь. Настал момент, ожидание которого дни и ночи угнетало Пандиона. Так много нужно было сказать Тессе в эти последние минуты, но не было слов.
Пандион смущенно стоял, в голове мелькали обрывки мыслей, непоследовательные и бессвязные.
Вдруг Тесса внезапным движением крепко обняла Пандиона за шею и, точно боясь, что их могут подслушать, торопливо и прерывисто зашептала:
— Поклянись мне, Пандион, поклянись Гиперионом… страшной Гекатой[122]… Нет, лучше своей и моей любовью, что ты не поедешь дальше Крита, туда, в далекий Айгюптос… где тебя превратят в раба и ты исчезнешь из моей жизни… Поклянись, что вернешься скоро… — Шепот Тессы прервался сдавленным рыданием.
Пандион прижал девушку к себе и произнес клятву, а в это время перед его мысленным взором пронеслись морские дали, утесы, рощи и развалины неведомых селений — все то, что сейчас отделит его от Тессы на шесть долгих месяцев — месяцев, в которые он не будет знать ничего о любимой и она о нем.
Пандион закрыл глаза, чувствуя, как бьется сердце Тессы.
Минуты шли, неизбежность разлуки надвигалась, ожидание становилось невыносимым.
— В путь, Пандион, скорее… Прощай… — прошептала девушка.
Пандион вздрогнул, отпустил Тессу и быстро подошел к лодке.
Поддаваясь сильным рукам, лодка медленно сдвинулась, днище зашуршало по песку. Пандион вошел до колен в холодную плещущую воду и обернулся. Борт подбрасываемой на волнах лодки слегка ударял его по ноге.
Тесса, неподвижная, как статуя, стояла, устремив взгляд на мыс, за которым должна была сейчас скрыться лодка Пандиона.
В душе юноши что-то надломилось. Он сорвал лодку с отмели, прыгнул в нее и взялся за весла. Тесса резко повернула голову, и порыв западного ветра подхватил ее распущенные в знак печали волосы.
Лодка быстро отплыла, повинуясь сильным ударам весел, а он, не отрываясь, смотрел на застывшую девушку. Ее лицо было высоко поднято прямо над обнаженным плечом.
Ветер закрыл лицо Тессы ее черными волосами, и девушка не пыталась поправить их. Сквозь волосы Пандиону видны были блестящие глаза, вздрагивающие ноздри прямого маленького носа и яркие полураскрытые губы. А волосы, шевелясь под ветром, густой массой окутывали шею. Концы их завивались бесчисленными колечками на щеке, виске и высокой груди. Девушка стояла без движения, пока лодка не удалилась от берега и не повернула носом на юго-восток.
Тессе казалось, что не лодка огибает мыс, а мыс, темный и мрачный в тени низкого солнца, выдвигается слева в море, постепенно приближаясь к лодке. Вот он коснулся небольшой чернеющей черточки в сверкающем море, вот она скрылась за ним…
Тесса, ничего более не сознавая, опустилась на плотный влажный песок.
Лодка Пандиона затерялась среди бесчисленных волн. Давно уже скрылся из глаз мыс Ахелоя, а Пандион продолжал грести изо всех сил, точно боялся, что тоска заставит его вернуться. Он ни о чем не думал, стараясь измучить себя работой под знойным солнцем…
Солнце перешло на корму лодки, и медленные волны приняли цвет темного меда. Пандион бросил весла на дно. Осторожно оттолкнувшись одной ногой, чтобы не опрокинуть узкую лодку, юноша прыгнул в море. Освежившись, он поплыл, подталкивая лодку перед собой, потом снова забрался в нее и выпрямился во весь рост.
Впереди виднелся острый мыс, а левее чернел продолговатый островок, ограничивавший с юга Калидонскую гавань — цель его плавания. Пандион снова принялся грести, и островок медленно рос, поднимаясь из моря. Вершина его распалась на отдельные игольчатые кроны деревьев. Скоро ряд стройных кипарисов, похожих на темные наконечники гигантских копий, предстал перед Пандионом. Деревья, защищенные от ветров крючковатым скалистым мысом, поднимавшимся с юга, устремлялись в чистую синеву неба. Юноша осторожно провел лодку меж камней, отороченных скользкими рыжеватыми водорослями. Ровное песчаное дно было ясно видно сквозь прозрачную зеленовато-золотистую воду. Пандион вышел на берег, разыскал невдалеке от старого, поросшего мхом жертвенника полянку с мягкой весенней травой и допил запасенную в дорогу воду. Есть ему не хотелось. До гавани, скрывавшейся по ту сторону острова, было не больше двух десятков стадий.
Юноша решил прийти бодрым и свежим к владельцу корабля. Он лег под узорными ветками.
С необычайной ясностью перед закрытыми глазами Пандиона возникли картины вчерашнего празднества…
Пандион и другие юноши селения лежали в траве, ожидая, пока девушки закончат танец в честь Афродиты. Девушки в легких юбках, собранных вокруг талии на разноцветных лентах, танцевали попарно, спиной друг к другу. Взявшись за руки, они посматривали через плечо, словно каждая из них любовалась красотой своей подруги.
Серебряными волнами в лунном свете взлетали и падали складки белых юбок, смуглые тела танцовщиц гнулись, как гибкие стебли, в такт нежным и протяжным, грустным и радостным звукам флейты.
Потом юноши смешались с девушками и начали танец журавля, приподнимаясь на кончиках пальцев и раскидывая в стороны напряженные, как крылья, руки. Пандион был рядом с Тессой, не сводившей с него встревоженных глаз.
Вся молодежь селения была внимательнее обычного к Пандиону. Только лицо одного Эвримаха, влюбленного в Тессу, сияло, показывая, как он рад отъезду соперника. Пандион замечал, что остальные не шутили с ним, как прежде, меньше было задорных колкостей — словно между ним, уезжавшим, и всеми остающимися уже легла какая-то граница. Отношение друзей одновременно выражало зависть и жалость, как к человеку, стоящему на грани большой опасности и выделенному среди всех остальных.
Луна медленно скрывалась за деревьями. На поляну выдвинулось широкое покрывало черной тени.
Танцы окончились. Тесса с подругами спела Иресиону — песню о ласточке и весне, любимую Пандионом. Наконец молодежь парами направилась по тропинке к селению. Пандион и Тесса шли позади всех, намеренно замедляя шаги. Едва они поднялись на гребень холма перед селением, как Тесса вздрогнула и остановилась, прижавшись к Пандиону.
Отвесные обрывы известняковых круч, вздымавшиеся позади виноградников, отражали лунный свет, как исполинское зеркало. Казалось, над селением, прибрежной равниной и темным морем стояла прозрачная завеса серебристого света, полная зловещего очарования и молчаливой тоски.
— Мне страшно, Пандион, — шепнула Тесса. — Велика мощь Гекаты — богини лунного света, и ты отправляешься в те места, где она владычествует…
Волнение Тессы передалось Пандиону.
— Нет, Тесса, не на Крите, а в Карии[123] владычествует Геката, туда не лежит мой путь! — воскликнул юноша, увлекая девушку домой…
Пандион очнулся от грез. Нужно было поесть и продолжать путь. Он принес жертву морскому богу и, выйдя на берег, измерил свою тень,[124] переставляя ступни ног по ее отмеченной длине. Тень в девятнадцать ступней показала ему, что нужно торопиться — до вечера надо было устроиться на корабле.
Пандион, обогнув на лодке остров, увидел белый каменный столб — знак гавани — и начал грести быстрее.
Глава вторая ПЕННАЯ СТРАНА
Ветер уныло свистел в жестких кустах, поднимая крупный песок. Хребет протягивался на восток, как дорога, насыпанная неведомыми гигантами. Он, изгибаясь, обрамлял обширную зеленую долину. Горы пологим откосом спускались к морю. Откос был покрыт ковром ярко-желтых цветов и издалека казался огромным куском золота, обрамлявшим сверкающую синеву моря.
Пандион ускорил шаги. Сегодня он особенно остро ощущал тоску по покинутой Энниаде. Ему не советовали забираться так далеко, в эту замкнутую горами часть Крита, где потомки древнего морского народа были неприветливы с пришельцами.
Пандион торопился. За пять месяцев он побывал в разных концах огромного острова, длинной гористой полосой протянувшегося посреди моря. Молодой скульптор видел чудесные и странные вещи, оставленные древним народом в опустелых храмах и почти безлюдных городах.
Много дней провел Пандион в развалинах гигантского Дворца Секиры в городе Кноссе, первые постройки которого уходили к временам незапамятной давности. Бродя по бесчисленным лестницам дворца, юноша впервые увидел большие залы с красными, суживающимися книзу колоннами, любовался карнизами, ярко расписанными черными и белыми прямоугольниками или украшенными черными и голубыми завитками, напоминавшими череду бегущих волн.
На стенах уцелели великолепные фрески. У Пандиона захватывало дух от восторга, когда он глядел на изображения священных игр с быками, на процессии женщин с сосудами в руках, на девушек, пляшущих внутри ограды, за которой толпились мужчины, на неведомых гибких зверей среди гор и странных растений. Контуры фигур казались Пандиону неестественными с их невероятно тонкими талиями, широкими бедрами и вычурными движениями. Растения тянулись вверх на очень длинных стеблях, почти без листьев. Пандион понимал, что художники прошлых времен намеренно искажали естественные пропорции в стремлении выразить какую-то мысль, но она была непонятна юноше, выросшему на свободе, среди прекрасной, суровой природы.
В Кноссе, Тилиссе и Элире и в таинственных развалинах древней гавани,[125] все дома которой вместо обычных тесаных глыб были построены из ровных и гладких плит серого слоистого камня, Пандион видел множество женских статуэток из слоновой кости и фаянса, блюда и чаши из сплава золота и серебра, покрытые тончайшими рисунками, фаянсовые вазы с чудесной пестротой узоров или изображениями морских животных.
Но поражавшее молодого скульптора искусство оставалось ему непонятным, как таинственные надписи, встречавшиеся в развалинах и сделанные забытыми знаками на умершем языке. Великое мастерство, проявлявшееся в любой мельчайшей детали каждого произведения, не удовлетворяло Пандиона: ему хотелось большего — воплотить живую красоту человеческого тела, перед которой он преклонялся.
И неожиданно для себя изображения людей и животных, выполненные с большой реальностью, Пандион увидел в произведениях искусства, привезенных из далекого Айгюптоса.
Жители Кносса, Тилисса и Элиры, показывавшие их Пандиону, говорили, что множество подобных вещей сохранилось на Крите в округе Феста, где обитали потомки морского народа. И Пандион, несмотря на предупреждения об опасности, решился проникнуть в горное кольцо на южном побережье Крита.
Еще несколько дней — и, посмотрев все, что можно, он поплывет домой, к Тессе. Пандион был теперь уверен в своих силах. Как ни хотелось ему поучиться у мастеров Айгюптоса, любовь к родине и Тессе была сильней, крепко держала данная девушке клятва.
Как чудесно будет вернуться домой с последними осенними кораблями, заглянуть в синие блестящие глаза любимой, увидеть сдержанную радость Агенора, учителя, заменившего ему отца и деда!
Пандион, прищурившись, посмотрел на бесконечную ширь моря. Нет, там, впереди, чужие далекие страны, Айгюптос, а его море позади, за высокой горной грядой. Он все еще идет от него, а не к нему. Нужно посмотреть здесь, в Фесте, древние храмы, о которых он много слышал на побережье. Вздохнув, Пандион ускорил шаги, почти побежал. Отрог хребта опускался вниз широким склоном, покрытым, как кочками, каменными буграми, между которыми темнели пятна зеленых кустарников. У подошвы склона среди деревьев неясно виднелись развалины громадного здания, полуобрушившиеся стены, остатки сводов и уцелевшие ворота в рамке черно-белых колонн.
Развалины стояли безмолвно, изгибы стен были раскрыты перед Пандионом, точно исполинские руки, приготовившиеся обхватить жертву. Широкие свежие трещины — след недавнего землетрясения — бороздили поверхность стен.
Молодой скульптор тихо пошел, стараясь не нарушать покоя руин, вглядываясь в темные углы под уцелевшими колоннами.
Обогнув выступавший угол, Пандион очутился в квадратной зале без крыши, стены которой были расписаны уже знакомыми яркими фресками. Вглядываясь в чередование коричневых и черных мужских фигур, несших щиты, мечи и луки среди странных зверей и кораблей, Пандион, вспомнив рассказы деда, догадался, что перед ним изображены путешествия военного отряда в страну черных, по древним преданиям, расположенную на самом краю Ойкумены.
Изумленный этим свидетельством далеких путей древнего народа, Пандион долго вглядывался в стенные росписи, пока, повернувшись налево, не увидел посередине залы мраморный куб, украшенный синими розетками и завитками из стекла. У подножия куба лежали груды совершенно свежих, недавно сорванных цветов.
Значит, здесь был кто-то, среди этих развалин живут люди! Затаив дыхание, юноша устремился к выходу, в портик, заросший высокой травой.
Портик из двух белых квадратных столбов и двух красных колонн стоял на краю небольшого обрыва, едва возвышавшегося над густой листвой деревьев. По обрыву изгибалась утоптанная пыльная тропинка. Юноша спустился в долину и оказался на гладкой, мощеной дороге. Пандион пошел на восток, старясь бесшумно ступать по горячим камням. Широкие листья платанов с правой стороны дороги, едва трепетавшие в жарком воздухе, отбрасывали полосу тени. Путешественник облегченно вздохнул, укрывшись от знойного солнца. Пандиону давно хотелось пить, но у себя на родине, бедной водой, он был приучен к воздержанию. Пройдя около двух стадий, юноша заметил впереди, у небольшого холма, где дорога поворачивала на север, длинное низкое здание. Несколько помещений, как ряд одинаковых ящиков, были открыты со стороны дороги и совершенно пусты. Пандион узнал старый дом для отдыха путешественников: он часто видел такие на дорогах северного побережья и поспешил войти в пестро раскрашенный центральный вход, разделенный единственной колонной. Слабое журчание привлекло истомленного жарой и долгим путем юношу. Пандион вошел в отделение ванн, где вода из большой трубы выложенного тяжелыми плитами источника стекала в широкую воронку, проделанную в стене, переливаясь через края трех бассейнов.
Сбросив одежду и сандалии, Пандион вымылся в чистой холодной воде, вдоволь напился и прилег отдохнуть на широкой каменной скамье. Журчание воды и легкий шепот листьев баюкали, заставляя слипаться глаза, воспаленные от солнца и ветра на горных перевалах. Пандион задремал.
Он спал недолго: тень от колонны, пересекавшая освещенный солнцем пол, почти не изменила своего положения. Пандион вскочил освеженный и быстро накинул свою несложную одежду. Поев сухого сыра и снова напившись, юноша направился к выходу и вдруг замер: вдалеке послышались голоса. Он вышел на дорогу и стал оглядываться. Да, несомненно, в стороне от дороги, за густой зарослью кустов, был слышен смех, обрывки непонятных слов и изредка отрывистое звучание струн.
Пандион почувствовал одновременно радость и опасение, мышцы его напряглись, он невольно ощупал рукоятку отцовского меча. Прошептав несколько молитвенных слов своему покровителю и праотцу Гипериону, юноша пошел сквозь чащу прямо на голоса. В чаще было душно, резкий ароматический запах стеснял и без того затаенное дыхание.
Осторожно обходя высокие кусты с огромными колючками, пробираясь между стволами земляничного дерева с его тончайшей светлой и гладкой корой, Пандион приблизился к группе миртовых деревьев, стеной преграждавших ему дорогу.
Среди плотной листвы висели гроздья белоснежных цветов. На миг перед Пандионом возник облик Тессы — миртовое дерево на его родине посвящено было девичьей юности. Голоса теперь звучали совсем близко — люди почему-то говорили приглушенно, и юноша понял, что он неправильно определил расстояние. Решительный момент наступил. Пандион, согнувшись, нырнул под низкие ветки и осторожно раздвинул их руками: на полянке, поросшей свежей травой, он увидел необычайное зрелище.
В центре поляны лежал огромный белоснежный бык с длинными рогами. По блестящей, выхоленной шерсти животного на боках и морде были разбросаны мелкие черные пятна.
Поодаль в тени расположилась группа: юноши, девушки и пожилые люди. Стройный человек с вьющейся бородой, с золотым обручем на голове, одетый в короткую рубашку, стянутую бронзовым поясом, выступил вперед и подал какой-то знак. Тотчас из группы отделилась девушка, закутанная в длинный тяжелый плащ. Она подняла вверх широко раскинутые руки. От этого движения плащ упал. Девушка осталась в одной набедренной повязке, схваченной широким белым поясом, обшитым пушистым черным шнуром. Иссиня-черные волосы были распущены, на обеих руках выше локтей сверкали узкие браслеты.
Быстрыми, легкими шагами, точно танцуя, девушка приблизилась к быку и внезапно замерла, издав гортанный крик. Сонные глаза быка раскрылись и заблестели, он подогнул передние ноги и начал приподнимать тяжелую голову. Девушка стрелой бросилась вперед и прильнула к огромному животному. На несколько мгновений девушка и бык замерли. У Пандиона побежали по спине мурашки.
Бык выпрямил передние ноги, в то время как задние еще лежали на земле, и высоко поднял морду. Животное образовало как бы тяжелую пирамиду грозных мышц. Смуглое тело девушки, прижавшееся к крутому спаду широкой спины быка, отчетливо выделялось на белой шкуре. Одной рукой она уцепилась за рога, другой обхватила непомерную шею. Одна из сильных ног девушки вытянулась вдоль спины чудовища, торс луком выгнулся вперед. Контраст между красивыми, но чудовищными по силе и тяжести формами животного и гибким человеческим телом ошеломил Пандиона.
На мгновение молодой эллин увидел строгое лицо девушки с крепко сжатыми губами. С глухим ревом бык вскочил на ноги и подпрыгнул с легкостью, удивительной для его исполинского тела. Девушка, подброшенная в воздух, уперлась руками в мощную холку, вскинула вверх ноги и перевернулась, пролетев между высокими рогами. Она встала на ноги в трех шагах от морды чудовища и, вытянув вперед руки, хлопнула в ладоши и опять резко вскрикнула. Бык опустил рога и яростно бросился на нее. Пандион ужаснулся: гибель прекрасной и отважной девушки казалась неминуемой. Забыв о необходимой осторожности, юноша выхватил меч и хотел выскочить на поляну, но девушка снова с неуловимой быстротой прыгнула на быка и, миновав опущенные смертоносные рога, оказалась сидящей на его спине. Животное в неистовстве помчалось по лужайке, взрывая копытами землю и издавая грозное мычанье. Юная победительница спокойно сидела на разъяренном быке, крепко сжимая коленями его крутые бока, раздуваемые частым дыханием. Бык подлетел к группе людей, приветствовавших его радостными криками. Звонкий удар в ладоши — девушка запрокинулась назад и спрыгнула на землю позади животного. Она, взволнованно дыша, присоединилась к зрителям.
Бык с разгону промчался до края поляны, повернулся и устремился на людей. Вперед выступили сразу пять человек — трое юношей и две девушки; прежняя игра повелась в более быстром темпе. Бык, хрипя, с топотом бросался на отвлекавших его криками и ударами в ладоши молодых людей, а те перепрыгивали через него, вскакивали ему на спину, на мгновение прижимались к нему сбоку, ловко избегая страшных рогов. Одна из девушек ухитрилась сесть верхом прямо на шею быка, впереди выпуклой мощной холки. Глаза животного вылезли из орбит, пена заклубилась на морде. Опуская голову, почти упираясь носом в землю, бык старался сбросить бесстрашную наездницу. Она откидывалась назад, цепляясь за холку закинутыми назад руками, и упиралась ногами в основания ушей. Продержавшись несколько секунд, девушка спрыгнула на землю.
Юноши и девушки стали гуськом, на некотором расстоянии друг от друга, и по очереди перескакивали через налетавшее на них животное. Игра длилась долго — бык носился с устрашающим ревом, грозя смертью, а гибкие человеческие фигуры бесстрашно мелькали вокруг.
Рев быка перешел в хриплый стон, шкура потемнела от пота, изо рта вместе с неровным дыханием вылетала пена. Еще немного — и бык остановился, опустив голову и поводя глазами. Крики зрителей огласили воздух. По знаку, данному человеком с золотым обручем, играющие оставили в покое побежденное животное. Люди, стоявшие и сидевшие на земле, собрались вместе, и не успел Пандион опомниться, как они исчезли в кустах.
На опустевшей поляне остался измученный бык, и только его хриплое дыхание да примятая трава свидетельствовали о происшедшем сражении.
Взволнованный Пандион только сейчас понял, как ему повезло. Ему удалось видеть древнюю игру с быком, столетия тому назад распространенную на Крите, в Микенах и других старинных городах Греции.
Гибкий, проворный человек побеждал в бескровной борьбе быка — священное животное древних, воплощение воинственной мощи, тяжелой и грозной силы. Молниеносной быстроте животного противопоставлялась еще большая быстрота. Точность движений спасала человеку жизнь. Пандион с малых лет старался развить силу и ловкость и хорошо представлял себе, как много усилий и времени требовала подготовка к участию в столь опасной забаве.
Пандион не последовал за игравшими и вернулся на дорогу. Он решил, что лучше искать гостеприимства у людей в тот момент, когда они дома.
Дорога на протяжении нескольких стадий шла прямо и затем вдруг сворачивала на юг, к морю. Деревья, окаймлявшие ее, исчезли, уступив место запыленному кустарнику. Тень Пандиона заметно удлинилась, когда он подошел к повороту. В кустах послышался шорох. Юноша остановился прислушиваясь. Какая-то птица, неразличимая против солнца, шумно взлетела и скрылась в кустах. Успокоенный Пандион двинулся дальше, уже не обращая внимания на звуки. Вдали послышались нежные, мелодичные призывы дикого голубя. На зов откликнулись еще две птицы, и вновь наступила тишина. В тот момент, когда Пандион огибал поворот, крики голубя прозвучали совсем близко. Юноша остановился, чтобы разглядеть птицу. Внезапно сзади себя Пандион услышал шум крыльев: над ним взвились две сизоворонки. Пандион обернулся и увидел трех человек с толстыми палками в руках.
Незнакомцы, оглушительно крича, бросились на юношу. Пандион мгновенно обнажил меч, но получил удар по голове. В глазах у юноши потемнело, он зашатался под тяжестью навалившихся на него тел — еще четыре человека, появившись из-за кустов, напали на него сзади. Сознание Пандиона затуманилось; он понял, что погиб, и продолжал отчаянно обороняться. От сильного удара по руке он выронил меч. Юноша упал на колени, перебросив через себя вскочившего ему на спину человека, ударом кулака свалил другого, третий со стоном отлетел от пинка ногой.
Нападавшие, видимо, не имели намерения убить пришельца. Они отбросили палки и, воодушевляя себя воинственными воплями, снова напали на Пандиона. Под тяжестью пяти тел он упал на землю лицом в дорожную пыль, наполнившую ему рот и нос, запорошившую глаза. Задыхаясь от чудовищного напряжения, Пандион поднялся на четвереньки, пытаясь стряхнуть с себя врагов. Они бросались ему под ноги, сдавливали шею. Куча тел опять рухнула на землю, пыль заклубилась вокруг, краснея в солнечных лучах. Нападающие, почувствовав необыкновенную силу и выносливость юноши, больше не кричали — на пустынной, безмолвной дороге раздавались только шум борьбы, стоны и хриплые вздохи сражающихся.
Пыль покрыла тела, одежда превратилась в грязные, изодранные тряпки, а борьба все продолжалась.
Несколько раз Пандион вскакивал, освободившись от противников, но враги одолевали вновь, цепляясь за ноги юноши. Вдруг победные крики огласили воздух: к нападавшим прибыло подкрепление — еще четыре человека вступили в борьбу. Руки и ноги юноши спутали крепкие ремни. Едва живой от усталости и отчаяния, Пандион закрыл глаза. Его победители, оживленно переговариваясь не непонятном языке, распростерлись в тени рядом с ним, отдыхая после тяжелой борьбы.
Поднявшись, они знаками велели юноше идти с ними. Пандион, понимая бесполезность сопротивления, решил сберечь силы до подходящего случая и кивнул головой. Незнакомцы развязали ему ноги. Окруженный тесным кольцом врагов, Пандион, пошатываясь, побрел по дороге.
Вскоре он увидел несколько убогих построек из необделанных камней. Из домов вышли жители: старик с бронзовым обручем в волосах, несколько детей и женщин. Старик подошел к Пандиону, одобрительно оглядел пленника, пощупал его мускулы и весело сказал что-то сопровождающим Пандиона людям. Юношу подвели к небольшому домику.
С пронзительным скрипом открылась дверь — внутри оказался низкий очаг, наковальня с разбросанными вокруг инструментами и куча углей. На стенах висели два легких больших колеса. Невысокий старик со злым лицом и длинными руками велел одному из спутников Пандиона раздувать угли, снял с гвоздя металлический обруч и подошел к пленнику. Грубо подтолкнув его под подбородок, кузнец разогнул обруч, примерил на шею юноши, недовольно пробурчал что-то и нырнул в глубину кузницы; он с грохотом вытащил металлическую цепь, сунул конечное звено в огонь и принялся сгибать бронзовый обруч на наковальне, частыми ударами молотка подгоняя к нужному размеру.
Только сейчас юноша понял всю тяжесть случившегося. Дорогие образы, сменяя друг друга, промелькнули перед ним. Там, на родном берегу, ждет Тесса, уверенная в нем, в его любви и возвращении. Сейчас ему наденут бронзовый ошейник раба, он будет прикован на крепкой цепи, без надежды на скорое освобождение. А он считал последние дни своего пребывания на Крите… Он скоро уже мог бы приплыть в бухту Калидона, от которой начался путь, оказавшийся роковым.
— О Гиперион, мой прадед, и ты, Афродита, пошлите мне смерть или спасите! — тихо прошептал юноша.
Кузнец спокойно и методично продолжал свою работу, еще раз примерил ошейник, расплющил его концы, отогнул и пробил дыры. Оставалось заклепать цепь. Старик что-то буркнул. Пандиона схватили, знаками велели лечь на землю у наковальни. Юноша собрал все силы для последней попытки освободиться. Из-под ремней, скручивавших локти, брызнула кровь, но Пандион забыл про боль, чувствуя, что ремни подались. Мгновение — и они лопнули. Пандион ударил головой в челюсть навалившегося на него человека, и тот рухнул. Юноша опрокинул еще двух и помчался по дороге. С яростными воплями враги погнались за ним. На крики выбегали мужчины, вооруженные копьями, ножами и мечами; число преследующих все увеличивалось.
Пандион свернул с дороги и, прыгая через кустарники, помчался к морю. По пятам с гневным ревом бежали преследователи.
Кусты поредели, начался небольшой подъем. Пандион остановился — далеко внизу, под стеной крутых скал, раскинулось сверкавшее в солнечных лучах море. В десятке стадий от берега был хорошо виден медленно плывущий красный корабль.
Юноша заметался по краю обрыва, стараясь найти тропинку для спуска, но отвесные скалы тянулись далеко в обе стороны. Выхода не было — из кустов уже бежали враги, на ходу выстраиваясь в изогнутую дугой линию, чтобы с трех сторон окружить Пандиона.
Юноша оглянулся на преследователей, посмотрел вниз. “Здесь — смерть, там — рабство, — промелькнуло у него в голове. — Ты простишь меня, Тесса, если узнаешь…” Больше нельзя было медлить.
Каменная глыба, на краю которой стоял Пандион, висела над обрывом. На двадцать локтей ниже выдавался другой уступ. На нем росла низкая сосна.
На прощанье окинув взглядом любимое море, юноша прыгнул вниз, на густые ветви одиноко стоявшего дерева. Яростный крик врагов на секунду достиг его ушей. Пандион пролетел, ломая сучья и раздирая тело, до нижних толстых ветвей, миновал выступающее ребро утеса и упал на мягкую осыпь рыхлого склона. Юноша скатился еще на двадцать локтей ниже и задержался на выступе скалы, влажном от залетавшей сюда во время прибоя пены. Ошеломленный, еще не сознавая, что спасся, юноша приподнялся и встал на колени. Сверху преследователи старались попасть в него камнями и копьями. Море плескалось под ногами.
Корабль приблизился, словно моряки заинтересовались происходящим на берегу.
В голове Пандиона глухо шумело, он чувствовал сильную боль во всем теле, глаза заволокло слезами. Он смутно сознавал: когда его преследователи принесут луки, гибель будет неизбежной. Море манило его, близкий корабль казался посланным богами спасением. Пандион забыл, что судно могло быть чужеземным или принадлежать врагам, — ему казалось, что родное море не обманет.
Пандион встал на ноги и, убедившись, что руки действуют, прыгнул в море и поплыл к кораблю. Волны накрывали с головой, избитое тело плохо подчинялось его воле, раны мучительно жгло, в горле пересохло.
Судно приближалось к Пандиону, с него раздавались ободряющие крики. Послышался резкий скрип весел, корабль вырос над головой юноши, сильные руки подхватили Пандиона и подняли на палубу… Юноша безжизненно распростерся на теплых досках, погрузившись в беспамятство. Его привели в сознание, дали воды — он долго и жадно пил. Пандион почувствовал, что его оттащили в сторону и чем-то накрыли. Молодой скульптор погрузился в глубокий сон.
Горы Крита еле виднелись у горизонта. Пандион пошевелился и, невольно застонав, очнулся. Он находился на корабле, не похожем на суда его родины — низкобортные, с защищенными плетенкой из прутьев боками, с веслами, выведенными над трюмом. У этого корабля были высокие борта, гребцы сидели под палубными досками, по обе стороны прореза, расширявшегося в глубину трюма. Парус на мачте в центре судна был более высоким и узким, чем на эллинских кораблях.
Груды кож, наваленные на палубе, издавали тяжелый запах. Пандион лежал на треугольной площадке у острого носа судна. К юноше подошел бородатый горбоносый человек в толстой шерстяной одежде, протянул ему чашку теплой воды, смешанной с вином, и заговорил на незнакомом языке с резкими металлическими интонациями… Пандион покачал головой. Человек притронулся к его плечу и повелительным жестом указал на корму судна. Пандион обернул вокруг бедер смоченные кровью лохмотья и направился вдоль берега к навесу на корме.
Там сидел худой, такой же горбоносый, как и приведший Пандиона, человек. Он раздвинул в улыбке губы, обрамленные жесткой, выдающейся вперед бородой. Его сухое, обветренное и хищное лицо, казавшееся отлитым из бронзы, выражало жесткость.
Пандион сообразил, что попал на торговое судно финикийцев и видит перед собой начальника или хозяина корабля.
Первые два вопроса, заданные ему начальником, Пандион не понял. Тогда купец заговорил на ломаном ионическом наречии, знакомом Пандиону, примешивая к нему карийские и этрусские слова. Он спросил Пандиона о его приключении, узнал, откуда он родом, и, приблизив к нему горбоносное лицо с острыми немигающими глазами, сказал:
— Я видел, как ты бежал, — это поступок, достойный древнего героя. Мне нужны такие бесстрашные и сильные воины — в этих морях и на их берегах много разбойников, грабящих наших купцов. Если будешь служить мне верно, легка будет твоя жизнь и я вознагражу тебя.
Пандион отрицательно покачал головой и несвязно рассказал, что ему нужно скорее вернуться на родину, умоляя высадить его на ближайшем острове.
Глаза начальника зло заблестели.
— Мой корабль направляется прямо в Тир,[126] на пути моем одно море. Я царь на своем корабле, и ты в моей власти. Я могу приказать сейчас же покончить с тобой, если это понадобится. Ну, выбирай: или тут, — финикиец указал вниз, где под палубой мерно двигались весла и раздавался унылый напев гребцов, — ты будешь рабом, прикованным у весла, или получишь оружие и присоединишься вот к тем! — Палец купца повернулся назад и ткнул под навес: там лениво лежали пять здоровенных полунагих людей с тупыми и зверскими лицами. — Я жду, решай скорей!
Пандион беспомощно оглянулся кругом. Корабль быстро удалялся от Крита. Расстояние между Пандионом и его родиной все увеличивалось. Помощи ждать было неоткуда.
Пандион решил, что в роли воина ему легче будет бежать. Но финикиец, хорошо знавший обычаи эллинов, заставил его принести три страшные клятвы в верности.
Начальник смазал раны юноши целебным составом и отвел к группе воинов, поручив накормить.
— Только смотреть за ним хорошенько! — приказал он уходя. — Помните, что все вы отвечаете передо мной за каждого в отдельности!
Старший из воинов, одобрительно усмехаясь, потрепал по плечу Пандиона, пощупал мускулы и что-то сказал остальным. Те громко захохотали. Пандион недоуменно посмотрел на них; глубокая печаль сейчас отделяла его от всех людей.
До Тира оставалось не более двух дней плавания. За четыре дня, проведенные на корабле, Пандион несколько освоился со своим положением. Ушибы и раны, оказавшиеся неглубокими, зажили.
Начальник корабля, заметив ум и разнообразные знания Пандиона, был доволен юношей и несколько раз беседовал с ним. От него Пандион узнал, что едет древним морским путем, проложенным народом острова Крит в южную страну черных. Путь кораблей лежал мимо враждебного и могущественного Айгюптоса, вдоль берегов огромной пустыни до Ворот Туманов.[127]
За Воротами Туманов, где скалы юга и севера сближались, образуя узкий пролив, лежал предел земли — огромное Туманное море.[128] Здесь корабли поворачивали на юг и вскоре достигали берега жаркой страны черных, богатой слоновой костью, золотом, маслом и кожами. Именно этим путем шли дальние плавания экспедиции жителей острова Крит — Пандион видел изображение такого путешествия в роковой для него день. Морской народ достиг дальних стран юга на западе, куда не доходили посланцы из Айгюптоса.
Теперь корабли финикийцев плавают вдоль берегов юга и севера, добывая дешевые товары и сильных рабов, но редко заходят дальше Ворот Туманов.
Финикиец, догадываясь о незаурядных способностях Пандиона, хотел оставить его у себя. Он манил юношу прелестью путешествий, рисовал ему картины будущего возвышения, предрекал, что после десяти-пятнадцати лет хорошей службы эллин сам сможет стать купцом или начальником корабля.
Юноша слушал финикийца с интересом, но знал, что жизнь торговца не для него, что он родину, Тессу и свободную жизнь художника не променяет на богатство в чужой стране.
С каждым днем все нестерпимее становилось желание увидеться хотя бы на миг с Тессой, вновь услышать могучий шум священной сосновой рощи, где прошло столько счастливых часов. Юноша подолгу не засыпал, лежа рядом с храпящими спутниками, и с бьющимся сердцем сдерживал стон отчаяния.
Начальник корабля приказал ему учиться искусству кормчего. Томительно ползло время для Пандиона, когда он стоял у рулевого весла, соразмеряя направление корабля с движением солнца, или, следуя указаниям кормчего, ориентировался по звездам.
Так было и в эту ночь. Пандион опирался бедром о борт судна и, вцепившись в рукоятку руля, преодолевал сопротивление усиливающегося ветра. По другую сторону судна стоял кормчий с одним из воинов.[129] Звезды мелькали в просветах туч, надолго скрываясь в темноте хмурого неба, а унылый голос ветра, постепенно понижаясь, переходил в угрожающий гул.
Корабль бросало, весла глухо стучали, то и дело слышался пронзительный голос воина, подгонявшего рабов бранью и ударами плети.
Начальник, дремавший в глубине навеса, вышел на палубу. Он внимательно вглядывался в море и, явно встревоженный, подошел к кормчему. Они долго переговаривались. Начальник разбудил спавших воинов и, послав их к рулевым веслам, сам встал рядом с Пандионом.
Ветер резко повернул и яростно набросился на корабль, волны громоздились все выше, заливая палубу. Мачту пришлось убрать — положенная на кипы кож, она выдавалась над носом суда, глухо стуча о высокий волнорез.
Борьба с волнами и ветром становилась все отчаяннее. Начальник, бормоча про себя не то молитвы, не то проклятия, приказал повернуть корабль к югу. Подхваченное ветром, судно быстро понеслось в неведомую черную даль моря. За тяжелой работой у руля быстро прошла ночь. Светало. В сером сумраке стали яснее видны метавшиеся грозные волны. Буря не утихала. Ветер, не ослабевая, налетал, давил на корабль.
Тревожные крики огласили палубу — все находившиеся на ней указывали начальнику на правый борт судна. Там, в хмуром свете рождающегося дня, море пересекала огромная пенная полоса. Волны замедляли свой бешеный бег при подходе к этой голубовато-серой ленте.
Весь экипаж корабля обступил начальника, даже кормчий отдал руль воину. Тревожные выкрики сменились быстрой, горячей речью. Пандион заметил, что все внимание устремлено на него: в его сторону показывали пальцами, грозили кулаками. Ничего не понимая, Пандион следил за начальником, делавшим гневные, протестующие жесты. Старый кормчий, схватив хозяина за руку, что-то долго говорил, приблизив губы к его уху. Начальник отрицательно качал головой, выкрикивая отрывистые слова, но наконец, видимо, сдался. Мгновенно люди бросились на ошеломленного юношу, закручивая ему назад руки.
— Они говорят: ты принес нам несчастье, — сказал начальник Пандиону, презрительно обводя рукой стоявших вокруг. — Ты вестник бедствия, из-за твоего присутствия на судне случилось несчастье: корабль отнесен к берегам Та-Кем, по-вашему — Айгюптоса. Чтоб умилостивить богов, тебя надо убить и бросить за борт — этого требуют все мои люди, и я не могу защитить тебя.
Пандион, все еще не понимая, впился взглядом в финикийца.
— Ты не знаешь, что попасть на берег Та-Кем для нас всех смерть или рабство, — проворчал тот угрюмо. — В древние времена у Кемт была война с морскими народами. С тех пор тот, кто пристанет к берегам этой страны вне указанных для чужеземцев трех гаваней, подлежит плену или казни, а его имущество идет в казну царя Та-Кем… Ну, понял теперь? — оборвал он свою речь, отворачиваясь от Пандиона и вглядываясь в приближавшуюся пенную полосу.
Пандион понял: ему снова угрожает смерть. Готовый до последней минуты сражаться за жизнь, которую он так любил, он обвел беспомощным и ненавидящим взглядом озлобленную толпу на палубе.
Безвыходность положения заставила его решиться.
— Начальник! — воскликнул юноша. — Прикажи своим людям отпустить меня — я сам брошусь в море!
— Я так и думал, — сказал финикиец, обернувшись к нему. — Пусть учатся у тебя эти трусы!
Повинуясь повелительному жесту начальника, воины отпустили Пандиона. Ни на кого не глядя, юноша подошел к борту корабля. Все молча расступились перед ним, как перед умирающим. Пандион сосредоточенно глядел на пенную полосу, скрывавшую плоский берег, инстинктивно соразмеряя свои силы с быстротой злобных волн. В голове мелькали обрывки мыслей: “Страна за полосой пены[130] — пенная страна… Африка”.
Это и есть тот страшный Айгюптос!.. А он поклялся Тессе своей любовью, всеми богами даже не думать о пути сюда!.. Боги, что делает с ним судьба… Но он, наверно, погибнет, и это будет самое лучшее…
Пандион бросился вниз головой в шумящую пучину и сильными взмахами рук отплыл от корабля. Волны подхватили юношу. Словно наслаждаясь гибелью человека, они швыряли его вверх, опускали в глубокие провалы, наваливались на него, давили и топили, заполняя рот и нос водой, хлеща по глазам пеной и брызгами. Пандион больше ни о чем не думал — он отчаянно боролся за жизнь, за каждый глоток воздуха, неистово работая руками и ногами. Эллин, рожденный на море, был прекрасным пловцом.
Время шло, а волны все несли и несли Пандиона к берегу. На корабль он не оглядывался, забыв о его существовании перед неизбежностью смерти. Скачки валов стали реже. Волны катились медленнее, длинными грядами, поднимая и обваливая грохочущие навесы вспененных гребней. Каждая волна переносила юношу на сто локтей вперед. Иногда Пандион соскальзывал вниз, и тогда исполинская тяжесть воды обрушивалась на него, погружая в темную глубину, и сердце пловца готово было лопнуть от напряжения.
Несколько стадий проплыл Пандион, много времени шла борьба с волнами, и наконец силы его иссякли в объятьях водяных великанов. Угасла и воля к жизни, все тяжелее было напрягать ослабевшие мускулы, не стало желания продолжать борьбу. Рывками почти безвольных рук юноша поднялся на гребень волны и, повернув лицо к далекой родине, закричал:
— Тесса, Тесса!..
Имя любимой, дважды брошенное в лицо судьбе, в лицо чудовищной и равнодушной мощи моря, было сейчас же заглушено ревом бурных волн. Вал накрыл неподвижное тело Пандиона, с грохотом рассыпался над ним, и юноша, погружаясь, вдруг ударился о дно в вихре взбаламученных песчинок.
Два дозорных воина в коротких зеленых юбках — знак принадлежности к береговой страже Великого Зеленого моря, — опираясь на длинные тонкие копья, осматривали горизонт.
— Начальник Сенеб напрасно послал нас, — лениво проговорил один из них, постарше.
— Но корабль финикийцев был у самого берега, — возразил другой. — Если бы не прекратилась буря, получили бы легкую добычу — у самой крепости…
— Посмотри туда, — перебил его старший, показывая вдоль берега. — Пусть я останусь без погребения, если это не человек с корабля!
Оба воина долго всматривались в пятно на песке.
— Пойдем назад, — предложил наконец младший. — Мы и так много бродили по песку. Кому нужен труп презренного чужеземца вместо богатой добычи — товара и рабов, уплывших вместе с кораблем…
— Ты сказал, не подумав, — снова прервал его старший. — Иной раз эти купцы бывают богато одеты и носят на себе драгоценности. Золотой перстень не повредит тебе — зачем нам давать отчет Сенебу о каждом утопленнике…
Воины зашагали по плотной, утрамбованной бурей полосе влажного песка.
— Где ж твои драгоценности? — насмешливо спросил младший старшего. — Он совсем гол!
Старший угрюмо пробормотал проклятие.
Действительно, лежавший перед ним человек был совершенно обнажен, руки его были беспомощно подогнуты под туловище, короткие вьющиеся волосы забиты морским песком.
— Посмотри, это не финикиец! — воскликнул старший. — Какое могучее и красивое тело! Жаль, что он мертв, — был бы хороший раб, и Сенеб наградил бы нас.
— Какого он народа? — спросил младший.
— Я не знаю: может быть, это туруша,[131] или кефти,[132] или еще кто-нибудь из северных морских племен ханебу.[133] Они редко попадают в нашу благословенную страну и ценятся за выносливость, ум и силу. Три года назад… Постой, он жив! О, хвала Амону!
Легкая судорога прошла по телу лежавшего.
Воины, бросив копья, перевернули бесчувственного, принялись растирать ему живот, сгибать ноги. Их усилия увенчались успехом. Скоро утопленник — это был Пандион — открыл глаза и мучительно закашлялся.
Сильный организм юноши справился с тяжким испытанием. Не прошло и часа, как дозорные воины повели Пандиона, поддерживая под руки, в крепость.
Воины часто отдыхали, но еще до самых знойных часов дня молодой скульптор был доставлен в маленькое укрепление, стоявшее на одном из бесчисленных рукавов дельты Нила, западнее большого озера.
Воины дали Пандиону воды, несколько кусков лепешки, размоченных в пиве, и уложили на полу прохладного глинобитного сарая.
Страшное напряжение не прошло даром — острая боль резала грудь, сердце ослабело. Перед закрытыми глазами мелькали бесчисленные волны. В тяжелом забытьи Пандион слышал, как отворилась ветхая дверь, сбитая из кусков корабельной обшивки. Над Пандионом наклонился начальник укрепления — молодой человек с неприятным и болезненным лицом. Он осторожно снял плащ, наброшенный на ноги юноши, и долго осматривал своего пленника. Пандион не мог подозревать, что решение, созревшее в уме начальника, приведет к новым неслыханным испытаниям.
Начальник накрыл Пандиона и, довольный, вышел.
— Каждому по два кольца меди и кувшину пива, — отрывисто сказал он.
Воины береговой охраны приниженно склонились перед ним, а затем вонзились в его спину озлобленными взглядами.
— Мощная Сохмет, что мы получили за такого раба!.. — прошептал младший, едва начальник удалился от них. — Вот увидишь, он пошлет его в город и получит не меньше десяти колец золота…
Начальник внезапно обернулся.
— Эй, Сенни! — крикнул он.
Старший воин угодливо подбежал.
— Смотри за ним хорошенько, я поручаю его тебе. Скажи моему повару, чтобы он дал хорошую пищу, но будь осторожен — пленник выглядит могучим бойцом. Завтра приготовишь легкую лодку — я пошлю пленника в дар Великому Дому. Мы напоим его пивом со снотворным снадобьем, чтобы избежать возни.
…Пандион медленно поднял отяжелевшие веки. Он спал так долго, что потерял всякое представление о времени, о том, где он находится. Смутно, обрывками он вспоминал, что после ожесточенной борьбы с бушующим морем он был куда-то отведен, где-то лежал в тишине и темноте. Юноша пошевелился и почувствовал скованность во всем теле. Он с трудом повернул голову и увидел зеленую стену тростника со звездчатыми метелками наверху. Над головой было прозрачное небо, близко, у самого уха, слабо журчала и плескалась вода. Постепенно Пандион сообразил, что лежит в узкой и длинной лодке, связанный по рукам и ногам. Приподняв голову, юноша увидел голые ноги людей, толкавших лодку шестами. Люди были хорошо сложены, с темной бронзовой кожей, одетые в белые набедренные повязки.
— Кто вы такие? Куда вы везете меня? — закричал Пандион, стараясь рассмотреть людей, стоявших на корме.
Один, с гладко выбритым лицом, склонился над Пандионом и быстро заговорил. Странный язык с мелодичным прищелкиваньем и четкими ударениями гласных был совершенно незнаком юноше. Пандион напрягся, пытаясь разорвать свои путы, и беспрестанно повторял тот же вопрос. Скоро несчастному пленнику стало ясно, что его не понимают и не могут понять. Пандиону удалось раскачать зыбкую лодку, но один из охраны поднес острие бронзового кинжала к его глазу. С отвращением к людям, к себе и всему миру Пандион оставил попытки к сопротивлению и более не возобновлял их в течение всего долгого пути по лабиринту болотных зарослей. Давно уже закатилось солнце, луна высоко поднялась на небе, когда лодка подплыла к широкой каменной пристани.
Пандиону освободили ноги, умело и быстро растерли их, чтобы восстановить кровообращение. Воины зажгли два факела и направились к высокой глинобитной стене с тяжелой дверью, окованной медными полосами.
После продолжительных пререканий со стражей люди, привезшие Пандиона, отдали появившемуся откуда-то заспанному бородатому человеку маленький сверток и получили в обмен кусочек черной кожи.
Завизжала в петлях тяжелая дверь. Пандиону развязали руки, втолкнули внутрь тюрьмы. Вооруженные копьями и луками стражи задвинули тяжелый брус. Пандион очутился в тесной квадратной комнате, набитой человеческими телами, лежавшими вповалку. Люди тяжело дышали и стонали в беспокойном сне. Задыхаясь от вони, казалось исходившей от самих стен, Пандион отыскал себе свободное место на полу и осторожно присел. Юноша не мог спать. Он раздумывал над событиями последних дней, и на сердце у него было тяжело. Медленно шли бессонные часы одинокого ночного раздумья.
Пандион думал только о свободе, но не находил путей к спасению из плена. Он попал в глубь совершенно неизвестной страны. Одинокий, безоружный пленник, не знающий языка окружающего враждебного ему народа, он ничего не мог предпринять. Пандион понимал, что его не собираются убивать, и решил ждать. Потом, когда он хоть немного узнает страну… но что ждет его в этом “потом”? Пандион чувствовал, как никогда, острую тоску по товарищу, который помог бы ему преодолеть страшное одиночество. Он думал о том, что для человека нет худшего состояния, чем быть одному среди чужих и враждебных людей, в непонятной и неизвестной стране — рабом, отделенным от всего непроницаемой стеной своего положения. Одиночество среди природы переносить гораздо легче: оно закаляет душу, а не принижает ее.
Эллин покорился судьбе и впал в странное оцепенение. Он дождался рассвета, равнодушно разглядывая своих товарищей по несчастью: пленников, принадлежавших к разным и неведомым молодому скульптору азиатским племенам. Они были счастливее его — могли переговариваться друг с другом, делиться горем, вспоминать прошлое, обсуждать сообща будущее. На молчавшего Пандиона были устремлены любопытные взгляды заключенных. Все беззастенчиво рассматривали его, а он стоял в стороне, нагой и страдающий.
Стражи бросили Пандиону кусок грубого холста для набедренной повязки, потом четверо чернокожих людей внесли большой глиняный сосуд с водой, ячменные лепешки и стебли какой-то зелени.
Пандион был поражен видом совершенно черных лиц, на которых ярко выделялись зубы, белки глаз и коричнево-красные губы. Юноша догадался, что это были рабы, и его удивили их веселые и добродушные лица. Чернокожие смеялись, показывая белоснежные зубы, подшучивали над пленниками и друг над другом. Неужели пройдет время, и он будет способен чему-то радоваться, забыв о жалкой роли человека, потерявшего свободу? Неужели пройдет эта грызущая его непрестанно тоска? А Тесса? Боги, если бы знала Тесса, где находится он сейчас!.. Нет, пусть лучше не знает: он вернется к ней или умрет — другого выхода нет…
Мысли Пандиона прервал протяжный окрик. Дверь раскрылась. Перед Пандионом засверкала широкая река. Место заключения было совсем близко от берега. Большой отряд воинов окружил пленников щетиной копий. Скоро все были загнаны в трюм большого судна. Корабль поплыл вверх по реке, и заключенные не успели осмотреться кругом. В трюме стояла жара. В воздухе, наполненном тяжелыми испарениями, под накаленной палубой, было трудно дышать.
Вечером стало прохладнее, и изнуренные пленники начали оживать — вновь послышались разговоры. Судно продолжало свой путь всю ночь, утром ненадолго остановилось — пленникам принесли еду, и утомительное путешествие продолжалось. Так прошло несколько дней — их не считал отупевший, безучастный Пандион.
Наконец голоса гребцов и воинов зазвучали оживленнее, на палубе началась суматоха — путь был окончен. Пленников оставили в трюме на всю ночь, и рано утром Пандион услышал протяжные окрики команды.
На пыльной, выжженной солнцем площадке полукольцом выстроилась охрана, выставив вперед копья. Пленники выходили по одному и мгновенно попадали в руки двум громадного роста воинам, у ног которых лежала груда веревок. Египтяне выкручивали пленникам руки так сильно, что плечи у людей выгибались и локти за спиной сходились вместе. Стоны и крики нисколько не трогали гигантов, наслаждавшихся своей силой и беззащитностью жертв.
Наступила очередь Пандиона. Один из воинов схватил его за руку, едва только юноша, ослепленный дневным светом, ступил на землю. От боли оцепенение, овладевшее Пандионом, прошло. Обученный приемам кулачного боя, юноша легко вывернулся из рук воина и нанес ему оглушительный удар в ухо. Гигант упал лицом в пыль, к ногам Пандиона, второй воин в растерянности отскочил в сторону.
Пандион оказался окруженным тридцатью врагами с устремленными на него копьями.
В неистовой ярости юноша прыгнул вперед, желая погибнуть в бою — смерть казалась для него избавлением… Но он не знал египтян, накопивших тысячелетний опыт усмирения рабов. Воины мгновенно расступились и бросились сзади на Пандиона, выскочившего за круг. Молодой храбрец был сбит с ног и задавлен телами врагов. Тупой конец копья сильно ударил его между ребер в нижнюю часть груди. Огненно-красный туман поплыл перед глазами юноши, дыхание его прервалось. В это мгновение египтянин свел закинутые над головой руки Пандиона вместе и соединил их в запястьях деревянным, похожим на игрушечную лодку предметом.
Тотчас же воины оставили юношу в покое.
Пленников быстро связали и погнали по узкой дороге между берегом реки и полями. Молодой скульптор испытывал страшную боль: руки, поднятые вверх над головой, были защемлены в деревянную колодку с двумя острыми углами, сдавливавшими кости запястий. Это приспособление не давало возможности согнуть руки в локтях и опустить их на голову.
С боковой дорожки к группе Пандиона присоединилась вторая партия пленных, затем третья, — число рабов возросло до двухсот человек.
Все они были связаны самым безжалостным способом; у некоторых руки были в таких же колодках. Лица пленников были искажены от боли, бледны и покрыты потом. Юноша шел как в тумане, едва замечая окружающее.
А вокруг расстилалась богатая страна. Воздух был необыкновенно свеж и чист, на узких дорогах царствовала тишина, огромная река медленно катила воды к Великому Зеленому морю. Пальмы едва заметно качали верхушками под легким северным ветром, зреющие зеленые поля невысокой пшеницы чередовались с виноградниками и фруктовыми садами.
Вся страна была огромным садом, возделанным в течение тысячелетий.
Пандион не мог смотреть по сторонам. Он брел, стиснув зубы от боли, мимо высоких стен, окружавших дома богачей. Это были легкие и воздушные строения, в два этажа, с узкими и высокими окнами над дверными нишами, обрамленными деревянными колоннами. Белоснежные стены, расписанные сложным узором ярких и чистых красок, выступали необыкновенно четко в ослепительном солнечном свете.
Внезапно перед пленниками возникло исполинское каменное строение с прямыми срезами невиданно толстых стен из больших глыб камня, притесанных с поражающей правильностью. Темное и таинственное здание, казалось, оседало на землю и, распростершись, придавливало ее своей чудовищной тяжестью. Пандион прошел вдоль ряда толстых колонн, угрюмо серевших на фоне яркой зелени сада, раскинувшегося на равнине. Пальмы, смоковницы и другие фруктовые деревья чередовались, образуя прямые линии, казавшиеся бесконечными. Холмы были покрыты густой зеленью виноградников.
В саду у реки стояло высокое и легкое строение, расписанное такими же яркими красками, как и другие дома в этом городе. У фасада, обращенного к реке, за широкими воротами возвышались высокие, как мачты, столбы с пучками развевающихся лент. Над широким входом располагался огромный снежно-белый балкон, обрамленный двумя колоннами и прикрытый плоской крышей. По карнизу крыши шла цветистая роспись — узор из чередования ярко-синей и золотой краски. Ярко-синие и золотые зигзаги украшали верхнюю часть белых колонн.
В глубине балкона, затененной коврами и шторами, виднелись люди в снежно-белых длинных одеждах из мелко плиссированной легкой материи. Сидевший в центре человек наклонил над перилами балкона голову, отягченную высоким красно-белым убором.[134]
Стража, сопровождавшая пленников, и важно выступавший впереди начальник мгновенно распростерлись ниц. По мановению руки фараона — это и был живой бог, верховный владыка страны Кемт — пленников построили гуськом и медленно начали проводить перед балконом. Толпившиеся придворные вполголоса обменивались замечаниями и весело смеялись. Красота дворца, роскошь одежд фараона и его приближенных, их свободные надменные позы так резко оттенялись искаженными лицами измученных пленников, что в душе Пандиона поднялось неистовое возмущение. Он почти не помнил себя от боли в руках, тело его дрожало, как в ознобе, закушенные губы пересохли и запеклись, но юноша выпрямился, глубоко вздохнул — и обратил к балкону гневное лицо.
Фараон что-то сказал, обратившись к придворным, и все одобрительно закивали головами. Вереница пленников медленно двигалась. Скоро Пандион очутился за домом, в тени высокой стены. Постепенно здесь собралась вся толпа пленников, по-прежнему окруженная безмолвными воинами. Из-за угла показался тучный горбоносый человек с длинным посохом из отделанного золотом черного дерева в сопровождении писца с дощечкой и свертком папируса в руках.
Человек сказал несколько надменных слов начальнику стражи, тот согнулся в низком поклоне и передал распоряжение воинам. Повинуясь движению пальца вельможи, воины грубо расталкивали толпу и отводили в сторону тех, на кого показывал сановник. Пандион был замечен одним из первых. Всего было отобрано человек тридцать, наиболее сильных и мужественных с виду. Их немедленно повели обратно по той же дороге до окраины сада. Затем воины погнали пленных вдоль низкой стены. Тропинка становилась все круче и привела к огромному квадрату глухих стен, стоявшему в лощине, между пшеничными полями. По толстым стенам из кирпича-сырца в десять локтей высоты расхаживали вооруженные луками воины. На углах возвышались навесы из циновок.
В стене, обращенной к реке, был прорезан вход; больше нигде не было видно ни двери, ни окон — слепая зелено-серая поверхность стен дышала жаром.
Пленных ввели в дверь, сопровождавшие их воины быстро удалились, и Пандион оказался в узком дворике между двух стен. Вторая, внутренняя стена была ниже наружной, с единственной дверью в правой стороне. На свободном пространстве стояли грубые скамейки, а часть двора была занята низким строением с черневшим отверстием у входа. Группу пленников теперь окружали воины с более светлым цветом кожи, чем у тех, которые привели их сюда. Они все были высокого роста, с гибким и хорошо развитым телом, многие с синими глазами и рыжеватыми волосами. Пандион не видел раньше такого народа, равно как и чистокровных жителей Айгюптоса, и не знал, что это были ливийцы.
Из пристройки появилось двое людей; один нес какой-то предмет из отполированного дерева, другой — серый фаянсовый сосуд. Ливийцы схватили Пандиона и повернули его спиной к пришедшим. Юноша почувствовал легкий укол — к левой лопатке его приложили полированную дощечку, усаженную короткими заостренными пластинками. Затем человек резко ударил рукой по дощечке — брызнула кровь, и Пандион невольно вскрикнул. Тогда ливиец обтер кровь и стал растирать рану тряпкой, намоченной жидкостью из фаянсового сосуда; кровь быстро остановилась, но человек несколько раз обмакивал тряпку и протирал рану. Только сейчас Пандион заметил на левых лопатках окружавших его ливийцев ярко-красный знак — какие-то фигурки в овальной рамке[135] — и понял, что его заклеймили.
Колодку сняли с рук Пандиона, и он не мог сдержать стонов от страшной боли в затвердевших суставах. С величайшим трудом ему удалось развести руки. Затем Пандион, нагнувшись, прошел через низкую дверь во внутренней стене. Очутившись на пыльном дворе, юноша без сил опустился на землю.
Отлежавшись, Пандион напился мутной воды из огромного глиняного сосуда, стоявшего у входа, и стал осматривать место, которое, по мнению владычествовавших здесь людей, навсегда стало его домом.
Большой квадрат земли, примерно по две стадии с каждой стороны, был заключен в высокие, неприступные стены, охранявшиеся ходившей поверху стражей. Всю правую половину огороженной площади занимали крошечные глинобитные клетушки, сомкнутые друг с другом боковыми стенами и разделенные узкими продольными проходами. Такие же низенькие домики находились в левом углу. Передний левый угол отгораживался низкой стеной, оттуда шел острый аммиачный запах. Близ двери стояли сосуды с водой. Здесь же длинный участок почвы был намазан глиной и чисто выметен. Это было место для еды, как узнал впоследствии Пандион.
Вся свободная часть квадрата была выглажена и вытоптана — ни одной травинки не зеленело на ее серой и пыльной поверхности. В воздухе царила духота — жаркий день, казалось, осаждал весь свой зной в квадратное углубление, замкнутое высокими стенами и открытое сверху. Таков оказался шене — рабочий дом, один из многих сотен ему подобных, разбросанных по стране Та-Кем. Здесь томились разноплеменные рабы — рабочая сила, основа богатства и красоты Айгюптоса. Шене стоял пуст и тих — рабы были выведены на работу; только несколько больных безучастно лежали в тени стены. Этот рабочий дом предназначался для вновь поступивших пленников, недавно попавших в страну рабства и еще не обзаведшихся семьями, чтобы умножить число рабочих рук Черной Земли.
Теперь Пандион стал мере — наследственным рабом фараона, — попал в число тех восьми тысяч человек, которые обслуживали сады, каналы и строения дворцовых хозяйств.
Другие пленники, проходившие вместе с Пандионом царский осмотр и оставленные у стены дворца, были распределены между сановниками в качестве саху — рабов, находящихся в их пожизненном владении и со смертью владельца переходивших в шене фараона.
В душном воздухе стояло гнетущее молчание, изредка нарушаемое тяжелыми вздохами и стонами пригнанных вместе с Пандионом новых рабов. Клеймо раскаленным углем горело на спине Пандиона. Юноша не мог найти себе места. Вместо просторов моря, тенистых рощ на омываемых вечно плещущими волнами берегах родины — клочок пыльной земли, стиснутой стенами. Вместо свободной жизни с любимой — рабство в чужой стране, в бесконечной дали от всего родного и близкого.
Только надежда на освобождение удерживала юношу от желания разбить голову о стену, заслонившую от него широкий и прекрасный мир.
Глава третья РАБ ФАРАОНА
Как и год назад, цвели кустарники, расстилались пламеневшие ковры по склонам холмов. На берегах Энниады опять наступила весна. Стало рано закатываться сверкающее созвездие Стрелы,[136] а ровное дуновение западного ветра возвестило начало плаваний. В Калидонскую гавань вернулись обратно пять кораблей, отплывших на Крит с началом весны, и прибыли два критских корабля. А Пандиона все не было.
Агенор часто впадал в задумчивое молчание, стараясь скрыть тревогу от домашних.
Одинокий путешественник затерялся на Крите, исчез где-то в горах огромного острова, среди разноязычных племен и множества больших селений.
Художник решил поехать в Калидонскую гавань и оттуда, если представится возможность, отправиться на Крит, чтобы разузнать хоть что-нибудь о судьбе Пандиона.
Тесса теперь часто уединялась. Даже немое сочувствие родных тяготило ее.
В глубокой печали девушка стояла перед равнодушным и вечно подвижным морем. Иногда она прибегала сюда, надеясь, что Пандион обязательно вернется на то же самое место, где они расстались.
Но давно уже прошли эти дни надежды. Теперь Тесса знала, что там, за чертой, разделившей небо и море, произошло несчастье. Только плен или смерть могли помешать Пандиону вернуться к ней.
И Тесса молила волны, бежавшие издалека, может быть оттуда, где сейчас находился любимый, сказать ей, что случилось. И тогда ей казалось: еще немного — и волны действительно дадут ей знак, по которому она поймет, где Пандион.
Но море мерно бросало к ее ногам похожие один на другой всплески, и их шум был равносилен молчанию. Облака плыли в высоте, не замечая внизу Тессу, маленькую, ничтожную, беспомощную.
Девушка поникла черной головкой, словно надломившись от тяжести дум.
Как узнать, что с любимым? Как преодолеть разделившее их пространство ей, женщине, чья доля в жизни быть при мужчине хозяйкой и охранительницей его дома, спутницей в пути, целительницей при поражениях? А для той, которая посмеет выйти из повиновения мужчине — будь то отец, муж или брат, — для той одна дорога — быть гетерой в городе или порту. Она — женщина, значит, не может отправиться в другие страны, не может даже попытаться разыскать Пандиона.
Ей остается беспомощно метаться по берегу огромного моря. Ничего нельзя сделать! Ничем нельзя помочь!
Если даже Пандион погиб, она никогда, никогда не узнает о месте его гибели, никто не передаст ей его последние слова, его думы.
Девушка распростерлась на песке, вздрагивая от рыданий и не замечая заката, розоватым пятном выделившего ее хитон на сером сумеречном берегу. Когда Тессу окружила темнота, ей показалось, что прохладное прикосновение ночи одело ее черным покрывалом, укрыв от беспредельного и враждебного мира. Во тьме даже пространство, отделявшее девушку от любимого, не казалось таким большим, и заплаканные глаза Тессы невольно поднялись к небу.
Южная часть неба приближалась, как выдвинутая издали пепельная гора. Это полная луна рассеивала свои лучи.
Ее сияющий круг был серебряным зеркалом, собравшим в себе весь свет уснувшей земли. Зеркалом, отражающим все мечты и надежды людей, в тоске обращенные к небу, как сейчас у нее, Тессы. Девушка верила, что луна превращает все это в печальный негреющий свет, волшебным образом успокаивающий смятенные души…
Чары Гекаты успокоили девушку, но не погасили страстного зова, вновь посланного ею вдаль. Впиваясь в яркий диск остановившимися глазами, Тесса думала, что, может быть, Пандион в этот мог тоже смотрит на него из темной безвестности. Тогда ее любовь, ее призыв отразятся от зеркала Гекаты, дойдут до любимого, помогут ему, передадут весть о его Тессе!
Тесса не двигалась, подняв вверх озаренное луной лицо в несбыточной, невозможной надежде, и вдруг необъяснимая уверенность, что Пандион жив, наполнила ее душу радостным трепетом…
То же сияющее зеркало, пожалуй, светившее еще ярче, повисло над огромной рекой в стране, где не знали богини Гекаты, а называли луну чуждым именем “аб”.
Голубовато-серебряный поток лунного света заполнил всю долину. Огражденный вертикальными черными тенями в глубоких рытвинах крутых обрывов, он струился над рекой, по ее течению — с юга на север.
Темнота заполняла квадратный колодец рабочего дома близ великой столицы Айгюптоса — Нут-Амон, или Уасет.
Стена была ярко освещена и отбрасывала от своей шероховатой поверхности мутный слабый отблеск.
Пандион без сна лежал на охапке жесткой травы, брошенной на пол тесной клетушки. Он осторожно высунул голову из низкого, как нора, входа. Рискуя привлечь внимание стражей, юноша встал на колени и любовался лунным диском, всплывшим в небе высоко над краем мрачной стены. Ему стало больно от мысли, что эта же луна светит сейчас в далекой Энниаде. Может быть, Тесса, его Тесса, сейчас спрашивает Гекату, где он, не подозревая, что его глаза устремлены из гнусной ямы на серебряный диск. Пандион спрятал голову в темноту, наполненную пыльным запахом разогретой глины, и отвернулся к стене.
Уже давно прошло буйное отчаяние первых дней, бешеные приступы страшной тоски. Пандион сильно изменился. Его густые четкие брови были постоянно сдвинуты, золотистые глаза потомка Гипериона потемнели от гневного огня, затаенно и упорно поблескивавшего в них, губы всегда оставались плотно сжатыми.
Но могучее тело по-прежнему было наполнено неистощимой энергией, ум не притупился. Юноша не пал духом, он по-прежнему мечтал о свободе.
Молодой скульптор постепенно превращался в бойца, страшного не только своей храбростью или силой, но и бесконечным упорством, желанием сохранить свою душу в окружавшем аду, пронести через все испытания свои мечты, стремления и любовь. То, что было абсолютно невозможно ему, одинокому, не знавшему языка и страны, — противопоставить себя веками созданному гнету огромного государства, — теперь становилось реальным: у Пандиона были товарищи. Товарищ! Только тот может понять все значение этого слова, кому приходилось одиноко стоять перед грозной, превосходящей силой, кому приходилось быть одному вдали от родины, в чужой стране. Товарищ! Это значит и дружеская помощь, и понимание, и защита, общие мысли и мечты, добрый совет, полезное порицание, поддержка, утешение. За семь месяцев, проведенных на работах вокруг столицы, Пандион познакомился со странным языком Айгюптоса и научился хорошо понимать своих разноплеменных сожителей.
В толпе пятисот рабов, заключенных в шене и ежедневно выгоняемых на работу, юноша начал различать все больше людей с определенной и сильной индивидуальностью.
И рабы, постепенно доверяясь друг другу, понемногу сблизились и с Пандионом.
Люди объединились на почве общих тяжелых лишений, общего стремления к свободе: добиться освобождения, нанести удар слепой, угнетающей силе государства Черной Земли и вернуться к потерянной родине. Родина — это было понятно всем, хотя у одних она находилась за таинственными болотами юга, у других — за песками востока или запада, у третьих, как и у Пандиона, — за морем на севере.
Но в шене лишь немногие нашли в себе силы для подготовки к борьбе. Другие, изнуренные непосильной работой, постоянным недоеданием, безропотно и медленно угасали. Это были главным образом пожилые люди. Они не интересовались окружающим. В их потухших глазах не светилось решительности, у них уже не было желания тайно общаться с товарищами. Они работали, медленно ели, спали тяжелым сном, чтобы наутро, вздрогнув от окрика надсмотрщика, опять вяло и безразлично шагать в колонне.
Пандион понял, почему в рабочем доме было так много отдельных клетушек: они разъединяли людей. После ужина было запрещено общаться между собою; стража со стен зорко следила за выполнением этого приказа — стрела или палка наутро наказывали ослушников. Не у всех людей хватало сил и смелости, пользуясь темнотой, неслышно переползать в клетушки других. Это делали только немногие.
Самыми близкими друзьями Пандиона стали три человека.
Первый из них было Кидого — огромный негр, ростом почти в четыре локтя, происходивший из очень далеких мест Африки, на юго-запад от Айгюптоса. Добрый, веселый и восторженный Кидого был тоже искусным художником и скульптором. Его выразительное лицо с широким носом и толстыми губами сразу привлекло Пандиона умом и энергией.
Пандион привык к тому, что негры хорошо сложены, но этот гигант сразу привлек внимание скульптора своим пропорциональным и красивым телом. Впечатление необычайной мощи от крупных, будто кованных из железа мускулов как-то сочеталось с легкостью и гибкостью высокой фигуры Кидого. Огромные глаза под выпуклым высоким лбом были полны внимания и поражали своей живостью.
Вначале Пандион и Кидого понимали друг друга при помощи рисунков, наспех сделанных на земле или на стене заостренной палочкой. Потом молодой эллин стал хорошо объясняться с негром на смеси слов языка Кемт и легкого, быстро запоминающегося языка Кидого.
В безлунные ночи, в угольно-черной тьме, заполняющей шене, Пандион и Кидого переползали один к другому и, шепотом беседуя, черпали новые силы и мужество в обсуждении планов побега.
Спустя месяц после того дня, как Пандион впервые переступил порог шене, в рабочий дом к вечеру пригнали еще несколько новых рабов.
Новички сидели и лежали около входа, беспомощно озираясь, с хорошо знакомой каждому пленнику печатью подавленности и горя на измученных лицах. Пандион, только что вернувшийся с работы, подошел к одному из высоких сосудов, чтобы набрать воды, но внезапно едва не выронил своей глиняной чашки. Двое из прибывших негромко говорили на знакомом Пандиону языке этрусков. Этруски — этот таинственный, суровый древний народ — часто появлялись на берегах Энниады и пользовались славой колдунов, знающих тайны природы.
Весь задрожав под властью воспоминаний о родине, Пандион заговорил с этрусками, и они поняли его.
На вопрос Пандиона о том, как они попали сюда, оба пленника угрюмо отмалчивались и, казалось, совсем не обрадовались встрече.
Оба этруска были людьми среднего роста, очень мускулистыми, широкоплечими. Темные волосы пленников свалялись от грязи и свисали неровными космами на обе стороны лица. Старшему из них на вид было около сорока лет, другой, по-видимому, приходился ровесником Пандиону.
Сразу бросалось в глаза их сходство — запавшие щеки подчеркивали массивные скулы, строгие карие глаза поблескивали неподкупным упорством.
Озадаченный равнодушием этрусков, Пандион почувствовал обиду и поспешил уйти в свою клетушку. Несколько дней Пандион намеренно старался не обращать внимания на новых пленников, хотя и заметил, что этруски наблюдают за ним.
Дней через десять после прибытия этрусков Пандион и Кидого сидели рядом за ужином из стеблей папируса. Оба друга быстро съели свои порции, и, как всегда, оставалось немного времени, чтобы поговорить, пока остальные насытятся. Соседом Пандиона с другой стороны оказался старший этруск. Неожиданно он положил юноше на плечо тяжелую руку и насмешливо посмотрел прямо в глаза Пандиону, когда тот обернулся.
— Плохой товарищ освобождения не получит, — медленно, с оттенком вызова произнес этруск, нисколько не опасаясь, что его поймут стражи: жители страны Та-Кем не знали языков своих пленников, презирая чужеземцев.
Пандион нетерпеливо тряхнул плечом, не поняв сказанного, но этруск крепко сжал пальцы, впившиеся, как медные когти, в мышцы юноши.
— Ты презираешь их напрасно… — Этруск кивнул в сторону остальных рабов, поглощенных едой. — Другие тебя не хуже и также видят сны о свободе…
— Нет, хуже! — заносчиво перебил Пандион. — Они уже давно здесь, а я не слыхал о побегах!
Этруск презрительно сжал губы:
— Если у молодости не хватает разума, она должна учиться у старших. Ты силен и здоров, как молодой конь, в твоем теле остается еще мощь после дня тяжелых работ, недостаточная пища еще не подкосила тебя. А у них не хватает уже сил — только в этом твое отличие и твое счастье. Но помни, что бежать в одиночку отсюда нельзя: мы должны узнать дорогу и пробиваться силой, а сила у нас одна — всем вместе. Когда ты станешь товарищем для всех, тогда твои мечты приблизятся к жизни…
Пораженный проницательностью этруска, угадавшего его тайные мысли, Пандион не нашелся, что ответить, и молча опустил голову.
— Что он говорит, что говорит? — допытывался Кидого.
Пандион хотел пояснить, но надсмотрщик застучал по столу; рабы, кончившие ужин, уступили место другой партии и разошлись на отдых.
Ночью Пандион и Кидого долго обсуждали слова этруска. Им пришлось признать, что вновь прибывший лучше всех понимал положение рабов. В самом деле, для успеха бегства им, носящим клеймо фараона, нужно было точно знать пути выхода из этой страны. Мало того: нужно было пробиться сквозь враждебное население, считавшее, что доля “диких” людей заключается в работе на избранный богами народ.
Уныние овладело обоими друзьями, но они почувствовали доверие к умному этруску.
Прошло еще немного дней, и в шене фараона стало четверо друзей. Они постепенно приобретали все больший авторитет среди остальных рабов.
На старшего этруска, носившего грозное имя Кави — бога смерти, скоро многие стали смотреть как на вождя. Трое других — второй этруск, по имени Ремд, Кидого и Пандион, — сильные, выносливые и смелые молодые люди, сделались его верными помощниками.
Среди пятисот рабов находилось все больше борцов, готовых отдать жизнь за ничтожную возможность вернуться на далекую родину. Так же медленно в остальных, запуганных, измученных и забитых, возродилась уверенность в своей силе, окрепла надежда, что, объединившись, они смогут противостоять организованной мощи громадного государства.
А дни все шли — пустые и бесцельные, горькие дни плена, наполненные тяжелой работой, ненавистной уже потому, что она способствовала процветанию жестоких властителей жизней тысяч рабов. Ежедневно с восходом солнца отряды изможденных людей под охраной воинов покидали шене и расходились на различные работы.
Жители Айгюптоса, презирая чужие народы, не давали себе труда изучать языки своих пленников. Поэтому новые рабы использовались сначала на самых простых работах; позже, освоив язык Кемт, они могли понимать сложные распоряжения, обучались ремеслам. До имен пленников надсмотрщикам не было никакого дела, любой раб носил кличку по названию своего народа. Так, Пандион назывался экуеша,[137] этруски — туруша, Кидого и другие чернокожие должны были откликаться на кличку “нехси” — негр.
Первые два месяца пребывания в шене Пандион и сорок новых рабов поправляли оросительные каналы в садах Амона,[138] насыпали размытые прошлогодним наводнением плотины, разрыхляли землю вокруг фруктовых деревьев, качали и носили воду на клумбы с цветами.
Постепенно надсмотрщики, заметив выносливость, силу и сметливость новоприбывших, составили новый отряд и направили его на строительные работы. Случилось так, что все четыре друга и еще тридцать сильных рабов — вожаки всей массы пленников шене — оказались вместе. С переводом на строительные работы их постоянная связь с оставшимися прервалась — отряд Пандиона по неделям ночевал в других шене.
Первой работой Пандиона вдали от садов фараона была разборка древнего храма и гробницы на западной стороне реки, в полусотне стадий от шене. Во главе с надсмотрщиком и пятью воинами пленники переправились на барке через реку. Их погнали на север вдоль реки, к высоким кручам отвесных скал, образовавших здесь огромный выступ. Тропинка, миновав возделанные поля, перешла в мощеную дорогу; внезапно перед Пандионом развернулась картина, навсегда запечатлевшаяся в его памяти. Рабов остановили на широкой площади, спускавшейся к реке. Надсмотрщик ушел, приказав ожидать его здесь.
Впервые у Пандиона была возможность не торопясь оглядеться, присмотреться к окружающему.
Прямо перед ним на триста локтей в вышину поднималась отвесная скалистая стена цвета красной меди, испещренная пятнами сине-черных теней. У подножия этих утесов раскинулась тремя широкими уступами белая колоннада храма. От прибрежной равнины поднималась полоса гладкого серого камня, обрамленная двумя рядами странных скульптур — чудовищ в виде спокойно лежащих львов с человеческими головами.[139] Дальше широкая белая лестница с боковыми скатами, на которых были высечены извивающиеся желтые змеи по одной с каждой стороны, вела ко второму уступу, подпертому низкими, в два человеческих роста, колоннами из ослепительно белого известняка. В центральной части храма виднелся второй ряд таких же колонн. На каждой из них было изображение человеческой фигуры в царской короне, со скрещенными на груди руками.
Колоннада обрамляла второй уступ храма в виде большой площадки с аллеей из лежащих чудовищ. На тридцать локтей выше расположилась самая верхняя терраса, сплошь обнесенная колоннадой и углублявшаяся в полукруглую естественную выемку скал.
Нижний уступ колоннады разбегался в ширину стадии на полторы; по краям шли простые цилиндрические колонны, в центре — квадратные, выше — шести — и шестнадцатигранные. Центральные колонны и верхушки боковых, карнизы портиков, а также человеческие фигуры были покрыты ярко-синей и красной росписью, от которой снежная белизна камня казалась еще ослепительнее.
Этот храм, ярко освещенный солнцем, резко отличался от мрачных, давящих храмовых зданий, виденных Пандионом раньше. Молодому эллину казалось, что ничего прекраснее в мире нельзя себе представить — так радостны были эти ряды снежно-белых колонн в рамке цветных узоров. А на широких террасах росли никогда не виденные Пандионом деревья — низкорослые, с плотной массой ветвей, обильно усеянных мелкими, тесно прилегающими друг к другу листьями. Эти деревья испускали сильный, тяжелый аромат; их золотисто-зеленая листва празднично выделялась на белизне колоннады, оттененной красными скалами.
Кидого в буйном восхищении толкал Пандиона в бок, прищелкивая губами, и издавал неопределенные звуки восторга.
Никто из рабов не знал, что храм, находившийся перед ними, был построен уже давно — около пятисот лет тому назад зодчим Сенмутом для своей возлюбленной царицы Хатшепсут[140] и назывался Зешер-Зешеру[141] — “величественнейший из величественных”. Необыкновенные деревья, росшие на территории храма, были вывезены из далекого Пунта, куда царица Хатшепсут отправила большую морскую экспедицию. С тех пор с каждым новым походом в Пунт вошло в обычай привозить деревья для храма и возобновлять древние насаждения, как будто сохранившиеся неприкосновенными с отдаленных времен.
Вдали послышался зов надсмотрщика. Рабы поспешно двинулись в сторону от храма и, обогнув площадку слева, оказались перед древним храмом, построенным тоже на уступе скалы в виде небольшой пирамиды, опиравшейся на частую колоннаду.[142]
Выше по реке виднелось еще два небольших строения из серого полированного гранита. Надсмотрщик подвел отряд к ближайшему из них, и партия Пандиона влилась в группу из двухсот рабов, уже начавших разрушение храма.[143] Белая штукатурка, покрывавшая внутренние стены, была расписана красочными, мастерски исполненными рисунками. Но строительные чиновники и мастера Айгюптоса, руководившие работами, заботились только о целости полированных гранитных глыб, составлявших наружную облицовку портика и колоннады. Внутренние стены беспощадно разламывались.
Пандион был потрясен уничтожением древних произведений искусства и ухитрился присоединиться к группе рабов, укладывавших каменные блоки на деревянные салазки, которые затем веревками оттаскивались к берегу и грузились на тяжелую низкую барку.
Он не знал, что прекрасные храмы древности уже давно разбирались: фараоны Айгюптоса не ценили памятников прошлого и спешили прославить свое имя в веках постройкой храмов и гробниц из готовых материалов.
Ни дикие кочевники — гиксосы, завоевавшие Та-Кем много столетий назад, ни мятежные рабы, подчинившие себе на короткий срок страну за два столетия до рождения Пандиона, не тронули великолепных построек. А теперь по тайному повелению новых фараонов разрушались даже гробницы древних царей, и похищенное золото поступало в сокровищницу владык Айгюптоса из погребальных комнат, скрытых под засыпанными песком пирамидами Древнего царства,[144] из маленьких изящных гробниц Среднего царства и огромных подземелий великих царей первых династий Нового царства.[145]
Пандион участвовал в разборке храма всего три месяца. Он и Кидого работали усердно, стремясь облегчить труд товарищей. Это было на руку надсмотрщикам: система труда в Та-Кем была организована так, что слабые должны были тянуться за сильными. Незаурядная сила и сообразительность негра и эллина были замечены, и друзей послали в мастерскую каменщиков для обучения. Из этой мастерской их взял к себе один из скульпторов фараона, и тогда совсем оборвалась всякая связь с товарищами по шене.
Пандион и Кидого поселились в длинном неуютном сарае, где жили другие рабы, уже обученные несложному искусству. Природные жители Айгюптоса — свободные ремесленники — занимали несколько хижин в углу обширного двора мастерской, заваленного необделанным камнем и грудами щебня. Египтяне подчеркнуто сторонились рабов, как будто за общение с ними подвергались опасности наказания.
Начальник мастерской — царский скульптор — не подозревал, что Пандион и Кидого — скульпторы, и был потрясен успехами друзей. Истосковавшиеся по творческой работе, они жадно взялись за любимый труд, на время забыв, что работают на ненавистного фараона.
Кидого с увлечением лепил животных — бегемотов, крокодилов, антилоп и других неизвестных эллину зверей; по его моделям другие рабы изготовляли фаянсовые статуэтки. Египтянин заметил у Пандиона склонность к изображению людей и сам принялся обучать подававшего большие надежды экуешу; он требовал от Пандиона особой тщательности при выполнении заказов. “Малый недосмотр губит совершенство”, — без конца повторял египетский скульптор заповедь древних мастеров Черной Земли. Пандион усердно учился, и временами тоска его становилась меньше. Эллин делал большие успехи в тончайшей отделке статуй и барельефов из твердого камня, в чеканке золотых поделок.
Сопровождая царского скульптора, Пандион побывал во дворце фараона, в комнатах невиданной роскоши. На цветных полах царских покоев в рамках волнистых линий или многоцветных спиралей были с неподражаемой живостью изображены заросли Великой Реки с их растениями и животными. Прозрачная голубая глазурь покрывала фаянсовые плиты на стенах комнат, сквозь нее нежно мерцали, просвечивая, замысловатые рисунки из листового золота — волшебное произведение искусства.
Среди всего этого великолепия молодой эллин с ненавистью замечал надменных, неподвижных придворных.
Он рассматривал их белые одежды, заглаженные мелкими складками, тяжелые ожерелья, кольца и нагрудные знаки из литого золота, завитые мелкими прядями парики до плеч, расшитые туфли с загнутыми вверх носками.
Пандион, скользя безмолвной тенью за торопившимся мастером, рассматривал драгоценные сосуды с тончайшими стенками, вырезанными из горного хрусталя и твердых пород камня, стеклянные вазы, горшки из серого фаянса с бледно-голубым рисунком — создания неимоверно долгого, искусного труда.
Самое большое впечатление произвел на юношу гигантский храм недалеко от садов Амона, где начинал Пандион свою жизнь в качестве раба, изнывая за высокими стенами шене.
Этот храм многих богов строился уже больше тысячелетия. Каждый из царей Кемт вносил свою лепту, расширяя новыми пристройками и без того огромную площадь храма, занимавшего более восьмисот локтей в длину.
На правом берегу реки, в пределах столицы Уасет, или просто Нут — “Города”, как звали ее жители Айгюптоса, раскинулся великолепный сад с правильными рядами высоких пальм, в обоих концах которого громоздилось несколько храмов. Эти сооружения соединялись длинными аллеями из статуй странных животных с берегом реки и священным озером перед храмом непонятной Пандиону богини Мут.
Звери с львиными телами, с бараньими или человеческими головами, высеченные из гранита, высотой в три человеческих роста, производили угнетающее впечатление. Неподвижно застывшие, загадочные, они лежали на своих пьедесталах, теснясь один к другому, и головы их нависали над проходившими, окаймляя широкую аллею, залитую ослепительным солнцем.
Огромные иглы обелисков по пятьдесят локтей высоты, одетые листами ярко-желтого азема — сплава золота и серебра, горели, как раскаленные, пронизывая жесткую темную листву пальм.
Каменные плиты, покрытые серебром, которыми были вымощены аллеи, днем слепили глаза, а ночью, при свете звезд и луны, казались струями неземной светоносной реки.
Исполинские пилоны — громадные плоскости тяжелых стен, слегка расходящиеся к основанию и имеющие форму трапеций, заграждали вход в храм, возвышаясь на пятьдесят локтей над аллеями сфинксов. Стены пилонов были покрыты огромными скульптурными изображениями богов и фараонов, исчерчены таинственными письменами Та-Кем. Чудовищные двери, обитые бронзовыми листами со сверкающими изображениями из азема, запирали высокие проходы пилонов, поворачиваясь на литых бронзовых петлях весом в несколько быков.
Внутри храма теснились толстые колонны высотой до пятидесяти локтей, заполняя пространство вверху тяжелыми барельефами.
Громадные куски камня в стенах, перекрытиях и колоннах были пришлифованы, пригнаны друг к другу с непостижимой точностью.
Рисунки и барельефы, расписанные яркими красками, пестрили стены, колонны и карнизы, повторяясь несколькими ярусами. Солнечные диски, коршуны, звероголовые боги мрачно смотрели из таинственного полумрака, сгущавшегося в глубине храма.
Снаружи сверкали такие же яркие краски, золото и серебро, высились чудовищно тяжелые строения и скульптуры, оглушая, ослепляя и подавляя.
Пандион видел повсюду обожествленных владык Та-Кем, сидящих в нечеловечески спокойных и надменных позах, — статуи из розового и черного гранита, красного песчаника и желтого известняка. Иногда это были колоссы из целой скалы по сорок локтей высоты, высеченные угловато и грубо, или страшные по своей мрачности, раскрашенные, тщательно отделанные скульптуры, немного превосходящие человеческий рост.
Молодой эллин, выросший в простом селении, в постоянной близости с природой, был вначале поражен и уничтожен. В этой огромной и богатой стране все производило на него сильнейшее впечатление.
Исполинские постройки, сооруженные неизвестно какими, казалось, недоступными простым смертным способами, страшные боги во мраке храмов, непонятная религия со сложными обрядами, отпечаток глубокой древности на засыпанных песком сооружениях — все это вначале подавляло Пандиона. Юноша поверил, что надменные и непроницаемо сдержанные жители Айгюптоса знают самые глубокие истины, владеют особыми, могущественными науками, скрытыми в совершенно непонятных для чужеземцев письменах Черной Земли.
И вся страна, зажатая между смертоносными, безжизненными пустынями на узкой ленте долины огромной реки, несущей свои воды из никому не известных далей юга, казалась каким-то особым миром, не имеющим отношения к остальной Ойкумене.
Но постепенно трезвый разум молодого эллина, жаждущий простых и естественных истин, начал справляться с массой впечатлений.
У Пандиона теперь было время на размышления, и в душе молодого скульптора с ее неустанной тягой к прекрасному родился вначале глухой, а позже осознанный протест против жизни и искусства Айгюптоса.
В плодородной стране, не знающей суровой непогоды, с ярким, чистым, почти всегда безоблачным небом, в удивительно прозрачном, живительном и бодрящем воздухе все, казалось, способствовало здоровой и счастливой жизни. Но молодой эллин, как ни мало он знал страну, не мог не видеть ужасной нищеты и скученности немху — беднейших и наиболее многочисленных жителей Айгюптоса.
Исполинские храмы и статуи, прекрасные сады не могли заслонить бесконечные ряды нищенских хижин десятков тысяч ремесленников, обслуживавших дворцы и храмы столицы. А что касается рабов, томившихся в сотнях шене, об этом сам Пандион знал лучше кого-либо другого.
Пандион все яснее сознавал, что искусство Айгюптоса, подчиненное владыкам страны — фараонам и жрецам и направлявшееся ими, противоположно его стремлениям и поискам законов отображения красоты.
Что-то близкое и радостное Пандион почувствовал единственный раз, когда увидел храм Зешер-Зешеру, открытый, сливающийся с окружающей местностью.
А все остальные исполинские храмы и гробницы наглухо замыкались высокими стенами. И там, за этими стенами, мастера Айгюптоса, по велению жрецов, использовали все приемы, чтобы увести человека от жизни, унизить его, задавить, заставить ощутить свое ничтожество перед величием богов и владык-фараонов.
Непомерная величина сооружений, колоссальное количество затраченного труда и материала уже сразу подавляли человека. Много раз повторявшееся нагромождение одинаковых, однообразных форм создавало впечатление бесконечной протяженности. Одинаковые сфинксы, одинаковые колонны, стены, пилоны — все это с искусно отобранными скупыми деталями, прямоугольное, неподвижное. В темных проходах храмов исполинские однообразные статуи возвышались по обе стороны коридоров, зловещие и угрюмые.
Повелевавшие искусством владыки Айгюптоса боялись пространства: отделяясь от природы, они загромождали внутренности храмов каменными массами колонн, толстых стен, каменных балок, иной раз занимавшими больше места, чем пролеты между ними. В глубину храма ряды колонн еще более уплотнялись, залы, недостаточно освещенные, погружались постепенно в полную тьму. Из-за множества узких дверей храм становился таинственно недоступным, а темнота помещений еще более усиливала страх перед богами.
Пандион осознал это рассчитанное воздействие на душу человека, достигнутое веками строительного опыта.
Но если бы Пандиону удалось увидеть чудовищные пирамиды, резко выделяющиеся своими правильными гранеными формами над мягкими волнами пустынных песков, тогда молодой скульптор яснее ощутил бы надменное противопоставление человека природе, в котором скрывался страх владык Та-Кем перед непонятной и враждебной природой, страх, отраженный в замкнутой, таинственной религии египтян.
Мастера Та-Кем возвеличивали своих богов и владык, стремясь выразить их силу в колоссальных статуях, в симметричной неподвижности массивных тел.
На стенах сами фараоны изображались в виде больших фигур. У их ног копошились карлики — все остальные люди Черной Земли. Так цари Айгюптоса пользовались любым поводом, чтобы подчеркнуть свое величие. Царям казалось, что, всячески унижая народ, они возвышаются сами, возрастает их влияние.
Пандион еще очень мало знал о подлинном, самобытном и прекрасном народном искусстве жителей Черной Земли. Там, в изображениях и предметах простых людей, искусство было свободно от уз требований придворных и жрецов. Пандион мечтал о творениях, которые не угнетали и не давили бы человека, а, наоборот, возвышали. Он чувствовал, что настоящее искусство — в радостном и простом слиянии с жизнью. Оно должно так же отличаться от всего созданного в Айгюптосе, как отличается его родина разнообразием рек, полей, лесов, моря и гор, пестрой сменой времен года от этой страны, где так однообразно возвышаются скалы по берегам единственной, повсюду одинаковой речной долины, окаймленной песчаными волнами раскаленных пустынь и заполненной возделанными садами. Тысячи лет назад жители Айгюптоса прятались в долине Нила от враждебного мира. Теперь их потомки пытались отвратить лицо от жизни, укрываясь внутри своих храмов и дворцов.
Пандиону казалось, что величие искусства Айгюптоса в значительной мере было обязано природным способностям разноплеменных рабов, из миллионов которых выбиралось все наиболее талантливое, невольно отдававшее свои творческие силы на прославление угнетавшей их страны. Окончательно освободившись от преклонения перед могуществом Айгюптоса, Пандион решил бежать как можно скорее и убедить друга Кидого в необходимости бегства…
С этими мыслями Пандион поехал вместе со своим начальником, Кидого и десятью другими рабами в дальнюю поездку, к развалинам Ахетатона.[146] Молодой скульптор рассекал гладкую поверхность реки веслами, радостно чувствуя стремительный бег лодки по течению. Путь был далек. Надо было проехать чуть ли не три тысячи стадий — расстояние, близкое к тому, которое отделяло его родину от Крита и когда-то казавшееся неизмеримо далеким. Пандион во время этого плавания узнал, что до Великого Зеленого моря — так называли жители Айгюптоса море, на северной стороне которого ждала Пандиона его Тесса, — было вдвое дальше, чем до Ахетатона.
Веселое настроение Пандиона быстро прошло: впервые он ясно представил себе, как глубоко внутри “пенной страны” — Африки он находится, какое огромное пространство отделяет его от берегов моря, где он мог бы надеяться на возвращение. Молодой эллин угрюмо склонялся над веслами, а лодка все мчалась по бесконечной сверкающей ленте гладкой реки, мимо зеленых зарослей, возделанных полей, тростниковых чащ и раскаленных скал.
На корме, в тени пестрого навеса, лежал царский скульптор, овеваемый опахалом услужливого раба. А по берегам тянулись маленькие тесные хижины — огромное количество народа кормила плодородная земля, тысячи людей копошились на полях, в садах или зарослях папируса, добывая себе скудную пищу. Тысячи людей теснились друг к другу на пыльных, выжженных солнцем улицах бесчисленных селений, у окраин которых надменно возвышались тяжелые исполинские храмы, наглухо замкнутые от яркого солнца.
В голове Пандиона вдруг мелькнула мысль, что не только ему и его товарищам выпал на долю подневольный труд в Кемт, что, пожалуй, все эти обитатели жалких домиков тоже живут в плену безрадостного труда, тоже являются рабами великих владык и вельмож, несмотря на все свое презрение к нему, жалкому, заклейменному дикарю…
Задумавшись, Пандион громко стукнул веслом о весло другого гребца.
— Эй, экуеша, ты заснул? Берегись! — раздался громкий окрик рулевого.
На ночь рабов запирали в тюрьмы, стоявшие вблизи каждого большого селения или храма.
Скульптора фараона с почестями встречали местные начальники, и он в сопровождении двух доверенных слуг шел отдыхать.
На пятый день плавания лодка обогнула выступ подмытых рекою темных утесов. За ними протянулась обширная равнина, закрытая с берега рядами высоких пальм и сикомор. Лодка приблизилась к выложенной камнем набережной с двумя широкими лестницами, спадающими в воду. На берегу над зубчатой стеной массивным кубом поднималась башня. Сквозь приоткрытые тяжелые ворота виднелся сад с прудами и цветущими лужайками; в глубине стояло белое здание, украшенное пестрыми узорами.
Это был дом главного жреца здешних храмов.
Царский скульптор, сопровождаемый подобострастными поклонами стражи, вошел в ворота, а рабы остались снаружи под надзором двух воинов. Ожидать пришлось недолго — вскоре скульптор появился в сопровождении человека со свертком исписанного папируса в руках и повел рабов мимо храмов и обитаемых домов к большому участку, занятому разрушенными стенами, лесом колонн с провалившимися кровлями.
Среди этого мертвого города попадались небольшие здания, несколько лучше сохранившиеся. Редкие пни обозначали участки бывших садов; высохшие бассейны, пруды и каналы были засыпаны песком. Песок толстым слоем покрывал каменные плиты дороги, ложился откосами вдоль изъеденных временем стен. Ни одной живой души не было видно кругом, мертвое молчание царило в иссушающем зное.
Скульптор коротко рассказал Пандиону, что эти развалины были когда-то прекрасной столицей фараона-отступника,[147] проклятого богами. Имя его не должен произносить ни один истинный сын Черной Земли.
Что сделал этот царствовавший четыре века назад фараон, почему он построил здесь новую столицу, об этом Пандион ничего не мог узнать.
Скульптор развернул сверток, и по чертежу оба египтянина разыскали остатки продолговатого здания с поваленными перед входом колоннами. Стены внутри были облицованы плитками из лазурно-синего камня с золотистыми жилками.
Пандион и другие рабы скульптурной мастерской должны были осторожно снять тонкие шлифованные плитки, плотно припаявшиеся к стене. На эту работу ушло несколько дней. Рабы ночевали здесь же, в развалинах, пища и вода доставлялись им из соседнего селения.
Окончив порученное им дело, Пандион, Кидого и четыре других раба получили приказание осмотреть наудачу некоторые здания и поискать, нет ли в развалинах красивых вещей, которые можно было бы доставить во дворец фараона. Негр и эллин пошли вдвоем, впервые без присмотра стражей и внимательного взгляда надсмотрщика.
Друзья взобрались на привратную башню какой-то обширной постройки, чтобы осмотреться. С востока на развалины надвигались пески пустыни, раскинувшейся, насколько хватал глаз, грядами низких холмов и грудами щебня.
Пандион оглянулся на безмолвные развалины и, в волнении стиснув руку Кидого, зашептал:
— Бежим! Нас хватятся не скоро, никто не видит…
Добродушное лицо негра расплылось в усмешке.
— Разве ты не знаешь, что такое пустыня? — изумился Кидого. — Завтра в этот час воины найдут наши трупы, иссушенные солнцем. Они, — Кидого подразумевал египтян, — знают, что делают. Путь на восток всего один — там, где колодцы, и этот путь стерегут. А здесь крепче цепей держит нас пустыня…
Пандион угрюмо кивнул, минутный порыв его угас. Друзья молча спустились с башни и разошлись в разные стороны, заглядывая в провалы стен или проникая в темноту открытых входов.
Внутри небольшого двухэтажного, хорошо сохранившегося дворца с остатками деревянных решеток в окнах Кидого посчастливилось отыскать небольшую статую египетской девушки из крепкого желтоватого известняка. Он позвал Пандиона, и оба залюбовались работой безвестного мастера. Красивое лицо было типичным для египтянки. Пандион уже знал облик женщин Айгюптоса — низкий лоб, узкие, приподнятые у висков глаза, холмиками выступавшие щеки и толстые губы с ямочками в углах.
Кидого понес находку начальнику мастерской, а Пандион углубился в развалины. Машинально переступая через обломки, перебираясь через кучи камней, Пандион подвигался вперед, не разбирая направления, и скоро вошел в прохладную тень уцелевшей стены. В глубине, прямо под ним, виднелась плотно закрытая дверь подземелья. Пандион нажал на медную оковку. Гнилые доски рассыпались, и молодой скульптор вошел внутрь помещения, слабо освещенного через щель в потолке.
Это была небольшая комната в толще каменных стен, выложенных тщательно пригнанными камнями. Два легких кресла из черного дерева, отделанные костью, покрылись толстым слоем пыли. В углу юноша заметил развалившийся ларец. У противоположной стены на куске розового гранита эллин увидел скульптуру из серого камня — фигуру женщины в рост человека. Только верхняя часть изваяния была тщательно отделана.
Две изгибающиеся пантеры из черного камня стояли, как бы для охраны, по сторонам статуи. Пандион осторожно стер пыль с изваяния и отступил в немом восхищении.
Искусство скульптора передало в камне прозрачную ткань, облегавшую юное тело. Левая рука девушки крепко прижимала к груди цветок лотоса. Густые волосы обрамляли лицо длинными мелкими локонами, образуя тяжелую прическу, разделенную пробором и спадавшую ниже плеч. Очаровательная девушка не походила на египтянку. У нее было круглое лицо с прямым небольшим носиком, широким лбом и огромными, широко расставленными глазами.
Пандион заглянул на статую сбоку, и его поразила странная и лукавая насмешливость, запечатленная скульптором на лице девушки. Такого выражения живости и ума он никогда не видел на статуях: художники Айгюптоса больше всего любили величественную и равнодушную неподвижность.
Девушка была похожа на женщин Энниады или, скорее, на прекрасных жительниц островов его родного моря.
Ясное и умное лицо статуи было так далеко от мрачной красоты творений Айгюптоса, изваяно с таким неподражаемым совершенством, что мучительная тоска опять вернулась к Пандиону. Стиснув руки, молодой эллин старался представить себе модель скульптора, эту близкую ему чем-то девушку, неизвестно какими путями попавшую в Айгюптос четыре столетия назад. Была ли она такой же, как он, пленницей или по доброй воле приехала из неизвестной страны?
Луч солнца проник через щель вверху, пыльный свет упал на статую. Пандиону показалось, что лицо девушки изменило выражение — глаза загорелись, губы задрожали, словно трепет таинственной, скрытой жизни возник на поверхности камня.
Да, вот как нужно делать статуи… вот у кого нужно бы учиться передавать живую красоту… у этого мастера, умершего так давно!
С благоговейной осторожностью Пандион положил пальцы на лицо статуи, ощупывая почти неуловимые, мельчайшие детали, так верно передававшие жизнь.
Долго стоял Пандион перед прекрасной девушкой, улыбавшейся ему дружески и насмешливо. Ему казалось, что он нашел нового друга, осветившего ласковой улыбкой вереницу безрадостных дней.
И невольно мысли юноши перенеслись к Тессе. Ее образ, потускневшей в суровости его теперешней жизни, вновь стал живым и манящим…
Глаза Пандиона в задумчивости блуждали по росписям потолка и стен, где сплетались звезды, букеты лотосов, узоры изломанных лилий, головы быков. Вдруг Пандион вздрогнул: видение Тессы исчезло, и перед ним на темной стене появилось изображение пленников, связанных спина к спине, влекомых к стопам фараона. Пандион вспомнил, что уже поздно. Нужно было спешить с возвращением и оправдать свою задержку. Но, взглянув еще раз на статую, Пандион понял, что не сможет отдать ее в руки своего хозяина-скульптора. Юноше это казалось предательством, вторичным пленением неизвестной девушки во враждебном к иноземцам Айгюптосе. Он поспешно оглянулся, вспомнив про ящик, замеченный им в углу. Встав на колени, Пандион достал оттуда четыре фаянсовых бокала в виде цветов лотоса, покрытые яркой голубой эмалью. Этого было достаточно. Пандион в последний раз посмотрел на изваяние девушки, стараясь запомнить все подробности ее лица, и с тяжелым вздохом вынес бокалы наружу. Оглянувшись по сторонам, молодой скульптор поспешно завалил вход большими камнями и, сгребая горстями щебень, старательно присыпал заграждение, пытаясь придать ему вид давно осыпавшейся стены. Потом он осторожно увязал бокалы в набедренную повязку, невольно сделал прощальный жест в сторону оставшейся в своем убежище статуи и поспешил обратно. Направление ему указывали крики рабов, очевидно разыскивавших его. Среди них выделялся звонкий и сильный голос Кидого.
Царский скульптор встретил Пандиона угрозами, но сразу смягчился, едва увидел драгоценную находку.
Обратное плавание длилось на три дня дольше — гребцам приходилось бороться с течением. Пандион рассказал Кидого про статую, и негр одобрил его поступок, прибавив, что, может быть, эта девушка происходила из народа машуашей, жившего на северном краю великой западной пустыни.
Пандион уговаривал Кидого бежать, но друг в ответ только отрицательно покачивал головой, отвергая все планы эллина.
За семь дней плавания Пандиону так и не удалось убедить друга, но сам он уже не мог долее бездействовать; ему казалось, что еще немного — и он не выдержит и погибнет. Он тосковал по товарищам, оставшимся на строительных работах и в шене. В них он чувствовал ту силу, которая могла бы привести к освобождению, давала надежду на будущее… А здесь не было надежды на свободу — это заставляло Пандиона задыхаться от бессильной ярости.
Через два дня после возвращения в мастерскую скульптор фараона повел Пандиона во дворец главного строителя. Там готовился праздник. Пандион должен был вылепить из глины модели статуэток и сделать по ним формы для сладких печений.
Молодой скульптор, закончив работу, по приказу хозяина остался во дворце до конца пира, чтобы с другими рабами нести царского скульптора домой. Не обращая внимания на рабов и рабынь, во множестве сновавших по дворцу, Пандион удалился в сад.
Стемнело, на безлунном небе зажглись яркие звезды, а пир все продолжался. Снопы желтого света, проникая в сад через широкие оконные проемы, вырывали из темноты стволы деревьев, листву и цветущие кустарники, поблескивали красными огоньками на зеркальной воде бассейнов. Гости собрались в большом нижнем зале с колоннами из полированных кедровых стволов. Зазвучала музыка. Пандион, так давно не слышавший ничего, кроме заунывных и незнакомых песен, незаметно подобрался к большому низкому окну, укрылся в кустах и стал наблюдать.
Из наполненного людьми зала шел тяжелый аромат благовоний. Стены, колонны и рамы окон были увешаны гирляндами свежих цветов, больше всего, как заметил Пандион, лотосов. Пестрые кувшины с вином, плетенки и чаши с фруктами стояли на низких подставках возле сидений. Разгоряченные вином гости, облитые душистой помадой, теснились вдоль стен, а посередине между колоннами медленно танцевали девушки в длинных одеяниях. Черные волосы, заплетенные в многочисленные тонкие косички, развевались по плечам танцующих, широкие браслеты из разноцветного бисера охватывали запястья, пояски из цветных бус просвечивали сквозь тонкую ткань. Пандион не мог не заметить некоторой угловатости стройных женщин Айгюптоса, отличавшихся от сильных девушек его родины. В стороне молодые египтянки играли на различных инструментах: две девушки — на флейтах, одна — на многострунной арфе, еще две извлекали резкие дрожащие звуки из длинных двухструнных инструментов.
Танцовщицы держали в руках блестящие листы тонкой бронзы, время от времени прерывая мелодию короткими звенящими ударами. Непривычная для уха Пандиона музыка составлялась из смены высоких и низких скачущих нот то в медленном, то в убыстренном темпе. Танцы окончились, утомленные танцовщицы уступили место певцам. Пандион, прислушиваясь, старался разобрать слова. Это ему удавалось, когда мелодия шла медленно или звучала на низких нотах.
Первая песня прославляла путешествие в южную часть Кемт. “Ты встречаешь там красивую девушку, она отдает тебе цвет своей груди”, — разобрал Пандион.
В другой песне с воинственными выкриками прославлялась храбрость сынов Кемт в витиеватых, показавшихся Пандиону бессмысленными выражениях. С раздражением молодой эллин отошел от окна.
“Имя храброго не погибнет на всей земле вовеки”, — донеслись до него последние слова, и пение прекратилось. Послышались смех, оживленное движение, и Пандион снова заглянул в окно.
Рабы привели светлокожую девушку с коротко подстриженными волнистыми волосами и вытолкнули ее на середину зала. Она стояла, смущенно и испуганно оглядываясь, среди растоптанных на гладком полу цветов. Из толпы гостей выделился человек и сказал девушке несколько сердитых слов. Она покорно взяла протянутую ей лютню из слоновой кости, и пальцы ее маленьких рук забегали по струнам. Низкий и чистый голос девушки разлился по залу, гости замолкли. Это не была отрывистая, спадавшая и опять повышавшаяся, скачущая египетская мелодия — звуки лились свободно и печально. Сначала они падали медленно, как отдельные звенящие капли, потом слились в мерном колебании, зарокотали, зашептались, как волны, и понеслись с такой безудержной тоской, что Пандион замер. Пандиону казалось — свободное море колыхалось в песне, в непонятных звуках волшебного голоса. Море незнакомое и нелюбимое здесь, в Айгюптосе, родное и светлое — для Пандиона. Пандион сначала стоял ошеломленный — так много запрятанного в самой глубине души вдруг устремилось наружу. Тоска по свободе, близкая и понятная Пандиону, властно звала, плакала и томилась в песне. Зажав уши и стиснув зубы, чтобы не вскрикнуть, он побежал в глубь сада. Там, бросившись на землю во тьме под деревьями, Пандион тяжко и неудержимо зарыдал…
— Эй, экуеша, ко мне! Экуеша! — послышался зов хозяина Пандиона.
Молодой эллин не заметил, что окончился пир.
Скульптор фараона был заметно пьян. Опираясь на руку Пандиона и поддерживаемый с другой стороны своим рабом, рожденным в неволе, начальник мастерских отказался возлечь на носилки и пожелал пойти пешком к дому.
На половине пути, изредка спотыкаясь на выбоинах дороги, он вдруг принялся расхваливать Пандиона, пророча ему большую будущность. Пандион шел под впечатлением песни, почти не слушая начальника. Так они дошли до цветного портика дома египтянина. В дверях появилась его жена с двумя рабынями, державшими светильники. Царский скульптор, пошатываясь, взобрался на ступеньки и похлопал по плечу Пандиона. Тот спустился вниз — рабы мастерской не имели права входить в дом.
— Погоди, экуеша! — весело сказал начальник, пытаясь изобразить на лице хитрую усмешку. — Дай сюда! — Он почти вырвал из рук рабыни светильник и что-то сказал ей шепотом. Рабыня скрылась в темноте.
Египтянин втолкнул Пандиона в дверь и ввел его в приемный зал. Налево у простенка стояла большая красивая ваза с четким черно-красным рисунком. Такие сосуды Пандион видел на Крите, и снова сердце юноши сжалось от боли.
— Повелел его величество, жизнь, здоровье, сила, — торжественно произнес царский скульптор, — мне изготовить семь ваз по образцу этой, из стран твоего моря! Мы только заменим варварские краски на любимые в Кемт синие цвета… Если ты отличишься в этой работе, я скажу о тебе Великому Дому… А теперь… — возвысил голос начальник и повернулся к поспешно приближавшимся двум темным фигурам.
Это были ушедшая рабыня и какая-то другая девушка, закутанная в длинный пестрый плащ.
— Подойди ближе! — нетерпеливо сказал египтянин и поднес светильник к лицу закутанной девушки.
Большие выпуклые черные глаза боязливо взглянули на Пандиона, пухлые детские губы раскрылись в трепетном вздохе. Пандион увидел выбивавшиеся из-под покрывала вьющиеся волосы, тонкий нос с нервно трепетавшими ноздрями — рабыня была, несомненно, азиаткой, из восточных племен.
— Смотри, экуеша! — сказал египтянин, неуверенным, но сильным движением срывая с девушки плащ.
Она слабо вскрикнула и спрятала лицо в ладони, оставшись нагой.
— Бери ее в жены! — Царский скульптор толкнул девушку к Пандиону, и она, вся задрожав, прижалась к груди молодого эллина.
Пандион слегка отодвинулся и погладил спутавшиеся волосы юной пленницы, поддаваясь смешанному чувству жалости и нежности к милому, испуганному существу.
Царский скульптор, улыбаясь, одобрительно прищелкнул пальцами:
— Она будет твоей женой, экуеша, и у вас будут хорошие дети, которых я оставлю моим детям в наследство…
Точно стальная пружина внезапно развернулась в Пандионе. Душевное смятение, давно нараставшее в нем, разбуженное сегодняшней песней, вскипело. Красный туман застлал глаза.
Пандион отступил от девушки, оглянулся и поднял кулак. Египтянин, трезвея, побежал в дом, громко сзывая всех слуг на помощь. Пандион, не взглянув на труса, с презрительным смехом пнул ногой дорогую критскую вазу, и глиняные черепки с глухим звоном рассыпались на каменном полу.
Дом наполнился криком и топотом ног. Несколько минут спустя Пандион лежал у ног начальника мастерской, а тот, нагнувшись, плевал на него, изрыгая проклятия и угрозы.
— Негодяй заслуживает смерти! Разбитая ваза дороже его презренной жизни, но он может сделать много хороших вещей… и я не хочу терять хорошего работника, — говорил час спустя успокоившийся скульптор своей жене. — Я пощажу его жизнь и не отправлю его в тюрьму потому, что оттуда он попадет на золотые рудники и погибнет. Я верну его в шене, пусть одумается, а ко времени будущего посева возьму обратно…
Так Пандион, избитый, но не усмиренный, вернулся в шене и, к своей большой радости, встретился с друзьями-этрусками. Весь строительный отряд после разборки храма работал на поливе садов Амона.
К вечеру следующего дня внутренняя дверь шене раскрылась с обычным скрипом и пропустила под приветственные возгласы рабов улыбающегося Кидого. Спина негра вздулась, исполосованная ударами бича, но зубы сверкали в усмешке, а глаза весело блестели.
— Я узнал, что тебя послали назад, — сообщил он изумленному Пандиону, — и стал кататься по мастерской, вопя и ломая все, что подвернется. Побили и тоже отправили — мне это и нужно! — закончил Кидого.
— А ты же хотел стать мастером? — насмешливо спросил Пандион.
Негр беззаботно махнул рукой и, страшно выкатив глаза, плюнул в том направлении, где находилась великая столица Айгюптоса.
Глава четвертая БОРЬБА ЗА СВОБОДУ
Камни, накаляясь на солнце, обжигали плечи и руки людей. Легкий ветерок не нес прохлады, но сдувал с гладкой поверхности каменных глыб мельчайшую известковую пыль, разъедавшую глаза.
Тридцать рабов, выбиваясь из сил, тянули жесткие канаты, поднимая на стену тяжелую плиту с каким-то сложным барельефом. Ее нужно было вставить в приготовленное гнездо на высоте восьми локтей. Четыре опытных и сметливых раба направляли плиту снизу. В числе их находился Пандион, стоявший рядом с рабом-египтянином — единственным из жителей Айгюптоса, находившимся в шене среди чужеземных пленников. Этот египтянин, осужденный в вечное рабство за неизвестное страшное преступление, занимал крайнюю клетушку в юго-восточном, привилегированном углу шене. Два лиловых клейма в виде скрещенных широких полос пятнали его грудь и спину, на щеке была изображена красная змея. Мрачный, никогда не улыбавшийся, он ни с кем не общался и, несмотря на всю тяжесть своего положения, презирал иноплеменных рабов подобно своим свободным соотечественникам.
И сейчас, не обращая ни на кого внимания, понурив бритую голову, египтянин упирался руками в край толстой плиты, чтобы не давать камню раскачиваться.
Мокрая от пота черная кожа Кидого блестела, резко выделяясь рядом с белым полированным известняком.
Вдруг Пандион заметил, что на веревке начали лопаться волокна, и издал предостерегающий крик. Два других раба отскочили в сторону, а египтянин, не обратив внимания на Пандиона и не заметив того, что делалось вверху, остался под плитой.
Молодой эллин, далеко выбросив правую руку, мгновенным толчком в грудь отшвырнул египтянина назад. В ту же секунду плита рухнула, слегка задев отпрянувшего Пандиона и ободрав ему кожу с руки. Желтая бледность покрыла лицо египтянина. Плита стукнулась о подножие стены, большой угол барельефа откололся.
С негодующим криком к Пандиону подбежал надсмотрщик и хлестнул эллина бичом. Четырехгранный ремень в два пальца толщиной, сделанный из шкуры бегемота, глубоко рассек кожу на пояснице. У Пандиона от боли потемнело в глазах.
— Негодяй, зачем ты спас эту падаль? — завопил надсмотрщик, замахиваясь вторично. — Плита, упавшая на мягкое тело, осталась бы цела! Это изображение дороже сотни жизней жалких тварей, таких, как вы! — продолжал он, нанося второй удар.
Пандион бросился было на надсмотрщика, но был схвачен подоспевшими воинами и жестоко исхлестан бичами.
Ночью Пандион лежал на животе в своей клетушке. Его лихорадило, глубокие борозды от бича на спине, плечах и ногах воспалились. Приползший к нему Кидого поил его водой, смачивая время от времен голову.
У входной двери послышался легкий шорох, потом шепот:
— Экуеша, ты здесь?
Пандион отозвался и почувствовал прикосновение руки.
Это был египтянин. Он достал из-за пояса маленькую баночку, долго возился, растирая что-то на ладони, потом начал осторожно водить рукой по рубцам Пандиона, размазывая жидкую мазь с едким, неприятным запахом. Эллин вздрагивал от боли, но уверенная рука продолжала свою работу. Когда египтянин принялся массировать ноги, боль на спине уже прекратилась, а еще через несколько минут Пандион тихо уснул.
— Ты что ему сделал? — шепнул Кидого, совершенно невидимый в своем углу.
Египтянин, помолчав, ответил:
— Это кифи — самое лучшее лекарство, тайна наших жрецов. Мне принесла его мать, хорошо заплатив воину.
— А ты хороший человек! Прости меня, я думал, ты дрянь! — воскликнул негр.
Египтянин буркнул что-то сквозь зубы и неслышно скрылся в темноте.
С этого дня египтянин подружился с молодым эллином, по-прежнему оставляя без внимания его друзей. Теперь часто по ночам Пандион слышал шорох возле своей клетушки. Если у эллина никого не было, костлявое тело египтянина быстро скользило внутрь. Ожесточенный, одинокий сын Та-Кем был откровенен и разговорчив наедине с чутким молодым эллином. Пандион скоро узнал историю египтянина.
Яхмос — “сын месяца” — происходил из старого рода неджесов, бывших верными слугами прежних фараонов, но со сменой династии устраненных и обедневших. Яхмос был обучен наукам и стал писцом начальника Заячьего сепа. Случилось так, что он полюбил дочь строителя, требовавшего крупного обеспечения. Потеряв голову от любви и отчаявшись в возможности быстрого обогащения, Яхмос решил достать нужную сумму во что бы то ни стало и сделался грабителем царских усыпальниц. Знание письменности давало ему большие преимущества в этом страшном, жестоко каравшемся деле. Скоро в руках Яхмоса было много золота, но его невеста оказалась выданной замуж за чиновника с крайнего юга.
Яхмос пытался скрасить горе веселыми пирами, покупкой наложниц — деньги быстро исчезли. Понадобились другие. Темные пути богатства уже были знакомы, и Яхмос вновь принялся за свое страшное дело, но в конце концов был схвачен, подвергся жестоким пыткам, товарищи его — казнены или умерли от мучений. Яхмоса приговорили к ссылке на золотые рудники. Каждая новая партия отправлялась туда во время наводнения, раз в год, и Яхмос пока был отдан в шене, так как не хватало рабочих рук для постройки новой стены храма Пта.
Пандион с интересом слушал рассказы Яхмоса, поражаясь неслыханной отваге египтянина, казавшегося ему невоинственным человеком.
Яхмос рассказывал о своем пребывании в страшных подземельях, где мучительная смерть подстерегала смельчака на каждом шагу благодаря ухищрениям строителей.
В самых древних гробницах, скрытых глубоко под огромными пирамидами, сокровища и саркофаги защищались толстыми плитами, запиравшими узкие наклонные ходы. Позже применялись лабиринты фальшивых ходов, прерывавшиеся глубокими колодцами с гладкими стенами. Тяжкие глыбы падали сверху при попытке грабителей отодвинуть загораживавшие ход камни, груды песка из сооруженных наверху колодцев засыпали входы погребальных камер. Если дерзкие гости продолжали попытки проникнуть дальше, массы земли обрушивались из колодцев и запирали нарушителей покоя усопших царей в узком пространстве между кучами песка и вновь насыпавшейся землей. В менее древних гробницах в темноте низких галерей бесшумно смыкались каменные челюсти, решетки с копьями падали с колонн, едва нога пришедших ступала на роковую плиту пола. Яхмос знал, как много ужасов тысячелетиями скрывалось в молчании и тьме, поджидая жертву. Опыт приобретался ценой гибели многих товарищей по ремеслу. Не раз натыкался египтянин на истлевшие останки неведомых людей, погибших в западне в неизвестные времена.
Много ночей провел Яхмос с товарищами на краю западной пустыни, где на протяжении сотен тысяч локтей тянулись города мертвых. Скрываясь в темноте, не смея говорить или зажечь свет, ощупью, под заунывные вопли шакалов, вой гиен или громовой рык льва, грабители рылись в душных ходах или пробивали целую скалу, стремясь угадать направление, в котором находилась глубоко запрятанная гробница.
Страшное ремесло, достойное народа, заботившегося более о смерти, чем о жизни, старавшегося сохранить в вечности не живые дела, а славу мертвых!
Потрясенный Пандион с ужасом слушал рассказы о приключениях этого худого, невзрачного человека, во имя минутных удовольствий столь часто рисковавшего жизнью, и не понимал собеседника.
— Зачем же ты продолжал все это? — спросил как-то раз Пандион. — Разве ты не мог уехать?
Египтянин рассмеялся беззвучным, невеселым смехом.
— Страна Кемт — особая страна. Ты, чужеземец, не понимаешь ее. Мы все здесь в плену, не только рабы, но и свободные сыны Черной Земли. Когда-то, в незапамятные времена, пустыни охраняли нас. Теперь Та-Кем, зажатый среди пустынь, — это большая тюрьма для всех, кто не может делать далекие походы с многочисленным войском.
На западе — пустыня, царство смерти. На востоке — пустыня, проходимая лишь для больших караванов с запасами воды. На юге — враждебные нам дикие племена. И соседние народы пылают гневом на нашу страну, построившую свое благо на несчастье слабых племен.
Ты не сын Та-Кем и не понимаешь, как страшно нам умереть на чужбине. В этой повсюду одинаковой долине Хапи, где тысячелетия жили наши предки, взрыхлили всю землю, избороздили каналами и сделали плодородной, должны умирать и мы. Та-Кем замкнут, и в этом его проклятие. Когда слишком много людей, их жизни ни во что не ценятся, а переселяться нам некуда — избранный богами народ нелюбим людьми чужих стран…
— Но сейчас тебе разве не лучше бежать? — допытывался Пандион.
— Бежать одинокому и заклейменному? — удивился египтянин. — Я теперь хуже иноземца… Запомни, экуеша: бежать отсюда нельзя! Если только силой перевернуть всю страну Черной Земли. Но кто же может это сделать? Хотя были такие дела в давние времена… — Яхмос печально вздохнул.
Насторожившийся Пандион принялся расспрашивать Яхмоса и узнал о великих мятежах рабов, потрясавших временами страну. Узнал о том, что к рабам присоединялись беднейшие слои населения, жизнь которых мало отличалась от подневольной.
Узнал о том, что простым людям запрещено общаться с рабами, ибо “бедный человек даст разъяриться толпе, отданной в рабочие дома”, как писали фараоны в наставлениях своим сыновьям.
Узок был мир бедных сынов Кемт — только одну улицу своего селения знал земледелец или ремесленник. Он старался иметь поменьше знакомых, унижался перед стражами — “вестниками”, приносившими ему повеления чиновников. Фараон требовал покорности и тяжелого труда, за малейшую провинность виновного беспощадно избивали. Громадное число чиновников обременяло страну, свободный выезд и путешествия запрещались всем, кроме жрецов и вельмож.
По просьбе Пандиона Яхмос нарисовал на полу в блике лунного света чертеж страны Кемт, и молодой эллин ужаснулся. Он находился в середине долины Великой Реки длиной во много тысяч стадий. На север или на юг была вода и была жизнь, но пробраться до границ государства по густо заселенной, усеянной воинскими укреплениями стране — невозможно. А по сторонам, совсем рядом, шли безлюдные пустыни, там не было стражи, но не было и возможности существовать.
Немногие дороги с колодцами для караванов хорошо охранялись.
После ухода египтянина Пандион провел бессонную ночь, пытаясь придумать план бегства. Юноша инстинктивно понимал, что в дальнейшем надежды на удачный исход бегства будут тем меньше, чем больше изнурит его непосильный труд раба. Только исключительно выносливым и сильным людям может улыбнуться счастье при побеге.
На следующую ночь Пандион пополз к этруску Кави, передал ему сведения, полученные от египтянина, и убеждал сделать попытку взбунтовать рабов. Кави отмалчивался, пощипывая в раздумье бороду. Пандиону было хорошо известно, что подготовка к восстанию давно уже ведется, что в группах разных племен выдвинулись свои вожди.
— Я не могу терпеть больше! Зачем? — страстно воскликнул молодой эллин, и Кави поспешно зажал ему рот. — Пусть смерть, — добавил эллин, успокоившись. — Чего ждать? Что изменится? Если изменится через десять лет, так тогда мы уже не сможем ни сражаться, ни бежать. Разве ты боишься смерти?
Кави поднял руку.
— Не боюсь, и ты это знаешь, — отрезал этруск, — но за нами пятьсот жизней. Или ты хочешь принести их в жертву? Дорогая цена твоей смерти!
Пандион резко поднялся и ударился головой о низкий потолок.
— Я подумаю, поговорю, — поспешно сказал Кави, — но жаль, что всего два шене поблизости от нас. Плохо, что у нас нет языков в других шене. Завтра ночью будем говорить, я дам тебе знать. Предупреди Кидого…
Пандион выбрался из клетушки этруска, прополз вдоль стены и, торопясь, чтобы успеть до восхода луны, направился к Яхмосу. Яхмос не спал.
— Я ползал к тебе, — взволнованно зашептал египтянин. — Я хочу тебе сказать… — Он запнулся. — Мне сказали, что завтра меня возьмут отсюда — отправляют триста человек на золотые рудники в пустыню. Так вот — оттуда не возвращается никто…
— Почему? — спросил Пандион.
— Рабы, сосланные туда, редко живут больше года. Ничего нет ужаснее работы там — в раскаленном сердце горы, без воздуха. И воды дают мало — ее не хватает. А нужно бить крепчайший камень, поднимать руду на себе в корзинах. Самые стойкие падают замертво к концу работы, исходят кровью из ушей и горла… Прощай, экуеша, ты светлый человек, и я полюбил тебя, хотя ты спас меня напрасно. Но я ценю не спасение, а сочувствие… Давно уже горькая жизнь заставила нашего древнего певца сложить хвалу смерти. И я сейчас повторяю ее… “Смерть стоит передо мной, как выздоровление перед больным, как выход после болезни, — речитативом зашептал египтянин, — как пребывание под парусом в ветреную погоду, как запах лотоса, как путь, омытый дождем, как возвращение домой с похода…” — Голос Яхмоса оборвался со стоном.
Охваченный жалостью, молодой эллин придвинулся к египтянину.
— Но ты можешь сам… — Пандион не договорил.
Яхмос отшатнулся:
— Что ты говоришь, чужеземец! Разве я могу заставить свое Ка[148] вечно терзать Ба[149] в никогда не кончающихся страданиях…
Пандион ничего не понял. Он был искренне убежден, что со смертью окончатся и мучения, но промолчал, щадя веру египтянина. Яхмос принялся поспешно рыть землю в углу своей клетушки, отодвинув в сторону солому, на которой спал ночью.
— Вот возьми этот кинжал, если ты когда-нибудь посмеешь… а это на память обо мне, если случится чудо и ты станешь свободным… — Яхмос положил в руку Пандиона гладкий и холодный предмет.
— Что это, зачем мне он? — удивился молодой эллин.
— Это камень, который я нашел в подземельях одного старого храма, спрятанного в скалах.
И Яхмос, радуясь возможности забыться в воспоминаниях, рассказал Пандиону про таинственный древний храм, на который он наткнулся в поисках богатых гробниц, у излучины Великой Реки, много тысяч локтей ниже “Города” — столицы Уасет.
Яхмос заметил следы старой тропинки, которая вела к крутым утесам от берега небольшого залива, густо заросшего тростником. Место было удалено от селений и никем не посещалось, так как ничего привлекательного для земледельца или пастуха не было на бесплодных скалистых обрывах.
Яхмос мог без опаски производить свои поиски и, не теряя времени, направился в глубину узкого ущелья, заваленного каменными глыбами. Камни покрывали тропу, видимо обвалившись много позже того времени, когда она служила для сообщения с берегом реки. Долго Яхмос пробирался через скалы, промоины, кусты колючек. Ущелье изобиловало пауками — поперек прохода были протянуты их паутинные сети, прилипавшие к потному лицу грабителя царских могил.
Наконец стены ущелья разошлись, открывая замкнутую среди высоких холмов долину. В центре ее возвышался бугор, окаймленный двумя рядами оросительных канав, — должно быть, раньше здесь был родник, использовавшийся для сада. Молчание царило в тусклом мареве душной и безветренной долины. Черные блестящие скалы возвышались кругом, замыкая долину. Только на противоположной ее стороне виднелось ущелье, подобное тому, которым пришел Яхмос в это позабытое всеми место.
Грабитель взобрался на холм и сразу увидел высеченный в скале ход, ранее скрытый за вершиной бугра. Ход был завален, и Яхмосу пришлось немало потрудиться, прежде чем он смог проникнуть внутрь. Яхмос очутился в прохладной темноте. Отдохнув немного, он зажег светильник, который всегда был при нем, и пошел по высокому коридору, тщательно осматривая выступавшие по обеим сторонам статуи. Яхмос опасался коварных ловушек, грозивших мучительной смертью. Но его опасения оказались напрасными: древние строители или не приготовили западней, надеясь на скрытое расположение храма, или же минувшие тысячелетия обезвредили ловушки. Яхмос беспрепятственно проник в большое круглое подземелье со статуей бога Тота в центре, склонявшего свой длинный клюв с высоты пьедестала. В стенах Яхмос заметил десять узких, как щели, входов, расположенных на равном расстоянии один от другого. Они вели в комнаты, заваленные истлевшими вещами: свертками, папирусами, деревянными досками с рисунками и надписями. Одно помещение было заполнено связками сухих трав, превращавшихся в пыль при малейшем прикосновении, в другом лежали груды камней. Не обнаружив ничего интересного для себя, Яхмос обошел восемь комнат — все они были квадратные. Девятый вход привел Яхмоса в продолговатую комнату, обрамленную колоннами из гранита. Между ними были закреплены доски черного диабаза, испещренные письменами на древнем языке Та-Кем. Посреди комнаты стояла еще одна статуя носатого бога Тота, на ее пьедестале в плоской чаше из меди сверкнул в лучах светильника драгоценный камень. Яхмос с жадностью схватил его, поднес к огню и не удержался от возгласа разочарования. Камень не принадлежал к тем, которые ценились в Та-Кем. Опытный глаз грабителя сразу определил, что он не имеет для купцов ценности. Но, странное дело, чем больше всматривался Яхмос, тем более привлекательным казался ему неизвестный камень. Это был голубовато-зеленый обломок кристалла величиной с наконечник копья, плоский, полированный и необыкновенно прозрачный. Заинтересованный Яхмос решил прочесть стенные надписи, надеясь найти какое-нибудь объяснение происхождению камня. Он еще не забыл древнего языка Та-Кем, которому учили в школах высших писцов, и принялся разбирать иероглифы, прекрасно сохранившиеся на поверхности диабаза.
В подземелье было мало воздуха — отдушины для проветривания храма давно обрушились, масло в светильнике догорало, но Яхмос упорно читал, и постепенно перед отверженным грабителем раскрывалась повесть о подвиге, совершенном в незапамятные времена, вскоре после постройки великой пирамиды Хуфу. Фараон Джедефра послал своего казначея Баурджеда далеко на юг, в Та-Нутер — Страну духов, чтобы познать пределы земли и Великую Дугу — океан. На семи лучших кораблях Баурджед отплыл на юг из гавани Суу на Лазурных Водах. Семь лет странствовали сыны Черной Земли. Они достигли Великой Дуги и долго плыли на юг, вдоль неизвестных берегов. Половина людей и четыре корабля погибли от страшных бурь Великой Дуги, оставшиеся достигли сказочного Пунта. Но приказ фараона гнал их дальше: им нужно было узнать, где на далеком юге находятся пределы земли. Оставив корабли, сыны Черной Земли двинулись на юг по земле.
Больше двух лет странствовали они через темные леса, пересекали громадные степи, переходили грозные горы — обиталища молний — и достигли, исчерпав все силы, большой реки, на которой обитал могущественный народ, умевший строить каменные храмы. Оказалось, что предел земли все еще бесконечно далек — там, на юге, за голубыми степями и лесами с листьями из серебра. И там, за пределами земли, течет Великая Дуга — океан, — пределы которой никому из смертных неизвестны. Путешественники поняли свое бессилие выполнить до конца волю фараона и, вернувшись в Пунт, снарядив новые суда взамен своих старых, источенных червями и разбитых в борьбе с волнами Великой Дуги. Но уцелевших людей едва хватило на один корабль. Нагрузив его дарами Пунта, храбрецы решили повторить свой неимоверно тяжкий путь. Стремление вернуться на родину придавало им силу, — они победили ветры и волны, песчаные бури, коварные подводные скалы, голод и жажду, пробились в Лазурные Воды и прибыли в гавань Суу после семи лет отсутствия.
Многое изменилось в Черной Земле: новый фараон — беспощадный Хафра — заставил страну забыть обо всем, кроме постройки второй исполинской пирамиды, долженствовавшей возвеличить его имя на тысячи веков. Возвращение путешественников было неожиданным для всех, и фараон был разочарован, узнав, что земля и океан необъятны, а народы, обитающие далеко на юге, многочисленны. Ему, считавшему себя владыкой всего мира, Баурджед доказал, что страна Кемт — всего лишь маленький уголок исполинской земли, богатой лесами и реками, всякими плодами и зверями и населенной разными племенами, также искусными в работе и охоте.
Гнев фараона обрушился на путешественников. Спутники Баурджеда были сосланы в отдаленные области. Под страхом смерти было запрещено рассказывать о путешествии, в записях фараона Джедефра были стерты места с упоминанием о посылке путешественников на юг, в Страну духов. Сам Баурджед погиб бы от гнева Хафра и его путешествие навсегда исчезло бы из памяти людей, если бы не вступился мудрый старый жрец бога наук, искусства и письма Тота. Этот жрец вдохновлял погибшего фараона на познание пределов земли, на поиски новых богатств для обедневшей от постройки гигантской пирамиды Кемт. Устраненный от двора нового фараона Хафра жрецами Ра, он пришел на помощь путешественнику и укрыл его в тайном храме Тота, где собраны были разные тайные книги, планы, образцы растений и камней далеких земель. Великое путешествие Баурджеда по приказу жреца записали на каменных плитах, чтобы сохранить навеки в недоступном подземелье до тех времен, когда стране потребуется это знание. Из самой далекой достигнутой ими страны за большой южной рекой Баурджед привез голубовато-зеленый прозрачный камень, неизвестный жителям Та-Кем. Такие камни добывались в Стране голубых степей, лежавшей в трех месяцах пути южнее большой реки. Баурджед поднес этот знак крайнего предела мира богу Тоту, и именно этот камень взял Яхмос с пьедестала статуи.
Яхмос не смог прочитать всей повести о путешествии. Едва дошел он до описания каких-то волшебных подводных садов, встреченных путешественниками в плавании по Лазурным Водам, как светильник погас, и грабитель с трудом выбрался из подземелий, захватив с собой только необыкновенный камень.
При свете дня кристалл из далеких земель оказался еще более прекрасным, и Яхмос не расставался с ним, но камень не принес ему счастья.
Пандиону предстоял великий путь на родину, и Яхмос надеялся, что камень, с которым Баурджед добрался домой из неслыханных далей, поможет и эллину.
— А разве ты не знал раньше ничего об этом путешествии? — спросил Пандион.
— Нет, оно осталось скрытым для сынов Кемт, — ответил Яхмос. — Пунт давно известен нам, много плаваний в разные времена совершили туда корабли Кемт, но земли далекого юга — по-прежнему для нас таинственная Страна духов.
— Но неужели не было других попыток достичь их, неужели никто не смог, подобно тебе, прочитать эти древние надписи и рассказать о них всем другим? — продолжал допытываться Пандион.
Яхмос задумался, не зная, что ответить чужеземцу.
— Властители юга — начальники южных провинций Та-Кем — не раз ходили в глубь южных стран. Но в записях перечисляется только добыча — слоновая кость, золото, рабы, доставленные фараону. И пути остаются неизвестными. А морем дальше Пунта никто не пытался плавать. Слишком велики опасности, и нет теперь столь храбрых людей, какие были в древности.
— Но почему же никто не прочел этих надписей? — не успокаивался Пандион.
— Не знаю… не могу тебе ответить, — признался египтянин.
Яхмос действительно не мог знать, что жрецы, в глазах жителей Черной Земли являвшиеся хранителями древних тайн и великими учеными, уже давно не были ими. Наука выродилась в религиозные обрядности и магические формулы, папирусы, заключавшие мудрость прошлых веков, истлели в гробницах. Храмы стояли в запустении и развалинах, никто не интересовался историей страны, отраженной в бесчисленных надписях на стойком камне. Яхмос не знал, что таков неизбежный путь всякой науки, оторвавшейся от животворных сил народа, замкнувшейся в узком кругу посвященных…
Близилось время рассвета. С тяжелым чувством Пандион простился с несчастным египтянином, у которого не оставалось никакой надежды на спасение.
Молодой эллин хотел взять кинжал, оставив камень Яхмосу.
— Неужели ты не понял, что мне более ничего не нужно? — сказал египтянин. — Зачем же ты хочешь бросить прекрасный камень здесь, в гнусной яме шене?
Пандион взял кинжал в зубы, а камень зажал в руке и поспешно пополз, старательно прячась в тень от луны, к своей клетушке.
До рассвета молодой эллин лежал без сна. Щеки его горели, дрожь пробегала по телу. Пандион думал о важном переломе в своей судьбе, о скором конце однообразной череды томительных дней тоски и отчаяния.
Входная дыра клетушки обозначилась серым пятном, из темноты выступил весь убогий обиход жилья Пандиона. Молодой эллин поднес кинжал к свету. Широкое лезвие из черной бронзы[150] с выпуклым ребром посередине было остро отточено. Массивная рукоятка с насечкой из азема изображала вытянувшуюся львицу — свирепую богиню Сохмет. Пандион вырыл кинжалом в углу под стенкой ямку и положил туда подарок, чтобы тщательно спрятать, но тут же вспомнил о камне. На ощупь отыскав его на соломе, юноша опять придвинулся к выходу, чтобы лучше рассмотреть кристалл.
Плоский обломок камня с округленными краями был величиной с наконечник копья. Он был тверд, чрезвычайно чист и прозрачен, цвет его казался серо-голубым в предрассветной печальной мгле.
Пандион выставил камень на раскрытой ладони в отверстие входа, и в это мгновение вспыхнуло поднимавшееся солнце. Камень преобразился — на ладони Пандиона лежал он, полный блеска, и его голубовато-зеленый цвет был неожиданно радостен, светел и глубок, с теплым отливом прозрачного золотистого вина. Зеркальная поверхность камня была отполирована, видимо, рукой человека.
Цвет камня напомнил Пандиону о чем-то близком, его отблеск согрел угнетенную душу юноши. Море — да, именно таким бывает море вдали от берегов, в часы, когда солнце высоко стоит в синеве безоблачного неба. Нутур аэ — божественный камень: так назвал его несчастный Яхмос.
Чудесная вспышка кристалла среди безрадостного утра показалась молодому эллину счастливым предзнаменованием.
Да, прощальный подарок Яхмоса был великолепен. Кинжал и невиданный камень! Пандион поверил, что камень послужит залогом его возвращения к морю. Морю, которое не обманет, вернет ему свободу и родину. Молодой эллин погрузился взглядом в прозрачную глубину камня, из которой всплывали волны у родных берегов…
Угрожающий рокот большого барабана пронесся над клетушками шене — сигнал утреннего подъема.
Пандион мгновенно решил — он не расстанется с необыкновенным камнем, не оставит этот символ свободного моря в пыльной земле шене. Пусть камень всегда будет с ним!
После нескольких не вполне удачных проб молодой эллин нашел наконец способ спрятать камень незаметно в своей набедренной повязке и, поспешно закопав кинжал, все-таки чуть было не опоздал к утренней еде.
По пути и во время работы в саду Пандион наблюдал за Кави и заметил, что тот перебрасывается короткими фразами то с одним, то с другим из известных Пандиону вожаков шене. Те поспешно отходили от этруска и что-то говорили другим.
Улучив момент, Пандион приблизился к Кави. Тот, не поднимая головы, склоненной над обтесываемой глыбой, быстро и негромко произнес, не переводя дыхания:
— Ночью, до восхода луны, в крайнем проходе у северной стены…
Пандион вернулся к своей работе. По дороге в шене он передал Кидого слова этруска.
Весь вечер провел Пандион в ожидании — давно уже не было у него такого подъема духа и готовности к борьбе.
Едва рабочий дом успокоился и воины на стенах задремали, в темноте клетушки Пандиона появился Кидого.
Два друга быстро поползли к стене и повернули в узкий проход между клетушками. Они достигли северной стены, где в узкой щели господствовала особенно глубокая тьма.
Воины редко ходили по этой стене — им удобнее было наблюдать с западной и с восточной стороны, вдоль проходов между клетушками. Поэтому можно было не опасаться, что охрана наверху услышит тихий разговор.
В проходе, в два ряда, упираясь ногами в стены и голова к голове, лежало не меньше шестидесяти рабов. Кави и Ремд — в середине. Старший этруск шепотом подозвал к себе Пандиона и Кидого.
Молодой эллин, нащупав руку этруска, протянул ему захваченный с собой кинжал. Кави в недоумении ощутил прохладный металл, порезал руку об острое лезвие и жадно схватил оружие, шепча благодарность.
Истосковавшийся по оружию бывалый воин обрадовался. Он понял, что, передавая драгоценный кинжал, молодой эллин тем сам признавал старшинство Кави, без слов выбирая его своим вождем.
Не спросив Пандиона, откуда он достал оружие, Кави заговорил, делая долгие паузы, чтобы лежавшие поблизости могли передать крайним, не имевшим возможности ничего расслышать. Совещание вожаков началось — решался вопрос о жизни и свободе пятисот людей, заключенных в шене.
Кави говорил о том, что нельзя откладывать мятеж, потому что впереди у них нет никаких надежд, положение может сделаться только хуже, если рабов снова разделят и разошлют.
— Силы, единственно обеспечивающие успех в бою, уходят в тяжкой работе на угнетателей, все меньшей бодростью и здоровьем обладают наши тела с каждым месяцем жизни в плену. Смерть в бою почетна и весела — в тысячу раз легче умереть сражаясь, чем умереть по ударами жестоких бичей!
Дружный шепот одобрения пронесся по рядам невидимых слушателей.
— Да, мятеж нельзя откладывать, — продолжал Кави, — но при одном условии: если мы найдем путь выхода из проклятой страны. Даже если мы отомкнем еще два—три шене, даже если мы достанем оружие, наша сила мала, мы не сможем продержаться долго. После великого мятежа рабов владыки Кемт стараются разъединить отдельные шене, у нас нет связи с ними, нам не удастся взбунтовать сразу множество людей. Мы находимся в самой столице, где много войска, и не можем идти по стране с боем. Лучники Айгюптоса страшны — у нас же почти не будет луков, да и не все способны хорошо владеть ими. Давайте думать, можно ли нам идти через пустыню на восток или на запад. В пустыне мы сможем оказаться очень скоро после выхода из шене. Если нельзя идти через пустыню, я думаю, нужно отказаться от мятежа — это будет напрасная трата сил и мучительная гибель. Тогда пусть бегут только те из нас, кто захочет попытаться пройти через верную смерть в маленькой надежде на свободу. Я, например, все равно буду пытаться.
Взволнованный шепот поднялся вокруг умолкнувшего этруска.
Слова его, переданные из конца в конец, вначале возбудившие боевое настроение, теперь посеяли сомнение среди смелых вожаков. Они отнимали надежду на благополучный исход, даже на призрак успеха, и самые храбрые бойцы заколебались. Разноязычный шепот витал в угольно-черной тьме прохода.
К центру группы, где лежали четыре друга, подполз густобородый аму — семит из-за Лазурных Вод. Его соплеменники составляли значительную часть всего населения рабочего дома.
— Я настаиваю на мятеже. Пусть смерть поглотит нас, но мы отомстим проклятым жителям проклятой страны! Мы покажем пример, которому будут следовать другие! Давно уже Кемт живет в мире, свирепое искусство угнетения отняло волю к борьбе у миллионов рабов. Мы зажжем ее снова…
— Хорошо, что ты думаешь так, ты храбрец, — прервал его Кави. — А что ты скажешь тем, кого поведешь за собой?
— То же скажу! — пылко ответил семит.
— И ты уверен, что за тобой пойдут? — прошептал этруск. — Правда слишком тяжела… а ложь в таком деле бесполезна — люди хорошо чувствуют, где правда. Их правда — та, что лежит в сердце каждого.
Семит ничего не ответил. В это время между лежащими протиснулось гибкое тело ливийца Ахми. Пандион знал, что этот молодой раб, плененный в сражении у Рогов Земли, происходил из знатного рода. Ливиец уверял, что близ гробниц древнейших царей Кемт, у городов Тинис и Абидос, идет на юго-запад дорога в Уахет-Уэр — большой оазис в пустыне. Тропа с хорошими колодцами, обильными водой, не охраняется войсками. Нужно войти в пустыню сразу за белым храмом Зешер-Зешеру и направиться на северо-запад, где в ста двадцати тысячах локтей от реки пересечь дорогу. Ливиец брался провести до тропы и дальше. В оазисе мало воинов, и мятежники сумеют захватить его. Дальше, за переходом через пустыню всего в двадцать пять тысяч локтей, лежит второй большой оазис — Пашт, вытянувшийся полосой по направлению к западу. Еще дальше будет оазис Мут, от которого тропа с колодцами ведет к холмам Мертвой Змеи, а оттуда дорога на юг, в страну черных, неведомую ливийцу.
— Я знаю эту дорогу, — вмешался Кидого, — по ней я шел в злой год моего плена.
— В оазисах большие запасы фиников, мы отдохнем. Там вовсе нет укреплений, и мы сможем взять с собой вьючных животных. С их помощью мы легко дойдем до Мертвой Змеи, а там, за Соляным озером, уже чаще попадается вода.
План ливийца вызвал общее одобрение. Он казался вполне осуществимым.
Все же осторожный Кави спросил ливийца:
— Ты уверен, что до колодцев от берега реки именно сто двадцать тысяч локтей? Это большой переход.
— Может быть, и немного больше, — спокойно ответил ливиец. — Но сильный человек может одолеть этот переход без воды при одном условии — начать путь никак не позже середины ночи и двигаться без отдыха. Больше одного дня и одной ночи в пустыне без воды не проживешь, а ходить после полудня тоже нельзя.
Один из азиатов — хериуша — предложил прямо напасть на крепость по дороге в гавань Суу, но как ни заманчива была попытка для рабов, большинство которых составляли азиаты и аму, пробиться прямо на восток, план был признан невыполнимым.
Предложение ливийца было куда надежнее, однако возникли разногласия между неграми и азиатами: путь на юго-запад уводил азиатов еще дальше от родины, но был выгоден неграм и ливийцам. Жители Ливии надеялись уйти на север от оазиса Мут и попасть в ту часть своей страны, которая не была подвластна войскам Кемт. Пандион и этруски намеревались идти с ливийцами.
Всех примирил пожилой нубиец, объявивший, что знает дорогу на юг в обход крепостей Черной Земли через степи страны Нуб к Лазурным Водам.
Узкий серп луны уже поднялся над уступами пустынных холмов, а мятежные рабы продолжали разрабатывать план бегства. Теперь обсуждались подробности восстания и распределялись роли каждой группы, предводительствуемой тем или иным вожаком.
Восстание было назначено через ночь, сразу же после наступления полной темноты.
Шестьдесят людей неслышно расползлись в разные концы шене, а наверху, на фоне освещенного низкой луной неба, четко выделялись фигуры стражей, ничего не подозревавших и полных презрения к спавшим в глубокой яме под их ногами.
Весь следующий день и ночь и еще день шла подготовка к восстанию, осторожная и незаметная. Опасаясь предателей, вожаки сговаривались только с хорошо известными им людьми, рассчитывая, что остальные, после того как стража будет перебита, все равно присоединятся к массе восставших.
Наступила ночь мятежа. В темноте неслышно собрались кучки людей, по одной у каждой из трех стен — северной, западной и южной. С восточной стороны, у внутренней стены, скопились две группы.
Передвижение людей произошло так быстро, что когда Кави стукнул камнем по опорожненному кувшину для воды, подавая сигнал атаки, рабы уже успели составить живые пирамиды. Тела семидесяти человек образовывали наклонную плоскость, прислоненную к отвесной стене. Таких живых мостов было пять, по ним со всех сторон взбирались опьяненные предстоящей битвой люди.
Кави, Пандион, Ремд и Кидого в числе первых поднялись на внутреннюю стену. Молодой эллин, ни секунды не раздумывая, прыгнул вниз, в черную тьму, а за ним бежали и прыгали десятки людей.
Пандион сбил с ног воина, выскочившего из сторожевого дома, и вскочил ему на спину, заворачивая назад голову. Позвонки египтянина слабо хрустнули, тело обмякло в руках Пандиона. Вокруг в темноте рабы с глухим ропотом разыскивали и хватали своих ненавистных врагов. В неистовстве люди кидались с голыми руками на вооруженных воинов. Не успевал воин вступить в бой с одним врагом, как сбоку и сзади на него набрасывались новые противники; безоружные, но сильные неистовой яростью, они вонзали зубы в руки, державшие оружие, впивались пальцами в глаза. Оружие, оружие любой ценой — такова была единственная мысль нападавших. Те, кому удавалось вырвать копье или нож, чувствуя в руках смертоносную силу, еще яростнее бросались на врагов. Пандион колол направо и налево отнятым у убитого врага мечом. Кидого действовал большой палкой, употреблявшейся для носки воды.
Кави, поднявшийся по живой лестнице, соскочил прямо на четырех воинов, дежуривших возле внутренней двери. Ошеломленные египтяне оказали лишь слабое сопротивление, буквально задавленные обрушившейся на них в молчании и тьме сверху массой людей.
С торжествующим криком Кави отодвинул тяжелый засов, и скоро толпа освобожденных рабов затопила пространство между стенами, вломилась в дом начальника шене, истребляя воинов, отдыхавших после смены караула.
Наверху на стенах схватка была еще более ожесточенной. Девять стражей, стоявших на стене, скоро заметили атакующих. Засвистели стрелы, молчание ночи огласилось людскими стонами, тупыми ударами о землю падающих с высоты тел.
Но девять египтян не могли долго противостоять сотне яростных рабов, которые с разбегу бросались прямо на копья, падали на стражей и вместе с ними скатывались со стены.
За это время в пространстве между стенами окончилась расправа с охраной и чиновниками. У убитого начальника охраны были найдены ключи от наружной двери. Визг ржавых петель разнесся в тишине ночи, как клич победы.
Копья, щиты, ножи, луки — все до последней стрелы было отобрано у убитых. Вооруженные рабы возглавили колонну беглецов, и все, храня молчание, быстрым шагом направились к реке. Дома по дороге были начисто ограблены, умерщвлены десятки жителей. Восставшие рабы разыскивали оружие, пищу. Только строгое запрещение вожаков удержало людей от желания поджечь все дома. Кави очень боялся раньше времени привлечь внимание войск из охраны столицы.
Началась переправа через реку на всех попавшихся под руку лодках, баржах и плотах. Несколько человек погибло в воде от громадных крокодилов, стороживших реку Та-Кем.
Не прошло и двух часов с начала мятежа, а головной отряд уже подходил к дверям шене, расположенного на противоположном берегу реки, по пути к храму Зешер-Зешеру.
Кави, Пандион и два ливийца открыто подошли к дверям и постучали, в то время как около сотни других рабов прижались к стене поблизости от двери.
Со стены раздался голос воина, спросившего у пришедших, что им надо. Ливиец, хорошо владевший языком Кемт, потребовал начальника шене, сославшись на письмо управляющего царскими работами. За дверью заговорило несколько голосов, вспыхнул факел, и раскрытая дверь показала пришельцам такой же точно междустенный двор, какой был только что покинут мятежниками. Из группы воинов выступил начальник стражи и потребовал письмо.
С яростным ревом Кави бросился на него и вонзил ему в грудь кинжал Яхмоса, а Пандион с ливийцами устремились на воинов. За ними, пользуясь смятением, с оглушительными криками ворвались стоявшие наготове вооруженные рабы. Факелы потухли, в темноте раздавались стоны, вопли, воинственные крики. Пандиону удалось быстро справиться с двумя противниками, и он отомкнул внутреннюю дверь. В проснувшемся от шума битвы шене раздался призыв к восстанию, рабы разных племен забегали по двору, созывая своих ошеломленных собратьев криками на родном языке. Рабочий дом загудел, как растревоженный улей; гул, все нарастая, перешел в низкий рев. Воины наверху на стенах метались, боясь спуститься, выкрикивая угрозы и посылая время от времени стрелы наугад в темноту. Но битва между стенами утихла, снизу со двора полетели меткие стрелы и копья в воинов, отчетливо видимых на стене, и второй шене был освобожден.
Недоумевающая, опьяненная свободой толпа выливалась из дверей, разбредаясь в разные стороны и не слушая призывов своих освободителей. Скоро исступленные вопли послышались со стороны селения, в ночи заалели пятна пожаров. Кави посоветовал другим вожакам поскорее собрать уже знакомых с дисциплиной товарищей по шене. Этруск задумчиво теребил свою бороду. В его устремленных вперед, на запад, глазах бегали красные огоньки — отблеск пожаров.
Кави думал о том, что, пожалуй, освобождение рабов из второго шене без всякой подготовки, проведенной среди рабов, оказалось ошибкой. Присоединение к восставшим, усвоившим понятие о совместной целеустремленной борьбе, неподготовленной, действовавшей вразброд, опьяненной возможностью мщения и свободой массы людей повредит, а не поможет успеху.
Так и оказалось. Значительная часть рабов из первого шене тоже увлеклась грабежом и разрушением. Кроме того, было потеряно время, каждая минута которого имела значение. Поредевшая колонна двинулась к третьему шене, располагавшемуся в восьми тысячах локтей от второго, совсем рядом с храмом Зешер-Зешеру.
Менять план восстания не было времени, и Кави предвидел серьезные затруднения. Действительно, этруск заметил при подходе к шене силуэты выстроившихся на стенах воинов, услышал крики “аату, аату!”[151] и свист стрел, которыми египтяне еще издалека встречали приближавшуюся колонну восставших.
Мятежники остановились для обсуждения плана атаки. Шене, подготовленное к обороне, было хорошей крепостью, и на взятие его требовалось время. Восставшие подняли страшный шум, чтобы спавшие рабы проснулись и напали на охрану изнутри. Но те медлили, очевидно не решаясь или же не догадываясь, как напасть на расположившуюся на стене стражу.
Кави, надрывая охрипшее горло, созывал вожаков, чтобы убедить их отказаться от нападения на шене. Те не соглашались: легко доставшаяся победа окрыляла их, им казалось возможным освободить всех рабов Кемт и овладеть страной.
Вдруг ливиец Ахми испустил пронзительный вопль, и сотни голов повернулись в его сторону. Ливиец размахивал руками, указывая по направлению реки. С возвышенного берега, наклонно поднимавшегося к скалам, река, омывавшая множество пристаней столицы, была видна далеко. И всюду мелькали бесчисленные огоньки факелов, сливавшиеся в тускло мерцавшую полосу; светящиеся точки виднелись и на середине реки, скоплялись в двух местах на берегу, где находились мятежники.
Сомнения не было: отряды многочисленных воинов переправлялись через реку, спеша окружить место, где пылал огонь пожаров и где находились взбунтовавшиеся рабы.
А здесь восставшие все еще метались из стороны в сторону, изыскивая способ нападения; некоторые пытались подойти к врагам по дну оросительного канала, другие выпускали драгоценные стрелы.
Кави обвел взглядом неопределенную по своим очертаниям темную массу людей. На его взгляд боеспособная колонна насчитывала не более трехсот человек, из которых меньше половины имели ножи и копья, а луков было добыто не более тридцати.
Пройдет немного времени, и сотни страшных лучников Черной Земли засыплют их издалека тучей длинных стрел, тысячи хорошо обученных воинов зажмут в кольцо едва отведавшую свободы толпу.
Ахми, гневно сверкая глазами, кричал, что подошла уже середина ночи и если они сейчас не уйдут, будет поздно.
Ливийцу, Кави и Пандиону пришлось потратить немало драгоценных минут, чтобы объяснить распаленным, жаждущим битвы людям бесполезность попытки противостоять войскам столицы. Вожаки настаивали на немедленном уходе в пустыню и в случае необходимости готовы были сделать это, бросив всех остальных, увлекшихся поисками оружия, мщением и грабежом. Часть несогласных рабов отделилась от колонны и направилась вниз, вдоль реки, к богатой усадьбе какого-то вельможи, откуда доносился шум и мелькали огни факелов. Остальные — их было немногим больше двухсот человек — подчинились.
Скоро темная, извивающаяся длиной змеей толпа втянулась в узкое ущелье между кручами еще раскаленных от дневного солнца скал и выбралась на плоский край долины. Бесконечная, усыпанная песком и щебнем равнина раскинулась перед беглецами. Пандион в последний раз оглянулся на слабо блестевшую внизу огромную реку. Сколько дней тоски, отчаяния, надежд и гнева провел он перед ее спокойно струившимся ликом! Радость, горячая благодарность к верным товарищам наполнили сердце молодого эллина. С торжеством он повернулся спиной к стране рабства и ускорил свои и без того быстрые шаги.
Отряд мятежников отошел уже на двадцать тысяч локтей от края долины, когда ливиец остановил колонну. Позади, на востоке, небо начало светлеть.
В сером свинцовом полусвете едва обрисовывались контуры округленных песчаных бугров, достигавших ста пятидесяти локтей высоты и смутно тянувшихся до хмурой полосы горизонта. В час рассвета пустыня молчала, воздух был неподвижен, шакалы и гиены утихли.
— Что хочешь ты, все время торопивший нас, чего ты медлишь? — спросили ливийца из задних рядов.
Ливиец объяснил, что начинается самая трудная часть пути: бесконечные гряды песчаных холмов. Дальше они становятся все выше, достигая трехсот локтей. Нужно построиться цепочкой, по два человека в ряд, и идти, не отставая, не обращая внимания на усталость. Кто отстанет, тот не дойдет. Ливиец будет идти впереди, выбирая путь между песчаными горами.
Выяснилось, что почти никто не успел напиться, и уже сейчас многие томились жаждой после горячки боя. Не все добыли плащи или куски материи для того, чтобы закрыть от солнца голову и плечи. Но делать уже было нечего.
Цепочкой в двести локтей длины люди двинулись дальше, молча глядя себе под ноги, вязнувшие в рыхлом песке. Передние ряды заворачивали то вправо, то влево, обходя сыпучие склоны — путь шел крутыми извивами.
На востоке загорелась широкая пурпурная полоса.
Серповидные или остро зазубренные гребни песчаных холмов окрасились золотом. Освещенная пустыня показалась Пандиону морем застывших высоких волн с гладкими скатами, отливающими оранжево-желтым цветом. Дикое возбуждение после ночи восстания медленно отступало, в души рабов проникал необычайный для них покой и мир. Молчание и простор пустыни в золотых далях утренней зари очищали истомленных в плену людей от долголетней злобы и страха, тоски и отчаяния.
Ярче становился окружающий свет, бездонней лазурь неба. Солнце поднималось выше; лучи его, сначала ласково гревшие, теперь палили и жгли. Замедленное, тяжелое продвижение в лабиринте глубоких душных ущелий между огромными холмами песка становилось вся тяжелее. Тени холмов сильно укоротились, по нагретому песку уже было больно ступать, но люди продолжали путь, не останавливаясь, не оглядываясь. Впереди бесконечно повторялись совершенно похожие друг на друга песчаные холмы, не давая возможности ничего видеть.
Время шло; воздух, солнечный свет и песок перестали существовать раздельно и слились в сплошном море пламени, слепящего, удушающего и обжигающего подобно расплавленному металлу.
Людям, происходившим из северных приморских стран, в том числе Пандиону и двум этрускам, было особенно трудно.
В голове молодого эллина, словно стиснутой обручем, бешено стучала кровь, отдаваясь невыносимой болью.
Ослепленные глаза почти перестали видеть — в них плавали, струились или быстро вращались пятна и полосы удивительно ярких цветов, сменявшихся в причудливых сочетаниях. Неистовая мощь солнца превратила песок в массу золотой пыли, пропитанной светом.
Пандион бредил наяву. В обезумевшем мозгу мелькали видения. В багровых вспышках огня двигались колоссальные статуи Айгюптоса, тонули в волнах фиолетового моря. Море, в свою очередь, расступалось, стада полузверей, полуптиц мчались куда-то, низвергаясь с отвесных обрывов удивительной высоты. И снова выстраивались в боевой порядок и шли на Пандиона гранитные фараоны Черной Земли.
Шатаясь, молодой эллин тер глаза, бил себя по щекам, стараясь видеть то, что было на самом деле — пышущие жаром откосы песка, заходящие друг за друга в слепящем золотисто-сером свете. Но снова крутились цветистые огненные вихри, и тяжелый бред овладевал Пандионом. Только страстное желание быть свободным заставляло его передвигать ноги в такт с черными ногами Кидого, и тысячи песчаных бугров отходили назад, к Айгюптосу. Новые цепи высоких песчаных гор встали перед беглецами, разделенные огромными гладкими воронками, в глубине которых выступали угольно-черные участки почвы.
Молящие хриплые стоны все чаще пробегали по длинной цепочке рабов; здесь и там обессиленные люди падали на колени или прямо лицом в раскаленный песок, упрашивая товарищей прикончить их.
Угрюмо отворачиваясь, люди продолжали идти, и просьбы затихали позади, за мягкими по своим очертаниям горами песка. Песок, песок, раскаленный, чудовищный в своей массе, необозримый, тихий и зловещий, казалось, затопил всю вселенную морем душного, сыпучего пламени.
Впереди, в золотистом огне солнца, мелькнул далекий серебристый проблеск. Ливиец издал слабый ободряющий крик. Все яснее вдали вырисовывались пятна, сверкавшие нестерпимо ярким голубым сиянием. Это были участки почвы, покрытой кристаллической солью.
Песчаные холмы мельчали, понижались и скоро превратились в небольшие кучи затвердевшего, слежавшегося песка, и ноги идущих стали двигаться легко, освобожденные от привязчивых объятий рыхлых песков. Желтая твердая глина, изборожденная темными трещинами, казалась гладкой плитой дворцовой аллеи.
Солнце еще на целую ладонь не дошло до полудня, а мятежные рабы уже достигли обрывистого невысокого уступа из коричневого слоистого камня и повернули под прямым углом налево, на юго-запад. В короткой расщелине, широким углом врезавшейся в уступ скалы и издали черневшей подобно отверстию пещеры, располагался древний колодец — родник с прохладной и чистой водой.
Предотвращая свалку обезумевших от жажды людей, Кави поставил самых сильных у входа в ущелье. Сначала напоили наиболее ослабевших.
Солнце уже давно перешло за полдень, а люди всё пили и пили, отползали в тень обрыва со вздувшимися животами и снова возвращались к воде. Постепенно беглецы оживали, послышалась быстрая речь выносливых негров, отрывистый смех, легкая перебранка… Но веселье не приходило к ободрившимся людям — много верных товарищей осталось умирать в лабиринте песчаных гор, товарищей, только что ступивших на дорогу свободы, мужественно боровшихся, презирая смерть, сливших свои усилия в беззаветном порыве с усилиями тех, которые спаслись.
Пандион с удивлением смотрел, как преобразились рабы, с которыми он провел так много времени в шене. Исчезло тупое равнодушие к окружающему, лежавшее одинаковой печатью на усталых, изможденных лицах.
Глаза, прежде тусклые и безразличные, теперь внимательно и живо смотрели кругом, черты суровых лиц как бы выступали резче. Это были уже люди, а не рабы, и Пандион вспомнил, как прав был мудрый Кави, когда упрекнул его в презрении к своим товарищам. Жизненная неопытность Пандиона помешала ему понять людей. Молодой эллин принял тяжкую угнетенность от долгого плена за природные свойства пленников.
Люди скучились у склона ущелья в небольших пятнах спасительной тени. Скоро непробудный сон овладел всеми — погони можно было не опасаться в этот день: кто, кроме людей, решившихся на смерть ради свободы, сможет днем пройти через пылающий ад песчаного моря?
Беглецы отдыхали до заката, и усталые ноги опять стали легкими. Небольшое количество пищи, которое сумели пронести через пески самые сильные, было тщательно разделено между всеми.
Предстоял большой переход до следующего родника: ливиец говорил, что придется идти всю ночь, зато на рассвете, еще до наступления жары, они будут у воды. За этими колодцами снова лежит область песчаных холмов — последняя перед большим оазисом. К счастью, она не широка — не больше, чем пройденная, и если мятежники выступят к вечеру, когда солнце придет на юго-запад, то ночью войдут в большой оазис, где достанут пищу. Таким образом, без еды придется быть всего сутки.
Все это казалось не страшным людям, испытавшим так много. Главное, окрыляющее и бодрящее, заключалось в том, что они, свободные, уходили все дальше и дальше от проклятой страны Кемт, все меньше становилась вероятности, что их настигнет погоня.
Закат потухал; на пламя горящих углей сыпался серый пепел. Последний раз вдоволь напившись, беглецы двинулись в путь.
Удручающая жара исчезла, развеянная черным крылом ночи. Темнота ласково и мягко обнимала сожженных пламенем пустыни людей.
Они пошли по низкому ровному плоскогорью, усыпанному массой остроугольного щебня, резавшего ноги неосторожных путников.
К середине ночи беглецы спустились в широкую долину, усеянную серыми каменными шарами. Странные камни от одного до трех локтей в поперечнике лежали повсюду, точно рассыпанные неведомыми богами мячи. Люди, шедшие уже не цепочкой, а нестройной толпой, пересекали долину наискось, направляясь к подъему, видневшемуся далеко впереди.
После оглушающе тяжелого дня, когда с такой беспощадностью проявлялась слабость человека, тихий покой ночи был глубок и задумчив. Пандиону показалось, что бесконечная пустыня поднялась к небесному своду, звезды сделались совсем близкими в прозрачном воздухе, пронизанном каким-то темным сиянием. И пустыня стала частью неба, слилась с ним, поднимая человека над его страданиями, оставляя наедине с вечностью пространства. Взошла луна, и серебряный покров света лег на темную почву.
Отряд рабов достиг подъема. Пологий склон был выложен плитами крепкого известняка. Плиты, отполированные до блеска песчаными вихрями, зеркально отражали свет луны и казались голубой стеклянной лестницей, ведущей в небо.
Пандион ступил на их скользкую холодящую поверхность, и ему показалось, что он поднимается по сверкающим небесным ступеням. Еще немного — и он достигнет темно-синего свода неба, ступит на серебряную арку Млечного Пути и пойдет по звездному саду, далекий от всех тревог.
Но подъем окончился, лестница потухла, начался длинный спуск в расползавшуюся внизу чернеющей плоскостью равнину, засыпанную крупным песком. Она замыкалась цепью зубчатых утесов, торчавших наклонно из песка, как обрубки исполинских бревен. Отряд подошел к скалам уже на рассвете и долго двигался по лабиринту узких трещинообразных обрывов, пока проводник-ливиец не нашел источник. С утесов было видно полчище новых песчаных гор, враждебным кольцом обступивших скалы, в которых укрылись беглецы. Глубокие фиолетовые тени лежали между розовыми скатами песков. Пока, у воды, песчаное море не было страшно.
Кидого нашел защищенное от солнца место, где гигантский каменный куб высился над стенами песчаниковых слоев, обрезанных с севера глубокой промоиной. Между утесами было достаточно тени для всего отряда, и она должна была скрывать людей до захода солнца.
Усталые люди мгновенно заснули — теперь оставалось только ждать, пока неистовствующее в высоте солнце, спускаясь, не начнет смиряться. Небо, такое близкое ночью, вновь вознеслось в недостижимую даль и оттуда слепило и жгло людей, как будто в отместку за ночную передышку. Время шло; мирно спавших людей окружил знойный океан солнечного огня, уничтожающий все живое.
Чуткий Кави проснулся от слабых жалобных стонов. Этруск с недоумением поднял отяжелевшую голову и прислушался. Кругом изредка слышался сильный треск, сменявшийся протяжными, жалобными стонами, полными тоски. Звуки усилились; многие беглецы проснулись, в страхе оглядываясь кругом. Ни признака движения не было среди раскаленных скал, все товарищи были на прежних местах, продолжали спать или прислушивались. Кави разбудил безмятежно спавшего Ахми. Ливиец сел, широко зевнул и затем рассмеялся прямо в лицо удивленному и встревоженному этруску.
— Камни кричат от солнца, — пояснил ливиец, — это знак, что жара спадает.
От голоса камней в грозном молчании пустыни, полного какой-то безнадежности, беглецам стало не по себе. Ливиец влез на утес, посмотрел вокруг сквозь щель в сложенных ладонях и объявил, что скоро можно будет трогаться в последний переход до оазиса: нужно напиться в дорогу.
Хотя солнце уже сильно склонилось к западу, песчаные горы продолжали пылать. Казалось совершенно невозможным покинуть тень и выйти в это море огня и света. Но люди без единого протеста построились попарно и направились вслед за ливийцем — так силен был зов свободы.
Пандион шел теперь в третьем ряду от ливийца Ахми и по-прежнему рядом с Кидого.
Неистощимая выносливость и добродушная веселость негра ободряли молодого эллина, чувствовавшего себя неуверенно перед страшной мощью пустыни.
Враждебное палящее дыхание ее опять заставляло людей низко опускать головы. Они прошли уже не меньше пятнадцати тысяч локтей, когда Пандион заметил легкое беспокойство проводника-ливийца. Ахми два раза останавливал колонну, забирался, утопая по колени в песке, на верхушки песчаных холмов, осматривал горизонт. На вопросы ливиец не отвечал.
Высота холмов уменьшилась, и Пандион обрадованно спросил Ахми, не кончаются ли пески.
— Еще далеко, много песка! — хмуро отрезал проводник и повернул голову на северо-запад.
Посмотрев туда же, Пандион и Кидого увидели, что горящее небо там закрыто свинцовым туманом. Сумрачная пелена, поднимавшаяся ввысь, побеждала исполинскую мощь солнца и сияние неба.
Вдруг послышались звонкие и приятные звуки — высокие, певучие, чистого металлического тона, как будто серебряные трубы начали за буграми песков странную мелодию.
Они повторялись, нарастая, все более громкие и частые, и сердца людей забились сильнее под влиянием бессознательного страха, который несли эти серебристые звучания, ни на что не похожие, далекие от всего живого.
Ливиец остановился и с жалобным криком упал на колени. Подняв руки к небу, он молился богам, просил защитить от ужасного бедствия. Испуганные беглецы тесно сбились вместе в узком пространстве между тремя песчаными холмами. Пандион вопросительно посмотрел на Кидого и изумился — черная кожа негра стала серой. Молодой эллин впервые видел своего друга испуганным и не знал, что так бледнеют чернокожие. Кави схватил за плечо проводника и, без усилия подняв его на ноги, злобно спросил, что случилось.
Ахми повернул к нему искаженное от страха лицо, покрывшееся крупными каплями пота.
— Песок пустыни поет, зовет ветер, а с ними прилетает и смерть, — хрипло проговорил ливиец. — Идет песчаная буря…
Гнетущее молчание повисло над отрядом, нарушаемое только звуками поющего песка.
Кави стоял в недоумении — он не знал, что делать, а те, кто знал, понимали силу грозящей опасности и тоже молчали.
Наконец Ахми опомнился:
— Вперед, скорее вперед! Я видел там скалистую площадку, свободную от песка: нужно успеть дойти до нее. Здесь смерть неизбежна — всех засыплет песком, а там… может быть, кто-нибудь спасется…
Испуганные люди устремились за бежавшим ливийцем.
Свинцовый туман превратился в багровую мглу, затянувшую все небо. Вершины песчаных холмов зловеще задымились, дыхание ветра коснулось воспаленных лиц роем мельчайших песчинок. Стало нечем дышать, воздух точно пропитался жгучим ядом. Но вот расступились песчаные бугры, и беглецы оказались на небольшом клочке каменистой почвы, почерневшей и сглаженной. Вокруг нарастал грохот и гул несущегося издалека ветра, багряное облако быстро потемнело снизу, будто черная завеса задернула небо. Она вверху осталась темно-красной, бледный диск солнца скрылся в страшной туче. Подражая более опытным, люди поспешно срывали с себя набедренные повязки, тряпки, прикрывающие головы и плечи, укутывали лица и падали ниц на неровную поверхность горячего камня, прижимаясь друг к другу.
Пандион немного замешкался. Последнее, что он увидел, наполнило его ужасом. Все вокруг пришло в движение. По черной почве покатились камни в кулак величиной, точно сухие листья, гонимые осенним ветром. Холмы выбросили по направлению к беглецам толстые извивающиеся щупальца, песок задвигался и быстро понесся, растекаясь кругом, точно вода, выброшенная бурей на отлогий берег. Клубящаяся масса налетела на Пандиона — юноша упал и больше ничего не видел. Сердце колотилось, и каждый его удар отдавался в голове. Участившееся дыхание с трудом прорывалось сквозь горло и рот, казалось покрывшиеся твердой коркой.
Свист ветра звучал высокими нотами, заглушенный глухим шумом несущегося песка, пустыня грохотала и ревела вокруг. В голове Пандиона помутилось, он боролся с бесчувствием, куда погружала его душившая, иссушающая буря. Отчаянно кашляя, молодой эллин освобождал горло от песчаной пыли и вновь начинал учащенно дышать. Вспышки сопротивления Пандиона повторялись все реже. Наконец он потерял сознание.
А гром бури становился все увереннее и грознее, его раскаты перекатывались по пустыне, как гигантские медные колеса. Каменистая почва содрогалась ответным гулом, как металлический лист, а над ней неслись тучи песка. Песчинки, насыщенные электричеством, вспыхивали голубыми искорками, и вся масса движущегося песка катилась, полная синеватых сверканий. Казалось, с минуты на минуту польется дождь и свежая вода спасет иссушенных знойным воздухом, впавших в беспамятство людей. Но дождя не было, а буря продолжала грохотать. Темная груда человеческих тел покрывалась все более толстым слоем песка, скрывавшим слабые движения, заглушавшим редкие стоны…
Пандион открыл глаза и увидел на фоне звезд силуэт черной головы Кидого. Как потом узнал Пандион, негр долго хлопотал над безжизненными телами друзей — молодого эллина и этрусков.
В темноте возились люди, раскапывая занесенных песком товарищей, прислушиваясь к слабому трепету жизни в груди бесчувственных, отодвигая в сторону погибших.
Ливиец Ахми со своими привычными к пустыне соплеменниками и несколько негров ушли назад, к источнику в скалах. Кидого остался с Пандионом, не в силах покинуть едва дышавшего друга.
Наконец полуживые, почти не различавшие дороги пятьдесят пять человек пошли, держась друг за друга, с Кидого во главе, по следам ушедших. Никто не думал о том, что им пришлось повернуть назад, может быть, навстречу возможной погоне — в мыслях каждого была только мечта о воде. Вода, оттеснившая волю к борьбе, погасившая все стремления, — вода была маяком в смутной горячке распаленного мозга.
Пандион потерял всякое представление о времени, забыл о том, что они отошли от источника не более чем на двадцать тысяч локтей, забыл обо всем, кроме того, что надо держаться за плечи впереди идущего и вяло ступать в такт товарищам. Примерно на середине пути они услышали впереди голоса, показавшиеся необыкновенно громкими: Ахми и двадцать семь человек, ушедших с ним, спешили навстречу, бережно неся пропитанные водой тряпки и две старые тыквенные бутылки, найденные у источника.
Люди нашли в себе силы отказаться от воды, предложив Ахми дойти до оставшихся на месте катастрофы.
Сверхчеловеческие усилия требовались для того, чтобы вернуться к колодцу, силы убывали с каждым десятком шагов, тем не менее люди молча пропустили группу водоносов и поплелись дальше.
Зыблющийся черный туман застилал взоры спотыкавшихся людей, некоторые падали, но, подбодренные уговорами, поддерживаемые более выносливыми товарищами, продолжали путь. Пятьдесят пять человек не могли вспомнить последнего часа пути — люди шли почти бессознательно, ноги их продолжали свои неверные, замедленные движения. И все же путники дошли, вода вернула сознание, напитала их тела, позволила сгустившейся крови вновь размягчить высохшие мышцы.
И как только путники пришли в себя, они вспомнили о товарищеском долге. Едва оправившись, они пошли назад по примеру первых, неся навстречу бредущим где-то в песках источник жизни — воду, капавшую с мокрых кусков ткани. И эта помощь была неоценимой, потому что пришла как раз вовремя. Солнце уже всходило. Последнюю группу оставшихся в живых поддержала принесенная ливийцами вода. Люди остановились посреди песков, будучи не в силах идти дальше, несмотря на уговоры, понукания и даже угрозы. Мокрые тряпки дали людям еще час отсрочки — время, оказавшееся достаточным для того, чтобы добраться до колодца.
Так вернулся к воде еще тридцать один человек; всего спаслось сто четырнадцать — меньше половины вошедших в пустыню два дня назад. Самые слабые погибли еще при первом переходе через пески, теперь страшная катастрофа погубила множество отличных, мощных бойцов. Будущее казалось уже гораздо менее определенным. Вынужденное бездействие угнетало, силы для продолжения намеченного пути еще не вернулись, оружие было брошено там, где застигла людей песчаная буря. Если бы у мятежников была пища, то они скорее восстановили бы силы, но остатки еды были разделены еще в начале прошлой ночи.
Солнце пламенело в чистом, ничем не затуманенном небе, и те из оставшихся на месте катастрофы, в которых еще теплилась угасавшая жизнь, теперь наверняка погибли.
Спасшиеся укрывались в щели между скалами, где лежали сутки назад вместе с теми, которых уже не было. Как и вчера, люди ждали вечера, но уже не только убыли дневного жара, а наступления ночи, надеясь, что ее прохлада даст возможность ослабевшим продолжать борьбу с пустыней, стоявшей на пути к родине.
Этой последней надежде не суждено было осуществиться.
С наступлением вечера беглецы почувствовали, что могут потихоньку двигаться дальше, как вдруг услыхали вдалеке хриплый рев осла и лай собак. Несколько времени мятежники надеялись, что это торговый караван или отряд сборщика податей, но вскоре на сумеречной равнине показались всадники. Знакомые уже крики “Аату!” огласили пустыню. Бежать было некуда, сражаться нечем, прятаться бесполезно — злые остроухие собаки разыскали бы беглецов. Несколько мятежников опустились на землю — последние силы оставили их, другие растерянно заметались среди камней. Некоторые в отчаянии рвали на себе волосы. Один из ливийцев, совсем молодой, жалобно застонал, и крупные слезы покатились из испуганных глаз. Аму и хериуша стояли, понурив головы и скрежеща зубами. Несколько человек бессознательно бросились бежать, но были сейчас же остановлены собаками.
Более выдержанные оставались на месте, словно оцепеневшие, напрягая ум в поисках спасения. Воинам Черной Земли без сомнения повезло: они настигли беглецов, когда они были совсем без сил. Если бы хоть половина былой энергии оставалась у мятежников, большинство их предпочло бы смерть в неравном бою вторичному плену. Но сейчас силы восставших были исчерпаны — беглецы не оказали сопротивления подъезжавшим с луками наготове воинам. Борьба за свободу окончилась — теперь в тысячи раз счастливее были те, которые спали вечным сном там, среди разбросанного оружия.
Измученные, потерявшие надежду рабы стали покорными и безучастными.
Вскоре все сто четырнадцать человек со связанными назад руками, скованные за шеи цепочками по десятку, побрели на восток под ударами бичей. Несколько воинов поехало на место катастрофы, чтобы удостовериться в гибели остальных.
Преследователи рассчитывали получить награду за каждого приведенного назад человека. Только это спасло беглецов от жестокой смерти. Ни один не погиб в этом ужасном обратном походе, когда они шли нагие и связанные, исхлестанные бичами, не получая пищи. Караван медленно двигался, обходя пески по дороге.
Пандион брел, не смея взглянуть на товарищей, не воспринимая внешних впечатлений. Даже удары бича не выводили молодого эллина из оцепенения. Единственным воспоминанием, сохранившимся у Пандиона от обратного пути в рабство, был момент, когда они достигли долины Нила, недалеко от города Абидоса. Начальник отряда задержал караван, высматривая пристань, где пойманных должна была ждать барка. Пленники сгрудились на краю спуска в долину, некоторые опустились на землю. Утренний ветер доносил запах свежей воды.
Пандион вдруг увидел на краю пустыни веселые нежно-голубые цветы. Качаясь на своих высоких стебельках, они распространяли тонкий аромат, и у Пандиона мелькнула мысль, что утраченная воля посылает ему свой последний дар.
Губы молодого эллина, растрескавшиеся и кровоточившие, зашевелились, неуверенные, слабые звуки вырвались из горла. Кидого, с тревогой присматривавшийся к другу на остановках — негр оказался в другой цепочке, — прислушался.
— Голубые… — донеслось до него последнее слово. Пандион погрузился в прежнее оцепенение.
Беглецов освободили от пут и загнали в барку, доставившую их к окрестностям столицы. Там их, как особо опасных и стойких мятежников, бросили в тюрьму, в которой они должны были ожидать неизбежной ссылки на золотые рудники.
Тюрьма представляла собой огромную яму, вырытую в сухой и плотной земле, облицованную кирпичом и перекрытую несколькими крутыми сводами. Вместо окон были пробиты вверху четыре узенькие щели, вместо двери — наклонный люк в потолке, через который спускали воду и бросали пищу.
Полумрак, всегда царивший в яме, оказался благодеянием для беглецов: у многих из них от страшного света пустыни болели воспаленные глаза, и пленники, оставаясь на солнце, неминуемо бы ослепли.
Как мучительно было после нескольких дней свободы пребывание в темной, вонючей яме — об этом могли поведать лишь сами заключенные.
Но их наглухо отрезали от мира, до их чувств и переживаний никому не было дела.
И все же, несмотря на безвыходность положения, едва только люди оправились от последствий трудного похода, они снова начали на что-то надеяться.
Опять заговорил Кави, как всегда несколько грубовато излагая понятные всем мысли. Опять раздался смех Кидого, зазвучали резкие выкрики ливийца Ахми. Пандион, тяжело переживавший крушение надежд, приходил в себя медленнее.
Не раз молодой эллин нащупывал в своей набедренной повязке камень — чудесный подарок Яхмоса, но ему казалось кощунством достать прекрасную вещь здесь, в мерзкой, темной яме. К тому же камень обманул его — он не оказался волшебным, не помог добиться свободы и достигнуть моря.
Все-таки Пандион однажды украдкой извлек зелено-синий кристалл и поднес его к бледному лучу, опускавшемуся из щели, но не достигавшему пола подземелья. При первом же взгляде, брошенном на радостную прозрачность камня, желание жить и бороться снова заговорило в Пандионе. Он лишился всего — он даже не смеет подумать о Тессе, не смеет вызвать образы родины. Все, что у него осталось, — это камень, как мечта о море, о когда-то бывшей, иной, настоящей жизни. И Пандион стал часто любоваться камнем, находя в его прозрачной глубине ту крохотную долю отрады, без которой никому невозможно жить.
Не более десяти дней провел Пандион с товарищами в подземелье. Без допросов, без всякого суда участь беглых рабов была решена властвующими людьми там, наверху. Неожиданно открылся люк, в отверстие упала деревянная лестница. Рабов выводили наверх и, ослепленных дневным светом, связывали и сковывали цепочкой по шести. Затем мятежников повели к Нилу и немедленно погрузили на большую барку, вскоре отплывшую вверх по реке. Бунтовщиков отправляли на южную границу Черной Земли, к Вратам Юга,[152] откуда им предстоял последний и безвозвратный путь в страшные золотые рудники страны Нуб.
Через две недели после того, как беглецы сменили подземную тюрьму на плавучую, в пятистах тысячах локтей вверх по реке, к югу от столицы Кемт, в роскошном дворце начальника Врат Юга на острове Неб происходило следующее.
Начальник Врат Юга, он же начальник провинции Неб, жестокий и властный Кабуефта, почитавший себя вторым человеком после фараона в Черной Земле, вызвал командующего своими войсками, начальника охот и главного каравановожатого Юга.
Кабуефта принял вызванных на балконе дворца за обильным угощением, в присутствии главного писца. Крупный и мускулистый, Кабуефта надменно возвышался над собеседниками, сидя, в подражание фараону, на высоком кресле из черного дерева и слоновых клыков.
Он несколько раз перехватывал вопросительные взгляды, которыми обменивались созванные им сановники, и усмехался про себя.
С балкона дворца, стоявшего на возвышенной части острова, открывался вид на широкие рукава реки, обтекавшие группу храмов из белого известняка и красного гранита. По берегам шла густая поросль высоких пальм, листва которых темной перистой полосой тянулась вдоль подошвы крутого скалистого берега. С юга подходила отвесная стена гранитного плоскогорья, в восточном конце которой располагался первый порог Нила. Там долина реки сразу сужалась, простор возделанной спокойной равнины обрывался у неизмеримого пустынного пространства страны золота Нуб. С уступов скал смотрели на дворец могилы знаменитых предков — владык Врат Юга, бесстрашных исследователей страны черных, начиная с самого великого Хирхуфа.[153] Рядом, на тщательно обтесанной скалистой стене, виднелась огромная надпись. С балкона строчки крупных иероглифов казались лишь правильными серыми линиями, но начальнику Юга не нужно было читать горделивую надпись своего предка Хему. Кабуефта знал наизусть каждое слово и каждое мог отнести к себе.
“В год восьмой… хранитель печати, заведующий всем, что есть и чего нет, заведующий храмами, закромами и белой палатой, хранитель Врат Юга…”[154]
Даль тонула в сероватой дымке зноя, но на острове было прохладно — северный ветер боролся с наступающей с юга жарой, отгоняя ее назад, в пустынные, сожженные степи.
Начальник Юга долго смотрел вдаль на гробницы предков, потом жестом приказал присутствовавшему рабу налить по последнему бокалу вина. Угощение было окончено, гости поднялись и последовали за хозяином во внутренние покои дворца. Они очутились в квадратной, не очень высокой комнате, отделанной с изяществом и вкусом великих времен Менхеперры.[155] Гладкие белые стены были у пола украшены широким светло-синим бордюром со сложным прямолинейным орнаментом из белых линий, у потолка шла узкая полоса из цветов лотоса и символических фигур, изображенных синей, зеленой, черной и белой красками на фоне матового золота.
Потолок, очерченный узкой полоской черных и золотых клеток, пересекался четырьмя параллельными брусками из дерева глубокого вишневого цвета. В промежутках между брусками вся поверхность потолка была покрыта пестрым узором золотых спиралей и белых розеток на меняющихся в шахматном порядке красных и голубых квадратах.
Широкие косяки дверей из гладких полированных досок кедра окаймлялись узкими черными полосками, прерванными множеством двойных поперечных голубых черточек.
Ковер, несколько складных стульев из слоновой кости с верхом из леопардовой шкуры, два кресла черного дерева с золотой инкрустацией и несколько ящиков на ножках, служивших одновременно столиками, составляли все убранство просторной и светлой, наполненной чистым воздухом комнаты.
Кабуефта не спеша уселся в кресло, и его резкий профиль четко обрисовался на белоснежной стене. Сановники придвинули стулья поближе, главный писец встал у высокого столика черного дерева, инкрустированного золотом и слоновой костью.
На блестящей доске стола лежал свиток папируса с красно-белой печатью. По знаку начальника Юга писец развернул свиток и застыл в почтительном молчании.
Командующий войсками, тощий, с лысой головой, без парика, подмигнул маленькому плотному каравановожатому, давая понять, что сейчас начнется разговор, для которого они созваны.
Действительно, Кабуефта склонил голову и заговорил, обращаясь ко всем присутствующим:
— Их величество, владыка обеих стран Черной Земли, жизнь, здоровье, сила, прислал мне поспешное письмо. В нем повелел их величество совершить неслыханное — доставить в город живого носорогого зверя, какие обитают за страной Вават, отличающегося чудовищной силой и свирепостью. Много зверей из дальних стран Юга доставлялось живыми в Великий Дом в прошлые времена. Люди “Города” и люди Тамери-хеб видели больших обезьян, жирафов, зверей Сетха и земляных свиней,[156] свирепые львы и леопарды толпой сопровождали великого Усермар-Сотепенру,[157] и даже сражались с врагами Та-Кем[158] но никогда не было поймано ни одного из носорогов… С незапамятных времен владыки Юга доставляли Черной Земле все потребное из стран черных; казалось, для них не было невозможного. Я хочу продолжить этот славный обычай: Та-Кем должен увидеть живого носорога. Я призвал вас, чтобы посоветоваться, каким наиболее легким способом мы сможем доставить в Кемт хотя бы одного из этих страшных зверей… Что скажешь ты, Нэзи, видавший столько славных охот? — Он обратился к начальнику охот, хмурому, тучному человеку, вьющиеся волосы, темная кожа и горбатый нос которого выдавали его происхождение от гиксосов.
— Неописуемо страшен зверь южных степей, кожа его непроницаема для копий, сила подобна силе слона, — заговорил Нэзи с важностью. — Нападает он первый, круша и давя все, что станет на его пути. В яму его не поймать: грузный зверь неминуемо покалечится. Но если сделать большую охоту и разыскать матку с детенышем, то можно, убив мать, захватить в плен детеныша и доставить его в Кемт…
Кабуефта сердито стукнул по подлокотнику кресла:
— Семь и семь раз к ногам Великого Дома, моего владыки, припадаю я! Тьфу на тебя, — палец владыки Юга ткнул в оторопевшего начальника охот, — который грешит против их величества! Мы должны доставить им не полуживого малыша, а зверя — нефер-неферу,[159] в цвете сил, внушающего полную меру страха. И нельзя ждать, пока детеныш подрастет у нас в плену… Повеление надо выполнить с быстрой готовностью, тем более что зверь этот водится далеко от Врат Юга.
Каравановожатый Пехени посоветовал отправить сотни три наиболее отважных воинов без оружия, с веревками и сетями, которые смогут поймать чудовище.
Командующий войсками Сенофри недовольно поморщился; нахмурился и Кабуефта.
Тогда каравановожатый поспешил добавить, что можно и не отправлять воинов, а заставить нубийцев самих поймать зверя.
Кабуефта покачал головой, искривив рот презрительной усмешкой:
— Времена Менхеперры и Сотепенры давно миновали — презренные жители страны Нуб уже не согнуты в покорности. Сенофри знает, с какими усилиями и хитростями мы сдерживаем вожделения их голодных ртов… Нет, это не годится, нам придется самим выполнить повеление.
— Если вместо воинов пожертвовать рабами… — осторожно вставил Сенофри.
Задумавшийся Кабуефта оживился:
— Клянусь Маат, ты прав, мудрый начальник войска! Я возьму из тюрем мятежников и беглецов, этих наиболее смелых рабов. Они поймают чудовище.
Начальник охоты недоверчиво улыбнулся:
— Ты мудр, владыка Юга, но осмелюсь спросить: чем заставишь ты идти рабов на верную смерть от страшного чудовища? Угрозы не помогут — ты сможешь поставить против смерти только смерть. Какая им будет разница?
— Ты знаешь зверей лучше, чем людей, Нэзи, поэтому оставь мне людей. Я обещаю им свободу. Те, кто уже шел на смерть ради нее, пойдут еще раз. Вот почему я хочу взять мятежных рабов.
— И выполнишь обещание? — снова спросил Нэзи.
Кабуефта надменно выпятил нижнюю губу:
— Владыки Юга не унижаются до лжи перед рабами. Но назад они не вернутся… Оставим это… Лучше скажи мне, сколько людей понадобится для того, чтобы схватить зверя, и далек ли путь до мест, где он обитает.
— Нужно две сотни людей. Зверь растопчет половину, остальные задавят его кучей и свяжут. Через две луны начнется время наводнения, в стране Нуб пойдут дожди, травы степи оживут. Тогда звери пойдут на север за травой, и их можно будет найти у самой реки, в области шестой ступени. Самое главное, чтобы поймать зверя недалеко от реки, иначе воины не доставят чудовище весом в семь быков живым. А по реке мы сплавим его в большой клетке до самого “Города”…
Начальник Юга соображал, что-то подсчитывая, губы его шевелились.
— Хет![160] — сказал он наконец. — Полтораста рабов достаточно, если люди будут хорошо биться. Сотню воинов, двадцать охотников и проводников. Ты примешь начальство над всеми, Нэзи! Приступай к делу безотлагательно. Сенофри отберет надежных воинов и мирных негров.[161]
Начальник охоты поклонился.
Сановники покинули комнату, посмеиваясь над новым поручением Нэзи.
Кабуефта усадил писца и стал диктовать письмо начальнику тюрем обоих городов, расположенных у Врат, — Неб и Севене.
Глава пятая ЗОЛОТАЯ СТЕПЬ
У подножия лестницы, спускавшейся с холма к южной оконечности острова Неб, стояла толпа рабов, прикованных к большим бронзовым кольцам столбов из красного гранита, возвышавшихся на нижней площадке. Здесь были все сто четырнадцать уцелевших беглецов и еще сорок негров и нубийцев со свирепыми лицами, с телами, испещренными рубцами заживших ран. Долго томились люди на палящем солнце, ожидая решения своей участи.
Наконец на верхней площадке лестницы показался высокий человек в белом одеянии, с золотом, сверкавшим на лбу, на груди и на черном посохе. Он медленно шел под сенью двух опахал. Их несли нубийские воины. Несколько человек, судя по одеянию — знатные сановники, окружали властителя. Это был Кабуефта — начальник Врат Юга.
Воины поспешно выстроились вокруг рабов; сопровождавший пленников тюремный писец выступил вперед и согнулся до земли.
Кабуефта спокойно, не меняя выражения застывшего лица, сошел вниз, вплотную приблизился к рабам, обвел скользящим, презрительным взглядом всех присутствующих. Он небрежно сказал что-то, обратившись к чиновнику. В голосе его звучало одобрение. Начальник Врат Юга стукнул посохом — медный конец его звякнул о каменную плиту.
— Смотрите все на меня и слушайте! Кто не понимает языка Кемт, тех пусть отведут налево — им объяснят потом.
Воины поспешно исполнили приказание, уведя в сторону пятнадцать чернокожих, не знавших языка.
Кабуефта громко и медленно заговорил на простонародном языке, подбирая выражения. Видно было, что властителю Юга приходилось часто встречаться с иноземцами.
Вельможа объяснил рабам предстоящее дело, не скрыв того, что многих ждет гибель, но всем спасшимся обещал свободу. Большинство мятежников изъявили свое согласие одобрительными восклицаниями, меньшая часть хранила упорное молчание. Никто не отказался.
— Хет! — продолжал Кабуефта, и снова взгляд его скользнул по худым и грязным телам. — Я прикажу сытно кормить вас и давать мыться. Путь через пять ступеней Хапи труден, быстрее идти на легких лодках. Я прикажу вас освободить, если вы поклянетесь не бежать… — Радостные вопли перебили его речь. Он выждал, пока они утихнут, и продолжал: — Но, кроме клятвы, вот мой приказ: за каждого сбежавшего десять его лучших товарищей будут брошены связанными, с содранной кожей, посыпанные солью, на пески берегов страны Нуб. Те, которые струсят при поимке зверя и убегут, будут преданы жесточайшим пыткам, ибо жители страны Нуб предупреждены мною и под угрозой кары должны выследить их и схватить.
Окончание речи начальника Юга рабы встретили мрачным молчанием. Кабуефта, не обратив на это внимания, вновь принялся разглядывать людей. Его опыт помог ему сделать безошибочный выбор.
— Выйди сюда ты! — Владыка указал на Кави. — Ты будешь начальником над ловцами, посредником между моими охотниками и своими товарищами.
Кави не спеша поклонился вельможе. В бороде этруска промелькнула угрюмая усмешка.
— Ты продаешь нам свободу дорогой ценой, высокий человек, но мы ее покупаем, — сказал этруск и повернулся к товарищам: — Свирепый зверь не страшней золотых рудников, а надежды больше…
Кабуефта удалился. Пленники вновь были водворены в тюрьму. Начальник Юга сдержал свое обещание: мятежников стали сытно кормить, освободили от цепей и ошейников и два раза в день водили купаться к Нилу, в отгороженный от крокодилов залив. Через два дня сто пятьдесят четыре раба присоединились к отряду воинов и охотников, выступивших вверх по реке на тридцати легких лодках, связанных из стеблей тростника.
Путь был далек. Жители Черной Земли считали до шестой ступени Нила от Врат Юга четыре миллиона локтей. Река, протекавшая почти прямо через страны Вават и Иэртет, в располагавшейся выше стране Куш[162] образовала две исполинские петли: одну — на запад, другую — на восток.
Начальник охот очень спешил: путь должен был отнять два месяца, а через девять недель начиналась прибыль воды. Борьба с ускорившимся течением должна была замедлить продвижение. Сплавить через пороги большую и тяжелую лодку с пойманным чудовищем было возможно только в полую воду. Таким образом, в распоряжении начальника охоты оставалось мало времени на обратный путь.
Рабов всю долгую дорогу хорошо кормили, и они чувствовали себя здоровыми и крепкими, несмотря на тяжелую ежедневную работу. Они вели нагруженные лодки против течения, особенно быстрого на ступенях-порогах.
Предстоявшая охота пока не смущала их, в каждом жила уверенность, что именно он спасется и получит свободу. Контраст между дикими просторами неизвестной страны и ожиданием в яме-тюрьме жестокой кары был слишком велик. И люди работали изо всех сил, бодрые, окрепшие телом и духом. Довольный начальник охоты не скупился на пищу — ее доставляли все встречные поселения и города.
Сразу после отъезда из города Неб Пандион и его товарищи увидели первую ступень Нила. Быстрое течение сдавленной скалами реки разбивалось на отдельные потоки бушующей побелевшей воды, с ревом катившиеся по уклону, между лабиринтами черных скалистых островков. Многие сотни лет назад десять тысяч рабов под наблюдением искусных инженеров Кемт проложили среди гранита каналы, и по ним даже большие военные суда легко проходили пороги. Для лодок охотничьей экспедиции первая ступень Нила, как и все последующие, не представляла серьезного препятствия. Рабы становились цепочкой по пояс в воде, подталкивая лодки от одного островка к другому. Иногда им приходилось переносить лодки на плечах по удобным береговым выступам, вырезанным половодьем. С каждым днем охотники продвигались все дальше на юг.
Они миновали пещерный храм[163] на левом берегу реки. Внимание Пандиона привлекли четыре гигантские фигуры, до тридцати локтей каждая, стоявшие в нише. Исполинские статуи фараона-завоевателя Сотепенры как бы охраняли вход в храм.
Экспедиция одолела вторую ступень Нила, протянувшуюся на день пути.
Выше находился остров Уронарту с перекатом Семне, на изрытых скалистых берегах которого находилась огромная крепость.
Крепость называлась “Отражение дикарей” и была сооружена еще девять веков назад, во времена фараона — покорителя страны Нуб.[164]
Толстые стены в двадцать локтей высоты, сооруженные из сырцового кирпича, стояли в полной сохранности; каждые тридцать лет их приводили в порядок. На скалах виднелись древние каменные доски с надписями, запрещавшими неграм вход в страну Кемт.
Угрюмая серая крепость с квадратными башнями по углам и с несколькими обращенными к реке, с узкой лестницей, проложенной от реки через утесы, высилась как олицетворение надменного могущества страны Кемт. Но никто из рабов не подозревал, что времена великой силы Кемт миновали, что страну, построенную на труде бесчисленных угнетенных, потрясают до основания частые мятежи и что ей угрожает возросшая сила новых народов.
На пути встретились еще четыре крепости, стоявшие на скалистых островах или береговых утесах. Лодки прошли крутую излучину, в центре которой располагался маленький город Гем-Атон. Его построил тот самый проклятый фараон, в развалинах столицы которого Пандион отыскал статую загадочной девушки. Здесь жили египтяне, в старые времена изгнанные или бежавшие из Черной Земли. В конце излучины река, ударяясь о крутые утесы темного песчаника, переламывалась под прямым углом. Здесь начиналась третья, длинная стремнина, почти в сто тысяч локтей длины, на прохождение которой охотники потратили четыре дня.
Четвертая ступень, выше большого города Напата — столицы царей страны Нуб, была еще длиннее и задержала путников на пять дней. Вдобавок два дня лодки простояли, пока начальник охоты вел переговоры с властителями Куша. На четвертом пороге экспедицию обогнали три лодки с нубийцами, посланными вперед для поисков зверя.
Селения по долине реки встречались гораздо реже, чем в Та-Кем. Сама долина сделалась значительно уже, и скалы пустынных плоскогорий, прорезанных рекой, стали отчетливо видны сквозь легкую дымку зноя. Сотни крокодилов, достигавших подчас исполинских размеров, прятались в тростниковых зарослях или неподвижно лежали на песчаных отмелях, подставляя гребнистые черно-зеленые спины знойному солнцу. Несколько неосторожных рабов и воинов сделались жертвой вкрадчивого нападения безмолвных пресмыкающихся прямо на глазах у товарищей.
Здесь было много бегемотов. Пандион, этруски и другие рабы из северных стран еще раньше познакомились с безобразным обитателем реки, носившим у египтян имя “хте”. Бегемоты не выказывали страха перед людьми, но и не нападали на них без причины, поэтому рабы близко подплывали к ним. Множество больших голубых пятен виднелось вдали перед зеленой стеной тростников, показывая место отдыха бегемотов в широких участках долины, где река разливалась гладким сверкающим озером. Мокрая кожа животных была голубого цвета. Грузные жирные звери наблюдали за лодками, выставив над водой громадные, словно обрубленные головы. Нередко животные погружали в воду и квадратные морды — тогда на блестевшей и струившейся желтой мути чернели только лбы, увенчанные маленькими круглыми, торчавшими вперед ушами. Глаза бегемотов, сидевшие в возвышениях черепа — это придавало им особенно свирепое выражение, — упорно и тупо смотрели на людей.
В тех местах, где гранитные скалы поднимались со дна реки, образуя пороги и перекаты, встречались глубокие ямы между утесами, с прозрачной и спокойной водой. Однажды, волоча лодку по краю гранитной глыбы, рабы увидели на дне такой ямы громадного бегемота, неторопливо двигавшегося по дну на своих коротких ногах. Под водой животное приняло совсем темно-синий цвет. Бывалые негры объяснили товарищам, что хте часто ходит по дну реки, разыскивая корни водяных растений.
Долина резко переломилась в последний раз. От большого острова, плодородного и густо заселенного, она вела почти прямо на юг — до цели осталась небольшая часть пути.
Скалистые края долины понизились, их прорезали многочисленные и широкие сухие овраги, в которых встречались густые рощицы колючих деревьев. При прохождении пятой ступени две лодки перевернулись; утонули одиннадцать человек, мало искусных в плавании.
Выше пятой ступени люди наконец увидели первый приток Великой Реки. Широкое устье притока, называвшегося рекой Ароматов[165] и впадавшего в Нил с правой стороны по течению, сливалось с основным руслом в обширной заросли тростников и папирусов. Непроницаемая зеленая стена до двенадцати локтей в высоту, изрезанная зигзагами заливов и протоками, заграждала вход в устье реки. А по берегам, разбившимся на отдельные гряды холмов, все чаще встречались рощи деревьев; их колючие стволы становились все выше, заросли кустов длинными темными лентами отходили от реки в глубь неведомой и безлюдной страны. На склонах щетинились пучки жестких трав, тихо шелестевших под ветром. Приближался момент расплаты за свободное путешествие, без цепей и тюрьмы, и в сердцах рабов росла глухая тревога.
“Скоро начнется страшное испытание: одни спасутся ценой крови и мук товарищей, другие останутся навсегда в неведомой стране, пав искупительной жертвой. Темна судьба людей — только смерть в последнюю минуту откроет каждому тайну, в которой уже не будет нужды” — так размышлял Кави, невольно оглядывая товарищей, пытаясь представить себе их будущее.
Страна выше по реке принимала все более равнинный вид. Болотистые берега окаймляли сверкающую гладь реки резкой темной линией высоких трав, простиравшихся насколько хватал глаз. Звездчатые метелки папируса нависали над рекой, нарушая однообразие ровных берегов. Травянистые острова дробили течение на лабиринты узких проходов — глубокая вода была таинственна и темна между высокими стенами зелени. На местах, где берег был более тверд, путешественники видели большие пространства засохшей и растрескавшейся глины, истоптанные бесчисленными следами животных. Птицы, похожие на аистов, но почти достигавшие человеческого роста, удивляли мятежников своими чудовищными клювами. Казалось, что голова птицы оканчивается тяжелым костяным сундуком, с хищно загнутым краем верхней крышки. Из-под нависших глазниц чудовищ смотрели желтые злые глаза.
После впадения в Нил реки Ароматов, в конце второго дня пути, прямая, как копье, долина изогнулась к востоку, и люди увидели на выступе берега редкие дымки двух костров. Это был сигнал. Здесь ожидали посланные вперед охотники и нубийские проводники с известием, что зверь найден. Ночью сто сорок рабов под охраной девяноста воинов направились пешком на запад от реки. Теплый и обильный дождь пролился на разогретую землю. Влажные испарения одуряли людей, давно забывших о дождях под вечно ясным небом Та-Кем.
Охотники шли по жесткой траве, выше пояса, и перед ними иногда вставали черные силуэты одиночных деревьев. Гиены и шакалы выли и вопили вокруг, пронзительно мяукали дикие кошки, зловещими металлическими голосами перекликались какие-то ночные птицы. Новая страна неопределенно и таинственно расплывалась в темноте, открывалась перед людьми Азии и северных берегов, страна, изобилующая жизнью, независимой от человека и не покоренная им.
Впереди появилось исполинское дерево, заслонившее половину неба. Вокруг его ствола, более толстого, чем самые большие обелиски Черной Земли, люди расположились на ночлег, который для многих должен был оказаться последним. Пандион долго не мог заснуть. Взволнованный будущим боем, он прислушивался к голосам африканской степи.
Кави толковал у костра с охотниками, выясняя план завтрашних действий, потом улегся, с тяжелым вздохом посмотрев на беспокойно дремавших или лежавших без сна товарищей. Этруск удивился беспечности Кидого, мирно спавшего между Пандионом и Ремдом, — в пути четыре друга не разъединялись. Беспечность негра казалась этруску высшей мерой храбрости, недоступной даже ему, опытному воину, не раз видевшему смерть.
Наступило утро. Рабы были разделены на три группы, возглавляемые пятью охотниками и двумя местными проводниками. Каждому рабу вручили длинную веревку или ремень с затяжными петлями на концах. Четыре человека от каждой группы несли большую сетку из особенно прочных веревок с ячеями в локоть ширины. Чудовище надо было опутать веревками, замотать сетями и, свалив с ног, связать.
В полной тишине люди шли по степи, каждая группа на некотором расстоянии от другой. Воины рассыпались цепью и, не доверяя рабам, следовали позади со стрелами, вложенными в луки. Перед Пандионом и его товарищами раскинулась степь, поросшая травой в половину роста человека. На ее ровной поверхности были разбросаны деревья с зонтиковидными кронами.[166] Серые стволы почти у самого корня разделялись на толстые ветви, расходившиеся воронкой кверху, так что самое дерево напоминало опрокинутый конус, над которым словно парила в воздухе прозрачная неяркая зелень.
Деревья перемежались с темными пятнами высоких мелколистных кустарников, то протягивавшихся цепью по слабо заметному углублению русла временного потока, то видневшихся вдалеке в виде неровных темных куч. Изредка попадались деревья с невысоким стволом чудовищной толщины, разветвлявшимся на множество огромных искривленных и узловатых сучьев, покрытых недавно распустившимися маленькими листьями и пучками белых цветов.[167] Массивные деревья выделялись в степи огромной шапкой низкой кроны, отбрасывавшей темные полосы удлиненных теней. Их волокнистая кора с металлическим отблеском походила на свинцовую, ветви казались выкованными из красной меди, а цветы распространяли вокруг тонкий аромат, похожий на запах миндаля.
Солнце золотило едва колыхавшуюся жесткую траву, а над ней как будто парили ажурными зелеными облачками вершины деревьев.
Ряд тонких черных копий возник из травы — несколько ориксов[168] показали свои длинные рога и скрылись за цепью кустарников. Трава была еще редкой; между ее отдельными пучками виднелась голая, растрескавшаяся земля — период дождей начался недавно. Налево оказалась рощица деревьев, похожих на пальмы своей перистой листвой, но стволы их раздваивались вверху, напоминая два растопыренных пальца, которые выше еще несколько раз разветвлялись.
Здесь накануне охотники высмотрели носорогов, и сейчас, сделав знак рабам оставаться на месте, они осторожно подкрались к опушке и заглянули в темную после ярко освещенной степи рощу. Зверей там не оказалось, и охотники повели рабов к сухому ложу потока, заросшему густым кустарником. Там находился источник, превращенный носорогами в яму с грязью, в которой они валялись в жаркие часы дня. Охотники вышли на открытое место, окаймленное с востока тремя одинокими зонтичными акациями. До сухого русла оставалось еще около двух тысяч локтей, как вдруг шедший впереди нубиец застыл на месте и раскинул руки в стороны, давая сигнал остановки. В тишине отчетливо стало слышно слабое жужжание насекомых. Кидого тронул Пандиона за плечо — негр указывал в сторону от пути. Молодой эллин увидел около низких колючих деревьев что-то похожее на две сглаженные глыбы камня. Это и были страшные звери южных степей. Животные вначале не заметили людей и продолжали спокойно лежать спинами к охотникам. Оба носорога не показались Пандиону огромными, один был заметно меньше второго. Никто из рабов не подозревал, что охотники, желая заслужить хорошую награду, отыскали очень крупного самца, из породы светлых носорогов,[169] которые отличались от черных южных сородичей большими размерами, большей высотой плеч, широкой квадратной мордой, серой кожей. Второй, меньший носорог была самка. Охотники решили изменить план нападения, чтобы вмешательство самки не погубило дела.
Начальник охоты и начальник воинов быстро забрались на дерево, шепча проклятия длинным колючкам, рассеянным по стволу. Воины спрятались за кустами. Рабы соединились все вместе и, построившись в несколько рядов, вместе с охотниками с оглушительными криками ринулись по открытой поляне, размахивая веревками и подбадривая себя боевыми воплями. С поразительной быстротой оба зверя вскочили на ноги. Колоссальный самец на минуту остановился, уставившись на подбегавших людей, а самка, более испуганная, бросилась в сторону. Именно на это и рассчитывали охотники — они быстро метнулись направо, чтобы отвлечь и отрезать самку от самца.
Начальник охоты с дерева увидел необъятное туловище застывшего неподвижно носорога, черные изгибы его устремленных вперед ушей, раздвинутых широким промежутком темени, похожего на толстый валик. За ушами виднелся высокий бугор массивной холки, а впереди поблескивал острый конец рога. Маленькие глазки, как показалось египтянину, смотрели вниз с тупым и даже каким-то обиженным выражением.
Через минуту носорог повернулся, и египтянин увидел его длинную, нелепо прогнутую посередине голову, крутую дугу холки, гребень проступающих на крупе костей, ноги, подобные стволам дерева, маленький, воинственно поднятый кверху хвост.
Громадный рог, не меньше трех локтей длины, сидел на носу, блестящий, очень толстый у корня, резко заострявшийся кверху. Позади него виднелся другой, более короткий и острый, с широким круглым основанием.
Сердца подбегавших людей отчаянно заколотились — зверь вблизи оказался страшным чудовищем. Восемь локтей длины было в его исполинском теле, крутая холка возвышалась на четыре локтя над землей. Носорог засопел так громко, что его отчетливо услышали все до единого человека, и стремительно кинулся на людей. С проворством, непостижимым для такого громадного и массивного зверя, носорог мгновенно оказался в середине толпы. Никто не успел даже поднять веревки. Пандион очутился в стороне от налетевшего, как буря, чудовища. Молодой эллин успел заметить только широко раздутые ноздри животного, окруженные кольцеобразными складками кожи, разорванное правое ухо и кожу на боку, покрытую бугорками, точно наростами лишайников. Дальше все спуталось в голове Пандиона. Пронзительный вопль разнесся по степи, нелепо искривленная человеческая фигура на мгновение взвилась в воздух. Носорог проложил широкую дорогу в толпе рабов, промчался дальше в степь, оставляя за собой несколько распростертых тел, повернулся и снова бросился на несчастных. На этот раз стремительно двигавшуюся массу облепили со всех сторон человеческие тела. Но чудовище состояло из сплошных мышц и толстых костей, одетых твердой, как панцирь, шкурой. Люди разлетелись в разные стороны, и опять носорог принялся топтать, давить и протыкать рогом поверженных рабов. Пандион, бросившийся вперед вместе с другими, был остановлен тупым страшным ударом и, оглушенный, оказался на четвереньках. Протяжные стоны и громкие крики неслись по поляне, в воздухе заклубилась пыль. Начальник охоты, неистово кричавший с дерева, подбадривая рабов, теперь замолк и растерянно смотрел на битву. Еще ни одна веревка не захватила гиганта, а не менее тридцати человек было ранено или убито. Воины, побледневшие и дрожавшие, укрывались за деревьями, моля богов Та-Кем о спасении. В третий раз повернулось чудовище, и хотя люди невольно расступились перед его стремительным телом, носорог успел пронзить рогом младшего из этрусков — Ремда. Животное с резким фырканьем неистово металось среди людей, топча их и бодая. Из ноздрей зверя летела пена, маленькие глазки горели злобой.
Кави с яростным воплем бросился на чудовище, но его веревка скользнула по рогу; сам этруск отлетел в сторону, обливаясь кровью, — вся кожа с плеча и груди оказалась содранной жесткой шкурой носорога.
Кави с трудом поднялся, рыдая от бессильной ярости. Подавленные силой носорога, люди пятились от чудовища, наименее стойкие прятались за спины товарищей.
Казалось, еще немного — и все в страхе разбегутся куда попало, простясь с мыслью о свободе.
Опять носорог бросился на людей, снова послышались вопли. Кидого выступил вперед. Ноздри негра раздувались, в нем загорелся тот боевой огонь, который рождается при смертельной опасности, когда человек забывает обо всем, кроме необходимости сражаться, сражаться во имя жизни. Отскочив от страшного рога, грозившего неминуемой гибелью, Кидого метнулся вслед за проскочившим мимо чудовищем и, не помня себя, вцепился ему в хвост. Пандион, очнувшийся от потрясения, поднял с земли валявшуюся сеть. В этот момент он почувствовал, что должен быть впереди товарищей, которые телами заслонили его, оглушенного. Смутное воспоминание мелькнуло в голове эллина — поляна на Крите, опасная игра с быком. Носорог был мало похож на быка, но Пандион решил использовать критский прием. Перебросив через плечо свернутую сеть, Пандион бросился к носорогу. Зверь в это время остановился, брыкнув задними ногами, поднял тучу пыли и далеко отбросил Кидого. Поняв план Пандиона, два ливийца сбоку отвлекли внимание зверя, а молодой эллин прыжком настиг чудовище и прижался к его боку. Носорог молниеносно повернулся — кожа Пандиона разодралась о твердую шкуру. Пандион почувствовал страшную боль, но, забыв обо всем, вцепился в ухо чудовища. Как некогда девушка на Крите, Пандион перебросил тело через туловище зверя и очутился на его широкой спине. Носорог заметался. Пандион цеплялся изо всех сил. “Только бы удержаться, удержаться”, — вертелось в мозгу молодого эллина.
И Пандион удержался ровно столько мгновений, чтобы успеть набросить край сети на морду чудовища. Рога прошли между петлями, буйная радость обожгла Пандиона, но в это же мгновение он перестал видеть окружающее и потерял сознание. Что-то хрустнуло, страшная тяжесть навалилась на него, в глазах разлился мрак.
Увлеченный боем, Пандион не видел, что Кидого, рыча, как лев, опять вцепился в хвост носорога, что десять ливийцев и шесть аму ухватились за сеть, облепившую голову зверя. Стараясь стряхнуть людей, носорог повалился на бок. Он сломал руку и ключицу тяжело ударившемуся о землю молодому эллину. Падение чудовища было немедленно использовано людьми. Рабы с криками навалились на носорога, вторая сеть опутала голову, две петли охватили заднюю ногу, одна — переднюю. Фырканье носорога перешло в утробный рев, зверь перекатился на левый бок, потом на спину, своей тяжестью ломая кости людям. Сила чудовища казалась безграничной. Шесть раз зверь вскакивал, путаясь в веревках, и опять опрокидывался на спину, уничтожив более пятидесяти человек.
Но веревки и ремни все гуще опутывали его ноги, люди стягивали крепкие петли. Три сети обхватили носорога сверху и снизу. Скоро кучка окровавленных людей в поту и грязи лежала на чудовище, придавливая к земле бешено брыкавшегося носорога. Шкура чудовища, залитая человеческой кровью, стала скользкой, скрюченные пальцы скользили по ней, но веревки стягивались все крепче. Даже те, на которых рухнула в последний раз тяжелая туша зверя, в предсмертных усилиях цепко держались за петли.
Охотники приблизились к поверженному носорогу, неся новые связки ремней, скрутили наперекрест все четыре столбообразные ноги, а голову за рог припутали к передним ногам.
Страшная битва была кончена.
Обезумевшие люди медленно приходили в себя, мускулы израненных тел дрожали, словно в лихорадке, и в невидящих глазах плавали черные пятна.
Наконец биение отчаянно колотившихся сердец замедлилось, там и сям послышались вздохи облегчения — люди начинали понимать, что смерть миновала их. Встал, шатаясь, покрытый кровавой грязью Кави; подошел, весь дрожа, но уже улыбаясь, Кидого. Улыбка негра сразу слетела с посеревшего лица, когда он не увидел среди живых своего друга Пандиона.
Уцелело семьдесят три человека, остальные были убиты или получили смертельные увечья. Этруск и Кидого отыскали Пандиона среди мертвых тел в истоптанной траве и отнесли его в тень. Кави исследовал молодого эллина и не нашел на нем смертельных повреждений. Ремд был мертв, погиб и пылкий вожак аму, а храбрый ливиец Ахми тяжко стонал, умирая с раздавленной грудью.
Пока рабы считали свои потери и перетаскивали умиравших в тень деревьев, воины принесли от реки громадную платформу из дерева — дно от приготовленной для носорога клетки, взвалили на нее связанное чудовище и поволокли на катках к реке.
Кави подошел к начальнику охоты.
— Прикажи им, — этруск показал на воинов, — помочь нам отнести раненых.
— Что ты хочешь с ними делать? — спросил начальник, с невольным уважением оглядывая мощного этруска, измазанного в крови и пыли, лицо которого было полно суровой печали.
— Мы повезем их вниз: может быть, некоторые доживут до Та-Кем и его искусных врачей… — хмуро ответил Кави.
— Кто сказал тебе, что вы вернетесь в Та-Кем? — перебил начальник.
Этруск вздрогнул и отступил на шаг.
— Как, разве слова владыки Юга были ложью? Разве мы не свободны?! — закричал Кави.
— Нет, великий не солгал тебе, презренному, — вы свободны! — И с этими словами начальник охоты протянул этруску маленький свиток папируса. — Вот его указ.
Кави бережно взял драгоценный листок, превращавший рабов в свободных людей.
— Если так, то почему… — заговорил он.
— Замолчи, — надменно перебил начальник, — и слушай. Вы свободны здесь, — начальник охоты налег на последнее слово, — и можете идти куда хотите: туда или туда, — рука начальника указала на запад, на юг и на восток, — но не в Та-Кем и не в подвластную ему страну Нуб. Если ослушаетесь — опять станете рабами. Я полагаю, — жестко закончил он, — что, подумав на свободе, вы все вернетесь к ногам нашего господина исполнять начертанное вам судьбой служение избранному народу Черной Земли.
Кави сделал два шага вперед, глаза его загорелись. Он протянул руку к одному из воинов, растерянно взглянувшему на начальника охраны, и смелым движением вырвал у него из-за пояса короткий меч.
Этруск поднял блестевшее оружие лезвием кверху, поцеловал его и быстро заговорил на своем не понятном никому языке:
— Клянусь верховным богом молнии, богом смерти, чье имя я ношу, что наперекор злодействам проклятого народа я вернусь живым на родину! Клянусь, что с этого часа я не успокоюсь, пока с сильным отрядом не приду на берега Кемт и не воздам сполна за все это!
Кави обвел рукой поляну с разбросанными на ней телами и с силой швырнул меч себе под ноги. Оружие глубоко воткнулось в землю. Этруск резко повернулся и пошел к товарищам, но вдруг возвратился.
— Я больше ни о чем не прошу тебя, — сказал он начальнику охоты, удалявшемуся с последней группой воинов, — только прикажи оставить нам несколько копий, ножей и луков. Мы должны охранять своих раненых от ночных хищников.
Начальник охоты молча кивнул головой и скрылся за кустами, по широкому следу примятой травы, проложенному увезенной к реке платформой с носорогом.
Кави передал товарищам весь разговор. Крики гнева, сдержанные проклятия и бессильные угрозы смешались с тихими, жалобными стонами умирающих.
— О том, что делать, подумаем после! — крикнул Кави. — Сейчас нужно решить, как поступить с ранеными. До реки далеко, мы устали и не донесем товарищей. Отдохнем немного, и пусть пятьдесят человек пойдут к реке, а двадцать останутся на страже — кругом много хищных зверей.
Кави указал на мелькавшие поодаль в траве покатые пятнистые спины гиен, привлеченных запахом пролитой крови. Огромные птицы с голыми шеями кружили над поляной, спускались и снова взлетали.
Пылала накаленная солнцем сухая земля, едва заметно дрожала сетка солнечных пятен под деревьями, грустно звучали в знойной тишине крики дикого голубя. У людей прошел азарт боя, заболели полученные ушибы, горела и саднила содранная кожа.
Смерть Ремда повергла Кави в уныние — юноша был единственной нитью, связывавшей этруска с далекой родиной. Теперь эта тонкая нить оборвалась.
Кидого, забыв о своих ранах, сидел над Пандионом. Молодой эллин, видимо, получил еще какое-то внутреннее повреждение и не приходил в сознание. Сквозь запекшиеся губы чуть слышным, свистящим звуком прорывалось дыхание. Негр несколько раз посматривал на молча лежавших в тени товарищей и наконец вскочил, призывая идти к реке за водой для раненых.
С невольными стонами люди начали подниматься. Сразу подступила нестерпимая жажда, жаля и разъедая горло. Если так захотели пить уцелевшие, то что же терпели раненые, немые от потери сил! А до реки напрямик было не меньше двух часов быстрой ходьбы.
Неожиданно за кустами послышались голоса — отряд воинов, численностью до полусотни, нагруженный сосудами с водой и пищей, показался на поляне. В составе отряда не было египтян — пришли только нубийцы и негры под предводительством двух проводников.
Подошедшие воины сразу умолкли, едва только увидели место побоища. Они направились к дереву, под которым стоял Кави, и, не проронив ни слова, составили к его ногам глиняные и деревянные сосуды, положили с десяток копий, шесть луков с колчанами, полными стрел, четыре тяжелых ножа и четыре маленьких щита из бегемотовой шкуры, усаженных медным бляшками. Люди с жадностью бросились к кувшинам. Кидого схватил нож и, злобно вращая глазами, заявил, что убьет первого, кто возьмет воду. Воду из двух сосудов поспешно стали вливать в раскрытые пересохшие рты раненых, потом напились остальные. Воины ушли, так и не сказав ничего.
Среди рабов нашлось двое умевших лечить раны; они принялись вместе с Кави перевязывать товарищей. Сломанные кости Пандиона были заключены в лубки из твердой коры, замотаны полосками ткани из его же набедренной повязки. При этом Кидого увидел сверкающий голубовато-зеленый камень, который был крепко завязан в материю. Негр бережно спрятал его, считая волшебным амулетом товарища.
Лубки пришлось наложить еще двум раненым: одному ливийцу с переломом руки и сухому, мускулистому негру, беспомощно лежавшему с переломленной ниже колена ногой. Состояние остальных было, по-видимому, безнадежно — страшный рог чудовища проник глубоко, повредив внутренности. Некоторые были размозжены тяжестью громадного тела носорога и его колоннообразных ног.
Не успел Кави оказать помощь всем раненым товарищам, как среди желтой травы показался темный силуэт спешившего к месту сражения человека. Это был один из местных жителей; он приводил воинов с водой и теперь снова возвращался.
Задыхаясь от быстрой ходьбы, нубиец подошел к Кави и протянул ему обе руки ладонями вверх. Этруск понял этот жест дружбы и ответил тем же. Тогда проводник присел на корточки в тени дерева, опираясь на свое длинное копье, и быстро заговорил, показывая в сторону реки и на юг. Произошла заминка: нубиец знал не больше десяти слов на языке Та-Кем, а Кави вовсе не понимал нубийца, однако в числе рабов нашлись переводчики.
Оказалось, что проводник отстал от отряда воинов и спешно вернулся, чтобы помочь рабам найти дорогу. Нубиец уверял, что освобожденных рабов прогнали из области, подвластной Та-Кем, и поэтому возвращаться к реке для них опасно — они могут опять очутиться в рабстве. Проводник посоветовал Кави идти на запад, где скоро им попадется огромная сухая долина. По ней нужно направиться на юг; там, в четырех днях пути, они встретят мирных кочевников-скотоводов.
— Ты отдашь им вот это, — нубиец извлек из перекинутого через плечо куска ткани какой-то знак, составленный из переплетенных особым образом и изломанных красных веточек, — тогда они примут вас хорошо и дадут ослов для перевозки раненых. Еще дальше на юг будут владения богатого и мирного народа, который ненавидит Кемт. Там раненые смогут вылечиться. Чем дальше к югу, тем больше будет воды, тем чаще будут литься дожди. В сухом русле, по которому пройдет путь вначале, вы всегда найдете воду, если выкопаете яму в два локтя глубины…
Нубиец встал, торопясь уйти, и Кави хотел поблагодарить его, как вдруг к проводнику подскочил один из рабов-азиатов с длинной, всклокоченной и грязной бородой, с шапкой лохматых волос на голове.
— Почему ты советуешь идти на запад и на юг? Наш дом там! — Азиат указал на восток, в сторону реки.
Нубиец пристально посмотрел на говорившего и медленно ответил, разделяя слова:
— Если ты переберешься через реку, на востоке будет каменистая, безводная пустыня. Если ты перейдешь ее и перевалишь через высокие горы, придешь к берегу моря, где владычествует Та-Кем. Если ты сумеешь переплыть море, там, говорят, пустыни еще страшнее. А в горах и по реке Ароматов живут племена, поставляющие в Та-Кем рабов в обмен на оружие. Думай сам!
— А на север нет пути? — вкрадчиво спросил один из ливийцев.
— На севере в двух днях пути отсюда тянется необъятная пустыня: сначала сухие камни и глина, затем пески. Зачем же ты пойдешь туда? Может быть, там есть какие-нибудь дороги и источники, но я их не знаю. Говорю про путь самый легкий и тот, который знаю хорошо… — И, жестом показав, что разговор окончен, проводник вышел из-под дерева.
Кави последовал за ним, обнял за плечи и принялся благодарить, мешая египетские и этрусские слова, потом подозвал переводчика.
— Мне нечего дать тебе, у меня самого нет ничего, кроме… — этруск дотронулся до измазанной набедренной повязки, — но в сердце я сохраню тебя.
— Я помогаю вам не для платы, а повинуюсь сердцу, — ответил, улыбнувшись, нубиец. — Кто из нас, изведавших гнет Черной Земли, откажется помочь вам, храбрецам, освободившимся такой страшной ценой?! Смотри же, послушайся моего совета и сохрани знак, данный тебе… Еще скажу: источник воды от вас направо, в двух тысячах локтей — вон там, где купались носороги, но лучше всего сегодня же, до наступления ночи, уйти отсюда. Прощай, смелый чужеземец! Привет твоим храбрым товарищам! Я спешу.
Проводник скрылся, а Кави, задумавшись, смотрел ему вслед.
Нет, сегодня они не смогут уйти отсюда и бросить умирающих товарищей на растерзание гиенам. Если вода близко, то тем более нужно оставаться на месте.
Кави вернулся к товарищам, которые обсуждали, что делать дальше. Утолив жажду и подкрепившись пищей, люди стали рассудительнее и осторожно взвешивали последующие действия.
Для всех было ясно, что на север идти невозможно — нужно скорее удаляться от реки, но в вопросе о том, идти ли на юг или на восток, мнения разделились.
Азиаты, составлявшие почти половину уцелевших рабов, не хотели углубляться в страну черных и отстаивали путь на восток. По уверениям нубийцев, за три недели можно было добраться до берегов узкого моря, разделявшего Нубию и Азию, и жители этой страны готовы были решиться снова на путь через пустыню, чтобы поскорее вернуться домой.
Кави был захвачен в рабство во время военного похода. У него в родных местах осталась семья, и он колебался: такой заманчивой казалась ему возможность быстрого возвращения. Изгнание из Кемт явилось для него тяжким ударом, ибо проще всего было вернуться через Кемт, спустившись в лодке по реке вниз до моря. Но опытный, много скитавшийся воин понимал, что кучка людей, затерянная во враждебной стране и в особенности в пустынях, где все колодцы наперечет, сможет просуществовать разве лишь чудом. А чудес в судьбе этруска еще не встречалось, и он не очень в них верил.
Вмешался Кидого, оставивший своего друга для того, чтобы принять участие в совете.
В первый раз негр рассказал о себе. Оказалось, что Кидого был сыном гончара и происходил из богатого и многочисленного народа, обитавшего у морского побережья на западной окраине страны черных. Там в сушу глубоко вдавался огромный залив, называемый Южным Рогом.[170] Кидого не знал отсюда дороги в родные места, попав в плен на краю великой пустыни, когда держал путь в Кемт, обуреваемый желанием посмотреть чудеса искусного мастерства этого народа. Однако негр рассчитывал, что его страна должна была находиться недалеко на юго-запад от места сражения. Кидого уверял, что сможет узнать правильный путь от того племени, к которому направлял их проводник-нубиец. Кидого обещал всем товарищам гостеприимство, если только они сумеют дойти до той области, где обитает его народ, а этруску заявил, что, по рассказам, слышанным в детстве, корабли людей, похожих на него и на Пандиона, приплывали в его страну из северного моря. Кави, взвесив все, посоветовал товарищам послушаться проводника и уходить на юг. После слов Кидого неведомая страна черных ему не казалась более враждебной. Море, свободное, не подчиненное ненавистному Та-Кем, давало возможность достигнуть родины. Этруск больше верил морю, чем пустыне.
Азиаты протестовали, не соглашались, ливийцы поддерживали этруска, а про негров нечего было и говорить: все они готовы были идти на юг и на запад — там была их дорога в родные страны.
Азиаты уверяли, что совершенно неизвестно, как отнесутся к ним кочевники и особенно тот многочисленный и богатый народ, о котором говорил проводник-нубиец, что знак, данный им этруску, может быть ловушкой и все они снова попадут в плен.
Тогда негр, лежавший со сломанной ногой, криками и жестами обратил на себя внимание. Торопливо проглатывая слова и брызжа слюной, он говорил что-то, силясь улыбнуться и часто ударяя себя в грудь. Из всей бурной речи, с целым потоком незнакомых слов, Кави понял, что негр принадлежит к тому народу, до которого советовал добраться с помощью кочевников проводник, и что он клянется в миролюбивости своих соплеменников. Тогда этруск решился и стал на сторону негров и ливийцев против азиатов, продолжавших отстаивать свой план. Но солнце уже склонилось к закату, нужно было подумать о воде и о ночлеге. Этруск предложил каждому подождать до утра. Как ни хотелось всем уйти от ужасного, усеянного трупами места, пришлось остаться на поляне, чтобы не мучить напрасно умиравших, перетаскивая их. Десять человек отправились к указанному нубийцем роднику и принесли полные кувшины мутной теплой воды с запахом глины. По совету негров, между деревьями был сооружен вал из колючих веток для защиты от нападения гиен. Со стороны, обращенной к поляне, запылали три костра. Три человека остались дежурить у раненых, десять с копьями уселись у костра. Ночь в этих местах наступала быстро. Еще светились на западе облака, а с севера и востока уже катился черный вал наступающей темноты, затопляя вершины деревьев и зажигая над ними бесчисленные огоньки звезд. Скоро незнакомый с южными странами Кави понял, почему проводник советовал им поскорее уйти отсюда. Вопли шакалов хором поднялись к небу, отрывистый истерический хохот гиен раздавался вокруг. Казалось, сотни зверей сбежались отовсюду, чтобы пожрать не только трупы, но и оставшихся в живых. С поляны доносились возня, рычанье, хруст и громкое чавканье. Сладковатый запах быстро разложившихся на жаре трупов распространялся повсюду.
Люди кричали, бросали комья земли и камни, выступали вперед с горящими головнями, но напрасно — хищников становилось все больше.
Вдруг за колючей загородкой послышалось глухое хрипенье, громовый рев словно растекся по земле, сотрясая почву. Звери, грызшиеся на поляне, утихли; люди, проснувшись, вскочили; в наступившей тишине громче застонали раненые. Рев приближался — низкий звук невероятной силы, казалось, исходил из огромной трубы. Смутный большеголовый силуэт промелькнул у крайнего дерева — к испуганным людям подходил большой густогривый лев, а позади него неслышно скользила гибкая, тонкая львица. Копья повернулись в сторону зверей, слабо отблескивая медными наконечниками в пламени неярко горевших костров. Люди с криками швыряли головни в львов, рискуя поджечь траву. Ошеломленные хищники остановились, потом отошли на поляну. Долго стояли люди с копьями наготове, до боли сжимая в руках древки, но нападения не последовало.
Не успели отдыхавшие задремать, как опять гром львиного рева потряс воздух, за ним последовал другой, третий. Не меньше трех львов бродило вокруг, с появившейся ранее львицей было четыре. Люди поняли, какой непростительной беспечностью с их стороны была небрежно построенная низкая загородка. Четыре человека с копьями стояли наготове, чтобы отразить возможное нападение сзади, шесть копейщиков оставались стоять за кострами.
Никто не спал: вооружась кто чем мог, люди зорко вглядывались в темноту. Новый рев потряс воздух, и у крайнего костра появился огромный лев со светлой гривой. Колеблющееся пламя увеличивало размеры хищника, глаза его, устремленные на людей, излучали зеленое сияние. На несчастье, поблизости стоял один из неопытных в охоте северных азиатов с луком. Устрашенный львиным ревом, он послал меткую стрелу прямо в морду хищника. Рев оборвался протяжным стоном, перешел в хриплый кашель и умолк.
— Берегись! — отчаянно крикнул один из нубийцев.
Тело льва взвилось в воздух, хищник прыжком пересек линию костров и очутился среди людей. Победителей носорога нелегко было привести в смятение: копья остановили льва, впившись ему в бока и грудь, четыре стрелы пронзили гибкое туловище. Два копья с сухим треском сломались под ударами тяжелой лапы, и в этот же момент три великана-негра, прикрываясь щитами, вонзили хищнику в грудь длинные ножи… Лев протяжно и жалобно заревел; люди, обагренные кровью, отскочили, и вдруг наступило молчание.
Оглушительный вопль победы прокатился по степи. Тело убитого льва было выброшено перед кострами, а товарищи взялись за перевязку двух новых раненых, еще дрожавших от боевой лихорадки.
Хищники бродили вокруг до рассвета, время от времени издавая потрясающий рев. Ни один из львов не решился повторить нападение.
С рождением нового дня, встававшего в ослепительном блеске, умерли пять тяжелораненых. Еще семь человек оказались мертвыми — ночью в суматохе со львом никто не заметил, когда это произошло. Ахми еще дышал, изредка шевеля серыми губами.
Пандион лежал с открытыми глазами, грудь его поднималась в спокойном и ровном дыхании. Наклонившийся над ним Кидого с ужасом понял, что друг не видит его. Однако принесенную воду Пандион сразу выпил и медленно опустил веки.
После завтрака из остатков вчерашней пищи Кави предложил выступать. Азиаты, сговорившиеся еще ночью, взбунтовались. Они кричали, что в этой стране, населенной таким множеством страшных зверей, они неминуемо погибнут, что нужно спасаться из этой роковой степи, что пустыня привычнее и безопаснее. Как ни уговаривали их Кави и чернокожие, азиаты остались непреклонными.
— Хорошо, пусть будет так, — сказал этруск, решившись. — Я иду на юг с Кидого. Кто с нами — подойдите сюда, кто на восток — отойдите налево.
Немедленно вокруг этруска образовалась толпа черных и светло-бронзовых тел — негры, нубийцы и ливийцы. К Кави присоединились тридцать семь человек, не считая Пандиона и лежавшего на земле негра со сломанной ногой, который напряженно следил за происходившим, приподнявшись на локте.
Тридцать два человека перешли налево и стояли, упрямо опустив головы.
Оружие и сосуды для воды были разделены пополам между обеими партиями, чтобы азиаты не связывали свою возможную неудачу с тем, что их обделили товарищи.
Их длиннобородый вождь, едва только дележ был окончен, повел людей на восток, к реке, как будто опасался, что привязанность к товарищам поколеблет их решимость. Остающиеся долго смотрели вслед храбрым друзьям, отделившимся от них на пороге свободы, затем с грустными вздохами вернулись к своим делам. Удача или смерть постигнут товарищей — никогда не узнают они об этом, так же как и доблестные азиаты не будут ничего знать об их неверной судьбе. “Никогда” — вот страшное слово, столь неизбежное для разделенных пространствами разных народов.
Этруск и Кидого, осмотрев Пандиона и раненого негра, перенесли их к другому дереву, с тонкими ветками. Когда попробовали приподнять Ахми, из горла ливийца вырвался ужасный вопль, и жизнь покинула мужественного борца за свободу.
Кави посоветовал ливийцам поднять мертвого на дерево и крепко привязать его веревками. Это было тотчас же выполнено; хотя люди знали, что труп будет растерзан хищными птицами, но это казалось менее отвратительным, чем дать пищу вонючим гиенам. Молча, не сговариваясь, Кави и Кидого срубили несколько ветвей.
— Что ты делаешь? — спросил, подойдя к этруску, один из высоких негров.
— Носилки. Мы с Кидого понесем его, — Кави указал на Пандиона, — а вы понесете этого, — этруск кивнул в сторону негра с ногой в лубке. — Ливиец пойдет без нашей помощи, с рукой на перевязи…
— Мы все понесем того, кто первый вскочил на носорога, — ответил негр, обратившись к товарищам. — Храбрец спас всех. Разве мы можем забыть это? Подожди, мы лучше умеем делать носилки.
Четыре негра ловко принялись за работу. Скоро носилки были готовы: длинные палки, переплетенные веревками, — на месте битвы их осталось много. Между палками негры устроили двойные поперечные распорки, в середине укрепили круглые подушки из твердой коры, обмотанные кусками львиной шкуры. Негр со сломанной ногой следил за работой, радостно улыбаясь; темные глаза его с преданностью смотрели в лица товарищей.
Раненых положили на носилки. Все было готово. Чернокожие попарно встали у носилок и разом подняли их на вытянутых руках, старательно умостив подушки на головах. Затем носильщики двинулись вперед, размеренно и легко шагая.
Так, не приходя в сознание, Пандион двинулся в неведомый путь.
Два нубийца и негр, вооруженные копьями и луком, взяв на себя обязанность проводников, шли впереди, остальные тридцать человек потянулись гуськом вслед за носилками. В самом хвосте шествия еще трое несли два копья и лук. Путники пошли краем поляны на запад, стараясь не смотреть на останки товарищей и унося щемящее чувство вины, что не смогли сберечь их тела от ночных пожирателей падали.
После полдневного отдыха отряд скоро достиг широкого высохшего русла, еще издали выделявшегося на желтой степи двумя полосками окаймлявших его берега кустарников.
По руслу повернули прямо на юг и, не останавливаясь, шли до заката. В этот день не пришлось копать яму для воды — небольшой источник выбивался на поверхность из щели между двумя плитами грубозернистого сыпкого камня; но людям пришлось основательно потрудиться над местом для ночлега, обнеся его валом из колючих ветвей. Ночью все мирно спали, не пугаясь отдаленного рычанья льва и сновавших в темноте гиен.
Второй и третий день пути прошли спокойно. Только раз видели издалека черную глыбу пробиравшегося в траве носорога с опущенной головой. Люди в смятении остановились — пережитое вновь ожило в их памяти, грозное и незабываемое. Путники прилегли в траве. Носорог поднял голову; опять, как и в тот страшный час, люди увидели изогнутые, широко расставленные уши и торчащий между ними конец рога. Складки толстой кожи обрамляли плечи животного и нависали валиками у начала расставленных передних ног, утопавших в траве. Массивное чудовище неподвижно постояло и, повернувшись, двинулось в прежнем направлении.
Небольшие стада маленьких желто-серых антилоп попадались часто; убитые стрелами животные служили вкусной пищей.
На четвертый день сухое русло расширилось и исчезло, желтая глинистая почва уступила место странной ярко-красной земле,[171] тонким слоем покрывавшей раздробленный гранит. Округлые холмы гранита выступали темными пятнами на красной унылой равнине. Трава исчезла, вместо нее из земли торчали жесткие листья, похожие на воткнутые прямо в рыхлую почву связки острых и узких мечей.[172] Проводники тщательно обходили заросли этих растений с острыми, режущими, как бритва, краями жестких листьев.
Красная долина расстилалась впереди, ровные клубы пыли вихрились, поднимаясь столбами и рассеивая блеск солнечных лучей. Жара истомила идущих, но люди продолжали путь, тревожась, что эта безводная равнина окажется очень большой. Русло с его подземным потоком воды осталось позади. Кто знает, когда удастся найти воду, столь необходимую человеку в этой жаркой стране!
С вершины одного из гранитных холмов заметили, что вдали пролегает золотистая черта — там, видимо, кончалась красная почва и вновь шла травянистая степь. Действительно, тени удлинились только наполовину от полудня, а путники уже шагали по шелестящей траве, более низкой, чем раньше, но зато и более густой. В стороне виднелось широкое зеленое облако, казалось парившее в воздухе над синевато-черным пятном собственной тени — могучее “дерево гостей” приглашало под свой кров. Проводники повернули к нему. Утомленные люди прибавили шагу, и скоро носилки с ранеными стояли в тени у ствола, глубоко разделенного продольными желобами на отдельные закругленные ребра.
Несколько негров составили живую лестницу и взобрались на могучие ветви. Восторженные вопли послышались сверху — чернокожие не ошиблись в своих расчетах: внутреннее дупло толстого ствола, не менее пятнадцати локтей в поперечнике, содержало воду недавних дождей. Сосуды наполнились прохладной темной водой. Негры сбросили сверху длинные, заостренные с обоих концов плоды громадного дерева. Каждый плод, в человеческую голову величиной, содержал под своей тонкой твердой скорлупой желтоватое мучнистое вещество, кисло-сладкое, замечательно охлаждавшее горячие, пересохшие рты путников. Кидого разбил два плода, отделил множество мелких косточек, растер содержимое с небольшим количеством воды и принялся кормить Пандиона.
К радости негра, молодой эллин ел с большой охотой и сегодня в первый раз приподнял голову, стараясь оглядеться кругом (на носилках во время перехода лицо Пандиона обычно покрывали большими листьями, сорванными вблизи источников). Руки Пандиона с усилием дотянулись до Кидого, слабые пальцы пожали кисть негра. Широко раскрытые глаза эллина потеряли прежнюю остроту взгляда и были мутны и жалки.
Кидого взволнованно спросил друга, как он себя чувствует, но не добился ответа. Глаза раненого опять закрылись, будто слабая вспышка воскресающей жизни утомила его без меры. Кидого оставил друга в покое и поспешил передать этруску радостную весть. Кави, еще более посуровевший со страшного дня битвы, подошел к носилкам и долго сидел, вглядываясь в лицо товарища. Этруск старался, положив руку на грудь Пандиона, определить силу биения сердца юноши.
В это время раздался голос нубийца, забравшегося на верхушку дерева, чтобы осмотреть дорогу. Он кричал, что далеко впереди, почти у самого горизонта, видны темные рамки колючих изгородей, какие делают скотоводы-кочевники для защиты своих стад от хищных зверей.
Было решено заночевать под деревом и, выступив на рассвете, пораньше дойти до становища кочевников. К закату густые облака затянули небо, беззвездная ночь была необычайно тиха и темна, бархатно-черная тьма не давала возможности разглядеть руку, поднесенную близко к глазам.
Вскоре извивающиеся молнии опоясали кольцом небо, рокот грома непрерывно раскатывался вдали. Количество вспышек молнии все возрастало, небо зазмеилось сотнями слепящих огней, похожих на гигантские сухие ветви. Гром сотрясал все кругом, голубой огонь ослеплял людей, желавших покинуть свое убежище. Вдали послышался шум, быстро усиливавшийся и превратившийся в рев. Это подходила стена неистового дождя. Дерево заколебалось — целое море рухнуло с неба. Каскады прохладного дождя со страшным шумом разбивались о землю, вокруг дерева сразу образовался глубокий слой воды, покрывший выступы толстых корней. В чередующейся быстрой смене тьмы и сплошного огня казалось, что вся степь неминуемо будет затоплена — настолько велика была масса дождя, низвергавшегося кругом. Однако скоро сверкание молний прекратилось, дождь стих, и звездное небо раскинулось над напившейся степью; слабый ветерок понес густое благоухание невидимых трав и цветов. Ливийцы и этруск опешили при виде грозы, показавшейся им страшной катастрофой, но негры, весело смеясь, заявили, что это самый обыкновенный в дождливое время ливень, и даже не очень сильный. Кави только покачал головой, говоря себе, что если такой дождь здесь считается обыкновенным, то, без сомнения, им придется испытать в стране черных совершенно необычайные приключения. Догадка не обманула этруска.
На следующий день пути внезапно послышался лай собаки. Из дымки испарений, скрывавшей даль, проступили длинные колючие изгороди, за которыми прятались низкие шалаши кочевников.
Толпа людей, одетых в фартуки из кожи, окружила путников. Скуластые лица были непроницаемы, узкие темные глаза недоброжелательно смотрели на египетское вооружение в руках бывших рабов. Однако знак, данный нубийцем, произвел самое благоприятное впечатление. Из толпы выделились пять человек, украшенных черными и белыми перьями, в высоких прическах, поддерживаемых круглыми плетенками из черенков листьев.
Язык кочевников был понятен нубийцам — скоро пришельцы сидели в тесном кругу слушателей, попивая кислое молоко. Рабы-нубийцы рассказывали свою историю. Перебивая друг друга, они вскакивали в воодушевлении, сопровождаемые хором удивленных восклицаний. Украшенные перьями вожди только хлопали себя по бедрам. Велика сила одинаковых чувств у людей, подверженных одинаковым невзгодам, а дружеская помощь делает чудеса!
Кочевники отрядили шесть человек с десятью ослами для облегчения пути чужеземцев. Посланные должны были проводить путников до большого селения оседлого народа, находившегося еще в семи днях пути к юго-западу, на берегу непересыхающей речки.
Носилки были переделаны и укреплены на четырех ослах, другие животные повезли воду, кислое молоко и жесткий сыр в крепких кожаных мешках. Люди, не неся тяжести, могли делать теперь большие переходы и проходить в день не меньше ста двадцати тысяч локтей.
День проходил за днем. Под знойным ослепительным солнцем лежала беспредельная степь, то истомленная жарким безмолвием, то катившая широкие волны трав под ветром. Все дальше углублялись бывшие рабы в дикие просторы юга, наполненные неисчислимыми стадами животных. Сначала непривычные глаза не разбирались в проносившихся мимо или полускрытых травою скопищах — виднелись спины, торчали рога, короткие и изогнутые, или длинные и прямые, как копья, или спирально закругленные. Потом путники научились различать их породы — длиннорогих ориксов, громадных и кротких красных оленебыков, косматых, с безобразной горбоносой мордой гну, антилоп величиной с маленького теленка, странных, большеухих, танцевавших на задних ногах под деревьями.[173]
Желтая трава в рост человека с жесткими стеблями шелестела вокруг, как необозримое хлебное поле. Ее золотящееся под солнцем пространство испещрялось пятнами свежей зелени вдоль сухих русл и луж, теперь наполнившихся водой. Вдали в поверхность степи вонзались голубые и фиолетовые отроги гор, валами вздымавшихся на горизонте.
Деревья то становились чаще, скопляясь в высокие острова, темневшие над травой, то снова разбегались в разные стороны далеко друг от друга, как стая испуганных птиц. Чаще всего это были такие же зонтикообразные акации, какие поразили Кави в момент первого знакомства с золотой степью, — колючие стволы развертывались от корня широкой воронкой, напоминая опрокинутые вершиной вниз конусы. Иногда у деревьев были более толстые и короткие стволы, также развертывавшиеся массой ветвей, и тогда их кроны, густые и темные, походили на широкие зеленые купола или опрокинутые чаши. Пальмы издалека выделялись своими парными развилинами ветвей, усаженными на концах растрепанными ножевидными перьями темных листьев.
Кави замечал, как с каждым днем негры и нубийцы, неловкие и недогадливые в Та-Кем или на воде большой реки, здесь становились все более сильными, решительными и уверенными. Угрюмый этруск замечал, что хотя его авторитет предводителя и остается непоколебимым, но сам он теряет уверенность в себе на этой чужой земле, с неведомыми ему законами жизни.
Ливийцы, так хорошо проявившие себя в пустыне, казались беспомощными. Они боялись степи, населенной тысячами зверей, в траве им чудилось множество опасностей, невиданные угрозы сопровождали каждый их шаг.
Путь и в самом деле был нелегким. Встречались заросли травы, шишки которой источали миллионы мелких колючек,[174] впивавшихся в кожу, вызывая нестерпимый зуд и нагноение. Множество хищников укрывалось в жаркие часы дня под деревьями. Иногда в тени, казавшейся черной пещерой, между пучками ярко освещенной травы возникала гибкая пятнистая фигура леопарда.
Негры с изумительной ловкостью подкрадывались к красным антилопам, и сочное, вкусное мясо всегда было в изобилии у бывших рабов, все более крепнувших от сытной пищи. Когда вдали появлялась масса серо-черных тел огромных быков[175] с широкими, опущенными вниз рогами, негры подавали тревожный сигнал, и отряд поспешно отступал к ближайшим деревьям, спасаясь от этих страшных обитателей африканских степей.
Проводники, должно быть, неточно оценили расстояние: путники двигались уже девять дней, а признаков близости человеческого жилья все еще не встречалось. Рука ливийца зажила, негр со сломанной ногой уже сидел на носилках и вечером на привалах весело подпрыгивал и смешно ковылял около костра, радуя товарищей своим выздоровлением. Только Пандион по-прежнему лежал немой и безучастный, хотя теперь Кидого и Кави заставляли его больше есть.
А буйная жизнь степи все больше расцветала вокруг от дождей.
Миллионы насекомых гулко звенели и жужжали над травой, яркие птицы мелькали синими, желтыми, изумрудно-зелеными и бархатно-черными видениями среди переплета серых корявых ветвей. В знойном воздухе все чаще раздавались звучные крики маленьких дроф: “мак-хар! мак-хар!”
Кави ближе познакомился с исполинами Африки.
Бесшумные и спокойные серые глыбы слонов нередко проплывали над травой, гигантские кожистые уши топырились в сторону людей, блестящая белизна бивней резко выделялась около извивающихся темных хоботов. Мощные животные нравились этруску — их мудрое поведение так сильно отличалось от беспокойства антилоп, злобы носорогов, напряженной вкрадчивости хищников. Иногда людям удавалось подглядеть отдых величественных гигантов: стадо, укрываясь в тени деревьев, неподвижно стояло, тесно скучившись. Громадные старые самцы низко склоняли свои лобастые, отягченные изогнутыми бивнями головы; самки, с более плоскими лбами, держали во сне головы выше. Один раз шедшие впереди наткнулись на одинокого старого слона. Гигант спал, стоя прямо на жаре. Он заснул, очевидно, в тени, потом солнце передвинулось, а слон, разоспавшись, не чувствовал зноя. Кави долго любовался мощным великаном.
Слон стоял, как изваяние, слегка расставив задние ноги. Опущенный хобот был согнут в кольцо, маленькие глаза закрыты, тонкий хвост свисал с покатого зада. Толстые изогнутые бивни грозно торчали вперед, концами широко расходясь в стороны.
Там, где деревья были более редкими, часто встречались животные необычного вида. Их длинные ноги несли короткое тело с крутой, покатой назад спиной. Передние ноги были гораздо длиннее задних. Спина от массивных плеч и широкой груди переходила в необычайно длинную, наклоненную вперед шею, на которой сидела небольшая голова с короткими рожками и большими трубчатыми ушами. Это были жирафы. Животные встречались стадами от пяти до сотни штук. Незабываемое зрелище представляло собою большое стадо жирафов на открытом месте: казалось, лес, склоняемый ветром, перемещался в ярком свете, отбрасывая пятна причудливых теней. Жирафы двигались то рысью, то странными скачками, подгибая передние ноги и далеко вытягивая задние. Их пестрая шкура — светло-желтая сетка узких полосок, разделенных большими черными неправильными пятнами, — удивительно походила на тень от деревьев, под которыми животные были совершенно невидимы. Они осторожно срывали губами листья с высоких ветвей, насыщаясь без жадности; их большие чуткие уши поворачивались во все стороны.
Часто над волнующимся морем травы возникал ряд шей — эти странные животные медленно двигались, неся на высоте десяти локтей от земли гордые головы с блестящими черными глазами.
Сдержанные движения жирафов были красивы, безвредные животные вызывали невольную симпатию.
Не раз путешественники слышали сквозь стену травы злобное фырканье носорога, но они уже научились избегать плохо видящих свирепых чудовищ, и возможная встреча более не повергала бывших рабов в ужас.
Путники двигались гуськом, ступая след в след по тесным коридорам высокой травы, — только копья да головы, обмотанные тряпьем и листьями, раскачивались над примятыми стеблями. По сторонам без конца тянулась однообразная колеблющаяся стена. Трава и пылающее небо преследовали путников днем, травяные стены снились им по ночам, им казалось, что они навсегда затерялись в душной шелестящей бесконечности. Только на десятый день перед отрядом показалась задернутая голубой дымкой низкая гряда утесов. Поднявшись на них, путники оказались на щебнистом плоскогорье, поросшем кустарником и безлистыми деревьями, ветви которых, как множество растопыренных рук, угрюмо тянулись к небу.[176] Ядовитый зеленый цвет был одинаков у низких стволов и ветвей; деревья напоминали округлые щетки, ровно подстриженные сверху и поставленные на коротких палках. В зарослях этих деревьев господствовал терпкий, резкий запах, хрупкие ветви легко ломались от ветра, и в местах излома выделялся обильный сок. Он был похож на густое молоко и застывал длинными серыми каплями. Проводники спешили пересечь этот необычайный лес, уверяя, что если ветер окрепнет, то хрупкие деревья начнут валиться вокруг и могут передавить людей.
За деревьями опять расстилалась степь, всхолмленная и поросшая зеленой свежей травой. С вершины холма перед путниками неожиданно открылись возделанные поля, примыкавшие к полосе густого и высокого леса. В глубине леса был виден просвет, там на возвышенности расположилось множество конических хижин. Холм был обнесен массивным частоколом. Тяжелые, из неровных бревен ворота смотрели прямо на путников, украшенные вверху гирляндой побелевших на солнце львиных черепов.
Высокие суровые воины вышли из ворот навстречу медленно поднимавшемуся в гору отряду бывших рабов. Местные жители походили на нубийцев, только их кожа была несколько более светлого бронзового оттенка.
В руках воины сжимали большие копья с огромными наконечниками, похожими на узкие мечи. Воины опирались на большие щиты, разрисованные черно-белым орнаментом. Дубины из черного дерева, очень твердого и тяжелого, висели на поясах из шкуры жирафов.
Со склона холма открывалась живописная местность. На золотой степной траве четко выделялась свежая изумрудная зелень речных берегов, обрамлявшая узкую голубоватую ленту блестевшей реки. Слабо трепетали кустарники, увенчанные розовыми пушистыми клубками. С деревьев свисали гроздья желтых и белых цветов.
Долго тянулись предварительные переговоры. Переводчиком выступил негр со сломанной ногой, уверявший, что происходит из этого народа. Опираясь на палку, он поскакал на одной ноге к воинам, сделав знак своим товарищам остановиться.
Кави, раб со сломанной ногой, Кидого, один нубиец и один из кочевников были впущены в ворота и отведены в хижину вождя.
Нетерпеливо ждали возвращения товарищей оставшиеся перед воротами, неизвестность томила их. Только Пандион, неподвижный и безучастный, лежал на снятых с ослов носилках. Казалось, что прошло очень много времени. Наконец в воротах появился этруск, сопровождаемый целой толпой мужчин, женщин и детей. Жители селения приветливо улыбались, размахивали широкими листьями и говорили непонятные, но звучавшие дружелюбно слова.
Ворота раскрылись, бывшие рабы пошли между большими хижинами, сооруженными в виде правильных глинобитных колец, покрытых коническими шапками из длинных стеблей жесткой травы.
На полянке под двумя деревьями стояла очень большая хижина с навесом перед входом. Здесь собрались вожди для осмотра прибывших. Вокруг теснились почти все жители деревни, взволнованные необыкновенным происшествием. По просьбе главного вождя негр со сломанной ногой повторил рассказ о страшной охоте на носорога, часто показывая на спокойно лежавшего Пандиона.
Жители селения выражали криками восторга, удивления и ужаса свои впечатления о неслыханном деле, совершенном по повелению грозного фараона Та-Кем.
Главный вождь поднялся и обратился к своему народу с короткой речью, непонятной для прибывших. Одобрительные крики были ответом. Тогда вождь подошел к выжидательно стоявшим путникам и, обведя рукой вокруг деревни, наклонил голову.
Кави через переводчика-негра поблагодарил вождя и народ за гостеприимство. Путники приглашались вечером на пир в честь их прибытия.
Толпа жителей окружила носилки Пандиона. Мужчины смотрели на раненого с уважением, женщины — с состраданием. Девушка в синем плаще смело вышла из толпы и склонилась над молодым эллином. Казалось, Пандион, загоревший за долгое время пребывания под солнцем Черной Земли и страны Нуб, отличался от других обитателей южных степей лишь более светлым, золотистым тоном кожи. Однако спутавшиеся и сбившиеся кудри его отросших волос, правильные черты похудевшего лица при более близком рассмотрении выдавали происхождение чужеземца.
Движимая жалостью к красивому, беспомощно распростертому молодому герою, девушка осторожно протянула руку и ласково отодвинула со лба Пандиона прядь волос, упавших на лицо.
Медленно поднялись отяжелевшие веки, широко раскрылись глаза невиданного золотого цвета, и девушка слегка вздрогнула. Но глаза незнакомца не видели ее, потускневший взор был безучастно устремлен на качавшиеся вверху ветви.
— Ирума! — окликнули девушку подруги.
К носилкам подошли Кидого и Кави, подняли и унесли раненого друга, а девушка осталась на месте, потупив взгляд и вдруг сделавшись такой же неподвижной и безучастной, как привлекший ее внимание молодой эллин.
Глава шестая ТЕМНАЯ ДОРОГА
Заботливый уход Кидого и Кави сделал свое дело — сломанные кости Пандиона срослись. Но прежняя сила не возвращалась к молодому эллину. Апатичный и безвольный, он целыми днями лежал в полутьме просторной хижины, вяло и односложно отвечал на вопросы друзей, нехотя ел и не делал попыток подняться. Он сильно исхудал, лицо его с запавшими, обычно закрытыми глазами обросло мягкой бородкой.
Пора было двигаться в далекую дорогу к морю и родине. Кидого давно во всех подробностях расспросил у местных жителей путь к берегам Южного Рога.
Из тридцати девяти бывших рабов, нашедших убежище в селении, двенадцать ушли в разные стороны — они жили когда-то в этой же стране и могли без особенных трудов и опасностей скоро попасть на родину.
Оставшиеся торопили Кидого с выступлением. Теперь, когда они стали свободными и сильными, далекая родина влекла их все сильнее; каждый день, проведенный на отдыхе, казался преступлением. И поскольку их возвращение зависело от Кидого, они одолевали негра просьбами и напоминаниями.
Кидого отделывался неопределенными обещаниями — он не мог покинуть Пандиона. После этих разговоров негр часами просиживал около постели друга, терзаясь сомнениями и задавая себе один и тот же вопрос: когда же в состоянии больного наступит перелом? По совету Кави Пандиона выносили из хижины и укладывали около входа в часы, когда начинала спадать жара. Однако и это не принесло заметного улучшения. Пандион оживлялся только во время дождя — грохот грома и рев потоков заставляли больного приподниматься на локте и прислушиваться, как будто в этих звуках он улавливал неведомые остальным зовы. Кави нашел двух местных знахарей. Они окурили больного едким дымом трав, закопали в землю горшок с какими-то кореньями, но состояние молодого эллина не улучшилось.
Однажды, когда Пандион лежал около хижины и Кави, вооружась маленькой веточкой, лениво отгонял от него жужжащих мух, к ним приблизилась девушка в синем плаще. Эта была Ирума, дочь лучшего охотника селения, та, которая обратила внимание на Пандиона еще в первый день прихода путников.
Девушка вынула из-под плаща тонкую, зазвеневшую браслетами руку — в ней был небольшой плетеный мешочек. Ирума сунула его Кави, — этруск уже научился немного понимать туземцев — и объяснила, что это волшебные орехи из западных лесов, которые должны излечить больного. Девушка пыталась растолковать этруску, как приготовить из них лекарство, но Кави ничего не понял. В смущении Ирума поникла головой, но сейчас же вновь оживилась, попросила этруска дать ей плоский камень, которым дробили зерна, и принести чашку с водой. Этруск, ворча что-то себе под нос, направился в хижину. Девушка оглянулась по сторонам и опустилась на колени у изголовья больного, вглядываясь в его лицо. Маленькая рука легла на лоб Пандиона. Послышались тяжелые шаги Кави, и девушка поспешно отдернула руку.
Она высыпала из мешочка орехи, похожие на каштаны, разбила их, растерла ядрышки на камне и превратила в жидкую кашицу, смешав с молоком, принесенным только что пришедшим Кидого. Негр, едва увидев орехи, испустил радостный вопль и весело запрыгал вокруг хмурого этруска.
Кидого объяснил недоумевающему Кави, что в западных лесах и в лесах его родины растет небольшое дерево со стройным стволом. Ветки дерева постепенно укорачиваются к вершине, так что оно кажется заостренным кверху.[177] На нем растет множество орехов, обладающих чудесным свойством исцелять больных, возвращать силы изнуренным, уничтожать усталость и давать веселье и радость здоровым.
Девушка накормила больного кашицей из волшебных орехов, затем все трое уселись у постели и стали терпеливо ожидать. Прошло несколько минут. Слабое дыхание Пандиона сделалось сильным и мерным, кожа на запавших щеках порозовела. С этруска слетела его угрюмость. Он, как зачарованный, следил за действием таинственного лекарства. Вот молодой эллин громко вздохнул и вдруг, широко раскрыв глаза, приподнялся и сел.
Солнечные глаза Пандиона скользнули с этруска на Кидого и замерли, обращенные в упор на девушку. Молодой эллин с удивлением смотрел на лицо цвета темной бронзы с поразительно гладкой, какой-то очень упругой кожей.
Приспущенные внутренние уголки длинных глаз пересекались у переносицы маленькими складочками, полными лукавства. Сквозь прищуренные веки поблескивали очень ясные белки, ноздри широкого, но правильного носа нервно раздувались, утолщенные яркие губы в открытой и застенчивой улыбке обнажали жемчужный ряд крупных зубов. Все ее круглое лицо было так полно задорного и нежного лукавства, что Пандион невольно улыбнулся. И тотчас золотистые глаза молодого эллина, за минуту до этого тусклые и равнодушные, засияли и заискрились. Смущенная Ирума опустила ресницы и отвернулась.
Пораженные друзья пришли в восторг — первый раз после рокового дня битвы с носорогом их друг улыбнулся. Волшебное действие диковинных орехов было совершенно бесспорным. Пандион сидел и жадно расспрашивал товарищей о всех происшествиях со дня его ранения, перебивая их объяснения быстрыми вопросами, похожий на опьяненного чем-то человека.
Ирума поспешно удалилась, пообещав к вечеру прийти узнать о здоровье юноши. Пандион много и с удовольствием ел и продолжал расспросы. К вечеру, однако, действие лекарства прекратилось, прилив жизни угас, и снова дремотное безразличие охватило молодого эллина.
Пандион лежал в хижине. Этруск и негр советовались, нужно ли снова дать ему волшебные орехи, и решили спросить об этом у Ирумы.
Девушка пришла в сопровождении отца — высокого атлета с рубцами от львиных когтей на плечах и груди. Отец и дочь долго совещались, несколько раз охотник пренебрежительно отмахивался от девушки, сердито тряся головой, потом шумно расхохотался и слегка ударил ее по спине. Ирума досадливо передернула плечами и подошла к друзьям.
— Отец сказал — много орехов давать нельзя, — объявила она негру, видимо считая его более близким другом больного. — Орехи нужно давать один раз в середине дня, чтобы больной хорошо ел…
Кидого ответил, что знает действие этих орехов и будет делать, как ему сказано.
В это время отец девушки посмотрел на больного, покачал головой и сказал дочери несколько слов, непонятных ни Кави, ни Кидого. Ирума вдруг сделалась чем-то похожей на большую рассерженную кошку — так заблестели ее глаза. Верхняя губа чуть приподнялась, показав край зубов. Охотник добродушно усмехнулся, махнул рукой и вышел из хижины. Девушка склонилась над Пандионом и долго всматривалась в его лицо, потом, словно спохватившись, тоже пошла к выходу.
— Завтра вечером я буду лечить его сама по обычаю нашего народа, — решительно объявила она перед уходом. — Издавна женщины так лечат у нас больных или раненых. У твоего друга ушла душа радости — без нее ни один человек не захочет жить. Нужно вернуть ее!
Кидого, подумав над словами девушки, решил, что Ирума права. Пандион после всех испытанных потрясений действительно утратил интерес к жизни. Что-то в нем надломилось. Но способ лечения, о котором говорила Ирума, негр так и не смог себе представить, как ни ломал голову. Ничего не придумав, он улегся спать.
На следующий день Кидого снова накормил друга кашицей из орехов. Пандион опять сидел, разговаривал и, к радости друзей, ел с большим аппетитом. Молодой эллин все время посматривал по сторонам и наконец спросил о вчерашней девушке. Кидого скорчил веселую гримасу, подмигнул этруску и предупредил Пандиона, что сегодня вечером эта девушка будет его лечить таинственным и никому не известным образом. Пандион сначала заинтересовался, а потом, видимо, когда окончился срок действия орехов, опять впал в обычную апатию. Тем не менее и Кави и Кидого нашли, что вид больного за эти два дня значительно изменился к лучшему. Их друг ворочался чаще и дышал громче, чем обычно.
Едва солнце склонилось к западу, селение, как обычно, наполнилось едким запахом горящего хвороста и монотонным глухим стуком больших ступок, в которых женщины дробили для еды мелкие зерна какого-то возделываемого здесь растения.[178]
Черной кашей из этих зерен с приправой из молока и масла питались здесь все жители.
Сумерки быстро превратились в ночь. Внезапно по затихшему селению пронесся глухой рокот барабана. Шумная толпа молодежи приблизилась к хижине трех друзей. Впереди шли четыре девушки с факелами, окружая двух согбенных старух в широких темных плащах. Юноши подхватили больного и под громкие крики толпы понесли его на другой край селения, примыкавший к расчищенной опушке леса.
Кави и Кидого последовали за толпой. Этруск недовольно посматривал по сторонам с видом, говорившим, что он не ждет ничего хорошего от этой затеи.
Пандиона принесли в огромную пустую хижину, не менее тридцати локтей в поперечнике, и уложили у центрального столба, спиной к широкому входу. Несколько факелов из рыхлого дерева, пропитанного пальмовым маслом, укрепленных на столбе, ярко освещало центр хижины. Стены под низко опускавшимися краями крыши скрывались в полумраке. Хижина была полна женщин — юные девушки и старухи сидели вдоль стен, оживленно переговариваясь. Какая-то старуха дала Пандиону темного питья, сразу подбодрившего юношу.
Из выдолбленного слонового бивня раздался резкий дрожащий звук — в хижине наступила тишина, и все мужчины поспешно покинули помещение. Этруск и Кидого, пытавшиеся остаться, были бесцеремонно вытолкнуты в темноту. Группа безобразных старух столпилась у входа, заслоняя происходившее в хижине от глаз любопытных. Кави уселся поблизости от хижины, решив ни за что не уходить до конца таинственного дела. К нему, скаля зубы и посмеиваясь, присоединился Кидого — он верил в способы лечения, существующие у южных народов.
Две девушки осторожно приподняли больного и усадили, прислонив спиною к столбу. Пандион удивленно оглядывался по сторонам, встречая в полумраке блестящие белки глаз и зубы смеющихся женщин. Хижина была увешана изнутри пучками какого-то душистого растения.[179] Широкая гирлянда шла кольцом вокруг хижины по внутреннему карнизу крыши, тонкие веточки этого же кустарника оплетали столб, к которому прислонился Пандион. Все было наполнено терпким, бодрящим ароматом растения — этот запах дразнил и тревожил Пандиона, напоминая что-то бесконечно близкое и манящее, но безвозвратно забытое.
Прямо перед эллином расположились несколько женщин. При свете факелов белели две длинные изогнутые трубы из слоновых клыков, круглыми боками выделялись темные барабаны — отрезки выдолбленных толстых стволов дерева.
Снова прозвучал дрожащий звук трубы. Старухи поставили перед Пандионом деревянную статуэтку женщины, почерневшую, с грубо выделенными мощными формами.
Высокие женские голоса начали тихую песню — полились медленные переливы гортанных звуков и тоскливых вздохов, убыстрявшиеся и нараставшие, ширясь и поднимаясь все выше, порывисто и стремительно. Внезапно гулкий удар барабана потряс воздух. Пандион невольно вздрогнул. Песня умолкла, на грани света и тени показалась девушка в синем плаще, уже знакомая Пандиону. Она вступила в освещенный факелами круг и как бы в нерешительности остановилась. Опять зазвучала труба, ее стон был подхвачен неистовым воплем нескольких старух. Девушка отбросила назад плащ и осталась в пояске из плетеной гирлянды душистых ветвей.
Свет факелов переливался туманными бликами на блестящей темно-бронзовой коже. Глаза Ирумы были сильно подкрашены синевато-черной краской, на руках и ногах сверкали начищенные медные кольца, недлинные, круто вьющиеся черные волосы разметались по гладким плечам.
Мерно и глухо зарокотали барабаны. В такт их медленным ударам девушка, тихо переступая голыми ногами, приблизилась к Пандиону и гибким, звериным движением склонилась перед статуэткой неведомой богини, простирая вперед руки в томительном и страстном ожидании. Восхищенный Пандион следил за каждым жестом Ирумы. Сейчас и тени лукавства не было в лице девушки — серьезная, строгая, с нахмуренными бровями, она, казалось, прислушивалась к голосам своего сердца. По протянутым к Пандиону рукам волнами двигались напрягшиеся мускулы. Эти волны сбегали от гладких плеч к покачивавшимся перед лицом Пандиона пальцам, как будто каждая частица ее тела стремилась к нему. Молодой эллин никогда не видел ничего подобного — таинственная жизнь рук сливалась с вдохновенным порывом поднятого вверх лица девушки.
Неистово затрубили рога из слоновой кости. Внезапный звенящий удар остановил дыхание Пандиона — медные листы, ударяемые друг о друга, загремели и зазвенели победно и радостно, заглушая отрывистое звучание барабанов.
Девушка откинулась назад крутой блестящей дугой. Потом маленькие ноги медленно пошли по гладко утрамбованному полу — танцовщица двигалась по кругу робко и нерешительно, исполненная застенчивого смущения.
Озаренная ярким светом факелов, девушка казалась вылитой из темного металла. Отступая в полумрак, она двигалась там легкой, почти невидимой тенью.
Тревожный рокот барабанов становился все стремительнее, дико гремели медные листы, и, повинуясь этим яростным звукам, медленный танец все ускорялся.
В такт низкому дрожащему звону меди быстро понеслись крепкие стройные ноги, сплетались вместе, замирали и вновь плавно скользили, едва касаясь пола.
Плечи и высоко поднявшаяся грудь оставались неподвижными, а напряженные руки Ирумы, с мольбой протянутые к изображению богини, изгибались медленно и плавно.
Оборвался настойчивый стук барабанов, смолкла гремящая медь, и только тоскливые вскрики труб изредка нарушали наступившую тишину, в которой звенели и бряцали браслеты Ирумы.
Странное движение мышц под гладкой кожей девушки поразило Пандиона. Нигде не выступая отчетливо, они переливались и струились, как вода на поверхности ручья, и линии тела Ирумы бежали перед глазами молодого скульптора чередой неповторимых изменений. В них были плавный ритм морского простора и широкий, порывистый разлив ветра по золотой степи.
Мольба, в начале танца отраженная в каждом движении девушки, теперь уступила место властному стремлению. Пандиону казалось, что перед ним струится сам огонь жизни, что вся древняя сила женской красоты явилась ему в бронзовых отблесках света и мощном громе музыки.
В душе молодого эллина вновь вспыхнула жажда жизни, ожили былые мечты, раскрылся широкий и таинственный мир.
Умолкли трубы. Низкий и грозный рокот барабанов слился с пронзительными воплями женщин, медные листы гремели, как близкий гром, и вдруг наступила тишина. Пандион услышал стук собственного сердца.
Девушка неистово закружилась и внезапно замерла, выпрямив гибкое тело, дрожавшее как струна. И вдруг беспомощно опустила руки вдоль тела, дрожащая и истомленная. Колени ее подогнулись, блеск глаз потух. Печально вскрикнув, Ирума упала перед статуей богини. Упав, девушка осталась неподвижной, только грудь вздымалась от учащенных вздохов.
Ошеломленный Пандион вздрогнул. Стремительный танец оборвался криком печали.
Гул восторженных голосов наполнил хижину.
Четыре женщины, шепча невнятные слова, подняли и унесли Ируму в глубь хижины. Древняя деревянная статуя была мгновенно убрана. Женщины поднялись, возбужденные, с горящими глазами. Они громко переговаривались, показывая на чужеземца. Старухи у входа расступились, пропустив Кидого и Кави, которые кинулись к другу с расспросами. Но молодой эллин не мог и не хотел говорить сейчас. Оба друга унесли его домой, и Пандион долго лежал без сна, под впечатлением необычайного танца.
Могущественные ли орехи или колдовство танца великой богини сделали свое дело — Пандион стал поправляться.
Когда он избавился от потрясения, полученного в борьбе с носорогом, в его молодом теле не оказалось никакого серьезного изъяна, и оно с поразительной быстротой восстанавливало былую силу. И юноша, пересиливая себя, занялся физическими упражнениями, чтобы по-прежнему быть равным своим товарищам.
Через три дня молодой эллин дошел без чужой помощи до дома охотника — ему хотелось снова увидеть Ируму.
Девушки не оказалось дома, зато ее отец принял чужеземца ласково и приветливо, угостил вкусным пивом и долго старался что-то объяснить, жестикулируя и хлопая Пандиона по плечам и груди. Молодой эллин ничего не понял и покинул дом охотника со смутным чувством досады.
Успокоившись за Пандиона, Кидого и Кави со всеми бывшими рабами и большинством местных жителей отправились на большую охоту за жирафами, надеясь немного разведать предстоящий путь и добыть побольше мяса для своих гостеприимных хозяев.
Под смех и добродушные шутки соседей Пандион, укрепляя ослабевшие мускулы, помогал растирать зерна для приготовления пива, несмотря на насмешки мужчин, видевших его за женской работой. Скоро Пандион стал удаляться за пределы деревни, вооруженный тонким египетским копьем. Там, в степи, он упражнялся в метании копья и в беге, с каждым днем радостно ощущая, как крепнут его мышцы и как легко несут его тело вновь ставшие неутомимыми ноги.
Вместе с тем, ни на миг не забывая об Ируме, Пандион принялся за изучение языка туземцев. Он без конца твердил незнакомые певучие слова. Через неделю благодаря своей хорошей памяти Пандион уже мог понимать собеседника.
Четырнадцать дней Пандион не видел Ируму и не решался пойти к ней в отсутствие отца, так как не знал еще обычаев этого народа. Однажды, возвращаясь из степи, Пандион увидел фигуру в синем плаще, и сердце его учащенно забилось. Молодой эллин ускорил шаги, догнал девушку и остановился перед ней, радостно улыбаясь. Он не ошибся — это была Ирума. При первом же взгляде на лицо девушки Пандиона охватило волнение. С трудом выговаривая непривычные слова, молодой эллин стал благодарить потупившуюся и смущенную Ируму. Запас слов у Пандиона скоро иссяк, он в увлечении перешел на свой язык, спохватился и умолк, растерянно глядя на пеструю головную повязку, приходившуюся ему на уровень ключиц. Ирума искоса и лукаво посматривала на него и вдруг рассмеялась. Улыбнулся и Пандион, потом осторожно произнес давно выученную фразу:
— Можно мне прийти к тебе?
— Приходи, — просто ответила девушка, — завтра на опушку, когда солнце станет против леса.
Обрадованный Пандион, не зная, что еще сказать, протянул Ируме обе руки. Синий плащ распахнулся, две маленькие твердые руки доверчиво улеглись в ладонях Пандиона. Он нежно и крепко сжал их. Он не думал в этот момент о далекой Тессе. Руки девушки вздрогнули, широкие ноздри раздулись; она нежным, но сильным движением освободилась, прикрыла лицо плащом и быстро пошла по склону холма. Пандион сообразил, что не следует идти за ней, и остался на месте, глядя на девушку, пока она не скрылась за хижинами. Безотчетно улыбаясь, Пандион шел по улице, размахивая копьем.
Впервые Пандион заметил, в каком живописном месте расположено это селение. Хижины были удобно и красиво построены, улицы просторны.
Пандион невольно обратил внимание, что здешний народ резко отличался от виденных им жителей страны Нуб и бедняков “избранного” Та-Кем — там на лицах лежала печать угрюмости и равнодушия. В истощенных от голода и чрезмерной работы телах была какая-то приниженность. Здесь же жители ходили легкой, свободной поступью; даже старики сохраняли красивую осанку.
Мысли Пандиона прервал выросший перед ним юноша, мускулистый и широкогрудый, в маленькой шапочке из леопардовой шкуры. Он недружелюбно посмотрел на чужеземца и властным жестом вытянул руку перед собой, коснувшись груди Пандиона. Эллин остановился в недоумении, а юноша замер перед ним, опустив руку на пояс с широким ножом и меряя пришельца вызывающим взглядом.
— Я видел, ты хорошо бегаешь, — наконец произнес юноша. — Хочешь состязаться со мной? Я Фульбо, прозванный Леопардом, — добавил он, как будто это имя могло все объяснить Пандиону.
Пандион, дружелюбно улыбнувшись, ответил, что он раньше бегал лучше, а сейчас еще не достиг прежнего уменья. Тогда Фульбо осыпал его злобными насмешками, и кровь закипела в молодом эллине. Не понимая, что является причиной ненависти юноши, Пандион, презрительно подбоченившись, согласился. Противники порешили состязаться сегодня же вечером, когда станет прохладнее.
У подножия холма, на котором стояло селение, собрались юноши и несколько пожилых людей полюбоваться на состязание Фульбо с чужеземцем.
Фульбо указал на видневшееся вдалеке одинокое дерево — до него было не меньше десяти тысяч локтей. Победителем считается тот, кто первым придет обратно к намеченной черте с веткой от дерева.
Удар в ладоши был сигналом — Пандион и Фульбо пустились бежать. Фульбо, весь дрожавший от нетерпения, сразу помчался большими прыжками. Казалось, что юноша, распластавшись, летит над землей. Молодежь разразилась криками одобрения.
Молодой эллин, еще не вполне оправившийся, понял, что ему грозит опасность быть побежденным. Но он решил не уступать. Пандион пустился бежать, как учил его дед в холодные часы рассвета на узкой полосе морского берега. Он бежал, слегка раскачиваясь, не делая резких скачков и соразмеряя дыхание. Фульбо оказался далеко впереди, но молодой эллин двигался спокойно и быстро, не пытаясь догнать соперника. Постепенно грудь его расширялась, набирая все больше воздуха, ноги летели все стремительнее, и зрители, вначале смотревшие на него с сожалением, увидели, как расстояние между соперниками стало сокращаться. Африканец оглянулся, испустил злобный крик и понесся еще скорее. К дереву он подбежал на четыре сотни локтей впереди Пандиона, высоко подпрыгнул, сорвал ветку и мгновенно повернул обратно. Пандион разминулся с ним недалеко от дерева и отметил про себя бурное дыхание Фульбо. Хотя сердце самого Пандиона колотилось гораздо сильнее, чем следовало бы, молодой эллин решил, что он может рассчитывать на победу над слишком горячим, незнакомым с правильным бегом соперником. Пандион продолжал бежать с прежней выдержкой, и только когда до зрителей оставалось не больше трех тысяч локтей, вдруг рванулся вперед. Он скоро настиг Фульбо, но тот, ловя воздух широко раскрытым ртом, удлинил свои прыжки и опять оставил позади чужеземца. Пандион не сдавался. Хотя у него темнело в глазах и сердце вырывалось из груди, он вновь нагнал противника. Тот бежал, уже ничего не видя перед собою, не разбирая дороги, и вдруг, споткнувшись, упал. Пандион пронесся на несколько локтей вперед, остановился и подскочил к упавшему, чтобы помочь ему встать. Фульбо гневно оттолкнул его, поднялся, шатаясь, и с трудом выговорил, глядя прямо в лицо Пандиону:
— Ты… победил… но берегись!.. Ирума…
Мгновенно все стало понятным молодому эллину, и к торжеству победы примешалось ощущение чего-то нехорошего, какой-то неловкости, как будто он вторгся в чужое и запретное.
Фульбо уныло понурил голову и пошел тяжелым шагом, более не делая попыток бежать. Пандион не спеша вернулся к черте, встреченный приветствиями зрителей. Чувство вины не покидало его.
Едва молодой эллин очутился в своей пустой хижине, как уже начал тосковать по Ируме. Назначенная на завтра встреча казалась такой далекой.
В тот же вечер вернулись охотники. Товарищи Пандиона пришли усталые, нагруженные добычей, полные переживаний. Этруск и негр ликовали, увидев поздоровевшего Пандиона. Кидого шутя предложил бороться, и через мгновение Пандион и негр катались в пыли, сжимая друг друга в железных объятиях, а Кави пинал их ногами и бранил, пытаясь разнять.
Друзья приняли участие в общей пирушке, устроенной в честь возвратившихся охотников. Опьяненные пивом, участники охоты хвалились друг перед другом своими успехами. Молодой эллин сидел в стороне, бросая незаметно взгляд в сторону лужайки, где танцевала молодежь, и стараясь рассмотреть Ируму среди вереницы юношей и девушек.
Слегка пошатываясь, поднялся один из вождей и начал говорить приветственную речь, сопровождая ее плавной, красивой жестикуляцией. Пандион смог уловить только общий смысл, заключавшийся в том, что вождь хвалил пришельцев, сожалел об их скором уходе и предлагал чужеземцам остаться, обещая принять их в число соплеменников.
Пир окончился уже ночью, когда охотники вдоволь насытились нежным мясом молодых жирафов и прикончили весь запас пива. По дороге в хижину Кидого заявил, что завтра все бывшие рабы, которых осталось двадцать семь человек, будут держать совет о дальнейшем пути. Кидого удалось поговорить с бродячими охотниками, которых он встретил в лесу. Они хорошо знали местность к западу от селения и рассказали, куда идти. Расстояние, отделяющее их от моря и родины Кидого, очень велико, но он знает теперь, что за три месяца даже медленной ходьбы они будут там. Что теперь может остановить их, испытанных в борьбе, крепких дружбой? Каждый из двадцати семи стоит пяти воинов! Негр гордо расправил плечи, поднял к звездам веселое хмельное лицо, обнял Пандиона и с волнением закончил:
— Теперь мое сердце спокойно! Ты здоров — в дорогу! В дорогу, хоть завтра!
Пандион молчал, в первый раз чувствуя, что его желания не совпадают со стремлением друзей. Молодой эллин не умел лицемерить.
После сегодняшнего свидания Пандион понял, что тоска, все время остро бередившая его душу, вызвана любовью к Ируме. Девушка в расцвете юной красоты встретилась ему после жестокой жизни раба, на пороге свободы!
Неужели этого мало ему, так недавно цеплявшемуся за самую маленькую надежду на дне темной ямы-тюрьмы? Что нужно, наконец, ему в мире и жизни, когда любовь властно зовет его остаться здесь, среди золотой степи? И тайное, скрываемое от себя самого стремление навсегда остаться с Ирумой стало крепнуть в душе Пандиона. Доверчивая молодость эллина незаметно уводила его в страну грез, где все было так легко и просто.
Завтра он увидится с Ирумой, все скажет ей… А она — она тоже любит его!
Бывшие рабы должны были встретиться на другом конце селения. Там, в двух больших хижинах, они и жили. Кави, Кидого и Пандион занимали отдельную маленькую хижину, отданную им из-за болезни эллина.
Пандион, точивший копье в углу хижины, встал и направился к выходу.
— Куда ты идешь? — спросил его удивленный этруск. — Разве ты не будешь на совете?
— Я приду потом, — отворачиваясь, ответил Пандион и поспешно вышел из хижины.
Этруск внимательно посмотрел ему вслед и недоуменно переглянулся с Кидого, усердно трудившимся около входа над большим куском толстой кожи, изготовляя щит.
Молодой эллин не сказал друзьям, что Ирума ждет его сегодня на опушке леса. Чувствуя, как с приходом товарищей выросла внезапная угроза его только что родившейся любви, Пандион не в силах был отказаться от свидания. Он оправдывал себя тем, что все равно узнает решение совета от друзей.
Приблизившись к лесу, Пандион долго искал глазами Ируму, как вдруг улыбающаяся девушка отделилась от ствола дерева и сама предстала перед эллином. Ирума накинула отцовский охотничий плащ из мягкой серой коры и в нем, на фоне деревьев, была совершенно незаметна. Девушка сделала знак Пандиону следовать за собой и быстро пошла вдоль опушки к полукруглому выступу леса, вдававшемуся в степь в трех тысячах локтей от селения. Там она вошла под деревья. Пандион с любопытством смотрел по сторонам — впервые он находился в африканском лесу. Эллин представлял его совсем другим — лес тянулся длинной, узкой лентой по долине речки, омывавшей селение, и в ширину был не больше двух тысяч локтей.
Это был громадный свод высоких деревьев, темная галерея над глубокой, вечно сумрачной лощиной речки.
Деревья дальше становились все выше, а у берега, круто спускавшегося к самой воде, клонились к земле, скрещивая в высоте свои ветви. Стройные и прямые стволы с белесой, черной и коричневой корой уходили ввысь на целую сотню локтей, как густая колоннада высокого здания. Ветви густо переплетались в сплошной свод, непроницаемый для солнца. Сумрачный серый свет струился сверху, угасая в глубоких впадинах между странными корнями, похожими на невысокие стены. Тишина, не нарушаемая никакими звуками, кроме едва слышного журчания воды, полумрак, исполинская высота лесной колоннады подавили Пандиона. Он показался себе незваным пришельцем, вторгнувшимся в запретное, полное тайны сердце чужой природы.
Над самой водой в зеленом своде были узкие просветы — там с высоты обрушивался сплошной каскад золотого огня. Свет, одевая деревья сияющим туманом, дробился в промежутках между стволами на вертикальные полосы, постепенно угасавшие в глубине леса. Темные, таинственные храмы Айгюптоса пришли на память Пандиону. Построившие их мастера не придумали нового — волшебное воздействие гигантских сводов, сумерки и тишина, уводящие от мира, оказывается, существовали в природе. Исполинский лес был величественнее любого храма, но сила человека заключалась в том, что он мог создавать свои храмы в любом месте и там, где леса не росли… Канаты ползучих растений перекидывались от ствола к стволу свободными петлями или опускались вниз, образуя волнистые занавеси. Почва, усыпанная листьями, трухой гнилых плодов и ветвей, была пушистой и мягкой, кое-где по ней были разбросаны мелкие звезды пестрых цветов.
Со стволов свисали, как содранные куски кожи, длинные ленты шелушившейся коры.
Большие бабочки бесшумно летали над землей; их трепещущие крылья привлекали внимание молодого эллина причудливыми сочетаниями красок — ярких, бархатисто-черных, металлически-синих, красных, золотых и серебристых.
Ирума уверенно шла между корнями, спускаясь к реке, и привела Пандиона на ровную площадку у самого водотока, покрытую нежным ковром пушистых мхов. Здесь стояло дерево, разбитое молнией. В отщепе твердой желтой древесины выступали грубые очертания человеческой фигуры. Дерево, очевидно, служило предметом почитания — кругом него были развешаны цветные тряпки, зубы хищников. В земле торчали три почерневших слоновых клыка.
Ирума, почтительно склонив голову, приблизилась к старому дереву и поманила Пандиона к себе.
— Это предок нашего рода, рожденный от громового удара, — тихо произнесла девушка. — Дай ему что-нибудь, чтобы древние были добры к нам.
Пандион оглядел себя — у него не было ничего, что он мог бы отдать этому грубому богу, мнимому предку Ирумы. Юноша, улыбаясь, развел руками, но девушка была неумолима.
— Дай это! — Тут она дотронулась до пояса, сплетенного из жирафьих хвостов, только что сделанного Кидого для Пандиона на память об охоте.
Молодой эллин послушно развязал и отдал девушке полоску кожи. Ирума сбросила плащ. Она была в домашнем наряде — без браслетов, без ожерелья, только в широком кожаном поясе, косо спадавшем на левое бедро.
Девушка поднялась на носках, потянулась к зазубрине у головы идола и прикрепила там дар Пандиона. Ниже Ирума прицепила лоскуток пестрой шкуры леопарда и связку похожих на бусы темно-красных зерен. Потом девушка высыпала к подножию идола горсть проса и, довольная, отступила.
Теперь она пристально смотрела на Пандиона, прислонившись спиной к стволу невысокого дерева с сотнями красных цветов между листьями.[180] Казалось, что алые лампады светились над головой девушки, и красные блики их играли на блестящей коже Ирумы.
Пандион стоял, безмолвно любуясь девушкой. Ее красота казалась ему священной в тишине исполинского леса — храма неведомых богов, так резко отличавшихся от радостных небожителей его детства.
Светлая, спокойная радость наполнила душу Пандиона — он снова становился художником, и прежние стремления проснулись в нем.
Но внезапно встало из глубины памяти необычайно отчетливое видение. Там, на бесконечно далекой родине, под шум сосен и моря, так же стояла, прижавшись к дереву, Тесса в ушедшие, невозвратные дни…
Ирума закинула руки за голову, слегка перегнулась в тонкой талии и вздохнула. Смятенный Пандион отступил на шаг — Ирума приняла ту же позу, в какой он хотел изобразить Тессу.
Перед эллином воскресло прошлое, с новой силой вспыхнуло стремление в Энниаду. В путь, навстречу новой борьбе, прочь от Ирумы!..
Пандиона мучило раздвоение прежде всегда ясных его стремлений. Он обнаружил в себе неведомое ранее противоречие, и это испугало его.
Здесь с неудержимой силой звала его жаркая, как само солнце Африки, юная, как цветущая после дождей степь, мощная, как широкий поток, власть жизни. Там были все самые светлые его мечты о великом творчестве. Но разве не сама красота в образе темнокожей дочери африканских степей стояла перед ним, близкая и радостная? Так не похожи были Ирума и Тесса — они совсем разные, и все же в обеих жила одна и та же достоверность прекрасного.
Тревога Пандиона передалась девушке. Она приблизилась к нему, и певучие слова чужого языка нарушили тишину леса.
— Ты наш, золотоглазый… Я танцевала танец великой богини… Предок принял дары… — Голос Ирумы замер, длинные ресницы прикрыли глаза. Девушка крепко обняла Пандиона за шею и прильнула к нему.
У молодого эллина потемнело в глазах, отчаянным усилием он отстранился. Она подняла голову. Рот ее по-детски приоткрылся.
— Ты не хочешь жить здесь? Ты уйдешь с товарищами? — удивленно спросила Ирума, и Пандиону стало стыдно.
Пандион нежно привлек к себе Ируму и, подбирая подходящие слова, усвоенные из языка ее народа, пытался передать ей великую тоску о родине, о Тессе… Голова Ирумы запрокинулась вверх на широкой груди молодого эллина, ее глаза погрузились в золотистое сияние его глаз, зубы обнажились в слабой улыбке. Ирума заговорила, и в звуке ее слов была та же нежность, та же ласка любви, которая опьяняла Пандиона в устах Тессы.
— Да, если ты не можешь жить здесь, тебе нужно уйти… — Девушка запнулась на последнем слове. — Но если я и мой народ хороши для тебя, оставайся, золотоглазый! Подумай, реши, приходи, я буду ждать!
Девушка выпрямилась, гордо закинув голову. Такой же серьезной и строгой видел ее Пандион во время танца.
С минуту молодой эллин стоял перед ней, затем, внезапно решившись, протянул к девушке руки. Но она исчезла за деревьями, растворившись во мраке лесной чащи…
Исчезновение Ирумы поразило Пандиона, как тяжкая утрата. Эллин долго стоял в мрачном лесу, потом побрел наугад сквозь золотистый туман поляны, борясь с желанием броситься вслед за Ирумой, разыскать ее, сказать ей, что любит, что остается с ней.
Ирума, едва только скрылась от Пандиона за деревьями, пустилась бежать, легко перепрыгивая через корни, проскальзывая между лианами. Девушка мчалась все быстрее, пока совсем не выбилась из сил. Она, тяжело дыша, остановилась на берегу спокойного водоема — тихой заводи расширявшейся здесь речки. Яркий свет ослепил ее, тело обдало жаром после мрака и прохлады леса.
Ирума сквозь слезы увидела свое отражение на гладкой поверхности воды и невольно осмотрела себя всю в этом большом зеркале… Да, она красива! Но, значит, красота еще не все, если чужеземец, золотоглазый, храбрый и ласковый, хочет уйти от нее. Значит, ему нужно еще что-то… Но что?..
Солнце садилось за холмистой степью. Косая голубая тень лежала у порога хижины, где сидели Кидого и Кави.
По тому, как беспокойно зашевелились оба друга, Пандион понял, что этруск и негр давно уже ждали его. Потупившись, молодой эллин подошел к друзьям. Кави встал, торжественный и суровый, положил руку на плечо друга.
— Мы хотим говорить с тобой — он и я. — Этруск кивнул в сторону ставшего рядом Кидого. — Ты не пришел на совет, но все решено — завтра мы уходим…
Пандион отшатнулся. Слишком много событий произошло за последние три дня. И все же молодой эллин не думал, что товарищи будут так торопиться. Он сам спешил бы не меньше, если бы… если бы не было Ирумы!
Во взглядах друзей молодой эллин прочитал осуждение. Необходимость на что-то решиться, давно точившая душу Пандиона и бессознательно отбрасываемая им в наивной надежде, что все как-нибудь уладится, теперь приближалась. Как будто стена опять загородила доступ к радостному миру свободы, той свободы, которая на самом деле жила лишь в мечтах Пандиона.
Он должен решить, остается ли он здесь с Ирумой или, навсегда потеряв ее, уходит с товарищами. Жить, не имея никакой надежды снова увидеть ее, когда его и Ируму разделит необъятное пространство… Ужасное “навсегда” горело в сердце Пандиона раскаленным углем. Но если он останется здесь, то это будет тоже навсегда: только в соединенных усилиях двадцати семи человек, готовых на все, даже на верную гибель, ради возвращения на родину, была возможность одолеть пространство, держащее их в плену земли. Значит, если он останется, то навсегда потеряет родину, море, Тессу — все то, что поддерживало его и помогло очутиться здесь.
Сможет ли он жить здесь, слиться с этой приветливой, но все-таки чужой жизнью, когда не будет с ним верных товарищей, испытанных в беде, на дружбу которых привычно и незаметно он опирался все время? И даже без раздумья, всем сердцем Пандион почувствовал ясный ответ.
А разве то, что он оставит друзей, спасенный и вновь ставший сильным благодаря им, не будет изменой?
Нет, он должен идти с ними, оставив здесь половину сердца!
И воля молодого эллина не выдержала испытания. Он схватил за руки товарищей, с тревогой наблюдавших душевную борьбу, отражавшуюся на открытом лице Пандиона, и принялся умолять их не уходить так скоро. Теперь, когда они свободны, что стоит им прожить здесь еще немного, лучше отдохнуть перед дорогой, лучше узнать незнакомую страну!
Кидого заколебался: негр очень любил молодого эллина. Этруск нахмурился еще сильнее.
— Пойдем туда, здесь чужие глаза и уши. — Кави втолкнул Пандиона в темноту хижины и, выйдя, вернулся вновь с угольком. Он зажег маленький факел. При свете, ему казалось, легче будет убедить смятенного друга. — На что ты надеешься, если мы останемся, — строго спросил этруск, и его слова врезались в душу Пандиона, — если ты потом все равно уйдешь? Или ты хочешь взять ее с собой?
Нет, мысль о том, чтобы Ирума пошла с ними в бесконечно далекую и смертельно опасную дорогу, даже не приходила на ум Пандиону, и он отрицательно покачал головой.
— Тогда ты непонятен мне, — жестко сказал этруск. — Разве другие наши товарищи не нашли себе здесь девушек по сердцу? На совете никто из них не колебался, что выбрать — женщину или родину, никто не подумал остаться. Отец Ирумы, охотник, думает, что ты не пойдешь с нами. Ты понравился ему, слава о твоей храбрости прошла в народе. Он сказал мне, что готов принять тебя в дом. Неужели ты покинешь нас, забудешь родину ради девчонки?!
Пандион опустил голову. Ему нечего было ответить, он не смог бы объяснить этруску то, в чем Кави был неправ. Как сказать ему, что Пандион не просто поддался страсти? Как выразить то, что захватывало его в Ируме как художника? Для него Ирума стала воплощением красоты, в ней искрилась и сверкала древняя сила жизни, так привлекавшая молодого скульптора, в котором вместе с любовью проснулось и творчество! А с другой стороны, суровая правда жгла его в речи этруска — он забыл, что у чужого народа есть свои законы и обычаи. Оставшись здесь, он должен будет стать охотником, слить свою судьбу с судьбой этого народа. Такова была неизбежная плата за счастье с Ирумой… Одна Ирума здесь близка ему. Спокойный и жаркий простор золотой степи вовсе не походил на шумный и подвижный простор родного моря. И девушка была частью этого мира, временным гостем которого он не переставал себя чувствовать… А там, вдали, маяком светила ему родина. Но если этот маяк угаснет, разве он сможет жить без него?..
Этруск выдержал паузу, чтобы дать Пандиону время подумать, и начал снова:
— Хорошо, ты станешь ее мужем, чтобы вскоре покинуть ее и уйти. И ты думаешь, что ее народ отпустит нас с миром и поможет нам? Ты оскорбишь их гостеприимство. Наказание, следуемое тебе по заслугам, падет на нас всех… А потом, почему ты уверен, что остальные товарищи согласятся ждать? Они не согласятся, и в этом я буду с ними!
Этруск помолчал и, как бы устыдившись резкости своих слов, грустно добавил:
— Сердце мое болит, ибо когда достигну я моря, не будет у меня друга, искусного в корабельном деле. Мой Ремд погиб, и вся надежда была на тебя — ты плавал по морю, учился у финикийцев… — Кави опустил голову и замолчал.
Кидого бросился к Пандиону и надел на шею молодого эллина мешочек на длинном ремешке.
— Я хранил его, пока ты был болен, — сказал негр. — Это твой морской амулет… Он помог победить носорога, он поможет всем нам дойти до моря, если ты пойдешь с нами…
Пандион вспомнил про подаренный ему Яхмосом камень. Он совсем забыл об этом сверкающем символе моря, как забыл в эти дни еще и о многом другом. Он глубоко вздохнул. В эту минуту в хижину вошел высокий человек с большим копьем в руке. Это был отец Ирумы. Он непринужденно уселся на пол, поджав ноги, дружески улыбнулся Пандиону и обратился к этруску.
— Я пришел к тебе с делом, — неторопливо начал охотник. — Ты сказал, что через одно солнце вы решили уходить на родину.
Кави утвердительно кивнул головой и молчал, ожидая, что будет дальше. Пандион с беспокойством поглядывал на державшегося с простым и величавым достоинством отца Ирумы.
— Путь далек, много зверей стережет человека в степи и в лесу, — продолжал охотник. — У вас плохое оружие. Запомни, чужеземец: со зверями нельзя сражаться, как с людьми. Меч, стрела и нож хороши против человека, но против зверя самое лучшее — это копье. Только копье может удержать сильного зверя, остановить его, достать издалека сердце зверя. Ваши негодны для нашей степи! — Охотник пренебрежительно указал на прислоненное к стене хижины тонкое египетское копье с маленьким медным острием. — Вот какое здесь нужно!
Отец Ирумы положил Кави на колени принесенное им оружие и снял с него длинный кожаный чехол.
Тяжелое копье было больше четырех локтей в длину. Его древко, в два пальца толщины, было сделано из твердого, плотного, блестевшего, как кость, дерева. Посередине древко утолщалось, обшитое тонкой шероховатой кожей гиены. Вместо наконечника на нем было лезвие в локоть длиной и шириной в три пальца, сделанное из светлого твердого металла — редкого и дорогого железа.
Кави задумчиво потрогал острое лезвие, прикинул на руке тяжесть оружия и со вздохом вернул охотнику.
Тот улыбнулся, следя за впечатлением, произведенным копьем на этруска, и осторожно сказал:
— Изготовить такое копье — большой труд… Металл для него добывается соседним племенем, и они продают его дорого. Зато копье спасет тебя не раз в смертельном бою…
Не понимая, к чему клонит охотник, Кави молчал.
— Вы принесли с собой сильные луки из Та-Кем, — продолжал охотник. — Мы не умеем делать такие и хотели бы променять их на копья. Вожди согласились дать вам по два копья за каждый лук, а копья, я сказал, будут вам нужнее.
Кави вопросительно посмотрел на Кидого, негр кивком головы подтвердил мнение охотника.
— В степи много дичи, и нам не понадобятся стрелы, — сказал Кидого. — Но в лесах будет хуже. Однако лес далек, а шесть копий вместо трех луков надежнее при нападении зверей.
Кави подумал, согласился на обмен и принялся торговаться. Но охотник был непреклонен, доказывая, что предложенное им оружие — ценность. Они никогда не отдали бы по два копья за каждый лук, если бы не нужно было узнать, как изготовляются луки Черной Земли.
— Хорошо, — сказал этруск. — Мы отдали бы их вам в дар за приют и пищу, если бы не шли так далеко. Мы принимаем условия — завтра ты получишь луки.
Охотник просиял, хлопнул Кави по руке, поднял копье, вглядываясь в красный отблеск факела на лезвии, и надел на него кожаный чехол, украшенный кусочками разноцветных шкур.
Этруск протянул руку, но охотник не отдал оружия.
— Ты получишь завтра не хуже. А это… — отец Ирумы сделал паузу, — я дарю твоему золотоглазому другу. Чехол его сшила Ирума сама! Смотри, как он красив.
Охотник протянул копье молодому эллину, нерешительно принявшему подарок.
— Ты не идешь с ними, — отец Ирумы показал на этруска и негра, — но хорошее копье — это первое имущество охотника, и я хочу, чтобы ты прославил наш род, став моим сыном!
Кидого и Кави впились взглядами в друга; негр с хрустом сжал пальцы. Решительный момент наступил.
Пандион побледнел и внезапно резким, отстраняющим жестом протянул охотнику копье обратно.
— Ты отказываешься? Как мне понять это? — вскричал пораженный охотник.
— Я ухожу с товарищами, — с трудом произнес молодой эллин.
Отец Ирумы неподвижно стоял, глядя на Пандиона, потом с гневом швырнул копье ему под ноги:
— Пусть будет так, но не смей больше даже смотреть на мою дочь! Я сегодня же отошлю ее!
Пандион, не мигая, с широко раскрытыми глазами стоял перед охотником. Неподдельное горе исказило его мужественные черты, и какое-то смутное сочувствие ослабило гнев отца Ирумы.
— У тебя хватило мужества решить, пока не поздно. Это хорошо, — сказал он. — Но раз уходишь, уходи скорее…
Охотник еще раз угрюмо осмотрел Пандиона с головы до ног, издав какой-то неопределенный звук.
На пороге хижины отец Ирумы оглянулся на Кави.
— Что сказал, то и будет! — грубо буркнул он и исчез в темноте.
Негру стало не по себе от блеска глаз молодого эллина, и он почувствовал, что сейчас Пандиону не до друзей. Эллин постоял, вперив взгляд в пространство, точно спрашивая темную даль, как ему поступить. Он медленно повернулся и бросился на постель, закрыв лицо руками.
Кави зажег новый факел: ему не хотелось оставлять Пандиона в темноте одного со своими мыслями. Этруск и негр уселись в стороне и остались бодрствовать, не разговаривая. Время от времени они тревожно посматривали на друга, которому не могли ничем помочь.
Медленно шло время, наступила ночь. Пандион пошевелился, вскочил, прислушиваясь, и бросился вон из хижины. Но широкие плечи этруска заслонили вход. Молодой эллин натолкнулся на его скрещенные руки и остановился, сдвинув брови.
— Пусти! — нетерпеливо сказал Пандион. — Я не могу! Я должен проститься с Ирумой, если ее не отправили куда-то…
— Опомнись! — ответил Кави. — Ты погубишь ее, себя и всех нас!
Пандион молчал и пытался оттолкнуть этруска, но тот стоял крепко.
— Решил — тогда довольно, не гневи ее отца! — продолжал убеждать друга Кави. — Пойми, что может произойти…
Молодой эллин толкнул Кави еще сильнее, но сам получил толчок в грудь и отступил. Негр, увидев столкновение друзей, подбежал, растерянный, не зная, что предпринять. Молодой эллин стиснул зубы, глаза его загорелись недобрым огнем. Раздув ноздри, он кинулся на Кави. Этруск быстро выхватил нож и, повернув оружие рукояткой к Пандиону, гневно закричал:
— На, бери! Бей!
Пандион опешил. Этруск выпятил грудь, приложил к сердцу левую руку, а правой продолжал направлять рукоятку ножа в сторону Пандиона:
— Бей сразу, вот сюда! Все равно живой я не пущу тебя! Убей — тогда иди! — яростно кричал Кави.
В первый раз Пандион видел своего хмурого и мудрого друга в таком состоянии. Он отступил, беспомощно застонал и побрел к своей постели; опять упал на нее и повернулся к друзьям спиной.
Кави, тяжело дыша, вытер со лба пот и сунул нож за пояс.
— Мы должны стеречь его всю ночь и уходить скорее, — сказал он испуганному Кидого. — На рассвете ты предупредишь товарищей, чтобы собирались.
Пандион ясно расслышал слова этруска, означавшие, что ему не удастся увидеть Ируму. Он задыхался, почти физически ощущая тесноту вокруг себя. Эллин боролся с собой, напрягая всю волю, и постепенно бурное отчаяние, почти бешенство сменилось тихой печалью.
И снова африканская степь раскрыла свой горячий простор перед двадцатью семью упрямцами, во что бы то ни стало решившими вернуться на родину.
Теперь, после дождей, грубая, с большими бурыми колосьями трава[181] поднималась на высоту двенадцати локтей, и в ее душной чаще без следа скрывались даже гигантские тела слонов. Кидого объяснил Пандиону, почему нужно спешить: скоро окончится время дождей и степь начнет гореть, превращаясь в безжизненную, засыпанную золой равнину, где трудно будет найти пищу.
Пандион молчаливо соглашался. Его печаль была еще слишком свежа. Но, очутившись среди своих товарищей, которым он был столь многим обязан, молодой эллин чувствовал, как снова оплетают его узы мужской дружбы, как растет в нем самом стремление идти вперед, жажда борьбы и разгорается все сильнее маяк Энниады.
И, несмотря на острую тоску по Ируме, Пандион теперь чувствовал себя прежним, без тревоги идущим по избранному пути. Не исчезло жадное внимание художника к формам и краскам природы, желание творить.
Двадцать семь сильных мужчин были вооружены копьями, метательными дротиками, ножами и несколькими щитами.
Бывшие рабы, испытанные в бедствиях и сражениях, представляли собой значительную силу и могли не опасаться бесчисленных зверей.
В пути, среди высокой травы, опасность была серьезной. Поневоле приходилось идти гуськом, пробираясь по узким коридорам звериных троп, в течение долгих часов видя перед собою только спину идущего впереди товарища. А из шуршащих высоких стен справа и слева ежеминутно грозила опасность — в любой момент стебли могли расступиться и пропустить подкравшегося льва, разъяренного носорога или высокую, необъятную тушу злобного, одинокого слона. Трава разъединяла товарищей, и хуже всего приходилось идущим позади: на них мог обрушиться гнев зверя, встревоженного впереди идущими. По утрам трава была пропитана холодной росой, сверкающая пыль водяных брызг стояла над мокрыми, словно от дождя, телами людей. В знойное время дня роса исчезала бесследно, сухая пыль щекотала горло, ссыпаясь с верхушек стеблей; в тесных проходах нечем было дышать.
В конце третьего дня пути на храброго ливийца Такела, шедшего позади, напал леопард, и только благодаря счастливой случайности юноша отделался незначительными царапинами. На следующий день на Пандиона и его соседа-негра прыгнул из травы огромный темногривый лев. Копье отца Ирумы сдержало хищника, и товарищ эллина, подхватив щит, который от неожиданности уронил Пандион, напал на льва сзади. Зверь повернулся к новому врагу и пал, пронзенный тремя копьями. Кидого прибежал, запыхавшийся от волнения, когда все было кончено и воины, тяжело дыша, стирали с копий быстро побуревшую львиную кровь. Хищник лежал, почти незаметный в желтой измятой траве. Сбежались все участники похода, громкие крики поднялись над местом сражения. Все доказывали двум коренастым неграм — Дхломо и Мпафу, вместе с Кидого ведшим отряд, — что в конце концов звери кого-нибудь убьют. Надо обойти эту равнину высокой травы. Проводники вовсе и не думали возражать. Отряд повернул круто к югу и еще до вечера приблизился к длинной ленте леса, протянувшейся как раз в нужном юго-западном направлении. Такой лес был знаком Пандиону — зеленый сводчатый коридор над узкой степной речкой. Леса-галереи пересекали степь в разных направлениях по руслам рек и ручьев.
Путникам повезло: под зеленым сводом не было колючих зарослей, лианы не сплели непроходимых завес — отряд бодро двинулся по узкой лесной ленте, лавируя между гигантскими корнями. Глубокая тишина и прохладный полумрак сменили шелест травы в духоте ослепительного дня. Лес протянулся очень далеко — день за днем шли по нему путники, изредка выходя в степь за дичью или влезая на низкие деревья опушки, чтобы проверить направление.
Хотя передвижение здесь было более легким и менее опасным, Пандиона угнетали сумрак и тишина таинственного леса. Молодой эллин возвращался к воспоминаниям о встрече с Ирумой в таком же лесу. Утрата казалась огромной, тоска окутывала для Пандиона весь мир серой дымкой, а неведомое будущее было таким же сумрачным, молчаливым и темным, как лес, по которому они шли.
Пандиону представлялось, что темная дорога в однообразном чередовании колоннад огромных древесных стволов, мрака и солнечных пятен, ям и бугров бесконечна.
Она вела в неизвестную даль, все глубже вонзаясь в сердце чужой и странной земли, где все было незнакомо и только круг бдительных товарищей спасал от неизбежной смерти. Море, к которому он так стремился, казавшееся легко достижимым, когда он был в плену, теперь отодвинулось безмерно далеко, загражденное тысячами препятствий, месяцами трудного пути… Море оторвало его от Ирумы, а само осталось недоступным…
В конце леса перед путниками предстало обширное болото. Оно пересекало путь от края до края горизонта, протянулось вперед, закрытое вдали зеленоватой мглой влажных испарений, по утрам опоясываясь низкой пеленой белесого тумана. Белые цапли летали небольшими стаями над морем тростников.
Кави, Пандион и ливийцы, озадаченные препятствием, в недоумении смотрели на ярко-зеленую чащу болотных зарослей с горящими на солнце окнами воды. Но вожатые удовлетворенно переглядывались и улыбались: путь был верен, две недели трудного похода не пропали даром.
На следующий день отряд связал плоты из особого, необычайно легкого и пористого тростника,[182] коленчатые стебли которого достигали десяти локтей. Путники поплыли вдоль высоких зарослей метельчатых папирусов, лавируя между красновато-бурыми нагромождениями засохших и поломанных стеблей тростника, плавучими островами травы. На каждом плоту было по два или по три человека, осторожно балансировавших длинными шестами, мерно вонзавшимися в илистое дно.
Темная вонючая вода казалась густым маслом, пузырьки болотного газа поднимались на поверхность из-под шестов, липкая плесень пенилась ржаво-бурыми оторочками вдоль зеленых стен. Ни одного сухого места не было на всем видимом пространстве, влажная жара томила обливавшихся потом людей, сверху жгло беспощадное солнце. К вечеру миллионы зловредных мошек густыми тучами нападали на людей. Счастьем было найти незатопленный бугорок, на котором разводился огромный дымящий костер. Еще легче было при ветре, отгонявшем тучи насекомых и дававшем возможность выспаться после тяжелых дней и ночей. Ветер склонял тростник, волна за волной бежали по бесконечному океану зелени.
Несметное количество гадов пряталось в прелой воде и гниющих зарослях. Гигантские крокодилы скоплялись сотнями на буграх отмели или выглядывали из зеленых стен, наполовину скрытые стеблями. Ночами чудовища ревели — их глухой, низкий рев наполнял людей суеверным ужасом. В реве крокодилов не было ярости или угрозы — что-то бездушное и бесстрастное чудилось в этих низких отрывистых звуках, раскатывавшихся над стоячей водой в темноте ночи.
Путникам встретился мелкий залив, усеянный полуразмытыми конусовидными холмиками из ила в полтора локтя высоты. Бурая вода издавала нестерпимую вонь, холмики были покрыты белой корой птичьего помета. Негры разъяснили, что это было место гнездовья больших длинноногих розовых птиц,[183] которые в другое время тучами покрывали бы болото. От плохой воды и вредных испарений заболели несколько человек, главным образом ливийцев. Жестокая лихорадка изнуряла людей, безучастно лежавших на плотах под ногами товарищей.
На пятый день плавания среди болотных зарослей стали все чаще попадаться пространства свободной воды, из которой торчали вершины деревьев. Пандион с удивлением спросил Кидого, что это значит. Черный друг, улыбаясь во всю ширину своего большого рта, объяснил, что скоро конец мучениям.
— Здесь, — сказал негр, ткнув шестом в глубокую воду, — в сухое время земля горит от жары, а это разлив от дождей.
— Какая же это река? — снова спросил Пандион.
— Здесь не одна река, а две[184] и длинная цепь болот между ними, — ответил негр. — В сухое время реки эти почти не текут.
Кидого, как всегда за последнее время, оказался прав — скоро плоты стали задевать за илистое дно, а впереди земля, повышаясь, переходила в ровную степь. Там росла особая трава с серебристо-белыми колосьями, и, блестя под лучами солнца, поверхность степи издалека казалась продолжением водяной глади. С чувством глубокого облегчения путники по пояс в грязи, распугивая криками крокодилов, выбрались на твердую горячую землю. Ветер, свежий и сухой, приветствовал их, прогоняя тяжелую духоту болота. Отряд добрался до возвышенности, на которой росли кусты с большими голубовато-зелеными листьями, покрытые оранжевыми плодами величиной с яйцо.
Здесь путники нашли чистую воду и решили остановиться. Они устроили вокруг лагеря колючую стену в шесть локтей высоты. Негры собрали груду оранжевых плодов, оказавшихся удивительно вкусными и нежными, и принесли еще каких-то листьев, соком которых принялись лечить больных лихорадкой товарищей. Здоровые отсыпались вволю, болячки, образовавшиеся от укусов болотных мошек, быстро заживали. Несколько дней подряд не лил дождь. По утрам бывало очень прохладно, и чернокожие участники похода зябли и страдали от холода.
Вскоре путешественники отправились дальше.
Двадцать пять дней шли они по степи. Теперь их осталось девятнадцать человек — восемь отделились после перехода через болото и ушли на север, к своим родным местам, до которых им осталось не более десяти переходов. Как ни звали они с собой остальных, упрямцы были верны себе в решении пробиваться к морю.
Серая дымка закрывала голубой небосвод, по-прежнему изливавший ослепительное сияние. По ночам небо нередко затягивалось тучами, страшный гром несся без перерыва над степью, но ни единый проблеск молнии не рассекал бархатно-черную тьму ночи, ни капли дождя не падало на высохшую траву и трескавшуюся от жары землю.
В степи были разбросаны маленькие холмы — остроконечные конусы или башни с закругленными верхушками до десяти локтей высоты. Внутри этих холмов из твердой, как кирпич, глины жили бесчисленные крупные насекомые, похожие на муравьев, опасные своими сильными челюстями. Пандион уже привык к множеству зверей; его не удивляли более жирафы или скопища слонов по тысяче голов в стаде. Теперь он увидел стада странных животных полосатой, белой с черным, окраски. Они походили на лошадей Энниады, но и отличались от них: при небольшом росте и тонких ногах у полосатых зверей были более широкие крупы, прогнутые в крестце спины, плавный изгиб верхней губы, короткие хвосты и гривы. Пандион с любопытством смотрел на их многочисленные табуны, появлявшиеся у водопоя. Он мечтал о том, чтобы поймать полосатых лошадей и приспособить их к езде. Однако когда он поделился своими соображениями с Кидого и другими товарищами-неграми, те долго и громко хохотали. Негры объяснили молодому эллину, что полосатые животные сильны, злы и неукротимы, что если бы и удалось поймать несколько более смирных, то двух десятков, нужных им, не собрать и в десять лет.
Второе разочарование пережил Пандион при встрече с буйволами. Он увидел массивных темно-серых быков с широкими, загнутыми на концах рогами и решил подкрасться к ближайшему, чтобы уложить его копьем, но Кидого, навалившись на юношу всем телом, придавил его к земле. Негр уверял друга, что эти быки чуть ли не самые опасные звери южной страны, что охотиться на них нужно, только имея луки или метательные копья, иначе гибель неминуема. Пандион послушался негра и укрылся в кустах, как и остальные, но страх Кидого перед этими быками остался ему непонятным — с его точки зрения, носорог или слон казались куда страшнее.
Дорогу нередко пересекали скалистые гряды, цепи холмов или группы торчащих разрушенных утесов. В таких местах часто встречались отвратительные собакоголовые обезьяны.[185] Эти животные, заметив приближение людей, скоплялись на скалах или под деревьями, без страха рассматривали пришельцев и нагло гримасничали. Пандион с отвращением смотрел на их голые собачьи морды с синими надутыми щеками, обрамленные густой, торчавшей дыбом шерстью, на их виляющие зады с красными мозолистыми проплешинами. Обезьяны были опасны. Однажды Кави не стерпел вызывающего поведения трех животных, загородивших ему дорогу, и ударил копьем одну из мерзких тварей. Завязалось серьезное сражение у подножия утесов. Скитальцы были счастливы, что унесли ноги, отступив без ущерба, но со всей возможной поспешностью.
На двадцать пятый день пути по незаметно повышавшейся местности на горизонте показалась темная полоса. Кидого радостно вскрикнул, указывая на нее: там начинался большой лес — последнее препятствие, которое им осталось преодолеть. За покрытыми лесом горами лежало долгожданное море — верный путь к дому.
К полудню отряд достиг пальмовых зарослей. Пандиона удивил странный вид рощи. Раньше в степи не попадались такие высокие и стройные растения, похожие на знакомые по Айгюптосу финиковые пальмы.[186] Каждый ствол поднимался точно из самого центра звездчатой иссиня-черной тени, отбрасываемой вершиной. Между черными звездами теней сухая почва казалась добела раскаленным металлом. По необычайному расположению теней Пандион увидел, что полуденное солнце стоит у него прямо над головой. Он сказал об этом Кави. Этруск недоуменно пожал плечами, а Кидого объяснил, что это так и есть на самом деле. Чем дальше к югу, тем выше поднимается солнце, и причину этого никто не знает. Старики говорят еще, что, по преданиям, далеко на юге солнце опять становится ниже.
Долго раздумывать над этой загадкой молодому эллину не пришлось — изнуренные жарой товарищи спешили к воде. На привале Кидого объявил, что к вечеру они достигнут леса и путь их пойдет по лесам и горам, далеко протянувшимся до края земли.
— Там, — негр показал направо, — и там, — рука Кидого повернулась налево, — есть большие реки, но мы не можем плыть по ним. Правая[187] заворачивает на север, к большому пресному морю у края северных пустынь. Левая[188] берет круто на юг и уведет нас далеко от нужного места. Кроме того, вдоль рек живут сильные племена, они едят человеческое мясо и уничтожат всех нас. Мы должны пройти на юго-запад прямо, как по полету стрелы, между обеими реками. Темные леса пусты и безопасны, а на горах никто не живет, боясь сильных гроз и темноты чащ. Звери здесь редки, но нас мало, и мы можем прокормиться охотой и плодами.
Пандион, Кави и ливийцы с сомнением смотрели на темный лес, встававший перед ними, и их волновали неясные опасения.
Глава седьмая СИЛА ЛЕСОВ
Среди густого кустарника возвышались необычайные деревья. Их тонкие стволы с выпуклыми поперечными гранями заканчивались плоскими веерами укороченных ветвей с большими листьями, а еще выше торчали длинные и прямые отростки, похожие на зеленые огромные мечи, по десяти локтей в длину.[189]
Четыре таких дерева, по два с каждой стороны, стояли, как часовые, в преддверии леса, с угрозой поднимая мечи в бледное небо. Отряд прошел между ними, пробираясь сквозь колючие кусты. Огромная свинья[190] с загнутыми клыками и безобразной бугристой головой выскочила из-под куста, негодующе хрюкнула в сторону людей и скрылась…
В первый же день пути по лесу Кави потерял свою палочку с сорока девятью зарубками — число дней похода, и путники перестали считать время. В памяти эллина навсегда запечатлелся однообразный громадный лес.
Отряд шел в молчании. Голоса людей при попытке заговорить гулко раскатывались под непроницаемым зеленым сводом. Никогда на широких просторах золотой степи не чувствовали себя люди такими маленькими и затерянными в глубинах чужой земли. Гигантские канаты ползучих растений, достигавшие иногда толщины человеческого тела, обвивали спиралями гладкие стволы деревьев, сплетались вверху в исполинскую сеть, свисали завесами и отдельными широкими петлями. Ветви деревьев расходились на недостижимой высоте над головами идущих, стволы расплывались в сером сумраке. Лужи гниющей, покрытой плесенью воды часто встречались на пути; иногда бесшумно струились маленькие темные ручьи. На редких полянах солнце слепило глаза, привыкшие к полумраку леса; необычайная густота растений заставляла путников огибать эти места. Невиданные папоротники в четыре человеческих роста простирали, как крылья, свои бледно-зеленые огромные перистые листья.[191] Чеканная сероватая листва мимоз образовывала тончайшие узоры в столбах солнечного света. Масса цветов — кроваво-красных, оранжевых, фиолетовых, белых — с особенной яркостью и пестротой выделялась на светлой зелени листьев, громадных, широких, длинных и узких, ровных, разрезных или зазубренных. В дикой путанице переплетались извилистые спирали ползучих побегов, торчали грозные, в палец длиной, колючки, беспощадно рвавшие тело. Неистовый гомон и щебет птиц раздавались на полянах, как будто вся жизнь леса сосредоточивалась здесь.
Люди сверяли направление с солнцем и снова уходили в лесной сумрак, ориентировались по направлению дождевых промоин, по течению ручьев, по косым столбикам солнечных лучей, изредка пробивавших листву. Проводники старались не приближаться к прогалинам еще потому, что вблизи от них на деревьях водились опасные насекомые — страшные черные осы и грозные муравьи. Крупные лишаи, кожистые серые наросты и выступы покрывали стволы деревьев, мшистый зеленый покров одевал гребни высоких корней. Эти плоские корни, нередко высотой в пять—шесть локтей, отходили от ребер гигантских стволов, как наклонные подпорки. В глубоких ямах между ними мог бы поместиться весь отряд из девятнадцати путников. Корни деревьев заходили друг за друга и чрезвычайно затрудняли передвижение — приходилось перелезать через них или обходить, пробираясь по узким коридорам. Ноги тонули в массе полусгнивших веток, листьев и высохших побегов, устилавших почву толстым слоем. Кучками встречались белесые грибы с тяжелым трупным запахом. Только там, где деревья не были так высоки, корни не затрудняли путь, и ноги отдыхали на покрове мягких мхов. Зато в этих местах рос колючий густой кустарник, принуждавший людей делать обходы или прорубаться сквозь него, теряя силы и время. Какие-то пятнистые слизняки падали с ветвей на голые плечи путников и обжигали ядовитой слизью. Изредка в сумраке мелькала и бесшумно исчезала тень зверя — люди нередко даже не успевали определить породу животного. Ночью здесь господствовала та же глубокая тишина, нарушавшаяся жалобным воем неведомого ночного хищника или резкими криками неизвестной птицы.
Путешественники перевалили через множество невысоких горных гряд, ни разу не выходя на свободное от деревьев пространство. Между хребтами лес был еще гуще; сырой и душный, пахнущий прелой землей воздух долин стеснял дыхание людей.
Миновав долину, по дну которой катился среди больших камней быстрый поток прохладной воды, путники присели отдохнуть.
Начался долгий подъем.
Два дня поднимались в гору путники. Лес становился все гуще и непроницаемее. Исчезли поляны, на которых можно было найти пищу, поваленные гигантские деревья чаще заграждали дорогу. Отряд, избегая колючих завес из тонких упругих стеблей, свисавших сверху, или непроницаемых зарослей кустарников и мелких деревьев, пробирался на четвереньках в промоинах дождевых потоков, бороздивших склоны.
Жесткая сухая земля сыпалась из-под ладоней и колен. Люди ползли в этом лабиринте, держа направление только по водяным рытвинам.
Постепенно становилось все прохладнее, точно в самом деле отряд попал в глубокое, сырое подземелье.
Уже совсем стемнело, когда склон кончился, и, по-видимому, путники поднялись на плоскогорье. Больше не было промоин от дождевых потоков, и чтобы не потерять направления, путешественники остановились на ночлег. Ни одной звезды не блеснуло сквозь зеленый свод. Сильный ветер бушевал где-то наверху. Пандион долго лежал без сна, прислушиваясь к гулу леса, очень похожему на шум близкого моря. Рокот, шелест и стук ветвей в порывах ветра сливались в могучие всплески, напоминавшие мерные раскаты прибоя.
Рассвет не наступал особенного долго — солнечный свет задерживался сплошным туманом. Наконец невидимое солнце одолело сумрак, и перед людьми предстало подавляющее, угрюмое зрелище.
Стволы чудовищных деревьев, в полтораста локтей высоты, с черной и белой гладкой корой, уходили своими вершинами в молочную густую мглу, совершенно скрывавшую обомшелые ветви. Пропитанные водой мхи и лишайники длинными темными космами или седыми бородами увешивали деревья, раскачиваясь подчас на страшной высоте. Вода хлюпала под ногами, выделяясь из губчатой сетки переплетенных корней, трав и мхов. Густые заросли кустов с большими листьями заграждали путь. Крупные бледные цветы в виде ячеистых шаров тихо качались в тумане на длинных ножках.
Черные и белые колонны поперечником в четыре локтя громоздились несметной толпой, серый туман клубился вокруг них, по коре стекали мелкие струйки воды. Иногда стволы были одеты толстым одеялом из мокрого мха. В этом страшном лесу дальше тридцати-сорока локтей ничего не было видно; нельзя было ступить, не прорубив себе дороги у подножия древесных гигантов.
Нагромождения исполинских поваленных стволов совершенно подавляли много испытавших путников. Хуже всего была невозможность ориентироваться — ничто не давало возможности проверить взятое направление.
Негры зябли в холодном тумане, испуганные еще не виданной мощью леса; ливийцы были совсем угнетены. Путникам казалось, что они зашли в самое обиталище лесных богов, запретное для людей, откуда нет выхода.
Кави сделал знак Пандиону — оба вооружились ножами и с бешенством принялись рубить мокрые ветви. Понемногу ободрились и другие товарищи; люди работали, сменяя друг друга, переползали через горы исполинских стволов, путались, ища выхода среди чудовищных корней, и снова утопали в непроходимой зелени. Часы шли и шли; все так же висела вверху белая мгла, все так же тяжело и медленно капала с деревьев вода, воздух не становился теплее, и только по серовато-красному оттенку тумана люди поняли, что наступает вечер…
— Нигде нет прохода! — С этим известием Кидого сел на корень, в отчаянии сжимая голову.
Два проводника вернулись еще раньше с такими же результатами.
Узкая прогалина протянулась на тысячу локтей поперек прорубленного пути. Позади был мрачный гигантский лес, через который с нечеловеческими усилиями отряд пробивался три дня. Впереди стояла сплошная заросль высокого бамбука. Блестящие коленчатые стволы поднимались на двадцать локтей, плавно нагибая вниз свои тонкоперистые верхушки. Бамбук рос так тесно, что не было никакой возможности проникнуть в глубь этой густой решетки из прямых, как копья, коленчатых труб. Перед путниками встала непроницаемая ограда. Полированная поверхность круглых стволов была так тверда, что бронзовые ножи путников притуплялись при первых же ударах. Для борьбы с этой стеной нужно было иметь топоры или тяжелые мечи. Обойти бамбуковую заросль было невозможно — прогалина смыкалась в том и другом конце густой чащи, а бамбуки, насколько было видно, протягивались широким поясом в обе стороны, в туманную даль плоскогорья.
Измученные холодом, недостатком пищи и борьбой со страшным лесом люди потеряли свою обычную энергию — слишком тяжело досталась им последняя часть пути! Но они не могли смириться с необходимостью повернуть назад.
Чтобы пройти сквозь эти страшные леса, мало было соблюдать прежнее направление на юго-запад, мало было прорубаться и пробиваться изо всех сил сквозь могучую растительность — нужно было еще знать, где можно пройти. Эти места могли указать только живущие в лесу люди, но они отряду не встретились. Поиски лесных людей скорее всего закончились бы гибелью путников на вертелах пиршественных костров.
“Не прошли, не пробились!” — одна и та же мысль отражалась на лицах всех девятнадцати человек: в складках суровости, гримасах отчаяния, маске застывшей покорности.
Кидого, оправившийся от первого приступа отчаяния, стоял, запрокинув голову вверх, к огромным ветвям, простертым над прогалиной на высоте ста локтей. Пандион быстро подошел к другу, поняв его мысли.
— Разве можно влезть туда? — спросил молодой эллин, глядя на совершенно гладкие стволы непомерной высоты.
— Нужно, хотя и придется потратить целый день, — хмуро сказал Кидого. — Назад или вперед, но больше нельзя идти наугад — нет еды.
— Вот с этого дерева будет хорошо видно. — Пандион указал на лесного гиганта с белой кроной, выдвинувшегося на поляну; его кривые сучья образовывали звезду на фоне неба.
Кидого отрицательно покачал головой:
— Нет, белокорое дерево не годится, не подходит и с черной корой.[192] У них древесина тверда, как железо, в нее не вбить даже ножа, не то что деревянного клина. Найдем, может быть, дерево с корой красного цвета и крупными листьями,[193] тогда влезем.
Люди принялись искать подходящее дерево вдоль прогалины. Вскоре возвестили, что оно найдено. Дерево было ниже железных гигантов, но стояло вплотную к бамбукам, возвышаясь над зарослью больше чем на полсотни локтей. Путники с трудом срубили два толстых бамбука, раскололи на щепки в локоть длиной, каждую заострили с одного конца. С помощью тяжелой ветки Кидого и Мпафу стали загонять в мягкую древесину дерева щепку за щепкой и, забираясь все выше, достигли спиральной лианы, обвивавшей ствол. Тогда, опоясавшись тонкими лианами, Кидого и его товарищ, изо всех сил упираясь ногами в ствол и далеко откидываясь от дерева, стали подниматься на огромную высоту. Скоро их темные фигуры сделались маленькими на фоне тяжелых облаков, затянувших небо. Пандиона вдруг обожгла зависть к друзьям. Они там, наверху, видят мир, а он остается внизу, в тени, подобно большим красно-голубым червям, встречавшимся в промоинах лесной почвы.
Молодой эллин внезапно решился и схватился за вбитые бамбуковые колышки. Махнув рукой на предостерегающий окрик этруска, Пандион быстро вскарабкался на ствол, схватился за спиральную лиану, отрезал свисавший сверху тонкий конец другого ползучего растения и повторил прием Кидого. Это оказалось вовсе не легко — жесткая лиана страшно резала спину. Едва только Пандион ослаблял давление, ноги соскальзывали, и он больно обдирал колени о твердую кору. С большим трудом Пандион поднялся до половины ствола. Перистые верхушки бамбуков качались под ним желтеющей неровной порослью, а до громадных сучьев все еще было высоко. Сверху раздался зов Кидого, и крепкая лиана, завернутая петлей, коснулась плеча молодого эллина. Пандион пропустил петлю под руки, лиану осторожно потянули сверху, и эта поддержка оказала эллину огромную помощь. С ободранными ногами, усталый, но радостный, молодой эллин скоро достиг нижних, самых больших ветвей. Здесь, между двумя огромными сучьями, уютно устроились Кидого и его товарищ.
С высоты восьмидесяти локтей взглянул Пандион вперед, и впервые за много дней широкий горизонт открылся перед ним. Заросль бамбуков обрамляла лес на высоком плоскогорье. Бамбуковый пояс простирался в стороны насколько хватал глаз; в ширину он был не более четырех—пяти тысяч локтей. За ним торчала невысокая гряда черных скал, наклонно устремленных к западу цепью редких косых зубцов. Дальше местность опять слегка понижалась. Бесконечные округлые горы, покрытые густым лесом, курчавились, как плотные зеленые облака, разделенные впадинами ущелий, заполненных клубящейся туманной мглой. В них скрывались бесчисленные дни голодного и тяжкого, сумрачного похода, именно туда лежал путь отряда. Но нигде не было заметно никакого просвета в этой сплошной зеленой массе, над которой медленно ходили большие хлопья белого тумана: ни поляны, ни широкой долины. Пробиться вперед на то расстояние, которое сейчас охватывали глаза, у путников вряд ли хватило бы сил. А дальше, за неразличимой мглой горизонта, могло быть то же самое, и тогда гибель стала бы неминуемой.
Кидого отвернулся от расстилавшейся под ним дали и поймал взгляд Пандиона. Молодой эллин прочитал в выпуклых глазах друга тревогу и усталость — неистощимая бодрость негра угасла, лицо его сморщилось в горькой гримасе.
— Надо смотреть назад, — упавшим голосом сказал Кидого, вдруг выпрямился и пошел по ветви, горизонтально простершейся далеко вперед над бамбуками.
Пандион сдержал крик страха, а негр как ни в чем не бывало шел, чуть заметно покачиваясь на страшной высоте, к концу ветки, где дрожали от его шагов овальные крупные листья. Ветвь согнулась. Пандион в ужасе замер, но Кидого уже сел на развилину верхом, свесил в пустоту ноги, уперся обеими руками в тонкие ветки и стал вглядываться в пространство за правым углом прогалины. Пандион не посмел пойти за товарищем. Затаив дыхание, эллин и Мпафу ждали сообщений Кидого. Внизу, почти незаметные с высоты, следили за всем происходящим на дереве остальные шестнадцать товарищей.
Кидого долго качался на пружинящей ветке, потом, не говоря ни слова, вернулся к стволу.
— Беда не знать дороги, — уныло сказал он. — Мы могли бы пройти сюда гораздо легче… Там, — негр махнул рукой на северо-запад, — близко от нас степь. Мы должны были идти правее, не входя в лес… Нужно возвратиться к степи. Может быть, там есть люди: на краю леса всегда больше людей, чем в степи или в самом лесу.
Спуск с дерева оказался гораздо страшнее подъема. Если бы не помощь друзей, Пандион никогда не сумел бы слезть так быстро, а еще вернее — упал бы и погиб. Едва только молодой эллин ступил на землю, как ослабевшие от нервного напряжения ноги его подкосились и он растянулся на траве под смех товарищей. Кидого рассказал обо всем, виденном с дерева, и предложил повернуть под прямым углом в сторону от намеченного пути. К удивлению Пандиона, ни одного слова протеста не последовало со стороны товарищей, хотя всем было ясно, что они потерпели поражение в борьбе с лесом, что задержка в пути может быть очень долгой. Промолчал даже упрямый этруск Кави, должно быть понимая, как измучились люди в тяжкой борьбе, оказавшейся к тому же напрасной.
Пандион помнил о словах Кидого в начале похода и представлял себе, что путь вокруг лесов далек и опасен. Вдоль рек и на окраине леса живут свирепые племена, для которых девятнадцать путников не представляют сколько-нибудь серьезной силы…
Степь с низкими, редко и правильно расставленными деревьями, похожая на фруктовый сад, сбегала к быстрой речке. На противоположном берегу громоздилась груда камней. К ним река нанесла длинный вал из стволов, ветвей, стеблей тростника, высушенных и побелевших.
Отряд беглецов, миновав пальмовую рощу, полностью поваленную слонами, расположился под густым невысоким деревом.[194] Благовонная смола стекала по стволу, свисавшие с ветвей и ствола длинные лохмотья шелковистой коры монотонно шелестели под легким ветром, навевая дремоту на уставших людей.
Внезапно Кидого поднялся на колени; насторожились и остальные. К реке приближался огромный слон. Его появление могло оказаться недобрым. Люди следили за размашистым шагом животного, неторопливо переваливавшегося как бы внутри своей собственной толстой кожи. Слон приближался, беспечно размахивая хоботом, и что-то в его повадке не походило на обычную осторожность этих чутких, внимательных животных. Вдруг послышались человеческие голоса, но слон даже не поднял своих гигантских ушей, закинутых на затылок. Озадаченные путники, переглядываясь, встали и тотчас же, как по команде, приникли к земле — рядом со слоном виднелось несколько человеческих фигур. Только теперь товарищи Пандиона увидели, что на широкой шее слона лежал человек, упираясь скрещенными руками в затылок животного. Слон подошел к реке, вступил в помутневшую под столбами его ног воду. Огромные уши вдруг растопырились, увеличив голову гиганта втрое. Маленькие коричневые глазки всматривались в глубину речки. Лежавший на слоне человек сел, громко хлопнул животное по покатому черепу. Резкий крик “хейя!” раздался по реке. Слон покачал хоботом, схватил им большой ствол из речного наноса и, высоко подняв его над головой, швырнул в середину речки. Тяжелое дерево громко плеснуло, скрывшись под водой, и вынырнуло несколько мгновений спустя ниже по течению. Слон бросил еще несколько стволов, потом, осторожно ступая, вышел на середину речки и остановился, повернувшись головой против течения.
Тогда пришедшие вместе со слоном — их было восемь человек — чернокожие юноши и девушки с хохотом и криками бросились в холодную воду. Они возились, топили друг друга — смех и звонкие шлепки по мокрому телу далеко разносились вокруг. Сидевший на слоне весело кричал, но не переставал следить за рекой, время от времени заставляя слона бросать в воду грузные куски дерева.
Путники с удивлением смотрели на происходящее. Дружба людей с огромным слоном была невероятным, неслыханным чудом — всего в трех сотнях локтей стояло серое чудовище, покорное человеку. Как могло случиться, что животное, не знающее себе равных по величине и силе, безраздельно владычествовавшее в степях и лесах, склонилось перед человеком, таким хрупким, слабым и незначительным в сравнении с серой глыбой в шесть локтей от земли до плеча? Что это за люди, подчинившие себе гигантов Африки?
Кави с загоревшимися глазами ткнул в бок Кидого. Негр оторвался от наблюдения за веселой забавой и зашептал в ухо этруску:
— Я слыхал еще в детстве: на границе лесов и степей где-то живут люди, прозванные повелителями слонов. Вижу, что это не сказка. Вот стоит слон и охраняет купающихся от крокодилов… Говорили, что это люди родственного нам народа и язык их подобен нашему…
— Ты хочешь пойти к ним? — задумчиво спросил этруск, не сводя глаз с человека на слоне.
— Хочу и не знаю… — замялся Кидого. — Если мой язык — их язык, тогда они поймут нас и мы разведаем дорогу. Но если их речь другая — плохо: они уничтожат нас, как цыплят!
— Они едят человеческое мясо? — помолчав, снова заговорил Кави.
— Я слыхал, что нет. Этот народ богат и силен, — отвечал негр, в замешательстве грызя травинку.
— Я бы попробовал узнать их язык теперь же, не заходя в их селение, — сказал этруск. — Здесь только невооруженная молодежь, и если сидящий на слоне нападет на нас, мы укроемся в траве и кустах. А в селении мы все погибнем, если не сговоримся с победителями слонов…
Совет этруска поборол сомнения Кидого. Негр выпрямился во весь свой высокий рост и медленно пошел к реке. Крик слоновожатого прекратил возню купальщиков; те замерли по пояс в воде, глядя на противоположный берег.
Слон грозно повернулся в сторону приближающегося Кидого, хобот, шурша, взвился над длинными белыми бивнями, уши опять раскинулись широкими обвисшими крыльями. Сидевший на слоне вглядывался в пришельца: в правой руке вожатого слегка покачивался поднятый наготове широкий нож с крючком на конце.
Кидого молча подошел почти к самой воде, положил на землю копье, наступил на него ногой и развел в стороны безоружные руки.
— Здравствуй, друг, — медленно и старательно выговаривая слова, сказал Кидого. — Я здесь со своими товарищами. Мы одинокие беглецы, возвращающиеся на родину, и хотим просить помощи у твоего племени…
Слоновожатый молчал. Притаившиеся под деревом путники с замиранием сердца ожидали, поймет он речь Кидого или нет. От этого зависела судьба скитальцев.
Слоновожатый опустил нож. Слон переступил в журчавшей вокруг его ног воде, свесив хобот между бивнями. Вдруг туземец заговорил, и вздох облегчения вырвался из груди Пандиона, а стоявший в напряжении Кидого радостно встрепенулся. Речь слоновожатого отличалась резкими ударениями и шипящими звуками, отсутствовавшими в певучем языке Кидого, но даже Пандион узнал в ней знакомые слова.
— Откуда ты, пришелец? — раздался вопрос, с высоты слона звучавший надменно. — Где твои товарищи?
Кидого объяснил, что они были в плену в Та-Кем и пробиваются на родину — на берег моря. Негр жестом подозвал товарищей — все девятнадцать человек, исхудалые и мрачные, встали на берегу.
— Та-Кем… — по складам произнес слоновожатый. — Что это такое, где такая страна?
Кидого рассказал о могущественной стране на северо-востоке, расположенной вдоль огромной реки, и слоновожатый удовлетворенно закивал головой.
— Я слыхал о ней — это страшно далеко. Как вы могли пройти оттуда? — В словах слоновожатого зазвучало недоверие.
— Это длинная речь, — устало сказал Кидого. — Посмотри на них, — негр указал на Кави, Пандиона и группу ливийцев, — разве ты видел таких людей?
Слоновожатый с интересом разглядывал необыкновенные лица. Недоверие в его взгляде постепенно исчезало, потом он хлопнул рукой по затылку слона:
— Я молод и не могу ничего решить без старших. Перейдите на наш берег, пока слон в реке, и ждите. Что передать вождям от вас?
— Передай, что усталые путники просят разрешения отдохнуть в селении и узнать дорогу к морю. Больше нам ничего не нужно, — четко ответил Кидого.
— Неслыханное дело, невиданные люди! — с интересом заключил слоновожатый, повернулся к своим соплеменникам и закричал: — Идите вперед, я догоню!
Молодые люди, безмолвно созерцавшие пришельцев, послушно бросились на берег, оглядываясь и переговариваясь. Слоновожатый повернул слона боком к течению. Путники по грудь в воде перебрались на другой берег. Тогда слоновожатый, заставив животное идти быстрым шагом, исчез в редких деревьях следом за купальщиками. Бывшие рабы уселись на камнях в тревожном ожидании. Больше всех волновались ливийцы, но Кидого уверял, что повелители слонов не сделают им ничего дурного.
Вскоре в степи показались четыре слона. На спинах животных были привязаны широкие помосты из плетеных ветвей. На каждом помосте сидело шесть воинов, вооруженных луками и очень широкими копьями. Под этой охраной бывшие рабы дошли до селения, находившегося неожиданно близко от места встречи — у поворота той же речки, в четырех тысячах локтей на юго-восток.
На всхолмленной местности, утопая в высокой зелени, издалека виднелось около трехсот хижин.
Слева раскинулся редкий лес, направо, в стороне, стояла высокая изгородь из огромных заостренных столбов, подпертых наружными раскосинами. Вокруг шел глубокий ров, усаженный по краю частоколом острых бревен. Пандион подивился размерам сооружения, а Кидого высказал догадку, что там, по-видимому, держат слонов.
Опять, как и много дней назад, на востоке, пришельцы предстали перед вождями и старейшинами огромного селения, опять рассказывалась необыкновенная повесть о мятежных рабах, к которой прибавился новый подвиг далекого пути по неизвестной стране. Вожди подробно расспрашивали путников, осматривали их оружие, красные клейма с именем фараона на спинах, заставляли Пандиона и Кави рассказывать о своих странах на севере далекого моря.
Пандиона удивил широкий кругозор этих людей — они не только слыхали о стране Нуб, откуда пришли чужеземцы, но знали еще множество мест Африки на восток, север, юг и запад.
Кидого торжествовал: теперь повелители слонов покажут дорогу к родине, и скитальцы быстро достигнут ее, следуя верным путем.
Короткое совещание старейшин решило участь пришельцев: им было позволено отдохнуть несколько дней в селении, получить кров и пищу по священному долгу гостеприимства.
Бывших рабов поместили в большой хижине на окраине селения — усталые путники могли спокойно отдыхать. Еще больше подбодрило их то, что близок конец странствованиям.
Пандион, Кидого и Кави бродили по селению, присматриваясь к жизни народа, внушавшего им уважение своей властью над гигантскими животными. Пандион изумлялся длинным загородкам для привязи скота, сделанным из слоновых бивней.[195] Молодому эллину чудилось в этом нарочитое презрение к страшным чудовищам. Каким же количеством клыков располагал народ, если мог тратить драгоценную слоновую кость на такие пустяковые дела? Когда Пандион задал такой вопрос одному из жителей поселка, тот важно посоветовал ему попросить у вождей разрешения осмотреть большой склад в центре поселения.
— Там сложено клыков вот сколько! — Человек показал на прогалину между двумя хижинами длиной в полтораста локтей и затем поднял над головой палку, обозначив высоту сложенной из бивней стены.
— Как вы можете повелевать слонами? — не утерпев, задал вопрос Пандион.
Собеседник его нахмурился и подозрительно посмотрел на эллина.
— Это тайна для чужеземцев, — медленно ответил он. — Спроси, если хочешь, об этом у вождей. Те из них, которые носят на шее золотую цепь с красным камнем, и есть главные учители слонов…
Пандион вспомнил, что им было запрещено приближаться к окруженной рвом изгороди, и замолчал, досадуя на себя за промах. В это время Кидого позвал друга — негр оказался под длинным навесом, где работали несколько человек. Пандион увидел там гончарную мастерскую — мастера повелителей слонов изготовляли большие глиняные горшки для зерна и пива.
Кидого не утерпел. Взяв большой ком хорошо размешанной влажной глины, негр уселся на корточки, поднял глаза к тростниковому потолку, подумал и принялся лепить уверенными движениями своих больших, истосковавшихся по любимой работе рук. Пандион следил за работой друга; мастера, пересмеиваясь, не прерывали своего дела. Медленно срезали, сглаживали и принимали глину черные руки, в бесформенной массе стали намечаться контуры широкой заостренной спины, складок кожи, свисавшей мешком с плеч, — в глине выступил характерный облик слона. Гончары умолкли и, оставив работу, окружили Кидого, а тот, увлекшись, не обращал ни на кого внимания.
Вот твердо стали на почву толстые ноги, слон поднял голову с вытянутым вперед хоботом. Кидого нашел несколько палочек и, воткнув их веером, вылепил на этой основе раскинутые в стороны перепончатые уши. Восторженные восклицания послышались… и смолкли. Один из гончаров незаметно вышел из-под навеса и исчез.
Кидого работал над задними ногами слона, не замечая, что в круг собравшихся зрителей вошел вождь — старик с длинной, худой шеей, с массивным крючковатым носом и маленькой поседевшей бородкой. На груди вождя Пандион увидел красный камень на золотой цепи — это был один из главных учителей слонов. Старик молча следил за окончанием работы негра, Кидого отошел, потирая запачканные в глине ладони, улыбаясь и критически осматривая фигуру слона высотой в локоть. Горшечники одобрительно завопили. Старый вождь поднял тяжелые брови, и шум утих. Старик с видом знатока притронулся к мокрой глине, потом сделал Кидого знак подойти к нему.
— Ты, я вижу, мастер, — многозначительно произнес вождь, — если легко и просто сделал то, чего не может ни один из нашего народа. Отвечай: можешь ли ты сделать такое же изображение, но не слона, а человека? — И вождь ткнул себя в грудь.
Кидого отрицательно замотал головой. Вождь помрачнел.
— Но среди нас есть мастер лучше меня, мастер далекой северной страны, — сказал Кидого. — Твое изображение может сделать он. — Негр указал на стоявшего поблизости Пандиона.
Старик повторил свой вопрос, обращаясь к молодому эллину. Пандион увидел умоляющие глаза друга и согласился.
— Только знай, вождь, — сказал Пандион, — на моей родине высекают фигуры из мягкого камня или вырезают из дерева. Здесь у меня нет ни инструментов, ни камня, я могу тебя сделать только из этой же глины. Вот так… — И молодой эллин провел ребром ладони поперек груди. — Глина скоро высохнет и растрескается, твое изображение простоит лишь несколько дней…
Вождь улыбнулся.
— Я хочу только посмотреть, что может сделать чужеземный мастер, — сказал старик. — И наши мастера пусть посмотрят.
— Хорошо, я попробую, — отвечал Пандион. — Но тебе придется сидеть передо мной, пока я буду работать.
— Зачем? — удивился вождь. — Разве ты не можешь лепить, как он? — Старик показал на Кидого.
Пандион замялся, подыскивая слова.
— Я сделал просто слона, — вмешался в разговор Кидого. — Но разве ты, учитель слонов, не знаешь, что один слон не походит на другого? Только незнакомому с ними человеку слоны кажутся все, как один.
— Ты сказал верно, — согласился вождь. — Для меня видна сразу душа любого слона, и я могу предсказать его поведение.
— Вот, — подхватил Кидого, — чтобы сделать такого слона, я должен видеть его перед глазами. Так и мой товарищ: он сделает не просто человека, а именно тебя, и ему нужно смотреть на тебя при работе.
— Я понял, — сказал старик. — Пусть твой товарищ приходит ко мне в час дневного отдыха, и я буду сидеть перед ним.
Вождь удалился. Гончары поставили глиняное изображение слона на деревянную скамейку. Любопытные жители всё прибывали.
— Ну, Пандион, — сказал Кидого другу, — в твоих руках наша судьба. Если твоя статуя понравится вождю, повелители слонов помогут нам…
Молодой эллин кивнул головой, и оба друга пошли к дому, провожаемые толпой детей, следовавших по пятам за странными пришельцами.
— Ты можешь говорить? — спросил вождь, откинувшись на высоком неудобном сиденье, в то время как Пандион торопливо накладывал принесенную гончаром глину на толстый обрубок дерева. — Это не помешает твоему делу?
— Могу, только я плохо знаю ваш язык, — отвечал Пандион. — Я не смогу понять всего, что ты скажешь, и буду отвечать тебе малыми словами.
— Тогда позови твоего друга, жителя приморских лесов; пусть он будет с тобою. Мне скучно сидеть подобно безъязычной обезьяне!
Явился Кидого и уселся, поджав ноги, у стула вождя, между стариком и Пандионом. С помощью негра вождь и эллин смогли довольно свободно беседовать. Вождь расспрашивал Пандиона о его земле, и Пандион проникся доверием к умному, много повидавшему повелителю слонов.
Пандион рассказал старику о своей жизни на родине, о Тессе, о путешествии на Крит, рабстве в Та-Кем и своих намерениях вернуться на родную землю. Он говорил, пальцы его лепили, а Кидого переводил все сказанное.
Скульптор работал с особенным вдохновением и упорством. Статуя вождя казалась ему указательным столбом в гавань его родины. Воспоминания разожгли нетерпение, остановка у повелителей слонов опять томила молодого эллина.
Старик вздохнул и пошевелился: он, видимо, устал.
— Скажи мне что-нибудь на своем языке, — вдруг попросил старый вождь.
— То элленикон элефтерон! — громко произнес Пандион.
Странно зазвучали здесь, в глубине Африки, слова, которые так любил повторять его дед, рассказывая мальчику Пандиону о славе и героях родного народа.
— Что ты сказал? — переспросил вождь.
Пандион объяснил, что эти слова выражают мечту каждого жителя его страны: “эллинское свободно”.
Старик задумался. Кидого осторожно заметил Пандиону, что вождь устал и на сегодня хватит.
— Да, довольно! — поднял голову учитель слонов. — Приходи завтра. Сколько дней тебе еще нужно?
— Три дня! — уверенно сказал Пандион, несмотря на предостерегающие знаки Кидого.
— Три дня — это ничего, я потерплю, — согласился старик и поднялся с сиденья.
Пандион и Кидого обернули глину мокрой тканью и убрали в темную кладовую, рядом с домом вождя.
На второй день оба друга рассказали вождю о Та-Кем, его могуществе, исполинских постройках. Старик хмурился, но слушал с интересом. Когда Пандион упомянул об однообразии узкого мира египтян, вождь оживился.
— Теперь пора вам узнать о моем народе, — важно сказал старик. — Вы унесете вести о нем в ваши далекие страны.
И вождь поведал друзьям, что повелители слонов, пользуясь своим могуществом, совершают далекие путешествия по стране. Единственная опасность, которая грозит им, едущим на слонах, исходит от встречных стад слонов: слон всегда может неожиданно решиться уйти к своим диким сородичам. Но есть известные способы предотвратить это.
Вождь говорил о том, что дальше на восток и юг от тех мест, где жили у гостеприимного народа бывшие рабы, за болотами и горами лежат пресные моря.[196] Они так велики, что по ним можно плавать только на особых лодках, и для того, чтобы пересечь пресное море, требуется несколько дней. Эти пресные моря идут цепью друг за другом в южном направлении, окаймлены горами, извергающими дым, пламя и огненные реки. Но за морями опять идет суша — высокие плоскогорья, населенные многочисленными животными, а настоящий край земли — берег бесконечного моря — лежит на востоке за каймой болот.
На плоскогорьях стоят не очень далеко друг от друга две гигантские, ослепительно белые горы,[197] красоту которых не может представить человек, не видевший их.
Дремучие леса опоясывают эти горы, в лесах обитают дикие люди и таинственные звери редкой древней породы, описать которых невозможно. Повелители слонов видели ущелья, заваленные огромными костями вперемешку с останками людей и обломками каменного оружия. Дикие кабаны, ростом с носорога, иногда попадались в зарослях вблизи северной белой горы, и один раз видели там животное не меньше слона, только более тяжелое, с двумя рогами, расположенными рядом на конце морды.
На пресных морях живут люди в плавающих селениях,[198] неуязвимые для врагов и сами не дающие никому пощады.
Пандион спросил вождя, как далеко идет на юг земля Африки и верно ли то, что там солнце опять спускается ниже.
Старик воодушевился. Оказалось, что он сам начальствовал в великом походе на юг, когда ему не исполнилось еще сорока лет.
Они шли на двадцати отборных слонах за золотом и за драгоценной травой тамошних степей, возвращающей силы старикам и больным.
За большой рекой,[199] текущей с запада на восток, где гремят исполинские водопады и в столбах водяных брызг стоит вечная радуга, простирается необозримая степь голубых трав.[200] По краям степи, вдоль моря, на западе и на востоке растут могучие деревья, листья которых будто сделаны из полированного металла и горят на солнце, как миллионы зеркал.[201]
Цвет травы и листьев на дальнем юге не зеленый, а серый, голубой или сизый, что придает местности чужой и холодный вид. И на самом деле, чем дальше на юг, тем холоднее. Дожди, которые там наступают во время нашей засухи, кажется, совсем уносят тепло.
Старик рассказал Пандиону о необычайном серебряном дереве, встречающемся далеко на юге, в горных ущельях. Это дерево, высотой до тридцати локтей, имеющее тонкую, поперечно морщинистую кору, густые ветви, покрытые блестящими, как серебро, и мягкими, как пух, листьями, исполнено волшебного очарования.
Бесплодные каменистые горы поднимаются исполинскими лиловыми башнями и отвесными стенами, а у их подножия ютятся корявые деревья, покрывающиеся большими пучками ярко-красных цветов.
В бесплодных местах степи и на россыпях скал растут уродливые кусты и низкие деревья. Мясистые листья,[202] наполненные ядовитым соком, сидят, как растопыренные пальцы, на самых концах попарно разветвленных, устремляющихся прямо в небо ветвей. У других такие же листья, красноватого цвета, загибаются вниз и образуют густую шапку на конце кривого ствола без ветвей, в четыре локтя высоты.
Близ рек и на опушках лесов встречаются развалины древних построек, сделанных из огромных камней, — видимо, могущественным и искусным народом. Однако сейчас никто не живет около развалин, только страшные дикие собаки воют в них при свете луны. По степи бродят кочевники-скотоводы или нищие охотники. Еще дальше на юг обитают народы с серой светлой кожей,[203] владеющие бесчисленными стадами, но туда не заходил отряд повелителей слонов.
Пандион и Кидого жадно слушали вождя. Повесть о голубой южной степи казалась сказкой, вплетенной в действительность, но голос старика звучал убедительно, он часто устремлял вдаль возбужденно блестевшие глаза, и Пандиону казалось, что перед стариком проходили сохраненные памятью картины.
Вдруг вождь оборвал рассказ.
— Ты перестал работать, — усмехнулся он. — Тогда мне придется сидеть перед тобой еще много дней!
Пандион заторопился, но это, пожалуй, было не нужно: молодой скульптор чувствовал, что бюст старого вождя удался ему, как ни одна вещь прежде. Мастерство зрело в нем незаметно и постепенно, несмотря на все перенесенные испытания; огромный опыт и наблюдения в Айгюптосе не прошли даром.
На третий день Пандион несколько раз сравнивал лицо вождя со своей глиняной моделью.
— Готово! — сказал он, глубоко вздохнув.
— Ты кончил? — переспросил вождь и на утвердительный кивок головы скульптора встал и подошел к своему изображению.
Кидого восторженно смотрел на создание Пандиона, едва сдерживая слова одобрения.
Одноцветная глина приняла все характерные черты властного, умного и сурового лица с твердыми, выдвинутыми вперед челюстями, широким покатым лбом, тяжелыми губами и раздувшимися ноздрями толстого носа.
Старый вождь негромко крикнул, обернувшись к дому.
На зов появилась одна из жен, молодая, со множеством мелких косичек, подрезанных челкой над бровями. Она подала старику круглое зеркало из полированного серебра, явно северной работы, неведомыми путями попавшее в глубь Африки.
Вождь поднес зеркало на вытянутой руке к щеке изваяния и сосредоточенно стал сравнивать свое отражение с творением Пандиона.
Пандион и Кидого ожидали суждения старика. Долго молчал вождь, наконец опустил зеркало и тихо сказал:
— Велика сила человеческого умения… Ты, чужеземец, владеешь этой силой, как никто в нашей стране. Ты сделал меня лучше, чем я есть, — значит, ты думаешь обо мне хорошо. Я отплачу тебе тем же. Какой бы ты хотел награды?
Кидого подтолкнул Пандиона, но молодой эллин ответил мудрому старику словами, казалось исходившими из самого сердца:
— Вот я весь перед тобой. У меня нет ничего, кроме копья, подаренного мне… — Пандион запнулся и порывисто закончил: — И мне ничего не нужно здесь, в чужой для меня стране… Еще у меня есть родина — она так далеко от меня, но это самое большое мое богатство. Помоги мне вернуться туда!
Учитель слонов положил руку на плечо молодого эллина отеческим жестом:
— Мне хочется еще говорить с тобой — приходи завтра вместе с твоим другом. А сейчас покончим дело. Я велю нашим мастерам высушить глину так, чтобы она не растрескалась. Теперь я хочу сохранить свое изображение. Они вынут лишнюю глину изнутри и покроют ее особой смолой — они умеют это делать. Только мне не нравятся слепые глаза. Можешь ты вставить в них камни, которые я тебе дам?
Пандион согласился. Старик снова позвал жену; она появилась на этот раз с ящиком, обтянутым леопардовой шкурой.
Из ящика вождь достал объемистый мешочек и высыпал из него на ладонь горсть крупных, прозрачных, как вода, граненых камней овальной формы. Необычайный искрящийся блеск их привлек внимание Пандиона — каждый камень как бы собирал в себе всю силу солнечного света, оставаясь вместе с тем холодным, прозрачным и чистым.[204]
— Я всегда желал иметь такие глаза, — сказал вождь, — чтобы они собирали свет жизни, не меняясь сами. Выбери лучшие и вставь их.
Молодой скульптор повиновался. Статуя вождя приобрела особенный, непередаваемый вид. В серой сырой глине сияли на месте глаз светоносные камни — от их блеска лицо наполнилось волшебной жизнью. Контраст, сначала показавшийся Пандиону неестественным, потом изумил его. Чем дольше он всматривался, тем большую гармонию видел он в сочетании прозрачных глаз с темной глиной скульптуры.
Учитель слонов был очень доволен.
— Возьми себе на память этих камней, чужеземный мастер! — воскликнул вождь и высыпал в горсть Пандиону несколько штук. Некоторые превышали величиной косточку сливы. — Эти камни тоже из южных степей: их находят там в реках. Тверже и чище этих камней нет ничего в мире. Покажи на своей далекой родине чудеса юга, добытые повелителями слонов.
Пандион, поблагодарив старика, ушел, на ходу пряча подарок в мешочек с камнем Яхмоса.
— Не забудь, приходи завтра! — крикнул ему старый вождь.
В хижине бывшие рабы оживленно обсуждали, что получится в результате успеха, выпавшего на долю Пандиона. Надежда на скорое продолжение пути все крепла. Казалось невозможным, чтобы повелители слонов не отпустили путников и не показали им верной дороги.
В назначенное время Пандион и Кидого появились у дома вождя. Старик поманил их рукой. Друзья уселись у ног учителя слонов, стараясь скрыть волнение.
Старик посидел некоторое время молча, потом заговорил, обращаясь сразу к обоим:
— Я совещался с другими вождями, и они согласны со мной. Через пол-луны, после большой охоты, мы отправляем отряд на запад за целебными орехами и золотом. Шесть слонов пойдут через лес и дальше, в верховья большой речки, в семи днях пути отсюда… Дай мне палку! — приказал вождь Пандиону.
На земле старик начертил берег морского залива, углом врезавшегося в сушу, и Кидого слабо вскрикнул. Вождь провел извилистую черту, обозначавшую речку с разветвлением на конце, и поставил в развилине крестик.
— Слоны дойдут вот сюда, вы пойдете за ними следом и легко перейдете лес. Дальше вам придется идти самим, но до моря останется пять дней пути…
— Отец и владыка, ты спасаешь нас! — вне себя закричал Кидого. — Эта речка течет уже в пределах моей страны, и мне знакомо золотоносное плоскогорье… — Негр вскочил и заметался перед вождем.
— Я знаю, — спокойно сказал старик, насмешливо улыбаясь. — Я знаю твой народ и твою страну и некогда знал там сильного вождя Иорумефу.
— Иорумефу! — захлебнулся Кидого. — Это мой дядя по матери…
— Хорошо, — перебил вождь негра. — Ты передашь ему привет от меня. Теперь ты понял все? — И, не дожидаясь ответа, он закончил: — Я хочу говорить с твоим другом. — Вождь повернулся к Пандиону. — Я чувствую, ты будешь большим человеком в своей стране, если удастся тебе вернуться на родину. Ты расскажешь там о нас. Народы должны знать друг друга, а не бродить в потемках, вслепую, подобно стадам животных в степи или в лесу. Одни искусны в охоте, другие племена — в мастерстве, или добывании металлов, или плавании… Хорошо бы нам учиться друг у друга, передавать знания. Тогда могущество людей быстро возросло бы!
— Ты прав, мудрый вождь, — ответил Пандион, — но почему же тогда вы окружаете такой тайной обучение слонов? Почему не расскажете об этом другим племенам, чтобы те тоже жили в довольстве, подчинив себе страшных великанов?..
— Обучение слонов — тайна только для глупцов, — улыбнулся старик. — Любой умный человек легко ее разгадает… Но, помимо тайны, есть тяжелый и опасный труд, исполненный бесконечного терпения. Мало одного ума — нужна еще и работа. Мало в здешней земле племен, которые обладали бы сразу тремя качествами, имеющимися у моего народа: умом, трудолюбием и безмерной отвагой. Чужеземец, знай, что взрослого слона приручить невозможно. Мы ловим их совсем молодыми. Молодой слон обучается десять лет. Десять лет упорного труда нужно затратить, чтобы животное стало понимать приказания человека и выполнять нужную работу.
— Десять лет! — воскликнул озадаченный Пандион.
— Да, не меньше, если ты правильно определил характер слона. Если ты ошибся, ты не справишься с ним и в пятнадцать. Среди слонов есть и упрямцы, и тупицы. Не забудь еще, что добыча молодых слонов связана с огромной опасностью. Мы должны ловить их своими руками, без помощи обученных слонов, иначе прирученные животные тоже уйдут со стадом. Они помогают уже потом, когда стадо прогнано, а молодые слоны схвачены. На каждой охоте всегда гибнет несколько наших храбрецов… — В голосе вождя послышался отзвук печали. — Скажи, ты видел упражнения наших молодых воинов?.. Да? Это тоже необходимое для ловли слонов искусство.
Пандион несколько раз смотрел на необыкновенные игры повелителей слонов. Воины вкапывали на ровной полянке два высоких шеста и привязывали к ним поперечную бамбуковую перекладину на высоте пяти локтей от земли.
Затем, разбежавшись, они как-то по-особенному, боком, вскидывались в воздух и перелетали через перекладину. Тело прыгуна изгибалось, почти складываясь пополам, и летело в высоту правым боком по направлению прыжка. Пандион никогда не видел таких высоких прыжков. Некоторые, более умелые, прыгали на высоту даже шести локтей. Молодой эллин, удивленный искусством повелителей слонов, не понимал, однако, для чего им нужно это умение. Слова сурового вождя немного разъяснили ему значение упражнений.
Вождь помолчал, потом повысил голос:
— Теперь ты видишь, насколько трудно это дело. Охотятся на слонов и другие племена. Они убивают их с деревьев тяжелыми копьями, загоняют в ямы, подкрадываются во время сна в лесу. Вот что, — вождь хлопнул себя по колену, — я велю взять тебя на охоту за слонами. Она будет скоро, до того, как пойдет отряд в западный лес. Хочешь увидеть славу и муку моего народа?
— Хочу и благодарю тебя, вождь. А товарищам можно будет пойти со мною?
— Нет, всех вас слишком много. Позови с собой одного—двух, иначе вы окажетесь помехой.
— Пусть со мной пойдут два моих друга: вот он, — Пандион указал на Кидого, — и еще один…
— Кто — тот угрюмый, густобородый? — спросил учитель слонов, подразумевая Кави, и молодой эллин подтвердил правильность его догадки.
— Я хотел бы тоже побеседовать с ним, пусть он придет ко мне, — сказал старик. — Ты, наверно, хочешь скорее передать товарищам весть о том, что мы согласны помочь вам. Когда мы назначим день охоты, тебе скажут. — И старик жестом руки отпустил обоих друзей.
Под зловещие удары барабанов охотники собрались в дорогу. Часть выступала на слонах, нагруженных веревками, едой и водой, другие пошли пешком. К ним примкнули Кави, Кидого и Пандион, вооруженные своими могучими копьями. Двести охотников перешли речку и двинулись по степи в северном направлении, к гряде обнаженных скал, едва видневшихся в синей дымке над горизонтом. Охотники шли очень быстро, так что даже таким ходокам, как три друга, было нелегко поспеть за ними.
От подошвы горной гряды к югу и востоку степь была совершенно плоской, с выжженными большими и ровными участками. Желтая равнина под ветром покрывалась облачками пыли, обегавшими тусклую зелень деревьев и кустарников. Ближайшие обрывы были видны ясно, но дальние скалы скрывались серо-голубым туманом. Закругленные вершины выступали, как огромные черепа призрачных слонов; более низкие топорщились, напоминая спины крокодилов.
Заночевав у южного конца цепи утесов, повелители слонов на рассвете двинулись вдоль их восточного склона. Впереди над равниной клубилось красноватое марево, в нем дрожали и расплывались силуэты деревьев. Обширное болото простиралось на север. От толпы охотников отделился юноша, велел чужеземцам следовать за ним и начал взбираться на горную гряду.
Кави, Пандион и Кидого поднимались по уступу на высоту в двести локтей. Над их головами возвышался пышущий жаром каменный откос, по ярко-желтой поверхности скал змеились черные трещины. Охотник довел друзей до выступа, приходившегося против края болота, велел укрыться за пучками жесткой травы и камнями, сделал знак молчания и исчез.
Этруск, негр и эллин долго лежали под палящими лучами солнца, не смея разговаривать. Ни одного звука не доносилось со стороны расстилавшейся внизу долины.
Вдруг слева послышался неясный хлюпающий шум, приближавшийся и усиливавшийся. Пандион осторожно выглянул из-за камня сквозь едва колеблющуюся траву и замер.
Темно-серая туча тысяч слонов покрыла болото. Гигантские животные проходили наискось от гряды скал и, пересекая границу степи и болота, направлялись на юго-восток.
Тела животных ясно выделялись на желто-серой траве. Слоны шли стадами от ста до пятисот штук, группы следовали одна за другой цепью с небольшими промежутками. Каждое стадо грудилось плотной массой, животные тесно прижимались друг к другу, и сверху казалось, что движется сплошное серое пятно с волнистой поверхностью сотен спин, испещренной белыми черточками бивней.
На топких местах стадо растягивалось в узкую ленту. Некоторые слоны бросались в стороны, растопыривая уши и смешно расставляя выпрямленные задние ноги, но потом снова вливались в поток.
Одни, большей частью огромные самцы, не торопясь переставляли ноги, опустив головы и уши; другие важно выступали, высоко приподняв переднюю часть тела и перекрещивая задние ноги; третьи часто поворачивались боком, оттопыривая тонкие хвосты. Бивни самой различной величины и формы, короткие и длинные, почти касавшиеся земли, изогнутые и прямые, белели в темно-серой массе огромных тел.
Кидого приблизил губы к уху Пандиона.
— Слоны переходят на болота и реки — степь высохла, — прошептал негр.
— А где же охотники? — спросил молодой эллин.
— Они спрятались. Ждут стада, где много маленьких слонов — такое стадо пойдет сзади всех. Здесь, видишь, только взрослые…
— Почему у одних слонов короткие бивни, а у других они длинные?
— У них бивни сломаны.
— В битве между собою?
— Мне говорили: между собой слоны дерутся редко. Гораздо чаще слон ломает бивни, когда валит деревья. Бивнями он выворачивает деревья, чтобы съесть плоды, листья и тонкие ветви. У лесных слонов бивни гораздо крепче, чем у степных, — вот почему из лесов идет для торговли твердая слоновая кость, а из степей — мягкая.
— А эти слоны степные или лесные?
— Степные. Посмотри сам. — Кидого указал на старого слона, замешкавшегося недалеко от скалы, где сидели друзья.
Серый великан, стоя по колени в траве, повернулся прямо к смотревшим на него. Широко раскинутые уши оттопырились, кожа их натягивалась, как парус, нижние края обвисали мелкими складками. Слон опустил голову. От этого движения покатый лоб животного выдвинулся вперед, глубокие ямы ввалились между глазами и теменем, и вся голова сделалась похожей на толстую, утончавшуюся книзу колонну, незаметно переходившую в отвесно опущенный хобот. Поперечные складки, похожие на темные кольца, пересекали хобот на равных промежутках. У основания его косо в стороны и книзу расходились кожистые трубки, из которых торчали очень толстые и короткие бивни.
— Я не понимаю, как ты узнал, что слон степной, — прошептал Пандион, внимательно осмотрев спокойного старого великана.
— Видишь его бивни? Они не сломаны, а стерты. У старика они не растут так, как у слона в расцвете сил, и он сильно стер их потому, что они мягкие. У лесного слона не увидишь таких бивней — они чаще бывают тонкие и длинные…
Друзья тихо переговаривались. Время шло. Передние слоны скрылись за горизонтом, стадо превратилось в темную полосу.
Слева показалось еще одно большое стадо. Во главе шли четыре самца чудовищной величины — около восьми локтей высоты. Они двигались, покачивая головами, и длинные, слегка изогнутые бивни то поднимались, то касались травы острыми концами.
В стаде было много слоних, отличавшихся впалыми спинами и большими складками кожи на боках. За ними, вплотную к задним ногам, неуверенно шли маленькие слонята, а сбоку, несколько особняком, весело ступала подросшая молодежь. Маленькие бивни и уши, небольшие продолговатые головы, большие животы и одинаковая высота передних и задних ног отличали их от взрослых.
Друзья поняли, что приближается решительный момент охоты. Маленьким слонам трудно было идти по болоту, и стадо отклонилось вправо, выбравшись на твердую почву между кустарниками и редкими деревьями.
— Почему слон, такой тяжелый, не вязнет в болоте? — опять спросил Пандион.
— У него особые ноги, — начал Кидого, — он…
Оглушительный гром металлических листов и барабанов, неистовые вопли внезапно разнеслись по степи — у друзей перехватило дух от неожиданности.
Слоновье стадо в панике ринулось к болоту, но там из травы возникла цепь людей с барабанами и трубами. Передние ряды животных отпрянули назад, остановив напор задних. Пронзительный трубящий рев испуганных слонов, гром металлических листов, хруст ломающихся ветвей — в этом адском шуме изредка пробивались тоненькие, жалобные вопли слонят. Животные заметались, то скучиваясь вместе, то бросаясь врассыпную. В хаосе мечущихся гигантов, в клубах густой пыли мелькали люди. Они не приближались к стаду, перебегали, выстраивались и снова ударяли в листы. Постепенно друзья поняли, что делали охотники: они отбивали молодых слонов от взрослых и оттесняли их направо, в широкое устье сухой долины, врезанной в скалистую цепь и загражденной полосой деревьев. Серые великаны устремлялись на охотников, стремясь растоптать, сокрушить неведомо откуда взявшихся врагов. Но люди, высоко подпрыгивая, на мгновение скрывались в кустарниках и деревьях. Пока разъяренные животные размахивали хоботами, разыскивая спрятавшихся врагов, с другой стороны возникали новые ряды воинов, бешено орущих и гремящих металлическими листами. Слоны бросались на этих охотников, и люди опять повторяли тот же маневр, стараясь отделить молодых животных.
Стадо отходило все дальше в степь, серые тела скрылись за деревьями, и только оглушительный шум и высоко взлетавшая пыль указывали на место охоты.
Ошеломленные друзья, пораженные бесстрашием и ловкостью людей, избегавших ярости кидавшихся на них чудовищ и неуклонно продолжавших свое опасное дело, молча смотрели на опустевшую степь с примятым кустарником и поломанными деревьями. Кидого озабоченно хмурился, прислушивался и наконец тихо сказал:
— Что-то плохо… Охота пошла не так, как нужно!
— Откуда ты знаешь это? — удивился Кави.
— Если они привели нас сюда, значит рассчитывали, что стадо пойдет на восток, прямо от нас. А теперь стадо ушло вправо. Я думаю, это нехорошо.
— Пойдем туда, — предложил Пандион, — назад по уступу, как пришли.
Кидого недолго размышлял и согласился. В сумятице сражения их приход ничего не значил.
Укрываясь за травой и камнями, низко пригнувшись, этруск, эллин и негр передвинулись на тысячу локтей назад, вдоль скалистой цепи, пока не оказались снова над открытым местом равнины.
Друзья увидели расселину в скалах, куда охотникам удалось загнать больше десятка молодых слонов. Люди сновали между деревьями, искусно набрасывая на слонят петли и привязывая к стволам.
Цепь охотников, вооруженных широкими копьями, замыкала выход из долины. Грохот и крики раздавались в двух тысячах локтей впереди и направо — там, по-видимому, находилась большая часть стада.
Вдруг отрывистые и резкие трубные звуки послышались впереди и слева. Кидого вздрогнул.
— Слоны нападают, — тихо прошептал он.
Протяжно застонал человек, гневные крики другого прозвучали командой.
В дальнем конце открытой поляны, там, где два раскидистых дерева отбрасывали большие пятна тени, друзья заметили движение. Мгновение — и оттуда вынырнул огромный слон с растопыренными ушами и вытянутым вперед, как бревно, хоботом. Рядом с ним возникли два таких же гиганта — Пандион узнал чудовищных вожаков стада.
Четвертый в сопровождении еще нескольких слонов бежал позади. Наперерез слонам справа из кустов выскочили охотники. Они вклинились между ними, на ходу бросая в слона, появившегося последним, копья. Тот неистово затрубил и бросился за людьми, быстро бежавшими в сторону болота. За ним повернули и остальные слоны. Три вожака, не обращая внимания на хитрый маневр людей, отделивших их от товарищей, продолжали нестись к долине в скалах, должно быть привлеченные криками молодых слонов.
— Худо, худо… Вожаки вернулись с другой стороны… — взволнованно шептал Кидого, сдавливая до боли руку Пандиона.
— Смотри… смотри на храбрецов! — воскликнул, забывшись, Кави.
Воины, заграждавшие вход в долину, не дрогнули, не спрятались от разъяренных чудовищ. Они выступили вперед длинной цепью. Выгоревшая низкая трава не могла скрыть ни одного движения людей.
Слон, бежавший первым, устремился прямо в середину цепи охотников. Двое людей остались неподвижными, а их соседи с обеих сторон вдруг прыгнули навстречу налетавшему чудовищу. Слон замедлил бег, высоко поднял тяжелый хобот и, злобно свистя, с топотом обрушился на людей. Не больше десяти локтей расстояния оставалось между храбрецами и слоном, когда те молниеносно прыгнули в стороны. И в этот же миг у задних ног чудовища выросли по два человека с каждой стороны. Двое вонзили широкие копья в брюхо животного, двое, откинувшись назад, ударили по задним ногам слона.
Высокий свистящий звук вырвался из поднятого хобота вожака. Опустив его, слон повернул голову в сторону ближайшего справа человека. Тот не успел или не мог увернуться… Брызнула кровь, и три друга отчетливо увидели обнажившиеся на плече и боку человека кости. Раненый безмолвно упал, но и гигантский слон грузно осел на задние ноги и медленно, боком двинулся в сторону. Охотники, оставив его, присоединились к товарищам, сражавшимся с двумя другими вожаками. Те оказались умнее или уже имели опыт в борьбе с человеком: исполинские чудовища бросались из стороны в сторону, не давая возможности подкрасться к ним сзади, и задавили трех охотников.
В лучах заходившего солнца багровела пыль, застилавшая место битвы. Восьмилоктевые гиганты казались черными башнями, у подножия которых сновали бесстрашные люди. Они прыгали, увертываясь от длинных клыков, подставляли под хоботы упертые в землю колья, с криками забегали сзади, отвлекая нападающих слонов от товарищей, гибель которых была бы неизбежной.
Животные, разъяренные до неистовства, беспрерывно трубили. Когда они поворачивались головами к скале, на которой сидели три друга, то казались необычайно высокими; широкие пятна растопыренных ушей раскачивались над людьми. Сбоку слон с опущенной головой казался ниже, бивни почти загребали землю, готовые вот-вот поддеть человека. Пандион, Кидого и Кави понимали, что видят только часть сражения. Оно происходило и вдали за деревьями, где находилось все стадо, и налево на болоте, куда побежали охотники, отвлекая четвертого вожака и прорвавшихся с ним слонов. Что делалось там, было тайной для друзей, но они не могли думать об этом — кровавое сражение перед ними всецело завладело их вниманием.
Из-за деревьев загремели, приближаясь, барабаны — отряд в несколько десятков воинов прибыл на подмогу к сражавшимся. Вожаки слонового стада остановились как бы в нерешительности; люди грозно закричали, размахивая копьями, и тогда чудовища отступили. Они бросились к своему третьему товарищу, лежавшему на земле, и, подогнув колени, стали по бокам раненого, подсунули под него бивни и подняли на ноги. Затем, стиснув его своими телами, гиганты потащили его за деревья, уронили, опять подняли и скрылись. Несколько охотников бросились вдогонку, но были остановлены человеком, распоряжавшимся охотой.
— Не уйдет… скоро бросят… опять разъярятся, — перевел Кидого его слова.
Шум направо все удалялся и затихал: битва, по-видимому, была выиграна. Со стороны болота, с севера, показалось несколько охотников; они несли два неподвижных тела. На троих друзей никто не обращал внимания. Негр, этруск и эллин осторожно спустились в степь, чтобы осмотреть поле боя. Друзья пошли туда, где была главная часть стада. Пробиваясь через кусты, Кидого вдруг испуганно отпрянул — на сломанном от падения слоновой туши дереве лежал умирающий слон. Конец его хобота слегка шевелился. Дальше деревья становились реже, и между ними виднелась серая груда — второй слон лежал на брюхе, с подогнутыми ногами, с выгнутой горбом спиной. Почуяв приближение людей, животное подняло голову. Вокруг его потускневших и запавших глаз залегли глубокие складки кожи, придававшие слону старческое выражение бесконечной усталости. Гигант поник головой, упершись на длинные бивни, потом с глухим стуком упал на бок.
Вокруг перекликались охотники. Кидого махнул рукой и повернул назад — с юга опять показалось стадо слонов. Друзья поспешили к скалам, но тревога была ложной — это подходили обученные животные повелителей слонов. Привязанные к деревьям молодые слоны топорщили хвосты и бешено бросались на людей, стараясь достать их вытянутыми хоботами. Слоновожатые ставили прирученных слонов по бокам каждого пленника. Они сжимали пойманного своими телами и уводили к селению. На всякий случай к шее и задним ногам слоненка были привязаны канаты; каждый канат держали по пятнадцати охотников, шедших впереди и сзади.
Лица людей, усталые и похудевшие от страшного напряжения, были угрюмы. Уже одиннадцать неподвижных тел было положено на плетеные площадки на спинах слонов, а люди все еще рыскали в кустах в поисках двух куда-то пропавших товарищей.
Слонов с пойманными слонятами увели. Охотники сидели и лежали на земле, отдыхая после боя. Друзья подошли к распорядителю охоты, и Кидого осведомился, не могут ли они чем-нибудь помочь. Распорядитель сердито посмотрел на них и грубо сказал:
— Помочь? Чем вы может помочь, чужеземцы? Охота была тяжелой, мы потеряли много храбрецов… Ждите, где вам приказано, не мешайте нам!
Друзья отошли к скалам и уселись в стороне, боясь ссоры с людьми, от которых зависело их будущее.
Кави, Пандион и Кидого лежали в ожидании, когда их позовут, и негромко разговаривали. Солнце садилось; черные тени от зубчатых скал продвигались в степь.
— Я не понимаю все же, как громадные слоны не уничтожают в бою всех охотников, — задумчиво произнес Кави. — Если бы слоны сражались крепче, они просто стерли бы людей в пыль…
— Ты прав, — отозвался Кидого. — Счастье людей в том, что у слона слабое сердце…
— Как может это быть? — изумился этруск.
— Просто слон не привык сражаться. Он так силен и велик, что на него никто не нападает, ему не грозят опасности, и только человек осмеливается охотиться на него. Поэтому серый великан не стойкий боец, его воля легко ломается, и он не выдерживает долгого сражения, если не сомнет врага сразу… Вот буйвол — другое дело. Если бы у него были ум и размеры слона, погибли бы все охотники…
Кави промычал что-то неопределенное, не зная, верить ли негру, но вспомнил, какую нерешительность в самый нужный момент боя проявляли слоны сегодня у него на глазах, и промолчал.
— У повелителей слонов копья совсем другие, чем у нас: лезвие восемь пальцев ширины, — вмешался Пандион. — Какую же силу надо иметь для удара таким копьем?!
Кидого вдруг встал и прислушался. Ни одного звука не доносилось с той стороны, где расположились охотники. Золотое от зари небо быстро тускнело.
— Они ушли и забыли про нас! — воскликнул негр и выбежал из-за выступа утеса.
Все было пусто кругом. Вдали слышались еле различимые голоса — охотники ушли, оставив троих друзей.
— Идем за ними скорей, путь далек! — заторопился Пандион.
Но негр остановил друга.
— Поздно, сейчас погаснет заря, и мы в темноте собьемся с дороги, — сказал Кидого. — Лучше подождать, пока взойдет луна. Это будет скоро.
Кави и Пандион согласились и прилегли отдохнуть.
Глава восьмая СЫНЫ ВЕТРА
В непроницаемой тьме завыли гиены, жалобно завопили шакалы. Кидого нервничал, часто поглядывая на восток, где пепельно-серый просвет неба над вершинами деревьев возвещал восход луны.
— Я не знаю, есть здесь дикие собаки или нет, — бормотал Кидого. — Если они придут, будет беда. Собаки нападают дружно, всей стаей, и одолевают даже буйволов…
Небо все светлело, наконец угрюмо черневшие утесы засеребрились, деревья на степи выделились черными силуэтами. Взошла луна.
Крепко сжимая копья, оглядываясь и прислушиваясь, этруск, негр и эллин пошли на юг, вдоль скалистой цепи. Они спешили покинуть мрачное место битвы, где за кустами и деревьями валялись трупы слонов и пировали пожиратели падали. Вой затих позади, степь молчала. Казалось, все вымерло вокруг — только быстрые шаги путников нарушали ночной покой.
Кидого старательно избегал густых рощиц и зарослей кустарника, там и сям возвышавшихся на степи таинственными черными холмами. Негр выбирал путь посередине открытых полян, белевших между зарослями, как озера в лабиринте черных островов.
Скалистая цепь отогнулась к западу, узкая роща прижала путников к утесам. Кидого повернул направо и пошел по длинной каменистой площадке, спускавшейся к югу. Внезапно негр остановился и, круто повернувшись назад, стал прислушиваться. Пандион и Кави напрягли внимание, но ни одного звука не было слышно вокруг. По-прежнему царила глубокая тишина.
Кидого нерешительно двинулся дальше, ускоряя шаги и не отвечая на тихие вопросы этруска и эллина. Они прошли еще тысячу локтей, и негр опять остановился. Его глаза в свете луны тревожно блестели.
— Кто-то идет следом за нами, — прошептал он и прилег ухом к земле.
Пандион последовал примеру друга, этруск остался стоять, прищурив глаза и пытаясь что-нибудь разглядеть сквозь серебряную завесу лунного света, скрывавшую даль.
Пандион, прижимая ухо к горячей каменистой почве, сначала слышал только собственное дыхание. Молчаливая грозная неопределенность тревожила его. Вдруг издалека донесся слабый, еле слышный шум, переданный твердой почвой. Звуки, учащаясь, равномерно повторялись четкими лязгающими ударами — клик, клик! Пандион вскинул голову и мгновенно перестал слышать. Кидого еще некоторое время прикладывал к земле то одно, то другое ухо, затем вскочил, как подброшенный пружиной:
— За нами идет большой зверь… плохо… я не знаю какой. У него когти наружу, как у собаки или гиены, — значит, это не лев, не леопард…
— Буйвол или носорог, — предположил Кави.
Кидого энергично замотал головой.
— Нет, это хищник! — уверенно отрезал негр. — Нужно спасаться. Плохо — вблизи нет ни одного дерева, — тревожно оглядываясь, шептал он.
Перед ними простиралась почти ровная щебнистая поверхность. Только пучки редкой травы и небольшие кустики торчали на ее скате.
— Вперед, скорее! — торопил Кидого, и друзья осторожно побежали, опасаясь больших колючек и трещин в пересохшей земле.
А сзади, слышный теперь уже совсем отчетливо, раздавался стук тяжелых когтей. Частота размеренных ударов говорила друзьям, что зверь тоже перешел на быстрый бег и нагоняет их. Клик, клик, клик! — тупой лязг становился все ближе.
Пандион оглянулся и увидел высокий раскачивающийся силуэт, серым призраком следовавший позади.
Кидого вертел головой, стараясь различить впереди деревья, соразмерить расстояние и скорость бега неведомого зверя. Сообразив, что деревья еще очень далеко и добежать друзья не успеют, негр остановился.
— Зверь настигает! Нам больше нельзя оставаться спиной к нему — погибнем жалкой смертью!.. — взволнованно крикнул негр.
— Нужно биться! — угрюмо проворчал Кави.
Три друга стали рядом, повернувшись лицом к грозному серому призраку, приближавшемуся в тишине ночи. Зверь был молчалив, как сама ночь, — за все время погони он не издал ни единого звука, и это необычайное для хищника степей свойство больше всего пугало друзей.
Серый расплывчатый силуэт становился темнее, его контуры обозначались все резче. Не более трехсот локтей оставалось между друзьями и зверем, когда тот замедлил бег и пошел размашистым шагом, уверенный, что намеченные жертвы не уйдут.
Друзья никогда не видели такого зверя. Массивные передние лапы его были длиннее задних, передняя половина туловища сильно возвышалась над крестцом, спина была поката. На толстой шее прямо сидела тяжелая голова с массивными челюстями и крутым выпуклым лбом. Короткая светлая шерсть была испещрена темными пятнами. На загривке и на затылке дыбом торчали длинные жесткие волосы. Зверь отдаленно походил на пятнистую гиену, но невиданных, чудовищных размеров: голова его приходилась на высоте пяти локтей от земли. Широкая грудь, плечи и загривок подавляли своей массивностью, буграми выпячивались могучие мускулы, а громадные кривые когти зловеще стучали, нагоняя страх.
Зверь двигался странными, неровными движениями, виляя низким задом и кланяясь тяжелой головой. Морда была опущена вниз так, что нижняя челюсть почти прижималась к горлу.
— Кто это? — глухо спросил Пандион, облизывая пересохшие губы.
— Не знаю, — растерянно ответил Кидого. — Никогда не слыхал про таких зверей…
Зверь внезапно сделал поворот; большие, направленные прямо на путников глаза животного зажглись мерцающим пламенем. Зверь описал небольшую дугу вправо от стоявших людей, потом опять повернулся к ним мордой и остановился. Закругленные уши торчали косо вверх по бокам головы.
— Зверь умен: он зашел так, чтобы луна стала против нас, — прошептал, учащенно дыша, Кидого.
Пандиона била нервная дрожь, всегда появлявшаяся у молодого эллина перед опасным боем.
Зверь втянул в себя воздух и начал медленно приближаться. В движениях животного, в его зловещем молчании, в упорном прямом взгляде больших глаз под выпуклым лбом было что-то отличавшее его от всех известных друзьям зверей. Люди инстинктивно поняли, что животное, встретившееся им, — пережиток иного, древнего мира, с другими законами жизни. Плечо к плечу, выставив копья, люди двинулись навстречу ночному чудовищу. На мгновение оно остановилось, озадаченное; потом, издав какой-то хрип, кинулось на троих друзей. Раскрылась громадная пасть, толстые зубы блеснули в лучах луны, а три длинных лезвия могучих копий впились в широкую грудь и шею чудовища. Люди не смогли сдержать напора — зверь обладал исполинской силой. Копья, упершиеся в массивные кости, вывернулись из рук: этруск, эллин и негр отлетели назад. Кидого и Пандион успели вскочить, а Кави был подмят зверем. Оба друга бросились на выручку. Чудовище присело на задние лапы и вдруг быстро взмахнуло передними. Притупленные когти ударили Пандиона по бедру с такой силой, что он упал, чуть не потеряв сознание. Зверь, наступив огромной лапой на ногу эллина, причинил ему невероятную боль: суставы хрустнули, когти животного разорвали мясо и кожу.
Пандион, не выпуская копья из рук, оттолкнулся от земли обеими руками, силясь встать, и услышал треск копья Кидого. Поднявшись на колени, Пандион увидел, что негр придавлен зверем, приближающим к нему свою раскрытую пасть. Кидого с вытаращенными глазами упирался руками под челюсть ночного страшилища, тщетно пытаясь отвратить от себя зубы зверя. На глазах Пандиона погибал его верный друг. Вне себя, уже не чувствуя боли, молодой эллин вскочил и вонзил животному копье в шею. Зверь громко щелкнул зубами и повернулся к Пандиону, свалив его этим движением с ног. Молодой эллин не выпустил копья и, уперев древко в землю, задержал чудовище на несколько мгновений, и Кидого успел выхватить нож. Ни негр, ни эллин не увидели, что с другой стороны зверя поднялся Кави. Этруск хладнокровно нацелился и обеими руками погрузил копье под лопатку чудовища. Длинное лезвие вошло на локоть; рев вырвался из раскрывшейся пасти, зверь конвульсивно дернулся, перекинувшись влево к этруску. Тот, втянув голову в высоко поднятые плечи, пошатнулся, но устоял. Кидого с пронзительным воплем ударил ножом зверя в горло, и в этот момент копье этруска дошло до сердца чудовища. Тяжелое тело задергалось в судорогах, нестерпимое зловоние распространилось вокруг. Пандион вырвал копье, вонзив его снова в затылок, но этот последний удар был уже ненужным. Зверь, вытянув шею и ткнувшись мордой в ноги этруска, выбросил в сторону задние ноги. Они еще двигались, когти скребли почву, под кожей сокращались мускулы, но вздыбленная на затылке шерсть уже опала.
Опомнившись, три друга осмотрели свои раны. У этруска был вырван целый кусок мяса из плеча, борозды длинных когтей прополосовали спину. Нога Пандиона не была сломана — у него оказалась глубокая рана ниже колена, в стопе были, по-видимому, растянуты или разорваны связки так, что ступать на ногу молодой эллин не мог. Бок его вздулся и потемнел от удара лапы, но ребра оказались целы. Сильнее всех пострадал Кидого, получивший несколько больших ран и сильно помятый.
Друзья перевязывали друг друга разорванной на куски одеждой и радостно переживали свое избавление от страшного чудовища, недвижимо простертого перед ними в ярком свете луны. Больше всех был удручен Пандион: раненая нога не позволяла ему идти.
Кидого успокоил друга, уверяя, что сейчас они в безопасности: труп страшилища охраняет их от всех других хищников, а повелители слонов непременно хватятся и с рассветом найдут отставших.
Терпеливо превозмогая боль от горевших ран, друзья растянулись на жестком щебне, но не могли заснуть от возбуждения.
Рассвет вспыхнул неожиданно быстро, солнце согнало таинственную и зловещую тень ночи. Пандион, измученный болью в ноге, раскрыл усталые глаза от громкого восклицания Кидого. Негр рассматривал побежденного ночного преследователя и объяснял этруску, что он видел изображение подобного зверя в Та-Кем, среди рисунков разных животных в гробнице у города Белых Стен. Кави недоверчиво оттопыривал нижнюю губу. Кидого клялся и убеждал друга, что жители Кемт в древности, несомненно, встречали такое же животное. Солнце поднималось выше. Жажда томила троих друзей, мучила лихорадка от полученных ран. Кидого и Кави решили идти разыскивать воду и тут услышали голоса. Три слона с воинами на спинах двигались через степь, ниже каменистого ската, на котором друзья встретились с чудовищем ночи. Повелители слонов, услышав крики негра, заставили животных повернуть и ускорить шаг. Слоны стали подходить к чужеземцам, как вдруг тревожно затрубили и попятились, поднимая хоботы и топорща уши. Воины спрыгнули с плетеных помостов и подбежали к трупу чудовища с криками: “Гишу! Гишу!”
Распорядитель вчерашней охоты одобрительно посмотрел на друзей, сказав сиплым, надорванным голосом:
— Вы славные воины, если справились втроем с ужасом ночей, пожирателем толстокожих!
Повелители слонов рассказали чужеземцам о гишу — очень редком и опасном звере. Днем он скрывается неведомо где, а ночью бродит в молчании, нападая на молодых слонов, носорогов и детенышей других крупных животных. Гишу необычайно силен и упорен в сражении — его страшные зубы разом перегрызают ногу слона, а могучие передние лапы давят жертву, ломая ей кости.
Кави знаками попросил охотников помочь ему снять шкуру. Четыре воина охотно приступили к делу, не обращая внимания на тяжелый запах, исходивший от животного.
Шкура и отрубленная голова были водружены на слона, туда же воины подняли раненых чужеземцев. Слоны, повинуясь легким ударам крючковатых ножей, побежали рысью, быстро одолевая пространство степи.
К полудню три друга были в селении. Жители встретили их приветствиями: сопровождавшие чужеземцев воины с высоты слоновых спин громко кричали о совершенном подвиге.
Сияющий Кидого восседал рядом с Пандионом на колеблющейся широкой платформе, на высоте пяти локтей от земли. Негр неоднократно принимался петь, но каждый раз его обрывали повелители слонов, предупреждая, что слоны не любят шума и привыкли двигаться в молчании.
Уже четыре дня пути отделяли друзей от города повелителей слонов. Слово вождя исполнилось. Отряду бывших рабов было разрешено следовать на запад с экспедицией племени. Кави, Кидого и Пандион, раны которых еще не зажили, получили место на спине одного из шести слонов, остальные шестнадцать их товарищей шли пешком по следам отряда. Животные находились в движении меньше половины дня, остальное время уходило на их кормежку и отдых. Шедшим пешком удавалось настигать слонов только перед наступлением ночи.
Слоновожатые вели животных совсем не той дорогой, которую выбрали бы люди. Они обходили участки высокого леса, устремляясь через поляны и заросли кустарников, где людям пришлось бы прорубать дорогу. Серые гиганты спокойно прокладывали себе путь. Время от времени передний слон заменялся самым задним и отправлялся на отдых в конец отряда. После слонов в чащах оставалась тропа, и товарищи Пандиона шли и шли без единого удара ножом, восхищенные легкостью победы над непроходимыми лесами. Еще лучше чувствовали себя ехавшие на слоне три друга. Платформа слабо покачивалась, неуклонно плывя над землей с ее колючками, насекомыми и опасными змеями, топкой грязью гниющих луж, острым щебнем каменистых скатов, режущей травой и глубокими, зияющими трещинами. Только сейчас понял Пандион, как много внимания требовали опасности пешего передвижения в дебрях африканских лесов и степей. Только постоянная бдительность давала возможность человеку остаться без повреждений, сохранить силы и боеспособность в дальнейшем пути. Теперь, на спине слона, шагавшего с несокрушимой надежностью каменной глыбы, молодой эллин жадно впитывал в себя краски, формы и запахи природы чужой земли, с ее великолепной мощью животной и растительной жизни. В ослепительном свете солнечных лучей чистые тона цветов достигали необыкновенной яркости, смутно тревожившей северянина. Но едва только небо заволакивалось тяжелыми тучами или отряд окружали сумерки тенистого леса, краски угасали. Монотонные переходы цветов казались сумрачными и жесткими в сравнении с мягкими, задумчивыми и гармоничными красками родной Пандиону страны.
Отряд пересек ближний отрог леса и вновь оказался в холмистой степи с красной землей, поросшей безлистыми деревьями, выделявшими молочный сок. Их синевато-зеленые ветви угрюмо поднимались в слепящее небо, ровная, словно подстриженная поверхность крон щетинилась на высоте тридцати локтей от земли. В этих зарослях, стоявших неподвижно, не встречалось ни птиц, ни зверей — знойный мертвый покой царил над красными холмами. Громадные стволы и ветви казались подсвечниками, отлитыми из зеленого металла. Крупные красные цветы рдели на концах ветвей, словно сотни факелов, горевших на мрачном кладбище. Дальше почву изрезали глубокие промоины — под огненно-красной землей лежали слои ослепительно белого песка. Отряд вышел в сеть узких ущелий. Рыхлые пурпурные стены поднимались на сто локтей по сторонам. Слоны осторожно пробирались в хаосе размытых обрывов, пирамид, башен и тонких столбов. Местами в круглых, как чаши, глубоких впадинах встречались длинные отроги, расходящиеся лучами поперек ровного дна. Отроги поднимались острыми крутыми стенами рыхлой земли; иногда они внезапно обрушивались при прохождении отряда поблизости, пугая слонов, шарахавшихся в сторону. Цвет размытой рыхлой почвы беспрестанно менялся: за стеной теплого красного тона вздымалась светло-бурая, затем шли пирамиды яркой солнечно-желтой окраски, перемежавшиеся с ослепительно белыми полосами и выступами. Пандиону казалось, что он попал в волшебное царство. В этих глубоких, сухих и безжизненных долинах скрывался целый мир игры ярких цветов мертвой природы.[205]
Потом опять потянулись хребты, поросшие лесом, опять зеленые стены обступили отряд, и платформа на спине слона казалась островом, медленно плывшим по океану листьев и веток.
Пандион замечал, как осторожно вели вожатые своих могучих животных. На стоянках они тщательно осматривали кожу слонов. Молодой эллин спросил своего вожатого, зачем он делает это. Чернокожий положил руку на сосуд из плода какого-то дерева, привязанный к его поясу.
— Плохо, если слон раздерет себе кожу или поранит себя, — сказал вожатый. — Тогда у него загнивает кровь, и животное гибнет. Нужно сразу же замазать рану целебной смолой — потому лекарство всегда наготове у нас.
Для молодого эллина странно было услышать о такой легкой уязвимости несокрушимых и долговечных гигантов. Ему сделалась понятной осторожность умных животных.
Уход за ними требовал массы забот. Место ночлега и отдыха выбиралось тщательно, после долгих осмотров и совещаний; привязанных слонов окружали бдительные часовые, бодрствовавшие всю ночь. Особые дозорные высылались далеко вперед, чтобы убедиться в отсутствии поблизости диких слонов. Встреченные животные распугивались громкими криками.
На привалах друзья беседовали со своими спутниками. Суровые повелители слонов удовлетворяли любопытство чужеземцев.
Однажды Пандион спросил у низкорослого пожилого человека, начальствовавшего в походе, почему они охотно идут на ловлю слонов, несмотря на страшную опасность.
Глубокие морщины вокруг рта начальника стали еще более резкими. Он нехотя ответил:
— Ты говоришь, как трус, хотя и не выглядишь им. Слоны — это мощь нашего народа. С ними мы живем хорошо, в довольстве. Но мы платим за это жизнями. Если бы мы боялись, то жили бы не лучше племен, питающихся ящерицами и корнями. Те, кто боится смерти, живут в голоде и злобе. Если ты знаешь, что в твоей смерти жизнь твоих родных, тогда идешь смело на любую опасность! Мой сын, храбрец, в цвете сил погиб на слоновой охоте… — Начальник похода угрюмо сощурил устремленные на Пандиона глаза. — Или вы, чужеземцы, думаете иначе? Зачем же ты сам прошел столько земель, сражался с людьми и зверями, а не остался в рабстве?
Пристыженный Пандион прекратил вопросы. Вдруг Кидого, сидевший поблизости у костра, поднялся и заковылял к рощице деревьев, стоявших в двухстах локтях от привала. Заходящее солнце золотило овальные большие листья, тонкие ветви слабо трепетали. Кидого внимательно осмотрел бугристую, неровную кору тонких стволов, радостно вскрикнул и вынул нож. Немного спустя негр вернулся к костру с двумя большими связками красновато-серой коры. Одну связку он поднес начальнику отряда.
— Передай ее вождю как прощальный подарок Кидого, — сказал негр. — Это лекарство не хуже волшебной травы из голубой степи. В час болезни, усталости или горя пусть он растолчет ее и выпьет отвара, только немного. Если пить много, это уже не лекарство, а яд. Кора эта возвращает силу старикам, веселит угнетенных, бодрит ослабевших. Заметь это дерево — будешь благодарен![206]
Начальник обрадовался, принимая подарок, и тут же приказал добыть еще коры. Кидого спрятал второй пучок в шкуру гишу, которую вез с собой Кави.
На следующий день слоны поднялись на каменистую равнину, где заросли высокого плотного кустарника, согнутые ветрами, склонялись к земле, образуя высокие зеленые горбы, разбросанные среди серой сухой травы.
Приятная свежесть проникала в ноздри с дуновением встречного ветра. Пандион встрепенулся. Знакомое, бесконечно дорогое и забытое было в этом запахе, но оно терялось среди ароматов, несшихся от разогретой листвы леса, видневшегося внизу. Далеко простирались широкие и пологие обнаженные склоны, их голубоватую поверхность пересекали темные полосы и пятна лесных чащ. На краю горизонта синела высокая горная цепь.
— Вот она, Тенгрела, моя страна! — неистово завопил Кидого, и все обернулись в его сторону.
Негр размахивал руками, всхлипывая и морща лицо, могучие плечи его тряслись от волнения. Пандион понимал переживания друга, но неопределенное чувство зависти больно укололо молодого эллина: Кидого достиг родины, а ему еще так много оставалось преодолеть до того великого часа, когда он, подобно другу, сможет закричать: “Вот моя родина!” Больной и усталый, Пандион все чаще терял уверенность в своих силах.
Опустив голову, юноша незаметно отвернулся: он не мог сейчас радоваться вместе с другом.
Слоны спускались по черному обнаженному склону вулканической почвы — на застывшей лаве не росло никаких деревьев. Дорогу пересек ровный уступ с разбросанными на нем маленькими озерами. Блестящие пятна воды, чистой, синей и глубокой, резко выделялись среди черных берегов. Пандион вздрогнул. Он вспомнил вдруг с необычайной живостью синие глаза Тессы, ее густые черные волосы. И здесь синие озерки как будто смотрели на него с немым укором, так, как если бы живая Тесса увидела его здесь. Пандион унесся мыслями в Энниаду, смутное и могучее нетерпение расправило его грудь; он придвинулся к другу и крепко обнял его. На черную руку Кидого легла жилистая смуглая рука Кави, и три друга сцепили свои ладони в твердом и радостном пожатии.
А слоны спускались все ниже — берега широкой долины встали с обеих сторон. Еще немного — и справа подошла вторая такая же долина. Слившиеся вместе ручьи образовали быструю речку, чем дальше, тем становившуюся более многоводной. Слоны некоторое время шли по левому берегу, у подножия разрушенных утесов. Скалы разошлись впереди, чистая вода речки с веселым журчаньем устремлялась под сень высоких деревьев, стоявших, как высокие зеленые арки, по обе стороны ее русла, достигавшего пятнадцати локтей ширины. Не доходя до деревьев, слоны остановились.
— Здесь, — сказал начальник. — Мы не пойдем дальше.
Три друга спустились со слонов, прощаясь со своими хозяевами. Отряд пересек реку. Друзья долго смотрели вслед серым гигантам, которые одолевали подъем на плоскую возвышенность к северу от реки. Невольный вздох сожаления вырвался у всех троих, когда могучие животные скрылись вдали. Этруск, негр и эллин развели сигнальный костер для шедших где-то позади товарищей.
— Пойдем искать тростник и деревья для постройки плотов, — предложил Кидого этруску. — Мы проплывем быстро остаток пути. Ты, хромой, ожидай у костра, береги ногу! — с грубой нежностью обратился негр к молодому эллину.
Пандион и Кави оставили Кидого на берегу реки, среди его родичей.
Запах близкого моря пьянил друзей, выросших на его берегу. Они оттолкнули свой плот и поплыли в левый рукав разветвленного устья. Скоро плот остановился — протока была занесена песком. Друзья выбрались на крутой берег, путаясь в высокой траве. Они перебрались через холмистую гряду; задыхаясь от волнения, спешно поднялись на прибрежный вал и замерли, не в силах говорить и дышать.
Их опьяняла бесконечная ширь океанского простора, тихий плеск волн потрясал, как гром. Кави и Пандион стояли по грудь в колючей траве. Высоко над их головами покачивались перистые верхушки пальм. Край зеленой подошвы холмов у полосы горящего под лучами солнца прибрежного песка казался почти черным. Золотой песок обрамляла движущаяся серебряная лента пены, за которой колыхались прозрачные зеленые волны. Еще дальше прямая черта обозначала границу прибрежных рифов. Она казалась ослепительно белой на фоне глубокой синевы открытого океана. По небу медленно плыли легкие пушистые хлопья редких облаков. У берега над песком стояли, наклонившись, пять пальм. Их длинные листья то широко распластывались в воздухе, то сгибались под порывами ветра, как крылья парящих над берегом растрепанных птиц с темно-коричневыми и золотистыми перьями. Листья пальм, будто отлитые из бронзы, заслоняли сверкающий простор океана. Их острые края вспыхивали каймой сверкающего огня — так сильно пробивалось сквозь них могучее солнце. Влажный ветер нес запах морской соли. Теплые струи ветра растекались по лицу и обнаженной груди Пандиона, как будто стремясь в его объятия после долгой разлуки.
Этруск и эллин медленно опустились на песок, прохладный, плотный и ровный, как пол родного жилища.
Отдохнув, они бросились в ласковое колыхание волн. Море приняло их, приветствуя легкими толчками. Пандион и Кави наслаждались запахом соленых брызг, прорезая руками сверкающие гребни, пока их заживающие раны не начали гореть от морской воды. Тогда два друга вышли на песок, упиваясь созерцанием океанской дали. Она простиралась перед ними синим мостом, где-то там, вдали, соединяющимся с водами родного моря; такие же волны накатывались сейчас на белые скалы берегов Эллады, на желтые кручи родины Кави.
Молодой эллин чувствовал, как слезы радостного волнения заливают его глаза; он не думал сейчас о громадном расстоянии, все еще стоявшем между ним и родиной. Здесь было море, а за морем ждала его Тесса, ждало все родное и ласковое, покинутое и заслоненное годами суровых испытаний, неисчислимыми стадиями тяжкого пути.
Лицом к морю стояли этруск и эллин на узкой полосе берега. А позади них высились могучие горы под покровом грозных лесов — край чужой земли, столько времени державшей их в плену палящих пустынь, степей, сухих плоскогорий, влажных и темных чащ, земли, взявшей от них годы жизни — все то, что могло бы быть отдано близким. Для освобождения потребовались годы героической борьбы, неслыханные усилия. Все это, отданное родине, принесло бы почет и славу.
Кави положил тяжелые руки на плечи Пандиону.
— Судьба наша теперь в собственных руках, Пандион! — воскликнул этруск. Страстный огонь горел в его обычно угрюмых темных глазах. — Нас двое: неужели мы не достигнем Зеленого моря после того, как пробились к берегу Великой Дуги? Нет, мы вернемся, мы будем опорой и нашим товарищам ливийцам, не искусным в мореходстве…
Пандион молча кивнул головой. Перед лицом моря он чувствовал непоколебимую уверенность в своих силах.
Голос Кидого пронесся над берегом. Встревоженный негр с толпой возбужденных сородичей и товарищей по походу разыскивал скрывшихся друзей. Пандиона и Кави повели обратно к реке, переправили на другой берег, а там их уже ждали несколько быков для перевоза раненых, груза и оружия.
Небольшой путь остался скитальцам. Обещание Кидого, данное под деревьями на берегу Нила, около умиравших товарищей после страшной битвы с носорогом, сбылось. Все девятнадцать бывших рабов нашли ласковый приют и отдых в огромном селении, поблизости от моря, на берегу большой, многоводной реки, протекавшей рядом с той, по которой приплыли они, расставшись с повелителями слонов.
Но особенно радостна была для Пандиона и Кави весть о том, что в прошлом году, после двадцатилетнего перерыва, сюда приплывали сыны ветра. Сынами ветра сородичи Кидого называли морских людей, издавна приходивших к берегам Южного Рога с севера за слоновой костью, золотом, целебными растениями и звериными кожами. Местные жители говорили, что по внешнему облику сыны ветра похожи на этруска и эллина, только их кожа смуглее и волосы более курчавы. В прошлом году приходили четыре черных корабля, повторившие пути отцов. Сыны ветра обещали приехать снова, как только окончится время бурь в море Туманов. По расчетам опытных людей, до прибытия кораблей оставалось около трех месяцев. Постройка собственного судна отняла бы больше времени, не говоря уже о том, что предстоящий путь был совершенно неведом. Пандиона и Кави беспокоила мысль, возьмут ли их морские люди на корабли с десятью товарищами, но Кидого, подмигивая и таинственно усмехаясь, уверял, что устроит это.
Оставалось только ждать, томясь неизвестностью. Сыны ветра могли опять не появляться еще двадцать лет. Этруск и эллин успокаивали себя тем, что если корабли не придут в назначенный срок, они примутся за постройку своего судна.
Возвращение Кидого явилось событием, отмеченным шумными празднествами. Пандион утомился от пиров. Ему надоели восхваления его доблести, он устал повторять рассказы о родной стране, о пережитых приключениях.
Само собой получилось, что Кидого, вечно окруженный родными и соплеменниками, увлеченный восхищением женщин, как-то отдалился от Пандиона и Кави. Друзья стали видеться реже, чем в шене и в далеком пути через Африку. Кидого шел в жизни уже собственной дорогой, не совпадавшей с дорогой своих друзей. Все товарищи Кидого по походу из родственных ему племен быстро рассеялись по разным местам. Остались только этруск, эллин и десять ливийцев, считавших, что от Пандиона и Кави зависит их возвращение на родину.
Все двенадцать чужеземцев поселились в просторном доме из высушенной на солнце твердой серо-зеленой глины. Кидого настоял, чтобы Кави и Пандион жили в красивой куполообразной хижине, стоявшей поблизости от его дома. После долгих лет скитаний Пандион мог снова отдыхать на собственном ложе. У этого народа не было в обычае спать на полу, на шкурах или на охапках травы. Сородичи Кидого изготовляли деревянные рамы на ножках, переплетенные сеткой из упругих стеблей, нежившие тело и особенно приятные для больной ноги Пандиона.
У эллина теперь было много свободного времени, и он посвящал его прогулкам к морю, где подолгу сидел один или вместе с Кави, слушая мерный рокот волн. Пандион испытывал неясную тревогу. Его несокрушимое здоровье поддалось невзгодам пути в непривычно жарком климате.
Пандион сильно переменился и сам сознавал это. Когда-то, окрыленный юностью и любовью, он смог оставить свою любимую, дом и родную страну, стремясь познакомиться с древним искусством, увидеть другие страны, узнать жизнь.
Теперь он был знаком с горькой тоской, он познал безрадостный плен, гнет отчаяния, отупляющий, тяжкий труд раба. И Пандион с беспокойством спрашивал себя, не ушла ли от него сила творческого вдохновения, способен ли он стать художником. Одновременно Пандион чувствовал: ему пришлось испытать и увидеть так много, что это не прошло бесследно, обогатило его великим опытом жизни, вереницей незабываемых впечатлений. Суровая правда жизни наполнила печалью его душу, но Пандион познал теперь дружбу и товарищество, силу братской помощи, единение с людьми чуждых племен. Так же твердо, как то, что после дня наступает ночь, он знал, что разные народы, разбросанные по просторам земли, по существу являются одной человеческой семьей, разъединенной только трудностями путей, разными языками и верованиями. Лучшие люди во всем этом множестве оказывались всегда похожими и понятными ему по своим стремлениям.
Пандион любил рассматривать свое копье — подарок отца навеки потерянной Ирумы, пронесенное им через леса и степи, не раз выручавшее его в смертельной опасности. Оно казалось ему символом мужской доблести, залогом человеческого бесстрашия в борьбе с природой, безраздельно владычествовавшей в жарких просторах Африки. Молодой эллин осторожно поглаживал длинное лезвие, прежде чем надеть на него чехол, сшитый руками Ирумы. Этот кусочек кожи с пестрой отделкой из шерсти — все, что осталось у него в память о милой, далекой и нежной девушке, которую он встретил на перепутье трудной дороги к родине. Может быть, этот чехол Ирума делала для него, мечтая о нем… Но не нужно думать об этом. Судьба беспощадно разделила их, иначе не могло быть… Но сердце болит, оно не подчиняется разуму… Пандион оборачивался к темным горам, заграждавшим пройденные им земли от лица океана. Вереница дней бесконечного похода медленно проплывала перед ним…
Он видел девушку у ствола дерева с цветами, как красные факелы… Сердце Пандиона начинало учащенно биться. Он ясно представлял блеск ее кожи, темной и нежной, ее лукавые, полные трепетного огня глаза… Круглое личико Ирумы с улыбкой, с легким и горячим дыханием приближалось к его лицу; он слышал ее голос.
Постепенно Пандион познакомился с жизнью веселого и добродушного народа Кидого. Рослые, с медным отливом черной кожи, все великолепного сложения, сородичи Кидого занимались главным образом земледелием. Они возделывали низкорослые пальмы с наполненными маслом плодами[207] и еще огромные травянистые растения с исполинскими листьями, веером расходившимися из пучков мягких стеблей.[208] Эти растения давали тяжелые гроздья длинных желтых, серповидно изогнутых плодов с нежным и ароматным сладким содержимым. Плодов собиралось громадное количество, и они составляли главную пищу народа Кидого. Пандиону они очень нравились. Плоды ели сырыми, вареными или поджаренными на масле. Местные жители занимались и охотой, добывая слоновую кость и шкуры, собирали волшебные, похожие на каштаны орехи, когда-то вылечившие Пандиона от его странной болезни, разводили рогатый скот и птицу.
Среди них были искусные мастера — строители, кузнецы и горшечники. Пандион любовался творениями многих художников, не уступавших по мастерству Кидого.
Большие дома, построенные из брусчатых камней, сырцового кирпича или вылепленные целиком из твердой глины, были украшены сложным и красивым орнаментом, четко вырезанным на поверхности стен. Иногда стены расписывались красочными фресками, напоминавшими Пандиону росписи древних развалин Крита. На глиняных сосудах красивой формы он видел изящную, исполненную с тонким вкусом разрисовку. Множество деревянных раскрашенных статуй встречалось в больших зданиях общественных собраний и домах вождей. Скульптурные изображения людей и зверей восхищали Пандиона верностью переданного впечатления, удачно схваченными характерными чертами.
Но, по мнению Пандиона, скульптуре народа Кидого не хватало глубокого понимания формы. Его не было и у мастеров Айгюптоса. Скульптуры Та-Кем застывали в мертвых, недвижимых позах, несмотря на выработанную веками тонкость исполнения и изящество отделки. Ваятели народа Кидого, наоборот, создавали острое впечатление живого, но только в каких-то отдельных, намеренно подчеркнутых подробностях. И молодой эллин, размышляя над произведениями местных жителей, начал смутно ощущать, что путь к совершенству скульптуры должен быть каким-то совсем новым — не в слепом старании передать природу и не в попытках отразить отдельные впечатления.
Народ Кидого любил музыку, играл на сложных инструментах из длинных рядов деревянных дощечек, соединенных с продолговатыми пустыми тыквами. Некоторые грустные, широко и мягко разливавшиеся песни волновали Пандиона, напоминая ему песни родины…
Этруск сидел у потухшего очага около хижины, жевал подбодряющие листья[209] и задумчиво ворошил палочкой горячий пепел, в котором пеклись желтые плоды. Кави научился приготовлять из желтых плодов муку для лепешек.
Пандион вышел из хижины, подсел к другу.
Мягкий вечерний свет ложился на пыльные тропинки, замирал в неподвижных ветвях тенистых деревьев.
— Загадка для меня этот народ, — задумчиво заговорил этруск, сплевывая на сторону жгучий сок. — Тут есть великая тайна, и я не могу ее постигнуть.
— Какая тайна? — рассеянно спросил Пандион.
— Тайна в сходстве этого народа с моим. Разве ты не заметил?
— Не заметил, — сознался эллин. — Люди эти вовсе на тебя не похожи…
— Я сказал не о внешнем сходстве, ты не понял. Их постройки почти такие же, как у моего народа, их верховный бог — бог молнии, как у нас, да ведь и у тебя тоже! Песни народа Кидого напоминают мне те, которые я сам певал в молодости… Как это может быть? Что общего у нас с чернокожим народом, живущим так далеко на жарком юге? Или когда-то их и мои предки жили по соседству?
Пандион хотел ответить, что его давно занимала мысль о родстве народов Африки с обитателями Великого Зеленого моря, но тут его внимание привлекла проходившая мимо женщина. Он заметил ее еще в первые дни прибытия в город Кидого, но с тех пор как-то не встречался с ней. Она была женой одного из родичей Кидого, и звали ее Ньора. Ньора выделялась красотой даже среди своих красивых соплеменниц. Сейчас она медленно шла мимо с достоинством, которое отмечает женщин, сознающих свою красоту. Молодой эллин с восторгом рассматривал ее… Жажда творчества вдруг вспыхнула в нем с прежней силой.
Кусок зеленовато-синей ткани туго обертывал бедра Ньоры. Нитка голубых бус, тяжелые сердцевидные серьги и узкая золотая проволока на запястье левой руки составляли все убранство юной женщины. Большие глаза спокойно смотрели из-под густых ресниц. Короткие волосы, собранные на темени и замысловато сплетенные, удлиняли голову. Скулы выступали под глазами округлыми холмиками, как это встречалось у здоровых и упитанных детей эллинов.
Гладкая черная кожа, такая упругая, что тело казалось железным, блестела в лучах солнца, и ее медный отлив приобретал золотой оттенок. Удлиненная шея чуть-чуть наклонялась вперед и горделиво поддерживала голову.
Высокое, гибкое тело было безупречно по своим линиям, необычайной плавности и сдержанности движений.
Пандиону показалось, что в лице Ньоры перед ним предстала одна из трех Харит[210] — богинь, по его верованиям, оживлявших красоту и наделявших ее непобедимой привлекательностью.
Палочка этруска вдруг стукнула по голове Пандиона.
— Ты почему не побежал за ней? — с шутливой досадой спросил этруск. — Вы, эллины, готовы любоваться каждой женщиной…
Пандион посмотрел на друга без гнева, но так, как будто бы увидел его в первый раз, и порывисто обнял этруска за плечи.
— Слушай, Кави, ты не любишь говорить о своем… Тебя разве совсем не трогают женщины? Ты не чувствуешь, как они прекрасны? Разве для тебя они не часть всего этого, — Пандион описал рукою круг, — моря, солнца, прекрасного мира?
— Нет, когда я вижу что-нибудь красивое, мне хочется его съесть! — рассмеялся этруск. — Я шучу, — продолжал он серьезно. — Помни, что я вдвое старше тебя и за светлой стороной мира для меня виднее другая — темная, безобразная. Ты уже забыл о Та-Кем, — Кави провел пальцами по красному клейму на плече Пандиона, — а я ничего не забываю. Но я завидую тебе: ты будешь создавать красивое, я же могу только разрушать в борьбе с темными силами. — Кави помолчал и дрогнувшим голосом закончил: — Ты мало думаешь о своих близких там, на родине… Я не видал столько лет своих детей, мне неизвестно даже, живы ли они, существует ли весь мой род. Кто знает, что там, среди враждебных племен…
Тоска, зазвучавшая в тоне всегда сдержанного этруска, наполнила Пандиона сочувствием. Но как он мог утешить друга? Слова этруска в то же время больно укололи его: “Ты мало думаешь о своих близких там, на родине…” Если Кави мог сказать ему так… Нет, разве мало значили для него Тесса, дед, Агенор? Но тогда он должен был сделаться подобным хмурому Кави, тогда он не впитал бы в себя великого разнообразия жизни — как же научился бы он понимать красоту?.. Пандион запутался в противоречиях и не смог разобраться в самом себе. Он вскочил и предложил этруску пойти выкупаться. Тот согласился, и оба друга направились через холмы, за которыми в пяти тысячах локтей от селения плескался океан.
За несколько дней до этого Кидого собрал молодых мужчин и юношей племени. Негр сказал сородичам, что, кроме копья и кусков ткани на бедрах, его товарищи, ожидающие кораблей, ничего не имеют, а сыны ветра не возьмут их на корабли без платы.
— Если каждый из вас, — сказал Кидого, — согласится помочь самым малым, то чужеземные друзья смогут вернуться к себе домой. Они помогли мне вырваться из плена и снова увидеть всех вас.
Ободренный общим согласием, Кидого предложил пойти с ним на золотоносное плоскогорье, а тем, кто не сможет, — пожертвовать слоновую кость или орехи, кожу или ствол ценного дерева.
На следующий день Кидого объявил друзьям, что отправляется на охоту, и отказался взять их с собой, уговаривая беречь силы для предстоящего пути.
Товарищи Кидого по походу так и не узнали об истинных целях предприятия. Хотя мысли о плате за проезд не раз беспокоили их, они надеялись, что таинственные сыны ветра возьмут их в качестве гребцов. Пандион еще втайне предполагал использовать камни юга — подарок старого вождя. Кави, также не говоря ничего Кидого, через два дня после ухода чернокожего друга собрал ливийцев и отправился вверх по реке, надеясь найти поблизости черное дерево,[211] срубить несколько стволов и сплавить до селения тяжелые, тонувшие в воде бревна на плотах из легкой древесины.
Пандион все еще хромал, и Кави оставил его в селении, несмотря на протесты. Пандион негодовал: второй раз уже товарищи бросали его одного, как тогда, во время охоты за жирафами. Кави, надменно выпятив бороду, заявил, что тогда он не потерял времени даром и теперь снова может повторить прежнее. Онемевший от бешенства, молодой эллин ринулся прочь с обидой в сердце. Этруск догнал его и, хлопая по спине, просил прощения, но твердо стоял на своем, убеждая друга в необходимости совсем поправиться.
В конце концов Пандион согласился, с горечью ощущая себя жалким калекой, и поспешно скрылся в хижине, чтобы не присутствовать при уходе своих здоровых товарищей.
Оставшись в одиночестве, Пандион еще острее почувствовал необходимость испытать свои силы после удачного опыта со статуей учителя слонов. За последние годы он видел столько смертей и разрушений, что не хотел браться за непрочную глину, стремясь создать произведение из крепкого материала. Такого материала у Пандиона не было. Даже если бы он оказался в его руках, все равно отсутствовали необходимые для обработки инструменты.
Пандион часто любовался камнем Яхмоса, приведшим его в конце концов к морю, как наивно верил Кидого, склонный признавать могущество волшебных вещей.
Прозрачная ясность твердого камня навела Пандиона на мысль вырезать гемму. Правда, камень был тверже употреблявшихся для этой цели в Элладе. Они там обрабатывались наждаком с острова Наксоса.[212] Вдруг эллин вспомнил, что у него, если верить старому вождю повелителей слонов, были камни, твердостью превосходившие все вещи мира.
Пандион достал самый маленький из подаренных ему камней юга и осторожно провел острой гранью по краю голубовато-зеленого кристалла. На неподатливой гладкой поверхности осталась белая черта. Молодой эллин нажал сильнее. Камень прорезал глубокую канавку, точно резец из черной бронзы на куске мягкого мрамора. Необыкновенная сила прозрачных камней юга действительно превосходила все, известное до сих пор Пандиону. В его руках были волшебные резцы, делавшие легкой задачу.
Пандион разбил маленький камень, тщательно собрал все острые осколки и вставил их при помощи твердой смолы в деревянные палочки. Теперь у него был десяток резцов разной толщины — и для грубой отделки, и для самых тонких штрихов. Что же изобразит он на прекрасном голубовато-зеленом кристалле, добытом Яхмосом в развалинах тысячелетнего храма и донесенном в целости до моря, символом которого он так долго служил в душном плену земли? Смутные образы проносились в голове Пандиона.
Молодой эллин ушел из селения и бродил в одиночестве, пока не очутился у моря. Он долго сидел на камне, то устремляя взор вдаль, то следя за тонким слоем прозрачной воды, подбегавшей к его ногам. Наступил вечер, короткие сумерки уничтожили блеск моря, движение волн сделалось незаметным. Все непрогляднее становилась бархатно-черная ночь, но вместе с тем в небе загоралось все больше ярких звезд, и опять небесные огоньки, закачавшись в волнах, оживили застывшее море. Запрокинув голову в небо, молодой эллин ловил очертания незнакомых созвездий. Дуга Млечного Пути перекидывалась таким же, как и на родине, серебряным мостом через весь небосвод, но она была более узкой. Один ее конец был глубоко расщеплен и разбит на отдельные пятна между широкими темными полосами. В стороне и ниже горели голубовато-белым светом два туманных звездных облака.[213] Около них отчетливо выделялось большое, непроницаемо черное пятно грушевидной формы, точно кусок угля заслонял в этом месте все звезды.[214] Ничего похожего не видел Пандион в родном небе севера. Контраст между черным пятном и белыми облаками внезапно поразил его. Молодой эллин увидел в нем вдруг самую сущность южной страны. Черное и белое во всей прямоте и четкой грубости этого сочетания — вот что составляло душу Африки, ее лицо, такое, каким Пандион сейчас почувствовал его. Черные и белые полосы необыкновенных лошадей, черная кожа туземцев, раскрашенная белой краской и оттенявшая белые зубы и белки глаз, изделия из черной и жемчужно-белой древесины, черные и белые колонны древесных стволов в лесах, свет степей и мрак лесных трущоб, черные скалы с белыми полосами кварца и многое такое же пронеслось перед глазами Пандиона.
Совсем другое было на родине — на бедных и каменистых берегах Зеленого моря. Река жизни там не катилась буйным потоком, не сталкивались столь обнаженно черные и белые ее стороны.
Пандион встал. Необъятный океан, на другой стороне которого была его Энниада, отделил молодого эллина от Африки. Позади осталась страна, в душе уже покинутая им, угрюмо заслонившаяся ночными тенями гор. Впереди по волнам перебегали отражения звездных огней, и море сливалось там, на севере, с родной Элладой, и Тесса была на его берегу. Ради возвращения на родину, ради Тессы он боролся и шел сквозь кровь, пески, зной и мрак, бесчисленные опасности от зверей и людей.
Тесса, далекая, любимая и недоступная, стала совсем как те туманные звезды над морем, где северный Ковш окунулся краем за горизонт.
И тут явилось решение: он создаст на камне — твердом символе моря — Тессу, стоящую на берегу.
Пандион с яростью сжал в сильных пальцах резец, и крепкая палочка переломилась. Уже несколько дней он склонялся над камнем Яхмоса с бьющимся сердцем, обуздывая волей творческое нетерпение, то уверенно прочеркивая длинные линии, то с бесконечной осторожностью срезая мельчайшие крупинки. Изображение становилось все более явственным. Голова Тессы удалась ему — в своем гордом повороте она виделась ему и теперь так же отчетливо, как в час прощания на берегу Ахелоева мыса. Он врезал ее в прозрачную глубину камня, и теперь она выпукло проступала матовой голубизной среди зеркально-гладкой поверхности. Завитки волос легкими, свободными штрихами ложились на намеченную четкой дугой округлость плеча, но дальше… дальше Пандион неожиданно утратил весь подъем своего вдохновения. Молодой художник, как никогда уверенный в себе, сразу очертил глубокой канавкой тонкий контур тела девушки, и точное изящество линий подтвердило успех его работы. Пандион сточил окружающую поверхность, чтобы выделить фигуру. Тут он внезапно понял, что изобразил вовсе не Тессу. В линиях бедер, колен и груди проступило и ожило тело Ирумы, а отдельные штрихи, несомненно, принадлежали последнему впечатлению от красоты Ньоры. Фигура Тессы не была телом эллинской девушки — у Пандиона получился отвлеченный образ, в котором отражалась красота африканских женщин. Но Пандион хотел добиться другого — изобразить живую и любимую Тессу. Напрягая память, он пытался снять налет впечатлений последних лет, пока не убедился, что новое проступало еще ярче.
Скоро Пандион сообразил, что передача живого опять не удается ему. Пока фигурка была только намечена, легкие линии жили. Едва художник пытался перевести плоское изображение в выпуклое, живое тело окаменевало, становилось холодным и застывшим. Да, он не постиг тайны искусства. И это его произведение не будет живым! Ему не удастся совершить задуманное!
Сломав резец от волнения, Пандион взял камень и стал рассматривать его с расстояния вытянутой руки. Да, он не может создать образ Тессы, и прекрасная гемма не будет окончена.
Сквозь прозрачный камень проникали лучи солнца, наполняя его золотистым оттенком родного моря. Пандион оставил нетронутым гладкое поле большой грани кристалла и вырезал фигурку девушки справа, у самого края. В камне, как на берегу моря, стояла девушка с лицом Тессы, но Тессой она не была. Вдохновение, с которым трудился Пандион над камнем от рассвета до заката, с нетерпением ожидая каждого следующего дня, покинуло его. Пандион спрятал камень, собрал резцы и разогнул наболевшую спину. Горе поражения ослаблялось сознанием, что он все же может создать прекрасное… но оно было убогим в сравнении с живым!
Увлеченный работой, Пандион перестал ожидать возвращения товарищей и только сейчас вспомнил о них. Как бы в ответ на мысли Пандиона к нему подбежал мальчик.
— Густобородый приехал, он зовет тебя к реке! — сообщил посланец Кави, гордый данным ему поручением.
То, что этруск остался на реке и звал его туда, обеспокоило Пандиона. Он поспешил к берегу по тропинке, извивавшейся среди колючих кустов. Издалека он заметил на песчаном откосе группу товарищей, стоявших кольцом вокруг связки стеблей тростника. На тростнике вытянулось человеческое тело. Пандион неловко побежал, стараясь не ступать на еще слабую ногу, и вошел в молчаливый круг товарищей по походу. Он узнал в лежащем молодого ливийца Такела, участника побега через пустыню. Молодой эллин встал на колени над телом товарища. Перед глазами Пандиона возникло душное ущелье между склонами песчаных гор, где он плелся, полумертвый от жажды. Такел был в числе тех, которые во главе с умершим Ахми принесли ему навстречу воду от источника. Только перед трупом Такела Пандиону стало ясно, как дорог и близок ему каждый из товарищей по мятежу и походу. Он сроднился с ними и не мыслил своего существования отдельно от них. Пандион мог неделями не общаться с товарищами, когда знал, что они поблизости, в покое и безопасности и заняты своими делами, а сейчас утрата ошеломила его. Не поднимаясь с колен, он бросил на этруска вопрошающий взгляд.
— Такела укусила змея в зарослях, — печально сказал Кави, — где мы бродили в поисках черного дерева. Мы не знали лекарства… — Этруск тяжело вздохнул. — Мы бросили все и приплыли сюда. Когда мы вынесли его на берег, Такел уже умирал. Я позвал тебя проститься с ним… Поздно… — Кави не договорил, сжимая руки; он поник головой.
Пандион встал. Смерть Такела казалась такой несправедливой и нелепой: не в славном сражении, не в бою со зверем — здесь, в мирном селении, у моря, сулившего возвращение после всех совершенных им доблестных подвигов, стойкого мужества в длинном пути. Это было особенно больно молодому эллину. Слезы навернулись на глаза, и он, чтобы справиться с собой, устремил взгляд на реку. По сторонам песчаной отмели высились густые заросли, заграждавшие речной простор зеленой стеной. Бугор светлого песка находился как бы в широких воротах. На опушке росли белые деревья, корявые и узловатые, с мелкими листьями. Все ветви этих деревьев были одеты пушистыми лентами ярко-красных цветов,[215] плоские перистые скопления которых казались полосами из поперечных коротких черточек, нанизанных на тонкие стебли, то сгибавшиеся вниз, то торчавшие прямо вверх, к небу. Цветы отливали багрянцем, а белые деревья горели в зеленых воротах, как погребальные факелы у врат Аида,[216] куда уже направляла свой путь душа умершего Такела. Медленно катилась мутная оловянная вода реки, испещренная отмелями желтых песков. Сотни крокодилов лежали на песке. На ближайшей к Пандиону косе несколько огромных ящеров во сне раскрыли широкие пасти, казавшиеся на солнце черными пятнами, окаймленными белыми клиньями страшных зубов. Тела крокодилов широко расплывались на песке, как бы расплющенные собственным весом. Продольные складки чешуйчатой кожи брюха обтекали плоские спины, усаженные рядами шипов, более светлых, чем черновато-зеленые промежутки между ними. Лапы с нелепо вывернутыми наружу суставами уродливо раскидывались в стороны. Иногда какой-нибудь из ящеров пошевеливал гребнистым хвостом, толкая другого, и тот, потревоженный во сне, захлопывал свою пасть с разносившимся по реке стуком.
Товарищи подняли умершего и молча понесли его в селение под тревожными взглядами сбежавшихся жителей. Пандион шел сзади, отдельно от Кави. Этруск считал себя виновным в гибели ливийца, так как затея с добычей черного дерева принадлежала ему. Кави шагал сбоку печальной процессии, кусал губы и теребил бороду.
Пандиона мучила совесть: он тоже чувствовал себя виноватым. Нехорошо было, что он вдохновился изображением любимой девушки, когда ему нужно было создать произведение в память боевой дружбы разных людей, прошедших все испытания, верных перед лицом смерти, голода и жажды, в тоскливых днях тяжкого похода. “Как могла эта мысль не прийти мне прежде всего?” — спрашивал себя молодой эллин. Неспроста его постигла неудача — боги покарали его за неблагодарность… Так пусть сегодняшнее горе научит видеть лучше…
Низкие лилово-серые облака грузно вползали на небесный свод; как стадо буйволов, сбивались в плотную массу. Слышались глухие раскаты. Надвигался ливень, люди поспешно втаскивали в хижины разбросанные вокруг вещи.
Едва Кави и Пандион успели укрыться в своем жилище, как в небе опрокинулась исполинская чаша, рев падавшей воды заглушил грохот грома. Ливень кончился быстро, как всегда; терпко пахли растения в посвежевшем, влажном воздухе, слабо журчали бесчисленные ручейки, стекавшие к реке и к морю. Мокрые деревья глухо шумели под ветром. Их шум был суров и печален, он ничем не напоминал быстрого шелеста листвы в сухие, погожие дни. Кави прислушался к голосу деревьев и неожиданно сказал:
— Я не прощаю себе смерти Такела. Виноват я: мы пошли без опытного проводника, мы чужие в этой стране, где беспечность означает гибель. И что же? У нас нет черного дерева, а один из лучших товарищей лежит под грудой камней на берегу… Дорогая цена моей глупости… И я не решаюсь теперь идти снова. Платить сынам ветра нам нечем…
Пандион молча достал из своего мешочка горсть сверкающих камней и положил их перед этруском. Кави одобрительно закивал головой, затем внезапное сомнение отразилось на его лице:
— Если им неизвестна цена этих камней, сыны ветра могут отказаться взять их. Кто слышал о таких камнях в наших землях? Кто купит их как драгоценности? Хотя… — Этруск задумался.
Пандион испугался. Простая догадка Кави не приходила ему раньше в голову. Он упустил из виду, что камни в глазах купцов могут оказаться нестоящими. Смятение и страх за будущее заставили задрожать его протянутую к камням руку. Этруск, читая по лицу тревогу друга, заговорил снова:
— Хотя я слыхал когда-то, что прозрачные камни особенной твердости провозились иногда на Кипр и в Карию с далекого востока и очень дорого ценились. Может быть, сыны ветра знают их?..
Наутро после разговора с Кави Пандион пошел по тропинке к подножию гор, где росли травянистые растения с желтыми плодами. Подходил срок возвращения Кидого. Друзья нетерпеливо ждали его. Этруск и эллин хотели посоветоваться с ним, как добыть что-либо ценное для сынов ветра. Сомнения этруска разрушили уверенность Пандиона в ценности камней юга, и теперь молодой эллин не находил покоя. Невольно Пандион направлялся к горам в смутной надежде встретить отряд чернокожего друга. Помимо всего, ему хотелось побыть наедине, чтобы обдумать новое произведение, все яснее намечавшееся в его уме. Пандион неслышно ступал по крепкой, плотно утрамбованной земле тропинки. Он больше не хромал, к нему вернулась прежняя легкость походки. Попадавшиеся навстречу местные жители, нагруженные гроздьями желтых плодов, дружелюбно обнажали свои белые зубы или приветливо помахивали сорванными листьями. Тропа завернула налево. Пандион шел между двумя сплошными стенами сочной зелени, наполненной золотым сиянием солнечного света. В его горячем блеске плавно двигалась женщина. Пандион узнал Ньору. Она выбирала из свисавших гроздьев самые зеленые плоды и складывала их в высокую плетеную корзину. Пандион отступил в тень огромных листьев; чувство художника отодвинуло все другие мысли. Юная женщина переходила от одной грозди к другой, гибко склоняясь к корзине, и опять поднималась на кончики пальцев, вытянувшись всем телом, с руками, протянутыми к высоко висящим плодам. Золотые переливы солнца поблескивали на ее гладкой черной коже, оттененной свежей и яркой зеленью. Ньора слегка подпрыгнула и, вся изогнувшись, протянула руки в чащу бархатистых листьев. Увлекшийся Пандион зацепил за сухой стебель — в глубокой тишине раздался громкий шорох. Молодая женщина мгновенно обернулась и застыла. Ньора узнала Пандиона; напрягшееся струной тело ее вновь стало спокойным, она перевела дыхание и улыбнулась молодому эллину. Но Пандион не заметил ничего этого. Крик восторга вырвался из его груди, широко раскрывшиеся золотистые глаза смотрели на Ньору, не видя ее; рот приоткрылся в слабой улыбке. Смущенная женщина отступила. Чужеземец вдруг повернулся и бросился прочь, восклицая что-то на непонятном для нее языке.
Внезапно Пандион сделал великое открытие. Молодой эллин все время бессознательно и неуклонно шел к нему, все неотвязные думы, бесконечные размышления бродили около этого открытия. Он не нашел бы его, если бы не видел так много, не сравнивал бы и не нащупывал собственного нового пути. В живом неподвижности быть не может! В живом и прекрасном теле нет никогда мертвой неподвижности, есть только покой, то есть мгновение остановки движения, закончившегося и готового смениться другим, противоположным. Если схватить это мгновение и отразить его в неподвижном камне, тогда мертвое оживет.
Вот что увидел Пандион в замершей от испуга Ньоре, когда она застыла, как статуя из черного металла. Молодой эллин уединился на небольшой поляне под деревом. Если бы кто-нибудь заглянул туда, то, несомненно, убедился бы в сумасшествии Пандиона: он делал резкие движения, сгибая и разгибая то руку, то ногу, и тщательно следил за ними, скривив шею и мучительно перекашивая глаза. Молодой эллин вернулся домой только к вечеру, возбужденный, с лихорадочным блеском глаз. Он заставил Кави, к великому удивлению этруска, стоять перед собой, идти и останавливаться по команде. Этруск сначала терпеливо сносил причуду друга, наконец это ему надоело, и он, хлопнув себя по лбу, решительно уселся на землю. Но Пандион и тут не оставил Кави в покое — он разглядывал его, заходил то справа, то слева, пока этруск не разразился бранью и, объявив, что Пандион схватил лихорадку, пригрозил связать эллина и водворить на ложе.
— Пошел к воронам! — весело закричал Пандион. — Я завью тебя винтом, как рог белой антилопы!
Кави еще не видел, чтобы его друг так ребячился. Он был рад этому, так как давно замечал душевное угнетение молодого эллина. Ворча, этруск слегка ударил Пандиона, и тот, вдруг смирившись, заявил, что неимоверно голоден. Оба друга уселись за ужин, и Пандион попытался объяснить этруску свое великое открытие. Вопреки ожиданию, Кави очень заинтересовался и долго расспрашивал Пандиона, стараясь вникнуть в сущность затруднений, стоящих перед скульптором при попытках воссоздать живую форму.
Этруск и эллин засиделись допоздна и заканчивали беседу в темноте.
Вдруг что-то заслонило проблеск звездного света в отверстии входа, и голос Кидого заставил их радостно вздрогнуть. Негр внезапно возвратился и сразу же решил проведать друзей. На вопрос, была ли удачна охота, Кидого отвечал неопределенно, ссылаясь на усталость, и обещал завтра показать трофеи. Кави и Пандион рассказали ему о смерти Такела и о походе Кави за черным деревом. Кидого страшно разъярился, кричал про оскорбление его гостеприимства, даже назвал этруска старой гиеной. В конце концов негр утих: печаль о погибшем товарище взяла верх над гневом. Тогда этруск и эллин рассказали ему о своих тревогах по поводу платы сынам ветра и просили совета. Кидого отнесся к их беспокойству с величайшим равнодушием и ушел, так и не ответив на их вопросы.
Обескураженные друзья решили, что странное поведение Кидого вызвано печалью из-за гибели ливийца. Оба долго ворочались на своих ложах в молчаливом раздумье.
Кидого явился к ним поздно, с печатью хитрого лукавства на добродушном лице. Он привел с собой всех ливийцев и целую толпу молодых мужчин. Сородичи Кидого подмигивали недоумевающим чужеземцам, громко хохотали, перешептывались и перекрикивались обрывками непонятных фраз. Они намекали на колдовство, будто бы свойственное их народу, уверяя, что Кидого умеет превращать простые палки в черное дерево и слоновую кость, а речной песок — в золото. Всю эту чепуху чужеземцы слушали по дороге к дому черного друга. Кидого подвел их к небольшой кладовой. Она отличалась от других простых хижин меньшими размерами и наличием двери, подпертой громадным камнем. Кидого с помощью нескольких человек отвалил камень, молодежь стала по обе стороны распахнувшейся двери. Кидого, согнувшись, вошел в кладовую и поманил товарищей за собой. Кави, Пандион и ливийцы, ничего еще не понимая, молча стояли в полумраке, пока их глаза не привыкли к слабому свету из кольцевой щели между навесом конической крыши и верхним краем глинобитной стены. Тогда они увидели несколько толстых черных бревен, груду слоновых клыков и пять высоких открытых корзин, доверху насыпанных целебными орехами. Кидого, внимательно следя за лицами товарищей, громко сказал:
— Это все ваше! Это собрал вам мой народ на легкий и счастливый путь! Сыны ветра должны взять с собою два десятка людей, а не один за такую цену…
— Твой народ дарит нам столько… за что?! — воскликнул потрясенный Кави.
— За то, что вы хорошие люди, храбрые люди, за то, что вы совершили столько подвигов, за то, что вы мои друзья и помогли мне вернуться, — стараясь казаться невозмутимым, перечислял Кидого. — Но подождите, это не все!
Негр шагнул в сторону, сунул руку между корзинами и вытащил мешочек из крепкой кожи размером не меньше головы человека.
— Возьми! — Кидого протянул мешочек Кави.
Этруск, подставивший ладони, согнулся от неожиданной тяжести и едва не выронил мешок. Негр оглушительно захохотал и заплясал от восторга.
Громкий, веселый смех молодежи вторил ему за стенами кладовой.
— Что это? — спросил Кави, продолжая прижимать к себе тяжелый мешочек.
— Ты спрашиваешь, мудрый старый воин, — веселился Кидого, — точно не знаешь, что в мире имеет такую тяжесть одна лишь вещь!
— Золото! — воскликнул этруск на своем языке, но негр понял.
— Да, золото, — подтвердил он.
— Где же ты взял столько? — вмешался Пандион, ощупывая туго набитый мешочек.
— Вместо охоты мы ходили на золотоносное плоскогорье. Восемь дней мы перекапывали там песок и промывали его в воде… — Негр помолчал, потом закончил: — Сыны ветра не довезут вас до родины. Там, на вашем море, всем вам предстоят разные дороги, и каждый сможет добраться до своего дома. Разделите золото и спрячьте хорошо, так, чтобы не видели сыны ветра в пути.
— Кто еще был с тобой на этой “охоте”? — быстро спросил этруск.
— Вот все они. — Негр показал на сгрудившихся у входа юношей.
Радостные, растроганные до слез друзья бросились к неграм со словами благодарности. А те смущенно переминались с ноги на ногу и понемногу исчезали за домом.
Товарищи вышли из кладовой, завалили дверь камнем. Кидого внезапно стал молчалив, веселость его исчезла. Пандион привлек к себе черного друга, но тот высвободился из его объятий, положил эллину руки на плечи и долго смотрел в его золотистые глаза.
— Как я расстанусь с тобой, Кидого! — против воли вырвалось у Пандиона.
Пальцы негра впились в его плечи.
— Бог молнии видит, — сдавленно произнес Кидого, — я отдал бы все золото плоскогорья, отдал бы все, что у меня есть, до последнего копья, за то, чтобы ты согласился жить со мной навсегда… — Лицо негра исказилось, он закрыл глаза руками. — Но я даже не прошу тебя… — Голос Кидого дрожал, прерываясь. — В плену я узнал, что такое родина… Я понимаю, ты не можешь остаться… и я, вот видишь, сам стараюсь, чтобы ты уехал… — Негр внезапно отпустил Пандиона и бросился к дому.
Молодой эллин смотрел вслед другу, и слезы туманили его взор. Этруск тяжело вздохнул за спиной Пандиона.
— Придет время — и мы с тобой разойдемся, — тихо и печально сказал Кави.
— Наши с тобой дома не так уж далеко, и корабли плавают там часто, — сказал, повернувшись к нему, Пандион. — А Кидого… останется здесь, на краю Ойкумены…
Этруск ничего не ответил.
Успокоившись за будущее, Пандион весь отдался творчеству. Он торопился — величие обретенной в борьбе за свободу дружбы вдохновляло его и заставляло спешить. Он заранее видел все подробности геммы.
Три человека должны были стоять, обнявшись, на фоне моря, к которому они стремились, моря, возвращавшего их на родину.
Пандион решил изобразить на большой плоской грани своего камня троих друзей — Кидого, Кави и себя в сверкающем, прозрачном свете морской дали, которую как нельзя лучше олицетворял собою голубовато-зеленый кристалл.
Молодой скульптор начертил несколько набросков на тонких пластинках слоновой кости, употреблявшихся женщинами племени для растирания каких-то мазей. Сделанное им открытие принуждало его постоянно видеть перед глазами живые тела, но это не составляло затруднения. Этруск и так был с ним все время, а Кидого, предчувствуя близкий приход кораблей сынов ветра, оставил свои дела и был неразлучен с друзьями.
Часто Пандион заставлял этруска и негра стоять перед ним, обнявшись, и те, посмеиваясь, исполняли просьбу.
Друзья подолгу беседовали, поверяя все свои сокровенные мысли, тревоги и планы, а в глубине души каждого острым гвоздем сидела мысль о неизбежности расставания.
Пандион, разговаривая, не терял времени даром и упорно резал твердый камень. Иногда скульптор замолкал, взгляд его становился острым и пронизывающим — эллин ловил в чертах друзей какую-то важную для него подробность.
Все выпуклее и живее становились три обнявшиеся мужские фигуры. В центре можно было узнать огромного Кидого, справа от него, слегка повернувшись к оставшемуся кусочку гладкой грани, стоял Пандион, а слева — этруск, оба с копьями в руках. Кави и Кидого находили большое сходство с собою, но уверяли Пандиона, что он плохо изобразил себя. Скульптор, улыбаясь, отвечал, что это не важно.
Фигуры друзей, несмотря на маленькие размеры, были совершенно живыми, подлинное мастерство проступало в каждой подробности. Повороты тел были сильны, резки и в то же время изящно сдержанны. В руках Кидого, широко раскинутых на плечах этруска и эллина, Пандиону удалось выразить движение защиты и братской нежности. Кави и Пандион стояли с внимательно, почти угрожающе наклоненными головами, исполненные напряженной бдительности мощных воинов, готовых уверенно отразить любого врага. Именно это впечатление великолепной мощи и уверенности создавала вся группа, и Пандион старался выразить в своем произведении все лучшее, что было в людях, ставших ему дорогими по пути из рабства на родину. Скульптор понял, что ему наконец удалось создать настоящее произведение искусства. Кидого и Кави перестали подтрунивать над Пандионом. Затаив дыхание, они часами следили за движениями волшебного резца, и смутное преклонение перед мастерством художника определяло их теперешнее отношение к Пандиону. Их молодой друг, смелый, веселый и даже ребячливый, подчас забавный своим восторгом перед женщинами, оказался великим художником! Это одновременно и радовало и удивляло Кидого и Кави.
А Пандион вкладывал всю любовь к товарищам в порыв своего творчества. Теперь первоначальная идея вырезать на камне Тессу не привлекала его больше. Тесса, Ирума и Ньора, принадлежавшие к разным народам, были сестрами по красоте, у всех трех обладавшей одинаково притягательной силой… Но были ли они сестрами во всем остальном — этого Пандион не знал. Могла ли бы Тесса так сродниться с Ньорой, как он с Кидого? А в дружбе Пандиона с Кидого и Кави, в товариществе со всеми другими бывшими рабами, которых осталось здесь уже так немного, было братство единых помыслов и стремлений, спаянное крепче камня верностью и мужеством. Да, они настоящие братья, хотя одного носила такая же черная, как он сам, мать, здесь, под странными деревьями юга, другой лежал в колыбели в хижине, сотрясаемой злыми зимними бурями, а третий в это время уже воевал со свирепыми кочевниками дальних степей на берегу темного моря… Сердца их сплелись тугими жилами, сотни раз проверенные в общих невзгодах, и как мало значило теперь различие их стран, лиц, тел и верований!
Дни летели быстро. Пандион вдруг спохватился: прошло около полутора месяцев, и срок, назначавшийся для прибытия сынов ветра, уже миновал. Беспокойство и облегчение смешались в душе молодого эллина: беспокойство — потому, что сыны ветра могли вовсе не приехать, а облегчение — при мысли, что неизбежная разлука с Кидого отодвигается. В тревожном томлении Пандион иногда оставлял свою работу — впрочем, она была почти окончена. Эллин опять стал часто ходить к морю, стараясь возвращаться быстрее, чтобы не отделяться от друзей.
Однажды Пандион собрался идти на обычное купанье. Он встал и позвал с собой друзей. Но те отказались, затеяв горячий спор о разных способах приготовления жевательных листьев. Вдали послышался шум многочисленных голосов, крики и восторженные вопли, какими пылкие сородичи Кидого сопровождали каждое событие. Кидого вскочил, серый пепел бледности разлился у него по лицу, даже грудь негра посветлела. Чуть пошатнувшись, Кидого побежал к своему дому, крикнув через плечо встревоженным друзьям:
— Наверно, сыны ветра!
Кровь бросилась в головы этруска и эллина, они тоже пустились бежать по известной Пандиону короткой тропинке к морю. На гребне холма Пандион и Кави остановились.
— Верно, сыны ветра! — закричал Кави.
Темно-фиолетовая тень огромной горы легла на берег, простерлась вдаль, затемнив блеск моря и бросив на него хмурый оттенок лесных чащ. Черные корабли, похожие на корабли эллинов, с выпуклыми, как лебединые груди, носами, уже были выдвинуты на посеревший песок. Их было пять. Со спущенными мачтами суда походили на больших черных уток, уснувших на песке.
Перед кораблями быстро ходили взад и вперед бородатые воины в грубых серых плащах, сверкая медной оковкой круглых щитов и раскачивая в руках широкие топоры на длинных рукоятках. Начальники, купцы и все свободные от охраны люди с кораблей, по-видимому, уже ушли в селение Кидого. Этруск и эллин повернули назад.
У хижины их нетерпеливо поджидал Кидого.
— Сыны ветра у вождей, — сообщил негр. — Я просил дядю, он скажет главному нашему вождю, и тот сам будет вести переговоры с ними о вас. Так будет крепче. Сынам ветра опасно ссориться с ним, они доставят всех вас в целости… — Негр улыбнулся криво и невесело.
Сотни людей собрались на берегу проводить отплывающие суда. Сыны ветра торопились — солнце клонилось к закату, а им почему-то хотелось обязательно начать плавание сегодня. Корабли, уже нагруженные, медленно покачивались у края рифов. Среди груза лежал дар народа Кидого — плата за возвращение бывших рабов на родину. До кораблей нужно было идти по грудь в воде через береговую отмель. Начальники сынов ветра замешкались, на прощанье упрашивая вождей приготовить побольше товаров на будущий год, клялись во что бы то ни стало прибыть в назначенный срок.
Кави стоял рядом с Кидого, держа одной рукой большой сверток со шкурой и черепом страшного гишу. На прощанье черный друг подарил Пандиону и Кави два больших метательных ножа. Это военное изобретение народа Тенгрелы имело вид широкой бронзовой пластины, глубоко рассеченной на пять концов: четыре серповидно изогнутых и отточенных, к пятому, откованному наподобие пальца, была прикреплена короткая роговая рукоятка. Оружие, брошенное умелой рукой, со свистом вращалось в воздухе и убивало жертву наповал с двадцати локтей расстояния.
Со стесненным сердцем Пандион оглядывался вокруг, присматриваясь к своим новым спутникам и хозяевам. Их жесткие, обветренные лица были цвета темного кирпича, нестриженые бороды лохматились вокруг щек, в тяжелой, развалистой походке, суровых складках губ и лба не было ни капли легкого добродушия, характерного для собратьев Кидого. Но все же Пандион почему-то верил этим людям — может быть, потому, что сыны ветра, как и он, были преданы морю, жили с ним в согласии и понимали его. Или потому, что в их речи Пандион и Кави встречали знакомые слова…
Сыны ветра охотно согласились взять бывших рабов на корабли за предложенную вождем плату. Дяде Кидого Иорумефу удалось даже выторговать шесть клыков и две корзины целебных орехов. Этот остаток погрузили на корабль как достояние Кави, ливийцев и Пандиона. Сыны ветра разделили людей вопреки их желанию. На одном корабле ехали шестеро ливийцев, на другом — Кави с Пандионом и три ливийца.
Гавань сынов ветра оказалась поблизости от Ворот Туманов, на огромном расстоянии от родины Кидого — не меньше двух месяцев плавания при самой благоприятной погоде. Кави и Пандион даже растерялись — они не представляли себе истинную дальность пути и поняли, что сыны ветра такие же выдающиеся борцы с морем, какими были повелители слонов в борьбе с мощью степей Африки. От гавани сынов ветра до родины Пандиону предстояло еще проплыть почти все Великое Зеленое море, но это расстояние было в два с половиной раза меньше, чем путь от селения Кидого к гавани сынов ветра. Сыны ветра успокоили Пандиона и Кави заверением, что к ним часто приплывают корабли финикийцев из Тира, с Крита, Кипра и Большого Ливийского залива.[217]
Но Пандион сейчас, стоя на берегу, не думал об этом. В смятении он оглядывался на море, словно пытался измерить предстоящий ему огромный путь, и поворачивался к Кидого. Начальник всех кораблей, с обручем кованого золота в курчавых волосах, громко закричал, приказывая идти на суда.
Кидого схватил за руки Пандиона и Кави, не скрывая слез.
— Прощай навсегда, Пандион, и ты, Кави! — прошептал негр. — Там, на далекой своей родине, вспомните о Кидого, верном и любящем вас обоих! Вспомните наши дни в рабстве в Кемт, когда только дружба поддерживала нас, дни мятежа, бегства, дни великого похода к морю… Я буду с вами в моих мыслях. Вы уходите навеки от меня, вы, ставшие мне дороже жизни! — Голос негра окреп. — Я буду верить, что когда-нибудь люди научатся не бояться просторов мира. Моря соединят их… Но я не увижу вас больше… Велико мое горе… — Огромное тело Кидого затряслось от рыданий.
В последний раз соединились руки друзей. Сыны ветра закричали с корабля…
Руки Пандиона разжались, отошел Кави. Этруск и эллин вступили в теплую воду и, скользя на камнях, поспешили к судам.
В первый раз после долгих лет Пандион ступил на палубу; на него повеяло давно ушедшими в прошлое днями счастливых путей. Но прошлое только мелькнуло в памяти и скрылось опять. Все мысли сосредоточились на высокой черной фигуре, стоявшей отдельно от толпы, у самого края воды. Весла плеснули и зачастили мерными ударами, корабль вышел за линию рифов. Тогда моряки подняли большой парус, и ветер подхватил судно.
Все меньше становились люди на берегу; скоро маленькая черная точка обозначала утраченного навсегда Кидого. Надвинувшиеся сумерки скрыли берег, только темный горный кряж угрюмо громоздился за кормой. Кави смахивал уже не первую крупную слезу. Огромная летучая мышь, залетевшая с берега, вдоль которого направлялись суда, чуть задела крылом лицо Пандиона. Это шелковистое прикосновение показалось эллину последним приветствием покинутой страны. Глубокое смятение вызвала у Пандиона разлука с другом-негром, со страной, где он столько пережил, где оставил часть своего сердца. Смутно чувствовал он, что там, на родине, в часы усталости и печали, Африка будет вставать перед ним неизменно манящей и прекрасной именно потому, что он утратил ее навсегда… как Ируму. Отбросив все, что стало близким и привычным, обернувшись к Элладе лицом и душой, Пандион содрогнулся от тревоги. Что ждет его там, после столь долгого отсутствия? Как будет он жить среди своих, когда вернется? Кого он найдет? Тесса… Да жива ли она, любит ли его по-прежнему или…
Корабли угрюмо ныряли в волнах, обращенные носами к западу. Только после месяца пути они повернут на север — так сказали сыны ветра. Мощное дыхание океана шевелило волосы Пандиона. Рядом с ним сновали деловито и неторопливо молчаливые моряки. Сыны ветра — потомки древних критских мореходов — Пандиону казались более чужими, чем чернокожие обитатели Африки. Эллин сжал в руке висевший на груди мешочек с камнем, хранивший облик Кидого, и пошел к товарищам, печально жавшимся в уголке чужого корабля…
Из-за гор поднялся оранжевый круг луны. В ее свете океан — Великая Дуга, обнимающая все земли мира, — предстал изрытым черными впадинами, над которыми плавно двигались светлые вершины волн. Маленькие корабли смело шли вперед, то взбрасывая носы в звездное небо и рассыпая вокруг серебристые брызги, то проваливаясь вниз, в глухо шумящую темноту. Пандиону это казалось похожим на его собственный жизненный путь. Впереди, вдали, блестящие верхушки валов сливались в одну светящуюся дорогу, звезды спускались вниз и качались в волнах, как бывало давно, у берегов родины. Океан принимал отважных людей, соглашался нести их на себе в безмерную даль, домой…
— Ты видел, Эвпалин, гемму на камне цвета моря — самое совершенное творение в Энниаде… истиннее сказать — во всей Элладе?
Эвпалин ответил не сразу. Он прислушался к звонкому ржанью любимого коня, которого держал рослый раб, плотнее запахнулся в плащ из тонкой шерсти. Весенний ветерок в тени навеса пронизывал холодом, хотя серые склоны каменистых гор, вздымавшиеся перед собеседниками, уже были покрыты цветущими деревьями. Внизу нежно-розовыми облачками протянулись рощицы миндаля, выше темно-розовые, почти лиловые пятна означали заросли кустарников. Холодный ветер, спускавшийся с гор, источал миндальный аромат и несся над долинами Энниады вестником новой весны. Эвпалин втянул ноздрями ветер, постучал пальцем по деревянной колонне и медленно сказал:
— Я слышал, ее сделал приемный сын Агенора, тот, что так долго скитался где-то… Его считали умершим, но он недавно вернулся из очень далекой страны.
— А дочь Агенора, красавица Тесса… Ты слышал, конечно, о ней?
— Слышал, что она шесть лет не хотела выходить замуж, веря, что вернется ее возлюбленный. И ее отец-художник позволил ей…
— Я знаю, что не только позволил — даже сам ждал все время приемного сына.
— Редкий случай, когда ожидание оправдалось! Он действительно не погиб и сделался мужем Тессы и замечательным художником. Жалею, что не пришлось тебе увидеть гемму — ты хороший знаток и оценил бы ее!
— Я послушаюсь тебя и поеду к Агенору. У Ахелоева мыса живет он — всего двадцать стадий туда…
— О нет, Эвпалин, ты опоздал! Мастер, что создал гемму, подарил ее — подумай только! — своему другу, бродяге-этруску. Он привез его, заболевшего в пути, в дом Агенора, вылечил и, когда бродяга собрался к себе, отдал ему то, что могло бы прославить всю Энниаду. А этруск наградил его шкурой сквернообразного зверя, неслыханного доселе и страшного…
— Нищим он уехал и вернулся таким же. Или он ничему не научился в скитаниях, что делает драгоценные подарки кому попало?
— Нам с тобой трудно понять человека, столь долго бывшего на чужбине. Но мне жаль, что гемма ушла от нас!
ЗВЕЗДНЫЕ КОРАБЛИ
Глава первая У ПОРОГА ОТКРЫТИЯ
— Когда вы приехали, Алексей Петрович? Тут много людей вас спрашивали.
— Сегодня. Но для всех меня еще нет. И закройте, пожалуйста, окно в первой комнате.
Вошедший снял старый военный плащ, вытер платком лицо, пригладил свои легкие светлые волосы, сильно поредевшие на темени, сел в кресло, закурил, опять встал и начал ходить по комнате, загроможденной шкафами и столами.
— Неужели возможно? — подумал он вслух.
Подошел к одному из шкафов, с усилием распахнул высокую дубовую дверцу. Белые поперечины лотков выглянули из темной глубины шкафа. На одном лотке стояла кубическая коробка из желтого блестящего, твердого, как кость, картона. Поперек грани куба, обращенной к дверце, проходила наклейка серой бумаги, покрытая черными китайскими иероглифами. Кружки почтовых штемпелей были разбросаны там и сям по поверхности коробки. Длинные бледные пальцы человека коснулись картона.
— Тао Ли, неизвестный друг! Пришло время действовать.
Тихо закрыв дверцы шкафа, профессор Шатров взял потертый портфель, извлек из него поврежденную сыростью тетрадь в сером гранитолевом переплете. Осторожно разделяя слипшиеся листы, профессор просматривал через увеличительное стекло ряды цифр и время от времени делал какие-то вычисления в большом блокноте.
Груда окурков и горелых спичек росла в пепельнице; воздух в кабинете посинел от табачного дыма.
Необычайно ясные глаза Шатрова блестели под густыми бровями. Высокий лоб мыслителя, квадратные челюсти и резко очерченные ноздри усиливали общее впечатление незаурядной умственной силы, придавая профессору черты фанатика.
Наконец ученый отодвинул тетрадь.
— Да, семьдесят миллионов лет! Семьдесят миллионов! Ок! — Шатров сделал рукой резкий жест, как бы протыкая что-то перед собой, оглянулся, хитро прищурился и снова громко сказал: — Семьдесят миллионов!.. Только не бояться!
Профессор неторопливо и методически убрал свой письменный стол, оделся и пошел домой.
Шатров окинул взглядом размещенные во всех углах комнаты “бронзюшки”, как он называл коллекцию художественной бронзы, уселся за покрытый черной клеенкой стол, на котором бронзовый краб нес на спине огромную чернильницу, и раскрыл альбом.
— Устал я, должно быть… И старею… Голова седеет, лысеет и… дуреет, — пробормотал Шатров.
Он давно уже чувствовал вялость. Паутина однообразных ежедневных занятий плелась годами, цепко опутывая мозг. Мысль не взлетала более, далеко простирая свои могучие крылья. Подобно лошади под тяжким грузом, она переступала уверенно, медленно и понуро. Шатров понимал, что его состояние вызвано накопившейся усталостью. Друзья и коллеги давно уже советовали ему развлечься. Но профессор не умел ни отдыхать, ни интересоваться чем-то посторонним.
“Оставьте! В театре не был двадцать лет, на даче отродясь не жил”, — угрюмо твердил он своим друзьям.
И в то же время ученый понимал, что расплачивается за свое длительное самоограничение, за нарочитое сужение круга интересов, расплачивается отсутствием силы и смелости мысли. Самоограничение, давая возможность большей концентрации мысли, в то же время как бы запирало его наглухо в темную комнату, отделяя от многообразного и широкого мира.
Прекрасный художник-самоучка, он всегда находил успокоение в рисовании. Но сейчас даже хитро задуманная композиция не помогла ему справиться с нервным возбуждением. Шатров захлопнул альбом, вышел из-за стола и достал пачку истрепанных нот. Вскоре старенькая фисгармония заполнила комнату певучими звуками брамсовского интермеццо. Играл Шатров плохо и редко, но всегда смело брался за трудные для исполнения вещи, так как играл только наедине с самим собой. Близоруко щурясь на нотные строчки, профессор вспомнил все подробности своей необычайной для него, кабинетного схимника, недавней поездки.
Бывший ученик Шатрова, перешедший на астрономическое отделение, разрабатывал оригинальную теорию движения Солнечной системы в пространстве. Между профессором и Виктором (так звали бывшего ученика) установились прочные дружеские отношения. В самом начале войны Виктор ушел добровольцем на фронт, был отправлен в танковое училище, где проходил длительную подготовку. В это время он занимался и своей теорией. В начале 1943 года Шатров получил от Виктора письмо. Ученик сообщал, что ему удалось закончить свою работу. Тетрадь с подробным изложением теории Виктор обещал выслать Шатрову немедленно, как только перепишет все начисто. Это было последнее письмо, полученное Шатровым. Вскоре его ученик погиб в грандиозной танковой битве.
Шатров так и не получил обещанной тетради. Он предпринял энергичные розыски, не давшие результатов, и наконец решил, что танковую часть Виктора ввели в бой так стремительно, что ученик его попросту не успел послать ему свои вычисления. Уже после окончания войны Шатрову удалось встретиться с майором, начальником покойного Виктора. Майор участвовал в том самом бою, где был убит Виктор, и теперь лечился в Ленинграде, где работал и сам Шатров. Новый знакомый уверил профессора, что танк Виктора, сильно разбитый прямым попаданием, не горел и поэтому есть надежда разыскать бумаги покойного, если только они находились в танке. Танк, как думал майор, должен был и теперь стоять на месте сражения, так как оно было сильно заминировано. Профессор и майор совершили совместную поездку на место гибели Виктора. И сейчас перед Шатровым из-за строчек потрепанных нот вставали картины только что пережитого.
— Стойте, профессор! Дальше ни шагу! — закричал отставший майор.
Шатров послушно остановился.
Впереди, на залитом солнцем поле, неподвижно стояла высокая сочная трава. Капли росы искрились на листьях, на пушистых шапочках сладко пахнущих белых цветов, на конических лиловых соцветиях иван-чая. Насекомые, согревшиеся под утренним солнцем, деловито жужжали над высокой травой. Дальше лес, иссеченный снарядами три года назад, раскидывал тень своей зелени, прорванной неровными и частыми просветами, напоминавшими о медленно закрывающихся ранах войны. Поле было полно буйной растительной жизни. Но там, в гуще некошеной травы, скрывалась смерть, еще не уничтоженная, не побежденная временем и природой.
Быстро растущая трава скрыла израненную землю, взрытую снарядами, минами и бомбами, вспаханную гусеницами танков, усеянную осколками и политую кровью…
Шатров увидел разбитые танки. Полускрытые бурьяном, они мрачно горбились среди цветущего поля, с потоками красной ржавчины на развороченной броне, с приподнятыми или опущенными пушками. Направо, в маленькой впадине, чернели три машины, обгоревшие и неподвижные. Немецкие пушки смотрели прямо на Шатрова, будто мертвая злоба и теперь еще заставляла их яростно устремляться к белым и свежим березкам опушки.
Дальше, на небольшом холме, один танк вздыбился вверх, надвинувшись на опрокинутую набок машину. За зарослями иван-чая была видна лишь часть ее башни с грязно-белым крестом. Налево широкая пятнистая серо-рыжая масса “фердинанда” склоняла вниз длинный ствол орудия, утопавший концом в гуще травы.
Цветущее поле не пересекалось ни одной тропинкой, ни одного следа человека или зверя не было видно в плотной заросли бурьяна, ни звука не доносилось оттуда. Только встревоженная сойка резко трещала где-то вверху да издали доносился шум трактора.
Майор взобрался на поваленный ствол дерева и долго стоял неподвижно. Молчал и шофер майора.
Шатрову невольно вспомнилась полная торжественной печали латинская надпись, обычно помещавшаяся в старину над входом в анатомический театр: “Hic locus est, ubi mors gaudet sucurrere vitam”, в переводе означавшая: “Это место, где смерть ликует, помогая жизни”.
К майору подошел маленького роста сержант, начальник группы саперов. Веселость его показалась Шатрову неуместной.
— Можно начинать, товарищ гвардии майор? — звонко спросил сержант. — Откуда поведем?
— Отсюда. — Майор ткнул палкой в куст боярышника. — Направление — точно на ту березку…
Сержант и приехавшие с ним четыре бойца приступили к разминированию.
— Где же тот танк… Виктора? — тихо спросил Шатров. — Я вижу только немецкие.
— Сюда посмотрите, — повел рукой майор налево, — вот вдоль этой группы осин. Видите — там маленькая березка на холме? Да? А правее нее — танк.
Шатров старательно присмотрелся. Небольшая береза, чудом уцелевшая на поле сражения, едва трепетала своими свежими нежными листочками. И среди бурьяна в двух метрах от нее выступала груда исковерканного металла, издалека казавшаяся лишь красным пятном с черными провалами.
— Видите? — спросил майор и на утвердительный жест профессора добавил: — А еще левее, туда, вперед, — там мой танк. Вот тот, горелый. В тот день я…
К ним подошел кончивший работу сержант:
— Готово! Тропочку проложили.
Профессор и майор направились к желанной цели. Танк показался Шатрову похожим на огромный исковерканный череп, зияющий черными дырами больших проломов. Броня, погнутая, закругленная и оплавленная, багровела кровоподтеками ржавчины.
Майор с помощью своего шофера взобрался на разбитую машину, долго рассматривал что-то внутри, засунув голову в открытый люк. Шатров вскарабкался следом и встал на расколотой лобовой броне против майора. Тот высвободил голову, сощурился на свету и угрюмо сказал:
— Самому вам лезть незачем. Подождите, мы с сержантом все осмотрим. Если уж не найдем, тогда, чтобы убедиться, пожалуйте.
Ловкий сержант быстро нырнул в машину и помог влезть майору. Шатров озабоченно склонился над люком. Внутри танка воздух был душный, пропитанный прелью и слабо отдавал запахом машинного масла. Майор для верности зажег фонарик, хотя внутрь машины проникал свет через пробоины. Он стоял согнувшись, стараясь в хаосе исковерканного металла определить, что было полностью уничтожено. Майор, видимо, попробовал поставить себя на место командира танка, вынужденного спрятать в нем ценную для себя вещь, и принялся последовательно осматривать все карманы, гнезда и закоулки. Сержант проник в моторное отделение, долго ворочался и кряхтел там.
Вдруг майор заметил на уцелевшем сиденье планшетку, засунутую позади подушки, у перекладины спинки. Он быстро вытащил ее. Кожа, побелевшая и вздувшаяся, оказалась неповрежденной; сквозь мутную сетку целлулоида проглядывала испорченная плесенью карта. Майор нахмурился, предчувствуя разочарование, с усилием отстегнул заржавевшие кнопки. Шатров с нетерпением переминался с ноги на ногу. Под картой, сложенной в несколько раз, была серая тетрадь в твердом гранитолевом переплете.
— Нашел! — И майор подал в люк планшетку.
Шатров поспешно вытащил тетрадь, осторожно раскрыл слипшиеся листы, увидел ряды цифр, написанные почерком Виктора, и вскрикнул от радости.
Майор вылез наружу.
Поднявшийся легкий ветер принес медовый запах цветов. Тонкая береза шелестела и склонялась над танком, будто в неутешной печали. В вышине медленно плыли белые плотные облака, и вдали, сонный и мерный, слышался крик кукушки…
Шатров не заметил, как тихо раскрылась дверь и вошла жена. Она с тревогой взглянула добрыми голубыми глазами на мужа, застывшего в раздумье над клавишами.
— Будем обедать, Алеша?
Шатров закрыл фисгармонию.
— Ты что-то задумал опять, не так ли? — тихо спросила жена, доставая тарелки из буфета.
— Я еду послезавтра в обсерваторию, к Бельскому, на два—три дня.
— Не узнаю тебя, Алеша. Ты такой домосед, я месяцами вижу только твою спину, согнутую над столом, и вдруг… Что с тобой случилось? Я в этом вижу влияние…
— Конечно, Давыдова? — рассмеялся Шатров. — Ей-ей, нет, Олюшка, он ничего не знает. Ведь мы с ним не виделись с сорок первого года.
— Но переписываетесь-то вы каждую неделю!
— Преувеличение, Олюшка. Давыдов сейчас в Америке, на конгрессе геологов… Да, кстати напомнила — он на днях возвращается. Сегодня же напишу ему.
Обсерватория, куда приехал Шатров, была только что отстроена после варварского разрушения ее немцами.
Прием, оказанный Шатрову, был сердечным и любезным. Профессора приютил сам директор, академик Бельский, в одной из комнат своего небольшого дома. Два дня Шатров присматривался к обсерватории, знакомился с приборами, звездными каталогами и картами. На третий день один из наиболее мощных телескопов был свободен, к тому же и ночь благоприятствовала наблюдениям. Бельский вызвался быть проводником Шатрова по тем областям неба, которые упоминались в рукописи Виктора.
Помещение большого телескопа скорее походило на цех крупного завода, чем на научную лабораторию. Сложные металлические конструкции были непонятны далекому от техники Шатрову, и он подумал, что его друг, профессор Давыдов, любитель всяких машин, гораздо лучше оценил бы виденное. В этой круглой башне было несколько пультов с электрическими приборами. Помощник Бельского уверенно и ловко управлял различными рубильниками и кнопками. Глухо заревели большие электромоторы, башня повернулась, массивный телескоп, подобный орудию с ажурными стенками, наклонился ниже к горизонту. Гул моторов смолк и сменился тонким завываньем. Движение телескопа сделалось почти незаметным. Бельский пригласил Шатрова подняться по легкой лесенке из дюраля. На площадке находилось удобное кресло, привинченное к настилу и достаточно широкое, чтобы вместить обоих ученых. Рядом — столик с какими-то приборами. Бельский выдвинул назад, к себе, металлическую штангу, снабженную на концах двумя бинокулярами, похожими на те, которыми постоянно пользовался в своей лаборатории Шатров.
— Прибор для одновременного двойного наблюдения, — пояснил Бельский. — Мы будем смотреть оба на одно и то же изображение, получающееся в телескопе.
— Я знаю. Такие же приборы применяются и у нас, биологов, — отвечал Шатров.
— Мы теперь мало пользуемся визуальными наблюдениями, — продолжал Бельский, — глаз скоро утомляется и не сохраняет виденного. Современная астрономическая работа вся идет на фотоснимках, особенно звездная астрономия, которой вы интересуетесь… Ну, вы хотели посмотреть для начала на какую-нибудь звезду. Вот вам красивая двойная звезда — голубая и желтая — в созвездии Лебедя. Регулируйте по своим глазам так же, как и обычно… Впрочем, подождите. Я лучше совсем выключу свет — пусть ваши глаза привыкнут…
Шатров прильнул к объективам бинокуляра, умело и быстро отрегулировал винты. В центре черного круга ярко сияли две очень близкие друг к другу звезды. Шатров сразу понял, что телескоп не в силах увеличить звезды, как планеты или Луну, — настолько велики расстояния, отделяющие их от Земли. Телескоп делает их яркими, более отчетливо видимыми, собирая и концентрируя лучи. Поэтому в телескоп видны миллионы слабых звезд, вовсе недоступных невооруженному глазу.
Перед Шатровым, окруженные глубокой чернотой, горели два маленьких ярких огонька красивого голубого и желтого цвета, несравненно ярче самых лучших драгоценных камней. Эти крошечные светящиеся точки давали ни с чем не сравнимое ощущение одновременно чистейшего света и безмерной удаленности; они были погружены в глубочайшую пучину темноты, пронзенную их лучами. Шатров долго не мог оторваться от этих огней далеких миров, но Бельский, лениво откинувшийся в кресле, поторопил его:
— Продолжим наш обзор. Не скоро выдастся такая прекрасная ночь, да и телескоп будет занят. Вы хотели посмотреть центр нашей Галактики,[218] ту “ось”, вокруг которой вращается ее “звездное колесо”?
Снова завыли моторы. Шатров ощутил движение площадки. В стеклах бинокуляра возник рой тусклых огоньков. Бельский замедлил движение телескопа. Огромная машина двигалась незаметно и беззвучно, а перед глазами Шатрова медленно проплывали участки Млечного Пути в области созвездий Стрельца и Змееносца.
Короткие пояснения Бельского помогали Шатрову быстро ориентироваться и понимать видимое.
Тускло светящийся звездный туман Млечного Пути рассыпался неисчислимым роем огоньков. Этот рой сгущался в большое облако, удлиненное и пересеченное двумя темными полосами. Местами ярко горели, как бы выпирая из глубин пространства, отдельные редкие звезды, более близкие к Земле.
Бельский остановил телескоп и повысил увеличение окуляра. Теперь в поле зрения было почти целиком звездное облако — плотная светящаяся масса, в которой отдельные звезды были неразличимы. Вокруг нее роились, сгущаясь и разрежаясь, миллионы звезд. При виде этого обилия миров, не уступавших нашему Солнцу в размере и яркости, Шатров ощутил смутное угнетение.
— В этом направлении центр Галактики, — пояснил Бельский, — на расстоянии в тридцать тысяч световых лет.[219] Самый центр для нас невидим. Только недавно в инфракрасных лучах удалось сфотографировать расплывчатый, неясный контур этого ядра. Вот здесь, направо, — черное пятно чудовищных размеров: это масса темной материи, закрывающей центр Галактики. Но вокруг него обращаются все ее звезды, вокруг него летит и Солнце со скоростью двухсот пятидесяти километров в секунду. Если бы не было темной завесы, Млечный Путь здесь был бы несравненно ярче и наше ночное небо казалось бы не черным, а пепельным… Поехали дальше…
В телескопе появились черные прогалины в звездных роях, протяжением в миллионы километров.
— Это облака темной пыли и обломочной материи, — пояснил Бельский. — Отдельные звезды просвечивают сквозь них инфракрасными лучами, как это установлено фотографией на специальных пластинах… А есть еще множество звезд, которые совсем не светятся. Мы распознаем присутствие лишь ближайших таких звезд по их излучению радиоволн — потому и называем их “радиозвездами”…
Шатрова поразила одна большая туманность. Похожая на клуб светящегося дыма, испещренная глубочайшими черными провалами, она висела в пространстве, подобная разметанному вихрем облаку. Сверху и справа от нее виднелись очень тусклые серые клочья, уходившие туда, в бездонные межзвездные пропасти. Жутко было представить себе огромные размеры этого облака пылевой материи, отражавшего свет дальних звезд. В любом из черных его провалов утонула бы незаметно вся наша Солнечная система.
— Заглянем теперь за пределы нашей Галактики, — сказал Бельский.
В поле зрения перед Шатровым возникла глубокая тьма. Едва уловимые светлые точки, такие слабые, что их свет умирал в глазу, почти не вызывая зрительного ощущения, редко-редко встречались в неизмеримой глубине.
— Это то, что отделяет нашу Галактику от других звездных островов. А теперь вы видите подобные нашей Галактике звездные миры, чрезвычайно удаленные от нас. Здесь, в направлении на созвездие Пегаса, открываются перед нами самые глубокие известные нам части пространства. Сейчас мы посмотрим на самую близкую к нам галактику, размерами и формой похожую на нашу исполинскую звездную систему. Она состоит из мириадов отдельных звезд различной величины и яркости, имеет такие же облака темной материи, такую же полосу этой материи, стелющуюся в экваториальной плоскости, и так же окружена шаровыми звездными скоплениями. Это так называемая туманность М31 в созвездии Андромеды. Она косо наклонена к нам, так что мы видим ее отчасти с ребра, отчасти с плоскости…
Шатров увидел бледно светящееся облако в форме удлиненного овала. Приглядываясь, он смог различить светящиеся полосы, расположенные спирально и разделенные черными промежутками.
В центре туманности видна была наиболее плотная светящаяся масса звезд, слившихся в одно целое на колоссальном расстоянии. От нее отходили едва уловимые спирально загибающиеся выросты. Вокруг этой плотной массы, отделенные темными кольцами, шли полосы более разреженные и тусклые, а на самом краю, в особенности у нижней границы поля зрения, кольцевые полосы разрывались на ряд округлых пятнышек.
— Смотрите, смотрите! Вам, как палеонтологу, это должно быть особенно интересно. Ведь свет, который сейчас попадает к нам в глаза, ушел от этой галактики миллиона полтора лет назад. Еще человека-то на Земле не было!
— И это самая близкая к нам галактика? — удивился Шатров.
— Ну конечно! Мы знаем уже такие, которые расположены на расстояниях порядка миллиарда световых лет. Миллиард лет бежит свет со скоростью в десять триллионов километров в год. Вы видели такие галактики в созвездии Пегаса…
— Непостижимо! Можете не говорить — все равно нельзя себе представить подобные расстояния. Бесконечные, неизмеримые глубины…
Бельский еще долго показывал Шатрову ночные светила. Наконец Шатров горячо поблагодарил своего звездного Вергилия,[220] вернулся к себе и улегся в постель, но долго не мог заснуть.
В закрытых глазах роились тысячи светил, плыли колоссальные звездные облака, черные завесы холодной материи, гигантские хлопья светящегося газа…
И все это — простирающееся на биллионы и триллионы километров, рассеянное в чудовищной, холодной пустоте, разделенное невообразимыми пространствами, в беспросветном мраке которых мчатся лишь потоки мощных излучений.
Звезды — это огромные скопления материи, сдавливаемой силой тяготения и под действием непомерного давления развивающей высокую температуру. Высокая температура вызывает действие атомных реакций, усиливающих выделение энергии. Чтобы звезды могли существовать, не взрываясь, в равновесии, энергия должна в колоссальных количествах выбрасываться в пространство в виде тепла, света, космических лучей.[221] И вокруг этих звезд, словно вокруг силовых станций, работающих на ядерной энергии, вращаются согреваемые ими планеты.
В чудовищных глубинах пространства несутся эти планетные системы, вместе с мириадами одиночных звезд и темной, остывшей материей составляющие огромную, похожую на колесо систему — галактику. Иногда звезды сближаются и снова расходятся на миллиарды лет, точно корабли одной галактики. А в еще более огромном пространстве отдельные галактики также подобны еще большим кораблям, светящим друг другу своими огнями в неизмеримом океане тьмы и холода.
Неведомое до сих пор чувство овладело Шатровым, когда он живо и ярко представил себе вселенную с ее ужасающим холодом пустоты, с рассеянными в ней массами материи, раскаленной до невообразимых температур; представил себе недоступные никаким силам расстояния, неимоверную длительность совершающихся процессов, в которых пылинки, подобные Земле, имеют совершенно ничтожное значение.
И в то же время гордое восхищение жизнью и ее высшим достижением — умом человека — прогоняло страшный облик звездной вселенной. Жизнь, скоротечная, настолько хрупкая, что может существовать только на планетах, похожих на Землю, горит крохотными огоньками где-то в черных и мертвых глубинах пространства.
Вся стойкость и сила жизни — в ее сложнейшей организации, которую мы едва начали понимать, организации, приобретенной миллионами лет исторического развития, борьбы внутренних противоречий, бесконечной смены устаревших форм новыми, более совершенными. В этом сила жизни, ее преимущество перед неживой материей. Грозная враждебность космических сил не может помешать жизни, которая, в свою очередь, рождает мысль, анализирующую законы природы и с их же помощью побеждающую ее силы.
У нас на Земле и там, в глубинах пространства, расцветает жизнь — могучий источник мысли и воли, который впоследствии превратится в поток, широко разлившийся по вселенной. Поток, который соединит отдельные ручейки в могучий океан мысли.
И Шатров понял, что впечатления, пережитые им ночью, вновь разбудили застывшую было силу его творческого мышления. Тому залогом открытие, заключенное в коробке Тао Ли…
Он будет действовать дальше, не боясь нового, как бы невероятно оно ни было.
Старший помощник капитана парохода “Витим” небрежно облокотился на сверкающие в солнечных лучах поручни. Большой корабль словно уснул на мерно колыхающейся зеленой воде, окруженный медленно перебегающими бликами света. Рядом густо дымил длинный, высоконосый английский пароход, лениво кивая двумя белыми крестами массивных мачт.
Южный край бухты, почти прямой и черный от глубокой тени, обрывался стеной красно-фиолетовых гор, изборожденных лиловыми тенями.
Офицер услышал внизу твердые шаги и увидел на трапе мостика массивную голову и широкие плечи профессора Давыдова.
— Что так рано, Илья Андреевич? — приветствовал он ученого.
Давыдов прищурился, молча осмотрел солнечную даль, а потом взглянул на улыбавшегося старшего помощника:
— Хочу попрощаться с Гавайями. Хорошее место, приятное место… Скоро отходим?
— Хозяина нет — оформляет дела на берегу. А так все готово. Вернется капитан — сейчас же пойдем. Прямо домой!
Профессор кивнул головой и полез в карман за папиросами. Он наслаждался отдыхом, днями вынужденного безделья, редкими в жизни настоящего ученого. Давыдов возвращался из Сан-Франциско, куда ездил делегатом на съезд геологов и палеонтологов — исследователей прошлого Земли.
Ученому хотелось проделать обратный путь на своем, советском пароходе, и “Витим” подвернулся очень кстати. Еще более приятным был заход на Гавайские острова. Давыдову за время стоянки удалось познакомиться с природой этой страны, окруженной необъятными водными просторами Тихого океана. И сейчас, оглядываясь кругом, он ощущал еще большее удовольствие от сознания скорого возвращения на родину. Много интересных мыслей накопилось за дни неторопливого, тихого раздумья. Новые соображения теснились в голове ученого, властно требуя выхода — проверки, сопоставлений, дальнейшего развития. Но этого нельзя было сделать здесь, в каюте парохода: не было под рукой нужных записей, книг, коллекций…
Давыдов погладил пальцами висок, что означало у профессора затруднение или досаду…
Правее выдававшегося угла бетонного пирса как-то внезапно начиналась широкая аллея пальм; густые перистые кроны их отливали светлой бронзой, прикрывая красивые белые дома с пестрыми цветниками. Дальше, на выступе берега, прямо к воде подступала зелень низких деревьев. Там едва покачивалась голубая, с черными полосами лодка. Несколько юношей и девушек в лодке подставляли утреннему солнцу свои загорелые стройные тела, громко пересмеиваясь перед купаньем.
В прозрачном воздухе дальнозоркие глаза профессора различали все подробности близкого берега. Давыдов обратил внимание на круглую клумбу, в центре которой возвышалось странное растение: внизу густой щеткой торчали ножевидные серебряные листья; над листьями почти на высоту человеческого роста поднималось красное соцветие в форме веретена.
— Вы не знаете, что это за растение? — спросил заинтересованный профессор у старшего помощника.
— Не знаю, — беспечно ответил молодой моряк. — Видел его, слыхал, что редкостью у них считается… А скажите, Илья Андреевич, верно, что вы были моряком в молодости?
Недовольный переменой разговора, профессор нахмурился.
— Был. Какое это сейчас имеет значение? — буркнул он. — Вы лучше…
Где-то за строениями слева завыл гудок, гулко раскатившийся по тихой воде.
Старший помощник сразу насторожился. Давыдов недоуменно огляделся.
Тот же покой раннего утра реял над маленьким городом и бухтой, широко раскрытой в голубую даль океана. Профессор перевел взгляд на лодку с купальщиками.
Смуглая девушка, очевидно гавайянка, выпрямилась на корме, приветливо помахав русским морякам высоко поднятой рукой, и прыгнула. Красные цветы ее купального костюма разбили изумрудную стеклянистую воду и скрылись. Легкая моторка быстро промчалась в гавань. Минуту спустя на пристани показался автомобиль, из него выскочил капитан “Витима” и бегом устремился на свой корабль. Вереница флагов поднялась и затрепетала на сигнальной мачте. Капитан, задыхаясь, взлетел на мостик, стирая лившийся по лицу пот прямо рукавом белоснежного кителя.
— Что случилось? — начал старший помощник. — Я не разбираю этот сиг…
— Аврал! — закричал капитан. — Аврал! — и схватился за ручку машинного телеграфа. — Готова машина?
Капитан склонился к переговорной трубе и после короткого разговора с механиком отдал ряд отрывистых приказаний:
— Все наверх! Задраить люки! Очистить палубу! Отдать швартовы!
— Russians, what shall you do?[222] — вдруг тревожно проревел рупор с соседнего корабля.
— Go ahead![223] — немедленно ответил капитан “Витима”.
— Well! At full speed![224] — с большей уверенностью откликнулся англичанин.
Глухо зажурчала вода под кормой, корпус “Витима” дрогнул, пристань медленно поплыла вправо. Тревожная беготня на палубе смущала Давыдова. Он несколько раз бросал вопросительные взгляды на капитана, но тот, поглощенный маневрированием корабля, казалось, не замечал ничего кругом.
А море по-прежнему плескалось спокойно и мерно, ни одного облака не было видно в знойном и чистом небе.
“Витим” развернулся и, набирая ход, двинулся навстречу простору океана.
Капитан перевел дух, достал из кармана платок. Окинув зорким взглядом палубу, он понял, что все с тревогой ждут его разъяснений.
— Идет гигантская приливная волна от норд-оста. Я полагаю, единственное спасение судна — встретить ее в море, на полном ходу машин… Подальше от берега!
Он повернулся к отдаляющейся пристани, как бы оценивая расстояние. Давыдов посмотрел вперед и увидел несколько рядов больших волн, бешено мчавшихся к земле. А за ними, как главные силы за передовыми отрядами, стирая голубое сияние далекого моря, тяжко несся плоский серый холм гигантского вала.
— Команде укрыться внизу! — приказал капитан, резко двинув ручку телеграфа.
Передние волны по мере приближения к земле вырастали и заострялись. “Витим” резко дернулся носом, взлетел вверх и нырнул прямо под гребень следующей волны. Мягкий тяжелый шлепок отдался в поручнях мостика, крепко зажатых в руках Давыдова. Палуба ушла под воду, облако сверкающих водяных брызг туманом встало перед мостиком. Через секунду “Витим” вынырнул, нос опять понесся вверх. Мощные машины содрогались глубоко внизу, отчаянно сопротивляясь силе волн, задерживавших корабль, гнавших его к берегу, стремившихся разбить “Витим” о твердую грудь земли.
Ни одного пятна пены не белело на обрыве исполинского вала, который поднимался со зловещим хрипом и становился все круче. Тусклый блеск водяной стены, стремительно надвигавшейся, массивной и непроницаемой, напомнил Давыдову кручи базальтовых скал в горах Приморья. Тяжелая, как лава, волна вздымалась все выше, заслоняя небо и солнце; ее заостряющаяся вершина всплыла над передней мачтой “Витима”. Зловещий сумрак сгущался у подножия водяной горы, в черной глубокой яме, куда соскальзывало судно, как будто покорно склонявшееся под смертельный удар.
Люди на мостике невольно опустили головы перед лицом стихии, готовой обрушиться на них. Корабль судорожно дернулся, грубо задержанный в своем стремлении вперед, к океану. Шесть тысяч лошадиных сил, вращавших винты под кормой, были смяты чудовищно превосходившей их мощью.
Первый толчок придавил людей к поручням, и сейчас же ревущая вода обрушилась на мостик откуда-то сверху, оглушая и ослепляя.
Цепляясь за поручни, полузадохшийся профессор всем телом ощутил, как заскрежетал корпус корабля, как накренился “Витим” на левый борт, выпрямился, перевалился на правый и снова стал выпрямляться, в то же время поднимаясь из поглотившей его пучины. Медленно-медленно корабль поднимался вверх и вдруг быстро взлетел из клубящегося серого хаоса к яркому, безмятежному небу.
Оглушительный рев прекратился с потрясающей внезапностью. С гребня исполинской волны широко раскинулось море, и корабль плавно понесся носом вниз по спине ушедшего к берегу вала. Новые гряды волн шли навстречу с моря, но по сравнению с побежденным чудовищем они казались уже не страшными. Капитан шумно отфыркнулся и удовлетворенно чихнул. Давыдов, мокрый до нитки, протер глаза, увидел справа быстро нырявший в волнах английский пароход и, словно что-то вспомнив, устремился к концу мостика. Оттуда хорошо были видны только что покинутые пристань и город. С ужасом смотрел ученый, как гигантский вал еще больше вырос у самого берега, как стена движущейся воды заслонила от моря и зелень садов, и белые домики города, и прямые, четкие линии пристаней…
— Вторая! Вторая! — закричал старший помощник прямо над ухом Давыдова.
Действительно, второй гигантский вал несся на судно. Его приближение не было замечено, словно громадная волна тайно подкралась, внезапно вспучившись со дна океана.
С ревом поднимался этот закругленный сверху водяной хребет, как будто рыча от накипавшего в нем бешенства. И опять остановленное судно судорожно заметалось под тяжестью чудовищной волны, отчаянно борясь за свое существование. Вал скользнул за корму, череда его меньших спутников предстала перед “Витимом”. Две—три минуты отдыха — и третья исполинская волна вздыбилась над морем. На этот раз машины, послушные телеграфу в руке капитана, своевременно сработали назад, толчок был мягче, и корабль легче поднялся на гребень волны.
Эта борьба с таинственными волнами при странном отсутствии ветра и ясном, солнечном дне продолжалась несколько минут. “Витим”, начисто обмытый, отделавшийся небольшими повреждениями, еще долго покачивался на ровной зыби, пока капитан не убедился, что опасность миновала, и не повернул корабль обратно в порт.
Всего час назад Давыдов любовался красивым городком с мостика “Витима”. Теперь берег был неузнаваем. Исчезли пестрые цветники, правильные аллеи. Вместо них груды поваленных балок, куски изуродованных крыш и обломки вперемешку с корявыми безлистыми сучьями обозначали место, где были прибрежные дома. Густая роща у края бухты, там, где купалась веселая молодежь, превратилась в болото с редкими расщепленными пнями. Несколько больших каменных домов, стоявших вдоль пристани, угрюмо смотрели черными провалами окон. А у подножия их громоздились наваленные как попало разбитые деревянные домики и лавки.
Большой моторный катер, выброшенный на сушу, увенчивал все это скопище обломков, словно памятник победы грозного моря.
Извиваясь по слоям свеженанесенного песка, повсюду текли ручьи соленой воды, поблескивая на солнце. Жалкие фигурки людей копошились среди развалин, отыскивая погибших или спасая остатки своего имущества.
Потрясенные советские моряки молчаливо столпились на палубе и хмуро смотрели на берег, не в силах радоваться собственному спасению. Едва только “Витим” снова пришвартовался к уцелевшей бетонной пристани и капитан обратился к команде с призывом помочь жителям, как на корабле, кроме вахтенных, не осталось ни одного человека.
Давыдов вернулся на корабль вместе с командой только к ночи, угрюмо умылся, перевязал пораненную руку и долго ходил по палубе, дымя папиросой.
Не успел еще пострадавший от страшных волн остров скрыться за горизонтом, как к Давыдову явился второй механик, председатель судкома, и упросил его “рассказать ребятам, что это такое было”. Беседу решили провести прямо на палубе. Никогда еще профессор не выступал в такой своеобразной обстановке. Слушатели собрались толпой, сидя, стоя и лежа у первого трюма, а Давыдов опирался на закрытую чехлом лебедку, служившую ему кафедрой. Безмятежно спокойный океан не задерживал хода стремившегося к родине корабля.
Профессор рассказал морякам о Тихом океане — гигантском углублении на поверхности Земли, занятом величайшей водной массой планеты. Вокруг этого углубления, недалеко от материков, кольцом проходят цепи исполинских складок земной коры, медленно выпучивающихся со дна глубочайших впадин. Все цепи островов — Алеутских, Японских, Зондских — именно и представляют собой образующиеся в настоящий момент складки.
Смятие складок неуклонно продолжается; каждая складка, вершина которой и есть тот или другой из перечисленных островов, поднимается все выше, иногда со скоростью до двух метров в год, и в то же время все более наклоняется в сторону океана.
— Представьте себе, — продолжал профессор, — что воды океана отхлынули куда-нибудь на миг… Тогда вы увидите на месте островов гряды высоких гор, наклоненных к центру океана и грозно нависающих над впадинами подобно застывшим волнам. Противоположный, обращенный к материку скат менее крут, но также образует довольно глубокую впадину, заполненную морем. Таково, например, Японское море. Вдоль обращенных к материку скатов располагаются цепи вулканов. Давление внутри складок настолько велико, что расплавляет породы их внутреннего ядра, прорывающиеся сквозь трещины в виде расплавленных лав. Впадины с океанской стороны проседают все глубже под давлением подножия складок, и вдоль них располагаются центры крупных землетрясений.
Одно из таких землетрясений и было причиной вчерашнего бедствия. Где-то на севере, наверно в Алеутской пучине, у подножия алеутских складок, под давлением их, просел участок дна океана, вызвав сильное землетрясение под водой. Толчок, один или несколько, образовал исполинскую волну, покатившуюся по океану на юг за тысячи миль от места своего возникновения и через несколько часов достигнувшую Гавайских островов. В открытом океане эта волна для нашего “Витима” прошла бы незамеченной — ее поперечник настолько велик (около ста пятидесяти километров), что подъем судна на всю ее высоту никак бы не почувствовался. Другое дело — около суши. Когда эта волна, катящаяся по океану, встречает препятствие, она поднимается, растет и обрушивается на берег с невероятной силой. Да что говорить — все вы видели. Вид и характер волны определяются подводной отмелью берега.
Подобные волны вовсе не так редки на Тихом океане именно потому, что здесь идут процессы формирования современных складок в земной коре… За последние сто двадцать лет Гавайские острова подвергались нашествию волн двадцать шесть раз. Волны шли с разных сторон — и от Алеутских островов, как наша, и от Японских, и от Камчатки, от Филиппин, от Соломоновых, от Южной Америки и один раз даже со стороны Мексики. Последняя по времени волна была в ноябре 1938 года. Средняя скорость хода волн исчисляется примерно от трехсот до пятисот узлов…
Заинтересованные моряки задали Давыдову много вопросов, и беседа затянулась бы на несколько часов, если бы смена вахт не разогнала собрание. Профессор еще долго расхаживал под навесом тента, хмурясь и кривя губы в напряженном раздумье.
Мгновенное разрушение прекрасного острова оставило глубокий след в душе ученого. И почти все вопросы, заданные ему моряками, как-то совпадали с направлением его собственных мыслей. Нужно знать не только, как идет это тихоокеанское складкообразование, но и почему развивается этот процесс. Какие причины там, в глубине Земли, вызывают эти медленные могучие движения, сжимающие огромные толщи пород в складки, выпячивающие их все выше на поверхность Земли? Какими ничтожными сведениями располагаем мы о глубинах нашей планеты, о состоянии вещества там, о физических или химических процессах, совершающихся под давлением в миллионы атмосфер, под тысячекилометровыми толщами неизвестного состава!
Достаточно незначительных молекулярных перегруппировок, ничтожного увеличения объема этих невообразимых масс, чтобы на тонкой пленке известной нам земной коры произошли громадные сдвиги, чтобы кора, разломанная на куски, была поднята на десятки километров в высоту. Однако мы знаем, что таких сильных сдвигов и потрясений не бывает, значит вещество внутри планеты находится в спокойном, уравновешенном состоянии.
Только время от времени, с промежутками в миллионы лет, какими-то полосами, поясами горные породы размягчаются, сминаются в складки, частично расплавляясь и изливаясь в вулканических извержениях. И потом все это, смятое и раздавленное, выпирает на поверхность огромным валом.
Действие воды и атмосферы расчленяет вал на системы речных долин и горных хребтов, образуя то, что мы называем горными странами.
Самое удивительное, что вулканические очаги и эти зоны смятия пород залегают сравнительно неглубоко — на несколько десятков километров от земной поверхности, в то время как центральные части планеты скрыты под слоем вещества в три тысячи километров толщины, по-видимому находящегося в длительном покое…
Давыдов подошел к борту, как бы стараясь мысленно пронизать толщу воды океана и его дно, чтобы разгадать происходящее на глубине шестидесяти километров…
Твердое, остывшее вещество нашей планеты облечено в форму устойчивых химических элементов — тех девяноста двух кирпичей, из которых состоит вся вселенная. Эти элементы здесь, на Земле, почти все устойчивы и неизменны, за исключением немногих радиоактивных — самораспадающихся — элементов, к которым относится приобретший столь широкую известность уран, а также торий, радий, полоний. Сюда же надо отнести, по-видимому, полностью распавшиеся 43, 61, 85-й и 87-й элементы менделеевской таблицы (технеций, прометий, астатин и франций).
Другое дело в звездах, где под воздействием гигантских давлений и температур идут реакции перехода одного элемента в другой: водорода, лития, бериллия в гелий или углерода в кислород и снова в углерод, — реакции с выделением колоссальных количеств энергии: тепла, света и других не менее мощных излучений.
Но какую бы гипотезу образования нашей планеты ни принимать, ясно, что была эпоха, когда вещество Земли находилось в сильно разогретом состоянии, было сгустком раскаленной материи, похожей на звездную. А что, если в массе остывшего вещества планеты остались еще неизвестные нам неустойчивые элементы, остатки атомных процессов той эпохи, подобные искусственно изготовляемым в наших лабораториях заурановым элементам нептуниевой группы?
Очевидно, что элементы эти, как это имеет место с ураном, рассеяны в сравнительно поверхностных слоях Земли и потому бездействуют до того времени, пока в бесконечных перемещениях и перегруппировках вещества не создадутся достаточно крупные их скопления очень большого атомного веса, как уран или торий.
Тогда могут, как мы знаем теперь, развиваться мощные цепные реакции распада, выделяющие массу энергии.
Значит, неизвестные нам силы движений земной коры являются отголоском бесконечно давно затухших атомных превращений элементов группы нептуния. Но если это так, если горообразование на Земле обязано глубинным атомным реакциям, то у нас есть надежда в будущем овладеть их очагами. Искать их надо возле поднимающихся складчатых гор и вулканических областей, вот как здесь, на Тихом океане… Возможно, что в моменты наибольшего развития глубинных цепных реакций на поверхность прорываются сильные излучения, по которым можно нащупать область атомного распада.
Но, в таком случае, в прошлые геологические эпохи эти излучения могли оказывать большое воздействие на живое население планет в местах, где происходило образование складок и гор…
Давыдов вспомнил про гигантские скопления костей вымерших ящеров, изучением которых занимался в Средней Азии, тщетно пытаясь дать удовлетворительное объяснение накоплению остатков миллионов ящеров в одних и тех же местах.
Инстинктом ученого он чувствовал важность своих догадок. Весь уйдя в мысли, он не заметил времени и, только случайно взглянув на часы, понял, что пропустил обед, и крепко выругался.
Глава вторая ЗВЕЗДНЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ
Шатров остановился перед дверью со стеклянной дощечкой: “Заведующий отделом проф. И.А.Давыдов”, переложил в другую руку большую коробку, хитро усмехнулся и постучал. Низкий голос недовольно рявкнул: “Да!” Шатров вошел в кабинет, по обыкновению, быстро, слегка согнувшись и блестя исподлобья глазами.
— Вот это да! — вскочил сидевший за рукописью хозяин. — Никак не ждал! Сколько лет, дорогой друже!
Шатров поставил коробку на стол, друзья крепко обнялись и расцеловались.
Сухой, среднего роста Шатров казался совсем небольшим рядом с громоздкой фигурой Давыдова. Друзья во многом были противоположны. Огромного роста и атлетического сложения, Давыдов казался более медлительным и добродушным, в отличие от нервного, быстрого и угрюмого приятеля. Лицо Давыдова, с резким, неправильным носом, с покатым лбом под шапкой густых волос, ничем не походило на лицо Шатрова. И только глаза обоих друзей, светлые, ясные и проницательные, были сходны в чем-то, не сразу уловимом, скорее всего — в одинаковом выражении напряженной мысли и воли, исходившем из них.
Давыдов усадил Шатрова, оба закурили и стали оживленно обмениваться накопившимися за ряд лет впечатлениями, не высказанными в письмах. Наконец Давыдов погладил пальцами за ухом, встал и извлек из висевшего в углу пальто порядочный сверток. Он развернул его и положил перед Шатровым.
— Слушайте-ка, Алексей Петров, извольте съесть… Не возражать! — вдруг зыкнул он на протестующий жест Шатрова, и оба рассмеялись.
— Совсем как в сороковом! — развеселился Шатров. — Опять забыли съесть! Попадет?
Давыдов закатился хохотом:
— Попадет, если домой принесу. Будьте добры, уважьте, “как в сороковом”.
— Сейчас мы его! — двинул рукой Шатров. — Ок!
— Ну конечно, и “ок” этот по-прежнему! Как приятно слышать!.. Слушайте, Алексей Петрович, пойдем в музей, покажу интересные новости… Есть для вас работа. Такие выкопаны звери!..
— Нет, Илья Андреевич, у меня ведь очень важное дело. Нужно крепко потолковать с вами, нужна ваша голова. Она работает хорошо, без промаха…
— Интересно! — Давыдов провел пальцем по последней строчке рукописи и сложил исписанные листы. — Кстати, письмо ваше получил неделю назад и еще не собрался ответить. Не одобряю…
— Не одобряете моих жалоб? Минута жизни трудная, — слегка смутился Шатров. — Я позаимствовал у вас одну философскую идею, которая часто мне помогает. Но для ее применения надо иметь некоторую силу духа. А бывает, что ослабеешь…
— Какую такую идею? — недоуменно спросил Давыдов.
— Она выражается только одним магическим словом “ништо”. Мне так часто не хватало вашего “ништо” в военные годы…
Давыдов захохотал и, отдышавшись, еле выговорил:
— Именно “ништо”! Будем работать дальше. Оно, конечно, бывает трудно. Наука наша очень хлопотна — тут и раскопки, и огромные коллекции, и сложная обработка, а работников совсем мало. Приходится непродуктивно тратить время, смотреть за пустяковыми вещами… Но у вас ведь был важный разговор, а я отклонился в сторону.
— Разговор будет необыкновенный. У меня в руках — невероятное, настолько невероятное, что я никому, кроме вас, не решился бы сказать о нем.
Наступила очередь Давыдова выказать нетерпение. Шатров хитро улыбнулся, как при входе в кабинет, и, развернув свой пакет, извлек из него большую кубическую коробку из желтого картона, украшенную китайскими иероглифами и почтовыми штемпелями.
— Вы помните Тао Ли, Илья Андреевич?
— Как же! Это молодой китайский палеонтолог, очень способный. Убит в тысяча девятьсот сороковом году фашистскими бандитами при возвращении из экспедиции. Погиб за свободный Китай.
— Совершенно верно. Я описывал некоторые его материалы, состоял с ними в переписке. Он собирался приехать к нам… Так мы и не встретились! — вздохнул Шатров. — Короче говоря, из своей последней экспедиции он прислал мне посылку с необычайно любопытной вещью. Посылка эта вот, на столе. При ней короткая записка с обещанием подробного письма, написать которое ему не удалось. Его убили в Сычуани, на пути в Чунцин.
— А где он был в экспедиции? — спросил Давыдов.
— В провинции Сикан.
— Ну и ну! Однако забрался!.. Погодите — это горный узел на восточном конце Гималайской дуги, между нею и Сычуаньскими горами… Да ведь знаменитый Кам, куда стремился Пржевальский, — это тоже там!
Шатров одобрительно посмотрел на друга:
— Ей-ей, в географии с вами не потягаешься! Я только с картой в руках разобрался. Кам — это северо-западная часть Сикана, и, между прочим, Тао Ли вел исследования именно в Каме, на востоке его, в районе Энь-Да.
— Ясно, ясно. Показывайте, что у вас за штука. Оттуда можно ждать чего угодно!
Шатров извлек из коробки нечто завернутое в несколько слоев тонкой бумаги, развернул и подал Давыдову обломок твердой ископаемой кости, на первый взгляд бесформенной.
Давыдов повернул раза два тяжелый светло-серый кусок и сказал:
— Кусок затылочной части черепа крупного хищного динозавра.[225] Что же тут особенно удивительного?
Шатров молчал. Давыдов еще раз осмотрел кость и внезапно издал глухое восклицание. Положив обломок на стол, он поспешно вытащил из желтого полированного ящика бинокулярную лупу, выдвинул плечо штатива, прикрепил тубус.
Широкая спина профессора согнулась над прибором, он прильнул глазами к двойному окуляру, сунув под лупу свои большие руки с зажатой в них костью динозавра. Некоторое время в кабинете царило молчание. Шатров чиркнул спичкой. Давыдов поднял от бинокуляра расширившиеся от изумления глаза:
— Невероятно! Не могу подыскать объяснение! Череп пробит насквозь в самой толще кости. Отверстие настолько узко, что не могло быть сделано рогом или зубом какого-нибудь животного. Если бы это была болезнь — некроз, костоеда, — тогда края имели бы следы болезненных изменений. Нет, это отверстие было пробито! Пробито в живой кости! Несомненно. Обе стенки черепа. Насквозь, точно пулей. Да, если бы это не было бредом, я сказал бы, что пулей… Впрочем, нет, отверстие не круглое — это овальная узенькая щель, точно вырезанная и потом уже, в процессе окаменения кости, заполнившаяся рыхлой породой. — Давыдов отодвинул штатив бинокуляра. — Поскольку я не склонен был до сих пор к бредовым видениям и явно трезв, то могу лишь сказать — странный случай. Необъяснимый случай!
Он холодно посмотрел на Шатрова. Тот вытащил из коробки второй пакет, снова зашелестел бумагой.
— Я не могу спорить с вами, — медленно сказал Шатров, — это действительно случай, и если хорошенько подумать, то можно найти ему даже не одно объяснение. Но второй такой же случай заставит вас отказаться от сомнений. Вот он, второй случай! Ок!
На стол перед Давыдовым легла вторая кость — плоская, с изломанными краями.
Давыдов затянулся, должно быть, очень глубоко папиросой, побагровел и закашлялся.
— Обломок левой лопатки хищного динозавра, — говорил Шатров, склоняясь через плечо приятеля, — но не того животного, чей череп. Это более старый и крупный индивид…
Давыдов кивнул головой, не отрывая глаз от маленького овального отверстия в костяной пластине — обломке лопатки могучего ящера.
— То же самое, то же самое! — взволнованно шептал он, водя пальцем по краю загадочного отверстия.
— Теперь записка Тао Ли, — методически продолжал Шатров, скрывая радостное торжество.
Ему, уже пережившему потрясающее значение открытия, было легче сохранять хладнокровие.
Вместо плавной русской речи в кабинете зазвучали отрывистые английские слова. Шатров медленно прочитал короткое сообщение погибшего ученого:
— “…В сорока милях к югу от Энь-Да, в системе левых притоков Меконга, я наткнулся на обширную котловину, ныне занятую долиной реки Чжу-Чже-Чу. Это межгорная впадина, залитая покровом третичной лавы.
Там, где ущелье реки прорезает насквозь лавовый покров, видно, что он всего в тридцать футов мощности. Под ним лежат рыхлые песчаники, содержащие множество костей динозавров, среди которых я открыл образцы со странными повреждениями. Два из них я посылаю вам, пораженный своей находкой настолько, что мне необходима уверенность в том, что ошибки нет. Не все повреждения одного типа. Есть образцы, в которых часть кости как бы срезана огромным ножом, но также, несомненно, по живой кости, до гибели животного, вернее — в момент ее. Я везу в Чунцин более тридцати таких образцов, собранных в разных местах долины, где обнаружено большое количество динозавров, причем — их полных скелетов. Этикетки с точными данными места — при образцах.
Я настолько спешу отправить вам эту посылку, что не успел написать подробное письмо. Его я пошлю, когда вернусь в более комфортабельную обстановку в Сычуани…”
Шатров замолчал.
— Все? — нетерпеливо спросил Давыдов.
— Все. Коротко настолько, насколько велико значение его находки.
— Погодите, Алексей Петрович, дайте прийти в себя… Это сон какой-то! Сядем спокойно и обсудим, а то у меня все в голове завертелось — одурел.
— Очень хорошо вас понимаю, Илья Андреевич. Надо признаться, что ученому для выводов из этого факта требуется большая смелость. Ломка всех установившихся представлений… Я не так смел в своих работах, как вы, но тут и вы спасовали…
— Хорошо, давайте рассуждать смело, благо мы наедине и никто не подумает, что два палеонтологических кита, мягко выражаясь, рехнулись. Начинаю! Итак, эти хищные динозавры были убиты каким-то могучим оружием. Его пробивная способность, видимо, превосходила мощные современные ружья. Такое оружие могло создать только мыслящее существо, вдобавок стоящее на высокой ступени культуры. Верно?
— Безусловно. Ergo[226] — человек! — вставил Шатров.
— Так. Но эти динозавры жили в меловом периоде[227] — скажем, семьдесят миллионов лет назад. Все факты нашей науки неопровержимо, несомненно говорят, что человек появился на Земле как одно из последних звеньев великой цепи развития животного мира шестьдесят девять миллионов лет спустя, да еще много сотен тысяч лет пребывал в животном состоянии, пока его последний вид не научился мыслить и трудиться. Раньше человек возникнуть не мог, а человек, вооруженный техникой, — тем более. Это абсолютно исключено. Следовательно, вывод может быть только один: те, кто убил динозавров, не родились на Земле. Они пришли из другого мира…
— Да, из другого, — твердо сказал Шатров. — И я…
— Одну минуту. Пока еще все вразумительно. Но дальше уже становится невероятным. Последние достижения астрономии и астрофизики изменили старые представления. Много романов было написано на тему о пришельцах из других миров. Правда, еще недавние утверждения большинства ученых, что наша Солнечная система планет есть исключительное явление, ныне отвергнуты. Теперь мы имеем основание предполагать, что многие звезды имеют планетные системы. И так как число звезд во вселенной бесконечно велико, то и число планетных систем чудовищно. Следовательно, считать дальше, что жизнь есть исключительная прерогатива Земли, не приходится. Смело можно сказать, что во вселенной есть жизнь. Можно утверждать не менее твердо, что повсюду жизнь проделывает путь эволюционного развития и, следовательно, вполне возможно появление мыслящих существ. Все это так. Но в то же самое время мы знаем теперь, что расстояния до ближайших звезд с планетными системами чрезвычайно велики. Настолько, что требуются десятки лет полета со скоростью светового луча, то есть трехсот тысяч километров в секунду. Такая скорость недостижима по физическим законам ни для какого аппарата, а путешествие с меньшими скоростями превратит полет в тысячелетнее странствование…
В последнее время открыты темные, невидимые звезды, которые распознаются лишь по своему радиоизлучению. Этих радиозвезд в окрестностях нашей Солнечной системы довольно много, но, во-первых, они все же далеки для достижения их ракетными снарядами; во-вторых, вряд ли обладают населенными планетами из-за слабости своего излучения, неспособного обогревать планеты в достаточной мере.
А в нашей планетной системе, кроме нашей Земли, только Марс и Венера подают надежды. Но надежды слабые. На Венере слишком горячо, вращается она медленно, атмосфера ее густа и без свободного кислорода. Вряд ли жизнь смогла развиться на Венере, и совершенно исключено присутствие там мыслящих существ с высокой культурой. Также и Марс. Его атмосфера слишком тонка и разрежена, тепла там мало, и если жизнь существует, то в каких-то бедных, угнетенных формах. Я не сомневаюсь, что там нет буйной энергии развития жизни, которая на нашей Земле смогла выработать человека. О далеких больших планетах я и не говорю: Сатурн, Юпитер, Уран, Нептун — это страшные миры, холодные, темные, как нижние круги Дантова ада. Возьмите, например, Сатурн — в центре планеты скалистое ядро, на котором лежит слой льда в десять тысяч километров толщиной. И все это окутано густой атмосферой в двадцать пять тысяч километров толщины, непроницаемой для солнечных лучей и богатой ядовитыми газами — аммиаком и метаном. Значит, под такой атмосферой — вечный мрак при морозе в сто пятьдесят градусов и давлении в миллион атмосфер… Жутко представить себе…
— Я тоже думаю, — перебил Шатров, — что в нашей планетной системе нет собратьев нам по мысли. И я…
— Вот видите. На наших планетах, следовательно, нет, а с далеких звездных систем прилететь невозможно. Тогда откуда же могли взяться эти пришельцы? Вот в чем невероятность!
— Вы меня не дослушали, Илья Андреевич. Я хоть не обладаю вашей эрудицией в самых различных областях, но сообразил, в общем, то же самое. Звезды ведь не неподвижны. Внутри нашей Галактики они перемещаются, сама Галактика вращается да еще вся целиком куда-то движется, как и все великое множество других галактик. За миллионы лет могли происходить существенные сближения и расхождения звезд…
— Ну, это вряд ли нам поможет. Ведь пространство Галактики настолько велико, что сближение именно нашей Солнечной системы с другими имеет вероятность практически нулевую. Да и как разгадать эти звездные пути?
— И это верно, но верно лишь в том случае, если движения звезд не закономерны, не подчинены каким-то определенным путям. А если они закономерны? И если эту закономерность можно вычислить?
— Мм!.. — скептически промычал Давыдов.
— Ладно, я открываю свои карты. Один мой бывший ученик, сбежавший с третьего курса на математические науки, в астрономию, занялся вопросом движения нашей Солнечной системы в пределах Галактики и создал интересную, хорошо обоснованную теорию. Буду краток. Наша Солнечная система описывает внутри Галактики огромную эллиптическую орбиту с периодом обращения в двести двадцать миллионов лет. Эта орбита несколько наклонена относительно горизонтальной плоскости — экватора звездного “колеса” нашей Галактики. Поэтому Солнце с планетами в определенный период прорезает завесу черного вещества — пылевой и обломочной застывшей материи, — стелющуюся в экваториальной плоскости “колеса” Галактики. Тогда оно приближается к сгущенным звездным системам некоторых областей. А в этом случае возможно сближение нашей Солнечной системы с другими неведомыми системами, сближение настолько значительное, что перелет становится реальным…
Давыдов, не шевелясь, слушал друга, рука его застыла на штанге бинокуляра.
— Такова теория, — продолжал Шатров. — Я только что вернулся с места гибели своего бывшего ученика, где разыскал его рукопись. Он погиб в сорок третьем году… — Шатров остановился, зажег папиросу. — Так, теория показывает нам только возможность, — подчеркнул он последнее слово, — но еще не дает права считать невероятное за реальный факт. Но когда мы видим сцепление двух совершенно независимых наблюдений, это показывает, что мы на верном пути. — Шатров картинно выпрямился и задрал вверх подбородок. — В теории моего ученика прямо сказано, что приближение Солнечной системы к центральным сгущениям ветви внутренней спирали Галактики произошло примерно семьдесят миллионов лет назад!
— Ехидная сила! — Давыдов употребил свое излюбленное ругательство.
Шатров торжественно продолжал:
— Одно невероятное, сцепившись с другим, превращается в реальное. Я полагаю, что вправе утверждать: в меловом периоде произошло сближение нашей планетной системы с другой, населенной мыслящими существами — людьми в смысле интеллекта, — и они переправились со своей системы на нашу, как с корабля на корабль в океане. А затем в громадном протяжении протекшего времени эти корабли разошлись на неимоверное расстояние. Они — те, с другой звезды, — были на нашей Земле недолго и не оставили поэтому заметных следов. Но они были, и они могли преодолевать межзвездное пространство за семьдесят миллионов лет до того, как мы также подошли к этому… Имеете возражения?
Давыдов встал, молча поглядел на друга и протянул руку:
— Вы меня убедили, Алексей Петрович. Но не все еще ясно. Ну, например, зачем им было попадать сюда, именно на нашу Землю, эту маленькую козявку среди звезд и планет? Есть и еще вопросы, но основное, по-моему, достаточно убедительно. Неслыханно, невероятно, но реально. Однако, как вы думаете: можно ли опубликовать?
Шатров замотал головой:
— Ни в коем случае! Поспешность убьет все. Для такого открытия она недопустима.
— Верно, верно, друже. Всегда умнее выждать, чем забегать вперед. Но выждать подготовленными ко всему! Необходимо добыть аргументы настолько веские, как наш “аргумент” в Ленинграде!
Шатров вспомнил “аргумент”, который хранился в углу кабинета Давыдова во время их совместной работы.
Это была массивная железная стойка от каркаса скелета, которой Давыдов грозился вразумлять упрямого и увлекающегося друга при их постоянных спорах. Шатров невольно улыбнулся:
— Как же, помню! Вот именно. Отсюда и начинается вторая часть моего дела к вам. Я не геолог, не полевой работник — я кабинетный схимник. А это предприятие под силу только вам и никому другому. Ваш авторитет…
— Ха-ха! Словом, надо раскапывать место побоища звездных пришельцев с динозаврами… Ну и ну!
Давыдов задумался, потом медленно заговорил:
— Интересное место этот Сикан. А для нас, палеонтологов, там ведь черт знает что! Вы знаете, конечно, Алексей Петрович, что там одновременно существовали в конце третичного периода[228] древние и новые формы вымерших млекопитающих. Дикая смесь того, что в других местах Земли вымерло уже десятки миллионов лет назад, с тем, что недавно появилось. А самое то место! — воодушевился Давыдов. — Высокие снеговые горы, холодные плоскогорья, сухие и пустынные, а между ними — глубочайшие долины с роскошной тропической растительностью. Непроходимые пропасти, разделяющие селения. От одной деревеньки до другой, скажем, два километра, но между ними лежит чудовищно глубокая долина, и жители этих двух селений никогда не встречаются друг с другом, хотя и могут видеть соседей издалека. Странные, неизвестные еще науке звери живут в густых лесах, на дне долин, а наверху воют холодные бури. Там начинаются величайшие реки Индии, Китая, Сиама — Брамапутра, Янцзы, Меконг. Изумительное место! Но представляете себе этот стык Тибета, Индии, Сиама и Бирмы? Хо-хо! Разве империалисты пустят туда ученых-коммунистов? Где уж пытаться науке проникнуть туда![229] — Давыдов вытащил огромные старые часы. — Еще нет двух. Что значит большое переживание: кажется, будто весь день прошел! — Он встал и подал Шатрову кольцо с ключами: — Коробку спрячьте в этот шкаф, слева… Что бы там ни было, но мы обязаны сделать все, что возможно. Пойдем узнаем, не примет ли нас Тушилов… Вы надолго в Москву, Алексей Петрович?.. До выяснения? Значит, с неделю пробудете — раньше вряд ли что-нибудь решится. Остановитесь у меня, конечно? Я сейчас позвоню секретарю и потом домой, что задержимся.
В просторной, скромно меблированной квартире Давыдова было тихо. Сквозь огромные окна проникал синеватый полусвет летних сумерек. Шатров, сгорбившись, долго молча ходил взад и вперед.
Давыдов угрюмо откинулся в кресле перед своим большим письменным столом.
Друзья размышляли, каждый по-своему. Не хотелось зажигать свет, как будто медленно наступавшая в комнате темнота умеряла их огорчение.
— Завтра я уеду, — наконец проговорил Шатров, — больше мне нельзя задерживаться, да и не к чему. Отказ бесповоротный. Впрочем, вряд ли могло быть иначе. Наши потомки разберут это дело, когда исчезнут проклятые эти границы.
Давыдов, не отвечая, смотрел в окно, где над крышей соседнего дома робко загорались мелкие и тусклые звезды городского неба.
— Горько стоять, как нищему, у порога великого открытия и не иметь возможности войти! — опять заговорил Шатров. — Не будет мне теперь покоя до конца дней, и не утешат никакие другие достижения!
Давыдов вдруг потряс над головой сжатыми кулаками:
— Мы не можем поступиться этим! И нам помогут! Черт с ним, с Камом! В конце-то концов, какая уверенность, что там, где сохранились остатки убитых “ими” динозавров, мы найдем следы “их” самих? Никакой. Раз “они” явились к нам зачем-то, то вовсе не обязательно “им” было сидеть на одном месте. Почему бы не поискать в меловых отложениях у нас? И заранее могу сказать: если подобные остатки есть, то их можно найти только в системах высоких и молодых горных хребтов. В Каме находка не случайна. Почему? Да потому что там, где земная кора расколота на бесчисленные небольшие участки, из которых одни поднимаются, другие опускаются, только там разные маленькие и случайные отложения могут сохраниться от неминуемых перемываний и размываний. Если какая-нибудь маленькая впадина начала опускаться еще в мелу и потом так и осталась впадиной среди гор, там, под слоями все нарастающих наносов, может уцелеть то, что в других местах, на равнине, будет перемыто, переотложено и разрушено. У нас есть подходящие для этого места в горах Казахстана, Киргизии, Узбекистана, вообще Средней Азии. Эти горы как раз относятся к великой эпохе альпийского горообразования,[230] начавшегося в конце мелового периода. У нас есть где искать, но надо знать, что искать, иначе…
— Ей-ей, не понимаю вас, Илья Андреевич! — перебил Шатров. — Разве не ясно, что… вернее — кого искать?
— Вот и неверно. Нам надо решить, каков облик этих пришельцев, что они такое — может быть, протоплазма какая-нибудь, не могущая сохраниться? Это раз. И что они делали здесь — два. Первое поможет понять, с какими останками мы можем столкнуться при раскопках, второе — где легче можно натолкнуться на их останки, если они есть вообще. По каким местам нашей планеты должны они были бродить? Ох, если вдуматься, наше предприятие попахивает безнадежностью… Но это, конечно, не значит отказаться! Так вот, разделимте задачу, как в добрые старые времена, когда писали совместные работы. Вы берете биологическую сторону — первый вопрос. Я возьму второй и вообще всю геологию, направление и развитие поисков. Кое-какие мыслишки у меня есть — ведь я исследовал все наши громадные среднеазиатские местонахождения динозавров.
— Вы задали мне нелегкую задачу! — воскликнул Шатров. — Мало ли какие формы жизни могли существовать в иных мирах! Тут, пожалуй, никому не под силу решить что-либо определенное, ей-ей.
— Гниль, гнусь и жалкая интеллигентщина! — внезапно разъярился Давыдов. — Конечно, задача трудна, потому что нет фактов, надо идти только умозрительно. Вся надежда на мощь ума. Проломить стену. Но если ваша голова не сообразит ничего путного, то кто же еще из нашего наличного состава одолеет это? А потом, о разных формах жизни — всяких там каменных или металлических существах, — это вы оставьте писателям. Нам не к лицу. Помните об энергетике жизни — она сложилась не случайно, а вполне закономерно. Основные положения, по-моему, следующие, и из них нам и надо исходить, чтобы оставаться учеными до конца. Строение живых существ не случайно. Во-первых, единство материи вселенной доказано — всюду и везде девяносто два основных элемента, как и на нашей Земле. Доказана общность химических и физических законов во всех глубинах мирового пространства. А если так, то, — Давыдов стукнул кулаком по столу, — живое вещество, состоящее из наиболее сложных молекул, в основе своей должно иметь углерод — элемент, способный образовывать сложные соединения. Во-вторых, основа жизни есть использование энергии излучения Солнца, использование наиболее распространенных и эффективных химических кислородных реакций. Так?
— Все верно, — кивнул Шатров, — но пока…
— Одну минуту. Чем сложнее строение молекул, тем легче они распадаются при повышении температуры. В веществе раскаленных звезд вообще нет химических соединений. В менее сильно нагретых звездах, как, например, в спектрах холодных красных звезд, в солнечных пятнах, мы обнаруживаем лишь простейшие химические соединения. Поэтому можно утверждать, что появление жизни в любой, самой необычайной ее форме может быть только при сравнительно низкой температуре. Но не очень низкой, иначе движение молекул замедлится чересчур сильно, химические реакции перестанут происходить и энергия, нужная для жизни, не будет производиться. Следовательно, заранее, без всяких особых допущений, можно говорить об узких температурных пределах существования живых организмов. Не буду утруждать вас длительными рассуждениями, вы и так легко поймете, когда я скажу, что эти температурные пределы определяются еще точнее; это те пределы, в которых существует жидкая вода. Вода — носитель основных растворов, посредством которых осуществляется жизнедеятельность организма.
Жизнь для своего появления и постепенно нарастающего усложнения требует длительного исторического, эволюционного развития. Следовательно, условия, необходимые для ее существования, должны быть устойчивыми, длительными во времени, в узких пределах температуры, давления, излучения и всего того, что мы понимаем под физическими условиями на поверхности Земли.
А что касается мысли, она может появиться только у весьма сложного организма, с высокой энергетикой, организма, в известной мере независимого от окружающей среды. Значит, для появления мыслящих существ пределы еще уже — это как бы узкий коридор, проходящий через время и пространство.
Возьмите, например, растения с их синтезом углерода при помощи света. Это энергетика более низкого порядка, чем у животных с их кислородным горением. Поэтому растения хотя и достигают колоссальных размеров, но при условии неподвижности. Движения могучего и быстрого, как у животного, у больших растений быть не может. Не та машина, грубо говоря.
Итак, жизнь в той же общей форме и тех же условиях, как на Земле, не случайна, а закономерна. Только такая жизнь может проходить длительный путь исторического усовершенствования, эволюции. Следовательно, вопрос сводится к оценке возможных эволюционных путей от простейших существ до мыслящего животного. Все другие решения — бред, беспочвенное фантазирование невежд!
— Строго, Илья Андреевич! Я вовсе не отказываюсь думать над этим вопросом. И все, что придет в голову, буду сообщать вам…
— Илья Андреевич, вас к телефону. Уже который раз звонят, но вы отсутствовали несколько дней.
Давыдов яростно крякнул, оторвавшись от корректуры. Большая кипа гранок топорщилась на столе с приколотым сверху листом: “Проф. Давыдову, срочно! Просьба не задержать!” Под гранками лежали две статьи, присланные на отзыв и уже задержанные профессором. За несколько дней, потраченных на попытку добиться разрешения экспедиции в Кам, накопилось много срочной работы — той работы, которая облепляет каждого крупного ученого и не имеет прямого отношения к его исследованиям. На квартире Давыдова лежала толстая диссертация. Диссертант ожидал рецензии. Через три часа должно было состояться длинное заседание. Явился препаратор с просьбой осмотреть работу и дать указания для ее продолжения. И в то же время нужно было написать несколько писем для осуществления необычайного шатровского дела.
Профессор, вернувшись к столу после разговора по телефону, схватился за корректуру. Перо чиркало сердито и резко, отрывистые ругательства сыпались на корректоров. Наконец у Давыдова строчки стали сливаться в глазах, он пропустил две поправки и понял, что нужно сделать перерыв. Давыдов потер глаза, потянулся и вдруг запел громко и неимоверно фальшиво на однообразный, унылый мотив:
— “Ой ты, Волга-матушка, русская река, пожалей, кормилица, силу бурлака!”
В приоткрытую дверь стукнули. Вошел профессор Кольцов, заместитель директора института, в котором работал Давыдов. На лице Кольцова, обрамленном короткой бородкой, блуждала язвительная усмешка, а темные глаза печально смотрели из-под длинных, загнутых, как у женщины, ресниц.
— Жалобно поете, сэр! — усмехнулся Кольцов.
— Еще бы! Невпроворот работы, мелких делишек, к настоящему делу не подойти. Чем старше становишься, тем больше наматывается разной чепухи, а силы уже не те, ночами трудно сидеть. Мышиная возня! — прогремел Давыдов.
— Пфф, сколько шуму! — поморщился Кольцов. — Вы тащить можете, сэр, у вас фигура могучая — статуя командора… Ха-ха-ха! Вот вам письмо от Корпаченко из Алма-Аты. Оно вас, думаю, заинтересует.
Небо над крышами посветлело, наступивший рано летний день боролся с желтым светом настольной лампы у раскрытого настежь окна. Давыдов закурил. Папироса уже потеряла всякий вкус, табак тяжело оседал на утомленное сердце. Но намеченная программа была выполнена — одиннадцать писем к геологам, работавшим в области меловых отложений Средней Азии, лежали на загроможденном бумагами и книгами столе. Оставалось запечатать конверты, и тогда письма уйдут с утренней почтой. Давыдов принялся надписывать адреса и не заметил, как в комнату вошла жена, по-детски протирая кулачками заспанные глаза.
— Как тебе не стыдно! — негодующе воскликнула она. — Рассветает! А где же обещание не сидеть ночами? Ведь сам жаловался на усталость, на потерю работоспособности… Фу, как нехорошо!
— Я уже кончил… Вот видишь — пять конвертов надпишу, и все, — виновато оправдывался Давыдов. — И больше я не буду сидеть. Это надо было во что бы то ни стало сделать… Иди спи, маленькая, я сейчас лягу.
Давыдов надписал последний конверт и погасил лампу. Бледный свет и прохладный воздух утра заполнили комнату бесстрастной ясностью.
Давыдов посмотрел на небо, потер лоб. Внезапно поставленная им задача поисков звездных пришельцев в горных котловинах Средней Азии предстала во всей своей безнадежной трудности.
В самом деле, если сравнительно часто находятся останки ископаемых животных, то ведь это потому, что миллиарды их жили на поверхности Земли и многие останки неизбежно попадали в условия, способствующие их сохранению и окаменению. Но пришельцев из чужого мира не могло быть много. Даже если следы их сохранились где-то, то найти эти следы в огромных массах осадочных отложений, в тысячах кубических километров горных пород можно только при раскопках колоссального объема. Тысячи людей должны просматривать тысячи кубометров породы, сотни мощных экскаваторов — снимать верхние пласты. Химера! Ни одна страна в мире, как бы богата она ни была, не может тратить миллиарды рублей на раскопки такого масштаба. А обычные палеонтологические раскопки, даже самые крупные, с вскрытием площадок в триста — четыреста квадратных метров — капля в море, пустяк при поставленной задаче. Вероятность, равная нулю!
Истина, обнаженная и беспощадная, заставила Давыдова опустить усталую голову. Его попытки показались ему смехотворными, планы — безнадежными.
Шатров был прав, более прав, оценивая своим ясным умом всю негодность средств, имевшихся в их распоряжении.
“Беда! — огорченно подумал Давыдов. — Не уснешь теперь вовсе: одолеют проклятые сомнения. Что бы еще сделать, чем отвлечься? Да, вот письмо, переданное Кольцовым, еще не просмотрел”.
Профессор извлек из портфеля письмо известного геолога, работавшего в Казахской Академии наук. Тот писал в институт о том, что в текущем году начинаются грандиозные работы в ряде больших межгорных котловин Тянь-Шаня — народная стройка целой сети крупных каналов и гидроэлектростанций. Два из этих строительств — кстати, наиболее крупные: номер два — в низовьях реки Чу и номер пять — в области Каркаринской котловины — вскроют верхнемеловые отложения, в которых известны большие скопления костей динозавров. Поэтому необходимо организовать постоянное наблюдение палеонтологов во время земляных работ. Необходимо связаться с Госпланом и после этого координировать действия непосредственно с начальниками строительств…
По мере чтения письма отступала безнадежность, заполнившая душу Давыдова. Он понял, что ему на помощь приходит редкая удача. Интересы его науки совпали с производственными интересами страны, и теперь огромная мощь труда осуществит такие раскопки, какие даже не снились ни одному ученому! Пожалуй, есть надежда проверить невероятную находку Тао Ли и, если опять повезет, подарить человечеству ясное доказательство того, что оно не одиноко во вселенной…
Солнце, свежее и яркое, вставало над городом, облака казались полосами лиловой пены на прозрачной золотой воде. Шум просыпающегося города несся в комнату.
Давыдов встал, жадно вдохнул несколько раз свежий воздух, задернул портьеру и стал раздеваться.
Шатров смял и бросил в корзину только что законченный рисунок черепа. Потом извлек из груды книг на столе брошюру и задумался, не раскрывая книги.
Тяжелая дорога — путь новых исканий! Редкие взлеты мысли — как сказочно легкие прыжки над пропастями грубых ошибок. И все время тащишься по крутым склонам медленного восхождения под тяжким бременем фактов, задерживающих, влекущих назад, вниз… Ничего! Поставленная задача велика и важна. А те, кто был здесь семьдесят миллионов лет назад? Бесстрашная воля и ум человека не испугались даже грозных межзвездных пространств. Те, неведомые, сумели переброситься с одного корабля на другой в то время, когда они на огромных скоростях расходились друг с другом. Не испугались того, что каждая секунда времени удаляла их на сотни километров от родной планеты. И, выполнив какую-то задачу, сумели вернуться или вскоре погибли, ибо те великие изменения, которые разумный труд производит в природе, не ускользнули бы от нас, изучающих теперь, семьдесят миллионов лет спустя, свою планету.
Если мы до сих пор не нашли этих изменений, то пришельцы были на Земле очень короткое время. Неведомые гости неведомого мира!
Хорошо! Он будет размышлять дальше над своей долей задачи, искать возможные облики людей иных миров. И скоро он сообщит Давыдову… Но Давыдов… Он пишет ему регулярно о чем угодно, кроме самого интересного: как идут поиски. Полтора года прошло уже с момента памятного разговора в Москве над пробитыми костями вымерших ящеров. Видимо, ничего не удалось большому другу…
В этот самый момент машина Давыдова быстро шла по пыльной, выбитой дороге. Белесая пыль бежала под дергающийся вперед и назад свет фар, облаком взвивалась позади, застилая звезды у низкого горизонта.
Вдали перед ветровым стеклом машины вставало в ночи красноватое обширное сияние. Оттуда доносился низкий гул, прорывавшийся сквозь шум мотора…
Через полчаса Давыдов в сопровождении прораба и своего сотрудника, прикомандированного к стройке, направлялся к северному концу участка, слегка оглушенный исполинским размахом работы.
Тысячесвечные фонари на высоких столбах казались окруженными легким туманом, облако более густой пыли окутывало левую сторону участка. Там скрежет, грохот и лязг мощных экскаваторов совершенно заглушали стук сотен вагонеток, с шумом опрокидывающихся на откаточной горке.
Толща отложений была глубоко прорезана ложем будущего канала. Двадцатиметровые стены высились по сторонам; на их ровных, точно оглаженных исполинским ножом крутых скатах выступали мощные галечники, целые нагромождения валунов, сменявшиеся желтыми песками и слоистыми песчаниками с миллионами блесток слюды и гипса.
Ночь, расстилавшаяся вокруг, в просторах пустынной степи, здесь не существовала, как не существовала и сама степь. Здесь был особый мир напряженного гигантского труда, по-своему изменивший лицо древней казахстанской пустыни.
Давыдов проходил мимо загорелых, покрытых потом и пылью людей, не обращавших на него никакого внимания. Отбойные молотки сотрясались в умелых руках, разрыхляя выступы твердых скал. Грузные, похожие на огромные железные скелеты машины тяжко ворочались в пыли. Грузовики стадами толклись у погрузочных конвейеров, без конца ссыпавших убираемый грунт.
— Вот это раскопки, Илья Андреевич! — прокричал сотрудник Давыдова.
Профессор весело усмехнулся и хотел что-то сказать, но в этот момент застланное пылью небо осветилось широкой дугой вспышки, тяжкий гул передался по земле.
— Взрыв на выброс, — пояснил прораб. — Выкинули разом сотни три тысяч кубометров. Там, на восьмом участке, готовят канавку для экскаваторов.
Давыдов оглядел “канавку”, вдоль которой шел. Она тянулась насколько хватал глаз в рядах фонарей, прямо и неуклонно рассекая степь, на севере расширяясь в котлован чуть ли не полкилометра в поперечнике. Там было вскрыто кладбище динозавров — колоссальное нагромождение огромных окаменелых костей. Кости тянулись грядой поперек всего котлована и, по-видимому, еще далеко за его пределами. Они беспорядочно громоздились, подобные обрубкам бревен, наваленные друг на друга слоем в восемь метров толщины, смешанные с небольшим количеством крупной гальки. Здесь не было цельных скелетов, только обломки костей разной величины и разных пород вымерших ящеров, перемешанные как попало. Экскаваторы врезались в это скопление остатков сотен тысяч чудовищ, разгребая и расчищая площадь котлована. Разбросанные и наваленные грудами кости угрюмо чернели на краю выемки в тусклом свете начинающегося утра…
Высоко поднявшееся солнце жгло уже в полную силу. Груды черных костей раскалились, как в банной печи.
— Можно считать осмотр оконченным, — сказал Давыдов, беспрерывно вытирая мокрое от пота лицо. — Здесь то же самое, что и на втором участке. Вторая гряда костей. Я исследовал двадцать лет назад к северу отсюда, в урочище Бозабы, на правом берегу Чу, еще большую гряду костей — тридцать километров в длину. Подобные гигантские кладбища есть и в долине реки Или, и в Кара-Тау, и около Ташкента. И все они такие — из беспорядочно перемешанных миллионов костей, но ни одного целого скелета или черепа. Для изучения материал почти непригоден. Это остатки размытых когда-то кладбищ динозавров, кладбищ, которые превосходят всякое воображение по своим размерам.
— У вас какие-нибудь новые соображения относительно этих “полей смерти”, Илья Андреевич? — спросил помощник. — В опубликованных работах вы…
— Высказался неясно? — перебил Давыдов. — Не только неясно, но и неверно. Я тогда не представлял себе полностью масштабов явления.
— А теперь что вы думаете, Илья Андреевич?
— Не знаю… просто не знаю и не думаю! — резко сказал Давыдов. — Ну хорошо, нужно идти. Если я через три часа уеду, то к вечеру буду на Луговой. Поезд в Москву идет в час ночи.
— А мне продолжать наблюдения?
— Разумеется. Подыщите помощников для разборки костей. В массе обломков кое-что попадается и путное. Наконец, на других участках опять могут встретиться новые скопления. Хотя если будут продолжаться галечники и конгломераты, то все будет то же самое. Я не надеюсь уже на это строительство. Вот номер пять — там другой характер отложений: пески и гравий, песчаники почти без гальки. Отложения мелких, спокойных потоков и даже частично ветровые. Но Старожилов оттуда за полгода работ не сообщил ничего интересного. Сидит безрезультатно. Захандрил бедняга…
В большой комнате для занятий аспирантов находилось трое молодых людей. Один, взгромоздясь на стол, оживленно беседовал с девушкой, сидевшей в углу.
— Настоящий исторический момент, — говорил сидевший на столе, яростно теребя свои густые рыжеватые волосы, — определяет очень многое в будущей судьбе человечества. Атомная энергия в руках агрессоров угрожает гибелью цивилизации, всем достижениям культуры. Наши геология и палеонтология вовсе не самое важное, и это-то заставляет меня сомневаться, правильно ли я выбрал специальность. Я чувствую себя как-то в стороне от настоящей жизни. Хочется быть в рядах тех, кто создает атомную энергетику для нашей родины. Страна социализма должна иметь самую могучую и передовую физику. Верно, Женя?
— Все это верно, — отвечала ему девушка, — но если кто не способен к математике? Я вот не люблю ее — как же я могу работать по физике?
— Не так страшно. По-моему, для некоторых разделов физики вовсе не требуется много математики… Ты что качаешь головой? — повернулся он к другому аспиранту, молчаливо прислушивавшемуся к разговору.
— А все-таки, как интересна палеонтология! — вздохнула девушка. — Конечно, физика важнее. Но мне кажется, и тут можно принести много пользы… Знание…
Дверь с шумом распахнулась, и в комнату влетела худенькая, стройная девушка со свертком миллиметровки в руках.
— Ребята, приехал Илья Андреевич! Я видела его в канцелярии. Сказал — сейчас к нам зайдет. Надо приготовиться! А вы тут разговорами занимаетесь с Мишкой!
Женя оглянулась на дверь:
— Мы с Михаилом о серьезных вещах говорили.
— Знаю, о каких серьезных вещах: бросать палеонтологию, идти заниматься атомной энергией. Так тебя сразу и возьмут. Гений пропадает непризнанный! Давайте-ка спросим у Ильи Андреевича, как он к этому делу отнесется. Он, когда сердитый, говорят, мастер ругаться черными словами.
— Ты с ума сошла, Том! — заволновался Михаил. — Разве можно сказать большому ученому: мы, мол, не считаем его науку важной! Мы, его аспиранты!
— А вот возьму и спрошу! — заупрямилась Тамара. — Надо наконец поставить точку на всех ваших разговорах. Ты Женю ими замучил, да и мне надоел…
В дверь громко постучали. Михаил мгновенно спрыгнул со стола, Женя невольно поправила волосы. Вошел Давыдов, широко улыбаясь, бодрый и веселый, поздоровался, в нескольких словах рассказал о своей поездке.
— А теперь вы рассказывайте. Какие достижения и вопросы? Начнем хотя бы с вас, Тамара Николаевна.
Тамара улыбнулась слегка смущенно.
— А можно вас сначала спросить по общему вопросу, Илья Андреевич? — начала она. — Вы не торопитесь?
Михаил за спиной Давыдова в комическом ужасе закатил глаза.
— Нисколько не тороплюсь, — ответил Давыдов. — И вы знаете, я люблю, когда меня спрашивают.
— Илья Андреевич, Михаил… мы все обсуждали, правильно ли сделали выбор специальности. В такое время наши ископаемые кости… Вот Михаил говорит — надо бы заниматься физикой… И мы были на докладе Петрова — не совсем понятно, но страшно интересно! — Тамара выпалила все это одним духом, запнулась, вздохнула и поспешно закончила: — Я хотела спросить ваше мнение по этому вопросу. Что вы нам посоветуете?
Давыдов стал серьезным, нахмурился и, против ожидания Тамары, нисколько не рассердился. Он медленно вытащил портсигар.
— Окно открыто, значит, можно курить… Вопрос серьезный. Я вас понимаю. Во время крупных переворотов в технике те дисциплины, которые стоят в стороне, должны казаться неважными. И вы, молодежь, естественно, колеблетесь, несмотря на уже приобретенную специальность. Я бы тоже колебался… Но вот что я вам скажу…
Давыдов зажег папиросу, задумчиво посмотрел на поднимавшийся вверх дым.
— Есть люди, — медленно начал профессор, — безразличные в выборе научного пути. Случай, выгода — и они будут заниматься чем угодно. И даже с большим успехом, с хорошими результатами. Но я не считаю их настоящими учеными. Выбор науки, что там ни говори, определяется личными склонностями, способностями и вкусами. Только тогда, когда ваш ум будет требовать знания, ловить его, как задыхающийся ловит воздух, тогда вы будете подлинными творцами науки, не щадящими сил в своем движении вперед, сливающими свою личность с наукой. Я сам вначале колебался. По образованию я инженер, люблю технику, и все же основные мои склонности — исторические. Вот я и занимаюсь древнейшей историей Земли и жизни. Худо ли, хорошо ли, но это заполняет всю мою жизнь, целиком. Конечно, может быть, жаль, что я не физик, не творю важнейшее для настоящего момента, но тут дело в комбинации моих способностей и интересов, которые принесут наибольший эффект, если будут гармонировать с избранным путем. И не стоит преуменьшать значение нашей науки. Ее “завтрашний день” дальше, чем у других отраслей знания, она сделается необходимой позже других, но сделается, когда мы сможем вплотную взяться за человека. Наш организм — это исторически сложившаяся сложнейшая комбинация эволюционных наслоений от рыбы до высшего млекопитающего. Понять биологию человека по-настоящему без изучения всей эволюционной лестницы нельзя. А от этого целиком зависит медицина будущего, сохранение человека как вида и еще многое другое. Сейчас эти вопросы еще далеки от нас, но приближаются с каждым днем. И мы готовим для них точную основу знания. Бросить наше дело нельзя еще и потому, что человеку, строящему будущее, необходим общий подъем культуры, знания и широкий кругозор. Наука имеет свои законы развития, не всегда совпадающие с практическими требованиями сегодняшнего дня. И ученый не может быть врагом современности, но и не может быть только в современности. Он должен быть впереди, иначе он будет лишь чиновником. Без современности — фантазер, без будущего — тупица. А ведь еще Петр Великий это хорошо понимал. Вспомните его указ о непременном сборе ископаемых костей — это в те-то тяжелые времена, в бедной и бескультурной стране!
Давыдов потушил папиросу и по рассеянности бросил ее на пол. Аспиранты этого не заметили. Женя перегнулась боком через стол, глядя на Давыдова. Тамара стояла с победно поднятой головой, а Михаил хмуро опустил глаза.
— Теперь о другой стороне вашего вопроса, — продолжал Давыдов. — Тут тоже не следует преувеличивать. Говорить о гибели цивилизации и безнадежно опускать руки нельзя — так поступают многие интеллигенты на Западе, пытаясь оправдать свое бездействие. И без того сейчас там культура сильно отстает от техники. Люди приобретают все большую власть над природой, забывая о необходимости воспитания и переделки самого человека, часто недалеко ушедшего от своих предков по уровню общественного сознания. А вы, советская молодежь, хотите быть бойцами за культуру, за будущее счастье человечества. Тогда верьте в могущество нашей страны и, не колеблясь, идите по выбранному пути!..
Делая наше дело, мы будем бороться за нашу культуру. Благородная задача — отстоять ее от варварства, вооруженного последним словом техники. Потом, представляете ли вы как следует, что такое атомная энергия сейчас? Большая часть элементов из числа всех девяноста двух обладает весьма и весьма устойчивыми ядрами. Чтобы разбить их, нужно приложить энергию, большую, чем мы получим от их распада. И это не случайно. За миллиарды лет формирования нашей планеты, как и других планет, в процессах изменения материи произошел как бы отбор — все неустойчивое распалось, перешло в устойчивые формы. Сейчас мы подошли к использованию цепных реакций в последних элементах менделеевской таблицы, самых тяжелых по своему атомному весу. Это тоже не случайно — самые тяжелые элементы очень богаты нейтронами и легко распадаются, осуществляя цепную нейтронную реакцию[231] — единственную, которую мы можем технически использовать в настоящий момент. И этот распад отнюдь не следует представлять как полный распад всего атома. Атом тяжелого элемента как бы раскалывается на две части, каждая из которых дает устойчивые элементы середины менделеевской таблицы. При этом частично освобождается энергия. Тут еще очень далеко до полного распада и не менее далеко до цепной реакции с устойчивыми элементами.
Пока наше овладение атомной энергией сводится к использованию цепных реакций с неустойчивыми изотопами урана и тория, а также реакции перехода изотопа водорода — трития в гелий в очень сложных условиях водородной бомбы. Можно, как вы знаете, повысить атомный вес урана и получить искусственные элементы, выходящие уже за пределы таблицы, — нептуний и плутоний, девяносто третий и девяносто четвертый искусственные элементы. Уран можно превращать и дальше, создавая элементы девяносто пятый и девяносто шестой — америций и кюрий, и так далее — до сотого или больше номера.
Все они неустойчивы, подвергаются распаду. Энергия распада плутония и составляет горючее атомных мирных машин и взрывную силу атомных бомб, так же, как и энергия неустойчивых форм урана — изотопов двести тридцать пять и двести тридцать три. Несомненно, в процессах превращения материи ранее существовали элементы вроде нептуния, более тяжелые, чем уран, но впоследствии они перешли в устойчивые формы основных девяноста двух. Поэтому уран мы можем рассматривать как остаток этих сверхтяжелых элементов, уцелевший вследствие своего рассеянного состояния, вдобавок встречающийся в верхних зонах земной коры, где он устойчив в условиях сравнительно небольших температур и давлений. Уран и, вероятно, второй близкий к нему тяжелый элемент — торий — надолго останутся основой атомной энергии, ибо между использованием способности урана к распаду и использованием энергии вещества других элементов лежит техническая пропасть, которую мы вряд ли очень скоро перейдем. Но уран и торий — крайне редкие элементы, запасы их в мире незначительны. Отсюда следует, что пока накопление запасов атомной энергии весьма ограниченно…
— Вас к телефону, Илья Андреевич, — вызов с междугородной! — послышался голос из-за двери.
— Сейчас, сейчас! — Давыдов с мучительным выражением наморщил лоб. — Ну, вот то, что я хотел вам рассказать об атомной энергии… Урана немного, его запасы могут быть израсходованы очень быстро. Поэтому, глядя в будущее, мы должны изыскать крупные запасы этого драгоценного вещества. И мы… — Профессор вдруг умолк, поглаживая виски и смотря остановившимся взглядом поверх голов своих собеседников. — Крупные запасы урана… огарки формирования планеты, — тихо забормотал Давыдов. — Так…
Профессор словно поперхнулся и быстро вышел из аспирантской комнаты.
— Что это случилось с Ильей Андреевичем? — воскликнула Тамара, нарушая общее недоуменное молчание. — Я могу поклясться, что он чуть было не сказал черное слово!
— Что ты выдумываешь, Тамара! — негодующе возразила Женя. — Просто его перебили с этим несчастным телефоном. И все нам испортили… Так интересно он говорил!
— Уверяю тебя, что с ним что-то произошло. Тебе из-за шкафа не было видно. Он изменился в лице, будто привидение увидел.
— Верно, верно, Том, — поддержал Михаил, — я тоже заметил. Может быть, ему пришла в голову интересная мысль?
Догадка Михаила была правильной. Давыдов шагал по коридору, и все его мысли сосредоточились вокруг внезапно возникшей догадки. Ученый перенесся на два года назад, когда под впечатлением страшной волны, разрушившей остров, он всматривался с борта парохода в глубину океана и в мозгу его формировалась еще робкая идея о силах, вызывающих движения земной коры. С тех пор он непрерывно подбирал факты и размышлял, постепенно переходя от этих явлений современности к гораздо более крупным во времени и пространстве горообразовательным процессам прошлого. И теперь разве не сама судьба дает ему в руки доказательство правильности его предположений?
Давыдов взял трубку. Ответа не было, но он механически продолжал прижимать трубку к уху, думая о своем. Двадцать лет мучила Давыдова загадка “полей смерти” динозавров в Средней Азии. Вдоль подножия Тянь-Шаня тянутся гигантские скопления костей огромных ящеров. Миллионы особей самого различного возраста погребены в этих скоплениях. Но раньше они были еще гораздо больше, так как мы имеем дело лишь с остаточными местонахождениями, размытыми в третичное время при дальнейшем поднятии гор. Что могло вызвать такую массовую гибель именно в этом месте? Не вымирание же вдруг от каких-то неизвестных причин! Нет, массовая гибель динозавров совпала по времени с началом великой альпийской эпохи горообразования, поднявшей хребты Тянь-Шаня, Гималаев, Кавказа и Альп. Совпала и в пространстве, территориально. Тогда, семьдесят миллионов лет назад, в конце мелового периода, эти хребты медленно вспучивались рядами параллельных складок — совсем так, как это происходит сейчас на Тихом океане. Разница была только в том, что тянь-шаньские складки мелового периода образовывались не в океане, а на суше, по окраине моря, и эта область была населена наземными животными. Кроме того, в меловую эпоху складкообразование имело гораздо больший масштаб, чем теперь. Одни и те же процессы образования гор тогда и теперь обязаны силам уранового распада в глубинах земной коры или, вернее, распада сверхтяжелых элементов вообще. Если это предположение верно, то нет ничего невероятного, что энергия атомных реакций в некоторых областях в какие-то моменты прорывалась наружу, хотя бы в виде мощного излучения. Образовался обширный район, в котором гибло все живое, а также и те животные, которые передвигались сюда из других областей.
Ничто, разумеется, не могло предупредить безмозглых ящеров о неизбежной гибели. Более мелкие остатки не сохранились в процессах перемыва, а прочные, огромные кости динозавров и сейчас удивляют нас непомерным количеством. Такое совпадение не случайно!..
“А что, если не случайно и другое совпадение? Почему мы нашли следы звездных пришельцев тоже в области горных поднятий того времени? Мощное излучение, губительное для динозавров, которое, разумеется, можно уловить прибором, началось тысячелетиями раньше. Тогда, если “они” бродили там, где позже произошла массовая гибель динозавров, значит “они” искали источники атомной энергии… Но если это так, то вот два важнейших следствия: первое — нам нужно искать следы звездных пришельцев, этих небесных гостей Земли, именно здесь, вдоль Тянь-Шаня и Гималаев — самых молодых горообразовательных зон Земли, именно там, где мы их и ищем, и второе — если горообразовательные процессы и вулканизм возникают потому, что в земной коре время от времени создаются концентрации урана или других сверхтяжелых элементов, вступающих в цепную реакцию, то можно ожидать нахождения остатков этих концентраций на доступных нам глубинах земной коры в соответствующих географических районах… Вот если бы удалось найти еще раз следы небесных гостей в областях горообразования, у меня была бы уже уверенность в том, что…”
— Говорите! — неожиданно раздался в трубке голос. — Соединяю с Алма-Атой!
Давыдов вздрогнул, ход мыслей разом остановился. Алма-Ата могла сообщить важные новости со строительства каналов.
Далекий, но отчетливый голос назвал его имя. Давыдов узнал ученого секретаря Геологического института.
— Илья Андреевич, утром звонил Старожилов со строительства номер пять. Там обнаружены скелеты динозавров, не то поврежденные, не то неповрежденные — я не разобрал из-за плохой слышимости. Старожилов просил меня связаться с вами. Он считает ваш приезд необходимым. Что ему передать?
— Передайте, что вылечу с завтрашним самолетом! — быстро сказал Давыдов.
— У меня еще к вам два дела, — продолжал секретарь, — но поскольку вы будете у нас, на месте поговорим Значит, ждем. Привет!
— Преогромное спасибо! — радостно закричал в трубку Давыдов. — Привет всем… До свиданья!
Давыдов поспешил к Кольцову, попросив завхоза заказать билет в аэропорте.
Глава третья ГЛАЗА РАЗУМА
Дорога вилась берегом узкой речки. Высокие стены ущелья перекрещивались вдали своими откосами, круто сбегавшими к руслу справа и слева.
Самый близкий откос сурово чернел в теневой полосе слева; четкие стрелы елей выстроились в ряд вдоль иззубренного скалистого ребра. Следующие вверх по долине откосы становились все светлее, дальние окутывались жемчужной дымкой и казались легкими. Немного в стороне возвышался одетый снегом зубец, вдали переходивший в могучий гребень. Снег сползал продольными белыми полосами по его серому каменистому скату, а вверху, где ослепительно чистая толща снега плавно сглаживала выступы скал, большое плотное облако медленно плыло, как белая баржа, волоча свое широкое днище по снежному полю седловины хребта.
Дорога обогнула крутой обрыв и начала подниматься к перевалу. Машина выла, разогреваясь; чистый холодный ветер бил прямо навстречу, плотными струями врываясь в щели приоткрытых стекол.
Давыдов не заметил, как поднялись на перевал, и угадал его по затихшему мотору. Машина понеслась вниз, туда, где развертывалась обширная, ровная, как стол, долина, окруженная тройным кольцом горных уступов.
Внизу, то изрытые причудливыми промоинами, то выступающие узкими башнями и округленными куполами, протянулись красные песчаники и глины. Второй уступ массивных пород был испещрен щетинистыми лентами горных елей, казавшихся почти черными на серо-фиолетовой поверхности склонов. И выше всего, победно сияя своей недоступной белизной, тянулся пильчатый ряд снеговых вершин, словно стена исполинского замка, надежно огородившая долину.
А там, внизу, отчетливо виднелись борозда, распоровшая ровную степь, насыпь огромной плотины, груды земли, глубокие котлованы, домики поселка и ряды длинных белых палаток.
Давыдов уже привык к поражавшему его вначале зрелищу большой стройки, но сейчас он с волнением смотрел на ажурные плетения каркасов бетонных конструкций. Здесь, по-видимому, и есть головная гидростанция.
В одном из котлованов обнаружены скелеты динозавров, кладбище, образовавшееся тогда, когда вокруг не громоздились эти высокие горы. Они поднялись позже — силами мощных атомных реакций, происходивших в глубинах земной коры. Но излучение могло привлечь звездных пришельцев в их поисках запасов атомной энергии…
Машина остановилась возле длинного беленого дома.
— Приехали, товарищ Давыдов, — сказал шофер, отворяя дверцу. — Задремали маленько? Дорога хорошая, можно поспать…
Давыдов очнулся, вылез из машины, увидев спешившего к нему Старожилова. Скуластое лицо научного сотрудника заросло до глаз густейшей щетиной, серый рабочий костюм весь пропитался желтой пылью. Голубые глаза его радостно сияли.
— Начальник (когда-то Старожилов, еще студентом, много ездил с Давыдовым и с тех пор упорно называл его начальником, как бы отстаивая свое право на походную дружбу), я вас, пожалуй, обрадую! Долго ждал — и дождался! Отдохните, покушайте, и поедем. Это крайний южный котлован, с километр отсюда…
— Нет уж, я не устал. Везите! — прервал Давыдов.
Старожилов еще шире улыбнулся.
— Великолепно, начальник! — вскричал он, втискиваясь в машину и стараясь не замечать недовольно косившегося на него шофера, который явно не доверял чистоте одежды Старожилова.
— Мы натолкнулись на останки динозавров сразу же, как вскрыли большой пласт эолового[232] плотного песка, вклинившийся с юга, — спешил рассказать Старожилов. — Сначала мы обнаружили несколько разрозненных костей, потом вскрыли огромный скелет моноклона[233] прекрасной сохранности. Череп его оказался пробитым — да, насквозь пробитым! Илья Андреевич, что вы думаете… Узенькая овальная дырочка!
Давыдов побледнел.
— И что дальше? — выдавил он из себя.
— Дальше на большой площади ничего не встретилось. А позавчера у самой границы котлована опять нашли кости — грудой, но не разрозненные. Впечатление такое, что лежат кучей несколько скелетов. Странно: хищники и травоядные вместе. По задней лапе я определил крупного карнозавра,[234] и тут же торчат копыта какого-то цератопса.[235] Некоторые кости переломаны, точно ударом страшной силы. Я не решился раскапывать эту груду без вас… Сюда, правее, там съезд на дно, — обернулся Старожилов к шоферу. — И налево.
Через несколько минут Давыдов склонился над огромным скелетом, белые кости которого выделялись на желтом песке. Старожилов тщательно расчистил его сверху и покрыл для сохранности лаком, оставив до приезда Давыдова.
Давыдов прошел мимо вытянутого хвоста и судорожно скрюченных лап, опустился на колени над безобразной громадной головой с длинным, похожим на кинжал рогом, венчавшим клювообразную морду.
Костяные кольца для защиты глаз, сохранившиеся в пустых орбитах черепа, придавали чудовищу выражение навсегда застывшей свирепости.
Профессор скоро нашел ниже левого глаза овальное отверстие, знакомое по костям из Сикана, найденным Тао Ли. Оно пронизывало череп насквозь; выходное отверстие располагалось на темени, позади правой орбиты, еще погруженной в породу.
Да, несомненно, “они” были и здесь! Решение искать в пределах Союза было правильным. Но какие еще следы пришельцев могут быть обнаружены, да и остались ли эти следы?
Давыдов осмотрел край скопления скелетов, обнаженный в стене котлована. На тех костях, которые были уже вскрыты, не было признаков ранений. Переломы, о которых рассказывал Старожилов, оказались посмертными. Кости были сломаны уже после захоронения в песках, вследствие осадки и уплотнения пород, как это часто бывает.
Давыдов распорядился снять породу над скоплением костей и постепенно расчищать кости сверху, сразу на всей площади скопления.
— Надо бы захватить пошире, чтобы оконтурить все вокруг, — с сомнением в голосе произнес профессор, — но у нас не хватит средств, чтобы раскопать такую громадную площадку. Здесь нужно тысяч пять кубометров съемки.
— Напрасно беспокоитесь, начальник! — широко осклабился Старожилов. — Рабочие здесь так заинтересовались находками рогатых “крокодилов”, как они их зовут, что сами предложили мне помочь “развалять соответствующе” это место. Так и сказал один бригадир на моем докладе. Послезавтра воскресенье, и на раскопки выйдут девятьсот человек.
— Девятьсот?! Ехидная сила! — вскричал Давыдов.
— Нет уж, не ехидная, а просто — сила! — гордо ответил Старожилов. — Администрация предоставляет нам четырнадцать экскаваторов, транспортеры, грузовики — словом, все необходимое. Такую раскопку устроим, что в истории не слыхивали!
Профессор крякнул от восхищения. Сам труд во всем его величии шел на помощь науке, бескорыстно и могуче. Давыдов почувствовал небывалую уверенность в успехе своих поисков. Десятки тысяч тонн земли, прятавшей в себе научную тайну, теперь казались вовсе не такими страшными. Забыв о всех сомнениях, трудностях и невзгодах, Давыдов показался себе невероятно сильным. С такой поддержкой он заставит ответить эти косные массы песков, мертво пролежавшие семьдесят миллионов лет…
Давыдову даже не пришло в голову, что раскопки могут оказаться безрезультатными. Он не мог сейчас представить себе этого. Особенно когда в полутораста метрах позади лежал скелет ящера, убитого человеческим оружием…
— Намечайте площадь раскопок, начальник! — раздался голос Старожилова. — Имейте в виду, что граница эоловых песков идет вкось, простирается с северо-запада на юго-восток. Левее вклинивается полоса песков речного происхождения.
Профессор взобрался на склон котлована и долго смотрел, соображая и подсчитывая, на участок нетронутой степной почвы, удалявшийся к уступам гор.
— Что, если мы возьмем квадрат вон от того столба направо и сюда?
— Тогда левый угол зацепит речные пески, — возразил Старожилов.
— Прекрасно! Я именно этого и хочу, чтобы мы прошлись берегом древнего потока. Около когда-то бывшей воды… Ну, давайте обмерим да поставим вешки. Рулетка у вас с собой?
— Зачем рулетка? Шагами обмерим, не скупитесь, начальник! Съемку-то сделаем после вскрытия.
— Постараюсь не скупиться, — улыбнулся профессор энтузиазму сотрудника. — Начнем. Идите вон туда, к холмику… Мне хочется сегодня успеть телеграфировать профессору Шатрову.
На месте, где двенадцать дней назад Давыдов с помощником мерили шагами кочковатую полынную степь, раскинулась громадная выемка в девять метров глубины. Ветер крутил в ней столбы пыли, вздымавшейся со сглаженной и подсохшей поверхности плотно слежавшихся меловых песков. Вдоль восточного края выемки желтая окраска пород изменялась, переходя в серый, стальной цвет. Старожилов расхаживал взад и вперед, распоряжаясь отрядом своих помощников, перебиравших и перекапывавших пески, расчищавших найденные скелеты. Давыдов вызвал из Москвы всех препараторов института и своих четырех аспирантов, отозвал со строительства номер два научного сотрудника, работавшего там. Тридцать рабочих под наблюдением всех десяти сотрудников перебирали толщу костеносных песков, продвигаясь все ближе к границе серых пород, где встречались только обломки костей и большие окаменелые стволы хвойных деревьев.
Знойное солнце жестоко палило сверху, песок был горяч, но это нисколько не смущало увлеченных своей работой людей.
Давыдов спустился в выемку и остановился около большого скопления, обнаруженного еще в котловане. Там оказалось шесть скелетов динозавров, перепутавшихся своими костями. В шестидесяти метрах к востоку был вскрыт скелет гигантского хищника, одиноко лежавший невдалеке от границы речных песков. Вблизи него нашли еще три скелета небольших хищных ящеров размерами с собаку. Больше на всем протяжении выемки ничего не было найдено, не находилось и костей, пробитых таинственным оружием. Давыдов с тревогой осматривал раскопанную часть выемки, как будто подсчитывал оставшиеся шансы.
— Илья Андреевич, подойдите к нам, — донесся голос Жени, — мы нашли черепаху!
Давыдов обернулся и медленно пошел на зов. Женя с Михаилом второй день обкапывали и очищали громадную голову хищного динозавра с раскрытой пастью, наполненной страшными загнутыми зубами.
Женя поднялась из ямы навстречу профессору, сморщилась от боли в затекших ногах, но сейчас же радостно улыбнулась.
Белый платок подчеркивал загар ее лица, покрытого крошечными росинками пота.
— Вот тут, — показала Женя препаровальным инструментом в глубь ямы, — черепаха. Она лежит почти под черепом. Спускайтесь к нам! — И девушка легко спрыгнула вниз. — Я расчистила сверху карапакс,[236] — продолжала Женя. — Он очень странный — с каким-то перламутровым отливом, и скульптура необычная.
Давыдов с трудом согнул свое массивное тело в тесной траншее, заглядывая под гигантский череп хищного динозавра. Из сыроватой и потому более темной породы выступал маленький купол около двадцати сантиметров в поперечнике. Поверхность этого купола была покрыта орнаментом из ямок и бороздок, хранивших следы радиального расположения. Цвет кости был необычный — темно-фиолетовый, почти черный, резко отделявшийся от белых костей черепа динозавра. Необычным был и перламутровый блеск этой странной кости — гладкая, точно полированная, она смутно светилась в тени на дне ямы.
У Давыдова все расплылось в глазах. Кряхтя, он приблизил лицо к странной находке, с величайшей осторожностью счищая песчинки концами пальцев. Профессор заметил шов между отдельными костями, проходивший посередине купола, и второй, пересекающий его поперек, ближе к одному краю.
— Позовите Старожилова скорее! — поднял Давыдов побагровевшее от прилива крови лицо. — И рабочих сюда!
Жене передалось волнение ученого. Звонкий голос девушки понесся над изрытыми песками. Старожилов прибежал молниеносно, как показалось Давыдову, погруженному в рассматривание странной находки.
Терпеливо, медлительно и нежно профессор и его сотрудник принялись снимать породу вокруг темно-фиолетового куполка. С боков кость не расширялась в глубину, стенки купола стали отвесными и превратились в неправильное, слегка сдавленное полушарие. Давыдов, очищавший свою сторону, вдруг почувствовал, что препаровальная игла погрузилась в податливую рыхлость песка, точно кость окончилась в этом месте. Некоторое время профессор осторожно нащупывал границы и, наконец решившись, вращательным движением иглы быстро разрыхлил породу. Песок смели мягкой кистью. Нижний край кости здесь оказался закругленным и утолщенным, он врезался в стенку полушария двумя широкими дужками.
Крик, который вырвался из широкой груди Давыдова, заставил вздрогнуть стеснившихся около него сотрудников.
— Череп, череп! — завопил профессор, уверенно расчищая породу.
Действительно, освобожденные от породы большие пустые глазницы обозначались совершенно отчетливо. Теперь ясно выступил широкий и крутой лоб. Загадочный купол был просто верхней частью черепа, подобного человеческому, немного больших, чем у среднего человека, размеров.
— Попался, небесный зверь или человек! — с бесконечным удовлетворением сказал профессор, с усилием разгибаясь и потирая виски.
Голова закружилась, и он тяжело привалился к стене ямы. Старожилов поспешно схватил профессора за локоть, но тот нетерпеливо отстранил его:
— Действуйте! Приготовьте большую коробку, вату, клей — череп нужно поскорее вынуть. По-видимому, он прочен. Отделяйте осторожно — дальше вглубь должны быть кости скелета, его скелета. Пусть рабочие снимают послойно всю породу вокруг. Скелет динозавра сразу же разобрать и удалить. Перекопайте все — каждый сантиметр этого участка. Весь песок нужно просеять…
Шатров спешил по длинному коридору института, не отзываясь на приветствия встречавшихся с ним сотрудников. Он оказался перед той самой дверью, в которую входил с коробкой Тао Ли два с половиной года назад. Но сейчас Шатров не медлил у входа, не улыбался лукаво, перед тем как поразить друга неожиданностью приезда. Со строгим, сосредоточенным лицом он вбежал прямо в кабинет.
Давыдов немедленно отложил в сторону бумагу, на которой записывал какие-то расчеты.
— Алексей Петрович! Вы прямо дипкурьер! — загудел он, как в бочку. — Для вас такая скорость даже неприлична… Когда вы получили мое письмо с описанием всех обстоятельств находки?
— Вчера утром. Выехал в пять часов. Но, ей-ей, я на вас обижен. Будто вы не могли сообщить мне раньше! Зачем было писать уже post factum? То вы неистовствовали, требуя от меня предполагаемого облика небесного зверя, а когда нашли, молчали до конца раскопок!
Шатров рассерженно дернул плечом и забегал по кабинету.
— Не сердитесь, Алексей Петрович. Я тоже хотел сделать вам сюрприз. Что из того, если бы вы узнали на две недели раньше? Только волновались бы и томились, изнывая от нетерпения в своем Ленинграде.
— Я приехал бы туда, ей-ей! — сердито крикнул Шатров.
— Приехали бы? — изумился Давыдов. — На раскопки? Право, вы совсем переменились, а я не знал…
Шатров не выдержал и улыбнулся.
— Ну, вот так лучше, дорогой друг. Зато вы увидите небесную бестию сию же минуту. — Давыдов направился к шкафу, взялся за ручку, веселый и торжествующий. — Как это по-вашему — ок! — Давыдов потянул дверцу, она раскрылась…
— Стойте, Илья Андреевич! — вскричал Шатров. — Подождите! Закройте!
Удивленный Давыдов послушно закрыл шкаф.
— Я не успел вам прислать свои предположения, — пояснил Шатров, — теперь я хочу потерпеть еще несколько минут и прочесть их вам, прежде чем увижу череп небесного пришельца. Очень интересная проверка: может ли наш ум предвидеть далеко, верен ли путь аналогий, исходящих из законов нашей планеты, для других миров?
— Превосходно придумали! Давайте!
Давыдов, как бы для верности, запер шкаф на ключ и подошел к столу. Шатров извлек большие листы бумаги, исписанные его ровным, довольно крупным, удивительно четким почерком.
— Я не буду читать всего, не терпится, — сознался он. — Просмотрим лишь общие выводы. Помните, мы согласились, что схема животной жизни, основанная на белковой молекуле и энергии кислорода, должна быть общей для всей вселенной. Мы согласились на том, что вещества, слагающие организм, использованы не случайно, а в силу своей распространенности и своих химических свойств. Мы согласились также, что планета, наиболее пригодная для жизни в любой планетной системе, должна быть сходна с нашей Землей. Во-первых, в смысле тепловой энергии, получаемой от своего солнца; если оно больше и ярче нашего, эта планета должна быть дальше; если солнце меньше и холоднее, условия нагрева, подобные Земле, могут быть на более близкой к нему планете.
Во-вторых, эта планета должна быть достаточно велика, чтобы притяжением своей массы удержать вокруг себя достаточно мощную атмосферу, защищающую от холода мирового пространства и космических излучений. И не слишком велика, чтобы она могла потерять во время далекой стадии своего существования, еще в раскаленном виде, значительную часть газов, молекулы которых рассеялись бы в мировом пространстве, иначе вокруг планеты получится слишком густая атмосфера, непроницаемая для солнца и полная вредных газов.
В-третьих, скорость вращения вокруг своей оси также должна быть близкой к скорости вращения Земли. Если вращение очень медленное, получится убийственный для жизни перегрев одной стороны и сильное охлаждение другой; если очень быстрое — нарушатся условия равновесия планеты такой величины, она потеряет атмосферу, сплющится и в конце концов разлетится на куски.
Ergo — сила тяжести, температура и давление атмосферы на поверхности такой планеты должны быть, по существу, приблизительно одинаковыми с нашей Землей.
Таковы основные предпосылки. Следовательно, вопрос в основных путях эволюции, создающих мыслящее существо. Каково оно? Что требуется для развития большого мозга, для его независимой работы, для мышления? Прежде всего должны быть развиты мощные органы чувств, и из них наиболее — зрение, зрение двуглазое, стереоскопическое, могущее охватывать пространство, точно фиксировать находящиеся в нем предметы, составлять точное представление об их форме и расположении. Излишне говорить, что голова должна находиться на переднем конце тела, несущем органы чувств, которые опять-таки должны быть в наибольшей близости к мозгу для экономии в передаче раздражения. Далее мыслящее существо должно хорошо передвигаться, иметь сложные конечности, способные выполнять работу, ибо только через работу, через трудовые навыки происходит осмысливание окружающего мира и превращение животного в человека. При этом размеры мыслящего существа не могут быть маленькими, потому что в маленьком организме не имеется условий для развития мощного мозга, нет нужных запасов энергии. Вдобавок маленькое животное слишком зависит от пустяковых случайностей на поверхности планеты: ветер, дождь и тому подобное — для него уже катастрофические бедствия. А для того, чтобы осмысливать мир, нужно быть в известной степени независимым от сил природы. Поэтому мыслящее животное должно иметь подвижность, достаточные размеры и силу, ergo — обладать внутренним скелетом, подобным нашим позвоночным животным. Слишком большим оно также быть не может: тогда нарушаются оптимальные условия стойкости и соразмерности организма, необходимые для несения колоссальной дополнительной нагрузки — мозга.
Я слишком распространился… Короче, мыслящее животное должно быть позвоночным, иметь голову и быть величиной примерно с нас. Все эти черты человека не случайны. Но ведь мозг может развиваться тогда, когда голова не является орудием, не отягощена рогами, зубами, мощными челюстями, не роет землю, не хватает добычу. Это возможно, если в природе имеется достаточно питательная растительная еда; например, для нашего человека большую роль сыграло появление плодовых растений. Это освободило его организм от бесконечного пожирания растительной массы, на что были обречены травоядные, а также от удела хищников — погони и убивания живой добычи. Хищное животное хотя и ест питательное мясо, но должно обладать орудиями нападения и убийства, мешающими развитию мозга. Когда есть плоды, тогда челюсти могут быть сравнительно слабыми, может развиваться огромный купол мозгового черепа, подавляющий собою морду. Тут можно еще очень много сказать о том, каковы должны быть конечности, но это ясно и так: свобода движений и способность держать орудие, пользоваться орудием, изготовлять орудие. Без орудия нет и не может быть человека. Отсюда последнее. Назначение конечностей должно быть раздельным: одни должны выполнять функцию передвижения — ноги, другие быть органами хватания — руки. Все это связано с тем, что голова должна быть поднята от земли, иначе ослабнет способность восприятия окружающего мира.
Вывод: форма человека, его облик как мыслящего животного не случаен, он наиболее соответствует организму, обладающему огромным мыслящим мозгом. Между враждебными жизни силами космоса есть лишь узкие коридоры, которые использует жизнь, и эти коридоры строго определяют ее облик. Поэтому всякое другое мыслящее существо должно обладать многими чертами строения, сходными с человеческими, особенно в черепе. Да, череп безусловно должен быть человекоподобен. Таковы вкратце мои выводы. — Шатров умолк. Сдерживаемое им нетерпение прорвалось наружу: — Теперь давайте небесного зверя, скорее!
— Сию минуту! — Давыдов остановился у шкафа. — Должен сказать, Алексей Петрович, что вы глубоко правы. Это изумительно! В такие минуты чувствуешь, как могуча наука, чудесное мышление человека…
— Ладно, сейчас увидим. Давайте его.
Давыдов извлек из шкафа широкий лоток.
Перед Шатровым оказался странный темно-фиолетовый череп, покрытый орнаментом из ямок и бороздок, углубленных в кость. Мощный костяной купол — вместилище мозга — был совершенно подобен человеческому, так же как и огромные глазные впадины, направленные прямо вперед и разделенные узким костным мостиком переносицы. Вполне человеческими были и круглый, крутой затылок и короткая, почти отвесная лицевая часть, ушедшая под огромный, надвинутый на нее лоб. Но вместо выступающих носовых костей была треугольная ямка. От основания ямки верхняя челюсть, клювообразная, слегка загнутая вниз на конце, резко выдвигалась вперед. Нижняя челюсть соответствовала верхней и также не имела ни малейшего следа зубов. Ее суставные концы упирались почти горизонтально в ямки на концах широких отростков, спускавшихся вниз впереди круглых больших отверстий по бокам черепа, под висками.
— Он прочен? — тихо спросил Шатров и после утвердительного кивка Давыдова взял череп в руки. — Вместо зубов, видимо, режущий роговой край челюсти, как у черепахи? — спросил Шатров и, не дожидаясь ответа, продолжал: — Строение челюстей, носа, слухового аппарата довольно примитивно… Эти ямки на костях, вся скульптура показывают, что кожа очень плотно прилегала к кости, без подкожного мышечного слоя. Такая кожа вряд ли могла иметь волосы. А отдельные кости… в них, конечно, нужно поразобраться, но смотрите: челюсть из двух костей; это тоже более примитивно, чем у человека…
— Значит, их эволюционный путь до мыслящего существа был короче, — вставил Давыдов.
— Именно так. Там, на их планете, могла быть несколько иная природная обстановка, другой ход геологических процессов, другие условия естественного отбора… Интересно, вы исследовали состав этой кости?
— Точно — нет. Но все же знаю, что она в основном не из фосфорнокислого кальция, как у нас, а…
— Из кремния? — быстро перебил Шатров.
— Вы правы. И это понятно: кремний по химическим свойствам во многом аналогичен углероду и вполне может быть использован в биологических процессах.
— Но скелет? Кости? Неужели ничего не нашли?
— Абсолютно ничего, кроме… — Давыдов вытащил из шкафа второй лоток, — вот этого…
Перед Шатровым оказались два небольших металлических обломка и круглый диск около двенадцати сантиметров в диаметре. Маленькие обломки имели грани одинаковых размеров; в общем, каждый обломок походил на усеченную семигранную призму.
Металл по тяжести походил на свинец, но отличался большей твердостью и желтовато-белым цветом.
— Отгадайте, что это такое, — предложил Давыдов, подбрасывая на ладони тяжелый кусочек.
— Почем я знаю? Сплав какой-нибудь… — буркнул Шатров. — Впрочем, если вы спрашиваете, наверно, что-либо не совсем обыкновенное.
— Да, это гафний, редкий металл, похожий по физическим свойствам на медь, но тяжелее ее и несравненно более тугоплавкий. И у него есть еще одно интересное свойство: большая способность испускать электроны при высоких температурах. Это кое-что значит, особенно если вы посмотрите еще это странное зеркало.
Шатров взял металлический диск, тоже оказавшийся очень тяжелым. Край диска был закруглен и имел одиннадцать глубоких насечек, располагавшихся по окружности диска на одинаковых расстояниях. С одной стороны поверхность диска была слегка углублена, отполирована и очень тверда. Это был прозрачный, как стекло, слой, под которым виднелся чистый серебристо-белый металл, с одного края разъеденный бурым налетом. Прозрачный слой охватывался кольцом твердого сине-серого металла, из которого, собственно, и состоял весь диск. На обратной стороне диска, в центре, располагался кружок такого же прозрачного вещества, покрытого матовым налетом, с выпуклой, а не с вогнутой, как на другой стороне, поверхностью. Диаметр этого кружка не превышал шести сантиметров. Вокруг него был тот же синевато-серый металл, по которому кольцом шли вырезанные или выбитые звездочки с разным числом лучей, от трех до одиннадцати. Эти звездочки располагались без видимого порядка, но были разграничены двумя спиральными линиями, вписанными одна в другую.
— Металл, из которого состоит диск, — тантал, твердый, необычайно стойкий, — продолжал Давыдов. — Прозрачная пленка сделана из неизвестного химического соединения. Простой качественный анализ не дал результатов, а более сложное исследование я еще не успел сделать. Но металл под пленкой — это индий, замечательный металл.
— Чем замечательный? — не замедлил с вопросом Шатров.
— Этот металл и в наших приборах — лучший показатель наличия нейтронного излучения. А что это индий, я знаю точно, потому что решился высверлить вот здесь для анализа…
— Ведь звездочки — это письмена, или что они такое? — взволнованно спросил Шатров.
— Может быть — письмена, может быть — цифры, а возможно, и схема прибора. Но боюсь, что этого мы никогда не узнаем.
— И это все?
— Все. Разве вам мало, жадный вы человек? И без того у вас в руках такое, что все человечество взволнуется.
— Но все ли вы там перекопали? — не унимался Шатров. — Почему же с черепом нет скелета? Не может быть, чтобы скелета не было…
— Скелет, конечно, был — ведь у бескостного существа не могло быть и черепа. Перекопано все, даже пески просеяны. Но вряд ли там сохранилось еще что-нибудь…
— Почему вы так уверены, Илья Андреевич? Что дает вам право…
— Простое рассуждение. Мы напали на остаток катастрофы, происшедшей семьдесят миллионов лет назад. Если бы не случилось катастрофы, мы никогда не нашли бы черепа и вообще каких-либо останков, кроме этих убитых динозавров. Их-то мы, несомненно, еще будем встречать. Я уверен, что “они”, — Давыдов указал на череп, недвижно обращавший к друзьям свои орбиты, — были у нас очень недолго… несколько лет, не больше… и снова улетели к себе. Как я пришел к этому заключению, об этом после. Посмотрите сюда, — Давыдов развернул большой лист миллиметровки, — вот план раскопок. “Он”, — профессор указал на череп, — находился примерно здесь, около берега речного потока, с каким-то своим прибором и с оружием, по-видимому использовавшим атомную энергию. “Они” знали ее и пользовались ею — это несомненно, это доказывается вообще “их” присутствием здесь. С помощью оружия “он” убил моноклона с большого расстояния. По-видимому, динозавры “им” здорово досаждали. Потом “он” занялся каким-то делом и подвергся нападению гигантского хищного ящера. Замедлил ли “он” пустить в ход оружие или оно испортилось, мы не узнаем. Ясно только одно: хищное чудовище было убито всего в нескольких шагах от этого небесного пришельца и, мертвое, рухнуло прямо на “него”. “Его” оружие или сломалось, или взорвалось. Поломка прибора освободила скрытый в нем заряд энергии, и, видимо, образовалось небольшое поле смертоносного излучения. В этом поле погибло несколько случайно попавших в него динозавров — вот эта груда скелетов. На другую сторону, здесь, с юга, излучение не распространялось или было слабее. Отсюда подобрались мелкие хищники, растащившие кости скелета небесного пришельца. Череп остался то ли потому, что он был велик для них, то ли был придавлен тяжестью головы динозавра. Впрочем, и часть стервятников погибла — вот здесь три маленьких скелета. Все это происходило на дюнных прибрежных песках, и ветер очень скоро захоронил все следы происшедшей трагедии.
— А приборы, оружие? — скептически опустил углы рта Шатров.
— Обратите внимание — остались куски и части, сделанные из чрезвычайно стойких металлов. Все остальное без следа исчезло, окислилось, распалось, растворилось за десятки миллионов лет. Металлы ведь не кости, они не способны окаменевать, пропитываться минеральными веществами, цементировать вокруг себя породу. Кроме того, прибор мог быть разорван и разбросан при взрыве или порче оружия, что еще больше способствовало исчезновению металлических частей.
— Схема ваша верна, надо думать, — согласился Шатров. — Теперь вам как можно скорее нужно изучить череп, проанализировать эволюционный путь, отраженный в структуре костных элементов, и опубликовать. Ведь такая статья как гром грянет!.. — Выпуклые светлые глаза Шатрова не могли оторваться от темного черепа небесного пришельца.
Давыдов обнял друга за плечи и слегка потряс:
— Я не опубликую описания этого черепа.
Шатров изумленно дернулся, но Давыдов крепко прижал его к себе и, прежде чем тот успел что-либо сказать, закончил:
— Изучите и опишете его вы! Вам по праву принадлежит эта часть… Не возражать! Или вы забыли мое упрямство?
— Но, но… — Шатров не находил слов.
— Вот вам и “но”. Геологический отчет о раскопках и выводы о катастрофе, с упоминанием всех моих сотрудников, особенно той, которая обнаружила череп, — он готов, вот он. Опубликуйте его под моей фамилией вместе с вашим описанием черепа. Так будет справедливо. Верно, Алексей Петрович? — Давыдов перешел на мягкий задушевный тон. — У меня есть другое большое дело. Помните, вы удачно сказали, как одно невероятное зацепляется за другое и становится реальностью. Реальность перед вами — череп небесной бестии. Но эта реальность, в свою очередь, вызывает другое невероятное, зацепляется за него, цепь протягивается дальше. И я хочу протянуть цепь дальше!
— Допустим, что так, хотя и не понимаю вас. Но тут попахивает, и очень заметно, самопожертвованием. Я не могу принять…
— Не нужно, Алексей Петрович! Поверьте, старый друг, я совершенно искренен. Разве мы не делились за всю нашу совместную работу интересными материалами? Позже вы поймете, что и тут произошел такой же раздел. Я не хочу забирать себе всего. Мы одинаково смотрим на науку, и для нас обоих важнее всего ее движение вперед…
Растроганный Шатров опустил голову. Он не умел выражать свои чувства, особенно глубокие переживания. И сейчас он молча стоял перед другом, весело смотревшим на него. Шатров невольно коснулся рукой притягивавшего его черепа обитателя “звездного корабля”. Корабль ушел в неимоверную глубину пространства, стал недостижимым никаким силам и машинам. И все же вот его несомненный, неоспоримый след — доказательство, что жизнь проходит неизбежную эволюцию, неотвратимое усовершенствование, пусть чрезвычайно долгим и тяжким путем. В этом движении — закон жизни, необходимое условие ее существования. И если оно не прерывается какими-нибудь случайностями космоса, то в неизбежном результате — рождение мысли, становление человека и далее — общество, техника, борьба с грозной мощью вселенной. И эта борьба может идти далеко — пришелец из другого мира тому залогом. Если бы “они” появились на Земле не тогда, а теперь, как много нового узнали бы мы!..
Шатров обернулся к другу спокойно и открыто:
— Я принимаю ваше… предложение. Пусть будет так. Мне, конечно, придется съездить в Ленинград, устроить дела и спешно вернуться. Работать надо здесь. Возить подобную драгоценность недопустимо… Только почему, Илья Андреевич, вы зовете его небесной бестией? Как-то нехорошо звучит — непочтительно.
— Я просто не могу подобрать название. Ведь нельзя называть его человеком, если соблюдать научную терминологию. Это человек по мысли, по технике, общественности, но ведь он выработался на иной анатомической основе. Его организм явно не родственен нашему. Это другой зверь. Вот я и зову его небесным зверем — “бестия целестис” по-латыни. Можно взять греческий корень для родового названия — пусть будет “терион целестис”. Пожалуй, так звучит лучше. А настоящее название — это уж ваша забота.
— Но все-таки, Илья Андреевич, — помолчав, сказал Шатров, — что же останется вам самому?
— Милый друг, я сказал, что протяну цепь дальше. Давно уже думаю я о роли атомных реакций в геологических процессах. А теперь наше необычайное открытие вывело меня из орбиты обычного, подняло на высокий уровень мысли, придало смелости в заключениях, расширило границы представления. И я хочу попытаться доказать возможность использования могучих источников атомной энергии в глубинах земной коры. Разработать глубинную геологию, чтобы приблизить ее к практической осуществимости… А вы, ваше дело — эволюция жизни и становление мысли уже не только в пределах нашей Земли, но во всей вселенной. Показать этот процесс, дать людям картину великих возможностей, стоящих перед ними. Опрокинуть малодушных скептиков и убогих изуверов, каких еще немало в науке, этим светлым торжеством мысли!
Давыдов замолк. Шатров смотрел на друга, как будто впервые увидел его.
— Да, что мы стоим? — наконец произнес Давыдов. — Сядем, успокоимся. Я устал.
Оба ученых тихо уселись, закурили и, как по команде, задумчиво уставились на череп, в пустые орбиты странного существа.
В кабинете воцарилось молчание.
Давыдов смотрел на выпуклый, изрытый мелкими ямками лоб, представляя себе, что когда-то, безмерно давно, за этой костной стенкой работал большой человеческий мозг. Какие представления о мире, чувства и знания наполняли эту странную голову? Что хранила память жителя чужого мира, какие образы с его родной планеты носил он по нашей Земле? Знал ли он тоску по родному миру, жажду великих истин, любовь к прекрасному? Каковы были человеческие отношения там, у них, какой общественный строй? Достигли ли они высших его ступеней, когда вся планета стала одной трудовой семьей, без угнетения и эксплуатации, без дикой бессмысленности войн, расточающих силы человечества и энергетические запасы планеты? К какому полу принадлежал этот гость с “звездного корабля”, навсегда оставшийся на чужой для него Земле?
Череп смотрел на Давыдова пусто и безответно, как символ молчания и загадки. “Ничего этого мы не узнаем, — думал профессор, — но мы, люди Земли, тоже имеем могучий мозг и можем о многом догадаться. Вы явились сюда. Но просторы нашей Земли были заселены лишь страшными чудовищами, воплощением бессмысленной силы. В тупой злобе и бесстрашии чудовища представляли грозную опасность, а вас было немного. Кучка пришельцев, скитавшихся в неведомом море в поисках источника энергии, в поисках собратьев по мысли…”
Шатров осторожно пошевелился. Его нервная натура протестовала против продолжительного бездействия. Он искоса посмотрел на задумавшегося Давыдова, тихо взял со стола тяжелый диск и принялся рассматривать странный предмет с зоркой наблюдательностью опытного исследователя. Продвинув диск в яркий круг света специальной микроскопической лампы, профессор поворачивал остаток неведомого прибора во все стороны, пытаясь уловить еще не замеченные детали конструкции. Внезапно Шатров уловил внутри кружка на оборотной стороне диска нечто проступавшее под матовой пленкой. Ученый, затаив дыхание, пытался рассмотреть это, подставляя диск свету под разными углами. И вдруг сквозь мутную пелену, наложенную временем на прозрачное вещество кружка, Шатрову почудились глаза, взглянувшие ему прямо в лицо. Сдавленно крикнув, профессор уронил тяжелый диск, и он с грохотом упал на стол.
Давыдов подскочил, как подброшенный пружиной. Но Шатров не обратил внимания на гнев друга. Он уже понял, и догадка заставила прерваться его дыхание.
— Илья Андреевич, — закричал Шатров, — есть у вас что-нибудь для полировки — мелкий карборунд или, лучше, крокус? И замша.
— Конечно, есть и то и другое. Но что это с вами стряслось, черт и трижды черт?!
— Дайте мне скорее, Илья Андреевич! Не раскаетесь! Где это у вас?
Давыдову передалось волнение Шатрова. Он встал, широко шагнул и зацепился за ковер. Профессор сердито пнул завернувшийся край и скрылся за дверью. Шатров вцепился в диск, осторожно пробуя ногтем выпуклую поверхность маленького кружка…
— Вот вам. — Давыдов поставил на стол банки с порошками, чашки с водой и спиртом, положил кусок кожи.
Шатров торопливо и умело приготовил кашицу из полировального порошка, намазал на кожу и принялся тереть поверхность кружка размеренным вращательным движением. Давыдов с интересом следил за работой друга.
— Этот прозрачный, неизвестный нам состав необычайно стоек, — пояснил Шатров, не прекращая работы. — Но он, без сомнения, должен быть прозрачен, как стекло, и, следовательно, иметь полированную поверхность. А тут, видите, поверхность стала матовой — она изъедена песком за миллионы лет лежания в породе. Даже это стойкое вещество поддалось… Но если снова отполировать его, то оно опять станет прозрачным.
— Прозрачным? И что же дальше? — усомнился Давыдов. — Вот с другой стороны диска прозрачность сохранилась. Ну, виден слой индия, и все…
— А здесь есть изображение! — возбужденно воскликнул Шатров. — Я видел, видел глаза! И я уверен, что здесь скрыт портрет звездного пришельца, может быть того самого, чей череп перед нами. Зачем он тут — может быть, опознавательный знак на аппарате или такой у них обычай, — этого мы не узнаем. Впрочем, оно и не важно в сравнении с тем, что вообще нам удалось найти изображение… Посмотрите на форму поверхности — это же оптическая линза… Э, полируется хорошо! — продолжал профессор, пробуя пальцем кружок.
Давыдов, перегнувшись через плечо Шатрова, нетерпеливо глядел на диск — на нем под полосами мокрой красной кашицы проступал все более чистый стеклянный отблеск.
Наконец Шатров удовлетворенно вздохнул, стер полировочную массу, смочил кружок спиртом и несколько минут тер его сухой замшей.
— Готово! Ок! — Он поднес диск к свету, придав ему надлежащее положение, чтобы свет отражался прямо на смотревших.
Оба профессора невольно содрогнулись. Из глубины совершенно прозрачного слоя, увеличенное неведомым оптическим ухищрением до своих естественных размеров, на них взглянуло странное, но несомненно человеческое лицо. Неизвестным способом изображение было сделано рельефным, а главное — необыкновенно, невероятно живым. Казалось, живое существо смотрит, отделенное только прозрачной стенкой оптической линзы. И прежде всего, подавляя все остальные впечатления, в упор смотрели громадные выпуклые глаза. Они были как озера вечной тайны мироздания, пронизанные умом и напряженной волей, двумя мощными лучами, стремящимися вперед, через стеклянную преграду, в бесконечные дали пространства. В этих глазах был свет безмерного мужества разума, сознающего беспощадные законы вселенной, вечно бьющегося в муках и радости познания.
И взгляды ученых Земли, скрестившись с этим необычайным взором, глядевшим из бездны времен, не опустились в смущении. Шатрова и Давыдова пронизало радостное торжество. Мысль, пусть разбросанная на недоступно далеких друг от друга мирах, не погибла без следа во времени и пространстве. Нет, само существование жизни было залогом конечной победы мысли над вселенной, залогом того, что в разных уголках мирового пространства идет великий процесс эволюции, становления высшей формы материи и творческая работа познания…
Преодолев первое впечатление от смотрящих глаз звездного пришельца, ученые стали рассматривать его лицо. Большеглазая круглая голова с безволосой толстой и гладкой кожей не казалась уродливой или отвратительной. Могучий, широкий и выпуклый лоб нес в себе столько интеллектуального, человеческого, равно как и удивительные глаза, что они подавляли непривычные очертания нижней части лица. Отсутствие ушей и носа, клювообразный безгубый рот сами по себе были неприятны, но не могли уничтожить ощущения, что неведомое существо было близким человеку, понятным и не чуждым. Великое братство по духу и мысли с людьми Земли безотчетно сказывалось в облике гостя нашей планеты. Шатров и Давыдов увидели в этом залог того, что обитатели различных “звездных кораблей” поймут друг друга, когда будет побеждено разделяющее миры пространство, когда состоится наконец встреча мысли, разбросанной на далеких планетных островках во вселенной. Ученым хотелось думать, что это случится скоро, но ум говорил о тысячелетиях познания, нужных еще для великого расширения нашего мира.
И прежде всего нужно объединить народы собственной планеты в одну братскую семью, уничтожить неравенство, угнетение и расовые предрассудки, а потом уже уверенно идти к объединению разных миров. Иначе человечество будет не в силах совершить величайший подвиг покорения грозных межзвездных пространств, не сможет справиться с убийственными силами космоса, грозящими живой материи, осмелившейся покинуть свою защищенную атмосферой планету. Во имя этой первой ступени нужно работать, отдавая все силы души и тела осуществлению этого необходимого условия для великого будущего людей Земли.
О ТВОРЧЕСТВЕ И.А.ЕФРЕМОВА
Весной 1944 года внимание читателей привлекли произведения неизвестного ранее писателя Ефремова. Все в них было необычно: и странные, экзотические названия — “Катти Сарк”, “Встреча над Тускаророй”, “Озеро горных духов” — и удивительные приключения героев.
Один за другим “рассказы о необыкновенном” обошли страницы журналов. Вскоре стали появляться и первые сборники произведений Ефремова. Вслед за тем было опубликовано еще несколько рассказов — “Белый рог”, “Алмазная труба”, “Бухта радужных струй”. В 1947 году вышла повесть “Звездные корабли”, в 1949 году — “На краю Ойкумены”, затем, в 1953 году, “Путешествие Баурджеда”.
Так пришел в художественную литературу и быстро завоевал популярность новый советский писатель Иван Антонович Ефремов. Читатели полюбили героев Ефремова с их необычными судьбами и приключениями. Но немногим было известно, что по богатству событий жизненный путь автора не уступит содержанию его произведений.
* * *
Иван Антонович Ефремов родился в 1907 году. Свои первые рассказы он написал уже в зрелом возрасте, будучи известным ученым. Однако в своей жизни Ефремов занимался не только наукой и литературой. Тринадцати лет, воспитанником военно-автомобильного отряда, он участвовал в гражданской войне. Потом учился, работал помощником шофера, окончил мореходную школу и плавал в Тихом океане и Каспийском море. Он долго колебался, кем стать: моряком или естествоиспытателем.
Науку Ефремов выбрал под стать своему беспокойному характеру — он стал палеонтологом, “охотником за ископаемыми”. В поисках остатков древних животных он. взбирался по канату на горные кручи, проникал в гипсовые пещеры, спускался в заброшенные шахты и рудники, преодолевал сыпучие пески и вечную мерзлоту.
В годы первых пятилеток, когда возникла необходимость разведки новых месторождений полезных ископаемых, Ефремов стал геологом и провел ряд изысканий, а затем вернулся к палеонтологическим исследованиям.
Устанавливая закономерности сохранения и расположения в слоях земной коры остатков древних животных, Ефремов создал новую отрасль палеонтологии — так называемую тафономию, с помощью которой палеонтологи смогли точнее определить условия существования животного мира прежних эпох, а геологи получили еще одну возможность проверять свои предположения о возможных месторождениях ископаемых.
В 1946 году И.А.Ефремов возглавил Монгольскую палеонтологическую экспедицию Академии наук СССР. Недавно законченная им книга “Дорога ветров” написана на материалах этой экспедиции.
* * *
Научная деятельность И.А.Ефремова оказала значительное влияние на его художественное творчество.
Ефремов и в литературе постоянно ищет собственных путей. Его произведения привлекают разнообразием тематики, занимательностью и научностью поставленных проблем, смелым столкновением материала из разных отраслей знания и неожиданным решением острых конфликтов.
Напряженный приключенческий сюжет требует от героев мужества и решительности. Повести и рассказы Ефремова до краев наполнены борьбой, и то, что эта борьба ведется всегда во имя человека, ради его лучшего будущего, делает творчество писателя жизнерадостным и оптимистическим.
Яркие описания природы, уступающей свои тайны только смелым и находчивым людям, красочные народные сказания, связанные с необычными явлениями окружающей действительности, неожиданные гипотезы, говорящие о безграничных возможностях человеческого ума, — все это усиливает гуманистическое звучание его произведений, способствует созданию в них романтически приподнятого настроения.
Важнейшая тема, которая определяет содержание большинства произведений Ефремова, — борьба за знания. Кем бы ни были его герои — геологами, моряками, древними путешественниками или современными учеными, — они всегда стремятся пополнить сокровищницу культуры и науки. Улучшать условия жизни, совершенствовать устройство общества невозможно без непрестанного накопления людьми знаний о себе самих и об окружающей их природе. Отсюда главная, можно сказать — заветная мысль писателя, вытекающая из самого сюжета его произведений: человеческие знания, накопленные вековым опытом и научными исследованиями, могут и должны быть поставлены на службу человеку.
Эта мысль воплощена, в частности, в повести “На краю Ойкумены”, построенной на материале истории древнего мира, главным образом — древнего Египта. Хотя древнее египетское государство не раз уже привлекало внимание писателей, Ефремов находит свои пути изображения особенностей жизни и богатой культуры этой страны. В событиях далекого прошлого он отыскивает черты, волнующие людей нашего времени.
Сдержанный тон повествования, суровые краски пейзажей, лаконичный, слегка архаизованный язык и включенные в текст отрывки из подлинных египетских документов как бы подчеркивают остроту борьбы, разгоревшейся во времена Древнего царства вокруг географических открытий Баурджеда.
В образах фараона Хафра и жрецов писатель показывает враждебное отношение к науке со стороны тех, кто не заинтересован в изменении условий существования народа. Фараон и жрецы всеми силами пытаются скрыть результаты экспедиции Баурджеда. Одни, как жрецы бога Ра и сам фараон, опасаются, что новые знания усилят в народе вольнолюбивые настроения. Другие, как Мен Кау Тот, надеются с помощью тайно накопленных знаний, улучив момент, одолеть соперников, стоящих у власти.
Как велика сила знаний, мы видим на примере главных героев повести — Баурджеда и его кормчего. В страхе Баурджеда перед предстоящим путешествием чувствуется, насколько чужда наука этому приближенному фараона. Но, путешественник поневоле, Баурджед преображается под воздействием полученных знаний. И чем шире становится его кругозор, тем сильнее разгорается борьба в его душе, привычные представления о мире рушатся благодаря приобретенному опыту.
Баурджед-рабовладелец невольно проникается уважением и состраданием к своим спутникам-рабам; побывав в других странах, он начинает сомневаться в превосходстве египтян над остальными народами. Баурджед-царедворец перестает верить в божественность фараона, в справедливость традиционных установлений. Трагична судьба Баурджеда. Новое отношение к порядкам на родине не позволяет ему занять прежнее почетное место в окружении фараона, а сохранившиеся в его сознании кастовые предрассудки мешают применить полученные знания с пользой для народа.
В отличие от Баурджеда, его кормчий Уахенеб с самого начала не испытывает страха перед путешествием и отправляется в неведомые страны с заранее намеченной целью: найти счастливый Пунт. Убедившись, что и Пунт не является благословенной страной, осознав несбыточность мечтаний о счастье за пределами родины, Уахенеб ищет иных путей и в конце концов находит их, став во главе восстания каменотесов.
Ощущение актуальности содержания особенно усиливается при чтении второй части повести, благодаря характерной для Ефремова завязке, которая создает как бы два плана.
Приключения юноши Пандиона захватывают и увлекают и потому, что нам всегда близки и дороги описания борьбы за свободу, когда бы и кем бы она ни велась, и потому, что история юного художника объясняет происхождение памятника древнегреческого искусства — геммы с необычным, загадочным сюжетом.
Жадный интерес Пандиона-художника к богатой и яркой культуре древнего Египта вступает в противоречие со стремлением Пандиона-раба вырваться из страны, ставшей для него тюрьмой.
Драматическая эпопея борьбы Пандиона за свободу напоминает о том, какой тяжелой ценой, какими нечеловеческими страданиями рабов были оплачены великолепные образцы древнеегипетского искусства.
В то же время путешествия и приключения Пандиона позволяют автору показать, как в мучительно трудном и радостном процессе познания рождаются у юного художника новые для него идеи человечности, крепнет его любовь к далекой, свободной родине, растет уважение к другим народам.
Обширные знания, приобретенные Пандионом во время его скитаний по Африке, повлекли за собой вместе с новыми идеями и рост его мастерства как художника. Созданная им гемма донесла до нас благородную мысль о дружбе и братстве людей разных народов.
Повесть “На краю Ойкумены” заставляет читателей подумать о том, что гуманистическая идея, способная пройти сквозь века и тысячелетия, делает настоящее искусство бессмертным.
Своеобразие исторических повестей достигается характерным для произведений Ефремова прихотливым сочетанием научных данных и художественного вымысла. Опираясь на конкретные исторические сведения из истории древнего мира, писатель в то же время дает простор своей богатейшей фантазии и рисует волнующие реалистические картины жизни далекого прошлого с его жестокой деспотией, страданиями народа, восстаниями, потрясающими рабовладельческий строй, и вечно живущей в сердце человека жаждой справедливости, счастья и знаний.
* * *
Гуманистическая тема акцентируется и в научно-фантастических произведениях, составляющих основную часть творчества Ефремова. Им написано десять научно-фантастических рассказов и две повести. Их герои постоянно стремятся к новым открытиям, ради которых рискуют не только своей научной репутацией, но и жизнью.
Но романтика научных исканий в творчестве Ефремова не исчерпывается изображением подвигов героев. Большая роль в создании романтической атмосферы принадлежит описаниям необыкновенных явлений, для объяснения которых писатель выдвигает смелые гипотезы, находит самые неожиданные решения. В рассказах “Алмазная труба” и “Голец Подлунный” на основании сходства геологического строения Восточной Сибири и Южной Африки выдвигается предположение о сходстве их минеральных богатств и родстве их древней фауны.
На примере рассказа “Алмазная труба” можно видеть, как серьезно обоснованы фантастические идеи, выдвинутые писателем. Долгое время этот рассказ мог казаться чистой фантастикой. Но когда стало известно, что наши геологи действительно обнаружили в Восточной Сибири месторождение алмазов, предположение, казавшееся не более чем смелым вымыслом, получило реальное подтверждение.
Научность фантастики подкрепляется еще и тем, что во многих случаях вымышленные открытия героев Ефремова, подобно реальным научным открытиям наших дней, рождаются в результате сопоставления данных, почерпнутых из разных отраслей знания.
Мысль о возможности новых открытий на “стыках” различных наук воплощена и в самом значительном научно-фантастическом произведении писателя — повести “Звездные корабли”.
Задачи, стоящие перед Ефремовым в этой повести, значительно сложнее, чем у его предшественников, которые также изображали столкновения человека с животными древних эпох. Научность фантастики Жюля Верна или В.А.Обручева не умалялась из-за предположения, что при особо благоприятных условиях древние животные могли сохраниться до наших дней. Такое допущение не противоречит основным законам естествознания и вполне уместно в научно-фантастических произведениях.
Напротив, предположение о возможном существовании человека во времена мезозойской эры немедленно вступает в конфликт с основными законами науки, давно уже установившей, что человека на Земле тогда не было и быть не могло. Этот главный конфликт сразу же придает сюжету парадоксальность и остроту. Поэтому, хотя в “Звездных кораблях” почти нет никаких приключений, обычных для научно-фантастических повестей, произведение с первых же страниц захватывает и увлекает читателя.
В ходе решения главного конфликта выдвигаются всё новые и новые гипотезы, рождаются всё новые и новые проблемы. Писателю удается показать тесную взаимосвязь этих проблем, сложность и многогранность исследовательской работы, внушить мысль о беспредельности научного прогресса.
С каждой новой изобретательно выдвинутой гипотезой в повести появляются и новые внутренние конфликты.
Научная фантастика обычно предполагает необыкновенные приключения героев. В “Звездных кораблях” приключения героев заменяются “приключениями мысли”.
Напряженная работа мысли, диалектика умственного процесса придают этой повести внутреннюю динамичность и делают ее по-своему остросюжетным произведением.
“Звездные корабли”, как и все творчество Ефремова, — взволнованный художественный рассказ о сущности и особенностях исследовательской работы. Это рассказ не столько о самих открытиях, сколько о том, как делаются открытия, как человек приходит от незнания к знанию.
Художественные произведения Ефремова отразили одну из существенных черт нашего времени — большое влияние науки на практику современной жизни. Быстрота, с которой развиваются многие отрасли знания, накладывает глубокий отпечаток на все стороны нашей жизни. То, что вчера еще казалось далекой мечтой, сегодня уже достигнуто, завтра уйдет в прошлое. Поэтому такое важное значение приобретает умение человека заглянуть вперед, в будущее, его способность заранее определить наиболее вероятное направление исследовательской мысли.
Если вся художественная литература основана в конечном счете на творческом воображении и творческой мечте, то перед научной фантастикой стоит особая задача: будить научную мечту, развивать способность научного предвидения. И чем выше будет уровень человеческих знаний, тем большие требования будут предъявляться к научно-фантастической литературе.
Умение писателя облечь смелую научную мечту в яркие художественные образы — одна из привлекательных сторон творчества Ефремова, по праву занявшего одно из первых мест среди мастеров приключенческой и научно-фантастической литературы.
М.Лазарев
1
Белая Стена (Мемфис) — столица Египта в древнем царстве.
(обратно)2
Та-Кем — Черная Земля. В просторечии Кем или Кемт — “черная”. Так называли древние египтяне свою страну.
(обратно)3
Великий Дом — иносказательное наименование царя (пер-о), откуда пошло древнееврейское “фараон”.
(обратно)4
Локоть — основная древняя мера длины, равная приблизительно 0,5 метра.
(обратно)5
То есть девяти богов древнего Египта.
(обратно)6
Имена детей не называли во избежание “сглаза”.
(обратно)7
Имя фараона запрещалось называть по тем же соображениям.
(обратно)8
Неджес — “маленький”; название свободного жителя Египта; роме — египтянин.
(обратно)9
Так называлось у египтян Средиземное море.
(обратно)10
Журавли приручались и разводились в Древнем Египте.
(обратно)11
Пунт — легендарная страна, богатая золотом и благовониями, по представлениям египтян, находившаяся у истоков Нила, в Стране Духов — Та-Нутер. Позднее, когда египтяне стали плавать далеко на юг, страны, открытые ими на восточном побережье Африки, южнее Сомали, получили название Пунта.
(обратно)12
Поля Иалу — в представлениях египтян о загробном мире соответствуют нашему раю.
(обратно)13
Пять времен года — приблизительно полтора года. У египтян год делится на три времени.
(обратно)14
Хнум — один из главных богов, изображавшийся с бараньей головой.
(обратно)15
Начальник мастеров — титул главного жреца.
(обратно)16
Мастер паруса— моряк, управлявший единственным парусом египетского корабля.
(обратно)17
Не знающий вещей — египетский термин, означавший бедняков.
(обратно)18
Лазурные Воды — Красное море.
(обратно)19
Джедефра — фараон IV династии Древнего царства (2877–2869 гг. до н. э.).
(обратно)20
Пшент — двойная корона египетского царя.
(обратно)21
Фараон, кроме собственного имени, имел еще несколько так называемых тронных имен.
(обратно)22
Священная высота — по-древнеегипетски “перема”; отсюда — пирамида.
(обратно)23
Джосер — выдающийся фараон III династии (2980 г. до н. э.).
(обратно)24
Хуфу, иначе Хеопс, — фараон IV династии (2900 г. до н. э.), строитель самой большой пирамиды.
(обратно)25
Хасехемуи — последний фараон II династии, отец Джосера.
(обратно)26
Снофру — фараон-завоеватель, последний в III династии (2980–2900 гг. до н. э.).
(обратно)27
Страна Куш — часть Нубии, на юг от Египта, выше по Нилу.
(обратно)28
Великий ясновидец — титул верховного жреца Ра.
(обратно)29
Сепы — области или провинции.
(обратно)30
Жизнь, здоровье, сила — обязательная приставка ко всякому упоминанию фараона.
(обратно)31
Носатый — фамильярное название бога Тота, изображавшегося с головой ибиса.
(обратно)32
Подлинный текст.
(обратно)33
Ра — имя бога солнца; в Древнем царстве — верховное божество. Ра вступает (подразумевается — в западные края) — солнце садится.
(обратно)34
Время жатвы, время наводнения, время посева — три основных времени года у египтян.
(обратно)35
Подлинный текст.
(обратно)36
В южных странах серп луны занимает горизонтальное положение.
(обратно)37
Гор — верховное древнее божество, изображавшееся в виде сокола. Произошло от родового тотема древних царей.
(обратно)38
Сикомора — фиговое дерево, смоковница.
(обратно)39
Маат — “видящая”, богиня истины.
(обратно)40
Хапи — так называли египтяне Нил.
(обратно)41
Подлинная надпись в переводе академика Б.А.Тураева.
(обратно)42
Голубой Нил.
(обратно)43
Шумеро-вавилонская культура в Двуречье.
(обратно)44
Критская культура на острове Крит.
(обратно)45
Нармер, или Менес, иначе Аха (3400 г. до н. э.) — первый фараон, объединивший под своей властью обе страны — Верхний и Нижний Египет. Считается основателем династий фараонов.
(обратно)46
Иаа — страна за Красным морем, часть Синайского полуострова.
(обратно)47
Озера Змея — озера на Суэцком перешейке.
(обратно)48
Вават и Иэртет — части современной Нубии на отрезке долины Нила между Ассуаном и Хартумом.
(обратно)49
Гавань Суу — ныне Коссейр на Красном море.
(обратно)50
Обычная древнеегипетская формула благополучия.
(обратно)51
Священные птицы Тота — ибисы.
(обратно)52
Первоначально раздельное существование Верхнего и Нижнего Египта очень долго отражалось в государственных названиях.
(обратно)53
Антилопы, журавли, гиены приручались в Древнем Египте.
(обратно)54
Отражение зла, отражение крокодила — ритуальные молитвы.
(обратно)55
Шмун — современный Эшмун.
(обратно)56
Нуб — золото по-древнеегипетски, современная Нубия.
(обратно)57
Пта — один из восьми главных богов Египта.
(обратно)58
Ху — сфинкс по-древнеегипетски.
(обратно)59
Перевод подлинного текста.
(обратно)60
Подлинный текст.
(обратно)61
Скаты-хвостоколы.
(обратно)62
Род тропических морских ежей (дионема).
(обратно)63
Медузы различных видов.
(обратно)64
Описываются коралловые рифы Красного моря. Упомянуты различные кораллы: мадрепоры, миллепоры, турбинарии разных видов.
(обратно)65
Актинии, или морские анемоны.
(обратно)66
Угреобразные хищные рыбы — мурены.
(обратно)67
Акулы.
(обратно)68
Мыс Рас-Хамра (см. лоцию Красного моря).
(обратно)69
Коралловый песок.
(обратно)70
Сальпы, гребневики, медузы.
(обратно)71
Исполинские тропические медузы до 11 метров в поперечнике.
(обратно)72
Скопления микроскопических водорослей, от которых Красное море и получило свое название.
(обратно)73
Древнеегипетское название колючих кустарников.
(обратно)74
Район мыса Тхерауба (см. лоцию Красного моря).
(обратно)75
Мангровые заросли.
(обратно)76
Горы Абиссинии.
(обратно)77
Апоп — олицетворение бури, мрака и ужаса в египетском пантеоне.
(обратно)78
То есть китов.
(обратно)79
Баб-эль-Мандебский пролив.
(обратно)80
Аденский залив, где гораздо прохладнее, чем в Красном море.
(обратно)81
То есть за южной границей Египта.
(обратно)82
Суда прошли восточную оконечность Сомалийского полуострова — мыс Гвардафуй.
(обратно)83
Сет, или Сетх, — бог подземного царства, владыка темных сил.
(обратно)84
Сохмет — богиня войны, голода и болезней в образе львицы.
(обратно)85
Подлинный текст.
(обратно)86
Фламинго — болотная птица с длинной шеей, длинными ногами и большим, круто загнутым вниз клювом, красивой розовой окраски.
(обратно)87
Озеро Виктория.
(обратно)88
Гора Килиманджаро.
(обратно)89
Дерево виддрингтония.
(обратно)90
Скопления атмосферного электричества, частые на высоких плоскогорьях Африки.
(обратно)91
Замбези.
(обратно)92
Степи Южной Африки.
(обратно)93
Денежная единица.
(обратно)94
Пляска Муу — ритуальный танец при погребении.
(обратно)95
Позади — то есть на севере; впереди — на юге. Так обозначали древние египтяне два основных направления.
(обратно)96
Подлинный текст.
(обратно)97
Джаму — добровольцы-воины из знатной молодежи и богачей.
(обратно)98
Подлинный текст.
(обратно)99
Подлинный текст.
(обратно)100
Берилл — минерал из группы алюмосиликатов. Твердость 7,5–8. Разновидности, прозрачные и окрашенные в густой изумрудно-зеленый цвет, называются изумрудами и являются драгоценными камнями. Синевато-голубые разновидности называются аквамаринами, розовые — воробьевитами.
(обратно)101
Гемма — небольшое изображение, вырезанное на камне.
(обратно)102
Саблезубые тигры — вымершая группа крупных кошек. Жили в конце третичного и в четвертичном периоде (от 6 миллионов до 300 тысяч лет назад). Отличаются длинными (до 0,3 метра) клыками верхней челюсти и связанной с их развитием способностью очень широко раскрывать пасть. Вероятно, охотились на самых крупных травоядных.
(обратно)103
Ойкумена — населенная земля; по представлениям древних греков, окруженная кольцом пустынной, необитаемой суши, обтекаемой кругом океаном.
(обратно)104
Энниада — южный угол Акарнании, страны на юго-западной оконечности Северной Греции. Речь идет о Древней Элладе до ее объединения и расцвета.
(обратно)105
Гиперион, позднее Феб, — бог солнца у греков.
(обратно)106
Аэды — народные певцы в древние времена истории Эллады. Позднее стали называться рапсодами.
(обратно)107
Колесница Ночи — Большая Медведица.
(обратно)108
Фратрия — объединение нескольких родов. Из фратрий состояло племя в древние времена, когда еще силен был родовой общественный уклад жизни.
(обратно)109
Элида — область в северо-западной части Пелопоннесского полуострова.
(обратно)110
Химатион — верхняя одежда эллинских женщин: прямоугольный кусок ткани в виде шали. Набрасывался через плечо, в плохую погоду надевался и на голову.
(обратно)111
Хитон — длинная одежда без рукавов из тонкой ткани. Домашнее одеяние эллинских женщин.
(обратно)112
Пандион подразумевает восточную часть Греции, где в доэллинское время, во второй половине II тысячелетия до нашей эры (1600–1200 гг.), был расцвет так называемой микенской культуры, непосредственно сменившей критскую. Эгейская, или критская, культура — еще не разгаданная культура доэллинского периода в Средиземноморье (в среднем II тысячелетие до нашей эры).
(обратно)113
Микены, Тиринф, Орхомены — культурные центры Микенской эпохи.
(обратно)114
Стадия — мера расстояния, приблизительно равная 180 метрам.
(обратно)115
Город Кносс — центр эгейской (критской) культуры.
(обратно)116
Жест просьбы в древней Элладе.
(обратно)117
Айгюптос — греческое название Древнего Египта; произошло от искаженного египетского Хет-Ка Пта (Дворец Духа Пта) — другое название города Белой Стены (Мемфиса).
(обратно)118
Темен — земельный надел крупного вождя.
(обратно)119
Подразумевается Коринфский залив.
(обратно)120
Область в восточной части Греции.
(обратно)121
Тезей — герой эллинских мифов, отправившийся на Крит и там победивший в подземельях лабиринта чудовище Минотавра. Ежегодно красивейшие девушки и юноши обрекались в жертву чудовищу. Тезей избавил родную Аттику от кровавой дани царю Крита.
(обратно)122
Геката (далеко разящая) — богиня луны и колдовства у эллинов.
(обратно)123
Кария — страна на побережье западной оконечности Малоазиатского полуострова.
(обратно)124
Измерением тени определяли время в Древней Элладе.
(обратно)125
Так называемом “шиферном городе”, древнее название которого осталось неизвестным.
(обратно)126
Тир — древняя столица Финикии, к югу от современного Бейрута, на юге нынешней Сирии.
(обратно)127
Ворота Туманов — Гибралтарский пролив.
(обратно)128
Туманное море — Атлантический океан.
(обратно)129
У кораблей древних было два рулевых весла — по одному с каждой стороны кормы.
(обратно)130
Афрос — пена по-древнегречески.
(обратно)131
Туруша — этруск.
(обратно)132
Кефти, или кефтиу, — по-египетски значит “позади”; название Крита и жившего на нем народа.
(обратно)133
Ханебу — северяне.
(обратно)134
Корона фараона двойная: красно-белого цвета — в знак власти над “обеими странами” — Верхним и Нижним Египтом. Красная корона — Нижнего Египта, белая — Верхнего.
(обратно)135
Овальной рамкой окружались иероглифы, составлявшие имя фараона.
(обратно)136
Стрела — Стрелец. Ранний заход этого созвездия означал конец зимних бурь.
(обратно)137
Экуеша — собирательное название народов Эгейского моря.
(обратно)138
Храм в Карнаке, близ современного Луксора.
(обратно)139
Сфинксы.
(обратно)140
Хатшепсут — царица XVIII династии (1500–1457 гг. до н. э.).
(обратно)141
Знаменитый храм Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри.
(обратно)142
Храм Ментухотепа — фараона Среднего царства (Ментухотеп IV, фараон XI династии, около 2050 г. до н. э.).
(обратно)143
Преимущественно разрушались храмы Среднего царства (2160–1580 гг. до н. э.) из-за обилия в них хорошо отделанного камня.
(обратно)144
Древнее царство — с III по VIII династию (2980–2445 гг. до н. э.).
(обратно)145
Новое царство — XVIII, XIX и XX династии (1580–1205 гг. до н. э.).
(обратно)146
Ахетатон (ныне Тель-эль-Амарна) — столица фараона Эхнатона.
(обратно)147
Фараон Эхнатон (Аменхотеп IV, 1375–1358 гг. до н. э.), пытавшийся ввести в Египте новую религию с единым богом — солнечным диском Атоном.
(обратно)148
Ка — по египетским верованиям, разумная душа.
(обратно)149
Ба — телесная душа, призрак тела.
(обратно)150
Черная бронза — особенно твердый сплав меди с редким металлом. Древние металлурги умели путем прибавления к бронзе цинка, кадмия и других металлов получать сплавы высокой твердости.
(обратно)151
Аату — мятежники.
(обратно)152
Врата Юга — города Неб и Севене (ныне Сиенна и Ассуан) на островах Элефантина и Филэ.
(обратно)153
Хирхуф — начальник провинции Неб, путешественник в глубь Африки при VI династии (2625–2475 гг. до н. э.).
(обратно)154
Подлинная надпись в переводе Голенищева.
(обратно)155
Менхеперра — тронное имя Тутмоса III, фараона-завоевателя, крупного государственного деятеля (1501–1477 гг. до н. э.).
(обратно)156
Зверь Сетха (окапи) — своеобразное жирафоподобное животное из древней, родоначальной для жирафов группы. Ныне уцелело только в дремучих лесах Конго; ранее водилось во всей Африке и было многочисленно в дельте Нила. Древние египтяне взяли с него образ своего грозного бога Сетха. Земляная свинья, по-египетски та-рири (трубкозуб), — своеобразное роющее африканское млекопитающее.
(обратно)157
Усермар-Сотепенра — тронное имя Рамзеса II (1229–1225 гг. до н. э.), великого завоевателя.
(обратно)158
Прирученные львы участвовали в сражениях Рамзеса II с хеттами.
(обратно)159
Нефер-неферу — наилучший.
(обратно)160
Хет! — Да будет!
(обратно)161
Мирные негры — так назывались в Египте негры, служившие в войсках и полиции.
(обратно)162
Страна Куш — область долины Нила и Нубии, между вторым и пятым порогами, включавшая древние страны Иам и Карой. Страна Иэртет располагалась ниже по течению от второго порога, страна Вават — между Вратами Юга и страной Иэртет.
(обратно)163
Пещерный храм Рамзеса II в Ибсамбуле.
(обратно)164
Сенусерт III, легендарный Сезострис (1887–1849 до н. э.), — фараон XII династии (2000–1788 гг. до н. э.), прославившийся огромными строительными работами.
(обратно)165
Река Ароматов — Атбара, правый приток Нила.
(обратно)166
Зонтичные акации, а также зонтичные формы мимоз.
(обратно)167
Баобаб — специфическое дерево африканских саванн.
(обратно)168
Орикс, или сернобык, — крупная антилопа, приручавшаяся в Древнем Египте.
(обратно)169
Белый носорог был распространен в древние времена значительно больше на севере Судана.
(обратно)170
Южный Рог — древнее название Гвинейского залива.
(обратно)171
Подразумевается латерит — красная железистая почва, образующаяся в южных странах при выветривании изверженных пород.
(обратно)172
Подразумевается сансеверия — оригинальное растение сухих латеритовых степей.
(обратно)173
Подразумевается антилопа Уэллера (геренук) с длинной шеей, встающая на задние ноги, чтобы достать листья деревьев.
(обратно)174
Колючие шишки травы асканита.
(обратно)175
Африканские буйволы.
(обратно)176
Канделябровый молочай, из группы молочайных, внешне похожий на кактус (характерное растение африканской пустыни).
(обратно)177
Дерево из семейства стеркулиевых, дающее орехи кола, ныне известные во всем мире как великолепное тонизирующее средство.
(обратно)178
Просо элевзина — африканское просо с шишками, усаженными множеством мелких черных зерен.
(обратно)179
Подразумевается элелешо — душистое растение Судана, родственное нашему тархуну.
(обратно)180
Тюльпанное дерево из семейства магнолиевых.
(обратно)181
Слоновая трава — огромный злак, до 6 метров высоты.
(обратно)182
Амбаг — очень легкий и толстый тростник, до 7 метров высоты.
(обратно)183
Подразумеваются фламинго.
(обратно)184
Две реки — Подразумеваются Бахр-эль-Араб и Бахр-эль-Газаль, в древности более многоводные, чем в настоящее время.
(обратно)185
Павианы.
(обратно)186
Пальмы дулеб.
(обратно)187
Правая река ныне называется Шари.
(обратно)188
Левая река ныне называется Убанги — главный приток Конго.
(обратно)189
Лобелии.
(обратно)190
Подразумевается бородавочник — дикая свинья с огромными клыками для вырывания корней.
(обратно)191
Древовидные папортники циатея и тодеа высотой до 10 метров.
(обратно)192
Деревья различных пород: железное дерево, фикус, желтое дерево, макаранга, полисциас и многие другие.
(обратно)193
Дерево хайя, с мягкой древесиной.
(обратно)194
Дерево благовоний.
(обратно)195
Загородки из слоновых бивней встречались в верховьях Нила у шиллуков еще в середине XIX века.
(обратно)196
Пресные моря — цепь Великих озер Восточной Африки.
(обратно)197
Подразумеваются Кения и Килиманджаро — две высочайшие вершины Африки с вечными снегами и ледниками.
(обратно)198
Плавающие селения встречаются в настоящее время на Великих озерах. Построены на больших плотах.
(обратно)199
Замбези с ее знаменитым водопадом Виктория.
(обратно)200
Степь голубых трав — южноафриканская степь. Южная Африка отличается особенной растительностью, в которой преобладает сизая, голубоватая и зеленовато-голубая окраска растений.
(обратно)201
Деревья с зеркально блестящими листьями характерны для лесов Южной Африки.
(обратно)202
Разные виды алоэ семейства лилейных, также драконовых деревьев.
(обратно)203
Народы готтентотского типа в древние времена были распространены гораздо шире, чем теперь. Есть основания думать о их родстве с древними египтянами.
(обратно)204
Алмаз.
(обратно)205
Область мощных латеритовых отложений Западной Африки.
(обратно)206
Кора дерева иохимба, из семейства мареновых, к которым относятся также хинное и кофейное деревья.
(обратно)207
Масличная пальма.
(обратно)208
Бананы.
(обратно)209
Подбодряющие листья — листья стеркулиевых или табака и других растений, содержащих возбуждающие вещества.
(обратно)210
Хариты, позднее Грации, — богини женского очарования и изящества у эллинов. Харит было три.
(обратно)211
Черное дерево дают ядровые древесины различных видов африканских деревьев, главным образом семейства эбеновых; также дальбергия из семейства бобовых.
(обратно)212
Остров Наксос — самый большой остров в группе Кикладских островов, на юге Эгейского моря.
(обратно)213
Магеллановы облака, Большое и Малое, — крупные звездные скопления и туманности в небе Южного полушария.
(обратно)214
Угольный мешок — черное скопление непрозрачного вещества в небе Южного полушария.
(обратно)215
Подразумевается дерево комбрет.
(обратно)216
Аид — подземное царство в представлении эллинов, куда попадают души усопших после смерти.
(обратно)217
Большой Ливийский залив — залив Большой Сирт на северном побережье Африки, к западу от Египта.
(обратно)218
Галактика — гигантская звездная система (иначе называемая Млечным Путем), в которой в качестве рядовой звезды находится и наше Солнце. Солнце описывает вокруг динамического центра Галактики гигантскую орбиту с периодом обращения примерно в 220 миллионов лет.
(обратно)219
Световой год — единица расстояния в астрономии, равная количеству километров, пробегаемых лучом света в год (9,46?1012 км, то есть почти 1013 км). Ныне как единица расстояния в астрономии применяется парсек, равный 3,26 светового года.
(обратно)220
Вергилий — знаменитый римский поэт, автор “Энеиды”. Итальянский поэт Данте в своем произведении “Божественная комедия” изобразил Вергилия как своего проводника по загробному миру.
(обратно)221
Космические лучи — необычайно жесткое излучение, падающее на Землю из мирового пространства, но задерживающееся верхними слоями атмосферы. Атомные процессы, при которых возникает столь мощное излучение, пока неизвестны.
(обратно)222
Русские, что вы собираетесь делать?
(обратно)223
Идти навстречу!
(обратно)224
Правильно! На полной скорости!
(обратно)225
Динозавры — большая группа вымерших ящеров, которая длительное время господствовала на Земле от 60 до 150 миллионов лет назад.
(обратно)226
Ergo — следовательно (лат.).
(обратно)227
Меловой период — последний период мезозойской эры, длившейся около 60 миллионов лет и окончившийся за 60 миллионов лет до настоящего времени.
(обратно)228
Третичное время, или третичный период, — непосредственно следовавший за меловым период истории Земли, длившийся около 59 миллионов лет и окончившийся за миллион лет до нашего времени.
(обратно)229
Время действия рассказа — 1946 год.
(обратно)230
Альпийское горообразование — последний период горообразования в истории Земли, когда возникли высочайшие горные страны современности.
(обратно)231
Цепная нейтронная реакция — лавинообразное нарастание процесса деления атомных ядер.
(обратно)232
Эоловый — обязанный своим происхождением ветру, ветровому переносу.
(обратно)233
Моноклон — однорогий представитель рогатых травоядных динозавров.
(обратно)234
Карнозавр — хищный динозавр.
(обратно)235
Цератопс — собирательное название рогатых травоядных динозавров.
(обратно)236
Карапакс — верхний щит черепашьего панциря.
(обратно)

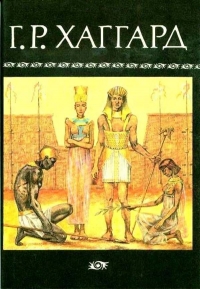





Комментарии к книге «На краю Ойкумены. Звездные корабли», Иван Антонович Ефремов
Всего 0 комментариев