Том Шервуд «Серые Братья»
Белым пламенем в чёрной ночи Их ведут звёзды вещей надежды, — Древних рыцарей в серых одеждах, Что несут под плащами мечи. Ветераны невидимой битвы С тьмою всех преисподних миров Они ищут лишь Божьих Даров, И сильней их мечей – их молитвы.Пролог
Грозовой гром еще разламывал небо, когда подброшенный баллистой к чёрным тучам скорчившийся человек, растопыривший в полете колени и локти, гигантской, неведомо откуда взявшейся летучей мышью упал на деревянный скат двухэтажного спящего дома. Гром начисто стёр звук его «приземления» и, впившись стальными шипами в старую кровлю, человек замер.
Замер. Невидимый в темноте, растянул губы в недоброй, остро-самодовольной улыбке. Ливень хлестал, струи воды мгновенно пропитали одежду, а невиданный путешественник, слизывая с губ дождевые капли, сидел неподвижно, ожидая следующего содрогания туч и, белея оскалом крупных крепких зубов, улыбался.
Пролог, постсткриптум
Капитан пиратов отнял от глаза длинную подзорную трубу, с резким щелчком сложил её и бросил на палубу.
– Упрямые свиньи! – заорал он, наклоняясь вперёд, в ту сторону, куда указывал бушприт его корабля. – Всё равно догоню! Всех – на нож! Всех – на рею!
На шее его вздулись вены.
А бушприт, длинный деревянный брус с прикрепленным к нему основанием кливера, указывал на мотающийся впереди, между тяжёлыми волнами, старый, видавший виды торговый бриг. Он отчаянно, подняв все паруса, уходил от погони.
– Флаг вроде голландский, – сказал подошедший к капитану его главный канонир. – Но это мало о чём говорит, флаг и мы можем выбросить какой угодно. Название не разглядел? – Он, наклонившись, поднял и протянул капитану подзорную трубу.
– «Бофур», – со злостью выговорил капитан, отталкивая трубу. – Похоже, в самом деле голландец.
– Видно, что это купец, – продолжил довольно спокойным голосом канонир. – Осадка глубокая, значит – с грузом. Богатый приз. И что ты злишься? Догоним.
– Как бы не так! – проорал ему в лицо капитан. – Ты, когда смотришь на приз, – не смотришь на небо!
Выхватив из руки канонира и снова швырнув на палубу подзорную трубу, он резко повернулся и затопал на корму, к рулевому. Оставшийся в одиночестве канонир задрал вверх голову и, оскалив зубы и втянув сквозь них воздух, с досадой пробормотал:
– Да-а. Через часок здесь крепкий шторм будет.
Глава 1 Продавец тайн
Итак, я сидел в квартердеке, в любимой каюте, один. Сидел, пил лёгкое пиво.
Шумела вода за бортом. Крыса висела на стене над кроватью. В ящике стола лежал жемчуг, стоимостью, примерно, в шесть новеньких кораблей. Внизу, в сундуках, покоилось золото.
Скоро уже, скоро – Англия!
Чудесное утро
Так же, как год назад, глубокой осенью «Дукат» вошёл в Бристольскую гавань. Только что рассвело, и солнце поднималось над спящим городом, и слепило глаза.
Как будто и не было этого нелёгкого года. Как будто недоброй выдумкой качались завязшие в памяти «Царь Молот», «Ля Неж», Джо Жаба, Хосе, плен у Хумима-паши, смерть товарищей. Хвала Создателю, всего этого больше нет. А есть Бристоль – вот он, на берегу, в дымке утреннего тумана, и там, в тумане – мой дом. А в нём – дорогие, любимые люди. А воображаемая встреча с Эвелин, предчувствие возгласов, слёз и объятий, и счастье, накопившееся, мерцающее в груди горячим маленьким солнцем, едва сдерживаемое, готовое всплеснуться в сердце – всё это сводило с ума.
Я бессовестно бросил все портовые заботы на Энди Стоуна. Я сказал ему:
– Капитан, сердце не выдержит. Мчусь домой.
– Никаких объяснений! – замахал он руками. – Сами всё сделаем, мистер Том! И бумаги отметим, и груз таможне представим. Вот, для вас уже шлюпку спускают!
Не торгуясь, я купил в порту свежую лошадь и помчался в сторону поднимающегося навстречу мне солнца.
Только въехав в парад, я подтянул узду: каменная мостовая – слишком скользкая поверхность для железных подков. И вот он – мой дом! Всё такой же, добрый друг-старина, – только двери новой краской покрыты. Спрыгнув с лошади, я шагнул к двери, потянул за ручку… Заперто изнутри. Добежав до ворот, ведущих во двор, я попытался войти через них – но и они были на запоре. Тогда я просто перемахнул через забор и метнулся к двери с другой стороны дома. И вдруг – о, сколько же можно воевать! – окно возле двери приоткрылось и в него просунулся ствол короткого мушкета или аркебузы.
– Кто и зачем?! – грозно спросил человек за окном, но вдруг дрогнувшим голосом выкрикнул: – Черти чтоб взяли меня со всеми моими кишками, это же мистер Том, алле хагель!!
Глухо стукнула брошенная аркебуза, раздался шлепоток босых ступней по паркету, заклацали отбрасываемые запоры.
– Мистер Том! – кричал взъерошенный, в белом нижнем белье, смутно знакомый мне человек. – Вы когда прибыли? Что, «Дукат» здесь? А где все? А вы не узнаёте меня? Я Носатый!
– Эвелин дома? – пьяно улыбаясь, спросил я, крепко хлопая его по плечу.
– Все наши – на третьем этаже! – крикнул уже в спину мне Носатый.
В пару прыжков преодолевая пролёты лестницы, я взлетел на третий этаж и быстрыми шагами пошёл, почти побежал к нашей с Эвелин спальне – в самый конец коридора, мимо прочих дверей. (Во дворе грохнул выстрел.) Вдруг за одной из этих дверей послышался крик:
– Томас!
Этот голос я не спутаю ни с чьим другим.
– Эвелин! – резко остановившись, негромко простонал я, и прикоснулся одеревеневшими пальцами к ручке двери.
А дверь уже раскрывалась, и жена моя, родная, прекрасная, милая, в утреннем халате, с несобранными волосами, с глазами, быстро напитывающимися влагой обняла меня, тесно прижавшись к моей пыльной дорожной одежде. Прикрыв дверь (а там, в коридорах, и во всём доме поднимался и рос шум возгласов и шагов), мы стояли, покачиваясь, стиснув друг друга, вытирая друг другу слёзы и, время от времени отстраняясь, вглядывались в лица. Эвелин дрожащими пальцами пыталась то прибрать волосы, то расстегнуть пряжку моей нагрудной портупеи, то прикасалась к моему лицу.
– Надо идти, – наконец сказала она. – Там, наверное, весь дом собрался. Нас ждут…
– А почему ты не в нашей спальне? – спросил я.
– Нашу спальню я отдала Луису и Анне-Луизе. У них ребёнок родился.
– Они у нас живут? – изумлённо-радостно спрашивал я, но Эвелин уже тянула меня из комнаты в коридор и дальше, вниз, на второй этаж, в обеденную залу.
Войдя, я был оглушён хором радостных криков. Натянувший штаны и сапоги Носатый выстрелил из аркебузы в потолок – холостым зарядом. Да, Луис и Анна-Луиза были здесь (лица у обоих сияли), и Генри смущённо топтался, поправляя на носу круглые, в железной оправе очки. Давид, поникший и постаревший, в таких же, как у Генри очках, взволнованно бормотал, что он по воскресеньям всегда остаётся у Локков, а сегодня именно ведь воскресенье. (Он смотрел на меня с мольбой и надеждой, и я, в ответ на его немой вопрос, сквозь гул приветствий крикнул: «Я привёз их!») Мистер Бигль, в белых перчатках, согнувшись, стоял, опираясь на палку, и рядом топталась растерянная миссис Бигль. Алис, похорошевшая, взрослая, подпрыгивала, взмахивая рыжими волосами и била в ладоши. Я всех обнял, со всеми поцеловался, дал себя повертеть-рассмотреть. А потом, оглядывая поверх голов залу, громко спросил:
– А где Бэнсон?
И вдруг пала неожиданная тишина. Сердце моё привычно, как бы само по себе, приготовилось к неприятностям.
– Значит, вы с ним не встретились? – упавшим голосом спросила Алис.
– Мы разве должны были встретиться? – я обвёл всех недоумевающим взглядом.
– Когда ты прислал письмо, Томас, – грустно сказала Эвелин, – Бэнсон отправился тебя выручать.
– Куда?!
– В Багдад.
На ходу отстёгивая портупею, я подошёл к стоящей у стены оттоманке и сел.
– Разве я писал, что мне нужна помощь? – спросил я вслух самого себя. – Напротив, там было написано, что мы скоро увидимся.
– Бэнсон рассудил иначе, – сказала Эвелин. – И его можно понять. Как ты думаешь, смог бы он спокойно сидеть в этом доме и ждать – как у тебя всё разрешится? А если бы и сидел, то какими глазами он смотрел бы сейчас на тебя? Бэнсон отправился тебя выручать. В одиночку.
– Томас, – дрожащим голосом спросила Алис, – а там, в этом Багдаде – очень опасно?
– Даю тебе слово, – я прижал руку к груди, – что не опасно. И в Багдаде, и в Басре есть английские фактории. Там он узнает, что я спасся, и что «Дукат» ушёл в Англию. И повернёт домой. Думаю, что он уже на пути сюда. Алис! Бэнсон сильный, удачливый и бесстрашный. Он обязательно скоро вернётся. – И не удержался, прибавил с досадой: – Я же написал, что всё хорошо! Что скоро увидимся!
Тут выступил вперёд мой добрый старый Давид.
– Скажи, Том, – глубоко вздохнув, спросил он, – правильно ли я понял…
– Правильно, дорогой мой учитель. Правильно. Поспеши-ка домой, – Эдд и Корвин, бьюсь об заклад, сейчас настёгивают лошадей и будут там с минуты на минуту.
– А я побегу вниз, на кухню – всплеснула руками толстенькая и ничуть не постаревшая миссис Бигль. – О-ой, сколько народа сегодня кормить придётся!..
Минутная тягостная пауза проходила, и все снова начали радостно переговариваться.
– Мистер Том, – неуверенно попросил Генри, – пока миссис Бигль готовит вам завтрак, не могли бы вы присесть за этот стол, и хоть немного нам рассказать, что видели и где были?
Я порывисто встал с оттоманки и, шагнув к столу, громко, с воодушевлением заявил:
– Чудеса с нами произошли – как жуткие, так и весёлые. Так что приготовьтесь и пугаться, и радоваться!
Торопливо, грохоча стульями, обитатели нашего дома стали рассаживаться за огромным овальным столом. Я же, улучив секунду, тихо спросил Эвелин:
– Мебельные дела кто ведёт? Луис?
– Нет, – ответила мне жена. – Все дела веду я.
– Хорошо, – я осмотрелся и громко позвал: – Носатый!
– Я здесь, капитан! – выкрикнул он, замирая на месте и бросая воняющую порохом аркебузу прикладом к ноге.
– Ступай-ка, друг, вниз, в салон. Приготовь его к тому, что скоро туда заявятся полсотни усталых и желающих выпить матросов. Возьми денег побольше, спроси миссис Бигль, чего нужно прикупить из еды, и – на рынок. Да загони во двор мою лошадь, – я, кажется, её даже не привязал.
Вот так, Носатый умчался, а я, отставив стул, стал усаживаться под нетерпеливыми взглядами, принимая вид нарочито весомый и важный.
– Однажды, – сказал я, усевшись и достав трубку, – один турецкий паша решил сделать своему султану подарок…
Торговец секретами
День пролетел – суматошный и радостный. Алис показывала мне их с Бэнсоном сына – маленького Тома (глазёнки – как две капли воды – бэнсоновы), Луис и Анна-Луиза принесли ещё более крохотного Эдвина (которого дед, когда впервые взял на руки, объявил будущим пэром Англии). Стоун привёз бумаги из адмиралтейства. Генри хвалился библиотекой. Эдд и Корвин, общие любимцы и баловни, то появлялись, то исчезали. Давид, впервые, наверно, за этот год успокоившись, лежал, накрытый одеялом, на оттоманке в обеденной зале и негромко храпел. Шум, топот и крики утихли лишь к вечеру.
Вечером Эвелин, усадив меня, как маленького, в ванну и отмывая от дорожных пыли и тягот, негромко и неторопливо рассказывала о новостях.
– Я поменяла трубы, – говорила она, – видишь, вместо свинцовых теперь железные. Приобрела водогрейный котёл – теперь он стоит в подвале, а здесь, как только откроешь кран – идёт горячая вода. И ещё я тебе сделала подарок.
– Какой?
– Ты помнишь надстройку над третьим этажом в южном крыле?
– Конечно помню. Но я едва заглянул туда – и распорядился заколотить. Бывший хозяин там сложил вещи, которые не увёз сразу.
– Бывший хозяин забрал-таки свои вещи. И помещение освободилось. И его-то я тебе и дарю.
– Но, Эвелин, ты что-то недоговариваешь?
– Кое-что.
– Выкладывай сейчас же это кое-что. Не томи!
– Это прекрасная комната, пять на пять ярдов, с двумя окнами и стенами почти в ярд толщиной. Я отремонтировала её – новые рамы, пол, двери. Но главное, Том, там есть камин, с круглой такой топкой…
– С круглым порталом.
– С круглым порталом. И он отменно работает – я приглашала трубочиста, чтобы он проверил трубу. И вот однажды я смотрела на эту надстройку снизу, со двора, и обнаружила странную вещь. Меня заинтересовал небольшой, но широкий выступ в стене – как я поняла, для каминного дымохода. Но для дымохода он был слишком широк! Побоявшись, что меня засмеют, я незаметно измерила. Получилось, что камин в комнате занимает два ярда. А выступ снаружи, за стеною, – четыре! Тогда я, опять скрытно, взяла молоток и отбила штукатурку со стены рядом с камином.
– И что там? Кирпич?
– Нет, Томас. Там сейф.
– Подожди-подожди… То есть как?
– Очень старый, железный, встроенный в стену сейф в рост человека, с толстой дверцей, с отпертым замком и совершенно пустой.
– А… а зачем тогда его нужно было прятать за штукатурку?
– Это ты уже сам разгадывай. Я только знаю, что у тебя теперь есть отдельный, тихий и очень уютный ка-би-нет.
Мы, конечно же, отправились в это захламленное в прошлом помещение (я оставлял мокрые следы на паркете) и, зажёгши свечи, рассмотрели и сейф, и камин, и даже – какой вид из окон. Повернувшись к Эвелин, я с волнением и нежностью произнёс:
– Ни у кого на свете нет такой жены, как у меня, до бессовестности счастливого человека.
– Я тебя так ждала, – прошептала она, прижавшись щекой к моему плечу.
Стоит ли говорить, что на следующий вечер я, Луис, Энди и Эвелин собрались в моём кабинете, где на полу были расставлены привезённые с «Дуката» сундуки с золотом, жемчугом, драгоценностями. Два стола и две длинные лавки были подняты в эту мансарду, и на них мы выкладывали и сортировали сокровища.
Под столами поставили два больших дубовых ведра, и в них сбрасывали древние, четырнадцатого века, серебряные гроуты. На лавки выкладывали бумажные малоценные шотландские банкноты, и там же – римские, банка «Святого Духа». На один из столов отправлялись испанские серебряные песо и золотые дублоны. На втором в виде массивных крепостных стен выстраивались шпалеры из сложенных в столбцы золотых ноблей; отдельно – массивные, тяжкие соверены Генриха Седьмого; следом – уже скромных размеров соверены Генриха Восьмого. Потом – уже вовсе маленькие соверены Георга Третьего. Потом – очень красивые, со слоном, «гвинейские» золотые Карла Второго. Потом – столетние, тысяча шестьсот пятидесятого года золотые фунты, отчеканенные во время управления Парламента. И, наконец, мои любимые современные золотые гинеи, – их мы складывали в роскошные, надменные, Ганзейского торгового дома портфунты, на стальных пряжках которых были выбиты клейма мастера Базеля. В один такой прочный, высочайшего качества кожи, со смоляной прошивкой кошель входило золота ровно на одну тысячу фунтов.
Жемчуг, инкрустированные самоцветами безделушки и разные неоцениваемые пока драгоценности грудами ссыпали в широко раскрытые рты сундуков.
Не хватало только Давида, но он скоро прибыл, – тяжело дышащий, взволнованный.
– Я привёз человека, – сказал он мне, – у которого весьма серьёзные рекомендации и которого, я думаю, надо послушать.
– Кто он? – спросил я, с неохотой отрываясь от золотых монет, которые складывал в столбики.
– Его надо послушать, – повторил мой старый друг и добавил: – Мы, с твоего позволения, поужинаем, а когда вы закончите, – ты нас прими.
Мы закончили подсчёты. Записали сальдо в реестр. Захлопнули крышки сундуков и замкнули замки. Я тоже был бы не прочь поужинать, но дело, как оказалось, отлагательства не терпело.
Давид, лишь кивнув головой в сторону приехавшего с ним человека, прошёл к камину и, открыв шибер[1], принялся разводить огонь.
Человек, оказавшийся неимоверно худым, чернокожим (хотя и европейской внешности!) стариком, учтиво поклонился и, вслед за моим приглашающим жестом, сел к столу, поставив у ног мешок с чем-то тяжёлым.
– Меня зовут Мухуши, – сказал он надтреснутым тенором. – Я специалист в одном не совсем обычном деле.
– А именно? – вежливо поинтересовался я.
– Я торгую секретами.
– Секретами?!
– Ну да, да, да, да! Я продаю секреты, тайны. За некоторые весьма сносно платят.
– И вы ко мне по этому делу?
– К кому же ещё? – старик уставил в меня свои водянистые глазки. – Этот секрет у меня купит только Томас Локк Лей, алле хагель.
– Вы – бывший пират? – я не сумел сдержать досады и пренебрежения.
– Нет, просто знался с морскими ребятами. Но вас не это должно занимать, «Том, – как говорят друзья, – Чёрный Жемчуг», или «Том, – как говорят завистники, – Сопливый Счастливчик». Я вам предлагаю купить у меня секрет лично для вас преполезный, и заплатить за него три тысячи фунтов, причём деньги выдать до оглашенья секрета.
Я в растерянности оглянулся на запалившего-таки огонь в камине Давида:
– Он шутит?
– Совершенно не представляю, о чём может идти речь, – прижал тот руку к груди. – Ручаюсь лишь, что рекомендации у мистера Мухуши – надёжные. И он заверил меня, что мистер Локк Лей будет очень доволен покупкой. В остальном – решай сам.
– Да что же это делается! – воскликнул я, обнаружив, что против воли тянусь к сундуку с только что пересчитанным золотом. – Это ведь не кружка пива, и не тюк табаку! Это три тысячи! Стоимость места в парламенте! За уверение, что я буду рад… Вот вам!!
И я поставил на стол три тяжёлых кожаных портфунта.
– В каждом – ровно по тысяче. Считайте!
Но, к моему удивлению, считать Мухуши не стал. Он поднялся со стула, развязал свой мешок и вытащил из него какого-то деревянно-металлического уродца, с пружинами на дубовой раме и четырьмя железными лапками. Торговец секретами подошёл к одному из окон, раскрыл его и, усадив своего уродца на подоконник, быстро сжал винтами его острые лапки. После этого он покачал, натягивая пружины, затейливым рычагом, отложил его, вернулся к столу, взял один из портфунтов, устроил его в центре уродца – и спустил звонко щёлкнувший рычажок. Кошель с золотом мелькнул за окно и исчез. (Я переглянулся с Давидом. Лица у нас были вытянуты.) Проделав этот фокус ещё два раза, Мухуши снял уродца с подоконника, опустил в мешок и замер, приложив руку к уху наподобие ковшика. С улицы донёсся резкий пронзительный свист.
– Ну что же, – произнёс, довольно потирая свои чёрные руки, изумительный гость. – Деньги получены. Теперь – то, за что они плачены.
– Я впервые вижу, – произнёс оторопело Давид, – такую предусмотрительность!
– И такую подготовку и такой тонкий расчёт! – поддержал его я.
– Это зрелище – бесплатно, – повёл головой, состроив серьёзную физиономию, чёрный старик. – А вот за это – заплачено только что. Прошу получить.
И он выложил на стол какую-то карту.
– Что это? – одновременно спросили мы с Давидом.
– Имение «Шервуд», – ответил Мухуши. – Хотя, честно сказать, оно не очень-то «вуд»[2]. Вот – бывшая роща дубов. Там сейчас одни пни. Вот это – бывшая буковая роща. Там тоже пни. Это – река. Ущелье, скалы, четыре оврага, шесть ручьёв, большое пахотное поле, три озерца, – одно довольно большое, – два сосновых и два смешанных леса, невеликие. Вот здесь, – видите? – форт с громким именем «Шервуд». Небольшой. В лоте торгов записан как замок. Сохранился отменно. Красная линия – граница с соседями. Всё это выставлено на продажу и оценено в пятьдесят две тысячи фунтов. Однако желающих приобрести это имение – нет. Так как, во-первых, вырублены до последнего дерева окружавшие его леса, а во-вторых, к имению присовокуплен участок совсем негодной земли с ущельем и скалами – длинное ущелье, правда? И этот участок оценен ещё в четыре тысячи фунтов. В совокупности, за такое имение и такой замок – не очень-то дорого, но – нет желающих. Нет. Кроме, – старик поднял похожий на корявую ветку палец к потолку, – Томаса Локка.
– Ну и почему же? – поинтересовался «Томас Локк», усилием воли заставляя себя казаться спокойным.
– По трём причинам, – старик отпустил карту и та, прошуршав, свернулась в толстую трубку. – Первая: у Томаса Локка есть деньги. Вторая: Томас Локк получает титул баронета – а если повезёт – то барона, с правом передачи этого титула по наследству. Ну а третья – вот она.
И старик, наклонившись, снова взялся за мешок и вытащил из него другой, поменьше. Развязав горлышко, он высыпал прямо на стол его содержимое. Три крупных маслянисто-чёрных камня.
– О, Боже! – пробормотал Давид. – Это же…
– Горный уголь, – закончил за него Мухуши. – Горит дольше дерева и несравненно жарче. Если бы бывшие владельцы «Шервуда» знали, что у них под боком расположена угольная жила – они ни за что не стали бы вырубать деревья. А жила – вот она, – старик снова развернул карту, – в ущелье, на том самом никому не нужном участке.
– Да-а, – протянул Давид. – Если всё так… Уголь – это деньги. Или – собственные кузни, рудоплавильни, стеклозаводы, – и уже большие деньги.
Я же, потирая лоб, думал не о горном угле, а о замке и титуле.
– Мистер Мухуши! – торжественно проговорил между тем Давид. – Если угольная жила существует – моё слово прибавится к вашим рекомендациям.
– Весьма признателен, – ответил торговец секретами. – Заверяю, что она действительно существует, и что человек, нашедший её – умер.
– Случайно, не вы ему помогли… – я поднял голову.
– Нет! – вскинул руки старик. – Он сам. Это можно проверить.
– А когда, – спросил Давид, – можно подать прошение о покупке?
– Как только мистер Локк предъявит в таможню привезённые им на «Дукате» товары и получит уведомление, что он на законных основаниях обладает суммой в пятьдесят шесть тысяч фунтов. А я на свои три тысячи, которые скачут сейчас из Бристоля в мой загородный домишко, никакого подтверждения в их законности брать не намерен. При этом позвольте откланяться – и, мистер Дёдли, не забудьте об обещанной рекомендации.
Давид проводил чернолицего гостя и вернулся. Сел за стол. Я сел напротив. Мы развернули карту, ещё раз всмотрелись.
– Эвелин будет баронессой, – сказал я шёпотом. – А я сам – всю жизнь буду сажать и растить дубовый и буковый леса.
– Томас, – так же шёпотом ответил Давид. – Нужно немедленно и отчаянно выпить.
– Есть бочка ямайского рома в подвале. Идём, Давид.
– Идём, Томас.
Мистер Шервуд
После этой ночи я уехал из дома и отсутствовал две недели. С Давидом, Готлибом и Робертсоном мы находились в Лондоне, где совершали необходимые нотариальные действия по регистрации покупки имения. На обратном пути, прихватив ещё землемера, завернули в форт «Шервуд». Робертсон и Готлиб, навьючив на свободную лошадь тюк с едой и связку длинных землемеровых кольев-вешек, отправились сопровождать самого землемера в его унылом и обыденном путешествии: он должен был на месте, «на земле» подтвердить границы имения. (Спешу заметить, что в нашем случае этому путешествию не пришлось быть унылым, так как в тюке с едой находились анкер с вином и дюжина бутылок с ромом. (Ром был нужен не только для благополучного завершения межевых работ. Просто становилось уже ощутимо холодно.))
Мы же с Давидом, верхом на двух лошадях, въехали в центральные ворота маленького старинного замка.
– Странно, – сказал Давид, – а где сторожа? Ведь несколько сторожей от префектуры должны охранять замок до исхода торгов! И, смотри-ка – нет никого.
– Всё к лучшему, – рассмеялся я, привставая на стременах. – Осмотрим владения без посторонних зевак!
Медленным шагом мы ехали по широкой мощёной булыжником улице. Я вертел головой во все стороны. Слева и справа высились стены каких-то древних зданий – массивные, с добротной, крупной каменной кладкой. Несколько раз встречались отводы от главной улицы в стороны, изредка – тёмные дверные проёмы без дверей, но мы никуда не сворачивали.
Въездной путь закончился толстой башней с распахнутыми настежь красными от ржавчины огромными воротами. Здесь лежал белый, отмытый дождями скелет то ли козы, то ли собаки.
Потянулись складские постройки – классические длинные, с узкими окнами под самой крышей цейхгаузы; конюшни, трёхстенная кузня, в глубине которой были видны наковальня и – вот странность! – два, друг супротив друга, горна.
– Надо же! Никто не спёр наковальню!
– Станина, вероятно, так глубоко вкопана в землю, что четвёркой лошадей не своротишь!
Начались жилые постройки – многоярусные, с лабиринтами ходов, балконов, лестниц и лесенок. Вдруг Давид придержал лошадь:
– Смотри, Томас! Что это там?
– Кажется, мост.
– Если есть мост, значит, там родник или ручей. Хорошо бы местную воду испробовать!
Мы свернули, и через минуту копыта лошадей зацокали о каменную, выгнутую изящной аркой спину небольшого моста. Миновав его, справа мы увидели маленькое одноэтажное здание, из недр которого, с шумом и клёкотом выбегал искристый, прозрачный ручей.
– Сильный родник, – уважительно заявил Давид, слезая с лошади.
Он передал мне поводья, подобрался к ручью, кряхтя наклонился и отведал воды.
– Хрусталь! – поднявшись, Давид повернул ко мне мокрое, с довольной улыбкой лицо. – Лёд и хрусталь!
А слева от моста стояло громадное здание – не с дверями, а высокими дубовыми воротами, которые сохранились, видимо, лишь потому, что снять их было не всем под силу. Мы въехали на лошадях – по ступенькам и внутрь.
– Ну что, – сказал Давид, – вполне приличное помещение.
Мало сказать – приличное. Квадрат, шагов сорок на сорок, с дюжиной окон, заколоченных рогожей и досками. На полу – не плахи, а тёсанные в брус брёвна. Камин, в который можно въехать на лошади. В нём – вертел, на котором можно зажарить быка. Вдоль одной из стен – на сорок же шагов лавка, такая широкая, что на ней можно было, откинувшись, лечь, а перед ней – такой же длины стол. Многочисленные ноги его уходили вниз, сквозь брёвна, и, очевидно, это также было причиной того, что стол не унесли; – хотя один край был изрядно выщеплен топором: какой-нибудь заблудившийся странник не нашёл другого топлива для костра.
Встав на седло ногами, я дотянулся и содрал с одного окна полусгнившие доски с рогожей. Будет хоть немного света, когда закроется дверь.
Мы отвели к ручью и напоили лошадей и, вернувшись, сняли с них сбрую и привязали в углу, насыпав в торбы овса.
– Камин затопить нечем, – посетовал Давид, устраиваясь на боку на длинной лавке. – В Англии и без того дерева мало. А тут – всё, что можно – пожгли.
– Подожди-ка, – сказал я в ответ и, натянув снятый было сапог, вышел из «каминного» зала.
Вернувшись к мосту, я взялся и крепко потряс одно из перил. Подгнившие концы его легко вывернулись из удерживающих их железных колец. «Всё равно новые ставить!» Обратно я вернулся с тяжёлой охапкой длинных, потемневших от времени деревянных жёрдок. С грохотом сбросив эту ношу возле камина, я потянул за висящий сбоку него шест, который вверху, почти под потолком был кольцом соединён с рычагом шибера. Потянул – и шибер, проскрипев, отворился.
Через полчаса в камине пылал огонь, Давид негромко похрапывал на лавке, а я сидел за огромным столом и, разложив перед собой новенькие, хрустящие, с гербами бумаги, перебирал их, выхватывая взглядом случайные строчки: «собственность на строения… собственность на угодья… на лес… на ущелье с участком реки… итоговая собственность…» И везде владельцем этого необъятного имущества был вписан некий «Сопливый Счастливчик» Том Локк.
Давид перестал храпеть, поднял голову, бросил взгляд на бумаги.
– Скоро всё надо будет менять, – сказал он с некоторым пренебрежением.
– Почему? – удивлённо поинтересовался я.
– Ты теперь не Локк, – сказал равнодушно Давид. – Ты теперь Шервуд. Все бумаги надо будет переписывать на новую фамилию, с учётом титула. Мистер барон.
– Да-а, – мечтательно сказал я, – «барон Шервуд» – это звучит. Конечно, было бы лучше «граф Шервуд», но это как-нибудь после. Главное – как благородно звучит «баронесса Эвелин Шервуд»!
Надвинулась тёмная ночь. Слабо трещал, догорая, огонь в необъятном камине. Мирно хрупали овёс лошади. Посапывал Давид. Где-то в замке прокричал поселившийся под одной из крыш филин. Невесомое, сладкое ощущение торжественности и удовольствия не давало мне спать. «Вы знаете, кто я такой? – мысленно говорил я всем знакомым мне людям. – Я – барон Шервуд!»
За стенами поднялся ветер, и в чёрный проём окна стали залетать редкие снежинки. Очень странно, ведь ещё не зима…
Так и не уснув, я развёл, – едва только стало светать, – новый огонь в остывшем камине. Встал озябший Давид, охая, прошлёпал к ручью, умылся.
– Нет, – бормотал он, вытирая покрасневшее от ледяной воды лицо, – не по моим годам уже сны на жёстком дереве, да на холоде…
Его прервал дробный топот копыт. Спустя минуту к нам подъехал молчаливый, долговязый Робертсон. Он слез с лошади, снял пару тяжёлых мешков.
– Хорошо, – проговорил, взглянув вверх, – что идёт дым. Быстро вас нашёл.
И развязал мешок.
Мы заглянули. Чёрные, маслянисто поблёскивающие камни. «Уголь!»
– В ущелье не просто жила, мистер Том, – сказал Робертсон. – Там целый пласт – длинный и толстый. Уходит вглубь скалы. Вот, набрал из-под ног.
Мы быстро перенесли уголь к камину и, разбив его на куски помельче, набросали в огонь. Заалело и вскинулось жаркое пламя. Остро запахло непривычным «кислым» дымом. Я принёс и бросил в огонь оловянную ложку, и мы минуту смотрели, как она, плавясь, стекает сквозь побелевшие угли вниз, к поду камина.
– Уголь – шептал Давид, – это и кузни, и керамический цех, и стекольная мануфактура. Это большие деньги. На всю жизнь. И детям, и внукам.
Горевестник
Предчувствия посещали меня редко, но никогда не обманывали. Никогда. Вот и сейчас, торопясь домой с невероятной, ослепительной радостью, переполненный счастьем и ликованием от созерцания собственного замка и от свалившегося с неба дворянского титула, воображая трепетную радость Эвелин, я вдруг почувствовал, как сквозь меня пролетело невидимое холодное облачко, заставившее мою кровь на мгновенье сделаться ледяной.
– Давид, – сказал я едущему рядом старому другу, когда ко мне вернулась способность нормально дышать. – Кажется, дома нас ждёт что-то ужасное.
– Что ты говоришь, Томас! – воскликнул Давид, перегибаясь в седле и хлопая меня по плечу. – Сейчас в твоей жизни – этап везения и удач! Что может ждать тебя дома? Только радость! Ты, может быть, не замечаешь, а со стороны хорошо видно, как радуются все, все! – когда ты приезжаешь. Эвелин сейчас покраснеет, как девочка. Анна-Луиза будет смотреть на тебя с обожанием. Знаешь, как она до сих пор зовёт тебя? Не знаешь? «Милорд». Миссис Бигль бросится хлопотать по поводу чего-нибудь «вкусненького», а непоседа Алис будет ей мешать и таскать кусочки из-под руки. И знаешь, почему это ей будет позволено? Потому, что ты – дома. Луис и Генри – знаешь ли ты, сколько вечеров они о тебе говорили? И у одного и у второго ты изменил судьбу, – минутным безумным поступком. А мои Эдд и Корвин! Ты знаешь, что кумир у них – не морской волк Энди Стоун, и не просоленный боцман Бариль, и даже не их старый отец, а вчерашний мальчишка и новоявленный дворянин Том Шервуд! Что может ждать тебя впереди, кроме радости?
Его уверенность была заразительной. Он успокоил меня. Особенно же подействовало и унесло остатки сомнений так легко и так сладко прозвучавшее вдруг «Том Шервуд».
Но Давида, в отличие от меня, не посещали предчувствия.
Подъезжая к дому, я заметил, что в двери временно прекратившего работу мебельного салона не входят и не выходят матросы. Шторы в окнах задёрнуты. Для чего? Свечи жгут днём?
В доме действительно горели свечи. В нём, притихшем и замершем, царили безмолвие и полумрак. В сердце снова ударило холодом. Придерживая длинную неудобную шпагу (не удержался в Лондоне, понимаете ли вы меня, и купил шпагу, и стал открыто носить – всё-таки без пяти минут дворянин!), бросился вверх по лестнице, в жилые покои, перепрыгивая через три ступеньки – навстречу неизвестности, излучающей этот мертвенный холод, – запрыгал, но вдруг за спиной послышался звук отворяемой двери и Эвелин, выходя из мебельного салона, безжизненным голосом произнесла: «Томас…»
Внутри меня словно щёлкнуло что-то. Стало легче дышать. Стало тепло. «Если и беда – то не с Эвелин. Всё остальное – переживу».
Если бы! Судьба наносит подчас такие удары, которые не то что предвосхитить – выдумать невозможно. В бывшем салоне, а ныне – временной кают-компании сидели почти все матросы «Дуката». Здесь же находились и наши домашние обитатели. Было сильно накурено, душно и тихо.
Навстречу мне поднялся и, сняв рваную треуголку, поклонился незнакомый мне человек. В летах. (Наверное, за сорок.) Невысокий, худой, с битым частыми синими шрамами лицом «похоже, в стволе взорвался порох при выстреле!» Однорукий. Пустой правый рукав заправлен за каболку, завязанную на поясе вместо ремня.
– Ради Бога, – произнёс он, выпрямляясь, надтреснутым голосом, – простите меня, Мистер Том, за то, что принёс в ваш дом злые вести.
Я, путаясь в дурацкой шпаге, сдержанно поклонился в ответ. Жестом пригласил горевестника сесть и сел сам (мне поспешно подвинули стул). Однорукий гость, сев, однако снова привстал – для того, чтобы протянуть мне четвертушку бумаги, побывавшую до этого, судя по её состоянию, во многих руках.
Это было письмо.
«Свет мой небесный родная навеки Алис. Завтра схватка из которой живым мне не выйти. Скажи Томику что отец его был хорошим. Прощайте все родные мои любимые навсегда. Бэн Бэнсон.»
– И… Что?! – я поднял глаза на однорукого гостя.
– Он умер при мне, – скорбно качая головой, ответил тот. – Нас было пятеро. Мы были заперты в пещере. Против нас были наёмники «охотников за черепами». Шестьдесят человек. Утром должен был начаться штурм. Бэнсон взял у меня обещание, что я останусь жив и отвезу в Бристоль это письмо. Он надел мне на шею цепь, и конец её привалил огромным камнем. Для того, чтобы я смог сойти за раба, и меня не зарубили бы, как остальных. Так и вышло. И вот – я здесь.
– Где… – глухо спросил я, – он… похоронен?
– Нигде, – ответил, качая головой, горевестник. – Тела моих четверых товарищей – и Бэнсона тоже, и своих два десятка они вывезли на шлюпках и сбросили в море.
– Ты видел?
– Я видел.
– Кто эти «охотники» и как их найти?
– Бэнсон сказал, чтобы вы просто ждали. Если понадобится ваша помощь, мистер Том, к вам придёт человек.
– Какой человек? От кого?
– Он должен вам будет сказать, что его послали «Серые братья».
Больше минуты в кают-компании стояла тягостная тишина.
– Вы останетесь на пару дней у нас? – спросил я, – и не узнал своего голоса. – Мне бы хотелось вас расспросить…
– Нет, мистер Том. Я и так прождал вас отчаянно долго. А у меня, как вы понимаете, остались кое-какие личные счёты.
– К «охотникам за черепами»?
– К «охотникам за черепами».
– Так может, и я… – тут я увидел, что отразилось на лицах у моих матросов, и поправился: – может, и мы…
– Я один раз уже сказал, мистер Том. Нет. Бэнсон на Небе будет вам благодарен, если вы не оставите своей заботой его семью, и дождётесь кого-нибудь из «Серых братьев». За сим – позвольте откланяться. Времени не просто мало – его отчаянно мало. – И, останавливая мою следующую фразу, нацепливая свою рваную треуголку, закончил: – Ни в деньгах, ни в каких-либо иных средствах нужды у меня нет.
И вышел. Через минуту за окном простучала копытами лошадь. Я нашёл взглядом Эвелин, и она ответила на мой безмолвный вопрос:
– Алис уже знает…
– Где она? – вставая с неимоверным трудом, как будто на плечах моих лежала наковальня из заброшенной кузни замка «Шервуд», спросил я.
– Наверху, в своей комнате. С маленьким Томом.
Отстегнув шпагу и передав её Эвелин, я на одеревеневших ногах стал подниматься наверх. Дойдя до комнаты Бэнсона и Алис, я встал, понимая, что у меня нет сил ни постучать, ни открыть эту дверь.
– Кто там? – вдруг послышался слабый голос.
«Томас», – хотел произнести я, и не смог. Вместо этого потянул-таки дверь и переступил порог.
Алис сидела на скамье возле детской кроватки. На руках у неё был крохотный человек с тёмно-карими бэнсоновыми глазами. Простучав каблуками (звуки шагов принеслись в мои уши как выстрелы) я подошёл и опустился перед Алис на колени. Сказал всего лишь два слова:
– Прости меня…
Она сидела, зажав ладонью рот. Потом отняла руку, прикоснулась к моей голове. Всхлипнула. Заскрипев зубами, я встал и быстро вышел из комнаты. Взбежал в свой, пристроенный над третьим этажом кабинет, встал посередине его, пригнувшись, как перед прыжком, и несколько минут дико орал. Орал, надрывая гортань, по-звериному воя, выбрасывая из себя слёзы и боль.
Потом, – я помню, – долго сидел за столом, напротив камина, уставившись на сжатые, лежащие на столешнице кулаки. Время от времени меня окатывали волны глубокой, мучительной дрожи. Но к тому времени, когда наверх ко мне пришла Эвелин, я вполне уже владел собой.
– Собрались? – спросил я её.
– Собрались.
Мы спустились вниз, на второй этаж, где за овальным столом стояли плотным кольцом молчаливые люди. В руках у них были грубые матросские кружки с ромом. Одна кружка стояла на столе – тоже с ромом, накрытая ломтем хлеба.
Вот так Судьба качнула весы, на второй чаше которых лежало моё недавнее счастье.
Встреча с призраком
Чем только можно старался я отвлечь Алис от тяжёлых дум и страданий. Поэтому, когда выпал нежданный снег, я снарядил и отправил кортеж в тихий, заброшенный, несказанно прекрасный замок Шервуд. Поехали все – даже Луис и Анна-Луиза со своим малышом, – чтобы Алис и Томик были в «детской» компании.
Ехали с нами и «новичок». Им был, – как бы это вас ни удивило, – японец Тай. Он достаточно хорошо уже говорил на английском, так что был в состоянии объяснить мне, что желает жить в замке и выполнять работу, названия которой в английском языке не существует. Я помнил, как он с «Хаузена» пришёл в мою команду, и кем он был для меня в день сражения на плантациях Жабы, и в бешеной схватке с легионерами Города, и в Багдадском плену. Помнил – и согласился мгновенно, без даже самого короткого колебания. (В тот миг он пристально смотрел мне в глаза, но я тогда не придал этому значения.)
Разумеется, нашему выезду предшествовала подготовка. Когда передние кареты миновали выгнутый, с новыми некрашенными перилами мостик, распахнулись двери-ворота «каминного» зала и на приехавших, ступающих на снег из карет, пахнуло теплом уже вполне обжитого места. Носатый, стоя у полуоткрытой створки ворот, жестами приглашал входить поскорее – чтобы не выстудить зал.
Внутри зал выглядел празднично, даже – роскошно. Все доски и полусгнившие циновки с окон были удалены, и в оконных проёмах стояли новые рамы и стёкла. Прибавилось интерьера: десяток стульев с высокими спинками, – взамен исчезнувших (скорее всего, сожжённых в этом необъятном, больше, чем у сэра Коривля, камине); несколько кресел, двухъярусный гардероб, ковры, пара кушеток, игорный, с зелёным сукном, стол; угол-будуар и угол-кухня. Будуар был отгорожен высокими ширмами, и там, помимо кроватей с пологами, – для дам, – стояли ещё две детские кроватки-корзины.
– Как тепло! – воскликнул я, войдя в зал, и добавил, обращаясь к Носатому: – Ты, видно, всю ночь от камина не отходил!
– Не совсем так, мистер Том, – ответил он, и в голосе его присутствовал оттенок интриги, – здесь отопление позатейливей!
Он поманил меня в глубину зала, жестом попросив не раздеваться, и вывел сквозь незаметную, прятавшуюся в углу дверцу во внутренний двор. Здесь стояли слегка присыпанные снегом бочки с горным углем (молодец, Робертсон!), широкая, жёлтая, свежеотпиленная плаха, на которой алела расчетвертованная туша свиньи, а чуть в стороне сверкала льдистой корочкой и новенькими, такими же жёлтыми досками высокая, с длинным спуском горка для санного катания. Однако Носатый не дал мне полюбоваться на заснеженный, забрызганный солнцем двор, а манил куда-то ещё дальше. Я последовал за ним, и мы вошли в небольшое вытянутое помещение, в котором не было ничего кроме трёх вделанных в стену печей-голландок.
– Эта стена, – догадался я, – общая с «каминным» залом? И это от печей, а не от камина, в нём так тепло?
Носатый кивнул.
– Не знаю, кто возводил эти постройки, – сказал он, поднимая руку к потолку, – но возведены они хорошо!
Когда мы вернулись в зал, в нём царил хохот, топот подкованных каблуков и призывные крики: одетые в недавно сшитые алые камзолы с золочёными пуговицами Робертсон и Готлиб Глаз разносили чашки с расплавленным шоколадом.
Мы жили в замке три дня.
Я не для того упоминаю наш выезд «на нежданный снег», чтобы рассказать о том, как прекрасно и счастливо мы провели эти три дня (хотя Алис так ни разу и не улыбнулась); каким ароматным вышло мясо, зажаренное на букане в камине, как мы вечерами, собравшись за остающимся наполовину пустым столом пили, ели и распевали старинные песни, как выносили в люльках на воздух маленьких Томика и Эдвина, и они лежали, закутанные, словно толстые куклы, на свежем, с лёгким морозцем, воздухе, и молча таращили в небо свои поблёскивающие глазки, – нет, не для того я всё это упоминаю. Мне важно поведать вам, в каком настроении я получил письмо, которое ожидало меня в нашем доме в Бристоле, когда наш «снежный» поход завершился.
Рука дрогнула у меня, когда я протянул её за поданным миссис Бигль сложенным втрое, грубо залитым воском листом бумаги. Я отлепил воск. «Ну, какие ещё новости мне уготовлены?»
Письма, как такового, и не было. А были старательно выведенные на бумаге два рисунка – подковы и пивной кружки. Кузнец! Очевидно, он как-то узнал, что я вернулся в Бристоль, и вот – прислал приглашение. Да, ведь ни читать, ни писать он не умеет. Как же я про него забыл? И что делать? Отложить поездку к нему до относительно свободного времени? А если оно не наступит – да оно и не наступит в ближайшем будущем, – получение титула, хождение по кабинетам, ещё ждёт адмиралтейство, восстановление замка, тайный, упрямый поиск «охотников за черепами»… Сейчас! Нужно ехать прямо сейчас.
В двух словах объяснив случившееся домашним, я вышел во двор, взнуздал свежую лошадь и направил её в сторону кузни.
Зимой темнеет быстро, и, когда я подскакал к знакомым воротам с прибитой над ними огромной бутафорской подковой, меня окружала уже непроглядная ночь.
Ночь! Вот – лучшее время для событий роковых и нежданных. Отворив оббитую овчиной и рогожею дверь, вместе с вкатившимся клубом морозного воздуха я вошёл в дом, где получал когда-то первые навыки мастерства. Кузнец, разводя в стороны чёрные от въевшегося угля руки, поднялся мне навстречу – кряжистый, чернобородый, с улыбкой, которая в своё время казалась мне злодейским оскалом. Мы обнялись.
Кузнец был не один. Когда я вошёл, за столом, спиной ко мне сидел ещё кто-то, – крупный человек престранного вида. На голове его был повязан нелепый для зимнего времени цветной пиратский платок. Тело покрывала необъятных размеров куртка коричневой воловьей кожи. Рукава у неё были отрезаны, и вместо них вшиты рукава из медвежьей шкуры. Свет лампы, стоявшей перед ним, отбрасывал от него на стену тень, которая напоминала чудовищного подземного тролля. Когда мы с кузнецом приветствовали друг друга, человек-куб начал поворачиваться от стола, и я невольно подумал, что хорошо, что я с ним не знаком, и что не придётся с таким медведищем обниматься.
– Получил твоё письмо, – сказал я кузнецу. – Не взыщи, что не заглянул к тебе сразу, когда вернулся из плавания. Было столько забот… Сейчас расскажу.
– Это не я отправил тебе письмо, – сказал вдруг кузнец.
– А кто же? – удивлённо спросил я у него.
– Это я, мистер Том, – сказал человек-куб и его голос заставил меня вздрогнуть и замереть.
– Бэнсон!.. – прошептал я, не веря своим глазам.
– Здравствуйте, мистер Том, – сказал он, приближаясь ко мне.
Не совсем и Бэнсон. Очень взрослый, с «каменным» лицом человек. Такие лица встречаются иногда у людей, которым выпало повидать и пережить столько, сколько обычному человеку хватило бы на несколько жизней.
У меня не было сил ни радоваться, ни удивляться. Огромное облегчение, испытанное мною в тот миг, лишило меня каких-либо сил. Я опустился на стоявшую возле стенки скамью.
– Мы получили известие, что ты умер, – произнёс я, едва выговаривая слова.
– Это правда, – вдруг сказал Бэнсон. – Я умер.
– Ты это о чём?..
– Я, мистер Том, ввязался в драку, из которой живым мне не выйти.
– Бэнсон! – с недоумением уставился я на него. – Но почему ты не сообщил? «Дукат» стоит в бухте! На нём команда – семьдесят человек, и каких! Есть свободные деньги – мы можем нанять целую армию! Как это – «не выйти живым из драки»?
– Всё не так просто, мистер Том. Речь идёт не об обычной схватке с обычным противником. Эти люди – они есть, – но в то же время их как бы и нет. Они – ловкие, умелые, скачущие с места на место, жестокие невидимки. И те, кто их содержит – действительно могут пользоваться английской армией. В одной из схваток я потерял учителя, и теперь мои шансы уцелеть – ничтожно малы. Мой «последний» поход – дело ближайшего времени. Я поэтому заранее попрощался с Алис и с вами.
Он легко развернул своё массивное тело, шагнул назад, к столу, придвинул скамью и сел.
– Но, Бэнсон, – с лихорадочной поспешностью осмысливая услышанное, произнёс я. – Разве ты рождён, чтобы быть охотником на невидимок? Разве обучен? Ты – добряк с душою ребёнка. И если тебе попался такой противник, каким ты его рисуешь, то не лучше ли тебе оставить эту войну тем, кто умеет воевать по-настоящему? Иди домой. У тебя дома жена, на которой лежит неимоверное горе. Сын, которого надо вырастить. Если эти, как ты написал, «охотники за черепами» настолько страшны, – предоставь их естественному ходу событий и королевскому прокурору! Едем домой, – к Алис, к Томику!
Бэнсон покачал головой.
– Мне показывали дом Хосе, – сказал он.
– Ты был в Адоре?! – от изумления я даже привстал.
– Был, – сказал он, как будто о каком-то заурядном событии. – Так вот представьте, мистер Том, что у вас имелась возможность сбежать с плантации Жабы. Ну и что? Как бы вы смогли дальше жить, зная, что Хосе каждый день рубит живых людей и скармливает их собакам? Вот, вы встретили страшное существо – и сделали, что смогли. Сейчас я делаю то, что могу.
Мы замолчали. Кузнец глухо кашлянул, напоминая о себе. Сказал:
– За Бэнсоном скоро приедут. Давайте-ка – за стол. – И, приготавливая скорый ужин, покашливая, бормотал: – Смотри, какие страшные дела творятся. Придётся пить и за встречу, и за прощание. Для чего мальчишкам такая беда?
Обратившись к уже привычному ритуалу, мы выпили пива, стали резать окорок и колбасы. Я лихорадочно искал выход из дикой, немыслимой ситуации. Снова спросил Бэнсона:
– Если за тобой должен кто-то заехать – значит, ты воюешь не в одиночку?
Бэнсон кивнул.
– А те, с кем ты в компании, заодно, – они знают, что у тебя в Бристоле жена и маленький сын?
Бэнсон, как ни странно, вдруг улыбнулся, отчего круглый пулевой шрам на его щеке взялся морщинами.
– Мистер Том, – сказал он, – помните ночь на моле в Мадрасе? Когда мы встретились с шайкой Регента? Представьте, что в самый разгар схватки мистер Стоун, например, вдруг сказал бы: «ну вы тут, братцы, выкручивайтесь, а у меня жена и сын в Бристоле».
Я отодвинул пиво, положил руки на стол. Посмотрел Бэнсону в глаза:
– Но хоть какую-то помощь я могу тебе оказать?
– Для этого и приехал, – кивнул он головой в дурацком пёстром платке. – Нужно на время спрятать… – он на миг замялся, – …людей.
– Каких и сколько? – с готовностью спросил я.
Кузнец положил тяжёлую руку мне на плечо:
– Идём, Томас. Покажу, каких.
Он зажёг ещё одну лампу и мы прошли в спальную комнату. Отворив дверь, он пропустил меня вперёд. Я сделал шаг – и тут же попятился. На полу, занимая всё пространство, на толстом ковре из свежей соломы лежали дети. Их было несколько десятков человек – разных возрастов, – и в одеждах самых немыслимых.
– Кто это? – шёпотом спросил я.
Кузнец ответил, только когда мы вернулись в кухню-столовую:
– Плимутские карманники и попрошайки…
– Так называемая «семья», – добавил Бэнсон. – Тридцать два человечка. Принц Сова остался в их «логове» караулить компракчикосов. А я вспомнил про вас, мистер Том, и заверил своих, что смогу передать детей на необходимое время в надёжные руки. Их надо кормить, и я привёз деньги…
– Какие деньги! – махнул я рукой. – Буду кормить, сколько потребуется! – И, не удержавшись, спросил: – А кто такие принц Сова и компракчикосы?
– Компракчикосы – торговцы детьми. Принц Сова – как бы сказать… ночной охотник. Когда они встретятся, компракчикосов больше не будет, а принц Сова, быть может, заедет к вам за детьми. Можно найти, мистер Том, для них надёжное место?
– Есть! – сказал я торопливо, – есть такое место! Мой замок! Там сейчас тепло, есть еда – и предостаточно места. Да и охрана… Робертсона с Готлибом помнишь?
– Какой такой замок? – кузнец вскинул лохматые брови.
– Я только что купил имение «Шервуд». Там есть вполне пригодный для жилья замок…
В это время за стеной послышался топот копыт нескольких лошадей.
– Мы сейчас, – сказал кузнец, набрасывая на себя тулуп, – и вышел.
Вышел и Бэнсон, в куртке с медвежьими рукавами и в пиратском платке. Кивнул мне в дверях, давая понять, что они ненадолго.
Я допил пиво, поставил кружку на стол. Вдруг увидел в углу до боли знакомый предмет! Там, в тени, стоял треугольный арбалетный футляр. Встав, я подошёл и взял его в руки. «Где же ты побывал, старина?» И вдруг взгляд мой упал на тёмную «оспинку» на полированной дубовой поверхности. Это был след от удара ножом. След «сказал» мне, что удар был отменно сильным, а нож – остро заточенным.
За спиной послышался шорох. Я стремительно обернулся…
В дверях стояла девочка лет пяти, худенькая, с личиком «ясным», но чумазым и заспанным. Она стояла на одной ножке. Вместо второй в пол упирался удерживаемый ею подмышкой маленький костылёк. Конец его был закрыт толстым тряпичным коконом.
– Ты кто? – шёпотом спросила девочка.
– Человек, – так же шёпотом ответил я и поставил футляр назад в угол.
– Бить будешь? – спросила девочка.
– Нет, – ужаснувшись вопросу, ответил я и добавил: – Могу дать поесть.
– Меня зовут Ксанфия, – сказала малышка, ковыляя к столу.
Дойдя до него, она задрала голову вверх, так что её подбородочек стал вровень с краем столешницы.
– Ходишь так, что вовсе не слышно, – сказал я, глядя на костылёк и на кокон.
– Это мне Милый Слик сделал, – сказала моя маленькая собеседница, – чтобы тихо подкрадываться.
– Куда подкрадываться? – спросил я с некоторым недоумением.
– Ну, так, – неопределённо ответила девочка.
Она высмотрела на столе всё, что ей было нужно, влезла на лавку и вытянула пальчик по направлению к хлебу. Я торопливо подал. Машинально уставился на её торчащую за край лавки маленькую культю.
– Это мне давно сделали, – пояснила девочка, откусывая от хлеба кусочек.
– «Сделали»? – переспросил я.
– Да. Пилочкой отпилили.
– Отпилили?
– Ну да. Завязали туго так, и долго держали. Потом пилочкой отпилили.
– Ты что же, видела?
– Видела. Синяя ножка была, потом так красным, красным. Я потом сразу уснула. Сон был очень больной, и всё было долго.
– А кто отпилил?
– Не знаю. Они были взрослые.
– Но для чего?
– Так калекам ведь дают денег побольше. Ты что, не знаешь?
– А… когда это было?
– Давно, – сказала девочка и вытянула пальчик к окороку. Лицо её выразило ожидание и вопрос.
Я поспешно нарезал окорок тонкими ломтиками, сложил в блюдце, подвинул поближе.
– А потом, когда съем, бить не будешь? – снова спросила ночная гостья.
Горький ком подкатил к моему горлу. Я торопливо мотнул головой. Тогда маленькие цепкие ручонки схватили окорок и стали торопливо совать то в рот, то в кармашек.
За дверью послышался скрип снега под чьими-то тяжёлыми шагами. Девочка перестала жевать, замерла, втянула голову в плечики. В дверь вошёл Бэнсон. Моя собеседница торопливо сползла со скамьи, подхватила свой костылёк и припустила, подскакивая, к Носорогу. Лицо её озарила улыбка. Бэнсон, наклонившись, подхватил её, посадил на сгиб локтя и тихо спросил:
– Что ж ты не спишь, Ксанфия?
С торжеством на лице девочка достала из кармашка обрезок окорока и, показав его Бэнсону, снова спрятала. Он улыбнулся. Переведя взгляд на меня, негромко спросил:
– Мы сможем поехать в ваш замок прямо сейчас?
– Конечно, – сказал я, с трудом приходя в себя от только что слышанного.
– Лучше уехать ночью, пояснил Бэнсон. – Пять карет подогнали, с тёплыми пологами. Нужно быстро вынести детей. Они очень устали, так что мало кто из них проснётся…
Через полчаса свежие кони влекли пять тяжёлых экипажей сквозь Бристоль – не заезжая в мой дом – в «Шервуд», где остались Носатый и Тай. Я сидел на передних козлах – указывал дорогу молчаливому, в длинном тулупе, вознице. Рядом, накрыв ноги пологом, сидел Бэнсон.
– Ты говорил, – перекрикивая стук копыт и шорох колёс, – сказал я Бэнсону, что потерял учителя? Кто это был и что случилось?
– Долгая история, мистер Том. Он гнался за хозяевами Регента, а я попался им на пути. Чудом жив остался. Учитель меня выходил, – меня и ещё маленького Симеона, – ему руку к дереву прикололи. Потом были в Плимуте, затем в Адоре, потом в Турции, снова в Плимуте… Потом он умер. Выманил из подземелья Люпуса с его личной охраной, и вместе с собой всех взорвал.
– А кто это был? – спросил я, замерев от внезапного тягостного предчувствия.
– Тот, кто прыгнул со стены, мистер Том. Ночной крысолов. Мастер Альба.
Глава 2 Песчаные саламандры
Известие ошеломило меня. Человек, спасший нас от верной смерти в Мадрасе, был в такой близости от моего дома, что с ним можно было встретиться и поговорить! Нет, это нужно постараться представить – «иметь возможность встретиться с мастером Альбой!» Он шёл по нашему пути – в Адор, затем ко дворцу Аббасидов в Багдаде. Преодолевал немыслимые препятствия, встающие на пути. И вот – он погиб. И мой бедный Бэнсон во всём этом участвовал!
Я слушал долгий рассказ строгого, повзрослевшего друга – сначала в дороге, затем – в своём замке, и меня переполнял странный сплав ужаса и восторга.
Бэнсон уехал через два дня, потребовав от меня немыслимой, страшной услуги: моего слова, что я не сообщу Алис о том, что он жив.
Рекрут
Ранним осенним утром, (ещё не совсем, впрочем, стылым), не очень далеко Лондона, в своей большой, в четыре этажа, вилле из серого камня, похожей скорее на крепость или тюрьму, на необъятной, обтянутой малиновым шёлком постели, откинув в сторону руку и задев малиновый же полог, который прозвенел нашитыми на него бубенчиками, слегка вздрогнув, очнулся от сна человек.
Он знал за собой это свойство – беспокойно метаться во сне при наступлении утра, и придуманные им колокольчики исправно будили его – для кофе, листа свежих биржевых ведомостей и моциона. Была ещё одна польза от этого серебряного динь-дилинь: оно не давало хозяину виллы продолжать метания, неуклонно сползая в состояние полунебытия, где он с предельным ужасом и отчаянием, на «ватных», непослушных ногах убегал от проворных чудовищ – сосредоточенных, кровожадных. Они настигали его – и тогда тело его гнулось в дугу, вздрагивая в длинной, рвущей плоть судороге, а сердце лопалось, как яблоко, попавшее под колёса телеги. Это призрачное мучение каждый раз было платой за пробуждение и спасение от чудовищ, – но платой, с которой хозяин виллы не был согласен. Отсюда – и колокольчики. Но спасали они лишь в том случае, если придумавший их не набирался накануне неразбавленного виски.
В этот день было всё хорошо. Хозяин сел в постели. Сейчас его можно было бы рассмотреть и дать относительно верное описание. Однако описывать, – слово джентльмена, – было нечего. Средний рост, возраст – сорок, умеренное пузцо, небольшая плешь на макушке. Лицо – самое заурядное. В зависимости от одежды такой человек мог без каких-либо усилий перемениться и в конюха, и в нотариуса, и в лекаря, и в преподавателя арифметики, и в лакея, и в короля. Однако владелец серокаменной виллы не был ни первым, ни вторым, ни пятым. Я не стану приводить здесь ни его титула, ни должности при Дворе: слишком просто будет угадать, а это по нескольким соображением крайне нежелательно.
Человек сел, свесив ноги. Почесал в вороте голландской рубахи волосатую грудь. Улыбнулся.
– Пятница, утро! – сообщил он сам себе. – Значит, пора ехать в Плимут.
Встав с постели, он подошёл к небольшой двери из толстых дубовых плах, стянутых болтами и, повернув ключ, отпер замок. Тотчас спальня и примыкающие к ней помещения наполнились мельканием суетливых, бесшумно порхающих слуг.
Выпив крепкого кофе из старинного китайского керамического фиала и пробежав глазами биржевой листок, хозяин виллы приступил к моциону. Он облачился в полосатое, с длинными рукавами и короткими штанинами гимнастическое трико и выбежал в пустынную, длинную, вытянутую в струнку буковую аллею. На ногах его, как ни странно, были заурядные матросские полотняные тапочки. Обязательно нужно отметить, что бегун в трико только на вид был плешивым и толстым. Двигался он легко и проворно, – то припуская что было сил, то замедляясь и подбрасывая колени к самой груди; бежал и боком вразножку, и прыгая вверх до возможной высоты, и спиной вперёд, и в полуприсяде. Если бы кто-то бежал следом – он сразу бы понял, что плешивый бегун весьма заботится о здоровье. Но только понял бы – и всё, а не заметил бы главного: слева и справа аллеи, невидимые за деревьями и кустами, не отставая от человека в трико, бегут ещё люди – добрый десяток, и почти все – с оружием. В мягкой обуви, без шумного дыхания, синхронно с хозяином то замедляя бег, то ускоряя.
Моцион завершился обтиранием тела куском «плачущего» льда.
После моциона человек завтракал. Глубокая миска клейкой овсянки, большой кналлер и стакан горячего молока. Позавтракав, наш знакомец двинулся в путь. Сначала от виллы на проезжую большую дорогу вынеслась кавалькада из шести всадников, затем – кортеж из трёх разновеликих карет: передняя – лёгкая прогулочная, с парой стрелков и дорожным припасом, вторая – с хозяином (он внутри – в одиночестве, в довольно просторном чреве с мягкими стенками, обложенными малиновой кожей; дверцы – заперты на замки), – и в третьей, длинной, похожей на фаэтон – тот самый десяток вооружённых сопровождающих.
Путешествие происходило привычным для всех образом: маршрут знаком до подробностей, да и всё остальное – далеко не в первый раз. Случайность объявилась у самого Плимута. Дорога здесь выгибалась, уходя дальше на гору – в петлю, и хозяин видел всё происшедшее от первой до последней секунды. По краю дороги, также по направлению к Плимуту, двигался высокого роста путник. За ним, ведомые в поводу, шли две лошади. Передний всадник из кавалькады, поравнявшись с ним, что-то крикнул – очевидно, потребовал, чтобы тот сошёл с дороги. Видимо, предводитель кавалькады желал исключить любую возможность помехи для едущих следом карет. Но, на беспристрастный взгляд, путник мог и не уходить: дорога была достаточно широкой. Не мудрено, что путник, понимая это, не обратил на окрик ни какого внимания. Скорее с досады, а не со злости, предводитель кавалькады, перегнувшись, «ужалил» невозмутимого наглеца длинной плетью, – а точнее сказать, – попытался, так как тот, вдруг проворно и гибко качнувшись, поймал плетённый в грань кожаный хлыст и, зажав его во внушительном кулаке, резко дёрнул. Короткая деревянная рукоять плети была снабжена петлёй, надеваемой на запястье, так что после рывка незнакомца всадник с выдернутым из плеча суставом вылетел из седла. Он упал на голову – послышался хруст – и тело его замерло неподвижно. Повинуясь инстинкту, оставшиеся пятеро, изыскрив воздух посверком выхватываемых шпаг, пошли на обречённого одиночку плотным кольцом, и наш толстяк, высовывающийся в окошко кареты, не успев крикнуть команды, увидел, как случилось немыслимое: каким-то хитрым финтом незнакомец толкнул ближнюю к нему лошадь, и она вместе со всадником грохнулась на бок, придавив седока, и конечно же, преломив тому ногу. А встреченный ими путник, двигаясь на удивленье легко для своего массивного тела, подскочил к одному из поверженных, затем ко второму, наклонился, выпрямился – и в руке у него блеснули две шпаги. Взяв одну в левую руку, он несильно, и даже как-то небрежно махнул – и ещё один всадник слетел на землю, – уже откровенно убитый: клинок шпаги пронзил его насквозь, – и потом обороняющийся махнул ещё раз. За какие-то полминуты из шести человек конной охраны в сёдлах остались лишь двое, и те поспешно настёгивали лошадей, отходя на дистанцию. А страшный «попутчик», опустив тяжёлые руки вдоль тела, неторопливо пошёл к каретам, передняя из которых остановилась, доехав до растянувшегося на земле одного из своих.
Бэнсон не знал, сколько людей следует в случайном кортеже, и не пытался их сосчитать. Ему предложили схватку – и он просто «работал».
Из прогулочной каретки выскочил один из стрелков. Повернув короткую аркебузу стволом в сторону приближающегося к нему незнакомца, стал торопливо насыпать порох на полку – и не успел. Громила вырвал у него оружие и, развернувшись, ударил кулаком в середину груди.
В удар Бэнсон вложил не только вес и мощь тела. В этот миг выплеснулись накопившиеся за дорогу от монастыря «Девять звёзд» и его гнев, и отчаяние, и горечь утраты. Аркебузник, подброшенный в воздух, ударил спиной в дверцу кареты – и, проломив её, в ней застрял. В окошко рядом с его бессильно свесившейся на грудь головой высунулся было ствол второй аркебузы, но громила не мешкал. Подхватив карету за край он приподнял её – и опрокинул. Завалившись набок, карета беспомощно задрала к небу медленно вращающееся колесо.
На секунду все, видевшие это, оцепенели. Затем послышался топот и звон оружия подбегающего десятка охраны. И тут хозяин кортежа высунулся из окна кареты почти по пояс и громко крикнул. Передние остановились, но задние продолжили бег, и тогда их повелитель крикнул ещё раз:
– Всем стоять!
Охранники послушно остановилась, во все глаза глядя на чудовищного убийцу, который приближался к ним размеренно и проворно, и с каким-то нечеловеческим, безумным спокойствием. Во все глаза смотрел на него и плешивый толстяк. По пояс высунувшись из окна кареты, он прокричал:
– То, что ты сделал – справедливо и честно! Но теперь – остановись! Хватит крови. Я хочу познакомиться.
Убийца приблизился, кивнув на ходу. Сел на ступеньку кареты (она скрипнула и покосилась). Негромко сказал:
– Интересно, есть поблизости ручей или речка? У меня лошади с ночи не поены.
– Позади, в миле примерно, был ручей, – ответил ему сверху, из окна, взволнованный собеседник. – Но с дороги не виден. Ты проехал его. Теперь напоить лошадей можно лишь в Плимуте. Ты едешь туда?
Незнакомец кивнул массивной, с двумя макушками, головой.
– Ты где-то служишь, или наёмник, или чей-то вассал? – продолжал интересоваться сидящий в карете.
– Я вольный, – ответил путник, глядя в глубокое осеннее небо. – Был в обучении у мастера. Теперь – один.
– Мастера – чего?
Сидящий на ступеньке перевёл взгляд на вращающееся колесо лежащей на боку кареты и ничего не сказал.
– Я участник одного общества в Плимуте, – понизив голос, сообщил сидящий в карете, – не состоять в котором я не могу, но и состоять в котором – довольно опасно. Мне нужен телохранитель. Моему ты только что шею сломал. Назови цену или условия…
Если бы говорящий это смотрел собеседнику не в макушки, он, быть может, заметил бы движение на его лице, тень тайной мысли, случившееся при упоминании об «одном обществе» в Плимуте. Но тень прошла незамеченной, и сидящий на ступеньке ровным голосом произнёс:
– Работа – знакома. Твоё поведение – благорасполагает. Служить тебе – соглашусь. Ты только иногда отпускай меня, ни о чём не спрашивая. Время от времени мне нужно человеческой крови попить.
– Назови… – голос нанимателя задрожал от радостного волнения, – … цену!
– В деньгах не нуждаюсь, – сказал рекрутируемый головорез. – Покровительство от полиции, стол, и – время от времени – крови.
– Можешь приступить прямо сейчас?
– Могу. Пусть твои люди здесь приберут. Лошадей моих к задней карете привяжут. А я переднюю подниму, да в ней лягу-ка спать. Основная работа, как я понимаю, начнётся в Плимуте?
– Правильно понимаешь, – одобрительно кивнул наниматель, и крикнул своим: – Это – мой новый телохранитель! Возьмите его лошадей! Быстро прибрать здесь – и в путь. Ничего не было!
Не прошло и пяти минут, как кортеж уехал со страшного места. О происшедшем могли бы рассказать лишь небольшие лужицы крови, если бы они не были старательно присыпаны дорожным песком.
Стрит-флэш
Целью визита лондонского вельможи был не сам Плимут, а небольшое, скрытое за несколькими высаженными в ровные каре рощами поместье. В центре этих каре высился едва наметившийся круглый холм, на котором стоял сказочный замок. (Здесь нет художественного преувеличения, – он был действительно сказочным: множество башен и башенок, – и с плоскими зубчатыми верхушками, и с крышами в виде острых конусов; каменные лесенки, бегущие вверх по спиралям, огибающим округлые каменные бока; горбатые мостики, балконы, балкончики, порталы и переходы, множество окон – стрельчатых, округлых, со ставнями и без них, – на много веков запечатлённая безвестным теперь зодчим причудливая каменная паутина, – смесь романтики, фантазии и мастерства.)
К замку прибыли ранним вечером. Кареты въехали на широкое кольцо газона у подножья холма и остановились. Долго стояли в молчании и неподвижности, дожидаясь какого-то урочного часа. Бэнсон сидел в карете со своим новым хозяином. Тот сказал ему, когда подъехали к Плимуту:
– Ничего объяснять и рассказывать не буду. Ценно то, что глаз у тебя будет «свежий». Присмотрись и определи, откуда мне могла бы грозить опасность. Хотя обычно всё проходит спокойно. А завтра днём всё обсудим в подробностях.
Бэнсон кивнул, давая понять, что понял, и дальше просто сидели, молчали.
С разных сторон на круг выезжали кареты; останавливались поодаль и тоже ждали. Наконец стемнело. Из карет стали выходить люди. Они шли к замку – от каждой кареты по два человека.
– В каждой паре, – пояснил Бэнсону плешивый толстяк, – один – из общества «серьёзных людей», второй – телохранитель. Видишь, телохранители несут сундучки? Довольно тяжёлые. Там – деньги. И кроме сундучка телохранитель не должен иметь ничего. Это строгое правило: никакого оружия. Внутри всем придётся раздеться по пояс, так что ты тоже оставь здесь, на сиденье все, какие имеешь, ножи или пистолеты.
Кучера и охрана кортежей уводили в рощи экипажи и лошадей. Хозяин Бэнсона не спешил, давая ему рассмотреть, как всё происходит. Наконец, пошли и они.
(Первая странность, замеченная Бэнсоном, неприятно его уколола: в замок входили гости, и, разумеется, были в нём и хозяева, – но ни одно окно не осветилось огнём, все они оставались непроницаемо чёрными. Трудно отсмотреть и запечатлеть в памяти устройство дома и расположение комнат. Да ещё если был бы обычный дом! Нет, здесь – целый город. Не запомнить и за неделю. Однако Бэнсон старательно, пока смеркалось, смотрел и запоминал, – хотя бы то, что можно было успеть запомнить.)
Темно было и за дверью. Но, когда миновали короткий тамбур и открыли главную дверь, слепящий свет прыгнул на Бэнсона с потолка и со стен.
– А вот и Дюк! – закричал какой-то весёлый и развязный человек (похоже, он был слегка пьян), направляясь к Бэнсону и его спутнику. – Здравствуй, Дюк!
– Пошёл к чёрту, Базилло, – демонстративно неуважительно откликнулся на приветствие спутник Бэнсона, сбрасывая, однако, на руки пьяненькому весельчаку свой длинный дорожный плащ.
Базилло, как ни странно, не обиделся и даже не смутился. Подхватив плащ, он проворно накинул его на один из стоящих в ряд у стены манекенов. Потом заторопился к следующей входящей в холл паре.
– А вот и Горбун! – весело крикнул он, – привет, Горбун! – и Бэнсон услышал раздавшийся за спиной хрипловатый, с подвизгом, голос:
– Пошёл к чёрту, Базилло!
Проворно и лихо поспешающий «к чёрту» слуга метнулся к манекенам, и ещё пара их накрылась дорожной одеждой – широким, но коротеньким, почти детским плащём и затейливым, плотным, с ремнями и клапанами рединготом, а безголовые шеи манекенов накрылись шляпами. Мимо действительно прошествовал невеликого роста горбун и сопровождающий его, с суровостью на лице и выпяченной грудью телохранитель. Очевидно, под рединготом у него из всей корпусной одежды имелись лишь два широкие кожаные ремня, которые сейчас пересекались на груди косым длинным крестом. Да и все остальные вошедшие с приехавшими гостями телохранители под плащами были до пояса обнажены. Они выставляли на общее обозрение могучие мышцы и следы былых схваток.
– А ты, новичок, что стоишь? – услышал возле себя Бэнсон и, повернув голову, увидел Базилло, протягивающего руку за его курткой.
Всё оружие, по требованию хозяина, Бэнсон оставил в карете, и сейчас снял куртку легко и быстро, не опасаясь, что выпадут из-за пояса пистолеты или острая, весьма неудобная для ношения альбова Кобра. Базилло выхватил куртку, укрыл ею очередной манекен и, когда повернулся обратно, лицом к гостям – замер: оставшийся одетым в тонкую вязанную блузу Бэнсон протягивал ему полусоверен[3]. Рот слуги дрогнул, теряя беззаботную и хмельную улыбку. Он в полупоклоне принял в неуверенно протянутую руку монету и негромко сказал:
– Это впервые за двадцать лет…
Бэнсон вдруг остро почувствовал направленные на них взгляды и, повинуясь наитию, равнодушно промолвил:
– Это ничего не значит. Если хозяин прикажет – я убью тебя в две секунды.
Базилло, прижав руку с монетой к груди, обретая временно сброшенную напускную весёлость, сказал:
– Это мы понимаем. Это вполне уважительно…
А Бэнсон понял, что угадал и что поступил правильно: стекало напряжение с лиц, и взгляды отчётливо помягчели. Дюк кому-то довольно и многозначительно закивал. На том бы инициация[4]новичка и закончилась, но один из присутствующих подтолкнул дело дальше. Окрестованный толстыми, свиной кожи ремнями телохранитель горбуна насмешливо и довольно громко спросил:
– Может, ты и меня убьёшь в две секунды?
Не помедлив ни мига, Бэнсон поймал взгляд Дюка и спокойно спросил:
– Можно?
В невыразимо бесстрастном и уверенном голосе его были опыт и кровь. Повеяло могильным холодом. Торопливо отступил в сторону Базилло. Надсадно кашлянул, вскинув носатое личико, горбун. Смутная тень мелькнула в глазах ремненосца. Дюк торопливо проговорил:
– Ни в коем случае! В этот дом съезжаются только друзья, и здесь место беззаботности и покоя.
Бэнсон кивнул, подошёл и встал рядом с хозяином.
– Прошу прощения, – послышался голос со стороны, – я просто любопытствую, – а вы действительно могли бы убить этого человека за две секунды?
Бэнсон посмотрел на Дюка вопрошающе, и тот со значением прикрыл глаза: «можешь ответить».
– Ну, не за две, – сказал рассудительно Бэнсон, отправив взгляд в крестовую грудь, – а за пять… или шесть.
– А почему вы настолько уверены? – спросил тот же голос.
– Это же видно. В серьёзном деле человек этот слаб. Поскольку знания об убийствах имеет поверхностные. Внутри, про себя, понимает, что слаб. Отсюда видно, – как он себя поведёт, если напасть на него – и видно, как этим воспользоваться. Секунд пять… или шесть.
В холле воцарилась недолгая, но глубокая тишина.
– Но как вы определили, что слаб? И что знает поверхностно?
Бэнсон выдержал паузу, притягивая к себе всеобщее, пристальное внимание, и ответил коротко и убеждённо:
– Без нужды дразнит смерть.
Затем шагнул вперёд, в сторону горбуна, неглубоко поклонился и добавил:
– Всё сказанное мною нельзя рассматривать как неуважение лично к вам.
– Невиданно! – воскликнул кто-то из ранее прибывших гостей. – Честное слово, джентльмены, я готов аплодировать!
Дюк просиял.
– Дюк! – спросили его. – Откуда у тебя этот новичок?
– На дороге нашёл, – не соврал Дюк, но вызвал смех, как над шуткой.
В это время раздался звук скрытого гонга, как будто ударили в медный поднос размером с мельничное колесо, и тяжёлая, зелёная с жёлтым бархатная портьера в глубине холла стала разъезжаться на две стороны. За ней открылась уходящая вверх, на второй этаж, блистающая белым мрамором лестница с зелёным, по всей длине, и с золотой каймою, ковром. Лестница была освещена двумя рядами часто выставленных светильников.
– Джентльмены! – торжественно крикнул командир манекенов. – Пора!
Все повернули головы в его сторону, и он, отставив ногу и вытянув руку в сторону лестницы, с пафосом вымолвил заключительное:
– За удачей!
– Иди к чёрту, Базилло!! – хором сказали присутствующие и потянулись вверх по золото-бело-зелёным ступеням.
Двинулся не отстающий от Дюка и Бэнсон.
Лестница лишь в начале была широкой, парадной. Дальше она то сужалась, то вновь расширялась, то металась в стороны, то карабкалась вверх, то ускользала вниз на десятки ступеней. На каждом повороте и закоулке стоял неподвижный слуга в зелёной ливрее с золочёными пуговицами.
И вот пришли, как понял Бэнсон, к конечной цели: небольшой комнате, обставленной с неописуемой роскошью. С потолка, по углам, свисали четыре серебряных канделябра, в каждом из которых горело по два, примерно, десятка свечей. Вдоль стен стояли малахитовые диваны, камень которых на сиденьях и спинках закрывали мягкие толстые набивки, обтянутые малиновой кожей. В центре комнаты находился серебряный круглый бассейн с грифоном, изо рта-клюва которого струился тёмно-рубиновый ручеёк. Вокруг бассейна, обручем, расположился стол из зелёного же малахита, в поверхность которого было врезано широкое цельнолитое золотое кольцо. Его чарующий, жаркий, пугающий блеск затеняли расставленные прямо по золоту фарфоровые чёрные чарки, перемежаемые раскрытыми табакерками с разными сортами табаку и фарфоровыми же овальными блюдами с привезёнными из колоний Новой Англии сигарами.
Все телохранители заученно отошли к одной из стен и расселись на малиновые сиденья. Гости же отправились к другой стене (кто-то взял чарку, зачерпнул ею из бассейна и, выпив, сказал: «о, сегодня бургундское!»), и вдруг – Бэнсон стоял у входа и смотрел – стали снимать одежды и сбрасывать их на диваны. Когда на малиновые сиденья легли нательные, голландские дорогие рубахи, гости сняли и обувь. И затем, забрав у телохранителей сундучки, под их весом покривившись и тяжело ступая, прошли к действительно конечной цели затейливого вояжа: в открывшуюся за отъехавшей в сторону дверью соседнюю комнату.
И Бэнсон сделал себе по достоинству оценённый им только впоследствии подарок: ввалился вслед за Дюком в эту же комнату. В компании телохранителей кто-то охнул, – на Бэнсона оглянулись, – и вдруг кто-то из гостей рассмеялся:
– Новичок! Ну, пусть осмотрится на первый раз, а, джентльмены?
– Какой преданный! – так же со смехом вторили ему. – Ну, думаю, пусть?
И ещё кто-то откликнулся:
– Да ладно. Только к столу чтобы не приближался!
Дюк обернулся, сказал:
– Возьми стул, сядь у стены за моей спиной, и исчезни.
Его охранник кивнул и сделал, как было сказано.
В этой комнате было разительно пусто. Только простой, из толстых дубовых плах, круглый стол и стулья вокруг него. («На столе как будто черти орехи кололи», – подумал Бэнсон, заметив и оценив состояние дубовой столешницы.) Больше, если не считать зелёной шёлковой драпировки на стенах и серебряных же канделябров, в ней ничего не было.
Когда обнажившиеся по пояс гости расселись за столом и положили на столешницу руки, вошёл, ковыляя, некто слепой. Непонятного возраста, с тёмными впадинами выколотых или выжженных глаз, в зелёной ливрее. В руках у него был ларец. Довольно уверенно дойдя до стола, он утвердил на краю его этот ларец и, раскрыв, стал из него что-то выбрасывать. Бэнсон всмотрелся: какие-то похожие на небольшие табакерки бумажные пачечки. Сидящие за столом потянулись и взяли себе по одной. После этого слепец собрал лишние пачечки обратно в ларец, а на стол выставил стеклянную колбу, которую перевернул – и быстро поднял. Под ней мелькнула и замерла маленькая ящерица жёлто-песочного цвета. Секунду помедлив, она текучей стрелой метнулась к краю стола и, прыгнув на пол, исчезла. Тот, мимо кого она пронеслась, радостно хохотнул и бросил на середину стола свой «табакерочный» свёрток.
– К удаче! – громко сказа он, на что горбун с досадою кашлянул, а слепец, собрав возвращённые ему пачечки, достал вовсе уж неуместные здесь предметы: молоток и длинный, в три грани кованный гвоздь. Бэнсон опытным взглядом приметил, что грани были остро наточены.
Тот же, мимо которого пробежала ящерица, снова взял в руки свёрток и, надорвав обёртку, обнажил новенькие, мелованного картона игральные карты. Наскоро стасовав, он выложил их в три ряда.
– Пятая! – крикнул горбун, и после этого все по очереди так же стали называть цифры.
«Счастливчик» брал указываемые карты и складывал их в стопку. Когда в его руки вернулась последняя, он передал стопку слепцу. Тот наощупь, над самым столом – чтобы никто не увидел картинку на нижней карте – старательно перетасовал. И затем всё повторилось: три ряда, цифры по очереди, и затем раздались голоса:
– Стасовано!
– Стасовано!..
И вдруг кто-то сказал:
– Ещё раз!
«Счастливчик» безропотно разложил по столу всю колоду и слепец снова, по указаниям в очередь, всю собрал. После этого уже все сказали «стасовано». И тогда слепец продвинул колоду в центр стола. Там, наставив гвоздь, несильно взмахивая молотком, пробил её насквозь и пришпилил к столешнице. И вдруг повисла мёртвая тишина! Её особенно подчёркивал шаркающий в отдалении шорох шагов удаляющегося слепого. У горбуна нервно дрожали длинные, суставчатые, похожие на паучьи, тонкие пальцы.
– Что же, – дребезжащим взволнованным голосом разбил тишину горбун. – Антэ[5] – по пять гиней?
И тотчас, как расколдованные, сидящие за столом зашевелились и завздыхали. Застучали крышки стоящих у ног сундуков. На стол посыпалось золото. Когда звон монет прекратился, тот, вблизи которого пробежала ящерица, медленно протянул руку к колоде и, отслоив от неё верхнюю карту, потянул на себя, разрывая её от центра до края об одну из граней гвоздя. Остальные – по часовой стрелке – так же вытянули себе по одной карте. Так, в безмолвии, нарушаемом лишь шелестом учащённого дыхания, сидящие за столом набрали в цепкие руки по пять рваных карт. Всмотревшись в них, стали обмениваться короткими, но, очевидно, полными значения фразами:
– Играю.
– Мне – две (и, отложив поближе к золоту две свои карты, сказавший это протянул руку и оторвал две новые – на замену).
– Одну. (И оторвал одну.)
– Четыре. (Это Дюк.) «Ого!» – непроизвольно отреагировал кто-то.
– Пас.
– Пас.
– Играю.
Двое сказавших «пас» заученным, небрежным движением отодвинули свои карты и с интересом, и не без зависти посматривая на оставшихся игроков, стали переговариваться:
– Двое играют на своих![6] Похоже, и у одного, и у второго сильный приход.
– Мистер Крэк поменял лишь одну. Значит, в четырёх оставленных игра уже есть.
– Жирондон взял две. Тут – сомнительно…
– Нет, но Дюк! Он же никогда не рискует, а тут – сбросил четыре!
– Дюк, похоже, надеется на свой талисман.
– Это какой же?
– Да тот, что за его спиной сидит. Громила. Шрам на щеке – как будто от пули.
– Это не «Громила», – отозвался, не отрывая взгляда от карт, раскрасневшийся Дюк. – Это «Змей».
– Прозвище построено на том, какой он коварный?
– Нет. На том, как он жалит.
– Жалом с ядом? – сыронизировал кто-то.
– Нет. Летучими шпагами.
Между тем взявшие себе дополнительные карты заплатили за них (холмик золота в центре стола увеличился), и, подняв лица, стали смотреть друг другу в глаза.
– Десять гиней! – проскрипел горбун, двигая к золотой грудке со ставками невысокий столбик монет.
– Уравниваю и добавляю пять, – произнёс Жирондон.
– Уравниваю, – сказал Сонливец. – Обратите внимание – кладу пятнадцать.
– Уравниваю и добавляю десять! – с нервной, пульсирующей, и оттого дёргающей всё лицо улыбкой, проговорил Дюк. – Обратите внимание – кладу двадцать пять.
– Пас, – недовольно сказал последний и бросил карты, с тоской посмотрев на свою поставленную на кон горочку золота.
– О-хо!! – злорадно воскликнул Горбун. – Монтгомери сказал «пас»!
– Итак? – спросил Дюк, поочерёдно глядя на оставшихся троих соперников.
– Пас, – сказал Жирондон и отложил карты.
– Пас, – с усилием сглотнув, сказал и Сонливец.
– Уравниваю до двадцати пяти и вскрываю! – прошипел злорадно горбун.
Добавив денег, он с торжествующей улыбкой открыл карты.
– А! – А! – А! – с одобрением и в то же время многозначительно отреагировал один из выбывших в самом начале игроков. – Не зря мистер Крэк заменил только одну.
– Карэ! – сообщил победно горбун. – Заменил одну, да и ту мог просто выбросить! Вот они, с самого начала пришли – все четыре!
На столе перед ним лежали четыре дамы, и отдельно – семёрка пик.
– Карэ, мистер Крэк, – произнёс Дюк, – это весомо. Только вы, вероятно, считаете, что если меняешь целых четыре карты – то неизменно приходит всякая подлая мелочь? Да, такая ко мне и пришла. Но как пришла, обратите внимание!
И Дюк, под хор стонов и восклицаний открыл «мелочь»: двойку, тройку, четвёрку, пятёрку – и туза. Даже неопытный в карточных играх Бэнсон сообразил, что это очень весомо, так как все карты были одной, помеченной красными сердечками, масти.
– Стрит-флэш! – отчаянно простонал горбун. – Мои деньги!!
– Успокойтесь, владелец «карэ»! – сказал раскрасневшийся Дюк, сгребая со стола золото и сбрасывая его вниз, в свой сундук. – В любви повезёт.
– Как хорошо, что я поосторожничал! – вскричал Жирондон, переворачивая свои карты картинками вверх.
– О, фулл! – оживился Сонливец. – И у меня!
Он выложил свои карты рядом с картами Жирондона, и если у того было три короля и две десятки, то у Сонливца – три восьмёрки и два туза.
– Ну что же, – подвёл итог Жирондон. – Дюк взял восемьдесят восемь гиней. Ну, на то он и дюк[7]. Мистер Крэк «продул» тридцать одну гинею, я – двадцать две, Сонливец – двадцать. Остальные – по пять. Ровная игра, джентльмены. Но обратите внимание, как пошла карта! Два фулла, каре и стрит-флэш – в один кон! Такое начало грозит эту ночь сделать памятной!
Игроки встали, вышли из-за стола и направились в соседнюю комнату, где находились их телохранители. Встав вкруг бассейна, зачерпнули и выпили терпко пахнущей рубиновой жидкости. Появился слепец и зашаркал в покинутое помещение. Когда компания в него вернулась, оно уже имело первоначальный вид.
– Однако, джентльмены, – заскрипел горбун, – это не очень-то честно!
– Что именно, мистер Крэк? – вежливо спросил Жирондон.
– Вот это! – горбун кивнул на прошедшего вслед за компанией Бэнсона.
– Дюков талисман? – удивился Жирондон. – Полно ребячиться, мистер Крэк. «Человек-талисман» – не боле, чем шутка.
– Нет, не это! – продолжал упрямиться Крэк. – Он в одежде! Мы все раздеты – чтобы никто не смог спрятать подменную карту в рукав или за ворот. Это – жёсткое правило, не так ли? А дюков телохранитель, присутствуя здесь, не раздет! – и вытянул палец к серой вязанной блузе.
– Довольно капризничать, мистер Крэк, – примирительно сказал Дюк. – Это сущий пустяк. – И, кивнув Бэнсону, добавил: – Сходи, Змей, разденься.
Бэнсон вышел в комнату с бассейном. Его встретили сдержанные усмешки остальных телохранителей: «выпроводили выскочку!» Но когда Бэнсон обнажился до пояса, лица наёмных бойцов вытянулись, а усмешки пропали. То же произошло и игроками, когда Бэнсон вернулся и сел на стул у стены, за спиной Дюка.
– Да-а, – протянул уважительно и восхищённо Сонливец. – Убедительно смотрит со шкуры Змея его жизненный опыт.
– Десятка два шрамов, – сосчитал Жирондон. – И все – мимо шуток! Откуда такой узор?
– Турецкие ятаганы, – сказал, поудобнее устраиваясь на стуле, Бэнсон. – Ещё – кинжал, копьё и метательные ножи.
– На щеке – это пуля? – поинтересовался Монтгомери.
Бэнсон кивнул.
– А почему только на одной щеке? Ты её проглотил?
– Нет. Она не влетела, а вылетела. Выстрел был в лицо. Спереди-сбоку. А я в эту секунду кричал.
– А вот ятаганы – это ведь был не один человек? Так расписать – нужна не пара рук, и даже не две пары.
– Нас было трое против двух дюжин.
– Ого! И все трое живы?!
– Нет, не все. Урмуль погиб…
– А вот это клеймо на груди, что оно значит?
– Что я – раб валидэ-султан.
– Это ещё кто?
– Мать султана в Стамбуле.
– И ты действительно был там рабом?
– Нет. Это хитрость. «Охранная грамота» от янычар.
Тут Жирондон перевёл взгляд на Дюка и быстро проговорил:
– Продай мне его! За любые деньги!
– Нет, – покачал головой Дюк. – Невозможно.
– Даже за большие деньги?
– Ни за какие. Я не нанял его. Он сам решил поступить ко мне на работу. Нас случай свёл. Он не берёт ни жалования, ни награды. Только покровительство от полиции, стол… и отсутствие лишних вопросов.
– Слушай, Змей! – продолжал упорствовать Жирондон. – Переходи служить мне! Клянусь – не пожалеешь!
Бэнсон свёл брови. Спросил:
– У вас здесь, я вижу, весьма жёсткие правила? (Жирондон, взглянув на игральный стол, покивал.) Вот такие же жёсткие и у меня. И потом, уважаемый сэр, если вы берёте в высокодоверенные помощники человека, который с лёгкостью уходит от своего покровителя, то как вы можете быть уверены, что он с такой же лёгкостью не уйдёт однажды от вас?
Кто-то из присутствующих рассмеялся, кто-то одобрительно хлопнул в ладоши. Дюк сидел, расплывшись в неудержимой улыбке.
– Однако, к делу, джентльмены! – недовольно скрипнул горбун, указывая узловатым «паучьим» пальцем на стоящего поодаль в почтительном ожидании носителя ящерицы.
Блеф
Ящерица – такая же песочно-жёлтая, но с едва заметным зеленоватым отливом – пробежала между Монтгомери и Сонливцем.
– Пожалуй, спорно, – сказал Сонливец.
– Бросим монету, – пожал плечами Монтгомери. – Мой – аверс[8].
– Мой – реверс, – согласно кивнул Сонливец.
Бросили на стол монету, и она, покрутившись, легла аверсом вверх.
– Монтгомери – первое слово, – проскрипел слегка пьяный горбун.
Вновь под пристальными взглядами всех присутствующих были стасованы карты, и гвоздь пронзил и пришпилил колоду к столу. «Казалось бы – мелочь, – подумал Бэнсон, – а как надёжно. Такую карту не передёрнешь.»
– Антэ – по пять гиней? – поинтересовался Монтгомери.
– Пусть будет по пять, – согласно ответили ему сидящие за столом.
Застучали крышки денежных сундуков. Зазвенело на столешнице золото. Игроки отшпилили себе по пять карт. Примолкли.
– Это закон! – с досадой проговорил Жирондон. – Если в первом кону всем пришла сильная карта, то в следующем – одни клочки… Пас! – и он бросил недалеко перед собой свои карты.
– Даже поменять не попробовал? – спросил его Сонливец. – Ведь пять гиней впустую теряешь…
– Менять уже поздно! – почти взвизгнул горбун. – Он сказал уже «пас»! Слово сказано!
– Я и не спорю, уважаемый Крэк, – примирительно-насмешливо произнёс Жирондон. – Я всегда помню, что говорю.
– Да, на клочках игры не сделаешь, – вздохнул Монтгомери и, откладывая карты, разочарованно выдавил: – пас.
– Пас, – не решился на игру и Дюк, не унявший ещё трепетной дрожи от недавней удачи. – Лучше пары[9] ничего в этом кону не придёт.
После замены карт «отдали» игру ещё двое. Теперь на деньги, внесённые в банк, претендовали лишь горбун Крэк и Сонливец. Если идти по часовой стрелке от Монтгомери, слово было за Сонливцем. Помедлив для важности, он сказал:
– Добавляю сорок пять гиней!
За столом раздались одобрительные восклицания, – впрочем, негромкие, вполне приличествующие светской компании.
– Ты блефуешь, – неуверенно проскрипел горбун, вонзившись взглядом в «рубашки» карт своего визави[10], как будто хотел сквозь картон рассмотреть их обратные стороны.
– Отчего же, мистер Крэк, – спокойно ответил Сонливец. – Я считаю, что у меня весьма хорошая карта.
– Ты блефуешь! – скрипнул зубами горбун и, положив карты на край стола, полез в свой сундук. – Уравниваю твои сорок пять и добавляю ещё сто!
– Тогда сто… и ещё сто.
– Тогда сто – и ещё двести!
– Очень хорошо, – так же положив карты на край, ответил Сонливец и открыл свой сундук. – Уравниваю ваши двести и добавляю… (Он выложил всё содержимое своего сундука) … пять тысяч.
– Ка-ак!.. – поперхнулся горбун.
– Имею полное право. Вы сами, мистер Крэк, затянули меня на третий круг ставок, а они, как вы знаете, в третьем круге ограничения не имеют.
Крэк побледнел. Перегнувшись набок, склонился над своим сундуком. Его длинные подвижные пальцы стали метаться, судорожно передвигая внутри гулкого дубового чрева столбцы монет. Пересчитал. Выпрямился. Утрачивая бледность и стремительно багровея, сообщил:
– У меня… всего лишь три тысячи! Да я больше бы и не смог принести!
– Вы правила знаете, мистер Крэк, – жёстко произнёс в напряжённой тишине также побагровевший Сонливец. – Или уравнивайте мои пять тысяч, или говорите «пас».
– Но у меня… такая карта… джентльмены! – он поднял лицо, выпучив глаза, полные мольбы и страдания. – Не одолжит ли мне кто-нибудь из вас две тысячи двести гиней? А, мистер Дюк, мистер Монтгомери! Для вас это же ничтожная сумма! Как только вскроем карты, я немедленно верну, в ту же минуту!..
– Мы охотно ссудим вас средствами, мистер Крэк, – с достоинством заявил Монтгомери. – Но только после того, как вы закончите игру. Правила покера – тем более в нашем обществе – это больше, чем закон.
– Проклятье!! – завопил горбун. – Но у меня… – он открыл и выбросил перед собой карты, – флэш-рояль!
– О, какая редкая карта! – восхищённо произнёс кто-то.
На столе, открытый взглядам всех, лежал «королевский» флэш: крестовые туз, король, дама, валет и десятка.
– Но, мистер Крэк, если вы не в состоянии уравнять мою ставку, – с нажимом в голосе выговорил Сонливец, – вы должны сказать пас!
– Ну пас!! пас!! пас!! – злобно взвизгнул горбун. – Открывайте, что у вас там?!
Сонливец перевернул карты – и все присутствующие застонали.
– Пара! – воскликнули два или три голоса.
– Пара!! – завопил, брызгая слюной, побледневший от злости горбун. – Несчастная пара, он играл против меня парой, когда у меня флэш-рояль, и забрал мои деньги!!
– Это покер, мистер Крэк, – сказал с восхищением Жирондон, – и великое искусство блефа, которое показал сэр Сонливец. Выиграть с парой восьмёрок против королевского флэша – это достоинство. Редчайший случай. Спасибо, джентльмены, порадовали.
– И потом, мистер Крэк, – строго заметил Монтгомери. – Разве не вы сами распорядились этой игрой? Когда мистер Сонливец добавил сто гиней, вы могли просто уравнять их и открыть карты. Ваш флэш-рояль – против его пары! Это был бы удар. Но вы, уравняв, подняли ставку ещё на двести, и тем самым дали возможность мистеру Сонливцу в третий раз объявлять. А в этом случае – и вы это знаете – ограничений нет. Он, помня, что у вас в первом кону был проигрыш, рискнул: поставил всё, что у него было с собой. И у вас тривиально[11] не хватило денег. И пара взяла банк. Это покер!
Крэк сидел молча, уставив выпученные глазки на свой флэш-рояль и, приоткрыв рот, икал. А кто-то за столом, приветствуя блефовую игру и благодаря за острое зрелище, принялся негромко хлопать в ладоши. Сонливец переместил груду золота со стола в свой сундук, и все задвигали стульями, вставая и направляясь к бассейну с вином.
– Может, не надо было отпускать в его адрес шуточки? – спросил, оглядываясь на застывшего в соседней комнате за столом горбуна, Жирондон. – Крэк – злопамятный.
– Разве кто-то отпускал в его адрес шуточки? – удивился Дюк.
– Да вот ты, например, – напомнил Жирондон. – Крэк – горбун, калека, уродец. А ты, забрав его тридцать гиней, сказал, что ему в любви повезёт.
– Полно тебе придумывать, Жирондон, – возразил, раскуривая сигару, Монтгомери. – Все знают, что у горбуна в имении целый гарем юных невольниц. Недавно он купил ещё четверых чернокожих малышек из Африки. У Крэка «любви» больше, чем у всех нас вместе взятых!
Присутствующие посмеялись, выпили по фиалу вина и вновь, притягиваемые цепкой невидимой паутиной, потянулись в комнату с дубовым круглым столом.
Покер
Дюк один кон пропустил. Он взял свой стул, сел рядом с Бэнсоном и, наблюдая за игроками, шёпотом рассказывал телохранителю о тонкостях и уловках игры. Бэнсон слушал – без кивков и без восклицаний. Вдруг Дюк спросил:
– Так что, какой-либо опасности не заметил? Случайного взгляда в спину, или шёпота… Мои «друзья» – люди… необычные.
– Заметил, – вдруг прошептал Бэнсон, и Дюк вздрогнул.
– Что?! – прошипел он в самое ухо. – Говори, только тихо!
– Судя по манере общения, за столом – только гости. А хозяина замка здесь нет. Это так?
– Это так. Ну и что?
– Вы, конечно, платите ему аренду, но, судя по моему знакомству с Базилло, не так уж и много. Во всяком случае, арендная плата не соизмерима с теми деньгами, которые приезжают и уезжают в сундучках.
– И это так. И что?
– Я случайно увидел. Телохранители, когда остаются в соседней комнате, украдкой пьют из бассейна.
– Это известно. На это мы закрываем глаза.
– И хозяину замка это известно. Может случиться такое, что, дождавшись особенно крупной игры, он добавит яду в бассейн, дождётся, когда вы и телохранители, напившись, перестанете корчиться, соберёт ваши сундуки и уедет в Новую Англию?
– Может! – побледнев, посмотрел на него Дюк, и тут же усомнился: – Но тогда он теряет замок и землю! А начнёт заранее продавать – это долго и хлопотно, и очень скоро станет известно!
– Может и не продавать. Возьмёт под залог замка большую сумму у двоих-троих плимутских иудеев, – а это тайно и за один день.
– Так… что же делать? Нужно всех предупредить…
– Нет. Нужно промолчать и никогда не пить из бассейна.
– Верно, верно, верно, верно, – торопливо шептал посерьёзневший Дюк. – Вот что значит свежий глаз!
Между тем, игра завершилась. Соперничали Жирондон и Монтгомери. Вскрыли карты. У Жирондона на руках были три девятки и ничего не значащие дама и туз.
– Тройка в девятках! – сообщил Сонливец и торопливо перевёл взгляд на карты Монтгомери.
Тот открыл две дамы и ничего не значащие «семь» и «восемь».
– Пара в дамах?! – нетерпеливо заёрзал Жирондон.
Но Монтгомери, помедлив, торжественно открыл пятую карту и положил её рядом с дамами.
– Джокер[12]! – охнул Сонливец. – Тройка в дамах!
Монтгомери собрал золото. Жирондон бессильно развёл руками. Горбун Крэк проворчал:
– Мальчишки! Игру на тройках ведут. А у меня был флэш-рояль!
Горбун тоже не участвовал в этой партии. Он отправил своего перекрещенного ремнями телохранителя к экипажу, за дополнительными деньгами, и, наблюдая игру издали, ёрзал на своём стуле, чуть отставленном от стола.
После очередного перерыва за столом произошло заметное оживление: в игру вернулись и Дюк, и горбун.
– Мистер Крэк добавил в свой сундук денег! – шутливо воскликнул Сонливец. – Берегитесь! Будет большая игра!
– Мальчишка! – огрызнулся горбун. – Будет вам большая игра, будет. Я чувствую! Мне сегодня крупная карта идёт…
Пробежала новая ящерица («их, очевидно, здесь специально разводят», – решил про себя Бэнсон) и Дюк объявил время ставок.
– Антэ – десять? – предложил кто-то.
С общего согласия ставки были сделаны по десять гиней.
– Пятьдесят! – заявил Дюк, после того, как игроки заменили карты.
– Пас. Пас. Пас. – Раздалось три возгласа.
В игре остались Дюк, Монтгомери, горбун и Сонливец.
– Уравниваю, – сказал Сонливец.
– Уравниваю, – решил и Монтгомери.
И вдруг всех озадачил горбун.
– Уравниваю и две тысячи сверху!
– Вы увлекаетесь, мистер Крэк, – весомо сказали ему. – В первом круге – одна тысяча – предел ставок.
– Тогда тысячу сверху! – срывающимся в фальцет голосом выкрикнул горбун.
– Пас, – уставившись в пространство перед собой невидящими глазами, обронил Сонливец. – Пропали мои шестьдесят гиней…
– Не в свою очередь сказал, – строго выговорил ему Дюк и, переведя взгляд на Монтгомери, объявил: – Уравниваю тысячу мистера Крэка… и, поскольку второй круг… ещё две тысячи имею право добавить. Ставлю две тысячи!
– Пас, – сломался Монтгомери и отбросил карты.
– Ты блефуешь! – с ненавистью глядя в лицо Дюку, проскрипел горбун.
– Если я блефую, так вы в выгоде, мистер Крэк, – подчёркнуто вежливо ответил Дюк, выгружая на стол тысячу монет, чтобы уравнять ставку, заявленную горбуном, и ещё две тысячи – добавляя своих.
– Да, я в выгоде! – согласился горбун. – Потому что сегодня – моя удача. Потому что теперь я вас на третий круг не пущу. Вот моё золото. Я уравниваю две тысячи ваших, – и… больше не набавляю, а требую открыть карты!
И он выложил на стол свои.
Гул изумления пронёсся по комнате. Качнулись огни на свечных фитилях в канделябрах.
– Флэш-рояль! – Потрясённо сказал Жирондон. – Одному человеку! Дважды за ночь!
Перед горбуном лежали уже знакомые Бэнсону туз, король, дама, валет и десятка – как и в тот памятный кон, только бубновые.
– Если бы карты не были прибиты, мистер Крэк, – озадаченно произнёс Дюк, – я бы подумал, что вы где-то ловчите. Второй флэш-рояль! Понимаю ваше упорство. Выложили три тысячи с лишним…
– Карты! – перебил его Крэк.
– Разумеется, открою, – кивнул Дюк и обвёл взглядом присутствующих. – Обратите внимание джентльмены, какая ночь…
– Карты!! – взвизгнул горбун, и привстал, и уткнулся клином груди в край стола.
– Вы не могли бы взять себя в руки, мистер Крэк, – медленно проговорил Дюк. – Если я позволил себе паузу – то лишь в виду исключительной торжественности момента. Сейчас убедитесь.
– Карты, – с ненавистью прохрипел его визави.
– Что, – спокойно, в гробовой тишине, произнёс Дюк, выкладывая перед собой десятку, – джентльмены, может быть сильней флэш-рояля?
– У… у… у вас что, покер[13]?! – заикаясь, спросил Сонливец.
– Он блефует! – почти взвыл горбун. – Даже если у него есть джокер – то у него не может быть четырёх десяток! Потому, что одна из них – у меня!!
– А вторая – у меня, – задумчиво проговорил Дюк, открывая вторую десятку, – и третья – у меня, – и открыл третью.
Монтгомери засопел. Шепнул быстро:
– Но ведь четвёртая – действительно у мистера Крэка!
– И четвёртая у меня, – сказал Дюк, докладывая к трём десяткам разорванного наискосок джокера (горбун вздрогнул), и пятая – тоже здесь, – заключил Дюк и открыл… второго джокера.
– У-о-а-у! – восторженно заревели за столом, а Дюк, привстав, наклонился над столом и, выставив побагровевшую плешь, прокричал:
– По! кер! сде! лан! джен! тль! ме! ны!
Что было силы бил в ладоши Сонливец. Сложив руки у рта, гудел трубой Жирондон. Восхищённо покачивал головой Монтгомери. А горбун, оббежав вокруг стола, схватил карты Дюка и стал рассматривать их, сличая место прокола – нет ли подмены. Потом он перевернул карты всех игравших и снял с гвоздя оставшуюся колоду. Сомнения отпали: оба джокера были у Дюка.
– Никаких подмен, – резюмировал, наблюдая за манипуляциями Крэка, Монтгомери. – Мистер Дюк прилюдно и честно взял покером ваши три тысячи.
Горбун, качнувшись на тоненьких детских ножках, обвёл всех ледяным взглядом и прошипел:
– Вы сговорились!
– Научитесь проигрывать, мистер Крэк, – недовольно сказал Монтгомери.
– Нет, его понять можно, – ответил хохочущий Жирондон, – за одну ночь – карэ и два флэш-рояля – и всё мимо денег!
– Вы сговорились! – завопил горбун и подпрыгнул. И, вытянув перед собой длинный палец, добавил: – Я вам отомщу!
Потом повернулся и заковылял в комнату с бассейном.
А в игровой комнате повисла напряжённая тишина.
– Вы слышали, что он сказал? – спросил Дюк.
– Это нехорошо, – поднял плечи Сонливец.
– Игра была честной – это раз, – произнёс Жирондон. – Крэк богат и злопамятен – это два.
– Родственники у него есть? – быстро спросил Дюк.
– Нет никого.
– Тогда что же?..
И присутствующие, в полной тишине, посмотрев друг на друга, молча кивнули.
– Что он делает? – спросил кто-то.
Сонливец, выглянув в дверь, сообщил:
– Пьёт из бассейна.
– Тогда так, – Дюк обвёл всех пристальным взглядом. – Его кортеж должен уехать последним. Мы все быстро уезжаем вперёд. Ждём на подъёме у озера. Кто не хочет участвовать?
– Все хотят мирно играть, – негромко произнёс Монтгомери. – Значит, и участвовать будут все.
Цена угрозы
Близилось утро, и в замке с чёрными окнами наступил завершающий ритуал: все игравшие собрались у бассейна и наполнили чаши вином.
– Кто выиграл – пусть радуется, – напевно произнёс слепой носитель ящериц. – Кто проиграл – скоро выиграет.
Игроки, уже одетые, чинные, разом подняли фиалы и выпили. Дюк, зачерпнувший вина едва ли на треть чаши, лишь сделал вид, что пьёт. Он с нетерпением ждал возвращения Змея, который унёс в карету половину их денег: новому телохранителю, даже не смотря на могучие мышцы и крепкие кости, был трудно унести за один раз всё золото. А Бэнсон, радуясь оказии, неторопливо тащил чужой тяжкий груз, старательно запоминая длину лестничных маршей, спуски, подъёмы и повороты. Возвращаясь назад, налегке, он всё повторил в обратном порядке. «Змей» и представить не мог, когда бы это ему пригодилось, но в нём не было даже тени сомнения: уроки мастера Альбы и принца Совы были выше любых рассуждений.
Игроки старательно и поспешно, – однако с демонстративным равнодушием на лицах, – обогнали мистера Крэка, оставив его спускаться в «манекеновый» холл самым последним. Воздух был напитан предощущеньем беды.
Заговорщикам помог ещё и телохранитель полупьяного горбуна. Поддерживая хозяина за острый локоть, он шёл нарочито медленно, поджидая Бэнсона. Предполагая позадираться со Змеем перед остальными бойцами, он рассчитывал хотя бы на словесный, пусть и иллюзорный реванш. Но тот, поставив сундук на плечо, с убийственным равнодушием проследовал мимо. Остальные же телохранители смотрели на обвитого ремнями могучего, но не очень умного бойца с сожалением: все понимали, что в этой компании такое поведение недопустимо, – и уж как-нибудь – да наказуемо.
Ранним прохладным утром из немого и тёмного замка вдруг вышла большая группа людей и попарно, расходясь веером, рассеялась в разные стороны. Все спешили к своим каретам. Горбун, выйдя последним, медленно ковыляя, всё больше отставал от других. Вот хлопнули дверцы и зашелестели колёса экипажей Сонливца. Почти вплотную за ним двинулись лошади Дюка. Затем из высаженного ровными полосами леса выехал кортеж Монтгомери. А горбун, поддерживаемый телохранителем, несущим почти пустой сундучок, всё ещё ковылял к своим трём каретам.
За несколько минут лошади шести кортежей, нахлёстываемые кучерами, домчали до места, где дорога забирала круто в гору и делала почти полный разворот – так, что когда экипажи ехавшего последним Жирондона подъезжали к повороту, кортеж Сонливца двигался по второй половине дорожной петли – почти навстречу, и почти что над ними.
Почти все кареты поднялись на верхнюю половину петли; внизу, на пустынной дороге осталась только одна карета – из кортежа Жирондона. Несколько человек из его свиты озабоченно топтались возле якобы сломанного колеса.
Послышались топот и стук колёс карет горбуна. Передний экипаж, доехав до «сломавшейся» кареты, затормозил, и в ту же секунду из заднего окна этой кареты один за другим прогремели три выстрела. Стрелявшие знали своё дело, и пули легли точно. Все три кучера мистера Крэка упали на землю. А затем (Бэнсону показалось, что лопнуло небо) от стоявших наверху экипажей раздался залп из сотни, примерно, стволов. Кареты горбуна покачнулись от невидимого удара. С их крыш и стен, сверкая лаком и белой древесной сердцевиной, взметнулись щепки. Лошади испуганно присели и прянули назад, но суетившиеся возле «сломанного» колеса люди Жирондона уже бежали к ним, ловя под уздцы. А сверху, с откоса, размахивая сверкающими в ясном утреннем солнце клинками, тёмной стаей неслись охранники всех шести игроков.
– Быстрее туда, – шепнул Бэнсону Дюк.
– Зачем? – вопросительно взглянул на него телохранитель. – Пусть щенки порезвятся…
– Ключ, ключ, ключ! – жарко зашептал Дюк, – на шее у горбуна ключ, сними его незаметно!
В дальнейших объяснениях Бэнсон нужды не имел. Распахнув дверцу кареты, он выскочил и громадными прыжками понёсся к экипажу мистера Крэка.
Он всё-таки опоздал: в простреленные раскрытые двери уже заглядывали две или три головы. Но Змей, добежав, бесцеремонно их оттолкнул, прорычав:
– А ну-ка в сторонку! У меня здесь свои счёты.
И всей тушей влез во внутренне пространство кареты, и закрыл проём узких дверей. Рядом кто-то возбуждённо стал рассказывать, как телохранитель горбуна задирал Змея и напрашивался на драку. «Змей» же, едва окинув взглядом пробитые пулями тела, рванул на Крэке ворот, предавшись секундному сомнению – всю ночь на шее обнажённого по пояс горбуна не было никакого ключа, – но нет, вот он. Висит на одной половинке цепи: вторая срезана ударом свинца. Дёрнув ключ и погрузив его в свой карман, Бэнсон с рёвом взялся за тело нахального ремненосца. Как будто это и было целью его посещения кареты, он выволок телохранителя Крэка, бросил на землю, под ноги любопытным зевакам, и с досадой проговорил:
– К сожаленью – готов.
У соседних карет шла работа. Там, звеня клинками, добивали раненых. Бэнсон наклонился и, отстегнув широкие, свиной кожи ремни, сложил их, повесил на шею и пошёл наверх, к карете Дюка, не обращая внимания на то, что кровь с ремней пятнает его одежду.
– Принёс? – коротко спросил Дюк, когда его телохранитель сел рядом с ним.
Бэнсон вынул из бокового кармана и протянул ему небольшой чёрный ключ. Дюк поспешно спрятал его и расплылся в блаженной, сладкой улыбке.
– Это – чтобы показать, что бегал именно за ними? – спросил он, кивнув на ремни.
– Ну конечно, – сказал Бэнсон, но всей правды не договорил: он чувствовал, что ремни были ненормально тяжёлыми.
«Интересно, что в них за тайна, – думал Змей, ощущая, как кожаные ленты давят на его шею. – Скорей бы приехать».
Он успел заметить, как убитых кучеров заменили люди Монтгомери.
– Приведут кортеж поближе к имению горбуна, – пояснил, перехватив его взгляд, довольный хозяин. – Обставят, как нападенье бандитов.
– Ключ – от какого-то важного помещения в доме Крэка? – с деланным безразличием поинтересовался Бэнсон.
– Разумеется, – помедлив, ответствовал Дюк.
– Без меня не ходи.
– Отчего так?
– Я неплохой специалист по скрытым ловушкам.
– Запомню.
Щёлкающие удары кнутов принялись часто бить напоенный пороховой гарью воздух. Кареты рванулись, – словно их владельцы, испугавшись только что сотворённого, спешили поскорее убраться.
Но их кортеж, к удивлению Бэнсона, повернул не в ту сторону, откуда приехали, а в Плимут.
– Нужно переждать немного, – пояснил ему Дюк. – Пусть тела Крэка и его свиты доставят в имение и вызовут помощника прокурора. Наша компания появится там позже – соболезновать и возмущаться.
– Будет делёж наследства убитого разбойниками горбуна? – уточнил Бэнсон.
– Да, но какой делёж! Недвижимость, конечно, сразу опишут – но она и не надобна. У каждого из нашей компании есть в имении предмет длительной зависти. Жирондон, например, выпросит для себя гарем: в нём несколько десятков невольниц.
– А мы? – равнодушно спросил Бэнсон.
– А мы… А я… есть там кое-что, что дороже сотни гаремов.
Дюк даже передёрнул плечами.
Остаток пути проделали в ненапряжённом молчании: Дюк, откинувшись к мягкой стене, жмурился в сладкой улыбке, а Бэнсон всё время думал – та ли это «компания», о недоступности которой слышал в своё время в Плимуте, или он напрасно теряет здесь время.
Глава 3 Заморские крикуны
Бэнсон и предположить не мог, насколько это была «та» компания. Он не знал, что в это самое время принц Сова разговаривал с кем-то из Серых братьев в знакомом Бэнсону доме в Плимуте.
– Я выследил Тайверта, – говорил, устало откинув голову на спинку кресла, Сова.
– Того самого? Гробокопателя?
– Да. Его ещё называют Рассказчик. Тайверт привёл меня в поместье одного весьма влиятельного в Лондоне человека.
– Как его имя?
– Люди, которые нас интересуют, зовут его «Дюк».
– Выследить Тайвера, думаю, было непросто. Он боязлив, а потому – очень внимателен.
– Да. Но в данном случае это было не трудно. В этот раз он очень спешил – нёс, видимо, какую-то редкостную находку. Трудно будет другое: выследить Дюка, а через него – всю их компанию. Охрана у него поставлена крепко. В дом не попасть…
Оскаленные человечки
Доехали до погружённого в утреннюю сонную дремоту Плимута. Проехали в порт. Здесь оставили кареты и дали работу ногам: нужно было как-то убить время.
Дюк, погружённый в какие-то свои, по-видимому очень приятные мысли, широко шагал, так что и Бэнсону, не принужденному укорачивать шаг до размера хозяйского, было легко, – и он шёл этим свежим осенним утром вольно и быстро, и так же вдыхал полной грудью морской йодистый воздух.
Открывались трактиры и торговые лавки, и Бэнсон с хозяином, оставляя прочую охрану снаружи, входили внутрь, к полусонным владельцам, где Дюк рассматривал, – а иногда покупал, – некоторые заморские причуды: то головной убор из цветных длинных перьев, то кожаную перчатку без пальцев с наклёпанными на ладони железными чешуйками, – видимо, чтобы лазить по стволам деревьев. Бэнсон мало обращал внимания на разложенные на прилавке и развешанные вдоль стен товары. Он, входя в очередную лавку, внимательно высматривал – нет ли за спиной или сбоку притаившейся малозаметной двери, откуда могли бы появиться умелые и отчаянные работнички тёмных дел, чтобы ограбить богатого посетителя, а тело его утащить в ту же незаметную дверь: такие случаи – Бэнсон знал это – были. (Вот только немного сбивал его с привычного ритма мыслей острый запах табака и вид длинных шпалер разнообразнейших трубок в табачных лавках.)
Вдруг, у одного из торговцев, помимо прочего заморского барахла, быстро текущего сквозь проворные пальцы, показывающие раннему покупателю индейские и африканские амулеты, Бэнсон заметил мгновенно притянувший его внимание яркий предмет. Это был кожаный обруч-лента, носимый, как угадывалось, на шее, от которого вниз на тонких шнурах свисали восемь мешочков. Они походили на небольшие кисеты, – каждый размером немного побольше крупного гусиного яйца, – яркой, даже весёлой окраски. Они были парные, – жёлтые, оранжевые, кирпично-розовые и светло-коричнево-красные. Поражало то, что на поверхности тонкой, в радостные детские цвета крашенной кожи, были нанесены зловещие рисунки квази-человеческих[14] лиц. Лица эти, из нестираемой, чёрной, шероховатой матовой краски, то с оскаленными, то с просто разинутыми в немом крике ртами, одновременно и притягивали, и пугали. Даже непосвящённому было понятно, что в них таится чужая, с окраины света, тайная и могучая магия.
– Сколько денег? – спросил Бэнсон, забирая из рук продавца цветную гирлянду.
– Две гинеи! – торопливо сказал тот, опытным сердцем уловив в настроении посетителя и уверенность, и интерес.
Сказав это, продавец ещё раз раскрыл рот, чтобы сообщить, что эта вещь необычайно редкая и что снижать цену он не станет, но Бэнсон, кивнув головой, отстегнул клапан пояса, достал две золотые монеты и не бросил, а аккуратно выложил их на прилавок.
– Беру! – сказал он и, ставя точку в нежданном, стремительном торге, надел амулет на свою мощную шею.
Продавец, он же – владелец лавки, побагровев от понимания того, что если бы он затребовал пять гиней – посетитель выложил бы и пять, суетливо потянул к амулету руки, – жестом не требовательным, а бессильным, прощальным.
– Я в них деревянные шарики положил, – дрожащим голосом сказал он, – чтобы удобнее было показывать; давайте я шарики вытащу – тогда в этих «мешочках» можно носить и огниво с кресалом, и другие полезные мелочи…
– Оставь, – тяжело сказал покупатель. – Пусть будут с шариками. – И добавил: – Может, ещё за деревяшки тебе заплатить?
Продавец, решив, что это – надменная, – в его адрес, – ирония, лишь вздохнул. Но покупатель засунул руку в карман и выложил на прилавок ещё шестипенсовик.
Когда вышли из лавки на пристань, Дюк поинтересовался:
– А что, Змей, для тебя две гинеи – заурядная сумма?
– Нет, – ответил, прикасаясь к покачивающимся на груди цветным округлым мешочкам, Бэнсон. – Две гинеи для меня – это деньги.
– Тогда отчего ты так легко с ними расстался?
– В этих оскаленных человечках заключена какая-то сила, – ответил, ненадолго задумавшись, Бэнсон.
– Откуда знаешь?
– Не могу объяснить. Просто вижу.
Остаток пути совершили в молчании. Когда поднялись в карету, и возницы развернули кортеж в сторону имения горбуна, Дюк, разложив заднее сиденье, влез на него и, достав ключ, стал не отрываясь на него смотреть. Бэнсон, сидя на поскрипывающем под ним откидном креслице возле окна, так же подносил к глазам и рассматривал своих «оскаленных человечков». Он пытался поймать некую призрачную, ускользающую от него мысль, – осознание того, почему его так притянул к себе этот предмет. «Офф!» – вдруг выдохнул он, напряжённым сознанием «развернув»-таки в плоский лист прыгающий, призрачный «комок» мучающей его мысли.
Бэнсон сделал это, едва только вспомнил убитого в турецком караван-сарае немого товарища. «Урмуль!» – воскликнул мысленно Бэнсон в миг, когда одновременно с этим именем в сознании скакнул «комок» и развернулся в осмысленную картину. Друг, обретённый им в пиратском Адоре, стоял в дальнем углу караван-сарая и метал в головы янычарам свинцовые мушкетные пули. Теперь Бэнсон знал, в какое грозное, и в то же время «невидимое» оружие превратятся его человечки, если деревяшки в них заменить ядрами, отлитыми из свинца, – одно – из, примерно, шести пуль: и в «мешочек» поместится, и вес – как раз Бэнсону по руке. «Как долго искал! – корил себя Бэнсон. – А догадка – настолько проста! Мастер Альба, конечно, это оружие придумал бы сразу!»
Оставалось лишь добраться до дома, оставить хозяина на пару часов, – по придуманной когда-то Томасом Локком гаерной надобности «попить крови», – и найти в ремесленных рядах Лондона кузнеца или оружейника, который возьмётся отлить нужного размера свинцовые ядра.
Гробокопатель
На выезде из Плимута Дюк вдруг привстал, открыл переднее окошко кареты и приказал кучеру:
– Домой. В Лондон.
И, откидываясь на спинку сиденья, пояснил Бэнсону:
– Трудное решение, но разумное. К Крэку сегодня лучше не ездить. Там сейчас слишком много ненужных глаз. А наше от нас не уйдёт.
Он вытянул руку с зажатым в ней свисающим на цепочке ключом, покачал им наподобие маятника. Вздохнул. Спросил телохранителя, с трудом оторвав взгляд от раскачивающейся железки:
– Сцепить сможешь?
Бэнсон принял в подставленную ковшиком ладонь ключ и, повозившись немного, соединил разорванные края цепи. Зажав между зубами и приплющив для верности разогнутое звено, вернул ключ новоявленному владельцу. Дюк, подёргав руками в стороны, попробовал цепь на разрыв, довольно кивнул и надел её на свою короткую крепкую шею. После этого насовал под бок и намял локтем подушек, сбросил туфли и, вытянув ноги в шёлковых, с гладко вшитыми пятками (рукой очень опытной белошвейки) чулках, смежил веки и размеренно засопел.
Змей, пересевший на сиденье напротив, подумал: «До Лондона путь неблизкий, можно дождаться удобного случая… но, с другой стороны, вдруг – самый удобный – сейчас?» Он положил на колени тяжёлые, свиной кожи, соединённые накрест ремни, достал из внутреннего кармана куртки синевато-чёрную альбову бритву, раскрыл её и аккуратно надрезал боковой шов на ремне. Через минуту он тихо пробормотал:
– Я так и думал.
На ладони его лежала маленькая, круглая, толстенькая гинея.
Машинально покачивая тяжёлыми плечами и туловищем – чтобы гасить толчки торопливо бегущей кареты – Змей достал трёхгранную стальную иглу, нитки и, осторожно и медленно перебирая толстыми пальцами, зашил монету обратно. Потом так же неторопливо перешил пряжки, сделав ремни на полфута длиннее. И, сняв куртку, надел эти ремни на себя – так, как носил их и прежний хозяин, накрест.
Он чувствовал, что смертельно устал. К тому же покачивание кареты тянуло откинуться на мягкую спинку сиденья и провалиться в сон… сон! – такой мучительно желаемый, сладкий… Змей несколько раз глубоко и часто вздохнул, сильно и резко подёргал головой из стороны в сторону, ободряюще улыбнулся сам себе и стал смотреть в окно. Он старательно, нашёптывая себе под нос, запоминал дорогу и все относительно приметные ориентиры.
Прошло достаточно много часов – томительных, долгих. Дюк, после очередного ощутимого ухаба открыл глаза, зашевелился и сел.
– Я не кричал во сне? – спросил он у восседающего напротив, с закаменевшим лицом, охранника.
– Нет, – ответил тот хриплым от напряжения голосом. – Я б разбудил.
– А ты что же, всё это время не спал?
– Телохранитель не может спать одновременно с хозяином.
– И это после всех приключений! И такой трудной ночи! Ну, ты силён. А ремни зачем нацепил?
– Чтобы все, кто увидят, были бы убеждены, что я бегал к Крэку именно за ними, а не за чем-то другим.
– Мудро, – ответил Дюк, машинально тронув спрятанный на груди под рубахой таинственный ключ.
Минуту-другую проехали молча. Дюк, высунув голову в окошко кареты, взглянул на небо. Сказал:
– Кажется, скоро должна быть река. Остановимся на пару часов. Мои бойцы поймают рыбы и сготовят уху. А ты должен поспать. В Лондоне я ожидаю визита людей, с которыми приходится быть осторожным. Стало быть, ты мне нужен бодрым и крепким.
Бэнсон кивнул. Дюк скомандовал остановить экипажи, вылез по малой нужде. Вернувшись в карету, сказал:
– Река действительно близко. Можешь заснуть прямо сейчас.
Бэнсон снова кивнул; неторопливо – с усилием сдерживая себя – снял башмаки, лёг на сиденье, сложил и сунул под голову куртку, и скользнул в чёрный спасительный омут.
Проснулся он от весёлого голоса Дюка.
– Кажется, нет такого занятия, где бы ты был не силён! – говорил, расплывшись в улыбке, баловень покера. – Ты хоть знаешь, сколько проспал? Вставай! Лондон скоро.
Бэнсон сел. Выглянул из кареты. Рысящий подле кареты один из охранников согнулся над лукой седла и послал Змею приветливый жест, – как давно знакомому другу. Бэнсон равнодушно кивнул. Взял флягу с водой. Обливая ступеньку кареты, умылся, прополоскал рот. А когда он «вернулся» в чрево кареты, то удивлённо свёл брови: от стенки, вернее – от дверцы, между сиденьями был откинут столик, на который Дюк выкладывал из дорожного сундука замысловатую снедь. На металлическом длинном подносе устроились в ряд, выставив вверх кости окорочков, три жареные куропатки; желтел, поблёскивая слегка оплавленным боком сыр; подпёрла собственные бока ушками-ручками квадратная глиняная чаша с янтарно-алой русской икрой; пестрел нашпигованный морковными «гвоздиками» белый, массивный, заливной рыбий бок; округлой башенкой возвышались лепёшки. И у самого края парой близнецов встали два жестяных жбана с ручками, как у кружек, и крышками на винтах, – мерой в три, если не больше, пинты каждый.
– В одном – уха, – сказал Дюк, ткнув в их сторону пальцем, – остыла давно, а во втором – пиво. Годится?
– Годится, – ответил Змей, с трудом помещая колено под столик.
Перекрестившись, он, скромно выражаясь, «покушал». Он съел всё, и опустошил оба жбана. Выбрав куском лепёшки остатки икры, он снова перекрестился и, с трудом переведя дух, проговорил:
– Так что. Где эти, с кем нужно быть осторожным.
– Должны ждать меня дома, – ответил Дюк, недоверчиво взирая на опустошённый поднос. – Но, кажется, имея телохранителя с таким аппетитом, я могу позволить себе не думать об осторожности.
Однако Бэнсон видел, что это всего лишь слова, так как едва подкатили к имению, Дюк сделался внимательным и напряжённым. (И всё же на то, чтобы подметить эту метаморфозу, Змей «истратил» лишь толику своего восприятия, в основном же быстро и цепко вглядывался и запоминал устройство громадного серого здания, а также подъезды и подходы к нему.)
Да, Дюк был напряжён, но он немедленно успокоился и воодушевился, когда ему сообщили, что ожидает его лишь один человек, и когда узнал – кто именно.
– Приветствую тебя, Тайверт, – с деланным равнодушием сказал Дюк, входя вместе с Бэнсоном в маленькое помещение на втором этаже.
Навстречу ему и Бэнсону, выпроставшись из продавленного, узкого и глубокого кресла, торопливо шагнул, на ходу кланяясь, невысокого роста, узкоплечий, с землистым лицом человек. Со стороны было видно, что Дюк непроизвольным и торопливым движением заложил руки за спину, – как будто боялся и избегал рукопожатия.
– Дс-ень-ки сакн-он-ц-ились, – безобразно шепелявя, выпалил гость, взмахивая тонкими длинными руками с широкими, как ни странно, и крепкими ладонями.
«Деньги закончились» – с усилием вник в смысл сказанного Бэнсон.
– У меня тоже нет лишних денег, – вздохнув, посетовал Дюк (как будто и не перетаскивали в эту минуту его слуги из кареты в серую «крепость» сундук с выигранным золотом).
– Не в долг, не в долг! – ещё более торопливо зашепелявил, моргая чёрными глазками, Тайверт. – Находочку я привёз!
– Редко в последнее время ты мне привозишь что-либо стоящее, – продолжал разыгрывать безразличие Дюк.
– Находочка на этот раз хороша, ваша светлость! Вот, сами смотрите!
И гость, вытащив из-за кресла какой-то вонючий мешок в подозрительных пятнах, распустил узел верёвки и достал из его пахнувших тленом и сыростью недр… череп.
Это был не просто череп когда-то очень крупного человека с ненормально развитой нижней челюстью, – а череп воина. От глазных впадин, а также от кромки пониже затылка и вверх, заострённым куполом высился кованный из двенадцати стальных полос с золотыми накладками шлем.
– Князь или царь, – уверенно сказал Тайверт, протягивая ошеломленные кости владельцу имения.
– Неужели? – с явной иронией ответил Дюк и протяжно зевнул.
Он повертел невиданное приношение в недрожащих руках, всмотрелся под кромку шлема.
– Не снимается, – пояснил внимательно следящий за ним Тайверт. – В сосновом лесу в болотце лежал. Смола затекла. Кость к железу приклеилась крепко. Я думаю, ваша светлость найдёт мастера, чтоб осторожно отковырял.
– Ладно, куплю, – небрежно произнёс Дюк. – Устал я с дороги. Торговаться и спорить нет сил. Десять фунтов.
– Десять фунтов? – с наигранным удивлением, доходящим даже до вполне правдоподобной наивности, переспросил Тайверт. – А почему не одиннадцать?
– Одиннадцать – это уже много, – задумчиво ответствовал Дюк. – А сколько ты хочешь?
– Сто! – быстро выпалил продавец.
– Беру! – так же быстро проговорил покупатель и, не выпуская «находочки» из начавших-таки дрожать рук, быстро вышел.
Вернулся он уже без покупки, но с денежным кошелем.
– Сто, как запросил, – сказал Дюк, протягивая Тайверту тяжёлый кошель.
Серое лицо гостя сделалось точно таким, как у продавца «оскаленных человечков» в Плимуте: он понял, что если бы запросил тысячу – покупатель согласился бы без раздумий.
– Позолота на шлеме, – принялся Тайверт запоздало нахваливать принесённое, – челюсть у черепа очень большая…
– Ладно-ладно, – остановил его Дюк. – На сто фунтов можно жить десять лет. К тому же, у меня есть конкретный заказ.
– На могилу?
– На могилу. Недавно умер один горбун… Ты знаешь, какой.
– Раскопать вашей светлости его голову?
– Нет. Раскопать всего горбуна. Нашей светлости нужен весь скелет, целиком. Понимаешь? Сделать нужно незаметно и быстро.
– У меня иначе и не бывает. Десять фунтов?
Дюк рассмеялся.
– Привезёшь обваренный и отмытый скелет – получишь ещё сотню.
Тайверт поклонился, подхватил опустевший мешок и направился к двери.
– Да, – проговорил Дюк ему в спину, – а не надоело ли тебе в гнилье ковыряться? Начал бы по свежим людям работать. Знаешь, сколько денег за этот год получил мой главный поставщик?
– Й-а не уп-ийт-сца! – с нескрываемым возмущением проговорил гробокопатель и, отвесив демонстративно глубокий поклон, закрыл дверь.
– «Он не убийца!» – скривил лицо Дюк. – Потрошитель гнилья – а с правилами! – И, доведя взгляд до Бэнсона, другим, посерьёзневшим голосом быстро спросил: – Что с тобой?
– Опасных гостей больше не будет? – с трудом сглотнув, спросил Бэнсон.
– Пока не предвидится, – ответил хозяин имения.
– Мне нужно на денёк отлучиться.
– Что-то случилось?
– Случилось. Пора свежей крови попить.
– Слушай, Змей, – заговорил, заметно воодушевляясь, раскрасневшийся Дюк. – А как ты это делаешь? И для чего? Можно узнать? У меня, кажется, есть к тебе одно предложение…
– Что будет можно – я расскажу, – Бэнсон на секунду непроизвольно напряг мышцы шеи. – Со временем. А сейчас мне нужна хорошая лошадь.
– Я дам тебе коня, – торопливо сказал Дюк, – недавно в Лондоне в кости выиграл. Как раз под тебя – высокий, тяжёлый, недавно набили новенькие подковы. Двух дней тебе хватит?
– Вполне, – сказал Змей и шагнул к двери, в которую только что вышел потрошитель усопших.
Крот и шакалы
Бэнсон и Тайверт, один за другим, выбрались на проходящий невдалеке от имения Дюка широкий тракт – и направились в разные стороны. Здесь уместно коротко поведать о том, кого на своём пути встретил гробокопатель, пока Бэнсон, сидя на своём новом вороном жеребце, спешил к некоей тайной цели.
Деньги! Даже в небольшом количестве деньги приносят во внутренний мир человека ощутимые изменения. А у Тайверта денег было более чем изрядно. Тайверт совершил торговую сделку, о которой мечтал много лет. Ему попалась редкостная находка, и он очень выгодно её пристроил. Правда, его попытались проверить на простоватость, предложив вздорные десять фунтов, – но Тайверт не таков, чтобы не отличить ценной вещи от заурядной. Тайверт потребовал сотню – и эти тяжёлые, полновесные сто гиней получил. Он быстро шёл по дороге, размахивая опустевшим мешком, и его внутренний мир был совсем иным, нежели неделю назад, когда он ковырял старые кости на обсохшем крае маленького болотца. Его переполняли и радость, и лёгкость, и чувство собственной важности. Наконец-то свершилось мечтаемое: он был богат.
Богатый и важный, хотя и не купивший пока что крепкую лошадь, пахнущий тленом и плесенью человек свернул в первый же оказавшийся на дороге трактир. С той осанкой и выражением лица, которые безошибочно выдают состоятельность и солидность, новый посетитель прошёл к свободному столику и сел, привычным движением бросив мешок вниз, под скамью. Торопливо подбежавший к нему трактирный слуга долго принимал заказ – новый посетитель при разговоре безобразно прищёлкивал и шепелявил.
Этот-то дефект произношения и сыграл с ним подлую шутку. Когда Тайверт, хорошо покушав и выпив, стал расспрашивать слугу о том, как побыстрее добраться до имения некоего почтенного человека, слуга, уточняя и переспрашивая, говорил громче, чем этого требовала щепетильность предстоящего дела. Это было неизбежно – любой, разговаривая с глухим человеком, или плохо знающим язык иностранцем, непроизвольно повышает голос. В каждом из нас сидит странное убеждение, что, если говорить громче, то слушающему будет понятней. Таким образом, смысл расспросов, а так же и имя этого «почтенного человека» стали известны троим неспешно обедающим людям, сидящим в уголке в отдалении. Они молча переглянулись и, оставив на столе пару монет, вышли из трактира, стараясь не глядеть в сторону Тайверта.
Но оказалось, что скрывались они от кривоязыкого богача лишь до времени. Стоило только ему, отяжелевшему от еды и вина, ступить за дверь, как трое тихо и быстро окружили его.
– Привет, Тайверт, – сказал их предводитель. – Рад тебя видеть, вонючка. Как идут дела, старый крот?
Гробокопатель, побледнев, отшатнулся, но, наткнувшись спиной на стоящего сзади, вымученно улыбнулся и проговорил:
– Д,асс-туй, Гл, усс-то-ол.
– Чувствую, что нам по пути, – негромко сказал собеседник, кладя тяжёлую руку на плечо поникшего Тайверта. – Садись, подвезём. Вот наши лошади.
– Й-а псеш-ск, ом, – попытался избежать путешествия в нехорошей компании гробокопатель.
– Лезь в седло, вонючка, – жёстко произнёс стоящий за спиной, незаметно для возможных свидетелей приставляя к гробокопателю нож.
Тайверт, всхлипнув, подошёл и вдел ногу в стремя.
Отъехав от трактира на милю, компания свернула с дороги в лесок. Сначала намерения троих приятелей выглядели вполне мирными. Привязав к ветвям дерева лошадей, они сбросили на землю объёмные кожаные мешки и, развязав их, принялись вытаскивать из них какие-то подвявшие травы, и заталкивать на их место свежие, предварительно их растирая и скручивая.
– Чтобы запах отбить, – подмигнув Тайверту, пояснил один из его навязчивых случайных друзей.
Гробокопатель, сев спиной к дереву, прикрыл глаза, показывая, что вполне понимает происходящее.
– Надо пошевеливаться, Глустор! – недовольно сказал третий. – К вечеру от мешков будет такая вонь, что к нам прибегут все собаки с округи!
– Сейчас пошевелимся, – сказал предводитель и, подойдя к Тайверту, с поразительной бесцеремонностью стал выворачивать у него карманы.
– Так-так! – проговорил один из его сообщников, поднимая выброшенные им на землю кошель с золотом. – У Крота, кажется, была удачная сделка!
А Глустор, не обращая внимания на свою грабительскую добычу, пристально взглянул в лицо беззвучно плачущего гробокопателя, зловеще спросил:
– Ты зачем спрашивал, как добраться до имения Крэка? Известно, что Крэка укокошили недавно. И вот ты, имея при себе целое состояние, топаешь туда. А куда Тайверт топает – там, как известно, будут разрытые упокоища. Сам расскажешь, или огонь разводить?
– С-амм, – закрыв глаза, вздрагивая, прошептал Тайверт.
Через десяток минут, после его полувнятного откровения, Глустор повернулся к спутникам:
– Эт-то новость, ребята. Кому её выгоднее продать?
– Тому, кто сейчас к нам поближе! – выпалил тот, кто всё это время пересчитывал деньги в тайвертовом кошеле.
– А кто из них ближе?
– Воглер.
– Ах, да. Он же в Лондоне. Так что, сначала – к Воглеру, а потом – мешки к Дюку?
– Давай-давай-давай, ребята! – заторопил своих сообщников третий. – Пока товар не пропал, надо успеть и к Воглеру, и к Дюку!
– Это верно, – кивнул, не сводя ледяного взгляда с Тайверта, Глустор. – Трогайте, а я тут немного следы замету.
Гробокопатель попытался втиснуться спиной в твёрдый ствол дерева, спрятаться в его волокнистых невидимых недрах… Глустор, достав длинный, тяжёлый кинжал-дагу, спросил:
– Ты читать и писать, как мне помнится, не умеешь?
Тайверт торопливо помотал головой.
– Это хорошо, – многозначительно кивнул Глустор. – Тогда давай-ка сюда язык. Отрежу язык – тебя убивать не придётся.
Через минуту он, отвязав свою лошадь, вспрыгнул в седло и присоединился к сообщникам. На поляне остался лежать человек с вывернутыми карманами и окровавленным подбородком. Он медленно пополз по поляне, собирая в кучу оставленные разбойниками пучки трав. Потом сунул в эту кучу голову, набросал ещё на спину, подтянул к животу колени, несколько раз сильно вздрогнул – и замер.
Аркебузные ядра
Конь оказался далеко не молодым, но сильным, выносливым и очень послушным. Неутомимо выбрасывая перед собой длинные крепкие ноги, он нёс Бэнсона много миль – как на одном дыхании. Путь вышел неблизкий – остаток дня, ночь и следующее утро: Бэнсон долго не мог найти то, что упрямо искал, пристально вглядываясь в проплывающие перед ними застройки лондонских окраин. Помог ему запах – характерный, знакомый, ни с чем не сравнимый запах жжёного горного угля. Конь встал, повинуясь внезапному движенью узды, и спокойно стоял – неподвижно и кротко, пока Бэнсон, привстав над седлом, внимательно всматривался в раскинувшийся перед ним край лондонского пригорода. И вот, в одном не очень отдалённом местечке открылся взгляду тёмный характерный дымок, поднимающийся над ремесленными рядами. Всадник тронул стремена, и конь пошёл мощно и ровно, как будто вполне отдохнул за эту маленькую минуту.
Отыскав строение, над которым поднимался дым, Бэнсон спрыгнул на землю, набросил повод на крюк у двери и, пригнув голову, вошёл внутрь.
– Срочное дело, хозяин, – произнёс он, разглядев согнувшегося у горна мастера, и уже после добавил: – день добрый.
– День добрый, – ответил кузнец, выпрямляясь и всматриваясь в посетителя.
Облик пришедшего и его манера говорить, кажется, что-то открыли мастеру, так как он, ухватив щипцами недокованный раскалённый металл, безжалостно швырнул его в каменную нишу с водой (забурлила вода, и засвистела, остывая, поковка) и, подойдя ближе и вытирая руки подфартучником, уважительно произнёс:
– Сделаю всё, на что хватит умения. Но за срочность – плата двойная.
– Заплачу, сколько скажешь.
– А что требуется?
– Мне нужны пули.
– К пистолету? Или охотничья дробь?
– Нет. Большие пули. Вшестеро крупнее мушкетных.
Кузнец несколько переменился в лице и отступил вглубь кузни.
– Выбери сам, – сказал он, указывая на висящие вдоль стены клещи, наконечники которых заканчивались не кривыми когтями-хваталками, а парами круглых выпуклых чашек.
Бэнсон понял, что в такие вот чашки, соединённые вместе и образовавшие шар, наливается жидкий свинец, и затем, когда он остынет, клещи разводятся, чашки разъединяются и из них добывается пуля.
– Вот эти, – сказал он, указывая на подходящий, по его мнению, инструмент.
– Тогда плата – втрое, – сказал, почему-то понизив голос, кузнец. – И – мои уверения в том, что я буду молчать.
– О чём молчать? – не скрыл недоумения Бэнсон. – И почему плата – втрое?
– Так ведь ты же просишь отлить не пули, а ядра!
– Какие ещё ядра?
– Ядра для кулевриновой аркебузы! «Горох» для оружия, которое страстно любят контрабандисты и ненавидят полицейские и солдаты!
– А что это за кулевриновая аркебуза? – с искренним любопытством поинтересовался Бэнсон.
– Так ты, выходит, посредник, – задумчиво покивал головой кузнец. – Тебе поручили весьма рискованную работу, а ты и сам не знаешь, за что взялся!
– Кулеврину я знаю. Небольшая корабельная пушка…
– А кулевриновая аркебуза – тоже почти пушка, но маленькая, и сделана в виде ружья. Достаточно сильные люди носят её в руках. Один выстрел из неё разбивает полицейскую шлюпку на две половины! Эту штуку контрабандисты хранят где-нибудь в прибрежных пещерах, а достают лишь когда предстоит серьёзная ночная работа. Потому что если у тебя эту аркебузу найдут – готовься со смирением принять десять лет каторжных работ, или – матросом на военный корабль…
– Мне нужны только пули. То есть ядра. Сможешь быстро отлить?
– Сделаю, сделаю, – торопливо проговорил мистер. – Неси свинец.
– Откуда у меня свинец? – уставил на него непонимающий взгляд Бэнсон.
– Ты что же, не привёз свинец? – так же непонимающе спросил его собеседник. – Ты разве не знаешь, что даже сумасшедший не станет хранить свинец в кузнице, когда за него – те же десять лет каторги! Тебя послали заказать аркебузные ядра, и не сказали, что свинец нужно везти с собой?!
– А где можно быстро прикупить свинца? – спросил, мгновенно уяснив ситуацию, Бэнсон.
– Есть где прикупить. Через две ночи…
– Мне нужно сейчас.
– Сейчас невозможно.
– У меня есть полдня. За это время нужно что-то придумать.
– Невозможно, – вздохнул тоскливо кузнец. – Поверь, мне бы очень хотелось заработать.
Потянулась тяжёлая пауза. Вдруг Бэнсон спросил:
– А в чём ты плавишь свинец?
– Известно в чём, – сказал мастер. – В тигле.
И показал толстостенный, железный, на длинной ручке стакан. Бэнсон заглянул в него. Дунул. И снова спросил:
– А золото в нём расплавится?
– Конечно. Порубить только надо помельче. А у тебя что же, есть золото?
Рот кузнеца насмешливо искривился.
– Раздувай горн, – жёстко сказал Бэнсон и вытащил длинную, с синим отблеском бритву.
Кузнец, в замешательстве отступив, всё же взял себя в руки и, набросав в горн угля, задвигал мехами. Когда новый уголь превратил огонь из красного в белый, он повернулся – и охнул. На его наковальне лежал холмик монет, издающий жёлтый матовый блеск, который ни с чем нельзя спутать. А изумительный гость резал снятый с себя широкий нагрудный ремень и доставал из него всё новые и новые соверены.
– Охх!! – простонал мастер, ужаленный небывалой догадкой. – Ты хочешь… ядра… из золота?!
– А у тебя что, есть свинец? – спросил, не поднимая лица, взмахивающий бритвой заказчик.
– Детям и внукам рассказывать буду, – взволнованно бормотал, набивая тигель рубленным золотом, мастер. – Кто и когда делал пули из золота? Вот, а я – делаю!
Пристроив сбоку к огню тяжёлый, закопчённый стакан, мастер приготовил щипцы и строго сказал заказчику:
– Теперь сядь в сторонке и не мешай.
И, колдуя у огня, рассказывал-пояснял:
– Если свинец наливать в форму нетвёрдой рукой, или просто небрежно, то проливаются капли. От них на земле остаются блескучие пятнышки. Это – улика: плавил пули, не имея патента! Пожалуй-ка на каторгу… Эти пятна и брызги приходится выскребать, а такое занятие считается унизительным. Отсюда – своего рода соревнование: когда собираются на большой заказ, на ночную работу знакомые кузнецы – то считают, кто больше «накапает». Я за последние пять лет не опозорил себя ни одной каплей. Сегодня же – день особый. Если у меня разбрызнется плавка – то, значит, – я пролил золото!
Тут он накрутил на ручку тигля холстину, вытянул его из горна, поднёс к щипцам и, остановив дыхание, струйкой, не толще молочной коровьей струи, одним длинным движением вылил ярко-жёлтую жидкость в закреплённую форму. Отставив опустевший тигель, он отпустил крепление, схватил щипцы и окунул их оконечный, наполненный жидким золотом шар в ту же нишу с водой, куда не так давно выбросил недокованное железо. Окунул, быстро выдернул из воды на воздух и, постояв так минуту-две, снова погрузил – да там и оставил. Выпустив клещи из рук, он стал снова рубить монеты на небольшие чешуйки и наполнять ими тигель. К тому времени остыла форма, и мастер, вытащив её, почерневшую от воды, наружу, поднёс к наковальне, разъял чаши – и на железную, тёмную, иссечённую ударами молотов поверхность выкатился сверкающий, новенький, тяжело стукнувшийся золотой шар.
Бэнсон, как будто притянутый некоей невидимой силой, шагнул и взял шар в ладонь – ещё горячий, блестящий, тяжёлый. «Вес – как раз к силе руки, – подумал он, – и в мешочек поместится». И, пока он баюкал в ладонях невиданное аркебузное яблочко, на наковальне стукнуло и покатилось ещё одно – точно такое.
А кузнец не просто колдовал у горна, – священнодействовал. Движения его боли точны и быстры. Звенел, поддеваемый совком из мешка, уголь; хлопали и хрипели меха; стучал молот и клацало, прорубая монеты, зубило; щёлкали, соединяясь, половинки литейной формы; шипела вода; звонко падали на наковальню горячие ядра. И между всем этим кузнец ещё успевал смахивать со лба пот и насухо вытирать подфартучником мокрые закопчённые пальцы. Его безостановочное мелькание завораживало не меньше, чем вид и ощущение тяжести горячего золотого шара в руке.
Бэнсон опомнился только тогда, когда кузнец прохрипел:
– Девятый! Сейчас будет полный десяток.
– Стоп! – торопливо сказал заказчик. – Больше не надо.
– Так что, – нерешительно спросил, опустив руки, разгорячённый кузнец, – больше не надо?
– Нет.
– Горн можно тушить?
– Туши.
Затихли меха, перестал гудеть горн, и, казалось бы, конец всей работе, но мастер провозился ещё полчаса. На каждом ядре он счистил напильником сегментальный шов и каждое заполировал.
– Этого хватит? – спросил Бэнсон, оставляя на краю наковальни золотую монету и половинку ещё недорубленной.
– Мне? Гинею? – изумлённо-недоверчиво проговорил кузнец и, спрятав в какой-то кармашек под фартуком плату за необыкновенный заказ, поклонился. Сказал проникновенно: – Спасибо за щедрость!
Бэнсон, усевшись в седло, гибко склонился вперёд, подавая на прощание руку вышедшему из кузни мастеру. Тот, подавая в ответ свою, устало сказал:
– Прощай, контрабандист. Долго я тебя буду помнить. Жаль только, сыновья не поверят…
– Они поверят, – сказал с коня Бэнсон и, достав один жёлтый шар, бросил его в машинально подставленные ладони.
– Это что же?! – замер кузнец.
– Это – на память. Или – на чёрный день. Как захочешь. Мне нужно всего восемь. А этот был лишний. Прощай.
Сильно взял с места застоявшийся конь. Рассыпалась и затихла вдали дробь копыт. А мастер всё стоял, глядя вслед доброму «контрабандисту», и прижимал к груди руку, в полусведённой ладони которой лежало маленькое жёлтое солнце.
Глустор
В сердце у Бэнсона поселилось какое-то необъяснимое беспокойство. Это беспокойство ещё усиливал ритмичный стук о грудь тяжёлых золотых ядер, вложенных в кожаные кисеты с оскаленными человечками. Змей гнал коня, и уже опасался, как бы тот не сбоил[15]шага, но чёрный, слегка подёрнувшийся остро пахнувшей пеной ветеран шёл ровно и мощно.
Проносясь через неширокое поле к серому дому-крепости, Бэнсон увидел, что его ждут: ворота внутреннего двора, когда до них было ещё далеко, дрогнули и растворились. Издалека послышался протяжный скрип тронутой ржавчиной петли. И Бэнсон воспринял этот скрип, как непрямой намёк на то, что не всё в окружении Дюка охвачено предусмотренным и идеальным порядком. Что при желании можно найти бреши не только в его доме-крепости и охране, но и в его мыслях и действиях. Вот только когда и для какого хода событий следует использовать эти бреши – Бэнсон не мог и представить. Если враг перед тобой – вполне ясно, как строить схватку. Но в ситуации невидимой длинной охоты, с планами, уловками, многодневными паузами – тут Змей чувствовал себя по-детски беспомощным. Вот если бы хоть на минутку увидеть принца Сову! Хоть на секунду развеять сомнение – тот ли Дюк человек, деяний которого на этой земле так стараются не допустить Серые братья? До сих пор, кажется, он ничем не проявил себя в качестве мучителя и злодея. Ну, покупает старые черепа. Ну и что? Бэнсон встречал людей, которые и дня не жили без чьей-либо крови. А Дюк? Разве что (Бэнсон сыронизировал сам над собой) в подвале у него стоит ванна – наподобие той, что была у Жюля де Рэца, о котором рассказывал мастер Альба! Нет, нет. Явно – Дюк не де Рэц. Конечно, хорошо бы самому убедиться, но в подвал к нему, скорее всего, не попасть…
– Хозяин велел проводить тебя в подвальную залу, – торопливо сказал спрыгнувшему с коня Змею озабоченный чем-то слуга, – сразу, как только приедешь.
Бросив поводья подбегающим конюхам, Бэнсон устремился за торопливо шагнувшим в глубину двора слугой, задержавшись, однако, на миг – чтобы ласково похлопать коня по горячей шее.
– Кажется, к нему нехорошие гости пожаловали, – слуга на ходу выкладывал новости. – А охрану с собой в подвалы хозяин никогда не берёт, потому что дела у него с этими гостями какие-то тайные…
Добравшись до лабиринта подвалов и пробежав анфиладу комнат, Змей и слуга приблизились к большой и тяжёлой («как у сэра Коривля», – мелькнуло в памяти Бэнсона) двери. Однако все воспоминания о прошлом мгновенно исчезли, словно выметенные из головы раскалённым невидимым ветром, едва лишь Змей шагнул за эту медленно приотворившуюся дверь.
То, что он увидел, было чудовищно. Невероятно, нелепо. Дюк сидел на возвышении, на стуле с высокой спинкой, похожем на трон. Напротив него, на коротких скамьях, или двухместных табуретах, сидели трое. У ног их стояли стоймя раздутые, наполненные чем-то похожим на тыквы, кожаные мешки. И все присутствующие, и то, что было выложено на полу длинным, неровно изогнутым полукругом – всё было залито ярким солнечным светом. Бэнсон замер на долгое, мучительное мгновенье, когда понял, что полукруг этот выстроен из отрубленных, человеческих, испачканных кровью голов. Мысли его понеслись вскачь – сами по себе, минуя волю хозяина:
«Вот с краю маленькая голова – это ребёнок».
«Откуда в подвале такой яркий свет?»
«Ах, вот что – вдоль стен наверх идут световые колодцы с зеркалами».
«У Дюка лицо и поза человека, который тщательно скрывает то, что до ужаса боится своих собеседников».
«Зачем же тогда пустил их сюда – да ещё троих?»
«Да, мешки. Они же принесли три тяжёлых мешка».
«А в них – убитые люди».
– О, вот и ты!! – выкрикнул и с дрожью в голосе, и с видимым облегчением Дюк. – Иди сюда, Змей!
Бэнсон шагнул, передвигая ноги словно в вязком болоте.
– Ну так ты обдумай цену, приятель, – жёстким тоном, не обращая внимания на вошедшего, говорил тот, что сидел на средней скамье. – Тебе не выбирать надо – что нравится, а что нет. А брать всё, что мы принесли. Иначе мы предложим всё это твоему приятелю, которого кличут Длинный Сюртук.
– Всё это – да и твою собственную голову в придачу! – со смехом добавил один из сидящих рядом.
Со смехом, – чтобы придать фразе видимость шутки. Но шутка вышла не очень хорошей, – в том плане, что несерьёзного в ней было мало.
Бэнсон потом не раз хвалил себя за то, что он в этот миг сделал.
На звук его шагов, и в направлении Дюкова взгляда гости обернули свои недобрые лица. По неуловимым, не поддающимся точному описанию признакам Бэнсон определил, что все трое – опытные, битые звери, много лет жившие по волчьим законам. И выжившие! Что они оценили опасность вошедшего, ещё не видя его – по «аромату» окружающей его личной ауры, по незримому дуновению «присутствия». И что под одеждой у них – несомненно – притаилось оружие. Медлить было нельзя.
Да, опытные, битые звери. Змей ещё только сделал взмах рукой – а они уже на ногах, и качнулись в стороны друг от друга, обтекая его заученными, загоночными, веками отшлифованными движениями волчьей стаи. Но из, казалось бы, пустой руки дюкова телохранителя со страшной силой вылетел, фыркнув, и глухо ударил в грудь одного из гостей небольшой оранжево-жёлтый комок. Гость «срезался», как будто на полном ходу налетел животом на туго натянутый поперёк его бега канат, перегнулся пополам – и упал. Но он не достиг ещё пола, как Змей сорвал с шеи нового оскаленного человечка и точным броском поразил в грудь второго. (Спасибо тебе, бедный Урмуль!)
Нет, бойцом притвориться нельзя. Если ты не способен на серьёзную схватку – это проявится в первый же миг. А оставшийся, последний из троих, был способен. Бэнсон даже понять ничего не успел, – взгляд его был выложен на траекторию броска, – и естественно: иначе – откуда бы взялась точность? – как вдруг получил страшный удар в лицо.
Кого другого – да, опрокинуло бы на выглаженный хорошими камнетёсами пол. Бэнсон же лишь качнулся, машинально схватившись за припечатавшую его тяжёлую скамью. А бросивший её, оказавшийся вдруг неожиданно близко, со свистом рубанул прямым, широким, тяжёлым клинком. Когда успел достать? Ударил вкосую, от плеча, из правильной, хорошей позиции – ноги широко разброшены, левая впереди, корпус, плечо и рука скручиваются справа налево из добротно поставленного замаха. Плохо в его положении было то, что действовал он заученно, машинально, не соотнося действий с конкретным положением дел. Да, любой, кто был бы на месте Змея, теперь бы упал – а удар вниз, по лежащему, лучше сделать секущий – он в этой позиции сильнее колющего во много раз. Но нападающий подскочил слишком близко…
Пространства для развития максимальной скорости удара не хватило – и недовершённый ход широкого прямого клинка всего лишь рассёк подставленный Бэнсоном табурет. Остриё задело плечо – но едва-едва, даже не взрезав одежды. Нападающий охнул от ушедшего в руку столкновения с твёрдым деревом (хорошие табуреты у Дюка!), и тут же получил страшный удар ногой в грудь. Отлетел назад и упал, раскатывая в стороны принесённые на продажу головы. После этого прозвенел упавший рядом клинок.
Бэнсон, с силой выдохнув из носа заполнившую его кровь, одним прыжком подскочил к лежащему и, схватив его за шиворот и за пояс, поднял его перед собой, параллельно полу, перевернув лицом вниз. (Как чёрного пса в памятном дворе в Лонстоне.) Шагнул к клинку (хорошая, длинная дага), носком ноги поддел его и зажал, утвердив остриём вверх, между ступнями. Нависший над остриём его бывший владелец, отчаянно закричал, – и, крепко вцепившись одной рукой в бэнсонову куртку, второй стал делать судорожные круговые движения, как будто куда-то стремительно плыл.
Змей, однако, не спешил бросать его вниз, на страшную, посверкивающую колючку. Он хорошо понимал, что этот гад ему очень нужен. Что человеческие головы покупает ещё какой-то Сюртук. И что к нему не подобраться без этого вот «пловца».
– Нет, Змей! Нет! – громко выкрикнул Дюк, взглядом давая понять, что молодец, телохранитель, что это правильно – не убивать, не дождавшись его команды. – Он нужен мне!
Змей равнодушно кивнул, и, поставив противника на ноги, затылком к себе, коротко сказал:
– Раздевайся.
– Да! – злорадно выкрикнул Дюк. – Пошевеливайся, Глустор!
– Что есть из оружия – на пол бросай, – добавил Змей и, подняв дагу, отступил на полшага назад.
Отступил, оглянулся. Один из сражённых оскаленным человечком лежал неподвижно. Второй корчился, с натугой пытался выдавить из себя воздух.
– Точно бьёшь, Змей! – проговорил-прокричал Дюк, подбежав к неподвижно лежащему телу. – Ты же убил его! Смотри, он не дышит!
В голосе его слышалось неподдельное восхищение.
– Точно под свод груди! – продолжал Дюк, возвращаясь на трон, перешагивая через раскатившийся страшный «товар». – Ты ему дыхательную мышцу перебил!
– Зачем он напал на нас, Дюк? – подал голос раздевшийся до белья Глустор.
У ног его, кроме одежды, лежали нож, стальной ломик и связка длинных ключей.
– Да, – озадаченно повторил вопрос Дюк, глядя на Бэнсона. – Зачем ты напал? Ведь я и слова тебе сказать не успел! Мысли, что ли, читаешь?
Змей ответил не сразу. Сначала он поднял кусок разрубленной скамьи, подошёл к Глустору сзади и с силой ударил его тяжёлым обрубком сбоку колена. Глустор коротко простонал и, задохнувшись от боли, упал на четвереньки. А Дюков телохранитель отбросил подальше его одежду, нож и ломик – всё, кроме ключей. Он не мог сразу придумать объяснение. Как открыть, что картина торговли человеческими головами на миг возмутила его до безумия? И, чтобы взять паузу, необходимую для поиска объяснений, он протянул Дюку связку ключей, – не потому даже, что заметил в них некую странность, а просто так, машинально.
А странность в них несомненно была. (Дюк сразу же впился в ключи острым взглядом.) Их было, примерно, с дюжину – и все – от одного замка, похожие друг на друга, как близнецы.
– Мои ключи!.. – изумлённо выговорил Дюк, перебирая в руках позванивающий метал. – То есть мой! От этой вот самой двери. Но зачем так много одинаковых?
– Они не одинаковые, – тяжело дыша, сказал стоящий на четвереньках Глустор. – Обещай, что отпустишь меня – и я расскажу тебе тайну.
– Хорошо, – сказал Дюк, возвращаясь к трону и присаживаясь на его краешек. – Обещаю. Рассказывай.
– Мы тебя сегодня хотели убить. Не потому, что ты нам досадил чем-то, нет. Наоборот, ты – покупатель хороший. Всегда расплачивался честно. Но нам заказали твою голову. (Дюк глухо вскрикнул.) Да, именно твою. За изрядные деньги.
– Длинный Сюртук? – простонал Дюк, откидываясь на спинку трона.
– Нет. Воглер.
– Граф!.. То есть, мистер…
– Он самый.
– Но зачем?! Мы всегда были в приятельских отношениях!
– Насколько я знаю, ты сам подал ему эту мысль.
– Какую?
– Приобрести разом, целиком, всю коллекцию вместе с головой бывшего владельца. Это ведь ты поручил Тайверту откопать укокошенного недавно мистера Крэка! Немудрено догадаться, что и его коллекцию черепов ты переправишь к себе! Вы бахвалитесь друг перед другом каждым хоть сколько-нибудь примечательным черепом. Соперничаете! Сюртук, Воглер, ты, Соколов, Гольцвинхауэр, Дудочник… А здесь – сразу две коллекции соединяются в одних руках. Кто стал бы сидеть сложа руки, узнав о таком обороте? Вот Воглер и не стал.
Дюк дрожащей рукой вытер пот со лба.
– Вот и вся хитрость, – продолжал Глустор, кривясь и поглаживая ушибленное колено. – Мы ведь не один раз у тебя здесь бывали. Слуга, когда отпирает замок, не очень таится. А как выглядит ключ – запомнить нетрудно. Вчера вечером Воглер дал нам умелого кузнеца, и мы нарисовали ему форму ключа и размеры. За ночь он отковал и выточил десяток ключей одинаковой формы, но чуточку разных размеров. Уж один-то из них к твоему бы замку подошёл.
– Для чего это было нужно? – поинтересовался озадаченный Дюк.
– Ну, ты ведь даёшь знак слугам – когда отомкнуть двери. Или когда принести деньги за наш товар. Если бы мы сняли твою голову – кто бы позвал слугу, чтобы он отпер дверь? А так – мы открыли бы её сами, и неслышно прокрались наверх. Вся охрана твоя – обычно в доме, на конюшню они не заходят. Мы перекололи бы ваших лошадей, сели бы на своих… Воглер обещал нам хор-рошую сумму.
– Но, – Дюк снова вытер пот, – что же вы меня не зарезали сразу? Ведь мы два часа перебирали товар, и как раз за эти два часа мой телохранитель вернулся!
– Жадность подвела, – сокрушённо покачал головой Глустор. – Мы хотели дождаться, когда сойдёмся в цене и ты дашь знак принести сюда деньги. Вот после этого мы и ушли бы – и с твоими деньгами, и с твоей головой. Кто мог знать, что ты обзаведёшься таким зверем? – Глустор с ненавистью посмотрел в сторону угрюмо сопящего, вытирающего кровь Бэнсона. – Ведь не было, не было у тебя его раньше!
– Я его недавно нашёл, – сказал задумчиво Дюк. И добавил недоверчиво-восхищённо: – Да-а, как судьба повернулась! Хорошо, Змей, что ты денег-то не берёшь! Я бы с тобой до конца дней не расплатился!
Бэнсон, не отвечая, подошёл к начавшему приподниматься второму гостю, и принялся вынимать у него из-под одежды и отбрасывать в сторону оружие. Глустор, сдерживая стон, сел, вытянув ушибленную ногу. Дюк, нервно облизав губы, заговорил:
– Я слово дал. Отпущу. Но не только отпущу, а ещё и заработать позволю. Сколько тебе обещал за мою голову граф… То есть Воглер? Нет, можешь не произносить. Просто умножь эту сумму на два. И получи её – в обмен, как ты уже догадываешься, на что.
– К Воглеру так просто не подобраться, – деловито сообщил Глустор. – Он тебя осторожнее во сто крат!
– Не мне вас учить! – холодно парировал Дюк. – Воспользуйтесь его нетерпением и азартом, когда сообщите, что принесли мою голову. Да не раскрывайте мешок, требуя сначала принести деньги.
– Ладно, мы ещё над этим подумаем. Ты скажи, вот этот товар ты покупаешь? Зря, что ли, работали? Вот эти три головы, например. Это семья! Видишь, отец, дед и сын. Отличаются одинаковыми, непомерно большими, загнутыми носами. Мы их несколько дней отслеживали, ждали безлюдной минутки. Вот, три головы – и у всех одинаковые, очень приметные носы. Что это тебе – не товар?
– Дурак ты, Глустор.
– Был бы дурак, – Глустор свёл брови, – я бы не вытянул на столько лет такое опасное ремесло.
– Ну, ты просто удачливый дурак. Вот скажи, что станет с этими носами, когда черепа обварят и отскребут от хрящей? Носатых черепов не бывает!
– Ч-чёрт, правда. Но вот за эти-то, что ты отобрал, за эти заплатишь?
Бэнсон, сложив в один кулак отобранное у гостей оружие, свободной рукой поднял два своих мешочка с золотыми аркебузными ядрами. Незаметно опустил в карман. Но, оказалось, не так уж и незаметно.
– Слушай, Змей! – весело крикнул опьянённый от осознания минувшей опасности Дюк. – Ты что же, в них свинец положил?
– Нет. – Бэнсон повёл залитым кровью лицом. – Золото.
Дюк оглушительно расхохотался.
– А как, – он пытался выговорить сквозь смех, – как ты узнал, что у них на уме? Ты ведь сразу их положил, едва вошёл в залу!
– Ты знаешь ведь, куда я ездил, – нашёлся Бэнсон. – После этого у меня все чувства обостряются невероятно. До того, что я даже мысли вижу.
– Любые мысли? – осторожно спросил, перестав смеяться, раскрасневшийся Дюк.
– Нет. Только опасные.
– Так ты берёшь эти? – Глустор, склонившись, катнул, словно мяч, одну из голов.
– Ну, а ты сколько денег рассчитывал за них взять?
Бэнсон, отвернувшись к двери, едва сдерживая себя, тихо скрипнул зубами.
Глава 4 Раритет
Дюк велел Бэнсону спать в коридоре, примыкающем к собственной спальне. Он распорядился принести наверх, в этот коридор, большую кровать, на которой Бэнсону надлежало располагаться на ночь. Телохранителю поручалось придвигать своё ложе вплотную к двери спальни, а затем уже засыпать.
Последний визит
Вечером, едва за Дюком закрылась дверь и щёлкнул пружинкой замок, Змей с грохотом придвинул старый дубовый одр к двери – но лечь не спешил. Сняв башмаки, в мягких, тёплых, толстых чулках он ночь напролёт ходил взад-вперёд по выбранной им не скрипучей половице. Он не мог спать. Где-то там, в ночи, бродили среди живых людей два чудовища – Глустор и его уцелевший помощник. Ближайшие несколько дней, впрочем, они вынуждены будут зализывать раны: Глустор – разбитую ногу, помощник – сломанное ребро, но при них были пустые, аккуратно свёрнутые, заскорузлые от человеческой крови мешки, и этим мешкам предназначено было наполниться.
«Откуда берутся такие твари? – с звучным шорохом потирая щетину на голове, спрашивал себя Бэнсон. – Какие матери их породили?» Он снова и снова вспоминал, каким неимоверным усилием воли удержал себя, не убив там, в подвале и Дюка, и его страшных гостей. Это было очень непросто – отпустить из имения волчью пару, обрекая тем самым на смерть неизвестных ему, беззащитных, мирных людей. Легче, о, насколько было бы легче свернуть шеи всем троим, а потом, воспользовавшись уроками мастера Альбы, перебить обитателей дома-крепости, и поджечь сам дом. Но тогда как он нашёл бы остальных бездушных коллекционеров? Они где-то там, среди мирных людей – Длинный Сюртук, Воглер, Дудочник, Соколов, Гольцвинхауэр… Любому известно, что если сорвёшь вершинку сорной травы, её корни, оставшиеся в земле, скоро выпустят десяток новых ростков. Нет, пока нужно было терпеть. Нужно было вытерпеть и несколько предстоящих убийств, которые совершит Глустор с его, Бэнсона, невольного позволения. «До чего же страшное дельце мне вручила судьба!»
Так он и прошагал эту ночь, по узенькой половице, взад-вперёд, ни разу не оступившись, не скрипнув.
Когда за запертой дверью спальни раздался вдруг тревожный звон колокольцев, Бэнсон понял, что пришло утро.
После своего обязательного утреннего моциона Дюк засел у себя в кабинете и работал там до глубокого вечера.
Работа была своеобразной. Дверь в кабинет непрерывно открывалась и закрывалась, звонко клацая язычком замковой защёлки. К Дюку шли и шли люди – едва ли между посещениями пробегали четверть часа. Они что-то обсуждали с хозяином дома, сообщали о покупках продуктов – ценах, количестве; отчитывались, спрашивали распоряжений. Лишь поздно вечером, сопровождаемый Бэнсоном, нёсшим над головой зажжённую свечу, Дюк прошествовал в спальню.
Так пролетели несколько дней.
Днём Бэнсон сидел в придверном холлике кабинета (посетители, боязливо поглядывая на него, пробегали туда и обратно), и изнывал от вынужденного безделья. Пробегающие были преимущественно из мелкоторгового сословия, Бэнсон почти всех их видел впервые. Но однажды пришёл человек, которого Бэнсон не сразу узнал, а узнав – даже вздрогнул. Тайверт не был похож на себя: изострившиеся, резко выступившие скулы, ещё более обесцветившаяся – до мертвенной бледности – кожа, и угольно-чёрные круги вокруг воспалённых глазниц. Он был мало сказать – слаб, – измождён. Не дойдя до двери кабинета, он пошатнулся и, вытянув слабую руку, попытался нащупать скамью. Бэнсон, подхватив, помог ему сесть, а когда тот собрался с силами, ввёл его в кабинет.
– А-а, мистер гробокопатель! – расплылся в радостной улыбке Дюк. – Ну что, доставил?
Тайверт кивнул и показал рукой куда-то вниз, в пол.
– Сложил в подвале?
Снова утвердительный кивок головой.
– Из костей ничего не пропало?
Отрицательное покачивание.
– А что ты молчишь-то? – без любопытства, как бы между прочим, спросил хозяин кабинета.
Тайверт, чуть приподняв голову, широко открыл рот. (Бэнсон, стоя сбоку, увидел на месте его языка короткий красный обрубок.) Дюк, всмотревшись, с маху плюхнулся в кресло и принялся хохотать. Через минуту, вытирая выступившие слёзы, захлёбываясь от веселья, проговорил:
– Да он, честно сказать, тебе был не очень-то нужен!
Пришедший стоял неподвижно, молчал.
– Ну ладно, – проговорил Дюк, отсмеявшись. – Получи сто, как договаривались.
И, повозив рукой в тумбе стола, выложил на столешницу тяжёло шмякнувшийся портфунтик. Тайверт, приблизившись, протянул руку – и вдруг отодвинул портфунтик назад, к Дюку. После этого отступил на два шага, поклонился, проведя шляпой широкую дугу над самым полом, и, нетвёрдо ступая, вышел.
– Наш Крот, кажется, сошёл с ума, – озадаченно сказал Дюк, уставив взгляд на отвергнутые деньги. – Неужели, когда отрезают язык, вместе с ним отрезают и кусище мозгов? – И, вскинув голову, торопливо добавил: – Кстати, надо бы выспросить его, кто это с ним так обошёлся! Может быть, это послание в мой адрес? Змей, догони!
Но Бэнсон, медленно подняв взгляд от портфунта, покачал головой.
– Пусть идёт, – медленно проговорил он. – Всё и так ясно. Это Глустор.
– Откуда знаешь? – быстро спросил Дюк.
– Ты заказал Тайверту кости Крэка. На следующий день Глустор заявился к тебе, уже зная об этом. Откуда? По-видимому, они встретились на подходе к твоему дому. Глустор, найдя в карманах Тайверта немалые деньги, вытянул из него всё, что мог. И, отрезав язык (убивать не стал: вдруг у него ещё не раз появятся деньги?), поспешил к Воглеру. Остальное было уже при тебе.
– Да-а, – протянул Дюк, – голова у тебя соображает. Не даром такая массивная.
И, не обращая больше внимания на Змея, растянув губы в довольной улыбке, стал укладывать портфунтик обратно в тумбу стола.
Поединок
А поток посетителей каждое утро возобновлялся и тёк с новой силой. Снаружи, за стенами дома-тюрьмы что-то происходило. Бэнсон находился при «персоне хозяина», он не мог выйти и посмотреть – что же это такое ворочается там – невидимое, огромное, мрачное, из чьего чрева вываливаются эти вот посетители с озабоченными лицами, неизменно выносящие из дома разного размера мешочки с монетами.
Вдруг в отдалении послышались выстрелы. «Пистолетные, – сказал сам себе Бэнсон, поспешно вваливаясь в кабинет, – одиночные… было три… вот ещё один… нет, два!»
Дюк с недоумением вскинул на него глаза, но тут же, взглянув за окно, махнул успокаивающе рукой:
– Это моя охрана, Змей. Раз в месяц они ходят потренироваться на стрелковое поле. Во-первых, будь спокоен, – всё хорошо, – а во-вторых прими мою благодарность за то, что ты каждую секунду настороже.
Бэнсон тоже взглянул за окно, кивнул и, шагнув было к двери, повернулся обратно.
– Я бы тоже хотел пострелять, – сказал он, бросив взгляд в направлении отдалённых пистолетных хлопков.
– Пострелять? – переспросил Дюк, вернувшийся было к своим важным бумагам.
– Да. Потренировать глаз и руку. Если только в ближайший час серьёзных гостей не предвидится.
– Что-ж, хорошая мысль, – кивнул Дюк. – Ты, вообще-то, будешь нужен лишь завтра ночью. А пока, действительно, можешь поупражняться. Стрелковое поле найдёшь по звуку. Спросишь там Стэнтока, это мой офицер. Скажешь ему… Впрочем, ничего говорить не придётся. Только появись – тебе всё предоставят без объяснений. Ты в глазах моей охраны – фигура!
Бэнсон склонил голову до позиции этикетного полупоклона, повернулся и вышел. «Как хорошо! – размышлял он на ходу. – Какая удачная мысль! Есть возможность узнать – что же это Дюк затевает».
Стрелковое поле было устроено умно и просто. Два длинных земляных гребня высотой в полтора человеческих роста упирались в ещё более высокий поперечный холм, у подножья которого были выставлены мишени – сбитые в большие квадраты деревянные плахи. У входа в этот длинный земляной коридор под прочным навесом с черепичной кровлей стояли армейские оружейные столы. Возле них находилась почти вся дюкова охрана – человек десять-двенадцать. Кто-то заметил, что Бэнсон подходит, и тотчас от общего строя стрелков навстречу к главному телохранителю направился высокого роста, широкоплечий, проворно ступающий человек. На аристократически бледном лице его резко выделялись густые чёрные усы с острыми, загнутыми вверх кончиками.
– Стэнток! – представился человек и поклонился.
– Бэнсон, – свободным и дружелюбным жестом протянул ему руку телохранитель.
– О, у Змея есть имя, – улыбаясь, сказал офицер, искренне и крепко отвечая на рукопожатие. – Пришли пострелять, или с поручением?
– Пострелять, – коротко кивнул Бэнсон.
– Освободите один стол! – приказал Стэнток, обернувшись к охранникам.
– Вот этот!! – быстро отозвался один из них с такой вложенной в интонацию командной силой, что Бэнсон мгновенно понял: есть здесь ещё один командир, соперник Стэнтоку, конкурент с неутолимым импульсом власти.
«К этому нужно внимательней присмотреться». И, прежде чем повернуться к поспешно освобождаемому столу, Бэнсон задержал взгляд на лице властительного командира. Он и похож был на Стэнтока – такого же высокого роста, крепок, с такими же чёрными, хотя и не загнутыми усами. Вот только глаза были совершенно иные: с отчётливым блеском, – так блестит иногда шерсть безупречно здоровых, упитанных чёрных котов. В этих глазах Бэнсон за короткий миг высмотрел и влюблённость в себя, и укоренившуюся привычку непрерывно упиваться ощущением физической силы молодого, здорового организма, и непреклонную волю, и твёрдость характера, часто доходящую до жестокости, и неукротимую склонность повелевать. «Такие глаза я видел лишь раз, – подумал Бэнсон, – когда мы жили с Томасом и остальными на острове Локк, – глаза, которыми смотрел на окружающих мистер Стив.»
– Позвольте представить, – спокойным и вежливым тоном, несмотря на явную бестактность, услышанную всеми в надменном и властном приказании второго командира, сказал Стэнток Бэнсону и протянул руку в сторону второго командира: – мистер Ричард Гонгоутри, начальник охраны мистера Дюка.
– Мне Дюк сказал – «найди Стэнтока», – пояснил вполголоса Бэнсон. – И я подумал, что это вы – начальник охраны.
– Нет. Я отвечаю за, так сказать, техническую сторону дела. Оружие, приёмы боя, привитие навыков. Во всём остальном повелевает Ричард.
Бэнсон понимающе кивнул.
И ничто не предвещало беды. Телохранитель Дюка подошёл к указанному Ричардом столику, принялся поправлять кремни в лежащих на нём пистолетах. В это время один из охранников со всей скоростью, на которую был способен, побежал в глубину стрелкового коридора. Добежав до щитов, он нацепил новую мишень – для Змея, и так же стремглав вернулся обратно.
– Спасибо, – кивнул ему Бэнсон. – Только не нужно мне… услуживать. Сам бы повесил. Я – такой же, как вы…
Все последующие события слились в череду коротко мелькающих сцен.
– Ну да, «такой же, как мы»! – негромко, но внятно проговорил один из охранников. – При первой же встрече положил четверых наших – а они были в сёдлах! И в руках у них были не зубочистки!
– Точно! – откликнулся ему кто-то неуместно весёлым голосом. – А в Плимуте телохранитель горбуна попробовал со Змеем позадираться, так мы расхлестали из мушкетов и телохранителя, и охрану, и самого горбуна!
При последнем слове весёлого человека Бэнсон непроизвольно посмотрел в его сторону, так как тот вдруг осёкся, словно ему заткнули рот. Это было почти что так: говоривший стоял, стиснув зубы, а нижнюю челюсть ему поджимал ствол пистолета. Ричард, поднимая руку с зажатым в ней пистолетом всё выше, заставил «весельчака» совершенно задрать голову, и, когда тот поднял побагровевшее, с часто моргающими глазами лицо к небу, Ричард нажал на курок. Это было бы похоже на шутку, если бы всех не заставил вздрогнуть внезапный грохот выстрела. И то, что осталось от головы только что жившего человека, заставило всех принять факт, что это не шутка.
– Никто из нас, никогда, – с поразительным спокойствием в голосе проговорил Ричард, – не встречался и не имел никакого дела с убитым в Плимуте горбуном. Мы и понятия не имеем, кто такой был этот горбун.
Все присутствующий стояли, охваченные секундой оцепенения, а Ричард наклонился, вложил в руку застреленного им человека длинный дымящийся пистолет и, распрямившись, воскликнул:
– Вот до чего доводит неосторожное обращение с оружием! Ты и ты… (он указал на двоих охранников), – отнесите тело в дом и сообщите хозяину о несчастье.
Отдав это распоряжение, он отошёл к столу и, как ни в чём ни бывало, принялся мерно звенеть шомполом.
– Стойте!
Бэнсон, неожиданно даже для самого себя, сделал шаг и остановил двоих охранников, поднявших и уже понёсших мёртвое тело.
– Стойте. Кто знает, где находится моя комната?
– Я знаю, – ответил один из них, стараясь встать так, чтобы кровь убитого «весельчака» не стекала ему на одежду.
– Тогда будь так добр, на обратном пути зайди ко мне и принеси свёрток из серого полотна. Он обмотан белой каболкой. Лежит на кровати. Сделаешь?
Охранник торопливо кивнул и, отворачивая побледневшее, с тоскливым взглядом лицо, протащил мёртвое тело мимо спокойно стоящего Ричарда.
– Ну, так, – громко сказал Ричард, проводив внимательным взором ушедших. – Один стол мы отдали, так что распределитесь за оставшимися – и продолжим.
Покорно и немо охранники Дюка выстроились за столами. Забряцали шомпола, заскрипели курки. Один только Змей стоял неподвижно. Он один не взял со стола пистолета.
Спустя какое-то время прогрохотала череда выстрелов. Несколько человек направились к мишеням. Оставшиеся принялись чистить и заряжать отработавшие пистолеты. Бэнсон по прежнему стоял неподвижно. Пошевелился он только тогда, когда вернувшийся охранник протянул ему серый, с белой обвязкой, продолговатый свёрток. Взяв свёрток в руку, Бэнсон подошёл к Ричарду. Тот стоял, сложив на груди руки; он делал вид, что наблюдает, как заряжают оружие, и на Бэнсона не взглянул.
– У тебя шпага есть? – негромко спросил его Бэнсон.
Лишь тогда Ричард повернул голову (зрачки его резко сузились, встретившись со взглядом очень близко стоящего Змея), и, надменно выставив подбородок, проговорил:
– К вашему сведению, я дворянин. Безусловно, у меня имеется шпага.
– Принеси, – коротко сказал Бэнсон и, не дожидаясь ответа, повернулся к столу.
Он положил на стол свёрток, и всё выглядело так, что ему нужно было разрезать опутавшую свёрток каболку, и Ричард крикнул:
– Валет! Принеси мою шпагу.
Шпага в щедро посеребряных ножнах стояла возле соседнего стола, и прибежавший Валет просто подал её своему командиру. Ричард взял её в руки, вытянул из ножен, – но оказалось, что Змею она не нужна. Он уже развязал узел и развернул серое полотно. В руке у него тускло блеснул недлинный, кованный с лёгким зигзагом золотистый клинок. Охранники Дюка, молча наблюдавшие эту сцену, придвинулись на шаг, разглядывая загадочное оружие.
– Пошли, – сказал вдруг Змей Ричарду и кивнул в сторону стрелкового коридора.
Бегавшие к мишеням уже вернулись, и коридор этот был пуст.
– Что такое? – непонимающе спросил Ричард.
– Я тебя убью сейчас, – вялым, безучастным голосом сказал Змей. – В поединке.
Командир охраны чуть вжал голову в плечи и, сощурив глаза, бросил:
– Это глупая шутка.
– Какие шутки, – равнодушно ответствовал Змей. – Ты только что убил человека. Очевидно, решив, что так надо. Сейчас я убью тебя. Просто решив, что так надо. И, заметь, ты выстрелил в голову беззащитному и покорному человеку. Я же даю тебе возможность сопротивляться. К тому же твоя шпага едва ли не вдвое длиннее моего корта. Так что идём на ровное место.
Чёрные усы Ричарда дрогнули.
– Позовите Дюка! – громко приказал он, обращаясь к охранникам.
– Да, – откликнулся Змей. – Позовите Дюка.
И, сделав короткий шаг, оставив Кобру лежать на столе, он схватил Ричарда одной рукой за горло, второй – за пояс и, подняв его перед собой, швырнул через стол – словно большую тряпичную куклу. После этого взял клинок, развернувшись боком, протиснулся между столами и шагнул к вскочившему и растерянно сметающему с одежды крупицы земли Ричарду. Тот поднял валяющуюся рядом шпагу и пружинисто отскочил. И по тому, как он это сделал, стало понятно, что он – умелый боец.
Змей поднял зажатую в левой руке Крысу. Сказал оцепеневшим охранникам:
– Вы, ребята, смотрите внимательно. Я исхода схватки не знаю, но думаю, что для фехтовальщиков это будет урок.
Ричард не сдержал своих чувств: по его лицу было видно, что противник-левша для него весьма неудобен. За столами кто-то шумно вздохнул.
– Положить пистолеты! – раздался повелительный голос Стэнтока.
Глухо стукнуло встретившееся с деревом железо.
– Хак! – вдруг выкрикнул Ричард.
Он вознамерился одним хорошим выпадом кончить дело, и выпад у него вышел блестящий. Хищно и длинно блеснула шпага, впечатались и на секунду срослись с землёй ноги Ричарда, твёрдо поставленные в безупречную стойку. И – крик изумления послышался над столами: массивный и, казалось, малоподвижный Змей с немыслимой быстротой сбил лезвие шпаги на сторону, – и, кроме того, с такой силой, что кисть нападавшего не удержала рукояти, и шпага ударила в плечо своего же владельца. Был взрезан рукав, и оттуда, помедлив мгновение, торопливо выбралась кровь.
Бэнсон, отступив на шаг, приглашающе качнул Коброй. Ричард подобрал шпагу, торопливо попятился.
Пятился он к дальней стене, вдоль которой выстроился ряд деревянных щитов с мишенями, и, если учесть, что слева и справа от него были высокие земляные стены, то его отступление выглядело так, будто он сам загоняет себя в мышеловку.
– Позовите Дюка!! – снова прокричал Ричард, и в его голосе явственно различились и ярость, и ненависть, и растерянность, и самое главное – страх.
– Уже зовут, мистер Гонгоутри, – отозвался Стэнток (таким тоном, словно хотел сказать: «Довольно тебе верещать. Твоя же игра, по твоим же правилам»).
Ричард, без сомнения, чутко уловил, что из-за столов помощи ждать нечего. Змей размеренно приближался, и командир охраны, решив наудачу проверить – так же его противник неуязвим в движении, как в неподвижной стойке, вновь сделал неожиданный, длинный, стремительный выпад. Всё повторилось. Снова лязгнул металл, и шпага вновь вылетела влево-назад, и точно так же ударила острой кромкой хозяина – но теперь она прошла немного повыше, и рассекла Ричарду щёку.
Бэнсон снова позволил противнику поднять шпагу, и только после этого снова двинулся вперёд – ровно, спокойно, неотвратимо.
– Да кто ты такой? – кривясь от боли и ненависти, шипел, отступая, начальник охраны. – Кто позволил тебе убивать знатного дворянина?
– Закон, – тихо ответил Змей, приближаясь.
– Какой к чёрту закон?! – взвизгнул Ричард, выставив перед собой шпагу и отступая умелым, заученным шагом.
– Простой закон, – сообщил Змей. – «Убийца должен быть убит».
– Да ты кто здесь, судья?!
– А ты?..
Командир охраны больше не нападал. Он только пятился, время от времени перекладываясь то вправо, то влево, – но страшный в своём спокойствии, пришедший неизвестно откуда противник легко разворачивал корпус в навязываемую ему линию, и невесомо приподнимал невиданный жёлтый клинок. Так они дошли до дальней стены, и здесь, прикоснувшись спиной к мишени и поняв, что отступать дальше некуда, Ричард предпринял последнюю, отчаянную попытку спастись. Хорошо усвоив, чем заканчиваются его прямые, пусть и самые эффективные в шпажном бое выпады, он решился на хитрость. Упав на одно колено, он пустил шпагу не в длинный укол, а сбоку, секущим ударом, на манер топора или сабли, целясь противнику под колено. Лезвие шпаги почти дошло до ноги Змея, – в долю секунды Ричард увидел это, – но в самый последний момент он увидел ещё и другое: мелькнул вниз вдоль ноги и воткнулся в землю широкий золотистый клинок, и вместо колена шпага со всей злою силой ударила в его тяжёлый металл. Неповреждённая нога передвинулась и наступила на лезвие возле самой гарды.
Противники были очень близко. Они обдавали друг друга жарким дыханием. И Ричард, решив, как последний шанс, использовать эту близость, выпустил рукоять шпаги и, заведя руку за спину, выхватил короткий, почти без гарды, кинжал. Но проклятый телохранитель, отобравший-таки у него шпагу, не стал разворачивать её остриём в сторону находящегося очень близко противника, а просто ткнул массивным эфесом рукояти прямо в лицо.
Ричард, отброшенный ударом на доски мишени, нашёл-таки в себе силы взмахнуть рукой с кинжалом, – и в этот момент издалека, от столов послышался повелительный крик. «Это Дюк!» – поняли оба, – и Ричард обрадовался этому крику, как пришедшему в последнюю секунду спасению, но в этот миг его собственная шпага пробила ему грудь, приколов к деревянному щиту.
Следующие действия Бэнсон предпринял как бы в полусне. Вытянув из гнёзд ножки щита, он поднял его, вместе с дёргающимся ещё телом, на плечо, склонившись, выдернул из земли Кобру, и неторопливо потопал назад, к столам, вдоль отлично простреливаемого коридора. Он шёл и думал, что никогда, наверное, в своей жизни не был ещё столь уязвим. Приди в голову Дюка прихоть избавиться от вышедшего из повиновения телохранителя – и десяток пуль ударят мерно идущего Бэнсона в грудь и лицо. «Даже если, – лихорадочно думал Бэнсон, – мне дадут дойти до столов, то и тогда ещё – не спасён: Дюк потребует объяснений».
Но, поскольку в Змея пока ещё не стреляли, хозяин, очевидно, ждал этих объяснений. «Что, что сказать? Что возмущён был ненужным и подлым убийством? Для Дюка это ничто. Ричард таким образом укреплял дисциплину. И что же с ними сотворил Змей? С командиром охраны, а теперь ещё и с этой самой дисциплиной?»
Бэнсон почти дошёл до столов, а внятного объяснения так и не выдумал. «Плохо дело», – решил уже он и вдруг услыхал голос мастера Альбы. Близко, как если бы старик стоял всего в полушаге. «Я вижу…», – отчётливо сказал Альба. Бэнсон недоумевающе повёл головой, сделал ещё пару шагов, прислонил щит с приколотым к нему Ричардом к одному из столов и, когда, выпрямившись, встретился взглядом с напряжённым взглядом хозяина, Альба снова сказал: «Я вижу мысли». И Бэнсон понял.
– Я вижу мысли, – негромко и быстро сказал он, подавшись к Дюку.
Дюк недоумевающе, а затем с видом страшной догадки вскинул брови.
– Опасные мысли? – торопливо переспросил он. – Как у Глустора?!
Бэнсон, протискиваясь между столов, кивая на вопрос Дюка, добавил:
– Отойдём в сторону!
Дюк, опасливо оглянувшись, отошёл вместе с ним.
– Ты что-то увидел в мыслях у Ричарда? Что? Говори!
Но Бэнсон, прежде чем ответить, демонстративно встал так, чтобы закрыть хозяина спиной от охранников. Потом сказал:
– У него есть сообщник. Если он сейчас стоит у стола – плохо дело. Кто приказал охране взять пистолеты?
– Я…
– Если у него сейчас два пистолета, то, возможно, первая пуля будет мне в спину, а вторая, когда я упаду…
Дюк, побледнев, осторожно выглянул из-за спины Змея.
– Стэнток! – прокричал он. – Всем положить пистолеты! И отойти от столов, всем!
Обрывком взгляда отметив, что приказание выполняется, он снова торопливо спросил:
– Ну так и что?!
– Я увидел его мысли, как только подошёл. Сегодня он должен был вас убить.
– Ме-ня?!
– Да. Его подкупил Воглер.
– Но… Как же… Ричард был у меня самым преданным! Проверенным за много лет!!
Бэнсон с укоризной посмотрел ему прямо в глаза.
– А вы, – сказал он, понизив голос до полушёпота, – если бы захотели нанять кого-то, чтобы убить Воглера, неужели не обратились бы к самому преданному?
Дюк схватился за голову.
– А кто, – спустя минуту спросил он, – сообщник? Ты же видишь мысли! Обернись, посмотри!
– Не всё так просто, – ответил Змей. – Я разгорячён схваткой. Чтобы увидеть, мне нужно остыть. А для этого требуется какое-то время.
– Так, так, – задумавшись, проговорил Дюк. – Ну, а сейчас-то что делать?
– Первое, – сказал Бэнсон, – следует запереть все пистолеты в оружейную комнату. Второе – приказать, чтобы все теперь ходили только по трое. Если кто-то попробует сбежать, или напасть – двое его сразу же схватят…
– Ты говоришь, – вдруг перебил его Дюк, – сообщник в мыслях у Ричарда был только один?
– Один. Это точно.
– Но почему, – снова недоумевающе вскинул брови Дюк, – почему ты не убил Ричарда сразу, как только увидел, что он подкуплен? Зачем нужен был весь этот цирк с поединком?
– Сразу – нельзя, – рассудительно ответил Бэнсон. – А если б сообщник, якобы бросившись на защиту своего командира, немедленно пристрелил бы меня? Кто бы тогда рассказал вам, в чём дело?
– Да, да, да, да, – потрясённо выговаривал Дюк. – Да, не удалось с Глустором – этот гад подкупил Ричарда. Но как? Как он мог с ним связаться? Ведь не письмом же!
– Я в вашем обществе новичок. Откуда мне знать ваши отношения с друзьями-врагами? Здесь думайте сами. Моё дело – сейчас второго найти.
– Найди! Найди его, Змей!! – Дюк схватил Бэнсона за липкий от ричардовой крови рукав. – Найди мне его до завтра. Потому, что завтра ночью у меня – званый бал. Будет много гостей. Мне придётся вернуть пистолеты охране. Найди его до завтрашней ночи!
Бэнсон, внутренне облегчённо вздохнув, обернулся, посмотрел на щит с телом Ричарда и, с напряжением сдвинув брови, ответил:
– Найду.
Бал мертвецов
Бэнсон понимал, что убийство командира охраны – преждевременный и опасный поступок. Но оказалось – всё к лучшему. Во-первых, – и Змей это явственно видел, – отношение к нему всей охраны существенно изменилось. До поединка его просто боялись. Теперь, увидев в нём человека, безоглядно защищающего справедливость, его стали искренне уважать. А во-вторых – хозяин предоставил Бэнсону полную свободу действий. Как любой тиран, Дюк мучился от ни на секунду не отпускающего его страха. Негасимая искра совести говорила ему, что рано или поздно приходит возмездие за любое совершённое зло, – но, в силу странной закономерности, Дюк, как и все тираны, не стремился исправить, искупить сотворённое им, а все силы и власть спешил употребить на то, чтобы спастись от возмездия. Поэтому он заперся в своём кабинете, а Бэнсон получил возможность расхаживать по всему огромному четырёхэтажному серому дому и высматривать, где же прячется тот ужасный, так удачно придуманный им убийца.
Вечером следующего дня Бэнсон постучал в дверь кабинета хозяина. Дюк, спросив, кто стучит, сначала приоткрыл дверь, посмотрел, и лишь после этого впустил телохранителя в кабинет.
– Нашёл? – торопливым шёпотом спросил он у Змея.
– В доме и в имении его нет, – ответил телохранитель.
– Но вся охрана на месте?
– Да, вся на месте.
– И что это значит?
– Это может означать только одно. Что убитый Ричардом охранник – и был его помощник. Видимо, показался не очень надёжным, или плату затребовал непомерную… В общем, я оказался на стрельбище в тот момент, когда Ричард, воспользовавшись пустячным поводом, этого сообщника застрелил. Вы ведь расспросили и людей, и Стэнтока?
– Да, конечно. Повод действительно был вздорным.
– Значит, опасности нет. Можете выйти.
– Как хорошо! – выдохнул Дюк, вытирая со лба мелкий пот. – Ведь ночью съедутся гости! – И вдруг, повернувшись в сторону окна, добавил: – Погоди, Воглер! Будет тебе сюрприз!
– Воглер тоже приедет? – как бы невзначай поинтересовался Бэнсон.
– А иначе зачем я затевал бы этот невиданный бал! О, не только Воглер сегодня приедет. Все мои соперники по искусству будут плясать, и кушать, и пить, и корчиться от чёрной зависти здесь, внизу, в главном подвале!
С этой минуты Бэнсон был словно привязан к хозяину: тот, проникшись ещё большим доверием, потребовал, чтобы Змей был неотлучно при нём.
«Соперники по искусству»! Ночью Бэнсон хорошо рассмотрел, что это за искусство.
Любой бал – праздник. Благоухающая, терпкая смесь движения, музыки, красоты и восторга. Бэнсон никогда не видел настоящего дворянского бала, но имел о нём представление, взятое из книг, картин светских художников и рассказов Генри, библиотекаря Томаса Локка. На его, пусть даже не искушённый взгляд, бал – это несколько часов предельно высокого полёта души. А вот у Дюка всё было иначе.
Ночь придавила землю тьмой – холодной и влажной. Но в доме-крепости не светилось ни одного окна. Бэнсон и Дюк стояли возле главного входа, освещаемые тусклым глазом единственного фонаря. Медленно, освещённые такими же тусклыми глазками, подкатывали экипажи. Из них выбирались одиночки и пары – и все, даже женщины, были в масках. Было странно, что Дюк встречал гостей не в жарко нагретом холле или же в зале. Нет, он почти час стоял здесь, на холоде, и первое, на что падал взгляд выбирающихся из карет, был его фиолетовый, с красной изнанкой плащ и золотая, закрывающая щёки и нос, полумаска.
«Владелец имения приветствует вас!» – зловещим голосом говорил он, и мужчины оторопело кланялись, а дамы пугались и ахали. Бэнсон весь этот час стоял рядом, – и порядком замёрз, так как на нём, кроме башмаков, тонких чулок и кожаных панталон был всего лишь такой же, как у хозяина, плащ: Змею надлежало войти к гостям полуголым, сбросив свой плащ перед дверью, ошеломляя собравшихся шрамами и ярким широким ожерельем из оскаленных человечков.
Наконец, слуги увели в конюшенный двор экипаж последнего прибывшего. Владелец имения и его телохранитель вошли к гостям.
Круглый холл был исполнен мрачной, тяжёлой торжественности. Весь круг стены был задрапирован огромными, чёрной кожи щитами. На каждом был наклеен лоскут алого бархата, искусно вырезанный в виде капли. Между щитами стояли бронзовые высокие канделябры с наполовину уже сгоревшими свечами. Подставки под свечи были выполнены в виде хищно согнутых птичьих лап. Свет качался, и казалось, что по стенам стекает настоящая кровь.
Гости, словно осы, вились вокруг небольших круглых столиков, уставленных бокалами и судками с закусками, причём внешняя поверхность и судков, и бокалов была покрыта окрашенной в красный цвет кожей. Многие были изрядно навеселе.
– Дюк!! – прокричал кто-то, и гости заоборачивались, завскидывали руки с красными кубками, и над головами прокатился приветственный рокот.
– Ой, какой страшный! – с шальной весёлостью взвизгнула одна из дам в фиолетовом платье, вытянув палец в сторону Бэнсона, и тут же, пошатываясь, метнулась к нему и добавила: – Ой, какой милый!
Мужчина в маске, очевидно, её кавалер, схватил даму, останавливая, за рукав и с треском вырвал его. Женщина, взмахнув обнажённой рукой, обернулась – и по зале прокатился щелчок звонкой пощёчины. После этого она, на ходу отрывая второй рукав, заметалась среди гостей, а её кавалер, сдвинув на лоб маску, помчался следом, взмахивая фиолетовым лоскутом, словно плетью. Внимание гостей мгновенно заняла ссорящаяся пара, и Дюк, недовольно поморщившись, выглянул за дверь и негромко проговорил:
– Пора, пора!
После этого встал опять рядом с Бэнсоном, – и вдруг сзади них стали раздаваться гулкие, сильные удары в дверь. Лица гостей повернулись теперь уже в их сторону, и кто-то спросил: «кто там стучит?»
– Это дверь заколачивают, – сложив на груди руки, сказал, блестя маской, равнодушным голосом Дюк. – Большими гвоздями.
– Но подождите! – испуганно вскрикнул кто-то, – здесь же нет другого выхода!
– Разве мы собрались здесь, чтобы выйти? – развивая интригу, воскликнул Дюк. – Нет! Мы собрались, чтобы идти дальше!
И владелец имения указал на середину залы, где в полу вдруг шевельнулась и стала опускаться плита. Кто-то из гостей с испуганным криком отпрянул, кто-то наоборот, подскочил и склонился, вглядываясь в открывшуюся глубину.
– Там ступени!
– Вот именно! – кивнул маской Дюк. – И там – начинается бал!
Разверзшийся вход в подвал был похож на могилу, и на лицах у многих гостей было смятение, – но вдруг оттуда, из дыры хлынула струнная музыка. Разгорячённая дама, оторвавшая-таки второй рукав, взмахнула, как птенец в первом полёте, руками и засеменила вниз по ступеням. Оттуда вдруг долетел её восторженный вопль. И гости, расталкивая друг друга, устремились вниз.
– Скорее! – громовым голосом прокричал Дюк, – плита сейчас закроется!
И толпа гостей превратилась в хаотический, исходящий криком поток.
– Вот так и надо водить этих обезьян, – сказал Бэнсону вполголоса Дюк, – на верёвочке любопытства. Невидимой, но весьма прочной.
Внизу, в большем по размерам, овальном зале с двумя высокими дверями в противоположных торцах, находилась эстрадка, на которой в два ряда, на стульях, сидели музыканты во фраках, с завязанными глазами. Стены были увешаны зеркалами с кроваво-красными каплями в центре каждого.
– Бал! – выкрикнул Дюк, и вначале одна, а потом всё больше пар заскользили и закачались в танцевальных фигурах.
Мелодии сменяли одна другую почти без пауз, не давая гостям передышки. Через полчаса появились откуда-то два шута – карлик и карлица. Они притащили раскрытый бочонок с вином, карлик вооружился объёмным половником, а карлица – кубком, и разгорячённые гости принялись вливать в себя это вино.
Ещё через полчаса музыка вдруг оборвалась.
– Но где же, – раздался в наступившей вдруг тишине, голос одного из гостей, – то, ради чего мы, собственно, приглашены?
– Да, да! – закричала голорукая гостья, – где этот загадочный страшный сюрприз?
– Судя по всему, – весело закричал тоже изрядно хвативший вина Дюк, – за дверью. Но только вот за какой? За одной из них – сюрприз. А за второй – заряженная пушка, которая немедленно выстрелит, как только двери раскроют.
– Дюк! – недовольно выкрикнул кто-то. – Что за шутки?
– Вот именно шутки! – отвечал, смеясь, Дюк. – И не просите у меня подсказки! Кому не терпится увидеть обещанное – открывайте дверь! Любую! На выбор!
Но гости не стали разделять его веселья. Наоборот, с испуганным ропотом они принялись растягиваться вдоль стен, уходя с линии предполагаемого выстрела.
– Любую на выбор! Любую на выбор! – заверещал вдруг тоненьким голоском карлик и метнулся к двери.
Он распахнул её – и отчаянно закричал. Все увидели тускло блеснувший в тёмном проёме пушечный ствол. Несколько дам завизжали, вторя отчаянному воплю карлика, а сам карлик, стремительно семеня короткими ножками, понёсся через весь зал – к двери напротив – и тут ухнул выстрел. Перекрывая грохот, взмыл к округлому потолку визг женщин, а карлика сшибло с ног и несколько ярдов он проехал на животе. Тут истошно завизжала карлица и метнулась к другой двери, и за ней поспешили некоторые из гостей, но дверь, распахнувшись, явила обезумевшим людям вторую пушку! Все бросились обратно к стенам, вбок, и только карлица – вдоль залы. Вторая пушка грохнула, вбросив в бальное помещение белый дым и кислый запах артиллерийского пороха. Теперь уже карлица, оборвав крик, покатилась по полу и прикатилась к неподвижно раскинувшемуся партнёру. Из-под их маленьких тел начала растекаться большая кровавая лужа.
– Дюк!! – снова заорал кто-то из гостей, – зло, отчаянно. – Что за шутки? Где наша охрана?!
А Дюк стоял, сложив на груди руки, и рядом стоял полуголый, покрытый шрамами великан, о котором те, кто были в этом заинтересованы, уже весьма многое знали. Двери закрылись. Кто-то из дам начал выть, сползая по стене на пол. И вдруг карлик поднял голову.
– Прощай, дорогая подружка! – пропищал он. – Не ту ведь я дверочку выбрал!
– И ты прощай! – отозвалась томно карлица, неожиданно оживая. – И моя дверочка – дурочка!
Кто-то из гостей начал в истерике хохотать, а карлик и карлица, обняв друг друга, целовались и кричали «прощай!», и вдруг плита, на которой они лежали, стала опускаться, и они уехали на ней вниз. Хохот был подхвачен и усилен, раздались сначала редкие, а потом бешенные аплодисменты.
– Сюрприз – там! – крикнул Дюк, указывая на чёрный проём, и снова поток гостей ринулся вниз.
Но на этот раз не зазвучали снизу ни крики восторга. Там была тишина. Дюк и Бэнсон сошли по ступеням, и навстречу им вылетел возглас:
– Вот она наконец-то! Вот она, коллекция Дюка!
Под бальной залой был широкий, длинный, теряющийся вдали коридор. И здесь горели свечи – но только вдоль одной стены. Вдоль другой, на высоких, в рост человека, железных подставках, белели человеческие черепа. Гости, – и мужчины, и дамы, двинулись, полуиспуганно-полувосторженно охая, туда, куда уходил коридор. Возле Дюка и Бэнсона как-то сама собой образовалась компания из восьми человек. На одном из них был старомодный, засаленный, с квадратными длинными фалдами фрак. «Это – Длинный Сюртук», – понял Бэнсон. Компания медленно пошла вдоль подставок.
– О, этот я знаю, – произнёс кто-то, пытаясь разорвать пошире вырезы для глаз в своей маске. – Он принадлежал одному дураку-доктору в Дании, которому достался в наследство, и у которого дюков агент выкупил его за девять крон.
– Да, – ответили ему, – а Дюка просили продать его уже за пять тысяч. Это череп сармата.
Предметом обсуждения был череп небывалой формы, высоко вытянутый вверх, словно огородный кабачок, по странной прихоти природы выросший белым среди своих зелёных собратьев.
Вспыхнул говорок, напряжённый и торопливый:
– И ты не продал?
– Как видишь.
– А сейчас?
– Это не единственный шедевр. Пожалуйте дальше, джентльмены.
– Нет, а сейчас?
– Что сейчас?
– Не продашь?
– Этот – нет.
– Но за хорошие деньги, Дюк!
– Нет. Не думаю. Вряд ли.
– «Вряд ли» – это не «нет»!
– Не цепляйся к словам.
– Или меняться?
– На твой, что в дубовом ларце, на голову короля…
– Молчи!
– Да перестань. Все знают, что у тебя есть Людовик.
– Молчи!!
– Полно вам, джентльмены. Идёмте-ка дальше.
Процессия медленно двигалась, медленно покачивалось пламя свечей. Коллекционеры оценивали, постанывали, охали, торговались.
– Это же надо! Вторая сотня пошла!
– Это же надо! Смотрите! О, уникум!
– Шлем впаялся в кость? Точно!
– О, челюсть!
– Да, а шлем – с позолотой, и сохранился прекрасно!
– Да, это брильянт. Дюк, отдашь за четыре тысячи?
– Нет.
«А Тайверту всего сотню дал за него».
– Четыре пятьсот!..
– В общем-то, Дюк, неплохо. Почти триста голов, и среди них есть десяток бесценных. Но это ведь только полсюрприза? Не так ли?
– Откуда ты знаешь?
– У тебя – свои агенты, у меня – свои. Не зря ведь ты язык Тайверту вырвал.
– Это не я. Это – его конкуренты. А вторая половина сюрприза – вот здесь.
Компания подошла к пересечению со вторым коридором. Направо виднелся ярко освещённый, с невысоким потолком подвал, где собрались все ушедшие вперёд гости, и где сновали карлик и карлица, с половником и бочонком. (Они громко пищали, что, пока все не выпьют по кубку, путешествие не возобновится.) А налево, в глубокой нише, виднелась дверь, которую Дюк отпер ключом. Коллекционеры вошли.
– А-а!! – закричал, застонал один из них. – Всё-таки правда!
– Да! – подхватил кто-то. – Дюк! Негодяй! Как ты сумел? Ведь правда! Правда!
Все быстро зашагали вперёд.
– Что правда? – поинтересовался вполголоса Бэнсон.
– То, – с невыразимым счастьем в дрогнувшем голосе ответствовал Дюк, – что коллекция горбуна Крэка – моя!
И он, вытянув из-за ворота, показал висящий на цепочке ключ, который Бэнсон принёс ему из простреленного мушкетными пулями экипажа.
– Вот он! О-о!.. – донёсся до них горестный выкрик.
Компания остановилась возле огромного черепа гигантского получеловека-полуобезьяны, с человеческими, вроде бы, глазницами и челюстью, но и с длинными, явно звериными клыками. Размерами череп был втрое больше любого из выставленных на подставках.
– Вот он, главный раритет[16] коллекции Крэка, – пробормотал кто-то. – Да, Дюк. Сделал ты финт. Теперь жизни не хватит, чтобы тебя переплюнуть.
– Ну что вы встали здесь, – деланно равнодушным тоном ответил хозяин имения. – Разве не хотите взглянуть на чёрный?
– Да! Да! Да! Он что, тоже здесь? Я слышал, что Крэк его вроде сменял.
– Как? На что?
– Отдал одному африканскому вождю за дюжину чёрных маленьких девочек.
– Где чёрные девочки – я не знаю, – не сумев-таки скрыть ликования, сказал Дюк. – А чёрный череп, он – вот!
Действительно, на подставке стоял прекрасно сохранившийся, по-видимому, очень древний череп, как будто бы выточенный из куска горного угля.
– Я слыхал, что его много раз проверяли, не покрашен ли.
– Я тоже проверил, – сообщил Дюк. – Видишь – распил? Внутри кость такая же чёрная.
– Не продашь?..
Мёртвая галерея закончилась. Закончился и коридор. Гости с видимой неохотой повернули назад, и здесь Дюк ещё раз всех поразил.
– Есть и третья частица сюрприза, – сказал он.
– Что? Какая?
И Дюк, шагнув, сорвал ткань с незамеченного никем, стоящего у стены манекена. Но это оказался не манекен. Надетый на железный штырь здесь стоял уродливый скелетик, похожий чем-то на согнувшуюся обезьянку.
– Это же… – ошеломлённо проговорил кто-то… – Горбун!
– Именно так, джентльмены. Недавно усопший бедный наш мистер Крэк, собственной персоной. Так сказать – и коллекция, и её бывший владелец.
– Чёрт побери тебя, Дюк! И как ты сумел такое выдумать!
– Да, но осмелиться разрыть могилу… Хотя, кто раскопал могилу, предположить не трудно.
– Чёрт! А ведь могу биться об заклад, джентльмены, что Крэк сам пожелал бы себе такой участи! Теперь он не только бывший владелец коллекции. Теперь он – вечный владелец!
– Дюк! Прикажи принести сюда вина! Я желаю с ним выпить.
– Верно! Давай вина, Дюк! Я хочу выпить с Крэком на брудершафт!
– И я! И я выпью с этим теперь уже не опасным, злопамятным старикашкой!
– Змей. Сходи за вином.
Бульдог и Людовик
Утром легли спать, но Бэнсон не спал. Лёжа у двери дюковой спальни, он смотрел в потолок, и перед глазами его проплывали картины минувшей неописуемой ночи. Вновь и вновь по коридору текли перед ним изрядно опьяневшие гости. Он видел, как явился им в одной из ниш полулежащий на наклонённом щите приколотый к нему Ричард, – ещё одна сумасшедшая выходка Дюка. Как дамы опрометчиво проверяли – действительно ли это труп, или же просто страшная кукла, – проверяли и падали в обморок. Как после невиданной, дикой экскурсии вдоль черепов, где были и головы совсем ещё недавно живших людей, убитых на заказ Глустором, все уселись за ломившиеся от яств столы и до утра жрали и пили – так, что очень многих Бэнсону пришлось просто грузить в их кареты. Но больше всего мучил телохранителя услышанный им деловой разговор.
Это был разговор не об обмене или продаже мёртвых голов. Один из коллекционеров просил у присутствующих помощи.
– Дело-то, в общем, довольно дурацкое, джентльмены. Объявилась в Плимуте компания оборванцев. И эти оборванцы мешают мне жить.
– Тебе?! С твоей властью, и с твоими деньгами – мешает жить компания оборванцев?
– Да они какие-то необычные оборванцы. Действуют умно, как дьяволы, – такое впечатление, что руководит ими образованный дворянин, вынужденный жить инкогнито.
– А что именно они делают?
– Видите ли, джентльмены. У всех у нас имеются некие слабости. Ну, из тех, за какие обычных людей хватают за шиворот и… В общем, понятно. Но мы по факту рождения в могущественных династиях имеем право на большее, чем все остальные. Поддерживая или увеличивая свои доходы, мы связываем закону руки и затыкаем ему рот. Этого же требуют и некоторые забавы и удовольствия. Не морщи нос, Воглер. Мы не в парламенте.
– Ладно, граф. Довольно банальностей. В чём именно дело?
– А вот в чём. Некая шайка до удивления расторопных людей оторвала у меня несколько щупалец, по которым ко мне текли деньги…
– …И кровь.
– Молчи, Воглер! Дюк, мы в твоём доме, вели ему помолчать!
– Джентльмены, не ссорьтесь. Мне, например, даже интересно, в чём дело.
– Так вот. Невидимых, расторопных людей. Если судить по их манере «общаться», то можно сделать вывод, что они знают практически всё обо мне и моих делах. Чтобы собрать и, главное, потом суметь использовать такую информацию – нужен мощный аналитический ум. Одно это уже – более, чем невероятно, но к нему добавляется неописуемая ловкость и быстрота, и умение не оставлять следов, и какая-то волчья, мёртвая хватка. Главное – они не берут денег! Они не грабят меня, джентльмены! А просто уничтожают моих людей – тех, что сидят в важных креслах и направляют денежные ручейки в мою сторону. Они, разумеется, каждый – с пороком, тем я их и держу… Вернее, держал. Ну, да, время от времени в окрестных лесах устраивались бесследные, быстротечные, тайные охоты на проезжающих по дорогам путников. Ну, да, из неосторожно путешествующих обедневших дворян составлялись пары для гладиаторских поединков. Кстати, довольно занятное зрелище, джентльмены, я один раз был свидетелем. Да, в подвалах моих людей время от времени исчезали дети и женщины. Что с того?! Люди на этой земле рождаются непрерывно. Всё шло хорошо! Вдруг – непонятно откуда появляются эти робин-гуды. И разом, практически в несколько дней мои люди один за другим исчезают. Бесследно! А так же исчезают их помощники, счетоводы, охрана… Все, кроме тех, кто не был посвящён в дела. Повара, конюхи, слуги – все невредимы. Таращат, плебейское племя, свои глупые глазки, руками разводят. А я чувствую – подошли и ко мне, и почти что вплотную! Признаюсь вам, джентльмены, – мне страшно. И я прошу помощи. Ведь не исключено, что эти робин-гуды потом примутся и за вас!
– А почему ты их назвал оборванцами? Ты о них уже что-то знаешь? Ведь деньги решают любую проблему…
– Ну да, да. Денег истрачено столько, что страшно подумать. Но польза есть. Есть адрес, есть пара имён…
– Ну тогда дело за малым. Нужен бульдог. Я могу одолжить тебе Змея. На неделю. В обмен на Людовика. И не спеши отказываться, ведь речь идёт о твоей жизни.
– Дюк. Клянусь тебе. Я бы отдал Людовика. И череп, и все его королевские цацки, что были при нём в склепе. Слов нет, о способностях Змея мы за твоей спиной уже не раз говорили. Но мной уже был нанят бульдог! Натасканный с младенческих лет специально для ночных визитов японец. Список его дел, поверь, изрядно перевешивает репутацию твоего Змея.
– Дальше что?
– Дальше японец, то есть бульдог, ушёл ночью к надёжному проводнику. Тот должен был привести его к дому робин-гудов. А сутки спустя, проснувшись утром, я обнаружил японца рядом с собой, в постели. Мёртвого. Правильно, что вздрогнул, Сюртук. Именно, в своей постели. Его подняли ночью, на третий этаж, по внешней стене, втащили в окно, и уложили рядом со мной, – и так тихо, что я обнаружил его только когда проснулся.
– Невероятно.
– О чём я и веду сейчас речь, джентльмены. Мы все понимаем, что такого рода дела под силу только лишь королевской тайной полиции. Но можно ли допустить, джентльмены, что тайная полиция, железная машина, государственные убийцы, станут заниматься моей незаметной, не самой богатой, и не самой виновной перед законом особой! Им хватает дел с Францией и Испанией.
– Да, твой рассказ озадачивает. И каков выход?
– Дюк. У тебя есть нужные связи. Ты знаком с Монтгомери. Выпроси для меня солдат из плимутского гарнизона. Сотню, а лучше – две. В моё полное распоряжение. И тогда…
– Что же тогда?
– …Я отдам тебе Людовика.
– Слово?!
– Клянусь.
– Тогда готовь ларец с черепом. Солдаты у тебя будут.
Глава 5 Наёмник и старикашка
Бэнсон недооценил своего хозяина. Дюк пообещал первые новости сообщить через неделю, и Бэнсон, сопоставив дни, сообразил, что в ближайшее время они отправятся в Плимут. Там, в перерывах между партиями в покер, Дюк и должен поговорить с Монтгомери.
Конечно, Змей и так уже многое знал о тайном мире Дюка. А самое главное – он знал имена. Было бы самым правильным поскорее сбежать в знакомый ему дом пилигримов, к Сове, но он решил сделать это ещё чуточку позже. Он предполагал сначала выяснить, что предпримет Монтгомери.
И Бэнсон ещё на несколько дней остался у Дюка. Но если бы он знал, чем обернётся эта задержка – он бы заплакал.
Невидимый шмель
Уже знакомой дорогой три экипажа ехали в Плимут. Бэнсон на этот раз отказался от путешествия в карете. Он был переполнен ненавистью – тяжкой, угрюмой. Эту ненависть он испытывал к Дюку, и опасался, что чем-нибудь выдаст себя. Поэтому предпочёл ехать рядом с каретой – на подаренном ему высоком вороном жеребце.
За время неблизкого пути Бэнсон несколько раз перекинулся словечком со Стэнтоком. И заметил, что, когда проезжали так всем памятный поворот, где эскорт встретился с одиноким и страшным путешественником, и где Дюк потерял несколько своих лучших людей, приобретя взамен нежданного бойца-телохранителя, – на этом самом повороте Стэнток как-то странно взглянул на Бэнсона. Нескрываемо пристально. Казалось, он хотел сказать что-то, – но промолчал.
И опять, дождавшись темноты, Дюк и Бэнсон проникли в игорный замок, где их встретил расплывшийся в улыбке Базилло. Изображающий полупьяного швейцара плут с обычной своей напускной придурковатостью долго тряс массивную руку Бэнсона и особенно пронзительно кричал Дюку «Удачи! Удачи!». Он откровенно высказывал Змею симпатию – пусть и гаерную, но не только он. Шумными восклицаниями, если не как равного, то уж очевидно по-приятельски встретили Бэнсона покерные игроки. Высокий, с рельефными, «бойцовыми» мышцами, расписанный жестокими шрамами, он притягивал их внимание, вызывал азартное любопытство и подлинный интерес. Поэтому не было ничего удивительного в том, что, в отличие от всех прочих охранников, он единственный присутствовал в игровой комнате, на своём ставшим привычным уже месте – за спиной Дюка, возле стены.
Игра шла, казалось бы, как всегда – бестревожно, доброжелательно. Резво бегали саламандры. Приехали двое новых игроков (Бэнсон тотчас затвердил их прозвища, манеру держаться, приметы). Но Дюк почему-то не говорил о делах с так же безучастно ведущим себя Монтгомери! Ночь уже далеко ушла за половину, а Бэнсон всё ждал. Он сидел на роскошном, расписанным позолотою стуле, и ждал.
Как и у любого другого человека на его месте, глаза его утомились и, переложив внимание в слух, он поднял взгляд на противоположную стену, затянутую цельнотканым зелёным шёлковым полотном. Вдруг – это была секунда! – из центра этого полотна во все стороны пробежали волны, как если бы в него с маху ударил крупный невидимый шмель. Бэнсон торопливо моргнул – но нет, это не рябь в уставших глазах: вон, затухающие волны докатились до краёв полотна – уже ослабленные отразились назад – и исчезли. Бэнсон перевёл взгляд на игроков. Никто из них ничего не заметил. «Но ведь это непросто так, – убеждённо сказал себе Бэнсон. – Что-нибудь это должно значить? Под шёлком – сплошная стена, вот я с силой опираюсь на неё спиной!» Он так и не пришёл ни к какому выводу, но скрытую значительность события почувствовал очень остро.
В очередной раз игроки вышли в комнату с винным бассейном. Вышел, возвышаясь над своим лысоватым хозяином, Змей. И вот здесь-то он и услышал слова, которые с таким нетерпением ждал весь этот вечер.
– Спасибо за помощь, – сказал вполголоса Дюк, обращаясь к Монтгомери.
«Что такое? – воскликнул мысленно Бэнсон. – Монтгомери уже пообещал помощь? Но когда? Ведь я ни на шаг… Или уже оказал?!»
Монтгомери лишь кивнул. Дюк же продолжил:
– Сегодня сюда приедет один мой хороший знакомый. Впрочем, ты его знаешь. Я всю эту заботу сгрузил на него, и он хотел бы доложить тебе, что ещё предстоит сделать.
Монтгомери снова кивнул, – и ответил:
– Хорошо, побеседую. И должен тебе заметить: ты молодец. Платишь вовремя.
С тем и вернулись к игровому столу.
«Помощь оказана, – лихорадочно думал Бэнсон. – За неё заплачено. Высказана благодарность. Неужели я опоздал?» Он решил дождаться утра, сесть на своего коня и под любым предлогом покинуть Дюка. Тревога за Серых монахов и принца Сову камнем легла в его сердце. Однако вышло так, что ждать утра не пришлось.
В зале, где сидела охрана, послышался слабый шум, чьё-то приветствие. Дюк и Монтгомери обменялись многозначительными взглядами. Бэнсон, как и они, взглянул по направленью к двери – и похолодел.
В игровой зал вошёл вежливо улыбающийся, раздетый по пояс маленький человек. Бэнсон сглотнул, повёл головой и приготовился к сумасшедшим, неясным, стремительным действиям: вошедшим был Крошка Вайер.
Нежданная, дикая встреча. Да, это был он, уцелевший в разразившейся летом в Плимуте тайной войне предводитель шайки мастеров тёмных дел, охотник за черепами Ван Вайер. Он, едва войдя, скользнул взглядом по Бэнсону, тут же взгляд этот вернул – и уставился на свою летнюю жертву, на сообщника Серых братьев, виновника гибели его лучших людей, спокойно сидящего здесь, в недосягаемой дворянской компании. Уставился, – и так же на секунду оцепенел.
«Вайер может убить столовой ложкой, птичьим пёрышком, курительным мундштуком…» Бэнсон с места сделал громадный прыжок и обрушил кулак на голову не успевшего опомниться Вайера. Все замерли. Кто-то ахнул. Маленький гость отлетел и ударился о дверную притолоку. Змей схватил обмякшее тело, сунул его под правый локоть и бросился – минуя зал с охраной – на лестницы.
Он пробежал изрядное количество ступеней, когда его догнал нарастающий за спиной крик и шум. Самым скверным было то, что кто-то, очевидно, высунувшись в окно, выкрикивал сверху отрывистые команды.
Какие это были команды, Бэнсон разобрал лишь когда, миновав недоумевающего Базилло, выскочил за входную дверь.
– Взять Змея! – кричали сверху. – Остановить! Любой ценой!..
Плотнее притиснув к себе тело Вайера, Бэнсон со всех ног бросился к высаженным в каре деревьям – тем, что были ближе к нему. «Ночь. Ночь. Можно уйти.»
– Всем, кто меня слышит! Всем охранникам! Взять Змея! Взять Змея! Разрешаю убить!
Бэнсон бежал, а впереди уже показались спешащие навстречу ему, мелькающие между деревьев фигуры.
– За живого – сто гиней! За мёртвого – пятьдесят!
До спасительных зарослей оставалось недалеко, но на пути к ним мелькали силуэты почти двух десятков людей. Дело спасало пока то, что охранники были вытянуты в довольно длинную линию – бежали от экипажей, расставленных в отдалении друг от друга. Но человек пять или шесть находились в секторе его бега, и, как бы ни было темно, Бэнсон заметил в их руках длинные сероватые полоски, едва различимые блики полированного металла. Он на ходу рванул с груди кричащего человечка и запустил им в ближайшую тень. Глухой удар – и звук падения. Ободрённый успехом, Бэнсон сорвал и метнул второй тяжкий, удобно лёгший в ладонь мешочек с золотым аркебузным ядром. Из восьми крикунов, нарисованных на цветной коже, даром не пропал ни один. На ходу наклонившись, Бэнсон подцепил клинок одного из неподвижно лежащих охранников – и впрыгнул в рощицу.
«Нет, братцы. Вы не полезете в ночные заросли ловить очень вам хорошо известного Змея. Полдела сделано.»
Да, но оставались вторые полдела. За спиной – и недалеко – слышались громкие, но спокойные и деловитые крики:
– Оружия у него нет! Разбейтесь по трое! Прочёсывайте посадки! Не побейте своих, – он до пояса обнажён, а мы все одеты! За живого – сто гиней!..
Бэнсон хорошо знал близлежащую местность. Промчавшись сквозь несколько полос посадок, он принял влево – в чистое поле, а не вправо, где вдалеке темнел лес: он понимал, что бегут за ним люди неглупые, и что перекрывать будут именно направление к лесу.
В поле кое-где виднелись невысокие холмики, и Бэнсон, пригнувшись, перебегал от одного к другому, моля небо, чтобы не раздвинулись тучи и не показалась Луна.
Он не успел уйти далеко. Судьба ясно давала ему понять, что везение кончилось. Мягкое тело Вайера, прижатое к боку, вдруг напряглось, стремительно изогнулось – и шею Бэнсона пронзила острая боль. Всхрипнув от внезапной боли и злости, Змей поймал вновь замахнувшуюся руку с зажатой в ней длинной иглой и смял, разламывая, кости запястья. Обмякшие маленькие пальцы уронили иглу. В этот самый миг на окраине поля послышался стук копыт и мелькнул всадник, а Вайер пронзительно вскрикнул. Бэнсон вскинул и обрушил вниз тяжёлый кулак, а всадник, разумеется, повернул и погнал лошадь на крик. «Только бы у него не было пистолета…» Да и без пистолета дело было неважно. Бэнсон почувствовал, как немеет шея и от неё разливается вниз по телу предательская ватная слабость. Он ещё в посадках, продираясь сквозь заросли, потерял поднятый клинок, и теперь надеялся лишь на то, что сумеет внезапно вскочить и выдернуть всадника из седла.
Но делать этого не пришлось. Сидящий на лошади вдруг подал голос – хорошо знакомый, негромкий:
– Я Стэнток!..
Что было делать? Бэнсон рискнул. Привстав, он вполголоса отозвался:
– Эй!
Пересилив слабость и боль, Бэнсон поднялся. Недоскакав ярдов с десяток, Стэнток спрыгнул с седла и подвёл к Бэнсону его собственного вороного коня.
– Давай, Змей. Садись. Ты не ранен?
Бэнсон, не в силах ни ответить, ни кивнуть головой, молча вставил ногу в стремя и влез в седло. Он указал сверху рукой, и Стэнток поднял к нему в седло обмякшего, оглушённого Вайера. Подняв, отступил, выхватил тяжёлый и длинный кинжал, его эфесом с силой ударил себя в лоб, и подал кинжал Бэнсону. Пошатнувшись, упал на колено, и снова проговорил:
– Давай, Змей… Гони…
Молча, дёрнув узду, Бэнсон пустил коня в рысь, и тут же – в галоп. Ночное поле неслось навстречу ему чёрным провалом, и он молил теперь уже это поле – чтобы нога коня не провалилась в нору сурка или суслика.
Старый знакомый
Какое-то время он мчался в ночь, как в бездонный чёрный мешок, и, наверное, расшибся бы, если бы сквозь тучи не блеснула Луна. «Вот спасибо!» – воскликнул мысленно Бэнсон, направляя коня к блеснувшей невдалеке водной глади. Но не для того, чтобы напиться, или напоить коня, нет. Просто дорога в Плимут пролегла вдоль реки, и теперь мерцающая в свете луны вода была спасительным ориентиром. Шлёпнув коня ладонью по взмыленной чёрной шее, Змей прохрипел:
– Ушли-ушли-ушли, Уголь!
Вот так вдруг конь получил имя. Какое он носил раньше? Бэнсон не знал. Откуда взялось именно это? Размышлять было некогда. Близилось утро, и где-то там, за спиной, невидимая и неслышимая, уже металась погоня.
– Давай, Уголёк, оторви ещё пару миль!
Именно пара миль оставалась до Плимута, – Бэнсон точно вспомнил окрестности.
И Уголёк «оторвал». Казалось – не прошло и минуты, а уже вот она – окраина Плимута. Здесь всадник остановился. Одной рукой, словно большую куклу, придерживая Вайера, он пустил коня в неспешную рысь. Приблизившись к караульной будке, натянул повод, склонился к выбравшемуся на дорогу, на стук копыт, караульному и медленно, надсаживая онемевшее горло, проговорил:
– Мальчишку я сшиб конём. Где в городе доктор?
Караульный, увидев кровь и неподвижное тело, разведя руками, пропустил всадника, не спрашивая ни дорожных бумаг, ни платы.
По полутёмным, безлюдным улочкам Бэнсон добрался до знакомого двухэтажного дома. В одном окне наверху горел свет. Спрыгнув с седла, Бэнсон снял Вайера, стукнул было в калитку – но она сама отворилась: не заперта. Это должно было бы насторожить, но Бэнсон, переживший за эту ночь слишком много, действовал не задумываясь, машинально. Он пересёк двор и шагнул в дверь. Тут же полумрак маленького вестибюля озарился ярким светом: с ламп, спрятанных в нишах, сорвали плотную драпировку. И только тут Бэнсон почувствовал, что пахнет гарью, и увидел обугленный край стены. И ещё – людей в военной малиновой форме, наставивших на него ружья. За спиной так же звякнул металл. Вышли вперёд два офицера со шпагами.
– Сказали, монахи здесь! – проговорил-промычал Бэнсон. – Врач нужен. Скорее. Я сшиб мальчишку конём. Он сын известного дворянина. И он умирает.
– А ну, – вдруг сказал один из офицеров, – иди отсюда! Езжай к пожарной башне, там спросишь, где живёт доктор.
– Но был приказ! – воскликнул второй офицер. – Задерживать всех, кто бы ни появился!
Офицеры оказались молоденькими, и было видно, что власть они между собой не поделили. Первый из них нашёл случай удачным и, демонстрируя рассудительность и смекалку, покровительственно проговорил:
– Если дворянчик умрёт за воротами – отвечать будет только этот дурак. А если он умрёт здесь – отвечать будем также и мы. – И, махнув шпагой перед самым носом у Бэнсона, закончил: – Проваливай!
– Доктора, доктора! – бормотал Бэнсон, бегом пересекая двор в обратном направлении и взбираясь в седло.
Заметив, что один солдат, выйдя из ворот, наблюдает за ним, он стал вертеть головой в разные стороны, как бы отыскивая пожарную башню, – и волнение у него вышло вполне убедительно, так как он был вынужден поворачивать голову вместе со всем телом.
Но ни к какой пожарной башне Бэнсон не поехал, а, свернув в переулок, стал лихорадочно рассуждать. Было ясно, что приют Серых братьев разгромлен. И ещё было ясно, что такой умный человек, как Сова, должен предвидеть возвращение в Плимут Бэнсона или кого-то ещё. Где, у кого он тогда оставил бы весточку? Кого из жителей города знают вместе и Бэнсон, и принц Сова? Похоже, нет такого человека…
Есть такой человек!
Через четверть часа Бэнсон громко постучал в ворота скупщика краденного, того самого, у которого обнаружил унесённый люгрскими оборотнями арбалет. Когда ворота открыли, Бэнсон от души похвалил себя за догадливость: за воротами стоял старый знакомый – кланяющийся, с исполненным доброжелательности лицом сам скупщик краденного, а рядом – приподнявший шляпу, улыбающийся принц Сова.
Ещё через четверть часа кипела вода в котелке, какие-то люди торопливо накрывали на стол, кто-то, привязав к креслу пока не пришедшего в себя Вайера, осматривал его сломанную руку. Бэнсон с перевязанным горлом сидел за столом. Он жестом попросил перо и бумагу и стал торопливо выписывать поблёскивающие влажными чернилами строки:
«Альба погиб. Люпуса и всю его гвардию он взорвал. Я случайно познакомился с человеком по прозвищу Дюк. И его друзьями. По прозвищу Монтгомери, Жирондон, Воглер… Был у Дюка телохранителем. Вайер появился случайно. Пришлось оглушить его и бежать. Кого не знаю я – назовёт он».
Сова, прочитав письмо, молчал. Сидел, уставившись в пол невидящим взглядом. Со сгорбленными плечами, с почти уткнувшимся в грудь крючковатым носом он был действительно похож на сову.
Затем он медленно поднял голову и негромко сказал:
– Значит, Альба погиб. А я и без того перестал надеяться хоть на какой-либо, пусть самый малый успех.
Сова сделал глубокий медленный вздох и, – Бэнсон непроизвольно вздрогнул, – улыбнулся вдруг странной улыбкой: одновременно и горестной, и зловещей.
– Они подняли против нас государство. Армию. Почти сорок лет был в том доме Серый приют…
– Что произошло? – одними губами прошептал Бэнсон, грея руки на боках чашки с горячим чаем.
– Моя вина. Нужно было уводить из дома всех пилигримов ещё тогда, когда я перехватил первого наёмника, японца. Мне сообщили о нём надёжные люди. Я увёз японца обратно к нанявшему его, и втащил в окно, в его спальню. Надеялся, очень надеялся, что это испугает и остановит заказчика. И у меня будет ещё немного времени для того, чтобы подготовить пути отхода и новый кров для монахов. Однако, вышло всё скверно. И самое скверное произошло совсем недавно. Ночью, в грозу.
Диалог невидимок
Дом в Плимуте, в который когда-то привёз Бэнсона мастер Альба, уже сорок лет числился в собственности малоизвестного отдалённого монастыря. Место, огороженное вокруг него высоким забором, все эти годы было спокойным и тихим. Изредка менялись в нём молчаливые, склоняющие лица монахи. Магистратские сборы уплачивались аккуратно. Свет в окнах по вечерам гас очень рано. Аромат конюшни никогда не распространялся дальше забора. Весьма неприметный был дом. Два этажа; высокие, узкие, напоминающие стрельницы окна со ставнями. Деревянная, почерневшая от времени обшивка стен. Такая же чёрная, из деревянных плах кровля крыши – на два ската. Высокая печная труба. И ни одного деревца рядом – ни возле стен, ни возле забора.
Таким этот дом и увидел никому не известный в Плимуте человек, когда, проезжая мимо в закрытой коляске, осторожно сдвинул оконную штору. Проехав весь город и достигнув порта, этот человек неспешно, но и не истратив ни одной лишней секунды, перебрался в другой, ожидавший его экипаж. Спустя некоторое время этот экипаж вновь проехал мимо двухэтажного дома – уже в обратном направлении, и опять путешественник затаённо осмотрел дом из-за шторы. После этого экипаж сделал крюк, вернулся к южному краю растянутого в гнутую линию порта и остановился возле трактира. Путник вошёл в трактир и устроился за одноместным столиком, стоявшим возле распахнутого окна. Здесь его при желании можно было бы рассмотреть.
Наш первый взгляд, брошенный на него из-за соседнего стола, не открыл бы нам, например, что человек этот – испанец. Но вовсе не потому, что природа обделила его анатомическими чертами, характерными для испанцев. Долгие годы и определённый образ жизни совершили с его внешностью глубокую метаморфозу. Во-первых – смуглый цвет кожи был устранён длительным применением специфической белой глины, из которой в ремесленных семьях – японских или китайских – делают дорогостоящий тонкий фарфор. По обеим сторонам его искусственно выбеленного лица, на скулах, симметрично и ровно расположились два овальных пятна, два мозолистых уплотнения, драпирующие испанский характер лица под неуловимо азиатско-монгольский. Если бы на его лицо взглянул мастер Альба или иной человек, искушённый в вопросах жизни и смерти, то эти мозоли многое сказали бы даже короткому взгляду, потому что набиты они были тяжёлой маской, на протяжении многих лет используемой при уроках жёсткого фехтования. Затем – небольшой скос левого нижнего века, сдвинутого со своего естественного места небольшим и почти невидимым шрамиком. Этот скос придавал лицу выражение некой аристократической пресыщенности. И, если к перечисленному добавить отсутствие на затылке короткой чёрной косицы, и обратить внимание на его платье, – костюм почтенного клерка плимутской торговой конторы, и принять, наконец, во внимание совокупность добротно поставленных жестов и поз – то и вот он вам, – действительно неторопливо обедающий клерк, а никакой совсем не испанец.
Посетитель заказал себе обед и стал ждать. И кому бы могло быть известно, что ожидал он не только приготовляемое блюдо?
Утром того же дня за тем же домом наблюдала ещё одна пара внимательных глаз. В полуквартале от столь часто упоминаемого здесь дома высилось древнее дерево, – высокое, мощное, с густой кроной и несколькими голыми сучьями. Солнце едва ещё только приподнималось над краем мирного и прекрасного морского города Плимута, старого доброго труженика, когда к подножию дерева, пританцовывая и вихляясь, подошёл бедно одетый подросток. Подпрыгнув, он уцепился за нижний сук, торчащий из ствола, словно великанский палец, и, легко подтянувшись, полез вверх. Цель его путешествия не вызывала никаких вопросов: за его спиной покачивалась круглая ивовая птичья клетка, а за поясом был заткнут пук длинных силков из конского волоса. Повозившись немного в нижнем ярусе кроны, юнец прижался к шершавой коре ствола – и затих. Тоже понятно: расставил силки и ждёт первую беспечную птаху. Однако взгляд его, словно невидимый луч, пронзив сетку листвы, приклеился к тёмному двухэтажному дому и стал медленно путешествовать по его стенам, крыше, забору. Через полчаса мальчишка знал дом так, словно он в нём родился и вырос. Он всё запомнил, – но слезать с дерева не спешил. Лишь дождавшись, когда в силок попалась-таки неосторожная птичка, он аккуратно поместил её в клетку, тщательно закрепил дверочку и отправился вниз. Спрыгнув на землю, он припустил вприпрыжку по улице, держа перед собой клетку, в которой в сильнейшем волнении прыгала с шестка на шесток пойманная им желтовато-белая птаха.
Спустя четверть часа молодой птицелов вбежал во двор домика, расположенного неподалёку от моря. Домик уютный, беленький, одноэтажный, с голубыми ставнями, весь какой-то выпуклый и весёлый. Мальчишка, перехватив поудобнее клетку, вытянул из кармана обтрёпанных коротких штанов ключ на длинном шнуре (второй конец шнура был пришит внутри кармана к изнанке), отпер замок и, отворив дверь, скрылся в домике. Войдя внутрь, он поставил клетку с взъерошенной птахой на пол, замкнул дверь изнутри и, подняв обнаружившуюся в полу крышку погреба, сошёл вниз по деревянной, с широкими ступенями лестнице.
За этим белым домиком располагался небольшой садик с полудюжиной фруктовых деревьев. Садик граничил с соседским огородом, на котором виднелись две шпалеры аккуратных маленьких грядок. А уже за этим огородиком, отделённый от него густой стеною из разросшейся, переплетённой виноградной лозы, стоял соседский дом, – на каменном цоколе, с мезонином. Дом был наряжен в покров из толстого слоя серой штукатурки. Все окна на первом этаже были завешены тяжёлыми ставнями, и лишь окно мезонина пялилось в проходящий мимо переулок зеленоватым, толстым, старинным стеклом.
Не прошло и пяти минут, как мальчишка вылез из погреба. Вот только не того, возле которого стояла клетка с притихшей наконец птицей, а погреба второго, серого дома.
Пройдя из кухни в жилую комнату, он поднялся по довольно крутой лестнице в мезонин и, улыбнувшись и довольно потерев друг о дружку ладони, сел за небольшой чёрный стол, пристроенный возле окна. Продолжая улыбаться, юнец вытянул ящик, достал из него и положил на стол лист плотной бумаги и серебряный, в кожаном чехле-цилиндрике, грифель. Медленно, едва слышно стукнув, вернул ящик в нишу стола, взял в руку грифель и склонился над белым листом.
Через час с небольшим лист заполнили четыре бледных грифельных рисунка – дом Серых братьев, изображённый с четырёх сторон, – с забором, конюшней, сараем, воротами, с точным расположением и размерами дверей, окон и ступеней входной лестницы. Вытянув второй ящик, таинственный грифельщик достал из него кусок мягкой ткани и тёмную склянку с плотно притёртой фарфоровой пробкой. Открыв тёмный флакон, колдун смочил находящейся в нём жидкостью ткань, расправил её, держа за самые кончики, и накрыл ею только что завершённый рисунок. Накрыл, склонив голову, полюбовался и встал из-за стола. Быстро разделся до нательных (шёлковых!) панталон, подошёл к занимающему добрую половину мезонина высоченному шкафу и, нажав на что-то невидимое сбоку, отпахнул массивные створки. В шкафу, в два этажа, висело на плечиках неисчислимое количество разной одежды. Внизу, на слегка наклоненных полках стояло неисчислимое же количество пар различнейшей обуви. Вытянув наружу из чёрных недр шкафа круглую деревянную траверсу, – короткую, толстую, – деловитый пацан нацепил на неё пару изъятых из шкафа плечиков, и ещё пару, – снятых длинным шестом с рогулькой с верхнего яруса. Невесомо присев, юный фокусник влево-вправо поводил задумчиво головой и, кивнув сам себе, взял с полки и поставил под траверсой пару ботиков на неброско увеличенном каблуке. Верхняя кромка коротких голяшек была оторочена кантом плотного меха, цвета между сизым и бирюзовым (разумеется, крашенным). (Да, кант был меховой, а за окном плавилось лето.) Затем раздетый до шёлкового исподнего костюмер вернулся к столу, сел, вытянул новый ящик и, с любовью посмотрев на лежащую поверх листа ткань, принялся выкладывать поперёк столешницы – вертикально, от себя – коробочки, свинцовые баночки, кисточки и шкатулки. Да, ещё кремень, трут, огниво и огарок свечи. Придвинул с другого угла прятавшееся там в полумраке на круглой подставке вытянутое вертикальным овалом тяжёлое зеркало, поставил перед собой и, наклонившись к нему, за четверть часа сделал себе другое лицо. Белые усики, белый клинышек бороды, бледная с серым кожа в неглубоких морщинах и старческий (или чахоточный) лёгкий румянец. Запалив трут, затейливый старичок поджёг свечу, наплавил лужицу воска и быстрыми, нервными прикосновениями нанёс жидкий воск на кончик носа и ноздри. Нос заблестел – как у старинной лакированной куклы. С усилием, опершись нетвёрдой рукой, лакировщик поднялся, подошёл к приготовленному гардеробу и медленно, как бы даже смакуя, облачился в чулки с вшитой подкладкой, делающие икры твёрдыми и выпукло-шишковатыми, в короткие панталоны с огромными перламутровыми дисками пуговиц по бокам у колен, в длинный, с откровенно сальными полами зелёный сюртук, в малиновый обтягивающий появившийся орешек пузца жилет, на который от плеч до кармашков были набиты нитяные белые мушки (в подражание горностаевым хвостикам на королевских мантиях), в крахмальную, толстую и жёлтую от времени сорочку, ворот которой замыкал новенький, идеально белый, со строчкой мелкого жемчуга шейный платок, и, наконец, в золочёную узкую перевязь без шпаги, нацепленную наискось через грудь. Затем забавный старикан снял с головы короткие светлые волосы и надел на голый шар невеликого черепа белый напудренный паричок. Завершили картину тёплые, с каблучком, ботики. Задышав болезненно, с хрипом, человек-канарейка проковылял, выворачивая наружу костистые подрагивающие колени, к столу – и убрал с бумаги утратившую влажность ткань. Бывший бледный грифельный рисунок на ней был теперь ярко-чёрным. Высыпав на набухший лист плошку чернилосушительного песка, одышливый чертёжник вернулся к шкафу, добыл из него трость с шаром из потускневшей слоновой кости и закрыл уходящие под потолок створки-ворота. Освободив лист от песка, бесшпажный гуляка свернул его в трубку, стянул ниточкой, упрятал во внутренний карман засаленного сюртука, стуча тростью, спустился по лестнице вниз, вышел из дома, запер дверь и шагнул в переулок, противоположный тому, по которому не так давно прискакал, радостно прыгая, с пойманной птицей удачливый древолаз.
А благообразный, почтенный клерк с мозолями от боевой маски закончил обедать и сидел, отдуваясь, переваривая употреблённую пищу, добавив к стоимости заказанного мелкую монетку за право не освобождать пока оголённый и влажно поблёскивающий после мокрой тряпочки стол.
Так он сидел до тех пор, пока в трактир не вошёл, вздёрнув носик, с остатком былого умишка старик, утративший силы носить дворянскую шпажку, но сохранивший их для ношения золочёной шпажной перевязи. Тут клерк встал и вышел. Старичок остался в трактире, а клерк взобрался в свой экипаж и, когда кучер тронул пару застоявшихся лошадей, белолицый испанец наклонился и поднял с пола кареты свёрнутый в трубку лист плотной бумаги, стянутый прочною ниткой.
Летучая мышь со стальными когтями
В отличие от коротышки, приготовления «клерка» были скудны и неинтересны: он просто ждал. А вот его появление, опять же в отличие забавного старого чудака, обойти вниманием невозможно.
Заморский наёмник, бульдог, один из тех, о которых Бэнсон услышал на балу мертвецов, ждать умел – и дождался. Очередная ночь, опустившаяся на Плимут, принесла с собой чёрную, гулкую, с затяжным ливнем грозу. В полночь, когда всё живое покинуло улицы оцепеневшего города, к обречённому дому подобралась повозка-фургон, на каких обычно странствуют бродячие цирковые актёры.
В кромешной тьме единственным освещением были вспарывающие низкое небо молнии. Пользуясь их внезапными, кратковременными посверками, фургон добрался до конечной цели своего путешествия: приметному, слегка покосившемуся забору. Однако для закутанного в тяжёлый плащ возницы и одного одетого во всё чёрное, а оттого совершенно неразличимого пассажира забор не был достаточным ориентиром. Они, спрыгнув на землю, несколько раз, во мгновения слепящего света молний, подавали коней то вперёд, то назад, пока наконец не достигли точного, выверенного места. После этого возница закрепил колёса, лишив их подвижности, а пассажир влез обратно в фургон. Он там щёлкнул чем-то, и вдруг – о, если бы этот фургон видели в ту минуту кто-нибудь из полицейских или просто мирных обывателей, – они бы от изумления онемели! – плоская крыша разделилась посередине и, наподобие опрокинутого на спину шкафа, поднялась к небу двумя длинными створками. Небо немедленно обрушилось водопадом в чёрные недра кареты. И едва лишь ударила новая молния, в этих недрах на миг осветилось похожее на паука невиданное устройство, напоминающее древнюю боевую баллисту. В сущности, оно и было баллистой, только вот на край длинного рычага-лопаты, вместо метательного снаряда уселся тот самый, в чёрной и теперь уже мокрой одежде. Он хлопотливо пробежался ладонями по груди, подмышками, бокам, коленям и щиколоткам, сел поудобнее и чем-то щёлкнул. У ног его, по сторонам пяток, – два слева и два справа, – выдвинулись и замерли четыре металлических клина – острые накладные когти. На ладонях, на надетых на кожаные перчатки стальных пластинах так же вскинулись и замерли в послушном ожидании два лезвия – короткие, клиновидные, слегка подогнутые к запястьям, – как будто у объявившегося в Плимуте ночного оборотня выросли в лапах два добавочных пальца. Зловещий затейник притаился и замер. Когда блеснула новая молния, он едва заметно напрягся, отсчитал короткое время – и нажал на невидимый рычажок. Тотчас язык баллисты неторопливо, но всё более ускоряясь, обнаруживая скрывавшуюся в калёных пружинах могучую силу, взмыл вверх, унося в падающий с неба ливень задержавшего на миг дыхание человека.
Время было отсчитано точно, и, когда ложка баллисты бросила живой снаряд перед собой вперёд-вверх, над Плимутом прокатился оглушительный удар послемолниевого грома. Треск и грохот ещё разламывали небо, а унёсшийся в чёрную бездну скорчившийся человек, растопыривший в полёте колени и локти, гигантской, неведомо откуда взявшейся летучей мышью упал на деревянный скат двухэтажного спящего дома. Гром начисто стёр звук его «приземления» и, впившись когтями в старую кровлю, человек замер.
Замер. Невидимый в темноте, растянул губы в недоброй, остро-самодовольной улыбке. Ливень хлестал, струи воды мгновенно пропитали одежду, а невиданный путешественник, слизывая с губ дождевые капли, сидел неподвижно, ожидая следующего содрогания туч и, белея оскалом крупных крепких зубов, улыбался.
Когда крыши города осветила новая молния и навалился на эти же крыши неотвратимо следующий за молнией гром, пришелец, раскачав, вытянул из дерева впившиеся в него когти и, быстро, ловко, как чёрный жук, или кузнечик, или та же летучая мышь пробежал до края крыши – быстро, легко, – по мокрому, скользкому скату. Когда гром иссяк, жук-кузнечик-летучая мышь, свесившись с кромки крыши, уже влезал в выдавленное чердачное окно. Очутившись в сухом и чёрном чердачном чреве, пришелец убрал, щёлкнув, когти и, осторожно ступая, двинулся вдоль стены.
Дом спал. Человек, притаившийся на чердаке, достал наточенный до бритвенной остроты нож, вставил конец лезвия в щель потолочного люка и осторожно отпахнул створку. Прислушался. Потом бесшумно и медленно стал спускаться по вертикальной узенькой лестнице.
Через минуту он попал в прихожую, где слева от входной двери стоял старый сундук, а справа была та самая лестница на чердак. Прямо перед пришельцем был коридор, или небольшой вестибюль, в дальней стене которого виднелись две двери, ведущие в жилые покои. Именно виднелись, так как вестибюль был освещён неровным, мерцающим светом. Свет шёл откуда-то сбоку, из невидимой пришельцу части вестибюля. Человек в чёрном достал из внутреннего кармашка зеркальце в пробковой мягкой оправе и, склонившись к самому полу, осторожно выдвинул зеркальце за угол. Да, в торце вестибюля, у дальней стены, сидел бодрствующий монах. При свете одинокой свечи, низко склонившись, он читал какую-то книгу. Человек в мокрой чёрной одежде знал достаточно об обитателях дома для того, чтобы присутствие сторожа не стало для него внезапным открытием. О том, что этот монах – именно страж, говорило ещё и то, что он намеренно не давал себе заснуть: на самом краю чуть наклоненной к нему столешницы, от верхней кромки до нижней, была выточена канавка. Монах, не отвлекаясь от чтения, запускал по этой канавке небольшой металлический шарик. Оставленный на верхнем краю столешницы, шарик неторопливо скатывался вниз, и внизу он непременно должен был попасть в чернеющее в конце канавки отверстие – но не попадал: машинально, одним бесконечно повторяющимся движением монах подставлял троеперстие, ловил вкатывающийся в него шарик и снова поднимал его вверх, к началу пути.
Человек за углом медленно, стараясь не шуршать одеждой, убрал зеркальце. И снова хищная полуулыбка выползла на его лицо. Приподнялись набитые фехтовальной маской мозоли. Он прекрасно умел мгновенно и тихо убивать вот таких, старающихся не уснуть сторожей, а потом проникать в тёплые, тёмные жилые покои и неторопливо, бесшумно закалывать спящих. Он всегда делал это заученно и машинально, вот так же, как читающий книгу монах сейчас оперировал своим шариком.
Итак, бульдог спрятал зеркальце, и вместо него приготовил тяжёлый и длинный метательный нож. Он взял его в правую руку и поднял над головой. Развернулся боком. Невесомо шагнул в освещённое пространство коридора и коротко, с силой махнул рукой. Грудь монаха была прикрыта толстой книгой, и прицел броска ночной гость взял выше её. Нож ударил прямо в лицо, и прямое, длинное лезвие с искусно втравленной по обеим сторонам шероховатостью[17] почти на дюйм выскочило из затылка. И в ту же секунду быстро и ловко, как кошка, испанец метнулся вперёд – подхватить падающее тело. Шума в таких делах он не допускал.
Он схватил обмякшее тело, и поймал и прижал к себе книгу, и снова радостно улыбнулся. Но он не мог знать о секрете железного шарика, который когда-то придумал купивший дом мастер Альба. Сорок лет эта тайна ожидала страшной возможности оказаться полезной. Шарик, не встреченный теперь рукою монаха, докатился-таки до отверстия – и в нём пропал. Там, под полом, внизу, он ударил в какой-то невидимый рычажок, и тотчас за спиной убийцы упала железная кованная решётка. Клацнули поймавшие её под полом защёлки. Дом вздрогнул.
Вздрогнул и испанец, и стал часто-часто дышать. Он не метнулся к решётке, перекрывшей весь коридор, не стал проверять её на прочность, – так же, как и три остальные стены. Посвящённый в правила своего мира, он просто принял приветствие от неведомого Мастера, и готовился заученно действовать дальше.
Вестибюль за решёткой наполнился полуодетыми людьми. Принц Сова стоял впереди всех и в упор смотрел на бульдога своими круглыми, близко поставленными к переносице, немигающими глазами. Вдруг юный монах, почти совсем ещё мальчик, бросился к решётке и отчаянно закричал:
– Брат Беренгар!! Он убил Беренгара!!
Сова схватил его за руку и оттянул от решётки.
– Прошу, поднимись наверх и выпей воды, – сказал он. – Тебе ещё рано видеть то, что произошло здесь. Как и то, что сейчас ещё произойдёт.
Над домом снова оглушительно ударил гром.
Кто-то из монахов обнял мальчишку за плечи и вывел из вестибюля.
Человек за решёткой, не переставая часто дышать, медленно снял с себя мокрую чёрную одежду. Обнажившись до пояса, он выложил полукругом перед собой набор оружия и приспособлений. Затем встал на колени и произнёс:
– Вы никогда не узнаете, кто меня нанял. И поспешите к своему Беренгару, он ещё жив.
После этих слов он поднял лежащий перед ним нож, – короткий, с массивной ручкой, – и вонзил его себе сбоку в живот. Хрипло выдохнув, остановил дыхание, и резко провёл до рукояти вошедшим ножом поперёк живота. Заалела длинная полоса. Испанец ткнулся головой в пол, завалился на бок. Под ним стала расплываться лужица крови.
– Руки прочь!! – вдруг страшным голосом прокричал принц Сова, и один из монахов, испуганно вздрогнув, выпустил уже было нажатый рычаг, поднимающий решётку.
– Но он мёртв! – отчаянным голосом проговорил он, обращаясь к Сове, – а Беренгару нужно быстрее помочь…
– Мёртв как раз Беренгар, – леденяще спокойным голосом ответил Сова. – А наш гость не только жив, но и полон сил. Смотрите все, кто видит, и запоминайте. Примерно так это обычно и происходит. Как только мы поднимем решётку, он подпрыгнет, как на пружине, и всех нас убьёт. Всех, и даже меня. Мы – полусонные, вялые, а он довёл себя до состояния, когда человек голыми руками разбивает дубовые доски и гнёт железо.
– Но мы видим, что он зарезал себя, – неуверенно сказал кто-то из собравшихся.
– Это не так, – покачал головой принц Сова и попросил: – Принесите мушкет.
На минуту в вестибюле повисла давящая тишина. Принесли и передали Сове мушкет. Он, всунув ствол в ячейку решётки, проговорил:
– Встань. Подойди к решётке и протяни к нам сюда руки. Иначе мне придётся стрелять.
Тот, кто только что зарезал себя, не дышал и не двигался. Со стороны это выглядело неправдоподобно: человек, вооружённый мушкетом, очень серьёзно разговаривал с мертвецом. Монахи не двигались, смотрели, молчали. Сова взвёл курок. Прицелился. И так стоял пять или шесть бесконечно долгих минут. Было непонятно, чего он ждёт, и один из монахов уже начал негромко звать: «Беренгар! Беренга-ар!» – как вдруг над крышей снова ударил гром, и вот тогда-то громыхнул и плюнул огнём длинный мушкет. Все вздрогнули. Колено лежащего неподвижно испанца взорвалось и разбрызгалось красным по всем трём дощатым стенам. Мертвец подскочил и, пронзительно воя, стал отползать в дальний угол. Вздох и крик прокатились по вестибюлю.
– Теперь пусть он ослабнет, – сказал Сова, передавая назад окутанный дымом мушкет. – Через минуту можно будет поднять решётку. Дайте верёвку.
Но попавший в ловушку наёмник ждать минуту не стал. Волоча ногу, он выполз из угла и дополз до решётки. Протянув руки сквозь прутья, он прохрипел:
– Вяжите! И скорее перетяните мне ногу. Кровь уходит!
Сова крепко и тщательно привязал его руки к решётке и только после этого подошёл к рычагу. Решётка поднялась, и вместе с ней вытянулся вверх бывший мертвец. Монахи с изумлением увидели, что кожа на его животе действительно разрезана и кровоточит, но внутренности не вываливаются, и не обнажены даже брюшные мышцы. Сова быстро прошёл к столику, посмотрел на лежащего у дальней стены Беренгара. Сокрушённо покачал головой. Потом вернулся к натёкшей лужице крови, поднял «убивший» испанца нож. Всё его лезвие было утоплено в рукоять, высовывался лишь кончик – длиной, примерно, в десятую часть дюйма.
– Но как же такое возможно?! – воскликнул один из монахов.
– Пантелеус называл это «невротикус анэстэзис», – сказал принц Сова.
– А что это значит?
– Это примерно значит «полное обезболивание путём доведения себя до предельно лихорадочного состояния». Любому посвящённому было бы видно: выступивший мелкий пот, учащённое дыхание. В таком состоянии один мой печально знакомый вывернул себе суставы ступней и освободился от кандалов. Потом вернул суставы на место. А этот вот зарезал себя. Кончик ножа, посмотрите, выверен ровно на толщину кожи. Надеялся, что мы сразу решётку поднимем. Не напрасно же крикнул, что Беренгар ещё жив. Рассчёт точный.
Мимо пронесли с накрытым лицом Беренгара – как огромную, в рост человека, карнавальную куклу, у которой, вздымаясь под тканью, торчал из лица длинный нос. Увидев, что простреленная нога пришельца уже перетянута толстым жгутом, Сова одобрительно кивнул. Подошёл, отвязал руки, подхватил и уложил вдоль стены обессиленного испанца, снова связал ему руки, и распорядился:
– Всё, что было при нём – в мою комнату. Его – перевязать. Позовите меня, как только он придёт в себя. И, если он ничего не скажет, – то следующей ночью дом нужно будет покинуть. Так что пакуйте вещи.
Сказал и покинул вестибюль, заполненный тяжёлой смесью запахов дыма и крови. Но если бы он знал, что стоявший в двух кварталах фургон, не дождавшись к условной минуте возвращенья бульдога, на предельной скорости покатил в оговорённое заранее место, то он покинул бы дом немедленно, не дожидаясь следующей ночи, запретив монахам собирать даже самые нужные вещи.
Глава 6 Чёрный волк
Видели вы когда-нибудь настоящего волка? Рядом, когда между вами и ним – ни забора, ни клетки? Тот, кто встречался с этим зверем вплотную и по страной прихоти судьбы уцелел, помнит об этом ужасе до конца своих дней.
Идеи и планы
Игла Вайера, как оказалось, не принесла Бэнсону особенных неприятностей. Вечером следующего дня он уже мог разговаривать, не испытывая от этого боли. Он поведал Сове о том, что произошло в монастыре Девять звёзд. Затем – всё об охотниках за черепами. И, наконец, о своей встрече с Крошкой. Сова, откинувшись на спинку удобного кресла, не шевелился. Слушал. Молчал.
– Что теперь? – спросил Бэнсон, подытоживая свой невесёлый рассказ.
– Ты говоришь, – вместо ответа спросил принц Сова, – что этот Стэнток остался в числе приближенных к Дюку?
Он встал и прошёлся по комнате, продолжая размышлять вслух и самому же себе возражая:
– Нет, нет. Один человек, – даже если правильный человек, с совестью, – ничем не поможет. Ну, получится Дюка убить. Всё равно ведь останутся с полдюжины охотников за головами. И будут они вдвойне осторожней. И азартней. Ведь коллекцию Дюка они сразу разделят. Появятся у них новые поставщики, и сидеть без работы уж им не придётся. Хотя… вот если бы сделать так, чтобы эта коллекция вдруг исчезла. Стала для них причиной острой вражды. Чтобы они принялись воевать между собой, и дали бы нам хоть маленькую передышку. Я бы успел вывести из города оставшихся Серых братьев.
– А что значит «оставшихся»? – угрюмо спросил Бэнсон.
– Значит – уцелевших. Солдаты убили всех монахов, живших в том доме, куда ты вчера так неосмотрительно сунулся. Да. Я в тот день всё подготовил к уходу. Мы сидели на сундучках и ждали, когда стемнеет. Но за час до сумерек дом окружили солдаты. Наши, заметь, родные, английские. Они вышибли дверь и стали стрелять во всех, кто попадался им на глаза. Очевидно, им так приказали. Выстрелив, солдат откидывался к стене, пропуская вперёд следующего, у кого мушкет был заряжен, и тот, в свою очередь, спустив курок, так же уступал дорогу идущему следом. Это была бойня, Бэнсон. Серые братья – они ведь монахи. Обычные мирные монахи. Они лишь помогают нам, «чистильщикам». И вот – грохот мушкетов. В упор, и каждого – насмерть. Я остановил «красные мундиры» лишь между вторым этажом и мансардой. Положил в одну кучу, друг на друга, шестерых солдат, и остановил остальных. И держал почти час, пока не стемнело. Потом ушёл через крышу.
– И кроме тебя… – ещё более угрюмо сказал Бэнсон…
– … не ушёл больше никто, – тихо и просто ответил Сова.
– Я всегда считал, что Англия – цивилизованная страна! Если известен преступник, солдаты должны его арестовать и передать в суд. Как же так – стрелять без разбора, в монахов!
– Думаю, – тот, кто известен тебе под кличкой Монтгомери, отдал понятный приказ. Убить всех. Потому что «все в этом доме – переодетые контрабандисты, – опытные, смертельно опасные». Даже ты, случись тебе быть на королевской службе, делал бы то же, что и остальные «красные мундиры».
– А что стало с наёмником? Тем, что убил Беренгара?
– Я его заколол, – спокойно ответил Сова. – Не оставлять же. Хороший был враг, тренированный. Братья должны были увезти его в Эрмшир, в собственную тайную тюрьму. Не повезло. Он, как только услышал первые выстрелы, сразу всё понял. Попросил возможности помолиться. Внизу убивали моих друзей, а я стоял над ним с его собственным ножом, и ждал, когда он дочитает молитву. Как жизнь запутана…
После недолгого молчания Бэнсон снова спросил:
– Почему ты был уверен, что я догадаюсь, где тебя отыскать? И как ты «приручил» этого скупщика краденого?
Сова улыбнулся.
– Приручил так же, как некогда шайка нахалов обошлась с сэром Коривлем в бристольском адмиралтействе. Теперь бывший покровитель воров – добропорядочный торговец, состоящий на службе у лондонской тайной полиции. Вот только звезды с алмазами у меня не было, так что в Плимуте всё прошло не так торжественно, как в Бристоле. А где меня искать… Я ведь ждал вас двоих. Тебя и мастера Альбу.
– Понятно…
Теперь уже Бэнсон встал и принялся ходить из угла в угол неторопливыми, твёрдыми шагами.
– Я ещё вот что хочу спросить. – Он остановился и посмотрел мимо Совы в голую дощатую стену. – Вот тот случай в покерной комнате, когда в шёлковую драпировку как будто ударил невидимый шмель. Что это было?
– Полагаю, всё просто. Игроки – все из знати, богатые неимоверно. Азарт. Деньги. Большие деньги! Кто-то из этой компании сговорился с хозяином дома. Они проделали люки в стенах, через которые с помощью подзорной трубы можно высматривать – какие у игроков карты. И сообщать кому-то из тех, кто сидит за столом. Как именно сообщают – можно определить, окинув помещение взглядом и немного подумав. Ты разве не знал, что шёлк только издали непрозрачный, а если глаз приблизить вплотную – видно всё до деталей? Тем более – если смотреть из тёмного помещения в светлое. Тем более – в подзорную трубу. Вот кто-то из подглядывающих неосторожно ткнул краем трубы в драпировку, а ты в этот миг поднял взгляд. Случайность – главный слуга судьбы.
Бэнсон подошёл к стене, поводил по ней пальцем. Постоял минуту в раздумье.
– Вот что, Сова, – сказал он. – У тебя есть надёжный человек, который отвёз бы письмо в Бристоль?
– Да. Пока ещё есть. Что за письмо?
– Прощальное. Попрощаюсь с Алис и с друзьями.
– Почему, Бэнсон?
– Потому, что в следующую субботу я вернусь к игрокам. Мне мастер Альба подарил прекрасный урок, которым я намерен воспользоваться. Слушай, Сова. Не важно, – останусь я жив или нет. Скорее всего, что нет. Но ты получишь необходимую передышку. Уводи уцелевших монахов. Собирай своих «чистильщиков». Очень скоро те, кто используют армию для убийств, будут воевать друг с другом. Обещаю. Тебе останется лишь подождать и отправить в Эрмшир победителя.
– Иначе – нельзя? – спросил Сова из другого угла комнаты. – Насколько известно, у тебя в Бристоле – жена и маленький сын.
– Ну да. Я вернусь к ним, зная, что в Англии убивают людей – только потому, что кто-то коллекционирует черепа – и буду спокойно спать? Нет, я ступил в мир мастера Альбы. В твой мир, Сова. Меня никто не звал, я сам напросился. Я когда-то был поражён поступком корабельного плотника Томаса Локка, который один встал против девятерых крепких матросов. На необитаемом острове. Где не было ни полиции, ни закона, ни самой малой защиты. Он встал, а я нет. И я после этого понял, что пойду за этим человеком хоть на край света. Так было устроено моё сердце. Так оно устроено и сейчас. Да, я сознаю, что не увижу сына и любимую женщину. Но я из драки не выйду. Некуда, понимаешь?
– Очень хорошо понимаю, – вдруг улыбнулся принц Сова. – Я тоже не выйду. Но ты уверен, что они набросятся друг на друга? Ты сможешь спрятать от них коллекцию Дюка?
– А я и не стану её прятать. Их погубят не черепа, мой добрый друг. Их погубит золотой идол: покер по воскресеньям.
– Но тогда, – принц Сова не переставал улыбаться, – тогда я смогу во-первых – не убивать Вайера, во-вторых – спасти оставшихся Братьев, и в-третьих (он в точности по-совьи, коротким хищным движением втянул голову в плечи) – навестить Милого Слика.
– Это ещё кто?
– Если ты избавишь меня от охотников за черепами, то он – больше никто.
В это время в коридоре послышались шаги. Дверь приоткрылась и бывший покровитель воров, бывший владелец бэнсонова арбалета, преодолевая неловкость, проговорил:
– Ваша светлость… И вы, ваша светлость… Покушать… поужинать. Всё готово!
И, кланяясь, затворил дверь.
Ни Бэнсон, ни принц Сова не курили трубок. Поэтому после ужина они молча сидели возле камина и смотрели в огонь.
– Сова, – негромко сказал Бэнсон. – Мне мастер Альба рассказывал про себя. А кто ты? Как ты нашёл Серых братьев, и как стал чистильщиком?
– Я был очень маленьким. И это они нашли меня. Вернее, сначала меня нашёл волк.
Изгнанник
Поместье герцога Кагельберга, за 30 лет до наших событий.
Со стороны окраинных земель Италии, на север, по пустынной и пыльной дороге двигалась маленькая кавалькада. Четырёхдверная карета, возок и три всадника.
В карете ехало небольшое семейство: отец, проживший, на вид, около полувека, мать (немного моложе его), дочь лет девятнадцати и маленький сын. Мальчишка был бледен, молчалив и малоподвижен. Он был почти втрое моложе своей сестры. И ещё – он очень плохо переносил дорогу.
Кроме них, в полутёмном (окна были задрапированы пыльниками) и душном овале кареты сидела ещё и служанка. Она была из той редкой породы слуг, которые не крадут разные хозяйские мелочи, не суют носа в чужие дела, и уж тем более о них не болтают.
– Если встретится река или пруд, ваше величество, – сказала служанка, усталым голосом нарушив однообразие дорожных звуков, состоящих из стука копыт и весьма тревожного поскрипывания колеса, – прикажите остановить. Мальчику необходимо смочить грудь и лицо.
– Для короля-изгнанника, Луиза, – негромко ответил мужчина, – обращение «ваше величество» весьма успешно может обернуться топором или верёвкой.
Луиза, мучительно покраснев, опустила глаза и поправилась:
– Прошу прощенья… мессир.
«Мессир» привстал и, отодвинув кулису, сказал в спину вознице:
– У ближайшего водоёма останови.
– Будет исполнено, ваше величество! – резко сдунув с губ пыль, ответил слегка опьяневший от непрерывного покачивания кучер.
Отдавший распоряжение ничего не ответил. Задвинул кулису, сел, обернувшись к спутникам и сокрушённо покачал головой.
Королева, наклоняясь к ребёнку, устало, и озабоченно, и с любовью произнесла:
– Мой хороший! Ты можешь ещё чуть-чуть потерпеть? Как только встретится самый маленький ручеёк – мы остановимся и походим. И умоемся, и выпьем водицы, и всё будет хорошо.
Мальчишка, подняв к ней страдающее лицо, едва заметно кивнул и сделал слабую попытку улыбнуться. В этот миг в кулису снова послышался стук – на этот раз гораздо более громкий.
– Город! – крикнул возница. – Город, мессир!
Кавалькада остановилась. Путники ступили на землю.
– Нет, не город, – сказал король. – Домен.
– Что такое домен? – спросил чуточку оживившийся сын.
– Когда-то был большой замок. Потом его владелец разбогател. У него стало много вассалов. И для них возле замка было построено много домов. А они уже для своих слуг построили много домишек. Всех нужно было одевать и кормить, и постепенно здесь появились разные мастера – ткачи, кузнецы, повара, плотники. Они богатели, заводили своих собственных слуг. Рождались дети. Появлялись новые постройки. Так возник домен. Частное владение. Маленький город, ещё не имеющий права называться городом.
– Мы заедем туда? – спросила у короля его супруга. – Мы так устали.
– Лучше всего нам никуда не заезжать, ни с кем не встречаться и не разговаривать, – отозвался король. – Так что в город нам поворачивать нельзя. – И добавил, обернувшись к вознице: – поворачивай в город.
Лошади, почуяв жилые запахи, без понуканий прибавили шагу. Через полчаса добрались до главных ворот домена. Возглавляющий кавалькаду всадник, привстав в стременах, прокричал наверх, привратнику, высунувшему голову за край стены:
– Обеда и крова!
– Чужих земель или наших? – крикнул сверху привратник.
– Чужих! – ответил просящий и, предворяя дальнейшие объяснения, блеснул подброшенной над ладонью монетой.
Заменяющая створку ворот решётка дрогнула и поползла вверх.
– Владелец замка, видно, добрый хозяин! – заметил передний всадник, отдавая монетку привратнику и кивая на поднявшуюся без малейшего скрипа решётку.
– Ещё какой добрый, – ответил привратник.
Интонация, вложенная им в последнюю фразу, должна была бы путников насторожить, но они очень, очень устали.
Привратник, опустив ворота, пошёл впереди, по кривым узким улочкам, показывая приезжим дорогу. Он с нескрываемым удовольствием рассматривал серебряный чеканный кругляш. Однако перед очередным поворотом монету убрал и лицо сделал исполнительно-глуповатым. Повернув, кавалькада въехала в просторный двор, окружённый высокими стенами с растянутым по всему периметру балконом. Карета остановилась. Путники ступили на безупречно плоский, мощёный каменными блоками двор. Подбежавший конюх подхватил лошадей под уздцы и повёл их в длинное, вдоль всего первого этажа, помещение без дверей, в котором между колоннами виднелись стоящие в два ряда экипажи.
– Кто владелец этого прекрасного замка? – спросил король, отряхивая пыль с одежды.
Он обращался к привратнику, но ответил ему громкий голос сверху, с балкона:
– Герцог Кагельберг владелец этого прекрасного замка.
Все приехавшие, в том числе и едва стоявший на ногах мальчик, обратили взоры к балкону. Человек, ответивший на вопрос короля, был молод, горд и красив. Он имел длинные, чёрные, слегка вьющиеся волосы до плеч и короткую, клином, ухоженную бородку. Поверх облачения из синей крашеной шерсти на нём был длинный белый нагрудник, спускающийся до колен. На его белом широком поле был нашит алый мальтийский крест.
После произнесённых слов стоящий на балконе человек слегка склонил голову, так что приехавшим стало ясно: герцог – это он.
– Позвольте представиться! – король, словно простой дворянин, снял дорожную шляпу и церемонно провёл ею перед собой.
– Нет, нет и нет! – воскликнул человек с балкона, отгораживаясь от стоящих внизу вскинутыми ладонями. – Сначала всем – горячей воды, потом – хороший обед, и только после него – обмен любезностями и беседа.
Герцог сделал шаг назад и скрылся в дверном проёме. Вместо него, уже внизу, у парадной двери, появился толстенный, с глазами навыкате и багровым лицом, камергер. Его обширное брюхо не позволяло ему кланяться, и он заменил поклон коротким приседанием, соединённым с наклоном лысеющей головы. На секунду состроились ромбом его пухлые кривоватые ножки.
Он проводил гостей в прекрасные, со знанием дела устроенные покои. На втором этаже, из просторного холла влево вела дверь – в комнату для прислуги, и вправо – точно такая же, тоже в комнату для прислуги. И одна, большого размера дверь вела прямо, в короткую анфиладу из трёх комнат. Высокие окна, тяжёлые резные столы и кресла. В самой дальней стене – тщательно вычищенный камин. В обеих комнатах, с одной стороны был альков со спальной кроватью, с другой – таких же размеров альков с несколькими бочками воды, мыльными лавками и круглым сточным отверстием в середине пола.
Один из всадников, сопровождающих короля и его семью, остался с лошадьми. Двое других внесли дорожные вещи и заняли одно из помещений для прислуги. Во втором поселилась Луиза. Камергер пригласил остальных осмотреть анфиладу и, когда он показывал мыльный альков, откуда-то сверху упал и стал гулко биться в пустую дубовую бочку столб горячей воды (над краем бочки вспухли туманистые ниточки пара).
– Его светлость герцог просит вашего разрешения на выбор блюд по его усмотрению, и сообщает, что обед будет подан ровно через два часа.
С этим он отбыл, и дочь короля издала негромкий стон, говорящий о крайней усталости и предвкушаемой радости от горячей ванны и почти полуторачасового отдыха.
– Маргарита! – укоризненно шепнула ей королева-мать. – Больше достоинства!
Дочь, с виноватым лицом, сделала книксен и занялась младшим братом, который опустился на пол и сидел неподвижно, закрыв глаза.
В это время в гостевой холл прибежал пажик – расторопный малый, с намазанными салом и гладко зачёсанными волосами. Он поманил Луизу с собой, весело заявив:
– Пойдём-ка, возьмёшь чистые простыни.
Приглашение было понятным и заурядным, и Луиза, перестав распаковывать вещи, поспешила за вертлявым пажом. Внизу, в подвале, он действительно передал ей высокую стопку выбеленных простыней, но, когда она поднималась с ними наверх, путь ей заступил кто-то высокий, прятавшийся в тени. Он сначала поднёс к самому её лицу серебряную монетку, подержал её, вращая влево-вправо, а потом произнёс:
– Скажи-ка, милашка, кто твои хозяева и куда едут.
Луиза, подбросив и поудобнее перехватив простыни, отрицательно качнула головой.
– Зачем мне деньги, – сказала она, – когда никакой тайны в этом нет. Мы…
– Нет, – перебил её человек. – Кто они на самом деле?
Он выждал небольшую паузу и, поскольку Луиза молчала, спрятал монетку в карман, а вместо неё достал новую: золотую.
– Ну? – спросил он с нажимом. – Кто из слуг не любит денег? Ведь и ты любишь деньги.
– Вот я возьму монету, – спокойно сказала Луиза, – потому, что я, допустим, люблю деньги. А потом приду к моему хозяину, и расскажу про ваши расспросы. И у него возьму за это монетку. Ведь я люблю деньги. Потом вернусь к вам, чтобы сообщить о том, что ответил мне мой хозяин, и у вас возьму ещё одну монетку. Если я так люблю деньги. Потом снова приду к хозяину… Как вы думаете, соберу я хотя бы пять монеток, прежде чем мне отрежут язык?
Она повернулась боком и вознамерилась пройти, но высокий человек придержал её за прижимающий простыни локоть.
– Единственное, что мне нужно знать, – сказал он голосом на этот раз протокольным и громким, – это то, что твой хозяин не спасается от правосудия, совершив какое-нибудь преступление. Он случайно не еретик? Любому видно, что вы мчитесь, не щадя ни лошадей, ни себя. Ну? Он преступник?
– О, нет! – с жаром воскликнула Луиза.
Она набрала в грудь воздуха, чтобы заученно выложить, кто они и куда направляются, но странный человек утратил вдруг своё любопытство. Он заявил:
– Если нет – хорошо. Иди. А я – помощник судьи, и я здесь в гостях.
И он пошёл по ступеням вниз, а Луиза понесла наверх свои простыни.
– Как тебя зовут? – долетел вдруг снизу, из темноты, повелительный окрик.
– Луиза, господин помощник судьи! – ответила, приостановившись, Луиза.
Она постояла, ожидая новых расспросов, но их не последовало. Тогда она поспешила в гостевой холл, чтобы застелить постели и сообщить о неприятной встрече своему королю. Тот, услышав конец истории, распорядился сделать вид, что ничего не произошло, и сам не стал излишне тревожиться, и очень, очень напрасно.
Высокий человек, спустившись в подвал, быстро прошёл длинный, с выложенными вдоль одной из стен бочками, коридор, поднялся по лестнице, сделал один поворот – и оказался в конюшне.
– Напоили лошадей? – дружелюбно спросил он, подходя к одному из сопровождавших короля всадников.
– Да, господин. Всё хорошо, вода была тёплой.
– А как овёс?
– Да что спрашивать? Смотрите. Отборный овёс. Сам бы ел!
– Так, так. А кучер-то где?
– Умывается.
– Так, так. На, посмотри.
И незнакомец вложил в руку гостя золотую монету.
– Золото! – оторопело прошептал всадник.
– Твоё золото, – сказал негромко «помощник судьи». – Все слуги любят деньги. – И, встретив недоумевающий взгляд, пояснил: – Мне тут Луиза нашептала кое-что. И я хочу у тебя проверить, правда ли это. Ты монету-то спрячь. Слыхал же – твоя. Так вот. Скажи: кто на самом деле те, кто приехали в карете?
И всадник, секунду помешкав, приоглянулся и, встав на носки, прошептал что-то высокому человеку в самое ухо. Лицо у того вытянулось от изумления, но спустя миг вдруг стало безжалостным и холодным.
– Берегись, если соврал, – зловеще проговорил он, заглянув в самые зрачки королевского стражника.
Повернулся и торопливо пошёл. А всадник стоял, чего-то вдруг испугавшись, и отчего-то вдруг покраснев, и, хлопая себя по груди, стряхивал прилипшие к ладони крупные, жёлтые зёрна овса.
Спустя пять минут «помощник судьи», рабски согнувшись, стоял перед владельцем замка и молчал. А тот сидел на невысоком, с резной спинкой троне и тоже молчал. Потом произнёс одно только слово:
– Принеси.
И спустя ещё пять минут высокий человек стоял на прежнем месте. Лицо его было покрыто потом, и он часто дышал. А герцог, откинувшись на спинку трона, читал какой-то свиток.
– Да-а, – сказал он, закончив читать. – Большую сумму обещают за его голову. К слову, слишком большую для того, чтобы честно выплатить. Как это его к нам занесло?
– Счастливый случай, ваша светлость!
Герцог взглянул в лицо стоявшего перед ним. Негромко, но с металлом в голосе проговорил:
– Если это не он… заколись лучше сам. Если он… У него должна быть шкатулка с королевскими драгоценностями. Так вот, за исключением этой шкатулки – всё его имущество можешь считать своим. Включая коней и карету.
– И служанку? – осторожно спросил успокаивающий дыхание человек.
– Что, хороша? – хищно оскалился герцог, и вдруг поднял палец: – Подожди-ка… Это что же, выходит, та юная дева – принцесса? Вот она-то, любопытно мне, хороша? Что-то не разглядел.
– За обедом, ваша светлость, всех разглядите! – подольстился «помощник судьи», кивая в сторону донёсшегося из соседней залы звона столовых приборов.
Герцог легко поднялся с трона и пошёл в сторону этого звона.
– Никогда ещё не ждал обеда с таким нетерпением! – громко заявил он, подходя к предлинному столу, накрытому с одного края синей скатертью. – Когда заканчиваются два часа?
Они закончились скоро, и счастливые, освободившиеся от дорожной пыли путешественники сели за стол.
Герцог не сводил глаз со смутившейся до слёз Маргариты. А «помощник судьи», выглянув издали, немо спросил своего хозяина: «ну вот, видите?!» И тот хищным, ликующим взглядом ответил: «о, да!»
Закончив обедать, король отложил приборы и произнёс:
– Пора, наконец, и представиться.
– Не беспокойте себя! – снова отгородился ладонями герцог. – Ваша готовность к этому является надёжным поручительством вашей добропорядочности. У меня так заведено: любой путник, попавший в замок, может воспользоваться гостеприимством, не называя своего имени. Мне живётся свободней, когда я на вопрос властей «кто у меня был?» могу честно ответить: «не знаю».
Король, улыбнувшись, кивнул. А герцог добавил, обернувшись к той стене, в которой был устроен камин (над ним, размером в два человеческих роста, висел щит с ярким сине-белым гербом):
– Я же – напротив, каждому гостю сообщаю своё имя: Кагельберг! Вон, над камином, наш родовой герб.
Все повернули головы, и в том числе и Маргарита (вежливость обязывала), но сквозь слёзы девушка мало что разглядела. Она думала: «вот если бы этот невоспитанный герцог знал, кто сидит перед ним, то он не стал бы рассматривать меня до такой степени смело». Маргарита мысленно подгоняла минутки, мечтая, чтобы обед поскорей завершился. Ей было очень неуютно здесь, в герцогском зале. Этот бесцеремонный, ненужный, с липким и несдерживаемым восхищением взгляд, и ещё невиданных размеров герб над камином – он незримо давил, он пугал, он был необъяснимо зловещим. Дочь короля облегчённо вздохнула, когда слуги убрали последние блюда и стол опустел. «Теперь отец останется здесь для беседы, а мы пойдём в наши комнаты. Как хорошо». Маргарита не знала, что всё хорошее, отпущенное ей в этой жизни, уже было ею использовано, прожито. Хорошего для неё не осталось больше ни крошки, ни капли.
– Вы необычайно милы, Маргарита! – неожиданно произнёс Кагельберг, без всякой уважительности в голосе, и даже слегка развязно. Повисла длинная и очень неловкая пауза, и герцог, с видимым удовольствием переждав её, добавил нечто уж вовсе немыслимое: – Выходите-ка за меня замуж!
На этот раз пауза не затянулась. Встав из-за стола, принцесса решительно произнесла:
– Благодарю за предложение, уважаемый герцог. Но это решительно невозможно.
– Вы мне отказываете? – герцог, казалось, даже повеселел.
– Понятно и твёрдо.
В это время встал и король. Встал, и едва только произнёс: «Мне думается…», как герцог своим уже знакомым жестом поднял руки:
– Нет-нет, ничего. Я никоим образом не обижен… – и прибавил вдруг оглушившую и раздавившую всех фразу: – … Ваше величество!
Он тоже встал и, не обращая внимания на гостей, вышел из обеденной залы. Не объясняясь и не прощаясь. Просто встал и, напустив на лицо равнодушие, вышел.
Исчезли и слуги. Король, королева и дети остались совершенно одни. Подавленные, молчаливые они пошли в единственно возможном для них направлении: в отведённые им гостевые покои. И там, в покоях, все поняли, что они больше не гости: обе комнаты для прислуги были заняты вооружёнными и облачёнными в латы стражниками.
Пройдя под их пристальными взглядами в дальнюю комнату, король остановился, приблизил всех домашних к себе и обнял.
– Если герцогу известно, кто мы, – сказал он, – то ему известна и назначенная за нас сумма. Теперь он передаст нас в руки моего двоюродного брата. Вот и случилось самое страшное.
Король говорил об очевидном, но он был не прав.
Утром в покои вошли стражники. Короля, королеву и мальчика они оттеснили в спальный альков, а Маргариту, заключив в некое подобие коридора, устроенного из двух параллельно склонённых копий, увели.
Бледная, с замершим сердцем, вошла принцесса в знакомый обеденный зал.
Герцог завтракал. Он жестом пригласил её сесть, и она, секунду помедлив, присела.
– У меня есть к вам предложение, моя милая Маргарита, – сказал он, смуглыми сильными пальцами разрывая истекающего жиром цыплёнка.
– Я вчера уже ответила вам…
И тут Маргарита взглянула на герб над камином – и дико вскрикнула. Щита с гербом там больше не было. На его крюке, в петле из грубой колючей верёвки висела их служанка Луиза. Всё поплыло перед газами принцессы. Отчаянным усилием она вцепилась в край стола. Откуда-то издалека до неё доносился голос хозяина замка:
– О, я помню, что вы ответили. О вчерашнем, принцесса, нет больше и речи. Сейчас я предлагаю вам быть моей наложницей. Рабыней. Вы не должны сметь разговаривать со мной и смотреть на меня. А я буду водить вас за собой на цепи. Живую принцессу. Забавно!
Маргарита, не в силах поверить услышанному, подняла на него взгляд.
– Вам понятен смысл моего предложения? Тогда дайте ответ. Немедленно. Вы согласны стать моей личной рабыней?
«Больше достоинства, Маргарита, – шептала принцесса, с усилием поднимаясь с краешка массивного стула, – больше достоинства…» Встав, она обеими руками оперлась на спинку стула и, пересиливая дрожь и хлынувшие на лицо слёзы, проговорила:
– Вам судья – Бог!..
– Так вы согласны? – уточнил герцог, перестав на секунду жевать.
– Нет…
– Что ж. Я образованный человек, и понимаю, что «нет» – это «нет». Составьте-ка мне компанию. Я после завтрака всегда гуляю в саду. Ну? Вы пойдёте сама, или вас придётся снова вести между копьями?
Прогулка длилась минут двадцать, не больше. В полном молчании. Они уже возвращались назад, в залу с камином, когда Кагельберг произнёс:
– Вы отдышались, принцесса? Вам полегчало? Я рад. Хочу сделать вам новое предложение. Смысл остаётся прежним – наложница и рабыня. Только не у меня, а у дворовой прислуги. У садовников, конюхов. Как, кстати, зовут вашего младшего брата?
С этими словами он вошёл в арку обеденной залы, и следом вошла Маргарита, но, едва сделав шаг, она рухнула на пол, как застреленная. Лицо её из бледного сделалось совсем восковым, а дыхание – неуловимым. Герцог, рассмеявшись довольным, громким и чистым смехом, перевёл взгляд с упавшей принцессы на крюк, где теперь вместо Луизы висели, тесно соприкасаясь, вчерашние гости молодого герцога: король и королева.
Слуги очень старались, и спустя четверть часа Маргарита, облитая неоднократно водой, с натёртыми солью висками сидела на прежнем стуле. Её била крупная дрожь, и ей всё время давали нюхать уксус. Наконец, заплетающимся языком, вздрагивая, громко и отрывисто она проговорила:
– Зверь! О, зверь! Зачем вы не предупредили меня? Я согласна! Я на всё была бы согласна!
– Наша игра была бы не столь напряжённой, – спокойно пояснил герцог, обнажая ровные зубы в приветливой, доброй улыбке. – А так – нам всем будет что вспомнить!
Привстав, он нашёл между приборами фруктовый маленький нож и принялся срезать им кожицу персика. Затем покачал перед собой длинной розово-красной полоской, закручивающейся в спираль, и спросил:
– Моё третье предложение вы помните? Итак, ваш ответ.
– Ответ очевиден, – медленно произнесла Маргарита. – Дайте мне лишь немного собраться с силами.
– Охотно предоставляю вам такую возможность, – кивнул Кагельберг. – Понимаю. Такой ответ дать очень непросто.
А Маргарита, встав, снова оперлась о спинку стула и, стараясь не смотреть туда, где вчера висел герб, прошептала:
– Больше достоинства… Больше достоинства…
– Итак? – поинтересовался, откидываясь на своём троне, герцог. – Пришла ли минута, когда эти прелестные губы произнесут роковые слова?
– Пришла, – отрешённо взглянула ему в глаза Маргарита.
Она чуть склонилась, быстро взяла из своего прибора тонкий фруктовый нож и, уперев его (герцог оглушительно закричал и вскочил) черенком в край стола, упала грудью на лезвие.
Старая сказка
На маленьком сыне короля была грубая, прохудившаяся во многих местах одежда. Медленно поворачиваясь с тяжёлой деревянной лопатой, он убирал в конюшне лошадиный навоз. Тело его было покрыто синяками и ссадинами, но руки окрепли, а на лице вместо дворцовой аристократической бледности алел здоровый румянец. К слову сказать, кормили его сносно.
Вечером он переходил из распоряжения старшего конюшего под опеку кухонной ключницы – доброй и грустной старухи. Здесь он обретал спокойствие, сострадательную доброту, и, – чего маленького человека старательно и умело лишали в течение всего дня, – присущее принцу достоинство.
– Вы не скажете мне, – однажды спросил он старуху, – есть ли у меня возможность узнать о моих родственниках? Где теперь мои мать, отец и сестра?
В это время пробегал мимо пажик, и половину вопроса услышал.
– Если сестра твоя выживет – так и ты ещё поживёшь! – глумясь, крикнул он. – А умрёт – собирайся, отправишься и к ней, и к родителям!
И упрыгал по коридору. Старушка, страдальчески сморщась, прогоняюще замахала в его сторону рукой, а принц торопливо переспросил:
– Моя сестра – что же – больна?!
– Ох, ох, – сказала старушка. – Очень больна.
– Мне нужно увидеть её, – решительно заявил принц.
– О, нет. Про это забудь. Она под надёжной охраной. Даже ночью к ней не подобраться.
– Но есть ли хоть кто-то, кто мне смог бы помочь?
– Разве что Серые братья, – грустно улыбнулась старуха.
– Кто они?!
– Они никто. Это такая старая сказка.
– О чём?
– О том, как один злой и богатый купец поплыл на корабле в дальние страны. Он взял с собою соседей – троих братьев, чтобы они тоже могли поторговать и вернуться с прибылью.
– И что же?
– А вернулся один. Сказал всем, что братья рыбу ловили на лодке, и утонули. А сам их в чужой стране убил, а товары и деньги их взял себе.
– И спокойненько жил?!
– Да, и жил хорошо. Только однажды вдруг заметили стражники в городе, как ночью по улицам прошли трое – молчаливые, призрачные, в серых плащах с острыми капюшонами. Бросились их ловить – а те как будто растаяли. А наутро нашли того купца мёртвым в своей постели. Ран на нём не было, но на лице его застыл ужас. И стали люди в том городе осторожно друг другу ту историю рассказывать. Бургомистр же рассказы про троих вернувшихся братьев настрого запретил. И приказал стражникам хватать всякого, кто про Серых братьев рассказывает, и бросать к палачу в подземелье.
– А у палача было страшно?
– Страшнее, чем в любом другом месте.
– И что дальше?
– А дальше – везли через площадь в повозке одного человека, которого бургомистр осудил беззаконно. И человек этот на всю площадь вдруг прокричал: «Серые братья! Серые братья! Призываю вас! Придите и накажите бургомистра-злодея!» Тут стражники начали его бить, чтобы он замолчал, и стали быстро гнать лошадей – но всё равно все, кто был в то время на площади, этот крик слышали. А наутро узнали – что испустил дух бургомистр. Лежал он в своей постели, и лицо его перекосилось от ужаса. С тех пор повелось – если кого-то обижали несправедливо, то обиженные прибегали на площадь и громким криком просили Серых братьев о помощи, и ни разу, ни одного разочка неуслышанным такой зов не остался. И очень скоро в том городе стало невозможным найти злого или бессовестного человека, а остались жить только добрые, дружные и приветливые люди.
– А где же тот город?
– Так ведь нигде. Это сказка. Это был сказочный город.
С этими словами старушка погасила светильник, и казалось, что все уснули. Но принц не спал. Он лежал всю ночь на спине, и смотрел в темноту широко раскрытыми глазами.
Утром его тычком подняли с лежанки, и он отправился на свою обыденную работу – тяжёлую, грязную. В полдень он огляделся – и заметил, что за ним не следят. Привыкли, что неизменно он здесь, что безмолвно делает всё порученное, и согнут над своею лопатой – так, что не видно глаз на его грустном и строгом лице. Так вот, он огляделся, подошёл к лежащему у забора небольшому бревну, поднял его на плечо – и неторопко пошёл со двора. И даже если его кто увидел – то не придал никакого значения: раз тащит – стало быть, – приказали.
Таким образом все, кто встречал его на улочках герцогского домена, считали, что оборванный, тоненький мальчик несёт, шатаясь, бревно по приказу безжалостного хозяина.
Принц дошёл до главной площади города, где шумели торговые небольшие ряды – ремесленные, огородные и мясные. Он бросил измучившее его бревно на гулко отозвавшуюся землю, встал на него босыми ногами и пронзительным голоском закричал:
– Серые братья! Серые братья! Помощи! Помощи! Призываю вас наказать герцога Кагельберга!
Тотчас затихли все голоса вокруг него, и лица услышавших его крик побледнели. А он кричал снова и снова, и гробовое молчание растекалось вокруг него невидимыми кругами. Скоро вся площадь была скована молчаньем и страхом, и тишину нарушил лишь громкий топот сапог – то бежали, бежали к принцу со всех ног испуганные и растерянные стражники, а добежав, свалили на землю, связали и заткнули накрепко рот.
Так, связанный, он и пролежал в каменном тёмном застенке, в подвале герцогского замка. Вечером, сопровождаемый двумя слугами, нёсшими факела, сам Кагельберг спустился к нему и долго стоял, наклонившись, и всматривался в его маленькое лицо.
– Развяжите его, – сказал он исполнительным слугам. – Хорошо накормите. Сейчас и утром выведите наверх, на прогулку. На ночь дайте мягкой сломы и одеяло. К утру он должен хорошо себя чувствовать, а главное – чтобы мог быстро бежать.
Взял факел, развернулся и ушёл, гремя каблуками, наверх по каменной лестнице.
Утром в воротах замка прогромыхали копытами лошади – десятка четыре. Герцог Кагельберг и вся его свита проскакали по каменным улицам едва проснувшегося домена и, миновав мост, длинной цепью вытянулись на дороге, разрезавшей надвое широкое, зеленеющее молодым хлебом поле. На одном из коней, привязанный верёвкой к седлу, подпрыгивал на коротеньких стременах хорошо приученный к верховой езде принц. Кавалькада неслась в сторону летней усадьбы герцога, туда, где на границе полей хлебных и полей охотничьих стоял громадный двухэтажный каменный дом. Лица спутников Кагельберга были озарены радостно-злым предвкушением какого-то необычного действа. Они заранее веселились, поглядывая на маленького, грустного и строгого принца, и никто, никто из них не знал, что ночью со стены домена был сброшен канат, по которому скользнул вниз едва различимый в темноте человек, и человек этот, пригнувшись, взбивая остывшую пыль босыми ногами, бросился бежать по этой самой дороге.
Чёрный волк
Тридцать семь человек, не считая мальчишки, спешились в обнесённом низкой – едва по колена – каменной стенкой дворе и стали привязывать взмыленных лошадей. Звеня шпорами и оружием они ввалились в широко распахнутые двери первого этажа и расселись за длинным столом. Рыцарями были не все, – большую часть приехавших составляли их слуги. Они, суетясь вокруг стола, принялись выкладывать на него привезённые с собой холодные блюда для быстрого завтрака. Принца тоже усадили с герцогом и вассалами, но, в отличие от них, есть ему не дали ни крошки.
– Сытый зверёк медленней бегает! – громко сказал Кагельберг, и все присутствующие расхохотались; и снова на лицах проступило какое-то хищное ожидание.
Принц так и просидел всю трапезу, глядя на разводы волокон дубовой столешницы. А после того, как приехавшие насытились, Кагельберг, отдав распоряжение об обеде, снова сел на коня. Вассалы незамедлительно последовали за ним. В это время слуги, изрядной компанией вывернувшись из-за угла дома, притащили на укороченных поводках свору хрипящих, подрагивающих от охотничьего азарта собак. И вся компания, теперь уже не переставая хохотать и свистеть, примчалась на граничащий с густым мрачным лесом огромный луг, заросший невысокой, влажно поблёскивающей травой.
Все спешились. Сняли с лошадей сёдла и, положив их на землю, неторопливо расселись на них. А слуги, собаки и принц разместились на другом краю луга. Вассалы и герцог, покрикивая издалека, торопили их. Слуги стянули с маленького, сжавшего зубы принца одежду и густо намазали его топлёным салом убитого недавно медведя. Собаки всхрипели и взлаяли, и стали рвать поводки.
– Беги туда, – сказал главный псарь принцу, показывая на виднеющихся вдали рыцарей. – На середине луга я собак отпущу. Если успеешь добежать до господ, то, отдохнув, сможешь побежать ещё раз, а значит – ещё немного пожить.
Принц, сев в траву, упрямо сказал:
– Подпускайте собак. Пусть едят меня здесь. Я не побегу.
После недолгого замешательства, вызванного его словами, псарь, вскочив на лошадь, рванул её в беспощадно-быстрый галоп и умчался на другой край луга. Он быстро вернулся, спрыгнул на землю и, подойдя к принцу, проговорил:
– Господин Кагельберг заявляет, что он приветствует твою смелость. Но, если ты не побежишь, то он пошлёт людей в замок, оттуда привезут твою сестру, и напустят собак на неё. А она ещё очень слаба.
Принц, вздрогнув, встал, взглянул прямо в глаза раскрасневшегося псаря (тот почему-то попятился) и бросился бежать через луг.
Заорали и засвистели слуги и конюхи. Взвыли и рванулись, натянув гудящие лонжи, собаки, и земля, сдираемая их лапами, полетела в разные стороны.
– Приготовь четырёх! – крикнул псарь кому-то из помощников. – Четырёх, не больше! Иначе они собьются в клубок, и герцог не увидит, как рвут мальчишку!
А принц бежал, что было сил, и кожа его, в лучах приподнявшегося над лесом солнца, блестела от липкого медвежьего сала. Когда маленький человек, оставляя ровный, ясно видимый след в примятой траве, миновал середину луга, псарь произнёс:
– О, быстро бежит. Пора, пожалуй. Пу-скай!!
И тотчас помощники его стали спускать с лонж крупных охотничьих псов. Вытягиваясь в махах, метнулись собаки за убегающей ароматной добычей, и возле дорожки в траве, оставленной принцем, появились и стали стремительно удлиняться ещё четыре тёмные полосы. Рыцари, наблюдающие летящую к ним погоню, разразились свистом и хохотом.
Вдруг – сначала никто не увидел – из лесу вынесся зверь. Полуволк-полусобака, но, скорей, всё же волк, – огромный, таких наверное, и не бывает, – и чёрный, и разрезал траву новой дорожкой – поперёк, ровно между собаками и мальчишкой. Двое из охотничьих псов, передние, увидав новую цель, повернули к нему – и о, лучше б они не делали этого. Волк дважды щёлкнул клыками, и оба пса, один за другим, подлетели над лугом, как если бы их на всё ходу копытом ударила лошадь. А волк, разорвав им шеи, перебросил псов через себя и, не сбавляя скорости, налетел на оставшихся двух. Раз за разом луг огласился предсмертными визгами – и чёрный невиданный зверь повернулся назад. Теперь он летел по следу ничего не видевшего беглеца, – навстречу вскочившим со своих мест и торопливо обнажающим шпаги вассалам. До них было не больше пятидесяти ярдов, когда волк догнал принца и толчком громадной лобастой головы под колено свалил его наземь.
– Стойте!! – истошно прокричал Кагельберг, останавливая рыцарей. – Пусть его волк сожрёт! Так даже лучше.
Но почему-то вышло иначе. Волк подхватил пастью тонкую руку принца повыше локтя и, мотнув башкой, подбросил мальчишку вверх, выложив его через холку, словно зарезанную овцу. И, всё более набирая ход, пошёл на широких махах обратно, в сторону недалёкого леса.
Здесь герцог снова остановил бросившихся в погоню вассалов, прокричав:
– К лошадям! К лошадям! Так не догоним!
Все, толкаясь, побежали назад, к лошадям, приостанавливаясь, чтобы вложить в ножны шпаги, и стали, проклиная непонятно что, укладывать на спины лошадям сёдла, а герцог, побледнев от ярости, стиснув зубы, всё же одобрительно кивнул, видя, что псари спустили всех оставшихся у них собак, и мчатся по волчьему следу и сами.
На полминуты – не больше – волк всех опередил. Он пронёсся между двумя толстыми деревьями, взлетел на взгорок – внизу блеснул из зарослей широкий ручей – и так же на махах влетел в воду. И тут следом за ним прыгнул с берега человек! Мотнулись в воздухе и смочились разбрызгавшейся водой седые волосы и борода. Старик схватил мальчика на руки, крикнул чутко поведшему носом волку «Уводи! Вон туда!», указал направленье рукой – и бросился, подпрыгивая и задыхаясь, вниз по ручью.
Через полминуты, когда передние псы взлетели на гребень пригорка, они увидели лишь одиноко стоящего в середине ручья чёрного волка. И яростный, ликующий вой огласил окраину леса. Ему завторили ободряющие голоса спешащих следом за псами, ещё не видимых всадников, а волк, оскалив розовые от крови клыки, в три прыжка пересёк вторую половину ручья и мелькнул между деревьями дальше. Свора собак, хрипя и взлаивая, стремительно потекла следом за ним, и тут на пригорок вынеслись лошади – и, направляемые визжащими всадниками, влетели, подняв волны до брюха, в ручей.
Из погони вернулись через полдня. Везли, перебросив через сёдла, ещё шесть мёртвых псов. Измученные лошади понуро шагали. Герцог был мрачен, как лишившийся свежей крови упырь. Вассалы, не говоря уж о слугах, старались держаться от Кагельберга подальше.
А волк исчез.
Тень
Ночью, в лесу, на берегу ручья горел костёр. Возле него, удобно устроившись, расположились пять человек. Молчаливые, крепкие, в добротной, хотя и видавшей виды одежде. У них было оружие – дубинки: гладкие, длинные, подобранные каждому по руке. Пятеро мужчин, отужинав, безмятежно лежали и смотрели на догорающие угли костра.
– А придёт ли вообще наш загадочный гость? – спросил кто-то.
– Несомненно, – ответил тот, кто был на вид самым старшим. – Всегда в трудных случаях присылают только его. А с Кагельбергом – особенно трудный случай. Его людей в доме сейчас – четыре десятка. И почти все – опытные мясники.
– Может быть, мы, в таком случае, напрасно Адамоса и Кройза послали? Может, нужно было ещё подождать?
– Легко сказать – «подождать». Кто сможет удержать Кройза, когда встречается такое исчадие, как этот герцог?
– Да, Кройз упрямый. Хорошо, если у него всё получится. Вот придёт этот знаменитый, таинственный «чистильщик», и окажется, что работу его уже сделали. Кто-нибудь, кстати, видел его? Говорят, росту – громадного, и невыносимо свирепого облика. Говорят – взглянет на человека, скажет – «умри!», и человек умирает.
– Не так это всё, – сказал, вороша угли, старик. – Я видел его. Это он нашёл раненого волчонка в лесу, выходил, выучил. Вовсе никакой не свирепый. На вид и не скажешь, что…
Вдруг под боком у старика что-то пискнуло и шевельнулось.
– А, проснулся! – пробасил старик.
Он приподнялся и подбросил в огонь сухих веток. В расплясавшимся свете костра стало видно, как возле старика сел и начал тереть глаза маленький мальчик.
– Смотрите, Волк-то какой молодец! – снова прогудел старик и, взяв мальчишку за руку, показал её остальным.
На коже, облегающей тонкую детскую руку, темнели лиловые синяки.
– А сама рука – видно – цела?
– А рука цела.
– Молодец, Волк.
– Молодец. Где он?
– Бегает где-то в лесу. Утром принесёт барсука или дикого поросёнка.
Лесные жители, рассматривая мальчишку, придвинулись ближе к костру.
– Ну, что? – спросил один из них. – Ты в самом деле наследственный принц?
– Да, добрые господа, – тихо ответил мальчик. – Я принц. С моими родителями что-то сделал герцог Кагельберг. А сестра, кажется, ещё жива.
– До тех пор жива, – угрюмо проговорил один из лежавших возле костра, – пока герцог не вернётся в свой замок.
– Не вернётся теперь, – улыбнулся мальчишке, оскалив крепкие зубы, старик. – В эту самую минуту в гостях у него Кройз и Адамос. Наши самые умелые пеленальщики.
– Кого они пеленают? – полюбопытствовал, поглаживая свои синяки, и блеснул глазками принц.
– Всяких злодеев, – ответил старик. – Сейчас вот – твоего знакомого герцога. Все вассалы его и все слуги их здорово напились. Огорчились, как видно, неудачной охотой. Легли спать. А Кройз и Адамос пошли туда, к ним. Спеленают сонного Кагельберга и к утру принесут.
– Прямо сюда?
– Прямо сюда.
– А зачем?
– Чтобы забрать его из мира людей. Заберём – и в тюрьму.
– А он не сбежит?
– Оттуда, малыш, не сбегают.
– Это где же такая тюрьма?
– Далеко, принц. Ехать герцогу долго. Ты нам лучше скажи – откуда ты про Серых братьев-то знаешь?
– Бабушка рассказала. В замке, у герцога. Только она говорила, что это – сказка. А я верил, что вы – есть, и что однажды придёте.
– Вот! – воскликнул старик, обращаясь к товарищам. – Оживает легенда! Скоро в этих краях её многие вспомнят.
– А вы, принц, эту сказку запомнили? – очень вежливо спросил кто-то, придвигаясь к костру. – Не откажите в любезности, – расскажите.
Мальчик, встал, поклонился, потом снова сел и, устроившись поудобнее, заговорил. Его слушали, не перебивая. Костёр совсем прогорел, когда он закончил:
– Так вот, и я закричал: «Серые братья! Серые братья! Помощи! Помощи! Призываю вас наказать герцога Кагельберга!» Закричал – и увидел, до чего все испугались. Я увидел, что все тоже знают, что вы есть и придёте.
Принц умолк, но в наступившей тишине прибавил вдруг такое, отчего все вздрогнули:
– А вот там, у деревьев, стоит человек. Вон, в отдалении, видите?
В непроницаемой, у самой земли, темноте деревянным стуком поприветствовали друг друга две схваченные дубинки.
– Но ведь ничего не видно, принц, – прошептал старик. – И потом, – он возвысил голос, – никто ещё и никогда не подошёл к нам, не замеченный Волком!
– А Волк стоит вместе с ним, – уверенно ответил мальчишка.
– Эй! – на всякий случай окликнул темноту положивший руку на плечо принцу старик. – Есть тут кто?
И снова все вздрогнули, потому что из отдаления долетел тихий возглас:
– Есть…
Послышался звук шагов, и фырканье Волка, и шорох сваливаемых в притаившиеся под золой угли сухих дров. Человек подошёл, и разрастающийся огонь осветил его. Он был небольшого роста и сравнительно молод. Волк, задрав башку вверх, сунул длинную морду ему подмышку и так шёл, вслепую перебирая мощными чёрными лапами. Человек свободной рукой гладил его мохнатое горло, и зверь довольно хрипел.
– Ну наконец-то! – сказал, вставая, старик. – Давно ждём тебя. И, уж прости, начали сами.
– Что начали? – вдруг изменившимся голосом проговорил подошедший.
– Вот, смотри, это принц. Мальчик. Герцог его родителей… В общем, мальчишка выбрался на площадь и прокричал о Серых братьях. Герцог его привёз сюда, на охотничий луг. Хотел собакам отдать. Мы с Волком спасли. Теперь герцог напился пьяный, и спит со своей свитой здесь, в охотничьем доме.
– Что начали? – напряжённым голосом повторил вопрос ночной человек.
– Пеленальщики ушли к Кагельбергу. Не стали тебя ждать, ведь какой случай удобный. В замке его было бы стократ труднее достать…
– Ах, как скверно, – вдруг сказал человек. – Кто ушёл?
– Кройз и Адамос.
Человек помолчал, сел у костра. Все собравшиеся тоже, предчувствуя что-то, молчали.
– Давно ушли? – устало спросил человек.
– Часа три. Скоро вернутся.
– Не вернутся, – страшным, спокойным голосом проговорил человек. И, устраиваясь на ложе из веток, добавил: – Я очень спешил. Две ночи не спал. Оказывается, всё-таки не успел. Ах, как скверно.
– Почему?! – вскинул лохматые брови старик. – Почему не вернутся?
– Потому, что в этом доме есть Тень.
И человек, положив голову на шею Волка, заснул.
А все остальные, наоборот, взволновались и спать не легли. Они ожидали возвращенья двоих «пеленальщиков», и, чем ближе подступал сизый рассвет, тем отчаяннее становилось их ожидание. Не спал и принц, и старик, чтобы скоротать время, негромко с ним разговаривал. И часто произносил: «Но как ты его в темноте-то увидел? Ты просто сова».
Солнце встало над лесом. Кройз и Адамос не пришли. Но ночного гостя никто не будил. Он проснулся сам и, привстав, посмотрел на лица окружавших его, и снова сказал:
– Скверно.
Он встал, умылся. Сел, выпил воды и стал завтракать. Мальчик присел рядом и, приветливо улыбнувшись, сказал:
– Простите за любопытство… Вы – пеленальщик?
– Не совсем, – доверчиво, ясно улыбнулся в ответ мальчишке завтракающий человек. – Скорее, просто убийца.
Принц поднял плечики, всмотрелся в гостя внимательнее. Моргнул. Спросил снова:
– Вы – Серый брат?
– Опять – не совсем, – ответил, так же моргнув, человек. – Серые братья не проливают крови. Никогда. И всё время меня просят о том же. Но, когда я встречаюсь с теми, с кем встретились, к несчастью своему, сегодня ночью Кройз и Адамос – не пролить кровь невозможно.
– Кройз и Адамос уже не придут?
– Нет, – уверенно сказал человек, и добавил, обернувшись на треск ветки: – Ну что?
Вернувшийся откуда-то старик сокрушённо мотнул головой и ответил:
– Всё тихо. Слуги зарезали пару овец. Поставили на огонь котёл. Съездили на повозке за хворостом…
– Куда ездили? – перебил его гость. – К ручью или к оврагу?
– К оврагу, – ответил старик.
– Так, – сказал человек и встал. – Собирайтесь все. Никто от меня – ни на шаг. Пойдём к оврагу, откопаем Кройза и Адамоса, рассмотрим их тела, и решим, что делать дальше.
– Как – откопаем? – спросил кто-то из Серых братьев. – Почему ты уверен?..
И ещё кто-то спросил:
– А что рассмотрим?
Человек, подняв лицо к небу, поворотил головой влево-вправо. Ответил:
– У оврага они дрова не берут. Под видом дров они тела прятали. У герцога благородное, тонкое обоняние. Он трупного запаха не выносит. А рассмотрим мы – есть ли на телах следы пыток, – тогда они многое про нас знают, – или нет, что говорит о том, что встреча с Тенью была скоротечной.
– А что это – тень? – спросил кто-то.
– Не «что», а «кто». Страж дома. Неслышим, невидим, встречается только с хозяином. Живёт на чердаке или в подвале. Рассматривает сквозь щели любого, кто прибыл в дом. И убивает всякого, кто проберётся в дом тихо и скрытно.
– Никогда про такое не слышали.
– Потому что Тени, как и всё очень дорогое, достаточно редки. Обычно это одинокий боец, которому хозяин оказал значительную услугу. Помог спасти родственников или помог отомстить. Тогда этот человек посвящает остаток своей жизни охране дома, в котором его приютили. Он знает каждый сучок, каждый гвоздик на каждой доске, знает скрип любой ступеньки, открывает бесшумно любые замки. И все тени – это уж обязательно – мастера поединка.
– Опасные люди.
– Конечно опасные. Не отставайте!
Человек спешно пробираясь сквозь заросли, и все торопливо следовали за ним. Рядом с его ногой, пригнув голову, мягко трусил чёрный волк.
– Вот! – сказал человек, остановившись. – Пятно взрыхлённой земли под якобы упавшим деревом. Там ваши братья. Идите, откапывайте. А я посмотрю, нет ли здесь засады. Хотя вероятность ничтожна…
И человек шагнул в сторону и исчез. И с ним ушёл Волк.
Старик и остальные Серые братья направились к поваленному деревцу. Стянув его на сторону, стали копать, и скоро вытянули из неглубокой ямы тела Кройза и Адамоса. Тут снова просочился между деревьев ночной гость, подошёл и, присев на корточки, долго смотрел.
– Они ранили Тень, – сказал он, подняв голову. – Вон, чужая кровь. Невероятно. И умерли быстро. Следов пытки нет. Так что вы можете остаться в лесу.
Встал и отошёл с Волком и принцем в сторонку.
– Похороним их здесь? – угрюмо спросил старик у окруживших тела Серых братьев.
– Лучше – в урочище, – сказал кто-то. – Родственников у них нет. А нести в город – опасно.
– Да, в урочище, – поддержали его. – Место выберем укромное, тихое.
– Подзорная труба есть? – вдруг спросил стоящий поодаль охотник за Тенью.
– Есть – ответил старик.
– Дайте трубу. До полуночи ждите. Моих в доме двое: Тень и герцог. Одного придётся убить на месте, второго могу принести.
– Герцога нужно оставить в доме! – вдруг вскинул голову старик. – Чтоб были похороны! Мальчишка кричал, призывая против него Серых братьев – и вот его уж хоронят! Сколько людей будут радостно думать, что есть кто-то невидимый, кто их всех защищает!
– Так и сделаю, – кивнул человек и, не дожидаясь, когда поднимут тела, взял протянутую ему подзорную трубу и снова исчез.
А Волк, получив короткое приказание, не пошёл с ним. Остался стоять, глядя на сомкнувшиеся за ушедшим ветви. Шкура на его холке едва заметно подёргивалась.
Пришла новая ночь. Все сидели возле костра, когда Волк вдруг вскочил на напружиненных лапах и невесомо шагнул из освещённого круга. Через пять минут раздались чьи-то шаги. (Снова были подтянуты поближе дубинки.) К костру вышел вчерашний гость. На плече у него лежал связанный человек.
– Герцог умер, – сказал охотник за Тенью, опуская свою ношу на землю.
– Как он умер? – Спросил старик, подходя и вглядываясь в лицо того, кого сутки назад встретили Кройз и Адамос.
– Я заставил его пить вино, – сказал, присев к костру, с совершенно спокойным лицом, ночной гость. – Прижал нож к шее, и заставил. Герцог пил много. А когда вино из него полезло обратно, я заткнул ему рот его же подушкой. Он захлебнулся. Ни крови, ни ран.
Связанный, с заткнутым ртом человек, подёргавшись, приподнялся и сел. Серые братья, подойдя ближе, осторожно и с любопытством рассматривали его, словно дикого зверя. А принц подошёл к присевшему у костра виновнику происходящего и тихо проговорил:
– У меня теперь нет родителей. Я теперь тоже стану Серым братом, и вырасту, и спасу Маргариту, сестру. Вы можете сказать мне ваше имя?
– Могу. Меня зовут мастер Альба.
– Хорошее имя, – одобрительно сказал мальчик. – А меня теперь зовут принц Сова.
Путешествие трубочистов
– Мастер! – сказал старик. – Мастер. Что ты скажешь, если я преложу тебе взять мальчишку… то есть, принца – с собой? Сам видишь, нам предстоит нести Тень до самого моря. Днём зарываться в листву в перелесках, ночью бежать, тащить его, сменяя друг друга. Ну куда мы с… принцем? А?
Мастер Альба в эту секунду был занят. Он, присев, обхватил Волка за шею и прижался к его уху щекой. Потом отвёл лицо, оказавшись со зверем буквально нос к носу. Что-то негромко сказал. Волк, оскалив клыки, заскулил (вот, были в его роду и собаки!).
Потом Альба встал и сказал старику:
– Ладно, возьму. – И улыбнулся: – какой же мастер без ученика?
– Мне идти с тобой? – спросил, осторожно приближаясь к нему принц, и, покосившись на Волка, потёр покрытую синяками ручонку.
– Если захочешь, – по-взрослому серьёзным тоном ответил Альба.
– А ты научишь меня приносить Теней?
– Если захочешь, – снова повторил мастер.
Он поднял взгляд на стоявших в свете костра Серых братьев.
– Принца я заберу, отведу в надёжное место. Но тогда у вас будет ещё одна непростая забота: вынести из замка девушку. Есть ещё опытные пеленальщики?
– Трое, – сказал, мотнув седой бородою, старик. – Прибудут в замок под видом бродячих музыкантов: на них, по случаю похорон Кагельберга, будет спрос.
– Хорошо. Оставьте её с кем-нибудь здесь, на поляне. Пусть живёт в лесу дней семь или восемь. Я вернусь за ней, как только устрою жизнь принца.
И, отступив на шаг, поклонился. Серые братья ему поклонились в ответ, а Волк зарычал. Зарычал так же тот, кто недавно был Тенью, а теперь сидел, связанный, возле костра и раскачивался из стороны в сторону.
И мастер, и принц покинули таинственную поляну.
– Ты, значит, хорошо видишь в темноте, – утвердительным тоном спросил Альба.
– Да, – сказал принц. – Я тебя первым заметил.
– Значит, ждать рассвета не будем. Тогда за ночь мы доберёмся до места, где совершим превращение.
– Мы будем превращаться?
– Да.
– А в кого?
– В трубочистов.
– В тех чёрных людей, которые чистят трубы?
– Да, в тех.
– Для чего?
– Хороший вопрос. Для того чтобы ходить по дорогам и посещать города, не отвечая на ненужные вопросы подозрительных стражников. Никогда трезвый стражник не спросит дорожных бумаг у встретившегося ему трубочиста.
– А пьяный?
– А пьяный – тем более. Нет, всё, что им будет нужно от трубочиста – это испачкать пальцы о чёрную сажу, покрывающую его одежду.
– Зачем?
– Считается, что к таким пальцам чаще прилипают денежки. А стражникам денег никогда не хватает.
– А как мы превратимся? Просто переоденемся?
– Главное – не переодеться, а переменить мысли. Вот что по настоящему важно. Тебе придётся забыть, что ты когда-то был принцем. Забыть навсегда.
– Оказывается, это не трудно, – вздохнул шагающий по ночному лесу ребёнок. – Я уже начал забывать.
– Это нужно для того, чтобы не попасть в руки к стражникам. Если ты выглядишь, как сын трубочиста, то и жить должен, как трубочист. А если ты станешь требовать, чтобы стражник приветствовал тебя подобострастным поклоном – это будет выглядеть странно. И нас тогда схватят.
– Что значит подобострастным?
– Очень почтительным.
– Ну, поклоны мне не нужны. Я смогу выглядеть, как трубочист.
– Но выглядеть трубочистом мало. Нужно на самом деле стать им. Влезать в закоулки старых печей, где полным-полно чёрной сажи. Выгребать её голыми руками, дышать ею. И вообще делать всякую грубую и нечистую работу.
– Я много дней убирал лошадиный навоз! – гордо заявил мальчик.
– Прекрасно! Значит, при необходимости ты сможешь превратиться и в конюха.
– Это важно?
– Да, важно. Чем больше ты способен совершить превращений – тем легче тебе прятаться.
– От кого?
– Ото всех.
– А зачем?
– Затем, что самое главное занятие в жизни охотников за Тенью – это прятки.
– Какая интересная у них жизнь.
Визит в Груф
Через три дня, вечером, шагающие по безлюдной и пыльной дороге молодой трубочист и его маленький сын увидели замок, стоящий на невысоком холме.
– Это – Груф, – сказал Альба. – А вот там, как помнится, должна быть река.
– Мы пойдём к реке?
– Да. Там мы напьёмся и отдохнём.
– Но мыться не будем!
– Конечно. Не зря ведь мы жгли костёр и мазали золой одежду, лица и руки! Смотри, как хорошо вышло.
Они спустились в лог, – и точно, перед ними заблестела река.
– Вечер скоро, – сообщил мальчик. – Если мы поспешим, то успеем войти, пока ворота открыты.
– Напротив, спешить мы не будем. Отдохнём до темноты, а ночью войдём.
– Как войдём?
– Через один тайный вход. Если только он за тридцать лет не зарос и не забился песком.
– Ты не был здесь тридцать лет?
– Почти тридцать.
– Но ты помнишь, где этот вход?
– Я помню главное: в Груфе очень много печей. Так что я буду весьма удивлён, если завтра нам не обрадуются.
Путники подошли к реке, сели в тени большого куста.
– Значит, малыш, мы с тобой – сын и отец.
– А как мы будем друг друга звать?
– Как обычно. Я тебя – сынок, а ты меня – папа.
– А имена?
– Трубочистам не нужны имена. К ним все и всегда обращаются словом «приятель».
Когда пришла ночь, они встали и направились к чёрному штриху моста на серой ленте дороги.
Светила Луна, и они долго ждали, когда её жёлтый глаз прикроет наплывшее облако. Потом быстро перешли через мост и зашагали вдоль каменных стен.
– Здесь! – прошептал Альба. – Вот он, дождевой сток. Хорошо вычищен, надо же! Хотя, как же иначе?
Они влезли в чёрную округлую пасть и поползли по низенькому туннелю. Добравшись до перегораживающих туннель прутьев, Альба подёргал два из них, повертел (посыпались крупные хлопья ржавчины), – и не вытолкнул, как тридцать лет назад, наверх, в тайные гнёзда, а просто отложил в сторону: за прошедшее с момента его похищения время железо превратилось в труху.
Они выбрались в заброшенный внутренний дворик. Оттуда перешли во второй, засаженный кустами малины. И затем уже, по узкой щели между двумя домами вышли в проулок. На углу, в конце проулка горел масляный фонарь.
– Кругом порядок, – прошептал, осматриваясь, мастер Альба. – Кругом аккуратно…
Они не пошли к фонарю, а, свернув, протиснулись между следующими домами. Пискнула бросившаяся из-под ног крыса.
– Сытая! – отметил вполголоса мастер.
– Как ты увидел? – немедленно поинтересовался Сова. – Я не вижу.
– Тут нужно слышать. Шлёпает тяжело. Слышишь? Без сомнения, толстая, сытая. Знать – местные закрома полны зерна, и мёда, и масла. Можно сделать приятный для меня вывод: люди Груфа не бедствуют. Для моего отца это было главной заботой.
– Кто был твой отец?
– Извини за оговорку, малыш. Об отцах надо забыть. У нас начинаются встречи. Помним теперь только старую мудрость: кто больше молчит – тот дольше живёт.
Сова забежал вперёд, чтобы его было видно и, старательно сжав губы, кивнул.
Пройдя ещё немного, Альба толкнул какую-то дверь. Она податливо распахнулась, приглашая пришедших в тёмное, с каким-то кислым запахом, помещение.
– Дверей не запирают, – сказал, входя, Альба. – Значит, жизнь в Груфе спокойна.
– Кто там? – произнёс из темноты надтреснутый голос.
– Гости.
Послышался шорох, кряхтение. Раздались удары кремня по кресалу. Заалел трут, засветилась свеча.
– Наверное, домом ошиблись, – сказал крепкий, с неровно обрезанной, в проседи, бородой, преклонного возраста человек, приближаясь и освещая пришедших. – Ко мне гости не ходят.
– Здравствуй, кузнец, – сказал, блеснув глазами на свет свечи, с чёрным лицом трубочист.
– Ты меня знаешь? – не удивлённо, а как бы уточняя, спросил держащий свечу человек.
– Точней сказать – помню, – проговорил трубочист, и как мог смахнул с лица сажу.
– Странно, – сказал кузнец, отступая к столу и жестом приглашая пришедших. – Никогда не был знаком ни с одним трубочистом.
– Живёшь, как прежде, один? – поинтересовался Альба, подсаживая мальчика на высокое сиденье скамьи.
– Один, как перст, – ответил кузнец, зажигая вторую свечу. – Но кто ты?
– Я тот, – помедлив, с теплотой и волнением в голосе сообщил трубочист, – кому ты был другом лет тридцать назад. И для кого ты, по его приказанию, портил оловом золото.
Кузнец сел, потом поспешно вскочил, взял свечу, поднёс к самому лицу странного гостя.
– Да… да, – задохнувшись, сказал он, – глаза серо-зелёные, в точности… Но не может быть! Ты же умер!
Он медленно сел напротив пришедшего.
Но снова встал, обошёл стол и снова всмотрелся.
– А что… – он понизил голос до шёпота, – я тогда портил?
– Баронскую, – ответил таким же шёпотом Альба, и встал, – нагрудную цепь. – И этого, как ты понимаешь, кроме нас с тобой никто не знает, старик!
– Барон! – прошептал кузнец и, встав на колено, взял и поцеловал измазанную сажей руку.
– Здравствуй, кузнец, – сказал Альба. – Встань и садись. Разговор, как ты понимаешь, у нас будет долгим.
– Это же надо! Это же надо! – бормотал потрясённый кузнец, возвращаясь за стол. – Но не может быть…
– Чего? – спросил, тоже садясь, мастер Альба.
– Чтобы вы, ваша светлость, принуждены были искать пропитание, работая трубочистом!
– Ты прав, кузнец. Я не трубочист.
– А кто вы?
– Ну, кто-то вроде того, кем был Добрый Робин[18]. Охотник на злодеев.
– А!! Значит… Это прекрасно! Пусть неизбежное совершится! Будьте уверены, ваша светлость: я – ваш верный помощник.
– Помощник в чём? – спросил Альба.
Кузнец неуверенно посмотрел на ребёнка, который молча сидел и поблёскивал круглыми, близко посаженными к носу глазами.
– Говори смело, – сказал бывший барон. – Этот малыш умеет хранить тайну.
– В убийстве одного негодяя! – выпалил, дёрнув бородой, старый кузнец. – Того, кто убил вашего отца, хромоногого Альбу, и прибрал к рукам всё ваше добро, и замок, и право наследования… Он здесь, он владеет замком! Он здесь! И, хотя постарел, но здоров и благополучен! Было время – много потратил он денег, чтобы заткнуть рты тем, кто мог вслух сказать о том, отчего умер Альба, и заткнул, и живёт теперь в вашем замке! А наш хозяин лежит в земле. Он убил его!
– А также заплатил за мою смерть, которую мне заменили мучениями, которые с трудом мог вынести человек. Но я не стану убивать мужа сестры своего отца. Я здесь не для мести.
– Как же? – недоумённо спросил кузнец, взволнованно передвигая свечу.
– Ну, так. Я смотрю на Груф, и вижу, что он ухоженный, чистый. Днём у подножия стен множество босоногих детишек пасут кур и гусей. Простые люди Груфа едят мясо! Мостовые без выбоин. Крысы толстые. Тратятся деньги на масло для ночных фонарей. Хорошо устроил замок новый владелец. Люди при нём живут, очевидно, безбедно. Ну, и он пусть живёт. Судья ему – Тот, кто над нами. А я не трону его.
– Но, ваша светлость… Он уничтожил ваш род, и взрастил на его месте свой! Он убил вашего отца, отравил его, и вашу смерть подстроил! Разве вы не должны его ненавидеть?
– Нет, кузнец. Ненависть – это смех Сатаны. А я, сколь бы жутким делом не занимался, этого господина веселить не хочу.
В тёмном, так мирно пахнущем кузнечным углём помещении ненадолго воцарилась тишина. Наконец, хозяин проговорил:
– Но тогда, ваша светлость, с таким сердцем – вам прямая дорога в монахи!
– Да я и пострижен.
– Ка-ак?!
– Да, я монах. Ни жены, ни семьи, ни детей – до самой смерти. Вот только труды мои не мирные, и весьма. Все труды мои – для того, чтобы не встречались такие вот дети (Альба положил ладонь на макушку притихшего принца Совы) и их родители с теми, с кем они встретились не так давно. К слову – не положить ли нам мальчика спать? Из еды бы ему чего-нибудь наскоро…
– Есть, есть! – проговорил кузнец, торопливо вставая. – Каша с уткой, печёная тыква, кисель. Вон бочка, руки помойте!
И Сова вкусно поужинал, и уснул на широченной, потемневшей от времени лавке, свернувшись калачиком на прожжённом горновыми искрами толстом шерстяном тюфяке.
А бывший барон и старый кузнец сидели вдвоём за столом, на который хозяин к упомянутым уже блюдам добавил пузатую, тёмного стекла винную флягу. Вот только до утра не налили из неё ни разу – Альба рассказывал, а старик слушал так, как будто оцепенел.
– Вот и вся моя жизнь, – закончил мастер рассказ, когда небо за окном посветлело. – А на сегодняшний день у меня одна забота: сможешь ли ты принять под видом дальних родственников больную девушку и мальчишку? Денежное содержание могу дать любое.
– Никаких, ваша светлость, препятствий к этому нет, – ответил твёрдо кузнец. – Есть у меня ученик – молотобоец, ну, пусть будет ещё один. Оглянуться ведь не успеем, как вырастет.
– А здесь – тайна, кузнец. Мальчик этот – мой ученик.
– Ах, та-ак?! Ну да… Чему удивляться, если жизнь его так рано и так страшно осиротила.
– Значит, он и его сестра могут пожить у тебя какое-то время?
– Сколько угодно. Как зовут-то мальчишку?
– У него необычное имя: Сова.
Глава 7 Неудавшийся взрыв
Когда-то давно наши два корабля – Африку и Дукат – возле Чагоса догнали пираты. Мы тогда обманули их: подплыли на шлюпке, как бы договориться о выкупе, и взорвали спрятанный в шлюпке порох. Всё зависело от сделанного мной фитиля – насколько точно отсчитано время горения, надёжно ли закреплена в корпусе бочонка фитильная трубка…В тот день и час фитиль догорел безупречно. Но случается и по другому.
Ночной всадник
Да, надёжные люди у Совы имелись. Незнакомый Бэнсону однорукий, с измождённым лицом человек, не задавая лишних вопросов, взял письмо, повторил вслух адрес Тома в Бристоле, сел на лошадь и выехал со двора. Бэнсон, глядя ему вслед, ещё раз мысленно попрощался с женой, сыном, друзьями, и сел на своего чёрного, дважды подаренного коня. Принц Сова, стоя у раскрытых ворот, грустно сказал:
– Самая большая радость для меня в этой жизни – встречать таких людей, как ты, шотландец Бэн Бэнсон. А самое большое горе – терять их. Прощай.
– Прощай, Сова.
И Бэнсон тронул коня.
– Бэн! – проговорил ему вдруг Сова, уже в спину. – Когда твой сын подрастет, я расскажу про тебя. Не ту правду, что увёз сейчас наш гонец, а подлинную.
Подошёл к воротам бывший скупщик краденого. Встал рядом с Совой, посмотрел вслед удаляющемуся Змею. Вздохнул:
– Очень острый глаз у этого человека. Как он арбалет у меня в повозке заметил! И какая сила! Взял руками и поставил повозку поперёк улицы. Один! Хорошо, что такие люди состоят на королевской службе, правда?
– Да, хорошо, – посмотрел на него Сова. – Давай закроем ворота.
Бэнсон ехал не торопясь. До вечера времени было изрядно, а то смертельное предприятие, которое он задумал, ему предстояло осуществить в ночной темноте.
Ночи пришлось несколько часов ждать, спрятавшись в небольшом подлеске. А вместе с тем ждать того, с чем предстояло столкнуться. Похищение и «смерть» Вайера, дворянина, участника тайного товарищества, – ему, презренному наёмнику, не простят – это Бэнсон осознавал в полной мере. Он не рассчитывал дожить до утра, и единственное, о чём мечтал – успеть сообщить серьёзной компании то, что заставит их забыть о таинственных Серых братьях и наброситься друг на друга.
Ночь пришла. Куда же ей было деться?
Бэнсон затянул туже подпругу, поднялся в седло и сказал в чутко дрогнувшее длинное ухо Угля:
– Всё, приятель. Последний поход. Спасибо за всё.
Он понимал, что на пути его предельно авантюрного замысла может встретиться не одно пакостное приключеньице. Как, например, пара-тройка мушкетных выстрелов, которые неминуемо споют им свою гавкающую свинцовую песню в те несколько бесконечно длинных секунд, пока они будут мчаться по открытому месту – от крайних деревьев садового карэ до запертой входной двери. А конь – это мишень, которая в несколько раз больше всадника.
Да, до двери. И чудо, если Базилло окажется невдалеке от неё. И ещё большее чудо, что он узнает голос Змея и сразу откроет: очень, очень Бэнсон надеялся на ту незримую ниточку, которая связала их в ночь первого знакомства. Оценил тогда Базилло протянутую ему монетку – но нет, не монетку даже, а уважение к нему – гаеру-привратнику, принужденному вечно играть роль записного придурка.
Конь шёл мощным галопом. Вот уже и садовые линии – где-то здесь, между ними стоят экипажи рыцарей покера. Ночь была нашпигована людьми и железом.
Здесь, у крайнего ряда деревьев, Бэнсон натянул поводья и перевёл коня в неторопкую рысь. Была у него одна, как говорят карточные шулеры, искатели приключений и авантюристы, «муля», задумка, способная притянуть к нему взгляд золотых глаз Фортуны; но для того, чтобы муля сыграла, нужно было отказаться от стремительного прорыва к дверям молчаливого, с чёрными окнами замка, а перейти на такой вот медленный ход. Принц Сова дал ему этот совет, – но предупредил, что не считает этот вариант лучшим. «Выбирай сам» – сказал он.
Змей не знал, что в последнюю секунду заставило его принять такое решение, но, повинуясь необъяснимому, властному, неслышимому приказанию, он перевёл коня в рысь и, запустив руку в дорожный вьюк, достал и нахлобучил на голову высокий полицейский шлем с ярко блеснувшей в свете луны жестяной белой кокардой.
Сработала мулька. Ни одного выстрела не прогремело над обширным и ровным газоном. Никто – первым – не решился выстрелить в одинокого полицейского. Но, когда Бэнсон спрыгнул с коня, он отчётливо услышал, что по этому плотному, затянутому коротко стриженной травкой газону во все стороны разносится стремительный топот: бежали, бежали к нему человек десять-пятнадцать, и железо звякало, – и знакомо хрустели взводящиеся курки.
Громко и властно простучал Бэнсон в запертые двери – и о, не может быть!! – в ту же секунду откликнулся голос: «Кто там?»
– Базилло! – громко сказал Бэнсон. – Это Змей. Скорее!
Он мечтал лишь о том, что, если теперь, услыхав его слова, станут стрелять – то не убьют сразу, что он успеет сказать кому бы то ни было о тех, кто подсматривает за игрой, скрываясь за зелёными стенами из просвечиваемого шёлка. Это заставит игроков схватить друг друга за глотки, и даст какое-то время принцу Сове…
Но не стреляли, не стреляли! – шлем полицейского всё-таки сбивал их с толку, и слов Бэнсона они из-за топота и собственного шумного дыхания не расслышали, да и вот уж – сейчас добегут…
Просвистев в хорошо смазанном железе, клацнул, ударив в стопор, засов. Бэнсон рванул ручку и дверь распахнулась. Змей метнулся в холл и, обрезав раздавшийся за спиной злобный окрик, захлопнул тяжёлую створку. Тут же вогнал в петли запор и, вонзившись бешеным взглядом в глаза оторопевшего Базилло, хрипло выдохнул заранее заготовленную для такого счастья фразу:
– Быстро к хозяину! Скажи, что игрокам известно о тех, кто подглядывает! Пусть бежит, бежит, бежит!! – и сам бросился со всех ног, – наверх, наверх, а за спиной уже били яростно в дверь.
Тайна шмеля
Ступени и повороты были когда-то выучены наизусть. Оборвав бег, Змей быстрым шагом вошёл в комнату для охраны. Тот же бассейнчик с вином, блеск золотого кольца вокруг него, растерянно замершие фигуры охранников. Змей на ходу протянул руку кому-то из них, и сдавил её в стремительном рукопожатии, и бравурно проговорил: «Привет, братцы!» – и дошёл-таки до игровой комнаты – живой, без единой царапины.
Гробовая тишина упала на рассевшихся за избитым столом обнажённых по пояс людей. Они уставились на вошедшего, как на пришельца из преисподней.
– Здравствуй, хозяин, – сказал Змей, поймав взглядом белое лицо Дюка, и прошёл и сел у стены.
Да, он сел, и молча и строго взглянул на вскочивших и столпившихся перед ним необъявленных властелинов этой страны и на сбившихся в плотную стену охранников. Он знал, что существует одобренный всеми игроками запрет на оружие в замке – но сейчас пришла такая минута, когда присутствующие не побоялись открыть, что они тайком друг от друга этот запрет нарушают: почти все охранники держали в руках отточенное железо – тонкие, достаточно длинные пики, узкие небольшие кинжалы, даже экзотические «японские звёзды»[19], – словом, всё то, что можно спрятать в голенищах сапог или в поясах панталон.
Все понимали, что Змей один стоит всей этой своры охранников, что он – чудовищная, всё сокрушающая машина, и что он очень, очень опасен.
И Змей понимал, что они это хорошо понимают.
– Вайер мне кое-что рассказал! – быстро и властно присваивая себе распоряжение ходом событий, проговорил Змей. – Один из вас – шулер.
Это был миг крайнего напряжения. Взметнулись руки с железом, шагнули, прячась за спины телохранителей, игроки.
– Стойте! – вдруг крикнул Монтгомери. – Стойте. Неужели не видите – ему никуда отсюда не деться. Убить успеем. – И ледяным тоном сказал (уже Бэнсону): – Ты понимаешь, что произнёс только что?
– Скажите спасибо Дюку, – стараясь не смотреть на поднятые вверх сверкающие звёздочки, ответил Змей, – что у него есть надёжный слуга, который способен иногда видеть опасные мысли. Который способен добраться сюда живым и сообщить, что кто-то из вас вступил в тайный сговор с хозяином замка, и тот сделал отверстия в стенах.
– Ты хочешь сказать… – потрясённо проговорил кто-то из игроков.
– Да. Кто-то с помощью подзорных труб смотрит в карты. Так что прикажите охранникам спрятать оружие и убраться… (здесь Змей позволил себе выражение, которое я не могу допустить в рукописи) …потому что заговорщику очень выгодно сейчас, чтобы я замолчал. – И, после мгновенной паузы, закончил: – Или вы думаете, что я ввалился сюда, не имея безупречнейших доказательств?!
– Все вон, – сказал Монтгомери, чуть поворачивая голову в сторону кучки телохранителей, и, снова переводя взгляд на Змея, добавил: – мы готовы оценить твои доказательства.
Змей встал и подошёл к стене.
– Эй! – сказал он одному из замешкавшихся охранников. – Дай стилет. Да брось прятать, все уже видели.
Взял стилет и, вскинув руку кверху, прошёл вдоль стены и сделал длинный разрез. Затем – ещё два надреза, вертикальных – и огромное шёлковое полотно упало, обнажив дощатую облицовку стены.
Кто-то из присутствующих охнул. В стене, в два ряда – сверху и снизу – ясно выделялись шесть люков. Змей с силой толкнул один из них – и тот отворился, откинувшись внутрь.
– Шёлк издали – непрозрачный, – сказал Змей. – Но если вплотную – сквозь него всё видно. Тем более в подзорную трубу. Ну, что стоите? Пошлите охрану, пусть ловят хозяина. Теперь, когда Вайер умер, только хозяин знает того из вас, кто был с ним в сговоре.
И тут с присутствующих спало оцепенение. Послышались отрывистые крики, команды, затопали каблуки бросившихся к лестнице телохранителей. В эту секунду, сталкиваясь с бегущими, примчался кто-то из лакеев и растерянно сообщил:
– Там охрана внизу кричит, что кто-то проник в дом. Что им сказать?
– Скажи им! – почти в бешенстве обернулся к лакею Сонливец, – чтобы уходили к чёртовой бабушке из охраны и отправлялись пасти гусей!
– Вот всё, значит, как, – в контраст его нервозности очень спокойно произнёс Дюк. – А ведь у меня, Змей, возникли из-за тебя серьёзные сложности. Мой личный телохранитель позволил себе…
– Ваш общий телохранитель! – на грани непочтительности оборвал его Змей, проходя и садясь на свой стул у противоположной стены. – Вайер и ещё двое собирались вас убить – всех разом, добавив в бассейн с вином яду. Я именно эти мысли увидел у Крошки, когда он вошёл. Здесь нет никаких сказок, джентльмены. Я дважды таким образом спасал Дюка – он подтвердит.
Дюк, выступив вперёд, взволнованно проговорил:
– Это правда! Глустор, мой поставщик… И Ричард… От верной смерти спасал!
– Ничего себе приключеньице! – сказал зловеще Сонливец.
А Дюк добавил к своему монологу:
– И считаю уместным заметить, джентльмены, в свете вновь открывшихся обстоятельств, будет правильным, если мне вернут взятый с меня штраф! Согласитесь, что сумма незаурядна!
– Мне кажется, возражений не будет! – произнёс Монтгомери и обвёл всех вопросительным взглядом. (Возражений не последовало, все кивнули). – Это вопрос пустячный. Озадачивает другое. Как те, кто подсматривали карты, сообщали одному из нас, какой расклад на руках у соперников? Ни сигнальных звуков, ни вспышек мы не наблюдали. А расклады-то сложные!
– Да всё просто, – сказал Бэнсон, с удовольствием ощущая, как спадает с него чудовищное напряжение и по спине между лопатками катится пот. Теперь оставалось лишь рассказать то, о чём догадался искушённый в тайных делах принц Сова. – Под полом проложены рычаги. Причём, к каждому месту, чтобы заговорщик мог сидеть где угодно. Он ставит ступни на щели между половицами. Оттуда – металлические пластинки или тупые иглы. Укол в левую ступню – пасуй. Укол в правую – смело играй. Вы ведь, чтобы не было возможности спрятать карту в голенище, разуваетесь?
– Дьявольщина! – прохрипел разъярённый Сонливец. – Ну и кого же подозревать?
– А Вайер не сказал тебе, кто этот умник? – спросил вкрадчиво Монтгомери Змея.
– Нет, ответил тот, мотнув головой. – Ваши тогда, ночью, случайно подстрелили его. Что успел – я из него вытянул.
Послышался топот. Вбежали два охранника, и, часто дыша, доложили:
– Ушёл хозяин! Подземный ход у него был заготовлен, дверца железная, заперта изнутри. Ломаем, но повозиться придётся!
– Всех – на коней! – скомандовал Дюк. – Рассыпаться по окружности на две мили! Ведь где-то подземный туннель выходит на поверхность!
– Значит, Вайер не всё рассказал, – проговорил, подойдя к Бэнсону, Жирондон. – Ну а какие-то собственные догадки у тебя есть?
– Кое-какие, – задумчиво произнёс Змей, и все примолкли. – Первая – что этот шулер – не Дюк. Не потому, что он мой хозяин. Просто для него азарт игры – величайшая ценность в жизни. А тому, кто всё это затеял – на игру наплевать. Для него главное – деньги.
– А вторая? – спросил Монтгомери.
– Чтобы найти сбежавшего владельца замка, нужно какое-то время. И тому из вас, кто был с ним в сговоре, не остаётся другого выхода, кроме как воспользоваться этим временем и всех вас убить. Ну и третье: того, кто в ближайшие дни умрёт, можно вносить в список добропорядочных игроков. На этом всё, джентльмены. Теперь позвольте сопроводить моего хозяина до кареты: охота на вас началась.
Возвращение крикунов
Монтгомери демонстративно вышел из замка вместе с Дюком, и так же демонстративно сел вместе с ним в карету. И уже здесь, в коконе экипажа, пояснил:
– Наш невидимка, судя по всему, достаточно смышлён и проворен. Первыми он попытается устранить самых сильных из нашей компании. А самые опасные для него – это мы с тобой, Дюк. Поэтому пусть он видит, что мы объединились. Надеюсь, что это заставит его воздержаться от немедленных действий. Тогда, может быть, я успею вызвать солдат для нашей охраны.
– Это мудро, – кивнул едва различимый в свете каретного фонаря Дюк. – Значит, мы с тобой – его первые жертвы?
– Подумай сам, – спокойно ответил Монтгомери. – Каждый убитый будет сужать круг участников, и с каждым убитым вычислить шулера будет всё легче. Нет, он будет готовить первый удар против нас. И, если ему это удастся, то с остальными он разделается без особого труда.
– Но подожди! Разве его нельзя вычислить уже сейчас? Давай скрупулёзно припомним, кто за последний год забирал крупные выигрыши?
По-настоящему крупных выигрышей ещё не было. Цель заговорщиков не десять тысяч, и даже не двадцать. Нет, они замахивались на состояние.
– Не понимаю.
– Вот смотри. Мне, например, за последний год покер приходил всего лишь два раза. Но денег я не получил: у остальных игроков была слабая карта, и они отпасовали. А если покер приходит одновременно к двум игрокам? Тогда каждый из них бешено поднимает ставки, рискуя и деньгами, и недвижимостью, и землевладением. Верно?
– Да, верно. Если бы, например, мне пришёл покер, я бы поставил на кон всё – и деньги, и дома, и коллекцию…
– Вот. А теперь представь – вы открываете карты, и у тебя – покер в дамах, а у соперника – покер в королях? Ты едешь стреляться, а наша невидимая компания получает твоё состояние.
– Точно! В нашей игре карту невозможно передёрнуть, ни подменить. Но, дождавшись сильного расклада у кого-то из соперников…
– И, получив точный сигнал «твоя карта сильнее»…
– Можно смело делать высочайшие, безумные ставки. А при сигнале «твоя карта слабее» – бросить всё и сказать «пас».
– Дьявольски хитро, и дьявольски просто.
– Если б не Змей…
Бэнсон сидел напротив беседующих и молча слушал. В это время послышался стук в дверь кареты, и внутрь заглянул Стэнток.
– Мне – с вами? – спросил он Дюка.
– Разумеется, – ответил тот и сообщил Монтгомери: – мой новый телохранитель. То есть второй…
– Ты не сердись, – сказал при всех Бэнсон Стэнтоку, и протянул ему руку, – что я тебя тоже… – и указал взглядом на его разбитый лоб.
– Напротив, спасибо за урок, – сдержанно кивнул Стэнток, и руку пожал.
– Едем к тебе, – сказал Монтгомери Дюку. – Нужно всё неторопливо продумать и взвесить.
– Едем.
Карета дёрнулась и понеслась.
Весь путь до имения Дюка проделали молча. Только когда вошли в гостиную и зажгли в камине огонь, Монтгомери произнёс:
– Кого не было сегодня за столом? Из тех, кто принят в общество?
– Давай вспомним, – ответил Дюк. – Так… так… Семерых. Ах да, Крэка нет… Шестерых.
– Нужно их предупредить. Отправь шестерых гонцов.
Но Дюк не спешил отдавать распоряжений. Он помолчал, подошёл к камину, протянул к огню руки. И, не оборачиваясь, и проговорил:
– Не нужно.
– Что не нужно? – уточнил негромко Монтгомери.
– Предупреждать. Пусть ничего не знают. Вдруг всё-таки наш хитрец начнёт не с нас, а со слабых? Время-то работает против него. Тогда, чем скорей к нам начнут приходить сообщения об убийствах, тем легче нам станет высчитывать – кто у нас этот «охотник».
Монтгомери, тоже помолчав, ответил:
– Разумно.
Все, находившиеся в ту минуту в гостиной серого дома-крепости, ненадолго умолкли. Опёрся, задумавшись, о спинку кресла, Монтгомери. Склонился у камина, протянув руки к огню, нахмуренный Дюк. И, застыв, словно каменные статуи, молчали у дверей телохранитель Монтгомери, Змей и Стэнток.
Монтгомери поднял голову и сказал:
– Гонец всё-таки нужен, Дюк. Тех солдат, что я по твоей просьбе направил в Плимут, нужно срочно вызвать сюда. Пусть они станут лагерем и в твоём имении, и в моём. Тогда заговорщик действительно к нам не сунется. Тогда он начнёт с кого-то из остальных.
– Отличная мысль, – довольным голосом проговорил Дюк. – Пиши письмо в Плимут. Вот перо и бумага. А я пока приготовлю гонца.
И он сел за стол, к бумаге, перу и чернилам.
Когда гонец был отправлен, Монтгомери сказал:
– Что-то нехорошо мне, Дюк. Какое-то предчувствие… Пошли со мной своего телохранителя. Ночь. В дороге всё может случиться. А завтра он вернётся к тебе.
– Змей, слышишь? Проводи нашего гостя до его дома.
– А обратный путь – в одиночестве? Не хотелось бы. Пошлите со мной Стэнтока.
– Не возражаю, – на удивление быстро согласился Дюк. – И вот ещё что…
Он вышел из гостиной, а когда вернулся – в вытянутой руке у него покачивались нацепленные на кожаную нашейную ленту восемь «оскаленных человечков».
– Собрали всех, – сказал он. – Когда увидели, что внутри – золото, я заявил, что это часть моих игровых ставок. Так сказать, неприкосновенный запас. Ну, а как ты думал? Должен ведь был я поиметь хоть что-то взамен наложенного по твоей вине штрафа?
– А теперь штраф вернули.
– Да. Теперь и я возвращаю твоих «крикунов». Забавный предмет. Одновременно – и оружие, и ключ, открывающий любые двери. Сам придумал?
– Нет. Урмуль меня научил…
– Так мы едем? – включился в диалог Монтгомери. – Ночь заканчивается.
– Давай, – сказал Дюк. – Бери и Змея, и Стэнтока. И помни – я с нетерпением жду солдат.
Два ножа
Ночь, хотя и медленно, но неотвратимо катилась к рассвету, так что сборы были предельно короткими. Но даже в эти несколько минут Бэнсон многое успел сделать. Осмотрев экипажи, он выбрал небольшую каретку, и сказав: «вот хорошие рессоры», – взял топор и, к изумлению всех окружающих, в несколько взмахов сбил с каретных боков дверцы.
– При нападении, – пояснил он Монтгомери, – дело иногда решают доли секунды. А двери – препятствие для манёвра. Садитесь.
– Я что же, – уточнил Монтгомери, – должен ехать в этой тесной каретке?
– Да. И телохранитель ваш сядет рядом с вами, и мы со Стэнтоком сядем напротив. И поедем почти самыми последними.
– Но двери – хоть какая-то защита! Ведь крепкие были двери!
– Мы эти проёмы закроем. По бокам, слева и справа мы привяжем по лошади. Они и от пуль защитят, и, если надо, помогут в манёвре.
– Тактически – безупречно, – вдруг поддержал его Стэнток.
– Будь по вашему. Едем.
Но Бэнсон предпринял ещё кое-что. Он принёс и втиснул, едва найдя место, небольшой бочонок с порохом, водрузив ещё сверху пузатую бутыль с подсолнечным маслом.
– Масло-то зачем? – поинтересовался Монтгомери.
– В случае погони – выбросим на дорогу и подожжём. Если у преследователей будут молодые или плохо объезженные лошади – они в огонь не пойдут.
– А для чего столько пороху? – хмуро спросил прижатый к бочонку телохранитель Монтгомери.
– Нам, видишь ли, – снова сказал Стэнток, – назад ещё добираться.
Но, когда они с Бэнсоном привязывали к бокам кареты своих коней, Стэнток шёпотом поинтересовался:
– А в самом деле – для чего столько пороху?
– Взорвём карету, – торопливо прошептал Бэнсон. – Когда заколем этих двоих, зажжём фитиль – и сядем в сёдла. Порох взорвётся, масло вспыхнет, и всем какое-то время будет не до нас.
– А нам придётся Монтгомери и охранника заколоть?
– А ты знаешь, кто эти люди? Дюк, Монтгомери? Про черепа знаешь?
– Пока не стал телохранителем – не знал. Теперь знаю.
– Так что же спрашиваешь?
Помолчав и затянув узел на поводе, Стэнток спросил:
– Нападём разом?
– Да. В удобном месте я крикну: «Вот они!» Глянув перед этим в окно. Это будет сигнал. Каждый из нас бьёт того, кто напротив. Рука не дрогнет?
– Вот там и увидим.
Дюковы телохранители ещё прошли вдоль приготовившегося к скачке эскорта, проверили кучеров, всадников. Змей потребовал сменить порох на полках мушкетов. (Монтгомери и вышедший во двор Дюк одобрительно покивали.) Затем все заняли свои места, тяжёлые ворота раскрылись – и кавалькада, сразу беря хорошую скорость, выплеснулась на залитую лунным светом дорогу.
Пронеслись мимо поле и лес. Прогрохотал внизу, под копытами, мост через речушку. Свернули в рощу – глухую и тёмную. И здесь, когда удалились достаточно от открытого пространства, взглянув в сторону мелькающих вдоль дороги, слитых в чёрную стену деревьев, Бэнсон хрипло воскликнул:
– Вот они!
И звякнули выхваченные ножи. Тут же качнулись вперёд, к дверным проёмам и Монтгомери и его телохранитель – взглянуть – что там такое. Качнулись прямо навстречу коротко ударившим лезвиям.
– Запали фитиль, – сказал Бэнсон Стэнтоку, вкладывая свой клинок в ножны.
Стэнток торопливо достал кремень, огниво и трут, а Бэнсон приладил к бочонку длинный фитиль. Когда трут загорелся – от него подожгли конец фитиля.
– Теперь – быстро в сёдла, стреляем в стороны леса, вопим во весь голос чтобы хлестали коней, а сами скачем назад. У нас по два пистолета? Возьми ещё пару у телохранителя. Фитиль горит? Всё, пошли.
Как только Бэнсон, ударив колено о край привязанного за седлом арбалета, сел на коня, он выхватил из-за пояса пистолет и, направив его в сторону леса, выстрелил, осветив яркой вспышкой и себя и карету.
– Гони-и-и!! – закричал он что было силы, и в ту же секунду с другого боку ударил выстрел, и Стэнток также крикнул:
– Гони, братцы!! Гони, проскочим!
Всадники и кучера, подстёгнутые долгим напряжением, хлестнули лошадей. Грохнули впереди ещё два выстрела – мушкетные, наугад, дробно застучали колёса карет, а два телохранителя Дюка помчались против хода эскорта, продолжая кричать:
– Быстрее! Быстрее! Мы их задержим!
И двое убийц и грохочущая кавалькада разлетелись в разные стороны.
– Ты слышишь? – спросил Бэнсон через минуту, останавливая коня.
– Что? – коротко спросил Стэнток.
– Взрыва нет! А фитиль уже должен был догореть!
– Это значит…
– Да. Его потушили. Огонь бы всё скрыл, но теперь не секрет – что Монтгомери и его телохранителя убили ножами.
– И за нами сейчас бросится основательная погоня.
Ситуация была простой и понятной. Но, вместо того, чтобы уносить ноги, двое друзей задержались ещё ненадолго. Они натянули между ближайшими деревьями тонкий канат – на высоте груди всадника, и лишь после этого взяли галоп.
– У тебя есть семья? – прокричал Бэнсон, когда кони вынеслись на равнину и можно было скакать рядом.
– Есть! – Ответил Стэнток. – Родители, жена и ребёнок.
– Немедленно к ним! Нанимаем карету – и всех увозим. И сами сядем в карету – мы очень приметные. До утра мы до Плимута не успеем, а утром нас будут искать на всех дорогах графства!
– У тебя в Плимуте есть надёжное место?
– Да! И надёжный друг.
Но, спустя три дня, когда к дому бывшего скупщика краденого притащилась неуклюжая большая карета, принца Совы Бэнсон в доме не обнаружил.
Игра в прятки
Карета остановилась; шум колёс и копыт едва успел затихнуть, а дворовые слуги уже открывали ворота. «Безмятежно живут, – подумал не без радости Бэнсон. – Ещё не выяснили – кто прибыл, а уже открывают. Похоже, что всё спокойно».
Кучер шевельнул вожжами и усталые лошади послушно потянули карету во двор. Так же устало и равнодушно процокали подковами привязанные к запяткам конь Стэнтока и Бэнсонов Уголь. Дождавшись стука закрывшихся ворот, Бэнсон и Стэнток выпрыгнули из кареты. Ни секунды не медля, бывший начальник Дюковой охраны вбежал в дом, торопливо спросил – где лестница на чердак, и вскоре уже, раздвинув подзорную трубу, в оба конца осматривал улицу.
Скупщик краденого, на лице которого светилась искренняя улыбка, приложил руку к груди и отвесил Бэнсону учтивый поклон.
– Всё спокойно? – спросил у него Бэнсон, жестом приглашая семейство Стэнтоков выйти из кареты.
– О да! – воскликнул владелец дома, протягивая «работнику королевской полиции» сложенный, с сургучной печатью листок. – Это от Совы. Как добрались?
– Без особенных приключений, – улыбнулся и Бэнсон, чувствуя, как его отпускает многодневное напряжение. – Он давно ушёл?
– Нет, вчера.
Бэнсон шагнул в сторону, сломал печать и развернул лист. И, едва он опустил взор на ровные чернильные строки, в глазах у него потемнело.
«Вайер сбежал…»
Он быстро вскинул голову, прострелил взглядом верхушки заборов, крыши окружающих двор домов. Затем шагнул к семейству Стэнтоков и, не церемонясь, бросил:
– Скорее!
Дождавшись, когда все приехавшие с ним скрылись в доме, торопливо вошёл следом. Снова резко проговорил:
– У окон не стойте!
Привалился спиной к стене и снова поднёс к глазам лист.
«Вайер сбежал. Убил троих сопровождавших его. Оставил для меня записку с вызовом на поединок. Но поединка не будет: Вайер тянет время, надеясь, что мы соберёмся все в одном месте. За домом безусловно следят, и если ты читаешь эти строки, – в эту минуту в тебя надёжно вцепились. Сможешь сбросить со следа его людей – найдёшь меня в старой крепости возле порта. Сова».
Послышался скрип ступеней, потом звук тяжёлых шагов. Подошёл Стэнток, с щёлчком сложил трубу.
– Дорога пуста. Ни человека, ни всадника, ни повозки. Похоже, доехали незаметно.
Вместо ответа Бэнсон протянул ему прочитанное письмо.
– Так, – на удивление спокойно сказал Стэнток, прочитав написанное. – Как думаешь действовать?
– Очевидно, что нужно убираться отсюда, – ответил Бэнсон. – Причём уходить нужно всем, вместе с хозяином и его слугами. Сесть на корабль и отплыть. На воде следов не бывает. Но очевидно ещё и то, что сделать нам этого не дадут.
– Постараются не дать, – уточнил Стэнток, укладывая трубу в чехол.
– Очень постараются.
– Будем уходить ночью?
– Нет. Мы можем уйти лишь собрав всех вместе. А Вайер, стало быть, этого только и ждёт. Видимо, он собрал новую армию, и у него достаточно сил, чтобы покончить со всеми разом.
– Это не совсем разумно. Всегда легче бить противника по частям.
– Только не в нашей ситуации. У нас уже были схватки с армией Вайера. Как только кто-то наносил удар, то немедленно получал ответный, поскольку открывал своё местонахождение, количество сил, степень осведомлённости, планы. Здесь не работают армейские законы тактики и стратегии. Это мир магов.
– Что же ты хочешь предпринять?
– Я хочу того же, чего очень хочет и Вайер: найти Сову. Мастер Альба сказал бы, что у нас с «крошкой» сейчас медленный призрачный танец. Я знаю, где Сова, а Вайер знает, где я. Он надеется, что я приведу к Сове его людей, а я надеюсь спрыгнуть со следа.
– Есть идеи?
– Да, есть.
– А что делать мне?
– Думаю, то же, что и мне. Поесть и выспаться. До ночи ни мы, ни они ничего не предпримут.
Однако кое-что всё же было предпринято.
Уже наступал вечер, когда по улице галопом пронёсся всадник. Грохот копыт его лошади сделал почти неслышным одиночный стук в дверь, – скорее не стук даже, а удар. Поспешивший взглянуть в чём дело хозяин дома торопливо пришёл в комнату, где спал Бэнсон, а тот уже вскочил на звук его тревожных шагов.
– В двери торчит нож, – сообщил взволнованный скупщик.
Спустя четверть минуты Бэнсон держал в руках длинный метательный нож с намотанной на рукоятку полоской бумаги. Он снял послание, принялся читать витиевато начертанные строки, а Стэнток с нескрываемым восхищением стал рассматривать безупречно сбалансированный, с шероховатостью вдоль тонкого лезвия нож. Спустя минуту они поменялись. Бэнсон взял в руки клинок, а Стэнток принялся читать.
«Многоуважаемый рыцарь! В виду Вашего неучтивого отношения ко мне имею честь вызвать Вас на поединок. По причине сломанной Вами моей руки я не могу предложить Вам фехтование. Будет ли Вам удобно стреляться между волком и собакой, сближаясь со ста шагов, имея по два пистолета? Ответ сообщите со своим секундантом, коему надлежит проехать этой ночью под охраной кодекса неприкосновенности герольдов и парламентёров, имея на рукаве повязку из белой ткани. С искренним уважением к Вам – магистр Ван Вайер».
– Признаться, я не большой дока по части притворства, – хмуро выговорил, подкручивая кончик уса, Стэнток. – Всегда, когда приходилось сражаться, я сражался честно. Вот – ты, вот – противник. Кто больше вложил труда в тренировки – тот победил. А здесь – какие-то подходцы, финты, враньё, осторожная храбрость. С кем мы воюем?
– Это действительно непривычный враг, Стэнток. Для него подлость – это доблесть.
– Но в этом случае, чтобы его победить, нужно стать таким же подлецом?
– Если не большим.
– И ты согласен на это?!
– Не так давно я сам задавал этот вопрос. В ответ мне рассказали историю о ваннах, наполненных кровью детей. После этого я принял решение. Если нельзя остановить тёмного человека в честном бою – я остановлю его подлым ударом. Тут всё просто. Однажды перед тобой встаёт выбор. Безжалостный выбор: либо – да, либо – нет. Выбор сделал – сиди, кури.
– Значит, мне сейчас нужно тебе прямо ответить – могу ли я, например, зарезать спящего?
– Не сейчас. Немного позже, когда осмотришься и поймёшь, с кем имеешь дело. А сегодняшней ночью единственное, что я попрошу тебя сделать – это поиграть в прятки.
– С человеком, который магистр неизвестно чего? Изволь. Поиграю. С чего начнём?
Бэнсон, заметив, что хозяин, держа в руках поднос с закусками, приглашающее кивает им, взглядом указал на него Стэнтоку и двинулся в сторону кухни. За ужином они подробно обсудили предстоящие «прятки».
Ближе к полуночи, когда Луна зажгла свой фонарь, со двора бывшего скупщика краденого выехал всадник. Даже в темноте было видно, что это большого роста и весьма крупный человек, сидящий на громадном вороном жеребце. На рукаве его чёрного одеяния белела повязка. И, едва копыта жеребца, звонко цокнув, перешли с мягкой земли двора на бутовый камень дороги, как наездник пустил коня в дикий галоп. Гремя подковами, на полном ходу каким-то чудом вписываясь в повороты проулков, в чёрной ночи, по спящему Плимуту летел чёрный призрак. И ещё больше, – хотя, казалось, что невозможно, – прибавил полёта вороной жеребец, когда выстелилась перед ним за окраиной города ровная накатанная дорога.
Промчавшись с полмили, седок перевёл коня в рысь и, привстав, оглянулся.
– Та-ак, – хрипло произнёс он, увидев вдали два маленьких силуэта. – Двое за нами.
– Пора! – сказал человек, сидящий у него за спиной. – С таким весом и в такой гонке Уголь долго не выдержит.
Он откинул полу скрывавшего его наскоро скроенного огромного плаща, перенёс обе ноги на одну сторону и, лёжа животом поперёк конской спины, выбрал секунду и спрыгнул. Спрыгнул, упал, громыхнув треугольным деревянным футляром, а сильно утративший массивность фигуры всадник снова вывел коня в галоп.
Пригибаясь, изредка опираясь на руку, Бэнсон метнулся вбок от дороги. Преодолев десяток ярдов он упал и замер, надёжно накрытый ночным мраком. Спустя очень короткое время мимо него пронеслись двое в чёрном и на чёрных же лошадях. Бэнсон вдруг вспомнил, на какое расстояние и на какой скорости кто-то из них метнул нож минувшим вечером (сложнейший, но безупречно выполненный бросок) и представил, какие бойцы умчались за ничего не смыслящем в ночных разбойных делах Стэнтоком! На «защиту кодекса неприкосновенности герольдов и парламентёров» он не очень-то полагался. Надежда была лишь на то, что Уголь, сделав петлю, домчит Стэнтока до ворот дома раньше, чем его настигнут псы Вайера.
Выждав для верности какое-то время, он привстал, собираясь вернуться к дороге – но тут же упал снова, бессильно и беззвучно ругаясь. В короткий, летучий миг он поймал взглядом ещё одного чёрного седока, который медленно двигался по следам участников дикой ночной кавалькады.
Да, было отчего бессильно ругаться. Неторопливость этого третьего объяснялась тем, что на длинном поводке перед ним, низко пригнув морду к земле, бежал доберман. «Как скверно, – сказал бы сейчас мастер Альба». Безусловно, хорошо тренированный доберман. «Вот какие мы – затейливо-хитроумные. И вот какие они, – ну ничуть не глупее». Завалившись набок, Бэнсон поднял крышку футляра, достал арбалет и, вставив ключ, принялся плавно вращать рукоятку. Он прекрасно знал, что последует дальше. Вставил болт, лёг на спину ногами к дороге и стал ждать.
Маленькие действия участников игры в прятки нанизывались одно за другим на длинную нить судьбы, и Бэнсон не ждал – да и не было их – иных вариантов. Достигнув места, где несомые Углем седоки разделились, доберман вдруг резко рванул в сторону. Стремительно, заученно действовал всадник. Едва лишь доберман, прижав высокие острые уши, сделал первый скачок, как он сбросил с руки петлю поводка и, кинув ногу через седло, спрыгнул на землю. Но ни он, ни пёс его прыжка не закончили. Бэнсон хорошо понимал, что его время – эти вот полторы-две секунды, а всё остальное – в распоряжении ночного убийцы, который, без сомнения, не одну сотню раз оттачивал свои действия в таких вот затейливых поединках.
И сумел оба прыжка оборвать. Кувыркнулся пёс, пробитый навылет болтом, и тут же, ахнув, упал, едва коснувшись ногами земли, всадник, принявший в грудь удар кричащего человечка. Бэнсон отчётливо видел и слышал, что попал, и потому рискнул. Вскочив и выпрямившись в полный рост (прекрасная, крупная мишень) он вдвинул носок ноги в стремя и, застонав, поднял тетиву. Бросил в жёлоб новый болт, прижал его стопором и сделал два длинных прыжка в сторону упавшего преследователя. Тот лежал на полубоку, лицом вниз, подогнув одну ногу. Зайдя со стороны спины, Бэнсон направил на него арбалет и проговорил:
– Если слышишь меня – заведи руки назад, я свяжу их. Если не слышишь – я выстрелю. Для надёжности, сам понимаешь.
Лежащий не рискнул допустить паузы. Начав дышать часто и коротко, он, не выпрямляя ноги, завёл руки за спину, скрестил их в запястьях.
– В точности, – сказал вполголоса Бэнсон, – как испанский бульдог в пилигримском приюте.
Чуть качнул дугой арбалета и выстрелил в спину лежавшему.
Снял поводок с шеи добермана, поймал недалеко отошедшую лошадь, привёл её к месту схватки, привязал поводком к мёртвому телу, нашёл и положил в карман крикуна, спрятал в футляр арбалет, взгромоздил на начавшую хрипеть от запаха крови лошадь её бывшего седока, обмякшего добермана, и сел ещё сам. Хорошо понимая, какой вес приняла на себя лошадь, пустил её шагом. Ему очень нужно было, чтобы она дошла до берега моря.
Рука его, придерживающая пса, чувствовала, как утекает из-под ладони живое тепло и на смену ему приходит мертвенная прохлада.
– Сволочь ты! – сказал он, наклонившись к молчащему противнику. – Собаки-то в наших прятках при чём?!
Через час с небольшим, выехав на кромку невысокого берега, он добавил к этой фразе – «и лошади!» Снял с безропотного усталого животного груз, вынул и взвёл арбалет и, выставив лошадь на самый край, выстрелил ей в бок. Когда снизу донёсся тяжёлый всплеск, деловито сказал:
– Отпустить не мог. Если бы тебя нашли здесь – значит, и мы с Совой здесь. Извини.
Снял с убитого снаряжение и выбросил тело вслед за лошадью, а потом сбросил и тушку жилистого добермана. Ещё через полчаса он пробрался в развалины старой крепости неподалёку от порта. Прокрался вглубь, лёг между каких-то камней и устало прикрыл глаза. А ещё минут через пять совсем рядом с его ухом кто-то негромко сказал:
– Топаешь, как бегемот. Здравствуй, Бэн.
– Здравствуй, Сова, – улыбнулся и привстал на локте Бэнсон.
– Жив. Это же надо. Как странно. Ну, говори.
Когда Бэнсон выложил всё, что случилось со времени их последней встречи, принялся делиться новостями Сова.
Прошло два часа. Небо стало светлеть. Сова, получив множество непростых новостей, замолчал. У него была трудная работа: он думал. Бэнсон понимал это, и всё-таки не удержался, спросил:
– Ты не знаешь, где это место «между волком и собакой»?
– Это не место, – ответил Сова. – Это время. Особое время сумерек, пять – десять минут, когда ещё настолько светло, что можно увидеть животное, но уже настолько темно, что нельзя определить – волк это или собака. Миг некоего оцепенения в мире, миг призрачной силы. Похоже, Вайер дорос до магии. Эх, старательные мои монахи. Как я просил, чтобы его не отправляли без меня! На час опоздал, даже меньше.
Он снова умолк. Молча лежал и Бэнсон, смотрел на утрачивающие яркость звёзды – и незаметно уснул.
– Пора, – разбудил его голос Совы. – Сейчас Дэйл поведёт своих.
– Кто это? – протирая глаза, спросил Бэнсон.
– Смотри и увидишь.
Пригибаясь, они немного прошли, легли на край высоко поднятого уступа и принялись смотреть вниз. Через десяток минут на узкой тропе под ними показалась вереница детей. Разного пола и возраста, здоровые и калеки, в рванье и в приличной одежде, – зевая, подпрыгивая, размахивая ручонками, они торопливо и деловито шли в сторону порта.
– А вон парнишка одет просто по-барски, – прошептал Бэнсон.
– Это Пит, – также шёпотом пояснил Сова. – «Благородненький дай». Его недавно украли компракчикосы. Всё, что нужно, я уже увидел и услышал. Кроме монахов, домочадцев скупщика и семьи Стэнтока мы должны вывезти из Плимута и этих детей, Бэн. Тогда Пит вернётся домой, а Милый Слик отправится на знакомый тебе край берега, к лошади и доберману.
– Кто все они такие? Расскажешь?
– Долгим будет рассказ. Хотя времени у нас – больше, чем нужно: до следующей ночи.
– А где дом Пита?
– Очень далеко, Бэн. В Новой Англии.
– В Америке?!
– Там.
Глава 8 Костоломка
Есть гнусные негодяи, торговцы рабами, которые хватают живых людей и продают их, как вещи. Есть гнусные страны, которые занимаются тем же. И, кажется, плачет Небо, глядя на это.
Но среди негодяев есть совсем уже чёрные души. Их называют компракчикосы. Внешне они – как люди. Но смысл жизни их в том, чтобы похищать детей и продавать их. Иногда за детей платят очень дорого, очень.
Компракчикосы
Пит любил море. Да и как не любить, когда ты живёшь на самом его берегу, родители твои весь день работают в доках, и отроду тебе – девять лет.
Америка! Край Карибского моря, Новая Англия. Бедняки, приехавшие сюда лет десять назад, теперь – благополучные люди, если не сказать – состоятельные. И вот уже можно покинуть маленькую наёмную квартирку и купить небольшой домик: деньги прикоплены. И супруге можно оставить работу, заняться хозяйством, и родить Питу маленькую синеглазую сестрёнку. Питу, любимцу, доброму, воспитанному, аккуратному.
Вот только бегать к морю днём Питу нельзя: он должен сторожить квартирку со всем накопленным за десять лет имуществом. Замок в двери – старинный, таких уж не делают теперь, – а ключ от него потерялся. Так что у младшего члена семьи есть нетяжёлое, но достаточно скучное дело: в то время, когда соседские мальчики бегут, мелькая пятками, купаться или ловить с лодок рыбу, он должен сидеть в душной квартирке и читать всякие умные книги.
Должен был! До чего же богат мальчик в девять лет, до чего счастлив, когда у него есть настоящая тайна! Маясь от скуки, сел как-то Пит на крыльце, взял гладкую дощечку от фруктового ящика и угольный, в бумажной трубочке, грифель, и стал рисовать парусник. Грифель весело трудился, поскрипывая. Парусник кипел парусами, и кипело под ним взлохмаченное крепким бризом море. Вдруг обточенный уголёк выскользнул из бумажки и упал в щель между досками. Пит полез под крыльцо и здесь, среди щепок и пыли, нашёл и грифель, и потерянный ключ.
Тайна! Как же сладко, когда она у тебя есть!
Теперь, когда родители отправлялись в док, Пит, немного выждав, замыкал дом и что было сил нёся к морю. Он не сказал про ключ маме и папе, но давайте простим ему эту хитрость: ведь тогда его стали бы отправлять то на рынок, то ещё по каким-нибудь домашним делам, а так – он мог целые дни проводить возле своего тёплого моря.
А порт! Сколько любопытного, яркого там можно увидеть! Сколько диковинных вещей продаётся в полдень на незаконной, прячущейся от полицейских маленькой ярмарке! А после неё, когда изнывающий от жары полицейский всё-таки появляется, и торговцы с безразличными лицами торопливо расходятся в разные стороны, можно прийти и постоять, застыв в немом восхищении, перед невиданным чудом: слепой старик в огромной шляпе, в пиратских одеждах (и, говорят даже – сам в прошлом пират!) крутит ручку, торчащую из стенки большого, сверкающего лаком ящика, и из его таинственных недр летит музыка.
– Какой симпатичный мальчуган, – раздался вдруг за спиной Пита хриплый, прокуренный голос.
Пит, с трудом отведя взгляд от музыкального ящика, повернул голову. Сзади стояли два моряка. Гладко выбритые лица, добротная, дорогая, – но без щёгольства, – одежда.
– У тебя есть братик или сестрёнка? – спросил Пита один из них.
– Нет, – ответил Пит. – А для чего вам?
– Тут, видишь, какое дело, – сказал, почесав нос, моряк. – У нас друг сильно болен. У него есть вот такая же музыкальная штука. И он нас попросил – отдать её кому-нибудь на берегу, желательно – детям. Ведь дети лучше взрослых понимают, что такое – крутить эту ручку! И, заметь, не продать, – хотя эта штука стоит очень дорого, – а отдать. «Пусть, – сказал наш друг, – дети радуются».
Пит повернулся к старику спиной. Облизал пересохшие губы.
– У наших соседей есть маленькие дети, и даже двое. Я им мог бы играть…
– Ну что, – взглянул один моряк на другого. – Может, никого больше не будем искать? Отдадим вот этому симпатичному мальчугану?
– Тебя как зовут? – вместо ответа спросил второй.
– Пит.
– О! – воскликнул, радостно улыбаясь и вскидывая брови, моряк. – Как моего дедушку! – И сказал приятелю: – Так и быть. Отдаём.
Не чуя под собой ног спешил Пит за чудесными моряками. Нет, он был уже взрослый, и понимал кое-что, но эти его случайные друзья были хорошо одеты и ничуть не пьяны. Им можно было доверять.
У причала покачивалась крохотная яхта – с рубкой, мачтой и даже штурвалом. На палубе суетился загорелый мальчишка, года на два старше Пита. Не поднимая глаз на пришедших, он торопливо отложил палубную щётку и подал узенький трап.
– Ящик – там? – спросил Пит, не решаясь ступить на трап.
Он очень хорошо помнил, что отец говорил ему никогда, никогда не садиться в чужие лодки.
– Конечно там, – сказал один из приведших его. – Ты не робей, заходи. Знаешь, я своему сыну всегда говорю – ни за что не садись к чужим людям – ни в лодку, ни в экипаж. Но здесь – случай особый. Наш друг встать не может. Он там, в трюме лежит. А ящик он отдаст лично новому хозяину в руки. Ты только не забудь сказать «здравствуйте». Ладно? Иди.
И влюблённый в музыку мальчишка шагнул на трап.
«Никакого ящика нет, – сказал себе Пит, когда над его головой тяжело захлопнулся люк. – Ну ладно. Как только пустят на палубу – прыгну в море. Я же плаваю лучше всех. Наверно, им нужен слуга, бой, чтобы обед приносить. Мне же придётся бегать по палубе! Только бы вернуться домой раньше родителей…»
Спустя много часов, когда Пита выпустили на палубу яхты, он увидел, что она, привязанная толстым канатом, идёт в фарватере огромного корабля. На корабле подняты все паруса, а вокруг – бескрайнее синее море.
В это время паруса на корабле подтянулись и он стал замедлять ход, поджидая яхту. Она подошла вплотную к борту, и Пита выволокли из трюма и подняли наверх.
На широкой корабельной палубе, возле квартердека стояли кучкой несколько человек.
– О! – сказал один из них. – Какой приятный. – (Он показал пальцем на Пита). – Этого не надо портить. Такое лицо – редкость. А вот этого надо! – И показал пальцем куда-то Питу за спину.
Пит оглянулся и сердце его на секунду радостно дрогнуло: следом за ним, из второго трюма яхты поднимали ещё одного мальчишку, знакомого, с соседней улицы. В их юной компании он был вроде изгоя, потому что голова у него была маленькой, как бы усохшей, и носик рос маленьким крючком, загнутым вбок. Мальчишки допускали его в компанию только лишь для услужения. И прозвище у него было совершенно дурацкое: «Шышок».
– Привет, Шышок, – негромко сказал Пит.
– Где мы, Пит? – спросил испуганный Шышок.
– Где, где. Мы попались.
– А вот этого – надо! – Повторил человек с протянутым пальцем. – Ноги ему – в костоломку, и болт затягивать на один оборот в день. Чтобы до Плимута ноги стали скрюченными, как серп в новолунье!
Корабль дёрнулся. Пит, подняв голову, увидел, что все паруса подняты, и матросы, как муравьи, скользят вниз по вантам, и яхточку уже подняли и закрепили на блоках. Было неизвестно, на какое расстояние отошли от берега, но Пит, стремительно развернувшись, пробежал несколько шагов, вскочил на фальшборт и прыгнул вниз, в море, с невероятной – как показалось ему – высоты.
Любой корабль в начале плавания удаляется от берега. Это ясно ведь, верно? Вот и Пит это знал. Поэтому, повозившись немного в воде и сбросив лёгкую летнюю одёжку, он развернулся против хода удаляющегося корабля и неторопко, экономя силы, поплыл.
Он знал ещё одну вещь: ради него, ничтожного маленького человека, не станут останавливать такой громадный, на всех парусах уходящий в море корабль. Поэтому он вздрогнул и изрядно хлебнул горьковатой воды, услыхав сзади плеск вёсел. Он оглянулся. Шлюпка своим тупым носом почти накрыла его, а корабль – невозможно поверить! – стоял, свернув все паруса.
– Ну зачем я вам?! – отчаянно закричал Пит, и кричал так всё время, пока его втаскивали в шлюпку.
Затем, посаженный между двумя гребцами, он примолк и стал ждать трёпки. Но опять всё вышло странно. Его не тронули. Тот человек, любитель указывать пальцем, полюбовался его гладкой, загорелой кожей и сказал что-то непонятное: «отличный «благородненький дай!» И, погладив Пита по голове, отошёл к Шышку. Двое матросов свалили маленького кривоносого человечка на палубу и безжалостно высекли. Пита специально подвели поближе, и он, придерживаемый за локти, беспомощно наблюдал, как не только спина Шышка, но и взлетающие над ней обрезки толстой каболки окрасились красным.
Шышок действительно был самым слабым в их мальчишеской прибрежной компании. Он не мог даже громко крикнуть. Он лежал и как-то хрипло пищал. Словно раздавленный каретным колесом заяц.
– Прыгай ещё, – сказал кто-то Питу. – Ему добавят.
Пит поднял слепые, залитые слезами глаза и, стиснув зубы, выдавил:
– Нет…
Они плыли много дней. Пита отлично кормили. Но держали его внизу, в трюме – чтобы с лица сошёл загар. Только утром и вечером ему разрешали подняться на палубу, – и не разрешали даже, а настаивали: он должен был гулять, вдыхая целебную силу морского воздуха. И, едва выйдя на палубу, он со всех ног бежал туда, где, напротив, брошенный под ожоги солнечных полудённых лучей, лежал Шышок. Пит приносил ему воды, кормил с рук и плакал. Он не мог заставить себя взглянуть на ноги маленького кривоносого соседа. Ноги его, тонкие костлявые палочки, были вложены в округлые железные шины с винтами. Каждый день винты прикручивали тяжёлым ключом с длинным воротом, и тогда Шышок – Пит слышал этот звук сквозь доски над головой – хрипло пищал, и ползал, подтягиваясь на руках, по палубе, стараясь оторваться от прицепившейся к нему невыносимой боли. А колени Шышка всё больше и больше выдавливались с боков наружу, ступни же наоборот, подворачивались вовнутрь, так, что подошвы неминуемо должны были соприкоснуться, словно сложенные ладони.
Пит бессильно плакал по ночам. Он понимал, что из Шышка делают калеку, и он станет калекой неотвратимо и навсегда. Зачем это было нужно укравшим их – Пит не знал, но к его отчаянию и боли за друга примешивался тошнотворный остренький страх: он понимал, что его самого холят и берегут неспроста. И что, может быть, придёт время, когда он позавидует тому, кто сейчас, обмирая от боли, скрипя железом, ползёт по смоченной собственным потом палубе.
Хозяин пещеры
Дни тянулись бесконечной однообразной лентой. И море, казалось, никогда не закончится. Но пришёл край и ему.
– Плимут! – прокричал с мачты марсовый.
Но корабль, к удивлению Пита, не направился в порт, а напротив, отвернул и стал удаляться назад, в море. Однако, вскоре снова медленно повернул. Капитан, казалось, старался не терять берег из виду. Только ночью корабль приблизился к чернеющим скалам. Пита и Шышка связали, заткнули им рты и спустили в бьющуюся о борт шлюпку. Шлюпка уже была основательно чем-то нагружена: лежать пришлось на горе каких-то тюков, а вода плескалась у самой кромки борта.
– Готово? – крикнули сверху.
– Всё! – ответили рядом, из шлюпки. – Остальное можно предъявлять на таможне!
Тогда шлюпка отчалила. Сидеть на тюках пришлось и гребцам, им было неудобно, и они яростно, вполшёпота, бранились.
У берега все принялись возиться, выгружая привезённое на берег, а двое, те самые, что встретились Питу возле играющего на музыкальном ящике старика, подхватили мальчишек, словно мешки, и деловито затопали прочь от берега.
К утру они закончили своё путешествие. В предрассветном сумраке Пит увидел, что находятся они в каких-то старых развалинах. Мощные каменные стены, осевшие и осыпавшиеся, были густо затянуты стелющейся лианой и тянущимися вверх деревцами. Строение, видно, было когда-то грозным береговым укреплением.
Один из моряков, всё так же хорошо одетый и безукоризненно выбритый, отвалил в сторону толстую полусгнившую доску и потянул обнаружившуюся под ней то ли цепь, то ли верёвку. Потом ждали, – непонятно было чего, но долго гадать не пришлось: дрогнул невдалеке прислонённый к стене огромный плоский камень и стал от стены тихо отваливаться. Когда Пита втащили в образовавшуюся между камнем и стеной щель, мальчишка заметил, что камень держат в наклоне два толстых каната, продетых сквозь выточенные в его теле проушины. Эти канаты и притянули камень назад, когда все четверо оказались внутри. Стало темно.
Вдруг впереди замаячил свет факела и из обозначившейся округлой пасти туннельного входа показался кто-то уродливый, невысокий и до безобразия толстый.
– Привет, Слик, – сказал один из пришедших. – Пополненьице купишь?
– Ну-ка, ну-ка! – каким-то женским, высоким голосом проскрипел толстяк.
Он поднёс факел почти к самому лицу Пита, потом Шышка. Внимательно осмотрел железные шины с винтами. И (Пит похолодел) довольно кивнул. После этого названный Сликом повернулся и заколыхался обратно в туннель. Моряки, подхватив мальчишек, двинулись следом.
Блеснул утренний солнечный свет. Вошли в просторное помещение. Каменный, с высоким потолком пятиугольник. В стенах, в пяти местах – красные от ржавчины толстые прутья решёток. За решётками скрывались неглубокие эркеры, и в них виднелись дощатые настилы с каким-то тряпьём. Свет падал из пяти световых колодцев (неба в них не было видно). И ещё – в потолочном каменном своде имелась плита, повёрнутая на оси. Одним краем она наклонялась внутрь помещения, а вторым выдавалась наружу. На плите каким-то образом держалось громадное зеркало, отражающее солнечный свет. (И вот в этом зеркале было видно небо.) Свет играющим, широким столбом падал в устроенный в одной из пяти стен округлый альков, где виднелось широченное ложе со множеством цветных ковров, одеял и подушек.
Слик доколыхался до ложа, влез, кряхтя, на него и пропел:
– Ну что же, показывайте!
Он внимательно осмотрел сначала Пита. Мальчишку перед этим не только освободили от верёвок, но и стянули с него рубаху.
– «Благородненький дай»? – взглянул заплывшими глазками Слик на матросов.
– В точности так. Настоящий.
– Годится.
– Сто фунтов.
– Десять.
– Восемьдесят.
– Двадцать пять.
– Семьдесят.
– Сорок.
– Слик, утомил. Окончательно, сколько?
– Пятьдеся-а-ат, и всё!
– Согласны.
– А это? – Слик посмотрел туда, где сидел, вытянув перед собой скрюченные ноги, Шышок. – «Жалобный дай»?
– Как видишь.
– Сколько он в костоломке?
– О, почти месяц! – ответил один из матросов, бросая на кровать рядом со Сликом тяжёлый, с длинным воротом ключ.
– Мало. Не раньше, чем через полгода его можно будет выпустить на работу. И мне его полгода кормить?
– Хватит ныть. Сколько?
– Два фунта.
(По спине Пита прокатился озноб: почему за него начали со ста фунтов, а за Шышка – с двух?!)
– Двадцать пять.
– Восемь.
– Пятнадцать, Слик, и хватит плескаться!
– Договорились.
Слик, кряхтя, перевернулся и, задрав кверху слоновий свой зад, полез под подушку. Достал связку ключей. Воровато оглядываясь на визитёров, пробрался к альковной стене, сдвинул в сторону край ковра и отпер открывшуюся за ним дверь. Вошёл в неё и, – было слышно, – заперся изнутри. Несколько минут пришедшие провели в ожидании. Один из матросов начал насвистывать. Снова загремел замок, Слик вышел и тщательно запер за собой дверь. Потом сел, отдуваясь, и протянул компракчикосам кошель.
– Берите. Шестьдесят пять фунтов.
Моряки тут же разделили деньги надвое и укрыли в карманах.
– Пока, Слик. Заказов не будет?
– Двух девочек привезите. Не моложе десяти лет, и не старше двенадцати. И чтоб красивых, и чтоб не из Плимута!
– Красивых как? Для работы или на продажу?
– На продажу. Есть покупатель.
– Опять тот горбун?
– Нет горбуна больше. Успокоился. Вот был покупатель! Говорят, со своими приятелями поссорился. Нет, другой покупатель. Насто-о-йчивый!
– Ладно, Слик. Через неделю. Жди.
Толстяк сполз с ложа и утопал, одышливо посапывая, вместе с моряками, обратно в туннель. Заскрипело вдали колесо. Долетел мягкий удар камня о камень. И хозяин пещеры вернулся.
– Так, – сказал он. – Ты кто?
– Меня зовут Пит.
– А тебя?
– Шышок.
– Ладно. Забейтесь в уголок и не шумите. Спать буду. Придёт Дэйл, всё вам расскажет. Есть хотите?
– Хотим.
– Дэйл накормит.
– Когда? – несмело спросил Пит.
– Вечером.
Мытарь и данники
Слик весь день спал. Точнее, он засыпал накоротко, но вскоре начинал ворочаться, слабо стонать, – и, наконец, поднимался. Плаксиво охая, он добирался до стоящего у стены, рядом с ложем, узкого и очень высокого шкафчика, отмыкал его ключиком и, сев возле раскрывшейся дверцы, доставал что-то и ел. У Пита, смотревшего на него в эти минуты, болезненно сжимался желудок. А толстяк, звучно чавкая, запирал дверцу, прятал ключ и возвращался на ложе – для нового короткого сна.
Солнце за стенами поднималось всё выше, и зеркало обрушивало вниз, на спящего, всё более жаркий столб света – и, казалось, что свет этот вытапливает жир из бесформенного, комковатого тела – так оно покрывалось потом. Пропитывалась и темнела одежда, блестел пот на ноздреватой складчатой коже, и исходил от спящего тошнотворный остренький запашок. Мальчишки сидели в самом центре каменного пятиугольника, бывшего когда-то, без сомнения, пороховым складом, и даже сюда, к ним, преодолев изрядное расстояние, докатывался этот сладковатый трупный ароматишко.
Два человечка, растерянные, голодные, молча и терпеливо сидели в центре общего для пяти пороховых хранилищ раздаточного зала, где на четыре поставленных вертикально бочонка была положена массивная, длинная, хорошо сохранившаяся, плоская, без инкрустации, дверь. В покрывавших её трещинах и лунках, оставшихся от винтов, крепивших когда-то огромную ручку, обнаружились закаменевшие хлебные крошки, и Пит и Шышок, смачивая слюной пальцы, извлекали эти крошки из трещин и, блаженно замирая, растирали их на зубах.
Недвижимо, мучительно медленно проходил день. Но вот всё-таки потускнел столб отражённого зеркалом света, и пробралась сквозь проём в потолке влажная предвечерняя свежесть. И тут где-то, невидимый, за стеной, прогудел колокол. Спящий толстяк зашевелился, заохал, сполз с ложа и утопал в туннель. Оттуда, из тёмной дыры, вскоре послышался шорох частых шагов. И, кроме Слика, в пороховой зал вошли дети. Много, десятка два или три – Пит сразу не разобрал. Торопливый взгляд его выхватил из плотной толпы выбегающих из туннеля маленьких оборванцев нескольких: невысокого роста крепыша, – взрослого, лет четырнадцати; такого же крепкого, с небольшим горбом, карлика, тащившего на спине, кроме горба, плетёную плоскую корзину; и маленькую, с милейшим личиком девочку, которая бодро топала в пол одной тонкой ножкой, а вместо второй мягко хлопал о камень пола обмотанный на конце тряпичным коконом костылёк.
Но, пока Пит рассматривал этих, почему-то выбранных им из толпы, незнакомцев, его вниманию предложил себя ещё один. Маленький, вёрткий, огненно-рыжий мальчишка, прыгая, словно балаганный паяц на пружинках, подскочил к Питу и прокричал:
– Новенький! Новенький!
И тут же, с неописуемой простотой и нахальством, залез тонкой, но ощутительно сильной рукой к Питу в карман.
– А что у тебя тут? – требовательно вопросил он, запуская руку и во второй питов карман.
– Чарли! – строго прикрикнул, заметив его «приветствия», взрослый крепыш.
– Я – Нойс! – гневно выкрикнул рыжий нахал, повернувшись к крепышу и топнув ногой.
– Мистер Чарли Нойс! – поправился, не убрав, однако, из голоса строгости, окликнувший его. – Сначала – дела, потом – знакомства! Или вы, мистер Нойс, по палке соскучились?
Услыхав о палке, «мистер Нойс» опасливо взглянул в сторону ковыляющего к своему ложу Слика и, с сожалением посмотрев на Пита, отошёл и присел на какой-то бочонок. Но не отпустил от себя общего внимания, нет! Едва только он сел, как старый бочонок, ожидавший, без сомнения, именно такого варианта завершения своих дней, с дробным грохотком рассыпался и разбросал полуистлевшие дощечки по гладкому камню. Многие из вошедших весело засмеялись.
– У них радость! – послышался вдруг высокий, почти визгливый голос, и в голосе том была нескрываемая глумливость. – Они радуются! Знать, кто-то сегодня принёс золотце?
Под каменными сводами мгновенно воцарилась могильная тишина. Все замерли. Крепыш, принужденно кашлянув, вышел вперёд и отчётливо проговорил:
– Нет, милый Слик. Сегодня золотца не добыли.
– Ах вы маленькие засранцы, – почти нежно проворковал Слик и в руке его появилась длинная, тонкая бамбуковая палочка. – Ах вы, дармоеды. Я вас оберегаю, даю вам кров, спасаю от полиции, а вы уже месяц не приносите мне золотца – и веселитесь? Что ж это делается, Дэйл?
– Завтра, – торопливо сказал крепыш, ступая ещё на шаг вперёд, – я принесу золотую монету. Обещаю. Не сердись, милый Слик.
– Хорошо, – ответил толстяк и отложил палку в сторону. – Подождём-ка до завтра. – И, переведя дух, добавил: – Ну, кто начнёт?
Замершие на минуту маленькие оборванцы засуетились, стали прятать ручонки в карманы, – и Пит заметил, что они все старались не смотреть друг другу в глаза. А Дэйл и снявший и поставивший свою корзину на пол горбун поднесли к возвышению, на котором покоилось мокрое от пролитого днём пота ложе короткую, на массивных ножках, скамью и поставили её перед Сликом.
– Я начну, – сказал Дэйл и, запустив руку глубоко в карман, выложил на скамью небольшую горстку монет.
– Та-ак, – протянул, с трудом перегнувшись в поясе, Слик. – Это что же… Тридцать три пенса?! А твоя доля – всего двадцать пять?
Дэйл кивнул.
– Хорошо! Завтра можешь принести только двадцать.
– Дэйл – молодец! – прошептал в самое ухо Питу возникший вдруг рядом рыжий Нойс. – Он знает, что если Слика с самого начала задобрить – то всем потом будет легче!
А место Дэйла возле скамьи занял, между тем, горбун, и – Пит не поверил своим глазам – к нему присоединился малыш, на вид всего лет пяти, выпрыгнувший из принесённой горбуном корзины. Малыш высыпал на лавку такую же, как у Дэйла, горстку монет, и положил ещё три глухо звякнувших кошелька.
– Сколько там? – облизнул толстые губы Слик и глаза его загорелись жадненьким любопытством.
Малыш распустил шнуры кошелей и высыпал из них содержимое. Слик радостно взвизгнул, заметив среди монет серебро.
– Сколько?! – нетерпеливо повторил он.
Горбун, едва ворочая втянутой в плечи носатой и приплюснутой головой, пересчитал.
– Фунт с четвертью, Слик – ржавым, металлическим голосом доложил он.
– Милый! Милый Слик!! – взвизгнул толстяк и, с неожиданным проворством схватив свою длинную и тонкую палку, хлестнул горбуна по плечу.
– Да-да, – дёрнулся под ударом, но не закрылся и не отступил горбун. – Милый Слик! Фунт с четвертью.
– Фунт с четвертью? – переспросил со зловещей иронией Слик. – А ваша доля на двоих – сколько за день?
– Фунт с четвертью, – потерянно сообщил горбун.
– Замечательно! – заколыхался, заходясь в хохоте, Слик. – Великолепно! И у этих портовых простаков и ротозеев оказалась в карманах точнёхонько нужная сумма, ни больше, ни меньше… А? А?
Пятилетний обитатель корзины торопливо закрыл макушку ладошками и спрятался к горбуну за спину.
– А ну-ка, – Слик вытянул далеко вперёд свою палку, – Дэйл! Притащи-ка их корзину сюда!
Дэйл, удручённо покачав головой, послушно принёс и подал Слику корзину. Тот, откинув плоскую крышку, запустил толстую руку внутрь – и широко улыбнулся.
– Нож! – скомандовал, недобро улыбаясь, толстяк.
Тотчас кто-то из находящихся в общей толпе оборванцев подскочил и подал ему раскрытую бритву. Слик засунул эту бритву в корзину, что-то срезал там, и, перевернув корзину вверх дном, вывалил себе на колени ещё один толстенький кошелёк.
– Дэйл! – снова крикнул толстяк.
Крепыш подошёл, взял кошелёк и, высыпав деньги на лавку, пересчитал.
– Два фунта три пенса, – сказал он, выложив монеты в удобную для обозрения линию.
– Два фунта!! – взвизгнул, багровея, толстяк. – Утаить от меня! Хотели! ДВА фунта!
Он, часто дыша, поднял вверх палку и так держал её, ожидая, пока Дэйл не уберёт с лавки монеты. После этого малыш, горестно подвывая, выбрался из-за спины горбуна и лёг на эту лавку, вытянув руки и ноги. Тонкий бамбук хорош тем, что он вроде бы лёгкий, взмахивать им не составляет особых усилий. Но кончик его приобретает такую скорость, что даже свистит. Пит вздрогнул, когда ребристая, каменно-твёрдая палка со звонким щелчком вьелась в тоненькую вздрогнувшую детскую спину. Испустив отчаянный крик, малыш задрожал, но не вскочил и не сбежал с лавки. И Слик без помех, с расстановкой, прицеливаясь, ударил три раза. После этого Слик сказал «всё!», и малыш, подвывая, размазывая по грязному личику слёзки, с перекошенным ртом, убежал. И, – Пит старался не слышать, – три удара получил и горбун.
– Вот, значит, как, – шептал Пит сам себе, – вот, значит, как…
А все пришедшие, один за другим, подходили к лавке и звенели монетками. И ещё несколько раз злобно верещал Слик, и свистела и щёлкала палка, и отчаянные крики взлетали под каменный свод бывшего порохового цейхгауза.
Пришёл миг, когда сбор денежной дани закончился. Монеты с лавки переместились в извлечённый Сликом из-под подушки большой плоский портфунт, бывший когда-то, как показалось Питу, дорожным баулом аптекаря, и широкая доска, после денег и вздрагивающих под ударами тел, приняла на себя предметы иного рода: большой пучок зелени – лук и столовые травы, полкруга сыра, длинную цепь толстых колбас, два неразрезанных круглых хлеба, – и бесчисленное множество мелких съедобностей (обрезки окороков, хлебные корки, зубчики чеснока, половинки варёного и целиком печёный картофель, обломки пряничного края, россыпь сухих чайных калачиков, горка мелких сушёных рыбёшек и один жирный, остро пахнущий копчёный бок крупной рыбы, карамельки, пастилки, суповые белые клёцки, оранжевые пальцы морковок, большой ком варёных бараньих мозгов, десяток крупных, с неровными сколами, сверкающе-белых кусков сахара, предлинная нитка с нанизанными на неё стручками гороха, столбик свежей, нарезанной пластинами солонины, длинный брус розово-белого, со сверкающими соляными кристалликами сала, горка слипшихся, залитых застывшим белеющим жиром куриных крылышек и окорочков). И, наконец, на самом краю лавки поместились три винных бутылки и огромный жареный гусь.
– Кто принёс гуся? – блестя глазками, поинтересовался Слик, вытянув в сторону задравшего обрубки ног гуся толстый палец.
– Это я! – выступила вперёд девочка с костыльком.
– А, Ксанфия! – расплылся в улыбке Слик. – Как же это ты так удачно подкралась?
– Я в трактире в окошечко просунулась, когда повара отвлеклись! Гусь лежал близенько…
– Он ведь тяжёлый!
– Ой тяжёлый какой, милый Слик! Еле унесла!
– Молодец. После возьмёшь себе косточки.
– Ах, милый Слик, какой ты предобрый!
А «предобрый» толстяк перевёл взгляд на толпу своих маленьких подданных и негромко спросил:
– Есть кто-нибудь, кто не принёс ничего?
Шумно вздохнув, выбежал вперёд рыжий Чарли.
– Так-так, мистер Нойс, – сказал, наощупь отыскивая палку, толстяк. – Ты, маленький глист, решил меня голодным оставить?
И Нойс получил добрый десяток ударов.
– У-ху-ху-у-у!! – выл он, вбегая в толпу опасливо посматривающих на палку товарищей.
Пытаясь примоститься на новом бочонке, он вскочил, едва присев, потирая отбитый зад, и вдруг, развернувшись, что было силы заехал по щеке стоявшей неподалёку худенькой, долговязой, с завязанными тряпицей коленями девчонке.
– У-ху-ху-у-у!! – взвыла и девочка, схватившись за лицо и отбегая в сторону.
Пит сжал кулаки, но его негодование не разделил никто из присутствующих. Напротив, многие рассмеялись. (Рассмеялись осторожно, прикрывая ротишки, отвернувшись от властелина с бамбуковой палкой.)
А властелин тем временем отпер дверцу узкого, уходящего под потолок шкафчика и, подозвав Дэйла, затолкал на его частые полки всю принесённую снедь.
– Залезь, – сказал он после этого помощнику, – достань-ка всё, что запахло!
Дэйл, приставив лесенку, покопался в источающих непередаваемые ароматы невидимых Питу недрах и выложил на лавку горку продуктов, явно утративших свежесть. Слик всё дотошно обнюхал – и с сожаленьем кивнул.
Кивнул, запер шкафчик и, прихватив нагружённый деньгами портфунт, скрылся за дверцей, – той самой, что была за ковром.
И тогда вся нищая братия, вопя и подпрыгивая, и радостно толкаясь, принялась устраиваться за «столом». Гремели бочонки, гремели укладываемые на них доски, пищали, занимая на досках места, оборванные, чумазые, весёлые дети. Чарли Нойс, рыжий маленький коршун, наметив удобное место, растолкал грозно соседей, подбежал к ударенной им девочке, поцеловал её несколько раз – торопливо и звонко, и, схватив за руку, подтащил и усадил на это свободное место. А для себя тут же отвоевал новое – по соседству.
Все «пожертвованные» Сликом продукты были перенесены на эту громадную дверь-стол, но никто, никто не протягивал к ним своей руки. Все смотрели на Дэйла. Тот достал складной нож, щёлкнув, раскрыл его. Однако, не стал разрезать ни подёрнувшийся зеленоватой плесенью хлеб, ни старый коричневый окорок, ни потемневший от времени сыр. Он строго посмотрел на сидевших перед ним, и Чарли, хлопнув себя ладошкой по лбу, подбежал к стоявшим в сторонке Питу и Шышку, схватил их за руки и привёл к столу. Шышок ковылял, переваливаясь, и все с нескрываемым любопытством смотрели на его гнутые шины.
– Я – Дэйл, – сказал стоящий во главе стола крепыш, когда новых членов «семьи» усадили.
– Я – Пит, а это – Шышок.
– Вас когда привезли?
– Утром.
– И Слик, конечно, ничего вам из еды не давал?
– Не давал.
Дэйл вдруг, повернув голову в сторону сликова алькова, всмотрелся, – и все посмотрели туда же. В дверце шкафчика, призывно блестя, торчал ключ. Дэйл посмотрел на сидевших за столом. Все притихли. И тогда он торопливо прошёл, отпер шкаф, достал оттуда цепь колбас, оторвал с полдюжины, сунул в карман два куска сахара, две морковки, в другой карман – четыре печёных картофелины, выхватил ещё, не звякнув, бутылку вина и запер замок. Поспешно вернувшись, он слегка поклонился в ответ на затаённые одобрительные возгласы и выложил всё добытое перед Питом и его другом.
– Ешьте.
И только тогда стал делить на всех подпорченные сликовы запасы.
Пит, остро и трезво оценив ситуацию, взглянул в сторону неподвижно висящего ковра, взял бутылку, наклонился к каменному приступку, ловким ударом (чему не научит морской порт имеющего глаза подростка!) отбил горлышко и, отпив глоток, пустил бутылку по кругу. Этот его поступок так же затаённо-ликующе поприветствовали – и вдруг появилась откуда-то ещё одна бутылка. Поспешно, но осторожно, стараясь не порезать губы об острые сколы, их осушили – и опустевшие уже бутылки надёжно припрятали. Затем, злорадненько-весело посмотрев на неподвижно висящий ковёр, стали есть.
Пит и Шышок с жадностью употребили всё принесённое Дэйлом. А он, дождавшись, когда они дожуют последний кусочек, поманил их к одной из стен. Там, в длинной нише виднелась длинная, похожая на крышку сундука, и так же расположенная дверца. Потянув за верёвочную ручку-петлю, Дэйл откинул её. Послышался журчащий звук текущей воды. Под крышкой, в широком каменном жёлобе, бежал ручей.
– Вода, – сказал Дэйл. – Отдаёт известью, но пить можно.
Опустив крышку, он поманил Шышка и Пита дальше.
– А здесь – гальюн, – сказал он, заведя их в глубокую полутёмную нишу.
Пит отметил, что отхожим местом вовсе не пахло – но тут же понял, почему: по полу, в глубоком жёлобе катился тот же ручей. Катился – и пропадал в отверстии в дальней стене.
– Спать будете в моей пещере. Там, кажется, есть местечко.
Они устроились на тоненьком тюфяке, расправленном на ковре из соломы, – Пит и лязгающий железными своими коленями несчастный Шышок. В нише, отделённой от общего зала несколькими уцелевшими ржавыми прутьями, поместились ещё человек пять или шесть. Они возились, ворочались, устало вздыхая, приготавливаясь ускользнуть в спасительный сон. Рядом с Питом лежали Дэйл и маленькая, без одной ножки, Ксанфия.
– Дэйл! – услышал вдруг Пит её тихий и уже сонный шёпот. – Спасибо за гуся…
Ночью Пит долго не мог уснуть. Он смотрел сквозь ржавые прутья решётки в сторону сликова алькова, где тот, кряхтя, подкладывал небольшие чурочки в обнаружившийся за отодвинутым ковром – в стене, противоположной шкафу – небольшой камин. Новый властитель питовой жизни сидел, освещаемый багровыми отблесками, и сытно рыгал. «Вот, значит, как судьба повернулась, – горестно думал Пит. – Вот, значит, как…»
«Благородненький дай»
Громкий визгливый крик и дробный стук бамбуковой палки оборвали сладкий утренний сон. Слик как будто и не ложился. Он стоял, едва различимый в сером мареве уплывающей ночи и стучал о длинный стол-дверь. В руках у него были большие, на короткой цепочке, часы. «Ну да, – подумал, протирая глаза, Пит. – Он же днём отсыпается».
– Хватит спать, дармоеды! Черви навозные! На работу! В порт, на работу!
Стадо маленьких человечков запищало и зашевелилось. Зашлёпали босые ножонки – и возле гальюна выстроилась небольшая очередь.
– Новенький! – крикнул тем временем Слик. – Возьми вот это! Надень!
Пит торопливо подбежал и взглянул. На столе лежала маленького размера одежда, – дорогая, дворянская. Бархат, шёлк, золотые нити. Прекрасные туфли с блестящими пряжками. К Питу подошёл чем-то озабоченный Дэйл и помог выбрать подходящие по росту предметы. Переодевшись, Пит понял, что вот сейчас-то и начнётся то неведомое, неотвратимое, страшное, за что Слик заплатил пятьдесят фунтов компракчикосам. Он поднял глаза – посмотреть, что поделывает его новый хозяин – и увидел его, присевшего перед Шышком. Огромное чрево Слика висело, почти касаясь пола, а толстые бесформенные колени были широко расставлены в стороны. Он весьма напоминал чудовищную человекообразную жабу. И занималась жаба злодейским, пакостным дельцем: заскрипел, вращаясь в нарезах, тронутый ржавчиной винт, и жалобно закричал вмиг взмокший от боли Шышок.
– Какая хорошая костоломка! – не обращая внимания на этот крик, проквакала жаба. – Ещё пару недель – и ноги окончательно скрючатся. И тебя можно будет выпускать на работу. А шины будем накладывать только на ночь.
Слик с трудом встал, направился к своему ложу в алькове. И там, отмыкая шкафчик с едой, сказал сам себе:
– Нужно найти хорошего кузнеца и заказать ещё одну такую же костоломку. Очень, очень полезная вещь.
«Если я сейчас вместе со всеми пойду в порт, – подумал, разглядывая новые туфли преобразившийся Пит, – то сразу сбегу. Из Плимута кораблей уходит достаточно.»
– А ты, – эй, ты! – вдруг выкрикнул Слик и направил в сторону Пита длинную тонкую страшную свою палку, – если ты, мерзавец, сбежишь – я твоего друга буду бить до тех пор, пока он не перестанет дышать. Помни.
Пит торопливым, непроизвольным движением быстро кивнул, и это безмолвное обещание было тем более убедительно, что тут же принеслась откуда-то и прочно осела в голове уверенность в том, что он действительно не сбежит. Нельзя, чтобы Шышок умер из-за него. Невозможно. Как жить-то потом? Гадина Слик. Какой умный…
Торопливо шлёпая босыми подошвами и поёживаясь, многоголовая компания высыпала во влажное и прохладное по осенней поре утро. Земля была холодной, и Пит, вышагивая в своих крепких туфлях, испытывал неловкость от того, что многие из его новых товарищей подпрыгивают на ходу, словно на раскалённой и обжигающей сковороде.
– Слушай внимательно, – сказал Питу Дэйл. – Тебе за день нужно собрать ровно фунт. Слик – скотина. Он понимает, что для новичка – это огромные деньги, но если ты не выложишь вечером фунт, то есть двести сорок пенсов – он возьмёт палку и добудет из твоей спины крови. Так что старайся.
Сзади тяжело ухнул закрывший вход в туннель камень.
– Видишь дыру в стене? – продолжил деловито бормочущий Дэйл. – Вечером приходи сюда и жди. Мы только здесь ходим. Очень удобно, пролезает только маленький человек, а взрослый – ни-ни. Стена же высокая, видишь? Нипочём не залезть. Пролазь вечером в эту дыру, жди остальных, – и к воротам. Камень видел, что вход открывает? Вот, это ворота. Если не соберёшь в первый день фунт – скажи мне, я добавлю. У меня есть припрятанные монетки. Кстати, сегодня нужно будет сходить к тайнику, достать одну золотую: помнишь, я вчера обещал?
– Но, – неуверенно спросил Пит, – ты говоришь, что можешь дать мне недостающую сумму… почему же не дал вчера тем, у кого не хватило и кого высекли?
– Я даю только в крайнем случае. Все это знают. Если помогать очень часто – то обязательно кто-нибудь сядет на шею. Это во-первых. А во-вторых, если все и всегда станут приносить полную сумму, то Слик эту сумму обязательно увеличит.
– Понятненько.
– Теперь – главное. Что ты должен делать. Ты теперь – благородненький дай.
– Благородненький – понимаю. А что такое «дай»?
– «Дай»? Теперь это самое главное слово в твоей жизни. Ты слушай, сейчас всё поймёшь. У тебя лицо умного и красивого дворянского сына. Ты выбираешь в порту богатого дворянина. Обязательно из тех, кто идёт с дорожными вещами на корабль: у отправляющихся в путешествие всегда с собой много денег. Хорошо, если дворянин будет с дамой: или захочет перед ней показать щедрость и благородство, или она сама попросит его о щедрости. Ты вежливо, и с достоинством поклонись и, как вы, аристократы, умеете, – гладко, разумно сообщи о беде: ты приехал только что из Америки, и в Плимуте отстал от кареты. Пьяный дядя забыл тебя, когда ты отошёл по нужде. А тебе нужно в Лондон, где тебя ждёт больная и очень любящая тебя мама. Смутись и попроси денег на дорогу до Лондона. Спроси фамилию дворянина, обещай немедленно выслать. Ври смело, уверенно. Если за день обработаешь таким образом человек пять – фунт у тебя будет.
За этими разговорами добрались до начинающего просыпаться порта. Здесь несколько маленьких оборванцев присели на камни и, откинув лохмотья, обнажили застарелые раны и язвы. Пит видел, как они, отсыпав друг другу в ладошку, растёрли подсохшие за ночь язвы чёрным молотым перцем, и один малыш, закусив от боли губу, завертелся волчком, зажав рот худыми исцарапанными руками.
– Зачем это они? – спросил Пит.
– Раны сейчас покроются коростой и гноем. Чем неприятнее вид – тем больше денег дают.
– А сколько они должны приносить денег?
– По разному. Кто десять пенсов, кто двадцать.
– А я – двести сорок?!
– Ты – инструмент очень важный. Был когда-то у Слика благородненький дай, который взял за день четырнадцать фунтов.
– А где он сейчас?
– Сбежал. Какой идиот станет терпеть палку Слика, когда в кармане такие деньжищи?
– И за него никому не попало?
– Он очень хитро сбежал. Упал в воду с пристани, и вынырнул за бортом ожидавшей его шлюпки, и отплыл потихоньку. А все решили, что он утонул. Так и Слику сказали. Он даже плакал. Да, брат, четырнадцать фунтов – огромные деньги. На них можно открыть собственную пекарню.
Тем временем на пристани появились первые рабочие, торопливо шагающие в доки.
– Всё, – сказал Питу Дэйл. – Держись кораблей, которые сегодня должны отплыть, говори своё «дай!», – и берегись полисменов.
И Пит побрёл, зябко поёживаясь, к причалам.
Как ни странно, свои первые деньги он «заработал» в первую же минуту. К одному из кораблей шёл невысокого роста человек, в дорожной одежде, со шпагой. Пит издали поклонился ему и, когда человек, на ходу слегка кланяясь в ответ, приблизился, мальчишка сказал:
– Прошу прощения за беспокойство, но не позволите ли вы обратиться к вашей светлости?
– К вашим услугам, – ответил, останавливаясь, человек. – Чем могу быть полезен?
– Я в беде. Вчера мы приехали из Америки, я и мой дядя. Он, ступив на землю, выпил от радости, и уехал в Лондон. Забыл меня здесь. Так что я нахожусь в унизительной необходимости просить незнакомого мне человека о денежной помощи.
– Та-ак, – негромко протянул незнакомец.
Пит, решив, что его ложь раскрыта, и обман не сойдёт ему с рук, приготовился улепётывать, но тут оказалось, что незнакомец просто считает в уме.
– До Лондона? – переспросил он, – и, сунув руку в карман, достал горсть монет, отобрал несколько, и протянул их Питу.
Благородненький дай, поклонившись, твёрдой рукою их принял, и тут же спросил:
– На чьё имя мне выслать мой долг?
– О, пустое! – махнул рукой человек и, ещё раз склонив вежливо голову, продолжил путь к кораблю.
Пит, откланявшись его удаляющейся спине, повернулся и посмотрел в руку. Пять шиллингов! Ещё три раза по столько – и фунт в кармане! А утро едва только началось!
И Пит совершил разумный, и даже похвальный поступок. Он удалился с причала и нашёл неподалёку небольшой портовый трактир. Он с независимым видом разменял серебряную монетку, – и с аппетитом позавтракал. Да, он должен выглядеть сытым и благополучным. А с причала нужно уйти, чтобы недавний его благодетель не увидел с палубы корабля, что «попавший в беду» и получивший более чем щедрую помощь подросток продолжает приставать к пассажирам. Да, пусть причалы заполнятся отъезжающими людьми, в их толпе можно стать вполне незаметным.
Когда «дай» вновь вышел на пристань, она действительно была полна людей. С опаской пробравшись мимо первого причала, Пит занял пост у следующего корабля. Не прошло и пяти минут, как он почувствовал вдруг приятный, щекочущий холодок близкой удачи. К трапу корабля брели несколько крепко нагруженных носильщиков, а за ними неторопливо шли двое: мужчина преклонных лет, почти старик, и держащая его под руку молодая красивая дама. «Если он при ней не проявит щедрости, то она его об этом попросит».
– Прошу прощения, – сказал им Пит, грациозно склонившись, и произнёс свою так удачно сработавшую недавно тираду.
– До Лондона? – спросил скрипучим голосом пожилой джентльмен. – Наверное, шиллинга хватит.
– Но ведь это только проезд, дорогой! – нежно обратилась к нему женщина. – А обеды, ночлег, а непредвиденные обстоятельства?
– Ладно, ладно, – засопел стареющий джентльмен и, гордясь собственной щедростью, выпалил, протягивая в двух руках две демонстративно поднятые монеты: – два шиллинга!
Пит, почтительно поклонившись, принял деньги, и джентльмен, с тоской проводив их взглядом, шагнул за носильщиками. Шагнул, потянул было за собой женщину, но та задержалась на месте. Достав тонкий белый платок, она проговорила:
– Ингеню вультус пуэр ингеникю пудорис[20]! Вы ночевали здесь? В порту? Какой ужас. У вас вот даже щека углем испачкана.
И, склонившись и взяв Пита за подбородок, старательно вытерла ему и щёку, и нос, и сам подбородок. И во время этой вполне объяснимой заботы Пит почувствовал, как, зацепив зубы, в рот к нему вдавился зажатый в платочке холодный и твёрдый предмет. Он замер, вытаращив глаза, а дама скорей подхватила спутника под руку и пошла, не оглядываясь, шурша длинным атласным платьем.
– Два шиллинга! – раздался вдруг за спиной Пита громкий, полный злой иронии голос. – Какая щедрость!
Пит, стиснув зубы, испуганно обернулся. Высокий молодой дворянин, с красным лицом, пьяненький, в парике, сбившимся набок, стоял, выставив ногу и презрительно смотрел на удаляющуюся пару.
– Старая обезьяна! – сказал он; перевёл взгляд на Пита, взял его руку, и, взмахнув своей, звонко впечатал в его маленькую ладонь тяжёленькую золотую монету. – Пожелай моему кораблю удачного путешествия! – сказал он ошеломлённому Питу и, не дожидаясь ответа, зашагал, звеня шпагой, за «старой обезьяной» и его спутницей.
«Гинея!» – Пит сжал кулак и торопливо пошёл прочь с причала. «Гинея! Это целый фунт и ещё один шиллинг!»
Отойдя в сторонку, он опустил гинею в карман, осмотрелся – и выплюнул на ладонь то, что держал всё это время во рту. Выплюнул – и замер. С ладони на него «смотрел» строгий мужчина, повёрнутый в профиль. Надпись, выгнутая по канту, заявила оцепеневшему Питу, что в руке у него покоится «Людовик Тринадцатый».
Пит, оторванный от родителей, любящий море, весьма разумный маленький мальчик, в этой очень непростой для любого ребёнка ситуации снова поступил безупречно. С независимым видом он вошёл в меняльную лавку и громко спросил у хозяина:
– Не заходил ли сейчас к вам, уважаемый, мой отец?
– Я не знаю, кто ваш отец, мистер! – на всякий случай почтительно отозвался меняла.
– Надо знать, – наставительно сказал Пит, поворачиваясь, чтобы уйти. – Мой отец – прокурор нашего графства.
И, уже в дверях, чувствуя за спиной услужливость и благоговение, вдруг повернулся назад и сказал:
– Ах, да. Сколько вы дадите мне английских шиллингов за один французский золотой луидор?
И выложил Людовика Тринадцатого на истёртый прилавок.
Через минуту, погрузив обе руки в набитые деньгами карманы, он торопливо шагал прочь от порта. Отыскав на одной из тихих улочек безлюдную кожевенную лавчонку, он вошёл внутрь. А вышел из неё уже будучи обладателем двух новых кожаных кошельков. Один, в виде плоского портфунта, с изящным округлым замочком, на тоненькой стальной цепочке был надет под одеждой на шею, второй, – кисет, – был привязан к застёгнутому вокруг талии (под одеждой же) тонкому ремешку.
Битва в развалинах
Решив, что «работы» на сегодня достаточно, Пит направился к портовому рынку. Он рассчитывал там встретить кого-нибудь из рабов Милого Слика и поинтересоваться, в котором часу нужно возвращаться домой. Немного потолкавшись, он увидел знакомых, но подходить не стал, поскольку сразу понял, что люди заняты важным и весьма значительным делом.
Маленькая Ксанфия, зажав подмышечкой костылёк, о чём-то спрашивала, состроив серьёзное личико, у толстого и важного господина. Пит подошёл ближе. За спиной у господина мялся горбун со своей заплечной корзиной, и Пит почувствовал, что всё это никак не с проста.
– Вы мою маму не видели? – подняв вверх робкое личико, говорила важному джентльмену маленькая одноногая девочка. – В таком синем платье? И волосы такие светлые?
– Кажется, не встречал, – озадаченно сдвинув брови, отвечал ей участливый джентльмен. – Но, думаю, будет разумно, если ты пойдёшь вон туда, во-он туда, где лошади и экипажи. Ведь вы на чём-то приехали? Почти уверен, что твоя мама там. С рынка все и всегда возвращаются к экипажам. И там легко встретиться.
Пит видел, как во время этого разговора горбун чуть попятился, так, что корзина задела краешком толстый бок джентльмена, и – секунда, не более! – сдвинулся в сторону лючок на боку корзины, протянулась оттуда тонкая ручка, вонзилась джентльмену в карман – и выхватила из него толстый коричневый кошелёк. Тут же, скрывая брешь, встал на место лючок, горбун шагнул и смешался с продающими и покупающими, а маленькая девочка, поблагодарив, запрыгала со своим костыльком по направлению к экипажам.
Пит поспешил следом за мелькающей поодаль корзиной, и догнал её – в каком-то закутке, на краю рыночной площади.
– Привет! – сказал Пит. – Ловко работаете!
Над корзиной приподнялась крышка и оттуда выглянула голова вчерашнего пятилетнего человека. Но Пит с изумленьем увидел, что это вполне взрослый человек, только очень маленький, из тех, кого принято называть лилипутами. Обитатель корзины повёл глазками вправо-влево, уставился на Пита и грозно сказал:
– Не болтай.
– О чём? – не понял Пит.
– Кошелёк видел?
– Да.
– Так вот – не болтай. Слик чтоб не узнал.
– Что я, не понимаю? Маленький совсем был кошелёчек. В таких кухарки держат два или три шестипенсовика – на нитки да пуговицы.
– Тебя – не помню – как звать-то?
– Пит.
– А я – Баллин. А этот вот неуклюжий кабан – Гобо.
И малютка Баллин, размахнувшись, звонко хлопнул ладошкой по темени снимающего корзину Гобо.
– Кабан! – повторил Баллин. – Задел «папу» корзиной! Носить разучился? Скажи «ножке» спасибо – заболтала его. Смотри, какой ушёл бы «папа», смотри, смотри!
Баллин поднял со дна корзины кошель и раскрыл его.
– Фунта три, или больше! Всё, идём к стене, будем делать тайник, как у Дейла. Чёртов Слик, гниль, слякоть, теперь каждый вечер будет корзину обшаривать.
– Конечно, конечно идём, Баллин! – кивал остромакушечной головой шлёпнутый Гобо. – Вот только для Слика нужно что-нибудь из еды прихватить!
– Уже прихвачено! – надменно произнёс Баллин, доставая со дна и приподнимая над краем корзины длинную палку кровяной колбасы.
Пит едва начал подумывать о том, что и ему хорошо бы что-нибудь прихватить – купив, разумеется, а не рискуя попасться на краже, – как вдруг перед ними вырос запыхавшийся Дэйл.
– О, и ты здесь, – торопливо сказал он Питу. – Вот хорошо. Гобо, бросай Баллина. Городские пришли.
Пит не понял, что это значит, но то, как вдруг изменилось лицо горбуна, заставило его насторожиться. Примолк и Баллин, и, выбравшись из корзины, с озабоченным личиком взвалил её на себя и потопал, семеня кривыми ножонками, в сторону дома. А Дэйл бросился бежать, и горбун припустил за ним со всех ног, и так же поспешно подхватился в бег Пит.
Они добежали до каких-то развалин и здесь встретились с четырьмя мальчишками из их компании.
– Не проходили ещё? – спросил Дэйл.
– Нет, – ответил один из мальчишек. – А ты привёл всего лишь двоих?!
– Больше нет никого, – сказал, отдуваясь, Дэйл. – Может быть, Бубен приведёт ещё Тёху.
– Поздно, – вдруг сверху, со стены спрыгнул ещё один мальчишка, не замеченный Питом. – Идут.
– Ну, давайте, братцы, – торопливо сказал, быстрыми жестами вверх-вниз вытирая ладони о грудь, Дэйл.
Потом шагнул к Питу и проговорил:
– Бей только руками или ногами. Зубами тоже можно. Но не бери ни камня, ни палки: потом обязательно выследят и убьют.
Пит не понимал, что происходит, но рассуждать вдруг стало некогда: послышался шум торопливых шагов и на покрытый привядшей травою пятак, между двумя полуразрушенными стенами, вышли восемь одетых в лохмотья мальчишек.
– Ччёрт, – сказал передний, резко остановившись. – Говорил тебе, что в развалинах могут подкараулить. А ты всё – «полиция хуже, полиция хуже»!
– Да, – сказал кто-то рядом с ним. – Портовые теперь не отпустят.
Они сжали кулаки и двинулись вперёд, и так же решительно пошёл вперёд Дэйл.
– Ну что, крысы, – сказал он негромко. – Опять в чужой амбар влезли?
– Пропусти лучше, Дэйл! – отвечали ему. – С тобой – шестеро хлипких, а у нас – восьмеро крепких.
– Вас один раз отпусти, – кивнул Дэйл, – на второй раз вы порт займёте, а мы пойдём у конюшен работать.
– Ну, на этот раз ты своих-то не успел всех собрать, – ответил уверенный голос. – Пропусти, или останешься без зубов.
И эта угроза была подкреплена: прибежал, громко топая, и девятый, и встал в один ряд с нарушителями территории.
– Может, решим поединком? – спросил, продолжая подступать, Дэйл.
– Нашёл дураков, – отвечали ему. – Тебя в поединке-то кто одолеет?
И – Пит ахнул – бросились на Дэйла сразу с двух сторон, быстро, без предупреждения. Прыжком расставив в стороны ноги, Дэйл как будто врос ими в землю, и, качнувшись, ахнул кулаком по лицу одного из напавших (тот рухнул и не поднимался) и, сцепившись со вторым, закувыркался по холодной земле.
Заревел диким зверем горбун и бросился на подмогу. Сердце у Пита бешено колотилось. Ладони вспотели, и лоб покрылся испариной, и вдруг он, не помня себя, что было сил завопил и бросился к клубку облепивших упавшего Дэйла. Но у них было всего трое относительно взрослых – Пит, Дэйл и горбун, остальные пять – мелюзга. Пит пнул под коленку (о, какая удача – крепкие туфли!) и свалил одного, но тут насели на него сразу двое и он только и делал, что отбивался.
Утих яростный вихрь; сражающиеся отпрянули в стороны – для передышки. Рядом с Дэйлом стояли лишь Пит и Горбун, и ещё двое, перегнувшись пополам, старались восстановить сбитое дыхание. А напротив стояли семеро. Остальные, постанывая, отползали прочь. Прошло пять или десять секунд – и семеро, сжав кулаки, бросились разом. Дэйл, прыгнув вперёд, снова страшным ударом свалил одного и схватил ещё двоих за рвущиеся с треском лохмотья. Повторил подвиг и Пит – ударом туфли выключил из драки, на его взгляд, самого опасного – высокого, крепкого противника, но снова, вскидывая руки, словно мельничные крылья, был вынужден отступать от двоих. Споткнулся, упал – и, обхватив чью-то ногу, тоскливо подумал: «Деньги! Кошелёчки-то снимут…»
И вдруг послышался торжествующий визг.
– Бубен! Бубен пришё-о-ол! И с ним – Тёха!
Пит поднял голову, посмотрел. К дерущимся бежали двое – маленький, вскидывающий ноги, как заяц, мальчишка с совершенно круглым и белым, словно диск барабана, лицом, и высокий детина с узкими глазками, растянутыми над крепкими скулами в щёлочки, как у китайца.
«Китаец», взмахнув огромным костистым кулаком, ударил, – и ещё, и ещё. Трое свалились на землю.
– Давай, Тёха! Бей их! – кричал кто-то из павших в первой схватке бойцов, – голосом, наполненным и болью, и ликованием.
– Бей их, Тёха! – заорал было и Пит, понимая, что пришла решающая исход схватки подмога, – заорал, но, лязгнув зубами, захлебнулся и опрокинулся навзничь.
Очнулся он от влаги и запаха. Терпко пахло вином. И, ещё не открыв глаз, он понял, что это и есть вино, и льют его ему прямо на голову.
Пит фыркнул и сел. Лицо ему тотчас отёрли. Он посмотрел – кто. Дэйл, с разбитым до неузнаваемости лицом, улыбался. Отбросил пропитавшуюся вином тряпку. Сказал:
– Ну, Пит, даёшь. Троих на себя взял. Молодец.
Пит, пошатываясь, встал. Воды не было, и поверженных отливали отобранным у чужаков вином. Сами чужаки неподвижно лежали тесным рядком, и над ними ходил, добродушно улыбаясь, дурачок Тёха. Пит уже видел раньше таких людей – с узкими глазками, слабоумных, которые были добры и незлобивы, но послушно делали всё, что им скажут. Как вот сейчас – он ходил вдоль ряда и, стоило кому-то чуть пошевелиться, как он бросал вниз увесистый меткий кулак.
На земле была растянута тряпица, и на неё выложили всё отобранное у побеждённых – еду, бутылки, – и главное – несколько срезанных кошельков. Постанывая и пошатываясь, побитые мальцы связали тряпицу в узел, отдали его Дэйлу и, выстроившись гуськом, побрели прочь из развалин. Дэйл подошёл к лежащим.
– Ну, что, – сказал он, наклонившись. – Попались – получили. За деньги – спасибо. Из моих никто не поднял ни камень, ни железо, ни палку, так что помнить между нами нечего. Лежите пока.
И, выпрямившись, добавил:
– Идём, Тёха.
Они доковыляли до дальнего края порта, прошли немного по берегу и свернули прочь от воды, – к белеющим старым развалинам. Не доходя до дыры, Дэйл, оставив Тёху с узлом, полез в заросли и поманил Пита с собой. Здесь, недалеко от тропы, обнаружился торчащий наподобие разрушенного зуба остаток двух стен – низенький, заглаженный дождями и ветрами угол. Дэйл убрал лежащий в его основании плоский камень, смёл пыль и песок. Показалась крышка вкопанного в землю небольшого матросского сундука. Дэйл откинул её и сказал Питу:
– Вот, мой тайник. Если со мной что-то случится – он будет твоим. Здесь денег примерно семь фунтов, и кое-какие вещицы. Я сейчас возьму золотой – Слик ведь ждёт…
– Не надо золотой, – вдруг сказал Пит. – Держи вот. Гинея.
– Зачем? – недоумевающе посмотрел на него Дэйл. – Есть у меня.
– Это плата. Придумай и расскажи, как нам с Шышком убраться отсюда. Как вот тот, «утонувший» «благородненький дай».
– Нет, – вдруг глухо ответил Дэйл. – Не стану тебе помогать. Ты должен остаться здесь.
– Почему? – изумился Пит.
– Я уже взрослый. Таких, как я ловят, как бездомных собак. Понимаешь, я уже могу быть матросом. Меня рано или поздно засунут на какой-нибудь военный корабль. А кто тогда будет оберегать малышей? Защищать их от чужаков, от портовых неприятностей, от полицейских? От Слика? Если меня не будет – останешься только ты. Горбун – не в счёт. Он – лишь за себя. Баллину – восемнадцать лет, но… Он – Баллин. Я, конечно, не могу тебе приказать. Но ты всё же подумай.
Пит молчал. Потом сменил тему беседы: попросив разрешения, положил в тайник свои кошельки, оставив лишь то, что точно отсчитал, выкладывая на ладонь.
Вернулись к тропе. Тёха, поставив у ног узел с трофеями, послушно их ждал.
Добрались до камня, где, подпрыгивая на зябком уже ветерке, их дожидались все остальные. Добыв из расщелины конец каната, Дэйл потянул (Питу показалось, что он услыхал, как внутри, в пороховом складе ударил невидимый колокол), и скоро камень-дверь дрогнул и отвалился.
Событие, случившееся днём, привело Слика в сильное волнение. Он распорядился приютить и брать с собой каждый день – для защиты – портового дурачка Тёху. Он разрешил всем, кто участвовал в битве, завтра не выходить на «работу». Но, пересчитав отнятые у нарушителей деньги, добавил к этому отдыху ещё один день. Потом занялся сбором дани – и никого, никого в этот день не побил.
Пит, выложив на его лавку монеты, сказал:
– Двести тридцать пять пенсов. Пяти не хватает до полного фунта, я запишу себе в долг.
Слик торопливо кивнул. Он даже потемнел лицом, и Пит потом, вспоминая, часто спрашивал себя – это от известия о попытке отбить у них порт, или от вскорости сбывшегося предчувствия? Ни Слик, ни Дэйл, ни сам Пит не знали, что, когда они тащились к проёму в стене, за ними внимательно наблюдал спрятавшийся среди камней человек.
Ночные гости
Это произошло через несколько дней. Ночью, когда все уснули, раздался гул колокола.
– Мои компракчикосики! – подскочил Слик. – Девочек мне привезли! Мно-ого мне за них обещали…
Он, зажёгши фонарь, утопал в туннель, но вернулся оттуда не с компракчикосами. За ним, склонившись, едва протиснулся какой-то большой человек, и Пит вздрогнул, рассмотрев в свете фонаря его шишковатую бритую голову и пулевой шрам на щеке. На человеке была широченная, кожаная, крашеная в жёлто-охристый цвет куртка. Но, не смотря на внушительные размеры, куртка была-таки маловата: оба рукава вкосую лопнули на могучих руках. Второй пришедший был невысок, худощав, и глаза его были близко посаженными к переносице и странно выпуклыми.
– А вы… кто… – потерянно лепетал Слик. – А где… там…
Пит услышал, как рядом проснулся и сел Дэйл. Они изумлённо переглянулись, когда двое пришедших, не говоря ни слова, крепко связали Слику руки и ноги и заткнули скомканной тряпкой рот. После этого, стараясь не шуметь, великан подошёл к решётке и, присев на корточки, проговорил:
– Здравствуй, Дэйл. И ты здравствуй, Пит. Вставайте. Есть разговор. И разбудите Шышка, – сейчас будем снимать с него костоломку.
И Пит заплакал.
Глава 9 Жезл инквизитора
Исполнился очередной виток судьбы. Жизнь подвела наших героев к событию, которое было очень похоже на уже случившееся в их прошлом. Снова летел под всеми парусами, разрезая острым носом волну, «почтовый» клипер, и так же стояли на квартердеке, повернувшись спинами к ветру, мастер Йорге и Бэнсон. Только клипер был на этот раз не «Харон», а так хорошо знакомый Бэнсону «Марлин», и мчался он не на юг, в Адорскую бухту, а на север, в Бристоль. И пассажиров на нём, надо отметить, заметно прибавилось.
Чёртов горох
Мирный Плимут, погружённый в обыденные заботы, жил размерено и спокойно. Никто из простых горожан, равно как и никто из полиции не знал, что противостояние двух маленьких, частным образом собранных войск подошло к кульминации. Напряжение достигло предела. Сам воздух, казалось, был напоен предвестием рокового события – последней, отчаянной схватки.
Во дворе дома бывшего скупщика краденого открыто готовились к отъезду: грузили в кареты тюки и корзины. Принц Сова сам носил их, сгибаясь под тяжестью. Никто из наблюдающих со стороны не поверил бы, что вся кладь была заполнена соломой и пухом. Сова знал, что предстоит небывалая гонка, и старался облегчить кареты насколько возможно. В то же время преследователи должны быть уверенными, что перед ними – тяжёлый тихоходный обоз.
Да, Сова снова был в доме, и он не прятался, так как теперь он, в свою очередь, был ниточкой, ведущей к исчезнувшему Бэнсону.
Бэнсон же выполнял серьёзное поручение.
Петляя, проскакивая целые мили по руслам ручьёв, – чтобы сбить со следа собак, – он мчался в Лондон. Купив ещё одного крупного жеребца, он через каждый десяток миль пересаживался с одного на другого. Заезжая в постоялые дворы, он давал коням овса, чистой воды, и отдыхал ровно столько, сколько требовалось для отдыха им.
Добравшись до пригорода, он отыскал мастерскую знакомого кузнеца. На карту было поставлено многое, и Бэнсон заметно нервничал. Он понимал, что его заказ не возьмётся выполнять ни один из свободных ремесленников. Чудовищный инструмент, за которым он приехал в пригород Лондона, сейчас мог сделать лишь тот, кому он бросил когда-то в ладонь тяжёлое, хранящее жар горна, золотое ядро.
Он вошёл – и тотчас отлегло от сердца: кузнец, не скрывая радости, бросился пожимать ему руку. Бэнсон, взглянув на стоящего у наковальни помощника, устало сказал:
– Пошли своего молодца, пусть моих коней расседлает и даст овса.
Протянул благодарно поклонившемуся «молодцу» серебряную монетку.
– Опять небывалый заказ? – обнажив зубы в широкой улыбке, спросил кузнец.
– Догадлив ты, мастер, – подойдя вплотную, проговорил Бэнсон. – Мне нужен инструмент, за изготовление которого палач отрубает руку. А за применение – голову.
– Понадобилась-таки кулевриновая аркебуза?
– Нет, кузнец. Мне нужно то, что русские разбойники называют «чеснок». (Кузнец побледнел.) Испанцы – «колючий виноград». Голландцы и немцы – «коврик». А в Англии он зовётся…
– «Чёртов горох», – прошептал кузнец, отступая.
– Чёртов горох. Нужно немного, но срочно. Я взялся помочь тем, кому неоткуда ждать помощи. Будет погоня. И – ты либо веришь мне, либо нет.
Кузнец, отирая пот, присел на скамью, расправил на коленях кожаный фартук. Помолчал. Потом, глядя в сторону, поинтересовался:
– Инструмент для человека или для лошадей?
– Для лошадей.
– Значит, крупный.
– Снова помолчал. Вздохнул. Взглянул Бэнсону в лицо.
– Тебе разве лошадей не жаль?
– Лошадей можно вылечить. А у меня за спиной будет живых людей десятка два с половиной, и детишек человек тридцать.
– Откуда дети-то?
– Из рабства.
Кузнец встал, взял совок, звеня, поддел из ларя угля, всыпал в малиновый огонь горна. Разложил на наковальне молоты и щипцы. Распорядился:
– Закрой дверь на засов. И вставай помогать, если дело срочное.
Бэнсон вышел, осмотрел коней, сказал помощнику кузнеца:
– Можешь сходить выпить. Мы часок-другой поболтаем.
Вернулся в кузницу, запер дверь и встал к горну.
Почти час был потрачен на то, чтобы нарубить коротких стержней из толстой проволоки и изготовить шаблон – две сваренные металлические пластины, образующие тупой угол.
Час прошёл, и кузнец бросил на наковальню первую «чёртову горошину». Металлический паучок в пол-ладони величиной прокатился по иссечённой ударами молотов поверхности наковальни и замер, хищно выставив вверх острый, в три грани кованный шип.
– Четыре шипа, – хмуро сказал кузнец. – Между любыми из них – угол в сто двадцать градусов. Как «горох» ни бросай – он на три шипа встаёт, четвёртый – обязательно торчком к небу. Лошадь, наступив на него, летит через голову, и всадник, конечно, всмятку…
– Сотни на две железа у тебя хватит?
– Хватит и на три. Только попрошу тебя, контрабандист…
– Всё, что смогу.
– Конечно, если сможешь… Привези его обратно ко мне. Перекую.
– При плохом ходе дела мне уже ничего возить не придётся. При хорошем – «горох» подберут те, кого он остановит. – Бэнсон улыбнулся, взял в руку паучка и добавил: – Но тогда у меня будет повод вернуться за ним.
Кузнец добавил в горн угля, взялся за рычаг мехов. Проговорил, ухмыляясь:
– Странно, что «чеснок» у тебя не из золота!
Погоня
Всё рассчитали до деталей. Была найдена укромная бухта, в которой встал на якорь «Марлин». Также нашли и частично расчистили подход с берега к бухте.
Подход этот был не вполне удобен: неширокая ложбина, заваленная камнями-окатышами, стиснутая с боков отвесными каменными стенами, круто поднималась вверх и, если бы здесь нужно было пробежать Сове или Бэнсону – они бы легко преодолели опасный подъём, но среди тех, кого в назначенную минуту должны были домчать сюда кареты, были дети и несколько женщин…
Наверху, на гребне – площадка шагов семь на десять, и затем – ещё более крутой спуск вниз, к берегу, где уже покачивались шлюпки «Марлина».
Хорош был только подъезд к ложбине – твёрдый скальный грунт, вполне подходящий для каретных колёс.
Бэнсон, мастер Йорге и несколько матросов с «Марлина» расхаживали по площадке. Они натянули канат от гребня вниз, до самого берега – но всё равно для женщин этот путь был весьма сложен. Если бы не такая удобная бухта, и не такой удобный подъезд…
Бэнсон спустился к ряду камней, сложенных в виде вала, за которым были разложены несколько мушкетов и пистолеты, в который раз проверил пули, порох, арбалет и болты. Вернулся наверх, к Йорге. Постояли в молчании.
– Сколько осталось? – спросил кто-то из матросов.
– Четыре минуты, – сказал мастер Йорге и раздвинул цилиндр подзорной трубы.
Мучительно медленно тянулись секунды. Вдруг Йорге негромко сказал:
– Молодцы. Всё точно.
И передал трубу Бэнсону. Тот схватил её, поднёс к глазу. Далеко внизу, между скал, слева, вдоль берега двигались три кареты. «Это Стэнток с семьёй и домочадцы скупщика краденого». Бэнсон перевёл трубу и увидел, как справа, навстречу им, ползут ещё четыре кареты. «Это Сова и дети из крепости». Вдруг Бэнсон недобро оскалился: за обоими кортежами, чуть превышая дистанцию прицельного выстрела, ехали чёрные всадники. Девять слева и пять справа. Они не гнались, просто ехали следом, старательно держась на расстоянии полёта пули. Каждая компания знала, что всех нужных им людей в преследуемых каретах нет. Они – только след, ниточка…
– Четырнадцать, – сказал Бэнсон, отнимая трубу от глазницы и вытирая запотевший окуляр. – Хороший учитель – Ван Вайер. На всю жизнь запомню теперь, как важен тайный резерв.
– Пора! – проговорил Йорге и матросы, цепляясь за канат, растянулись вдоль спуска, встав в наиболее опасных местах.
Приготовился и Бэнсон. Подсыпал нового пороха на полки мушкетов и пистолетов, взвёл арбалет. «Как только кареты встретятся – чёрные всадники увидят друг друга и поймут, что вот теперь мы все – в одном месте. Вот тогда будет гонка…»
Этот миг пришёл. Выехав из-за скал к далёкому подножию ложбины, кортежи резко повернули и возницы взмахнули кнутами. Лошади рванули. Семь карет ходко покатили в сторону моря, всё больше забирая в подъём. Увидели друг друга и всадники, и две чёрные стаи рванулись навстречу. Пришёл их час. Бойцов у Совы – втрое меньше, чем их, все остальные – просто живое мясо. Вот она, минута награды за многодневное терпение. Хэй, загонщики, хэй!
Но кареты помчались совсем не так, как подобает тяжело нагруженному обозу, да и под колёсами у них были не ухабы и ямы, а твёрдое каменное плато. Выжали все силы из лошадей и всадники. Они уже настигали последнюю из карет, когда сверкнул в воздухе блескучий коротенький дождик, лёг частыми каплями под копыта мчащихся лошадей. Сразу четыре из них, подминая всадников, рухнули, кувыркаясь; резко осадили своих лошадей задние всадники, а кареты всё мчались вперёд, и раз за разом вылетал из окон последней блескучий металлический град.
Кортежи домчались до первых крупных камней. Дверцы карет распахнулись, из них стали выпрыгивать мужчины, женщины, дети – и все торопливо стали карабкаться вверх, вверх, – на гребень, откуда призывно махали им Бэнсон и Йорге.
Да, можно было предположить, что от этих загонщиков уйти будет непросто. Оставив лежать четверых лошадей и троих человек, десять всадников двинулись дальше. Двое спешились и, склонившись, со всей возможной проворностью работали руками, и от них в стороны разлетались колючие «горошины». Расчистив узкий проход, «чистильщики» вспрыгнули на лошадей и, доскакав до следующего «коврика», спешились и снова склонились над ним.
Все беглецы были уже наверху и, помогая друг другу, спускались, цепляясь за канат, к шлюпкам. Но преследователи преодолевали россыпи «гороха» неописуемо быстро! Они могли бы спешиться и бежать по каменистым склонам, но лошади должны были сэкономить им две, а то и три минуты. И чёрные всадники тратили время, расчищая для них путь, чтобы потом с лихвой наверстать упущенное.
Бэнсон, видя их скорость, тревожно оглянулся. Ещё десятка три человек толпились на гребне: много провозились, спуская на берег женщин. А снизу донёсся грохот копыт! Бэнсон метнул взгляд к подножью ложбины. Преодолев последнюю преграду десять человек на десяти лошадях мчались к покинутым, стоящим с распахнутыми дверцами каретам, и в отдалении к ним ковылял уцелевший после падения одиннадцатый. Бэнсон взял мушкет, прицелился. Подбежал и плюхнулся рядом Сова, тоже взял мушкет, проверил порох на полке.
– Стрелять нельзя, – скривившись, сказал он. – Их ответный залп ударит в спины тех, кто ещё не спустился.
– А что делать?
– Тянуть время. Обещать сдаться. В сущности, Вайеру нужны только мы. А вот и он!
Бэнсон взглянул. Внизу, бросив лошадей рядом с каретами, мчались вверх люди в одинаковых чёрных одеждах. В центре бежал, взмахивая тросточкой, маленький человек. Одна рука у него была на перевязи.
Подбежал и Стэнток и тоже подхватил себе мушкет, но Сова твёрдо проговорил:
– Нет. Ты нужней у каната. Так ты больше людей спасёшь!
Привыкший соблюдать дисциплину офицер кивнул, положил мушкет и побежал назад. Бэнсон взглянул ему вслед. «Проклятье! Ещё человек двадцать…»
А преследователи, сократив дистанцию до прицельной стрельбы, встали на колена. У плеч их блеснули стволы.
– Вайер, стой! – воскликнул Сова. – Мы сдаёмся!
Он отложил мушкет и встал во весь рост. Стал подниматься и Бэнсон, и в этот миг из-за их спин вышел мастер Йорге. Он ступил пару шагов и встал, подняв на уровень головы и вытянув вперёд-вверх руки с обращёнными к преследователям ладонями.
– Бэнсон, Сова, – сказал он спокойным голосом. – Помогите спустить оставшихся. Стрелять в нас не будут.
Но, словно в насмешку над ним, маленький человек внизу махнул тростью и все девять чёрных стрелков разом спустили курки. Бэнсон, взревев, подхватил мушкет и, приложившись, тоже нажал на спуск.
Это было неописуемо. Снизу не раздалось ни одного выстрела. Не выстрелил и мушкет Бэнсона. «Сдуло порох с полки!» – подумал он и, схватив другой мушкет, снова приложился и выстрелил. Вернее, попытался. Кремень высек из стальной пластины-огнива отчётливый снопик искр, и они, шипя, упали на ниточку пороха – но упали словно в песок. Выстрела не было.
– Спускайте оставшихся, – повторил Йорге. – Стрельбы не будет.
– Порох не загорается! – дрогнувшим голосом произнёс Бэнсон.
– Да, – сказал Йорге, стоя с поднятыми руками. – И не загорится.
Сова, ошалело захохотав, метнулся на гребень, схватил двоих детей подмышки и легко запрыгал вниз, вниз, мимо удерживающих канат матросов. Йорге стоял, не шевелясь. Распростёртые руки его мелко-мелко дрожали. Чёрные люди внизу, взмахивая ножами, разрезали пороховницы, меняли порох на полках. А Бэнсон уходить не спешил. Оскалив зубы, он почесал пулевой шрам на щеке и, с этим зловещим оскалом, наклонился и поднял арбалет. Вставил плечевой упор, приник глазом к прицельной раме – и нажал скобу. Внизу, среди чёрных загонщиков, нелепо взмахнул рукой и опрокинулся навзничь маленький человек. Чёрные фигурки облепили его, как муравьи. Подняли, понесли.
– А теперь иди, Бэн, – сказал, не двигаясь, Йорге. – Крикнешь мне, когда все будут в шлюпках…
Когда шлюпки отплыли, загонщики всё-таки показались на кромке высокого берега. Встали в линию, подняли мушкеты. Но проверить, будут ли они стрелять теперь – не пришлось. С борта «Марлина» залпом ударили две пушки. Заряжены они были не ядрами, а картечью. Людей, стоящих на гребне, на миг закрыло пыльным облаком, поднятым ударившим в камни свинцом. Когда облако рассеялось, на гребне уже не было никого.
Медвежья шкура
– Хранишь ли ты моё письмо, Бэнсон? – спросил мастер Йорге.
– Ну конечно. В самом надёжном месте: в арбалетном футляре.
– Прошёл год.
– Даже чуть больше. Я всё помню, мастер. Через два года распечатаю. Пятого сентября.
– Слышу по голосу, – произнёс, глядя в бескрайнее море, Йорге, – что ты улыбаешься. Отчего?
– Принц Сова сказал, что мы ввязались в драку, в которой нам не уцелеть. А ваше письмо обнадёживает. Это значит, что два года я ещё проживу.
– Холодно, – зябко повёл плечами старик. – Идём-ка в каюту.
Они спустились вниз.
– А ты и вовсе легко одет, – заметил Йорге. – накинул хотя бы свою куртку. Хорошая куртка, большая.
– Да, – кивнул Бэнсон. – Такого размера одежду шьют лишь на заказ. У нашего «скупщика краденого» позаимствовал. Рукава вот только узки оказались. Лопнули рукава.
Они вошли в каюту.
– Я думаю, – улыбнулся Йорге, и глаза его блеснули из-под белых кустистых бровей, – рукава можно как-то поправить.
Он сел за свой стол, всё так же заваленный книгами. Наклонился, вытащил из-под скамьи узкий и длинный сундук. Расчистил на столе место, сложив книги в две высокие стопки, и выложил изъятый из сундука длинный свёрток – толстый, коричневый. Развязал стягивающую свёрток каболку – и подал Бэнсону. Бэнсон развернул свёрток, встряхнул. Длинный, до самого пола, кусок прекрасно выделанной медвежьей шкуры. А Йорге между тем разложил на столе хорошо знакомые любому портному предметы: бритву, ножницы, полоску войлока с утопленными в него иглами, несколько мотков ниток – конопляных и шёлковых.
– Вот тебе новые рукава, – сказал довольно старик. – Давай свою куртку, будем выпарывать старые.
Через полчаса в каюте ярко горели четыре свечи, громко хрустели ножницы, выкраивая линии будущих швов.
– Чудеса! – произнёс Бэнсон, откладывая в сторону шкуру и ножницы и подвигая к себе бритву и куртку. – Шкуры – ровно на два рукава. Как будто мерку с меня снимали!
– А я её для тебя и готовил, – бесстрастным голосом сказал Йорге.
– Это что же, – озадаченно проговорил Бэнсон. – Вы знали, что я встречусь с вами, и что у меня будет куртка с лопнувшими по шву рукавами?
– Точно не знал. Но догадывался.
Бэнсон покачал головой, улыбнулся. Принялся распарывать шов.
– Мастер Йорге, – сказал он вдруг, опустив куртку с наполовину взрезанным плечом на колени. – Помните, год назад, так же, на корабле, вы сказали Альбе «прощай»? Он ещё удивился, что не «до встречи».
– Да, помню.
– И вы сказали, что смерть подошла очень близко. Альба сказал, что это была хорошая, честная жизнь. А вы произнесли слово «бесспорно». Выходит, вы тогда видели, что дни Альбы уже сочтены? А он – не видел? И вы имели в виду его хорошую, честную жизнь, а он говорил и думал о вашей?
– Да, Бэнсон. – Именно так.
– А откуда… Если мне позволено будет спросить… Откуда такая способность предвидеть? Не могли бы вы рассказать о себе – вот как рассказывали мне о мастере Альбе?
– История долгая, Бэнсон. Расскажу, если хочешь. Только приготовься к пространным паузам: мне придётся многое вспоминать из весьма далёкого прошлого. Мне придётся даже вспомнить своё настоящее имя.
– Как же вас звали в том вашем прошлом?
– Меня звали аббат Солейль.
Молодой богослов
(Север Италии. За 70 лет до наших событий.)
Два молодых человека, верхом на осликах, неторопливо, оберегая, насколько возможно, капюшонами лица от дорожной пыли, приближались к конечной цели своего путешествия.
– Массар, – сказал негромко один из них, с трудом разлепив покрытые пылью губы.
Он был в балахоне монаха-францисканца.
– Наконец-то! – хриплым шёпотом отозвался второй, в одеянии монаха-иезуита. – Как я измучился!
– Но согласись, – улыбнулся его товарищ, – не пристало роптать, когда рядом есть кто-то измученный вдвое больше.
– Это ты, что ли?
– Нет. Ослики.
Массар, довольно большой город белел невдалеке полосками крепостных стен, дрожащих в струях знойного летнего марева. Когда-то он был размещён на плоской возвышенности между двумя реками – одной широкой, другой – поуже. Но теперь, наплодив новых людей и наставив новые – не дома даже, а целые улицы и кварталы, – выполз на противоположные берега обеих рек. Он вынес даже за границу нового, гораздо более пространного кольца каменных стен небольшую речную пристань с длинными, под одной общей крышей, складами, и унылую стайку ветряных мельниц, крылья которых, по причине отсутствия хорошего ветра, медленно покачивались из стороны в сторону, не совершая и четверти оборота.
– Какая жара, – с усилием произнёс иезуит. – Интересно, что нам дадут сейчас в приёмной епископа – воды или местного вина?
– Да, – откликнулся францисканец. – Интересно.
Он сполз со спины своего осла и пошёл, сладко постанывая, неуклюже переставляя закаменевшие ноги.
– Жалеешь осла? – не без иронии поинтересовался иезуит.
– И осла жалею. До города – не больше мили, вполне дойду и своими ногами. И перед епископом хочу выглядеть бодро. Я ведь до сих пор не знаю, зачем меня вызвали.
– А я – зачем меня вызвали – знаю. И напускная бодрость мне не нужна. Пусть видят, что я смертельно устал. Вина бы мне, – холодного, из погреба, – и в келью. Отлежаться до ужина.
В воротах их встретил опирающийся на алебарду, страдающий от жары стражник.
– Пошлину, – тяжело дыша, сказал он, – дорожную.
– Денег нет, – сказал францисканец. – Я – нищенствующий монах. Вот грамота епископата. Я вызван в Массар, я не путешествую.
– Осла оставишь в залог, – с досадой махнул рукой стражник, привыкший такие объяснения выслушивать десятками в день. – И ты тоже!
Он повернулся к юноше-иезуиту. Но тот, явно не намереваясь слезать, тоже достал и развернул свою грамоту. Он держал её не вертикально, когда можно читать написанное, а боком, разведя в стороны и придерживая руками два свивающихся края. В этом был вызов, и стражник, наливаясь сердитостью, шагнул, и протянул уже руку, чтобы выхватить грамотку и прочесть – куда и к кому едет этот невежливый юный монах. Шагнул – и вздрогнул вдруг, как ошпаренный, и отдёрнул испуганно руку. Да, ему и не нужно было читать чернильные чёрные строки. Достаточно было увидеть инквизиторскую печать.
– Прошу, прошу, – торопливо забормотал он, – святые отцы! Проезжайте! Простите, что допустил заминку… Что задержал… Приёмная епископа – розовый дом в самом центре города… Проезжайте!
В молчании двое монахов добрались до приёмной. Передали ослов выбежавшему расторопному конюху, и вошли в прохладный и тёмный и, на первый взгляд, бескрайний, с колоннами, высокий и гулкий холл. Здесь молчаливый секретарь взял их бумаги и, жестом предложив сесть, удалился. Путники, доковыляв до скрывающихся в тени лавок, сели и, с одинаковым блаженным стоном вытянув ноги, взглянули друг на друга и обменялись улыбкой. Как нелёгок был путь! Как хорошо, что он наконец-то закончен!
Зная, как велик и важен тот, к кому они приехали, юноши приготовились ждать и час, и два. Но события пошли не так, как предполагалось. Послышались звуки торопливых шагов – и в холл вышел сам епископ! В мантии с золотой отделкой, полный, с мясистым и красным лицом – и, на удивление, отнюдь не старый. Приехавшие торопливо вскочили и, упав на колени, коснулись лбами холодного мрамора.
– Встаньте, дети мои! – величественно произнёс епископ, протягивая руку для поцелуя. – Кто из вас – Вениамин?
– Я, ваше преосвященство, – ответил, целуя пухлую длань, францисканец.
Да, здесь было иначе, – не так, как у ворот. Качнулись весы, определяющие значительность персоны, в обратную сторону. Епископ, не обращая внимания на снабжённого инквизиторской печатью иезуита, прикоснулся к плечам и поднял с колен францисканца.
– Вениамин Солейль! – сказал он преувеличенно-радостно. – Так вот ты каков!
И, отступив на шаг, положил одну руку поперёк объёмного живота, а вторую поднял от локтя вверх и выставил палец:
– Следуй за мной.
И увёл нищего францисканца в свои кабинеты. К иезуиту же подошёл невзрачный служитель и поманил куда-то в сторону, в низенькую, неприметную дверцу.
Холл был настолько высок, что вверху, под потолком, по всему периметру тянулся балкон – и не один, а в два яруса. На нижнем из них, невидимые, – в тени, вверху, – стояли двое людей и молча наблюдали церемонию встречи.
– Кто этот юный Солейль? – поинтересовался один из них, когда холл опустел.
– Ты имеешь в виду, почему наш епископ так к нему ласков? Редко посещаешь библиотеку, брат Гуфий. Ты ведь имеешь доступ к переписке. И, если бы ты, вместо того, чтобы направлять свои стопы вниз, к палачу, в подвалы, устремлялся бы вверх, в библиотеку, к бумагам – ты б сейчас знал, что Вениамин Солейль – молодой богослов. Образованный. Одарённый. Имеющий блестящую манеру изложения. Его компилляции[21] из ранних римских философов, а главное – комментарии к ним наделали много шума два года назад. Стали искать, кто этот премудрый Солейль, этот старец полузабытого маленького монастыря, и нашли – семнадцати лет юношу. Повосхищались бы и забыли – но вдруг недавно пришло из Ватикана письмо. Сам Папа обратился к епископу с требованием прислать к нему юного богослова – и незамедлительно.
– Ах, вот как?! Подожди, подожди… А епископ назначен в Массар недавно, и, между нами, мечтать не смел о таком счастье, – и между нами же – это место мечтал занять главный инквизитор Массара, – так епископ теперь лижет ватиканскую руку при каждом удобном случае и с подобострастием! Думаю, что просто так он этого Солейля в Рим не отпустит!
– Совершенно правильно думаешь. Опять же – о пользе чтения епископской переписки: до того, как Солейль покинет наш благословенный город, его возведут в сан аббата.
– Аббата?! В девятнадцать лет?! И Ватикан утвердит?
– Более чем вероятно, что не просто утвердит. А вернёт его сюда с небывалым повышением. Потому что… – Открывающий тайны пригнул голову и снизил голос до шёпота: – потому что прошёл слушок, что этот Солейль – Папе сын.
– Ка-ак?! Ведь Папа девятнадцать лет назад… находился под целибатом, обетом безбрачия! Что ты говоришь, брат Марцел?
– Ну, все мы люди, брат Гуфий. У всех у нас слабости.
– Вот, значит, как… Нужно свести знакомство с этим Вениамином. А кто второй?
– Родственник.
– Чей родственник?
– Ничей.
– Ах, родственник[22]! Ну, а зачем епископ его-то вызвал?
– Ты же сам сказал, что его место мечтал занять главный инквизитор Массара. Представляешь, как неуютно живётся епископу при таком «приятеле»? Вот епископ, – о, он оказался прекрасный политик! – собирает в провинциях молодых и «голодных» «родственников» и делает им завиднейшую карьеру: наделяет полноправными инквизиторскими полномочиями, да ещё с переводом в крупный город. Теперь – это его цепные псы в ведомстве главного инквизитора.
– А что же наш главный? Мирится с этим?
– Так ведь епископ увеличивает его аппарат, а не на оборот. Попробуй-ка прояви недовольство!
– А этот новый «родственник» – ведь слишком молод. Какие у него могут быть способности?
– О, он способен. Обладает мощным умом. Хитрым, коварным. Мастер полемики. Любого еретика через минуту допроса заставит оправдываться. И – волчья хватка. Знаешь, как зовут его?
– Как?
– Иероним Люпус[23].
Юное чудовище
И Вениамин Солейль, юный аббат, отбыл в Рим, по высочайшему требованию Ватикана. А его недавний друг и попутчик остался в Массаре. С первых минут своего пребывания в епархии он был замкнут и молчалив, – иногда даже не замечал здоровающихся с ним и не отвечал на вопросы: мелькающие чётки в его подвижных, аристократически тонких пальцах сообщали всем окружающим, что он непрестанно читает молитвы. Юный иезуит тоже побывал на приёме у епископа, и был облагодетельствован так, что ему позавидовали бы тысячи и тысячи «родственников», – все те, кто из панического страха перед инквизицией неустанно помогали ей – с рвением, напоказ. Да, Иероним Люпус сменил балахон иезуита на чёрное инквизиторское одеяние и получил должность секретаря трибунала – не где-нибудь, а в Массаре. Но он не был счастлив! То есть совершенно не был, ни на йоту. Он мало ел и почти не спал. Он исправно посещал молельные службы, исправно вёл протоколы допросов, – и ждал, ждал. После аудиенции у епископа он подал письменное прошение о встрече с главой инквизиторского трибунала. Муравей, букашка осмелился написать льву. День за днём проходили без какого-либо ответа, и молчун-секретарь измучился так, что вокруг глаз его легли чёрные тени. Он приобрёл даже некую скорбную трагичность аскета, – и это заметил случайно оказавшийся рядом Сальвадоре Вадар, прелат Ватикана, глава инквизиторского трибунала в Массаре. Оцарапанный затаённым неистовством, блеснувшим из чёрных глазниц, он поинтересовался у служащих, кто этот молодой инквизитор. Его тотчас уведомили, – и он вспомнил о письме, на которое до сих пор не собрался ответить. И самое трудное, почти непреодолимое в том, что задумал новичок Иероним, свершилось: его пригласили к Вадару.
Солнце садилось за городом, выкрасив алым верхушки мельничных крыл. Окна кабинета прелата Вадара были раскрыты настежь, – хоть какое-то спасение от жары.
– Какое дело заставило тебя обратиться ко мне, сын мой? – сурово спросил Вадар у вошедшего в кабинет Иеронима.
– Позвольте мне сесть, падре, – вдруг сказал молодой секретарь.
Глава трибунала даже открыл рот, но не нашёл достойного ответа на внезапную дерзость. А секретарь звонко простучал сандалиями по лакированному паркету, взял стоящий у стены стул, подошёл с ним к столу, поставил напротив Вадара, и сел – лицом к лицу. Сел и стал молча смотреть прямо в глаза главе трибунала. И Вадар, отточенным за много лет чутьём уловивший необычность происходящего, не говорил ничего, а так же молча смотрел; – и не выдержал первый: моргнул. Тогда секретарь, на миг отчётливо улыбнувшись, стал говорить. Тихо, размеренно, с непринуждённой неучтивостью.
– Вы знаете, сколько молодых инквизиторов, падре, направил епископ в ваш трибунал за последние полтора месяца? Не трудитесь припоминать. Я знаю: троих. Штат заполнен по всем должностям. Что епископ будет делать дальше? Он будет освобождать некоторые должности. А именно те, которые занимают ваши, падре, доверенные люди. Преданные вам, работающие с вами уже много лет. Как он это будет делать – примерно ясно: в некоторых провинциях он удвоит налоги, и, едва лишь там проявятся волнения простолюдинов, он объявит это ересью и потребует постоянного присутствия там одного из ваших людей. Обязательно – с опытом, ветерана. А на его место, здесь, в Массаре, пристроит ещё одного, вроде меня: молодого, голодного, с неутолённым честолюбием и азартом. А главное – безусловно преданного епископу, благодетелю, второму отцу. Таким образом, мы с вами стоим перед фактом: епископ создаёт свою собственную гвардию в вашем собственном трибунале. Зачем ему это нужно? Ответ ясен даже мне, новичку: он сознаёт, что отнял у вас ваше место. Должность епископа – золотая мечта любого инквизитора: пожизненная слава, власть, деньги. А власть инквизиторов временна: они лишаются своих мест с приходом нового Папы. Ведь каждый вновь избранный Папа немедленно назначает во все трибуналы своих людей. Старый епископ умер, вы уже примеряли на себя его тиару – и вдруг этот выскочка. Родственник кого-то из Ватикана. Но выскочка умный. Он не стал ждать, во что выльется и какие формы приобретёт ваша затаённая ненависть. Он предпринимает точные и беспощадные действия, и, вполне можно ожидать, что скоро он вас уничтожит.
Секретарь умолк, откинулся на спинку стула и стал метать из руки в руку сухо потрескивающие чётки. Глава трибунала, как будто очнулся от оцепенения, опустил напряжённо поднятые плечи, шумно выдохнул. Посмотрел на стоящий на золотом пьедестале золотой колокольчик. (Секретарь со снисходительной улыбкой тоже посмотрел на него.) И – да, звонить падре Вадар не стал. Он наклонился, открыл дверцу в тумбе стола. Достал из тумбы и установил на столешнице графин с тёмным вином, два хрустальных полуфужера, хрустальное блюдечко, нож и лимон. Налил полуфужеры на треть. Порезал лимон. Взял свой бокал, кивнув секретарю, как равному. Тот взял, поднёс к лицу. По запаху определил, что в бокале – не вино, а коньяк. Благодарно кивнул – но не стал пить, поставил бокал на стол. Точно так же отставил свой полуфужер бог и ужас Массара, глава инквизиции города, Сальвадоре Вадар. Положив руки на стол и подавшись вперёд, он тихо спросил:
– Чего ты хочешь, юное чудовище?
– Я хочу стать главой инквизиторского трибунала. Вместо вас. А для этого я сделаю вас епископом.
– Но… Но… Нет, говори, говори.
– Да, я помню. Папа Климент пятый установил минимальный возраст для инквизитора: сорок лет. Но за три века многое изменилось. Вот мне двадцать – и я уже инквизитор. Кто помешает мне стать главой трибунала в двадцать один? Да, это было бы трудно, если бы случай не свёл меня с моим новым другом – аббатом Солейлем, который весьма близок к самому Папе.
– Я понял, – произнёс так же тихо Вадар. – Главой трибунала тебя сделать можно. Но место епископа…
– Тоже можно. Будем действовать быстро и незаметно. Сначала – приобретём индульгенцию Ватикана. Персональную для вас благодарность. Для этого нужно резко увеличить…
– Количество сожжённых еретиков.
– Нет. Количество отправляемых в Ватикан контрибуций. Что для канцелярии Папы важнее – сто сожжённых еретиков, у которых взята одна тысяча лир, или один, у которого взяты сто тысяч? Вот наше, падре, главное направление. Деньги. Мы должны втрое увеличить денежные отчисления Ватикану.
– Мудро. Мудро. Но как мы соберём столько денег?
– Нужно приобрести своего человека в канцелярии епископа. Подкупить или запугать. И, как только епископ увеличит налоги в провинции, мы должны отреагировать первыми. Смотрите. Мы первыми сообщаем в Ватикан об увеличении сборов, а также немедленно направляем в возмущённую провинцию постоянного представителя. Опередив «просьбу» епископа, направляем одного из юнцов его «гвардии». А на его место заранее подбираем преданного вам человека. Здесь епископ дважды попадает в волчью яму: теряет своего человека в трибунале, и вызывает негодование большого количества крестьян. Ведь в той провинции он предполагает вернуть прежний уровень налогов, как только «пристроит» туда вашего человека. Но он уже не сможет этого сделать, так как мы отправим в Ватикан хвалебное сообщение о его действиях в этой провинции. Весьма вероятно, что дело дойдёт до бунта. Епископ вынужден будет затребовать у светских властей войска. И тогда вместе с войсками мы пошлём всех его «гвардейцев» с простым и понятным заданием: жечь всех подряд и отнимать деньги. Если они справятся – Ватикан поблагодарит нас за контрибуции. Если не справятся – Ватикан накажет епископа за отсутствие контрибуций.
– Ты уже наметил, кого можно подкупить в окружении епископа?
– Наметил. Но нужны деньги, не так ли? Поэтому следует немедленно увеличить и нашу казну. Раз в десять.
– Каким образом?
– Очень простым. Сегодня же распорядитесь назначить меня носителем жезла.
Жезлоносец
Ранним утром на безлюдные улицы пока ещё не проснувшегося Массара вышел молодой инквизитор. Он неторопливо щёлкал сандалиями по брусчатке. Глаза его были полуприкрыты непрестанно дрожащими веками. Сердце гремело, как главный колокол в массарском соборе. Грудь его распирала такая сила, что, – казалось ему, – он мог взглядом двигать дома.
Дойдя до самого богатого квартала в городе, инквизитор подошёл к дверям наугад выбранного дома и дважды ударил дверным молотком. Спустя какое-то время в дверях откинулся люк окошечка и в него выглянул сонный слуга.
– Кто там? – недовольно спросил слуга.
Стоящий за дверью, сильно подсвеченный с одного бока поднимающимся солнцем человек поднял средоточие распиравшей его силы – тонкий, в пол-локтя длиной чёрный гранёный жезл с маленьким серебряным крестиком на конце и произнёс:
– Инквизиция.
Слуга несколько секунд не подавал признаков жизни. Потом, опомнившись, со всем проворством начал отодвигать засовы и клацать ключом в замочной скважине. Отпер замок, открыл дверь. Не глядя на него, утренний гость уверенно, твёрдо прошёл в дом. Вдруг за его спиной раздался угрожающий возглас:
– Ты кого впустил?!
Гость обернулся. Возле онемевшего слуги стоял страж, привратник. Высокого роста, массивный и крепкий, босой, в ночных панталонах и накинутой на голое тело ливрее. В руках у него сверкала тяжёлая алебарда.
– Ты, – сказал юноша в чёрном и вытянул в сторону привратника жезл. – Подойди.
Страж дома, пряча алебарду за спину, торопливо подошёл, почтительно поклонился.
– Хозяин где спит – знаешь?
Страж поспешно кивнул.
– Веди.
Прошли вестибюль, гостиную, поднялись на второй этаж, миновали короткую анфиладу. Остановились у двустворчатых высоких дверей.
– Стучи, – сказал гость.
Страж робко стукнул.
– Громче.
Раздался тревожный, отрывистый стук.
– Что там? Кто? – послышался недовольный женский голос за дверью.
– Это… я!.. – сказал страж.
– Что случилось?
Щёлкнул ключик, дверь приоткрылась.
– Инквизиция, – бесстрастным голосом сказал появившемуся в дверях очаровательному женскому лицу стоящий рядом с привратником незнакомец в чёрной одежде.
И, не глядя на побледневшее вдруг лицо хозяйки, гость бесцеремонно прошёл в спальню. Он подошёл к громадной, под шёлковым балдахином кровати и, вытянув жезл по направлению к растерянно приподнимающемуся с подушек человеку в ночном колпаке, проговорил:
– Ты. Немедленно следуй в инквизиторский трибунал.
Повернулся и вышел.
Таким же образом жезлоносец проник и в соседний дом, а когда выходил из него, с усмешкой отметил, что хозяин первого, торопливо поправляя изысканную одежду, направляется к зданию трибунала.
Иероним Люпус целый день ходил по Массару, и вскидывал жезл, и пронзал мертвеющие сердца горожан ледяным страхом.
Он вернулся в трибунал поздно вечером, и нашёл здесь огромную толпу измученных, обливающихся потом людей. А также недоумевающих работников трибунала.
– Есть у нас в комнате для допросов какой-нибудь устрашающий инструмент? – спросил, игнорируя безмолвные вопросы, Иероним.
– Есть, есть, – отвечали ему.
– Какой?
– Железная Мэри, например.
– Это такой гроб с шипами внутри? Несите в кабинет Сальвадоре Вадара.
И прошёл сам в кабинет Сальвадоре.
– Я распорядился, – сказал он Вадару, – проводить допрос здесь, чтобы вы, падре, могли присутствовать и не мучиться в душном подвале.
– Поприсутствую с огромным любопытством, – ответил оживлённо потирающий ладони Вадар.
Словно лавина хлынула с гор – так был смят и разрушен порядок надменного кабинета. Приволокли, громыхая, «железную Мэри», и поставили вертикально, открыв для обозрения длинные иглы-клинья в её тесном чреве. Принесли длинный стол, за который, по требованию Иеронима, уселись сразу четверо записывающих протоколы. Принесли высокую кафедру, за которую встал молодой инквизитор.
Он встал, положил на верхнюю деку перенявший за день тепло руки жезл. Спросил:
– Список прибывших для допроса составлен?
– Распоряжения не было! – откликнулся один из писцов.
– Как же так? – зловеще спросил жезлоносец, мгновенно отметив, что отвечал ему один из ставленников епископа. – За целый день вы не составили список, и оправдываете это тем, что не было распоряжения? А разве вы не получили их все разом, когда надели своё чёрное облачение?
Мёртвая тишина повисла в замершем кабинете. Иероним значительно посмотрел в сторону восседающего за столом Вадара, и тот мгновенно подхватил безмолвную мысль:
– Запишите себе, – сказал он, – официальное замечание. – Вас кто рекомендовал на должность?
– Епископ… Его святейшество…
– Вы подвели его.
Иероним, подавив непрошенную улыбку, величественно произнёс:
– Список составим в процессе допроса. Давайте первого.
Вошёл первый вызванный, – растерянный, усталый, кланяющийся на три стороны.
– Имя, род занятий, светское состояние, – внятно и чётко произнёс стоящий за кафедрой.
Человек, с трудом оторвав взгляд от страшного железного ящика, ответил. Руководитель допроса кивнул крайнему писцу, и тот, склонившись, стал бегло писать.
– Перечислите своих соседей, – сказал вдруг жезлоносец. – А потом – всех друзей.
По его знаку стал писать следующий секретарь.
– Теперь, – сказал ведущий допрос, – назовите самого бедного из друзей, затем идущего за ним и так далее. Вы ведь знаете, что одно из главных достоинств верующего – это бедность?
И стал писать третий.
– Теперь уверьте нас в том, что ни вы, ни кто-либо из ваших знакомых при вас никогда не высказывал еретических взглядов или рассуждений. Произнесите уверение вслух, его запишут, подойдите и поставьте свою подпись.
Четвёртый секретарь быстро набросал несколько строк, и допрашиваемый, дёргаясь, словно кукла на нитках, подошёл и, неуклюже взяв в одеревеневшие пальцы перо, расписался.
– Всё. Идите домой, – сказал строгий юноша с кафедры. – Но будьте готовы явиться сюда по первому требованию. – И добавил, обращаясь к появившемуся на звон колокольца служителю: – проведите так, чтобы допрошенный ни с кем не обменялся ни словом.
Так, без каких-либо изменений, были допрошены все, и так прошла ночь.
Уже рассвело, когда глава трибунала и его жезлоносец остались одни.
– Но зачем ты, – спросил, сонно морщась, Вадар, – заставил рассказывать сначала про самых бедных?
– Затем, чтобы, посмотрев в конец списка, узнать о самых богатых.
Первый допрос
Сальвадоре Вадар после утомительной ночи отправился отдохнуть. Он спал до полудня. В полдень встал, наскоро умывшись, поднялся в кабинет. И замер в дверях, поражённый. Его новоявленный секретный союзник, оказалось, не позволил себе отдохнуть ни минуты. Он всё это время оставался в кабинете – и усердно работал. Вадар изумлённым взглядом окинул плоды его странной работы: к облицованной благородным орехом стене, – противоположной той, в которой сияли солнечным светом высокие окна, – были пришпилены длинные бумажные ленты. Огромный кусок стены был залеплен полотном из белеющих чешуек со слегка встопорщенными краями. И всё это белое поле покрывали чёрные ровные строки.
Глава трибунала подошёл, всмотрелся. Строки были нанесены не пером, а кисточкой с тушью. Буквы получились толстыми, крупными, так, что можно было читать даже издали.
– Что это?! – спросил, не скрывая недоумения, Вадар.
– Вот здесь, – молодой инквизитор протянул руку, – список самых богатых людей города. Под именами – примерное состояние и род занятий. А вот там – список иудеев, принявших католичество. Они живут скрытно, и определить, сколько у кого имеется денег – трудно. Но мы определим.
– Каким образом?
– Возьмём ночью человека четыре. После знакомства с Железной Мэри или с колесом хотя бы один начнёт говорить. Он расскажет всё о своих знакомых, а потом знакомые, взятые по списку, станут наперебой рассказывать друг о друге. Камер в подвале хватит?
– Кажется, свободных камер почти десяток.
– Мало. Нужно затребовать в магистрате каменщика, двадцать возов кирпича и срочно сделать кладку в подвале. Камеры нужны крохотные, чтобы человек мог только стоять.
– Железо нужно и дерево, – подсказал Вадар, – для дверей и замков.
– Не нужно, – бесстрастно ответил Иероним. – Камеры нужно ставить вплотную друг к дружке, как пчелиные соты. Высокие. Арестованных будем опускать и поднимать на верёвке. Пусть стражники работают в полную силу. Довольно им спать.
– Подожди-ка, сын мой, – переменил вдруг тему Вадар, – это что же, выходит, ты совсем не спал? Ранним утром ты вышел в город, полный день отшагал по раскалённым улицам, ночь провёл в допросах, – и снова работаешь! А работу проделал нешуточную! И на удивление бодр. Как так?
Иероним сдвинул брови, посмотрел куда-то вниз-вбок. Ответил не без удивления:
– Я не знаю. Действительно, чувствую себя бодрым и свежим. Азарт клокочет в груди. Словно мне помогает какая-то невидимая и странная сила.
– И давно у тебя так?
– Нет. Как только приехал в Массар. Мне кажется, это следствие того, что я перенёс что-то вроде лихорадки здесь, в первые несколько дней. Не хотел спать, не хотел есть.
– Интересно, – сказал Сальвадоре, – у лихорадки обычно иные последствия: равнодушие, слабость…
– Возможно. Не хочу сейчас думать об этом. Вот кто занимает мои мысли, смотрите.
И юный Люпус, порывисто шагнув, указал на одно из написанных на стене имён.
– Винченцо Кольери, – прочёл инквизитор. – Кто это?
– Мельник, – ответил Иероним. – Местный мельник.
– Мельников много в Массаре, – завуалированно попросил объяснения глава трибунала.
– Да. Много. Как и мельниц. Но все мельницы здесь – ветряные. Кроме одной. Которая поставлена на узкой реке и работает от водяного колеса. Ветра нет уже много дней, и ветряные мельницы замерли. А к водяной выстроилась огромная очередь. Винченцо недавно купил её, за изрядные деньги. Значит, богат. И теперь, пользуясь монополией на помол, он установил высокие цены. Каждый вечер он прячет в тайник кошель с золотом. Этим золотом и этой мельницей должна владеть инквизиция. И будет владеть! Для начала.
– Да, но каким образом это обставить в приличествующем для магистратских властей виде? И для епископа, и для горожан?
– Спустимся вниз, в подвал. Сами увидите. Мельника уже должны привезти.
И два инквизитора, – один надменный и грозный, второй превратившийся, едва выйдя из кабинета, в робкого и склонённого, – прошествовали в подвал.
Они прошли дверь с караульным, ещё одну – которую Вадар отпер своим ключом. Миновали длинный изломанный коридор. Вошли в мрачное, едва освещаемое светом углей в раскалённой жаровне помещение. Тотчас кто-то, словно гигантский нетопырь, метнулся, бросил в жаровню дров, плеснул масла. Взвился яркий огонь. Защёлкали под низким потолком звуки торопливых шагов; запылали в углах четыре факела, появилась откуда-то длинная бархатная подушка и накрыла собою скамью, на которую предстояло сесть главе трибунала.
Вадар, махнув рукой, приказал пренебречь церемониями и начинать, – и сел. В свете жаровни и факелов обозначилось мрачное четырёхугольное чрево подвала. Два стола и две длинных скамьи – у одной стены (и тут же – принесённая после ночного допроса высокая кафедра); у противоположной – колесо для ломанья костей, доска с верёвкой и блоками, стеллаж с крюками, клещами и прочими инструментами, и открывшая свою страшную пасть железная «Мэри». Свет факелов и жаровни своими багрово-янтарными бликами вывел на чёрной палитре и десяток людей: вновь прибывшие, из которых один сел на бархатную подушку, а второй прошёл и встал за уже знакомую ему кафедру; врач, обязанный следить, чтобы к допрашиваемому преждевременно не пришла смерть, квалификатор[24], молодой инквизитор-посыльный и трое секретарей. Вся эта компания безмолвно, неторопливо устроилась за двумя столами, и их взглядам открылись ещё два действующие лица: сидящий у противоположной стены, у «инструментов», бледный, с дрожащими пальцами на сведённых коленях, мельник, и восседающий напротив него на огромной плахе, положивший руки, как на подлокотники кресла, на два воткнутые в плаху топора – обнажённый по пояс, в колпаке с прорезями для глаз, массивный и мускулистый палач.
– Подозреваемый должен встать, – отчётливо, резко прозвучал вдруг голос с кафедры. – Заседание трибунала начато.
Мельник торопливо вскочил и несколько раз поклонился.
– Имя, – требовательно спросил допрашивающий.
– Винченцо Кольери, ваша милость.
– Подойди к секретарю и распишись в том, что под страхом отлучения от церкви и всяческих наказаний ты обязуешься никому, никогда, и ни при каких обстоятельствах не открывать ни существа, ни хода проведённого над тобою допроса.
Мельник, с усилием передвигая ноги, подошёл и, склонившись, старательно расписался. Затем он вернулся на место, стараясь не смотреть на палача.
– Винченцо Кольери, – сурово произнёс Иероним. – Недавно ты приобрёл мельницу.
– Да, ваша милость. Приобрёл. Все налоги в магистратуру уплачены.
– Нас не интересуют твои налоги. Отвечай на конкретный вопрос. После покупки мельницы ты устроил большой ужин для родственников и гостей.
– Да. Устроил…
– У нас имеются показания свидетеля, что ты, опьянев, сказал ему: «Хвала богам, мельница отныне моя».
– Не припомню такого, ваша милость…
– Запишите, – немедленно сказал допрашивающий секретарям, – подозреваемый отказывается отвечать на вопрос.
– Нет, нет! – торопливо поправился мельник. – Если свидетель… Я же был в небольшом опьянении… Мог и сказать.
– Сказал или не сказал? – с нажимом спросил Иероним, и в подвале на миг повисла зловещая тишина.
– Да… Сказал.
– Запишите, – повернул голову Люпус. – Подозреваемый сознался в ереси.
– В какой же ереси?! – Испуганно воскликнул мельник. – Что вы такое говорите, ваша милость?
– В то время, как католическая святая церковь принимает, объявляет, утверждает, настаивает на единстве Бога, обвиняемый, произнеся «хвала богам», заявил при свидетелях о многобожии. Это ересь.
– Помилуйте! – мельник упал на колени, сцепил руки. – Мы же все читали… О Зевсе… Об Олимпе… Богах-олимпийцах… Это же просто легенды!
– Запишите. Обвиняемый признался в чтении еретических книг.
– Нет, нет! Я перепутал! Я не читал, я слышал. Мне в детстве эти сказки про Зевса рассказывала старушка. Какая – не помню. Был очень маленький.
– Запишите. Обвиняемый сознаётся в том, что присутствовал при еретических разговорах и не донёс о них инквизиции.
– Но это был не разговор! Я-то молчал, это старушка говорила!
– Как имя старушки?
– Не помню! Да она ведь и умерла уж давно!
– Запишите. Обвиняемый отказывается назвать соучастников. Становится очевидным, что для полного признания целесообразно применить пытку.
– Одну минуту! – вдруг подал голос квалификатор. – Согласно папской энциклике номер… – он торопливо перелистал лежавшие перед ним толстые книги, – … номер не помню… В общем, к обвиняемым запрещено применять пытки.
– Это действительно так, – снисходительно ответил Иероним. – Но разрешает ли эта энциклика применять пытки к свидетелям?
– Да, – ответил квалификатор. – К свидетелям – разрешает.
– Обвиняемый! – повернул лицо к мельнику Иероним. – Во время застолья, когда ты произносил слова, в которых только что сознался, рядом было много людей?
– Да, ваша милость. Конечно. Ведь гости…
– И среди них была и твоя жена?
– Ну конечно. Рядом сидела.
– Твоя жена страдает глухотой или немотой?
– Нет, нет! Она, хвала Богу, здорова!
– Значит, она слышала эти твои слова, как и тот сообщивший о них свидетель? Если она сидела к вам даже ближе него?
– О, я не знаю, ближе ли? Не могли бы вы мне сказать, кто именно этот свидетель?
Иероним молча посмотрел в сторону квалификатора, и тот твёрдо сказал:
– Во избежание мести или давления, имя свидетеля не открывается никому и никогда. О нём знает только инквизиторский трибунал.
– Итак, – повторил допрашивающий, – слышала ли твоя жена эти слова о богах?
– Ну, наверно… наверно, могла слышать.
– Свидетель, сидевший поодаль от тебя, уверенно слышал. А твоя жена, согласно твоим словам, сидевшая рядом, и не страдающая глухотой, всего лишь «могла слышать»? Запишите. Обвиняемый отказывается давать прямые ответы.
– Подождите! Я уверен… конечно, да. Слышала.
– Запишите. Жена мельника слышала еретические слова и не донесла о них инквизиции. Тем самым она твёрдо и несомненно объявляется укрывательницей ереси. Мы начинаем новое дело по обвинению в укрывательстве. Присутствующий здесь мельник объявляется свидетелем в обвинении против его жены.
Сказал и, посмотрев с иронией на квалификатора, уточнил:
– Можем ли мы теперь применить к мельнику пытку?
– К свидетелям… – ответил, кивая, квалификатор, – применение пытки… возможно.
– Пощадите! – мельник пополз на коленях к столам.
Палач встал со своей плахи и шагнул к нему. Наступил массивным башмаком на лодыжку ползущего и заставил его остановиться.
– Пытка применяется только к упорствующим, – пояснил ведущий допрос. – Если ты признаешься полностью, и раскаешься перед церковью…
– Полностью признаю! – всхлипнул мельник. – Раскаиваюсь.
– Согласно законам, ты должен доказать раскаяние. И назвать нам имена соучастников.
– Но… у меня нет никаких соучастников!
– А твои гости? Все, кто слышал ересь о многобожии и не донёс, являются укрывателями ереси. Назови всех, кто присутствовал на твоём ужине.
Мельник, вытирая слёзы, стал произносить имена, а Иероним, сойдя с кафедры, подошёл к одному из писцов и что-то ему прошептал. Тот, кивнув, стал торопливо писать и, когда мельник закончил перечислять имена гостей, ему был предъявлен заполненный лист.
– Это, – сказал Иероним, – твоё заявление о передаче мельницы во владение инквизиторскому трибуналу. Ты действительно раскаялся? Тогда подпиши.
Сгорбив лопатки, горестно опустив голову, мельник вывел на листе своё имя.
– Вернись на место, – сказал Иероним.
Мельник снова сел напротив палача. Тогда молодой инквизитор, подойдя с бумагой в руках к жаровне, положил лист на угли и, глядя, как огонь пожирает его, торжественно проговорил:
– Инквизиции не нужно твоё презренное имущество. Инквизиции нужно твоё раскаяние. Иди, ты свободен.
Тайные замыслы
Инквизитор-посыльный увёл плачущего от страха мельника. Глава трибунала встал, потянулся, разминая спину. Подошёл к кафедре. Негромко спросил:
– Но зачем ты сжёг дарственную?
– Здесь есть место, где мы можем поговорить наедине? – вместо ответа спросил Иероним.
– Дальше, за этим подвалом есть большой зал. Там хранили когда-то бочки с вином.
Они прошли через маленькую дверь – и оказались в огромном высоком складе, в который проникал даже солнечный свет – сквозь узкие длинные окна под потолками. Вышагивая между двумя рядами подпирающих своды колонн, Иероним сказал:
– Сегодня все родственники мельника, и все знакомые узнают о том, что с ним произошло. Кроме досады по поводу своих неосторожных слов, он обязательно будет хвалить благородную инквизицию. Подробно расскажет, как горела его дарственная. Нам нужно сделать так, чтобы завтра городскую проповедь читал сам епископ. И чтобы он напомнил всем, что раскаявшийся еретик может быть отпущен только в том случае, если назовёт соучастников ереси. Послезавтра мы начнём арестовывать его гостей, – всех, одного за другим. И все они станут мельника проклинать. Потом мы объявим еретичкой его жену, он станет её выгораживать, – и мы сожжём их вместе, как упорствующих. По закону мы на их имущество наложим секвестр, и, когда всё заберём, то семьи гостей станут думать: «поделом ему», и – «правильная инквизиция». А если бы мы забрали мельницу сегодня, то они думали бы «бедняга мельник», и – «подлая инквизиция».
– Разумно, – сказал Сальвадоре и спросил: – но где ты, такой молодой, научился столь великолепно вести допросы? Скажу честно: даже я б так не смог.
– Я прочитал, – ответил оставшийся равнодушным к похвале Люпус, – около двух тысяч протоколов допросов. В провинциальном трибунале инквизиторы и родственники спали по ночам. А я читал. Несколько лет. Сделал копии из десяти самых удачных протоколов. И на их основе построил собственный ход допроса. Сегодня был, падре, мой первый допрос.
– Теперь ты, надеюсь, выпьешь коньяк?
– Теперь выпью.
На этих словах они дошли до противоположной стены. Здесь обнаружилась ещё одна дверца.
– Что там? – спросил Люпус.
Они вошли. За дверцей оказалась бывшая винная конторка. Деревянный диван. Вмурованный в стену с распахнутой дверцей железный шкаф. Два стола. И – такая же, как в зале, гулкая высота. Окна под самым потолком. Всё покрыто толстенным слоем слежавшейся пыли.
– Не устроить ли здесь, падре, – сказал Иероним Вадару, – наш секретнейший кабинет? Мебель заменим. Вызовем кузнеца, пусть в дверцу шкафа вставит замок. И через несколько дней здесь будет огромное количество денег.
– Ты уже знаешь – откуда?
– Безусловно. Всех гостей, по списку мельника, мы будем обвинять в укрытии ереси. И – брать с каждого тайный штраф. После того, как мы сожжём и мельника, и жену, нам будут приносить любые суммы. Любые. И будут молчать: ведь все дают подписку о том, что за разглашение любых обстоятельств следствия – костёр. Будут молчать, так что епископ об этом до времени не узнает. Вы, падре, сегодня нанесите ему визит. Его нужно заставить, во-первых, сообщить завтра о том, на каких условиях инквизицией отпускается еретик. Во-вторых, резко потребуйте отозвать меня из трибунала. Под частным предлогом – что я слишком блестяще веду допросы. Что это наносит ущерб вашему авторитету. Епископ должен думать, что между нами – вражда. Очень скоро он сделает на меня главную ставку. И я первым буду узнавать всё, что он против вас замышляет.
– Хорошо. Отменяю все планы и иду на встречу с епископом.
Глава трибунала и его юный помощник вышли в зал.
– А вот здесь, – показал тонким пальцем Иероним, – и поднимется новая наша тюрьма. Выложить стены между колоннами, – и разгородить их на каменные ячейки. Выйдет две или три сотни штук. Вверху, по их общей стене, будут ходить надсмотрщики. И, при надобности, поднимать и опускать арестованных на верёвке.
– А где будет отхожее место?
– Нигде. Пусть всё делают у себя, в этих каменных ящиках. Надзирателям время от времени нужно будет сыпать вниз опилки и стружки. Они, перемешиваясь с отходами, станут превращаться в вязкое зловонное месиво. Еретики должны гнить и дышать миазмами. Инквизиция – не развлекательный угол на ярмарке.
– Меня поражает здравость твоих рассуждений, – задумчиво произнёс Сальвадоре Вадар. – Что же это за сила, которая тебе помогает?
– Мне кажется, эта сила – я сам.
Глава 10 Мёртвый страж
«Церковь имеет врождённое и собственное право (nativumetpropriumius), независимое от какой-либо человеческой власти, наказывать своих преступных подданных как карами духовными, так и карами мирскими».
(Кодекс канонического права, $ 2214)
Башмачник
Огромное тело великой католической Церкви разделилось надвое. Одну её половину составляли сотни и тысячи инквизиторов, которые каждый день спускались в подвалы для своей важной работы – истязать живых беззащитных людей. В этой половине были власть, деньги, дым и чад от сжигаемых заживо «еретиков», сытое благополучие, безнаказанность. Высший клир, заботящийся лишь о тайных удовольствиях, тайных назначениях и тайных убийствах был перед Богом сплошной язвой, гноем, трупным тленом.
Другую половину церкви составляла широкая, светлая, неистребимая вера простых мирян, – забитых, безропотных, измученных непосильным трудом и налогами. Их вера, терпение и молитвы.
Именно к этой второй половине Церкви относился невысокого роста средних лет человек, который проснулся рано утром в маленьком чулане на первом этаже «доходного» дома, выстроенного не так давно в пригороде Массара. Открыв глаза, он с наслаждением, до хруста в суставах, вытянул своё крепкое тело (ступни и кисти рук простёрлись за края тонкого, вытертого, брошенного прямо на каменный пол тюфяка), и светло улыбнулся. Почесал короткую всклокоченную бороду. Шумно вздохнул.
Он спал одетым, так что после пробуждения ему не пришлось отыскивать в полутёмном чулане наощупь одежду и наощупь же облачаться. Сев на тюфяке он истово, со счастливым лицом, перекрестился и снова лицо его осветила улыбка: для неё в это утро были причины.
Осторожно ступая, довольный человек вышел из чуланчика и попал в крохотный – едва только дверь отворить – коридор. Из него он проник в небольшую, с одним окном комнату. Это была и спальня, и кухня, и зала. У окна стояла низкая, плоская, на двух человек кровать. На звук его тихих шагов от подушки подняла голову молодая женщина. Встретила доброй улыбкой его приветливый взгляд. Тихо спросила:
– Ты снова в чуланчике спал? Там же мыши!
– Как она? – вместо ответа спросил человек, подбираясь к кровати.
– Теперь уже лучше, лучше.
Женщина медленно подняла край одеяла. Под ним открылась льноволосая головка спящей девочки годиков двух. На бледном лобике блеснула тонкая полоска испарины.
– Сегодня всю ночь спокойно спала, – сказала женщина. – Теперь видно, что ей уже лучше.
– Я так и чувствовал. Пришёл поздно, не захотел беспокоить. Ничего, в чулане тоже можно отменно выспаться.
Он наклонился и, едва касаясь, поцеловал влажный лобик. Потянулся, поцеловал жену. Обошёл кровать, склонился к стоящей у стены широкой лавке и поцеловал спящего на ней мальчика – толстенького, розовощёкого, лет четырёх.
– Обед для тебя готов, – сказала женщина, вставая с постели и заворачиваясь в тонкий халат. – Вон стоит горшочек. Сало обжарила до корочки, а фасоль не очень разваривала, фасоль твёрдая. Всё, как ты любишь.
Он подошёл к ней, торопливо пригладил бороду, – чтобы не кололась, – и поцеловал её глаза, губы, шею.
– А на завтрак сейчас хлебцы пожарю, – сказала она, замерев в его объятии, покрываясь счастливым румянцем. – И молока, горячие хлебцы с молоком, хочешь?
Отворачиваясь, пряча наполненные счастьем глаза, она шагнула к встроенному в стену маленькому очагу.
– У лотошника, что над нами, угля уже нет, – сказала она, колдуя с огнём. – А у нас уголь есть ещё, есть!
Наложив на разгоревшиеся лучины дроблёного угля, она поставила на огонь треножник и поместила на него сковороду. Положила поддетый из глубокой плошки кусочек масла. Выпрямилась.
– Иди-ка сюда! – позвал её муж.
Она с готовностью, как подсолнушек поворачивает золотой диск свой к янтарному солнцу, повернула к мужу лицо. Подошла.
– Вот! – сказал он, доставая из кармана серебряную монету. – Это – последняя в нашу копилку!
– Последняя?! – она вскинула на него расширенные от изумленья глаза.
– Да! – сиял он улыбкой. – Последняя! Теперь мы можем купить у магистрата собственную комнатку! Ты помнишь, где магистратский ремесленный дом? В самом центре Массара!
– И мы больше не будем платить жилую аренду?
– Никогда!
– Никогда?
– Никогда!
Они стояли, обнявшись, и были не в силах отпустить друг друга из тёплых объятий, и она спрятала у него на груди пылающее лицо, и он гладил тяжёлой, в каких-то чёрных шрамиках, ладонью её склонённую голову, и солнечный свет, распростёршись из единственного окна, заливал их живой, медленно струящейся волною, и тихо дышала выздоравливающая девочка, и шумно сопел толстенький розовощёкий сынок, и противные мыши бегали где-то в тёмном опустевшем чулане, и громко трещал и звал к себе расплавившийся на чёрной сковороде кусочек жёлтого масла.
Потом, когда он сидел за небольшим круглым столом, – в том углу, что был между окном и дверями, – сидел и с хрустом жевал поджаренный хлебец, произошло ещё кое-что. (Ещё не всё раскрылось счастье этого тёплого солнечного утра.) Запустив руку в тот же карман, он достал и выложил на столешницу ещё несколько медных монет.
– И ещё деньги?! – изумилась она.
– Да. Я не говорил тебе. Мимо мчалась карета, на крыше стояли дорожные сундуки. И слетел с них большой свиток кожи. Мальчишки подняли и принесли мне – для чего им-то кожа, а я – башмачник. Чуть-чуть потратился, купил им сладких марципанов. А кожу припрятал и в ход не пускал, ждал – не объявится ли хозяин. Полгода кожа лежала. Я решил, что уже довольно, и сшил хорошие ботфорты, и ещё осталось на тубус для подзорной трубы. Вот, за тубус мне уже заплатили, а за ботфорты денежки принесут завтра, а ты знаешь, сколько стоят ботфорты?
– На еду у нас отложено, – прошептала, присаживаясь к столу, женщина, – на комнатку – последняя монетка добыта… Что с этими деньгами?
– На эти, – он подвинул медные монетки к ней поближе, – купи простыни.
– Простыни?
– Ну да! Ты же так мечтала. Купи новые простыни. Довольно спать на латанных.
– Простыни?.. Может, лучше купим расшитую скатерть?..
Спустя полчаса он шагал, склонившись, забросив за плечи огромный сапожный ящик-лоток, и сам себе бормотал:
– Продам ящик, и добавлю денежки за ботфорты – и куплю башмачную будку. На рынке, не где-нибудь. Уйду с пристани, сяду в будке на рынке. Больше не стану таскать ящик. Куплю комнатку… Как хорошо жить, Боже!..
Пристань встретила его привычной прохладой, простором, свежестью и гомоном грузчиков. Он равнодушно поприветствовал пару-тройку знакомых. Грузчики не приносили ему заработка: они обходились без всякой обуви. Те, кто был ему интересен и ценен, появятся позже – клерки, торговцы, менялы, посыльные, путешественники. Бородатый башмачник дотопал до арендованного у магистрата места, установил у ног ящик. Превратил его, откинув переднюю стенку, в верстачок. Остро пахнуло смолой и кожей. Вытащил из-под крышки складной стульчик, разложил его, сел. Слева от него шевелилась река и шевелила привязанные к кнехтам фелюги и шлюпки. Прямо – убегала к виднеющимся вдалеке мельницам широкая улица – набережная. Вправо тянулся, виляя, узкий и кривой проулок. Его место было на углу перекрёстка. Очень удобное. Не такое прибыльное, как на рынке, но и досадовать – нет причин.
Башмачник протерев рукавом верстачок, осмотрелся. В поле взгляда – никого, кто мог бы оказаться его клиентом. Он достал кусок парусины с налепленным на одной стороне комом чёрной смолы, тонкую конопляную верёвочку, и принялся натирать эту верёвочку смолой, превращая её в сапожную дратву. В его ящике было много мотков дратвы, но что сидеть без дела? Руки работают сами по себе – смолят каболку, глаза – сами: высматривают кого-нибудь с отвалившейся и хлопающей при каждом шаге подошвой.
Он сидел третий час без какого-либо, даже малого заказа, но не унывал: иногда так бывает. Полдня просидишь, но потом вдруг – один за другим…
Отвлёк его внимание медленно идущий вдали, по набережной, человек в чёрном. Башмачник видел, как люди торопливо склоняются перед ним в глубоких поклонах и, едва оказавшись за его спиной, стремительно исчезают, – прячутся в проулки и подворотни. Неприятный холодок прошёл по спине у башмачника, когда он угадал в приближающемся человеке юного инквизитора. Бояться, разумеется, было нечего, – и он, башмачник, и семья его – образцовые прихожане. Место на пристани у него законное, бумага от магистрата приятно шуршит за нагрудником. Налоги уплачены. И, не чувствуя за собой ничего предосудительного, башмачник не отводил глаз, наблюдал, как стремительно тает человеческий муравейник на пути молчаливого инквизитора.
И, когда инквизитор приблизился, башмачник увидел, почувствовал, понял, что этот юный служитель церкви до сердцевины костей пропитывается удовольствием, жгучей радостью от осознания собственного величия. Силы. Власти. Юноша в чёрном знал, что поспешно прячутся за его спиной люди, бегут на соседние улицы в немом страхе, и что каждый из них, без исключения каждый, выполнит приказание инквизитора, каким бы причудливым оно не оказалось.
Человек в чёрном дошёл до башмачника и остановился. Мастер, торопливо привстав, поклонился – но не спешил ни спрятать взгляд, ни убраться проворно куда-то в сторонку. Он был честен, открыт и понятен, и присутствие на пристани и его, и его большого ящика было законным. Но инквизитор с неподвижным лицом стоял и смотрел на него, и башмачник, снова привстав, ещё раз поклонился, но инквизитор всё смотрел и смотрел. Наконец, растерявшись, башмачник выбрался из-за своего ящика, встал на колени и поклонился глубоко, до земли. И, едва только он выпрямился после поклона, взгляд его наткнулся на протянутый в его сторону тонкий, чёрного дерева жезл с венчающим его вершинку белым крестиком, – прямым, ровненьким, неотвратимым.
– Вадэ мэкум! – сказал инквизитор.
И, повернувшись, пошёл в извилистый переулок. Башмачник не очень хорошо знал латынь, но самые общие фразы ему были известны. (Как не заучить их тому, кто исправно, день в день посещает церковную службу!)
Ничего поделать было нельзя. Бледный башмачник трясущимися руками собрал ящик, взвалил его на плечо и торопливо засеменил за удаляющимся инквизитором и за брошенными им короткими, равнодушными, чудовищными словами[25].
Следствие
Когда пришли в присутственный холл трибунала, башмачник был мокрым от пота. Тяжёлый ящик натёр плечо. Инквизитор, не обратив и тени внимания на пришедшего с ним, скрылся в дверях, ведущих в сам трибунал. А к башмачнику приблизился привратный служащий трибунала и молча указал ему на скамью. Поставив ящик у ног, башмачник сел на узкую, жёсткую доску и принялся ждать.
Минул час. Второй. Третий. На улице, за дверями отшумели шаги спешащих на обед торговых клерков – и их же, медленно возвратившихся в свои конторки. О пришедшем как будто забыли. Он сидел, не решаясь встать и походить, чтобы размять задеревеневшее тело. О том, чтобы спросить – что будет с ним, а тем более – отправиться домой – не могло быть и речи.
Прошло ещё два часа. Башмачник с тоской думал о том, как принесли ему сегодня деньги за ботфорты, и искали его, чтобы отдать – и не нашли. И отбыли обратно с деньгами. Придётся разыскивать теперь заказчика, тратить время.
Когда минула полночь, сидящий на узенькой лавке человек принялся себя утешать. Он тихо шептал себе о том, как хорошо, например, то, что он, щадя покой жены и детей, спал время от времени в чулане. Пусть она думает, что и сегодня он сделал так, пусть не беспокоится. Завтра он придёт и всё ей расскажет. Ведь к утру-то его должны отпустить!
Утро покрасило серым окна и стену напротив. На стене, над дверями, ведущими в трибунал, висела мраморная доска с врезанными в неё медными буквами: «Si ferrum non sanat, ignis sanat».
– Си феррум нон санат, игнис санат, – проговорил он вполголоса. – Что это?
Он спрашивал не у привратника, который был далеко и, кажется, незаметно дремал. Он вообще ни у кого не спрашивал, но ответ ему дали.
– «Что не излечивает железо – излечивает огонь».
Башмачник вздрогнул. Возле него стоял молодой инквизитор. Он вышел откуда-то из-за спины, а вовсе не из двери трибунала. «Тут, значит, много тайных ходов?» Но повёл он башмачника именно в эту дверь. «Игнис санат…»
Шли по длинному петляющему коридору и по ступеням, всё ниже и ниже. Идти было легко: ящик остался наверху, в присутственном холле. Он испытывал даже радость – и от того, что можно размять закоченевшее тело, и от того, что наконец-то всё выяснится.
Радость была недолгой. Они приблизились к невысокой, дубовой, окрашенной в синий цвет двери, когда дверь эта распахнулась и навстречу к ним вывалился… палач. Мокрый от пота, массивный, с волосатым выпуклым брюхом. Голову его закрывал традиционный острый колпак с двумя продолговатыми вырезами для глаз, и голова эта была сильно склонена набок: на плече у него лежал, безжизненно свесив руки, окровавленный человек. Палач тяжело шагал, придавленный ношей, но, как бы ему не было в тот миг неудобно, он, увидев своего инквизитора, отшатнулся к стене, пропуская господина вперёд, и даже изобразил почтительный кивок. Башмачник, стараясь не смотреть на окровавленную кожу принесённого палачом человека, прошёл поспешно в приоткрытую дверь.
Он оказался в подвале, освещённом огнём жаровни и факелами – один из этих факелов кто-то менял, встав на низенький табурет. Вдоль стены справа – столы с людьми в чёрном и кафедра. Слева – доски, верёвки, железные шипы, кнуты, свитые в кольца, клещи, жаровня. Лицо окатил резкий запах пота, угля, воды, дерева, крови.
– Назови себя! – послышался вдруг мерный голос.
Он торопливо повернулся в сторону голоса. Молодой инквизитор стоял за кафедрой, цепко взявшись тонкими пальцами за края её бортиков, и взгляд его был подобен предгрозовой мгле.
– Я – Йорге, башмачник, ваша милость господин инквизитор!
– Запишите, – сказал стоящий на кафедре, и кто-то из сидящих за столами поспешно заскрипел плохо очиненным пером, – Йорге, башмачник, обвиняемый в ереси.
– Ваша милость! – не удержался от вскрика всполошенный Йорге, – я никогда не был еретиком! Ни словом, ни мыслью… За десять лет не пропустил ни одной службы!
– Поклянись, – бесстрастно сказал допрашивающий, – что ты не еретик.
– Но как же, ваша милость… Ведь библия нам говорит – «не клянитесь!.. Ибо это – от лукавого!»
– Запишите. Обвиняемый отказался отрицать, что он еретик.
– О нет, нет, ваша милость! Я готов… Если вы приказываете… Я клянусь, что не еретик, и никогда им не был!
– Запишите. Обвиняемый нарушил требование библии «не клянитесь». Только что он доказал своё подпадение ереси мыслью и словом.
– Но как же так, ваша милость! Ведь я говорю только то, что вы мне велите!
– Ты должен признаться, что ты еретик.
Негромко скрипнула дверь. Тяжело ступая, вошёл палач. Подошёл к бочке, наклонился, с шумом и плеском смыл с себя чужую кровь, сел на плаху с воткнутыми в её края топорами.
– Как я могу признаться в таком страшном… Нет! Нет! Я не еретик!
– Запишите. Обвиняемый упорствует в признании. Ничего не остаётся, как применить к нему пытку.
– О, Господи, помоги! – заплакал и вскинул лицо к низкому каменному потолку дрожащий башмачник. – Я сознаюсь, ваша милость! Я сознаюсь. Я – еретик.
– Запишите. Обвиняемый сознался. Пытка его отменяется.
– Спасибо! Спасибо, господин инквизитор!
– Теперь тебе необходимо раскаяться, и тебя отпустят домой.
– Да, конечно! Как вы прикажете. Я раскаиваюсь в ереси. Я был еретик, но теперь я всецело раскаиваюсь.
– По закону великой святой инквизиции, раскаивающийся должен доказать свою искренность. А именно – назвать всех сообщников, – родственников, знакомых, соседей, – кто участвовал с ним в ереси или разделял его взгляды.
– Помилуйте!! Как же это?! У меня нет никаких сообщников!
– Запишите. Обвиняемый снова упорствует. Очевидно, что его раскаянье – ложно. Хуманум эст ментири[26].
– Прикажете начинать? – приподнялся со своего места палач.
– Готов ли ты назвать сообщников до того, как к тебе применят пытку? – обратился инквизитор к едва стоящему на ногах башмачнику.
– Я… Ваша милость… Готов. Только мне нужно вспомнить! Мне нужно вспомнить всех разделявших мои взгляды, чтобы не назвать случайно невинных. – (Йорге незатейливой смекалкой своей понял, что спастись здесь можно только лишь вооружившись тем же оружием, что и его мучители, и попытался-таки спастись): – Сколько, – медленно, слабым голосом спросил он, – еретику может быть предоставлено времени для того, чтобы он хорошо вспомнил всех?
– Всю свою жизнь еретик может и должен вспоминать о сочувствовавших или помогавших ему! – надменно провозгласил вдруг сидящий за столом человек, – единственный из присутствующих облачённый в партикулярное[27] платье.
(Стоящий на кафедре, не удержавшись, бросил в его сторону взгляд, полный ярости, презрения и досады.)
– То есть, время на это не ограничено? – Торопливо подхватил нужную мысль Йорге.
– Разумеется, нет.
– Тогда, – сказал, вытирая дрожащей рукой пот, башмачник, – отведите меня в камеру, добрые господа, и дайте перо и бумагу. Я буду старательно вспоминать.
– Запишите, – отчётливо скрипнув зубами, проговорил допрашивающий, – обвиняемый отправляется в камеру, чтобы составить список соучастников ереси.
И, порывисто шагнув с кафедры, вышел в дверь, – но не ту, через которую они недавно вошли, и на которую указывал теперь башмачнику один из инквизиторов, занявший руки свои листом чистой бумаги, пером и чернильницей, – а в другую, маленькую, почти незаметную в противоположной стене.
Сторож из ящика
Иероним вышел в соседствующий с помещением для допросов бывший винный подвал. Следом, почти сразу же, пришёл туда и глава трибунала Сальвадоре Вадар. Рассвет уже выбелил мерцающие высоко, под далёким потолком, узкие окна, и в подвале был мягкий рассеянный полумрак.
– Блистательный допрос, Иероним, – сказал Сальвадоре. – «Поклянись, что не еретик», – и при любом ответе становишься еретиком.
– Если бы не этот тупица – квалификатор! «Неограниченное время для составления списка сообщников»! Зачем он влез в ход допроса? Узнал бы у меня наглый башмачник, что такое палач. А так – будет сидеть в камере год, и два, и десять – и «вспоминать». Хотя… И в этом есть смысл. Пусть сидит до конца жизни.
– Ты сказал «наглый»? Что-то он мне не показался таким.
– Ни один человек на земле, – помедлив, ответил Иероним, – не должен иметь смелости смотреть в лицо инквизитору. И если кто-то не опускает глаз под моим взглядом – его немедленно нужно отдать палачу.
– А, так у вас свои счёты?
– Какие у меня могут быть с этим червём счёты? Пусть гниёт в камере. Я уже забыл про него.
Они сделали несколько гулко прозвучавших под потолком неторопливых шагов. Остановились между колоннами. Пол здесь был разлинован кистью с известью на ровные небольшие квадраты.
– Ярд на ярд, – задумчиво сказал Сальвадоре. – В такой каморке только стоять.
– Или полусидеть, упираясь в камень спиной и коленями. Каждая минута в каморке для заключённого будет мучением. Через пару дней любой признается в ереси. И хотел бы я посмотреть на того, кто продержится хотя бы неделю.
Сальвадоре уважительно покивал. Сообщил, что известь, песок и кирпич станут вносить в подвал уже сегодня. Иероним улыбнулся одной стороной рта.
Дошли до «секретнейшего» кабинета. За дверью – сверкающая чистота, образцовый порядок. Столы и диваны выкрашены поблёскивающим чёрным лаком. На жёстких сиденьях диванов – длинные бархатные мягкие тюфячки. На столах – высокие ровные столбики чистой бумаги. Дверца железного шкафа закрыта и заперта на замок.
Сальвадоре сел на малиновый тюфячок, с наслаждением вытянул ноги. Иероним отпер дверцу. Глава трибунала непроизвольно вытянул шею. В шкафу, в среднем отделении, блестели золотым блеском сложенные в столбики монеты. Много, весьма много денег. Когда молодой помощник успел? А помощник потянулся к верхнему отделению и достал с полки две толстые конторские книги.
– Просмотрите, падре, – сказал он, – если интересуетесь, сколько денег внесли в фонд трибунала соседи мельника Винченцо Кольери. Учтено всё до гроша. Я брал и ад усум проприум[28], – и это тоже указано.
Сальвадоре взял книгу, раскрыл. А его юный помощник запустил руку и в нижнее отделение шкафа, и вытащил оттуда на свет объёмный плетёный из ивы короб с кожаными ремнями. Разъял пряжку, раскрыл верхние полудверцы. Выставил на стол несколько бутылок вина, золочёное блюдо с нарезанным сыром, хлеб, горшок с острым соусом, пучок зелени – лук с петрушкой.
– Сыр подсох, – сказал он. – Самый лучший вкус – у подсохшего сыра.
– Таким образом, – сказал, не обращая внимания на изысканный завтрак, Вадар, – эти деньги не учтены ни в епископской канцелярии, ни в нашей?
– Именно так.
– И что же, я, например, могу взять отсюда для собственных нужд?
– Если я, падре, – сказал негромко Иероним и протянул главе трибунала второй ключ от дверцы шкафа, – увижу однажды, что денежная полка пуста, то буду считать, что недостаточно расторопно работаю.
Оба легко и радостно рассмеялись.
– Епископ действительно удвоил налоги в трёх провинциях, – сообщил, намазывая соус на хлеб, Сальвадоре. – Ты был прав. Мой заклятый друг залез в мышеловку.
– Скоро залезет и во вторую, – принимая от Сальвадоре соус, сказал Иероним.
– Какую? – немедленно поинтересовался Вадар.
– Я приготовил ему блюдо со сладеньким ядом. Очень скоро мы сможем обвинить его в нарушении целибата.
– Епископа? О, нет. Он никогда не нарушит целибат. Никогда он не подойдёт ни к одной женщине. Его должность для него слишком дорога. А женщины – слишком болтливы.
– Да? – задумчиво поинтересовался Иероним. – Даже те, которых наутро сжигают на площади, завязав предварительно рот?
– Ты имеешь в виду… – Вадар перестал жевать и сидел, вытаращив глаза.
– Ну да. Некоторые допросы самых юных и самых красивых ведьм. Те допросы, которые ведут посвящённые в их секрет сотрудники трибунала. Проверенные, старые сотрудники. Такие, как Марцелл, или Гуфий.
– Откуда ты знаешь про это?!
– Деньги, падре, развязывают многие языки. А деньги, как видите, у нас есть. Нет пока только подходящей ведьмы. Чтобы была замужней, молодой и очень красивой. Мы ведь имеем право пригласить на один из допросов епископа? Для, так сказать, ознакомления?
– Да-а, – протянул Сальвадоре. – Хватка у тебя… волчья.
– Куа номинор люпус[29], – снова сдвинув в улыбке одну сторону загорелого лица, ответил Иероним.
Они закончили завтрак. За дверью послышался шум. Иероним выглянул.
– Каменщики пришли, – сообщил он. – Быстро магистрат прислал каменщиков.
– Однако, пора спать, – сказал, подойдя с заскучавшим лицом к раскрытому шкафу, Вадар. – Целую ночь – допросы, допросы… – Он протянул руку, взял, насколько поместилось в ладонь, золота, опустил взятое в карман, и взял ещё раз. Спросил, не глядя на Иеронима: – Ты идёшь спать?
– Чуть позже, – сказал молодой инквизитор, также подходя к шкафу.
Он засунул руку в самую глубину среднего отделения, вытянул на свет длинный столбик монет, завёрнутых в плотную бумагу, и протянул эту тяжёлый цилиндр, как бы между делом, Вадару. Повторил, вздохнув:
– Чуть позже. Немного ещё поработаю.
Вадар торопливо, чтобы скрыть неудержимый румянец жгучего удовольствия, взяв золотой брикет и спрятав его в рукав, шагнул за дверь.
Когда он удалился, Иероним, выждав несколько минут, подошёл к двери, притянул её плотно и задвинул плоский, широкий, блестящий от масла железный засов. Потом вернулся к шкафу, достал из кармана изогнутый каким-то хитрым коленом ключик с гранёным сечением на конце, отправил этот ключик в недра нижнего отделения и, клацнув в невидимой скважине, стал вращать ключ за коленце. Передний камень в пьедестале, на котором стоял шкаф, дрогнул и стал выдвигаться наружу. Плоская каменная пластина, привинченная к лицевой стороне железного ящика, вышла в комнату почти на пол-ярда. Иероним запустил руку в ящик и, поднимая на свет, стал рассматривать находившиеся в нём предметы. Серебряные и золотые, с самоцветными камнями, браслеты и ожерелья, табакерки, медальоны, перстни; большой золотой крест на длинной цепочке с четырьмя сверкнувшими алым рубинами на концах и огромным, высвечивающим чистой глубокой зеленью изумрудом в центре. Достал несколько запечатанных в плотную бумагу монетных столбиков – гораздо длиннее чем тот, который вручил совсем недавно Вадару. Достал несколько кожаных кошелей. Достал длинный кинжал с огромным рубином на эфесе и ослепительной игрой брильянтов по всей длине рукояти. Достал тонкостенный золотой кубок с четырьмя овальными вставками – картинами из эмали, – искусными и тонкими настолько, что не верилось, что созданы они рукою смертного человека. Достал три нитки крупного жемчуга. Достал старинный королевский золотой знак на цепи. И, наконец – вспыхнувший меловым бледным светом гладкий человеческий череп.
Встал, вытянул перед собой руку с черепом, нижняя челюсть которого была прикреплена к основной кости грубо сработанными стальными скобами. Всмотрелся в чернеющие пустые глазницы. Взволнованно проговорил:
– Здравствуй, бывший кузнец, страж сокровищ! Прими ещё раз благодарность за то, что нашёл секрет этого шкафа. И за то, что сумел сделать новый ключ. Ты не обижаешься на меня, что сжёг тебя без головы? Не обижайся. Ведь ты теперь – страж сокровищ. Посмотри, какая вокруг тебя красота! И это только начало. Если б ты только знал, что обнаруживается время от времени в тайниках домов разоблачённых в ереси богачей! Скоро ты будешь хранить гору сокровищ. Целые сундуки, а, быть может, и целые комнаты! – И вдруг, дёрнув углом рта, прошептал: – а может быть, и дворцы.
Он стоял, смотрел на белеющий в его руке череп, венчающий игру камней и блеск золота, и загорелое лицо его от волнения вдруг сделалось бледным. Оно было бы гордым, если бы примешанное к гордости самовлюблённость не делало его заурядно надменным. Он казался себе существом неукротимым, всесильным, сверкающим, небывалым. Да, он умней и удачливей всех живущих рядом. Он молод. Поэтому его сегодняшние успехи – ничто по сравнению с тем, что вскоре явят миру его мудрость и его сила. Да здравствует инквизиция.
Esse femina
В провинцию, где увеличили налоги, и где случились (хотя и не такие сильные, как ожидалось) волнения, отбыл сам глава трибунала Вадар. Его юный помощник решил, что в его отсутствие заманить епископа в приготовленную ловушку будет гораздо легче. Иероним пригласил епископа на ночной допрос ведьмы, и тот пришёл, и был исполнен неподдельного любопытства.
Епископ мало что знал о регламентах трибунала, но флёр таинственности и мрачных слухов завораживал, и он с охотой принял игру с секретными правилами и загадочными ритуалами.
Он прибыл на допрос не в своих раззолочённых одеждах, а в длинном чёрном плаще с лиловой подкладкой (хвост плаща тянулся за ним, словно шлейф платья за приехавшей к балу аристократкой) и в чёрной бархатной полумаске. Служители трибунала, зная, кто к ним придёт, приготовили мягкое глубокое кресло. Епископ грузно вдавился в него, повозился, устраиваясь и, изнывая от любопытства, стал нервно стучать носком выглянувшей из-под кромки плаща атласной туфли.
Казалось, он перестал дышать, когда палач привёл обвиняемую в ереси женщину и, не тратя попусту время, содрал с неё всю одежду. Секретарь трибунала равнодушным и немного гнусавым голосом спросил её имя. Женщина, дрожа, закрываясь согнутыми руками (худые острые локти бледными клиньями поднялись в сторону сидящих за столами), назвала себя.
– Запишите, – сказал инквизитор, ведущий допрос, – обвиняемая прячет от нас тело, скрывая возможную метку дьявола на нём.
Женщина торопливо опустила руки и зашлась в немом плаче.
– Запишите, – сказал тот же голос, – обвиняемая сильно дрожит, что несомненно говорит о страхе разоблачения.
– Я просто боюсь! – выкрикнула вдруг женщина. – Боюсь палача, и огня, и железа! Ночь, меня взяли от мужа, дети мои плачут, а я здесь одна, и мне страшно!
– Запишите. Обвиняемая близка к раскаянию.
Женщина без сил опустилась на каменный пол. Оперлась на руку. Лицо её закрыли упавшие спутанной пелериной длинные чёрные волосы.
– Мы имеем показания свидетеля, – неторопливо, растягивая гнусавые звуки, стал читать какую-то бумагу допрашивающий, – что во время вступления со своим мужем в супружескую связь ты издавала нечеловеческие звуки: мяукала, словно кошка, и шипела, словно змея. Отвечай: не оборачивалась ли ты демоном-суккубом, который похищает у мужчины его силу?
– Кто этот лживый свидетель? – всхлипывая, отозвалась женщина. – Всю нашу жизнь мы с мужем спим одни в комнате, и никто не мог нас ни видеть, ни слышать.
– Мы не ведём речь о возможности видеть, напрасно ты пытаешься сбить нас с хода допроса. Мы говорим о звуках. Их вполне мог кто-то услышать, подойдя ночью к окну! Или ты дерзнёшь утверждать, что наши подозрения не имеют основы? Отвечай: мог кто-либо слышать, или не мог?
– Слышать… мог. Но и сделать ложный донос тоже кто-нибудь мог! Мало ли есть лживых людей! Или жадных! Ведь если вы обвините меня, то всё наше имущество отнимут, а доносчик получит десятую часть! Как можно верить?..
– Так вот мы и имеем намерение установить истину. Ты должна доказать, здесь и при нас, что не издаёшь нечеловеческих звуков во время супружеских отношений.
– Но что же вы такое говорите? – женщина, стоя на коленях, выпрямилась. – Вы хотите привести сюда моего мужа и заставить нас… То, что люди скрывают всегда…
– О, это было бы слишком просто. К сожалению, в момент оглашения обвинения, твой муж безусловно стал свидетелем по твоему делу. И во избежание сговора между вами мы не можем допустить вашей встречи.
– Но как же вы хотите узнать… Если здесь не будет моего мужа?
– Как и всегда в таких случаях. Эту трудную и утомительную обязанность выполнит палач.
Женщина, вскинув к груди испуганно руку, вдруг уронила её, словно плеть, и обмякнув, повалилась сама на холодный каменный пол. Палач поднялся с колоды, не спеша подошёл и толстыми, почерневшими от засохшей крови верёвками привязал женщину к скамье. Епископ, громко сглотнув слюну, наклонился к сидящему рядом Иерониму и спросил:
– А если палач утомится, а она не зашипит змеёй, – допрос будет отложен?
– Нет, – строго ответил молодой инквизитор. – Его тут же заменит кто-то из нас. А потом – ещё кто-то. Не будем же мы прерывать такой важный допрос!
– А… – понизил голос до шёпота епископ, – … не может ли случиться так, что и мне придётся участвовать в допросе?
– Только без свидетелей, – искоса, со значением взглянув на прячущего под маской раскрасневшееся лицо собеседника, произнёс Иероним. И так же тихо добавил: – Вадэ мэкум.
Он встал и вышел в соседствующий с трибуналом винный подвал. Епископ поспешно последовал за ним.
В подвале ярко горели факела, и они освещали ровные невысокие ещё ряды начатой каменной кладки, и бесформенные серые кучи камня, бочки с известью и песком – и широкую, длинную скамью с пронзительно белеющим на ней женским телом. Женщина была привязана так же, как и та, за стеной, к которой подступил не снявший своего колпака трудолюбивый палач.
На звук шагов женщина повернула лицо, и на нём блеснули тонкие полосы. «Она плакала!» – понял епископ, и сердце его уколола невидимая сладостная игла.
– Мы не застали вашего мужа дома, – сказал, подойдя к женщине, Иероним. – Он, узнав об обвинении, выдвинутом против вас, должно быть, сбежал. Но, чтобы решить – сжечь вас утром или отпустить, мы должны закончить допрос! Так что супружескую обязанность возьмёт на себя палач трибунала, или наше доверенное лицо.
Епископ узнал эту женщину. Молодая супруга очень богатого и влиятельного в городе человека. Он очень часто видел их обоих на своих проповедях, и ослепительная красота её каждый раз заставляла бешено колотиться его такое ещё не старое, такое сильное ещё сердце. И вдруг – вот она, в его полной власти, и как будто закона о целибате он не нарушает: каждый католик в меру своих сил обязан содействовать святой инквизиции! Кровь молотами стучала в его висках, пальцы, скрючившись, хищно подрагивали.
– Эссэ фемина[30]! – сказал, ободряюще тронув епископа за рукав, Иероним, и повернулся, чтобы уйти.
Но епископ вдруг торопливо шагнул ему вслед и зашептал:
– А свидетелей в самом деле не будет? Сюда никто не войдёт?
– Никто без моего ведома, – с металлической ноткой в голосе отчеканил помощник главы инквизиторского трибунала.
– А она? Она потом никому не расскажет?
– Её сожгут завтра утром на аутодафе. Или послезавтра – если ваше преосвященство пожелает ещё раз провести с ней допрос.
– Но… Но она, когда пойдёт на костёр, может увидеть мужа в толпе, или родственника, и крикнуть им!
– Ведьм всегда и везде сжигают, предварительно крепко завязав им рот, – снисходительно напомнил Иероним. – Чтобы они не могли призвать на помощь бесов, которым служили.
– Это разумно, – вполголоса проговорил епископ, провожая Иеронима и закрывая за ним дверь. – Предусмотрительно и разумно.
Аутодафе
Перед самым утром епископ вышел в помещение трибунала. Он был мокрым от пота, хотя и не выглядел утомлённым. Подошёл к креслу, сел. Спросил Иеронима:
– Вы с вашей обвиняемой – что же, ещё не закончили?
– Закончили. Вон, палач отвязывает.
– И что? Она шипела змеёй?
– Да. И мяукала кошкой, и лаяла собакой, и даже свиньёй хрюкала. Хитрая ведьма думала, что таким образом она добьётся прекращения допроса.
– Признана ведьмой?
– Разумеется. Вот протокол.
– Сожгут?
– Сегодня же.
– А та, за стеной… Ни звука не издала. Её сожжение можно как-нибудь отложить? Чтобы завтра можно было продолжить допрос?
– Нет ничего проще. Отложим.
Палач освободил лодыжки и запястья “ведьмы” от набухших от крови верёвок. Голова женщины мягко, как будто не имела шеи, упала на бок. Уставились на епископа огромные, в расплывшихся по глазницам чёрных кругах, невидящие глаза. Она, с трудом разлепив искусанные губы, тихо спросила:
– Я… ведьма?..
– Да, – вместо епископа коротко ответил палач.
– И… Сожгут?..
– Сожгут.
– Но ведь я призналась! Можно меня… сжечь… не живую? Я знаю, так делают! Можно?!
– Удавить, что ли, перед костром? – уточнил утомлённый палач.
– Да! Да! Удавить!
– Конечно, удавим. Мы же не звери.
Женщину несколько раз облили холодной водой. Поставили на ноги. Натянули через голову позорное одеяние – “санбенито”. Связали спереди руки (грубая волосатая верёвка снова сдавила растёртую до крови кожу). И, с силой оттянув книзу челюсть, вдавили в рот кляп. Палач, взявшись за верёвку, пошёл к выходу, и потянул, и разоблачённая ведьма, шатаясь, заковыляла за ним.
Вставшие из-за своих столов работники трибунала достали из стольных тумб кувшины с вином и стали пить. Им необходимо было восполнить силы – позади была бессонная ночь, а впереди – полный непростых забот день. Они выпили, достали и принялись разматывать белые длинные балахоны. Облачились в них, став одинаково похожими на зловещие привидения, и потянулись к выходу.
На улице, возле здания трибунала, их уже ждали. «Священная милиция» в таких же белых торжественных балахонах, «родственники» в дорогих и нарядных одеждах. Разного пола и возраста, отличающиеся особым рвением прихожане. Двое высокого роста «милиционеров» держали поднятые над головами зелёные штандарты инквизиции. Четверо осуждённых на казнь – трое мужчин и только что разоблачённая ведьма, стояли привязанными друг к другу. В руках у них были зажжённые, зелёного цвета свечи.
Все заняли определённые регламентом места – и процессия медленно двинулась вдоль по улице.
Выстроенные в две колонны (между которыми шли осуждённые) участники процессии грозными и правильными голосами затянули траурный гимн. В домах, мимо которых они проходили, раскрывались окна и заспанные горожане, высовываясь в них до пояса, громко выкрикивали в адрес осуждённых проклятия и насмешки. Фискалы зорко высматривали – не останется ли какое окно нераскрывшимся, или не молчит ли показавшийся в нём человек.
Процессия шла очень медленно, – не быстрее, чем измученные осуждённые ковыляли на своих слабых ногах. В перерывах между гимнами участники процессии громкими голосами призывали осуждённых раскаяться.
Дошли до кафедрального собора Массара. Здесь возвышалась затянутая дорогой тканью трибуна. Светские и духовные власти, а так же именитые гости города уже занимали места. Перед трибуной стояла выкрашенная в чёрный цвет позорная лавка. Снизу в лавку были часто набиты острые гвозди, и их острия на четверть дюйма торчали из сиденья. На лавку, лицами к трибуне, усадили четверых осуждённых. Палач и работники магистрата сооружали за их спинами «жаровню» – костёр с четырьмя столбами. Один из инквизиторов, встав на принесённую кафедру, принялся громко, на латыни, читать приговор. Закончив, он махнул рукой палачу, и осуждённых потянули к столбам.
Когда зажгли огонь, деловитый палач, отворачиваясь от дыма, обернул шею ведьмы верёвкой и сильно затянул. Дым ел глаза, и он не стал дожидаться, когда женщина умрёт. Он завёл концы верёвки за столб, затянул узлом и поспешно спрыгнул с помоста. Мимо него к помосту торжественной чередой шли знатные люди города и, украдкой посматривая на белеющую грозными балахонами компанию инквизиторов, бросали в огонь политые маслом сухие сучья. Палач, поправив съехавший набок колпак, совместил прорези в нём с глазами и посмотрел наверх, на ведьму: «нет, не шевелится. Удавлена, как и было обещано. Мы люди честные».
Глава 11 Трон палача
«Если невиновный несправедливо осуждён, он не должен жаловаться на решение церкви, которая не может заглядывать в сердца, и, если лжесвидетели способствовали его осуждению, то он обязан принять приговор со смирением и возрадоваться тому, что ему выпала возможность умереть за правду.»
(Николас Эймерик, «Руководство для инквизиторов»)Поездка в Рим
Иероним и Вадар всеми силами старались не показать, что они единомышленники, немые ваятели коварного замысла. Свои нередкие собеседования глава трибунала и новичок-инквизитор преподносили так, что Вадар старается держать поближе к себе, «на глазах» этого подающего большие надежды, этого опасного и умного ставленника епископа.
Чтобы иметь возможность для тайных бесед, Вадар назначил Иеронима ответственным за постройку новых тюремных камер. Юный Люпус всё свободное от допросов время проводил в громадном подвале, и Сальвадоре, время от времени входя туда под благовидным предлогом инспектирования работ, неизменно находил там своего помощника. Они разворачивали свёрнутые в толстые тубы планы и чертежи, с озабоченными лицами всматривались в них и, торопливо шагая, удалялись в кабинет-конторку. Там, закрыв дверь, они откладывали праздные бумаги в сторону и неторопливо обсуждали события и строили планы.
Была проблема: епископ собрал единовременно налог с трёх провинций, компенсировал крестьянам их потери льготами за счёт местных магистратов, и снизил размер податей до прежнего уровня. Так что и волнений особенных не случилось, и денежки в кассе епископа зазвенели. Первый этап смертельной необъявленной схватки завершился вничью.
– Нужно изменить план! – сказал Иероним Вадару в одну из встреч. – Епископ оказался смышлён более, нежели мы ожидали. Или он догадался о том, как мы предполагаете воспользоваться волнениями в провинциях, или его предупредили. Кроме того, он не явился в подвал на повторный допрос понравившейся ему «ведьмы» – и именно тогда не явился, когда я укрыл в подвале Марцела и Гуфия, будущих свидетелей нарушения им целибата. Определённо, среди нас есть его агент.
– Что же можно теперь предпринять? – спросил тревожно Вадар. – С моими врагами я всегда поступал одинаково: обвинение в ереси – и костёр. С епископом это проделать – нельзя и мечтать. Что же теперь – ждать, когда он совершит ещё какой-нибудь промах?
– Нет. Ждать больше не будем. Зачем, когда у нас имеются деньги?
Иероним подошёл к шкафу, открыл дверцу. Указал на два тускло поблёскивающих куба, составленных из монет – серебряных и золотых.
– А как можно использовать эти деньги? – спросил, суетливо потирая ладони, Вадар.
– Вам нужно отправиться в Ватикан.
– Мне?!
– Именно. Лично приехать в Ватикан, лично предъявить увеличенный втрое денежный сбор. И ждать.
– Чего?
– Когда умрёт кто-нибудь из чиновников Ватикана. Они почти все – старики. Мрут как мухи к зиме. И, как только освободится должность – пусть самая распоследняя, вздорная – нужно немедленно дать взятку тому из прелатов, кто занимается назначениями.
– Взятку за что?
– За то, чтобы на освободившееся место назначили нашего епископа. В качестве повышения. Это только громко звучит – перевод в Ватикан. А должность может быть самая убогая. Но пусть наш епископ узнает об этом уже на месте, когда ничего нельзя будет изменить.
– Но одновременно мне нужно будет заплатить за назначения…
– Совершенно верно. Одновременно: назначение в Ватикан епископа, назначение вас на его место, и назначение меня – на ваше.
– Много денег потребуется…
– Берите всё. Розыск еретиков среди принявших католичество иудеев даёт неожиданно прекрасные результаты. Так что вослед вам я пошлю ещё гонца с золотом.
– Но… Папа может не подписать назначение епископа на какую-нибудь блошиную должность!
– А взятка? Прелату, ведающему назначениями, дают деньги за знание того, когда и в каких обстоятельствах подсунуть Папе бумаги на подпись.
– Разумно.
– Разыщите в Ватикане нашего аббата Солейля, если он ещё там, возьмите на себя все его расходы, окажите покровительство. Он будет запасным вариантом: ведь, по слухам, Папа ему… не чужой.
– Да-да, это мне известно. Когда ехать?
– Немедленно. Епископ не догадывается. Деньги – вот они. Чего ждать?
И глава инквизиторского трибунала Массара Сальвадоре Вадар с необъяснимой для всех поспешностью отбыл куда-то. Своим заместителем он оставил – опять же необъяснимо – новичка-инквизитора, епископского ставленника Иеронима. Самоличное же прибытие Вадара в Ватикан должно быть для священной канцелярии оправдано и понятно: трибунал собрал с еретиков тройную денежную контрибуцию, и его глава пожелал воспользоваться этим для какой-то собственной выгоды.
Секретные узники
Если в дом придёт бессовестный гость, а хозяину в это время придётся срочно уехать по чрезвычайному делу – чем займётся гость в его отсутствие?
Иероним, оказавшись полновластным распорядителем маленькой чёрной империи Массара, до дрожи в руках возжелал облазить все закоулки принадлежащих трибуналу зданий и помещений, отпереть все замки, войти во все архивы, во все склады, во все казематы. О, как сладко сунуть нос в скрытые, оберегаемые, притягательно-жгучие тайны, – может быть, – к слову, – весьма полезные.
Исполняющий обязанности главы трибунала занял отделанный с мрачноватой тяжёлой роскошью кабинет, и на первую аудиенцию вызвал к себе брата Марцела. Тот, почтенный и заслуженный инквизитор, торопливо пришёл, и прятал перед мальчишкой глаза, и кланялся.
– Ты ведаешь имуществом трибунала? – спросил его Люпус.
– Я ведаю, брат Иероним, – с готовностью ответил Марцел.
– Принеси мне чертежи и планы всех помещений. Полный реестр, включая чердаки и подвалы.
Ни словом, ни жестом не выразив ни удивления, ни протеста, Марцел проворно принёс большую гору бумаг. Юный наместник жадно схватил их и стал торопливо просматривать. От изумления он непрестанно приподнимал брови – много, очень много оказалось во владении трибунала недвижимого имущества. Время текло, а он всё изучал, и неподвижно и немо стоял поодаль старый заслуженный инквизитор.
– Что это? – вдруг поднял голову Иероним.
Марцел сделал шаг, оставаясь на приличествующем расстоянии, вытянул шею.
– Подвал под подвалом, – сказал он, всмотревшись.
– Где это?
– Здесь, внизу. Под помещением для допросов.
– Я нигде не видал, чтобы туда был где-нибудь ход.
– Это секретный ход. Он скрыт в стене.
– И что там находится?
– Там, можно сказать, личная тюрьма Сальвадоре Вадара. Там содержатся по настоящему опасные еретики.
– Вот как? И сколько?
– На сегодняшний день – два человека. Старик и старуха.
– По настоящему опасные? – с иронией уточнил юный наместник.
– Да. Колдун и ведьма. Закованы в цепи.
– Повидал я уже и ведьм, и колдунов…
– Эти – особенные.
– Да? И чем же?
– Старуха предсказывает опасные события. Однажды, когда я был у неё с Сальвадоре, она потребовала от Вадара не ходить в полдень по одной из улиц – а он как раз там собирался пройти.
– И что?
– Настал полдень, и по этой улице понесла вдруг взбесившаяся лошадь, и повозка её моталась из стороны в сторону и сметала всё на своём пути. Было покалечено много людей. И это только один случай, о котором я знаю, а Сальвадоре знает много таких.
– Хорошо. А колдун?
– Он лечит любые болезни. Кого бы ни приводили или не приносили к нему – после его колдовства человек вставал совершенно здоровым.
– И колдун делает это с готовностью, не смотря на то, что сидит на цепи в тёмном подвале?
– Это так. Для него каждый такой случай – своего рода праздник: перед колдовством он требует, чтобы его на день выводили на солнце.
– И это все его чудеса? Где же опасность?
– О, она есть! На допросах он говорил ужасные вещи – и про церковь, и про королей, и про Папство, и про инквизицию – и так говорил, что к нам приходила уверенность, что всё им сказанное – гнетущая правда.
– Где?! Где протоколы его допросов?
Иероним, непонятно почему, вдруг ощутил небывалую смесь чувств – острейшего любопытства и – такой же пронзительности – необъяснимого страха.
– Их нет. Как и самих заключённых – то есть они имеются, но ни в каких отчётах о них не упоминается. Протоколы допросов… В личном ведении Вадара. В архив они никогда не поступали.
– Я хочу видеть этих двоих.
– Не… Невозможно… Уже много лет к ним входит только Вадар, и лишь у него имеется ключ…
– Но сейчас Вадар уехал. Кому-то он должен был передать ключ? Ведь этих двоих как-то кормят?
– Да. Ключ он передал брату Гуфию. Но если он узнает, что я рассказал…
– Не узнает.
В тот же день Иероним, укрыв предварительно на груди украшенный драгоценными камнями кинжал, подошёл к брату Гуфию. Тот, торопившийся куда-то по неизвестным делам, глубоко поклонился, умерив поспешность шагов, но Иероним, слегка приподняв руку, остановил его.
– Наш Сальвадоре, – доверительно снизив голос, сказал наместник, – поручил мне время от времени навещать двоих узников в подподвальном подвале.
Гуфий растерянно вскинул глаза, собираясь что-то произнести, но Иероним не позволил.
– Возьми ключ, – твёрдо сказал он, – и иди к тайной дверце.
Не смотря на спрятанный под одеждой кинжал, Иероним чего-то очень боялся. Следствием его необъяснимого страха стало то, что он позвал с собой и Гуфия, и Марцела, и палача.
Гуфий, подойдя к одному из закоулков в стене ведущего в подвал коридора, нерешительно остановился. Он, нервно сжимая в руках ключ, сказал временному главе трибунала:
– Секрет входа знают лишь трое: я, Марцелл и его светлость Вадар. Теперь приходится посвящать, кроме вас, ещё палача? Но Сальвадоре при мне сокрушался, что о тайной двери знают и без того слишком многие. Глава трибунала мне не разрешал…
– Брат, помолчи, – прервал его Иероним. – Узнай, если ещё не знаешь: глава трибунала – перед тобой.
– Верить ли мне своему слуху?! – отшатнулся испуганный инквизитор. – Сальвадоре Вадар умирать пока что не собирался! И папского указа о снятии его с должности главы трибунала…
Молодость – синоним неосторожности. Поэтому, опережая события, Иероним надменно сказал:
– Вадар был главой трибунала. Теперь он – массарский епископ.
Гуфий открыл от изумления рот, постоял так секунду, но, спохватившись, клацнул зубами, нервно облизал пересохшие губы и глубоко поклонился. Изобразил на лице сначала изумление, потом восторг, подошёл к стене, привстал на носки, поднял руку вверх, вытянул из щели между камней деревянную, с обелённым торцом пробку, и вставил в открывшееся отверстие ключ. Повернул. Потом подошёл к кладке и привалился плечом. Прямоугольная, в рост человека часть стены дрогнула и стала отворяться, как настоящая дверь. Пахнуло плесенью и тёплой влагой. Палач, сверкая сквозь прорези колпака белками глаз, зажёг три факела и подал инквизиторам. Гуфий, указывая дорогу, пошёл первым.
Вытертые в серединах узкие каменные ступени вели круто вниз. Иероним, ступавший последним, закрыл нижнюю часть лица краем одежды, спасаясь от копоти факелов.
Сделали несколько поворотов. Стеснились в небольшом, как раз на четырёх человек, квадратном холле. Сбоку в его стене была дверца с узким окошечком. Лязгнув задвижкой, Гуфий толкнул дверь и шагнул в клуб тёплого звериного запаха.
Вошёл и Иероним.
Личная тюрьма Вадара была довольно просторной. Слева и справа виднелось по три двери небольших камер. Все шесть дверей были распахнутыми. В пляшущем свете факелов проступили ржавые бугры старинных запоров.
Обитателей тюрьмы действительно было двое. Справа, прикованная цепью к стене, сидела костлявая, в бурых лохмотьях старуха. Напротив неё, на такой же цепи, привставая с кучи соломы, щурился и мигал на свет факела огромного роста белобородый старик. Всё пространство вокруг него было завалено россыпью белых костей.
– Еду принесли? Еду принесли? – заскрипела каким-то жестяным, нечеловеческим голосом старуха.
Встав на четвереньки, она, словно паук неожиданно ловко метнулась в сторону пришедших. Иероним, пронзённый иглой необъяснимого ужаса, отдёрнул ногу и пошатнулся, но ужас вдруг сменился странным ощущением разгульного охотничьего азарта, – хмельной дикой радости, и симпатией к старухе, и как бы даже родства.
– Плохую еду приносят! – скрипела, отброшенная назад натянувшейся цепью, старуха. – Плохую! Совсем без костей! Костей мало!
– Зачем же тебе, бабушка, кости, – вдруг звонко спросил, растягивая рот в улыбке, Иероним.
– Она их в старика бросает! – сообщил, кивнув в сторону старика, Гуфий. – Ох, ненавидит она его! Мы ей иногда нарочно мослы потяжелее даём. Дать мосол, ведьма?
Он объяснял, явно подсмеиваясь над старухой, явно дразня, и было видно, что это – игра, представление, давно разыгрываемое между узницей и приносящим ей еду инквизитором; но сейчас старуха почему-то не обращала внимания ни на забавляющий Гуфия ритуал, ни на самого Гуфия. Она, снова встав на четвереньки, тянула, тянула полуослепшее лицо своё в сторону звонкого голоса, который назвал её «бабушкой».
– Ты-ы! – вдруг визгливо выкрикнула она. – Ты пришёл! Мой владыка! Сколько лет я ждала тебя! Сколько лет!
Она была необъяснимо страшна.
– Сумасшедшая, – испугано отшагивая, буркнул палач.
Старуха же, склонившись в глубоком – лбом до пола – поклоне, крестом раскинула руки, и потом, когда привстала на коленях, её тень в свете факела легла на пол и дальнюю стену таким же громадным крестом, – и увидел вдруг Иероним, почудилось ему на короткий, мучительный миг, что отслаивается от пола и встаёт как будто не тень, – не тень, а контур огромной, с торчащими из лба в стороны рогами человеческой головы. Голова пошевелилась, – и вдруг две чёрные искры в осколках междукаменных выбоин сверкнули в сторону юного инквизитора живым, осмысленным, ужасающим взглядом.
Иероним, едва не завопив, повернулся и побежал. Вывалившись в сумрак холла, он трясущимися руками отыскал проём ведущего наверх коридора и, спотыкаясь, полез по ступеням. Он ковылял, кашляя от поднятой им пыли, а в спину бил надтреснутый визг:
– Не уходиии!! Не уходиии!!
С белым, как известь, лицом, не помня себя прибежал Иероним в кабинет Вадара и заперся там, и сидел до ночи, вспоминая все подробности страшной, притягательно-страшной встречи и спрашивал сам себя – что же именно так его напугало?
Еретик
Ему нужно было если не оправдать перед спутниками своё бегство, то уж как-нибудь объяснить. Но нужно ли? С какой стати? Разве он обязан давать им в чём-то отчёт? Иероним решил поступить проще: вести себя так, как будто ничего и не произошло. Кто посмеет его о чём-то спросить?
Он вызвал в кабинет Марцела и, как ни в чём ни бывало, поручил ему доставить для ночного допроса этого долговязого старика. (Кроме удовлетворения любопытства, вызванного рассказами о его способностях, Иероним предполагал выспросить всё, что можно о так напугавшей его ведьме.) Однако Марцел решился – не воспротивиться ему, конечно же нет – а посомневаться:
– Этот старик смущает умы, – сказал он торопливым полушёпотом, – и Сальвадоре Вадар приказал в своё время не допрашивать его ни при каких обстоятельствах! Однажды я присутствовал на таком допросе – и потом несколько ночей кряду не спал! Колдун говорил вещи мучительные, лишавшие меня сна! Он опасен!
– Да, я это знаю, – бесстрастным голосом ответил Иероним. – Но я так хочу.
Марцел, поклонившись, удалился из кабинета, а уже через четверть часа молодого главу трибунала уведомили, что всё к допросу готово.
В первые же минуты допроса оказалось, что старик являет собой незаурядность даже большую, чем поведал о ней Марцел. В эти первые минуты Иероним испытал неожиданное ощущение собственной малозначительности. Почувствовал, как спадает с глаз флёр личной мудрости и всесилия, и на смену ему с поразительной готовностью приходит понимание эфемерности своей власти.
– Встань! – грозно сказал Иероним старику, как только вошёл в помещение для допросов. – Отвечать на наши вопросы следует стоя!
(А старик сидел на вытащенной на середину подвала широкой палаческой скамье.) Он посмотрел на новоявленного главу трибунала бестрепетно и спокойно, и даже будто бы ласково.
– Встать можно, господин инквизитор, – сказал он негромко. – Но только ты же и попросишь меня сесть снова.
Он расставил колени, качнулся вперёд и стал вставать. Иероним, растерянно моргая, смотрел – и не верил, что человек может быть настолько высоким, а старик, выпрямившись, коснулся седой макушкой закопчённого каменного потока! Глава трибунала, даже стоя на кафедральной ступеньке, вынужден был, чтобы видеть лицо допрашиваемого, задирать вверх подбородок. Он тут же признался себе, что да, – лучше согласиться с правотой этого ветхого гиганта и позволить ему сидеть, нежели на всём протяжении допроса чувствовать себя в роли пигмея, разговаривающего с великаном.
– Сядь, – принуждённо кашлянув, приказал Иероним, и такое начало допроса принесло в его сердце растерянность и досаду. – Поклянись, что ты не еретик! – сказал он, стараясь не смотреть на спокойно опустившегося на скамью старика.
– Не буду клясться, – вдруг ответил старик. – Я действительно исповедую ересь.
– Ка-ак? – не сдержал изумления Иероним. – Ты признаёшься? – Разумеется, признаюсь. По вашим меркам – я еретик. – По нашим меркам? А сам ты себя таким не считаешь? – Может – считаю, а может – и нет. Это ведь вопрос терминов. – Тогда – что для тебя ересь? – Вера в Бога.
– Богохульник! Ересь – это отрицание веры в Бога! Или искажение её!
– Что ж. Вполне приемлемый постулат. Но тогда – все вы, инквизиторы римской католической церкви, во главе с Папой – еретики. Поскольку именно вы отрицаете или искажаете веру в Бога.
– Неслыханная наглость! – вскричал кто-то из-за стола, и ему вторили: – это неслыханно!
– Неужели? – не без иронии посмотрел в сторону секретарей старик. – Но вы не можете отрицать, что Слово Божие гласит «Не убий»?
– Да, мы не отрицаем!
– Тем не менее сами убиваете сотни и тысячи верующих христиан, которые до последней минуту своей истошно кричат, что они – верующие христиане. – Мы убивает еретиков! – Вы сами знаете, что вы лжёте. Вы убиваете не еретиков, а тех, кого вы назвали еретиками. Секретари, не находя слов, возмущённо переглянулись и, спеша придать паузе естественность, склонились и застрочили перьями. – Затем, – продолжал, как ни в чём ни бывало, старик, – Слово Божие гласит – «Возлюби ближнего, как самого себя». Вы вместо любви причиняете беззащитным, беспомощным людям нечеловеческие страдания. А я за всю свою жизнь не только ни одного человека – ни одно животное не обидел. Так кто же из нас еретик? И кто из нас служит Богу? – Так значит ты утверждаешь, что мы не служим Богу? – спросил, овладевая ситуацией, Иероним. – Кому же тогда? – Дьяволу, – просто, как о самом обычном сказал старик, и слова его, отразившись от потолка, обрушились на заседателей трибунала и заставили их побледнеть. – Как мог! – крикнул один из секретарей, вскочив и опрокинув склянку с чернилами, – как мог ты сказать то, что только что сказал?! – Не просто сказал, – ответил, вздыхая, старик, – а доказал, и вполне убедительно. Иероним понял, что ни у него, ни у заседателей трибунала не найдётся честных аргументов для опровержения – разве что крик и простословные обвинения, и попытался переменить саму тему допроса. – Слова твои являются речью учёного человека, – сказал он, махнув рукой секретарю, чтобы тот сел. – Ты где-нибудь обучался? – Да. Я закончил три университета в трёх городах. По курсу философии, живописи и медицины. – Какие именно университеты? – спросил не без любопытства Иероним. – Не скажу. Вы ведь пошлёте туда своих ищеек и станете допрашивать – а значит, и пытать – ни в чём не повинных «еретиков». – Скажешь, – мстительно проговорил Иероним. – Иначе пытка сейчас будет применена к тебе самому. Сидящий перед ним костлявый, белобородый гигант усмехнулся и поднял руку. Вся она, от запястья до локтя, была покрыта какими-то белыми полосами. – Это я сам, – сказал старик, – и много лет назад, и недавно, опускал руки на раскалённое железо. Чтобы доказать господам инквизиторам, что способен не испытывать боли. – Это так, это так – вполголоса забормотал подобравшийся к Иерониму Марцел. – Неоднократно проверено. Только время зря потеряем, и подвал придётся долго проветривать: горелое мясо так воняет… – Но откуда… Такая способность… – растерянно спросил глава трибунала, – … ах да, ты же колдун. Бесы тебе помогают. – И снова ты лжёшь. Мне помогает честная, многолетняя вера в Бога. Точно так же, как она помогла бы и вам, если бы вы были верующие христиане. Но ведь это вы отдали себя бесам. Не нужно спорить со мной, я знаю всё, что вы сейчас скажете. Спорьте со своим сердцем. В каждом сердце, каким бы злодеем не сделался человек, есть искра совести. Она вам скажет, – наедине, когда не будет необходимости притворяться, – что главное дело бесов – мучить людей. Что же вы делаете в своих трибуналах, как не мучаете людей? И кто же вы, если не бесы? Иероним молчал, и немо сидели, перестав писать, секретари и разночинные работники трибунала. – И излечивать любые болезни тебе помогает вера в Бога? – спросил, не зная, о чём ещё говорить, Иероним. – Конечно, – ответил твёрдо старик. – И, заметь, ты спрашиваешь опять же от необходимости притворяться. Внутри же себя ты знаешь ответ. И ты был бы способен спасать и лечить, – если бы только был с Богом. Но ты, – признайся себе, – делаешь дьявольскую работу – и, значит, ты с дьяволом. Вот и получается, что свою жизнь ты посвятил тому, чтобы служить сатане. Иероним побледнел, скрипнул зубами. – Тебя нужно убить, – хрипло проговорил он. – Ну разумеется, – улыбнулся старик. – Убить. Вполне инквизиторский аргумент в теософском споре. Но как ты думаешь, почему меня вот уже девятнадцать лет не убивает Вадар? – Почему? – машинально поинтересовался Иероним. Но старик не отвечал. Опустив косматую голову, он грустно смотрел в пол. Длинные костлявые пальцы его теребили край ветхой хламиды. – Ах, да! – вздёрнул подбородок Иероним. – Ты же лекарь! – Нет, не поэтому, – грустно сказал старик. – Вадар давно убил бы меня, если б не знал, кем я стану, приняв венец мученика. – И кем же ты станешь? – не скрывая дрожи, спросил Иероним. – Полагаю, – задумчиво ответил старик, – что я стану Серым рыцарем. Вечным рыцарем, отыскивающим и уничтожающим таких, как вы. Моя пламенная мечта – иметь возможность спасти тех несчастных, которых вы сжигаете заживо, – не только здесь, в Массаре, а на всех подвластных католичеству землях. И, если бы я принял венец мученика, я получил бы такую силу, что, протянув руку из иного мира, сжал бы сердце Вадара (старик поднял перед собой и крепко сжал свои костлявые цепкие пальцы) и остановил бы его. Иероним вздрогнул. – Всесильный Боже! – выдохнул он, торопливо крестясь. – Глупец, о, глупец! – старик смотрел на него с нескрываемой жалостью. – Запомни: Бог не всесилен. – Слушайте!! – вновь завопил, вскочив с места, один из секретарей. – Слушайте! Что он произнёс! Вы слышите? – Не всесилен! – громко сказал, почти крикнул старик. – Вы, может быть, не заканчивали университетов. Но вы достаточно образованные люди, чтобы понимать, что всесильность – это ВСЕ-сильность! Значит, включая и силу Зла! Есть ли у Бога сила Зла? Нет! Бог – есть Свет и Любовь. Никогда в нём не было и тени сил зла. Следовательно, он не всесилен. Это вы, церковники, столетиями поддерживая миф о всесильности Бога, лишаете тысячи душ возможности обогатить себя мыслью о необходимости оказывать Богу возможную помощь! Да, помощь! Не только уничтожая Зло на Земле, – о нет, не только, это удел лишь обречённых, лишь Серых Братьев, – а просто умножая любовь, учась прощать друг друга, учась терпеть, рисуя картины, возводя прекрасные здания, сочиняя стихи, насаждая сады, воспитывая добрых детей! Он вздохнул и умолк. И звенящая тишина стояла под каменным сводом пыточного подвала, и лишь палач нарушал её тяжёлым частым сопением. – Я, например, – вдруг продолжил старик, – полжизни потратил на то, чтобы понять, что самое главное достоинство человека – в умении терпеть и прощать. И ещё полжизни – чтобы научиться этому. Кто-то за столом натужно закашлялся. Кто-то спросил неподвижно стоящего на своей кафедре Иеронима: «Это писать?» – Вы, инквизиторы, – вновь поднял голову старик, – могли бы свернуть с вашей чёрной дороги. Любой из вас, сейчас слушающих меня, может обратиться к Богу. Двери ни перед кем не закрыты. Беда в том, что слишком страшны были ваши дела на этой Земле. И гири на ваших ногах теперь неподъёмны. Как, например, вы сможете отказаться от права объявлять ведьмами красивых женщин? Ночами, в подвалах, вы преступно наслаждаетесь их красотой, а потом завязываете рты и сжигаете. И во всей Европе уже не найти по настоящему красивого и светлого женского лица. Разумеется, не вы желали этого, а извечный и истинный враг красоты. И теперь, даже если вы захотите уйти, ваш хозяин со своей службы вас не отпустит – Кто это наш хозяин? – спросил, багровея от растерянности и злости, Иероним. – Рогатый. Неужели не знаешь? – Что же это такое?! – не выдержали за столом. – Убить нельзя, пытать нельзя… Как заставить его замолчать?! – Уведи его в винный подвал! – приказал Иероним палачу, кивая на бесстрастного узника. – Проводи их, брат Гуфий! – И про себя подумал: «Посмотрим, как ты выдержишь дней десять-пятнадцать в камере, в которой можно только стоять!» Старика увели. Глава трибунала, повернув к столу своё молодое лицо, глубоко вздохнул (было видно, что к нему возвращается самообладание) и размеренно проговорил: – Не нужно заставлять его молчать. Пусть он говорит. – Но он говорит то, что мы не в силах позволить! – Мы позволим. И даже будем поощрять. – Но зачем?! – Его обвинения выглядят убийственно правильными. Его логика – безупречна. Мы день и ночь будем читать протоколы его допросов и подбирать против его аргументов – свои. И, если где-то, когда-то появится вдруг настолько же непростой еретик, мы уже будем иметь оружие против него. Он сошёл с кафедры и, ни на кого не глядя, направился в свой кабинет. – Главного не разузнал, – негромко, на ходу, говорил Иероним сам себе. – За что его так ненавидит старуха? ВИЗИТ К ВЕДЬМЕПрошёл всего один день, и воспоминания о пережитом страхе стали менее болезненными, как бы стёрлись. И наоборот – выросло и окрепло чувство мучительного, непреодолимого любопытства. Это чувство заставило Иеронима ещё раз посетить страшный подвал. Он спустился в помещение для допросов и приоткрыл дверь, чтобы позвать Гуфия и взять у него ключ. Приоткрыл – и замер, охватившись странным оцепенением. Да, инквизиторскому трибуналу было поручено увеличить сбор денег с еретиков не меньше, чем втрое. До нужных сумм дело доходило не сразу, так как еретики, особенно иудеи, упорствовали. Но любой допрос заканчивался одинаково: допрашиваемый признавался в ереси и отдавал все свои сбережения. Неудивительно, что трон палача, – его плаха, – была залита кровью. Она была похожа на багровую кочку, и маслянистая, чёрная в свете факелов кровь растекалась вокруг неё, протягивая тонкие остроконечные щупальца по межкаменным щелям. В середине этого чёрного липкого озера широкая плаха поднималась рубиново-красным камнем, и с первого взгляда было неясно, почему свет факелов окрашивает предметы столь прихотливо: кровь на полу – в чёрный, кровь на плахе – в рубиновый. Может быть потому, что время от времени, пытаясь отмыть хотя бы проход, на пол выхлёстывали ведро воды? Тяжёлый кровавый дух вызвал у Иеронима тошноту. Он с некоторым недоумением смотрел на составленные в ряд столы, за которыми невозмутимо сидели работники трибунала. Но удивляться тут было нечему: любой инквизитор, участвующий в допросах хотя бы месяц, к этому запаху привыкал, так же, как и к клейкой скользкости поблёскивающего чёрным пола. Этот запах, и эта неаккуратность были весьма полезны: случалось, что, едва увидев плаху, и пол, и бесстрастные лица инквизиторов, и палача, вышагивающего в факельном свете наподобие людоеда, еретик падал на колени и сразу отдавал всё, что имел, экономя утомлённым инквизиторам драгоценное время. Сделав шаг за дверь, Иероним поманил Гуфия, и поспешно вернулся назад, в коридор. – Ключ, – сказал он торопливо подошедшему Гуфию, – и одного стражника. Останетесь здесь. Я пойду один. Факелов мне побольше. Стражника поставили в конце коридора, а Гуфий встал возле тайной двери. Запалив один факел, и засунув подмышку ещё с полдюжины, Иероним шагнул вниз. В этот миг он казался себе благородным героем, в одиночку отправившимся на поединок с настоящей, доказанной ведьмой. Но, когда он сошёл вниз и тесные каменные стены обступили его, он едва не повернул назад. Страшно. Зачем он потащился сюда? Что за блажь? Не передумать ли… Ну, нет. Снова смешить этого вежливо прячущего взгляд Гуфия?! Сдёрнув в сторону железную пластину засова, он решительно толкнул дверь. – Свет! – тотчас послышался торопливый скрежещущий голос. – О, свет! Как вовремя! Зажгите ещё огня! Ещё! Ещё! Опустив к ногам смолёные черенки, Иероним поднял один, подержал над огнём и, подняв руки, двумя факелами осветил этот низкий каменный зал, с шестью камерами и белой кучей костей. Он не сразу понял, что делает ведьма. Лёжа на спине, растопырив ноги и руки, словно бледный подземный паук, она с неожиданным проворством ползала по полу – лицом вверх, и время от времени широко распахивала яму чёрного беззубого рта. Локти и пятки её – в точности паучьи ходули – подёргивались, сухо постукивали, и стремительно перемещали ведьму в радиусе прикованной к поясу цепи. Иероним вспомнил, что в детстве он вот так же разевал рот и ловил дождевые капли. Особенно это было забавно в тёплый летний дождь. Он всмотрелся. Ну, так и есть! Старуха ловит и пьёт падающие с потолка бурые капли, которые медленно набухают на древних камнях и, наполнившись, срываются вниз. Каким-то особым чутьём ведьма угадывала, какая капля, вдруг вытянув тонкий хоботок, оборвёт его и канет к полу, а какая ещё секундочку повисит. Лицо ведьмы было густо запятнано – видимо, в темноте она хватала этот странный дождь наугад, устраиваясь в местах, где капель стучала особенно часто. Но теперь, при свете, она не оплошала ни разу. Все капли били прямо в середину её раззявленной чёрной дыры. «Это кровь!!» – холодок метнулся по спине Иеронима. – «Да, ведь уже несколько часов рубят пальцы еретикам там, наверху, и вот – кровь сочится сюда». Пространство и время вдруг сдвинулись и сделались нереальными. – Это кровь! – непроизвольно вымолвил, почти выкрикнул Иероним. Ведьма, услыхав его голос, гибко, как червяк, перекрутилась, встала на четвереньки и с явным счастьем в голосе проскрипела:– Мой господи-ин! Да, что-то такое предчувствовало сердце юного инквизитора, когда оно тянуло своего хозяина сюда, в этот подподвал, – и что-то такое здесь было. Кажется, есть ради чего стремиться сюда! Нужно лишь осмотреться да подождать. Отчётливо высмотрев, на какую длину вытягивается цепь, Иероним, не приближаясь к этой окружности, зажёг ещё пару факелов и все их расставил в высверленные внаклон отверстия в стенах. Затем заглянул в камеры, вытащил из одной из них четырёхногий низенький столик, принёс к середине подвала, и сел – спиною к костям, лицом к сладенько улыбающейся старухе. – Почему ты зовёшь меня своим господином? – спросил он её и, чувствуя какую-то, пусть и весьма сдобренную насмешкой симпатию, добавил: – Бабушка. – Да, да, да, да! – запела старуха, подпрыгивая, вытянув ноги, на костлявой заднице. – Ты не знаешь! А я знаю! И давно тебя жду! Чтобы всё рассказать! Чтобы ты всё узнал! – Что узнал? – наклонился, уперевшись локтем в колено, Иероним. – Чтобы ты узнал, что ты – наш! И какой силой владеешь! И что тебе нужно делать! – Силой? Делать? Не говори загадками, бабушка! – Сколько лет! – скрипела старуха, подпрыгивая и приближаясь всё ближе, – сколько лет! Я ждала тебя! Почти сто! – Сто лет? – недоверчиво усмехнулся Иероним. – Да! Мы ждали, ждали, ждали… И я, и он. – Кто это «он»? – И вот – ты пришёл! Как мне и было обещано! Теперь ты узнаешь, а я смогу стать свободной! Иероним, путаясь в вихре вопросов, смолк, отвлёкся, а старуха, припрыгав и оказавшись почти рядом – но внутри окружности, выписанной цепью, – вдруг дёрнула цепь, натянув её, словно струну, – невероятно! тяжёлую, ржавую цепь, – и, распрямившись, выбросила нижнюю часть туловища за окружность (Иероним охватился ледяным ознобом и попытался что было сил закричать – такой ужас свалился вдруг на него, – но не смог, лишь рот разверз до предела, как только что разевала свою пасть старуха) и твёрдыми пятками ударила юного инквизитора по коленям. Цепь, сократившись, отбросила старуху назад, и Иероним сделал отчаянное усилие, чтобы вскочить и бежать, бежать – такой вдруг сдавил его со всех сторон плотный, разрывающий внутренности, осязаемый ужас, – но встать не смог. Не смог! Ноги не чувствовались. После секундной, – и не такой уж сильной, – боли от удара костяными твёрдыми пятками ведьмы, ноги перестали присылать Иерониму хоть какие-нибудь ощущения. Он раз за разом пытался подняться, тело его мучительно дёргалось вверх, вверх, – и рот, растянутый до предела, не мог кричать, а только ронял стремительно накатившуюся слюну, – но подняться не мог. Липкая свинцовая тяжесть выпила его ноги и поднялась почти до пояса. Старуха, устало кряхтя, доковыляла до своей соломенной кучи, села там и, сверкая глазом, уставилась на ночного гостя. – Не надо, – сказала она, пренебрежительно махнув тонкой коричневатой рукой. – Не встанешь. – П…По… почему… – вопросительно простонал, совладав-таки с собой, Иероним. – Да потому, что я – настоящая ведьма. Вы там, наверху, сжигаете сотни и тысячи каждый день – просто женщин. Ну, иногда странных. Иногда – да, способных предсказывать или лечить. Но – слабо, слабо… Вы зовёте их ведьмами, а ведьм-то и в глаза не видали! Вот ты – смотри! Тебе – счастье! Перед тобой – я, настоящая ведьма. Она, покопавшись в соломе, вытащила две какие-то невзрачные косточки и снова подобралась к Иерониму почти вплотную. И вот тут он закричал. Грудь и язык вновь вернулись в повиновение, и он, вытаращенными глазами уставившись на приближающуюся ведьму, заорал так, что сверху, с камней, посыпалась крошка. Одежда его отяжелела от хлынувшего по коже пота. А старуха стояла, смотрела на него, склонив голову, и радостно скалилась. Прошла минута, и Иероним замолчал. С ним ничего не происходило ужасного – не резали, не душили, не ели живьём. Крик умолк. Сердце грохотало в груди так, что покалывало где-то в спине, под лопаткой. – Громко! – одобрительно сказала старуха. – Он услышал. Иероним и не пытался спросить – кто это «он». Несчастный инквизитор, запрокинув голову, ловя сквозь солёную влагу, заполнившую глаза, факельный свет, успокаивал сердце, и дрожь, и дыхание.
– Так надо, – проскрипела, отворачиваясь, старуха. – Ты не должен сбежать, а сбежать ты б попробовал.
– Что… Что будет? – спросил вернувший дыхание Иероним.
– Ты встретишься с ним, – проговорила, не оборачиваясь, старуха и загремела своими добытыми из соломы косточками. – Он всё расскажет тебе, а меня – освободит.
– Я… умру?
– Ты-ы?! – смех старухи был похож на жестяной скрежет. – Ну, не-ет. Ты для нас – великая ценность. Мой господин.
Говорящая тень
Иероним чувствовал, что в эти минуты в его судьбе решается что-то непредставимо огромное. Значительное настолько, что это невозможно постигнуть рассудком. Он был привязан, он не мог встать, – и потому вдруг смирился. «Ну, будь что будет». Во всяком случае, с ним, похоже, не собираются делать ничего из того, что каждый день делает он и его соратники по трибуналу.
Итак, «будь что будет». Старуха повернулась к нему спиной, а лицом – в дальний от входа угол. Она села на корточки и, сложив ладони лодочкой, принялась греметь вложенными туда непонятными косточками. Вот она начала, раскачиваясь, что-то напевать, и звук её голоса не был похож ни на какие земные звуки – Иероним готов был в этом поклясться. Раскачиваясь всё сильнее, она вдруг протяжно вскрикнула и, оборвав голос на невыносимо высокой ноте, с силой выбросила в стороны от себя мелькнувшие белым косточки, и замерла, раскинув руки. Свет ближнего факела ярко пятнал её спину, и на полу, в том дальнем углу, отчётливо чернела её тень, наложенная на камни пола в виде креста. Вдруг несчастный инквизитор понял, что все страхи, которые он испытал сегодня – ничто по сравнению с теми ледяными клещами, которые вот сейчас вцепляются и раздирают его слабое, живое, человеческое, беззащитное сердце: старуха была неподвижной, в то время как тень её стала вдруг отчётливо шевелиться.
Тень шевелилась, росла, она жила уже сама по себе, отдельно от раскинувшей руки ведьмы, и Иероним, с перекошенным ртом, с готовыми лопнуть от напряжения глазами, увидел, что тень – это чёрный контур лица. Вполне схожее с человеческим, лицо имело особенность: из лба у него, в стороны, параллельно полу, торчали два длинных рога. Да, это был не крест. Это были рога.
Лицо, покачиваясь и уплотняясь, встало во фронт, и тёмная шея, словно круглый массивный рукав, уходила вполне явственно вниз сквозь камни. Отчётливо обрисовались черты – надглазные дуги, острый клин челюсти, бугры скул. И вдруг Тень открыла глаза. Иероним помертвел. На чёрном лице – ещё более, до невозможности чёрные зеницы, и мгла плеснула оттуда. И вдруг – ещё двинулись щёки, клин челюсти пошёл вниз, и огромная, от пола до потолка, Тень приоткрыла на небольшую щель рот.
– Что ты делаешь, Иероним? – гулко и внятно произнесла Тень. – Что ты делаешь?
И в голосе этом было многое: и интонация былого знакомства, и покровительство старшего, и оттенок приветливости, и укор. Странно, но как только раздался голос, с Иеронима пал страх, истаял, словно пелена инея на промёрзшей земле, если плеснуть на неё дымящимся кипятком. Он почувствовал необъяснимое облегчение. Вдруг порыв неслыханной дерзости всколыхнулся в груди. Закрыв рот и утерев залитый слюной подбородок, Иероним вслух поинтересовался:
– И что же я делаю?
– Зачем ты помогаешь Вадару? – спросила Тень, явно воспринимая их беседу как нечто вполне естественное.
– Чтобы стать главой трибунала, – тоном отчёта сказал, почему-то виновато мигнув, инквизитор.
– Вадар считает тебя самым опасным врагом, – произнесло чёрное неведомое лицо. – Он уже нанял в Риме убийц и послал их в Массар, чтобы отравили тебя. Нанял на твои деньги!
– Вот как?! – только и смог вымолвить ошеломлённый Иероним.
Он каким-то естественным образом принял за нелепость интересоваться – кто его собеседник и что вообще происходит. Покровительством и знанием потрясающих тайн веяло от пришельца из мрачного мира, и для юного Люпуса этого было достаточно.
– Что… мне… делать? – спросил он, чуть подавшись вперёд.
– Ты сделал главное, – в голосе тени прозвучало довольство и умиротворение: – ты сделал выбор.
– Какой?
– Выбор – кому служить: Богу – или Властителю преисподней.
– Сатане?! – расширил глаза Иероним.
– О, нет, – тёмный лик, казалось, пробует улыбнуться. – Не замахивайся на масштабы вселенной. Мы с тобой служим всего лишь Подземному Демону. А из обыденного ты должен сделать вот ещё что: (тут старуха покачнулась, одна рука её слегка обвисла, – и рог тени в ту же секунду поник, и тень, увидев это, заговорила поспешно и чётко, давая понять, что времени у них мало) немедленно найми людей, которые отравят Вадара. Пошли ему деньги в Рим с этими людьми. Скоро приедет аббат Солейль, официально назначенный Ватиканом на должность заместителя главы трибунала. Прими это с лёгкостью и почтением: посланцы Вадара едут убить именно заместителя, Вадар в таких случаях не называет имён. Если у них не получится – сам убей аббата Солейля. Убей обязательно! Это важно! И срочно убей Глема, прорицателя-старика! Сожги все протоколы его допросов…
– Я слышал, – быстро вставил слово Иероним, – венец мученика…
– Это – меньшая неудача! Недопустимой неудачей будет их встреча, старика и Солейля. Убей обоих. Скоро станешь главой трибунала, – не сомневайся, я изо всех сил воздействую на умы некоторых священников в Ватикане. Сделай своим искренним другом епископа. Пока ты будешь поставлять ему красивых ведьм для допросов – он в твоей полной власти. А теперь главное. – (Иероним ещё больше подался вперёд.) – Нам нужен гав-вах.
– Что это? – торопливо, с готовностью спросил инквизитор.
– Боль и страдания. Ты – единственный из всех нас, обитателей подземного мира, живёшь в мире Солнца и имеешь власть над людьми. Боль и страдания в солнечном мире – там, у вас – здесь – наша еда. Присылай нам больше еды. Мы голодаем.
– Когда я допрашиваю заключённых, я делаю гав-вах? – быстро поинтересовался Иероним.
– Да. И знай, что гав-вах – это не только страдания тел. Если ты на глазах у связанной матери будешь мучить её ребёнка – из неё выйдет очень жирный гав-вах.
Вторая рука старухи поникла, и второй рог у тени принял заметный наклон.
– Если мы больше не сможем увидеться наяву, – заторопилась тень, – помни: войдя в полную силу, ты должен проникнуть в те страны, где нет инквизиции, и где мы получаем мало гав-ваха.
– Россия и Англия! – быстро ответил Иероним.
– В России тебе ничего не удастся, там пра-вославие. Иностранный священник там и шагу не ступит. Продолжи своё дело в Англии. И, чтобы прибыть туда открыто, добейся сначала англиканской должности в одной из колоний, в Америке…
Ведьма, пискнув жалобно, покачнулась, руки её упали, и в тот же миг опрокинулась навзничь, на камни пола смятая Тень. Иероним вдруг почувствовал, что колдовство ведьмы проходит, и способность двигаться снова вернулась к ногам. Он вскочил, но тысячи невидимых игл вонзились в полыхнувшие болью ноги, – как будто он до омертвения их отсидел, – вскочил и упал лицом вниз. Упала и старуха, отчаянно всплеснув напоследок руками, и это движение отозвалось в стремительно падающей вниз Тени – у неё этот жест выразился в широком взмахе распростёршихся вдруг чёрных перепончатых крыл. Иероним лежал по-прежнему лицом вниз, и вдруг с жутким, пронзительным ликованием ощутил, что он видит сквозь камни пола, и сквозь бутовый старинный фундамент, и ещё, ещё глубже. Он – не такой, как все! Он – могучее существо!
– Я оставлю тебе часть своей силы! – прокричал снизу плывущий удаляющимися кругами ангел мрака. – Жизнь твоя будет долгой! Делай гав-вах, и получишь вечную власть и бессмертие! – И снова из далёких глаз его полыхнула беспросветная мгла.
Иероним долго лежал не шевелясь. Мёртвая ведьма, подвернув руку, лежала рядом. Тихо тлели догоревшие факела. Иероним, в темноте и в тиши, улыбался. Но тишина не была полной: кровь, падающая с изнанки пыточного подвала, приветливо говорила ему: «пок… пок…»
Он встал. Потянулся, словно сладко поспал. Не удивляясь тому, что хорошо видит в темноте, прошёл к выходу. Поднявшись наверх, он встретил тревожно вышагивающего возле тайной двери Гуфия.
– Кричали, – торопливо метнулся к нему Гуфий, – а не разобрать, это там, у вас, – или в помещении для допросов… Я не решился спуститься, – но вижу, что правильно, у вас всё в порядке.
Было очевидно, – он знал, что раздирающий крик шёл снизу, но не спустился из страха. Иероним поднял лицо и взглянул на него. Гуфий, приняв его взгляд, вдруг отшатнулся, как от удара, лицо его побледнело, и он упал на колени, как будто ноги его подсекли сзади мечом. Не обращая на него внимания, Иероним прошёл в комнату для допросов. Он чувствовал в себе такую распирающую его мощь, что боялся произнести слово, – казалось – от этого рухнут стены.
Инквизиторы закончили очередной допрос и, утомлённые, перебирали бумаги. С его появлением все замолчали, впились в него взглядами – и вдруг, побледнев так же, как Гуфий, принялись торопливо креститься и кланяться. Иероним, наклонив голову (она ощущалась в виде неподъёмно тяжёлого куска скалы, массивного, грубого, который двигался на могучей шее с поразительной лёгкостью) посмотрел под ноги. Он стоял в середине широкого, с наплывшими, словно наледь, сгустками, кровавого озера.
Он не знал, сколько он так простоял, склонив голову и улыбаясь. Когда он поднял взгляд – подвал для допросов был пуст. Трещал последний догорающий факел. Кровавая плаха топорщила подлокотники-топорища. Он шагнул и сел на неё, как на трон, – прямо в кровь, понимая каким-то неземным чутьём, что выбор, о котором ангел мрака говорил, как о сделанном, был вовсе не сделан. Он делается сейчас.
Это была жуткая, неописуемая минута. Он понимал, что собирается посвятить свою жизнь осознанно дьявольской деятельности, и слухи о неминуемых карах пугали его. Но слова Тени о бессмертии и вечной власти возобладали. И он шагнул и сел на поблёскивающую рубиновым отблеском плаху, как бы заявляя всем неземным силам, – и тёмным, и светлым, – всем, кто сейчас видит его, – о совершённом им только что выборе. Свет, Любовь, Справедливость были отвергнуты им, как не представляющие никакой ценности. Он негласно объявлял ценностями совершенно иное: власть, золото, кровь.
Он сидел неподвижно и прямо, как изваяние. Он положил рукава чёрной сутаны на лоснящиеся, рабочие топорища, и его длинные, аристократической лепки пальцы едва заметно подрагивали. Тот, кого через много лет настигнет в монастыре Девять звёзд мастер Альба, сидел на палаческом троне и готовил себя к избранному пути.
Глава 12 Магистратские алебарды
Вениамин Солейль, юный аббат, ехал из Рима в Массар. Он вёз буллу Папы о своём назначении заместителем главы трибунала – ещё не зная, что написано внутри этой свёрнутой и опечатанной бумажной трубочки. Вслед за ним ехали трое наёмных убийц, которых послал Вадар для устранения своего очень умного, а потому – очень опасного заместителя. Навстречу тем, кто ехал в Массар, ехали ещё трое – тоже наёмные убийцы, которые отправились отнять жизнь у Вадара. Инквизиция жила спокойной, размеренной жизнью.
Встреча друзей
– Здравствуй, Иероним! – воскликнул, радостно улыбаясь, аббат, торопливо сбивая с одежд дорожную пыль и приветливым жестом протягивая руки.
– Здравствуй, Вениамин! – отвечал ласково улыбающийся Люпус.
Они обнялись.
– Не укоришь меня за фамильярность? – тут же спросил аббат, виновато отстраняясь.
– О чём ты?
– О нарушении субординации. Ты, всё-таки, сейчас – заместитель главы трибунала. А я – всего лишь аббат, хотя и обласканный Ватиканом.
– Пустяки! – ответил, блеснув тонкой улыбкой на гордом лице, Люпус. – Разве не вместе мы прибыли недавно сюда, в одинаковом чине, на одинаковых осликах?
Они прошли в кабинет Вадара, и Вениамин, остановившись в дверях, недоверчиво вертел головой, осматривая гулкое, отделанное с тяжёлой роскошью чрево знаменитого кабинета.
– Ты, – не без трепета спросил он у смуглолицего друга, – имеешь право входить сюда?
Иероним, довольно улыбнувшись, позвонил в колокольчик и распорядился принести обед прямо сюда, в недоступный начальственный кабинет. Он пригласил также Гуфия, Марцела и ещё двоих человек – из молодых, из ставленников епископа. Они сели за стол – шестеро неторопливых и чинных людей в чёрных одеждах. Только двое из них позволяли себе улыбаться и демонстрировать радость – Вениамин, с раскрасневшимся лицом рассказывающий о том, что он видел в заоблачном Ватикане, и Иероним, тусклым зеркалом отражающий его приветливые взоры и радостные улыбки.
Прошёл час с небольшим. Работники массарского трибунала насытились и здесь же, не покидая кабинета, перешли к делу. Прибывший из Ватикана аббат подал Иерониму свиток с печатью Папы. Тот осторожно сломал печать, размотал шнур и стал читать. Лицо его дрогнуло на мгновенье, потемнело, и метнулась из глаз так страшно знакомая Гуфию оцепеняющая мгла, – но это было только мгновение. Досаду и злость сменила вдруг блескучая радость, и Иероним, встав, пошёл, протягивая руки к аббату, который растерянно поднялся к нему навстречу. Обняв друга, Иероним отстранился и виновато проговорил:
– Не укоришь меня за фамильярность?
– О чём ты, Иероним? – растерянно спросил аббат.
– О нарушении мною субординации. Ты, – Иероним кивнул в сторону папской бумаги, – как оказалось, официально назначен заместителем главы трибунала. Ты, а не я.
– Да откуда же… Нет, нет… Не может быть!
Вениамин дрогнувшей рукой взял буллу и вчитался.
– Но я, – он растерянно поднял взгляд, посмотрел на неподвижно и немо восседающих сослуживцев, на лучащегося радостью Люпуса, – не имею и отдалённого представления о работе инквизиции! Я – богослов! Какой из меня инквизитор? А тем более – заместитель главы трибунала?
– Друг! – сказал, почтительно приобнимая его, Иероним. – Веление Папы – закон для любого доброго христианина.
– Я же совершенно невежествен во всём, что касается розыска еретиков! – аббат порывисто прижал руку к груди. – Мне бы на месяц-другой засесть в архивы и хотя бы отдалённо узнать…
– Прекрасная мысль! – позволил себе перебить его Иероним. – Отправляйся в архивы, милый Солейль, а я пока продолжу рутинную работу по руководству трибуналом. Мне кажется, это у меня получается, – он взглянул на четверых сидящих за заваленным объедками столом инквизиторов, и те мгновенно посерьёзнели лицами и с судорожной торопливостью закивали. – К приезду нашего главы Сальвадоре Вадара ты подготовишься, и он, уже от первого лица, определит для тебя круг обязанностей.
– О, благодарю! – Вениамин просиял. – Я сейчас же отправлюсь в архивы! Они здесь? В этом здании?
– Большей частью – здесь. В южном подвале.
– Прекрасно! И ты, Иероним, согласен до приезда Вадара выполнять за меня эту хлопотную работу?
– Ну, мы же друзья…
– От всего сердца – благодарю…
Иероним взглянул на одного из молодых инквизиторов и распорядился, взяв ключи от архивов, отвести туда папского назначенца. Инквизитор с аббатом ушли. Люпус пристально посмотрел на оставшихся.
– С этой минуты, – тихо и властно проговорил он, – заместителем главы трибунала называть, и считать, и объявлять любым приезжающим гостям, – аббата Солейля.
Марцел, и Гуфий, и ещё третий с ними, в знак послушания склонили головы и, прошелестев шёлком дорогих чёрных одежд, удалились.
Ожидая, пока в кабинете уберут следы трапезы, Люпус взволнованно ходил от стены к окну и обратно. «Едва не выдал себя! – укоризненно думал он. – Тень предупредила, что он назначен заместителем главы. Отчего же я так вскипел, когда увидал это назначение на бумаге? Неосмотрительно. Хорошо, что всё обошлось. Сам напросился в архивы – их там на несколько лет чтения. И посланники от Вадара, – те, что везут с собой яд – конечно, обрадуются. Самая естественная цель визита для приехавших из Ватикана – это архивы, а в них, в южном подвале – вот он вам, заместитель… Разумеется, нож ватиканские гости использовать не станут: удар ножом – это откровенное убийство. Смерть же от яда почти всегда объявляется следствием внезапной болезни. Но, как только гости отравят аббата – их нужно схватить. Затем, под страхом разоблачения, отправить обратно, поручив проделать то же самое с Вадаром – на тот случай, если мои первые посланники по какой-то причине не справятся. А эти – им Вадар доверяет. Как не доверять, если сам же их нанял? Да, и, кроме страха разоблачения нужно отсыпать им денег. Уж денег-то у меня… Мало. Мало, ещё и ещё нужно денег! Сегодня же отослать Марцела и Гуфия в провинции – искать зажиточных иудеев! И – что самое важное – нужно найти хотя бы одну настоящую ведьму, взамен этой, умершей. Такую, чтобы могла вызвать Тень. Две вещи нужны мне, только две: власть и бессмертие…»
Бунт
С грохотом откинулась дверь в кабинет главы трибунала. Сидящий за столом Иероним вздрогнул, вскинул голову. Стремительными шагами приблизился к столу аббат Вениамин Солейль и швырнул на стол кипу каких-то бумаг.
– Что с тобой? – с показной мягкостью, стараясь успокоить рванувшееся сердце, проговорил Люпус.
– Это… Это… – Вениамин задыхался. – … Протоколы нашего трибунала?!
Заместитель главы наклонился, вытянул руку (дрожат-таки, дрожат предательски пальцы), взял один из рассыпавшихся листов. Посмотрел.
– Да, – сказал он, недоумённо поднимая глаза на товарища, – это наши протоколы допросов. Что так взволновало тебя?
Вениамин схватил первый попавшийся лист и торопливо и громко стал читать вслух:
– Протокол допроса от… Присутствовали… Вот. «Обвиняемому сказали, что на него поступил донос и он должен покаяться в ереси. Обвиняемый сказал, что он честный христианин. Тогда сказали ему, что к нему применят пытку, и он ничего не ответил и стал плакать. Тогда сказали ему, чтобы он из любви к Богу покаялся. Он сказал, что ему не в чем каяться. Тогда приказали отвести его в комнату пыток и отвели».
Аббат опустил лист и посмотрел на Иеронима. Тот, откинувшись в кресле, спокойно слушал. Лицо его выражало непонимание.
– Обычный протокол обычного допроса, – осторожно, с выжидательной интонацией проговорил он.
– Обычный?! – вскрикнул аббат и, вскинув лист к глазам, стал снова громко читать: – «Тогда поместили его в растягивающий станок и закрепили руки в колодке, а к ногам привязали верёвку, намотанную на колесо.
И перед началом пытки со всей ласковостью увещевали его, чтобы он сказал правду. Но обвиняемый сказал, что он не знает, что от него хотят.
Тогда сказали палачам прикрутить верёвку, и прикрутили, и обвиняемый сказал «ох».
Тогда сказали ещё прикрутить верёвку, и прикрутили, и обвиняемый закричал. Ему сказали, чтобы он сказал правду, и он крикнул «скажите мне, что я должен сказать, и я всё скажу». Сказали ему, что он должен покаяться в ереси, и он крикнул «каюсь, каюсь, я еретик, отпустите». И сказали, что раскаявшийся должен назвать соучастников, но обвиняемый крикнул, что он не знает, кого называть.
Тогда сказали ещё прикрутить верёвку, и прикрутили, и обвиняемый закричал «спасите, силы небесные».
Тогда сказали ещё прикрутить верёвку, и прикрутили, и обвиняемый крикнул, что он называет соучастником одного мавра. Его спросили, в чём он готов уличить этого мавра, и он крикнул, что он не знает.
Тогда сказали ещё прикрутить верёвку, и прикрутили, и обвиняемый стал хрипеть.
Тогда немного отпустили верёвку и облили его из ковша водой. Обвиняемый громко стонал, и его ещё раз облили. Он сказал «смилуйтесь, господа инквизиторы, и убейте меня; – то, что вы делаете – невыносимо». Ему добрым голосом предложили назвать имя и место пребывания этого мавра, и обвиняемый сказал, что этого он не знает.
Тогда сказали сильно прикрутить верёвку, и прикрутили, и обвиняемый закричал «Иисус, Иисус, на помощь».
Тогда сказали ещё прикрутить верёвку, и прикрутили, и обвиняемый стал сильно и часто дрожать боками, и Ex consilio[31] определили, что внутри у него скачут бесы.
Тогда сказали ещё прикрутить верёвку, и прикрутили, но обвиняемый замолчал и не двигался, и изо рта у него вытекло немного крови, и он стал sicut cadaver[32]. И сказали отпустить верёвку, и врач, посмотрев, сказал, что он умер.
Ex consilio вынесли вердикт, что обвиняемый, сознательно упорствуя, довёл себя до смерти, чтобы избежать разоблачения, за что его следует признать несомненно виновным, а потому всё его имение и состояние передать в ведение казначея инквизиторского трибунала, а детей и потомков его до третьего колена, согласно закону, лишить наследства и гражданских прав.
В присутствии главы инквизиторского трибунала Сальвадоре Вадара и меня, секретаря Маркелино Гуфия.»
Аббат закончил читать, опустил лист и сквозь слёзы посмотрел на Иеронима.
– Это ты называешь обычным допросом? – шёпотом спросил он.
– Но что здесь такого? – глядя не мигая, в упор, взволнованно воскликнул Иероним. – Форма протокола утверждена Ватиканом, всё соответствует энцикликам Папы!
– Что такого?! – горестно воскликнул аббат. – Да ведь это протокол убийства, которые совершили работники трибунала! Никакого обвинения, – за что мучили этого человека? Никаких свидетелей, – где они? И всё поведение этого несчастного говорит о том, что он искренне не понимает, чего от него хотят! В чём его вина, которая объявлена доказанной? Уби нихиль – нихиль!![33]
– Вениамин, дорогой друг мой! Ты не заметил. Как нет вины? Вот ведь, записано с его слов: «каюсь, каюсь, я еретик…» Ипсэ дикси[34]. А, как указано в одной из энциклик, – ты просто пока не нашёл этого в архивах, – «Оптимус тэстис конфитэнс рэус[35].
– Любой разумный человек должен верить иному: Этиам иннокентис кодит мэнтири долор[36]!! – Закричал аббат, бросая лист с протоколом допроса перед Иеронимом. – Любому разумному человеку понятно, что этот обвиняемый должен был быть оправдан!!
– Всё говорит о том, что ты не успел войти в курс дела, – мягко укорил товарища Иероним. – Иди назад в архив и отыщи параграф, который гласит: Юдэкс дамнатур кум нокенс абсольвитур[37].
– И после этого ты способен верить, что инквизиция занимается делом Божьим?
– Но разве ты сам в это не веришь?
– Инкредулюс оди[38]! Я, может быть, действительно невежествен в законах святой инквизиции, но мне хорошо известны законы светские! Слушай, я расскажу тебе. – Аббат порывисто прошёл к окну и обратно. – Из практики светских судов в Милане. «Обвиняющий кого-либо должен дать подписку, что в случае недоказанности обвинения он сам будет наказан и возместит обвиняемому полный ущерб. Обвиняемый имеет право нанять адвоката. Имеет право потребовать оглашения имён свидетелей и прочитать их показания. Судья под угрозой штрафа в пятьдесят ливров должен в месячный срок рассмотреть дело.» Вот – по Божески. Вот – справедливо. А где защита и имена свидетелей у инквизиторов?! Всё обвинение построено на вымышленном доносе!
Иероним помолчал, перебирая брошенные перед ним листы. Подумал. Потом негромко сказал:
– Я сам многого не понимаю. Ты помнишь, сколь малое время я на этой работе. Но вот что я прочитал в инструкциях, и ты сам это можешь прочесть: «Донос – это мистический акт провидения. Поэтому цель следствия – не проверка доноса, а добыча признания у обвиняемого».
– В таком случае, я должен сказать, что инквизиторы сами являются теми бесами, с которыми так усердно воюют.
– Совсем недавно я слышал то же самое мнение, – как-то криво усмехнувшись, сообщил приятелю Иероним.
– Где? От кого? – немедленно заинтересовался аббат.
Но инквизитор не отвечал. Он задумался о чём-то, помолчал – и поднял взгляд на Солейля.
– Должен заявить, – сказал он спокойно и твёрдо, – что для твоего возмущения есть причина. Но мне неясно: ты намерен просто повозмущаться, или готов открыто вступить в полемику о методах нашей работы?
– Готов открыто вступить и вступлю.
– Тогда… Будет разумно, если ты сжато и точно изложишь свои соображения письменно. Желательно – в нескольких экземплярах. Я согласен с тобой в том, что надо кое-что изменить.
– Иероним, – сказал вдруг проникновенно аббат, – я не привык вилять и лукавить. Поэтому заявляю тебе: у меня нет намерения изменить «кое-что». Я считаю, что всю святую инквизицию нужно упразднить. А руководителей её – предать суду. Поскольку она – орудие дьявола. И виновна в убийствах и истязаниях. Посмотри на протоколы, которые я принёс тебе. Это – не недосмотр, не случайность. Это – практика.
– Напиши, – твёрдо ответил Иероним, – всё сжато и точно! Если твои слова заставили задуматься меня, – то пусть они так подействуют и на прочих.
– Да, – ответил аббат, собирая и аккуратно складывая протоколы. – Я сейчас же сяду писать. Я пошлю сообщение Папе. Извини, если задел тебя своей несдержанностью.
– Пустяки, дорогой Солейль. Я и сам теперь вижу – есть отчего возмутиться.
– А нельзя, – аббат, уже стоя в дверях, просительно обернулся, – пока не придёт ответ Папы, нельзя ли на это время перестать мучить тех, кто на сегодняшний день арестован?
– Друг. Ты сам понимаешь, что такое распоряжение может отдать только Сальвадоре Вадар. Он скоро приедет, и мы оба – обещаю тебе – оба явимся к нему с этим вопросом. А пока – извини…
Аббат, сокрушённо покачав головой, вышел.
Иероним вскочил с кресла и заметался по кабинету, бормоча сам себе:
– О, как прав был тот, кто явился рогатой тенью! Этот Солейль чрезмерно опасен. «Упразднить и предать суду»! Да, его нужно убить. Где эти проклятые посланцы Вадара с их ядом? Сколько мне ещё ждать? Ведь аббат, очевидно, медлить не будет! Что если он вдруг выступит с проповедью, и эта проповедь дойдёт до горожан, до еретиков и их родственников!! Толпа – безумна! Ведь всех работников трибунала сожгут самих, – и не сожгут даже, а разорвут на клочки по дороге к костру. Истинно – очень, очень опасен.
Он замолчал, подошёл к столу, сел и достал мелованную, для важных посланий, бумагу.
– Хорошо, что он решился писать в Ватикан. Глупец. Уж там-то знают, как затыкать опасные рты. Но, если спросят – «как ты, Иероним Люпус, допустил?»
Иероним выбрал хорошо обрезанное перо, обмакнул в чернильницу и стал крупно, красиво писать, стараясь выдержать стиль папских энциклик:
«Событие ужасное, говорить о котором отказывается язык и писать о котором не поднимается рука, осознание которого ввергает в обморок, всего лишь мысленное воспроизведение которого вызывает рвоту, конвульсии и лопанье глаз, событие подлейшее и исполненное чудовищной наглости, деяние бесовское – и хуже ещё, за пределами бесовского, проклятое, отвратительное, сверхпреступное обнаружилось у нас, в массарском инквизиторском трибунале: один из наших работников, осквернив пресвятое имя католической Церкви, опачкав, растоптав и изгадив его, заявил нам о том, что святая римская инквизиция должна быть упразднена, распущена, уничтожена, а святые отцы, руководящие ею, обязаны быть преданными суду…»
Гнев одиночки
Спустя несколько дней аббат снова появился у дверей кабинета Вадара. Но двери оказались замкнутыми. Сидящий в небольшой приёмной брат Гуфий встал из-за конторки и поклонился.
– Где же Иероним? – спросил его аббат, безуспешно подёргав запертую створку двери.
– До завтрашнего вечера – он в провинции, – почтительно ответил Гуфий. – Составляет реестр еретиков-иудеев.
– Кто этот обвиняемый и где он находится? – спросил аббат, подав Гуфию лист бумаги.
Тот взял и вслух бегло прочёл:
– «Инквизиция везде и всегда преследует только свои интересы. В мире сложилось так, что на очень маленькое число богачей приходится огромное число бедных. Но, если обратиться к тем, на ком остановила свой смертельный взгляд инквизиция, мы увидим совершенно обратное: среди обвиняемых очень мало бедняков и, напротив, огромное число людей состоятельных. Деньги – вот истинная цель трибуналов, а вовсе не борьба за Веру и Справедливость. Посмотрите, как много обвинено в колдовстве и сожжено красивых женщин – только потому, что их красотой преступно и тайно наслаждаются инквизиторы. Прошло несколько веков, и вот – во всей Европе не встретишь красивого женского лица! Заметьте: в Испании и Португалии почти нет процессов над ведьмами. Что же, там ведьмы отсутствуют? Почему? Вода там иная? Или там воздух иной? Нет. Просто там иной интерес у святой инквизиции. Там она занята преследованием богатых иудеев и мавров, пусть даже и перешедших в христианскую веру»…
Гуфий перестал читать, суетливо свернул трубкой лист и, не зная, что с ним делать, стал бегать взглядом по стенам приёмной.
– Откуда… Где ты это взял, брат Вениамин? – наконец спросил он.
– В протоколах. Кто этот обвиняемый и где он находится?
– Он… Он был до недавних пор в тайном узилище, но сейчас брат Иероним его перевёл в камеру-клетку. Это секретный узник, и все протоколы его допросов находятся у главы трибунала, а не в архиве, и про него запрещено говорить и произносить его имя.
– Мне нужно видеть его.
– Невозможно. И Сальвадоре Вадар запретил, и Иероним, уезжая, выставил возле входа в новую тюрьму круглосуточную охрану.
– Мне нужны все остальные протоколы его допросов.
– Но они… там. В кабинете. Который заперт. Вернётся Иероним – только тогда. Ключи – лишь у него и у Вадара…
– Вот как, – ответил, задумавшись, хмурый аббат. – А чьи приказания выполняют жители города?
– Того, кто несёт инквизиторский жезл.
– А где сейчас этот жезл?
– Так ведь там же, в кабинете Вадара. Который заперт…
– Это я уже слышал. Вот что, брат Гуфий. Ты помнишь, что я – официальный заместитель главы трибунала?
– О да, конечно, – склонился в низком поклоне Гуфий.
– И ты подчиняешься мне?
– Несомненно…
– Тогда слушай распоряжение. Я намерен инспектировать кандалы у заключённых и запоры на дверях камер.
– Кроме новой тюрьмы? – торопливо подсказал Гуфий.
– Кроме новой тюрьмы. Найди и приведи сюда кузнеца.
– Слушаюсь, брат Вениамин.
Гуфий торопливо ушёл, кляня себя за то, что попал меж двух огней, и так же торопливо вернулся. Вместе с ним пришёл бледный от страха кузнец.
– Вот, – отдуваясь, толкнул кузнеца Гуфий, – заместитель главы трибунала аббат Солейль.
Кузнец, громыхнув мешком с инструментами, повалился на колени и склонился, коснувшись лбом пола.
– Гуфий, – сказал аббат, – мне ещё нужен часовщик.
– Часовщик? – недоумевающе переспросил Гуфий.
– Да. Отыщи в городе часовщика и тоже приведи его сюда.
Гуфий, склонившись ушёл. Аббат, выждав время, подошёл к кузнецу, тронул его за плечо. Помог встать.
– Я, – сказал он как можно беззаботнее, – потерял ключ от своего кабинета. Ты своими инструментами сможешь открыть?
Кузнец, поняв, что его привели сюда не по обвинению в ереси, тяжело задышал, незаметно и быстро перекрестился. Торопливо подошёл к двери, посмотрел.
– Если, – уверенно сказал он, – аккуратно, без следов – то за полчаса. Если грубо – то за минуту, но тогда замок нужно будет менять.
– Давай грубо. Времени нет.
Через минуту, отложив в сторону молоток и кованную клешню, кузнец распахнул дверь.
– Подожди меня здесь, – сказал аббат и вошёл в кабинет.
Он прошёл к столу, сел в высокое кресло. Вытянул из стола ящик, второй. Нашёл, наконец, то, что искал. Поднял в руке и как бы взвесил в воздухе тонкий инквизиторский жезл.
В том же ящике лежало несвёрнутое письмо, и аббат машинально всмотрелся: «Событие ужасное, говорить о котором отказывается язык…»
– Вот, значит, как, – задумчиво произнёс аббат. И добавил: – Значит, до завтрашнего вечера?
Он решительно встал, вышел из кабинета и приказал кузнецу поменять замок. Сам же торопливо покинул здание трибунала и вышел в город.
В своей объявленной войне безумного одиночки против великой, занявшей полмира «святой» инквизиции он воспользовался её же гнусной силой. Придя в торговую лавку суконщика, он, вытянув жезл, потребовал весь имеющийся в наличии чёрный шёлк. Потом переправил шёлк к нескольким портным и распорядился шить инквизиторские балахоны. Затем, зайдя в дом к одному из «родственников», приказал собрать десятка два человек. Когда светские помощники инквизиции собрались, он, подняв жезл, сообщил им, что готовится побег нескольких еретиков из тюрьмы трибунала. Нарядил «родственников» в инквизиторские одежды, вооружил их отобранными в магистратском цейхгаузе алебардами и привёл в трибунал.
– Ни с кем не разговаривать, – приказал он своим новобранцам, облачённым в чёрные балахоны, – поскольку здесь открыта измена. Слушаться только меня.
И выставил перед сверкающими в косых прорезях балахонов глазами папскую буллу о своём назначении заместителем главы трибунала.
– Теперь вы знаете, – сказал он, скручивая бумагу, – что я не просто носитель жезла. И в моей власти будет решать – кого из вас наградить, а кого исключить из числа «родственников».
И двинул армию к новой тюрьме.
Он разоружил и связал поставленную Иеронимом охрану. Вызвал бледного, шатающегося от ужаса Гуфия и приказал принести все дела на всех заключённых. И ещё – потребовал назвать имя секретного узника.
– Его зовут Глем, – клацая зубами, выговорил Гуфий.
– Достаньте из клеток всех, – распорядился аббат, – и приведите мне Глема.
Он не поверил своим глазам – так высок был старик, так длинны были кости его рук и ног. Однако, изумление тотчас сменилось болью и состраданием. Всё тело у старика было покрыто алыми язвами, источающими желтоватую жидкость, которая появляется при сильных ожогах.
– Что это? – спросил потрясённый Вениамин.
– Люпус, – ответил старик, – приказал облить меня водой, а потом засыпать свежей известью. Я медленно горю, и уже почти весь сгорел.
– Но зачем?!
– Ему было интересно, настолько ли я сильный лекарь, что смогу вылечить себя, лишённого кожи.
– Немедленно принесите елейного масла! – крикнул аббат, и двое или трое «родственников» с готовностью бросились исполнять.
– Не нужно этого ничего, – махнул, словно огромным крылом, длиннопалою кистью старик. – Мне остались часы, Вениамин, или даже минуты. Ты успел – это главное.
– Вы меня знаете? – удивился аббат.
– Лучше, чем ты себе можешь представить. Не будем тратить время на второстепенное. Мне нужны перо и бумага.
– Принесите! – сказал было Вениамин, но старик остановил его.
– Это долго, – сказал он. – И перо, и чернила есть здесь, – и он вытянул огромный палец в сторону двери «секретнейшего» кабинета. – Пусть сломают дверь.
Аббат только кивнул, и двое «родственников» с рвением заработали алебардами.
В кабинете, действительно, на лакированном чёрном столе имелось всё необходимое для письма. Зажгли свечи. Старик, согнувшись, вошёл в помещение кабинета. Потолок был ненормально высоким, – вытянутый когда-то строителями лишь для того, чтобы внутрь попадал свет из прорезанных там, вверху, над самой землёй окон. Но сейчас высота потолка показалась на миг уместной, – если представить, что строители знали о заранее о таком небывало высоком посетителе.
– Пришли сюда кузнеца, – устало сказал Глем, усаживаясь на деревянный диван. – Пусть ломает замок у этого шкафа. В нём – то, что тебе нужно будет вынести и хорошо спрятать. А теперь…
Он склонился, попытался уцепить непослушными пальцами перо, сжал его, обмакнул в чернильницу и на чистом листе вывел клиновидную линию.
– Это Индия, – сказал он. – Вот – океан. У тебя хорошая память? Тебе нужно будет запомнить цифры, которые я сейчас напишу. Только запомнить, и никогда нигде не писать. Это великой апокриф[39].
Глем медленным, трудным почерком вывел несколько цифр.
– Градусы, – сказал он, – и минуты. Вот – долгота, вот – широта. Это координаты Эрмшира.
Он замолчал, устало откинувшись и закрыв глаза. По обожжённому телу его стекали жёлтые сукровичные капли. Вдруг Вениамин увидел среди бумаг на столе толстую папку с наклеенным ярлычком, на котором красивым почерком Люпуса было начертано: «Письма Глема». И ниже, помельче: «Смертельно секретно».
Вениамин торопливо развязал папку, вчитался. «Я полжизни потратил на то, чтобы понять, что самое главное достоинство человека – в умении терпеть и прощать. И ещё полжизни – чтобы научиться этому».
– Ты – сказал дрогнувшим голосом юный аббат, – единственный человек, который думает так же, как я! – И вдруг, всмотревшись в лицо старика, пронзительно закричал: – Глем, не умирай!!
Бледные веки дрогнули, на аббата упал взгляд синих, слезящихся, неправдоподобно радостных глаз.
– Теперь – это не страшно, – сказал умирающий великан. – Теперь я успею тебе передать. Слушай.
Он закрыл глаза и, собрав последние силы, медленно зашептал:
– Эрмшир – это остров. Вернее, архипелаг. Несколько больших, обильных, покрытых лесами островов окружает множество мелких – в виде торчащих из воды скал. Кораблю подойти невозможно, и поэтому эти острова как бы необитаемы. На самом деле – на внутренних островах есть большая колония. Там – монахи и просто люди, которые имеют сердце – похожее на твоё. Те, которые не в силах жить и одновременно мириться с тем, что творится в католическом Царстве.
– Они сбежали от жестокостей мира?
– Не просто сбежали. Они чистят мир, и уменьшают жестокости мира.
– Каким образом?
– Эрмшир – это тюрьма. Это страна исчезнувших негодяев. Туда много лет привозили похищенных из мира злодеев – таких, как Вадар или ваш юный Люпус. В одном месте, меж подводными скалами есть проход, и опытный лоцман или знающий капитан сможет провести корабль к бухтам. Много лет таким капитаном был я, – и моя вина, что, к сожаленью, единственным. Как говорите вы, церковники, мэа кульпа[40]. Нас не трогали ни пираты, ни капитаны враждующих стран: наш корабль был почтовым – той ласточкой, вслед за которой тянутся богатые купеческие караваны. Зачем такую ласточку лишать крыл? Но вот шторм этого не понимает. Шторм разбил мой «Swallov»[41], а меня и моих товарищей подобрали и продали в рабство пираты. И вот уже пятьдесят лет эрмширские братья не получают ни вестей из внешнего мира, ни новых злодеев. До чего оскудело племя людей, если человек, которому я могу доверить эту великую тайну, появился возле меня впервые за пятьдесят лет!
– Но зачем, – торопливо спросил Вениамин, – везти преступников на край света, если в любой стране есть суды и есть свои тюрьмы?
– И это говоришь ты? – с явным усилием открыв глаза, произнёс Глем, – человек, перед глазами которого находится бесчисленное множество протоколов о деянии инквизиторов и которому очевидна их полная безнаказанность?
– Хорошо. Но зачем тогда тратить столько сил и иметь столько хлопот ради этой тюрьмы, когда можно…
– Просто убить? – сверкнул глазами старик. – Нет, нельзя. Ни у какого злодея, сколь бы чудовищными не были его преступления, нельзя отбирать возможность осознать и хоть как-нибудь искупить своё зло. В небесном мире, именуемом словом «Ирольн», живут звезды людей. Там есть звезда каждого человека. А сам человек – лишь временное тело её, долго и трудно совершающее путь совершенствования и наполнения Светом. Здесь, на Земле. Если злодея можно лишить способности творить зло – его нужно лишить только этой способности. Но не жизни.
– Но я читал – проговорил осторожно аббат, – один протокол… «И, если бы я принял венец мученика, я получил бы такую силу, что, протянув руку с иного мира, сжал бы ею сердце Вадара и остановил бы его».
– Да, – слабо кивнул Глем. – Мои слова. Но это обратная сторона монеты, именуемой «справедливость». Я убеждён, что любое убийство оправдано, если оно предотвращает истязания и убийства невинных.
В это время послышался топот, и к кабинету приблизились человек с бутылочкой масла и звенящий своим инструментом кузнец.
– Масло – не нужно, – сказал тихо Глем. – Уже не поможет. Веди кузнеца. Пусть сверлит шкаф…
Вениамин распорядился, и кузнец, достав клешню и сверло, взялся за массивную железную дверцу. Через полчаса он вырезал в металле окно, через которое перепили язычок запора. Приоткрыл дверцу, – ровно настолько, чтобы показать, что замок срезан, собрал инструменты и, кланяясь, удалился.
– Забирай золото и беги, – не сказал, а слабо прохрипел Глем. – Отыщи среди людей схожих с тобой – людей с честным сердцем. Снаряди новый корабль. Доберись до Эрмшира, произнеси там моё имя. Что делать дальше – тебе скажут твои ум и совесть. Прощай.
И Глем умер.
Паломники
То, что он умер, стало понятно тотчас: воздух в его груди клокотнул, грудь замерла, и вдруг всё его огромное, долговязое тело обрушилось на пол.
Воздух был напоен предвестием роковых событий. Вениамин чувствовал, что действовать нужно отчаянно быстро. Он подозвал к себе нескольких «родственников» и сказал:
– Старик умер. Отнесите его во внутренний дворик трибунала, соорудите большой костёр – возьмите любую мебель трибунала – столы, лавки – и сожгите его тело как можно скорее.
Он не понимал, зачем сжечь, а не похоронить – но чувствовал необъяснимую, истовую уверенность, что так нужно.
Когда тело старика унесли, Вениамин открыл дверцу шкафа.
– Ох-ох! – простонал он, увидав содержимое железного ящика. – Сколько же нужно было уничтожить людей!
Он наклонился, вытащил плетёный короб с ремнями, вывалил из него съестные припасы и принялся перекладывать в опустевший короб монеты. «Снаряди корабль…»
Насыпав короб до половины, он приподнял его и, оценив тяжесть, опустил крышку. Снова позвал к себе полумёртвого, с серым лицом Гуфия. Распорядился:
– Немедленно принеси сюда два небольших сундука. Принеси печать из кабинета Вадара. И давай всех заключённых и их протоколы.
Гуфий уковылял. Вениамин всмотрелся в подобие карты, оставленной ему стариком, несколько раз, закрывая глаза, повторил короткие несложные цифры. Ничего эти цифры ему не говорили, но он знал, что опытный капитан без труда найдёт в океане обозначенное ими место. Убедившись, что цифры цепко схвачены его памятью, Вениамин сжёг лист, запалив его край от свечи.
Принесли протоколы и инквизиторскую печать. Вениамин начал подзывать к себе узников и торопливо спрашивать имя и светское состояние. Всё это он записывал на чистом листе, ставил печать, и вручал узнику, – но это были не оправдательные грамоты, о нет. Это были подорожные, выданные уличённым и сознавшимся в ереси еретикам, которые в виде наказания отправлялись в паломничество. Вчерашний наивный богослов, сегодня Вениамин знал, какой неисчислимый людской муравейник плетётся по дорогам католических стран, выполняя бесчеловечные распоряжения инквизиторских трибуналов. Он знал, как легко в этом муравейнике затеряться. Эти паломники, без исключения, были обобраны до нитки, и нигде ни магистратская, ни церковная стража не обращала на них внимания. Что взять с нищего? Но тем, кого Вениамин отпускал в эту ночь, он всыпал в карманы по полновесной горсти золота.
– Беги из города, – говорил аббат каждому узнику. – Если уцелела семья – забирай семью. Если нет – беги один. Пробирайся в страну, где нет инквизиции, например в Англию, или нанимайся на корабль и плыви к южным морям. Может, где-нибудь там для людей уготовлено счастье!
Он подписал уже десяток таких подорожных, когда вдруг встретил у одного из узников взгляд яркий и твёрдый. Это был человек лет тридцати, крепко скроенный. Только вот голод и отсутствие солнца оставили на нём свой нестираемый след.
– Сколько времени ты провёл в тюрьме трибунала? – спросил его Вениамин.
– Девять лет, – ответил хриплым голосом человек.
– Как зовут тебя?
– Дживи.
– За какую вину арестован?
– Без всякой вины, – твёрдо ответил узник.
– Значит, трибунал совершил преступление?
– Значит, так. Совершил.
– И девять страшных лет тебя не сломили?
– Что может сломить истинно верующего человека? – чуть наклонившись вперёд, проникновенно спросил Дживи.
– Семья уцелела?
– Если бы. Кто подаст кусок хлеба семье еретика, когда за этим следует обвинение в «потворствовании ереси»! Умерли все мои. С голоду.
– Пользуясь временной властью, – быстро заговорил Вениамин, – я отпускаю всех на свободу. Отпущу и тебя. Но спрошу перед этим: не присоединишься ли ты ко мне?
– Что делать?
– Залечивать людям раны, нанесённые инквизицией.
– А инквизиторов будем вешать?
– Только тех, кого не сумеем увезти в одну недоступную Риму тюрьму.
– Тогда – я с тобой. До смерти.
– Вот деньги. Их нужно вынести из города и на время укрыть. Нам нужно договориться, где это укромное место и как я смогу его завтра найти. И ещё – не знаешь ли ты кого-нибудь из надёжных людей, здесь, в камерах? Всё-таки девять лет…
– Есть здесь надёжные люди! – воскликнул Джови. – Трое!
– Веди их сюда.
Через несколько минут в кабинете перед аббатом стояли едва держащиеся на ногах четверо узников. Вениамин торопливо раздал им всё съестное, что было в коробе Люпуса, заставил глотнуть вина, и на всех четверых написал по паломнической грамоте.
– В пригороде есть Синий лес, – сказал Дживи. – В нём – развалины старой римской крепости. У слияния двух ручьёв. Там мы можем укрыться, и там мы тебя будем ждать.
– Отлично. Вот деньги. Забирайте и уносите. Ранним утром на рынке купите повозку, побольше еды – и ждите меня у развалин.
– Ты… – Дживи дрожащей рукой вытер пот, – доверяешь нам столько золота?
– Доверяю.
Золото разместили в два небольших сундука и узники, взявшись по двое, медленно понесли их наверх.
К утру Вениамин отпустил всех узников из винного подвала, и хотел уже перейти к камерам «старой» тюрьмы, но решил защититься от непредсказуемости судьбы ещё одним, незаметным поступком. Ссыпав в короб оставшиеся золотые деньги, он, уложил туда же «письма Глема», все деловые бумаги из шкафа Люпуса, и оставшееся пространство уплотнил его же шёлковым инквизиторским балахоном. Затем пристроил короб за плечом и, сжав в руке жезл, вышел из здания трибунала. Не оглядываясь, чуть склонившись под тяжёлою ношей, он пошёл в сторону пристани. Там он нанял фелюгу, переплыл на другой берег реки, вошёл в рощицу и, найдя приметный высокий дуб, поставил короб в ложбинку между корней и забросал его сухими ветвями и листьями.
В трибунал Вениамин вернулся к обеду, успокоенный тем, что Люпус приедет лишь к вечеру, и есть, есть ещё время, чтобы освободить оставшихся узников, – но, как только он зашёл в приёмный холл трибунала, как был вежливо арестован.
Важный пленник
Именно так. И стиснувший зубы (вздулись шишки на челюсти) Марцел стоял в наполненном людьми холле трибунала, и бледный от решимости Гуфий, и множество фигур в чёрном, и – самое странное – в своих пёстрых мундирах стражники магистрата, среди которых мелькнуло два-три лица и из охраны епископа.
Алебарды! Любые действия Вениамина были бы незамеченными никем – все, все безмолвно опустили бы взоры перед тем, что соблаговоляет себе допустить инквизитор, но вот пропажа двадцати алебард из цейхгауза… Это уже – вне епархии Ватикана. Это – собственность и имущество города. Города, а не еретиков! В точном соответствии военному артикулу служаки-стражники немедленно сообщили об изъятии оружия бургомистру, тот – епископу, и епископ осторожно испросил у работников трибунала разъяснений. И, получив вести невероятного свойства…
Тревога вскинулась в городе, словно при появлении вблизи стен чужого осадного войска. «Родственников» разоружили, заперли их до выяснения всех обстоятельств в опустевшем подвале. Подняли и переместили в здание трибунала магистратскую стражу. Опечатали взломанную дверь в кабинет Вадара. Разослали гонцов выискивать на дорогах отпущенных Вениамином узников (напрасно! – битые, мученные еретики оказались умны и проворны) и главное – разослали всех, кто был свободен от службы магистратских работников и непричастных к ночным событиям «родственников» – на поиски виновника всего этого небывалого ужаса.
И вдруг – вот он сам, уставший, в пыли, в измятом и неопрятном инквизиторском балахоне. А похищенное у магистрата имущество, неоспоримая улика, двадцать сверкающих вогнутыми отточенными рубилами алебард стоят ровным рядком, прислоненные к стене.
– Брат Вениамин! – скорбно проговорил, выступая вперёд, разжавший зубы Марцел. – Ин консилио, мы решили, что у тебя от трудностей забот и хлопот случилось временное помутнение ума. И ты сотворил то, что было недолжно…
– Разве я не имел права? – отчаянно-дерзко спросил Вениамин, и приподнял было руку – но с резким осуждением к самому себе понял, что оставил жезл там, на лесной поляне, где закапывал люпусов короб. (Осталась, правда, при нём лежащая в кармане печать трибунала, но чем она помогла бы теперь?)
– Всё что угодно, брат, – поспешно согласился Марцел. – Кроме очевидного нарушения установленных Ватиканом узаконений.
– Каких именно?
– Ты, например, отправил в наказующее паломничество еретиков, не отдав их предварительно палачу, чтобы они получили напутственные удары плетью, коих по узаконению Ватикана должно быть не менее десяти. Поэтому до прибытия Сальвадоре Вадара или специального гонца из Рима ты лишаешься возможности покидать помещения трибунала.
– То есть я арестован?
– О нет, о нет! Ведь ты назначен папской буллой… В пределах трибунала – ты совершенно свободен. Но вот покинуть его… Видишь сам – ситуация неординарна. Стало быть, и поступить мы вынуждены неординарно.
И Вениамин с мучительной тоской и глубокой болью понял, что оставшихся узников он освободить не сумеет.
Решительно повернувшись, он зашагал во внутренние помещения трибунала, и дальше – вниз, по ступеням каменных лестниц, к старой тюрьме. Здесь, найдя пустующую камеру, он вошёл в неё и сел на узкий, из обветшавших досок топчан. Он слышал, как к дверям входа в тюремный подвал были приставлены двое стражников – о, разумеется, лишь на тот случай, если заместителю главы трибунала что-либо вдруг понадобиться…
Вечером скрипнула дверь, закачался свет факелов и к последнему убежищу скорбно замершего аббата приблизился Иероним Люпус.
– Ехидна ядовитая, – негромко, с отчётливой ненавистью проговорил он (знал, разумеется, что Вениамин прочитал его донос («Событие ужасное…»), и уже не лицемерил, уже отбросил прочь маску дорогого товарища, прибывшего когда-то на уже упомянутом ослике, – говори, ехидна, где деньги? Где жезл? Где печать? Где бумаги?
Но аббат, подняв лицо с чёрными кругами вокруг воспалённых глаз, вдруг совершил страшное: грустно и сострадательно улыбнулся, поднял руку и плавно перекрестил стоящего в дверях камеры Люпуса. Последствия это произвело непостижимые: Люпус, как будто отброшенный незримым ударом, отлетел к противоположной стене коридора, упал, и, задыхаясь, судорожно подёргивая коленями и локтями, пополз к выходу из подвала.
Больше он к аббату не приходил.
А Вениамин, уронив бессильную руку, снова скорбно опустил лицо. Он жгуче переживал не только то, что не успел освободить сидящих сейчас по соседству с ним узников, но и то, что подверг неотвратимой опасности самого себя. Ведь сейчас он – единственный человек на Земле, который владеет доверенным ему Глемом апокрифом: координатами острова, где уже пятьдесят лет ждут вестей из внешнего мира безнадёжно состарившиеся монахи. Вениамин знал, что сейчас нужно во что бы то ни стало найти путь к свободе – ибо здесь дело не только в спасении его жизни.
Но как, как? Из тюрьмы трибунала сбежать невозможно. Тем более – после вчерашних событий. Из атрибутов заместителя трибунала у него оставалась только печать: посланника Ватикана даже Люпус обыскивать не осмелился. Но чем она может помочь человеку, лишённому власти?
Вениамин встал, наощупь нашёл дверной проём и, выйдя в коридор, принялся медленно бродить в подвальной слепой темноте.
Утомившись, он так же, вытянув руку, нашёл раскрытую дверь – но порога не переступил. Его остановил тихий стон, долетевший до него из соседней камеры. В этом стоне было столько тоски и отчаяния, что Вениамин непроизвольно шагнул в его сторону.
– Кто ты? – спросил он замолчавшую темноту. – И отчего стонешь?
– Я – Йорге, башмачник, – ответил ему слабый голос.
– Отчего стонешь? – повторил вопрос подошедший к решётке аббат. – У тебя болит что-нибудь?
– У меня болит сердце, – ответил невидимый узник. – Дома остались жена и двое детей! А я отсюда, кажется, не выйду уже никогда…
И Вениамин снова услышал горестный стон.
– И конечно же, ты не виновен? – утвердительно спросил аббат с состраданием в голосе.
– Перед Богом – нет. А вот перед инквизицией – да.
– Йорге? – вдруг задумался о чём-то аббат. – Башмачник?
Он торопливо присел у решётки и стал торопливо, вполголоса рассказывать о себе. К утру у них уже был готов дерзкий, отчаянный план.
Путь к свободе
Рассчитан он был примерно на месяц. К этому сроку заговорщики предполагали выточить известковый шов вокруг крупного камня в общей стене их камер, и вынуть этот камень, и сделать проход. К этому же сроку у Вениамина должна была отрасти борода: для этого он перестал бриться.
Пользуясь тем, что в пределах трибунала он был свободен, Вениамин иногда заходил, низко закрыв лицо капюшоном, в некоторые помещения. Он добыл два очень ценных предмета – наручные обручи от кандалов. Разогнув обручи в пластины, они получили довольно удобный инструмент, и теперь каждую ночь они царапали старый межкаменный шов, – Вениамин в своей камере, Йорге – в своей.
У стражников, приносящих еду, аббат неизменно спрашивал – не прибыл ли гонец из Ватикана. Спрашивал нарочито хриплым, будто бы от пребывания в сырой камере, голосом. Ему отвечали «нет», «нет», и он каждый раз разочарованно покачивал скрывающим лицо капюшоном.
Прошёл месяц, и всё было готово к решительному шагу. Не выпадало главного: Иероним Люпус никуда не отлучался из трибунала, а его присутствие ставило под угрозу такой надёжный, такой затейливый план. Минуло сорок дней, и ещё дальше потянулось тревожное время. Тревожное от того, что в каждый миг могла прийти булла из Ватикана, и тогда судьба Вениамина могла стать печальной.
Аббат не знал, что своим демонстративным сидением в камере он спас себе жизнь: трое посланцев Вадара, приготовив яд, незаметно, но с неумолимым упорством искали встречи с ним. Но никто не мог придумать предлога – как войти в негласно охраняемую тюрьму. Ведь, если бы даже им удалось проникнуть к аббату и умертвить его – на них тотчас пало бы подозрение. Да и Люпус, сдерживая злобу и ненависть, не подталкивал события в желаемом направлении: шум случился значительный, и внезапную смерть аббата в такой ситуации Ватикан не оставил бы без пристального рассмотрения. Он понимал, что без послания Рима ничего предпринять невозможно. Если слухи о крайнем благорасположении Папы к этому выскочке-богослову верны, то его, скорее всего, вызовут в Ватикан, и уже там станут разбирать причины и последствия его бунта. Если аббат умрёт здесь, в Массаре – это одно. Но вот ежели по дороге в Рим – о, это совсем, совсем другое. Набраться терпения – и ждать.
Ждал с угрюмым нетерпением Сальвадоре Вадар, который остановился в одном из аббатств неподалёку от Массара – ему нужно было, чтобы смерть заместителя инквизиторского трибунала произошла не при нём, – ждал горячо желаемой весточки о несчастье, доводя своим страшным присутствием обитателей аббатства до обмороков.
Ждали терпеливо и Солейль и Йорге – и дождались. Иероним на несколько дней отбыл в провинцию.
На столике в камере Йорге было довольно бумаги, были и чернила и перья: ведь он сидел здесь для того, чтобы вспомнить сообщников и составить списки из имён. И, едва лишь Люпус покинул Массар, Вениамин пролез сквозь дыру в стене к Йорге и, стараясь подражать почерку Иеронима, написал распоряжение для внутренней службы трибунала. Пригодилась-таки утаённая при аресте печать! Выправив по всей форме бумагу, он незаметно подложил её в ящик для ежедневных распоряжений. Утром дежуривший на исполнении наказаний Гуфий, развернув её, прочёл и, без тени удивления, не сомневаясь в подлинности приказа, вызвал к себе сонного палача.
– Найди хранителя ключей, – сказал он палачу, – выволоки из камеры башмачника Йорге, отмерь ему десять ударов плетью, отдай вот эту паломническую подорожную и выведи за ворота.
Это было утром. А за ночь перед этим, вечером, при скупом свете принесённой аббатом свечи, двое узников совершили последние приготовления. Йорге сбрили бороду и обстригли волосы, а Вениамин наоборот – набрал копоти и известковой крошки и густо натёр этой смесью свою отросшую бороду, и так же умастил волосы на голове. Потом они поменялись одеждой. Вениамин отдал башмачнику чёрный шёлковый балахон, а сам натянул его сырое, издающее пронзительный запах давно не мытого тела тряпьё. И, разумеется, занял его место.
Ночью они не спали. На протяжении нескольких часов аббат учил башмачника произносить несколько очень важных фраз. Они ждали.
Но палач, сознавая ничтожность полученного указания, выполнять его не спешил. Лишь выспавшись (ах, эти ночные допросы – они так утомительны), он, гремя ключами, спустился в подвал и открыл дверь в камеру Йорге.
– Пошли, башмачник, – сказал он. – Тебя отпускают на покаяние.
Вениамин, не поднимая густо намазанного копотью заросшего грязной щетиной лица, ковыляя, вышел за ним. Пройдя из подвала-тюрьмы в подвал для допросов, он по знаку палача сбросил куртку башмачника и подставил худую, серую от сажи спину под длинную плеть.
Он думал, что человеку вполне по силам выдержать десяток ударов плетью – в этом подвале отвешивали еретикам и по сто ударов. Однако, после четвёртого, разрывающего болью мозг, укуса витого кожаного хлыста он потерял сознание. После экзекуции его облили водой. Помогли натянуть на окровавленное тело грязную куртку. Палач сунул в руку ему подорожную грамоту и вывел за ворота.
– Топай, – сказал он, – счастливчик.
Встреча в лесу
Нетвёрдой походкой неопрятный, согнувшийся человек, двинулся в сторону городских ворот. Но в одном из переулков свернул и вышел к пристани. Достав припрятанную монетку, он взял во временное пользование лодку и пересёк реку. Уже загорался вечер, когда он, выйдя на противоположный берег, разделся и выкупался. Затем, достав бритву, старательно, начисто выбрился. Потом приплёлся на знакомую лесную поляну и выволок на свет короб.
Он вынул из глубоких плетёных недр короба люпусов инквизиторский балахон, отсыпал весомую горсть монет, достал жезл и одну – какую-то очень важную – из бумаг. Приготовив всё это, аббат лёг у подножия старого дуба, между двух его бугрившихся корневищ. Лёг, оберегая израненную спину, на бок, и попытался уснуть. Но сон не шёл. Тогда он сел, опершись плечом о твёрдый шершавый ствол и, подняв лицо к первой, ещё бледной звезде, стал просто ждать.
Это случилось уже глубокой ночью. Он спал, – или ему казалось, что он спал. Вдруг пронеслось возле него невидимое, но явное – как дыхание – ощущение присутствия рядом кого-то ещё.
Вениамин раскрыл глаза. На полянке, возле смутно темнеющего короба, стояла огромного роста человеческая фигура. Это был, без сомнения, рыцарь. Остроконечный шлем, длинный плащ, оголовок ножен меча возле подошвы исполинского сапога. Ростом был рыцарь почти вровень с дубом, и прозрачно блистал серебристо-белеющим светом. Нет, не кинулся страх в утомлённое от скорбей сердце аббата – ни каплей, ни тенью, поскольку веяло от чудесного гостя неколебимым спокойствием и чарующей добротой.
– Здравствуй, Вениамин, – сказал, не разжимая губ, рыцарь, и массивные латные рукавицы его отпустились на рукоять длинного рыцарского меча.
Меч был длиной вдвое больше самого длинного из земных мечей, откованных из земного железа. Клинок его светился сквозь ножны, и поражал безупречностью линий и скрытой стремительной мощью.
– Кто ты? – спросил, вставая и запрокидывая вверх лицо, изумлённый аббат.
Но, всмотревшись, он охнул и упал на колени.
– Глем! – простонал он. – Глем! Глем…
Он потянулся, взял в руку край призрачного плаща и поцеловал его. Тогда серебряный великан так же встал на колено, взял в латную длань худую руку аббата и сам поцеловал её.
– Да за что же? – прошептал, слепя глаза жгучей слезой, потрясённый аббат.
– За то, – и с болью, и ласково, и с пронзительной дружеской проникновенностью сказал великан, – что спас жизнь стольким узникам. За то, что надел на своё благополучное тело прокисшее, гадкое, скорбное одеянье башмачника, а потом принял этим же телом десяток беспощадных ударов. И за то ещё, что сжёг меня. Я не успел попросить тебя, и уже отлетевшим духом своим кричал и молил, чтобы не хоронили – и ты услышал.
– Но для чего, – прижимая к лицу край плаща, спросил потрясённый аббат, – не нужно было тебя хоронить?
– Потому что Люпус мою смерть использовал бы в своих тёмных целях. Потому что он сжёг бы меня на костре у собора – и все горожане, увидев мой громадный костяк, были бы убеждены – да, действительно водятся колдуны в этом мире, и есть с кем бороться святой инквизиции. Теперь же Иерониму достался лишь пепел.
– Я помню, – заторопился вдруг Вениамин, – все твои цифры, и начал уже собирать команду для корабля – несколько человек должны ждать меня в старых развалинах…
– Да, они ждут тебя, – невесомо кивнул шлемом латник. – И прибавил печальное: – Мне пора.
– Неужели пора?! – вскричал потрясённый аббат. – Но где ты, и что ты, и кто ты теперь?!
– В добрый путь, наш юный аббат, – сказал Глем, ставя ногу на невидимую ступень. – В добрый путь. Мы всегда будем рядом с тобой.
И сделал шаг по невидимой лестнице. Один только шаг – но вознёсся вдруг вдесятеро выше дуба. Сделал второй шаг – и вошёл в облака; и развернулся вдруг край неба перед аббатом и хлынул вниз, к нему, к его расширившимся глазам, и он увидел необычайное. Стройный ряд строгих рыцарей, сложив руки на рукоятях мечей, смотрели вниз на него самого и на возвращающегося Глема. А за спинами их блистал мир потрясающей красоты и неземного спокойствия. И пронзила вдруг аббата жгучая догадка – какой силы сострадания и какой силы любви нужно было исполниться этим небесным витязям, чтобы отказаться от неописуемой благодати своего небесного мира, отворотить взоры свои от несказанных красот, – и наполнить эти взоры страданиями, мучениями несчастных людей здесь, на Земле, а также наполнить свои высокие, благородные очи образами Марцелов, Вадаров и Люпусов, и звериными ликами ангелов мрака, взмывающих время от времени в виде Теней к своим полуслугам-полурабам. И аббат прошептал вдруг без всяких клятвенных интонаций: «Друзья сердца моего, и я всегда буду с вами».
Счастливые люди
Утром, в Массаре, от пристани к центру города шёл молодой человек в партикулярной одежде. В карманах у него находились инквизиторская печать и две горсти монет. Это незаметное людским взорам имущество должно было обеспечить выполнение второй части тщательно продуманного плана.
Примерно в полдень в подворье массарского трибунала на взмыленном коне ворвался «гонец Ватикана». Сказал, чему был научен бывшим заместителем Вадара, отдал свиток и принялся ждать.
Застучали торопливые шаги Гуфия в сыром и мрачном подвале. Иероним в отъезде, действовать и принимать решения приходится самому, и это до крайности неприятно, – но ах, в булле яснёхонько сказано – в тот же час по прибытии гонца, вместе с ним, отправить аббата Солейля в Ватикан – без всякой стражи и лишних вопросов.
– Брат Вениамин, – елейно произнёс Гуфий у входа в камеру, где давно уже был вставлен в стену выпиленный двумя заговорщиками камень. – Вам надлежит немедленно ехать к Папе. Вот – подорожная. Вот – булла с приказом.
Башмачник, завесив лицо капюшоном, поднялся.
– Что из имущества желаете взять с собой – торопливо спросил растерянный Гуфий.
– Омниа мэа мэкум порто[42], – натужно кашлянув, хриплым голосом ответил аббат.
– Хорошо, хорошо, – поспешно согласился Гуфий, провожая арестованного к гонцу и ощупывая спрятанную на груди бумагу, которую должен предъявить Люпусу вместо живого аббата. – Лошадь для вас уже седлают…
Выехав за город, гонец и башмачник остановились. Они ждали недолго. Послышался топот копыт и, окутанный облаком пыли, неумело привстав в стременах, подскакал Вениамин. У седла его был приторочен дорожный вьюк, в котором угадывались очертания большого прямоугольного короба.
– Держи, – сказал аббат всаднику и протянул кошель с платой.
То же самое он сказал и башмачнику, когда «ватиканский гонец» ускакал, и подал недавнему собрату-узнику несколько свёрнутых в трубку бумаг и толстый монетный мешочек.
– Бери жену, детей – и отправляйся на север. Все нужные бумаги я заготовил, ну и деньги – они открывают любые ворота. Доберёшься до побережья – садись на корабль и плыви в Англию. Там нет инквизиции. Кроме того, это страна, где ценят опытных мастеров.
– И башмачников?
– А ты когда-нибудь выдел босых англичан?
Они, перегнувшись в сёдлах, обнялись. Потом, повернув лошадей в противоположные стороны, неспешно разъехались.
Добравшись до развалин, Солейль остановил лошадь и стал осматриваться. Вдруг послышался короткий свист и из-за полурассыпавшейся стены выглянул человек.
– Дживи! – радостно крикнул аббат.
– С прибытием, господин аббат! – счастливым голосом откликнулся бывший узник.
Рядом с его головой показались ещё несколько.
– Я больше не аббат! – твёрдо произнёс бывший заместитель главы инквизиторского трибунала. – С этого дня – я Йорге, башмачник.
– А, так вы поменяли имя?
– Да. Оно выписано кнутом на моей спине.
– Рады видеть тебя, мастер! – Дживи, перебираясь через гребень стены, лучился улыбкой.
– Вы ждёте меня здесь уже столько дней! – недоверчиво-радостно кивая головой, проговорил приехавший.
– Мы ждали бы целую жизнь, мастер, – серьёзно ответил Дживи, спрыгивая со стены. – Идём, – сказал он, – посмотришь, как мы устроились.
– Нет, – покачал головой юный Йорге. – Берите самое необходимое, берите деньги – и в путь.
– Куда поведёшь нас, башмачник?
– На юг. К берегу моря.
– Мы купим корабль?
– Да. Быстроходный почтовый корабль. И наберём команду.
– Так, а потом?
– А потом мы отправимся на поиски тайного острова.
Эпилог
Выхватив из рук канонира и снова швырнув на палубу подзорную трубу, капитан пиратов резко повернулся и затопал на корму, к рулевому. Оставшийся в одиночестве канонир задрал вверх голову и, оскалив зубы и втянув сквозь них воздух, с досадой пробормотал:
– Да-а. Через часок здесь крепкий шторм будет.
А на «Бофуре» этого шторма ждали с тревожным и радостным нетерпением. На корме четверо матросов, навалившись грудью на румпель, удерживали руль в положении, уводящем «Бофур» от пиратов. Корабль сильно мотало, и тяжёлый румпель едва не сбивал их с ног, но на лицах была неподдельная радость. Так же как и на лицах тех, кто карабкался, выставляя паруса под ветер, по вантам, и кого этот ветер едва не сбрасывал с гудящих от напряжения верёвочных лестниц. Все понимали, что близкий шторм скоро разбросает далеко в стороны друг от друга и беглеца, и преследователя, и тогда бороться нужно будет только с ветром и волнами. А эта работа – проста и знакома, – в отличие от той, когда, сцепив крючьями борта, на палубу начнут прыгать пираты и колоть и резать команду и пассажиров.
Капитан «Бофура», понимая, что нужно продержать дистанцию ещё час, приказал каждые полминуты производить холостой пушечный выстрел. Заражаясь ритмом этого тревожного камертона, матросы отыскивали в себе всё новые силы и точно и вовремя перекладывали такелаж, выставляя в нужное положение паруса, и те, кто стоял у бушприта пиратского корабля, дикими голосами выкрикивали проклятия, видя, что палубная команда старого «купца» гораздо быстрее отвечает на перемены ветра, чем их собственная, и не даёт сократить дистанцию ни на ярд. Алле хагель!!
В крохотной, но отдельной, а потому очень дорогой каютке «Бофура» находились два человека. Лежавшая на узкой кровати девушка издала едва слышимый стон. Её друг поспешно вскочил со своего такого же узкого ложа и наклонился над ней.
– Ева! – позвал он голосом, наполненным отчаянием и заботой. – Ева! Ты слышишь меня? Тебе легче?
Девушка, чуть приоткрыв глаза, прошептала:
– Почему… Пушки…
– Я сейчас! – протянув руку, юноша толкнул дверь каюты. – Сейчас узнаю.
Он отправился наверх, на палубу, и здесь столкнулся с коком, наблюдающим за работой матросов.
– Кажется, уйдём! – возбуждённо прокричал кок, поворачивая всё своё толстое, рыхлое тело к нежданному собеседнику. – Сегодня эти джентльмены удачи останутся с носом! Только бы сил у команды хватило! Тебя, кажется, Майклом зовут?
– Может быть, я тоже бы пригодился? – сказал юноша, кивая на вопрос относительно имени. – Помочь матросам, или вот тем четверым – удерживать румпель?
– Майкл! – кок панибратски хлопнул юношу по плечу. – Я всегда говорю: «От меня лучшая помощь, когда я не мешаю!» Пойдём лучше ко мне в камбуз, плесну тебе полстаканчика рома.
Майкл неуверенно посмотрел на матросов, из последних сил налегающих на длинный рычаг румпеля, но одна тайная мысль заставила его отправиться не к ним, а вслед за довольно похохатывающим коком.
– Как там твоя спутница? – с деланным безразличием поинтересовался кок. – Ева, кажется? Что-то её с самого начала плавания на палубе не видно.
– Очень скверно себя чувствует, – поспешно ответил Майкл. – Она плохо перенесла морскую болезнь. «Болтанка» измучила её до чёрных теней под глазами. А потом – на «Бофуре» закончились свежие овощи. Суп же из солонины она есть не может. Другой еды нет, и она медленно гаснет от голода. Я, кстати, хотел спросить, – не найдётся ли на камбузе свежей моркови, или кружки лимонного сока? Я бы купил…
Вопрос был понятный, разумный, но кок не спешил отвечать. Выдержав длинную гнетущую паузу, он спросил сам:
– А кто она тебе, Майкл? Жена, или сестра? Вы так поспешно примчались на пристань, будто за вами черти гнались!
– Не жена и не сестра. Скорее – невеста. А гнались – да. Но не черти, а её дядя, вернее, посланные им.
– Ты украл её?! – вытаращив азартно заблестевшие глаза, закричал кок.
– Не совсем, – ответил Майкл. – Мы просто сбежали. После смерти её родителей – в их доме был пожар и они задохнулись в дыму – дядя стал её опекуном. Но частично растратил, а частично «прибрал к рукам» перешедшее к ней по наследству состояние отца. И, чтобы избежать суда, принялся заставлять Еву выйти за него замуж. А мы уже были с ней помолвлены. Ева не соглашалась, и тогда он упрятал меня в тюрьму – по вздорному обвинению, но на срок, достаточный, чтобы найти священника, который насильно, за деньги обвенчал бы их. Деньги в подлых руках имеют подлую силу. Тогда Ева продала украшения матери, и средств, вырученных за них, хватило, чтобы меня, при перевозе из арестантской в острог, доставили бы в порт. Ева села ко мне в карету по дороге. При ней была шкатулка с украденными у дяди деньгами. То есть частью её собственных денег. Так мы смогли заплатить за каюту и… и я в состоянии купить овощей или лимонного сока.
– Видишь ли, Майкл, – проговорил кок, пряча глаза от собеседника. – То, что ты просишь, вещь трудная… Но возможная. Только заплатишь ты не деньгами.
– А чем же? – удивлённо спросил Майкл.
– Отведи меня в вашу каюту, – голосом, ставшим вдруг хриплым, произнёс кок. – Я хочу посмотреть на Еву.
– Это… Это зачем?
– Капитан меня на берег не отпускает. Личные счёты… И я полгода женщин не видел! А у тебя она там, в каюте. Отведи меня посмотреть. Я хочу на неё посмотреть! И тогда дам хорошей еды.
Майкл, сделав шаг назад, к двери, отрицательно покачал головой.
– И лимонов дам! – поспешно добавил кок.
Но его гость повернулся и открыл дверь.
– Эй, приятель! – выкрикнул тогда кок. – А она в самом деле невеста, или ты её уже сделал… женой?
Майкл обернулся. Кок, растянув губы в гаденькой улыбке, стоял, сложив руки на животе. Он был определённо тяжелее Майкла – раза в два, и вдвое же старше. Но Майкл, шагнув, размахнулся и отвесил ему крепкую оплеуху. Кок покачнулся, присел – и заработал тяжёлыми кулаками…
Вернувшись к каюте, Майкл постоял, прижав к боку ладонь, отдышался. Потом отпер дверь и вошёл. Пушки всё так же бухали каждые полминуты, и Ева, повернув голову, снова спросила:
– Что… там?
– Всё хорошо, дорогая моя, – ответил Майкл, стараясь говорить спокойней и твёрже. – Капитан канониров муштрует. А ты уже вполне бодро выглядишь. Вечером я отведу тебя погулять по палубе.
– А я смогу?
– Конечно, сможешь. Я ведь вижу, что ты идёшь на поправку. Так что вечером подышишь свежим воздухом.
Сказал, – и осторожно лёг, вытянулся и затих.
Погулять по палубе, однако же, им не пришлось. Шторм налетел с такой дикой яростью, что стоять можно было только во что-нибудь крепко вцепившись. Даже для того, чтобы лежать на кровати, нужно было держаться за специальный «штормовой» бортик. Майкл, собрав все силы, поднялся. Он хотел привязать Еву к этому бортику, но большая волна, ударившая в корабль, швырнула его на пол каюты. В тот же миг туда, к Майклу сбросило Еву. Они крепко обнялись и уже не пытались подняться: так было и удобнее, и безопасней.
А волны раз за разом били в старые борта «Бофура», и обшивка его скрипела так пронзительно, что временами это походило на визг. Вдруг корабль попал в «водоворотную плешь» – образовавшееся между волнами пустое, коварно-гладкое пространство. «Бофур» начал опрокидываться боком в эту «яму», и, когда он с гребня волны стремительно полетел к её дну, оттуда, из глубин выскочил, вздыбился тяжёлый, летящий с огромной скоростью столб воды. Удар был таким сокрушительным, что борт лопнул. Кажется, всем на корабле было слышно, как водяной столб с хрустом пробил обшивку и потоки воды хлынули в трюм.
– Всем покинуть корабль! – громко выкрикнул капитан. – Все – в шлюпки!
– Я не смогу дойти до палубы, – прижавшись ртом к уху Майкла, выговорила девушка. – У меня нет сил даже ползти.
– И я не смогу тебя довести! – скрипнув зубами, пробормотал он. – Я… кажется, рёбра сломал.
– Тогда спасайся хоть ты! – Ева сделала слабую попытку оттолкнуть его от себя. – Ползти-то ведь сможешь?!
– А ты?
– Останусь здесь. Видно, так суждено.
– Тогда я тоже останусь. Вдвоём умирать не так страшно.
Никто из команды вниз не спустился. Один раз только кто-то из матросов, заглянув в люк со стороны квартердека, прокричал: «Корабль тонет! Все в шлюпки!» И, спустя какое-то время, на «Бофуре» стихли и топот, и голоса. Ева и Майкл, обнявшись, лежали на полу своей крохотной, снятой за большие деньги каютки. Майкл непрерывно читал молитву – главную из всех, которые знал – «Отче наш». Они готовились к смерти.
Но прошёл час, и другой, и третий, а корабль всё не опускался под воду. Наоборот, качка стала стихать, и Майкл ощутил, что они не просто лежат на полу, а почти стоят, упираясь ногами в борт. Стало ясно, что «Бофур» завалился в сильнейший крен. И ещё, – самое странное, – что он всё-таки держится на плаву.
Шторм захватил их, как оказалось, лишь своим краем, и, спустя ещё часов шесть качка настолько стихла, что Майкл рискнул выбраться на палубу и осмотреться. Он подполз к фальшборту и увидел обнажившийся бок корабля. В самом центре его чернел огромный пролом. Но удар волны, пробившей борт, сорвал с мест бочки и другой груз в трюмах, и тот, сгрудившись у противоположного борта, свалил корабль в крен. От этого пролом поднялся над водой, и вода перестала заливать трюмы.
Привстав ещё над фальшбортом, Майкл осмотрел круг горизонта. Море было пустым и спокойным. Нигде не было даже признака шлюпок.
Прижав одну руку к ноющим рёбрам, а второй цепляясь за снасти, Майкл поспешил вниз – но не к Еве, а в камбуз. Когда через полчаса он вернулся в каюту, в руках у него были бутылка с пресной водой, сыр, лимон и две холодные, сваренные в кожуре картофелины.
«Бофур» оказался из крепких, упрямо цепляющихся за жизнь стариков. Хлопая разорванными парусами, почти касаясь реями поверхности воды, он ещё неделю тащил последних двух пассажиров, и предъявил-таки Богу своё заключительное благое деяние: вывез их к скоплению островов, – большой и надёжной земле.
Ветер и прибрежное течение выбросили корабль на подводные скалы возле маленького, покрытого плотной зелёной растительностью островка.
Цепляясь за обломок такелажа, спасённые пассажиры «Бофура» доплыли до берега. За эту неделю Майкл поправился настолько, что смог вскарабкаться на ближайшее дерево. Осмотревшись, он сообщил своей спутнице:
– Слева, милях в пяти, ещё один остров, гораздо больше нашего. И справа видны острова – но те совсем далеко, у самого горизонта.
– Что будем делать? – спросила, запрокинув голову, Ева.
– Отдышусь, – сказал Майкл, спрыгнув на белый песок, – поплыву на «Бофур». Пока его не разбили волны, нужно переправить на берег всё необходимое для жизни. Особенно воду, оружие и рыболовную сеть.
Он действительно сплавал на пронзённый подводными скалами корабль – но только один раз. Судьба решила, что удачи эти двое получили вдоволь, – и отворотила от них свой всесильный и невидимый взор. За какие-то полчаса поднялся сильный и порывистый ветер, и на глазах у новоявленных островитян высокие волны раздробили корабль о подводные камни. Оставалось надеяться только на то, что на берег выбросит какие-нибудь бочки и ящики. А пока из всего имущества, которое Майкл сумел привезти, имелись лишь анкер с водой, топор и дюжина одеял.
Однако к их островку не прибило ничего из содержимого трюмов «Бофура».
– Нет каболки, – сокрушённо говорил Еве Майкл. – Значит, нечем связать плот. Рыболовных сетей не нашёл. Нет воды. Нет огня. Как глупо – умереть, ступив на твёрдую землю!
Ева утешала его, как могла. Но отчаяние давило и мучило и её, и она старательно прятала от Майкла невольные частые слёзы.
Нет! Не закончились на этом их переживания! Странную, небывалую смесь ужаса и ликования испытали они, выбравшись утром из-под просушенных одеял. Рядом с их случайным временным лагерем стояли бочонок с водой, две корзины с провизией, плетёное лукошко с куриными яйцами (сваренными!), а также лежал большой кусок парусины с завёрнутой в него лопатой. Кроме того, на парусине лежали кремень, огниво и сухой трут.
– Та-ак, – прошептал Майкл, потрясённо разглядывая то, во что разум отказывался верить. – А ты, Ева, что-нибудь видишь?
Девушка, торопливо поправляя спутанные за ночь волосы, подошла и присела перед корзинами.
– Здесь где-то есть люди, – произнесла она, не решаясь прикоснуться к дарам.
– Очевидно следующее, – взволнованно проговорил Майкл. – Первое: Люди здесь есть. Второе: их жизнь здесь благополучна. И третье – эти люди добры.
Он взял из корзины одно из сваренных вкрутую яиц, «клюнул» его сгибом пальца и, с хрустом содрав скорлупу, надкусил.
– Свежее, – промычал он и протянул Еве бело-жёлтую половинку.
– Но Майкл! – не обращая внимания на крошечное жёлтое солнце в её ладони, воскликнула Ева, – если люди были здесь ночью, значит, у них имеется лодка! Или даже корабль!
Быстро взглянув друг на друга, они что было сил помчались по кромке своего островка, вдоль медленных волн уставшего после вчерашней бури прибоя.
– Вот!
Майкл остановился. Ева, тяжело дыша, догнала его и встала рядом. Волны успели слизать с песка ночные следы ног, но неглубокая, вдающаяся в берег канавка отчётливо выделялась.
– Канавку оставил киль шлюпки, – уверенно заявил Майкл. – Значит, ночные гости приплывали к нам вон оттуда.
Он поднял голову и стал всматриваться в лежащий неподалёку остров.
– Неужели там кто-то есть? – прижав руки к груди, с надеждой и страхом прошептала Ева, отступая к Майклу за спину.
И, словно в ответ на её слова, от острова отделилось тёмное пятнышко и стало медленно двигаться в их сторону. Шлюпка! Невесомо и до странного медленно поднимались и опускались на воду вёсла. Вихрь мыслей пронёся в головах последних пассажиров «Бофура». Страх всё отчётливее стал холодить их сердца. В самом деле, кто знает, что за люди приближаются сейчас к ним в этой неведомой шлюпке – так медленно, и так неотвратимо? На окраинах мира, где нет ни полиции, ни друзей, ни хотя бы добрых соседей – лучше встретиться с ядовитой змеёй, с диким зверем – нежели встретиться с человеком. Привезли ночью еды и огня? Так что же? Вдруг это пираты, торгующие рабами, которым выгодно, чтобы двое случайных гостей на ближайшем невольничьем рынке выглядели хорошо? А вдруг это каннибалы? Или прокажённые, страдающие от неизлечимой, прилипчивой, страшной болезни? Как тяжело ожидать…
Уже стали отчётливо слышны шлепки длинных вёсел, и шлюпка шевелилась в вялых волнах уже совсем близко – о, Боже!! Майкл испуганно сделал шаг назад, и Ева, негромко вскрикнув, вцепилась ему в плечо. В шлюпке сидели четверо гребцов – глубокие, древние старики. Такие древние, что, казалось, их бороды – это столетняя пыль, смешанная с паутиной. Иссохшие, чёрные руки их медленно, вяло, с нечеловеческим – казалось с берега – напряжением поднимали тяжёлые вёсла.
Киль лодки пробороздил песчаную отмель, костлявыми, дрожащими от напряжения руками уложили старики вдоль бортов вёсла, медленно сползли в воду, вытянули на несколько шагов чёрную, полусгнившую шлюпку повыше, на берег, а Майкл всё стоял, прикрывая Еву плечом, не решаясь не то что помочь, а даже пошевелиться.
Закрепив фал, старики, волоча по песку намокшие полы хламид, подошли, остановились в некотором отдалении, поклонились. Поклонился и Майкл и, не выдержав наступившего после этого долгой тягостной паузы, выговорил:
– Добрый день…
Очень похожие на живые скелеты старцы переглянулись, кто-то из них обронил, словно каплю мёда на сердце, родное, милое слово «-Голландия!», и обратились к Майклу и Еве на не очень правильном, но всё же вполне понятном голландском. Было сказано:
– Добро пожаловать в Эрмшир, добрые люди.
– Как хорошо, что вы знаете голландский! – не сдержал изумлённого ликования Майкл.
– Мы знаем все языки всех народов, – грустно ответил говорящий на голландском «скелет».
– А разве это возможно? – полушёпотом спросила у Майкла всё ещё прячущаяся за его спиной Ева.
– О, да! – ответили ей – но не Майкл, а невесело улыбнувшийся старец. – Почти пятьдесят лет мы жили на этом острове. А собраны были со всех стран всего огромного света. Трудно ли за пятьдесят лет обучить окружающих своему языку?
– Вы обучали друг друга каждый своему языку? – заинтересованно спросил Майкл. – Но как вы собрались здесь? Кто вы?
– Многие из нас были когда-то отъявленными злодеями в мире людей. А многие состояли в должности местных тюремщиков. Теперь все мы – свободные, в пределах, разумеется, Эрмширского архипелага, люди, ожидающие завершения своего земного пути.
– Злодеи?! Тюремщики?! Здесь что же, тюрьма?
– Очень скоро вы всё узнаете, добрые люди. Мы всё вам покажем. А сейчас разрешите помимо всех прочих вопросов задать вам один, самый главный. Не встречался ли вам там, в Большом Мире, человек-великан? Высокий, худой, с белыми волосами и добрым лицом? Имя его было – Глем…
Эпилог – постскриптум
Никогда ещё нога женщины не ступала ни на один остров Эрмширского архипелага, и впечатления Евы от того, что открылось ей за несколько лет жизни в этом затерянном, полном невероятных тайн мире, вполне составили бы удивившую читателя повесть, но автор этих строк полагает, что всё же лучше увидеть Эрмшир глазами другой девушки, которую жизненный путь её, непредсказуемый, изломанный и кровавый, приведёт однажды сюда: девушки-волчонка, красавицы с искалеченным сердцем, ремесленника-убийцы, голубоглазой Адонии.
Конец четвёртой книги
Примечания
1
Шибер – задвижка в каминной трубе, вращающаяся на оси, ручка от которой выведена наружу.
(обратно)2
Wood(англ.) – лес.
(обратно)3
Ползолотого
(обратно)4
Инициация – в некоторых культурах обряд посвящения, – или в воины, или в члены племени, или в касту жрецов.
(обратно)5
Антэ– начальная, равная для всех участников ставка.
(обратно)6
Имелось в виду – на своих первоначальных пяти картах, без замены.
(обратно)7
Дюк – англ. – герцог.
(обратно)8
Аверс – лицевая, реверс – оборотная стороны монеты.
(обратно)9
Пара – две одинаковые карты, самая слабая комбинация в покере.
(обратно)10
Vis-a-vis(франц.) – «тот, кто напротив».
(обратно)11
Тривиально – элементарно, предельно просто
(обратно)12
Джокер – карта без масти и без значения. По желанию игрока выдаётся за любую другую карту. В колоде обычно два джокера.
(обратно)13
Покер – высшая по силе комбинация: пять одинаковых карт.
(обратно)14
Квази (лат.) – «около», «как будто».
(обратно)15
Сбоить (термин наездников) – спутаться, пойти вразножку
(обратно)16
Раритет – уникальная редкость, единственный в своём роде предмет.
(обратно)17
Когда пальцы не скользят по лезвию, бросок получается далёким и точным
(обратно)18
Робин Гуд, благородный разбойник из Шервуда
(обратно)19
«Японская звезда» – метательный снаряд самураев: небольшой диск с выступающими по окружности острыми лезвиями-шипами
(обратно)20
Ingenui vultus puer ingenuique pudoris(лат.) – Мальчик с благородной внешностью и благородной скромностью.
(обратно)21
Компилляция – исследовательский труд, составленный из цитат
(обратно)22
«Родственниками церкви» называли добровольных помощников инквизиции
(обратно)23
Lupus(лат.) – волк.
(обратно)24
Квалификатор – представитель светских властей, обязанный следить за соответствием хода допроса юридическим нормам
(обратно)25
Vade mekum(лат.) – следуй за мной.
(обратно)26
Humanum est mentiri(лат) – Человеку свойственно лгать.
(обратно)27
Партикулярное – гражданское, светское.
(обратно)28
Ad usum proprium(лат.) – Для личного использования
(обратно)29
Quia nominor lupus(лат.) – потому, что имя мне – волк.
(обратно)30
Esse femina(лат.) – Вот женщина.
(обратно)31
Посовещавшись (лат.)
(обратно)32
Подобен трупу (лат.).
(обратно)33
Ubi nihil, nihil(лат.) – Где нет ничего – там нет ничего
(обратно)34
Ipsedixi(лат.) – сам сказал
(обратно)35
Optimus testis confitens reus(лат.) – Признание обвиняемого – лучший свидетель
(обратно)36
Etiamin nocentis codit mentiri dolor(лат.) – Боль заставляет лгать даже невинных
(обратно)37
Judex damnatur, cum nocens absolvitur(лат.) – Оправдание преступника – это осуждение судьи.
(обратно)38
Incredulus odi(лат.) – Не верю и испытываю отвращение
(обратно)39
Апокриф – тайна
(обратно)40
Mea culpa(лат.) – Моя вина
(обратно)41
Swallov(англ.) – Ласточка
(обратно)42
Omnia mea mecum porto(лат.) – всё своё ношу с собой
(обратно)





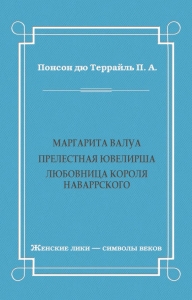

Комментарии к книге «Серые братья», Том Шервуд
Всего 0 комментариев