Тоя же осени, декабря 6 дня прислали к Великому князю бити челом горняя черемиса, Туга с товарищи дву черемисинов, чтобы государь пожаловал, послал рать на Казань, а они с воеводами царю служить хотят.
«Царственная книг,а», с. 126
Аркадии Крупняков
Сказанue о том, как Русь татарское иго сбросила
|{|іигл третья
ЙОШКАР-ОЛА МАРИИСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 19 7 8
Роман «Марш Акпарса»— третья книга трилогии «Гусляры». В «ей рассказывается о завершающем этапе/борьбы Московского государства за свою независимость и о присоединении Марийского края к Руси.
>
Как известно, роман «Марш Акоареа» издавался ранее в Марийском книжном издательстве (дважды) и в Москве (издательство «Советская Россия»). В данном издании автор расширил и изменил многие моменты в историкохудожественном повествовании, устранив недостатки, на которые указывала критика. Так, гораздо полнее освещена связь марийцев с соседями — татарами и чувашами, которые не менее их терпели насилие крымских и казанских феодалов. глубже раскрыто социальное расслоение. Казанского ханства и Марийского края. Значительно сложнее раскрыты образы главных героев — Аказа Тугаева, Эрви и других. . .. - г . - Г
Оформление художника Б. А АРЖЕКАЕВА
© Марийское книжное издательство, ’1978
Свадьба в Нужєналє
ТУГА
Л
еса пели. Ветер качал высокие стройные сосны, и те звенели, словно струны. Ветер ударялся о могучие груди раскидистых елей, отчего по лесу шел гул, глухой, будто рокот барабана. слетали на ветру листья осины, дуба и клена.
Леса, прогретые летним солнцем до самых глухих чащоб, дали приют множеству птиц. Лились трели соловья, многочисленные пичужки наполняли своим щебетанием рощи и поляны, над берегами пек, озер и болот ухали филины и луни, куковали кукушки.
Все они славили жизнь радостную, буйную и неукротимую.
В один из дней к лесному хору прибавилась еще одна песня.
Ее пел человек.
Он сел на поваленное бурей дерево и положил на колени гусли. Пил го смотрел на деревья отрешенными глазами, мысли, видно, омчн где-то далеко, потом заиграл. Сперва гусли звенели тихо и III | по По вдруг в спокойную мелодию ворвался рокот струн, вла- . тми п лопущий. Под упругие звуки, мерные, как шаги, хотелось мл|и чилеко-далеко. Они, эти звуки, будоражили кровь.
Человек запел.
Ио была не просто песня. Над лесом разносилась песня-марш. •!■ I < I по к игл о тм, что он молод и зовут его Аказ. Семнадцать лет
ни н ............. ч(и щи, в прошел совсем мало. Еще далеко надо идти, а
лн|н>1 и Iрулив Может, даст ему силы любовь? Завтра,— поет че-
ловке г|11 гиидвбп (иигра в кудо Аказа придет новый прекрас-
М11в 41 ловец и тонут его »рви. И они вдвоем зашагают под эту НЦМ111, нии вместе ноиеду| народ на светлую поляну жизни.
НигНМ кончились,
Чилощ и и. 1.1 I и у ним теши» посмотрел на гусли.
#([1]>н 1и ролмлвн. <Iв песни? спрашивал он.— Откуда лилась • 1Я МИНН» ВЛI или и е |о л || и I* Неужели из сердца?»
Дн, ........................... ... I с вило ннюмпить надолго, на всю жизнь.
ИуиЬ ОНИ ЦОМ01Л* I И пу III, пул II. у нес будут другие нужные в свое
■рим ил. ну. и. е» титл . лунпп-г и поет народ и знает, что
м4*у Аил I ллриI н у неешо.
безмен похож. Горе висит на длинном конце безмена, оно большое и тяжелое, как камень. Радость маленькая и короткая, как конец, на котором крючок. Пока груза на крючке нет, она ничего не весит. Горе Топейки: Эрви выходит замуж за Аказа. Втайне надеялся Топейка, что Эрви заметит его любовь, а Боранчей в награду за хорошую работу отдаст дочь ему в жены. Но напрасно надеялся. Теперь одно утешение: поставил его Аказ на свадьбе савушем, теперь он будет свадьбу вести.
Топейка торопится — без савуша какая свадьба.
Вот и илем Туги. Хороший хозяин Туга. Давно ли перебрался на новое место, а двор жердями огородил, ворота поставил. Весной вокруг двора белым цветом яблони бушевали, а теперь деревьев не видать. Заслонила их высокая только что срубленная клеть.
За изгородью слышатся шумные разговоры, песни. Голоса Аказа что-то не слыхать, вот беда будет, если не дождался, если один за невестой уехал.
Хорош савуш, если проспал самый важный момент.
Пакман тоже на свадьбу торопится. Злость душит Пакмана. От обиды и горя плакать хочется. Отец, правда, намекал на что-то, но Пакман не верит ему.
Не успел Пакман подойти к изгороди, как увидел Шемкуву. Старуха будто из-под земли выскочила. Заметила его, заспешила прочь.
— Подожди, старуха! — грозно сказал Пакман.
— Здравствуй, красавец. — Шемкува моргает глазами, но к Пакману не подходит. Парень видит робость старухи и еще сердитее говорит:
— Ты зачем сюда пришла?
— Узнала, что свадьба, вот и пришла. Может, думаю, шорвой[2] угостят.
— Я тебя угощу плеткой! — сквозь зубы произносит Пакман, взмахивает черенком, ловит ремешки в горсть.
— Зачем такой сердитый, патыр?— укоризненно говорит Шемкува.
— Ты десять беличьих шкурок моих взяла?
— Взяла, патыр, взяла, — Шемкува покорно мотала головой.
— Про муравьев, ползущих по дереву, говорила?
— Говорила, Пакман, говорила.
— Тогда почему на Эрви женится Аказ вместо меня? Плохо колдовала, нечистая сила! Белок отдашь обратно!— Пакман схватил руку Шемкувы, сжал. Старуха, стоявшая до той поры сгорбившись, опираясь на клюку, вдруг выпрямилась, глаза ее сверкнули, она вырвала руку и угрожающе прошипела:
Отойди, неразумный! Ночью меньше спать надо. Любимую девушку воровать надо. Убери руки! Наколдую — отсохнут!
Пккман в страхе не заметил, как перемахнул через изгородь ||к|н'Н1. ничего не боялся — колдовства боялся.
Им дворе уже было много народу. Девушки знакомые и незнакомые, парни, женщины, старики, мужчины в веселом возбуждении ч* іиди по двору. Это татары гостей на свадьбу зовут. Черемисы— нет. Приходи, кто хочет, каждый — гость.
И потому ожили лесные тропинки, люди всех ближних родов прибывают и прибывают. Шумно во дворе.
Аказ думал, что Мырзанай на свадьбу не приедет. Их деды и шт.! и неприязни жили, а теперь и у сынов ладу нет. Сначала икрились из-за земли, потом — из-за власти. Так получилось: по ,** левую сторону Юнги самый большой и богатый лужан у Туги, по правую — у Мырзаная. Каждый своих сторонников имеет. У Туги старейшины Сарвай и Эшпай, у Мырзаная — Атлаш. Вот и сейчас Мырынзай с Атлашем приехал. Подарки привезли богатые. Сошли с коней, степенно вышли на середину двора, разложили посуду, шкурки, ткани. Мырзанай распахнул суконный кафтан, чтобы видели, люди, какая у него рубаха — из белого шелка, расшитая красной нитью в Казани купленная. Поклонился Туте, сказал важно:
Почтенному Туте — поклон земной. Салам и вам, старейшины I ебе, Сарвай... Тебе, Эшпай... Тебе, карт Аптулат! А где жених? Я не вижу Аказа...
Готовится ехать за невестой.
Я рад, что ты на свадьбе, Мырзанай,— говорит Туга и указал место па скамье.
Нее сидится.
Прости, сосед, узнал о свадьбе поздно. Хорошие подарки собрать было некогда. Совсем недавно говорил с Аказом. Не думал |1Н и** пип.* м Да и Эрви была обещана другому.
Аказа надо бы давно женить, — говорит Атлаш сурово,—горяч больно,— продолжает Мырзанай.— Но я скажу, чго Шумнм (ы наш глава, мы чтим тебя, но сыну ты большую волю дал. - сказал Миш.
- Он молод,- говорит Эшпай.— Вот женится и станет поумнее.
- Поумнет ли?
- В молодости все мы горячи,—покачивая головой, отвечает Грримй. А наступит время...
Я как раз об этом хочу говорить,—Туга, кряхтя, присаживаясь на край скамьи.—Вы видите, старейшины, я дряхлею, почти весь мой срок на исходе, мне уже тяжела ноша лужавуя всей луговой строны,
— Ты до моих лет доживи,— перебивает его Аптулат.— Мне девяносто скоро. А в твои года я себя молодым считал.
— Нет, нет! Решил твердо. Вручаю свою тамгу Аказу. Пусть моим лужаем он правит.
— А Горной стороной? — тревожно спрашивает Атлаш. Ведь только ради этого они с Мырзанаем затеяли разговор об Аказе.
— Сами решайте. На то вы и старейшины. А я после свадьбы уйду в лесное кудо, буду лечиться травами, буду молиться богу.
— О чем вы говорите, старики? — с упреком сказал карт.— Вы на свадьбе, а не на совете старейшин. Пойдем, пива выпьем...
Аказа Топейка нашел в кудо. Жених уже к свадьбе готов: одет в беличью легкую шапку, на плечах кафтан белого сукна с глухо застегнутым воротом. Узкие штаны из толстого конопляного холста тоже белые- Пояс на кафтане с медными бляхами. Под ним подоткнуты два узких вышитых полотенца. Это солыки — знаки новобрачных. Сапоги новые, со скрипом.
Топейку жених встретил радостно, выпили втихомолку по ковшу меда-браги. Савуш не сердится на Аказа. Не его вина, если Эрви не любит Топейку.
Туги в кудо нет — ушел готовить лошадей и людей к поездке за невестой. Ждать его не стали, пошли к гостям. Только вышли во двор — услышали музыку. Пожилой музыкант с усердием надувал шювыр[3], низкорослый молодой его товарищ, приплясывая, бил ребрами ладоней в тюмыр[4].
После музыкального зачина пошла девичья песня, чистая веселая. Девушки поют в движении:
В лапотках девятилычных В хоровод плясать идем,
И в кафтанах шестиполых У березок мы поем.
На руках блестят браслеты И монисты на груди.
Если петь-плясать не можешь.
Парень, к нам не подходи.
Огоньки в глазах играют,
Заразительно горят И ресницы все сто двадцать Дружно вздрагивают в лад.
Мне богатого не надо —
И чванливый он, и злой.
Подходи, Эчан, любимый,
Погуляем мы с тобой[5].
Топейка слушает песню, про себя думает: врут девки. Редко какая отказывается от богатства. А только Эрви не такая. Был бы
Аказ, беден равно его полюбила бы. Он и красив, и силен, и Лучший охотник. Слава про Аказа далеко идет.
Кончились слова, но не кончилась музыка — генерь идеї вширь ** V |*1 • ' 11 -11 у 111 к и поют трепетное «Оля-ля-ля-лель-ля» и долго еще иг и, Ждать их некогда — кони уже на дворе. Первым па коня садится савуш, за ним жених, а потом дружим и її Нссго двенадцать человек. У савуша есть и запасной конь
МММ ІИ МГГ I Ы
'I' пит, мы скоро вернемся!— кричит савуш, и все верят, что у невесты долго не задержатся, вчера там уже отгуляли.
Дирога до дома Боранчея прошла в молчании. Топейка и Аказ думали каждый о своем. Да и торопятся, не до разговоров.
На дворе невесты жениха никто не встретил — такой обычай. Минин черемисы за невестами открыто не ездят. Приходит пора для семьи — парень подсматривает девушку и выкрадывали. Позднее же, когда о женитьбе стали договариваться отцы, И* •’ рнвцп I.311110 ли, открыто ли везут невесту, делают это похожим на кражу. Знает Аказ, что все в илеме ждут жениха, но никто из кудо не выйдет — так надо.
Савуш соскочил с коня первым. Он вбежал в кудо, схватил ври шейное угощение. Па дворе разостлал холст на траву, разложил і і у и питье, махнул рукой. Все приехавшие с савушем ИНЧІІІІДІП її, привязали к изгороди коней, расселись на граве Двор по-прежнему пуст. Аказ чувствует, что из кудо, из клетей, из-за н н і » р и 111 на них смотрят десятки любопытных глаз, но на двор Ції "ШИ, нельзя. Покажется хоть один человек — невесту не увезут. Какая же это будет кража, если похитителей захватили. )lin ніірп подкрепившись, савуш приступил к самому главному — к Ишь ним невсте. Жених с запасной лошадью стоит у ворот. Савуш взял троих товарищей, вытолкал жениха за ворота и уве
рении нннрннидсн в клеть.
Эрви была в клети. Она сидела с подругами, одетая и готовая в путь. На ней рубаха белого холста — тувыр Долго вышивала эту рубаху Эрви. Вышивка не только на груди, на плечах и на
и, и на подоле, и по швам. Шелковый алый поясок прихва-
тывали изящных солыка. Поверх рубахи наброшен шо- • иПирвпмн но бокам и сзади. На лице—легкий платок — і нічі м- Скоро его откроет жених — и Эрви распрощается с домом.
К|ЙМшли шит, подруги сбежались в подклеть, оставив невесту (ІДИу К ін і і Топейка появился в дверях, Эрви испуганно вскрикну-
ла по обычаю. На самом деле девушка была рада и давно
Вуїі'їн ........... Парни молча подошли к невесте, взяли ее крепко за
||рМН ........ локтей и повели к выходу Эрви упирается, не идет — таков обычай. Душой она давно рядом с любимым. Девушку подвели к коню, сильными руками посадили в седло. Невеста перескочила на другую сторону. Парни на лету ловят строптивую и бросают снова на коня. Эрви знает обычай — надо спрыгнуть еще раз и смириться только тогда, когда савуш применит к ней свою власть: стегнет плеткой по спине. Савуш безжалостно трижды бьет невесту плетью, и Эрви, подав жениху руку, сама прыгает в седло.
Аказ тронул коня.
Вскоре по этой дороге помчатся родные и гости невесты. По обычаю, вроде бы в погоню, на самом деле — гулять на свадьбе...
Уже два часа, как невесту привезли в Нуженал, но никто, кроме карта, не видел ее. Даже Аказу раньше времени не разрешили открыть вюргенчык. Всему своя пора. Пусть сначала невеста сварит лапшу, пусть покажет, какая она хозяйка. Пусть пройдет через обряд дарения, потом уже увидят ее жених и гости.
Пока карт испытывает невесту, пока идет обряд дарения, молодежь не теряет времени даром. Среди молодых властвует Топейка. Вот он выносит на середину двора барабан, девушек и парней собирает в большой круг.
— Сейчас судьбу спрашивать будем,— объявляет савуш и что- то шепчет около тюмыра. Потом, крутнув барабан, он с силой подбрасывает его вверх. Тюмыр, вращаясь, падает на землю, делает неожиданные закруты и катится под чьи-то ноги. Если это ноги девушки — быть ей в этом году замужем, если парень — быть женатым.
Носится по кругу барабан. Взвизгивают девушки; как гуси, гогочут парни.
Шутки, смех, шум.
Вдруг савуша в кудо зовут. Видно, кончен обряд дарения Савуш снимает перекинутое через плечо полотенце и важно шествует в кудо. Здесь он связывает невесте руки полотенцем и концы его передает двум своим помощникам. Те ведут Эрви к костру, около которого стоит жених. Невеста притворно упирается, а савуш слегка стегает ее плеткой.
Будто тысяча комаров, звенит шювыр, раскатисто гремит тюмыр, рокочут тревожно струны гуслей. Невесту ведут в последний девичий путь. Сейчас невесте откроют лицо. Эрви подвели к костру, и теперь только язычки пламени отделяют ее от Аказа. Савуш махнул плетью — смолкла музыка. В глубокой тиши он подошел к невесте, осторожно взялся за кончик вюргенчыка, дернул. В лучах солнца блеснули черные глаза. Люди ахнули от изумления. Невеста — краше не бывает! Ахали даже те, кто раньше видел Эрви. В наряде невесты она еще прекраснее. Аказ подошел к ней, неторопливо развязал руки, передал полотенце савушу, поставил невесту рядом. Снова звучит музыка — из кудо с большой деревянной чашей.
НМ и мы холит карт. Он приближается к жениху и невесте, ставит их мм ми/пит, просит тишины. Торжественно звучит голос карта:
Вы,муж и жена, примите мое благословение. Живите хорошо.
, Пол мних бойтесь, малых стыдитесь. Будьте долговечными,
Понпымп Слушайте голос рода, а также взаимно любя живите. Теперь, если свои подарки дарили от души, то и выпейте душевно.
Аказ принимает чашу с медом, пьет до половины, передает нечесте, она допивает остальное.
- Пусть, говорит карт,— будет у вас много детей, пусть охота ваша будет удачной, пусть у вас будет полно скота и хлеба-
И.о. V11 ..... солнце, поднимаясь, как луна, наполняясь, как звез-
*м - ні і к. t., пусть будет такая вся ваша жизнь. Да поможет вам
Пусть и. будім иочиеличено ваше стояние на коленях.
ІІ і і м мм II їм
На другой тарелке Топейка вынес из кудо стопку блинов,
мит и ммм і и 1|о.1ч кдщомых колышка. Карт привычно берет нож,
С
мой о........... -у на части. Две половинки верхнего блина
МI Д Ф ММ ММ I ММ ЮИЫШИН и подает жениху и невесте.
il t ........ III НПО I III молнии перед костром и подносят блины к
їм мм • и ном mot у • її. і ммммПным блины попробует Тул Кугу
см и а м мі м» ими жм горячими, как будет горяча
ІВЬ ІІИНОПрл ОІН «
..................................... кім свадебные
опальная чисть блинов роздана гостям
Н мил ми. і і Іуїм Он крепко прижал их к груди, взволно-
мино nul oui
11рими ii‘ и мое благословение, дети мои. Живите дружно, ІйПнійАн мною (I себе меньше думайте, о нашем народе больше ійПоіьіі'ь А\ы і Ьораичеем старики, умрем — люди к вам за сомі мім при а у і 11 у а ь і е мудрыми, добрыми, справедливыми. А сейши и с ( г7| III «м Ь, 101 I II, ни п., есть садитесь.
Ilu шору прямо на траве разбросаны широкие холсты. На них и бгріч і иных і уш ках хмельная шорва, дымится блестящая жиром (ИМИ юры рассыпчатых туара и, конечно, коман мелна1. Мясо (іирммос, пареное какое хочешь! Пива, меду — пей сколько
НМИМ'ШЬи,
I на свадьбе — хозяин. Сам ест, сам пьет — угощать
и. і іамолкла музыка, разговоров не слышно. Не до них — рот
S in с. і аой занят. Кипит, пенится в чашках пиво, трещат на зубах Уїмніїс копи, гости пьют и едят. Летят за ограду обглоданные м.и мы іям из-за них дерутся собаки.
( п ну in и ноту весь — не успевает таскать из клети кадушки с
пивом. На го он и савуш — свадьба все время должна идти без задержек. Туга и Боранчей по-стариковски гуляют в кудо. Пока пиво из каждой кадушки пробовали — напробовались. Оба лежат на нарах—песни без слов поют.
Ковяж и Янгин запалили в стороне еще один костер — на вертеле жаряі козла, убитого в лесу перед свадьбой. Много работы у братьев: накормить столько гостей — не шутка. Два часа насыщались гости. Видит савуш: напились, наелись все досыта. Многие уже запачканные в жире пальцы вытерли о волосы. Другие жмутся ближе к музыкантам. И Топейка кричиг:
— Люди! Кто хочет есть лапшу молодой жены? Узнайте, какая из нее будет хозяйка.
Мужчины машут на жен руками, идите, мол, вы, мужское ли это дело — лапша.
Несколько женщин идут в кудо и скоро возвращаются, качая головами,—лапша молодой жены пеш сай![6]
— Теперь надо узнать — на гуслях невеста играть умеет ли?— кричит савуш и подносит Эрви гусли
Эрви кладет инструмент на колени и начинает медленно перебирать струны. Гусли звенят печально, и еще печальнее звучит песня Эрви:
На лужайках на зеленых Мы поем до сенокоса,
А у девушки веселье Лишь до свадьбы.
После — слезы.
Как вольготно зверю, птице До открытия охоты...
А у парня после свадьбы И тревоги, и заботы.
«Правду говорит песня»,—вздыхают семейные люди и охают, слушая ее. Вспоминают молодые годы. А две молодайки, подвыпив, свою песню запели:
Мака красный огонек Опадает в ранний срок...
Век девический короток —
Увядает, как цветок.
Но Савуш огрел плетью пьяных баб, велел замолчать. Он ведет свадьбу по прямой тропинке — в сторону уходить не дает. Он опять кричит:
— Пусть Аказ подарит молодой жене песню. Пусть споет!
Гусли от невесты переходят к жениху. Аказ вспоминает мелодию, что пел недавно в лесу, и дарит ее невесте со словами, которые сразу же берет в своей душе:
Гусли, сердце раскройте мое,
Птица-песня, людей позови.
Моя радость и счастье мое —
Цвет зари, дорогая Эрви.
Прилетают к нам птицы весной...
И крылатой стрелой журавлей В мое сердце вошел облик твой.
Ясным светом стал жизни моей.
Расцвели и леса, и сады,
Мне черемухой кажешься ты,
И поешь ты звончей соловья,
11гнлглилная лада моя.
Шумим одобрении встретили гости конец песни. Они, однако, мм ■ пин.* ni гг | ) о и utile ни разу. Больно хорошая песня. С таким
мужем и пп. легко будет жить. А девушки думают, какая
ni Ни иг дремлет савуш. Дал знак, унесли холсты ■ ни |ни мпхнул плеткой — ударили музыканты в
imWMp
f ni i н I и р и и и i I и и у ni Пляску начинай!
^|«>УШИН lUIMIIiyi llllixlln, ПЛИНИИ flllpllll с озорством дрыгают
Н.М ВЫИ Пумм, М. ................ бычки Мужики е песней, с шутками да
|йИ||у1»мми. II ........................................................... Г жалобой па тяжелую
I mil и к н мши и мин v t. i ригу i пианами, на одном месте топ- Чуин II il i много ли напляшешь?..
Iny i и ni к mi i р. i i •' р ni ю i сердце Пакмана, словно пилой, удары
м ............... у ni п ю t Раньше была слабая надежда: в народе шли
£ду*н и" Г 11 и ми oiaaci тамгу Большого лужавуя Мырзанаю. IVIн и мир и i ииеиплен Рели бы отец стал главой всей Горной стороны mi помог бы Пакману отнять Эрви у Аказа. А сегодня иг* у ni ci и Линч f i пне i лужавуем. Он молод, силен... И не видать Пакману Эрин Бросился парень со двора, прибежал в священную нишу, упал им колени:
Ïii чго tu ка зппшь меня, великий юмо? Не я ли первый последний идти, не идти приносил тебе обильные жертвы, не я ли молил
|
и)и и иг и ночь? Теперь Эрви прошла сквозь свадебный костер... Великий юмо, расстрой эту свадьбу, расстрой! Молчишь? Не хочешь?
Пакман вскочил и бросился бежать. И вдруг — голос отца: Пакман, остановись! Куда ты бежишь, как заяц от собаки? Не могу... Поеду домой!
>*, ид. Чуть что — сразу слюни распускаешь...
И ты меня не хочешь понять. Грудь рвется на части. Я утоп- ниг 11 Пакман упал на траву возле стога сена и заплакал от обиды и горя. Отец присел около него, положил руку на вздрагивающие плечи сына:
— Ну, поднимись, сядь рядом. Другой давно бы девку уволок, так все поступают, со времен Чоткара... Еще не все потеряно. Мы не знаем, что будет через час. Ступай на свадьбу!
— Ты только обещаешь!—Пакман сел на траву, злоба на отца вспыхнула в нем.—«Вот подожди, я буду лужаевуем»! А сам Туги боишься!
— Он всей Горной стороны глава. Я к нему обязан относиться пока с почтением.
— Мы—сторонники мурзы, ближе к Казани...
— Помолчи пока. Сюда идут.
Шемкува появилась около стога неожиданно.
— Ну, наконец-то я тебя нашла, Мырзанай.
— Вернулась? Все сделала?
— Как ты велел. Мурза Кучак уже в пути...
— Иди. Пусть нас не видят вместе.
— Мурза будет на свадьбе?—спросил Пакман, когда старуха ушла. — Ты его позвал?
— Не проговорись, смотри. Я долго шел к цели извилистой дорогой. Много лет подряд расшатывал я доверие Казани к Туге. Ты знаешь: Казань мне верила, но старые глупцы горой стояли за Тугу. Теперь в моих руках судьба Аказа. С согласия отца он убил сборщиков ясака, втянул в это дело татарина Мамлейку, а потом спрятался в мечети и осквернил убежище аллаха. Такое не простят... Смотри: бежит Мамлейка! Видно случилось что-то. Пойдем.
...Мамлей соскочил с коня и сразу—во двор. Стрела, пущенная ему вдогонку, ранила плечо, вся левая рука была в крови. На дворе у него закружилась голова, он привалился к дереву и опустился на корневище. Крикнул:
— Эй, люди?!. Где Аказ?
— Что с ним?—К Мамлею подбежал Сарвай. — Он весь в крови.
— Позовите Аказа. Там... на дороге.
— Я здесь, Мамлей!—Аказ опустился на колени, начал расстегивать бешмет. — Ты ранен?
— Мурза Кучак, с джигитами. Улус разграблен... Народ разметан по лесу... С муллы Кучак сорвал чалму за то, что тот приютил нас в мечети. Сейчас придет сюда... Я еле вырвался... Предупредить...
— Топейка, где ты!—Аказ встал, оглядел двор.
— Я тут...
— Седлай коней немедля! Ковяж, Янгин!
— Мы здесь!
— Скачите по илемам, поднимайте всех!
— Постойтеї—к Аказу подошел отец и старейшины. — Ты что, Аказ,— забыл перед кем стоишь Здесь старейшины, а ты кричишь.
- Сюда пускать мурзу — самоубийство!—воскликнул Аказ. — ‘Iлечь негде драться, тесно!
Слыхали?—Атлаш развел руки. — Ему подраться захоте- /и il l.I А может, лучше миром встретить гостя и посадить за стол?
По-твоему, мы должны подставить шею под сапог мурзы? Пусть давит!
Мальчишка ты. Не поглядев под ноги, можно ли прыгать с обрыва?
- Дивлюсь я, старики...
А ты смотри, к чему приведет драка,— сказал Мырзанай, кивнув па Мамлея. — Дивиться перестанешь.
- Сколько их?—спросил Аказ Мамлея.
С полсотни.
- Жалкая горстка, а вы боитесь! Мы прогоним!..
- «Прогоним». А завтра их будет во сто раз больше.
Мы все поднимемся!
И ты начнешь войну? Людей станешь губить?
А я бы отпустил Аказа,— спокойно заметил Эшпай. — Я
ми/мої в табуне коней волка. Табун шарахался из стороны в сторону, волк рвал лошадям горло. Но стоило одной кобыле в ход пустить копыта...
То волк и лошади,— зло возразил Мырзанай. —А мы люди.
С мурзой договориться можно.
Смотрите, смотрите,— предупредил Сарвай. — Если мурза
і татарский улус, муллу, то с нами он договариваться не будет, может и верно - прервать свадьбу?
Все посмотрели на Аптулата. Он карт — обычаев хранитель. Что скажеттак тому и быть.
Не забывайте, что Аказ жених,— сказал Аптулат. — И если мы I ми п.Пу пополам разломим, надо невесту новую искать.
I . о м , > Ата і подскочил к карту.
Комік і уаі.іоі ршаї'ЛИі свадьбу на две части, это значит: Яиі, ни у і о/о н мамі і они,
• Мін їм молчишь, опар Аказ обратился к Tyre.
Сын мой ....................... мп ні Юмо, бог царей, нас защитит. Ни-
410 бы ни июиньи III' /И лаги И Иди, тебя ждет невеста.
Ию ни in і , ни л л силі ч Гюрапчгй. І Інчего никому не
MfiopHlP, IIу-1 II, ІІИІЛІ.Пц илгі твоим чередом. Если мы встретим мурзу полічим И увяженном.,,
М у р ні ушам, чи» MI.I были в мечети?—спросил Аказ Ма-
ИЛнМ
М > і о и пт і ка мі л ему ни слова.
111111 і т м и кудо- и перевяжу рану.
учи /п.бу иедеї смело, не глядя. Ой, берегись, савуш,
1оіри ni н| у, бежит к ней девчонка, машет руками, в
у ... *. Наукова бібліспрча | 17
Одеського У 1 ,п ету
І- І- Мечникова і
1§р ум
глазах страх. Вот подбежала она к воротам и, чуть передохнув, кричит:
— Берегитесь! Мурзаки!
Умолк тюмыр. Выпустил последнюю струйку звуков поникший шювыр, остановилась пляска. Девки взвизгнули, бросились к воротам, а у ворот на сивом коне мурза Кучак. За ним—сорок вооруженных всадников.
Мурза спрыгнул С КОНЯ, бросил ПОВОДЬЯ подоспевшим К нему воинам, толкнул ногой ворота.
Девки отпрянули от ворот, парни сразу сгрудились в кучу. Мужчины и бабы жались к изгороди...
Мурза оглядел двор, людей. Добродушно крикнул:
— Чермыш народ гуляет свадьбу? Салям алейкум!
— Здоров будь, благородный мурза!— Боранчей низко поклонился, пятясь от широко шагавшего по двору мурзы. — Будь нашим гостем, могучий. Я отдаю дочь за сына Туги.
— Хороша ли невеста?
— Где там,—Боранчей скривил губы, махнул рукой. — На один глаз не видит, кособока и хромает. Даже показывать тебе стыдно,
— Не врешь ли?
— Это верно, мурза,— Туга выступил вперед, снял шапку. — Обманул меня сосед — дал плохую сноху. От меня скрыл ее недостатки и тебе тоже не все сказал. Узнали мы...
Мурза брезгливо сморщился:
— Зачем в дом берешь?
— Калым большой дает мне сосед. Сын богато жить хочет. Может, все же посмотришь на невесту?
— Пусть сидит в клети и не портит мне наслаждение едой,— мурза расстегнул пояс и направился к холсту, который только что разостлали на траве.
— Эй, Туга, позаботься о моих джигитах и лошадях!
Мурза сел, сложив ноги калачом, принялся за еду. Оторвав большую кость, махнул ею в сторону слуги, крикнул:
— Ставь шатер у реки. Здесь ночевать буду. Ну, что вы замолкли? Пляшите.
Неуверенно зазвучал барабан, робко затенькали гусли, надулся пузырь шювыра. Люди стояли, глядели на мурзу, но плясать не шли.
Тогда на середину круга выбежал Боранчей, крикнул: «Эй,
пляши!» и принялся мелко, по-стариковски топтаться на одном месте. Зашевелился круг, сомкнулся еще плотнее, парни положили руки друг другу на плечи, круг качнулся вправо — и пляска началась.
Боранчей из круга не выходит. Он топчется на месте, прихлопывает в ладоши.
Пляшет, думает: нажрется мурза — еще добрее будет, напьется еще глупее будет. Уйдет спать в свой шатер, может, беды никакой не принесет. Может, и право трех ночей забудет? А если ни забудет — не беда. Невестку так обхаяли, только плюнет мурза, если вспомнит.
«Кто думал, что принесет его нечистый дух! И зачем прискакал юг жестокий крымчак? Ясак собирать еще рано, весенние подарим уже отданы давно. Зачем его керемет принес — кто знает? Однако Туге тоже бы поплясать перед мурзой надо, — думает Боран- чей, а то разгневается мурза, всяких бед может натворить». Пляшет Боранчей и гадает — чем кончится свадьба?
Пакман выпил полный бурак пива, пошел к Нуже, а зачем — и самм не знает.
Вон берегу кто-то стоит. От пива двоится в глазах. Подошел ближе, плюнул.
Опять эта старая карга Шемкува.
Уйди, вувер-кува1,— мрачно говорит Пакман. Икнув, добав- ЛН1Ч Теперь я колдовства не боюсь, утоплю тебя в реке... Уйди!
Эх, пятыр, патыр, силы у тебя много, ума мало. Колдовству Мш’му не веришь. Ходишь, как мокрая ворона, и не знаешь, что через три дня Эрни твоей будет.
От слов Шемкувы сразу прояснилось в голове. Еще сильнее н і | млея 11п км ни.
Ты смеешься надо мной!
Садись, неразумный, слушай. Пока ты жрал мясо да пил мы говорили с кереметом о твоей судьбе. Я упрекала его за
иОмчн І'гргмгі через листья березы передал мне такие слова:
-II зі ні Пакману, скажи ему—пусть не горюет. Пошли его к мурзе и. скажет, что обманули мурзу лужавуи. Красавицу не- м..перед ним охаяли, закон трех ночей обойти хотят. Мурза ИІІ мщ pm пн in нес і y~ в свой шатер на три ночи возьмет. Потом Пакману в знак благодарности, отдаст мурза красавицу». Так
► илінз мив |у» Или.
Ніни* і. .и пишімо шныра в сторону двора, сама сги
нут Пунш и II* Пыли
Нам ІІниммії, и тащи и и ч і н. Никого не замечает, ничего не ІНЯіИ І пльип і ні и м Ярим мерен і п и кім м стоит. Такая, какую увинем МИТНІЇ, HIM ИІІ і /іпрнулм июргенчык.
Пері і і ри літ мив і nil мелел керемет... уедем далеко-да- ДМоІ,
II ху ...................... in подумал, когда Пакман понес мурзе пиво.
Н>* її м и mm Пюи. му гое і к) уважение сделать. Мурза пьет пиво,
ІІннммн ............. . і ему мн ухо торопливые слова. Бровь мурзы удивленно поднимается. Лицо темнеет, потом светлеет. Еще шепчет Пакман, мурза качает головой в знак согласия и ставит пиво на землю. Потом кричит:
— Эй, Туга! Боранчей! Приведите сюда жениха и невесту. Хочу смотреть.
— Жених сейчас придет, а невесту долго искать. Может, шо- выр, что ночью обмочила, пошла сушить,—шутливо ответил Туга.
Мурза пропустил шутку мимо ушей, хлопнул в ладоши. Подбежали четверо джигитов, готовые ко всему.
— Приведите жениха и невесту!
Растолкав сгрудившихся людей, татары ворвались в клеть, и вот уже ведут Аказа и Эрви. Невеста успела набросить вюргенчык, лицо закрыто. Теперь уже не по обычаю, а от страха Эрви упирается, не идет, пытаясь вырваться из рук татар.
Мурза сидит, ноги калачом, поглаживает пальцем сальные усы. Кусочки мяса, застрявшие меж зубов, со свистом всасывает, сплевывает в сторону.
Невесту и жениха, резко подтолкнув, поставили перед мурзой. Эрви бьет дрожь, она низко кланяется. Аказ стоит прямо, искоса посматривая в сторону.
— А ты не хочешь отдать мне поклон? — спрашивает мурза, растягивая слова.
— Я отдаю тебе ясак и этого хватит!
— Смел! — Мурза подходит к Аказу и долго глядит ему в глаза. Сказал голосом ровным, не поймешь: похвала это или угроза. Потом подходит к Эрви и забрасывает вюргенчык за голову. Та в страхе прижимается к мужу.
— Вай, вай, вай! — Мурза восторженно ходит вокруг невесты, разглядывая ее со стороны. — Такой звезды я не видел даже в гареме хана. А вы что говорили, седые глупцы? — Мурза резко поворачивается к старикам и, размахивая нагайкой перед их лицами, кричит, брызгая слюной: — Меня обмануть вздумали? Вы думали, мурза дурак? Забыли, презренные, кто вы и кто я! Весь правый берег Волги я держу вот в этом кулаке. Мигну глазом — и от ваших худых кудо не останется и пепла. Я верил тебе, Боранчей, всегда был добр к тебе, а ты... Вы что, забыли закон трех ночей? Каждая невеста, если господин пожелает, должна быть у него три ночи. А кто вам господин? Ну, кто?!
— Ты, могучий и великодушный... — пролепетал Боранчей.
— Верно. Жених должен гордиться, что я взял его невесту. Это почетно. Увести девушку в мой шатер!
Два мурзака подошли к Эрви, но притронуться к ней не успели. Аказ двумя быстрыми ударами свалил их с ног и, схватив Эрви за руку, бросился к воротам. Стремянный Хайрулла, а за ним десяток джигитов кинулись догонять беглеца.
Гости, особенно молодые парни, стоявшие в напряженном ожидании развязки, словно посигналу, очутились у ворот и с кринами: «Держи их! Держи!» — захлопнули створки. Около выхода образовалась невообразимая свалка. По крику мурзы в проход устремились джигиты, бывшие за пределами двора. Не зная о побеге, они ломились в ворота, тогда как аскеры, находившиеся во дворе, старались вырваться оттуда, чтобы пуститься в погоню. Хозяева свадьбы с притворными криками: «Держи! Лови!» —
умышленно мешали насильникам, создавая у ворот толчею. Наконец, ворота не выдержали напора и рухнули.
И тут пролилась кровь. Верхняя перекладина ворот упала и ударила сзади по плечу одного аскера. Тот взвыл от боли, обернулся и увидел совсем молодого парня, который смеялся от радости. Аскер выхватил саблю, взмахнул ею — и юноша, окровавленный, упал на траву. На мгновение шум стих. Никто не успел дометить, как у отца убитого очутился в руках дубовый крюк от очага. С звериным рычанием он бросился на убийцу, и в тот же миг убийца свалился с разбитым черепом. Мужчины вырывали колья из забора и, разгоряченные хмелем и видом крови, бросались на насильников. Мурзаки рубили саблями, кололи копьями, резали ножами. Хоть и были пришельцы вооружены лучше хозяев, нее же перевес был на стороне черемисов. Их было гораздо больше Мурза понял это. Из десятка телохранителей, очутившихся "Коло него, он подозвал к себе двух, крикнул им что-то.
Вдруг во двор вбежал Хайрулла и крикнул:
— Там... наших четверо... убиты!
А ты... сбежал?—зло выкрикнул мурза, обороняясь саблей 01 наседавших на него мужчин.
— Я должен хранить тебя,— Хайрулла встал рядом с мурзой.
Где Аказ?
Он там... на берегу...
— Здесь оставайся...—Мурза выскочил за ворота, прыгнул с откоса вниз и, ломая кусты, скатился к реке. Поднялся, увидел: четверо его парней дерутся с троими — с Аказом, Ковяжем и 11 шейкой. За рекой он увидел Янгина и Эрви, карабкающихся по
откосу. Они убегали в лес.
Мурза в несколько прыжков очутился около Аказа, крикнул:
Молись своим богам, болотное отродье!
Мурзаки, увидев подкрепление, начали теснить Топейку и Койн ж а к воде.
Ну, волк, держись! — Аказ полоснул клинком по сабле мурзы и высек сноп искр. Звенело оружие, сражающиеся вертелись и що воды, выкрикивая оскорбительные слова.
Теперь тебе, сморчок, конец!— рычал мурза.— Был жених — Покойник будешь!
— Заставлю тебя ашать свиное ухо!—не уступал Аказ.
Топейка и Ковяж бросились в воду. Мурзаки не стали их преследовать и пришли на помощь мурзе. Аказу тоже ничего не оставалось другого, как перебраться на другой берег.
Воины ринулись было за ним, но мурза остановил их, махнул рукой в сторону двора.
Люди, казалось, озверели. Они хватали чугунные котлы и разили ими насильников, срывали цепи с очагов, размахивая, врезались в гущу свалки. Даже женщины выхватывали из костров пылающие головешки и бросались на татар, погибая при этом под ударами сабель. Теперь очередь дошла и до мурзы. Вытеснив со двора его джигитов, черемисы бросились на телохранителей Кучака, но в это время над лесом взметнулся столб черного дыма, за ним второй, третий. Пронзительный крик «Горим!» сразу отрезвил людей, опьяненных боем.
— Кудо в огне!
— Наши дети!
С этим возгласом люди бросились со двора...
Дальше все произошло, как предполагал мурза. Разбежавшись каждый к своему дому, мужчины разрознились и стали бессильными.
Слуги Кучака переловили их всех по одному, связали и снова поволокли на двор лужавуя. Погоня, посланная за женихом и невестой, возвратилась ни с чем. Поймать людей, знающих леса, как собственное кудо, немыслимо. Даже следа не нашли.
Но Кучак не только хитер и жесток, но и упрям. Он позвал к себе Тугу и Боранчея, надменно проговорил:
— Как велик аллах на небе, так же велики его законы на земле. Вы задумали нарушить закон трех ночей, и аллах покарал вас. Твой двор, старый Туга, в крови, три ваших кудо сгорели, а вы все стоите передо мной связанные, как бараны. Ваши люди убили половину моих джигитов, у вас в десять раз больше людей, чем у меня, и все же я не боюсь вас, потому что мне помогает аллах. Вы думали: мы поколотим мурзу, убьем его слуг, и он, как трусливая собака, убежит домой. Как вы ошиблись, презренные пожиратели волчьего мяса! Я буду здесь жить до тех пор, пока не исполню закон, предначертанный всевышним. Мои воины уже раскинули шатер у реки, и я пойду туда отдыхать. А ты, Туга, возьми с собой сорок стариков, у которых есть здесь сыновья, и иди в лес искать жениха и невесту. А ты, Боранчей, будешь здесь, и все молодые люди и женщины будут здесь. И если к вечеру в моем шатре не будет невесты, сорок сыновей тех стариков будут мертвы. Завтра утром жених пусть будет у моих ног. Если нет — сгорит твое кудо, Туга, и ты будешь мертв. Я все сказал.
Ты рано празднуешь победу, мурза,— ответил Туга.— Ночь велика.
— Не ты ли, трухлый пень, мне помешаешь? Эй, джигиты! Всех стариков, и этих тоже, привязать к дубам. Пока Аказ с женой не будет здесь, пока зачинщики из леса не вернутся...
— Мы встретили тебя, как гостя, а ты стал всех кусать, как бешеная собака.
— Как ты смеешь!— Мурза подскочил к Туге, схватил его за горло.
— Смею. Я здесь хозяин.
— Запомни, ты, овечий хвост: где ступило копыто моего коми, там я хозяин!
— Мой сын в лесу, и тебе не миновать его стрелы. Уйди!
Туга оторвал руки мурзы от горла и ударил обоими кулаками
и бритый подбородок. Кучак выхватил нож и ткнул его в пах Туги...
Э Р В И
Крадучись, выполз на поляну густой туман.
Сначала вечерний летний воздух был чист, но вдруг из леса поползла белесая пелена, и сразу на землю легла тяжелая сырость.
Жизнь в Нуженале затихла, люди притаились. Также украдкой, і пк и туман, окутала души людей холодная грусть. Как было весело днем на свадьбе, и какая печальная настает ночь.
Мурзе не спится. Сначала велел поставить шатер у реки. Потом перенести его на откос. И сюда не пришел сон. Кучак встал, перепоясался саблей, вышел из шатра.
Со стороны илема туман приносит запахи дыма, нет-нет да и излетит и тревожно осветит мглу снопик искр. Где-то недалеко ухает филин.
— Шайтан проклятый! Не дает уснуть,— ворчит про себя мурза.— Болото дышит сыростью, туман ползет из леса, овраг шит опасность... В двух шагах не видно ничего... Уж не боюсь ли и я? Кого мне тут бояться?.. И эта птица... Как будто назло.— Кучак подошел к краю оврага, глянул вниз. Над туманом ощетинились вершины елей и пихт. Они враждебны и похожи на острые наконечники копий. Туман распахнулся, и около мурзы очутился Хайрулла.
— Как думаешь, старик, ночь пройдет спокойно?— спрашивает мурза.
Хайрулла долго молчит, потом отвечает тихо:
— Кто знает? Пока Аказ на воле — жди беды. Окрестный лес затаил злобу. Давай свернем шатер, уйдем. Послушай старого слугу...
— Уж не трусишь ли ты?— мрачно спрашивает мурза.
— С тобой ходил я много лет,— Хайрулла чуть повысил голос,— и редко ошибался. Прости меня, могучий, но ты сегодня был с разумом не в дружбе. Во власти злобы ты был целый день...
— Иди, проверь посты.— Мурза не любил, когда старик упрекал его.— Узнай, не появился ли Аказ. Иди.
Мурза задумался. Как объяснить убийство лужавуя хану? Не заметил, как снова появился Хайрулла. За ним стоял Мырзанай, а чуть подальше маячила фигура Пакмана.
— Зачем вы здесь?
— Я давний друг твой...— Мырзанай сорвал с головы шапку,— но если друг в опасности...
— Ты думаешь, мне беда грозит?
— Народ, мурза, озлоблен. Он — как сухой хворост. Одна искра...
— Ты пугать меня вздумал? Дело говори. Аказа ищут?
— Зачем его искать! Узнает, что отец при смерти, прибежит сам сюда.
— Не прибежит,— подал голос Пакман, выглянув из-за спины отца,— он от Эрви никуда не отойдет.
— Найдем сами,— Мырзанай оттолкнул сына.
— Я знаю: он будет драться. К нему из двух илемов парни ушли, человек двести наберется.
— Я всех передушу!— Кучак схватился за саблю, вырвал наполовину, снова бросил в ножны.
— Меня, мурза, послушай,—Хайрулла встал рядом с Мырза- наем.— И так немало крови пролилось. Зачем тебе Аказ?
— Сказал я—он умрет!
— Всему своя пора. Тут Мырзанай предлагает другое.
— Ну, говори...
— Туга вот-вот скончается. Я стану лужавуем и сам придушу Аказа, а голову его пошлю тебе в Казань. Ты только повели меня поставить...
— Ты знаешь, Мырзанай, я не сажаю лужавуев. Их избирают старики. Об этом договор давно есть. А старики тебя не выберут, тебе они не верят. Слышал я: прозвище тебе смешное дали...
— Татарской кобылы хвост!—напомнил Пакман.
— Молчи, окмак[7], когда тебя не просят. Ты прав, Мурза, меня они не чтут, но если к ним ты милостливым будешь... Сейчас старейшины привязаны к дубам. Ты отпустил бы их...
— Они подумают, что я их испугался!
— Ты гнев им покажи. А я приду просить за них. И ты их пощади.
— В твоих словах есть зерно разума. Эй, Хайрулла!
— Я здесь, могучий.
— Веди сюда старейшин. А вы пока уйдите. Не нужно, чтобы нас видели вместе.
Мырзанай поклонился и, пятясь, отошел в туман.
-- Так, пожалуй, будет лучше, — произнес мурза, когда остался один.—Этот косоглазый лизоблюд поможет мне расхлебать кашу, которую я заварил сегодня. Когда он станет лужавуем, всех в бараний рог согнет. Его руками я придушу Аказа. Быть может, и смерть Туги он примет на себя. Посмотрим.
...Эрви оставила Аказа, когда он сражался с мурзой на берегу. Они долго бежали с Янгином, добрались до чащобы, остановились.
— Здесь нас никто не найдет,— сказал Янгин, задыхаясь.
— Я беспокоюсь за Аказа...
Не горюй. Аказ найдет нас. Ты видишь, трава влажная, и след на ней заметен...
Но вскоре пал туман. Янгин, бедовая голова, надумал распалить костер. Он видел, что Эрви вымокла до нитки, когда переправлялись через реку, и теперь дрожала. Может, от сырости и холода, а может, и от страха. Да и у самого Янгина зуб на зуб не попадал.
— Давай высушим одежду. Погони уже не будет. Татары в лес не сунутся.
Эрви осталась в одной исподнице, развесила свои свадебные наряды около костра. Туман все сгущался, дым костра стлался по н-мле, смешивался с сыростью, расползался по поляне. Вдруг затрешали сучки, Янгин схватился за нож, но из тумана вышел Ковяж.
Как ты нашел нас? —спросил Янгин, заложив нож за поїм По следам?
По дыму,— ответил Ковяж.— Носом почуял. Где Аказ?
Ждем...
Искать надо. В илеме беда. Стариков привязали к дубам, «шли много заложников. Если Аказ и Эрви не придут — утром старикам смерть. Где ты оставил брата?
На реке. Он дрался с мурзой...
Возвращайся туда, найди Аказов след, иди по нему. Я на К >ш у пойду.
А Эрви?
Я здесь одна побуду,— сказала Эрви.— Ищите.
Когда братья пошли в разные стороны, Эрви крикнула:
— Оставь мне нож, Янгин!
Янгин кинул ей нож. Ковяж скрыл от Янгина, что ранен отец. Недаром младшего брата зовут Шокшо вуй — Горячая голова. Он может убежать в илем, кинуться на мурзаков...
Эрви долго не думала. Еще тогда, когда Ковяж сказал о заложниках, она решилась. Как только братья ушли, Эрви надела пояс и, оставив свадебные одежды висящими у костра, исчезла в тумане...
...Спустя полчаса около шатра появились Боранчей, Сарвай, Аптулат и Эшпай. Со связанными за спиной руками, они шли под охраной двух мурзаков. Хайрулла шел сзади.
— А где Туга?
— Как будто ты не знаешь, — ответил Аптулат. — Туга при смерти.
— Аллах свидетель — во всем вы виноваты сами,— Кучак обошел стариков кругом, помахивая плеткой. Пояс с саблей он снял, показывая, что он безоружен и никого не боится. — Я ехал к вам без зла. А вы, хранители законов старины, блюстители обычаев народа, нарушили закон гостеприимства. И трех ночей закон нарушили...
— Худой закон, — сипло проговорил Аптулат. — Ты нам его привез из Крыма. Он нам не нужен.
Мурза не обратил внимания на слова карта и продолжал:
— Вам этого показалось мало. Вы меня обманули и позволили дрянному мальчишке устроить драку. Да что там — сами в эту драку влезли... Туга полез на нож. Я много джигитов потерял. Кто мне за них ответит? Все их убийцы попрятались в лесу. А вы, мудрые из мудрых, вместо того чтобы выдать их мне, упорно скрываете. Могу ли я быть милостливым к вам?.. Аказа выловить послали? Зачинщиков нашли?
— Аказ в лесу, как дома. Найди его, попробуй,— сказал Сарвай.
— Я верен слову. Если их тут утром не будет, вы умрете в мучениях.
— Пусть будет так,— сказал Эшпай и отвернул лицо в сторону.
— А дочку нашел? — Кучак черенком нагайки ткнул в бороду Боранчея.— Трех ночей закон исполнил?
— Я не велел ей приходить сюда.
— И ты умреш!
— Я слишком стар и смерти не боюсь. А ты, вонючий пес, ты на чужой земле! Плюю я на тебя!— Боранчей рванулся к мурзе, вытянул шею и плюнул ему в лицо. Охранники бросились на старика, свалили его на землю. Мурза вытер лицо и прохрипел:
— На кол его! Сейчас же!
Аскеры схватили Боранчея, поволокли. И никто не заметил Эрви. Она возникла из тумана неожиданной резко крикнула: «Эй!»
Аскеры замерли на месте, Хайрулла, выхватив саблю, мгновенно повернулся на голос, но, узнав Эрви, опустил оружие. Эрви смело подошла к мурзе, сказала:
— Ты мучишь стариков за то, что скрыли от тебя невесту. Смотри, я здесь и для гнева нет причины.
— А где твой муж?— Кучак дал знак Хайрулле, чтобы тот подал ему саблю. Он был уверен, что Аказ рядом.
— А разве по закону трех ночей в шатер ведут и мужа?
Мурза ухмыльнулся, довольный ответом Эрви, повернулся к
старикам, сказал насмешливо:
— Вот у кого учитесь жить. Она умнее вас всех. За то, что ты пришла, проси, чего захочешь. Наряды, золото...
— Вели их отпустить. Не тронь отца. Я буду тебе покорна.
Мурза поднял руку и жестом приказал отпустить Боранчея.
Аскеры приволокли старика назад, бросили к ногам мурзы.
Воранчей поднялся, увидел Эрви, шагнул к ней, протянул руку и тихо спросил:
— Тебя поймали?
— Сама пришла, отец.
— Как ты осмелилась?! Стыд и позор!
— Гоните его в шею! — крикнул мурза, и Боранчея вытолкали. Старик сопротивлялся, кричал:
— Не дочь ты мне после этого! Не дочь! Как будешь смотреть в глаза Аказу?!
Когда вопли Боранчея стихли, мурза сказал Эрви:
— Иди в шатер, не слушай старика.
Эрви кивнула в сторону старейшин:
— Их тоже отпусти. И слово дай, что никого не тронешь.
— Вы слышите, упрямцы.— Мурза подошел к Аптулату.— Вас смерть ждала... Но приходил сюда недавно мудрый человек, просил вас пощадить... Я говорю о Мырзанае. Теперь Эрви об этом просит, и я даю вам жизнь. Эй, Хайрулла! Развяжи их и накажи всем, чтобы не трогали. Пусть живут.— Пока Хайрулла развязывал стариков, Сарвай крикнул Эрви:
— Что скажешь ты сородичам, когда уйдешь из этого шатра?! Мурза убил Тугу, а ты в его постель...
— Туга... убит! — Эрви вздрогнула от этих слов, как от удара плеткой...
Несмотря на гневные упреки отца, на страшную весть о гибели Туги, Эрви не растерялась и твердо решила исполнить задуманное до конца. Она будет тянуть время. Янгин и Ковяж найдут Аказа, и он придет. Но если опоздает... Эрви не отдаст себя даром!
Ну, что стоишь! Иди в шатер,— возглас мурзы заставил Эрви вздрогнуть, но она не подала вида, что испугалась.
— Нет. Там связаны другие заложники. Их тоже надо отпустить.
— Ых! Прекрасна, как цветок, упряма, как шайтан. Умеет сделать воском мужскую душу. — Появился Хайрулла. — Иди, заложников... развяжи. Уходят пусть. Довольна ты? Входи.
— Я подожду...
— Чего?
— Когда Хайрулла вернется.
— Со мной шутить нельзя! Иди скорей!— Мурза схватил Эрви за руку и повел в шатер. Он посадил ее на мягкие ветки хвои и вышел.
И здесь в шатре пришел к Эрви страх.
Слуги внесли и поставили на середину большой котел. Но зачем кипяток? Быть может, мурза думает, что я буду сопротивляться, и за это на меня будут лить горячую воду,— в страхе подумала Эрви и, когда в шатре появился мурза, крикнула:
— Пусть унесут котел, я во всем буду послушна!
— Я не хочу тебе зла,— мягко произнес мурза,— не бойся. Здесь ты будешь мыться. Поняла?
Эрви кивнула головой.
— Теперь раздевайся.
— Зачем, великий мурза?
— Будешь мыть тело. От тебя пахнет лесом.
Эрви не знала, как быть. Раздеться перед мужчиной? Этого лесные женщины не делали никогда. Кучак подошел к ней, и не успела Эрви опомниться, как он взялся за ворот ее рубахи и с силой развел руки в стороны. Послышался треск, и порванная рубашка спала со смуглых плеч. Эрви, вздрогнув, быстро сложила на груди руки крестом, сжалась в комочек.
— Снимай все остальное, садись в котел и мойся.
От стыда, смущения и горячей воды тело запылало, сделалось розовым и еще более упругим...
Мурза сидел на подушках, вытянув шею. На его скулах блестела тонкая струйка слюны.
— В Казань со мной поедешь?
— Дай мне подумать, мурза. Завтра скажу.
— Ты посмотри на себя. Ты, как слезинка, чистая, горячая. Твое место в моем дворце, а не в кудо Аказа. Ты видишь: я всесильный мурза, буду тебе сейчас служить,— Кучак встал, развернул узел, лежащий в углу, и, достав мягкую белую ткань, накинул ее на Эрви. Затем подхватил ее под локти, сильным рывком поднял и перенес из котла на пихтовые ветки, разбросанные по земле. Потом достал невиданной яркости халат, набросил его на плечи Эрви. Прохладный шелк нежно ласкал разогретую кожу.
Мурза указал на узел:
— Иди посмотри. Там все твое.
Эрви медленно развязала узел и стала тихо перебирать дорогие украшения, одежды, каких раньше не только не держала в руках, но и не видела. Тем временем Кучак разделся и лег под одеяло.
— Посмотришь потом,— сказал мурза,— сейчас иди ко мне, погрей мою постель.
Эрви откинула узел в сторону, встала и твердо сказала:
— Нет, мурза. Твоей я не буду никогда. Теперь, когда мои родные далеко и в безопасности, в этом нет нужды.
— Ах ты, змея! — зарычал мурза, поднимаясь.— Над кем смеяться вздумала? — Втянув голову в плечи, растопырив руки, мурза пошел на Эрви. Девушка отпрыгнула в сторону, схватила свою одежду. В ее руках сверкнул нож.
— Только дотронься, я убью тебя и себя!
— Эй, джигиты! Взять ее!
Охранники, словно волки, ворвались в шатер, схватили Эрви, завернули руки назад. Страшная боль в плече заставила девушку вскрикнуть, ноги ее подкосились, и она повисла на руках слуг мурзы. Кучак поднял нож, выпавший из рук Эрви, попробовал лезвие на палец, усмехнулся.
— Дура ты, Эрви. Совсем глупая. Ради чего терпеть боль? Я знаю, ты думаешь о муже, а он, как заяц, бегает в лесу.
Эрви подняла голову, глянула на мурзу глазами, полными ненависти, хотела крикнуть, что ее муж собирает сейчас силу, чтобы завтра оторвать мурзе голову, но сдержалась. Кучак поставил ее на ноги, убрал с лица прядь волос.
— Ты, как луна в зимнее время,— яркая, недоступная. Хочешь, и сделаю тебя своей женой? Смирись — и будешь ходить в золоте и в шелках. Мой дворец...
— Я принадлежу Аказу и никогда не буду женой другого. Зачем мне золото? Зачем твой душный дворец? Ты сказал, я чужая. Это было бы верно, если бы я поменяла мои родные вольные леса на тряпки и золото. А я лучше умру, но женой твоей не буду! Ты мне противен, мурза!—Эрви говорила эти слова спокойно потому, что страх ушел из ее сердца, оставив одну решимость: или сохранить свою честь, или умереть. Мурза, угрюмо взглянув на слуг, дал им знак уйти, и когда те вышли из шатра, начал говорить:
- У меня в гареме двадцать бикечей, в моих руках перебывало сотни наложниц — неужели ты думаешь, что каждую я уговаривал, как уговариваю тебя? У меня достаточно силы, чтобы вкрутить тебя, свить из тебя плеть. Зачем тебе это? Лучше смирись, и я отпущу завтра тебя к мужу --- Нет!
— Ну, посмотрим, как ты запоешь сейчас!
И Кучак взял с шатровой стойки плетку.
— Я не боюсь тебя!— крикнула Эрви.— Бей! Ну, бей! Вчера ты зарезал старика, сегодня женщину убей, а завтра привяжи к дубам детей. Какой дурак назвал тебя могучим?
Эти слова отрезвили Кучака. «Правду сказала женщина, — подумал он,— с кем я воюю? Мои джигиты в душе, наверное, смеются надо мной. И прав старый Хайрулла — это кончится плохо». Опустилась поднятая над головой нагайка. Черенком ее мурза отодвинул штору у входа, крикнул:
— Эй, Хайрулла! Скажи, чтобы седлали лошадей. Мы уходим.
Этого приказа словно ждали. Упали полотнища шагра, Хайрулла мгновенно свернул их, унес в повозку. К мурзе подвели жеребца, и он вскочил в седло.
— А эту?— спросил Хайрулла, показывая на Эрви.
— Связать — и на повозку.
Подбежали аскеры, перехватили девушке веревками руки и ноги, подняли, понесли. Эрви закричала:
— Аказ! Меня увозят! Спаси меня, Аказ!— Ей заткнули рот тряпкой.
Только один Пакман услышал этот крик. Он подбежал к Мырзанаю, заскулил:
— Отец! Ее увозят. Ты говорил мне...
— Не ной Потешится—отпустит. Возьмем ее в наш дом. Через нее Казань нам будет еще ближе...
Рядом появился мурза, его конь, предчувствуя далекую дорогу, нетерпеливо переступал с ноги на ногу.
— Я вижу—властелин собрался уезжать?—Мырзанай вышел навстречу Кучаку.
— Пора домой,— ответил мурза.
— Что мне прикажешь делать?
— Ты оставайся лужавуем Аказа привезешь в Казань. Людей держи в страхе и покорности.
— Все сделаю как надо. Слуги верней у тебя не будет
Всю ночь Аказ метался по лесу — искал Эрви. Встретил Мамлея, принялись искать вместе. Находили друзей, прятавшихся в чащобах, встречали женщин, детей, стариков, но Эрви так нигде и не нашли.
АК А З
Пострадавшие от пожара собрались около дома Туги. Раньше тоже бывали беды, и лужавуй перекладывал их на плечи всех, помогал погорельцам. На это люди надеялись и сейчас. Многие только здесь узнали, что Туга ранен. Они толпились около ворот, ждали старейшин. Наконец, со двора вышли Аптулат, за ним Сарвай и Эшпай. Аптулат спросил Ятмана:
— Посыльные вернулись?
— Все как один.
— Аказа не нашли?
— И Янгина нет, и Ковяжа...
— Ковяж на дворе около отца.
Возле изгороди показались Мырзанай и Атлаш.
— Мир вам, старейшины,— поклонился Мырзанай.— Надежда есть?
Сарвай махнул рукой, ничего не сказал. К старейшинам подошли Ятман, Урандай, Япык-коробейник — все седые, всем почти по сотне лет.
Аптулат оглядел их, сказал:
— И жизнь, и смерть стоят у изголовья Туги рядом. Что будем делать, старики?
— Просить у бога милости,— прошамкал Япык.— Еще раз жертвы надо принести.
— Три раза разводили жертвенный костер — ему не легче.
— И Аказа нет...
— Он погиб, наверно,— сказал Атлаш.
— Зачем так говоришь?—возразил Эшпай.— Не надо.
— Сами посудите... Он мог бы отпустить Эрви в шатер мурзы?
— Старейшины!— Мырзанай выступил вперед.— К чему строить догадки? Не время. Нынче Горный край остался без лужавуя. Пока мы тут все вместе, надо думать...
— Туга еще не умер, Мырзанай,—напомнил Сарвай.
— Но умрет все равно!—крикнул Атлаш.
— Тебе, Атлаш, не стыдно?—Аптулат кивнул головой в сторону двора.— Ты слышишь женский плач?
— Нам не с руки слушать, как воют бабы,— жестко произнес Мырзанай.— Оглядитесь: люди — без крова, дети — без еды. Надо кому-то поручить заботы...
— Мырзанай прав,— тряхнув бородой, сказал Урандай,—Люди ждут.
— С каких эго пор ты, Мырзанай, о нас и наших людях стал заботиться?—спросил Эшпай.— Твои илемы не пострадали.
— Зря, сосед, так говоришь. Расскажи ему, Атлаш, как мы от верной смерти вас спасли, как у шатра мурзы в грязи валялись,
вымаливая вам пощаду. Кучак и нас мог бы к дубу привязать.
— Не ври. Нас спасла Эрви!—вспыхнул Эшпай.
— Я тебе говорил, Мырзанай, не надо из-за них класть голову волку в пасть. Они, неблагодарные, не поймут.
— Погоди, Атлаш, не в этом дело...
— Нет, в этом. Вот сейчас придет Боранчей. Что скажете вы ему, когда он спросит про свою дочь?
— Боранчей сам был с нами в заложниках!—крикнул Эшпай.
— Был? Но разве он хотел, чтобы вы в обмен за свою жизнь отдали его дочь? Почему он избит, а вы целехоньки?
— Эрви сама пришла в шатер, Атлаш,— сказал Аптулат.— Нашей вины в том нет.
— Эрви сама не знает, что творит, а вы и рады. Лишь бы сохранить свою шкуру. Когда она пришла к шатру...
— Ты, Атлаш, очень много знаешь,—язвительно сказал Сар- вай.— Как будто ты всю ночь сидел в шатре мурзы.
— Я не сидел в шатре! Я мурзу увидел в дубовой роще, когда он вез Эрви, привязанную к седлу. Я упрашивал, но он не согласился ее отдать...
— Послушайте, старики. Да они все врут,— перебил Атлаша Эшпай.— Мырзанай только что хвастался, что вызволил нас из рук мурзы, а Атлаш говорит, что видели они Кучака, когда он вез Эрви. Мы же были отпущены раньше.
— Народ обманывать не надо,— согласился Урандай,— старикам говорить неправду стыдно.
— Воля ваша, старики. Вы можете нам не верить,— обиженно произнес Мырзанай,— но мы сказали правду. И скоро вы об этом узнаете.— Отойдя в сторону, прошипел на ухо Атлашу:— Испортил все! Теперь нам в это дело соваться нельзя. Теперь надо Ковяжа вместо Туги. Он старший в роде.
— Старший Аказ. Если придет — его выберут.
— Был бы жив — давно пришел бы...
Старый Туга умирал.
Сидит у изголовья Туги древний Сарвай, трет пальцем воспаленные глаза. Он, говорят, намного старше Туги, а вот жив еще. Сидит, свесив голову, Эшпай—лучший друг Туги. Тут же рядом с ним Алдуш и Атлаш. Япык-коробейник тоже тут. Хоть его и не звали, однако он пришел. Старый карт Аптулат раньше всех прибыл к больному.
Ковяж и Янгин вышли из кудо: пусть старики поговорят, подумают, кого оставить вместо Туги лужавуем. В кудо это поняли и начали совет. Туга лежал без сознания и до сих пор не сказал, кому быть после него лужавуем.
— Вдруг Туга умрет и не успеет сказать?— говорит Эшпай.— Кого лужавуем ставить будем?
— Как это — кого?—строго произнес Мырзанай.—Есть закон— старшему место. А в роде Туги старшим остался Ковяж. Он будет лужавуем.
— Верно, верно,— вторит ему Япык.
— Тебя не спрашивают,— говорит Сарвай и, не глядя на Мыр- заная, произносит:—Туга, когда был здоров, вместо себя оставить Аказа советовал.
— Аказ, пожалуй, будет лучше Ковяжа,— заметил Алдуш.
— Голова горячая,— коротко бросает Атлаш.—Ковяжа надо.
— Спросить надо Тугу,— советует Аптулат.— Как он скажет.
— Помяните мое слово: Ковяжу быть лужавуем,— говорит Мырзанай и выходит из кудо.
Старейшины знают, почему Мырзанай хочет Ковяжа. Дочку свою отдать за него собирался. Если станет Ковяж лужавуем, тогда вся власть у Мырзаная будет. А кто тогда бедных защитит?
Мырзанай зря спорить не хочет. И знает: вот-вот прибудет от хана посланец и скажет ханское слово.
И не ошибся. Не успел выйти за ворота, навстречу ему — Алим, сын Кучаков, с джигитами. Соскочил мурзак с коня, подошел к Мырзанаю, спросил:
— Туга жив еще?
— Лежит без памяти. Скоро умрет.
— Кого вместо себя оставил?
— Не сказал. Кого хан велел, того и поставим.
Благословенный Сафа-Гирей сказал: «Мырзанай знает, кого ему лужавуем надо — того и мне надо».
— Быть правителем Ковяжу.
— Старейшины согласятся ли?
— Против обычая не пойдут. Ковяж старший в роде Туги.
Ну, слава аллаху. Веди меня к ним.
Из открытых дверей кудо шум голосов рвется наружу. Алим,
склонившись, шагает в полумрак. На нарах больной лежит, а про него будто забыли — старейшины спорят, кому лужавуем быть. Заметив Алима, стихли, но головы не склонили.
Мурзак махнул рукой в знак приветствия, сел на пододвинутую Мырзанаем скамью.
— Я привез вам, старейшины, привет несравненного Сафы-Ги- рея. Вместе с поклоном привез и совет: пора по-новому жить начинать вам. Было у горных черемис два больших лужая, теперь из них один надо сделать. И повелел великий хан называть этот
33
лужай бейликом, а правителя—беем, князем подданным своим. Вот эту саблю Сафа-Гирей бею послал, я ее передаю вам, старейшины. Кого надумаете беем сделать, тому и отдадите.— И
' Марш Акпарса
Алим передал саблю Мырзанаю.— Кроме того, хан послал вот этот халат со своего плеча и этот мешок золота. Подарок новому бею.—Алим бросил на руку Мырзанаю дорогой, но уже ношенный халат и отдал кошелек с деньгами.— А меня простите, старейшины, я тороплюсь.— И вышел, не поклонившись.
— Если беем будет неугодный хану человек, ты ответишь,— строго сказал он вышедшему провожать Мырзанаю. Тот кивнул головой и подал Алиму стремя.
Под вечер Туга открыл глаза—к нему сразу чуть не все старейшины: кого велит вместо себя оставить?
Слабо шевельнул губами Туга, произнес всего одно слово и снова закрыл глаза, а в шуме старейшины не расслышали того слова. Одним показалось, что Туга назвал Ковяжа, другим — Аказа. А карт Аптулат уверял, что Туга сказал «старшего». И пошел среди старейшин великий спор. Мырзанай, Атлаш и все посланники богатых горло дерут за Ковяжа, а Сарвай, Алдуш и все, кто победнее, кричат: «Аказа!» Аптулат — то за одного, то за другого. И даже Япык голос подает, однако он не старейшина — его не слушают. Кричат старики, того и гляди, в бороды друг другу вцепятся:
— Ты зачем бейскую саблю сцапал?!—кричит Сарвай на Мырынзаная.— Положи на нары!
— Деньги с халатом тоже положи,— рычиг Атлаш. Он хотя и заодно с Мырзанаем, однако жадность мучит — боится, как бы Мырзанай золото и одежду дорогую не присвоил.
Аптулат-карт слушал-слушал, видит, спору нет конца, настала пора к богу обратиться.
— Слушайте, старики! Кончайте крик, я к великому юмо ваш спор понесу. Как он скажет, так тому и быть.
Как только карт ушел, старейшины сцепились снова...
Никто не заметил, как в кудо вошел Мамлей.
— Достойные! Ответьте, ради бога, что здесь происходит?
На Мамлея никто не обратил внимания. Тогда он схватил Ат- лаша за локоть и крикнул:
— Да перестаньте вы!
— Ну, ты, суас![8]—Атлаш оттолкнул Мамлея.— Не суйся не в свое дело!
Возглас Атлаша отрезвил ссорящихся. Эшпай отпустил рукав Мырзаная, за который только что уцепился:
— Мамлейка! Ты? Откуда?
— Меня послал Аказ. Узнать, не появилась ли Эрви в илеме?
— Где он?
— На берегу Юнги. Всю ночь Эрви ищет.
— Так он еще не знает ничего. У нас беда — смертельно ранен Туга. Может быть, до полудня не протянет.
Надо скорое сказать АказуІ—воскликнул Мамлей. И повернулся к двери Мы скоро будем тут!
I п. 11 и ні При ОДИЛ карт, С богом говорить — дело не простое. Наконец он помнился в дверях, сказал:
И і ............................................. подай.... саблю Туге.—Он жив еще.
положи саблю на грудь ему, если правой рукой Туга саблю возьмет, быть, лужануем Аказу, если левой рукой сабли коснется, быть Ковяжу,
Туга без памяти,—возражает Атлаш.—Как можно выбор ему творить? Я не согласен!
Тyra у всевышнего порога,— карт поднял руку с вытянутым
.нем над головой.— Ему теперь бог советы дает.
Раз юмо повелел, надо делать,—сказал Сарвай и положил саблю на грудь Туги.
А я Аптулату не верю,— Мырзанай подошел к двери, как бы собираясь уходить, но Эшпай остановил его.
Не будем спорить. Не ровен час, Туга умрет, не указав, кому великий юмо повелевает передать тамгу и быть главою обоих лужеи. Гневить бога не надо.
— Карт хитрит,— упорствует Мырзанай.— Он знает, что человек правой рукой за все хватается... Он Аказа в лужавуи прочит. А народ Аказа не хочет. Народ сам скажет, кого над собой поставить. Я думаю...
Распахнулась дверь, и в кудо вбежал Аказ. Он склонился над отцом, увидел саблю, сбросил ее на пол. Медленно опустился на колени, уткнул лицо в сложенные ладони Туги. Женщины в углу кудо, молчавшие во время спора старейшин, заголосили. Может быть, слезы сына, упавшие ему на руки, может, крики женщин заставили Тугу очнуться. Он открыл глаза, сказал тихо:
— Думал, не дождусь... А где Ковяж... Янгин?
— Мы здесь, отец,— Ковяж и Янгин склонились к отцу по другую сторону скамьи.
— Не вижу вас... Подойдите поближе... Дайте руки. В глазах туман...
Ковяж и Янгин поочередно пожали Туге руку.
— Пришел конец...
Эти слова будто подхлестнули Аказа. Он вскочил, крикнул:
— Топейка! Скачи в Чалым. Лекаря вези,— и, обратившись к карту, с упреком добавил:—Эх вы! Всю ночь и день делили власть, деньги, а за лекарем не послали... Ты что стоишь, Топейка? Скачи!
— Мне знахарь не поможет,— голос Туги немного окреп, ему вроде бы полегчало.— Аказ, подними меня.
Аказ приподнял голову отца, подложил подушку.
— Вот так. Старейшины, поближе подойдите... Пора прощаться... Жизнь во мне гаснет... Опять кровавый полог застлал глаза...
— Сознанье потерял,— шепнул Атлаш Мырзанаю.
— Где я?—Туга снова очнулся.— Где сыновья мои?
— Мы около тебя, отец.
— Что я хотел сказать?..
— Кому оставить свою тамгу,— напомнил Аптулат.
— Не это... главное. Решайте без меня... а то я не успею. О чем же я? Да... да... Вся наша жизнь идет не так, как надо. Земля в огне... повсюду льется кровь. Люди исстрадались... Так дальше нельзя... Другой ищите путь... Аказ, подойди...
— Слушаю тебя, отец.
— Хочу сказать... Я всю жизнь был с народом... делил тревоги, горести и радости... Клянись и ты.
— Клянусь, отец...
— Идти плечом к плечу... вместе с людьми... всеми... всеми...
Туга напряг последние силы, приподнялся, оглядел окружавших его людей, проговорил тихо, почти шепотом:
— Прощайте все... дети... Умираю... Благословляю вас. — И откинулся на подушку, выпрямился, затих.
...Мертвого Тугу снова вынесли во двор и начали готовить к похоронному обряду. Мырзанай и Атлаш вышли за ворота, спустились к реке.
— Подох, старый смутьян,— выругался Атлаш, присаживаясь на камень у родника.— Теперь сзывай народ, бери все в свои руки. Алим ведь сказал, чтобы ты вставал на место Туги. Вот и Пакман идет.
— Ну что там?—спросил Мырзанай, когда Пакман подошел.
— Я обошел илем. Людей спрашивал. По-разному говорят: кто виновным Тугу считает, кто Аказа, а есть такие, которые нас винят.
— Боранчея нашел?
— Видел.
— Почему не привел?
— Бедняга стал совсем седым. Боюсь, что рехнулся. То вдруг запоет, то заплачет, а то пустится в пляс. Меня не узнал...
Все знали, что Эрви увезли в Казань. Все, кроме Аказа. Никто не смел сказать ему об этом. Каждый думал: два тяжелых горя не вынести человеку. Даже Янгин избегал встречи с братом, ушел рыть могилу. И только Мамлей решил сказать всю правду:
— Я узнал — Эрви в илеме нет.
— Наверно, в лесу,— спокойно заметил Аказ. С того момента, когда он узнал о несчастье с отцом, тревога за Эрви как-то притупилась в нем.
Ее увез мурза Кучак.
Быть не может! Пойдем, узнаем у Янгина.
Ягин не знает. Ягин ее оставил в лесу.
Ягин оставил?
Ягин с Ковежем пошли искать тебя, когда узнали, что старики оставлены заложниками. Я думаю...
Не говори мне ничего. Это она спасла стариков. Давно уехал мурза?
На рассвете...
Полагаю, Мамлей, не ради нашей свадьбы выехал мурза из I' и мин?
Он ездил по бейлику, ясак собирал, долги. А о твоей женитьбе узнал от Мырзаиая. Все об этом говорят.
Стало быть, и обратно он поедет не спеша?
Думаешь, ДОГОНИМ?
II. иремн зли погони, Мамлей. Ты мне поможешь. Садись
Спешно бери в помощь трех парней, скачи вслед мурзе. Узнай, по какой
едет дороге, где привалы делает, где ночует. И мне об этом шли
вести.
111 ni и і і еби, друї I ay,
Мамлей много говорить не любил. Через полчаса трое всадников пустились скакать по дороге в строну леса.
I- Nil І МИ нір.і I II II II но двор, нее было готово к последней
............ і., і h. и и і ал на широкой скамье. Тело его обложено ря-
(I и и. і и і а м и и. щами, н изголовье и в ногах стоят туески с зерном,-
h і. і 11 и н у і їй і принте смечи Женщины голосили и причитали,.
мужчині. 1-ІЙ молча, СКЛОНИМ головы.
Iі ..та н і Іііюму низошел Аказ, карт встал у изголовья-
! у> и и і махнул рукой в сторону женщин:
I I о ем не. бабы Владыка мертвых, Киямат-тёра,
I и I .*■ ............... І'СІ.ОЙ I пленой сгинут эти слезы—они преградят'
MfiiHiiMi юрмі у м ииробный мир, они затруднят путь к бла-
у о l'ai і la (і. кіп ваял свечу, поставьте ее в из-
головує. М. і п м a <i te на колени. Поклонимся тому, кто
лучшим миром НрЙПНГ
Чиї їм мну і і н юн і. и ми, коснулись лбами земли.
і IM4 чи і мо инь.і Лптулатм Грустно льются слова:
H пн ниє її, мерты.ч, Княмаї гера, мы в честь тебя зажгли
і о I II. чн I а к нус м. они осветят долгий путь идущего в твое
большое царство.
Пускай осветит!— хором повторили люди, стоящие на колених,
К і моему великому престолу придет достойный. Ты его прими по справедливости. Не мучай его души, воздай ему за страдания ил ісмле, присуди великое и вечное блаженство.
— Воздай ему!
— Сейчас душа Туги от нас уйдет. Проводим же ее прощальной песней.
И полилась песня, такая же печальная, как и слова карта:
Много звезд в высоком небе Темной ночью нам сверкало,
Но одна звезда, сгорая,
В бездну черную упала.
Ты один в дорогу вышел —
В мир загробный Киямата,
Разве ты, родной, не знаешь,
Что оттуда нет возврата?!
О юмо, наш бог великий,
Где найти такие силы:
Человека дорогого Воскресить из злой могилы?
Закончена похоронная песня, в долгом молчании стоят люди. Наконец, карт говорит:
— Теперь оставим близких и родных. Пускай простятся. Все выходите.
За воротами большая толпа. Вся округа знала о несчастье Нуженала. Одни пришли на поминки попить, поесть, другие, чтобы узнать, кого выберут вместо Туги, третьи — просто так, поглазеть на похороны.
Ворота раскрылись около полудня. В них показались Аптулат, старейшины, лужавуи. Карт поднялся на пригорок, оглядел толпу, сказал тихо:
— Туга скончался, и Горная земля осиротела. Он ушел и не успел сказать, кому вручить тамгу Большого лужавуя. И мы, старейшины, у вас спросить хотим. Кто хочет говорить?
Аказ выслушал призыв карта равнодушно. Он и раньше, пока был жив отец, не хотел взваливать на себя бремя власти. Когда ему сказали, что тамгу хотят передать Ковяжу, он даже обрадовался. Так и сказал Эшпаю, который заговорил с ним о тамге. Тогда Эшпай ничего не сказал ему, но сейчас подошел, шепнул на ухо:
— Когда я тебе про тамгу говорил, ты только о себе думал. Зачем ты сейчас клятву отцу давал? О народе подумай. Мырзанай к тамге руки тянет.
А на пригорок уже вышел Атлаш. Резко, будто отрубая слова, начал бросать их в толпу:
— Мы при Туге жили? Жили. Хорошо жили? Нет. Сколько крови пролито зря. Туга толкал народ в войну? Толкал. Сын его Аказ только и знал, что лез в стычки с татарами. А вы все расплачивались кровью. Скажи нам, Ятман, сколько людей твоего рода погибло в этой драке?
Шестеро,— ответил Ятман.
А у тебя, Япык?
Троих мы схоронили. Сгорела в кудо дочь...
А ты видели Боранчея?—продолжал Атлаш.— Старик соні. і . умирает он тоже потерял дочь, избит, истерзан. И кто ви|ущ н Аказ. Так неужели мы отдадим свои судьбы в руки человека рода? Подумайте!
Теперь меня послушайте, люди!—Мырзанай вышел вперед.— Мы поутр у случайно встретились с мурзой...
Случайно ли?!
Ты не перебивай меня, Эшпай. Мурза очень сожалел, что так случилось. И он советовал вам, люди, тамгу вручить достойному человеку, такому, кто сможет править вами мудро и не толкать в братоубийственные стычки.
Сккажи кому!— выкрикнули из толпы.
Да, и скажу. Любому, только не Аказу.
Мерин! крикнул Япык.
Пускай Кови ж берет тамгу!
Он мололод совсем мальчишка! і Іншій Анн ні I
І VI Ні инй родии мы ЦС XIIIIIМI І! і миші мн прщпрпк вив кочил Аглаш:
Эй вы! Мы так никогда не договоримся. Совета моего послушайте. Л ні поим м Мыришаи среди нас нет. Его надо выбрать.
.................................. Мир.тамай встал рядом с Атлашем, заговорил:
Вы не дослушали меня. Мурза велел нам передать вам саблю и мы ее вручили самому достойному. И еще велел вас от его имени вознаградить. Мы с Атлашем наскребли немного...
Мырзанай вытащил из-под халата кошель и начал пригоршнями швырять, в толпу медные монеты. Первыми на землю ринулись дети и женщины. Скоро все с криком и визгом ползали по траве, пинали друг друга, выискивая деньги. И тут Аказа будто толкнуло что-то. Он взбежал на пригорок, оттолкнул Атлаша и Мырзаная проскочил меж ними, остановился, крикнул:
Опомнитесь, люди! Где ваша прежняя гордость, черемисы? Как вам не стыдно ползать на коленях из-за пары жалких медяков?
Для бедного, Аказ, и ржавая таньга — польза,— крикнул Атлаш, но Аказ не слушал его, продолжал:
Вы что, не знаете Мырзаная? Вы поползли к его ногам на четвереньках, теперь ему ничего не стоит поднять ногу и переломим. каждому хребет. Сейчас он вас придавит. Пока не поздно — встаньте! Распрямитесь!
И люди стали подниматься. Они начали бросать деньги на траву, одни— открыто, другие—незаметно разжимая кулаки.
— Ты, Мырзанай, хочешь управлять людьми, над которыми насмехаешься. Если хочешь помочь им — помоги честно, а не бросая милостыню. Ведь своим богатством ты им обязан!
— Это почему же?
— А разве не у них ты скупаешь за бесценок шкуры и втридорога сбываешь в Казани? Тряхни мошной, там немало золота, нажитого за счет других.
— Не верьте ему, люди!— крикнул Атлаш.
— Молчи, Атлаш. Если бы не мой отец, вы с Мырзанаем давно бы запродали наш край Казани. Смотрите, люди, они привезли вам бейскую саблю, они хотят, чтоб наш лужавуй стал беем. Не будет этого! Мы Казани не подданные, мы своей землей управляем сами.
Атлаш выскочил вперед и прокричал в лицо Аказу:
— Ты другим упреки не бросай, ты за свои проступки ответь, за вину отца твоего ответь. За убитых людей, за сгоревшие жилища.
— Отвечу! Если нужно — жизнью.
— За сто смертей — не мало ли? Когда бы твой отец и ты слушались старейшин, нас слушались...
— Уж не тебя ли, Мырзанай? Ты прихвостень мурзы, и это все знают.
— Да как ты смеешь?!
— Смею. Скажите, кто направил нож мурзы в грудь моего отца? Ты, Ятман? А может, ты, Токмолай? Или ты, Япык?
— Я и на свадьбе не был...
— Вот-вот... А что я говорил? Надо было встретить волка на дороге, и мы прогнали бы его. Не ты ли, Аптулат, сказал, что свадьбу прерывать нельзя?
— Не я сказал. Обычай так велит.
— Обычай? Он нам помог? Спокон веков земля, леса и реки принадлежали нам. Так почему мы, как трусливые зайцы, дрожим на своей земле? Потому, что вас заставляют ползать на коленях такие, как Мырзанай и Атлаш.
— Правду говорит Аказ!—крикнул Сарвай.
— Верно!
— Но если бы трусливый волк Кучак знал, что за кровь ему отплатят кровью, разве он посмел бы пытать наше терпенье столько лет?
— Что, сынок, нам делать?—спросил Эшпай.
— Пусть будет у нас смелый лужавуй, а не прихвостень мурзы. Я кончил. Решайте, люди.
— Главе лужая нужна мудрость, а не смелость,— заговорил Токмолай.— И ты, сынок, неправ.
— А это есть у Аказа?—спросил Атлаш.— Он безрассудный ..
Безрассуден тот, кто веру в свой народ потерял,— возразил Яшмпй—Тебе, Мырзанай, люди не верят. Аказ, конечно, молод, он горяч, но смел и честен. А мудрость придет. Отдадим тамгу Лишу и, чтобы все было по справедливости, пусть все, кто хочет |у ни»уем Мырзаная, встанут справа, все, кто верит Аказу, ста' муI слева.
Толпа загудела, зашевелилась. Кто-то группами подходил к Дюну, кто-то перебегал на сторону Мырзаная. Но многие стояли в нерешительности и смотрели на своих старейшин. И Мырзанай понимал, что все дело решат старики.
Эшпай и Сарвай сразу стали на сторону Аказа. За ними — люди их родов. Затем Аптулат вышел на середину, сказал:
Мы прожили свое. Нам, старики, надо о молодых думать. Им идти дорогой жизни, а под ханским сапогом — смерть,— и Перешел на сторону Аказа. За Аптулатом влево двинулись Уран- лмй, Токмолай и Ятман.
Гиал и Япык остались около Мырзаная, Атлаш от него и не отходил. Но стало ясно: народ захотел поставить Большим лужавуем Аказа.
Вдруг все увидели старика в лохмотьях. Лицо его было в спичках и кровоподтеках, в волосах — сухая трава и листья. Немногие узнали в нем Боранчея. Глаза его были безумны, он подошел и Мныку, оскалил зубы в дикой улыбке, проговорил, выставляя вперед костлявую руку:
Ты слышишь, как зазвенели гусли? Там поют. Там свадьба там дочь моя... А-а, вот она, сюда пришла. Я ждал тебя, Эрви... Иди скорей ко мне... дай обниму... Прижму к своей груди.—Старик направился к девушке в ярком белом наряде, она испуганно скрылась в толпе.— Куда же ты? Нет, это не она... Вновь чужая,— он заметался подбегая то к одной, то к другой девушке.—О, зачем вы прячете ее. Отдайте мою Эрви!
Аказ бросился к Боранчею. Тот сначала отпрянул от него, мигом тихо сказал:
- Я тебя узнал: ты Аказ.
- Да, это я, отец.
Отец?! Нет-нет! Эй, люди, помогите. Это он украл мою Эрни! Куда ты ее спрятал, говори?!—Боранчей схватил своими костлявыми пальцами руки Аказа, сжал их, словно клещами. — (скажи, кому ты ее продал?!
Отец, одумайся!
- Ты лжешь! Отдай Эрви, отдай! Будь проклят!
- Смотрите, люди!—крикнул Алташ.— Даже Боранчей проклинает его...
Алташ?—Боранчей отпустил Аказа и кинулся к Алташу,— Им с Мырзанаем... Значит, это вы толкнули Эрви в пасть шайтану. Я видел... Тебе пушнины нашей мало... Ты продал землю. Сколько денег получили вы за все?!— Боранчей огляделся, увидел на земле монеты, начал хватать медяки.— Вон сколько денег! Они блестят повсюду. Вот они... И там... И здесь.— Набрав пригоршню монет вместе с травой и пылью, старик поднялся и, припрыгивая, стал сыпать деньги на голову, выкрикивая:—О, боже! Деньги! Они в крови!—Он прыжками пересек улицу и скрылся за углом. Аптулат бросился догонять, но несколько молодых парней опередили его, догнали Боранчея и привели обратно. Он не сопротивлялся, видимо, разум его просветлел. Он шел с поникшей головой, ни на кого не глядя.
— Пойдешь ко мне в кудо?—спросил Аптулат.— Я полечу твои раны.
Боранчей устало закрыл глаза и кивнул головой.
— Эрви мы найдем. Она жива и здорова. Ты мне веришь? А сейчас пойдем...
Старик кивнул головой и пошел вслед за картом.
И почти в тот же момент появился Топейка. Он соскочил с коня, крикнул:
— Сейчас приедет лекарь!
— Не нужно лекаря. Отец скончался.
Топейка подошел к Аказу и виновато заговорил:
— Прости, Аказ, сейчас не время, но встретил я Чапкуна. Его послал Мамлей. И велено тебе сказать: мурза в Чалыме. Он там кормит лошадей. Эрви веревками связана. Тебя зовет.
Аказ подбежал к Эшпаю, передал слова Топейки, спросил:
— Что делать, подскажи?
— Скачи, сынок. Но зря не рискуй. Будь осторожен. Мы отца без вас не похороним.
Аказ махнул рукой Ковяжу.
— Эрви в Чалыме. Пойдем в погоню. Скачи в Еласы — всех поднимай. Топейка!
— Я тут.
— Со мной поедешь...
На той поляне, где Аказ когда-то встретил Эрви, собралось около двадцати всадников. От Мамлея снова прискакал посыльный — мурза в Чалыме только напоил лошадей и сразу уехал. Аказ решил в Чалым не заезжать, а спрямить дорогу и тем самым наверстать потерянное время.
— Вперед никого посылать не будем,— сказал Аказ, когда все сели на лошадей,— поедем вместе.
— А если неожиданно наскочим на мурзу?—спросил Топейка.
— Не наскочим. Дорога расскажет все, только гляди на нее...
Аказ ехал впереди и читал следы на дороге. Вот здесь мурза
останавливался. Поили лошадей. В другом месте перевьючивали...
Следы становились все свежее и свежее. На повороте Аказ поднял руку, и все остановились.
Мурза близко.
— Откуда знаешь?— спросил Янгин.
- Посмотри, с лошадиной морды упала пена и не успела высохнуть. Значит, мы сели мурзе на хвост и теперь не отстанем до вечера. Янгин, заберись-ка на эту ель и посмотри, далеко ли мурза?
Янгин забрался на вершину дерева и быстро опустился.
Они совсем недалеко. Я видел костер...
До самой темноты осторожно следовали всадники за мурзой. Miы от Нуженала за день отъехали далеко, кони притомились, ехать было труднее. Теперь нельзя было следить за мурзой с деревьев, 111 и 11 м у приходилось продвигаться крайне осторожно. Раза два їй реаиис всадники чуть не наскочили на татар. Хорошо, что те ними шумно, не думая о погоне. Скоро стало ясно, что мурза ціннику и дороге делать не будет. Близилась полночь, а татары все ехали и ехали.
Хуже в всего было то, что появилось несколько дорог, они разни и і и« і. в разные стороны, всюду было много следов, и угадывать іридії них следы лошадей мурзы становилось все труднее и трудней, і кнро выехали на такое место, где путь разделился на четыре дороги, и по какой поехал мурза, было невозможно понять. Кто-то посоветовал возвращаться обратно. Но Аказ твердо решил, что мурза мой. На утро, да сделает отдых. По всем четырем дорогам он щи,! англядчнкп. Через полчаса первым вернулся Мамлей кинулся к Аказу и радостно крикнул:
Мурза остановился и зажег костер. Татары сидят и поют песни.
Хорошо, МамлейІ Оставайся здесь и жди остальных доглядим ащ опий le иве,— сказал Аказ и повернул коня на дорогу.
|*щ у, |!и юмнрой вернулся Мамлсй,
(»ми її і......................................... і. неаилто Показалась речка с мостиком, а за
Не«, чум И Мирине пі мириш, мерцал одинокий костер. Около
S
HipB ...................... . ..................... і і и у н 1-і и и у to песню. Изредка он под-
ЙИЮзвнм і нір і мої, и огонь вспыхивал сильнее, осве-
ІІІ.Щ МПИЮНИЙ В ПІЗНІЇ НИН III II I ер, III ним коновязь.
Синаев врити, Лип і бра шлея. В его груди снова закипел
■ і скрипнул і мпшн.дн и позвал товарищей к себе.
Мы нападем на них с ipex сторон...
Погоди, Аказ, Топейка подвинулся ближе, зашептал:— зачеп нападать? Давай я пошумлю на мосту, а ты переплывай реку, пока идет драка, ты выкрадешь Эрви.
Воровать свою жену? Нe для того я сюда пришел. Сперва умрет мурза Кучак, потом мы перебьем его джигитов.
— Зачем так рисковать? Украсть — легче,— настаивал Топейка.
— Какой большой, а не поймешь!—воскликнул Янгин.— Нас обесчестили. Надо отомстить.
— Верно, братишка. Иди к лошадям и будь наготове. Ты, Мамлей, бери шесть патыров и обходи татар справа, а ты, То- пейка,— слева. Ковяж возьмет тоже шесть человек и станет в запасе. Если нам будет трудно — на помощь придет. Я сам буду на мосту. Идите быстрее, время не теряйте — скоро рассвет. Когда услышите мой свист — сразу начинайте. Пока джигиты с вами дерутся, я разыщу мурзу. Ну, берегись, Кучак!
Мамлей и Топейка, взяв по шесть человек, разошлись в разные стороны. Ковяж отошел назад по дороге. Аказ, прижимаясь к земле, пополз к мосту. За ним, чуть поодаль, пригибаясь, шли двое. Сколько прошло времени, Аказ не знал, но чутьем угадывал, что посланные в обход еще не подошли, и потому свистка не подавал. Вдруг слева послышался какой-то вскрик, затем непонятный шум. Аказ вздрогнул и приготовился к сигналу. Потом шум утих, зато около костра появилось несколько человек. Аказ понял, что медлить больше нельзя, вложил в рот два пальца и пронзительно свистнул. Подождал немного, прислушался. Ни справа ни слева не донеслось никаких звуков, похожих на внезапный налет. По-прежнему шумно было только около шатра. Аказ свистнул еще раз, и почти одновременно от костра грохнул выстрел.
Пуля пролетела над головой Аказа и, видимо, поразила товарища, стоявшего за кустом. Тот схватился за грудь и с криком упал на траву. За мостом раздалось еще несколько выстрелов, и тут Аказ увидел, как около моста появилась кучка воинов. Они не подозревали о засаде и двигались по направлению стонов раненого. Аказ быстро выхватил стрелу и положил ее на тетиву лука. Правая сторона моста освещалась отблесками костра, и ему хорошо было видно, как около перил пробежал человек. Запела стрела, и человек остановился, будто наткнувшись на невидимую стену, потом, перебежав через мост, упал. Второй воин не понял опасности: не видел смерти своего друга, потому что тот упал в темноте. Он смело пошел через мостик. Еше щаг, и он был бы вне опасности. Но Аказ пустил вторую стрелу... Затем через мост пробежали сразу двое. Поразив первого, Аказ замешкался, вынимая стрелу из колчана, второй бросился обратно. И снова по засаде ударили залпом из ружей... Аказ выхватил из ножен убитых две сабли, притаился в кустах. Ожидая нападения, он все время прислушивался, надеясь на подмогу товарищей, но те будто канули в воду. И это еще больше тревожило Аказа. Вдруг к мосту с той стороны побежал человек. Он узнал в нем Мамлея. «Неужели предал Мамлейка?»— подумал Аказ.
Жалкий трус и предатель,—крикнул он и выскочил на дорогу.
Но не успел Аказ сделать и трех шагов, как на него с двух сторон набросились воины, вышибли из рук сабли, повисли на плечах.
Аказу связали руки и бросили в шалаш.
Все время до рассвета он думал о том, почему его друзья не откликнулись на сигнал и почему налет не удался?
На рассвете в шалаш вполз Мамлей, а за ним старый воин а шлеме и панцире. Мамлей был не связан, и Аказ понял: его предали.
Я знаю, о чем ты думаешь, Аказ,—произнес Мамлей, — но ты ошибаешься. Я не предатель!
А кто же ты?!—Аказ приподнялся на локте и, зло сверкнув глазами, спросил:—Почему не налетал после свистка?
Когда мы подошли слева, то при свете костров увидели много-много людей. Мы подползли совсем близко и не воинов мы пугались, а совсем другого. Это, Аказ, были русские. Я сразу понял, что мы спутали дороги и потеряли след мурзы. И зачем, думал я, налетать на людей, которые не делали зла ни тебе, ни нам. Я сразу послал предупредить об этом тебя и Ковяжа, и нас заметили и задержали. Ты знаешь, по-русски я говорю совсем плохо и пока объяснял, кто мы такие и зачем здесь, прошло время. Услышав выстрел, я бросился предупредить тебя, но было уже поздно.
--Ты хочешь обмануть меня. Я лежал здесь и не слышал ни одного русского слова. Вокруг шалаша ходят только татары.
Разве я спорю? Здесь татар больше, чем русских, но они служат московскому царю, и мурза Кучак их враг.
Тогда Аказ понял все. Он поглядел на воина и сказал по- русски:
Понапрасну твоих братьев убил я. Прости.
Да, обмишурился ты зело. Искал мурзу, а нашел хана Шигалея. Недешево обмишурка нам твоя досталась — троих воев как не бывало. Теперь идем к хану, ответ держать будешь...
В шатре на высоких подушках полулежал человек средних лет в грогом, на распашку, халате и почесывал свою волосатую грудь. Лицо его было сонным, глаза полузакрыты. Зевнув, он сказал:
- Говори.
Я гнался за мурзой... было темно...
Я это знаю. Зачем мурзу догонял?
Он жену мою украл.
Зачем мурзе твоя жена? Ему своего гарема мало?
— Со свадьбы украл. На три ночи.
Теперь понятнее. Ты черемисин? Чей ты, как звать?
— Зовут меня Аказ Тугаев, а илем мой...
— Сейчас совсем понятно. Ты Туги Изимова сын?
— Да, я его сын.
— Как здоровье почтенного Туги?
— Он убит.
— Кем? Когда?—Хан приподнялся', сел на подушки.
— Его зарезал мурза Кучак на свадьбе.
— Иншаллах! Теперь я все понял. Развяжи его, Иванко.
— Ты бы сразу сказал, что ты сын Туги,— радостно заговорил бородатый воин, развязывая.
— Разве ты знал моего отца?
— Знал! Да мы с ним из Москвы вместе бегали, илем ваш после пожога достраивали, да жёнка у меня из ваших.
— Ты Иван Рун?
— А кто ж другой?
— Я много слышал про тебя, но не видел.
— И немудрено. Когда я в илем попал, ты еще и не родился.
— И я Тугу хорошо знал,— сказал Шигалей.— Он у меня в Касимове бывал не раз, и я — у него. Я рад, что встретился с тобой. Расстилай, Иванко, достархан[9]—пировать будем.
— Ты бы отпустил меня, великий хан. Мне не до пиров. У меня отец не похоронен.
Шигалей нахмурился, недовольно сказал:
— Врешь, шайтан. Отпусти тебя — ты в догон мурзы побежишь. Про отца забудешь. Его, однако, похоронят без тебя.
— А может, отпустим, Али Ахметыч?—сказал Рун, откинув полог шатра.
— Ты иди, мы тут договоримся.
Когда Рун вышел, Шигалей спросил:
— Ты в Казани бывал?
— Мне там нечего делать.
— А мурза Кучак уже в Казани. Если ты мне сейчас скажешь, как жену ты у него отнимешь, я тебя отпущу.
— Ночью проберусь в его дом... Украду!
— Дальше?
— Привезу домой...
— А мурза снова налетит. Дом твой спалит, отца жены убьет, тебя убьет. У тебя против мурзы сила есть?
— Можно набрать!
— А против Казани? Ведь если вы против мурзы встанете, Сафа-Гирей бесь байрак поднимет. Ему вас не жалко — придушит всех.
— А если я с тобой пировать буду —какая польза?
Хан покачал головой, сказал вроде бы не Аказу, а себе:
— Не думал я, что у мудрого Туги такой глупый сын. Может, ты наврал? Может, Туга жив и все сыновья его дома?
— Я ни разу в жизни не врал...
— Да что же это, Али Ахметыч,— сказал Рун, входя.— Парень весь вылитый Туга.
— Он лицом на Тугу похож, а не разумом. Он думает, я сюда пировать приехал!
— Не горячись, Али Ахметыч,— сказал Рун, расстилая скатерть и расставляя на ней еду и питье,— ты ему толком расскажи, зачем мы сюда пришли, и он все поймет.
— Охота пропала. Сам расскажи.
— И расскажу.— Иван начал разливать вино по кружкам.— Задумал великий князь Василь-Ваныч построить на берегу Суры город. И послал он сюда хана Али Ахметыча места сии разведать и начать крепость возводить. Чтобы потом Казани не токмо грозить кицитою земли нашей, но и покорением.
— И ты мне город этот построить помоги, из него мы с великой ратью на Казань сходим, жену твою у Кучака отнимем и места земли твоей от набегов хана защитим. Понял теперь?
— Я твой пленник. Зачем уговариваешь? Скажи—я буду работать.
— У, какой упрямый шайтан! У меня работников и без тебя хватит. Мне помощник нужен. Который места эти знает, леса знаеет, народ знает. И не просто помощник, а друг. Мне сам аллах тебя послал. Кто, кроме сына Туги, может другом моим стать?
— Подумать надо, великий хан.
— Вот это бик якши. Хорошо думай.
ЗВЕЗДА ГАРЕМА
Идет по Волге посудина: не то ладья, не то плот — не поймеш. Остроносая и пузатая — на лодку похожа, однако, в основе, как у плота,— пучки сосновых бревен связаны. На них настил, и над настилом — навес. По-русски потарлота зовется, по-татарски кмяк-басма.
Пока Эрви везли в седле, она все еще надеялась на спасенье, но когда мурза погрузил лошадей и людей на потарлоту, поняла, теперь Аказу ее не выручить
Сейчас она могла надеяться только на себя.
Нa плоту мурза велел ее развязать и поместить под навесом на кошме. Сам к ней не подходил, и Эрви показалось, что он не будет особенно настойчив и взял он ее не столько ради того, чтобы на владеть ею, а для того, чтобы доказать черемисам свою власть н силу.
Подумав, Эрви поняла: чем она будет неприступнее, тем скорее ее выгонят. Да она и не могла предать Аказа, предать любовь...
Казань удивила Эрви. Большие каменные дома, огромные крепостные башни, высоченные минареты мечетей—все это для дочери лесов было ново и необычно.
Не подошел к Эрви мурза и на берегу. Ее посадили в возок, привезли в дом мурзы и передали каким-то старым и злым женщинам. Те сразу повели ее в баню, заставили раздеться, осмотрели, ощупали ее тело, вымыли и заплели волосы в шесть тонких косичек.
Эрви хоть и нарядили в лучшие одежды и натерли благовониями, но в покои не пустили. Ее провели в большое низкое помещение, где девушки ткали ковры. Евнух, к которому Эрви обратилась с вопросом, ясно дал понять, что ее место именно здесь, а не в доме властелина. И она смирилась с этим. Ведь мурза обещал отпустить ее, если она будет послушна.
Но сегодня Эрви взбунтовалась. Пришли к ней две старухи, принесли белила, румяна и краску для бровей. Они без слов вломились в ее каморку и стали наряжать в новые одежды, краше которых она не видывала. Растирая на ее щеках румяна, старухи тихо разговаривали меж собою, думая, что новая наложница не поймет их.
— Ты не знаешь, джаным[10], кому хочет подарить эту бикечку наш повелитель?—спросила одна.
— Подарить? Да разве наш властелин слабый человек, чтобы задаривать кого-то? Ее хотят просто продать. Она хоть и нечистая, но, аллах свидетель, красива, как рассвет в начале весны. За нее много дадут.
— Вы лжете!—крикнула Эрви, оттолкнув старуху.— Я не пленница! Вон отсюда!
Эрви вскочила со скамейки и в гневе вытолкала испуганных старух из комнаты. В ней проснулась кровь лесной свободной дикарки. Ее хотят продать, будто беличью шкурку!
— Пусть сюда придет сам мурза и скажет, что эти старухи лгут!—кричала она.
На крик вбежал евнух. Он привык к безропотности обитателей гарема и, схватив Эрви за косы, потянул к выходу. Слишком поздно заметил он в руках ее тяжелую железную кочергу. Эрви с силой ударила евнуха по плечу, и он с воем выскочил за дверь. Вслед ему полетел медный кувшин.
Скоро пришел мурза и строго спросил:
— Почему ты выгнала старух, почему ударила хранителя гарема?
49
— Они сказали, что ты хочешь продать меня, как рабу, а евнух чуть не вырвал мои волосы.
— Успокойся, Эрви, старухи лгут, и ты правильно сделала, что выгнала их. А ты, дрянной слуга, если еще раз дотронешься до этой женщины, я сам обломаю кочергу о твои бока. Пойдем в комнату, я хочу поговорить с тобой.
Войдя в комнату, мурза сел на низкую скамеечку против жаровни и, размешивая щипцами раскаленные угли, заговорил, не глядя на Эрви.
— Я пришел тебе сказать, что завтра уезжаю.
— Отпусти меня в Нуженал.
— По дороге в Казань я много думал о тебе, Эрви. И я решил сделать тебя самой близкой моему сердцу. Нужда снова гонит меня в Бахчисарай. Через три новолунья я вернусь.
-- Отпусти меня к мужу,—глядя в пол, упрямо сказала Эрви.— Я никогда не буду твоей — я лучше умру.
-- Глупая ты. Я еще на плоту мог прийти к тебе ночью, и ты не смогла бы противиться моей силе. В моем доме ты провела две ночи — разве я принуждал тебя? Чем Аказ лучше меня?
— Он мой муж.
— Ты не была с ним на брачном ложе.
-- Мы держали наши руки над свадебным костром.
-- Ты, я вижу, не понимаешь своего счастья. Но я верю — поймешь. Время для этого у тебя будет. Ну, мне пора!
Спустя минуту появился евнух. Увидев его, Эрви невольно улыбнулась. Рука хранителя гарема висела, как плеть. Евнух поклонился и писклявым голосом сказал:
— Пойдем, госпожа, я покажу тебе твои покои. Ты удостоена великой чести — будешь жить в дальнем крыле гарема. Там живут валидэ.— Евнух мелкими шагами пошел впереди Эрви.
— Кто это — валидэ?
— Законные жены господина. Их всего четыре. Твои покои рядом с ними.
Евнух открыл дверь, и они вошли в большую длинную проходную комнату. Посреди нее стояла медная жаровня, на ней остывали, покрываясь сизым пеплом, древесные угли. Единственное оконце еле освещало комнату. Около стен, на лавках, сидели женщины, склонившись над работой: кто вышивал, кто вязал или прял шерсть. Было душно и пыльно. Женщины, глянув на Эрви, снова склонились над пяльцами.
— Кто это?—спросила Эрви, когда они прошли комнату.
— Рабыни.
Следующая комната — поменьше. Но тоже с жаровней посредине. Здесь были только молодые, красивые женщины. Они, видімо, только недавно проснулись, ходили по комнате полураздетые, вялые, медленно покачивая обнаженными бедрами. Некоторые еще убирали свои тюфяки, которые были разостланы прямо на полу, и запирали их в шкафы, вделанные в стену. На евнуха они не обратили внимания, а Эрви ощупали неприязненными взглядами.
— Жены мурзы?—спросила Эрви.
— Нет, нет. Это бикечи.
Покои, куда евнух привел Эрви, представляли обычную комнату с двумя окнами. Здесь была печь, широкая лежанка, застланная парчовым покрывалом. Над лежанкой висел забранный полог из шелка, по стенам укреплены бронзовые светильники, в которые вечером вставлялись факелы. Резной столик с шербетом стоял около лежанки. Был здесь еще стенной шкаф с нарядами для Эрви.
— Ты здесь будешь хозяйкой, госпожа. И никто без твоего позволения не может заходить сюда... кроме господина твоего. А служить тебе будет Зульфи.— Евнух хлопнул в ладони, и в покои вошла молодая служанка. Согнулась в привычно смиренной позе, а глаза — бойкие. Евнух, поклонившись, вышел. Служанка тоже направилась к двери, но Эрви сказала:
— Останься. Посиди со мной.
Так для Эрви началась новая жизнь. Ни рабыни, ни бикечи, даже валидэ не могли покидать пределов дворца. Вся их жизнь замыкалась границами гарема, небольшим двором с соколиной башней. В хорошую погоду бикечам разрешалось подниматься на зарешеченную башню, чтобы поглядеть на город. Все ворота, все калитки на запоре, каждый шаг под взглядом либо служанки, либо евнуха.
Дни потянулись медленно и тягуче. Эрви томили безделье и неизвестность. И еще—всеобщая неприязнь. Законные жены хана знали: если в гареме появилась звезда, владыка все внимание перенесет на нее. Они ненавидели избранницу своего владыки. Еще больше ненавидели Эрви бикечи. Пятая комната, в которой сейчас жила Эрви,— это их комната. Если мурза хотел навестить одну из жен, он приходил к ней в комнату. Если же пожелал провести ночь с одной из бикечей — ее вели туда, в пятую.
Только Зульфи скрашивала безрадостную жизнь. Но Эрви не знала, что все, о чем она говорила с ней, становилось известным евнуху или старшей валидэ.
Безделье и неизвестность усиливали самую страшную муку— тоску по Аказу, отцу и родным местам. Эрви всеми силами старалась получить хоть какую-нибудь весточку из Нуженала. Но стены гарема глухи, заборы высоки, и нет доступа вестям из внешнего мира. Только один раз проговорилась Зульфи, будто видела в доме мурзы старуху, которая пришла с черемисской стороны.
А однажды подслушала Эрви разговор жен мурзы. Прошла гри месяца, был на исходе четвертый, а Кучак не появлялся. И старшая валидэ говорила, что повелитель уехал в Крым по важному делу. Русские начали строить на Суре город и непременно от него поведут войска на Казань. Хан послал мурзу просить у крымского хана военную силу, а тот почему-то упрямится. Вот поэтому владыки нет, и когда он приедет—неизвестно.
Подслушанный разговор обрадовал Эрви. Если русские построили на Суре город, они возьмут Казань и освободят Эрви. Аказ непременно придет с русскими...
Мурза Кучак уехал в Крым летом, думал вернуться в конце осени, а пробыл в Бахчисарае до весны.
По только что просохшим дорогам он возвращался в Казань. Возвращался без помощи, на которую так рассчитывал Сафа-Гирей. И все-таки мурза не только об этом думал, подъезжая к Казани. Он думал и об Эрви. Мурза знал, что ни одна из его жен, ни бикечи по-настоящему не любят его. Когда из пяти своих сыновей он выбирал наследника, жены ластились к нему, как кошки. Каждая хотела, чтобы ее сын стал наследником. Но мурза указал на Алима, и три жены плевались и фыркали, как верблюдицы. А Эрви —не такова. Но любит Аказа. И проезжая около реки Барыш, что у Алатыря, послал мурза конника к Шемкуве. Чтобы ехала немедля...
Гарем притих. О том, что приехал хозяин, в доме знали все. Готовились к встрече жены мурзы: проветривали комнаты, натирались белой помадой, румянились. Каждая из четырех верила: к ней зайдет повелитель. Только в глубине души червячком точила мысль: а вдруг мурза пройдет мимо, в пятую комнату. Опасения эти гасились: много раз привозил хозяин девок из разных мест, но ни одна не задержалась на лучшей половине гарема. Пробудет ночь, две—не более. А об Эрви мурза, наверное, забыл давно, и спешно уехал, не успел выгнать из покоев, вот и живет она тут.
Но еще до полудня жены узнали: мурза с евнухом переслал черемиске сушеные крымские фрукты и сладости, дорогие подарки.
Приуныли жены.
Через час новая весть: Эрви подарки не приняла, сладости выставила за дверь. Это хорошо! Мурза крут. За дверь вылетит и сама дикарка.
Настал вечер. Сидят жены около дверей, к шагам прислушиваются. Евнух и служанки ходят на цыпочках, их почти не слышно. Мурза пойдет — все половицы застонут.
Вот он — идет. Шаги тяжелые, уверенные. Скрипят ступеньки, гнутся половицы. Первая дверь—мимо. Вторая, третья—мимо. Четвертая—тоже. Женам ясно—мурза прошел к дикарке. Сейчас крик будет, сейчас гроза будет, нагайка засвистит. Ждут жены, но все тихо. Полчаса не прошло, тихо скрипнула пятая дверь. Значит, мурза вышел не в гневе. Так почему он не остался до утра? Гадают жены, ждут, но повелитель снова прошел мимо их дверей и покинул гарем.
А было так... Мурза вошел в комнату, всего один светильник горит, остановился у двери, огляделся. Эрви забилась в угол лежанки, сидит, колени обняла, поджала к животу, глаза блестят.
— Я приехал,— сказал мурза.
— Вижу.
— Ты меня ждала?
— Ждала.
— Значит, я тебе нужен?— Кучак шагнул к лежанке.
— Кто меня домой отпустит без тебя?
— Почему подарки не взяла?
Эрви молчала.
— Я думал, ты будешь со мной.
— Нет. У меня муж есть.
— Почему за тобой полгода не едет?
— В Казани стены высокие.
— Попросил бы. Может, я отдал бы.
— Аказ гордый.
— Но сколько времени прошло...
— Мой муж мне верит. Десять, двадцать лет я здесь просижу— все равно возвращусь такою, какая ушла. Или не возвращусь совсем. Если бы не надеялась на это, живой меня не застал бы.
— Я тебя понимаю, Эрви. Но должен сказать: с твоей родины вести плохие есть. Аказ пропал...
— Я не верю тебе.
— И я тоже вестям этим не верю. Подожди немного — сейчас у меня много важных дел? Потом — поедем в Нуженал. Если Аказ там — отдам тебя ему. Если нет — просить буду тебя со мной в Казани жить. Согласна ли?
— Там видно будет. Подожду. Делай свои дела. Но знай: дотронешься до меня — умру.
— Спи спокойно. Жди.
Из гарема Кучак пошел прямо к хану. От сыновей он узнал, что дела в ханстве плохи.
Сафу-Гирея он застал совсем расстроенным. Хан вяло поругал мурзу за долгое сидение в Бахчисарае, потом спросил:
— Как здоровье моего брата Саип-Гирея?
— Брат твой ушел в сады Эдема.
— Умер?—так же равнодушно переспросил Сафа.— Кто теперь?
— Саадет-Гирей. Тоже твой брат.
— Средний,— уточнил Сафа.— А как он поживает?
— Плохо, могучий.
— Только на трон сел и уже плохо?
— Горячая голова. Наместника султана обидел, теперь то и гляди из Стамбула шелковый шнурок пришлют. Беи хана не слушают, войско из своих бейликов не дают, король польский снова грозит войной. Саадету, в случае беды, свой дом защитить нечем... Мы долго думали, выжидали...
— Здесь тоже плохо,— Сафа накурился кальяна и казался пьяным,—Булат меня не слушается тоже, все делает, как захочет. С Москвой сносится, наверно, скоро русские рати позовет. Другого хана у князя Василия просят. Шигалея грязного. Если Москва рать пошлет, что делать будем?
— Саадет-Гирей советовал: Булата и его сторонников убить, на коренных казанцев нагнать страху...
— Легко сказать — убить. У меня своих воинов нет, только охрана — полторы тысячи. И то они не мои, а твои. А у Булата, сам знаешь, сколько...
— Саадет сказал: если будет больно плохо, пусть Сафа в Крым едет.
— А ты?
— А я здесь останусь. Султан оставлять совсем Казань не велел. Если так не сделаем, он и тебе шелковый шнурок приготовит. И глазом не моргнет.
— Будь проклят тот день, когда я согласился стать ханом Казани!—воскликнул Сафа и отбросил в сторону мундштук кальяна.
Мурза огляделся в Казани: дела не так безнадежны. Булат, конечно, силен дружбой с Москвой, но если его припугнуть, то можно послов московских, которые мутят в Казани воду, выгнать. Правда, Сафа-Гирей клятву Василию-князю дал, но какой хан когда и где клятвы держался?
Придумано—сделано. Один лабаз торговый у эмира Булата спалили, пригрозили, что если и далее эмир против хана будет — все спалят. Послов московских из Казани выгнали, имущество их забрали. Стали потихоньку сторонников Булата шерстить.
Казанцам, державшим сторону Москвы, тяжело стало жить. Сафа и Кучак не щадили тех, кто им противился, а повеления из Москвы не слушали. Дошло до того, что отказались от своих послов, которых раньше сами же на Москву послали. А те, не будь плохи, собрались вместе да и бух государю московскому письмо:
«Огныне Сафе-Гирею мы служить не хотим,— писали они,— ни послал нас сюда за великими делами, но что мы здесь ни делали, он все это презрел, от нас отступился, а если мы ему ненадобны, то и он нам ненадобен. А в Казани у нас родня, бритья и друзья. Пошли же нас к Васильсурску, мы отпишем им грамоты, и они за нас станут, потому как Сафа-Гирей многим неугоден. Пристали к нему крымцы да ногаи, да тутошние лихие люди, а весь народ с ними не вместе. Земля ждет твоего государева жалования: быть ли царем на Казани Сафе-Гирею или кого другого пришлет государь. Было бы по-доброму если бы Государь послал Шигалея...»
Василий Иванович послов послушал и отпустил их с Шигалеем в Нижний Новгород. Они списались с мурзой Булатом, тот поднял казанцев на Сафу-Гирея и выбросил его из Казани. Опять пришлось Сафе возвращаться в Крым.
Взявши власть в Казани, Булат был сам себе на уме. Шигалея ханом он совсем не хотел. Этот власть отнимет сразу. Лучше попросить на трон Шигалеева брата Беналея. Тот молод и глуп, к хмельному пристрастен. Спорить с Булатом не сможет. Так и сделали. Попросили на ханство Беналея, которого москвичи звали просто Еналеем, и в Казани снова водворилось спокойствие.
Не успел Еналей на трон казанский сесть, как к нему посол от ногайских степей, от мурзы Юсуфа. «Ты давно дочь мою Сююмбике замуж просил. Тогда она тебе отказала, теперь согласна».
Еналей послал за невестой специальный поезд, на всякий случай попросил согласие Москвы.
В Москве узнали об этом и рады. Князь Юсуф всей ногайский орды хозяин. Породниться с ним казанцам — для Руси большая выгода. Сразу из Москвы грамота — женись, хан Еналей, с богом! И появилась в Казани красавица Сююмбике.
Поглядели казанцы — ахнули. Царица — ослепительнее звезды.
И еще раз суждено было охать казанцам. Первый удивился мурза. Шла г. Почему-то после женитьбы хан Еналей советов у него перестал спрашивать. А зачем Еналею советы, если все государственные дела он передал молодой царице. За короткое время Сююмбике вникла в ханские дела, узнала всех людей, нужных приблизила, пустых из двора выгнала, все взяла в свои руки. И все ей покорялись: иные не могли отказать ей ни в чем из-за ее красоты, н другие — из-за ума ее. Сунулся было Булат с советом, царица ласково заметила: «У хана своя голова на плечах есть». Булаг нахмурился, напустил на свое лицо злобу, думал испугать Сююмбике. А она глянула на него ласково-ласково и сказала:
- Я всегда любовалась твоим лицом, благородный эмир, ныне же легла на лицо твое тень зла. Не сердись на Сююмбике — Она любит тебя.
И покорила Булата. Да что там Булат! Мурза Кучак, уж на что строптивый, и то Сююмбике покорился. Позвала царица Кучака, не стала спрашивать, как он служил Гиреям, сколько сторонников Москвы погубил, а просто сказала:
— Смотри, милый мурза, за Горный край ты перед ханом ответчик. Если что — с тебя спрашивать будем.
А мурза подумал: «От этой умной и хитрой бабы пользы взять можно больше, чем от Гиреев. Ей надо служить».
А в один из вечеров пришла в дом мурзы Шемкува. В другое время старуха ходила в Казань — долго добиралась, не по одному дню в доме мурзы бывала, дожидаясь, пока он заговорит с ней. За это время она досыта наедалась, отдыхала после долгой дороги. На этот раз, вызванная вторичным приказом, она мчалась в Казань сломя голову, где верхом, где пешком, а где и на чужой лодке. На седьмом десятке лет легко ли? А в доме мурзы поесть, отдохнуть не дали — сразу к хозяину.
— Ты почему так долго не шла? Служить Казани надо честно.
— Тебе служу я,— так же зло ответила Шемкува.— А про тебя сказали, что ты ушел в Крым с Сафой.
— Ну ладно. Я слышал, что Аказ снова подбивает людей против Казани.
— Аказ исчез...
— Исчез?! Слава аллаху! Значит, первые вести были верны. Кто избран лужавуем?
— Пять дней шел спор. И Мырзанай добился своего.
— Как думаешь, куда девался Аказ?
— Ходят слухи, что он строил крепость на Суре.
— Как он попал туда?
— За тобой побежал...
— Погнался все-таки?
— Он вместо тебя встретил Шигалея. А тот с Тугой был в дружбе. И он его пленил, а может, так уговорил. Аказ водил урусов по лесам, указывал дубы для крепостных стен.
— А что этот жирный боров, Мырзанай, смотрел? Теперь он глава Горной стороны.
— Разъелся больно. Дал волю богачам, и оттого его не жалует простой народ. А Аказа он как огня боится.
— Где он сейчас?
— Мырзанай?
— Аказ!
— Ходят слухи...
— Ты, старая коряга, за сто верст слухи тащила?!
— Ты мне велел за Нуженалом следить. Про него все что хочешь спрашивай. А за Сурой я не бывала. Однако знала, что спросишь, и велела Мырзанаю туда Пакмана послать. Но не дождалась. Уж больно ты напугал меня вторым приказом. Если Акиз там—Пакман приедет.
— Скажи Мырзанаю: я ему за эту крепость на Суре голову оторву.
— Мы тебе доносили, могучий. Но тебя здесь не было — ты и Крым ездил, хана тоже не было.
- «Доносили, доносили»! Разве Мырзанай не мог людей, как раньше было, поднять, урусов развеять, леса им не давать?..
Передам твои слова.
Если Аказ жив — убить. Пусть в крепость людей подошлет, пусть наймет кого-нибудь, но голова Аказа должна быть у меня.
— Скажу. Эрви жива? Она тебе еще не надоела? Домой не думаешь прогнать?
— Ты считаешь, что пора?
— Ее суДьба будет схожа с моею. Натешатся — выгонят домой. А там ее не примут. И будет так же, как и я, до старости скитаться между своим илемом и Казанью.
— Сломать подкову можно,— сказал мурза.— Эрви живая...
— Неужто не смирилась?
- Такой упрямой я еще не видел.
Она тверда любовью,— сказала старуха после раздумья.— И ей вера помогает.
И хочу тебя просить — сумеешь сломить ее любовь и веру?
— Попробую. Этому меня учить не надо.
Тебя никто не видел в доме?
— Никто. Слуга прямо из повозки привел сюда.
Пойдем. Я тебе ее дверь покажу.
После приезда мурзы к Эрви стали относиться по-другому, служанка не ходила за ней по пятам, евнух разрешил ей одной бывать на дворе, подниматься на башню.
Сегодня Эрви долго стояла на башне, смотрела на Волгу, на прибрежные леса. Уходить в душную комнату не хотелось. Пришла Зульфи, принесла шаль.
Простудишься, госпожа. Все валидэ внизу, как бы тебя Не хватились.—Эрви молча спустилась по скрипучей лестнице, прошла в покои. Как тяжко было ей в этой мрачной, тесной комнате. Эрви попыталась отодвинуть створку окна, но она не поднималась.
Вдруг в дверь кто-то тихо постучал. Эрви прислушалась. Стук омгорился. Она подошла вплотную к двери, спросила осторожно:
Кто?
I - Эрви, омсам поч[11].
Если бы за дверью раздался удар грома, Эрви так не испугалась бы. Родная речь! За все месяцы, проведенные здесь, она впервые услышала слова на родном языке. И она узнала голос: это была старуха с Юнги. Дрожащими руками откинула крючок, приоткрыла дверь.
— Ты одна? К тебе никто не придет? А то мне — смерть.
Набросив крючок, Эрви осторожно прошла в темноту, ощупала
старуху.
— Не бойся. Я не пущу никого. Как ты сумела пройти?
— Подкупила стражу. Однажды я пыталась это сделать, но не смогла. В начале зимы...
— Я знаю. Иди сюда, под полог. Нас никто не услышит.
Эрви усадила старуху на лежанку, дернула за шнурок. Широкие края полога упали, накрыв обеих.
— Я добиралась к тебе две недели. Послал отец.
— Он жив, здоров?
— Старик плох. Когда умер Туга...
— Туга умер?
— В ту же ночь, как тебя увезли в Казань. С той поры твой отец заболел...
— А муж мой, Аказ?
— Аказ? А разве в прошлый мой приход тебе не передали?
— Ни слова. Я случайно узнала, что ты была...
— Аказа нет. Погиб.
— Ты лжешь, старуха!—Эрви толкнула Шемкуву обеими руками, старуха сползла с лежанки, потянула за собой полог. Он оборвался, накрыл обеих. Шемкува поднялась, сбросила с плеч ткань, прошипела:
— Я столько верст плелась по бездорожью, пробиралась через лесные чащи, чуть не утонула в болоте для того, чтобы ты назвала меня лгуньей. Я ухожу.
— Нет, не уходи. Не может быть... Аказ не умер!
— Так случилось. В тот день, когда тебя схватил Кучак, Аказ с друзьями кинулся за ним. В погоне он попал в плен к урусам. Наверно, ты не знаешь: на берегу Суры построена крепость. Ее назвали Васильсурск. Аказ работал там в цепях, он рыл потайной ход. Потом сбежал. Его поймали и... Русские измены не прощают.
— Не верю я тебе! Пойди прочь, колдунья!
— Спасибо и на этом. Прощай!
— Постой!
— Ни слова больше не скажу.
— Прости меня! Останься.
— Я ухожу. Я лгунья! Я...
— О юмо! Как мне поверить, что Аказа нет!—Эрви опустилась на колени около лежанки, уткнулась лицом в одеяло и заплакала. Шемкува склонилась над ней, как сова над пойманной мышью.
и ждала, когда Эрви поднимется. Она понимала, что достигла своего: в ее ложь поверили.
— Поплачь, поплачь. Слезы всегда приносят облегчение.
— Облегчение?—Эрви поднялась.— Нет я не буду лить слезы! Давай мне твое тряпье, я переоденусь и убегу. Сама все узнаю, но уж тогда — будь что будет. Снимай одежду!
— Это глупо и безрассудно. Дорогу в Нуженал пока забудь.
— Забыть?
— Пока. На время. Беда тебя ждет в родном илеме.
— Беда? Она и так рядом со мной.
— А об отце своем ты подумала, о людях наших подумала? Неужели я ради этой черной вести пришла к тебе? Мы считали, что ты о смерти Аказа знаешь давно. Я пришла передать тебе совет отца...
— Говори...
— Ты знаешь, кто сейчас Большой лужавуй?
— Откуда мне знать?
I Мырзанай. Пакман чалымским лужаем правит, а Мырынзай теперь всю власть над Горной стороной взял. Мурза у нас дивно не был, ты знаешь, он за Перекопом пропадает — Мырзанай что хочет, то и делает. И помешать ему некому. Аказ погиб, Туга умер, а Ковяж на его дочке женат. В округе все говорят, что ты сама к мурзе поехала. Пакман думает, что тебя сюда отец той послал, и они Боранчею дышать не дают. Лучшие земли твоего отца заняли, угодья для охоты отняли. И отец твой повелел сказать: уж если ты Аказу не досталась, если женой Пакмана быть не хочешь, а отдалась мурзе, то помоги отцу. Зачем то ты сама сладко ешь, мягко спишь, а об отце забыла?
— О чем ты говоришь? Я до сих пор верна Аказу!
— Забудь его, пригрей мурзу, затми его рассудок. Повиновеньем, нежностью его покори.
— Да ты в своем ли уме?
— Сперва дослушай. Настанет день, когда тебя мурза назовет женой...
— Пусть твой язык отсохнет. Седая, а ума не нажила!
— Пойми, весь Горный край тебе станет подвластным. И если ты захочешь, мурза сам к твоим ногам бросит Мырзаная. Его Никто не любит — все Большим лужавуем отца твоего назовут.
Тогда все простят, что ты сама пошла в постель мурзы. Другого пути теперь для тебя нет.
Нe зря говорят: нельзя до бесконечности натягивать тетиву. Нервы у Эрви все время как натянутая струна была. Но теперь вникла. Эрви села на скамью, опустила низко голову, задумалась, зачем ей жить, если Аказа нет? Куда стремиться, если дома ждет ее позор и смерть? Может, старуха права? Приехать домой сильной и властной, отомстить Мырзанаю, найти убийц Аказа. помочь отцу и народу.
— Что передать отцу? Говори скорее! Мне тут долго быть нельзя.
— Скажи — я сделаю, как он хочет. Мне теперь все равно.
— Давно бы так,— Шемкува погладила волосы Эрви, тихо вышла...
...Бикечи говорят: в гареме, в самых лучших комнатах живут самые худшие женщины. Это они о женах мурзы так говорят. Старшая жена мурзы Паху-бике давно на мужа махнула рукой — она стара. Ее взяли для мурзы из-за богатства. Он моложе ее был тогда на восемнадцать лет. Сейчас ей шестой десяток идет. Вторая валидэ, Джамиля, вся в молитвы ушла. Ходит из мечети в мечеть, аллаху предана. Ей все равно: есть у мурзы возлюбленная или нет. Четвертая жена, хоть и молода, но ленива и чревоугодница. Одна забота у нее: поесть сытно, поспать долго. Детей у нее нет, забот о муже — тоже.
Зато третья жена, Саида, сильно забеспокоилась, когда рядом с нею появилась Эрви. У Саиды четверо детей, все сыновья. Ей о наследстве надо думать. Саида следила за каждым шагом Эрви, и когда к той прошла Шемкува, сразу сообразила, что послал ее туда мурза. Саида вслед за Шемкувой подошла к двери, приникла ухом к щели. Саида поняла, зачем послана старуха. Если дикарку уговорит, будет она женой мурзы.
Утром в доме стало известно, что прибежал с Горной стороны парень и принес мурзе весть: крепость на Суре построена, муж Эрви жив, русские собирают в той крепости большое войско и хотят на Казань идти. Обрадовалась Саида и, улучив удобную минуту, постучалась в дверь Эрви.
— Что надо?—неласково спросила Эрви.
— Радостную весть хочу тебе сказать. Был с вашей стороны Пакманка и сказал, что муж твой Аказ живет в крепости на Суре...
— Он жив?
— И здоров. Русские дают ему сорок тысяч воинов, скоро тебя выручать придет.
— Русские воины на Казань придут — тебе какая радость? Не верю я твоим словам.
— Я не хочу, чтобы ты грела постель моего мужа. Потому и пришла к тебе. Ты мне верь, а старухе не верь. Ее мурза с ложью к тебе послал. Пойми: без его позволения ни один чужой человек в гарем проникнуть не может. Я все сказала.
У Эрви будто крылья за плечами выросли. Дали русские Аказу войско или не дали, не это главное. Главное — Аказ жив! Теперь она знала, как говорить с мурзой, знала, что делать. Весь день была радостной, а поздно вечером пришел в ее комнату Кучак.
— Пакман в Казань прибежал. Хочешь увидеть его?
— Хочу.
— Только он горестные вести принес...
— Все равно хочу.
Мурза хлопнул в ладоши, вошел, склонившись, евнух. Через малое время привел Пакмана.
— О, Эрви. Ты стала красива, как луна в зимнюю ночь,—сказал тот.
— А ты возмужал, Пакман. Здравствуй.
— Я привез тебе поклон от Боранчея.
— Спасибо. Здоров ли он?
— Постарел сильно. Велел тебе мурзу слушать, покорной быть.
— Муж мой, Аказ, здоров ли? Почему он поклон не послал?
— Разве ты не знаешь: Аказа нет в живых. Его убили русские.
— Когда?
— В ту ночь. Он побежал тебя догонять, наскочил на русских, его зарубили.
— Как ты узнал?
— Я сам похоронил его. У Волчьего оврага.
— В прошлую ночь ко мне мурза Шемкуву прислал — она говорила, что Аказа убили в крепости на Суре. Кто из вас лжет?
Пакман виновато глянул на мурзу, тот боднул головой в сторону двери, и Пакман исчез.
— Так кто же из вас говорит правду?—спросила Эрви.
— Пакман не поумнел. Захотел похвастаться. Ты одно знай: Аказа нет.
— Отпусти меня домой.
— Зачем? К кому? Сейчас там Мырзанай хозяин. Тебя он силой выдаст за Пакмана. И будешь ты жить в черном, дымном кудо. Терпеть упреки, сносить побои. А я тебя сделаю звездой гарема, женой сделаю. В шелка одену, Пакман твоим слугой будет. Хочешь?
— Могу ли я стать женой человека, который оплел меня мерзкой ложью? Я знаю, что Аказ жив и русские идут на Казань войной. Ненавижу тебя. Убей меня или отпусти!
— Вот как! Терпенью моему пришел конец. Сейчас же собирайся! Пойдешь в подвал, к моим рабыням. Нет, не к рабыням! Аскерам на потеху! Их много. Они тебе праздник устроят. Иди! Или боишься?
— Уж если я тебя не боюсь — твоих ли мне собак бояться?
— Ну, берегись! Сначала я тобой натешусь, потом—аскерам!— Мурза раскинул руки и пошел на Эрви. Она вскочила на лежанку, с нее забралась на подоконник. Ударила ногой в раму.
— Не ломай раму! Упадешь — разобьешься.
— Какой дурак назвал тебя могучим?—Эрви повернулась к мурзе, пытаясь спиной выбить окно.— Ты лжец и трус! Сюда идут войска, а ты воюешь с бабами!
Эрви ударила ногой по раме, на пол посыпались осколки цветного, наборного стекла. Мурза в два прыжка оказался около окна, схватил Эрви, сдернул с подоконника. Стараясь вырваться, Эрви извивалась, как кошка, царапала лицо мурзы, била по спине кулаками. Мурза держал ее крепко. Понес к двери. И тогда Эрви увидела светильник, укрепленный на стене на высоте человеческого роста. Она вырвала из гнезда бронзовый подфакельник и изо всех сил ударила им мурзу по голове. Кучак пошатнулся, завыл, как зверь, бросил Эрви на пол. «Ты ранила меня, собачья кровь!» В неистовой злобе он начал наносить ей удары носком сапога в бока, в спину, в голову. Эрви потеряла сознание. И почти в тот же момент в дверях показался Хайрулла, крикнул:
— Внимание и повиновенье! Сююмбике — царица Казани!
Кучак зажал рану на голове ладонью, увидел царицу. Она
стояла в дверях, величественная, с легкой усмешкой глядела на мурзу.
— Поклон тебе, великолепная. Милостив аллах, тебя ко мне пославший. Царице слава!
— Здравым будь, мурза. Да ты ранен, я вижу.
— С оружием я был неосторожен...
Сююмбике вошла в комнату, остановилась около Эрви и, метнув на нее короткий взгляд, сказала:
— Тебя я поняла. С таким оружием шутить опасно.
— Повелевай, светлейшая. Прости великодушно. Я вздумал проучить мою служанку.
— Служанку? Давно ли жена Аказа стала твоей служанкой?
— Все подданные ханства — наши слуги.
— Но не все же наложницы.
— Пойдем в мои покои, светлейшая. Здесь не место... Здесь гарем.
— Я женщина, и мне аллах позволил входить в гарем.
— Обычаи неписаные есть...
— Я пришла сюда ради государственного дела. Ты, мурза, допускаешь ошибку за ошибкой. Ты должен делать все ханству на пользу, а чем занялся? Скажи, зачем ты притащил в Казань жену Аказа?
— Позволь, блистательная, спросить: с каких это пор властители ханства стали считать девок в гаремах их подданных?
— Глупец! Ты нуратдин — опора царства. И ты обязан каждый свой поступок, каждое ничтожное решенье соизмерять с разумностью. Ты думаешь, мне жалко девок, что ты таскаешь в свой гарем? Тебе был отдан черемисский край, чтоб там был порядок. А ты ради одной бабенки устроил среди подданых своих драку, ты залил кровью свадебный костер, убил Тугу, озлобил его сына, сжег селенье. И в довершение всего поставил лужавуем никчемного и жадного ублюдка.
Эрви очнулась. Она села, прислонилась спиной к лежанке, с ужасом вслушивалась в слова Сююмбике. Сказала тихо:
— Великий юмо! Какие это люди... Подобие зверей... Народом« правят, а сами сеют всюду смерть и горе. Прокляты вы будьте.
— Эй, Хайрулла! Заткни ей глотку!—крикнул мурза, и старый слуга столкнул Эрви снова на пол, наступил ногой на спину.
— Не тронь ее! — движением руки Сююмбике выслала Хайруллу и, обратившись к мурзе, сказала:
— Ты слышишь: проклинает. И не она одна. Ее устами говорит народ. А между тем у нас над головой нависла беда. Великий князь Москвы идет на нас войной...
— Это мне известно. Ратников ведет князь Вельский... Не очень много. Тысяч пятьдесять. И у нас еще много времени.
— У нас нет времени! Они уже в крепости на Суре. Если бы ты не возмутил присурских черемис и чувашей —они бы крепость эту строить помешали.
— Не в том причина, великая...
— Там воев вдвое больше, чем ты думаешь. А крымский хан- подмогу нам шлет, на черемис теперь мало надежд, коренные казанцы нам враги, им хан Беналей уже не нужен, хотят просить на пристол Шигалея.
— О, этот Шигалей! Мерзкий лизоблюд! Выкормыш Москвы. Если он станет ханом, Казань пропала!
— Вот видишь! Теперь ты понимаешь, как велика опасность?-
— Что думает хан Беналей?
— Он так же, как и ты, сидит в гареме либо тешится охотой.
— Надо бы созвать эмиров...
— Что они сделают, если у нас мало войска? Я только что отослала гонца к отцу, в ногайские степи, а тебе надо снова ехать на Перекоп.
— Я только что вернулся. Хан войско не дает. Он сам...
— У хана и просить не надо. Ты поезжай к бею Ширину. Ведь ом твой дядя?
— Дядя, но он Казань защищать не будет.
— Ты его и не проси. Ты уговори его послать свой байрак на Москву. В нем, я знаю, двести тысяч войска.
— В набег он, пожалуй, пойдет. Успею ли я?
— Мы с месяц продержимся в осаде. Пусть в пути аллах ведет тебя. Иди, иди — собирайся. Я тут поговорю с Эрви.
Мурза пожал плечами, вышел. Появилась Зульфи, за ней евнух.
— Скажи мурзе, что я беру Эрви с собой,— сказала ему
Сююмбике,—Унеси ее в мою повозку.— Потом подумала: «Умеет все мурза: саблей махать, ясак собирать, говорят, обнимается крепко. Одному научиться не может — думать. И хан, аллах свидетель, головою слаб. Гарем, охота — вот его занятия. Все дела взвалили на меня. А я ведь только женщина — не больше».
Зульфи собирала из шкафа одежду Эрви. Сююмбике спросила:
— Зачем он бил ее?
— За глупость,— ответила служанка.— Любая была бы рада. А эта...
— Не покорилась?
— Мурза ей золото давал, велел сказать, что муж убит...
— Не поверила?
— Нет. Дикая совсем, не смыслит ничего. Мурзу светильником ударила.
— Иди. Поможешь ей переодеться.
— Твоя воля священная.
Служанка поклонилась и вышла.
Марш Акпарса
• Марийские национальные кушанья: сокта — колбаса из овечьего сала с а, , . и і у про —сухой сырок, коман мелна—трехслойные блины.
4 Маш Акпаэса
[1] Шорва (мар.) —хмельной напиток, приготовляемый из меда.
[2] .Топейка.пошел в Нуженал. Обул новые сапоги из сыромятной кожи, надел штаны из отбеленного конопляного полотна,
и тую но порогу п подолу рубашку, поверх ее — дубленую
КУртку безрукавку, взял плетку треххвостку и зашагал по берегу. У Топейки сегодня и горе, и радость. Сегодня Топейка на
[3] Шювыр (мар.)—народный инструмент из рода волынки.
[4] Тюмыр (мар.) — барабан.
[5] Здесь и далее стихи А. Ф. Смоликова.
[6] Пеш сай (мар.)— очень хорошая.
[7] Окмак (мар.)—дурак.
[8] Суас — так черемисы называли татар.
[9] Достархан (тат.)—скатерть для обеда в походах.
[10] Джаным (тат.)—душа моя
[11] Омсам поч (мар.)—открой дверь.
ЦАРСКАЯ ОХОТА
С
того дня, как Аказ попал в руки Шигалея, прошло ровно два года. Много изменилось с тех пор. Крепость на Суре превратилась в город, и нарекли город Васильсурском в честь т .нікого князя. Поход в Казань, на который Шигалей так надеялся и, не удался.
В ту пору Василий-князь до Казани не дошел, остался в Нижнем Новгороде, а далее послал воеводу Вельского, способного чинить брань в палатах боярских, а не на ратном поле.
Вместо того, чтобы, подойдя к городу, ударить сразу всей силой, воевода перво-наперво приказал построить себе баню-мыленку с паром, послал ратников в леса за березовыми вениками. А тех ратников черемисы побили. Боярин послал сызнова — да так до трех раз.
И пока пропарил воевода свое рыхлое брюхо, пока ратники вместо того, чтобы махать саблями, махали веником, прошло две недели, и на русскую рать, как снег на голову, свалились крымские конники, возвратившиеся с мурзой. Правда, в злой сече, которая шла три дня, конников тех почти всех побили, но и наших полегло немало.
Не успели воины передохнуть, как с полуночной стороны напал мурза Япанча. Отразив Япанчу, воевода, ожидая еще какую- нибудь нежданную каверзу от татар, натерпелся такого страху, что без ведома князя и при большом недовольстве воинов надумал вести рать обратно.
И увел бы, да на его счастье казанцы, радевшие Москве, принудили хана просить у русских мира. Мир был принят, Беналей был великому князю клятву жить с Москвой в дружбе и в послушании.
Если бы воевода удосужился заехать в Казань, то узнал бы, что там от осады начался голод, а у хана лишь малая горстка джигитов. В то время Казань можно было взять голыми руками.
Но боярин в честь примирения снова залез в мыленку и, напарившись до одурения, отправился с ратью восвояси.
Шигалей, узнав об этом, ругал боярина матерно по-русски, чему он научился еще в молодости.
Шигалея к Казани не допустили, держал его государь на стро- ительстве крепости и в ратные дела не вмешивал, быть может,считал стройку важнее войны.
Когда рати ушли под Москву, хан был оставлен на Суре до
полного окончания дела.
После прибытия на место, Аказа стали каждодневно посылать в лес выбирать деревья, годные для возведения крепости. Вместе с ним ходил Андрюшка Булаев да еще два ратника. Сначала все больше молчали, потом начали говорить, а через пару недель и подружились. И тогда сказал Аказ Андрюшке:
Отпустил бы ты меня, друг. Я в такое место убегу — никто не найдет меня!
— Да разве я тебя держу? Беги. Только поразмыслим давай, есть ли резон тебе бегать. Вот говорил ты: мурзе отомстить надо, жену отнять надо. Ну, хорошо, убежишь ты, мурзу убьешь, жену привезешь домой. А туда раньше тебя понаедут басурмане, да и не только тебя убьют, а всю твою деревеньку за этого вонючего мурзу выжгут и людей погубят. А ежели убежать да дома сидеть и ждать, когда мурза сам жену вернет,— ведь срам?
— А в плену жить хорошо ли?
— Ты погодь-погодь. Дай думку досказать, а потом уж и спрашивай. Вот ты говорил, что твой батька лужавуем был. Это по- нашему князек вроде. Стало быть, ты княжич, и весь твой народ тебе послушен?
— Не весь. Только Горная сторона. Луговые люди меня слушать не будут.
— А разве они меньше вашего утеснения от татар терпят? Это я к тому говорю, что не мешало бы, при случае, твоих людишек поднять против басурманов да и выгнать их из твоих земель.
— Я тоже об этом все время думаю!—горячо произнес Аказ и стукнул кулаком в грудь.
— Думать-то мало — надо делать! А дело это не по тебе, хоть ты и княжич. Ну-ну, не обижайся, я намного старше тебя. Кто ты сейчас есть? Ты, как стрела неоперенная, далеко летишь, да без толку. Охотник ты хороший — это я знаю, а воин ты никакой. Одно бойкое дело задумал сотворить и сразу трижды обмишурился: мурзу потерял, наших ратников ни за што ни про што убил и сам попал в полон. Разве такому впереди народа идти можно? На охоту свое княжество водить годишься, а на войну — нет! А чтобы супротив мурзаков своих сородичей поднять, надо ой-ой каким воеводой быть.
— К чему все это говоришь мне?
— А к тому... Вижу я — ты хану по сердцу пришелся. Иди к нему и просись на службу к государю. Так и скажи: «Хочу ратному делу научиться и при походе на Казань при случае встать во главе горных людей на сторону Москвы». Хан с тебя звание полоняника снимет, сделает воином. У него есть чему научиться, он рати в большое дело водил. Ты только разувай глаза пошире да все на ус мотай. Пройдет пара лет — смело вставай в воеводы. Подумай о сем.
Нелегко было Аказу распрощаться с думой о воле, но другого выхода не было, пошел и он бить челом хану. Шигалей принял его на государеву службу с радостью.
Быть может, за смелость, за ум, а паче за прямоту и честность хин Шигалей полюбил Аказа и приблизил его к себе.
Аказ все время около хана, учится, как надо ратью управлять, как крепости брать. Или заспорят Ивашка с ханом, друг другу такие новости выкладывают — ввек не услышишь нигде такого.
От ратников научился отменно говорить по-русски, стал одолевать и грамоту, хотя письменных людей в войске было мало.
Так прошло два года. Нынешним летом, построив крепость, хан ушел в Москву, а вместе с ним и Аказ. Он добился большой чести — стал стремянным хана. Топейка остался возле Аказа.
— Ты тут один с тоски умрешь,— сказал он.— А я тебе песни петь буду, веселить буду.
В кремлевских хоромах отошла всенощная. Лениво позванивали колокола, на крепостных стенах протяжно перекликались сторожевые.
В мягком синем небе по-летнему чуть-чуть затуманенная красуется луна. Около храмов в выбоинах каменных плит лужицы блестят, будто серебряные слитки.
Старые богомольцы, выходя из церковных дверей, с ворчанием обходят грязь, молодайки прыгают через лужи, легонько повизгивая.
От царского дворца на землю упала черная тень. На краях тени вырезались очертания шатровых крыш, гребней и маковок. Караульный голова Терешка из тени полюбовался луной в ночной тиши, потом, вздохнув, пошел в душную будку, поплевал на палец и развернул дневальную книгу. На чистом листе гусиным пером написал:
«Мая 26 день. В четверг после раннего кушанья ушел Государь на Коломенские поля тешиться охотою, а с собою был взят иноземный посол.
День был ветрен, ветер невеличек, со вечеры шел дощ с перемоткой. К нощи ударил гром вельми велик, блистала молния, в шел дощ велик с полчаса. В нощи же стало тепло и месячно. И на государевом дворе и около дворца стоял на карауле голова Терентий Ендагуров со приказом».
Потом Терешка вышел из будки и, обойдя всех сторожей, направился в караульные сенцы в надежде вздремнуть часок-другой.
Но разве дадут поспать в беспокойном Кремле?
Дробно зацокали по каменным плитам копыта коней, кто-то подъехал ко дворцу. Ендагуров выскочил и, хоть всадников еще не было видно, догадался, что едет хан Шигалей.
— Ну, басурман лихой!—ворчал Терешка.— Иные к царскому жилью на цыпочках идут, а этот никакие уставы не чтит, гоняет по Кремлю верхом, будто по степи.
На сей раз Шигалей осадил коня далеко от дворца и подошел
к Терешкиной будке пешком.
— Скажи утром государю, что Шигалей в Москве!— проговорил хан и, круто повернув, зашагал обратно.
«Ишь ты,— не здорово, не прощай, а сразу приказ. Будто я ему служу,— обиженно подумал Терешка.— Не передам...»
«А вдруг хан по государеву делу неотложному? Вот тогда батогов попробуешь. Лучше сказать»,—и Терешка крикнул хану:
— А великого князя дома нетути! И седни и завтра!
— Где он?—хан остановился.
— В Коломенском охотой тешится. Завтра на зайчишек пойдут, потом на ведмедя облаву учинить хотели.
Шигалей с досады хлестнул плеткой по голенищу сапога. Пропустить такую охоту! Подошел к Аказу, спросил:
— Еще сорок верст проскакать можешь?
— Могу и больше, а кони устали,— ответил Аказ.
— Лошадей сменим.
Село Коломенское вотчинным землям московских князей принадлежало издревле.
В четверг, в канун приезда государя на охоту, в трех верстах от села на опушке леса служки дворцовые натянули царский шатер. Все другие шатры боярские разместились поодаль, только один, князя Михаила Глинского шатер, приткнулся прямо к великокняжескому. С недавних пор на удивление всему боярству Глинский снова попал в царску милость.
И было чему удивляться! Когда-то Михаил Глинский был литовским князем, самым богатым, самым умным и властным. На королевскую корону замахивался. После неудачи отошел от литовского короля Сигизмунда и стал служить Московскому князю. Лучше его Василий-князь военного советника не знал. Но сколько ума у князя Михайлы, столько же и коварства.
В горячем ратном деле предал он великого князя, перекинулся к Литве, но был в пути перехвачен, закован в цепи и брошен в темницу. Все думали — Глинскому конец. И вдруг князь Михайло на воле и снова советник и воевода. Все гадают: отчего такая перемена? Только боярин Вельский понял, в чем дело, а приехал в пятницу с государем на охоту — еще более в своей догадке упрочился. Сына своего Ваську потихоньку в шатре поучал:
— Смотри, остолоп, и помни: баб остерегайся всю жизнь. Что есть баба? Сеть для уловления мужей: светлым лицом и ясными глазами она колдует. Был у нашего государя один враг — Мишка Глинский, заковали его с божьей помощью в цепи. И никто бы его не вызволил, даже сатана. А она приехала из Вильны...
— Кто она?—угрюмо спросил боярский сын.
— Кто, кто! Олёнка, Мишкина племянница, приехала из Вильны, околдовала великого князя, а он, старый пес, выпучил на нее глаза, будто окунь, оторваться не может. Ан смотрим, через седьмицу Мишка без цепей у государя в гостях. И с той поры пошло. Ты подумай, Васька, все мы не без греха,— боярин крупно перекрестился.— А ты посмотри, что эта Олёнка выделавает! Веры придерживается римской, по городу ходит вольно, порядки чтет иноземные и перед кем подолом-то машет, ты подумай! Перед великим князем! Ежели она успела околдовать, то его погибель ждет. Такой грех никаким зипуном не прикроешь.
— Може, зря это, батя?
— Зря?! Загляни-ко в шатер Глинского, там ее увидишь. Видано ли дело, баба в портках да на охоте. Да кто бы на такое осмелился, если бы Василий Иванович не был опутан? Он ей позволил. Я ужо боярам донесу и митрополиту тоже. Трон осквернять не дадим.
— Зря ты на нее говоришь, батя. Я тоже видел ее: она кротка, смиренна, глаза добрые, будто у ангела...
— Я те дам у ангела!..
И не миновать бы Ваське взбучки, да позвали боярина к государю, чтобы начинать охоту.
Подходя к царскому шатру, Вельский от злости прикусил губу. С другой стороны впритык поставлен еще один шатер. И чей? Хана Шигалея! Видно, принесла нелегкая басурмана, и, смотри ты: рядом с государем жить позволено. А его, боярина Вельского, потомка Рюриковичей, затолкали к бесу на кулички. Боярину до слез обидно. Около большого шатра людей много: сам Василий Иванович на коне, рядом с ним Мишка Глинский, а за ним, срамота глядеть, его племянница Олёнка сидит в седле, на одну сторону ноги свесила и хоть бы глазом повела. По другую сторону государя Шигалей с каким-то новым поезжалым. Тоже вроде из басурманов. Боярин подъехал ближе, поздоровался, как заведено, и все поскакали в поле.
Хану Шигалею поговорить с князем о делах не пришлось: только прискакал и сразу снова на коня — охотой тешиться. Василий Иванович хану очень верил и любил его, потому приезду Шигалея был рад несказанно. Такую великую охоту на зайцев учинили — шум и гам стоял вокруг Коломенского целый день. Весь день травили косых собаками, настигали стрелами, а то и прямо лупили
шестоперами. Зайчишки до того очумели, что, убегая от собак, прыгали на людей, и те били их нещадно. До вечера гоготали над смехотворным случаем: посол барон Сигизмунд Г'ерберштейн распотешил охотников изрядно. Дал ему государь трех борзых, колчан со стрелами и лук, за пояс нож, за спину шестопер—и поехал, бедный, со всей этой сбруей, хоть справиться с ней не мог. Держась иноземных правил, он при каждом появлении государя снимал шляпу и широким взмахом руки отводил ее в сторону. Поскольку государь носился на коне по полю беспрестанно, то барону то и дело приходилось махать своей шляпой. А шляпа глубокая, с широкими полями, с прикрепленным пучком перьев. И надо же было случиться такой оказии—в тот миг, когда посол, увидев государя, отвел шляпу в сторону, из кустов вымахнул заяц, удиравший от своры собак. Место было меж кустов узкое, с одной стороны государь, с другой — посол. А в проходе между ними шляпа, выкинутая в знак приветствия. Куда бедному зайчишке деться? Он и махнул в шляпу, пробил тонкое сукно и вместе с посольским головным убором помчался по лугу. Борзые в замешательстве остановились, сбились в кучу — вместо зайца вдруг перед ними цветной клубок летит. Пока собаки поняли в чем дело, заяц выскочил из шляпы и был таков.
Барон Герберштейн всю эту охоту описал в своей голубой тетрадке, которую вторично привез в Москву. В первый раз Герберштейн был в Москве восемь лет назад, когда приезжал послом от императора Максимилиана. Ныне барон послан сыном Максимилиана Карлом Пятым. Барон еще в прошлый приезд надумал написать о Московии книгу и потому записывал все, что мог узнать и увидеть. Поручив все дела посольства вести Нураголю, барон то и дело отлучался из посольской избы, вступал в разговоры с приезжими людьми, выведывал, выпытывал о землях, кои лежат вокруг Москвы на все четыре стороны. И записывал, записывал, записывал.Барон очень неплохо рисовал, и многие его рисунки позднее попали в «Историю Государства Российского».
Воспользуемся записью Герберштейна и мы. Вот, что писал он об охоте, на которую так спешил хан Шигалей.
«Вблизи Москвы есть место, поросшее кустарником и очень удобное для зайцев: в нем великое множество этих зверюшек, причем под страхом величайшего наказания никто не смеет их ловить, а также рубить те кустарники. Всякий раз, когда государь пожелает насладиться забавой, он едет в это место и потом отправляет за послами своих советников и велит приводить послов. Когда их приведут и они станут приближаться к государю, то принуждены бывают по внушению советников сойти с коней и сделать к государю несколько шагов пешком. Точно так провожали к нему и нас, и он ласково принял нас, сидел на разукрашенном коме, одет был в блестящее одеяние, без рукавиц, но с покрытою головою. Он протянул нам руку и стал говорить через толмача. «Мы выехали для своей забавы и позвали вас принять участие н нашей забаве и получить от этого какое-нибудь удовольствие. Садитесь на коней и следуйте за нами». Платье на нем было наподобие терлика, расшито золотыми нитями. На поясе висели два продолговатых ножа и кинжал, на спине под поясом он имел особый вид оружия — булаву на ремне, украшенную золотом. С правого боку государя ехал изгнанный казанский хан Шигалей, а с левого—два молодых князя. Один из них держал секиру из слоновой кости, у другого же был шестопер. Шигалей был опоясан двойным колчаном, в одном были спрятаны стрелы, в другом заключен лук. В поле находилось более трехсот всадников. Нам поручили самим вести собак, как следует по ихнему обычаю. На краю поля в длинном ряду стояло почти сто человек, половина которых одета в черный цвет, половина—в желтый. Невдалеке от них остановились другие всадники, препятствуя зайцам выбегать на дорогу и ускользать. Вначале никому не дозволялось спустить охотничью собаку, кроме Шигалея и нас.
После повеления государя начинают все кричать в один голос и спускают меделянских ищейных собак. У государя огромное количество отличных собак, и весьма приятно было слышать их разнообразный лай. Когда появляется выгнанный собаками заяц, и него летит дождь стрел. Если они не поразят зверя, выпускают других собак, и те отовсюду нападают на него. Чья собака поймает больше, тому охотники рукоплещут, будто он совершил воинский подвиг. Равным образом того приветствует и сам государь. Охота длилась весь день, и по окончанию ее снесли всех зайцев вместе, и их оказалось триста. С охоты государь отправился к одной деревянной башне, там разбито было несколько шатров, первый неликий и обширный, наподобие дома—для государя, второй—для хана Шигалея, а третий—для нас...»
Князь Василий вошел в шатер довольный — охота удалась на славу, сердце потешилось вволю. И еще радость: хан Шигалей приехал, наверно, про Казань целый ворох новостей привез. Постсльничий подал князю умыться, потом начал переодевать.
За шатром сгущалась темнота. Ветерок утих, издали доносится песня. Кто-то поет приятным, задушевным голосом. В голосе и ласковость, и радость, и шутейность. Слушать такую песню приятно. Князь прислушивается.
Песня напомнила о племяннице князя Глинского. Не только красота Елены смущала Василия. Мало ли красивых женщин в Москве? Но в Москве даже царевны живут «...яко пустынницы, мило зряху людей и люди их: но всегда в молитве и в посте пребываху и лица свои слезами омываху».
Елена же на порядки эти замахнулась, дом ее открыт для всех — будь он юноша, девица, старик или зрел муж — лишь бы высокого рода. С мужчинами говорит смело, над многими обычаями смеется. В иноземных городах она побывала, многое повидала, потому и смела. И больно по душе пришлась великому князю эта смелость. Где бы Елена ни появлялась — всюду будто свежая струя вливалась в затхлый воздух боярского уклада. Василий понимал, что влечение это к добру не приведет, но поделать с собой ничего не мог — его тянуло к Елене. Вот и сейчас он думает, как бы увидеть ее.
Одевшись, сказал стольнику:
— Ужин накрывать в моем шатре. Зело не торопись, ибо я у князя Михайлы в шатре посижу, послушаю хана Шигалея речи. К столу зови тех же, что и вчера,— и вышел.
Шатер Михайлы Глинского разделен легкой занавеской белого полотна на две половины. В одной — князь, в другой — княжна Елена.
— Позвал бы ты, Михайло, сюда хана Шигалея.
— Сейчас пошлю, великий князь,—ответил Глинский, приложив руку к груди.
— Сам бы мог послужить государю. Аль зазорно?
— Твое повеление свято для меня, государь, схожу сам,— и, взглянув в сторону Елениной половины, вышел. Надвигались сумерки, и на женской половине шатра вспыхнула одна свеча, другая, третья. По тени, падавшей на полотно, Василий понял, что княжна одна, без служанок. Это его обрадовало и испугало. Властный и гордый с боярами, с княжной Еленой Василий терялся. От ее больших серых глаз исходила какая-то сила, а речи ее были так необычны для женщины, что великий князь, высоко стоявший над всеми, перед Еленой чувствовал себя неловко.
Вот и сейчас она подвластна ему, и любая женщина на ее месте, склонив голову, пришла бы на его зов. Он говорил бы с ней строго, и та трепетала бы в страхе перед ним. Сейчас у князя не хватило решимости позвать. Он ждал. Вдруг из-за занавеса раздался приятный, словно музыка, грудной и нежный голос:
— Дядя Миха, ты один?
— Он ушел по моему велению, княжна,— негромко ответил Василий.
— О, у нас гость, а я и не знала,— проговорила Елена.— Прости, великий государь мой, я сейчас принесу свечи.
Занавеска откинулась—перед Василием появилась княжна, освещенная двумя свечами, которые она несла в обеих руках. Все было поразительно в ней: и лицо, и стан, и походка, и одежда. Взглянув на князя, она чуть-чуть приподняла брови — и в глазах ее засверкали огоньки такие же яркие, как язычки горящих свечей. На свежих губах дрожала готовая вот-вот сорваться легкая улыбка. Одета княжна совсем по-иному, чем женщины, которых Насилий видел постоянно вокруг себя. Те вечно одеты в длинные широкие телогреи да летники, а то еще укутаны в шубу-платно, на голове повойники, каптуры, виден только кончик носа. Из-за длинных просторных одежд не узнать* толста ли, тонка ли женщина. А эта... На ней платье тонкого голубого сукна, шитое золотом и плотно облегающее весь ее стан. Спереди на груди широкий вырез, с красивой обнаженной шеи спущено на грудь янтарное ожерелье, а к нему прикреплен темно-красный рубин в золотой оправе. Драгоценный камень на высоко поднятой груди княжны казался крупной каплей крови.
— Ой, княжна, до чего ты красива!—восторженно произнес князь.
— Государь мой изволит смеяться над бедной девушкой? — сказала Елена и, поставив свечи на стол, легким наклоном головы поприветствовала князя.
— Над бедной! Да ты и сама знаешь, сколь велико твое богатство!
— Нет, я бедная,— упрямо повторила Елена.— Я настолько бедна, что нечем мне отблагодарить тебя, государь мой, за спасение моего дяди. Я все время думаю об этом и плачу.
— Твои слезы пусть будут мне благодарностью.
— Нет, я знаю, чем отблагодарить тебя, государь мой. Подданные твои целуют тебе руку, я поцелую тебя в губы. Позволь?
Князь удивленно поднялся со скамьи и не успел сказать и слова, как Елена обвила шею руками и прильнула к губам. Вырвавшись из крепких объятий князя, Елена закрыла пылающее лицо ладонями и убежала в свою половину.
У Василия бешено колотилось сердце. Никто и никогда не целовал его так.
— Подь сюда, княжна,— тихо позвал Василий.
— Вдруг придут?—ответила из-за занавески Елена.
— Ты боишься?
— Я ничего не боюсь. Я люблю тебя, государь мой, и мне нет греха в том, что я сделала. А боюсь я за тебя. Ты женат, и великий срам падет на твою голову, если откроется наша любовь.
— Я хочу еще раз видеть тебя!—твердо сказал князь.
— Позднее.
— Когда?
— Приду,— ответила Елена спокойным голосом, выходя к князю.—Приду, но только, как выполнишь мое желание.
— Я сделаю все!..
— Не так много. Сбрей бороду.
— Нет, я бороды не лишусь.
— А я умру, но не приду к тебе!—Елена повернулась и скрылась за занавеской. Сколько ни звал ее князь, сколько слов ни говорил ей — не вышла, не откликнулась.
А за шатром все тот же голос, будто дразня государя, запел другую песню.
Василий хотел выскочить из шатра и выместить досаду на веселом певуне, но тут вошел Глинский и сказал:
— Зараз хан будет тут,—и, подойдя к великому князю, тихо проговорил:—Прошу тебя, не во всем ему доверяйся. Привез он с собой черемисского княжича, взял его на государеву службу без твоего ведома и, мыслю, не к добру. У хана своя орда, подвластная только ему, у черемисина народ тоже коварный. Может, с умыслом они стакнулись, чтобы при случае рать твою истребить.
Царь твердо сказал:
— Шигалей мне верен!
— Верен, пока на трон казанский метит. А ежели сядет да заручится такой поддержкой, как черемисы, жди беды.
— Про черемис ты верно сказал. Черемисы сильны. Сколь походов Москва на Казань ни делывала, все они мешали. Сидят на дорогах, и миновать их нельзя.
— Вот-вот. Так отчего бы после всего этого княжичу черемисскому к тебе на службу идти? И еще узнал я не от хана, а от иных людей, что он, тот княжич черемисский, налетел на наших воинов, троих убил и попал в плен. И вдруг ни с того ни с сего — служба государю.
— Спасибо за совет,— сказал Василий и поднялся навстречу входившему хану.
— Брат мой Шигалеюшко, здравствуй!
— Будь и ты здоров, великий государь.
— Ну, рассказывай про твои плотницкие дела,— присаживаясь по-простому с ханом, промолвил Василий.— Хорош ли город срубил? Ты, князь Михайло, тоже садись.
--Крепость вышла отменная. Стену добротную из дубовых бревен возвели, вокруг ров выкопали, воду пустили. Восемь малых башен поставили да одну великую на камне. Теперь Казань воевать будет легче. ...........
— Не только для войны замыслил я город сей, но и для мира. Пора твердой ногой вставать на Казанскую землю. Сколько раз мы брали Казань, а остаться там не могли, потому что опоры там нет. Народы там чужие, злобные. А коль будет свой городишко, куда способнее. Людей наших, я чаю, там недохватка — может, послать? Ратников, может, немного собрать туда?
— Не надо, великий государь. Как только мы крепость возвели, бродячие и беглые люди слетелись, как мухи на мед. Сперва землянки рыли, потом избушки, а теперь несколько слободок вокруг города выросло. И стал град на Суре не только для бродячего, но и для торгового люда защита. И еще, я думаю, из него с черемисами дружбу завести можно.
— В дружбу с черемисами не верю,— ответил государь,— племя лютое, коварное, безбожное! Зачем они лютуют против нас?
Они защищаются, а не лютуют!—ответил Шигалей.
- Да ведь знаешь ли ты, великий государь, что в минувший поход они нашей рати сделали больше зла, чем татары. Трижды посылал я ратников леса разведать, и трижды их черемисы посекли, -заговорил вошедший боярин Вельский.
- Скажи, боярин, если бы черемисы пришли в наш храм да все образа и хоругви поломали бы, что бы ты с ними делал?— спросил хан.
— Предал бы жестокой смерти!
— Подобное же сделали твои ратники. Они, великий государь, были посланы за вениками для боярина. Не ведая того, выломали «священную березовую рощу черемис. И оттого не только погибли сами, но и озлобили лесной народ противу нас. Из-за пустого дела — веников для боярской бани.
— То правда, боярин?—спросил Василий.
— Про осквернение рощи мне неведомо было...
— Пора чинить с народом этим дружбу, государь. Без твоей воли взял я на государеву службу черемисского княжича, а с ним несколько его сородичей. Велику пользу дать он нам может. Я ему верю.
Шигалей ждал от князя одобрения, но Василий нахмурился и сказал недовольно:
— Где тот княжич?
— Он здесь, у меня в свите.
— Зови сюда!
Хан вышел из шатра, потом вошел вместе с Аказом.
— Скажи ему, кто я, будь толмачом. Поговорить с ним хочу.
— Я сам знаю, кто ты. И мой народ о тебе наслышан,—сказал Аказ и поклонился.
— Ишь ты! Он по-нашему говорит не хуже тебя, хан.
— Два года крепость строить мне помогал, ратному делу учился. Воевода будет добрый.
— Зовут тебя как?
— Аказ.
Скажи, Аказ, что тебя заставило служить мне?
Мурза Кучак заставил...
Вот как?! Выходит, не своей ты доброй волей...
Не своей. Народу моему совсем тяжело под крымцами живет а, поборами да грабежами совсем изнурили они людей. Мурза Кучак обиду мне нанес, а потом...
— Для того и служить к тебе пришел он, чтобы мурзе тому отомстить,— вмешался в разговор Шигалей.
— Ты, хан, погоди. Я не пойму, как он один, пусть даже у меня послуживши, того Кучака накажет? И какой прок от того его народу?
— Хан не совсем верно сказал,— ответил Аказ.— О мести одному мурзе я только сначала помышлял. Теперь я про всю Горную сторону думаю — насильников надо оттуда выгнать!
— Как?
— Послужу у тебя, к делам ратным попривыкну, а как приспеет время—подниму своих сородичей, поведу их на врагов...
— Как по-твоему, когда такое время приспеет?
— Не раньше, чем твои рати пойдут на Казань.
— Такой мне ответ люб! Стало быть, твой народ заместо помех поможет нам. Уверен ли ты в том?
— За горный народ верное слово скажу — все за мной пойдут.
В шатер вошел стольник.
— Великий государь, столы готовы. Трапеза ждет...
— Сейчас идем. Ну, что ж, Аказ, послужи Москве! Ежели душа к Казани лежит, лучше уходи. С огнем не играй.
Когда Аказ вышел, Василий сказал боярину:
— Шигалей прав: хоть ты и дважды на Казань ходил, а той земли не знаешь. Ведь если черемиса за нас поднимется, Казани не устоять.
— Не устоять, великий государь.
— Пошли к столу. Завтра с утра потешимся медведем, а в понедельник, хан, приводи ко мне этого княжича да митрополита с собой прихвати. О многом поговорить надо. За этим язычником сам глядеть буду — узнаю, что у него на душе.
Среди всех постельничих у государя Санька Кубарь был любимым. Ему чаще других приходилось спать в одной комнате с великим князем, и на охоту Василий брал голько его. Санька красив, ласков, верен и ко всему прочему умен. Рода Санька невысокого, и в царские покои привела его не знатность, а судьба. Дед у Саньки простым дружинником был, потом водил ватагу разбойничью, и звали его Василько Сокол. Бабушка Саньки — сурожского купца дочь Ольга. Говорят, в молодости была красавица несравненная и будто Санька на нее очень схож. В пору властвования Ивана Васильевича Третьего помог Санькин дед государю Руси ордынцев рассеять и иго татарское сбросить, и за то сделал Иван Сокола воеводой. Сокол погиб, а его единственный сын Василий, женатый тоже на дочери купца, умер разом с женой во время мора. Оставили они двоих малышей: Саньку
семи лет да пятилетку Ирину. Отдали их в монастырь на воспитание. Санька пробыл там три года, потом приглянулся царице, и взяла она его теремным мальчиком к себе, где за ловкость и быстроту получил он прозвание Кубарь.
У царицы Санька прослужил семь лет, государыню свою очень любил, и она часто доверяла ему свои горести и тайны. Но семнадцатилетнего Саньку держать у царицы стало неудобно, и Василий Иванович взял его в постельничии. Ныне Санька сестру свою Ирину из монастыря взял, и живет она у бабушки Ольги в дедовых хоромах. Санька кормит их и всячески им помогает. Дай государь, помня дедовы заслуги, бабушке и внучке благоволит.
Сегодня ужин у государя что-то затянулся. Причиной тому — послы из Рима. Велено постели готовить не в шатре, а в башне, и он, изготовив все, ждет.
Загремели ступеньки. Санька распахнул дверь, впустил государя, поставил рындов у дверей и начал раздевать князя. Василий Иванович хмелен, но не сильно. Позволил снять только ферязь, остался в сорочке, расшитой по рукавам и ворогнику шелком. Воротник стоячий из бархата отстегнуть тоже не позволил. Сев на кровать, спросил:
— Саня, тебе брить кого-нибудь приходилось?
— Нет, великий государь. Но дело немудреное, видывал.
Василий потянул Саньку к себе и тихо сказал:
— Тайно сбегай к Шигалею, спроси у него бритву.
Санька, не задумываясь, выскочил из башни и скоро вернулся с бритвой и котелком теплой воды.
— Бороду долой!—тяжело дыша, рубанул князь
Санька в испуге схватился за свою бородку.
— Да не твою — мою!
У Саньки задрожали руки. Уж не с ума ли свихнулся великий князь? Санька, ничего не понимая, глядел на Василия Ивановича.
— Ты што глаза пялишь? Сказано: бороду долой! Делай!
Санька обмакнул пальцы в котелок и начал мочить княжью
бороду.
Через полчаса с великими мучениями и бранью дело было закончено. Государь хоть и стал похож на немчина, но казался моложе, красивее и добрее. Санька вынул из чехла зеркало и подал великому князю. Тот оглядел свое лицо и, перекрестившись, начал умываться из тазика, поданного Санькой. Умывшись, подозвал Саньку ближе и тихо повелел:
— Бороду отсеченную собери и заверни в малый плат. Пойди и шатер князя Глинского и отдай княжне. Жди ее повелений. Ступай.
Княжна Елена, развернув плат, посветлела лицом и сказала:
— Жди меня тут.
Скоро она вышла в мужской ферязи—длиннополом кафтане с воротником выше головы и шапке.
Когда княжна вошла к государю, он сказал Саньке:
— Спать нынче не будем. Иди в сенцы к рындам, без моего зова не входи и ко мне никого не допускай.
И только туг Санька понял все. Он вышел в сенцы. До боли в сердце ему стало жаль царицу. Он понял, что над Соломонией начали сгущаться тучи черной измены и опасности.
Утром царь был хмур и сказал Саньке:
— Нехороший сон мы видели с тобой, Саня, минувшей ночью.
Санька сразу понял намек государя и ответил:
—Я уж и забыл его вовсе. Из головы вон.
— Легко сказать,— со вздохом произнес Василий.— Сон он, вроде бы и сон, а бороды-то всамделе нету.
— Бороды нет,— согласился постельничий.
— Что люди скажут, Саня?
— Воля государя от бога, и кому осуждать ее? Борода — грех невелик. Не было бы больше.
Государь испытующе поглядел на Саньку и ничего не сказал.
Завтракал государь в лесу на большой поляне, куда перенесли его шатер. После завтрака сразу началась охота. Окружив лес огромным кольцом, загонщики сутки сторожили зверя. Как только появился великий князь, они с улюлюканием стали сжимать круг, чтобы выгнать зверя прямо на охотников, которые шли поодаль. Первая попытка была неудачна. Зверю удалось проскользнуть меж загонщиков, и он ушел. По свежим следам началась погоня, а государь с ханом и князьями вернулись к шатру.
Рынды вынесли из шатра кресло, государь сел. Василий начал рассказывать, как римского посла чуть не до смерти перепугал заяц, другие прибавляли всякие подробности, и все раскатисто хохотали. Никто не заметил, как на край поляны выскочил огромный медведь. Он на мгновение остановился, но выбора не было, сзади шли загонщики, и зверь направился к шатрам. Первым медведя заметил стольник и крикнул:
— Глядите, зверь!
Все обернулись. Михайло Глинский выхватил саблю, бросился через поляну наперерез зверю. Оттого, что медведь неожиданно поднялся на задние лапы, князь растерялся и ударил плохо. Сабля чуть рассекла зверю лапу, и он, разъяренный, ухватил Глинского за плечи и голову, стал пригибать его к земле. Князь не мог пустить в ход оружие. Сопротивляясь могучей силе зверя, оперся на саблю, которая под нажимом медленно уходила в землю.
— Ну, что стоите?—крикнул государь.— Спасайте Глинского!
Хан Шигалей схватил пищаль, но Василий крикнул:
— Не смей стрелять! Ты князя убьешь!
И верно: теперь человек и зверь упали на землю и боролись, каждый миг изменяя положение.
— В ножи его!—крикнул Василий, но было уже поздно. До зверя не менее ста шагов, пока добегут...
И тут вперед выскочил Аказ. Он мгновенно выхватил лук, наложил стрелу, прицелился и спустил тетиву. Медведь взревел, обмяк и выпустил князя из своих объятий. Когда к месту схватки подбежал хан, стражники и Аказ, зверь был уже мертв. Стрела вошла под левую лопатку и остановилась в сердце зверя. Глинский, окровавленный, стоял на коленях и все никак не мог подняться.
— Ко мне в шатер его. Обмыть и перевязать,—приказал подошедший государь.
Он взглянул на медведя, потом вытащил стрелу.
— Подойди сюда, молодец,— сказал Василий Иванович Ака- зу.— Если бы не твоя стрела, князю бы несдобровать. Стрелок гораздый ты! Таких еще не видывал я,— разглядывая рану, восхищенно говорил князь.— Где так стрелять научился?
— Охотник я,— скромно ответил Аказ.
— За то, что спас князя Михайлу, жалую тебя сотником к хану Шигалею в полк. Ивашку Булаева сменим. Ему, старому, нора на покой.
— Спасибо, великий государь.— Аказ поклонился.—Про плохое, что говорил вчера, не думай. Криводушных у нас в роду еще не было.
— Ну вот и слава богу. Служи. Отныне Стрелком гораздым буду называть тебя.
Возвращались в Москву с песнями. Ловчие ехали впереди и невсело пели:
Одари нас щедро, царь.
Православный государь.
Не рублем-полтнною.
А полушкой-гривною.
Аказ и хан ехали рядом. Аказ сказал хану тихо:
— Государь племянницу Глинского любит.
— Твои уста говорят глупость. Государь женат,— и хан искоса поглядел на Аказа.
— Я не лгу. Ночью, к лошадям ходил и видел, как она прошла и башню государя и обратно не вернулась.
— У тебя зоркие глаза. Сердце медведя увидел—это хорошо. А племянницу князя ты не мог видеть. Ведь ночь была. Темно. Уразумел?
8!
Аказ, хитро улыбнувшись, кивнул головой...
(I Марш Акпарса
Спустя неделю великий князь нашел в крестовой палате бумажный свиток. Развернул, увидел две картинки. На одной намалеваны степные люди с бородами, на другой еретики с голыми скулами. Под картинками полууставом написано: «Вот правые одесную Христа стоят с бородами, а все басурманы и еретики обритые, словно коты али псы. Один козел и то сам себя лишил жизни, когда ему в поруганье отрезали бороду. Вот неразумное животное умеет волосы свои беречь лучше брадобрейцев». И внизу был изображен козел без бороды, который больно смахивал на государя.
Василий Иванович порвал свиток на мелкие кусочки, бросил в печку.
— Ну, погодите, я вам ужо дам козла!
ЦАРИЦА-ЧЕРНИЦА
Сушь великая и зной пришли в это лето на землю. Как выпал дождик в канун царской охоты, и с тех пор хоть бы капелька упала на жаждущие поля! На исходе второй месяц лета, а на небесах ни единого облачка. Посевы в полях выгорели и погибли, высохли речки, в деревенских колодцах пропала вода. Ко всем этим бедам в лесах начался страшнейший пал. На сотни верст разлилось море огня, в нестерпимом жару гибли звери, люди, разбросанные по лесным починкам. Дым наполнил всю страну, трудно было дышать, слезились глаза. В Москве тревожно, страх сковал сердца людей.
И днем и ночью мрак.
Аказ со своей сотней метался из конца в конец Московского княжества, прорубал просеки, ставил земляные заставы огню. Ни одна сотня из княжеского войска не сделала столь много для спасения леса, сколько сделала сотня Аказа. Все думали, Аказ хочет заслужить веру великого князя. И никто не подумал, что лес для Аказа — его жизнь, любовь, дыхание, родина. Ради этого он старался спасать родное и до боли близкое.
По Москве ползли тревожные слухи. Иные говорили, что Василий тайно принял латинство, другие уверяли, что царицу Соломонию отравили и царь выписал иноземную девку в царицы, и будто девка та уже в пути. Народ еще не знал, а в Кремле для бояр да и для попов уж не было тайной, что девка та Глинская Оленка. Боярин Вельский в тайницком приказе по ночам пытал хулителей государя, а днем сам хулил то Глинского, то Шигалея, и эти похулы, обрастая страшными домыслами, превращались в вину великому князю.
Беспокойно и тревожно было и в душе самого князя. Надо было
что-то делать. Или выслать Глинскую из Москвы и забыть о ней, или единым ударом разрубить старый узел и завязать новый. А тут без согласия митрополита, попов да бояр не обойтись. Только они могут позволить такое.
Надо было с глазу на глаз поговорить с митрополитом, а попробуй, поговори. В палаты его пойти нельзя—не принято, к себе позвать — мало толку. Сразу поналезут бояре вроде бы под благословение, и выгнать нельзя. На охоту митрополит не ездит — не по сану.
И великий князь стал придумывать, как бы свидеться с митрополитом тайно.
Царица Соломония о мужниных волнениях ничего не знала. Она слышала разговоры о Елене Глинской, но не верила им. Все лето пробыла в своих хоромах в Измайловском. Душную Москву она не любила. Государь изредка наезжал в Измайловское, был с ней ласков, и Соломония свято верила в его любовь.
После ильина дня к царице пожаловал постельничий Саня с сотней воинов. Соломония очень обрадовалась своему любимцу, но, предчувствуя, что он приехал неспроста, спросила:
— Государь мой Василий Иваныч здоров ли?
— Слава богу, великая княгиня, он в добром здравии.
— На Москве все ладно ли? Ведь выгорело все, я чаю, глад будет?
— Мужичишкам к голоду не привыкать — переживут, а для Москвы хлебушка найдется. Земля-то вон сколь велика.
— Ко мне попостить или как? Государя за тобой не видно?
— Послан я, великая княгиня, к тебе с повелением государя: ехать в Суздаль, в Покровский монастырь на молитву.
— В такую даль? — воскликнула Соломония.
— Объявился там инок, молитвами бесплодным помогает зеле успешно. Государь об этом прознал и велел тебе к тому иноку съездить. Для охраны особы твоей светлой даны сто конных воев под рукой сотника Аказа.
Царица, не мешкая, сразу стала собираться в путь. Это повеление обрадовало ее. «Если государь заботится о моем недуге,—думала она,—стало быть, все разговоры о Глинской — злая хула и ложь». Точно так же думал и Санька.
Путь был труден. На лесных дорогах пахло гарью, ветер метал черную золу в глаза воинам, отчего лица их были черны, обветрены, губы потресканы. Царица из возка почти не вылезала.
Дорога шла узкой просекой, от деревьев, стоявших плотной стеной по обе стороны дороги, исходила прохлада. Санька и Аказ ехали впереди полусотни. Вторая полусотня шла позади царицыного возка.
О*
83
У Саньки и Аказа шел живой разговор, Аказ про лес мог
рассказывать нескончаемо. Вдруг раздался подозрительный треск, я с обеих сторон на дорогу повалились две раскидистые ели. Они с шумом и треском упали прямо перед головами передних коней, загородили дорогу. Аказ с Санькой и за сабли схватиться не успели, как были сбиты с седел будто с небес упавшими на них людьми. В короткое время всю сотню повязали, сабли и пищали отняли.
Суровый, бородатый мужичище подошел к Аказу, спросил:
— Кого везешь?
— Говорить не велено,— твердо сказал Аказ.
— Ну и дурак. Ить мы ж сейчас сами посмотрим,— ухмыляясь, проговорил бородатый.— Демка, заглянь в возок!
Демка скоро возвратился и, скаля зубы, сказал:
— Гы-ы, да там жёнки. Целых четыре.
— Молоды?
— Сойдут, атаман! —И Демка, шмыгнув носом, еще больше оскалил зубы.
— Тащи их сюда, поглядим!
— Не смейте! — закричал тут Санька.— В возке великая княгиня!
— Царица?! —с удивлением спросил бородатый.—Погодь, Демка, я сам.
Он подошел к возку, открыл дверцу и долго глядел на Соломонию. Потом покачал головой, сказал:
— Верно. Царица. Не раз в Москве видел. Скажи хоть слово, княгинюшка.
— Жалко мне тебя,—не глядя на атамана, произнесла Соло- мония.— Пропащий ты человек. Впереди у тебя плаха.
— Это ты, царица, напрасно. Впереди у меня воля, и жалеть меня не след. Ты себя пожалей.
— Не твоего ума дело! — Царица сдернула с пальцев перстни, быстро вынула серьги, сорвала ожерелье и протянула атаману.— На, бери и пропусти. Не до утра же нам тут стоять.
Атаман взял драгоценности, подкинул их на ладони и, опустив в широченный карман, крикнул:
— Эй, соколики, повозку пропустить! — Пока люди растаскивали завал, бородач подошел к Аказу.— Ну, воевода, прости за задержку. Пищали мы твоим воям отдадим, бо у нас зелья для них нету, а лошадок да сабельки возьмем. Они нам во как нужны,— и он провел ладонью по подбородку.
— Послушай, атаман,— заговорил Санька.— Как же мы без коней? До места еще далече, а матушке-царице к спеху.
— Пешком дойдете. Пусть княгиня косточки разомнет,— недовольно ответил атаман.— Забирайте сабли, лошадей — и в лес! — крикнул он разбойникам.
Аказ молчал. Он понимал, что во всем виноват он сам. Хорошо, что царицу не тронули.
— Варнак ты! — крикнул в сердцах Санька и, указывая на Аказа, добавил: — Его пожалей. Он чужой в Москве человек, ему за сабли да за лошадей шкуру спустят. Ирод ты!
— Погодь, погодь...— Атаман, уже шагнувший было в чащу, остановился и сказал:—Что-то голос мне твой знакомый и обличьем... Где-то я встречался с тобой, парень.
Раньше атаман не обращал на Саньку внимания и потому подошел, чтобы рассмотреть ближе.
— Ну что ты будешь делать! Будто вчерась видел тебя, а где, не припомню.
— Уж не думаешь ли ты, что я на большую дорогу с тобой имеете выходил?
— И голос! Голос! На всю жизнь знакомый! Как тебя зовут?
— Ну Санька.
— А меня Микешка. В Москве давно ли?
— Всю жизнь.
— А я в Москве два раза только и был. Впервой с атаманом моим, царство ему небесное, Васей Соколом к князю на службу поступал, а второй раз в минулом году.
— Может, ты и жену атаманову знаешь? — спросил Санька.
— Ольгу-то Никитишну?.. Царство ей небесное, упокой ее душу...
— Она жива. В Москве.
— Да ты отколь знаешь?
— Внуком ей прихожусь.
— Вот, пес тебя задери, откуда голос и лик твой знакомы. Ты же, стервец, вылитый дед. Эй, соколики! Тащи сабли назад, коней веди. Смотрите на этого молодца. Кто старого атамана Василька помнит, смотрите! Внука его встретить довелось. Как две капли воды!..
Целый час Санька и Микешка сидели осторонь и говорили. Санька подарил атаману тройку лошадей, десяток сабель. Сам пересел в возок к царице, два воина, оставшиеся без коней, встали на запятки. На прощание Микешка прогудел над ухом Саньки:
— Жисть при царе не больно надежна. Ежли что — беги ко мне в леса. Не от хорошей жизни скрываемся мы в лесу, но друзей в беде не оставим.
В Суздале, к удивлению царицы, их никто не встретил. Даже в монастыре у ворот никого не было. А ведь монастыри к приезду царя и царицы хоругви за ворота выносят. Смутная тревога прокралась в душу Соломонии...
Церковь была полным-полна. Монашки тихо переговаривались между собой. На возвышении у алтаря стоял... митрополит Даниил, а рядом с ним его советник и летописец Шигоня. «И когда они успели?» — подумал Санька и тут же вздрогнул от внезапной догадки. Царицу привезли постригать! Вот зачем здесь владыка, вот почему Соломонию никто не встречал в Суздале! В волнении он прошел мимо монахинь и подошел к владыке под благословение. Даниил осенил Саньку крестом и принял грамоту. Тут открылись двери левого притвора, и в церкви наступила мертвая тишина. В сопровождении монахинь вошла переодетая Соломо- ния. Она так же, как и Санька, видимо, догадалась о пострижении, была бледна, а глаза полны беспокойства. Митрополит молча, не удостоив поклоном царицу, благословил ее. В этот момент открылась дверь правого притвора. Из него вышла игуменья Марфа, она несла на вытянутых руках куколь[1], за ней несли темные одежды и ножницы.
— Что вы задумали?! — закричала царица.— Побойтесь бога!
Вверху, на хорах певчие тихо затянули какую-то неведомую
Соломонии песнь, монахини упали на колени, а митрополит, развернув грамоту, стал читать ее.
Царица не слушала слов владыки, в ее голове, словно пойманная птаха в клетке, билась одна единственная мысль: «За что? За что?» От заунывного пения, от гула произносимых монахинями молитв, от испуга у Соломонии закружилась голова, и она еле успела опереться на плечо подскочившему Саньке. Сколько прошло времени, она не помнила, очнулась, когда около уха лязгнули ножницы. Царица встряхнула головой, раскрыла глаза и ужаснулась—ее левая коса, отрезанная на уровне шеи, лежала в руке игуменьи, а ножницы тянулись к правой косе. Соломония хотела убрать косу, но не успела. Ножницы лязгнули еще раз; Судорожно закинув руки за шею, царица собрала пряди оставшихся волос и зажала их в ладони. Марфа, подавая ей куколь, торжественно заговорила:
— Великая княгиня Соломония, ты ушла из мира и умерла, чтобы родиться вновь под святой звездой нашей обители. И будешь наречена именем Софья, и будешь служить богу отныне и во веки веков! Аминь! Возлагаю на голову твою венец иноческий, и да будет...
— Не будет этого! — воскликнула Соломония и, сорвав с головы куколь, бросила под ноги.— Вы не смеете! Государь мой Василий Иваныч покарает вас за это! Я великая княгиня!
— Инокиня Софья,— строго произнес Даниил,— подними куколь и возложи на голову свою. Не поддавайся прегрешению.
— Я не Софья! Я Соломония! Царица!
И тут случилось такое, чего Соломония никогда не ждала!
Шигонька подошел к ней, взмахнул плеткой — и страшной болью ожгло нежное тело царицы.
— Как ты смеешь, холоп! — в гневе закричала Соломония.
— Не греховодничай,— спокойно произнес Шигонька,— государево повеление сполняй.
— Ты по его приказу бьешь меня? — надрывно спросила Соломония.
— Неужто сам бы я осмелился на такое?
— Это правда, Саня? — Царица подошла к Саньке, положила руки на его плечи и еще раз спросила: — Это правда?
Санька со слезами на глазах махнул головой.
Плечи Соломонии опустились, она вся как-то сникла, привстав на одно колено, подняла куколь с монашеским одеянием и, волоча все это по каменным плитам церкви, медленно направилась в левый притвор, как в могилу.
Вечером Саньке позволили проститься с царицей. Соломония сидела в черном одеянии на жесткой лежанке. Она стала совсем другой. Угловатое лицо, во взгляде зло, смешанное со смертельной обидой. Увидев Саньку, улыбнулась, взгляд стал мягче.
— Садись, Саня, рядом. Теперь передо мной стоять не надо, теперь я не великая княгиня.— Она взяла его за руку и усадила рядом с собой.— Скажи мне, Саня, за что они меня так, а?
— В грамоте думной боярской сказано — за бесплодность. Государству нужен наследник, а ты...
— Злодей он, Саня, с Оленкой Глинской спутался, а меня за это постригают. Почему со мной не поговорил никто.
— На ком-то большой грех будет, великая княгиня,— сказал Санька тихо.— Страшно.
— И на тебе грех. Не ты ли обманом привез меня и промолчал дорогой?
— Богом клянусь — не знал!
— Коль в другом поклянешься — поверю.
— В чем?
— Поклянись, что тайну, которую я тебе выскажу, донесешь игумену Досифею.
— Тому, что в монастыре у Покрова? Клянусь!
— Дай руку,— Соломония взяла Санькину руку, распахнула рясу, оголила горку рыхлого живота и положила ладонь на теплое тело. Саньку бросило в жар. Он по молодости ни разу не прикасался к сокровенным местам женского тела, а тут...
— Слышишь, стучит?
— Слышу,—Саньке и впрямь показалось, что в животе раздаются какие-то толчки.
— Это сынок, ножками... Тяжелая я, рожать скоро буду, а меня в монастырь.
Санька резко отдернул руку, сказал:
— Игумену... расскажу.
— Ну теперь ступай. Прости меня, грешную, более, видно, не свидимся,— и заплакала. У Саньки тоже градом катились слезы. Шагая в отведенную ему келыо, думал: «Без владыки на сие дума боярская не решилась бы. Когда государь успел с владыкой спеться? Когда?»
В субботу под ильин день для государя истопили баню-мыленку. Находилась она прямо во дворце почти рядом с опочивальней. В мойных сенях государь с помощью Саньки разделся и вошел в мыленку. Изразцовая печь, стоявшая в углу, с каменкой из полевого серого камня, раскалена чуть не докрасна. На нижней лавке четыре липовых ушата, в двух вода горячая, в двух — щелок. На верхней лавке в огромных берестяных туесах— хлебный квас да ячневое пиво. Пол мыленки устлан мелко изрубленным можжевельником, на лавках и полках пучки душистых трав, все это для того, чтобы в мыленке стоял приятный запах. На полках — толстый слой свежего душистого сена, в переднем углу — две дюжины березовых веников.
Привычки государевы Санька усвоил хорошо. Сперва дал малый пар — плеснул на каменку три кувшина пива. Остро пахнущие клубы пара мягко обволокли князя, лежащего на верхней полке. Тело начало распариваться, по нему разливалось приятное блаженство. «Боже мой, как хорошо,— думал Василий.— Тихо, спокойно, никто не мешает...» И вдруг князя осенило. Он позвал постельничего.
— Саня, сходи-ка к митрополиту. Тихо, чтобы никто не знал, позови его ко мне, сюда. Скажи: «Просит сосед Василий соседа Даниила в баньке попариться. Без титлов и без санов, по-соседски». Иди.
Когда митрополит занес в мыленку свои тучные и рыхлые телеса, государь сказал Саньке:
— Иди в опочивальню. Теперь твоя услуга не понадобится, мы с владыкой веничками друг друга сами похлещем.
— Сказано было без сана, а тут — владыка.
— Прости, Данилушка, запамятовал. Забирайся на полок, а я еще кувшинчик пивка на камни плесну.
Разогревшись, Василий и Даниил вылили друг на друга по целому туесу теплого квасу и, нагнав полную мыленку пивного пара, стали париться вениками. Сперва на правах хозяина Василий хлестал Даниила. Трудился старательно, отбрасывал голики в сторону, брал свежие веники и прохаживался по широкой митрополитской спине, ногам и пяткам. Исхлестав полдюжины веников, снова поддал пару, забрался на полок. Теперь Даниил, пыхтя и отдуваясь, платил Василию тем же.
Усталые и довольные, с листьями, прилипшими к телу, они спустились вниз и разлеглись на мовные постели. Долго и блаженно молчали. Наконец, Даниил сказал:
— Мыслю я, соседушка,— не даром ты постельничего отослал. Поговорить, верно, хотел без помех?
— Хотел, Данилушка,— князь подложил руки под голову и начал издалека: — Ехал я намедни по лесу, узрел пташкино гнездо. Четыре птенчика малые-малые пищат, жизни радуются. Заплакал я тогда и сказал: «Горе мне! На кого я похож? На птиц небесных не похож, потому как и они плодовиты. На зверей земных не похож — приносят они зверят малых. На землю не похож, потому что земля приносит плоды свои во всякое время, и благословляют они тебя, господи. Даже на воду я не похож — волны воду утешают, а рыбы веселят. Горе мне!»
— Все от бога. На то воля его,— тихо ответил Даниил.
— С богом я в крестовой палате да в храмах денно и нощно разговариваю, а тут с тобой поговорить хочу. Стар я становлюсь, царство-то на кого оставить, кому впредь властвовать на русской земле и во всех моих городах и пределах?
— Братья твои...
— Братьям отдать? Да они и своих мелких уделов устроить не умеют. Симеон в Литву бежать хотел, а Юрий уж бегал, да я воротил. Андрейка, младшой, ты сам знаешь... Была у меня надея на Митрия, вроде бы спервоначалу мудрость выказывал, а как послал я его воеводой на Казань, и вышло: ни ума, ни сноровки.
— Сама правда глаголет устами твоими. Наследника тебе надобно. Токмо кто виной бесплодию?
— Она. И дед мой, и отец, и братья детьми не обижены, а у Соломен — две сестры, и обе бесплодны. Посоветуй, что мне делать?
— Знаю, какого совета ждешь,— тряхнув гривой, сказал Даниил.— И я дам тебе на то согласие, только что скажут святые отцы, что Боярская Дума скажет?
— Для меня только твое слово важно. Святые отцы, да им ли тебя ослушаться?! Дума! Бояре сами не менее моего о наследнике престола помышляют.
— Тому и быть. Созову завтра иереев, бога вместе испросим, а ты назначай сидение в думе, да и меня позови.
— Вот спасибо, Данилушка, утешил меня.
Даниил помолчал, потом попросту, по-мужицки спросил:
— А новая-то царица, видно, больно люба?
— Люба.
— И никак из сердца выкинуть не можешь?
— Не могу, владыка.
— Верю. По себе знаю.
— Неуж и тебя какая присушила? Слуху вроде не было.
— Едино сердце про то знает — мое.
— А ее сердце ведает?
— Открылся бы, да тебя, государь, опасаюсь.
— Меня? Да кто она?
Даниил кивнул на дверь:
— Твоего постельничего сестра.
— Ириница? Опомнись, владыка! Ей же пятнадцать годков.
— Я боярышень по тринадцати венчаю...
— Так тебе ж по сану не можно!
— Я не токмо владыка, я еще и человек.
— Не о том речь. Как приблизишь ее к себе?
— Только ты позволь. Юница росла в монастыре, в монастырь же снова и пошлем ее. А оттоль ко мне в палаты за бельем следить. Не будешь перечить?
Василий взял горячую ладонь Даниила и пожал ее.
В понедельник на Боярской Думе решалась судьба Соломонии. Великий князь с боярами был кроток и ласков, в речи о престолонаследии пустил слезу и до того разжалобил бояр, что кто-то крикнул:
— В монастырь! Постричь!
— Батюшки! Царицу-то в монастырь?
Спорили долго. Дума раскололась на две части. Бояре во главе с Вельским за развод, а те, что с Семеном Курбским,— против.
Конец спору положил митрополит.
Он встал рядом с государем, сказал:
— Славные князья, бояре именитые. Спор ваш правдив и богу угоден. Истинно говорите вы все: и те, кто супротив развода, и те, кто глаголят за пострижение. Жалко великую княгиню — она мать государства русского. Но о другой великой матери подумайте, о земле нашей родной. Великими усилиями собрали ее воедино, и сильны мы стали своей крепостью, единовластием. И не дай бог, ежели сие самодержие порушится. Государь наш велик, но не вечен. И разорвут державу нашу люди алчные и властолюбивые, пойдет на земле смута и неустроение. Прогневят люди бога, грех великий падет на землю, и мы утонем в грехе том. Не лучше ли пойти на малый грех—разорвать союз, венцом скрепленный. Я сам приму на себя сей грех, бояре, и сам отмолю его перед господом богом моим!..
Вот как было это, Санька. А ты по простоте своей и не заметил, хотя и проводил рядом с государем много времени.
ИРИНИЦА
Зима в этом году пришла рано и неожиданно. Только вчера сковало первым морозцем жидкую осеннюю грязь, а сегодня утром на улице белым-бело.
Ирина взглянула в окно на кремлевский двор — там боярские ребятишки вместе с девчонками соорудили горку и катались на ней. И громко смеялись.
Ирине грустно. Она таких забав в детстве не знала. Жили с Санькой при монастыре, знали хорошо только посты и молитвы, а самой веселой забавой было кормить монастырских голубей. Подруг тоже не было. Один друг — брат Саня. А как стал постельничим княжеским, взял Ирину из монастыря и поместил вместе с бабушкой Ольгой в кремлевских дворовых хоромах. Хоромы те велики, народу в них живет много, однако и тут Ирина подруг не завела — по искони заведенному обычаю люди жен своих и дочерей держат за семью замками.
Для нее, правда, запретов больших класть было некому: брат дни н ночи во дворце, бабушка воспитывалась в приморском городе Суроже и московских обычаев не признавала. Но на что воля, если сходить некуда.
Вот и сейчас до смерти хочется изведать радость катания с горки, а попробуй, выйди — опозорят. Да и то верно: Ирина на девку похожа. Ростом, правда, невысока. Русая коса ниже пояса, глаза серые с поволокой, губы яркие, словно вишенки.
На улице перемена. Боярчат няньки да мамки увели в дома, около горки появились девушки-подростки. Иринины ровесницы. Она подскочила к бабушке, указала на окна, умоляюще спросила:
— Бабушка, я на часок?
Бабушка махнула рукой: иди. Девушка схватила шубку, платок и только хотела набросить все это на себя, увидела на дворе возок. Из него вылезла дородная игуменья Новодевичьего монастыря Секлетея и направилась к ним в сени.
Ирина испуганно бросилась за печку, но было поздно. Секлетея, постукивая посохом, вошла в придел. Она осенила крестом прижавшуюся к стене Ирину, сказала властно:
— Собирайся, юница, поедешь со мной.
— Нет, нет. Не поеду! — крикнула Ирина.
— Государева повеления ослушаться? Знамо ли?
Между игуменьей встала бабушка и, отведя посох Секлетеи в сторону, сказала:
— Палкой напрасно не стучи. Девка не пострижена. Она безгрешна, ей замаливать в монастыре нечего.
— Прочь, старуха!—насупив брови, крикнула игуменья.— Здесь Москва — царев град. В иных местах можно и с разбойниками знаться, и честь свою потерять до времени, а у нас не так. Ириница детство провела в стенах нашей обители, мы перед богом за нее в ответе,— и, обратившись к Ирине, добавила:—Твоего блага ради, дочь моя, государь повелел тебя взять в нашу обитель. Брат твой на государевой службе, бабка стара —одна ты безнадзорная. Долго ли до греха?
— Но почему в монастырь? — рыдая спросила Ирина.
— Только у нас уберечь можно душу свою. Взрастешь — отпустим с богом, ибо постригать тебя не велено.
— Все равно без Сани не пойду!
— Пойдешь! — Секлетея позвала со двора монашек, и те молча, сверкая злыми глазищами, ухватили девушку за руки и уволокли в возок. Бабушка тихо плакала, вытирая глаза концом платка.
Дорога к монастырю недалекая. Через полчаса Ирина вышла из возка за монастырской стеной.
В обители порядок: дорожки всюду расчищены от снега, у входа веники, чтобы отряхнуть ноги, стены густо вымазаны известкой.
Ирину провели по знакомым коридорам, переодели в грубые монашеские одежды и втолкнули в келью. Своды над кельей тяжелые, оконце света пропускает мало, дух спертый, затхлый. Ирина упала на жесткую лежанку и безутешно залилась слезами.
Идет время. Зима чем дальше, тем жесточее. Особенно лютовала стужа от рождества до крещения. Мороз был настолько’ велик, что гонцы замерзали в своих кибитках, на дорогах к Москве погибло много отар скота вместе с погонщиками. Плохо приходилось деревьям: уж на что рябина и калина стойки к холодам, и то вымерзли начисто, а о плодовых и говорить нечего.
В стольном граде на уличных заставах каждую ночь находили мертвых сторожей.
Весь полк хана Шигалея ушел в Коломенские леса рубить бревна для нового дворца государю. Вместе с полком ушла и Аказова сотня. Самого Аказа с десятком Шигалеевых татар, государь оставил при себе для особых поручений. Поручения были нехитры и легки. Вечером к Аказу приходил Санька. Пока Аказ и его воинство садились на коней, подъезжали крытые санцы запряженные тройкой сивых лошадей, которые Аказ должен был охранять. Санька садился в кибитку — и тройка не спеша ехала по берегу Москвы-реки, потом, миновав мост, въезжала в какой- то двор. Ждать Аказу приходилось недолго — тройка выезжала со двора и мчалась к Кремлю. Проводив санки до места, Аказ: целые сутки, а то и более, был свободен. Днем от нечего делать он ходил по московским улицам, статный, нарядный. Молодайки, глядя на пригожего сотника, вздыхали и прятали лица в пуховые шали.
Аказ не замечал этих знаков внимания. С наступлением зимы тоска по родным местам усилилась еще более.
Потом подружился с Санькой, и они вдвоем развеивали грусть в беседах. Но настала зима, и в дни безделья тоска совсем одолела сердце. К тому же, Санька совсем изменился: стал угрюм, мрачен. Однажды шел Аказ по улице, случайно встретил друга. Санька был пьян и весел. Увидев Аказа, запел:
Во хоромах княжьих плач и вопль велик,
А инок Санька питием, веселием и всякими потехами Прохлаждаху-с-са-а!
— Зачем такое?—спросил Аказ.—Пьют только дома, в праздник. А на улице... Мне стыдно за тебя.
— А мне, думаешь, не стыдно было? Стыдно. Но я выпил, и все прошло. Все! Ты по своим марьяшкам тоскуешь, я знаю,— выпей и тоже все пройдет. Не пробовал?
— Пить нехорошо,— ответил Аказ, но про себя подумал: заглушить боль в сердце неплохо бы.
Санька хоть пьян-пьян, а думку эту в голосе почуял и рванул Аказа за рукав.
— Пойдем в Наливайкову слободу. Там питухам раздолье.
И они пошли.
В длинном полутемном погребке — теплынь. Санька двинул локтем облокотившегося на стол мужика и сел. Аказ устроился напротив. Черноглазая крутобедрая бабенка без слов поставила перед ними две кружки романеи. Аказ захмелел. Сразу ушли все заботы, тревоги и тоска. После второй кружки Санька и Аказ забыли, что они в погребке, и говорили между собой так, как будто вокруг никого не было.
—Почему ты ни разу не спросишь меня, зачем мы ездим за Москву-реку? — раздельно говорил Санька, поводя перед лицом Аказа указательным пальцем.—Почему?
— Зачем я буду спрашивать? Я и так знаю.
— Врешь — не знаешь! Ну, скажи, кого я вожу в Кремль? Ну? Говори же!..
—Ты, Санька, думаешь, Аказ дурак. Ты забыл, что Аказ охотник! Помнишь царскую охоту? Кого тогда водил ты к государю ночью, ту и сейчас возишь.
— Неужто ты видел?!—у Саньки похмелье из головы вон.
— Видел.
— Тяжело мне, Аказ, поверь. А эту ненавижу!
— Кого?
— Глинскую Оленку! Это она погубила царицу. Подвинься
поближе, что я тебе скажу. Царицу постригли в монастырь! На царицыно место метит! Но не бывать этому! А государь-то наш... срам, с нею спутался. Я все государю расскажу. Я клятву матушке-царице дал.
Сосед Саньки приподнял голову, открыл один глаз, взглянул на говоривших и снова уронил голову. Аказ заметил это и потянул Саньку к выходу. Когда они ушли, мужик поднялся и трезво- произнес:
— Ну и дела. Пойти рассказать, кому следоват.
Через два дня Санька снова вез Глинскую к великому князю. Как всегда, сидели друг против друга: княжна на большом месте, Санька спиной к лошади. В возке было темно, и они не видел» лиц друг друга. Ехали молча. Елене давно понравился красавец постельничий, и она все время обдумывала, как бы покорить его сердце. Сегодня появился повод для разговора. Елена тихо спросила:
— Скажи, Саня, это правда, что Соломония в монастыре говорила с тобой?
— О чем?
— Будто она жаловалась. А ты потом ругал государя.
— Правда. Но откуда, княжна, тебе это ведомо?
— Не рассказывал бы об этом в каждом кабаке, не было бы ведомо?
— Боже Христе, неуж во хмелю проболтался? — с дрожью в голосе произнес Санька.—Государь узнает... И не сносить мне головы.
— Государь не узнает. Человека, который сей разговор слышал, нет в живых. Ради твоего спасения я приказала умертвить его... Ну, что же ты молчишь, Саня? Отчего не благодаришь?
— Я не знаю, как отблагодарить...
— Садись рядом, на ушко шепну.
Не успел Санька приблизиться к Елене, как попал в ее объятия. Поцелуй был настолько неожиданным, что Санька забыл о ненависти к княжне и ответил на него. И только тогда, когда губы их разомкнулись, Санька понял, что случилось страшное.
— Бог тебе судья, княжна, лучше бы ты меня умертвила, чем в грех вводить.
— Ты мне люб, Саня.
— А ты мне нет. И боле я в твой возок не сяду.
— Твоя воля, Саня. Силой милому не быть,— холодно ответила княжна и замолчала. В Кремле, выходя из возка, сказала: — Уста держи на замке — голову свою береги.
На следующий день Саньку позвали к дворцовому боярину, от которого Санька узнал, что отныне он уже не постельничий, и велено ему из дворца перебраться в город, и государю он служить не будет по причине худородства. А заместо его постельничим поставлен князя Глинского сын Стефанко.
— Отныне ждем мы еще больших перемен,— сказал боярин,— объявлено, что государь берет в жены Елену Васильевну Глинскую. Через месяц свадьба.
Санька немедля бросился искать Аказа, а когда нашел, рассказал ему о своей беде:
— Ежели эта станет царицей, мне плахи не миновать. Уж больно много я знаю ..
— Надо бежать из Москвы! — посоветовал Аказ.
— В такую-то зиму? Да и сестренку в монастыре оставить я не могу.
— Разве она там?
— С осени. По повелению государя.
— Как же быть?
— Я уж придумал. Ты только помоги мне.
— Говори, что делать?
— Найду я на окраине Москвы домишко, куплю его тайно И поселюсь там под другим именем. До весны деньжонок хватит. А как потеплеет, выручу Ирину из монастыря, да и подадимся из Москвы вон. Добришко перевезти туда днем нельзя — заметят, ночью стража по улице не пропустит. Надумал я тем возком, который ты охраняешь, воспользоваться. Понял?
— Сегодня, как привезу княжну в Кремль, сразу — к тебе.
А Ирина в Новодевичьем монастыре муку терпела. Сколько слез пролила — один бог знает.
Верно, к пострижению ее не принудили, и жила она чуть свободнее, чем послушница. Звалась по-монастырски Ириницей.
В обитель часто наезжал митрополит Даниил. Он сам вел церковные службы, часто беседовал с Ириницей, наставляя ее на путь праведный.
А недавно он снова позвал ее к себе и сказал:
— Приготовься, дочь моя, выслушать скорбную весть. Брат твой Александр свершил тяжкий грех: он ругал государя нашего и, опасаясь кары тяжкой, из Москвы убег неведомо куда. Тебя же государь повелел постричь в послушницы и отвезти как можно скорее в Суздаль.
— Лучше убейте,— тихо сказала она.— Покарайте меня смертью за вину Сани. А постригаться не буду. Силой постригать — грех!
— Гнев и милость от бога, и потому несть в том греха.
— Я руки на себя наложу! И этот великий мой грех падет на государя.
— Опомнись! Не позвал бы я тебя, если бы не надеялся на милость великого князя. Просить ли у него за тебя?
— Проси, владыка, умоляю тебя! Пусть отпустят меня отсюда, я задыхаюсь здесь.
Однажды вечером Ириницу позвала игуменья.
— В путь собирайся,— хмуро произнесла она.
— Куда?
— Не знаю. Возок уже прибыл, торопись.
«В Суздаль! — подумала Ириница.— Здесь постригать — молвы боятся, а там никто не узнает. Остается одно: бежать».
Монастырские сборы недолги. Через полчаса игуменья проводила Ириницу до возка, перекрестила на дорогу и, не взглянув на тронувшийся возок, зашагала в покои.
Возок был дорогой, широченный, обитый кожей. На облучке— монах, на запятках — монахи. В возке тоже кто-то был, но из-за темноты Ириница не могла понять — кто.
-— Куда мы едем?—спросила Ириница.
— Куда велено,— ответил грубый мужской голос.
Скрипел под полозьями снег, слышались удары бича, топот копыт. Возок подпрыгивал на ухабах.
Вдруг резкий и сильный удар сотряс возок, снаружи послышалась громкая брань. Сидевший в возке человек открыл дверку, выскочил на дорогу.
Дверка осталась чуть приоткрытой, и в щель Ириница увидела, что остановились они на мосту из-за того, что сцепились с встречным возком.
Вокруг сновали всадники и что есть силы лупили монахов нагайками.
Улучив момент, когда все монахи принялись оттаскивать в сторону более легкий встречный возок, Ириница открыла дверку и выскользнула на снег. Она быстро перебежала мост и сразу свернула вправо на узкую тропинку, протоптанную в снегу.
Когда монахи заметили беглянку, та была уже далеко. Задрав рясы, они бросились догонять ее.
Аказ тоже заметил девушку. «Не Ирина ли это?» — сразу мелькнула у него мысль. Он быстро подскочил к татарину, который уже встал впереди возка Глинской.
— Ахметка, провожай возок, я останусь! — крикнул он и, кинув поводья своего коня Ахметке, спрыгнул на мост.
Когда Аказ подбежал к проруби, монашка, уцепившись за тонкую льдину, всеми силами старалась остаться на поверхности.
Аказ скинул пояс с саблей, бросился в воду. Он схватил монашку за волосы, быстро подтянул ее к краю проруби и сильным толчком левой руки выбросил на лед. Выскочил из проруби — увидел монахов. Они тоже бежали сюда. Не мешкая, он схватил ле
97
^ Марш Акпарса
жавшую без сознания девушку, оглянулся кругом, увидел в стороне что-то темное и понес ее туда.
Когда монахи подбежали, Аказ снова стоял у проруби и застегивал на обледенелом кафтане пояс с саблей
— Черница... где? — задыхаясь спросил передний.
Аказ молча указал в прорубь.
— Царство ей небесное, успокой господи ее душу.— Монахи перекрестились, пошли обратно. Аказ схватил одного за рясу, сказал:
— У тебя есть возок, у меня нету. Снимай кафтан!
Монах было заерепенился, но второй сказал дрожа:
— Л-любя б-ближнего... отдай.
Зябко кутаясь в подрясник, раздетый монах побежал к возку.
Аказ подошел к девушке, она уже пришла в себя, но была очень слаба. Одежда ее обледенела. Девушка, видимо, слышала разговор с монахами и поняла, что человек этот не враг ей.
Она молча подала руку, поднялась, оперлась на его плечо. Аказ довел ее до береговой будки, сунул в руки снятый с монаха кафтан, сказал:
— Зайди переоденься.
Улица была пустынна, и Аказ вошел в будку. В полутьме лица не видно, но Аказ чувствовал, что девушка смотрит на него с тревогой.
— Ты почему не спрашиваешь, куда я тебя веду?
— А мне все одно. Вижу, не лихой ты человек и зла мне не сделаешь. Пойду, куда скажешь.
— Где твой дом? Я домой тебя проведу.
— В Москве дома у меня нет.
— Нет? И родных нет?
— Сирота я круглая.
— Как тебя зовут?
— Настей.
У Аказа опустились руки. А он был так уверен, что это Ирина. Что же теперь делать?
— Я в тягость тебе не буду, добрый человек,— заговорила девушка,— я одна уйду.
— Поймают тебя одну-то.— Аказ поправил упавшую на лоб девушки прядь волос и ласково добавил:—Эх, ты, беглянка. К другу моему пойдешь?
— А он не выдаст?
— Сам от злых людей хоронится. Заодно уж... пока. Ну?
— Мне более некуда. Веди.
До Санькиного нового жилья путь был долгий. По опустевшим улицам они бежали, чтобы согреться, а мимо застав и сторожей проходили степенно. Улицу, где живет Санька, чуть нашли,
долго стучались в калитку. Наконец, окошко засветилось, и сонный голос спросил:
— Кто там в полночь глухую?..
— Это я, Аказ. Впусти.
Санька открыл дверь, выглянул и быстро захлопнул.
— Ты не один?
Не успел Аказ и слова сказать, как к двери подбежала девушка и радостно крикнула:
— Саня!
Саня шагнул через порог, веря и не веря.
— Неужели ты, Ириша?
— Я, брат мой, я!—и бросилась Саньке на шею.
В избе сразу начались хлопоты. Бабушка увела Ирину переодеваться, Санька стаскивал с Аказа насквозь промерзший зипун, обледенелые сапоги и бросал ему сухую одежонку. Аказ коротко рассказал, что с ними случилось. Потом Санька уложил Аказа на теплую перину, напоил крутым малиновым взваром, наглухо укрыл тулупами и одеялом, чтобы пропотел.
За дверью бабушка отогревала Ирину...
Проснулся Аказ поздно.
В расписанные морозом окна пробивались яркие солнечные лучи. В избе было тепло, и печь с лежанкой, и стол, и сводчатый потолок выглядели как-то приветливо. Около постели лежала высохшая одежда. Аказ тихо поднялся, оделся, подошел к окну. На улице потеплело, снеговые шапки на столбах, на коньках крыш сверкали на солнце миллионом искр. Санька на дворе колол дрова. Стукнула дверь. Аказ обернулся и увидел Ирину. Она тихо вышла из горенки, поклонилась Аказу, спросила:
— Хорошо ли спалось, здоров ли?
На Ирине домашнее платье из тонкого сукна, сапожки из сафьяна. На голове легкая меховая шапка, из-под которой через плечо на грудь струится русая коса. Глаза ласковые, лучистые.
— Спасибо, я здоров... Настенька.— Аказ, хитро прищурив глаз, улыбнулся.
— Прости меня ради христа за обман,— покраснев, ответила Ирина.— Могла ли я цареву слуге сказать правду? Да я и впрямь думала, что Сани в Москве нету. А тут такое счастье. Скажи мне твое имя, чтобы я знала, за кого мне бога вечно молить.
— У вас, у русских, слышал я, новорожденных окунают в реку, когда имя дают и к богову кресту подводят. Мы с тобой тоже в реке купались. Зови меня братом, а я тебя буду сестрой звать.
— Пусть будет так. Плохо ли двух таких братьев иметь.— Ирина, глядя на Аказа, спросила: — Вот ты сказал: «У вас, у русских». А разве ты не русский?
— Народ мой на Москве зовется черемисой, а мы себя зовем мари, живем в лесах, на Волге.
— На Москве давно ли?
— Скоро полгода, а на царевой службе третий год.
— Чай, истосковался по родным местам? Домой, я чаю, охота?
— Охота. Только не знаю, когда попаду.
Аказ вышел в сени, где вчера видел висевшие на стене гусли.
Настроил их и заиграл. Струны звенели жалобно и певуче, они всколыхнули в душе Ирины какую-то приятную грусть. Чем сильнее звучали гусли, тем больше отзвуков рождалось в сердце девушки. Вот дрожит струна, выпевая тоску, вот слышится стон одинокого человека, а это грустит о чем-то милом, родном и бесконечно близком. Аказ запел. Он пел совсем тихо.
— Какая душевная песня,— медленно произнесла Ирина.— Скажи, о чем ты пел?
— Я пел, о чем думал. У этой песни мои слова. Они простые «В думах поднялся я выше — увидел родные горы, потом спустился — увидел зеленые луга. Я в думах зашагал по берегу реки и вспомнил ту, которая сегодня мне приснилась. И я подумал — ее нет со мной». Вот и все.
— Спой что-нибудь еще.
— В песне я расскажу тебе про мою родину. Хорошо?
Ирина, закрыв глаза, слушала.
— О, если бы я поняла твою песню! Всю, от слова до слова. Научи меня твоему языку.
Москва притихла.
Спервоначалу шуму было много. Бранили княжну Глинскую, немало всяческой хулы перепало и государю. Поговаривали, что Соломонию упекли в монастырь безвинно, ради прелюбодейства царского. Кто-то пустил по городу слух: как только царь обвенчается с Оленкой — сразу примет латынство: не зря ж бороду оскоблил. Да мало ли чего болтали в Москве.
Вдруг по городу весть: дьяку Федьке Жареному, первому советнику царя, вырвали на площади язык за то, что положил хулу на Глинскую. Спальник любимый царский Санька Кубарь избежал плахи тем, что убежал из Москвы. И уж совсем неслыханное дело: Митьку Мосла, юродивого, блаженного в яме задавили. Вот тут язычок Москва и прикусила. Свадьбу царскую ждала молча.
А в Кремле — суета.
К сытному двору катят бочки с пивом, кадки с медовщиной, тянут кувшины, в коих заморские вина. В стряпущих хоромах пекут перепечи со всякою начинкой: с мясом, рыбой, с рубленой морковью, с горохом и луком. Варят, жарят, парят. Рядом в мастерских хоромах шьют жениху и невесте свадебные одежды.
А в приказной палате молодой дьяк старательно переписывал Наряд, по коему свадьбе царской быть. Дьяк шмыгал носом, гнал по листу мелкую строку: «Лета 7034 января в 21 день, в воскресенье великий князь повелел быти большому наряду для своей, великого князя, свадьбы в Брусяной избе. А как великий князь, нарядясь, пойдет в Брусяную избу за стол, а брату его, князю Ондрею Ивановичу, быть тысяцким, а поезд готовить из бояр, кому великий князь укажет. Среднюю палату нарядить по старому обычаю, а место оболочи бархатом с камками. А столовья на месте положить шитые, а на них положить по сороку соболей, а третий сорок держать и чем бы опахивати великого князя и великую княгиню. А в средней палате у того места поставити стол и скатерть постлати, на столе соль, калачи поставити на блюде деда князева Василия Васильевича...»
Дьяк писал, старался целый день, накатал двенадцать листов. В день свадьбы каждое слово Наряда выполнялось неукоснительно...
Под венец поехали в Успенский собор. Ехали в больших санях. Василий Иванович впереди, за ним — Елена с женой тысяцкого и большими свахами, перед санями несли караваи и полупудовые свечи.
Венчал сам митрополит Даниил. Обряд проходил торжественно и долго, в конце его владыка подал великому князю венчальное вино в дорогой хрустальной склянице. Василий принял вино, дал пригубить невесте, потом единым глотком выпил его и, как обычаем велено, бросил скляницу на каменный пол собора. Тут же набежали пономари, собрали осколки и, как прежде велось, кинули их в реку.
После поздравления великий князь объехал московские монастыри, вернулся в свои палаты, где было приготовлено все для пира. Пока шло веселье, приготовили для молодых опочивальню: в сеннике на тридевяти снопах постлали постель, по углам воткнули четыре стрелы, на которые повесили соболей, в головах — кадь с пшеницей. Вечером, когда молодые пошли в опочивальню, по Наряду следовало за ними идти жене тысяцкого и осыпать молодых из золотой мисы хмелем.
Василий, радостный и возбужденный, привел Елену в опочивальню. Сбылось то, чего так долго добивались оба. Они сели на постель, и вдруг государь увидел на подушке бумажный свиток.
— Что там, голубь мой?—томно спросила Елена.
— Какая-то грамота.
— Опять лжа какая-нибудь,—догадалась царица —Дай-ка я прочту.
— «Великий государь!—начала читать Елена.— Твой бывший постельный Санька тебе челом бьет. Исполняю клятву, данную законной царице Соломонии перед богом. В кои дни, как был я с нею в монастыре в Суздале, она сказала мне, что напрасно в монастырь заточил. Твоя новая царица суть...
— Хватит!—воскликнул Василий и выхватил из рук Елены свиток.
— Читай далее,— попросила царица.
— А твоя новая царица суть блу...
— Читай, государь мой, читай. Я к хуле привыкла.
— ...суть блудница. Как возил я ее к тебе для греховодства, то она соблазняла своим телом и меня, грешного...
— Веришь ли?—чуть побледнев, спросила Елена.
— Смердящий пес! Эй, кто там!
Дверь сенника открылась, в ней показалась жена тысяцкого. Василий оттолкнул ее в сторону:
— Князь Михайлу ко мне, бегом!
— Откуда это?—гневно спросил он вбежавшего Глинского.
Глинский пожал плечами и протянул руку за свитком.
Елена отбросила руку князя, взяла свиток от государя и властно произнесла:
— Князь Михайло Львович! Повелеваем тебе хоть под землей сыскать постельничего Саньку и немедля доставить к нам.
— Слушаюсь, царица,— Глинский поклонился и вышел.
А на следующее утро к великому князю, как и прежде, был послан голяр для бритья бороды. Василий уже уселся в кресло, но вошла Елена Васильевна и, не глядя на царя, сказала голяру:
— Иди вниз и скажи, чтобы тебя сюда больше не посылали.
— За что же, Оленушка? Он бороду голит неплохо.
— Скажи, чтобы и другого не посылали. Женатому государю без бороды ходить недостойно.— И, обратившись к царю, добавила:— Отныне я твоя царица. Обычаи русские блюсти буду.
Спустя неделю к великому князю зашел митрополит. Даниил о делах церкви поговорил самую малость, потом сказал:
— Князь Глинский послал во все стороны гонцов, дабы Саньку изловить. Сие обречено на неуспех.
— Отчего же?
— Ищут не там. Санька, я мыслю, в Москве. По твоему повелению сестру того Саньки я хотел перевезти в мои палаты, но в пути ей помогли бежать. Мои служки бросились за ней, но их обскакал какой-то молодец с намерением задержать. Беглянка, сама того не ведая, понеслась к Неглинному пруду, и тот молодец хотел уберечь ее. Но не успел. Беглянка утонула. Я бы сему сразу поверил, если бы не случай: один служка явился без рясы. «Где, глаголю, ряса?» Тот: «Ратник отнял».—«Зачем ему твоя ряса?» — «Ратник был весь мокрый!» Трусы и глупцы! Ежели ратник был мокр, то вестимо, он прыгал в воду и беглянку вытянул. Утром я послал туда людей умнее, и помыслы мои оказались верными. В шалаше около проруби нашли одеяние монашеское, которое игумения Секлетея признала. А многие улошные сторожа говорили моим людям, что в ту ночь один человек, ведомый им как твой слуга, проходил мимо застав со спутником, закутанным в рясу. И теперь я вопрошаю тебя, государь: кто, кроме Саньки, мог пойти на помощь Иринице? Он тут.
— Князя Глинского ко мне,— бросил слова Василий в сторону стольника, стоявшего невдалеке.
Для Ирины настали счастливые дни.
На улице попахивало весной, весна пришла и в душу Ирины. Почти всю свою недолгую жизнь провела она в монастыре среди послушниц злых, бездушных, обиженных жизнью. Ласки не видела никакой. В свободные от молитв часы монашки много говорили про любовь и про мужчин; из разговоров этих Ирина поняла, что от племени мужского надо бежать, как от сатаны, что все они искусители: опозорят и бросят. А тут столкнула ее судьба с первым в ее жизни мужчиной — и он оказался и добрым, и смелым, и ласковым, и нежным. И родилась в юном сердце любовь к этому человеку. Об этом она и сама еще не догадывалась: просто ей хотелось чаще видеть Аказа, быть с ним рядом. Весь этот месяц прошел в приятных тревогах. Пока нет Аказа, она тревожится, ждет.
Аказ бывал у них часто. Он приносил из города новости, делал покупки, помогал по дому, а когда оставался вдвоем с Ириной, играл ей на гуслях, пел песни, обучал девушку говорить по-своему. Ирина быстро научилась понимать Аказовы песни. Иногда в общей беседе понадобится проказнице тайну какую-то Аказу сказать, она и скажет ему. Санька в такие минуты хмурился, глядел на Ирину грозно и уходил в горенку. Бабушка тоже шла за внуком и успокаивала его.
— Хороший он человек, Саня. А девке взаперти-то одной каково? Пусть хоть с ним сердце отводит. Спаситель ведь.
— Аказ —он молодец,— соглашался Санька,— только язычник. А сердце девичье, знаешь,— воск. Вот я о чем думаю.
— Я, внучек мой, деда твоего полюбила, он разбойником был. Сколько горя от той любви приняла, а все одно была счастлива.
Санька с бабушкой соглашался, но на душе все равно было тревожно.
Любил ли Аказ Ирину? Он точно не мог себе на это ответить. Если бы полюбил, то Эрви должна уйти из сердца. Но она не уходила. Хоть и мало было надежды на то, что она вернется к нему, но вера эта не пропадала. Иногда он задавал себе вопрос: а что если Эрви нет в живых, если она добровольно осталась в Казани и нет ей возврата назад? Стоит ли ждать ее, тратить в тоске молодые годы. А если она верна ему? Ждет с ним встречи?
Ирина была совсем не похожа на Эрви, и все же его к ней тянуло. В домик Сани Аказ ходил, как на праздник. Однако надежды большой на ответную любовь не было. Санька на разговоры сестры и друга смотрел неласково, Ирина хоть и была с Аказом нежна и душевна, но называла его братом и спасителем, а это говорило о том, что к нему девушка относится по-хорошему от благодарности и гостеприимства, может быть, скуки ради, но не от любви. От таких дум по ночам у Аказа ныло сердце, и он часто задумывался над своей судьбой. А судьба-злодейка не сулила Аказу ничего хорошего. Если даже и полюбит его девушка, что с того? Остаться служить Москве постоянно и жениться на ней было нельзя: беглая она монашка, от пострига убежала. Везти в Нуженал тоже нельзя — отец и сородичи не примут. Эрви может вернуться. Да и пойдет ли Ирина в глухие леса на Волгу. От этих дум раскалывалась голова, болела грудь.
Потом настало Великое воскресенье. Вся Москва праздновала Христов день.
Гуляли все.
Ходили из дома в дом—христосовались. По улицам, заплетаясь, бродили хмельные ратники, на площадях открыто целовались совсем незнакомые люди—на пасху это можно, не грех. Даже монахи и те осмелели: вино пьют, мясо едят прямо на глазах у православных, а иные, задрав рясы, бегают за молодайками. В эту пору Аказ решил рискнуть и пробраться к Ирине днем, потому что она просила навестить ее в светлый праздник.
К дому Ирины он прошел незаметно, здесь его встретили, как всегда, приветливо и радостно.
— Ты хоть и не православный,— сказала Аказу бабушка Ольга,—одначе и для тебя сей день праздник. У татар и тех в эту пору своему богу молятся.
— И у нас тоже сегодня праздник,— ответил Аказ,— наши люди всем илемом сегодня утром, наверно, ходили под священное дерево и просили у бога большого урожая, здоровья семье и скотине.
— Ну вот, видишь, Саня, а ты говорил... Садись, Аказушко, с нами, попразднуй.
Чинно сели за стол, разрезали кулич. Сначала всех перецеловала бабушка Ольга. Она не спеша подходила сначала к Сане, потом к Ирине и Аказу и трижды целовала в губы. Потом Саня христосовался с Ириной и Аказом. Подошла очередь Ирине целовать Аказа. Все глядели на нее, думали, девушка смутится. А она спокойненько взяла из миски крашеное яйцо, стукнула о край стола, сказала Аказу: «Христос воокресе», а поцеловать не поцеловала. У Аказа сразу на сердце тень. Не показывая огорчения, он ответил Ирине и принялся за кулич. Потом разговлялись мясом, скоро на столе появилось пиво и медовщина.
Под вечер, когда утомленная бабушка отправилась на печку, а Санька, напившись пива, уснул прямо за столом, Аказ и Ирина перешли в горенку. То ли от медка, то ли от волнения глаза у Ирины в сумерках горели, как угольки. Она долго смотрела на Аказа, и тот, чувствуя ее зов, решился первым сделать шаг.
— Пасха сегодня, братец!—произнесла Ирина.
Аказ шагнул ей навстречу, рывком прижал к груди, почувствовал пылающие Иринины губы. И в этот момент в сенцах раздался громкий стук. Аказ сразу понял, что большая беда пришла, и бросился в комнату, чтобы предупредить Саньку, но было уже поздно. Загремела сорванная с петель сенная дверь, и два дюжих стражника с оголенными саблями вломились в избу. Санька стоял за столом протрезвевший. Стражник подбежал к нему, выволок его из-за стола, крикнул:
— Вот ты-то нам и нужен!
Второй стражник, связывая Саньке руки, бранился:
— Насилу разыскали пса болтливого. Ишь што удумал, на светлую царицу напраслину возводить. Пойдем!
— Шубу дозвольте надеть,— Санька почему-то был спокоен и не сопротивлялся.
— Пошто тебе шуба? Когда башку снесут, тебе холод будет не страшен!—И захохотал. Было видно, что оба пьяны.
— Ну-ну, иди!— И ткнул Саньку в спину рукояткой сабли.
Санька был уже на пороге, когда из горницы вышел Аказ и
крикнул:
— Постойте, люди!
— Ты кто таков? Откуда взялся?—сурово спросил стражник.
— Я из свиты хана Шигалея. Сейчас служу при государе. Я давно за этим человеком слежу и нашел его раньше вас. Не видите, я обыск в доме делал! А кто вы?
— Мы исполняем повеление князя Глинского. Ты нам не мешай.
— Я именем царя здесь! Вершу его приказ.
— А ты не врешь?—спросил молодой стражник.
— Пожалуй, он правду говорит,— заметил тот, что постарше.— Я знаю хорошо: он у царя в чести. Он сотник, аль не видишь?
— Так спор о чем?—не сдавался молодой.— Поведем его трое. Уж тут ты, я чаю, противиться не будешь?
— Можно было бы, я и сам без вас давно увел,— ответил
Аказ, чуть-чуть помедлив.—А знаете ли вы, сколько у этого злодея сообщников. На улицах ночных враз отобьют его. До утра будем ждать. Не убежит никуда.
Стражники переглянулись между собой, молодой подскочил к Аказу.
— Да неужели мы втроем не справимся с злодеями?
— Я лучше с вами в схватке сгину, а не отдам его в пьяные ваши руки. Коль сможете, меня убейте, а там воля ваша,— Аказ снова обнажил саблю.
— Неужто до утра тут сидеть?— молвил старый, почесывая под шапкой.
— А пес с ним! Будем сидеть. Утром, и верно, безопаснее,— согласился молодой. Старый стражник, почесав бороду, сказал:
— Ты все обыскал? Пива-браги, поди нашел?
— И верно,— Аказ встал и вынес из горницы жбан.
Когда стражники захмелели до того, что у них стали заплетаться языки, пожилой оказал Аказу:
— Ты... царев слуга... ты не пей Ты сторожи злодея,— и, забрав кружку, стоявшую перед Аказом, опрокинул ее в рот.
Час спустя стражники, мертвецки пьяные и связанные для верности, лежали на полу под столом.
Споив стражников, Аказ подумал, что это ему даром не пройдет, утром они проспятся, донесут великому князю, и у всех четверых головушки полетят. Одна надежда была на хана Шигалея. Поэтому, спрятав Саньку, Ирину и бабушку Ольгу в надежном месте, Аказ сразу поехал к хану. Здесь его встретил Топейка и огорошил вестью: хана Шигалея еще днем схватили и в цепях увезли в ссылку, на Белозеро. Не поверив Топейке, Аказ бросился на подворье хана, но чуть сам не попал в руки стражи. Хорошо что его встретил знакомый сотник из татар и рассказал, как было дело.
Сторонники Москвы Сафу-Гирея из Казани выгнали, великий князь сразу решил туда послать Шигалея. Хан совсем было собрался на трон, вдруг от вельмож из Казани письмо. Шигалей-де человек коварный, мы его боимся и пришли нам младшего брата его Беналея. Василий Иванович согласился, чем страшно Шигалея обидел. «Я отцу твоему служил верно,—сказал хан,— тебе служу, Васильсурск под носом у Казани построил, а Беналей давно ли соску сосал, а ему ни за что ни про что—трон?!»
Василий Иванович упреков не терпел, отнял у хана Касимов и повелел ехать в новый удел — в Каширу.
— Сам в эту вшивую Каширу поезжай!— в гневе крикнул хан и очутился в цепях.
Выслушав рассказ сотника, Аказ снова вскочил в седло и бросился на конюшню...
Часовенка, словно сиротка, приткнулась у развилки дорог. Серая и ветхая, погнившая внизу, она склонилась, как старушка, готовая вот-вот упасть на колени. Еловый крест над ней потру- хлел, покрылся мелкими подушечками из сухого мха, крышка исщелялась, рассохлась. Лик богородицы потемнел, свечной огарок расплылся. Жестяная кружка для пожертвований пуста. Когда-то эта дорога была оживленной, теперь местность обезлюдела, и редко кто ездит и ходит мимо. Внизу — река, за нею начинается Горный черемисский край.
В это утро появились у развилки дорог четверо. Подошли к часовенке, остановились. Девушка перекрестилась, присела на ветхую скамью, сказала:
— Я больше, братцы, идти не могу. Ноги в кровь избила.
— Садись, сестренка, отдохни. Теперь мы дома!—ответил ей самый высокий из спутников, снимая котомку с плеч. Он радостно воскликнул:—Здравствуйте, леса! Земля родная, здравствуй! Прости, что покидал тебя надолго. Эгей! Родная сторона, ты слышишь, я вернулся!
— Ты больно-то не гогочи, Аказ. Погоня может быть,— заметил парень пониже, присаживаясь рядом с девушкой.
— К чертям, Санька, погоню! Надоело! Уж сколько дней в лесах хоронимся, без оглядки бежим от самой Москвы. И на конях, и на лодке, и пешком. Дням и ночам счет потеряли. Когда мы вышли, Ирина?
— От сретенья...
— Так это же январь. А нынче что?
— Масленица скоро,— ответил Санька.
— Стало быть марту начало.
— Да, хватили лиха,— заметил Топейка, помогая Ирине снять довольно потрепанные, грязные сапожки.
— Теперь, быть может, отдохнем,— сказала Ирина.
— Построим вам избу,— мечтательно сказал Аказ.— Вон лесу сколько. Срублю такую вот часовню... Молитесь своему богу. А с тобой, Саня, будем ходить на охоту. Сестренке найдем жениха. Ай, заживем!
— Ты что это больно радостен сегодня?—спросил Санька.
— Пойми, брат, под вечер будем дома. В котомке что-нибудь осталось?
— Есть хлеб,—ответила Ирина,—соль тоже есть. Водички бы...
— Я сбегаю,— Топейка схватил котелок, пошел на берег. Санька тоже поспешил за ним.
Ирина, раскладывая по скамейке сухари и узелок с солью, спросила Аказа:
— Ты говорил, что твоя жена в Казани. Может, вернулась? Вот будет радость.
На лицо Аказа набежала тень, он сказал тихо:
— Не думаю, чтобы вернулась. Не покорилась она... Замучили, наверно. Сколько лет прошло.
— Тоскуешь?
— Раньше тосковал...
— Придется другую жену искать, если так.
— Будь ты постарше — тебя бы засватал.
— Пока надумаешь жениться, глядишь — и постарею.
Подошли Санька с Топейкой, принесли воду и сели подкрепиться. Размачивали в кружках сухари, посыпали солью, неторопливо жевали. А разлука в виде худого, медленно бредущего человека с большой холщовой сумой приближалась к ним со стороны леса. Прохожий, грязный и оборванный, с черной всклокоченный бородой, сиплым, простуженным голосом сказал:
— Удачи желаю вам и мира.
— Добро пожаловать, прохожий,— ответил Санька, запивая сухари.
— Садись, раздели нашу трапезу,— предложила Ирина.
Путник присел на траву, рядом со скамьей, протянул грязную
руку. Ирина вложила в ладонь сухарь, подала кружку.
— Далеко ли путь держишь?—спросил Аказ.— Я вижу, жизнь тебя не балует.
— Надел суму на плечи — о жизни позабудь. И горе, и беда с тобой рядом пойдут.
— Откуда будешь? Мне что-то говор твой знаком.
— Татарин я. Из Кендарова улуса.
— Из Кендарова? Я там всех знаю. Соседний улус...
И тут вдруг нищий вскочил и бросился обнимать Аказа:
— Аказ! Родной мой! Друг!
— Мамлей! Да ты ли это? Подумать только... Не узнал я тебя.
— Пакман сказал, что тебя убили. А ты — вон он — живой и невредимый! Где был все это время?
— В Москве. Служил у русского царя.
— Я потому и не узнал тебя. В одежде сотника...
— А ты с сумой. Рассказывай.
— Ай, да что там говорить,— Мамлей махнул рукой.— Плохо у нас. Когда похоронили мы Тугу, пошел спор: кого Большим лужавуем поставить? Одни кричали — Ковяжа, другие — Мырзаная. Стал Ковяж главой Горной стороны. Потом Мырзанай женил его на своей дочке, оба лужавуя соединил в один. Пришло время, Ковяжа с его земель согнали, а Янгин еще раньше на Луговую сторону ушел.
— Куда же старейшины смотрели?!—воскликнул Аказ.
— Мырзанай старейшинам глаза золотом ослепил. Стал Большим лужавуем, и вот тогда они с Атлашем всех, кто был им неугоден, в бараний рог согнули. Мурза к ним не ездил, вместо него Алим Кучаков стал бывать, а он за меня принялся. Обложил наш улус большой данью, припомнил мулле день, когда тот тебя прятал. Я хотел на дочке Кендара жениться — не дали. Алим сказал мулле: пока Мамлей у вас, пощады вам не будет. Меня защищали татары, но силы были неравны. Улус Алим до нитки ограбил, мать с голоду умерла, а я суму надел...
— Боранчей жив? — спросил Аказ. И спросил, собственно, для того, чтобы узнать об Эрви.
— Он сильно болен. Когда Эрви ушла в Казань, он умом тронулся, теперь у Аптулата живет. Землю его Атлаш присвоил...
— Что об Эрви слышно? — спросил Топейка.
— Разное говорят. Сначала Пакман весть из Казани привез Говорил, что Эрви стала женой Кучака, сильно ругал ее, сказал, что веру и народ Эрви предала. Потом Шемкува проговорилась, сказала, что Эрви мурзе не покорилась, ее сильно били. Недавно Алим у нас был, Боранчей просил его вернуть Эрви, а Алим сказал, что ее в доме Кучака нет, а сам мурза живет в Крыму. Наверно, от побоев умерла.
— Но почему насилье терпите?— спросил Аказ.
— Мырзаная все ненавидят, но у народа нет вождя. Все тебя, Аказ, ждут.
— Куда идешь сейчас?
— На чувашскую сторону шел, но теперь, если возьмешь, с гобой пойду. Ты-то что думаешь делать?
— Пойдем в Нуженал!
— Рано, Аказ. Мырзанай сразу в Казань сообщит, и тебя схватят.
— Народ не даст! Да и я за себя постоять сумею.
— Люди напуганы... пока ты их соберешь...
— Верно Мамлей говорит,— вмешался в разговор Топейка.— Надо идти на чувашскую сторону и оттуда на Нуженал посмотреть. Пойдем в мою деревню, там у меня хороший друг есть—Магметка Бузубов. У него, как и у тебя, с Казанью свои счеты есть. Там Ковяжа разыщем, Янгина вызовем.
— Ты, пожалуй, прав,— сказал Аказ, подумав.— Пойдем к Бузубову. Веди, Топейка.
— Прости меня, Аказ,— Санька сложил котелок и кружки в котомку,— но мы с тобой не пойдем.
— Как это не пойдешь? Я вас не брошу.
— Мы в бегах, Аказ. Боимся...
— Ты меня обидеть хочешь? — возмутился Аказ.— Помнишь, когда пришли стрельцы, чтобы тебя бросить в темницу? Кто отбил тебя?
— Ты.
— А кто провез через заставы в царицыном возке?
— Ну, ты.
— И от погони не раз спасал. И все это было среди чужих и злобных людей. Так неужели на родной земле я не защищу тебя и Ирину?
— И верно, Саня, — сказала Ирина,—Сейчас Аказу каждый человек дорог. И ты бы мог...
— Ты сам еще не знаешь, что тебя ждет дома,— не слушая Ирину, продолжал Санька.— Тебе и так придется нелегко, а тут и мы, как гири на ногах.
— Верно говорит он,— согласился Топейка.— Мы были в Москве, если с русскими придем — нам совсем веры не будет. Мырзанай тебя станет называть продажным, предателем.
— Куда идти думаешь? — спросил Аказ.
— В лесные пустыни подамся,— сказал Санька.— Скит там выстрою. И лихолетье пересижу. А там видно будет.
Ирина хоть и понимала, что мужчины правы, а все равно погрустнела, на глаза навернулись слезы. Аказ заметил это и сказал:
— Я думаю, в разлуке нам быть недолго. Как остановитесь — весточку подай.
— Непременно. Как обживемся...
— Все будет хорошо. Я вас тогда найду. Не забывайте только: илем мой Нуженалом называется.
— Запомню, брат. Ты время не теряй, иди.
Аказ хотел обнять Ирину, слова какие-то нежные сказать, но встретил Санькин суровый взгляд и не решился. Вытащил из котомки купленные в Москве теплые варежки и молча надел их Ирине на руки. С Санькой прощанье вышло еще печальнее. У обоих мысль: а вдруг не свидятся больше, земля вон сколь велика, и один бог знает, куда занесет их беспокойная, беглая жизнь? Обнялись крепко, поцеловались по-братски. Аказ еще раз сказал:
— Не забудь — илем мой Нуженал.
Санька кивнул головой. Ирина шагнула навстречу Аказу, но Санька положил ей руку на плечо:
— Не надо. Я все понимаю, но лучше не надо.
Долго стояли брат и сестра, глядя вслед ушедшим.
СЮЮМБИКЕ — ЦАРИЦА КАЗАНСКАЯ
Говорят, в Москве время бежит быстро. В Казани время тоже не стоит. С тех пор, как Эрви приехала в этот город, многое изменилось. Раньше Эрви в лесу спокойно жила. В Казани ее, как осенний листок, закрутило в жизненном вихре—и совсем другой стала Эрви. Гордости былой нет. Во дворцах гордость — словно роса: высыхает скоро. Красоты прежней тоже мало осталось. И только любовь к родной земле, преданность вере отцов по-прежнему горит в душе Эрви.
Где-то в сердце сохранился образ Аказа: нет-нет да и кольнет воспоминанием, великой болью в груди.
Все перемены казанские непременно Эрви касались. Она теперь как книга: все, что в ханстве произошло, по ней прочитать можно. Привезла ее царица в свой дворец, приласкала, пригрела. И стала Эрви для Сююмбике не то служанкой, не то подругой.
Захочет царица от дел отдохнуть — зовет Эрви. Нужно куда-то письмо отнести, куда-то сходить, гостей позвать — снова Эрви нужна. Иногда и сердечные дела царица ей доверяет.
Просится домой Эрви — говорят: рано еще, время не приспело. Сначала сказали, что Аказ в Васильграде обитается, как придет в Нуженал, ее отпустят. Потом стало известно: Аказ в Москву ушел.
А время идет.
Мурза Кучак в Казани теперь живет мало. Только приедет — сразу обратно в Крым. Всеми делами управляет его сын Алим.
Терпеливо ждет своего часа Эрви и не знает, придет ли он, этот час...
Над ханским дворцом бездонная небесная голубизна. Красные кирпичные стены, облитые жгучими солнечными лучами, дышат зноем. Но внутри дворца — прохлада. Сегодня в обители хана тишина. Властитель правоверных уехал на охоту вместе со свитой и вернется через неделю. Царице Сююмбике донесли: в свите хана тайно поехали четыре наложницы.
Царица в своих покоях с утра занята государственными делами. Сидит в любимой комнате с лазурными сводами. Острые солнечные лучи прорываются сквозь оконные занавески, рассыпаются яркими золотистыми пятнышками по ковру, падают на драгоценные камни пояса царицы и дрожат, отражаясь на шелковом пологе.
Рдеет крупными маками тонкий, облегающий стройное тело царицы халат. Лицо Сююмбике — чуть утомленное и от этого кажется еще красивее. У ног царицы, на низкой скамеечке, сидит Яванча. Бывший русский поп ныне похож на евнуха. На бритой голове чаплашка с кистью, полосатый халат до пят, пояс широкий— во все брюхо. Раньше Яванча сам писал свои заметы. Смотрел их святой сеит, иногда сам хан Сафа давал советы. Но потом появился молодой хан. Беналея и Яванчу беспокоить перестали.
Но вот узнала о его писаниях царица и велела без ее ведома ни строчки не делать.
Сегодня царица позвала Яванчу, а чтобы люди ничего плохого не подумали, посадила рядом Эрви. Начала говорить, что надо в Книгу царства записи делать. Часа два, а то и три сидели. Царица на ум востра, Яванча еле успевает записывать.
— Пиши далее: «В этот проклятый аллахом день наскочили на наш город эти гяуры, русские, и встали у стен...» Ты о чем задумалась, Эрви?
— О, прости меня, богоподобная! Я вспомнила реку Юнгу и лес, где родилась. Прости меня...
— Я знаю — тяжело тебе вдали от родины,— с участием произнесла Сююмбике,— сердцем понимаю.— Вздохнув, добавила:— Ты думаешь, я не тоскую по родным ногайским степям, по великому приволью? Ой как тоскую, видит аллах! Мы обе молоды, нам хочется резвиться на лугу, а мы вместо этого сидим в духоте и пишем книгу ханства.
— На все воля аллаха,— покорно ответила Эрви.
— Неправда! О том, что происходит в ханстве, обязан писать сам хан с сеитами да имамами.
— Благословенный хан все время занят...
— Гаремом да охотой!—зло перебила царица.— Дел царских совсем делать не умеет, русскому попу книгу ханства отдал. Доверить писать книгу такому человеку можно ли? Напишет там не то, что надо, а что русский посол повелит. Все нужно делать самой. Устала очень.
— Отдохни тогда, изумительнейшая.
— И верно!—воскликнула Сююмбике.—Давай веселиться!
Она хлопнула трижды в ладоши, в комнату неслышно вошел
евнух, упал на ковер.
— Пошли нам музыкантов и танцовщиц. Сперва пусть ногайские плясуньи нас потешат, потом черемиски подойдут. Ты родину вспомнишь,— заметила она Эрви.
Евнух свое дело знает. Поставил в конце комнаты ширму, привел туда музыкантов. Ширма плотная, не приведи аллах, если трубачи увидят царицу — оскорбят ее своим взором. По комнате поплыла музыка однообразная, как ногайские степи. Открылись двери, и в комнату на носках вбежали девушки в тонких, почти прозрачных одеждах. Поклонившись царице, они начали танцевать. Ох, хорошо танцуют степнянки, воскрешают в памяти царицы картины ее прошлой жизни! В каждом движении танца узнается родное. Вот танцовщицы, подняв руки, покачиваются одновременно из стороны в сторону. Так в степи травы на ветру качаются. Вот они уже кружатся стремительно, взявшись за руки. Так на кочевье юрту ставят. Молитву аллаху, слова любимого, скачку на коне — все передают они в танце, и сердце Сююмбике тает от услады, будто воск.
После степнянок вбежали в белых кафтанах танцовщицы лесов. Но царица подняла руку, обращаясь к Эрви, сказала:
— Вечером пошлю их к тебе. Сейчас дело нас ждет.
Эрви кивнула головой, она поняла, что царице не хочется после родного ей танца смотреть чужой.
— Теперь пиши: «В этот проклятый аллахом день под Казань пришли гяуры, русские, вместе с послами, а изнутри города подняли копья недовольные Сафой мурзы и эмиры и прогнали его из Казани. И стал ханом подданный Москвы Бен-Али, который Шах-Алею младший брат. Бен-Али сейчас правит Казанью мудро и блистательно...»
— Ты только что иное говорила, великая царица? — робко вставила Эрви.
Сююмбике дала знак Яванче, чтобы тот вышел, потом ответила:
— У ногайцев пословица есть: «Кто говорит правду — того изгоняют из девяти государств». А если мы напишем правду, нас и с земли сгонят. Да и могу ли я про своего мужа писать плохое?
Тихо в комнате. Обе женщины молчат. Меж створками окон звенит ошалелая муха. Задумались женщины. Каждая о своем. Первой нарушает молчание царица:
— Скажи, Эрви, Кучак-оглана ты знала ли?
— Алима?
— Да.
— Ты хочешь знать, горячо ли он целует, крепко ли обнимает?
— На твои слова я могла бы разгневаться, потому что думала совсем о другом.
— О другом? И не надо гневаться на бедную Эрви, аллах тому свидетель. Я вижу, что у тебя на сердце.
— Мое сердце принадлежит хану.— В уголках губ царицы улыбка.
— Хан твоего сердца —Алим, и пусть покарает меня всевышний, если я говорю неправду.
— Садись рядом, Эрви, и слушай. Я вырвала тебя из рук мурзы, я успела научить тебя грамоте, я сделала тебя первой подругой моей. Поклянись мне, что все услышанное ты похоронишь в своем сердце навсегда.
— О, мудрая Сююм! Разве ты не видишь: я предана тебе душой и телом. Я вся твоя. Скажи: умри, Эрви, и я умру!
— Ты умница, Эрви. Ты увидела в моей душе то, чего не видел даже сам Алим. Я давно люблю его, и ты поможешь мне в моей любви. Сегодня ночью приведи его ко мне. Евнуха не бойся, он мой.
— Будет сделано, благословенная. Я каждую ночь буду...
— Только сегодня. Завтра тебя, быть может, не будет в Казани.
— Пощади, милосердная, не изгоняй! — Эрви упала на ковер.
113
8 Марш Акпарса
— Поднимись, Эрви. Кто ты сейчас?
— Я твоя раба, о царица.
— А я хочу поднять тебя. Ты будешь женой князя, Эрви.
— Женой князя? — в глазах Эрви испуг, удивление.
— Да. Завтра же поедешь домой к мужу. Он из Москвы бежал. Теперь, наверное, он снова в Нуженале. Пусть правит землями твоими и своими. Пусть берет в руки весь Горный черемисский край. Я ему во всем помогать хочу.
— Мой милый патыр!
— Слезинку на глазах твоих вижу. Любовь к нему не погасла?
Эрви низко склонила голову, плечи ее слегка вздрагивали.
— Не плачь. Он ждет тебя и любит.
Эрви неуверенно покачала головой.
— Узнала я: живет он один. Если бы забыл тебя — женился. Поезжай смело, подарки богатые повезешь ему. Скажешь, что милостью аллаха дарую я ему княжеский титул. А ты княгиней будешь.
— В лесу зачем мне княжеское имя?..
— Сделаешь все как надо — в Казани будете жить. Отсюда черемисами править будете. Поняла?
— Что надо сделать?
— Скажи Аказу: весь Горный край поднимает пусть и знает, что только одна буду его жаловать, и пусть мне одной будет послушен. Если рать московская на Казань пойдет — ее воюет пусть и до нас не допустит.
— А если он не согласится?
— На то и едешь ты. Сделай все, что можешь: пусть народ твой станет стражем на краю моего ханства, пусть Аказ будет тебе послушен. Наши дары тронут его сердце.
— Смогу ли я? — робко заметила Эрви.— У нас в лесах женщин не любят слушать.
— У нас тоже. Однако я заставляю слушать.
— Ты царица.
— А ты будешь княгиней. Отныне Кучак над землей Аказа будет не властен, он в Крым убежал. Силу свою чувствуй. Если что не так — моего совета спрашивай. Мой конник будет приезжать к тебе часто и передавать мои повеления.
— Я не смогу... не буду...
— Тогда забудь о муже, забудь о Нуженале! — сурово произнесла царица. — Аказу мы найдем другую жену. Любая девушка за него пойти будет рада.
— Пощади, великая! Отпусти меня... Я попытаюсь...
— Хорошо, завтра поедешь. Сейчас сходи в дворцовую мечеть и позови сеита.
Тот вошел в покой царицы, чуть заметно склоня голову в знак
приветствия. Жестокий ревнитель веры жил с Сююмбике в дружбе, но всегда сердился, когда видел около нее Эрви. Сеита бесило упрямство язычницы, которая жила рядом с царицей и не хотела поклоняться аллаху.
— Я позвала тебя, святой сеит, для того, чтобы ты принял клятву на Коране,— уважительно произнесла Сююмбике.
— От кого?
— От Эрви.
— Но на Коране клянется только правоверный.
— Твои слова правдивы, святой сеит. Эрви сейчас же примет веру Магомета.
— Нет! Нет! — воскликнула Эрви и прижалась спиной к стене.— Веру своих предков я не предам!
— Тогда вон из дворца! — крикнул сеит.
— Зачем вы мучаете меня? Все эти годы я жила надеждой на возвращение в родные края...
— Твоя надежда сбывается, — мягко произнесла Сююмбике.
— Я потеряю все, если... я потеряю любовь мужа, меня оттолкнет мой отец, меня, словно занозу из тела, вырвут мои сородичи, лучше убейте меня!
— В тебе снова проснулась дикая кровь, — сказал сеит как можно спокойнее. Он по тону Сююмбике понял, что с Эрви надо обходиться мягче и тогда скорее достигнешь цели. — Чем ты платишь за любовь и ласку царицы?
— Я была твоей рабой, великая, во всем повиновалась тебе. Разве я не заслужила твоего доверия? Зачем нужна клятва на Коране? Я и так сделаю все, что ты велишь. Но я должна поехать к Аказу только с чистым сердцем. Иначе — лучше смерть!
— Подай Коран, святой сеит,— строго сказала царица, и сеит развернул священную книгу.— Я тебе повелеваю, Эрви, иди сюда!
— Ну! — крикнул сеит и, ухватив Эрви за руку, потянул к царице.
— Никогда! Лучше умру! — Эрви вырвалась из рук сеита и подбежала к двери. Служитель аллаха бросился за ней.
— Остановись, святой отец, мы не будем насиловать ее — это противно воле аллаха. Прости, что я потревожила тебя зря. Если будешь в городе и увидишь мурзу Чапкуна, пошли его ко мне. Он давно просит Эрви в свой гарем. Скажи, что я дарю ее ему-
Эрви пала перед царицей на колени и, плача, протянула к ней руки:
— Убей меня, госпожа, но только не в гарем! Только не в гарем!— Эрви упала на ковер, содрогаясь от рыданий. Сююмбике подошла к ней, сказала властно:
— Ты поедешь в Нуженал?!
— Поеду.
— И сделаешь все, что я велю?
— Сделаю...
Царица села, кивнула сеиту. Тот подхватил Эрви под руки, подтащил к столику.
— Встань, Эрви!
Эрви поднялась, но тут же упала снова. Ноги не держали ее. Сеит взял со столика священную книгу, поднял руку Эрви, подложил под нее Коран.
— Повторяй за мной. Отныне и до смерти...
— Отныне и до смерти... — надрывно повторила Эрви.
— ...я буду следовать праведному ученью Магомета...
— ...праведному... Магомета...
— …и принимаю веру в аллаха единого и величайшего...
— ...единого и величайшего... — как эхо неслось с ковра.
— ...и клянусь на святой книге...— Сеит глянул на Эрви в ожидании слов, но она молчала.
— Она без чувств, — спокойно заметила Сююмбике.
Сеит перевернул Эрви вверх лицом, приложил Коран к ее губам, к груди, ко лбу и произнес тоном купца в лавке:
— Дело сделано-
— Оставим ее,— сказала царица, поднимаясь.— Теперь она будет покорна нам до смерти...
Ночь сошла на Казань. Вышки минаретов опустели, умолк гомонливый базар, шумевший весь день. Где-то тихо звучал рожок— мелодия лилась печальная, тоскливая. Но вот и она оборвалась, стыдливо замер ее последний звук. Погасли огни в домах, только кое-где мерцают глазки-окна кофеен, не успевших выпустить поздних гостей. Ночью не услышишь скрипа арбы — жители города ушли за высокие заборы своих домов. Даже собаки перестали лаять. Тишина. Изредка процокает по камням запоздалый всадник, иногда бесшумно проплывет чья-то тень по освещенному луной забору, и снова безмолвие.
Еще тише в ханском дворце. У малого входа со стороны Казани появились две фигуры. Страж, дремавший, воспрянул, услыша легкие шаги, насторожился. К нему подбежала женщина, открыла лицо. Страж сразу узнал ее — Эрви.
— Кто второй? — спросил шепотом.
— Евнух. Пусти.
Страж вложил саблю в ножны, шагнул вбок от входа.
Комната с темно-синими сводами — для сна царицы. Но Сююмбике не спит. Она полулежит на широком ложе, перед ней рассыпаны розы. Царица не спеша обрывает лепестки, бросает на ковер. Освещенные трепетным огнем светильников, лепестки на ковре похожи на пятна крови.
На Сююмбике ослепительно яркие одежды. Широкий пояс искрится множеством жемчугов и алмазов. Бирюзой светятся сафьяновые сапожки. Царица ждет возлюбленного. Всякому известны последние минуты перед свиданием. От волнения кипит кровь, бьется в груди сердце.
Но сердце царицы бьется ровно. Алим ей нужен не для любви
Тихо открылись дверцы — показался Алим. Он быстро подошел к краю ковра, опустился на колено.
— Селям-алейкум, великая.
— Живи сто лет, Алим, сын Кучаков.
— Ты звала меня, о вздох моего сердца?
— Звала. Встань и садись рядом со мной.
— Когда я шел сюда, мне сказали, что я любим. Это верно?
— Может быть. Но об этом не говорят сразу. Особенно во дворце хана.— Сююмбике одарила Алима лукавым взглядом.
— Я готов жизнь отдать, только бы узнать это!
— Узнаешь. Но ответь мне сначала, почему ты не покинул Казань вместе с отцом? Сначала, говорят, ты хорошо служил Сафе-Гирею, теперь также хорошо служишь его врагу — хану Бен-Али. Отчего это? Ведь ты крымец?
— Неправда, царица. Отец мой из Крыма, а я рожден в Казани. Я ханам не служу, а своему родному городу. Я так и сказал отцу, когда он уходил отсюда.
— Если на трон сядет какой-нибудь пастух, ты и у него будешь целовать пыль с ковра?
— Если пастух заслуживает трона...
— Ладно! А если ханством буду управлять я, одна?
— Более верного и преданного слуги, чем я, у тебя не будет! Я и мои джигиты будем рады умереть за тебя, джаным!
— Я верю тебе, Кучак-оглан.— Сююмбике долго молчала, потом добавила: — Верю, потому что люблю тебя.
Алим резко пододвинулся к царице, протянул к ней руки, чтобы обнять, но Сююмбике выпрямилась и строго взглянула на Алима.
— Сначала выслушай меня. Я больше не могу терпеть! Хан Бен-Али мне ненавистен, только ты один желанен моему сердцу. Но я царица, Алим, и мы не сможем быть вместе, пока рядом со мной Бен-Али.
— Скажи только слово —и я зарежу его, как ягненка!
— А потом?
— Никто не помешает нам любить друг друга!
— Это плохо. Ты говоришь не думая. Мне ты казался умнее. Я сама отвечу тебе, что будет потом. Ты убьешь хана, сторонники Москвы поймают тебя и снимут голову, а меня, опозоренную и нищую, выбросят за стены крепости.
— Говори, свет очей моих, я сделаю все!
— Завтра Эрви едет к горным черемисам. Она умна, и Аказ будет нам большой опорой. Луговых черемис Япанча в железной узде держит. Он тоже будет за меня. Но этого нам мало. Ты тоже завтра собирайся в дальнюю дорогу. Поедешь в ногайские степи, отцу моему поклон повезешь. Скажи ему: пора вершить задуманное. Пусть всадников своих под Казань ведет. Вот тогда московиты не страшны будут. Тогда с тобой мы вместе Казанью будем править. Готов ли ты в путь?
— Хоть сейчас, блистательная! — воскликнул Алим и снова протянул руки к Сююмбике.— Я вручаю мою судьбу тебе, я весь горю, желанная!
Царица подняла с ковра розу, оторвала от цветка самый большой лепесток и, приложив его к губам, слегка потянула воздух в себя и поманила Алима...
Очнулся Алим только тогда, когда оторвался от губ царицы. Глаза Сююмбике горели. Легким движением руки она смахнула с усов Алима розовые обрывки лепестка. Руки ее дрожали, лицо чуть побледнело.
Алим рывком поднял ее на руки, понес.
— Не смей! — голос царицы звучит властно.— Не время еще.
— О, прохлада глаз моих!
— Иди домой! Завтра в путь!
Спокойные, холодно повелительные слова отрезвили Алима. Он хотел в последний раз поцеловать царицу, но она подняла руку и указала на дверь.
— О, как слабы мы, женщины! — воскликнула она, когда Алим вышел.— Еще минута, и я покорилась бы ему. Еще миг, и я потеряла бы власть над этим мужчиной.— Сююмбике гордо подняла голову, взглянула на дверь и сказала: — А теперь он мой раб!
Среди коренных, знатных казанцев мурза Булат да мурза Чура самые -- влиятельные, сильные. Булат отличался мудростью. Чура — храбростью. И богаты оба... Простые казанцы слушают их обоих с большим почтением. Оба сыздавна Москве союзники. И не потому, что русских очень любят, а потому, что свою силу Казань давно утратила и приходится выбирать либо Москву, либо Крым. И те, и другие давят на Казань поочередно.
Булат и Чура выбрали Москву. Почему? Вроде бы к крымцам душа больше должна лежать: все-таки одному богу молятся, по одному шариату живут, кровь опять же одна. Но простой народ казанский крымцев больно невзлюбил. Вероломны, лживы, мелочны, жадны, чуть что — сразу нож в горло. А московиты хоть и чужие люди, однако если скажут — сделают, если одарят, то подарков назад-не отнимут, в каждом деле ищут справедливости.
Говорят, что Булат не чистый татарин. Говорят, будто отец его был бесплоден и двадцать лет детей у него не было, а на двадцать первом году семейной жизни появился Булат. Лицом бел, глаза серые— совсем как у молодого русского купца, который вел с отцом торговлю. Но мало ли что наговорят злые языки.
Сегодня у Булата радость. Вечером пришел евнух от царицы, велел после полуночи тайно прийти к ней. Давно замечал Булат, что красавица Сююмбике глядит на него ласковым глазом, как бы невзначай называет «милый мурза». Замечал, втайне мечтал о любви к царице, но сердце держал в кулаке. И вот время пришло! Зовет она к себе ночью, тайно и когда мужа нет. Булат знает: царица сразу об этом не скажет, дело, верно, придумала какое-нибудь.
В полночь вышел ко дворцу, евнух уж ждет. Мимо садика прошмыгнул в калитку, а там темными коридорами — к лазоревой комнате. Евнух у двери шепнул:
— Царица всю прошлую ночь грустила без сна. И сейчас грустит.
Мурза не успел войти — Сююмбике ему навстречу. Взяла его за руку, подвела к столику, велела сесть.
— Великая царица...
— Забудь, что я царица,— голос у Сююмбике жалобный, тихий.— Скажи лучше: бедная Сююмбике.
Мурза об осторожности забыл и сразу:
— Я лучше скажу: прекрасная Сююмбике!
— О, зачем мне похвалы, которых я не заслуживаю?—Царица взглянула на мурзу, отвела лицо в сторону и как бы про себя начала говорить:—Когда я молода была, глупа была, верила, когда люди говорили про мою красоту. А люди лгали, каждый царице приятное хотел сказать. И ты, мурза, тоже кривишь душой.
— Ты истинно прекрасна, царица!
— Не зови меня царицей! Я позвала тебя как друга, чтобы ты поговорил со мной, как с женщиной, а не как с царицей. У трона, может, и принято лгать, а в гостях...
— Когда аллах призовет меня к себе, я и перед ним скажу: красивее тебя не видел.
— Тогда скажи, почему муж мой не любит меня? Тогда скажи, почему он целыми месяцами не заходит в мои покои? Ты первый его советник и друг, ты должен это знать!
— Я знаю. Но смею ли я говорить все, что думаю? Не падет ли твой гнев на мою голову?
— Говори, друг мой, все. Если даже ты скажешь, что Сююмбике гадкая, как змея, и противная, как лягушка, я приму это, потому что я верю твоему чистому сердцу и мудрому уму. Говори.
— Хан Бен-Али сильно любил тебя в первый год. Но что он видел с твоей стороны? Холодные презрительные взгляды. Разве я не знаю, как часто ты не впускала его в свои покои, что по шариату считается позором. Ты сама оттолкнула его. Прости, Сююм- бике, но ты ненавидишь Бен-Али. Отчего это?
— Скажи, мой мурза, есть ли среди ногаев человек богаче моего отца? Я могла быть царицей Крыма, меня просили в сераль турецкого султана. Но я, послушная воле моего отца Юсуфа, пошла в паршивую Казань, чтобы союз ногаев, крымцев и казанцев укрепить. А что я вижу? Владыка наш — безмолвный раб Москвы, торговля моего отца с Казанью совсем захирела, и он беднеет с каждым днем. Русские пленники, драгоценности, которые привозились раньше из походов, где они? Наш хан ногой не смеет ступить в русские пределы. После этого как называться мне царицей? Я не только не царица, но и не жена. Ты знаешь, верно, что хан уехал на охоту и взял с собой наложниц. Бывало ли когда такое? Могу ли я не пылать ненавистью к этому человеку?
— Умерь свой гнев, прекраснейшая. Хана ты винишь напрасно. Он честный человек и дал русским клятву верности. Ты хочешь, чтобы он ее нарушил? Тогда снова война. А то, что наложницы взяты на охоту,— все ханы так делали и делать будут впредь. И ты найди себе утеху...
— На грех меня толкаешь еще больший? — Сююмбике сказала это голосом, полным укоризны, однако глаза ее лукаво блестели.— Среди кого искать утеху? Праздности я не люблю, мурза. Если я и возьму подобный грех на душу, так только ради человека, с которым я могла бы делить не только ложе, но и власть. Такой человек в Казани всего один, но он слишком предан хану,— царица взглянула на Булата исподлобья и добавила: — Ты знаешь этого человека... я милым назвала его однажды.
— Могу только догадываться... верить не смею,— голос у мурзы осекся, он изменился в лице, почувствовал в голове жар. Он ясно понял, что царица предлагает ему любовь и вместе с ней союз против хана.
— Верь, милый мой Булат,— Сююмбике взяла руку мурзы и приложила к своей груди,— верь!
Мурза медленно встал, свободной рукой отодвинул легкий столик, приподнял царицу со скамьи и сильно прижал ее к своей груди. Сююмбике обвила шею руками и нежно поцеловала в щеку.
— Теперь пусти меня,— Сююмбике отстранила от себя Булата и, тяжело дыша, сказала: — Давай теперь поговорим открыто.
— Говори, каждое слово твое будет здесь,— мурза указал на сердце,
— Задумала я Бен-Али прогнать обратно в Москву. На трон сядешь ты — ханством править будем в любви и согласии. Хорошо ли я задумала?
— На трон сесть легко,— задумчиво произнес мурза.— Удержаться трудно. Москва сильна...
— Про это тоже думала. Если Москва войско пошлет, на ее пути весь Горный черемисский край встанет. Мой посол скоро будет там. Если князь Аказ русских не удержит, ногайские конники есть. Мой посол тоже поскакал туда, и отец сделает все, что надо. Курчак-оглан с джигитами на нашей стороне, коренные казанцы, я думаю, под твоей рукой. И еще скажу — отец мой в союзе с крымским ханом. Если русский царь рать на Казань двинет, отец попросит крымцев сделать набег на Москву. Кто нас сможет тогда победить? Теперь Казань то перед Крымом, то перед Москвой голову клонит, а тогда мы будем никому не подвластны. Ты мой хан!..
Только поздно утром покинул Булат покой царицы.
На другой день в Казань приехал черемисин Япык за мелким товаром. Он каждый месяц брал у купцов бусы, ленты и разную мелочь, которую выгодно перепродавал по илемам. В последнее время Япык возгордился — сама Сююмбике одарила его вниманием. Звала каждый раз во дворец и спрашивала про черемисскую жизнь. На сей раз царица хотела знать про Аказа.
— Аказа нету дома,— моргая подслеповатыми глазами, сказал Япык-коробейник.—Он, говорят, в Москве, в плену.
— Убежал, говорят,— Сююмбике подозрительно посмотрела на Япыка.
— Домой прибежать не успел еще. Я неделю назад был в Нуженале — Аказа там нет.
Долго еще спрашивала Япыка царица о том, о сем, а потом сказала:
— Как только Аказ приедет, сразу же беги сюда, ко мне. Награду получишь.
А через два месяца возвратился Алим. Отец писал Сююмбике, что войско готово и по первому ее знаку будет под Казанью. Коренные казанцы во весь голос поговаривали о неподвластной никому Казани — Булат свое дело делал верно.
Все чувствовали, что в Казани что-то назревает, только один хан Беналей пребывал в безмятежности. Гнев и презрение правоверных вызывал хан: не было дня, чтобы он не напивался, а кому не известно, что Коран запрещает пить вино, ибо даже капля его оскверняет душу человека.
Легко сказать «Коран запрещает», а как отказаться от чудесного напитка, к которому Беналей еще в Касимове накрепко привык. И хан пил, по-своему истолковав слова Корана. Он наливал вино в кувшин, макал туда палец и ту каплю, которая оскверняет душу человека, извлекал на пальце из кувшина и с презрением стряхивал на пол. Остальное вино можно было пить.
В одну из осенних ночей хан выпил особенно много и, еле добравшись до постели, уснул не раздеваясь. После полуночи в покои вошли два человека — мужчина и женщина. Мужчина откинул полог — и лунный свет из окна осветил спящего. Он лежал вверх лицом, раскинув руки. Мужчина вопросительно взглянул на женщину. Та кивнула головой и отвернулась. В лунном луче сверкнуло лезвие ножа, раздался слабый стон, потом хрип.
И все замолкло.
...Хоронили хана с почестями, но наскоро. Посла московского с женой и детьми посадили на захудалых лошаденок и вытолкали за ворота Казани. Велели передать Москве, что Казань теперь никому не подвластна: ни Москве, ни Крыму.
Посол с превеликими трудностями добрался до Москвы только 3 декабря. Ждал кары за то, что проворонил Беналея и Казань, но отделался легко. Глинский, выслушав его, только плюнул в сторону с досады, махнул рукой: «Иди, мол, не до тебя, слышал, чай, государь во дворце помирает».
3 декабря ночью Василий Иванович умер. Елена Васильевна безутешно плакала; около гроба, насупившись, сидел трехлетний наследник Иван.
Когда Елене донесли про Казань, она тихо ответила: «Бог с ней, с Казанью».
Верный союзнической просьбе Юсуфа, крымский хан Саип-Гирей незадолго до смерти Василия пошел на Рязанские земли, но был отброшен русскими. Думали, что крымцы домой уйдут, но ошиблись. Саип-Гирей повернул войско на Казань. С ним ехали Сафа-Гирей да Кучак-мурза.
Не быть тебе, Казань, неподвластной.
Аказ с Топейкой и Мамлеем живут в русском селе у частного вотчинника Гришки Хлудова. Сунулись было в родные края, да пришлось податься обратно. Встретили земляков из Нуженала, а те рассказали им, что нижегородский воевода дважды посылал в илем своих стражников, которые допытывались про Аказа, Топейку и про какого-то русского парня.
Пришлось подаваться обратно. В вотчине Хлудова им сразу понравилось: кругом леса, глушь, царские слуги сюда и носа не кажут.
Весна в этом году с приходом что-то задержалась: уж русские святую Евдокию отпраздновали, а на улицах сугробы как были, так и остались.
Аказ с Топейкой промышляют Гришке зверя, стерегут его лес. Но обоих мучит тоска по родным местам, и уж с зимы решено: как только просохнут дороги, идти в Нуженал.
Ш
Однажды ушли они на охоту далеко от села, заблудились и вышли к реке Суре. За ней лежали земли чувашей, а там, дальше, их родные леса. Сели на берегу отдохнуть и вдруг на той стороне услышали песню. Ее пела, видимо, чувашка, но напев до боли в сердце был близким и знакомым. Песня лилась тоскливо и заунывно, мелодия ее местами пыталась подняться ввысь, но оттого, что она была тяжела и тягуча, ей не удавалось оторваться от земли, и печальные звуки гасли, поглощенные сырым снегом.
Аказ взглянул на Топейку и увидел в его глазах слезы. В душе всколыхнулась тоска, он понял, что больше ждать невмоготу. Молча кивнул в сторону другого берега, Топейка понял все без слов. Поднявшись, подал Аказу руку, помог ему встать, и оба осторожно ступили на мокрый лед Суры.
Начался долгий и тяжкий путь на родину. Днем идти было нельзя — в лесу снег был рыхлый и глубокий, друзья проваливались чуть не по пояс. Ночью морозцем схватывало верхний сырой слой, и они шли по насту, обходя болота и овраги. Днем жгли костры, сушили обувь и одежду, отдыхали. Кормились охотой. В середине апреля дошли до усадьбы чувашина Магмета Бузубова, с которым в молодые годы Аказ был в большой дружбе. От дома Магметки до Нуженала оставались сутки ходьбы.
Земли Магметки Бузубова бок о бок с Аказовыми. Почти половина чувашской стороны под Магметкиной рукой. Чуваши так же, как и черемисы, от казанцев лихо терпели, гнетом тяготились. Магмет Бузубов встретил друзей радостно. Чувашам такой сосед, как Мырзанай, тоже был не нужен. Раньше, при Туге, если казанцы появлялись на черемисской стороне, чуваши сразу об этом узнавали и, кого нужно, прятали. А теперь этот казанский блюдолиз, мало того, что тайно мурзаков встретит, так еще их же на чувашей науськивает.
Послали за Ковяжем, дали знать о приезде брата на Луговую сторону — Янгину. Решили собраться вместе, а потом уж и действовать.
Магмет съездил на Нужу и Юнгу, но вернулся с неутешными вестями. Мырзанай держит около себя сотню татар, сторонников Туги раскидал по дальним илемам, Аптулата из картов выставил.
Мамлея чувашин утешил: дочь муллы его ждет.
Спустя неделю появился Ковяж, через три дня приехал Янгин.
Посоветовавшись, решили ждать агавайрема — праздника сохи. В эту пору в Нуженале все старейшины соберутся, все люди округа молиться в кюсото придут.
Вот тогда можно смело в Нуженал идти.
[1] Куколь — монашеский головной убор.
В ВАТАГЕ
М
икеиииу ватагу нашли с превеликими трудностями. Санька помнил слова атамана: «Жисть при царе не больно надежна.
Ежели что — беги ко мне в леса». Легко сказать «беги в леса». Раскинулись они на тыщу, а может, и более верст, где тут разбой- нички хоронятся, найди попробуй. И, главное, спросить нельзя — блаженным сочтут, а то и того хуже: поймут, что беглый.
Долго ходили-бродилн, вконец измаялись и забрели в такую глушь, что не только дорог, тропинок не стало. Подумали-погоре- вали, видят, выход один: идти в какое-то село. Царские служки поймают или нет, а в лесу уж наверняка гибель.
И вот пришли они ночью в лесное село, постучались в первое светлое окно. Ворота открыл тощий мужичонка в наброшенном на плечи рваном-прерваном зипуне. А Санька, честно говоря, в деревнях до этого не бывал, жил все по хоромам, около царя да царицы, и тут совсем испугался. В широченной избе на земляном полу— солома. На соломе в духоте и грязи лежат вперемежку теленок, ягнята и полуголые пузатые ребятишки. Хозяйка зажгла лучину, поставила светец на стол. Глядела на пришлых испуганно.
— Хлебца бы нам кусочек да кипятку,— нерешительно попросил Санька.—Деньги у нас есть. Мы уплатим.
— Иззяблись мы совсем,— добавила Ирина,— трое суток маковой росинки во рту не было.
Мужик кивнул жене, и та начала разжигать таганок. Хозяин, скинув зипун, не глядя на вошедших, сказал окая:
— По одежде глядя, вы из благородных. Прося хлеба, вы, может, не знаете, что он у нас из лебеды. Иного нет с осени. Ежели не погнушаетесь — раздевайтесь.
Уже сидя за столом и запивая кипятком вязкие, как комья глины, горьковатые куски, Санька спросил:
— Земля не родит аль што?
— Родит, отчего ей не родить,— ответил хозяин и тут же спросил:— А вас каким ветром занесло в такую даль? Из Суздаля, поди?
— Из Суздаля,— ответил Санька, радуясь тому, что сам хозяин толкнул его на ложь.
— В такую стужу да в такую даль недаром, поди, притопали?
— Суздальский боярин послал... — Санька на миг задержался, придумывая, что бы соврать дальше,— места для охоты углядеть. Боярский ловчий я...
— А женка твоя тож охотой промышляет?
— Какая женка? Ах, эта...
— Сестрой я ему прихожусь,— Ирина понимала, что не умеющий лгать Санька скоро запутается совсем, и решила сказать правду.— Добрым людям, Саня, лгать негоже. Не из Суздаля мы, а из Москвы, и не боярский ловчий он.
— Вестимо, не ловчий,— заметил мужик, как-то по-доброму ухмыльнувшись,— да и откуда им быть, коли в Суздале никакого боярина нету и все земли вокруг монастырские. Я-ить сразу понял, что вы от кого-то хоронитесь. По делу идучи, в такую глушь кто бабу с собой возьмет. Одного не пойму—уж больно далеко от Москвы махнули. Как добрались в такую половодь да и пошто в наши края? Знакомые есть али как?
— Есть,— тихо утвердил Санька.— Микеней звать. Атаман он. Не слыхали?
— Мы с разбойниками не знаемся,— хозяин помрачнел, насторожился и боле не сказал ни слова. После ужина Саньку положили на лавку, а Ирину — на печку. Несмотря на тревожность, они уснули сразу. Утром проснулись от холода. В избе хозяйка щепала лучину, чтобы растопить печку.
— Не торопитесь из-под зипунов-то. Холодно у нас. Вот печку заведу.— Хозяйка говорила без злобы, и это несколько успокоило Саньку.— Мужик мой из избы выходить вам не велел. Вечером он придет.
Ирина слезла с печки, подошла к Саньке и шепнула что-то на ухо.
— Понапрасну боитесь,— успокоила женщина,— мужик мой не доносчик. Он вам помочь обещался.
И все-таки Санька и Ирина весь день провели в тревоге. В сумерках уснули, ожидаючи хозяина. А он вернулся не один. С ним пришел в избу Микеня. Атаман посмотрел на спящего Саньку, улыбнулся во всю бороду:
— Я как услышал, что из Москвы, сразу догадался — он. Санькой его зовут,— тихо промолвил Микеша.
— Разбудить?
— Не надо. Пусть живет пока у тебя. А летом приведешь ко мне. Присмотрись пока што.
Мужик согласно кивнул головой.
Так началась для Ирины и Саньки новая жизнь. Жизнь, полная мрачных открытий. Узнали они, что их хозяин Семка Охлопков считался в деревне состоятельным мужиком. У него была кой-какая скотинка, и в лебеду он подмешивал малость мучицы. Другие жили еще хуже. Лесная земля, богатая перегноем, рожала щедро, но людей мучили постоянными поборами. Первыми приходили монахи, ибо земли эти приписаны к монастырям, и требовали свою до-
І28
лю. После- монахов появлялись боярская челядь — их надо тоже кормить. Им тоже дай, и дай немало. Не успеют сойти со двора челядинцы, глядь, появились сотники — просят воеводскую дань. Попробуй не дай — шкуру спустят до пяток. И так целую осень шарят по мужицким ларям жадные руки, а когда настанет пора монастырскому попу ругу собирать, глядь, лари у мужиков уже пусты. А впереди зима голодная, холодная. Мрут ребятишки от недо- - і о кн и от болезней, как мухи. Сутулятся мужицкие спины, сохнут, и іпнопнтси впалыми груди молодых женок — к тридцати годам, глядишь, она и старуха. Стареют избы, сползают набекрень крыши, вымаливаются углы. Починить избу мужику некогда. До середины лета он день и ночь в поле, к тому ж чуть не каждый год царь удумывает ратные походы — отрывает мужиков от дома и от земли. Так и остаются избы худыми, дворы неустроенными. И скрыться мужику от этих бед можно только в одно место — к Микене, в ватагу. Или на все время, или на сезон. Взять того же Семку Охлопкова. Весной он землю пашет, летом хлеба жнет, с ильина дня уходит в лес, вроде бы на охоту. А в самом деле в ватагу к Микене. А там, глядишь, частицу своего же хлеба, забранного челядинцами, отнимет. Или на монастырские закрома с ватажниками налетит — опять кое-что мужичонке перепадет. А что же делать? Не подыхать же с голоду. Зимой Семка дома. Лапти плетет, лебеду толчет, ездит в лес за дровами. А в лесу землянки Микени миновать никак нельзя. То разбойничкам что-нибудь нужное подбросит, то у них чем попользуется. Вот так и живет Семенко Охлопков. И не один — полдеревни так живут.
Как только стаяли снега и схлынули полые воды, Семка ночью увел Саньку и Ирину в ватагу. Там их встретили хорошо, сразу отвели отдельную земляночку. Утром Санька с Микеней пошли знакомиться с ватагой, а к Ирине пришла повариха Палата.
— Наслышана я про тебя, девка, ой, как наслышана,— заговорила Палата воркующим голосом.— Как узнала, что ты здесь появилась, сразу и прибежала. Чтоб ты не пугалась: в ватаге и бабы живут. Вот, к слову, я — шестой год с этими иродами маюсь. Палатой меня зовут, чтоб ты знала.
— Ты-то хоть как сюда попала, тетя Палата?
— Как и ты, по одной тропке. Батюшка мой, царство ему небесное, смуту в Суздале учинил. Против утеснителен народ поднял, целое лето весь град в страхе пребывал. А потом людишки батюшку предали, и ему осталось одно: либо в разбойное стремя ногою, либо в боярскую петлю головою. Вот так я с ним здесь и очутилась. Вскоре в набеге батюшка погинул, а я... осталась тут, прижилась.
— Неужто уйти отсель не можно? — тревожно спросила Ирина.
129
— Здесь силой не держат. А я, чтоб ты знала, своей волей
9 Марш Акпарса
здесь живу. Из-за жалости. Уйди я из ватаги, они, нечестивцы, с голоду передохнут, кто им шти сварит, кто хлеба испечет. Да их, грязнорылых, вши без меня съедят. Кто им исподники выстирает, кто гасники пришьет.
— Часом, не обижают они тебя? Ну... по нашему... женскому...
— Пробовали,— простодушно ответила Палата.— Да ведь у меня в руках железный черпак. Одного благословила — до сих пор рубец во всю рожу. С тех пор чтут меня, как игуменью какую- нибудь. Тебя тоже в обиду не дам.
— Да как же ты не боишься их? Ведь разбойники?
— Кто разбойники?! Это мои-то обормоты разбойники? Тьфу! Да это самые что ни есть захудалые мужики. Может, они там, на дорогах, злодеи, а здесь ватажники—и вся недолга. И бояться их нечего...
Микеня и Санька вышли из землянки. Санька огляделся: лес кругом поредел, на пригорке вырыто сотни полторы землянок, разбросаны по берегу речки легкие шалаши, понастроены коновязи, навесы, клети.
— Ты посмотри,— говорил Микеня гордо,— как у князя в вотчине, все есть: и кузня, и шорня, и швальня, и кладовые. Мельницы пока нету, да она вроде и не нужна: местные мужичишки, было бы зерно, что хочешь, перемелют и доставят в целости.
— Что за люди у тебя, скажи? Откуда они?
— Разбойниками нас зовут. А ты погляди: какие мы разбойники? Свое кровное отнимать не успеваем, не токмо чужое брать. К примеру такой случай возьмем: пограбили мы прошлой осенью монастырские кладовые. Не скрою — еды взяли много. Зиму могли жить бы сыто. Но спустя неделю появились у нас мужики из того монастырского прихода, чуть не сотня человек. Их монахи начисто обобрали — нам же их всю зиму пришлось кормить. Кушаки подтянуть пришлось. Или опять же в минулом году случилось. Отбили мы у боярских челядинцев обоз. Триста подвод в лес увели. Челядинцы, вестимо, испугавшись, утекли. Но не к боярину. Они, сучьи дети, снова пошли по деревням, а отнятое нами снова наверстали, и пришлось нам мужиков тех деревень подкармливать. Вот и посуди теперь — разбойники мы али нет!
Оглядев Микенины владения, снова вернулись в землянку. Атаман спросил:
— Ко мне в гости аль на постоянное житье?
— Погляжу,— ответил Санька.— Думается мне, плохой из меня ватажник выйдет. Да и не один я.
— Приютите нас на время,— сказала Ирина.— Оставаться у вас насовсем нам не с руки. Какая бы ни была Санина вина перед государем — пройдет время, забудется. В Москве у нас бабушка старая осталась. О ней подумать надо.
— Н-да,—сказал атаман, подумав немного,— в ваших словах резон есть. Мне и самому надоело это бродяжье житье. Только не зря говорят: старую собаку не приучить ошейник носить. А что касаемо вас — поживите вы у меня недельку-другую, отогрейтесь на солнышке, да и ступайте в один монастырь, какой я укажу. Скрыть нас там не скроют, но место, где безвестно прожить можно, укажут.
На том и порешили. Как только просохли лесные дороги, Санька подался к заволжским старцам. Рассказал ему Микеня, что старцы те проповедуют новое монашеское бытие—скитскую жизнь. Будто принимают они к себе всякого, кто хочет замолить свои грехи, будь то убийца или любой беглый человек, властям не выдают и посылают по одному, по два в глухомань и велят строить там скит и жить в великой строгости, простоте да в молитвах.
Ирине с Санькой к монашеской жизни не привыкать. Все детство провели в монастыре. И они пошли к старцам. В самый далекий Разнежьевский монастырь добрались только осенью. Здесь их приняли хорошо, продержали зиму, а весной игумен вывел за ворота, указал перстом на север — и снова зашагали они вдаль. По пути попадались одинокие скиты, отшельники, живущие в них, уговаривали остаться и строить скит по-соседству, но Санька стремился все дальше.
Около трех небольших озер Санька остановился и начал рубить скит. Эти работы заняли все лето. Пока Санька строил жилье, Ирина делала запасы на зиму: сушила грибы, мочила клюкву, бруснику и прочие ягоды, собирала орехи. Зиму пережили неплохо: Санька ставил капканы, ловил в озерах рыбу просто так, руками. Прорубал лед, и рыба лезла к отдушинам — только успевай выбрасывать. А потом наступило второе скитское лето. Так и прошел еще один год...
ДЕНЬ АГАВАЙРЕМА
Мырзанай за последний год страху натерпелся немало. Стало известно, что новый хан молод, дела государства его жена в руки взяла. И будто порядки, которые Мырзанай в Горной стороне запел, ей не по душе. Будто хочет она передать весь край Аказу, чтобы он вместе с Эрви правил всем правобережьем. «Если так будет,— думал Мырзанай,— мне совсем жить станет трудно. Аказ приедет, земли свои отберет, дом, который он, Мырзанай, в Нуженале построил, отберет». А дом строить Мырзанай сгонял людей со всего лужая, поставил большую избу, да малую избу, два амбара, клети, хлевы, ограду из горбыльного частокола. Жалко из такого двора уходить. Эрви приедет, земли Боранчея отберет, за то что ее отца разорил — мстить будет.
Вдруг радостная весть: хан Беналей умер, вместо него теперь опять Сафа-Гирей на трон казанский сел. Сказали, что мурза Кунчак снова в Казань приехал. Мырзанай сразу послал в Казань сына Пакмана. Он теперь повзрослел, вроде бы поумнел, правит землями, которые спервоначалу у отца были. Пакман вернулся из Казани и снова огорчил Мырзаная. Хитрая Сююмбике сразу же сумела обольстить Сафу-Гирея, стала его четвертой женой, и слушается он ее во всем. И царица по-прежнему ждет возвращения Аказа, хочет отпустить к нему Эрви и отдать весь Горный край им. И будто бы у нее есть вести, что Аказ из Москвы убежал и скоро должен появиться тут. Все это Пакману мурза сказал и велел в Казань приезжать самому Мырзанаю.
— Ты знаешь, что Аказ из Москвы убежал? — спросил мурза у прибывшего к нему Мырзаная.
— Слышал.
— Что стражники царя его всюду ищут?
— Может, поймали? Убежал он еще зимой, а сейчас лета начало.
— Не о том думаешь. Царица мне сказала: «Аказ теперь Москве враг, ему путь туда отрезан. Лучше, чем он, Большого лужавуя не найти. Он смел, умен и нам будет верен». И как только появится— тебе каюк! Я тебя защитить не смогу — хан во всем не меня, а Сююмбике слушается.
— Что мне делать?
— Глядеть во все глаза! Спишь много, жрешь много! Людей озлобил, жадничаешь. Что под своим носом делается, не знаешь. Аказ давно у Магметки-чувашина живет, братьев около себя собрал, друзей. Это ты мне об этом должен рассказать, а не я тебе!
— Прости, могучий. Я все узнаю.
— Знать мало! Дело надо делать. И по-умному. У царицы рука маленькая, нежная, а возьмет за горло — и пикнуть не успеешь.
— Повелевай, могучий, я сделаю все.
— Ты знаешь, что сын мой Алим недалеко от тебя живет?
— И не слышал.
— О аллах! Он ничего не знает! Хан Сафа отослал его из Казани, теперь он у луговых черемис в Кокшамарах. Переплыви через Волгу — и ты у него. Пошли во все стороны верных людей, пусть Аказа выследят. Как только найдешь — зови Алима. Самому тебе с Аказом не справиться. Подкараульте, убейте, и пусти слух, что русские настигли Аказа.
— Братьев тоже надо убить!—крикнул Мырзанай.
— Глупец! Аказа убрать надо тайно. Если братьев убьешь — дураку будет ясно, что это твоя работа. Царицу не обманешь. С Алимом сам иди — на него я не очень надеюсь. Есть причина... Боранчею земли его верни. Помни: его дочь — подруга Сююмбике.
Аптулата снова Большим картом сделай — без Аказа он не страшен будет. Ковяжа зачем выгнал? Жадность свою умерь. Ведь он зять твой — дай ему хороший лужай. Пусть люди видят, что ты добрый, справедливый...
— Все сделаю, как велишь.
— Поживем — увидим. Когда я здесь укреплюсь, всех на свои места поставим. Время не теряй — сегодня же домой скачи.
Приехал Мырзанай в Нуженал, а там новость: Аказ с братьями и Мамлеем перебрался в Кендаров улус, и жувут гам тайно.
Пакман тотчас же был послан за Алимом, а сам Мырзанай поехал к мулле Кендару. Сразу начал разговор с дела:
— Был я, святой отец, в Казани. Там большие перемены волею царицы Сююмбике. Вина с тебя и Мамлея снята, мне велено передать, чтобы ты дочь свою, если она не раздумала, отдал Мамлею, а мурза Кучак ему денег послал. Вот они.— И Мырзанай положил на стол кошелек с серебром.
Мулла хитрость Мырзанаеву разгадал, сказал смиренно:
— Хвала аллаху, что сердце царицы смилостивилось, но Мамлей давно из улуса ушел, и говорить о свадьбе рано. Деньги пока возьми себе, как Мамлей вернется — отдашь.
Мырзанай тоже хитер. Он с муллой говорит, а сам на его дочь Асею поглядывает. А у девки глаза веселые, когда про свадьбу заговорили, вспыхнула, лицо румянцем покрылось. Если бы Мамлея не было в улусе, печальная бы сидела.
— О свадьбе ты как хочешь думай,— сказал Мырзанай,—Мое дело — волю царицы передать.
Уезжая из улуса, он тайно людей своих оставил.
Улус не город. Здесь одного человека прятать трудно, а пятерых тем более. Через день Мырзанаю донесли: Аказ с братьями в улусе. Еще через день приехал Алим с сотней джигитов, прихватил Мырзаная и Пакмана, и все поскакали в улус. С Алимом приехал старый слуга Кучака — Хайрулла. Он уже был здесь с мурзой когда-то, теперь к его сыну приставлен. С Кендаром начал говорить:
— Ты, святой отец, Аказа Тугаева знал ли?
— Сосед наш,— ответил мулла.— Но, говорят, он в Москве, в плену.
— Не в плену. Он там русскому царю служил, а теперь послан сюда народ мутить, подбивать людей против хана. Его велено нам изловить.
— Я тут при чем. У нас он не был.
— Ты, может, не знаешь. Говорят, Мамлей его сюда привел и все они здесь прячутся.
— Мырзанай сказал: Мамлею вина отпущена. Зачем ему прятаться!
— Мамлею, но не Аказу! Чтобы снова на тебя гнева не было, выдай Аказа.
— Я его не видел.
— Мы ведь искать будем.
— Ищите.
— Ай-ай, мулла, а Коран не чтит. В Несомненной книге сказано: «Сражайтесь за дело аллаха, он избрал вас, назвал мусульманами». А ты прячешь гяура, изменника.
— Ты неправ, почтенный. Мои люди следуют Корану, исправно молятся аллаху, постятся, ходят в Мекку и суд вершат по шариату. И если...
— Не ври, мулла!—крикнул Алим.— Я знаю: прошлый раз ты прятал Аказа в мечети. Сейчас мы пойдем туда. Искать!
— Не горячись, господин. Ни один мулла не пустит в обитель аллаха нечестивцев.
— А я верю: они и сейчас там! Давай ключи.
— Бери!—Кендар бросил ключи от мечети на стол.—Но помни, Алим, сын Кучаков, что в храм люди ходят молиться, а не шарить по углам. В мечети есть место, куда кроме муллы никто не может входить. Если ты нарушишь этот закон и осквернишь святое место, мечеть придется разрушить и строить на другом месте. Я донесу об этом святому сеиту, а он, ты знаешь, из колена пророка Мухаммеда, земная тень аллаха. И тебя не помилуют.
— Если найдем там этого черемисина, не мне, а тебе снесут голову!— Алим схватил ключи и вышел на улицу. Хайрулла—за ним.
На ступеньках у входа в мечеть Хайрулла остановил Алима:
— Прошу тебя, не поступай опрометчиво, господин мой. Я знаю почему Сафа-Гирей отослал тебя из Казани. И ты сам это знаешь. Теперь один твой неверный шаг—и хан уничтожит тебя.
— Но хан велел нам убить Аказа!
— Ты уверен, что это приказ хана? Не затем я вез сюда свою седую бороду, чтобы погубить себя и тебя. Твой отец тоже когда- то не послушал меня и навлек на себя гнев Сююмбике. Если и ты...
— Думаешь, что этот приказ не от хана?
— Уверен в этом. Сафа-Гирей, да продлится жизнь его в обоих мирах, во всем послушен Сююмбике. А она хочет поставить Аказа во главе горных черемис.
— Кто же хочет смерти Аказа?
— Твой отец.
— Почему?!
— Он любит Эрви и не хочет, чтобы она ушла из Казани.
— Он забыл о ней.
— Мурза упрям.Он как-то сказал недавно: «Еще не родилась та женщина, которая ушла бы от меня». Разве ты хочешь, чтобы и Эрви стала его женой?
— Об этом я не подумал. Но уйти отсюда ни с чем... Я тоже упрям!
— Зачем тебе лезть в мечеть? Если Аказ там—его не взять живым. Прольется кровь, и, мулла прав, сеит узнает об этом.
— Как же быть?
— Давай будем искать Аказа в лесу. Здесь оставим Мырзаная и его людей. Пусть они обложат мечеть кругом и караулят. Аказ все равно выйдет, не век же сидеть ему в мечети без хлеба и воды. И вот тогда...
— Этот глупый боров проспит Аказа!
— А ты отдай ему ключи. Пусть осквернение храма будет его виной.
— Ты, старик, поистине мудр. Эй, Мырзанай!
Мырзанай подскочил к Алиму.
— Я иду искать Аказа в лесу. Ты со своими людьми окружи храм, и чтобы ни одна мышь не ушла из него. Понял?
— Сделаю.
— Вот тебе ключ. Если узнаешь, что Аказ там, выпусти его, поймай и жди меня. В мечеть не входи — нельзя.
Весь день и вечер Мырзанай, Пакман и с ним двенадцать его приспешников охраняли мечеть, следили за домом муллы и домом Мамлея. Конники Алима рыскали по лесам и дорогам вокруг улуса. После полуночи у Мырзаная появился Хайрулла.
— Ну как?— спросил он, кивнув на мечеть.
— Все тихо,—шепотом ответил Мырзанай.
— Сердцем чую: они там. Кендар не подходил?
— Спит,—ответил Пакман.
— Вы знаете, почему Алим не пошел в мечеть?
-— Говорят, нельзя. Коран не велит.
— Плевал он на Коран. Алим не хочет смерти Аказа.
— Как это так?
— Все просто. Если Аказа не будет, Эрви останется в Казани. Мурза может взять ее в жены. Алиму это невыгодно... Ты сам понимаешь, почему.
— Понимаю. Что же делать?
— Если Кендар спит, если весь улус спит, надо войти в мечеть и все там обыскать. Ключи у тебя?
— У меня... Но если узнают?
— Ты войдешь туда со своими людьми, я закрою мечеть на замок и подожду вас. Если преступники там, вы задушите их, поднимете на балкон минарета и сбросите вниз. Тихо выйдете, и утром все узнают, что Аказа и его братьев наказал аллах, выбросив осквернителей из священного места. И никто, даже Кендар, не будет виноват в этом.
— Надо подумать.
— Что думать,—зашептал Пакман.— Упустим этот случай — нам конец.
— А вдруг их там нет?
— Ну и что же,—сказал Хайрулла.—Я выпущу вас, и мы снова закроем мечеть. Только не мешкайте там.
И Мырзанай решился. Хайрулла тихо открыл замок и впустил в мечеть Мырзаная, Пакмана и с ним еще двенадцать человек. Дверь закрылась, щелкнул ключ в замке, и Хайрулла стал ждать.
Внутренность мечети невелика, слабо освещена через единственное зарешеченное окно лунным светом. Мырзанай заглянул в нишу, где на подставке лежал раскрытый Коран, пошарил под кафедрой, с которой мулла проповеди произносил, Пакман осмотрел небольшой подвальчик. Остальные испуганно толпились около двери. Оставалось осмотреть минарет. Туда по узкому проходу вела винтовая лестница. Подниматься на балкон минарета можно было только по одному. Никто не решался встать на ступеньки лестницы первым. Мырзанай толкнул одного парня в плечо, строго сказал: «Иди». Парень испуганно замотал головой, прижался к двери. Кричать и спорить было некогда, и Мырзанай дрожащими руками начал вынимать из-за пояса нож. Если бы он точно знал, что на балконе Аказ, он не решился бы. Была надежда, что там пусто, и он ступил на первую ступеньку. Пакман двинулся за ним...
...Хайрулла стоял около входа и напряженно смотрел на минарет. Вдруг на балкончике послышалась какая-то возня, решетка, окружавшая его, заскрипела, что-то мелькнуло в бледном свете луны, и раздался истошный вопль Мырзаная. Тяжелое тело глухо стукнулось о черепичную крышу, внутри мечети послышался грохот сбегающих по лестнице людей. Хайрулла повернул ключ в замке, распахнул дверь и бросился бежать. Через минуту из мечети выскочили люди и разбежались по сторонам.
На рассвете жители улуса услышали, как обычно, распевный голос муллы, призывающего к утренней молитве:
Велик аллах! Велик аллах! Ля иллья, ахм иль алла1
Приходите молиться, на молитву вставайте.
Следуйте к счастью—молитва полезнее сна.
Пролом в черепичной крыше был заделан, и ничего не говорило о смерти человека около обители аллаха.
Тело Мырзаная нашли далеко от улуса, на лесной тропке около оврага.
Алим и Хайрулла уехали в Кокшамары, и мало кто знал, что они были в Горной стороне. Пакман о событиях страшной ночи
никому не сказал ни слова. Мырзаная провезли мимо Нуженала и похоронили в родном илеме.
Через день в усадьбе Туги загорелась изба. Пакман, похоронив отца, приехал за сестрой, забрал все имущество и поджег сам. Сгореть избе не дали, пожар быстро потушили. Вскоре на дворе появились Аказ, Ковяж, Янгин и Топейка. Весть об их приезде сразу разлетелась по илемам, до вечера у братьев перебывали все жители Нуженала, а утром приехали из своих лужаев Сарвай и Эшпай. Приезду Аказа рады были все. Даже и те, кто раньше упрекал парня за горячность.
Мырзанай до своей гибели успел выполнить все советы мурзы. Сделал картом Аптулата, вернул Боранчею его усадбу, земли и даже послал хорошего знахаря, чтобы тот полечил старика. Знахарь, правда, ничем не помог больному, Боранчей совсем одряхлел, с ним часто случались припадки безумия, после которых он долго лежал без движения.
Сарвай и Эшпай приехали к Аказу ненадолго. Рассиживаться было некогда: земля ждала пашни, нужно было готовить лошадей, сохи, бороны и семена. Нужно было по-настоящему провести агавайрем, избрать Большого лужавуя, договориться обо всем загодя...
— Говорят, Алим тебя ловить приезжал?—спросил Сарвай.
— Говорят,— уклончиво ответил Аказ.
— Скоро снова приедут?
— Наверно, приедут.
— Мы тебя на агавайреме Большим лужавуем хотим сделать. После этого тронуть тебя не посмеют. Согласен ли ты?
— Если все старейшины скажут, согласен. Только потом в разные стороны пусть не глядят. Пусть слушаются меня.
— Будут слушаться,— заверил Эшпай.— Если кто предавать будет, прижмем.
— На праздник сохи большое моленье надо сделать,—сказал Аптулат.— Со всей Горной стороны людей надо позвать. Тогда все будут знать, как мы жить хотим.
Все с Аптулатом согласились и, поговорив о жертвоприношениях на молении, о других неотложных делах, разъехались по домам.
До агавайрема всего одна неделя осталась.
Утро праздника сохи выдалось по-весеннему теплым и солнечным. Около священной рощи, как зимой, белым-бело. Разную одежду носит человек в будни, но на праздник обязательно наденет все белое. Если шовыр — то как снег, если рубашка — как лебяжье перо, а штаны — цвета инея. Даже кафтан — и тот из белого сукна. Потому и белым-бело около кюсото. Пришло сюда со всея краев множество народа. Сотни костров горят, сотни котлов кипят—жертвенное мясо варится.
По левую сторону рощи — широкое поле. Осторожно обходят это поле люди: здесь стоят лошади, запряженные в сохи, здесь первую борозду проводить будут. Сохи пылают: на каждом — свечи. Все, кто хочет получить урожай, жертвуют свечу восковую.
Лошади — в ярких цветных лоскутках.
Мало-помалу затухают костры. Мясо сварилось, принесены жертвы всем богам, пора начинать пиршество, пора первую борозду делить. Встали около сох карты, сзади них стоят толпой люди, ждут, когда Аптулат молитву скажет.
— Юмо великий и добрый!— восклицает Аптулат, и толпа вторит ему:
— Юмо великий и добрый!
— Когда наступит время весенних работ, о юмо великий и добрый, когда мы, вышедши в поле работать, распахавши, посеем по зернышку, юмо великий и добрый, корни их сделай широкими, стебли крепкими, колосья их, подобно серебряным пуговицам, сделай полными, о юмо великий и добрый!
— Великий и добрый!—эхом вторят вокруг.
— Посеянному хлебу дай теплые дожди, ночную тишину, от холода и града, от бурь и ветров сохрани. Засуху жаркую не пошли, о великий и добрый!..
Аптулат взялся за ручки сохи, и все люди пали на колени. Тронулись лошади — и десятки темных борозд легли вдоль поля.
Снова звучит молитва.
— Когда выпустим скотину, великий наш юмо, сохрани ее от вредных ветров, от глубоких оврагов, от сосущей грязи-тины, от худого глаза и языка, от портящего колдуна, от волков, от медведей и всех хищных зверей, о юмо великий и добрый!
— О добрый!..
— Бесплодный скот сделай плодовитым, тощий сделай жирным, пастбища сделай привольными, всякий скот расплоди. Юмо великий и добрый, всякою скотиной обрадуй нас!
— Обрадуй нас!..
— А теперь с великим юмо вместе жертвы наши разделим, — произнес карт, указывая в сторону рощи.
И началось пиршество.
А когда опустели котлы с мясом, бураки с пивом и когда сгорели свечи, на вершине высокого холма призывно зарокотал барабан. Люди поднимались и шли к холму, садились вокруг вершины, и скоро все были в сборе. Все знали, что сегодня будут избирать лужавуя и главой Горной стороны будет Аказ Тугаев. Вдруг к Эшпаю подбежал Янгин.
— Посмотри туда: шайтан Пакмана принес, и с ним —Атлаш.
— Ну и что? Их тоже звали: Атлаш — старейшина, Пакман — лужавуй.
Лтлаш и Пакман пробрались на вершину холма, присоединились к старейшинам. Атлаш обратился к Аптулату:
— Дай мне сказать сначала.
— Успеешь.
— Я приказ царицы Казани привез.
— Казань нам лужавуев не дает. Мы сами...
— Я о том и хочу сказать.
— Пусть говорит,— заметил Аказ.— Мы узнаем, что хочет Казань, потом свое слово скажем. Говори, Атлаш.
— Люди лесов и гор! Мужчины!—Атлаш поднял руку, и все притихли.— Я только что из Казани, потому и опоздал на моление. Ходил я туда, чтобы рассказать о смерти Мырзыная. Царица Казани, несравненная Сююмбике, спросила меня: «Кто теперь Горный край сможет держать в повиновении, кто верой-правдой будет служить Сафе-Гирею?» И я ответил блистательной царице: «Только один человек может — Аказ Тугаев. Он, я сказал, теперь Москве большой недруг, его теперь от русских защитить надо». И Сююмбике сказала, что Сафа-Гирей Аказу защитой будет. И шлет ему хан свою саблю и званье бея и велит, если народ на то согласен, сделать его главой всей Горной стороны. Я все сказал.
Никто не ожидал от Атлаша таких слов, да и сам Аказ не мог предположить, что хитрый Атлаш так повернет свою речь. Теперь выходит, что Аказу деваться некуда. И выходит, что ярый недруг Аказа Атлаш сам предложил его в Большие лужавуи. «Это, конечно, хитрость не Атлаша, это Сююмбике его к своим рукам прибрать задумала. «Ну подожди, Атлаш,— подумал Аказ, поднимаясь на вершину холма,— я тебя сейчас обрадую». Он встал перед старейшинами, люди, зашумевшие при последних словах Атлаша, умолкли.
— Много лет я не видел вас, родные мои, и говорю вам: «Здравствуйте!»
— Будь здоров, Аказ!
— Живи сто лет!
— Старейшины просили меня принять тамгу Большого лужа- вуя, и я им дал согласие. А вы хотите ли?
— Тебя хотим, Аказ!
— Ты достойный сын Туги!
— Бери тамгу!
На вершину выскочил Сарвай и крикнул:
— Кто хочет Аказа — встаньте!
Как море, колыхнулась толпа, вставая.
— Спасибо за честь,— сказал Аказ и поклонился народу.
Сарвай выхватил из рук Атлаша саблю, поднес Аказу.
— Прости меня, старый Сарвай, но саблю я не приму. И званье бея не приму тоже. Мы Казани слово дали платить ясак и не
заводить свое войско. И скажите мне: разве мы не платим ясак?
— Платим!!
— Разве мы имеем войско?
— Нет войска!
— Стало быть, мы держим свое слово, и Казань пусть не притесняет нас. Под сапогом хана быть не хотим. Может, кто не так думает?
— Так думаем!
— Все так думаем!
— Все-е-е!
— А теперь гуляйте, песни пойте, пляшите. Пусть праздник сохи будет веселым!—сказал Аказ и спустился с холма.
К нему подошел Атлаш и, пожав руку, шепнул на ухо:
— Скоро жди гостью. Сююмбике сказала, что Эрви отпустит домой. Она сохранила ее для тебя, подругой своей сделала.
Аказ ничего не ответил, спустился вниз. Прошел мимо Пакмана, тот гневно сверкнул глазами, отвернулся.
На другой день Аказ снова собрал старейшин. Сказал им:
— У моего отца лужай небольшой был, и то забот ему хватало, а теперь вон сколько земли прибавилось. Надумал я три лужая создать.
— Я вот что хочу сказать вам,— как бы в лад Аказу произнес Атлаш.— Когда-то лужаи совсем маленькие были у нас. И то управлять ими было нелегко. А теперь мы на Аказа какую ношу взвалили! Сколько лужаев под его руку отдали! Теперь ему самому землю пахать будет некогда, скотину выхаживать как успеть? Теперь ему помогать надо. Подумайте как?
Молчат старики, поглядывают на богачей: что они скажут? А те уж обдумали давно, как с Аказом говорить.
— Принял ты званье бея или не принял — ты все равно бей,— сказал Атлаш.— И потому порядки бейские заводить надо. Дань с людей брать: хлебом, мясом, работой. Хорошо ли будет, если наш Большой лужавуй сам землю пахать будет, коров пасти, дом себе делать! Нехорошо! Ему о лужае думать будет некогда. Надо зерно Акубею давать, мясо давать, людей посылать, чтобы кудо новое построить, девок пригнать, чтобы коноплю толкли. Да мало ли на что ему работники понадобятся? Правильно я говорю старики?
Старики согласно кивают головами. Атлаш ухмыляется и думает про себя: «Раньше Аказ бедных защищал. Теперь его самого на их спину посадим. На лужавуя глядя, и мы бейские порядки заведем. Хорошо будем жить, хорошо!»
Аказ сказал старикам:
— Не о дани сейчас речь. А земли у меня, верно,— много. Если обрабатывать ее поможете, спасибо скажу. И дом новый построить
гоже, пожалуй, надо. Когда уедете отсюда, от каждого илема людей пришлите.
Через неделю пришло в Нуженал много плотников.
Сперва Аказ велел им рубить срубы, потом ставить эти срубы на мох, чтобы меж бревен не оставалось ни единой щелки. Этому научился он у русских.
Сделали избу с сенями, с крыльцом, с полами, полатями и по толками. На окна натянули бычьи пузыри. Потом вокруг двора отгрохали из толстенных бревен забор с башенками и дубовыми воротами на глухом запоре.
В середине лета плотники разошлись по домам, и Аказ надеялся, что скоро они вернутся, чтобы построить еще клети да амбары.
Однако ошибся. Многие пришли домой, топоры забросили взяли лук, стрелы и мотанули в лес. Между севом и жатвой в лесу побывать надо, тут до топоров ли?
Первое время Аказ на Горной стороне порядки наводил. Ждал Эрви, но она почему-то все не ехала. Янгина отпустил в Боранчеев илем, велел там строить дом, глядеть за стариком, помогать ему в делах, Ковяжу тоже выделил округ на реке Цивили. велел расширять его, расчищать от леса землю, сеять больше зерна. Других хозяев этому учил, говорил, что теперь одной охотой не проживешь, настанет такое время, когда сила и довольство будут у тех, у кого хлеб. Нашел мастеров гончарного дела, возродил былое ремесло, каким промышляли его дед и прадед. Завел среди мордвы знакомства, привез оттуда кузнецов хороших, плотников.
Перед жатвой оставил в доме Топейку, оседлал коня и сказал, что едет на охоту.
А сам поехал к старейшинам, которым больше всего доверял, советоваться. Всюду говорил одно и то же: как бы отпор казанцам дать.
Старейшины подолгу гладили бороды, думали. Но ничего придумать не могли. Чтобы с казанцами говорить смело, одной отваги мало. Надо оружие иметь, надо войско иметь, надо всем дружными быть. А у них, кроме ножей и стрел, ничего нет, да и старейшины не все в одну дудку дудят.
Аказ слушал каждого старейшину, потом осторожно спрашивал: нельзя ли с русскими дружбу завести, у них от казанцев защиты просить?
Старейшины переставали гладить бороды и говорили: «Надо подумать».
Аказ знал, когда старик говорит: «Надо подумать»,— это значит, думать он будет год.
Вернулся Аказ от старейшин невеселый. Думал, зря съездил. Но шло время — заговорил горный народ о русских, о Москве, и
побежали во все стороны слухи, что скоро придет на правый берег Волги рать царя, чтобы народ от мурзаков крымских и казанских защитить...
Лето вступило в свои права. Тепло в Нунжуейале. Около Аказова двора песня звучит:
Приподнявши коромысло.
Из-за леса солнце вышло.
Разливает всем тепло —
И лучисто, и светло!
Это опять Топейка поет. Парень без песни не может жить: что видит, о том и поет. Это когда ему весело. А когда грустно, о думах своих поет. Иногда сядет на траву и давай в песне жаловаться на судьбу. «Идут года, поет, скоро будет тридцать, а у Топейки ничего нет. Дома у него нет, жены тоже нет, земли своей нет. Куда бы ни пришел Топейка — бедность за ним тащится. Сначала от мурзы нужду терпел. Пришел на правый берег Волги— на Боранчея работать пришлось. Потом жил у Туги — тоже радости мало. Сейчас Аказ большим другом ему стал, а все равно— хозяин. Как же бедному Топейке свой дом заиметь, свою землю, и хорошо ли искать ему жену, если хозяин старше его, и то не женат. Время придет — будет у Топейки подруга, будет дом, будет своя соха. А сейчас есть песня, и это совсем не мало» Так пел Топейка вчера. Грустно немного пел. А сегодня он идет по утренней росе, видит солнце и поет про солнце.
Подошел Топейка ко двору, слышит там много голосов. Опять к Аку кто-нибудь приехал, снова беседа идет. Открыл Топейка ворота—так и есть, снова гость у Аказа: Магметка Безубов приехал. Янгин сидит, копье делает, сам Аказ саблю точит. Топейка вошел, сказал всем «салам», уселся на обрубок, давай слушать. У Аказа с Магметом большой разговор идет: как своими лужаями управлять, кого больше слушаться— тех, кто старше, или тех, кто побогаче? Спорят лужавуи мало-мало.
— Нам по одной дороге идти надо,— говорит Бузубов,— друг с другом советоваться. Вот я к тебе и приехал. Ты, говорят, в сторону Москвы глядеть надумал? А мне что делать? Может, и об этом ты только один знаешь и думаешь?—в голосе Магметки звучала обида.
— Надумал,— тихо ответил Аказ и потрогал пальцем лезвие сабли.
— Не мешало бы со мной поговорить. Наши земли по соседству. Если ты на Москву будешь глядеть, а я на Казань, у нас ничего хорошего не будет.
— Гляди и ты на Москву, никто тебе не мешает,— сказал Янгин,— чуваши от мурзаков не меньше зла терпят. Вот и думай. Ты сам себе лучший советчик.
— Молод ты, мало знаешь,— заметил Бузубов Янгину и, обращаясь к Аказу, добавил: — Прежде, чем Москве поклониться, ним надо уважаемых людей спросить.
— Если их советов слушать,— сказал Аказ,— всю жизнь у мурзы под сапогом просидишь. И у нас и у вас уважаемых людей казанцы не больно обижают потому, что они все богаты и с ними торговлю ведут.
— Ты так говоришь, будто сам бедняк,— заметил Бузубов.— Люди потому нас с тобой и слушаются, что мы богаче и сильнее их. Потому над собой поставили, чтобы им богатеть помогали.
— А беднякам, по-твоему, пропадать?—крикнул Топейка.
— Не в свое дело лезешь!—оборвал его Бузубов.
— Как это — не мое дело? Аказ правильно надумал, а ты его отговаривать приехал!
— Замолчи, Топейка,— сказал Аказ.— Мы с Магметом сами договоримся.
Топейка плюнул и, обиженный, выскочил со двора. Когда, успокоившись, вернулся, лужавуи про Москву уже не говорили. Пошли другие разговоры, а про Топейку и забыли вовсе. Как будто его и не было. Обидно Топейке. Он вступил в разговор:
— Вот мы с Аказом в Москве однажды...
— Ты подожди, Топейка. Пусть Аказ сам расскажет. Долго его дома не было, вот, наверно, повидал всего.
— Да-а, много видел, многому научился. На свете много умных людей.
— Ты, я думаю, больше у глупых учился,— с насмешкой сказал Янгин.
— Почему ты так думаешь?
— Умные люди женятся, а ты бороду нажил, а все не женат. Из-за тебя и я холостым хожу. Хорошо ли приводить невесту, если старший брат одинок.
— Мне сейчас не до этого — дел много. Сам знаешь, весь наш край — моей голове забота,— серьезно ответил Аказ.
Аказ отложил саблю, задумался. Потом взял гусли, стоявшие рядом, положил их на колени.
— О чем думаешь, Аказ?— спросил Топейка.
Аказ тронул струны, заиграл и, как бы отвечая Топейке, запел:
О чем ты, лес, волнуешься?
Чтоб зеленее быть.
О чем, дубок, мечтаешь ты?
Чтоб желуди растить.
О чем, камыш, кручинишься?
Высоким хочешь стать.
А я о том задумался:
Как людям пользу дать?
Аказ сильнее ударил по струнам, и совсем иная музыка расплескалась по двору. Другую песню запел Аказ:
На черный войлок я сяду. Не сел.
На белый — сяду,
И пиво пью не из ведра —
Из чарки пью в усладу
Я долго жил в краях чужих. И колесил по свету.
Лесов, полей, озер РОДНЫХ Милее в мире нету.
Я много девушёк встречал Красивых и/богатых.
Но ту, сватов к которой слал.
Люблю навечно.
Святр.
О. гусли, славьте край родной Веселой песней долгой На а нашей матушкой-рекой Широкой тихой Волгой!
Долго все молчали, погруженные в свои думы. Магмет первый нарушил молчание:
— Какое чудо — песня,—сказал он тихо.—Иногда человек может рассказывать о своей жизни целый день, но не поймешь его. А спел человек — и все ясно.
Открылись ворота, и на дворе появился Мамлей.
— Мамлейка, друг!—воскликнул Аказ и побежал ему навстречу. Они обнялись.— Ты совсем забыл меня! Почему не приходишь?
— Летом, сам знаешь, работы много. И сегодня не пришел бы, да больно важный гость ко мне приехал. Тебя и Бузубова велел привезти. Тайное дело есть.
— Что за гость?
— Хан Шигалей.
— Из ссылки убег!—догадался Аказ. — У нас скрываться хочет?
— Хан из Москвы приехал. Теперь он у молодого царя в чести.
— Значит, в Москве перемены?
-- Большие перемены.
А в Москве —и верно—начались большие перемены. Как только умер Василий Иванович, жена его Елена для укрепления власти великокняжеской передала это званье сыну Ивану. Княжичу шел четвертый год, а его привели в Соборную церковь, и митрополит Даниил благословил его крестом на великое княжение. И торжественно провозгласил:
— Бог благословляет тебя, князь великий Иван Васильевич, владимирской, московской, новгородской, псковской, тверской, югорской, пермской, болгарской, смоленской и иных земель царь
и государь всея Руси!—И возложил на него шапку Монамаха. Шапка закрыла мальчику брови и уши, но Иван обеими руками твердо приподнял ее и держал до конца благословения. Князья и бояре, приведенные к присяге, целовали крест, но, выйдя из храма, сразу же стали думать, как бы у младенца эту власть отнять. На престол стали претендовать три брата Шуйских, два Вельских. Воронцов, братья Глинские и два родных дяди Ивана — Юрий и Андрей.
Одни решили драться за трон внутри Москвы, начались доносы, крамола. Елена именем паря сажала мятежников, головы слетали с плеч десятками.
Другие надумали подобраться к власти извне. Князь Семен Шуйский удрал в Польшу к королю Сигизмунду и стал подбивать его идти на Москву. Потом укатил в Стамбул, где был милостиво принят султаном. Турки, давно мечтавшие прибрать Русь к своим рукам, обещали Семену войско, дали приказ Саип-Гирею идти на Москву. Но в Бахчисарае было не до походов: против Саип- Гирея поднялся его племянник Ислам-Гирей, и началась междоусобица. Сторонники Москвы в Казани, учуяв это, Сафу-Гирея снова с трона согнали и запросили на казанский престол Шигалея. Спешно были посланы конники в северный край, хана Шигалея и его жену Фатиму из Белозера вывезли и поставили перед Еленой и малолетним царем Иваном.
Прием был торжественный. Хану царь подарил шубу, а Елена преподнесла Фатиме золотую чашу с медом в подарок. Растроганный Шигалей сказал:
— Дед твой взял меня к себе, детинку малую, вскормил, как щенка, отец твой пожаловал меня, дал мне города, и я грехом своим перед государем провинился, и бог страшно наказал меня. И теперь я, холоп ваш, даю клятву и по этой присяге хочу крепко стоять и готов умереть за ваше государское жалованье!
С той поры Шигалей стал жить в Москве, верно служить Ивану и ждать посылки на казанский трон. Пока казанцы воевали с Сафа-Гиреем, стараясь изгнать его с престола, умерла Елена Глинская. Посол Герберштейн утверждал, что ее отравили.
Началось правление боярское — тут уж было не до Казани. Теперь же Иван подрос и послал Шигалея на Суру, чтобы казанские дела разведать.
В Васильсурске хан вспомнил про Аказа и Магометку Бузубова...
...Мамлеев улус казанцы теперь не трогали, жизнь там стала налаживаться. Мамлей женился на дочке муллы, теперь, пока строится новый дом, живет у тестя. Хан Шигалей встретил Аказа как старого приятеля: горячо обнял, похлопал по спине, сказал:
На родных хлебах раздобрел ты. Плечи раздались.
145,
1*' Марш Акпарса
— А ты, хан, поседел. Раньше борода черной была.
— В Каргополе снегу много было. Там волосы подбелил. Да и в Москве есть, где седину найти.
Посидели, поговорили о том, о сем, потом хан перешел к делу.
— Царь мало-мало вырос, за дела государства берется. Думает меня на Казань посылать. Я уж два раза на трон садился, два раза бежать пришлось. Надоело. Надо покрепче садиться. Вы меня поддерживать будете?
— Ты прости меня, уважаемый Шах-Али, если я неприятное для тебя слово скажу,— ответил хану Бузубов.— Ханы казанские меняются часто, а порядки прежние остаются. Московский ли хан сидит, крымский ли, а земли наши всегда перекопскому мурзе подъясачные. Вот ты говоришь, дважды ханом Казани был, а какое облегченье чувашам и черемисам сделал? Сперва нас Кучак давил, потом сын Кучаков. Как мы тебя поддержим, если по нашей земле крымские мурзаки тысячами ползают?
— Ты правду, Магмет, сказал: для вас я никакого облегченья не делал. А когда делать? Не успею в доме своем котел повесить— надо снимать, снова в Касимов убираться. А теперь молодой царь и его советники мне так оказали: приедешь в Казань, не торопись свои шалтай-балтай по стенкам развешивать, по лавкам раскладывать. Укрепись сперва, людей верных вокруг себя расставь, обопрись на них. Вот я к вам и приехал.
— Если кучаков с нашей земли уберешь,— сказал Аказ,— если народу облегченье сделаешь — мы тебе опора. А без людей наших от нас двоих с Магметом какая тебе польза? Ведь если тебе служить — это все равно, что Москве служить, не правда ли?
— Да, это так.
— Пусть тогда и Москва об этом знает, защищает нас в случае чего. А пока мы московских князей да воевод боимся не меньше, чем казанских беев.
— Я вас понял. Сяду на казанский престол — сразу о вас подумаю. И в Москве скажу: чуваши и черемисы властью Казани тяготятся, надо им помочь к Москве приклониться.
— Ты правильно сказал: надо помочь. А мы с Магметом давно об этом думаем.
— Ты, хан, на Казань приехавши, вот еще о чем подумай,— сказал Топейка.— Кучак жену Аказа украл—отними ее у него и сюда пошли.
— Обещаю...
— Сююмбике тоже давно обещала...
— Сказал — сделаю.
КОКШАЙСКАЯ СТОРОНА
Над озерцом стоит летний зной. Тихо гудят пчелы. Спокойную гладь нет-нет да и возмутит хвостом резвая рыбешка, пустит по водному полю ровные круги.
Санька сидит на берегу, покрыв голову большим листом лопуха, и удит рыбу. Рядом липовый ушатик, в нем трепыхаются окуни, ерши, плотвички. Улов ныне хорош, однако на душе у Саньки скверно. Думы в голове тяжелые.
Доколе же сидеть в этой болотной глуши, кормить комаров, терпеть лишения? Без цели, без веры, без пользы для людей. Вот так пройдет жизнь и спросится: чем ты заполнил все дни ее? И скажет Санька: от гнева царского прятался в лесах, будто леший, убег от жизни в такую даль, что за много лег не только лица человечьего не видел, но и голоса, окромя сестриного, слышать не приходилось.
Давно Саньку мучит совесть. Ну, он повинен перед государем, ради спасения живота своего прячется в лесах, а ради чего страдает Ирина, ради чего пропадает в этих болотах ее молодость, вянет девичья красота?
Иногда закрадывается в душу страшное сомнение: может, зря он здесь хоронится, может, на Москве забыли его давно, может, там другой государь? Санька со счету сбился и не помнит, сколько лет живет вдали от мира людского, так и не уяснил себе, давно ли он тут живет и долго ли еще придется отшельничать?
Из раздумья Саньку вывели торопливые шаги сестры. Ирина подбежала к нему и с тревогой, сквозь которую пробивалась радость, сказала:
— Саня, там люди!
— Какие люди?—у Саньки в голосе испуг.
— Монахи... двое. Они к нашему скиту идут.
Санька сбросил лопух с головы, воткнул удилище в мягкий берег и спешно пошел к скиту. Ирина — за ним.
10*
14?
Вбежав в молельню, оба враз бухнулись на колени и, троекратно перекрестившись, замерли в молитве. Скрипнули двери скита, и монахи вошли. Санька усиленно клал поклоны, но, скосив глаза, поглядывал на пришельцев через щель неприкрытой двери. Один из них, высокий, плечистый, мельком глянул на молящихся, сел к столу, облокотился, собрал бороду в кулак и стал ждать конца молитвы. Скуфья на монахе новая, чуть надвинутая на лоб, глаза под нависшими бровями острые, взгляд властный. У Саньки захолонуло под сердцем. По всему видно: это не монах. А раз не монах, то кто ж, кроме царева слуги, переодетого в рясу? Санька мучительно соображал: зачем государеву человеку рядиться монахом? Изловить Саньку можно и без рясы. Наверно, сперва думы
Санькины выпытать хотят. Ну, раб божий Александр, замкни уста на замок...
Ирине хорошо виден другой монах, невысокий, плотный, в старой рясе. Полы рясы обтрепаны. Скуфейка лихо сдвинута набекрень, из-под нее торчат клочки рыжих волос. Борода у монаха окладом, нос картошкой, с красновато-сйним отливом. Ежели первый монах неотрывно глядит на молящихся, то второй успел обшарить взглядом все углы скита, вроде бы нечаянно открыл ящик стола, заглянул под лавки. Хотел было прошмыгнуть в молельню, но другой знаком запретил — молитве мешать нельзя.
Не успел Санька подняться с колен, рыжий постучал в дверь и сиповато произнес:
— Господи Исусе Христе, сыне божий, помилуй нас.
— Аминь!—ответил Санька и открыл молельню.
— Мир обители сей и вам, люди,— пробасил черный монах, вставая.
— Входите с добром,— Санька топтался на месте.
— Удивление читаю на лицах ваших. Не ждали?
— Истинно,— ответил Санька.— Ушли мы от суеты людской вдаль и не ждали, что наше скитское житье, тихое и богоугодное, прервется словом из мира.
— Да-а, житье у вас тут тихое,— щуря подслеповатые глазки, произнес рыжий монах.
— Только богоугодное ли?—дополнил черный и испытующе глянул сначала на Саньку, потом на Ирину.— Живут тут брат и сестра денно и нощно с именем Христа на устах, а знают ли они смысл Христова ученья? Всю свою жизнь земную Христос учил народ, души людские истинной верой просвещал. А вы? Токмо для себя живете, дары божьи всуе переводите.
«Если начнут царевым именем насильничать — не дамся,— думал Санька, слушая монаха.— Все одно умирать, лучше в схватке сгину, а не дамся».
— А меж тем,—продолжал монах,— кругом живет великое множество людей во тьме, и не знают, куда идут. И ты, раб божий Александр, живешь среди них со светильником веры православной, но светильник сей тобою потушен. Умно ли сие? Не умно и преступно. Много лет провел ты здесь, но не токмо человекам, а и себе пользы не принес. И пришли мы на подвиг святой тебя звать.
У Саньки сразу отлегло от сердца. Спросил робко:
— Откуда, отче, знаешь имя и прегрешения мои? Место скита моего никому неведомо, кто указал путь тебе?
— От людей скроешься, от всевышнего—нет.
— Я рад вашему приходу, отче. Сам скитской жизнью давно недоволен.
— Покажи обиталище твое и земли, окрест раскинутые. Веди.
— Сказано: дьяк, гусино перышко, мудрая голова!—воскликнул рыжий, когда Санька с черным монахом ушли.— Охмурит он твоего братца, право слово, охмурит.
— Он разве не служитель божий?— спросила Ирина.
— Сказано: дьяк земской, а чешет языком во сто крат бойчее духовного,— поддергивая штаны, молвил в ответ рыжий.— А у тебя, девка, во рту ополоснуть нет ли чего?—и подмигнул.— Пока этого сатаны нет, пропади он пропадом!
Ирина по сизому носу догадалась, что рыжий привержен к хмельному, и ответила:
— Я мигом за чистой водичкой сбегаю.
— Сказано: и превратил спаситель воду в вино и един хлеб в пять тысяч хлебов и накормил и напоил превеликое множество народу. А ты сие сделать сможешь ли?
— Во ските... вино... откуда?—пролепетала Ирина.
— Сказано—не лги!—смеясь крикнул рыжий.—Ибо чую носом хмельное со первого шага в твою обитель...
— Боже мой! Так это мед неубереженный скисся и бродит. Вылить еще я не успела, прости, отче.
— Да ты с ума сошла, пропади ты пропадом. Вылить! Сказано— тащи сюда.
Ирина выскочила в придел и скоро поставила на стол большой ушатец с медовой брагой.
— Ой, ковшичек забыла,— и убежала обратно.
— Пропади он пропадом — ковшик,— монах махнул рукой. А когда Ирина вернулась с ковшиком, он уже, припав к ушату, пил брагу через край.
— Вот теперь слава богу! Вот теперь Ешка-Кугу тоя жив. Это меня, красавица, Ешкой зовут, потому — Ефим! А Кугу тоя — это, пропади они пропадом, черемисы меня назвали, потому как большая палка. Ходим мы из нашего монастыря по черемисским краям — язычников к православной вере приобщаем... С палкой это дело поспособнее выходит. Ну, и сказано: Кугу тоя — сиречь Большая палка.— Ешка захмелел заметно и, подсев к Ирине, проговорил:— А этот сатана дьяк Шигонька, пропади он пропадом, лукавец, не приведи бог. Вот он говорит...— Ешка подошел к ушату еще раз, снова пососал бражку через край и продолжал:—Вот он говорит: господь послал его к вам и место ваше указал. Сказано— лукавец. И совсем не господь бог послал его сюда, а один нагорный черемисин.— Ешка поманил пальцем Ирину и добавил:— Л Шигонька сам, как и вы, из Москвы беглый. Говорят, у царицы Глены Васильевны думным дьяком был. Голова! Одначе провинился! И матушка-царица указ —думному дьяку Шигоньке голову долой. А митрополит Даниил, пропади он пропадом, и говорит
Шигоньке: беги в черемисские леса, приведи в православную веру четыре... нет, сорок тыщ язычников, и тогда выпрошу у матушки-царицы тебе прощение. Вот он и прибег. Думал, раз-два — и сорок тыщ язычников окрестил. Ан не тут-то было. Я десять лет обращаю черемисов в истинную веру и, знаешь, сколько обратил? Двенадцать душ! А тут надо сорок тыщ. Вот он и хочет Саньку твоего послать к черемисам. Затем н пришел. Сказано: пропади он пропадом.
— Ты про нагорного черемисина говорил,— с волнением спросила Ирина,— откуда он про нас знает?
— Этот Шигонька в сих местах не первый раз шатается. Сказано: в молодости тут бывал, жил у одного черемисина в дому. Потом, уж я не ведаю как, сын того хозяина попал в Москву, служил там государю, сейчас владеет землями отца — умница, пропади он пропадом. Ну, Шигонька сразу к нему. Ударил челом: позволь, мол, на твоей земле часовенку поставить али церквушку. И тот горный князь не токмо позволил, но и первый в ней окрестился. А Шигоньке говорит. «Я-де тебе услужил, а теперь ты мне услужи. Сходи, говорит, в Разнежье, в монастырь, узнай, не живет ли там Санька-стольник. Найди и приведи его ко мне. Шигонька круть-верть, а отплатить добром надобно. Ну и пошел в обитель. Позвали к нему меня, потому как я один про ваш скит знал, где он и как. «Может, поведешь?»—спросил меня игумен. А я молитвы читать не больно горазд, на вольное житье меня давно тянуло, вот мы и пошли к вам.
— А кто...
— Забаяла ты меня, девка, совсем. Язык к горлу присох. Я выпью малость.
Припав к ушату еще раз, Ешка заплетающимся языком стал молоть несусветную дурь такую, что Ирине пришлось выйти. Из скита впервые со дня его сотворения понеслась по лесу Ешкина разухабистая песня.
Потом он заснул.
Ирина принялась готовить еду...
Когда Санька вывел монаха из скита к озеру, тот спросил совсем попросту, без высоких слов:
— Неужто не признал меня, Александр?
— Н-нет.
— Да Шигонька я—митрополичый летописец. Когда ты постельничим князя был, я хорошо помню.
— Мне ж во владычьих покоях пребывать не приходилось, откуда мне знать тебя? А слышать слышал,—Санька, говоря с Ши- гонькой, думал, что не зря тот сюда приволокся. Либо с прощением, либо... спросил осторожно:—Кто сейчас правит в Москве?
— Государыня Елена Васильевна, ни дна бы ей ни покрышки.
«Ой, хитрит, лукавец,— думает Санька.— Коль у власти Елена, стало быть, за моей душой этот дьяк послан».
А Шигонька, не замечая Санькиных страхов, говорил:
— После того, как ты из Москвы утек, подсунул меня владыка к великому князю в думные дьяки. И стал я у Василия Иваныча первым советником. Он без моего слова ни одного дела не начинал. А я и сам не глуп, да и митрополит Даниил думать мне помогал. Силу в Кремле имел я большую. Пришло время — великий князь умер. Государем провозгласили трехлетнего Ивана, ну а он какой правитель? Вся власть к матери его перешла. Правда, ничего худого про то правление я не скажу, одначе митрополита, а стало быть, и меня, слушать перестали. Даниил и повелел мне: придумай такое, чтобы по-прежнему было. Я придумал, да видно не больно ладно, слышу повеление: мне и боярину Патрикееву вести головы на плаху. Я—ко владыке. Тот подал мне рясу монашью, скуфейку да и говорит: «Убежать я тебе, друже, помогу — сие легко. А вот как ты обратно прибежишь? Не век же в нетях ходить? Посему иди ты в черемисскую уже знакомую тебе землю и к вере православной агарян да язычников приобщай, часовенки строй, умы диким народам просветляй. И только этим заслужишь себе прощение. Ну я и прибег в сии края В дороге вот этого монашка-бродягу встретил, вдвоем как-то легче.
— А в мой скит зачем забрел? Уж не меня ли еще раз в православную веру обратить хочешь?
— С собой позвать хочу, Александр,— прямо ответил Шиго- ня.— Не тот ты человек, чтобы без пользы родной земле жить. Стыдно! Даже Ешка—пропащая душа—со мной ходит. Пойдешь5
— Пойду,—твердо сказал Санька.—Здесь заживо сгнить можно. Да, прав митрополит: не весь же век в нетях ходить. Куда идти-то?
— Надумал я подвиг великий учинить, пройти во глубь лесов, в такие дикие места, куда ни один православный не проходил. Люди живут там свирепые, одначе верой чужой не испорченные. Там православие привить будет легче. Не хочу лгать перед тобой, Александр: подвиг сей труден. Может быть, и животов своих лишимся, может, придется умирать в мучениях. Зато коль вернемся, подвиг наш бог и святая церковь не забудут. Подумай!
— Я сказал: пойду. Что тут думать?
— А сестра?
— Куда иголка, туда и нитка. У нее выбора нет. Когда тро- немся-то?
-- Завтра, с богом.
— Тогда пойдем, угостимся, чем бот послал, да и сборы начнем в дорогу.
Ирина согласилась пойти в лесные пустыни дикие с радостью. И то верно: скитская жизнь опротивела — дальше некуда, а надежда заслужить право возвращения в родные места окрылила брата и сестру.
На другой день, оставив скит, ушли они за Шигонькой и Ешкой по невозвратной дороге в новую, неведомую им жизнь...
Шигонька сказал правду: путь до устья Кокшаги оказался легким. Ладья, взятая у монаха, на ходу быстра, послушна. Неслась она по течению, как стрела. Ешка с Санькой сидели на веслах,
Шигоня — на руле, Ирина примостилась под навесиком на носу.
Перед отъездом Шигонька сказал Ешке:
— Отныне про Большую палку забудь. Понесем мы диким людям токмо правдивое слово свое, трудовые руки свои да чистое сердце. И тогда они примут нас и полюбят и в молитвы наши поверят.
В первый день пути Ирина с радостью оглядывала волжские берега. Зверь ли вышел на водопой, человек ли идет на рыбный лов — все после унылой и однообразной скитской жизни радовало Ирину.
На другое утро, проплывая мимо крутого горного спуска. Шигонька сказал Саньке:
— Откос этот запомни на всякий случай. За ним земли известного тебе Аказа Тугаева. Пред тем, как сюда забраться, был я у него, это он попросил меня найти тебя. Велел побывать. Даст бог — вернемся, заедем.
Слова эти всколыхнули в душе девушки прежние, притихшие от времени чувства. И такая нестерпимая грусть заполнила все существо ее, что только в песне и можно вылить эту мучительную тоску. Спокойные утренние воды далеко разносят грустный девичий голос:
Спой, кукушечка, «Ку-ку»,
Прогони мою тоску —
Сколько лет нежданной, ей.
Гостьей быть в душе моей?
Вон осиною с угора На меня она глядит.
Из соснового из бора Плачем иволга летит На песчаном на откосе Лежит павшая сосна...
Но не спела мне кукушка Почему молчит ома?
Слушают песню люди, каждый думает о своем. Санька смотрит на сестру и знает, отчего она запела свадебную песню невесты. Девке давно пора бы спеть ее перед женихом, только... Ах, нет у сестры доли, нет. А у тебя, Санька?
У Шигоньки иная дума. Об утраченной власти думает Шигонь- ка, о молодом царе Иване, о том, как бы снова встать около трона. «Ах, хоть бы скорее издохла эта царица»,—мелькает в голове Шигоньки. Он, бедный, еще не знает, что Елены уже нет в живых — извели ее бояре ядом.
Тяжелее всех на душе у Ешки. Ведь подумать только — целую кадку меда оставили в скиту, сколько бы из этого меда бражки сварить можно!
К устью Кокшаги приплыли под вечер. Неприветливо встречала лесная река незваных пришельцев, из-за лесов хмурилась густыми темными тучами, дышала упругим ветром.
— Ночью гроза будет,— сказал Шигонька.— придется к берегу приставать.
Лодку вытащили на песок, укрыли ветками. Ешка и Санька ушли с сеткой ловить рыбу, Шигонька взялся сооружать шалаш, Ирина развела костер, приготовила котелок.
Через час вернулись с рыбой Санька и Ешка.
— В тех скитских озерах рыбы было предостаточно,— сказал Санька,— но в сей реке лесной, пожалуй, поболе будет. Богатая река!
Поужинав, забрались в шалаш и уснули. Ешку оставили на сторожах.
Шигонька оказался прав. Наутро пронесся ливень с грозой — короткий, но сильный. Перед этим долго на ночном небе бесновались молнии, рвали темно-синюю мглу и, казалось, тонули в бушующей Волге. При каждой вспышке Ешка истово крестился, дрожа всем телом.
После рассвета гроза прошла, и скоро деревья в лесу и прибрежные травы предстали перед утренним солнцем свежими, умытыми и яркими, источая легкий и радостный запах. С листьев на землю падали крупные капли прошедшего дождя, над рекой курился легкий парок.
— Какое великолепие, пропади оно пропадом! — восхищался Ешка.— Сказано: после грозы да водворится тишина.
— Добрая примета,— заметил Шигонька.—Будет начало подвига нашего грозным, зато в конце бог сулит добро и благополучие.
Ирина молча наслаждалась радостью теплого, летнего утра. Санька готовил ладью в путь.
Позавтракав все той же ухой, помолившись богу, тронулись в неведомый путь по Кокшаге.
Сразу же начались леса. Они густо обступали песчаные берега реки, и чем дальше продвигалась лодка, тем непроходимее казались темно-зеленые дебри.
Сначала все думали, что плыть против течения будет трудно, но встречного движения воды было почти незаметно. Особенно когда
лодка минула песчаные берега. Здесь лесная вода была совсем спокойной. Она отражала в себе все: и темные ели, и ивы, склоненные над ней, и лодку, плывущую по зеркальной глади, и гребцов. Мир лежал в глубине вод, будто перевернутый вверх дном.
Вначале берега были безлюдны, но скоро начали показываться первые признаки присутствия человека. Навстречу лодке по реке плыл старый долбленый челн, бока его прогнили, он полузатонул — видно, хозяин давно бросил его. На отлогих берегах видны были следы недавних костров, пни недавно срубленных деревьев. Скоро должен был встретиться человек.
Это случилось на второй день пути. Шум и человеческие голоса первой услышала Ирина.
— Стойте,— шепнула она,— люди.
Перестали грести Санька и Шигонька. Ешка, сидевший на руле, приставил к уху сложенную лодочкой ладонь. И верно: вдали слышались голоса людей. Шигонька кивнул головой — и Ешка направил ладью ближе к берегу. Осторожно продвигаясь около ивняка, склоненного над водой, лодка готова была при первых же признаках опасности нырнуть в кусты.
Скоро река повернула круто влево, течение ее на повороте было заметнее: струи с глухим рокотом ударялись в правый берег и подмывали его, иногда с крутого берега падали в воду широкие пласты земли.
Еще несколько легких ударов весла — и лодка вышла из-за поворота. И тут все увидели человека. Он стоял на самой середине реки в маленькой лодке, с шестом в руках. Ешка рванул руль влево— и лодка сразу нырнула в прибрежные ивы. Из-за кустов они увидели, что человек находится около своеобразной плотины, перегородившей всю реку. От берега до берега на воде были поставлены козлы из скрещенных и связанных между собой жердей. На козлы поперек реки положены другие жерди, к которым привязаны ели, спущенные вершинами в воду. Посреди плотины видна протока с натянутой дугой березовых поплавков. Там, под водой, сеть.
Ешка вполголоса сказал:
— Это для сомов гать такую изладили, пропади они пропадом.
Извай — сын Симокайки — сегодня на рыбной ловле старший. Давно живут люди в этом прибрежном илеме, и третий год у людей картом Симокайка. Он самый мудрый среди них, на охоту ли, на рыбный ли лов — всюду сам водит людей. Если сам не может— шлет сына. У Симокайки семь дочерей, а сын всего один, Извай.
Каждый год в это время выходят люди всем илемом ловить сомов. Крупная рыба в этих местах не водится, однако приходит пора, и сомы большими стаями проходят мимо этих мест. Старый карт знает; впереди песчаные отмели, и рыба скоро повернет назад. Вот тогда через реку строят гать и ждут, когда сомы пустятся в обратный путь.
Извай сторожил приход рыбы. Он непрестанно глядел то на поплавки, то на ветки елей, перегораживающие реку. Отец впервые послал его на это важное дело, и Извай старался не проглядеть приход сомов.
Вдруг дрогнули поплавки, и Извай увидел в прозрачной воде черную большую рыбину. Он свистнул, давая знак началу лова, и, подняв острогу, ударил в проплывавшего мимо огромного сома. Острога сразу скрылась под водой, как струна, натянулась бечева, привязанная к руке Извая. Сом, ударив хвостом, стремительно поплыл к сети. Рыба была сильна, а боль от удара острогой удесятерила ее силы. Она прошла прямо в сеть, одним ударом порвала ее и очутилась за гатью. Извая рвануло так сильно, что он не мог удержаться на ботнике и упал в реку. Удачно проскочив через порванную сеть, он вынырнул на поверхность и начал натягивать бечеву, надеясь подобраться ближе к рыбине.
Повернувшись лицом к левому берегу, Извай заметил чужую лодку. Незнакомые люди, сидящие в ней, зачем-то указывали назад. Извай увидел, как один из сидящих вскочил, с силой оттолкнулся от лодки и бросился в воду. В этот же миг Извай заметил опасность. Перевернутая лодка, попав в быстрое течение, шла прямо на Извая. «Надо нырять»,—подумал он, но было поздно' почувствовал тупую боль в затылке и потерял сознание...
Под водой Санька открыл глаза. В мутно-зеленой мгле он увидел тело паренька, медленно идущего ко дну. Рыба шла в глубину и тянула за собой несчастного рыбака. Санька, собрав все силы, рывком подплыл к человеку, выхватил из-за пояса нож и перерезал бечеву...
Рыбаки поняли, что сеть порвана. Они бросились к ней, чтобы поставить запасную. Другие с бреднями обходили гать. Около протоки появились лодки, мужчины с острогами наготове стояли на них в тревоге.
...Опасность, нависшую над Изваем, рыбаки заметили уже после того, как Санька скрылся под водой. Они пронзительно засвистели, но было поздно. Рыбаки поняли, что Извая спасти нельзя. Ребятишки, торчащие на берегу, бросились бежать в илем...
Старый Симокайка стоял в кудо и вил мочальную веревку. Вдруг в окошко просунулась вихрастая голова, и мальчонка, сверкнув расширенными глазами, крикнул:
— Дедушка! Там... Извай утонул!
У Симокайки подкосились ноги...
Бросив лов, рыбаки направили лодки на то место, где утонул
Извай. То, что они увидели, выплыв на середину реки, заставило в ужасе повернуть лодки обратно. На поверхности воды показалось две головы. С криками «Вюдия!» рыбаки повернули к берегу и выскочили на землю. Они не сомневались, что Извай попал в руки водяного, и тот теперь уплывал с ним в свое логово. Оглядевшись на берегу, они увидели, как Вюдия вынес Извая на песок, встал на одно колено, а на другое положил утопленника животом вниз. Голова Извая свесилась, и изо рта потекла вода. Потом водяной положил Извая на песок, и тут все увидели, что утопленник приподнялся.
...Тяжесть, давившая голову, отступила, черная ночь, стоявшая перед глазами Извая, начала редеть. Извай открыл рот, и в грудь ему хлынули теплые потоки воздуха. Он открыл глаза и словно в тумане увидел перед собой лицо того человека, который спрыгнул с лодки. Значит, он спас его! Человек улыбался и говорил что-то непонятное. Извай взял его руку и приложил к своей груди.
— Извай, не тронь его! Это Вюдия!—испуганно кричали где- то в стороне.
Извай поднялся и позвал жестом рыбаков.
— Не бойтесь, мужчины. Это такой же человек, как и мы. Вон в кустах стоит его лодка. Идите сюда.
Рыбаки робко приблизились к Саньке.
К берегу пристала ладья, из которой вышли Ирина, Шигоня и Ешка.
Извай что-то говорил, а Санька не понимал его. Спросил Ешку:
— Скажи, что он хочет?
— Он говорит: братом моим будешь. В кудо просит пойти.
— Пойдем иль нет?
— А лодка?
Извай поглядывал то на Саньку, то на Ешку, то на Шигоньку. Он догадался, что речь идет о лодке, и, обращаясь к Ешке, сказал:
— Ты, я вижу, знаешь наш язык. Скажи им, что из лодки не пропадет ни одной нитки...
Нынче в кудо Симокайки радость. Все люди собрались в дом старого карта. Большие гости у Симокайки. Шутка сказать: единственного сына из лап водяного дьявола вырвали. Самые древние старики не помнят такого. От водяного не возвращались, утонувшие не оживали.
В котлах варится жирная уха, на углях потрескивает жареное мясо.
Симокайка говорит, Ешка переводит.
— Я не буду вас спрашивать, кто вы и откуда пришли. Я и гак вижу: вы добрые люди из племени руш — один из вас стал братом Извая и моим сыном. Я только хочу спросить: сколько дней вы можете провести в моем кудо, как долго будете приносить мне радость?
— Спасибо, хозяин, на добром слове,— ответил Шигонька.— Только долго гостить здесь нам нельзя. Завтра в путь.
— Всех нас обидишь тогда. У нас самый маленький гость пять ночей спит, а вы большие гости. Обычай рушить не надо.
— У нас, у русских, говорят: «Утро вечера мудренее». Ты скажи лучше, далеко ли эта река идет, и какие там люди живут.
— Зачем тебе далекие люди? Вам у нас плохо разве?
— Хорошо у вас. Но мы нашему богу обещание дали идти на самый конец далекой реки.
— О-о, бога обманывать нельзя. Если обещали — идите. Один день по реке пройдете, справа попадется большой илем. Там живет старый Охотник Кундыш, живет давно и бедно. Земля там с песком пополам — родит плохо, хлеба мало. Если бы не река да не охота— хоть помирай. Людей много, однако. Дочка моя в тот род замуж ушла. К ней в гости заходите. Еще один день лодку толкайте— еще один илем будет. Там живет татарин Абас. Бедный, как и мы.
— Тоже земля плохо родит?
— А-а, там совсем другое дело. Там мурза землю пахать не велит.
— Зачем так?
— Кто знает. Видно, так надо. Может, выгода мурзе какая от этого есть. Если скажете, что я послал — примет. Потом в левую сторону другая река пойдет. Около нее илем Пчелиного пастуха. Его зовут Чка. Дальше, прости меня, не знаю, не ходил.
— И на том спасибо,—ответил Санька.
Извай подошел к отцу и что-то сказал тихо.
— Ты прав, сын мой. Он говорит, что у наших рек много заливов, и вы заблудитесь. Он говорит: я их проводить хочу. Если согласны, я с радостью отпущу его.
— Спасибо тебе, добрый Симокайка.
— А теперь пировать будем, рыбу, мясо есть будем. Садитесь, гости, ближе к котлам!..
У Симокайки гостили девять дней. Ешка и Шигонька подолгу беседовали с людьми о новой вере. Черемисы со всеми доводами соглашались, однако кресты не брали, говорили, что к своим богам они привыкли, знают, какие жертвы им давать, какие молитвы. А нового бога если взять, по-новому ему молиться надо, они же не умеют — могут обидеть его, накликать беду на себя.
Шигонька все допытывался у людей: отчего это мурза хлеб им сеять не велит и везде ли такой наказ дан? Если в первый день при людях Симокайка этого не сказал, то наедине все изъяснил. Мурза Япанча на земле, что по правую сторону Кокшаги и вверх по другим мелким рекам, не дает хлеб сеять для того, чтобы люди тех земель, кроме ясака, несли мурзе шкуры, мясо, мед и воск в обмен на муку, которую мурзе, после сбора ясака в иных местах, девать некуда. Раньше Япанча зерно и муку возил в Нижний Новгород, теперь туда ход закрыт. И удумал мурза сбывать хлеб своим же подданным. Для того и землю пахать запретил.
А Симокайкин илем на левом берегу реки и под тот запрет не попал. И потому люди тут живут малость легче.
Не глядя на упреждение, Шигонька все же купил у соседей Симокайки четыре мешка овса и два мешка ржи.
На десятый день утром тронулись в путь. Впереди шла лодка Извая, в которой, кроме него, было еще двое гребцов. В пути были пятеро суток. Остановились в чудесном местечке. Река здесь изгибалась подковой, образуя маленький полуостров.
— Дальше реку я не знаю, идите сами,— сказал Извай.
Он отвел Саньку в сторону и тихо сказал:
— Скажи, брат мой, если я и вашему, и нашему богу молиться буду — можно?
— Молись, Извай. У вас богов много, а наш один — вернее будет.
Извай уехал.
Перво-наперво на полуострове соорудили большой шалаш из двух половин. В одну поместили Ирину, в другой расположились сами. Шигонька вытесал и сколотил столик, вытянул из сумы чернила с пером да заветную тетрадку и писал, почитай, два дня.
Шигоня подробно описал не только спасение Извая, но и какие речи говорены про бога и веру. Затем снова приступил к описанию:
«...А от Симокайки с его сыном Изваем мы пошли дале. Земля та лесная, и река, по которой шли мы ладьею, богатства превеликого. В лесах зверя разного столько, что жить тут людям не безопасно. Пока плыли мы по реке видели медведей и волков, лисиц и песцов, рысей и даже редкого в тех лесах отважного барса. Река изобиловала рыбой, ехавши по ней, мы нужды в еде не знали никакой. Извайка-стрелок бил зверей, я, грешный, да мои други ловили рыбу и ели, на кострищах сваривши.
Ежели горные черемисы хлеб сеют сыздавна, то здесь ни одного поля я не увидел и был сему удивлен зело. И сказал я Извайке, что-де земля здесь у вас жирнее и плодоноснее, чем в горах, а хлеб делать вы ленитесь. А он, Извайка, сказал: мы-де не ленимся, пам-де татарский мурза Япанча хлеб родить не велит. Отчего не велит, тот Извайка не знал.
Люди лесные живут все более охотою на зверя, от коего имеют мясо для еды и шкуры для одежды и для обмена на муку, которую им возят люди мурзы из Казани.
Окромя охоты, ловом рыбным промышляют, и оттого их руэ- мы, сиречь сельбища, ставятся по берегам рек. Иные ставят борти на пчел и собирают много меда и воска.
Были мы у старого и вельми мудрого охотника Кундыша в его руэме, он рассказал нам про обычаи предков. Поскольку писаных законов те люди не знают и знать не хотят, то сии обычаи передаются из колена в колено, и никто нарушать их не волен. По обычаям предков черемисских каждый должен повиноваться старшему, кто бы он ни был. Всякий блюдет не свою пользу, а пользу рода, руэма или места, где он живет. Ни один честный человек не говорит «это моя земля, это моя река», а все говорят «наша земля, наша река» и потому ходят по любому месту вольно, кто где захочет. Обычаи велят быть черемисину неприхотливым в еде, носить простую одежду. Обычай их предков презирают ложь и, коль черемисин сказал слово, он будет ему верен. Это я уже не единожды замечал...»
Быстро гонит по бумаге строку Шигонька, пишется ему легко, рассказать в памятной книжке есть что. И про молитвы, которые услышал от местных людей, он пишет, и про свадьбы, и про похороны. Все, о чем узнал, попало в книжицу.
Старая священная липа, широко раскинув ветви, стояла посреди рощи, как добрая хозяйка мольбища. От небольшой речонки, протекавшей недалеко, ветерок доносил горьковатый запах ивового цветения. Любопытные молодые листочки, спустившись с нижних ветвей липы, заглядывали в берестяной туесок, повешанный на сучке. Оттуда пахло свежим медом.
Под липой на коленях стоял старый и хромой Чка. Он молился всем богам, которые покровительствуют бортникам.
И отцы, и деды, и прадеды Чка славились уменьем добывать в лесу мед и воск. Сначала они искали дуплистые деревья, где гнездились пчелы, и отнимали у них мед. Потом научились делать дол- бленые колоды и развешивали их на деревья.
Мед и воск давали им пищу, одежду и свет. Медом и воском можно было уплатить ясак мурзе Япанче, выменять у него муки на лепешки, получить железо для наконечников стрел.
Тихо шелестят листья. Тихо шепчет старый Чка молитву:
— Юмо великий и добрый, прошу у тебя прибыли пчелам. Крылья у них сделай крепкими, к утренним росам летающих пчел приведи встретиться с хорошими цветами. Когда я, вышедши в лес, подойду к сделанным дедами меткам и влезу на дерево брать мед, помоги мне, юмо, и на дереве удержи. Погляди на меня, юмо, я уже с дерева упавши, сломал одну ногу — другую ногу ты для меня сохрани и дай мне удачу. Прими, юмо, свежий мед — дар мой: погляди, он на сучке висит Я тебе принес, возьми его.
Помолившись, Чка перекинул через плечо моток веревки, затянул потуже широкий ремень и, укрепив на нем посуду для сбора пчелиных сот, двинулся к берегу большой реки.
Тропинка шла лесом, извиваясь меж деревьев, дорога была далека. Чка очень беспокоился — не пропали ли колоды на том берегу, куда он шел. Целую неделю оттуда тянулись запахи дыма. Если был лесной пожар, борти сгорели.
Чка хорошо знал все запахи леса и понял, что впереди горит лес. Тревога еще более усилилась. Оставалась слабая надежда на то, что огонь не смог перебраться на ту сторону реки — тогда Чка будет с медом. Самые богатые борти были на той стороне.
Тропинка вдруг выскочила на широкую, выженную пожаром поляну. На той стороне реки лес стоял плотной стеной, нетронутый.
Чка довольно улыбнулся: не зря он трижды в этом году давал жертвы богам.
Вдруг старик остановился. На краю поляны он увидел чужих людей. Сначала он не мог понять, что они делали. Трое мужчин за веревочные лямки тянули вроде бы корень дерева. Женщина шла сзади и поддерживала этот корень за выгнутые сучья. Приглядевшись внимательно, Чка понял, что разрыхляют землю. «Они хотят родить хлеб»,— подумал старик, и это одновременно обрадовало п огорчило его. Если люди умеют родить хлеб, значит, это добрые поди. Но они, видно, не знают, какой бедой грозит им эта работа. «Что это за люди?» — думал Чка, спрятавшись за куст орешника. О том, что это были не черемисы, старику стало ясно, когда он разглядел их лица и одежду. Но они не были и татарами. Было ясно одно, что пришли эти люди с мирными намерениями — нигде не было видно оружия. Сначала старик хотел вернуться в руэм и привести сюда своих сородичей, но потом передумал. Его могли счесть трусом. А трусом Чка никогда не был. И он решил сам узнать, что за люди пришли на землю его отцов. Положив стрелу на тетиву лука, он крикнул.
Люди остановились, не бросились к оружию, а спокойно глядели в ту сторону, откуда раздался окрик.
— Кб тушто уло?1 — еще раз повторил вопрос Чка. И вдруг самый низкий, рыжеватый мужик, поднявшись на обгорелую корягу, сложив ладони у рта, ответил по-черемисски.
— Иди сюда. Мы тебе не сделаем зла.
Чка хотел было выйти из укрытия, но услышал, как пришельцы заговорили между собой на чужом языке, и это насторожило его.
Пока он раздумывал, молодая женщина, поправив на голове платок, пошла в его сторону.
161
’ Кб тушто уло? (мар.) —Кто гам есть?
11 Марш Акпарсз
Чка растерялся, он не знал, что ему делать дальше. Скрываться от бабы — разве это достойно мужчины? Стыдно бежать от бабы. И он, раздвинув кусты, вышел ей навстречу.
Женщина остановилась недалеко от него и приветливо улыбнулась. Чка прошел мимо нее, будто и не заметил, а про себя подумал: «Люди, видно, не принесли с собой зла — их бояться не надо». Опустив лук со стрелой вниз, он медленно двинулся к мужчинам. Женщина шла за ним.
Остановившись на расстоянии шагов пяти, Чка спросил:
— Кто вы и зачем здесь?
Рыжий сделал несколько шагов вперед и ответил:
— Мы пришли по воде от Великой реки и хотим здесь жить. Мы люди из племени руш, а зовут меня Ешка, а вот его зовут Ши- гонька, а это брат и сестра, их имена Ирина и Санька. А кто ты, добрый человек?
— Меня зовут Чка, и я здесь живу много лет. За свою жизнь я видел на этой земле немало пришельцев, и все они приносили с собой зло. Как я поверю вам, что у вас нет камня за пазухой?
Рыжий вместо ответа опустил руку в глубокий карман штанов, вынув, протянул ее старику. На разжатой ладони Чка увидел свернутые в трубки березовые корки. Он подошел к рыжему, взял одну трубку, развернул ее, и улыбка осветила его лицо. На бересте он увидел знак, тамгу охотника Кундыша. Сняв стрелу с лука, Чка опустил ее в колчан и сказал:
— Теперь я верю, что вы хорошие люди. Злому человеку Кун- дыш свою тамгу не даст. Охотники вы или как?
— Нет, мы не охотники,-—ответил черный, которого рыжий назвал Шигонькой,—мы слуги нашего бога, по земле ходим—слово божье носим.
Чка долго молчал, обдумывая ответ. Он впервые слышал, чтобы бог выбирал своих слуг среди людей. Разве у него мало духов и невидимых кереметов? И, чтобы попять слова пришельца, осторожно спросил:
— Как же вы служите своему богу?
— Делами своими. Вот повелел нам бог идти в ваши леса и помочь вам. Он сказал: «Живут лесные люди дико и трудно, помогите им, землю вместе пашите, хлеб родите, расскажите, как в дружбе меж собой жить».
— Добрый ваш бог, коли так,— согласился Чка, но, подумав, добавил: —А пославши вас сюда, он про мурзу Япанчу не сказал что ли? Он должен знать, что мурза хлеб родить нам не велит, карает за это жестоко.
— Мы это знаем,— вступил в беседу тот, кого назвали Санькой,— но нам известна большая правда, по которой живут все люди: каждый человек волен брать от земли все, что она может дать.
И никто, даже ваш мурза, не волен вставать против этой правды. Наш бог велел сказать вам это. Вы сами не хотите родить хлеб, оттого и легко мурзе держать вас в страхе.
— Ты неправду говоришь, пришелец. Мы очень хотим родить хлеб. Все, что мы добываем в лесу: шкурки, мед, воск — все идет мурзе в обмен за муку. Если бы мы имели свой хлеб...
— Так имейте! — воскликнул Ешка.
— А где взять семена?
— Мы вам дадим семена. Смотри, старик! — Ешка подбежал к мешку, стоявшему в стороне, набрал полные пригоршни овса и высыпал перед удивленным Чка.
— Это не наши семена. Это ваши. У нас закон есть: чужое не брать.
Неожиданный отказ старика удивил всех и озадачил. Ирина первая догадалась предложить обмен:
— Пусть будут наши семена, а ваша земля.
Чка потоптался на одном месте, сказал:
— Я пойду, пожалуй. С людьми рода поговорить надо. Потом приду,— и он зашагал по тропинке в руэм...
Склонились над рекой хвостатые ивы, смотрится в водную гладь диковатый орешник. Берега заросли мелким ольшаником, могучий лес близко к воде не пускает. Место для руэма самое подходящее. Сорок лет назад облюбовал Чка берега этой речки и перекочевал сюда со своей многочисленной семьей. Каждый член его рода вырубил себе место для кудо. Так возник Чкаруэм, выруб рода Чка.
Сейчас Чкаруэм разросся. Около руэма расчищена огромная поляна, где растут буйные травы. Тут пасут чкаруэмцы свой скот— коров, овец и коз. На нее приходят люди Чкаруэма попеть песни, поплясать и держать, если потребуется, совет.
Сегодня на поляне многолюдно. Чка собрал сюда всех мужчин.
— Мужчины! — сказал он,— на берегу Корак-иксы[1] появились люди чужого племени. Я думаю — это добрые люди. У них есть семена хлеба, и они хотят родить его на нашей земле. Что думают мужчины об этом?
— Иметь свой хлеб — больно ладно! — воскликнул младший сын старейшины Ургаш.— Однако страшно. А вдруг мурза узнает?
— Все мурза да мурза! — крикнул Топкай.— Мы, как овцы, шарахаемся по сторонам при одном его имени. Мужчины мы или нет? Пора сказать нам свое слово — вон сколько нас! Мы отдаем ему ясак, пусть не мешает нам жить, как мы хотим. Земля здесь наша, н мы будем родить на ней хлеб!
— А если придут воины Япанчи и потопчут все наши посевы?
— Если сломают хребет каждому, кто ослушался? Что тогда?
— Кто это говорит такие слова? — Чка поднялся.— Я не узнаю моих сынов и внуков. Есть великая правда на свете: каждый человек волен брать от земли все, что она может дать. Боги помогут нам отстоять эту правду от жестокого и несправедливого мурзы.
— Дай я скажу, отец,—Топкай вскочил на пенек.— Мужчины, слушайте! Нас тут сорок патыров, у каждого нож и стрелы. А если поднять всех наших людей, если послать ходоков в соседние илемы, можно набрать три сотни человек. Неужели мы не защитим себя?
— Защитим, Топкай! — раздались голоса.
— В обиду себя не дадим!
— Ты зря сказал — мы не овечки!
— Я это же говорю. Надо идти к людям на Корак-иксу и принять их в свою семью. Надо самим родить хлеб.
— Да будет так,— сказал Чка, подняв руки над головой.
Ешка все лето помогал старикам добывать мед. Санька подружился с Ургашем, и они все дни пропадали в лесу, на охоте. Никогда ранее столь удачной охоты Санька не видывал. Леса были полны зверьем: белки, лисы, куницы, а к осени пошел черный соболь. Не было такого дня, чтобы Санька не натянул на рогульки десятка полтора шкурок. Ургаш и другие охотники добывали шкур еще больше. Мясо сушили впрок. Летом еду давала речка. Шигонька с Топкаем пристрастились к рыбной ловле и все дни проводили на реке.
Ирина помогала женщинам руэма в их обычных домашних делах.
Уходя на охоту, на рыбную ловлю, люди проходили мимо полян и радовались. Невиданное дело: овес вымахал до пояса, стоял густо, отливаясь темно-зеленой волной. Потом начал исподволь желтеть.
Убирали урожай всем руэмом.
Санька и Шигонька дивились, глядя на вороха обмолоченного зерна. Половину оставили на семена, остальное разделили поровну на каждое кудо. Пусть всем досталось не так уж много, но это был свой хлеб, за который не нужно было платить шкурками, медом и мясом.
Праздник первого урожая был самым веселым и продолжительным. Гуляли пять дней. Бабы мололи зерно на каменных жерновах, пекли пышные блины, Ешка приготовил острую, хмельную медовщину, нажарили много мяса и рыбы, всего понемногу принесли в жертву богам, а потом вышли на поляну.
Среди старых песен появилась новая. Ее пели девушки, и она, вероятно, родилась тут же, на этом празднике.
Мы неделю вымеряли,
Мы неделю корчевали,
На расчищенной поляне Вырос хлеб.
А мы сеяли его,
И растили мы его —
Убирать тот хлеб придется Тоже нам.
И муки всем нынче хватит —
К свадьбам, к праздникам, к блинам —
Всем невестам, женихам]
Там, где Шуля впадает в реку, которая течет к илему охотника Кундыша, находилась земля татарина Абаса. Какая злая судьба занесла предков Абаса в эти глухие места, никто не помнит. Может, нарочно послали сюда мурзы своих подданных соплеменников, чтобы те помогали им держать в повиновении черемисов—кто знает? Может, сами убежали от гнева жестокого властелина, может, изгнали их татары из своих улусов за какую-нибудь вину. Неизвестно, как жили между собой предки Абаса и первые чкаруэм- цы, но теперь соседи живут дружно. Да и что им делить? Ясак они платят наравне, мурза Япанча, так же как и чкаруэмцам, запрещает Абасу сеять свой хлеб, а в годы нужды и татары терпят одно горе.
Поэтому Абас, узнав о том, что в Чкаруэме выращен свой хлеб, сразу поехал к соседям. Чкаруэмцы встретили его приветливо, угостили блинами, привели в кудо к русским.
Погостил Абас у соседей не долго. В его лодку погрузили чкаруэмцы три мешка овса, а в лодку Топкая — одну соху. И поехали Топкай и Шигонька провожать соседа до его дома.
Потом наступила зима. Шигонька решил, что теперь пришла пора приобщать язычников к православной вере, благо, времени для этого в долгие зимние вечера хоть отбавляй.
Мурза Япанча, будто стрела, спущенная с лука, летит, не считаясь ни с чем, разит всякого, кто стоит на пути.
И оттого удача всегда сопутствует Япанче. Для него опасностей не существует.
Появился в его землях недруг — мурза не спрашивает, сколько врагов, он только успеет узнать где — и вот уже взвился любимый конь под Япанчой, и некогда ждать, когда соберутся его джигиты. Как вихрь, налетит на врага, разметает противника по сторонам, нанесет великий урон — и нет Япанчи, попробуй, догони его.
Так случилось и этой весной. Узнал мурза, что в землях Абаса и в Чкаруэме появились русские люди, гнев закипел в глазах Япанчи. А как узнал, что эти русские в прошлое лето привезли черемисам зерно, посеяли его и убрали, совсем рассвирепел и послал в Чкаруэм по только что просохшим дорогам пятерых воинов. Те вернулись с тревожной вестью: чкаруэмцы посеяли овса в три раза больше, чем в прошлом году и намерены отстаивать свои посевы.
Япанча, вскочив на коня, помчался в лес. Пятеро джигитов за ним следом...
Отец Япанчи переехал в Казань из Крыма. Был он не знатен и не богат, но отличался смелостью и жестокостью.
В одном из набегов на леса добыл он девушку редкой красоты, привез ее в свой гарем. Отец ее, очень богатый черемисин, предложил за дочь богатый выкуп — десять тысяч шкурок. Взял татарин шкурки, вернул дочь, но не одну. Родила она от крымца сына, и назвали его Япанчой. Рос Япанча среди черемисов, стал лучшим стрелком, лучшим наездником, жестоким воином. Собрал вокруг себя таких же разбойников, как и сам, принялся грабить лесные илемы. Крымская кровь текла в его жилах. Все больше и больше богател дед Япанчи, все шире раздвигал границы своих владений. После продажи десяти тысяч шкурок пошел в гору и отец Япанчи. Он начал торговать и тоже сильно разбогател. Пришло время, умер дед, погиб в набеге отец, а Япанча, соединив два богатства в одно, переехал в Казань. Стал он влиятельным и знатным. Опорой ханского трона стал. И отдал хан Япанче всю Луговую сторону во владение.
Никто не смел ослушаться Япанчи до сих пор. И вдруг какие-то чкаруэмцы, о которых мурза знал только от сборщиков ясака, нарушили его волю.
Ждет их суровая расправа, скачет мурза в Чкаруэм, грызет в гневе кончики своих усов.
— Выслушай меня, пресветлый мурза,— говорит ему старый джнгит, поравнявшись и придерживая коня.
— Говори,— коротко бросает Япанча и сплевывает в сторону.
— Мало нас, ой, как мало. С тобой всего шесть. А черемис, может быть, триста, а может, больше. Я там был и страха в их сердцах не заметил. Подумай об этом.
— Я уже думал. Моя одна сабля стоит двухсот черемисских сабель. Остальных побьете вы.
— А если...
— Ты заедешь в улус Абаса и поднимешь всех татар. Они нам помогут усмирить чкаруэмцев.
Больше за всю дорогу они не произнесли ни слова.
Радость весны, радость сева сменилась для чкаруэмцев тревогой. Прискакали воины Япанчи, постращали жестокой расправой и умчались обратно. Скоро жди самого мурзу.
Кто-то советовал бросить на время руэм и уйти в лес, кто-то говорил, что надо покориться и вытоптать посевы, задобрить Япанчу богатыми подарками. Но таких было мало. Молодые мужчины, Топкай, Ургаш и Санька призывали всех встретить мурзу стрелами, показать свою силу, отстоять хлеб. На том и решили.
На дорогах днем и ночью на деревьях сидели сторожа — приезд Япанчи не должен быть внезапным.
В лесах наделали засеки, в которых постоянно находились по три десятка стрелков.
Весь Чкаруэм и днем и ночью был настороже.
Первыми заметили приближение чужих всадников верховые сторожа. Где-то тревожно закуковала кукушка, еще дальше каркнула ворона. Лес ожил в криках птиц и зверей. Охотники приблизились к дороге.
Япанча понял, что это сигналы о его приближении, и ударил коня плеткой. Наступил момент стремительного набега. Выхватив саблю, как ветер, помчался мурза вперед. Четверо воинов скакали за ним. Вокруг пели черемисские стрелы.
Засеки, расположенные по обеим сторонам дороги, мурза заметил поздно и остановиться в стремительной скачке не смог. Конь пронес его меж засеками, и стрелы, пущенные из завалов, поразили насмерть двух воинов. Два других всадника, резко повернув лошадей, ускакали.
Япанча остался один. Прорваться обратно через засеку не было смысла, и он бросился вперед, к Чкаруэму.
На второй засеке под мурзой убили коня, и он упал, сильно ударившись о землю. Сабля вылетела из рук и затерялась в кустах. Сопротивляться было бесполезно. Из леса выбежали люди и связали его.
Пока вели мурзу в Чкаруэм, он в кровь искусал губы. Злость и обида душили его. Впервые в жизни Япанча познал страшную горечь поражения.
И снова собрались на большой поляне люди. У всех в глазах радость победы, смешанная с тревогой. Все смотрят на старого Чка и ждут, что он скажет. Мурзу развязали, и он с ненавистью глядел на победителей.
— Ты видишь, мурза, боги наказали тебя за то, что ты нарушил правду земли,— начал говорить Чка.
— Не ври, старый шайтан,— я живу по законам аллаха и плюю на твоих богов!
— Ты рожден от марийки, и юмо властен над тобой. Это он помог нам победить тебя.
— Снова врешь, облезлая собака! Не юмо, а русские помогли вам обмануть меня. Но ты рано торжествуешь победу! Через час мой джигит приведет сюда татар из Абасова улуса, и вы заплачете кровавыми слезами. Я сожгу ваши кудо, переломаю хребты вашим людям, а тебя привяжу к хвостам лошадей и разорву напополам. Неужели ты думаешь о победе надо мной, когда половина ханства трепещет перед мурзой Япанчой и его воинами?
— Оставь нас в покое, мурза,— сказал Улем,— и мы будем платить тебе богатый ясак, а тебя отпустим. Дай нам слово.
— Ты, порождение болота, как ты смеешь требовать невозможного? Я был и буду хозяином этих лесов. И не позднее чем через день на этом месте будет куча пепла, а вы превратитесь в падаль. Я так сказал! И если вы даже все будете сейчас лизать носки моих сапог, я не изменю своего решения. А эти русские свиньи... их я увезу в Казань, и они умрут у меня медленной и мучительной смертью. Эге, слышите топот коней, это скачут мои сородичи, это идет ваша смерть!
Все обернулись в сторону дороги и увидели Ургаша и Саньку. Ургаш снял с седла связанного татарина и бросил к ногам Чка.
— Мы поймали его в лесу. Он ехал от Абаса.
— Где помощь, презренный трус!—крикнул Япанча.— Ты не был у Абаса?
— Был, пресветлый мурза. Люди татарского улуса отказались идти тебе на помощь. Они закидали меня грязью... Они тоже сеют хлеб.
— О-о-о проклятье! — простонал мурза и сел на траву.
— Ты в нашей власти, мурза,— снова заговорил Улем,— и никто тебе не поможет. Еще раз прошу: оставь нас в покое, и мы отпустим тебя. Дай нам слово, что никто, кроме сборщиков ясака, не будет нас беспокоить.
— Обещай, что не будешь мстить нам,— добавил Ургаш,—ведь мы защищали себя и правду земли. Не мы первые подняли оружие.
— Хорошо,— сказал мурза, медленно поднимаясь.— Я не трону вас, если вы уничтожите посевы, я оставлю вас в покое, если вы отдадите мне русских.
— А если мы не согласимся на это? — спросил Чка.
— В Казани знают про вашу измену, и не дольше чем через неделю здесь будет все мое войско. Все равно и вы, и русские будете в моих руках.
— Уведите их в сторону, мы будем советоваться,— сказал Чка, и мурзу с воином отвели в кусты.— Как быть, мужчины?
— Я не верю ни одному слову мурзы,— сказал Улем.— Если мы отдадим мурзе наших друзей, мы погубим их и поступим как самые презренные и ничтожные скоты. Еще не было в нашем роду такого, чтобы мы предавали друзей. Если мы уничтожим посевы, мы погубим правду земли, снова будем под сапогом мурзы, если он не уничтожит нас.
— Слушайте, люди! — крикнул Топкай.— Если мы сделаем,
как хочет мурза, мы все равно не спасем себя. Он переловит нас по одному и умертвит. Так лучше погибнуть в бою за правду, чем умирать позорно.
— Зачем умирать, Топкай? — сказал Ургаш.— Неужели разучились пускать стрелы прямо в сердце врага, неужели кровь Она- ров ушла из наших сердец? С нами рядом встанут татары Абаса— они воины не хуже, чем джигиты Япанчи, к нам на помощь придут люди из других руэмов — разве они ненавидят мурзу меньше, чем вы? Его надо убить, а его джигитов не пускать в наши земли. Кто по-другому думает?
— Долгое время мы жили мирно,— начал говорить Чка.— Теперь, видно, пришла пора войны, и надо отстаивать свои жилища. Я так понял ваши слова. Русских гостей мурзе мы не дадим, посевы топтать не будем. Мурзу убивать не будем — недостойно убивать безоружного. Ведите сюда пленников.
Япанча вошел в круг с высоко поднятой головой. Он был уверен, что черемисы сейчас поклонятся ему и станут просить милости у него.
— Мои люди решили отпустить тебя, мурза, с миром,— сказал Чка.— Ты видишь хлеб, который растет на этом поле. Семена этого хлеба мы вырастили сами, на нашей земле, и никто не волен отнять плоды нашего труда. Мы соберем этот хлеб. Он наш. Русских не отдадим—мы не нарушим великий закон гостеприимства. Иди домой и осенью посылай сборщиков ясака. Но если тебе ясака будет мало и ты пойдешь на нас войной, пусть будет война. Так решил совет. Развяжите их, отдайте коней.
Мурза вскочил на коня, скрипнул зубами, рванул удила. Конь взвился на дыбы, Япанча поднял руку, погрозил нагайкой, и скоро лес поглотил двух всадников.
До глубокой осени жил Чкаруэм тревогой, ожидая набега Япанчи. Но мурза не появился. Потом узнали, что молодой русский царь пошел на Казань войной, и все войско Япанчи ушло в сторону Свпяти.
Урожай овса был убран без помех, и на осеннем празднике черемисы впервые пекли коман мелна из своего хлеба.
ТРЕТИЙ ШАГ САФЫ-ГИРЕЯ
«Поистине, все в руках аллаха всемогущего, и нет иных повелений, кроме его воли»,— так думал Булат, размышляя о превратностях своей судьбы. Истинно сказано: «Велик аллах, и только он управляет судьбами правоверных».
Думал Булат, что встал он близко к трону, но пришел на Казань Сафа-Гирей вторично — и куда девалась власть покровительницы Сююмбике? Смёл ее с трона Сафа, и если бы не ум и красота великолепной, влачить бы ей горькую судьбу в ногайских
степях.
Сумела несравненная Сююм покорить сердце Сафы — и снова она у престола, а он, Булат, кому было обещано так много, опять с покорностью выслушивает повеления хана.
- Думал Булат, что был он близко у сердца прекрасной Сююмбике, а, выходит, ошибался. Только Алим Кучак-оглан люб царице, только его одного не забыла она, став пятой женой Сафы- Гирея.
Думал Булат, что не вспомнит его Сююмбике никогда, и снова ошибся. Еще раз позвала к себе Булата царица и так же, как в старое время, ночью. Так же встретила его с лаской и так же начала говорить тайные речи.
— О славный эмир, ты несправедлив ко мне, забывая бедную и униженную Сююмбике,— жалобно проговорила она, встречая его на пороге своих покоев.— Где обещанная тобою опора, помощь в моих делах?
— Я всегда твой раб, моя царица. Ты забыла меня — я молчал, ты позвала — я пришел. Приказывай — я сделаю все.
— Много сказать тебе надо бы, да время стоит над нами — тебе быть здесь долго нельзя. Слушай. Настала пора выгнать Сафу из Казани. Я узнала тайную весть: Сафе из Крыма обещанных войск не дают, ногайские джигиты послушны только мне, и теперь Сафа-Гирей сидит, стреноженный страхом. Поднимай казанцев — и мы вместе выгоним Сафу.
— А потом? Сможешь ли ты с ногайцами удержать трон?
— Не смогу. Пока попросим на престол Шах-Али. Он с русским царем пока трон наш поддержит, крымцев не пустит.
— Если мы выгоним Сафу, то зачем звать Шах-Али? Русские знают, что я их друг и поддержат меня как хана.
— Ты знаешь молодого царя Ивана?
— Нет, еще не видел.
— Лучше Шах-Али для него друга нет. Позволит ли он быть на Казани кому-либо, кроме Шах-Али? И потом: Шах-Али нам все равно житья не даст. Лучше пусть он с честью умрет в Казани.
— Твой разум велик. Я иду собирать моих друзей.
— Готовы будьте. Когда пора придет, я позову тебя. Иди.
Идет Булат по Казани, ничего не видит вокруг, не слышит. Думу думает. Почему Сююмбике его ханом сделать хочет? Ужели Алима разлюбила? Может, хитростью погубить Булата хочет? Сколько времени не звала, а тут позвала. «Ах, будь что будет! — решает Булат.—Все в руках аллаха».
И снова ошибся Булат. На этот раз судьба его была в руках шайтана. Что до этого произошло, он не знал, не знал, что дошли
до хана тяжелые вести. Первая весть — собирается молодой русский царь в поход на Казань, и Шигалей поведет самую большую рать. Сафа-Гирей боится Шигалея: воин он опасный, все слабости Казани знает. Ненавидит хан Шигалея, клянет его до пены на губах.
И Сафа позвал к себе Кучака и самых близких беев, чтобы посоветоваться. Позвав, сказал прямо:
— Ш ах-Али надо убить!
— Как убить? — думают беи и мурзы.— Если послать воинов в Касимов, где живет хан Шигалей, то русские их поймают в пути.
— Отравить,—предложил кто-то.
— Если можно было бы, давно бы отравили. Осторожен Шах- Али. Чужих к себе не допускает, за стол садится—сперва слуг кормит. Спать ложится — сперва под одеяло постельников кладет. От людей — вроде бы постель греть, а на самом деле узнать: может, посыпали кошму ядом или вдруг впустили змею.
Думали-думали, так ничего и не придумали. Кучак сказал напоследок:
— Надо готовиться к встрече русских, а Шигалея убить пока не только нам, но и шайтану не под силу. Поеду к черемисам, убью Аказа и его людей, про Москву забудут и думать.
Когда все ушли, Сафа-Гирей вспомнил слова мурзы про шайтана и улыбнулся: «Где шайтану не под силу, туда посылают женщину». Гирей переоделся и пошел на женскую половину дворца, в покои Сююмбике.
— Да благословит аллах твои шаги, которые приводят тебя в мою обитель,— сказала Сююмбике, поклонилась хану и усадила его на мягкое ложе. Сама села чуть поодаль, как и полагается сидеть пятой жене хана.
--Я бываю на твоем пороге больше, чем у всех четырех жен. Ноги сами несут меня в твои объятия,— сказал хан.
-- Мой повелитель устал сегодня? Говорят, два важных дела
решал он на малом совете?
— Кто говорит? Совет прошел только что, и никто ничего не может знать о нем.
— Но совет не был тайным?
— Нет.
— А все, что не тайное, значит, явное.
-- Не будь я Сафа-Гирей, если шайтан не приходится тебе братом! Ты даже знаешь, о чем мы говорили?
— Догадываюсь, свет моей души.
— Мы не могли придумать, как...
— Как убить хана Шах-Али,— закончила Сююмбике.— Мало думали, великий хан. А Шах-Али убить не так уж трудно.
— Как?
— Пусть сторонники Москвы — Булат, Чура, Беюрган и Ка- дыш — выгонят тебя из Казани...
— Да отсохнет твой язык — что ты говоришь!
— Выслушай до конца. Пусть они поднимутся на тебя, и ты для отвода глаз повоюешь с ними немного и уйдешь куда-нибудь из Казани, ну, пусть на камские берега. Пока ты там будешь охотиться и собирать ясак, Булат и Чура пусть попросят на царство хана Шах-Али. Царь Иван пошлет его в Казань, а остальное сотворится с помощью аллаха. Ты приедешь как раз на похороны ненавистного тебе Шах-Али.
— А если сам Чура займет трон?
— Я остаюсь здесь, Алим Кучак-оглан останется здесь, и все будет как надо, блистательный.
— Твой совет заслуживает моего внимания. Я подумаю,— медленно ответил хан и задумался.
— Слышала я, что горная черемиса отходит к Москве?
— Этому не бывать! Кучак убьет Аказа...
— Прежде, чем принять совет Кучака, ты, хан, как меч, заостри свой разум.
— Разве Кучак сказал плохо?
— Может быть, хорошо, но не умно, свет очей моих. Черемисоз ты знаешь — они упрямы. Мурза убьет Аказа, это только озлобит их, и они пошлют Янгина.
— Мурза убьет и его!
— Пока он ловит Янгина, в Москву уйдет сотня послов. Всех черемисов не перебьешь... Не лучше ли мурзе послать туда джигитов, пусть они займут все дороги во все стороны и до зимы не пропустят по ним ни одного черемисина. Пусть во все глаза следят за Аказом и его друзьями, пусть не дают собирать совет старейшин, и тогда послы не уйдут.
— Ты говоришь — до зимы?
— Когда встанет Волга и начнутся морозы, ни один черемисин не отважится на такой длинный путь.
— Я все думаю, отчего Аказ верно служить Казани не хочет, почему к Москве тянется. Сколько раз в Казань звал его, не едет, н парод его не покорился нам.
Сююмбике села рядом с мужем, сказала:
— Уже много лет Горной землей владеет Кучак, и в этом весь ответ. Если с тобой, великий хан, мурза гибок и тверд, как сабля, то с черемисами он прям и злобен, как меч. Чуть что не так — (жечь, одно слово против — убить. Вместо того, чтобы приблизить Аказа к себе, он отнял у него невесту, вместо того, чтобы успокоит! народ, он осквернил их мольбища. Поверь, владычный, черемисы еще терпеливы, другие давно бы перешли к Москве.
Хан, развалившись на софе, слушал жену, закрыв глаза. Он молчал долго, думая о Сююмбике: «Я сначала видел в ней только хитрость змеи, но теперь понимаю, что в ней есть мудрость владыки. О аллах, как щедро наградил ты эту женщину достоинствами! Ее советы всегда хороши»...
Ныне царский летописец из молодых.
Он вносит в книгу по приказу царя все дела государевы чуть ли не ежедневно.
В ту пору, когда царь переехал на длительное моление во Владимир, в Царственную книгу записано:
«Во Володимере января 17 приехал к великому князю из Казани Рудак Булатов с грамотою.Казанцы Беюрган-сеит, Кадыш- князь и Чура Нарыкович писали в грамоте, что Сафкирея-царя с Казани согнали, а крымских людей многих побили».
Изобразив в картинке приезд послов казанских, летописец добавил еще:
«Тоя ж зимы марта 15 прислали к великому князю сеиты и уланы и князи послов бити челом, чтобы государь пожаловал отпустить к ним Шигалея-царя немедля. Тоя ж зимы апреля 7 князь великий Шигалея на Казань отпустил».
Был конец апреля. Ранним утром Шигалей и с ним тысяча воинов подъехали к стенам Казани. Помогать царствовать с ханом вместе прибыли два боярина: князь Дмитрий Вельский да князь Дмитрий Палецкой. Поскольку оба боярина за житейскими треволнениями грамотой овладеть не успели, дан им был письменных дел дьяк Постник Губин.
Едучи по зову казанцев, Шигалей надеялся на пышную встречу. Он остановился у города и приказал воинам своим почиститься и привести себя в приглядный вид. Сам принялся менять походную одежду на парадную. Ждал, когда казанцы встречать его станут.
И тут открылись городские ворота. Лавиной хлынули из них татары. Но что это? В руках вместо даров — мечи, на плечах вместо праздничных одежд—панцири. Понял хан Шигалей, но поздно. Хотел поднять воинов на коней, увидел: со стороны рек Казанки и Булака мчатся конники с пиками наперевес.
Мороз прошел по спине хана. Но подавил Шигалей страх. Около него бояре со слугами да насмерть перепуганный дьяк Губин. Окружили их татары со всех сторон, как водой в половодье, к хану подскочил на коне мурза Кучак, надменно произнес:
— Да благословит аллах твой приезд, хан Шах-Али. За столь скромную встречу прости. Стало нам известно, что ведешь ты на Казань русское войско и русских воевод и хочешь править ханством рукой Москвы. Мы этого не хотим! Мы звали только тебя, н только ты один будешь на троне. Пусть воевода Палецкой, что приехал править Казанью вместе с тобой, уезжает домой, пусть князь Вельский, что послан охранять тебя, живет за стенами города— в Казани ему нечего делать, ты там и так будешь в безопасности.
Все это Кучак произнес по-русски. Затем по-татарски добавил;
— Зачем тебе русские советники? Разве ты сам не сможешь быть достойным Казани ханом? Иль ты боишься трона?
Шигалей ничего не ответил мурзе. Да и что было говорить, коль был он у этих людей в плену. Он тронул коня и двинулся к воротам Казани. Палецкого и Вельского в город не пустили, и те, от- лохнув на берегу Казанки, вместе с шигалеевскими воинами пошлись обратно в сторону Москвы.
Для Шигалея началась странная и непонятная жизнь. Почтение и слава ему — как хану. Свободой пользуется не больше, чем пленник. Ни одна грамота, ни один фирман без его подписи не уходит. Кто грамоты, фирманы пишет—он не знает.
Казну ханскую ему не показывают, денег не дают. Окружают его люди вроде бы доброжелательные, но по глазам хан видит; верить ни одному нельзя.
И одно теперь у хана на уме: бежать из Казани. А как бежать? Не только из города, из дворца не выпускают.
Наступила осень. Приближался праздник. В один из вечеров к хану тайно прошли Булат и Чура Нарыков. Поведали они хану страшную тайну. В праздник задумали приверженцы Сафы хана Шигалея убить. Покаялся Булат, что в этом виной только он один. Завлекла его в свои сети царица Сююмбике и научила просить хана в Казань на престол. Не думая о коварстве Сафы, он, Булат, уговорил Чуру и других — и вот Шигалей в Казани. А Сафа-Гирей еще тогда замыслил убить хана и нарочно ушел из Казани. И теперь стоит он недалеко от города и после праздника, как только Шигалея убьют, войдет в Казань.
Мы хотим искупить свою вину перед тобой и перед русским марем,— сказал Чура Нарыков.— Мы поможем тебе бежать.
В первый же день праздника я устрою большой пир,— до- бавил Булат.—-Позову Кучака и всех его сторонников. А ты, хан, Си їм. Мои слуги проводят тебя, укажут место, где низкая стена.
Минул праздник. К Сафе-Гирею прискакал вестник от Кучака. и передал недобрую весть: хан Шигалей бежал из Казани. В Первый день праздника все знатные люди города пошли на пир к Булату. Пили много. Потом пошли убивать хана. Но Чуфа Нарыков по дороге зазвал их в свой дом, а что было дальше —никто не помнит. Проснулись утром все связанные веревками, стража вся перебита. Кто сделал — неизвестно. Но скорее это дело рук Чуры. Иначе зачем было сегодня Чуре и всему его роду бежать из города.
— Мурза Кучак,— закончил вестник,— просит тебя, о великий сын Гиреев, как можно скорее прийти в город.
— Хорошо,— сказал Сафа.— Скачи и передай мурзе: я скоро буду в Казани.
И когда конник ускакал, Гирей обратился к Алиму, стоящему с ним рядом:
— Третий раз я буду входить в Казань, и пусть трепещут мои враги! Этот третий шаг мой будет кровавым. Ужас и страх посею я в сердцах казанцев, а тех, кто смотрит на Москву, я всех до одного посажу на колья! Аллах шлет нам великое испытание: русские рати вот-вот двинутся на Казань, и только на пользу будет смерть всех, кто верен московскому царьку... В дорогу, Алим, я в третий раз беру в руки Казань!
Кровавое солнце поднялось на следующее утро над городом. Всю ночь по улицам Казани метались воины Сафы-Гирея и резали всех, кто хоть сколько-нибудь был замечен в неприязни к крымцам. Не щадили ни женщин, ни детей, ни стариков.
На окраинах возникли целые заборы из заостренных кольев. На них — трупы с искаженными от боли лицами.
Посланная за Чурой погоня возвратилась в Казань с успехом. Не захотел Чура расстаться со своим добром — бежал из города тихо, и легкие воины скоро его догнали. Полегли в бою Чура и трое его сыновей, потеряли головы слуги, все богатство Чуры, его жен и дочерей приволокли джигиты к ногам Сафы-Гирая. И закончился славный род Чуры Нарыкова — лучшего друга Москвы.
В Казани погиб Булат от сабли Кучака, зарезан в постели Беюр- ган, Кадыш посажен на кол.
Немногие сторонники Москвы сумели убежать из города. Объятые ужасом, они рассеялись по лесам, пробиваясь в Касимов, под руку хана Шигалея.
[1] Корак-икса (мар.) — Вороний залив.
КОГТИ ОРЛЕНКА
Ю
ному государю шел четырнадцатый год. За те пять лет, что прошли после смерти матери, молодой Иван испытал столько горя и унижений, сколько не испытал самый захудалый князишко за целую жизнь. В кремлевских палатах бояре, устроившись Имкрспко, грызлись меж собою.
Делили власть, до хрипоты лаялись при дележе украденного у государевой казны добра.
Землями русскими никто не управляет—не до этого. Как умерла Елена Глинская, вотчины великокняжеские, самые большие и богатые, остались без призора. Бояре, будто волки, то один то другой отрывают от этих земель по куску, людишек вотчинных рубят средь бела дня.
Царя держат будто скомороха — для смеха. Первые годы водит его, как и завещала Елена, на Боярскую Думу, но не для совета, а чтобы потешиться. Бывало, приведут Ивана, посадят на трон, дадут ему игрушек-погремушек и строго скажут: «Играй», если он вдруг вздумает сказать слово, Шуйский в ответ кивнет Какому-нибудь боярину и скажет:
Воевода, куда смотришь? Государю нос утри.
А сами смеются. А потом и совсем на думу звать перестали.
Рос Иван, почитай, без надзора. Стоит кого-нибудь приблизить к себе, бояре сразу насторожатся: вдруг тот человек на власть метит. Минет неделя-другая — и человек тот либо в ссылке, либо в яме, либо на плахе. И снова юный царь в одиночестве. Уж больно хотелось боярам царя неучем оставить, только воли на это нет. Ум и душа царская во власти бога и митрополита. А митрополит Макарий приставил к молодому царю иерея Сильвестра, мужа умнейшего и начитанного. И тот каждый вечер с царем в молельной келье. А боярам в ту комнату доступа нет. Научившись грамоте, царенок накинулся на книги с превеликой жадностью. Прочитал и выучил наизусть творения святых отцов, Римскую историю, (древнюю историю и все летописи, что сохранились в митрополичьих палатах.
Дяди по матери царя — Юрий и Михаил Глинские — живут в Кремле в безвестности, ниже травы, тише воды. Один — царской (мильней верховодит, другой — еще смешнее: главный над мужиками, что вывозят из Кремля всякую нечисть. К царю им и не прогни ней.
Но однажды Иван пошел осмотреть псарню, да что-то долго
там задержался. А на другой день в Боярской Думе вроде бы ни к селу ни к городу спросил:
— Доколе же, князья и бояре, будем нечисть терпеть? Кремль совсем захламили. Мужиков чистоты улошной ради держим в Кремле мало. Срам какой!
Бояре похохотали в бороды над царской несуразностью, одначе постановили волю государеву выполнить—набрать чистильщиков улочных столько, сколько потребно.
И потом:
— Скушно мне с вами, бояре. Хочу псовой охотой тешиться. Ныне псарей у нас и полсотни не набрать, а мне надо больше.
У Шуйских на лицах просветление. Царь сам от власти бежит, пусть тешится охотой хоть до светопреставления, дума решила денег на увеличение псарни не жалеть.
Прошел год. В Кремле чистота — нигде ни соринки, на кремлевских улицах и площадках ходят свирепого вида мужики с метлами. На царской псарне собак стало более тысячи, а псарей двести, а то, пожалуй, и более.
«Сидение царя с бояры» началось сразу после завтрака. Грановитая палата по сему случаю натоплена жарче, чем в иные дни. Прежде сидение начиналось так: соберутся бояре в палате, договорятся меж собой о чем им надобно, потом зовут государя. А иногда и не зовут. Да и зачем звать, если и при царе совета его не спрашивают, а часто в спорах и совсем забывают о нем.
Сегодня бояре раскрыли рты от удивления: царь сам позвал их на сидение. Степенно вошли и сели на самое высокое, почти вровень с троном, место князья Шуйские: Иван, Андрей и Федор. Эти — первосоветники думы. Чуть ниже них советники — бояре Шкурлятьев, Иван Шемяка, Иван Турунтай да Алексей Басманов. Еще ниже—Фома Головин, Юрий Темкин и другие бояре. Митрополит Макарий—по правую руку, с троном рядом.
Не многие бояре заметили перемену в государе: он был необычно бледен, в глазах блеск, на бояр глядит прямым смелым взглядом.
Боярин Андрей Шуйский хотел было, как и прежде, сказать первое слово, но не успел подняться — царь жестом остановил его:
— Князь Андрей Михайлов, сколь мне ведомо, у нас седни на думе иноземные дела. А сими делами ведает Посольский приказ, в коем главой Иван Турунтай-Пронский. Твое слово, князь Иван.
Опасливо поглядывая на Шуйских, поднялся князь Турунтай, развернул свиток, начал говорить:
— За минулые четыре месяца побывали на нашем вздворье четыре посла. Первый был мурза Куслубек от хана из Астрахани с грамотой, и пишет тот хан, чтобы князь великий был с ним в дружбе. В третью неделю святого поста был посланник Аксеит от крымского хана Саип-Гирея, а пишет Саип-Гирей о крепкой дружбе. Осенью пришли наши послы от Жигмонта, короля польского, с перемирною грамотою за королевской печатью, и еще были валахские послы от воеводы Крестовладовича с просьбою.
— И порешили мы...— начал с места Андрей Шуйский, но царь снова осадил его:
— Когда спросят твоего совета, скажешь.
Мохнатые брови Шуйского взметнулись вверх, он глядел на Ивана гневно. Бояре зашумели, по палате рассыпался грозный рокот. Иван Шуйский вскочил с места и, вытянув шею к трону, язвительно выкрикнул:
— Уж не твоего ли наушника Федьки советы будем слушать?!
Федор Воронцов спокойно встал и также спокойно заметил:
— Советы давать я, может, и не гож, а вот спросить князя Ту- рунтая хочу. Скажи, Иван, сын Пронский, отчего бы это астраханский и крымский ханы на дружбу так щедры? Сколько мы таких послов уж видели, а орды крымские и ногайские доселе терзают наши окраины. Ты думаешь, мы не знаем, чего ради он грамоту послал? Знаем. Золотом государевой казны эта дружба куплена. Да и дружба ли? Пока откуп не послан, на рубежах земли тихо, как золото послали, так и начинается снова грабеж наших вотчин. От этого казне не польза, а истощение, да позор на государя нашего кладем.
— Врешь, неумытое рыло!— завопил Федор Шуйский.
— Князь Федор Иваныч, умолкни!—сурово сказал молодой царь и, подавшись вперед, кивнул на Воронцова:—Разве он неправду изрек? Разве не сделали нас, бояре, жертвой и посмешищем неверных? Хан крымский дает нам законы, царь казанский нас грабит и обманывает, а мы сидим здесь и хвалимся своим терпением перед ханами; они терзают отечество наше. Посольский воевода! Прочти, что написал нам Саип-Гирей уже после грамоты и дружбе?
Князь Турунтай суетливо вынул из рукава грамоту и начал чи- I а п., запинаясь:
— «...У меня больше ста тысяч рати: если возьму в твоей земле по одной голове, то сколько твоей земле убытка будет? А сколько моей казне прибытка? Вот я иду—будь готов. Я не украдкой иду...»
И какой ответ на сие дерзкое письмо дан? Ну, что молчишь? Князь Андрей, говори. Вот теперь твое слово.
Бояре решили и послали в Крым посольство с дарами и с
указанием не трогать казанского царя...
Не трогать, говоришь? А чьим именем посольство будет твориться?
Твоим, государь,— ответил за Шуйского Федор Воронцов.
— Моим? Я о сем посольстве первый раз слышу. Как же вы без моего ведома...
Иван поднялся с трона, встал на ковер и гневно крикнул:
— Казань не трогать?! Значит, смиренно терпеть, глядя, как хан казанский, подобно Батыю, опустошает галичские, муромские, владимирские, устюжские, вятские и вологодские земли? Какая вам, бояре, корысть от того смирения?
— Корысть есть, государь!— Воронцов посмотрел на Шуйских и добавил:— На минувшем сидении без твоего ведома дума отрешила выделить хану даров на восемьдесят тыщ, а посольство увезло только шестьдесят тыщ. Остальное, пока несли от казны до посольства, повытряслось. В чьи карманы — неведомо. Может, к Шуйским. Посольство-то наряжали они.
Шуйские вскочили все трое разом, закричали:
— Ах ты, пес смердящий! Да ты считал посольские дары?
— Выходит, мы воры? А ты поймал, беспортошник?
— Пусть докажет! Пусть докажет!
— И докажу,— Воронцов, как и раньше, говорил спокойно.— Князь Юрий Темкин сам во хмело хвалился, что он вместе с Шуйским погрел руки на посольских дарах.
— Лжешь!—Темкин побежал к Воронцову и, по-петушиному прыгая вокруг него, повторял:—Лжешь ведь! Лжешь!
Воронцов, отмахиваясь от наседавшего на него Темкина, нечаянно толкнул его в плечо.
— Ах, ты —драться?—взвыл Темкин.— На боярина руку поднял, ирод!—И, широко размахнувшись, он с силой ударил Воронцова по лицу. Из носа хлынула кровь. Что-то звериное проснулось в сердцах Шуйских: увидев кровь, они бросились на Воронцова, повалили его и остервенело стали бить по щекам, по голове.
Драка в думе для молодого государя — не новинка. Такие потасовки он даже любил и смотрел на них с наслаждением, взобравшись на трон с ногами. Но сейчас били его любимца за правдивые слова, и потому Ивану нужно было остановить бояр. Он крикнул, но на это не обратили внимания—Воронцова волокли к выходу.
— Владыка, останови их!—Иван повернулся к митрополиту Макарию и указал на дверь...
Макарий с похвальной для его возраста поспешностью побежал по палате, волоча мантию по каменному полу. Князь Фома Головин, увидев владыку, понял, что он спасет его давнего недруга Воронцова, и бросился наперерез. Но не успел. Макарий пробежал мимо, и перед Фомой мелькнул хвост белой мантии. Головин наступил на этот хвост. Митрополита.дернуло назад, раздался треск, мантия порвалась,и владыка растянулся на полу. Тогда Иван подбежал к Макарию, поднял митрополита, посох и, догнав
Андрея Шуйского, тянувшего свою жертву через порог, ударил его посохом по шее.
Шуйский выпрямился, схватил Ивана за подмышки, прижал к окну и, обдав запахом чеснока, прохрипел:
— Ты кого, молокосос, бьешь? Да я тебе в деды гожусь. Да я из тебя весь дух выбью!
Иван взглянул в окно и увидел на крыльце братьев Глинских. Они ждали знака. Только тут вспомнил про них перепуганный царь. Он пнул Шуйского в живот и, отскочив от него, махнул рукой.
В палату ворвались Юрий и Михаил Глинские, с ним десяток псарей.
Иван быстро прошел к трону и, указав на Андрея Шуйского, спокойно произнес:
— Вора и убийцу Андрюшку взять.— Потом, когда псари схватили князя, добавил:—Псам его на растерзание.
Шуйские бросились к Андрею на выручку, но поздно: за плечами у каждого стояло по три дюжих псаря.
Бояре, перепуганные неожиданным поворотом дела, робко стали рассаживаться по своим местам. Украдкой поглядывали они в окна, их еще более сковывал страх: на кремлевском дворе десятками ходили вооруженные псари и наземники. Царь сидел на троне н молчал. Молчали и бояре.
Гулко прозвучали спешные шаги по ступенькам крыльца, и в палату вбежал Юрий Глинский.
— Прости, государь. Слуги твои верные, но неумелые переусердствовали: вора и убийцу Андрюшку Шуйского, не доведя до места, разорвали. Как повелишь поступить с ними?
— От имени моего их пожалуй. А Юрку Темкина, поднявшего руку на честного князя Федора,—на плаху.
Глинский махнул рукой в сторону Темкина. Псари увели его.
— Фому Головина за святотатство и оскорбление владыки — в цепи и сослать в отдаленные края. Отныне будет так со всяким, кто на честь царскую посягнет. Турунтай, говори дальше про иноземные дела. Говори честно! Коль будешь врать...
Турунтай дрожащими руками развернул свиток, но сколько ни пытался произнести хоть одно слово, губы не слушались его. Нечего греха таить: иноземные дела он вел из рук вон плохо, дары, VI пенные от посольства, с Шуйскими делил и потому чувствовал около своей шеи плаху и топор палача.
Ну, что — язык съел?—Иван рассмеялся,—Сколь помню, на совете за тебя говорил Шуйский. Ноне Андрюшки нет, видно, мне придется сказать. Слушайте, бояре! Сколько раз неверные поело» к нам слали и клятвы творили? Превеликое множество раз. И никогда в правде и правоте этим клятвам не пребывали, ложь і корили, христиан наших хватали в плен тысячами, многие церкви наши осквернили, привели в запустение. Может ли терпеть сие наша благочестивая держава? Скажи, отец наш Макарий.
— Поругание веры христианской терпеть не можно, сын мой!
— И я так мыслю. А посему нынешней же весной послать на казанцев рать и воевать не токмо в наших пределах, но и на их земле.
— Позволь, государь, слово молвить,— поднялся с места Басманов.
— Говори, Алексей.
— До весны рать готова не будет. Я не знаю, ведомо ли тебе, но у нас все рати бояре разослали на окрайные рубежи. Воевода Курбский на южных рубежах, князь Серебряный с войском в Вятке, воевода Львов в Перми, Воротынский на литовских рубежах. В Москве лишь воевода Пунков с малой ратью. За зиму войско не собрать.
— А разве я повелевал собирать войско?—царь насмешливо глянул на Басманова, потом на Федора Шуйского, по приказу которого были разбросаны рати.—Я повелел послать рати на Казань, и они пойдут. Князь Федор Шуйский!
— Я тут, государь.
— Большой полк с воеводой Семеном Ивановичем Пунковым, говоришь, в Москве? Где наш передовой полк?
— Во Владимире с воеводой Шереметьевым.
— Сторожевой?
— В Нижнем Новгороде с воеводой Давидом Палецким.
— Пусть все эти полки к весне будут на Волге и по-легкому на стругах идут к Казани... Окромя того, пусть князь Василий Се- ! ребряный, оставив Вятку, всей ратью идет в Казань же, и Львов, оставив Пермь, тож. И пусть сойдутся они в едином месте в один, день, в один час, как будто вышли с одного двора, и пусть вершат мое повеление. А посольство в Крым догнать и вернуть. А дары водворить в казну, и ты, слышь, князь Иван,—водворить полностью.
— А ежели Саип-Гирей крымский на нас пойдет?
— Не пойдет. Пугает только. А что касаемо астраханского посла, то дружбу от него принять, даров не давать, говоря, что мы,| русские, привыкли дружить бескорыстно. Князь Турунтай, скажи с какою просьбою пришли валахские послы?
— В-воевода К-крестовладович просит поможения для того, чтобы откупиться от туркского султана. И просит он три тыщи золотых червленых.
— Скажи послам, что просимое будет им дано. Воевода ва-1 лахский не токмо наш давний друг, но по деду моему близкая нам родня. И кто ему более поможет, ежели не мы? Что еще из ино- земных дел у нас осталось, князь Турунтай?
— Более ничего, великий государь.
— Ну и слава богу. Спасибо за совет, князья и бояре. Идите по домам с миром.
Выходя из палаты, князь Шкурлятьев шепнул Федору Шуйскому:
— Орленок-то наш оперился. Не заметили—когда.
— Не только оперился, а и когти показал. Мыслю я, власть боярская самодержавная кончилась,— ответил Шуйский и, вздохнув, добавил:—Помяни, господи, душу новопреставленного раба твоего Андрея.
До весны молодой царь нагнал на бояр, князей и воевод такого страху, что те, уходя на государеву думу, каждый раз прощались с родными.
Да и было чего испугаться. Иван не щадил никого, кто хоть как-то поднимал против него голос.
Сначала бояре роптали, а потом видят: жестокость царская разит не без разбору. Да и сам государь, сил своих не жалея, ведет на Руси умное устроение. Притихли бояре, иные впряглись в государево дело с чистым сердцем, иные—от страха перед псарями да наземниками. На «сидениях» советы государю давали осторожно, обдумавши, ибо не гляди, что царь молод, а сразу видит, что к чему.
Весной рати двинулись на Казань.
Семен Пунков и Василий Серебряный сошлись около устья реки Свияги, как и наметил царь, день в день, час в час. А воевода Львов, идучи из Перми, опоздал. А опоздавши, помог Пункову и Серебряному. Казанцы войско Львова заметили раньше и двинули истречь ему свою рать. Зорко следя за ним, они совсем не ждали русских с Волги, и те свалились как снег на голову. Быстро прошли от Свияги до стен Казани, множество татарских улусов сожми и разорили, вызволили около девяти тысяч русских пленных, а затем, спешно повернув назад, ушли к Нижнему Новгороду. Воевода Львов пришел в указанное место поздно, и татары со всей злостью навалились на него. Рать его была рассеяна, а сам воевода убит.
Крестовая палата во дворце доныне местом была тишайшим и благолепным. Своды покрашены небесно-голубым колером, разрисованы херувимами, стены под позолотой с цветочными узорами. Ранее великий князь тут сиживал с боярами, принимал послов, а чаще углублялся сюда, чтобы подумать в тишине, подремать в чистоте.
Ныне в палате беспорядок. Молодой царь облюбовал эту палату для чтения и занятий с Сильвестром и иноземными учителями. Втянули сюда книжный шкаф, притащили добытый откуда-то ганзейский глобус. На столах — свитки, карты, по углам стоят алебарды, копья, пищали, на подоконниках—шеломы и щиты. Сегодня позваны сюда князь Андрей Курбский, князь Серебряный и князь-воевода Дмитрий Вельский. Серебряный сидит на рундуке и молчит, Курбский разглядывает глобус, Шуйский ходит по палате из угла в угол, трясет бородой и злится. Позвали их с утра, скоро полдень, а царя все нет.
Курбский крутанул шар, он легко завертелся, поблескивая зелено-синими боками.
— Штуковина зело занятная,—замечает Курбский.—Давно ли тут и для чего?
— Я сам гадаю, что сие за шар?—промолвил Серебряный.
— Слышал я, что он изображает нашу землю...
— В писании священном сказано: земля стоит на трех китах и держится она...
— Киты! Земля!—перебивает его Вельский. — А мы-то сами держимся на чем? На волоске! Того и гляди... Смотрите, солнышко в зените, с утра мы тут торчим. И кто?! Вот Курбский— князь. Правнук великого святого князя Ростислава. Вот князь Серебряный... Род свой ведет от Рюрика. Мы—Вельские...
— Не до чинов, боярин,— Курбский махнул рукой.— Я чую, нас не за добром позвали...
— И ждем кого?—Не слушая Курбского, бранился Вельский.— Ему ли...
— Замолкни, князь,— сказал Серебряный.— Иван Василии род свой древний от Мономаха ведет. А Мономахов сын Москву возвел...
— Кто? Долгорукий? Подумаешь... шесть кабаков построил на Неглинной, от них разбогател. «Москву возвел!»
— Сегодня, говорят, великий государь не в духе...
— Да я ему в отцы гожусь! А жду с утра. Чего дождусь, неведомо? Бояр ниже смердов ставит.
— Мы виноваты сами.— Князь Андрей отошел от глобуса.— Юного царя ожесточили. Давно ли ни во что его не ставили. Ведь знаете...
— Да как не знать?—Серебряный подошел к окну.— Теперь он нам во всем перечит и доброе строение Руси ломает. Порядки, что от прадедов даны, рушит. От злобы той...
— А может, не от злобы? Порядки старые зело поизносились, обычаи порасшатались,—заметил Курбский.
— От бога все дано, и рушить старое—значит, тешить беса!
— Но если старое негодно?
Хлопнула дверь, в палату быстро вошел царь. Было заметно, что он разгневан, в руке—письмо. Иван прошел к столу, бросил на ходу:
— Здорово, князь Андрей. И ты, Василий-князь, здоров будь,— Сел за стол, положил письмо на свитки.— А ты, Дмитрий Вельский, ответствуй мне: по чьему приказу ушел из Казани?
— По твоему, великий государь.
— Напомни!
— Зимой ты получил письмо от эмиров. Казанцы обещали Са- фу-Гирея со двора согнать, а Шигалея, верного тебе, поставить ханом. И я, по твоему приказу, поехал с ханом Шигалеем на Казань. И как было велено, посадил его на трон... Потом вернулся в Москву...
— «И посадил на трон!»—передразнил его царь.— Как будто на горшок! Ты должен был стать Шигалею подпорой! А ты втолкнул его в казанские ворота и домой с войсками побег. Разве я так велел?
— Казанцы хана приняли с почетом...
— А по-иному как они могли? Василий-князь да князь Андрей до этого намяли им бока, да ты привел семь тысяч. Но стоило тебе уйти...
— Неужто предались?!
— И подло вельми! Вот, что нам пишут наши доброхоты: «Как только вой Вельского ушли, сеит снова позвал Гирея, который был недалеко, а тех эмиров, тебе преданных, убил жестоко, а Шигалей, лишенный опоры, из Казани изгнан». Теперь ты понял, что ты натворил?!—Иван выскочил из-за стола, подбежал к Вельскому, потряс перед его носом письмом.—Ответь ему, Серебряный, сколь воев потеряли мы в походе на Казань?
— Около пяти тыщ, великий государь.
— И эта кровь, князь Вельский, по твоей милости! В Казани снова мои недруги. И ты, пустоголовый пень, за это мне ответишь!
— Да, как ты смеешь, молокосос!—взвизгнул Вельский. — Тебе ли...
— Эй, кто там?! Стража! Сюда!
В палату ворвались четверо дюжих стражей.
— Хватайте воеводу и — в подвал! — Стражи повисли на плечах у Вельского, он стряхнул их:
— Не подходите, смерды! Я роду Ярославичей принадлежу!
— Ломите руки! Чего стоите? Взять его!
Князю заломили руки за спину, выволокли из палаты. Иван захлопнул дверь, проходя мимо глобуса, крутанул шар, присел на угол стола:
Мужи державы! Бояре, воеводы! До седин у власти, а в в голове, как в бочке,— пустота. С такими как дальше вести народ?
— Твой гнев на нас напрасен, государь,— тихо промолвил Курбский.
— Я не про вас, князья. Тебя, Серебряный, позвал я не для гнева, хотя, бог свидетель, и ты не без греха.
— Мы тебе служить всегда рады...
Иван снова подошел к двери, выглянул в сенцы, вернулся, сел в кресло. Долго молчал. Наконец, спросил:
-- Вы много раз на Казань водили рати?
— Водили, государь,— ответил князь Василий.
— И возвращались битыми.
— Бывало всяко, государь.
-- Да где уж «всяко». Если бы мы воевали ладно, Казань
была бы нашей. Не в том суть. Вы ноне первый раз вернулись
с малыми потерями. Как это удалось? Я хочу знать. Подумайте— скажите.
В палату тихо вошел Сильвестр, молча поклонился государю, открыл шкаф и начал перебирать книги. Иерей нижегородского храма, он вызван был в Москву, чтобы учить молодого царя священному писанию. Иван не обратил на иерея внимания, переспросил:
— Так почему же?
— В том твоя заслуга, государь,— сказал Курбский.
— Моя?
— Вестимо,— вступил в разговор Серебряный.— В минулые разы ходили мы на Казань всем войском и из одного места. Шли долго и вальяжно. Казанцы о походах узнавали сразу и тотчас же поднимали горных людей, а мы, не доходя Казани, в тех безбрежных лесах принимали от черемис и чуваш лихо...
— А ныне твоим повелением,—продолжил рассказ Курбский,— я Нижний Новгород покинул налегке и мимо черемис зело борзо проскочил на стругах...
— Я тоже налегке пошел из Вятки, из Перьми вышел воевода Львов... Сроки, государь, ты поставил жесткие, мы быстрехонько и очутились под Казанью, войско ханское без траты разметали.
— А воевода Львов замешкался, пришел в Казань не тогда, как ты указал, а неделей позже. Мы в этот час уж были на Свияге. И рать из Перьми погибла чуть не вся, а Львов...
— Об этом знаю,— тихо сказал царь и замолчал, что-то обдумывая.— Выходит, что в делах казанских нам главная помеха— черемисы?
— Отец твой, царствие ему небесное, не раз говаривал: «Подобно гибкому, ременному щиту, Казань черемисы надежно прикрывают. Ни расколоть тот щит и ни порвать мы не можем».
— А если черемису покорить?
— Народ этот нам неведом, великий государь. Какие люди в сих лесах неоглядных живут, какую веру держат, какими узлами с Казанью скреплены, мы почти не знаем.
— А если их к Москве приблизить?
— На это много лет надобно, великий государь.
— Пожалуй. Но теперь это моей заботой будет,— сказал Иван и, придвинув к себе карту, долго ее разглядывал. Князь Андрей осмелился спросить:
— Нам повелишь уйти?
— Да, да, идите с богом.
Когда воеводы вышли, к царю подошел Сильвестр, смело сказал:
— Дабы вести дела державы по уму, потребно знать, что в той державе происходит. А ты не только што в обширнейшей земле — ты что есть в Кремле пользительного не знаешь ничего, не ведаешь.
Царь неожиданно вскочил, отбросил карту и, хлопнув ладонью по столу, крикнул:
-- Уйди! Теперь я государь. И знай свое место. Закону божьему ты меня выучил, а в ратные дела не суйся!
Сильвестр выпрямился, гордо тряхнул седой гривой волос и твердо, но с обидой, сказал:
— Прости, Иван Василии, мешать тебе не буду. Позволь заметы взять, и я уйду.
— Какие там еще заметы?
— Покойный Даниил-митрополит подвижников неоднократно и помногу посылал в приволжские леса. А они слали сюда свои заметы. Их раскидали по разным местам, часть из них в сей шкап попала. Я собираю их в едино место — к митрополиту в палаты. И те ценные заметы о черемисах могут рассказать поболе, нежели сами черемисы. Прости, я ухожу.
— Постой, постой.—Голос Ивана смягчился:—А почему ты мне
о них ни разу не сказывал?
-- Так ты раньше о черемисах и думать не мог. Теперь же...
— Хватит, отец, идем к митрополиту.
У митрополита Макария в хоромах — суета. Появление Ивана перепугало всех. В минулые годы, правда, Василий Иванович нахаживал сюда, но это делалось чинно, с упреждением за два-три дня. А ныне молодой царь ворвался в хоромы, как вихрь, в первую очередь забежал в подлестничную комнату и, оттолкнув перепуганного летописца, выволок из ниш все свитки, тетради и книги, поднял в каморе такую пылищу, что чуть не задохнулся и к весь в пыли вошел в митрополичьи покои и, спешно приняв благословение владыки, сказал торопливо:
- Повели, святой отец, принести сюда все заметы о черемисском крае, зело надобны.
Монашек принес десятка полтора тетрадей, подал царю. Царь уткнулся в первую тетрадь. Пробежал взглядом страниц пять,
К
бросил в сторону. Взял другую тетрадь и тоже бросил. Потом третью, четвертую, пятую...
— Да что они, сдурели?— воскликнул царь.— Сколь ни чту, одни молитвы, а про дело по маковому зерну на каждый лист.
— Служители божьи без молитвы ни одного дела не починают,—важно разъяснил Макарий.—Грех бранить их за это.
— Добро, добро,— отмахнувшись, сказал Иван,—вот тут, кажись, сразу с дела начато.— Он долго и внимательно читал понравившуюся ему тетрадь, потом хлопнул по ней ладонью так, что над столом взметнулось облако пыли, произнес:
— Вот этот молодец! Записал то, что надобно. Повели, отец мой, все эти заметы принести в Крестовую палату. Буду их читать.—И царь встал.
— Повелю, сын мой. Только прежде хочу спросить тебя—пожаловал бы ты...
— И не проси! Заступничеством своим ты мне бояр и князей в страхе и послушании держать мешаешь. Не успею покарать, как тут же просьбами твоими прощаю.
— Государь мой...
— Истинно так! Ромка Головин тебе же ризу, святотатствуя, порвал, а ты его из ссылки вымолил. От главы боярина Темкина меч карающий я отвел не по твоей ли просьбе? А не ты ли уговорил с князей Ивана Кубенского, Петра Шуйского, Александра Горбатого да Димки Палецкого великую мою опалу снять и в Москву их воротить. Я думал, наказанных мною уже не осталось, а ты снова...[1]
— Выслушай, великий государь, потом упрекай. Не мягкосердия ради вымаливаю я из твоих карающих рук людей русских, а ради дел великих. Их впереди у тебя, сын мой, столь много, что для исполнения нужны великие умыслы и сильные руки. Вот ты упрекнул меня за князя Александра Горбатого. А ведь ты его наказал напрасно. Вернее и честнее воеводы не сыскать. И в ратных делах умница великий. Кто храбрее Темкина на поле битвы? Никто. А ты ему голову хотел отрубить. Вот ты сказал, что человек, который написал сии заметы, молодец. Ведомо ли тебе, что он от опалы царской более семи лет в лесах хоронится. И делу, ради которого ты прибежал ко мне, он полжизни отдал. И даже теперь, когда держава изгнала его, он ради пользы государства нашего ходит по лесам и народ черемисский к вере православной помалу приобщает. Вот ты о великую задачу споткнулся и не знаешь, с какого боку за нее приняться. Он же половину дела твоего уже сделал и сколь может сделать еще, ежели его пожаловать. А ты говоришь—не проси.
— Кто он?
— Шигоня, дьяк Пожогин.
— А-а... помню, помню. Противу матери моей пошел, и его наказали...
— Напрасно. Оный Шигонька...
— Знаю. Передай ему, что вину сущую или не сущую я ему прощаю. И жалую его своей милостью. Скажи, чтобы дело начатое он творил смело и именем моим... Денег пошли ему из твоей казны, потому как дело сие не токмо государево, но и святой церкви.
— Спасибо тебе, сын мой, за Шигоню. Денег я ему и посылал и еще пошлю. Одначе я сказал тебе не все. При покойном отце твоем служил на Москве черемисский княжич. Дослужился он до сотника, но потом от службы убег и сыскан не был. Ныне извещает меня Шигоня, что тот человек на Горной стороне князь и будто радеет он к Москве и православию, однако высказать это боится.
— Отчего же?
— Живет он словно меж трех остриев копейных: с одной стороны-татары, с другой—свои же язычники, а с третьей—перед Москвой страх. Как-никак, а убег из Москвы-то.
— Ежели в Москву тот князь приедет, гостем моим будет. Так и передай. Вижу, еще за кого-то просить хочешь.
— В пустынных местах среди черемис диких скитается бывший постельничий отца твоего...
— Санька?
— Он, великий государь. Санька тому князю друг большой — вместе из Москвы бежали. Ты бы и его...
— Саньку не прощу. Он матерь мою оскорбил... оболгал. Появится в Москве—язык вырву. И не проси. А с Шигонькой сноситься будешь, передай: пусть о том князе черемисском он напишет поболее. Гонца к нему ноне же пошли.
Митрополит кивнул головой. Иван встал, подошел под благословение, потом приложил сухие губы к руке Макария и быстро вышел. У порога встретился с Сильвестром, прошел мимо него, будто не заметил.
ПИСЬМО ШИГОНЬКИ Великий Государь мой Иван Васильевич!
Жалованное слово твое дало мне ныне крылья, и я, подобно
херувиму, слетал на Горную сторону, чтобы веление твое сполнить. И все, что я немощным умишком своим познал о князе горном черемисском и его народе, в руки твои передаю и буду вель-
ми рад, коли сие для блага государства сгодится.
Вся сторона об сю сторону Волги суть край нагорний черемисский, и сидят в нем не токмо черемиса, но и народ, чуваша зовомый. Живут сии два народа в дружбе и орют, и сеют, и еще охотой промышляют. Друг от друга и чуваша и черемиса рубежами не делятся, друг другу помогают, и вся горняя от Волги сторона под единой властью пребывает. И коль, государь мой Иван Васильевич, ты услышишь что-либо про черемисский край, то знай, что в крае том не токмо черемиса, но и чуваша в таком же, ежели не боле, числе пребывает. Люди живут в сельбищах, сиречь илемах, кои разбросаны по горам и лесам приволжским. Одначе кроме илемов есть прочия городища, где живут те люди во множестве, там торговлишку ведут, железное дело знают, и прочих мастеров немало есть. Пребывают люди той стороны в нужде великой, живут под тяжелой рукой казанцев, кои держат их в страхе и бедности. Все они подъясачные мурзы Кучака. Оный крымец сосет их соки, аки паук. В пору, когда на Казани сидят ханы наши доброхоты, тот Кучак убегает в Крым, одначе люди его остаются и послабления черемисе не дают, а ханы доброхоты наши добраться до сих земель не успевают. На левом берегу реки Волги иной край: там луговая черемиса пребывает. Кокшайская, Илетская да Ветлушская числом гораздо более, чем горняя. Они такие же трудники, землепашцы и охотники, одначе в иных местах мурзы хлеб родить им не велят, и оттого край тот скудеет. Я, грешный, в краю том был, рядом с людишками жил, говорю тебе, государь, они к нашему народу относятся душевно, без злобы. Правит тем народом черемисский князь Аказ, сын Тугаев. Татары зовут его Акубей, сиречь князь Аку. Правит тот Аказ землей не самолично, а со старейшинами. И собирает князь тех старцев на совет токмо по позволению татар.
Узнал я, что князь Аказ долгое время жил в Москве, и наша вера и наши обычаи ему по душе. Недалече от своего вотчинного двора часовенку соорудить позволил, и сам окрестился в нашу веру. Доподлинно знаю я: русских он любит. Жёнка князя Аказа в Казани, взята была туда насильно.
Был у князя в избе и с ним баял. Сказал он, что хочет поговорить с тобой, великий государь, а о чем поговорить—не сказал. Я своей дурной головой понял, что он доброходствовать тебе удумал.
Жду твоих повелений. До самой смерти раб твой дьяк Шигоня Пожогин.
ДЕЛА ЯСАЧНЫЕ
Осень подкрадывалась осторожно, как лиса. Она вползала на лесные тропинки и холмы, заметая свои следы багряным хвостом опавших листьев.
Ветер, не по-летнему свежий, выносил на поляны золоченые лепестки берез и красные, похожие на медные пятаки, листья осины. Многие деревья оголились, и от этого лесные тропинки стали светлее. Рябина красовалась рдеющими кистями ягод.
Осень—самое веселое время: собран хлеб, ссыпано зерно в липовые кади, за лето нагулялась жирком скотина, подрос молодняк. Сделан большой запас орехов, грибов, ягод. Осенью охота самая прибыльная. Лучшие шкурки охотник добывает в эту пору.
И поэтому осенний праздник жертвоприношения богам самый большой, многолюдный. После обильной еды и питья речь зашла о стычках с татарами. И снова не было среди людей единодушия. Иные хвалили Янгина, а больше ругали. Особенно старались Япык да Урандай.
Япык встал на короб и, обращаясь ко всем, сказал:
— Завтра надо пойти к Янгину и сказать ему, что он негодный лужавуй. Янгин всех нас погубит. Если татар разгневать, они не пощадят ни правого, ни виноватого. Пойдем завтра к Янгину.
Кто-то закричал: «Пойдем!», а иные кричали: «Не надо!»
И начался великий спор.
О приходе татар узнали очень поздно. Люди не ждали их так скоро, и все растерялись. А растеряться было отчего: мужчины сошлись сюда со всех илемов без оружия, только с ножами. Как теперь сражаться с насильниками? Унести свое добро в лес не было времени. И тогда старый Аптулат посоветовал: все, что есть дорогого, спрятать в священной роще. Так и было сделано. Татары никогда раньше не входили в кюсото.
Алим ворвался в селение, как ураган. Джигиты перескакивали через изгороди во дворы и всюду находили безлюдье.
— Они, наверное, скрылись в роще,—крикнул Алим и направил копя в кюсото. Джигиты бросились за ним.
Первым перемахнул через изгородь Алим.
— Смотрите, здесь весь скот и много добра!—крикнул кто-то из глубины рощи.
— Эге-гей! Забирай все, выгоняй скот!—ответил Алим.
Там, где не только ветку, листочек сорвать никто не смел, падали срубленные под корень молодые березы, облетали сучья вековых дубов. Татары выламывали дубинки и выгоняли из рощи « кот. Из гибких стволов березок делали наподобие носилок и выносили на них шкуры и всякое добро. Прошел всего какой-то миг — испоганилась, опустела священная роща.
Многое терпели черемисы: унижения, поборы, грабежи, избиения. Но разве хватит силы вытерпеть, когда совершается такое кощунство? И люди с ножами, с дубинами и кольями бросились на осквернителей.
Когда Аказ с товарищами прискакал в илем, здесь было тихо. Над пожарищами вились дымки догорающих головешек, на дороге и вокруг илема лежали трупы. Около мертвых не было оружия. В золе священных костров дымился навоз, жертвы, отданные богам, лежали втоптанными в землю. Листья священных деревьев облетели, иссеченные березки, будто сиротинки, жались друг к другу.
Только один человек, опустив руки, бродил по роще. Это был Япык. Пока была стычка, он сидел в лесу, тем и сохранил свою жизнь. Но татары не пощадили его добро: все исчезло, даже короба с товаром. Япык подошел к корчащемуся от ран карту Апту- лату...
— У, старый мерин, только ты виноват в этом!
Увидев Аказа и Янгина, Япык задрожал всем телом. Аказ спросил:
— Где остальные люди?
— Прячутся в лесу.
— Мы опоздали, Янгин,—вздохнув, произнес Аказ.—Проспали.
— Но долго ли терпеть все это?! — В глазах Янгина и злость и слезы обиды.—Ну, почему молчишь? Ты народом правишь, твоего слова ждут люди!
— Выше меня совет старейшин есть. Что мой хилый ум по сравнению с двадцатью мудрыми головами?
— Тогда вели собрать совет!
— Эй ты, горячая голова!—вмешался Япык.—Своими словами вторую беду накликать хочешь? Разве не знаешь: совет старейшин без позволения мурзы созывать нельзя. Узнают татары, и всех их положат рядом с этими. Не слушай его, Аказ, он кривой тропкой своего разума ходит.
— Ты верно сказал, Япык,—заметил Аказ,—без согласия мурзы совет собирать не будем. А советоваться пора все же пришла. И я велю тебе, Япык: поезжай в Казань к мурзе и привези его позволение. Скажи так: Аказ очень жалеет, что его люди не хотят второй ясак давать, скажи—надо совет собрать, чтобы всем слово сказать, пусть ясак платят верно. Скажи: совет соберем по первому снегу.
— Давно бы так. Япыка слушать не хотели—беда пришла.
— Ты мудрый человек, Япык. Только поезжай скорей.
— Я еду сейчас же. Мне все равно товар надо добывать.
— Отдавай мой лужай Япыку!—сердито сказал Янгин, когда Япык ушел.—Я хвостом татарской кобылы быть не хочу. Брошу все, уеду в Васильград, русским служить буду.
— Послушай...
— Чем такие слова слушать, лучше вовсе глухим быть. «Аказ очень жалеет».
— Дразниться умеешь — думать не умеешь,— строго сказал Аказ.—Поезжай за мной и будешь делать все, что я скажу.
Отъехав от кюсото, Аказ сошел с коня, вытащил нож, срезал несколько молодых липок, очистил от коры.
— Чего смотришь? Слезай,— сказал он Янгину, молча наблюдавшему за братом.—Помогай, на конце каждой палки режь нашу тамгу.
— Значит, совет соберешь все-таки?—догадался Янгин и сразу соскочил с коня.
— Вырежем двадцать палок, ты подберешь из своих людей пятерых надежных и дашь каждому по четыре палки. Им про совет не сказывай—пусть они найдут старейшин и, ничего не говоря, отдадут каждому по палке с нашей тамгой. Этого будет достаточно. Через неделю все у меня будут.
— Что им скажешь?
— Об этом потом. Главное, чтобы никто не знал о совете. Сейчас поезжай по илемам, собери разбежавшихся людей, все вместе жилье стройте, друг другу помогайте. Помни: зима скоро. Если людям лужая будет плохо, с тебя спрошу.
И они расстались.
Из руэма в руэм, из илема в илем переходили люди Янгина пять дней и ночей. Они никому ничего не говорили, заходили только к старейшине и молча отдавали липовую палку с вырезанной на ней тамгой Аказа.
Не нужно было слов: седые древние старцы понимали все, молча обувались в лапти и седлали лошадей. Идут посыльные молча.
Ни одного слова не сказано, но идут за ними слухи. Говорят люди, что нельзя больше терпеть бесчинства мурзаков, пора что-то делать. Лучше к русским с поклоном идти, лучше Москве ясак платить. И еще шли слухи: русский царь готовит на Казань небывалый поход и покорит ее. И будто пойдут рати двумя дорогами.
И это была правда.
Знает Аказ, что совет надо проводить втайне. И надумал хитро: распорядился готовить поминки по Туге — грех не помянуть родителя новым хлебом.
Старики сходились потихоньку, поминали покойного лужавуя, а в тот день, когда к Аказу пришел последний из двадцати старейшин, надумал хозяин устроить большую охоту. На охоту пришли Янгин и Ковяж да Магметка Безубов.
Забрались в самое глухое место, сложили луки и стрелы на берегу ручья, уселись в круг. Все без шапок: развеваются на ветру седые волосы старейшин. Шапки перед советом принесены в жертву Шюдыр-ону—владыке звезд. Это он, шествуя по юмын комбо корно[2], наделяет людей мудростью или совсем отнимает разум. Знают старики: отдашь ему в подарок шапку—даст полную голову ума. А перед советом всегда жертву Шюдыр-ону приносят— разума каждому надо много.
Прежде чем начать совет, старейшины по очереди рассказывают про дела и жизнь своих людей. Что сделано хорошего, что плохого. Какие радости у народа, какие печали. Слушает Аказ—мрачнеет его лицо. Нет радости в голосах старейшин, одно горе. Там мурзаки сожгли илем, там увезли невесту или забрали последние запасы хлеба и мяса. И уж совсем дрожат голоса стариков, когда говорят они об осквернении святынь.
Сказали свои слова старейшины и молчат. Ждут, что скажет Аказ.
Тот тоже молчит, думает. Потом говорит:
— Вот о чем хочу спросить вас, дорогие мои отцы. Жил наш народ под властью казанцев. Теперь нашу землю отдали крымскому мурзе Кучаку. Так ли тяжело было тогда, как сейчас?
Самый старый из старейшин Сарвай (ему без малого сто лег) ответил:
— Были мы тогда под мурзой Тимером, и жить было легче. Ясак он тоже брал, но не два раза в год, нет. Невест он тоже брал, но только на одну ночь, а не на десять лет, как сейчас. Приезжали татары в наши илемы и делали иногда обиды, но кюсото не оскверняли, нет. А теперь совсем житья не стало. Давайте будем думать, как жизнь нашу защитить. Говори, Аку, ты—лужавуй!
— Сколько раз на советах мы говорили: «Давай, будем думать»,— начал Аказ.— Сколько передумали, а народ наш в нищете. Видно, плохо мы думали, не в ту сторону глядели. Давайте на Москву поглядим. Никто нас от мурзы Кучака не спасет. Ханы в Казани меняются почти каждый год, а он неизменно грабит нас. У нас силы встать против Кучака хватит, и мы прогоним мурзу. Но тогда поднимется за него все ханство, и снова умоется наш народ кровью. А встать против всего ханства сил у нас не хватит. Но мы можем умножить свою силу. Надо просить русского царя, чтобы он взял нас под свою руку и защитил. Если мы с Москвой будем, никто не посмеет поднять на нас меч. Вот о чем думать надо.
Молчат старики, смотрят на огонь костра. Думу про русских взять в голову легко, но будет ли от того легче жить?
И снова говорит Сарвай:
— Про русских не только ты, Аказ, думаешь — весь народ об этом говорит. Но много ли мы знаем о Москве, о ее законах? Татары с нас ясак берут, а русские, может, и землю возьмут. Много раз по приказу Казани мы нападали на московских воинов. Не злопамятны ли русские, не будут ли мстить нам? Много дум у народа, а кто на них ответить может? Ты сам можешь ли?
— Того, что ты говоришь, я не знаю. Но одно мне известно хорошо: русские не вероломны. Это добрый, великодушный народ, им можно во всем верить. Если их царь скажет про ясак, про землю, про защиту нашу, так и будет.
— А ты знаешь, что он скажет?
— Не знаю. А если бы послать к нему наших людей—узнал бы.
Рывком поднялся и подошел к костру Атлаш.
— Пусть простят меня наши отцы, что вперед них в разговор лезу, но вижу в совете Аказа изъян. К русским на поклон идти— только господина поменять. Нынешнего господина, хорош он или плох, мы знаем. А каков будет новый хозяин? Вот это загадка. Старый господин наш стоит над нами много лет и на веру на нашу не посягает. Много ли среди наших людей магометан? Совсем мало. Силой аллаху поклоняться не заставляет. А на русских посмотрите. Еще нашими хозяевами не стали и не знают, станут ли, а дом своего бога на нашей земле поставили, монахи ихние рыщут по нашим лесам, будто лисы, кресты таскают целыми мешками. И если пойти под их власть, они кюсото наши осквернять не станут, они прямо вырубят их и заставят нас позабыть веру наших предков. Может, мы от волка уйдем, а к медведю придем?
— Дайте я скажу,—произнес, не поднимаясь с места, грузный Сивандай, и Аказ вздрогнул от его голоса. Сивандай был отцом пятерых сыновей, которые торговали с Казанью, и поэтому от него нельзя было ждать поддержки.
— Много лет прожил я на этом свете, много видел. Только за мой век русские пять раз ходили на Казань. Однако Казань как стояла, так и стоит. И не смогут защитить нас московские рати, как не смогли они покорить ханство. Упадет на наши головы злоба татар, и будем мы втоптаны в грязь. Москва далеко, Казань близко. Я тоже согласен с Атлашем: совет Аказа плох.
Посуровел Аказ, помрачнел. Разве таким, как Сивандай, дорог народ? Им только бы торговле ущерба не было. Такие продадут нее родное, лишь бы богатство свое сохранить. Неужели никто не поддержит. Аказ взглянул на Эшпая, мудрее которого не было среди старейшин. Что он скажет?
Эшпай поднялся, но к костру не подошел. Сказал:
— Старые люди говорили: «Время идет—его, как теленка, за веревку не привяжешь». Ты прав, Сивандай,—русские ханство не покорили. Но теперь пришло другое время—Казань слабеет. Сафа-
Гирей тянет ее в крымскую сторону, Сююмбике—в ногайскую, а коренные казанцы не хотят их обоих. Ханство теперь не такое, каким было раньше. И Русь стала не та—сколь земель слилось в одну, подумай-ка. Теперь у Москвы, говорят, стрелы не деревянные, а огненные, и много силы. Время идет вперед—и они покорят Казань, а мы тогда лишимся своей земли. Народ наш поставят рядом с казанцами, и будем мы побежденными пленниками, а русские будут вправе делать с нами, что захотят. Надо ли ждать этого? Пришла пора поклониться русскому царю и помогать ему воевать Казань. Тогда мы будем русским, как братья. И будем сами владеть своими землями по праву победителей.
— А если Русь Казань не покорит, тогда что? — выкрикнул Атлаш.
— А ты слышал поговорку: «Сонливой собаке—дохлый заяц»? В таком деле гадать нельзя: смело надо идти по прямой дороге,— ответил Аказ.
— Верно, брат!—Янгин подскочил к Аказу и, указывая на Ат- лаша, сказал горячо:—Ты его не слушай, ты отцов слушай. Вот ты, старый Алдуш, как скажешь?
Алдуш помедлил с ответом, потом начал говорить вроде бы о чем-то другом:
— Сидим мы у ручейка, он маленький-маленький. Но он торопится, бежит. Куда бежит? В большую реку. Он всего себя отдаст этой реке. Река, однако, тоже не стоит на месте, гонит свои воды вперед. Куда она спешит? К морю спешит. И принесет она этот ручеек к морю, к большой воде, и станет он вместе с ними огромным, как это море. Так и наш маленький народ должен спешить влиться в большую реку, чтобы быть сильным и великим, как море. Вот мой ответ. Посылай, Аказ, людей к московскому царю.
— Дайте, я скажу,—попросил Ямбылат, подходя к костру, и все противники Аказа оживились. Они знали, что Ямбылат всю жизнь за Казань стоит.
— Все вы знаете: я силы казанской всю жизнь боялся, все хотел татар покорностью задобрить. А что из этого вышло? Илемы моего рода сожжены, священные рощи осквернены, люди остались без пищи и крова. Мурзаки ни добра, ни покорности не понимают. И я говорю тебе, Аказ: люди моего илема будут русским помогать. Я сам стар и то пойду на войну против Казани.
До самого вечера шел совет. Много говорили, много спорили, но пришли к одному: крымцев дальше терпеть нельзя, надо соединиться с русскими, для чего послать к ним трех послов.
Только Атлаш, Сивандай, Пакман да еще двое старейшин не согласились с этим. Рассердились на совет и уехали раньше времени домой. Их никто не держал. Выбрали послов. Вышло так, что кроме Аказа, Янгина идти некому, все равно по-русски говорить никто, кроме них, не умеет, да и кому, как не самому Аказу говорить за весь Горный край.
Потом старейшины разъехались по домам. Аказ, Ковяж и Ян- гин идут по берегу ручья, не спеша ведут разговор.
— Не понимаю я Атлаша,— говорит Янгин.— Чем ему татары дороги? Ведь против народа своего идет. Отчего бы?
— Я тебе так скажу,— проговорил Ковяж.— Вот мы сидели у костра долго-долго. Те, кто были от ветра, грели у костра руки, грудь, ноги и думали: «Ах, какой хороший костер!» А тем, кто сидел по ветру, доставался только один дым, и они плакали и проклинали костер. Так и Атлаш. Всем нам от казанского костра достается едкий дым, а Атлашу, Сивандаю и другим богачам тепло. Правильно я говорю, Аказ?
— Да, ты прав.
ДОРОГА В МОСКВУ
День да ночь — сутки прочь. Так и шло время в сборах к далекому походу на Москву. Идти было решено вчетвером: Аказ, Янгин, Мамлей и Топейка. Ковяжа оставили в Нуженале: надо же кому-то и дома оставаться. Путь обдумывали загодя: до Нижнего Новгорода на лодке по Волге, от Нижнего до Мурома по Оке, а в Муроме купить лошадей и — верхом через Владимир на Москву.
Пока искали подходящую лодку, пока сушили мясо и сухари, прошел месяц.
И только бы выехать—у Аказа на дворе целая сотня мурзаков. Сотник любезен: Аказу отлучаться никуда не велит, говорит, что ожидается набег русских воинов и хан приказал сотнику защищать его княжеский двор.
Узнав об этом, Янгин бросился на берег, а там скачут татарские разъезды. Топейка сунулся было на лесную муромскую дорогу—нарвался на конную заставу. Даже на Алатырь дорогу закрыли.
— Это Пакмана, сучьей ноги, работа. Это он, вонючий хорек, донес хану,— кипятился Янгин.— Я говорил: его на совет звать не надо.
Горячись не горячись, а в Москву не попасть. Можно, конечно, пробраться меж застав ночью, но разве не нюхают каждое утро татары — тут ли Аказ, не исчез ли Янгин. Узнают, что нет — догонят, и тогда несдобровать.
Грустят Янгин, Мамлей, Аказ — сна лишились. Только Топейка весел, песни поет.
Песни петь хорошо, а время идет. Зима настанет, реки замерзнут — полдороги пропадет. Зимой до Москвы не добраться.
Так думали-горевали послы.
Это же думали и татары. Как только мокрую землю сковало морозом, а от берега по воде пошла бахромчатая приледь, заставы сгинули, двор Аказа опустел.
Выскочили послы на Волгу, а там по краям лед не сегодня- завтра всю реку закует. Мороз, он посольство покрепче татарских разъездов к месту прижал. Стоят на берегу мрачные. Аказ вздыхает, Янгин плюется и бранит татар, Мамлей скребет в затылке. А Топейка все равно песни поет.
Не бесись, лихая вьюга,
Все равно придет весна —
Красна-девица подруга »—
И растопит лед она.
И напел-таки веселый Топейка. Через два дня нежданно-негаданно набежали тяжелые тучи и полил дождь. Лед на реке пропал. Старики сказали: мокрой погоде быть с месяц.
Тут уж послы не мешкали, оделись-обулись, бросили свои дорожные пожитки в лодку да и оттолкнулись от берега.
Ядреный ветер звенел туго натянутым парусом, гнул мачту. Лодка летела, как птица. Топейка и Янгин во все горло пели песни.
Аказ на корме управлял лодкой, Мамлей следил за парусом. У них меж собой разговоров много, хоть и давненько вместе, а по душам поговорить времени не было. Здесь же приволье: говори, о чем хочешь.
Звенит парус. Над водой разносится песня Топейки. Песня та про унылые осенние берега, про хороший ветер, толкающий лодку, про людей, едущих в гости к русскому царю.
Над холодной и хмурой рекой медленно, низко ползут черные тучи. К вечеру они спускаются еще ниже, и кажется, что впереди они уже касаются поверхности свинцовых волн лохматыми боками.
Скоро во тьме исчезли берега. Ветер дул по-прежнему сильно, и Аказ не хотел приставать к берегу. Кто знает, можно ли будет идти под парусом утром? Пусть опасно вести лодку в темноте, зато сколько пройдут они за ночь!
После полуночи сильно похолодало. Ветер усилился, он стал пронзительно-колючим. Потрескивала мачта, наполненный ветром парус рвался вперед, как струны, натягивались угловые бечевы. Лодка, врезаясь в темноту, мчалась быстро, поднимая по бокам высокие пенные волны. Люди молчали.
Первым нарушил молчание Топейка.
— Эй, Аку, больно быстро едем!
— Ну и что?
— Как что? Видишь, я на носу сижу. Налетим на встречную лодку — у меня большая шишка на голове выскочит. Тише надо ехать.
— Не слушай его, брат!— крикнул Янгин.— И-эх, жалко, еще одного паруса нет. Если так поедем, к утру на Нижнем Базаре будем.
— У меня глаза ломит,— сказал Аказ,-—Устал я.
— Отдохни. Давай я поведу лодку.
Не успел Янгин сесть на место Аказа, как раздался глухой треск, мачта переломилась и рухнула в воду. Ветер подхватил парус, сдернул его вместе с мачтой и унес в темноту. Лодку перевернуло, и все оказались в ледяной воде.
Топейка не слышал удара. Какая-то неведомая сила подбросила его высоко над лодкой, и он плюхнулся в реку. Еще не коснувшись воды, Топейка вспомнил, что не умеет плавать, и пронзительно закричал. Услышали ли его вопль, он не знал, так как вода сразу сомкнулась над ним. Вдруг ноги его коснулись чего-то твердого, и это твердое с шумом вынесло его на поверхность. Топейка понял, что под ним бревенчатый плот и именно па него налетела лодка.
Аказ и Янгин упали в воду вместе. Лодка_накрыла их обоих. Янгин ухватился за борт и, поднырнув, потянул за пояс Аказа. Когда очутились на поверхности, услышали голос Мамлея. Он барахтался у кормы и звал:
— Аказ! Янгин! Где вы?
Больше всех повезло Топейке. Он уже стоял на плоту и кричал изо всех сил:
— Сюда! Все сюда! Здесь плот!
Плот оказался большим и хорошо связанным. На нем не было ничего, и, видимо, его пустили по реке за ненадобностью Единственный шест в руках Топейки служил веслом, и Топейка орудовал им, направляя плот к берегу. За плотом тянули перевернутую лодку.
Пока послы были в воде, единственной мыслью каждого было спастись, добраться до берега. Но едва они стали на твердую землю, сразу почувствовали, что замерзают. Промокшие до нитки, стояли на ветру, не зная, что предпринять.
— У меня кремень утонул. Огонь развести нечем,— стуча зубами, сказал Мамлей.
При слове «утонул» всех одновременно обожгла одна и та же мысль: «Деньги».
— Где деньги?! — крикнул Янгин.
— Деньги на дне реки,— тихо ответил Аказ.— У нас теперь ничего нет, все утонуло.
— Пропадем! — простонал Янгин.
— Зачем пропадем? — сказал неунывающий Топейка, снимая с головы кожаный малахай.— Вот ты смеялся, что у Топейки карманов нет. А зачем они, карманы? У тебя есть, да полные воды. А у меня все хранится в шапке. И посмотри: трут сухой.— Топейка ударил кресалом по кремню. В темноте ярко блеснул снопик искр. Желанный огонь! Еще несколько ударов о кремень— и ветер принес знакомый и удивительно приятный запах: это загорелся трут.
В глубокой балке послы развели костер и начали сушить одежду. Пропажа денег и еды особенно угнетала Янгина.
— Домой поворачивать надо,— говорил он, размахивая над костром сырой рубахой,— лодка разбита, денег нет, лошадей купить не на что. А пешком пока до Москвы дойдешь, ноги совсем сотрешь. Обратно пойдем.
— Иди, кто тебя держит,— сердито сказал Аказ.
— Я с тобой,—Мамлей подошел к Аказу.
— А у нас рук-ног нет разве? — спросил Топейка и сам ответил:—Есть. До города дойдем, денег заработаем — купим лыжи. Ты, Янгин, про Великого Кугурака вспомни. Старые люди рассказывают, что у Кугурака были свистящие кленовые лыжи, и бегал он на них быстрее ветра. Говорят, однажды он поехал за шестьдесят верст за рыбой и вернулся так скоро, что жена не успела вскипятить воду для ухи. Вот как ходил на лыжах Кугурак. А он ведь наш великий предок. Он поможет нам.
— В Новгороде Нижнем заедем к воеводе, скажем, кто мы. Может, лошаденок даст,— заметил Мамлей.
Согретые огнем костра и надеждами на милость воеводы, послы уснули на куче хвороста, плотно прижавшись друг к другу.
Всю ночь бушевал ветер, сырой и пронзительный.
Утром двинулись в путь. Шли быстро, старались согреться, В первой же деревеньке выпросили хлеба и соли. Подкрепившись, пошли дальше.
Через три дня были в Нижнем Новгороде. На житье попросились в слободке к одинокой старушке. Янгин и Топейка чинили ей забор. Мамлей с Аказом латали порванную одежду — готовились идти к воеводе Семену Иванову княж-Гундорову пред светлые очи.
Ночью выпал снег. Он, не переставая, шел и утром. На город вместе со снегом опустилась тишина. Крупные пушистые снежинки медленно и спокойно падали на землю, на крыши домов, на купола церквей.
Мамлей и Аказ пошли в кремль. Город, вчера еще грязный и неприветливый, а ныне одетый в роскошный белый убор, показался им удивительно красивым. На душе стало как-то легче. Верилось им, что воевода обрадуется их приезду, поможет. Как- никак, а послы от целого края.
На воеводском дворе не то, что в городе, шумно. Ходят по двору какие-то люди. Не то княжеского роду, не то приказные служаки.
В приказной избе, как и на дворе, шумно. Причина этому одна: воеводы дома нету, воевода в Москве. Потому и гуляют на дворе служилые, потому и бездельничают в приказной избе.
Хлопнула дверь — дьяк Портянкин увидел двух незнакомых людей.
— Кто такие?
— Нам бы к воеводе,— начал Аказ.
— Воевода в Москве. По какому делу к воеводе?
— Нам тоже в Москву надо...
— Ну и идите с богом!
— В пути претерпели мы беду. Остались без еды и денег. А дело у нас великое: послами от черемисского края идем в Москву.
— Уж вы не черемисы ли?
— Это князь черемисский Аказ,—сказал Мамлей.
— Князь?—дьяк вытаращил глаза.— А ты сам-то кто таков?
— Я... человек... Я государю нашему радетель.
— Делу посольскому помочь волен только князь-зоевода, а он в Москве. Уехал на венчание государя на царство, ждите. Приедет и разберет, что к чему.
Со всем мог смириться Янгин. Но чтобы сидеть и ждать — этого еще не хватало!
— Идти в Москву надо—и делу конец. Снег есть, лыжи есть.
— А хлеб есть?—спросил Мамлей.
— Христос есть. Его слово скажем — дадут. А воевода когда приедет? Зимой? Весной? Летом? Да и поможет ли?
Сколько ни спорили, но согласились, что Янгин говорит верно: надо идти дальше.
Накануне отправки старуха хозяйка куда-то исчезла. Под вечер появилась с целой гурьбой женщин. У каждой в подоле кусок хлеба.
— Узнала я: на богоугодное дело идете вы, пробежала по слободке и собрала вам на дорогу. Высушу сегодня, а завтра, глядишь, и тронетесь в путь.
— Ты верно, Аказ, говорил: русские хорошие люди,— сказал Янгин, когда женщины ушли.— Больно хорошо, что мы идем проситься под московское крыло.
Чуть свет, надев на спины котомки с сухарями и положив на плечи лыжи, вышли на муромскую дорогу.
Выходя из Нижнего Новгорода, послы знали, что отсюда
путь будет нелегок. Но они и не думали, что столько бед их ждет впереди. Мамлей на лыжах никогда не хаживал и на первом же перегоне стер ноги в кровь. Пришлось отсиживаться в деревеньке целую неделю.
Здесь под Нижним Новгородом — те же крытые соломой курные избенки, тот же хлеб пополам с лебедой. Сначала долго не пускали на ночлег. Принимали за басурманов и захлопывали двери перед носом. Еле-еле упросили одну вдову, но и та, узнав, что они идут по казанскому делу послами, выставила их за порог. В прошлом году в походе на Казань у нее погиб муж, оставив горемыке старого деда да девять душ детей. Старшему было шестнадцать.
— Он у меня единственный кормилец, а вы снова царя на Казань выманиваете,— сквозь слезы говорила вдова,—снова войну кличете. Сгиньте с глаз, ради бога.
Янгин первым выскочил на двор и стоял в недоумении. Ему было непонятно, почему люди считают, что их посольство обязательно вызовет войну.
Обошли чуть не все дворы — всюду отказ. Кое-как уговорили местного попика, и он пустил послов в теплую баню. В этой банешке пережили неделю и двинулись дальше.
Кормились скудно. Ближе к Мурому пошли селенья еще беднее, кабальные люди сами ели мякину и помочь путникам ничем не могли. В иных деревнях народ был напуган набегами лихих людей—и путников на ночлег не пускали. Приходилось ночевать в стогах да соломенных ометах.
Однажды в солнечный день Топейка с Янгином, разогревшись в беге, разделись и схватили простуду. Сначала ничего не заметили— миновали Коломну и вошли в Долгие леса. На третьи сутки обоих свалил жар. Вечером начали бредить. Подумав, Аказ и Мамлей решили идти без лыж. Положили на них хворых и потянули за собой. Еды не было совсем. Аказ надеялся, что в лесу поохотится и добудет мяса. Но началась метель. Пришлось делать шалаш и пережидать дурную погоду. Больным становилось все хуже.
Болезнь, голод, пурга, бездорожье — казалось, страшнее этого ничего не может быть. Но в один из вечеров сквозь гул метели Аказ услышал жуткий вой. Он разбудил Топейку и сказал сдавленным голосом:
— Волки.
/
Волки расселись вокруг шалаша, задрали острые морды кверху и завыли. К ночи наглели еще больше. Аказ достал стрелы, раздвинул ветки шалаша и, выбрав волка, который был ближе, спустил тетиву. Зверь подскочил, завертелся на месте. Стая, увидев кровь, разорвала волка мгновенно и еще теснее сомкнула
кольцо. Если бы не метель, волков можно было перестрелять всех. Но вокруг шалаша метались вихри, застилая снежной пеленой все вокруг, и поэтому стрелять приходилось больше по слуху. О том, что стрела попадала в цель, узнавали по злобной грызне: волки сразу же нападали на убитого. Но чаще всего стрелы летели мимо. И скоро все три колчана оказались пустыми. Стая поредела, но упрямо сжимала кольцо. Звери будто чувствовали, что у людей не осталось стрел, и подошли к самому шалашу.
Аказ вытащил из-за пояса нож и взмахом снизу всадил в горло волка. Второй зверь прыгнул на Мамлея, но руки Аказа настигли его в воздухе.
Что было дальше, Аказ помнит плохо. Люди и звери сплелись в клубок. Злобный вой, визг, кровь и боль. Аказ разил своим единственным оружием во все стороны, но раненые волки еще ожесточеннее нападали на людей. Силы истощались. Вдруг Аказ заметил около шалаша две фигуры. Покачиваясь от слабости, к ним спешил Янгин. Топейка еле смог дойти до волка, упал на него и взмахнул ножом...
К шалашу подошел человек.
Наступил день и прошел. Новый день наступил и снова прошел, а хан Шигалей все еще сидел в Касимове — в Москву не ехал. Как теперь показаться молодому царю, который с такой большой надеждой послал его в Казань?
Почти целый месяц нес от Казани тяжелую суму позора. Всякое бывало в его жизни, но такого, чтобы убежать с трона через забор и пешком, без коня, без слуг, рыскать по лесам, скрываясь от погони, такого с ним еще не бывало.
О, как переменчива судьба! Вознесла она его при покойном государе, дважды восседал он на казанском престоле, а в Москве всегда стоял рядом с государем по правую руку. Чем выше поднимешься, тем больнее упадешь — так гласит народная мудрость. Улыбнулась ему судьба: позвали хана к юному царю Ивану, приласкали, возвеличили и послали на трон. А он убежал из Казани, погубил свою охрану и близких друзей. Что сказать теперь царю Ивану, как посмотреть ему в глаза?
И еще раз ночь сменила день, а день сменил ночь. Не едет в Москву Шигалей. Ходит по двору, проклинает крымцев, бранит себя за трусость. Долго ли так сидел хан, неизвестно, но прибежала из Казани целая сотня его аскеров. Сумели вырваться они из лап Сафы-Гирея и рассказали хану о гибели Чуры, Булата, Беюргана и многих казанцев.
Легче стало на душе у Шигалея. Теперь можно царю сказать прямо: сила у врага велика, жестокость безмерна. Выстоять он не смог. Про то, как перескочил через крепостную стену, придется умолчать.
И стал Шигалей собираться к юному царю.
До Коломны путь был легкий. Грязные дороги заковало морозом, засыпало снегом. Легкий холодок только подбадривал путников, лошади бежали легко и свободно. Хан ехал впереди аскеров, под нос себе песню пел. В Коломне заночевали.
За Коломной легкий морозец сменился лютой стужей. Тут уж не до песен, на коне усидеть нельзя. Воины то и дело соскакивают с седла, бегут рядом с лошадью — греются. Иные трут носы и щеки снегом.
Шигалей, ухватившись за стремя, тоже трусит около седла, с конской спины на хана сыплется снежная куржевина.
Путь чем дальше, тем труднее. С вечера по лесу гуляла легкая поземка, к ночи ветер усилился, загулял по вершинам деревьев. Он срывал с сосен снеговые шапки, превращал их в холодную пыль и неистово бросал то на землю огромными белыми тучами, то поднимал в вышину. Лес утонул в белом мареве, на дороге заплясали, забесновались снежные вихри. Они с легкостью поднимали снег и бросались сугробами вдоль и поперек пути. Кони вязли в снегу, ржали тревожно, не хотели идти. К свирепому вою пурги примешивался волчий вой.
Пурга, злобствуя, заполнила весь лес, скрыла в заносах все дороги, и скоро всадники поняли, что они заблудились, потеряли путь. Дальше идти не было смысла.
Спутники хана быстро нарубили пихтовых веток, соорудили шалаши и, выставив охрану, легли отдыхать.
К утру метель озверела. Шалаши позаметало снегом, волки по-прежнему выли где-то рядом. Татары молили аллаха о хорошей погоде. Но, видно, велики были их грехи: буран не переставал трое суток.
На рассвете четвертого дня ветер утих. Волчья стая ушла еще раньше.
В одной деревеньке хан спросил, куда его занесло. И когда получил ответ, схватился за голову. Выходило, что очутились они где-то за Владимиром и бежали в пургу, чуть ли не в обратную сторону от Москвы.
И уж совсем отчаялся Шигалей, когда узнал, что за день до него в деревне была сотня татар из Казани и шли эти конники за кем-то в погоню.
Измученным спутникам хана встреча с сотней грозила гибелью.
Как только выпросил митрополит у царя прощение, сразу же послал по монастырям приказ: разыскать в черемисских лесах
2С6
подвижника Шигоню и возвернуть его в Москву. Игумены грамоты читают, скребут в потылицах: где его искать?
Из Разнежья послан был монах в Санькин дальний скит — а там уж другой подвижник живет. Однако веху указал: уплыл, мол, тот Шигоня по Кокшаге. Так, от одной вехи к другой, притопал монашек в Чкаруэм, разыскал там Шигоньку, приказ митрополита передал. Узнали от него беглецы, что Елена преставилась, молодой царь, видно, добр, старые грехи всем прощает... Сначала добрались до Суздаля, там надумали расстаться. Шигоня посоветовал Саньке, Ирине и Ешке подождать тут. Если на Москве о их грехах забыли, он даст им знак, и уж тогда они в стольный град явятся безбоязненно.
Монастырь Суздальский их бы принял, но Саньке и Ирине с молодости келейное житье опротивело, а Ешку так и вовсе от монашеской жизни тошнит. И надумали они податься снова к Микене в ватагу.
Но попали туда не вовремя: ватага решила перебраться в угличские леса, и Микеня посоветовал им зимовать в одном укромном месте. Привел их в такую чащобу, что туда не только люди, медведи и то не заходят. А в чащобе той — зимовка в два окна, с печкой, нарами и подвалом. Из подвала выведен небольшой подземный ход к берегу речки. Были в этой лачуге инструменты, чтобы ложки вырезать, а это дело нужное. Палага тоже в зимовке осталась, идти с ватагой в такую даль ей было не с руки.
Все четверо научились делать ложки, Ешка таскал их в окрестные села, в обмен приносил хлеб, сало, яйца, молоко. В деревнях и хуторах, далеких от церквей, тайком крестил ребятишек, венчал молодых, отпевал усопших. Когда ложками снабдили всех мужиков в округе, бабы стали прясть лен, Санька из нитей вязал сети, продавал их местным рыбакам. Кормились хоть и скудно, однако не голодали.
Зима в этом году спервоначалу была мягкой, но после рождества словно взбесилась: морозы чередовались с ветрами, бураны— с метелями. Наши зимовщики сидели-сидели в своей занесенной по самую крышу берлоге, но делать нечего — надо выходить, потому как хлеб кончился. И Ешка, забрав две сети и мешок ложек, ушел в пургу. Сутки его нет, вторые, третьи...
— Не видно свету вольного,— сокрушалась Палага.—Беснуется пурга. Чую сердцем, попик наш пропадет — как пить дать. Пойду искать.— И Палага стала надевать шубейку. Санька отложил в сторону челнок и сеть, тоже поднялся, оказал:
— С твоей ли силой в такую непогодь? Сидите тут — я встречу.
— И я с тобой,— Ирина схватила шаль,— загинешь один в пурге.
Санька открыл дверь, снежный ветер ворвался в зимовку. Палата осталась одна, зажгла перед иконой божьей матери лампадку, встала на колени. За окном выла пурга, и Палата подумала: «Если в нашей чащобе такое, то что же в открытом поле творится?»
В молитве и не заметила, как распахнулась дверь и на пороге появился весь занесенный снегом Ешка, а за ним — двое, в суконных чапанах с башлыками, внесли человека.
— Ну, пропади ты пропадом, тащи его сюда,—прогудел Еш| ка. — Давай, клади на нары.
— Боже мой! Кто это?— воскликнула Палата.
— В дороге захворал,— снимая тулуп ответил Ешка.— Ну что вы встали? Тащите другого.
Двое в чапанах торопливо вышли.
— Ну, слава тебе господи, вернулся,— с облегчением сказала Палага и тут же начала ворчать:—У, долгогривый! В такую заваруху да целую неделю в лесу!
— Молчи, квашня, чем языком чесать, согрей воды. Не видишь— помороженные люди.
— Они не наши, вроде?—спросила Палага, ставя на горячую печку котелок с водой.— Нехристи?
— Живые люди...
Двое в чапанах внесли еще одного, рядом с первым положили. Палага помогала развязывать башлыки, расстегивать чапаны.
— Не бойтесь, раздевайтесь. Здесь вас никто не тронет,— сказал Ешка, развязывая мешок.— Вот хлеб оттает — поедим.— Он вынул из мешка огромный каравай ржаного хлеба, положил на печку рядом с котомкой.
— Спасибо. Еще успеем,— ответил один.— Надо бы на дорогу выйти. Нет ли погони?
—Я чую, с этими гостями придется плакать,— сказала Палага, когда те вышли,—Они либо татары, либо еще хуже. Ножи под чапанами видал какие? Скорей всего они лазутчики татар. А ты приволок их сюда!
— Они, Палагонька, измучены, хворые они. И более нам о них знать ничего не надо.
— Душа святая! Вот подожди, оклемаются тебя же первого и прирежут.
— Не ворчи, квашня, помогай хворым!
— А я что делаю?— Палага сняла с больных чапаны, оба были без сознания, тихо стонали. Бросив в котелок горсть сухой малины, Палага вытащила из рундучка склянку с гусиным жиром, смазала больным обмороженные руки и лица. Кожа на них местами почернела, местами покрылась красноватыми язвами.
Когда малиновый отвар вскипел, Палага разлила его по круж
кам и, приподнимая больных, по очереди напоила. Больные уснули, Палага покрыла их, снова налила в котелок воды.
Двое в чапанах вбежали в зимовку, один заговорил торопливо:
— Погоня... Идут по следу. Вы уходите в лес. Мы будем драться!
— Вы ножички спрячьте,— спокойно сказал Ешка.— Есть запасной выход.
— Какой? Одна же дверь-то...
— Лезь под пол. Там сидите. Коли учуют — бегите. Подземный ход к реке ведет.— Ешка сдернул с пола плетеный лыковый коврик, открыл люк, они спрыгнули под пол. Закрыв люк, Ешка встал на половичок, снял с шеи большой серебряный крест и затянул заупокойную молитву. Палага, закрыв дверь на засов, дискантом вторила ему.
В сенцах раздались крики, в дверь сильно ударили, ветхий пасов выскочил из скобок, дверь упала на пол, и четверо дюжих татар ворвались в зимовку. Ешка и Палага запели громче:
Упокой, господи,
Души рабов твоих,
Даниилы и Ерми-илы...
Вечная па-амять... Вечная па-амять...
— Что тут за люди?! Почему в лесу живете?—спросил молодой татарин с обнаженной саблей в руке-.
— Тихо, ты! Не ори,— подняв крест, сказал Ешка.— Покойники и доме, не видишь!
— Почему сдохли?
— Кто знает? Язва, может, а то и чума.
Татарин подошел к больным, откинул чапан, увидел язвы, в страхе отшатнулся.
— Мы шли сюда по следу. Весь снег затоптан. Народу много было, куда все девались?
— Я за попом ходила,— ответила Палага.— Вот привела...
— Врешь, баба!
— Вы хоть дверь прикройте, ироды! Холодно.
— Сама прикрой. Мы искать будем. Найдем — секим башка.
— Кого хоть ищите-то?
— Опасных преступников ловим. Их четверо. Сюда пошли.
Обшарив все углы, татары выскочили на волю, чтобы обыскать
псе вокруг зимовки. Старший остался в зимовке, вынул из кармана кошелек с деньгами, положил на стол.
— Тут деньги. Если придут четверо, дайте знать. Мы в соседнем селе будем. Им далеко не уйти. Понял?
— Понял, служивый. Но я думаю, что одного кошелька мало. За каждого по кошельку.
209
1-І Марш Акпарса
— Э-э, русский поп! Ты такой же жадный, как наш мулла. Одного кошелька хватит. Там серебро, не медь.
— Ну-у, пронесло,— оказал Ешка, когда татары ушли.
— А если бы хворые пошевелились...— Палага перекрестилась.
— Что было бы? Секим башка.— Ешка поднял сорванную с петель дверь, надел ее на петли, затворил. Потом сдвинул коврик, хотел открыть люк. Но Палага остановила его:
— Ничего им не станет. Посидят. Не дай бог татарва снова вернется.
В дверь снова постучали. Ешка открыл и вместе с гулом бурана впустил Саньку и Ирину.
— О господи!—воскликнула Палага.— Как вы злодеям в руки не попались?
— Мы их вовремя заметили,— сказал Санька.— Спрятались.
— Ушли они?
— Ускакали. А это что за люди?
— Нашел в лесу. Давайте есть будем, хлеб оттаял.
Ирина разделась, подошла к больным, долго всматривалась в их лица. Санька спросил:
— Живы?
— Да вроде живы, Саня. Только...
— Что только?
— Сдается мне, один из них —Топейка. Глянь-ка, я, может, ошиблась.
— Похож,— сказал Санька, разглядывая больного.— Очнется— спросим, как сюда попал.
Палага поставила на стол котелок с малиновым отваром, Ешка разломил каравай на четыре части, и все начали есть. Вдруг Ешка вспомнил:
— Ах, пропади мы пропадом! Сами сели за стол, а про гостей забыли. Сидят в подвале.
— Кто в подвале?—испугался Санька.
— Сейчас узнаем,— Ешка подошел к люку, поднял половик, но вдруг в сенцах явственно зазвучала татарская речь:
— Кель мында! Мында кельган тура[3].
— Вернулись басурманы! — воскликнула Палага.
Ешка сдернул крест и снова запел «Со святыми упокой», Санька снял засов, впустил татар. Вошли двое, остальные стояли на воле у окна. Пожилой оглядел зимовку, подошел к больным, открыл чапаны. Хворые враз застонали.
— Они живые. Зачем отпеваешь?
— Какое там живые? Одной ногой в могиле,— ответил Ешка испуганно.
— Ты хитрый, поп.— Татарин говорил добродушно, даже вроде весело. Отойдя от хворых, подошел к Саньке и начал его обглядывать.
— Где я мог тебя видеть, парень?
— Н-не знаю,— ответил Санька, заикаясь, хотя сразу узнал хана Шигалея.
— Сейчас вспомню. Я видел тебя в Москве. Ты был постельничим у великого князя. Потом убег. Аказ с тобой скрылся.
— Обознался ты,— хмуро сказал Санька.
— Ты меня не бойся, парень. Не обознался я. Под чапаном Топейка лежит. А вы убежали вместе.
— Ты-то кто такой будешь?—осмелев, спросил Ешка.
— Я хан Шигалей. Служу царю Ивану. Иду в Москву. Вот мало-мало запутался. В лесу такой шурум-бурум.
— А ты не врешь?— Ешка осмелел еще больше.
— Ай, поп! Мало того, что ты хитрый,—ты еще и вредный. Поверь, я вам не враг. Я нужду терплю. Со мной пять человек. Сейчас их сюда позову.
— Коли не враг — пускай.
Хан Шигалей вышел, Ешка спросил Саньку:
— Он вправду Шигалей?
Санька согласно кивнул головой.
— А ведь из тех, что под полом, один-то Аказ. Я слышал, так его называли.
Ешка поднял крышку люка. Вылезший из подвала Мамлей сначала не разглядел посторонних. Но когда увидел татарина, сразу схватился за нож.
— Мамлей?!—воскликнул Шигалей.— Брось нож!
— Хан Шигалей?! Аказ, смотри, кто здесь!
Аказ не успел появиться в люке, как его облапил Санька.
Пока обнимались и тискали друг друга, Ешка глянул на Палагу и, разведя руками, произнес:
— Поистине неисповедимы пути господни.
— Как вы сюда попали?—спросил Шигалей Аказа.
— Идем в Москву.
— И я в Москву. Ты тоже заблудился?
— Ох и рад, что встретил...
— Ия! Аллах послал тебя сюда. Ты даже сам не знаешь, как мне нужен. Я поведу тебя к царю. Может, он и мою вину простит?
— Какую вину?
— Оставил я Казань. Чуть ноги унес.— И Шигалей начал рассказывать о своей неудаче в Казани.
Ирина и Аказ давно заметили друг друга. Оба обрадовались, а заговорить все не решались. И только когда Ешка позвал всех к столу, Аказ подошел к Ирине, сидевшей в уголке.
— Сестренка, здравствуй!
Ирина рывком метнулась с лавки, обняла Аказа, прижалась к его груди, спрятав лицо в кафтан, заплакала. Санька сказал строго ей:
— Ты в своем уме, Ирина? Нехорошо!
— Прости ее, Саня. Она хоть и названная, но все-таки сестра.
— Принес бы ты, Саня, дровишек,— пропела хитрая Палага.— Печка совсем гаснет, а нам столько взвару надо. Гостей-то полон дом. Иди-иди,— и вытолкала Саньку во двор.
Через полчаса все сели за стол. На столешницах курились паром разогретые хлебные ломти. Хан, дуя на горячую кружку, сказал шутливо:
— Чай не пьешь — откуда сила будет?
А Санька, прихлебывая остропахнущее малиной варево, говорил весело:
— А я думал, ты за моей головушкой.
— Твою вину я знаю. Пойдем в Москву — я выпрошу тебе прощенье. Теперь мы вместе, и силы у нас поболе.
На нарах застонал Топейка, запросил пить. Ирина поднесла к его истрескавшимся сухим губам кружку. Топейка утих. Аказ начал рассказывать Шигалею о том, как собирал старейшин, как шли они в Москву:
— Беда от нас не отстает всю дорогу. Чуть не утонули сначала, потом Янгин с Топейкой заболели, деньги утонули, волки чуть не задрали нас.
— Чуть не считается. Я верю: тебя в Москве ждет удача.
— Какая удача? Домой пойду, обратно. Больные, без денег, оборвались все. В таком тряпье к царю как покажешься? Прогонит со двора.
— Я тоже беден, как дервиш. Ничем тебе помочь не могу. Но все равно...
— Аказ, послушай,— сказал Санька,— пятиться не надо. Ты, видно, сам не знаешь, какой подарок Москве несешь. Царь не посмотрит, что ты в рваном зипунишке.
— Не посмотрит!—воскликнул хан.—Но до Москвы добраться надо. На чем? Всех лошадей съели, две худые кобылы остались. А у вас хворые да бабы. И ашать дорогой надо. Я деньги тоже потерял...
— Ну, пропади вы пропадом! — Ешка поднялся над столом.— О чем они глаголят?! О зипунах да лошадях! А на моей памяти двенадцать раз рати ходили на Казань. Сколь напрасно православных полегло! А если черемиса будет с нами, неверных одолеем. Народ, быть может, отдохнет от ополчений. Вот, берите!—И Ешка, сняв с шеи крест, положил его на стол.— Из чистого серебра!— добавил с гордостью.
— Тулуп мой продадим,— сказал Санька,— стерплю, чай, как- нибудь.
Ирина высыпала на стол горку денег и положила золотое колечко.
— Вот все, что скопила...
— От меня вот это!—Шигалей отстегнул от пояса нож в дорогих ножнах.— Он из дамасской стали.
— Выходит, надо топать к мужикам. На дровни, да на лошаденку хватит,— сказал Ешка, сгребая со стола деньги, крест и нож.— Да, вот еще — чуть не забыл. Тут мне недавно дали кошелек... Ну это — на еду.
— Спасибо, люди,— растроганно сказал Аказ.
— Спасибо скажешь там, в Москве.
Проснулся Янгин, в беспамятстве выкрикнул:
— Аказ! Аказ! Они идут! Стреляй!
Мамлей сказал:
— Недели две, а то и больше пролежат.
— Раньше на ноги поднимем. У молодых подолгу не болит. Пурга утихнет — тронемся.
СНОВА В МОСКВЕ
Третий год боярин Михайло Юрьевич Захарьин уж в Москве не живет. У покойного государя Василия Ивановича боярин был в большой чести, но умер великий князь — и многое изменилось. Елена Васильевна боярина недолюбливала и при жизни мужа, а как царь преставился, жаловать и вовсе перестала.
Когда бояре Вельские да Шуйские пришли к власти, совсем лихо стало Захарьиным. Сколько зла они сотворили, сколько бояр и воевод-доброхотов умершего царя изничтожили—не счесть! Дворы, веси и имения убитых брали себе, а Михайлу Юрьевича с младшим братом Романом чуть в темнице не уморили. А после того, как у бывшего царского окольничего Романа были отняты вотчинные земли, от обиды да лишений он умер, оставив.Михаиле сиротинку Настю — единственную дочь.
У боярина после вызволения из ямы остался всего один двор н Таруссе, где и живет сейчас Захарьин в безвестьи: что в Москве творится, не знает.
Племянница Настя выросла красавицей и умницей. Боярин на нее не насмотрится, только она ему теперь утешенье на старости лет...
Ныне князь-боярин проснулся рано и, помолившись богу, вышел на крыльцо.
Издавна заведено: сперва князь осмотрит ткацкую избу, потом посетит клети и амбары, побывает на гумне, заглянет в овин и, если дело идет своим чередом, возвращается на крыльцо, творит суд и расправу.
У крыльца боярина уже ждут. Впереди стоит мужик, боярин сразу видит: смерд из худых. Полушубок на нем потертый, пошит криво-косо, внизу выглядывают из-под овчин лоскутки посконной белой рубахи. Колпак, отороченный облезлой заячьей шкуркой, мужик мнет в руке.
Поклонившись до земли, говорит:
— Благодетель ты наш, к твоей милости... дал бы до новины осьмину ржи. Детишек кормить нечем. Не откажи.
— Недоимка по прежним долгам, поди, на шее висит, а ты снова «дал бы»,— ворчит князь и, не дожидаясь ответа, говорит ключнику.— Ежели долгов нет, насыпь ему из большой кади.
Двое дюжих слуг выводят к крыльцу низкорослого одноногого мужичонку. На шее — хомут. Это княжеский чеботарь Иванко.
— Ты опять в лихоимстве уличен?—качая головой, спрашивает князь.
— Хомут уволок с конюшни прошлой ночью,—говорит конюх.— Еле поймали.
— Стало быть, как работать, так у него одна нога, а воровать, так сразу пять. Любо! Посадить в швальне на цепь, пусть в хомуте до весны обувку шьет...
Вдруг загромыхало кольцо на воротах, кто-то настойчиво просился во двор.
— Отопри,— недовольно повелел боярин и, ковыряя в носу, стал ждать, кого нечистая принесла.
Ворота распахнулись, Михайло Юрьевич вздрогнул: к крыльцу неспешно двигался дьяк Шигоня Пожогин. Затряслись поджилки у боярина: Шигоньку по пустым делам не пошлют. Проворно сбежал по лесенке навстречу дьяку, гостеприимно распахнул руки.
Пока обнимались да целовались, служки в горнице приготовили стол с вином и яствами.
Выпив по чарке, долго глядели друг на друга, молчали. Потом Шигоня сказал:
— Постарел ты, Михайло Юрьевич, постарел...
— Хоть жив, и на том слава богу,— ответил боярин, невесело усмехаясь.— Ты скажи, что сейчас на Москве творится? Я чаю, не даром приехал?
— Москву сейчас не узнать,— Шигонька почесал за ухом, опрокинул в рот еще чарку,— теперь, слава богу, есть у нас царь.
— Неужто снова перемена?
— Молодой орел крылья расправил и державу в руки взял накрепко.
— Стало быть, возрос Иван Васильевич?
— Ой, как возрос! Семнадцатый годок идет, а правит — дай бог так и возмужалому править. Вельских и Шуйских прижал к ногтю. Недавно венчался на царство, а теперь жениться вздумал. На-ко вот, прочитай,— и Шигонька передал боярину грамоту.
— Ты уж сам прочти. Я глазами дюже ослаб. К тому ж, оконцы затянуло морозом.
Дьяк развернул свиток, прочел:
— «Волею царя и государя нашего Ивана Васильевича послана сия грамота князьям, боярам, воеводам и всем людям знатного рода.
И когда к вам эта наша грамота придет, и у которых из вас будут дочери-девицы, то вы бы с ними сейчас же ехали в город к нашим наместникам на смотр, а дочерей-девиц ни под каким видом не таили бы. Кто же из вас дочь-девицу утаит и к наместникам нашим не повезет, тому от меня быть в великой опале. Грамоту пересылайте меж собой сами, не задерживая ни часу».
Шигоня свернул свиток, сказал:
— Уразумел, Михайло Юрьевич?
— Понятно все как есть. Только-ить дочери никакой у меня нету. Не сподобил бог. Бездетным маюсь, и о том в Москве ведомо всем.
— Одного ты, боярин, не заметил: все бояре и князья грамоты меж собой передают сами, а к тебе я прислан. Спроста ли это?
— Спасибо за честь. Одначе и вправду дочери нет у меня.
— А племянница?
— Волю государеву рушить не могу, ибо в грамоте сказано только про дочерей.
— Хитер ты, боярин, но не ко времени. Быть твоей племяннице царицей — чует мое сердце. Государь великий самолично-повелел ей на смотринах быть. Где он видел ее — не ведаю, одначе мне сказал: «Захарьина-Кошкина племянница чтоб была в Москве непременно». А посему, не мешкая, собирайся сам, собирай Настасью и чтобы в полдень тронуться в путь. Спеши, боярин.
Настенька узнала о поездке в Москву и рада-радешенька. В Москве она была всего раз — гостила у сестры Алексея Адашева. Здесь и увидел ее молодой царь. Настя хорошо помнила тот вечер, когда Иван приехал к Адашеву. Боярышне казалось, что она незаметная среди других пригожих и нарядных, но царь подошел к ней, усмехнулся:
— Мила ты и бела, лебедушка, а глаза не вымыла. Так черными оставила. Ай, как нехорошо!
Настя слышала, что любит смущать молодых девиц острый на слово государь, и, чем больше те смущаются, тем больше он смеется над ними. Иногда до слез доводит. «Ну, я-то не заплачу»,— подумала Настя и самым серьезным тоном ответила:
— Прости, мой государь, в том не моя вина. Золой, песочком терла — не отмываются. Видишь, лихо какое!
Царь, помнит Настя, расхохотался, а потом неожиданно привлек к себе и быстро поцеловал в щеку.
И это не смутило Настю. Прикрыв щеку платочком, она сказала строго:
— Румяны-то нынче не дешевы, государь, и слизывать их за всяко просто не надо бы.
— Ой, смела!—удивился царь, а потом добавил:—И смела и весела. Вот только умна ли?—Иван все еще надеялся смутить боярышню...
Село Кашинское, что стоит на полпути к Москве, занесено чуть не под крыши снегом, блестящим под холодным светом луны. На постоялом дворе народу столько, что теснота выплеснула на улицу людей и лошадей. Прямо на улице жгут костры из соломы, ветер разносит тысячи искр по дороге навстречу княжескому поезду. Ми- хайло Захарьин прислушивается к людскому шуму тревожно: не бунт ли уж опять подняли черные людишки? Вокруг костров — темные фигуры в тулупах, овчинных шубах: холод теснит их ближе к огню. Даже кони и те тянутся мордами ближе к дыму, ловят теплые струи воздуха. На княжеский возок никто и не взглянул. Тут и решили заночевать.
Шигонька первый влез в постоялую избу и, переступая через людей, вповалку спавших на полу, подошел к хозяину. В избе чадили два смоляных факела, хозяин поднес поданную Шигонькой грамоту к огню и ничего в ней не понял: читать-то не горазд был. Увидев большую печать, свисающую с грамоты, понял, что дьяк этот —птица важная, и хотел предложить ему свою жилую половину. Но дьяк оглядел и подошел к двери в горницу для благородных, взялся за скобу.
— Куда, дьяче? Там царь!—испуганно зашептал хозяин.
— Иван Васильевич?
— Царь Шигалей со свитой. Не шуми бога ради — татары разорвут тебя.
— Не разорвут,— спокойно ответил Шигонька и постучал в дверь.
Шигалей приходу дьяка обрадовался. А когда узнал, что с ним едет боярин и, может быть, будущая царица, распорядился просто. Из черной избы всех вытурил на сеновал, людей, которые устроились в горнице, вытолкал в черную избу. Настю и боярина сам провел от возка до горницы. В углу против печи и полатей Настя увидела лежанку под пологом, спросила:
— А тут кто?
— Тут, боярышня, хворые. Если помешают — уберем.
— Пусть лежат с богом,— ответила Настя.
После ужина Шигонька сразу вцепился в Аказа, давай выспрашивать о делах, что творятся на горном волжском берегу. С Аказом они старые знакомые—поговорить есть о чем.
В Москве вторую неделю идут смотрины. Девиц съехалось более пятисот. Невесту царскую выбирали тремя кругами. Первый круг — боярский. Ездили бояре-наместники по вотчинам, городам и весям, смотрели каждую девицу. Глядят: пригожа ли, бела ли, нет ли на лице каких изъянов. Особенно выспрашивают про то, какого роду-племени. Ежели девушка древнего роду и красива, дарят ей кашемировый платок и отсылают во второй круг в Москву.
Второй круг—владычный. Сидит в нем митрополит Макарий с архиереями. Здесь проникают в ум и душу каждой избранницы. Задают замысловатые вопросы, спрашивают молитвы, думы о боге, узнают, сколь преуспела девка в грамоте. Самым умным и благочестивым дарят золотой нательный крест и шлют на третий круг. Остальным крест дарят серебряный и с почетом отправляют домой.
Третий круг — царский. Иноземные лекари смотрят на каждую в отдельности. В жарко натопленной комнате златокрестнип раздевают донага и вконец смущенных до бледности в лице подводят к свету. Лекари смотрят, здорова ли избранница, способна ли к деторождению, статна ли, отличается ли красотой телесных форм, нет ли в теле каких изъянов.
Скрытый от девиц, сквозь решетку на избранниц смотрит сам царь.
Из сорока златокрестниц выбрали двенадцать, к ним вышли царь и митрополит.
Настя, укутанная в шелковое покрывало, взглянула на Ивана — и волна радости хлынула в ее сердце. Царь улыбнулся ей как старой знакомой, чуть заметно кивнул головой.
Макарий осенил избранниц крестом, сказал:
— Каждая из вас достойна быть царицей. Любая из вас по сердцу государю, и не знает он, с какой разделить свой престол, свой хлеб, свое ложе. Сие оттого, что даны вы ему человеками, а государыня, как и сам государь, особы богоданные. И обратимся мы к богу, и пусть всевышний укажет на одну из вас. Идите с богом по покоям, вам отведенным.
И снова Иван глянул на Настю ласково.
...Спит Москва, спят обитатели Кремля. Морозно и тихо в ночи, только изредка на крепостных стенах перекликаются сторожа.
В двух опочивальнях, перестроенных наскоро из светлиц, спят двенадцать избранниц. Среди них и Настя. В покоях жарко, девицы сбросили с себя одеяла, разметались на пуховых перинах.
Девицы спят. Уж очень много волнений выпало на их долю в эти дни. Устали они и не долго думали о своем уделе — уснули. Может быть, видят они радостные и волнующие сны.
Не до сна жениху. Отобрали для него двенадцать невест. Все красавицы, как одна, телом стройнее одна другой, смыслом умнее одна другой. Попробуй, укажи на ту, с которой жить всю жизнь. Не шутка. Вдруг выберешь одну, а, может, рядом с ней стоит во много раз душевнее, милее и умнее — в душу не заглянешь. И сказал тогда митрополит: пусть выберет всевышний. Когда отойдут ко сну избранницы, укрыть их всех платами, прийти к ним в ночи и, не видя лица, положась на промысел божий, указать единственную.
И повел Макарий молодого царя в опочивальни.
Под низкими каменными сводами — духота. Единственная свеча в дальнем углу светится еле-еле, язычок пламени колеблется из стороны в сторону, будто свежего воздуху ищет. В полумраке бесшумно, на носках проходит царь мимо кроватей, жадно обшаривает глазами тела, укрытые легкими одеяльцами. Вот одна одеяльце сбросила, потому жара, и лежит в полутьме, будто Ева в первый день творения. Иван долго глядит на нее, но владыка легонько подтолкнул вперед. У царя дрогнуло сердце. Около стены лежит та, что дерзко и умно говорила с ним у Адашевых. Тонкое покрывало плотно облегает тело и обрисовывает удивительно красивые изгибы ее фигуры. Она улыбается во сне, губы шепчут какие-то слова, а на подушке вокруг головы золотистый венец кос. Вся она соблазнительно свежа, и царь склоняется над ее открытым плечом. Ноздри раздуваются, дрожат. Он рывком хватает владыку за рукав рясы и шепчет: «Вот она!»
Шигонька снова в Москве. Снова, как и при Елене Васильевне, рядом с троном. Прочел молодой царь заметы Шигонькины о черемисском крае, нашел их зело умными и краткими и вызвал дьяка в Москву. Повелел ему снова вести Царственную книгу и вносить туда все, что в царстве содеялось. И стал Шигонька царевым летописцем, жил по-прежнему в митрополичьих покоях.
Шигонька взялся за Царственную книгу. Записывать нужно много: как великий государь венчался на царство, как советовался с митрополитом Макарием о женитьбе, где огорошил бояр и попов решением не искать себе невесту в иноземных царствах, как это делали раньше, а взять в жены русскую. И о том, как невесту выбирали. Записать не мешало бы о том, кто этого счастья удостоился.
«И женился русский царь в четверток всеядной недели и венчал их в соборной церкви Пречистыя Богородицы Макарий митрополит всея Руси в царствующем граде Москве и бысть радость велика...»
В понедельник всеядной недели начался великий мясной торг. Испокон веков торговлю починали на Москве-реке. Туши свиней, быков и баранов вывозили прямо на лед и примораживали. Затверделые на морозе огромные рыбины складывались на лед поленницами, как дрова.
В эту же пору начинались и свадьбы, и всякие празднества. Русские, грешным делом, поесть до отвалу любят, а на свадьбах — тут уж без сотни перемен и стола не бывает. Потому торговля съестным идет бойко.
Москва прознала, что пир свадебный у царя начинается в субботу и только в другую субботу закончится. И будто позвано на тот пир около тысячи человек, и будто съедутся со всей державы князья и бояре. Этому верили и не верили, однако многие видели, как в Кремль проскакали молодой воевода Андрей Курбский и старый князь Семен Гундоров. А ведь каждому мальцу ведомо, что Курбский был на южных рубежах, а Гундоров сидел на Волге в Нижнем Новгороде.
И вот настала суббота всеядной недели.
Терешка Ендогуров — приказной голова, как и в прошлые годы, когда женили Василия Ивановича, так и теперь, когда справляет свадьбу его сын, несет охрану Брусяной избы.
В сенях и на крыльце — дюжина сторожей-стрельцов, а сам Терешка в новом кафтане, при сабле встал в прихожей палате у входа. Слева вход в большой зал Брусяной избы, там расставлены столы царского свадебного пира.
Шумно в огромной зале.
Тут и князья, и бояре с женами и дочерьми, тут и воеводы, и попы с чадами и домочадцами. Терешка каждого знает в лицо: недаром седину на сей службе нажил.
Уж все расселись строго и чинно по своим местам, а молодого царя с царицей еще нет. Терешка видит, как царский стольник шмыгает из залы в сени, выглядывает в окно — беспокоится, почему молодые задержались.
Гости тоже шушукаются меж собой, гудят, как пчелы в улье. Потрескивают богатые свечи, льют каплями воск на холодную бронзу подсвечников. Снуют слуги, носят в залу яства, вина и питие. Терешка слюнки глотает.
А царя все нет и нет.
Князь Андрей Курбский, высокий, смуглый красавец, вышел из залы и ходит по палате. Терешка знает: князь, вызванный с южных рубежей на венчание, опоздал и теперь боится гнева царского. Широко распахнув двери, вошел иерей Сильвестр. Он подходит к окну и в волнении мнет черную с проседью бороду. Для него царь все еще мальчик, воспитанник, и каждый неверный шаг болью задевает душу старого иерея.
Курбский подошел к Сильвестру, глядя в окно, сказал:
— Уж молодым пора бы появиться. Бояре-гости заждались.
— Их не убудет — подождут,— сердито ответил Сильвестр,— сами во всем виноваты. Бывало, помазанника божия в палату эту думную на шаг не подпускали. Помню, вот на этом рундучке сидит, сердешный, ждет, когда бояре выйдут и свою волю скажут.— Сильвестр повернул голову к входу в залу, глаза его блеснули торжеством.— Теперь же он их ни во что не ставит и делает им все наперекор.
Иерей тряхнул гривой волос, резко развел руки:
— Со первых дней Руси государи себе в супруги брали дочерей от царской крови, а ныне кто в царицах? Окольничего Роман- ки дочь! Род захудалый — боле некуда.
— Царю Руси сподобнее царицей иметь русскую. Она красива, любит он ее. Ведь не тебе, святой отец, с ней жить и не боярам. По-моему, в выборе он прав.
— Помазанник он божий! Царю великому великая степенность быть должна...
— Тебя не пойму, святой отец! И на бояр ты зол, и на царя... Пора понять, что царь уже не ребенок.
«Всю власть с Адашевым в свои руки забрали,— думает Те- решка.— Теперя эта власть из рук уплывает—оттого поп и злится».
В этот момент в темных окнах палаты полыхнуло оранжевое пламя факелов, и скоро в боковую низкую дверь палаты вошел Иван с молодой царицей. На царе светло-голубого шелка летник, из-под которого видна шитая золотом ферязь. Поверх летника— парчовый кафтан с меховыми отворотами, затянутый широким ожемчуженным поясом. Широкий соболий опашень накинут на плечи. Так же богато одета и царица. Молодые вышли на середину палаты, и скоро все помещение заполнила, блестя нарядами, свадебная свита.
Курбский поклонился царю и царице отдельно.
— Будь счастлив, государь. Дай бог царице доброго здоровья.
— Князь Андрей! — Иван быстро подошел к князю, и у Курбского отлегло от сердца.— Хоть и храбрый ты воевода, но опоздай на свадьбу—и я не простил бы тебя. Вставай со мною рядом—пойдем за стол. Благослови, святой отец.
— Благослови господь тебя с супругой, государь,— сухо произнес Сильвестр и трижды осенил чету крестом.
— И ты со мной, — кивнул иерею царь и, взяв Анастасию под руку, вошел в залу.
Г
Гул сразу стих, но потом разразился с новой силой. Послышались возгласы: «Многия лета царю с царицей!», «Слава, слава!». Палата опустела, только изредка пробегали через нее слуги. Княжий свадебный пир начался.
Терешка стоит у входа почти два часа. А пир идет своим чередом.
Вдруг мимо Терешки проскочил щуплый татарин в меховой шапке. Терешка в два прыжка догнал его, схватил за воротник.
— Ты куда это, неумытая рожа, лезешь?
— Мал-мало стольнику пасматреть надо, от хана Шах-Али словам сказывать надо.
— Постой здесь. Позову.
— Латна, пастаим,—согласился татарин.
Не успел стольник выйти, хан Шигалей сам тут как тут. Широким шагом вошел в прихожую палату, стряхнул с усов намерзшие льдинки, сдернул с плеч и бросил татарину на руки заснеженный тулуп.
— Хан Шигалей! — воскликнул стольник, выходя.— Когда успел ты? Давно ли из Казани?
— Только с коня слез. Скажи царю, что Шах-Али в Москве.
— В том нет нужды. За свадебным столом твое место не занято. Входи — садись, царь будет только рад. Он и так про тебя спрашивал.
— Я не затем пришел, чтобы бражничать. Тебя я об одном прошу: скажи, что я в Москве и шлю ему от сердца поздравление. Иди.
— Погоди тут, коли входить не хочешь. Я доложу государю, может, ты надобен ему.
А через минуту в прихожую вышел царь. Он был весел и чуть- чуть пьян.
Увидев Шигалея, на ходу крикнул:
— А-а, беглец явился!
— Тебе здравия желаю, государь.
— Ценой великою приобрели мы в Казани сторонников Руси, а ты покинул их?!
— Кучак привел из Крыма войско, князь Вельский...
— Когда? В средине лета это было. Сейчас зимы средина. Где был?! Быть может, ты в Крым бегал, к Гиреям?
— Великий царь... Я столько лет служу тебе...
— Магмет-Аминь, Латиф — сородичи твои?
— Двоюродные братья.
— Их мой дед с пеленок взрастил. Вспоил, вскормил. И что же? Поочередно ставил их в Казань, они ему поочередно изменяли! И ты с того же начал,— с обидой в голосе проговорил царь и подошел к окну. Из двери вышли Сильвестр и князь Александр Горбатый-Шуйский. Сильвестр подошел к Ивану и тихо, чтобы не слышали другие, сказал:
— Прости, Иван Васильевич, что я перебиваю твою речь, но на пиру смущение. Царицу молодую ты оставил одну. У невесты слезинки на глазах.
— Не гоже, государь, супругу оставлять на свадебном пиру,— шепнул князь, подойдя с другой стороны.
Иван резко повернулся от окна, метнул взгляд на Сильвестра, потом на князя, сказал спокойно:
— Андрюшенька, друг мой, поди к царице, рядом с ней сядь...
— Как можно, государь!
— Сядь рядом с ней,— еще тверже повторил царь после восклицания Сильвестра.— Скажи, что у меня дела. Ты побудь с ней, развесели. А я вернусь как можно скоро.
— Такого средь царей не было доселе,—тряхнув гривой, гневно произнес иерей,—Не можно так!
— Довольно, поп! — крикнул Иван.— Кого учить ты вздумал? Бросай эту привычку — пора уже... А ты, Андрей, скажи супруге — слезы пусть утрет немедля. Скажи, что плакать ей не слей. Она отныне не окольничего дочь, а — царица! И для нее отныне дел важнее, чем корысть государства, нет! Да будет вам известно: Казань опять ушла под руку Крыма. Доколе же... ты, князь Андрей, иди... доколе же наш друг хан Шигалей Гиреями с престола будет изгоняться?
Услышав гневные возгласы царя, из залы в палату стали выходить гости, и скоро Терешку оттеснили к самому выходу. Однако все, что говорил царь, ему было слышно.
— Ну, я вас спрашиваю, доколе?
— Такой обиды стерпеть нельзя! — крикнул князь Глинский.
— Не в этом суть! Обида. Хан Шигалей, я чаю, притерпелся, который раз бежит из Казани? Разве только чести ради нужен нам сей город? Среди вас много воевод — мне ли говорить вам об этом. Ногаи, крымский хан от Астрахани до Казани зажали нас железною подковой, на полдень, на восход, куда ни кинься — везде руки связаны. А народ наш по окраинам басурманы грабят, льют кровь, словно воду. Вот Курбокий-князь третий год собирается жениться и все недосуг: по южным рубежам с ратью мотается. Ногайцы, крымцы и казанцы дышать нам не дают,
— Я тоже, государь, казанец. И прямо говорю тебе: если бы не крымцы, то мой народ с Москвою в дружбе жил.
— Я это знаю,— сказал Иван и, подойдя к Шигалею, добавил.— Пора давно помочь казанцам, чтоб нам они служили честно.
— Дозволь сказать, великий государь.
— Сказывай.
— Покойный твой отец говаривал: «Без дружбы с черемисами Казань нам не взять, бо черемиса за спиной за нашей остается». Великий князь стремился дружбу с народом черемисским учинить.
— Об этом я уж думал. И, подумавши, решил снарядить туда тебя, князь Александр. Здесь под Москвой тебе вроде бы делать нечего. Бери-ка ты всю свою рать, да и с богом. Узнай, не по
мышляют ли они о дружбе с нами? Быть может, князей черемисских на нашу сторону склонить сумеешь.
— Мне все ведомо, великий государь,— сказал хан.— Они хотят союза с русскими. Едучи сюда, в лесу я догнал людей. Их было четверо. Двое, простудившись, лежали в горячке, а другие двое только поморозили носы да уши. Я им помог, привез сюда. Они от черемис послами шли.
— Так где же они? — нетерпеливо спросил царь.
— В приказной избе остались.
— Да понимаете ли вы, какую бог удачу нам послал? Пусть поведут послов в опочивальню, пусть баню им истопят, напоят-на- кормят, а завтра... Нет, что там завтра — ведите их сюда немедля.
Шигалей кивнул стоявшему рядом с Терешкой татарину — и тот мигом очутился в сенях.
Среди бояр, стоявших справа, прокатился ропот. Вслух никто не произносил ни слова, но между собой бояре выражали явное недовольство. Царь, пока слуги выносили кресло, стол и скамьи, поглядывал то на бояр, то на Сильвестра. Он знал, что поп подобного нестепенства не допустит. Так и вышло. Сильвестр встал перед столом и, как всегда левой рукой держась за крест и размахивая правой, заговорил:
— Иван Васильевич, позволь! Мы все твои рабы—милуй нас или казни, но не бесчесть. Позвал ты нас на свадьбу и оставил одних. Язычников к себе зовешь и ради них бросил всех гостей, бояр и князей.
— Позоришь именитых!
— Сраму терпеть не можно!
— Басурманов выше бояр поставил!
Иван молча слушал эти выкрики, потом резко оттолкнул ногой кресло, вышел вперед и долго глядел на гостей суровым ВЗГЛЯДОМ. Ропот мало-помалу стих. И тогда царь заговорил. Хоть и молод был царь, но уже страшились бояре этого голоса.
— Эх вы, мужи—опора государства. Я думал, помыслами вы со мной. Я думал, и у вас, как у меня, душа о благе государства болит. Я думал: этот долг святой всему вы предпочтете. Бражничеству тем паче. Да, гости вы мои, и все вы мне дороги. Но знайте: дело, завещанное мне отцом и дедом, всего дороже. Быть может, и не принято на свадебном пиру с послами разговаривать, но неужели вам не любопытно знать, с чем пришли послы? Быть может, принесли они на свадьбу мне подарок, который будет нам всех даров милее. Народа дружбу, может, принесли они!
На вошедших послов гости глядели будто на диковинных зверей.
У стола Аказ остановился, Янгин и Топейка были еще слабы и поддерживали друг друга. Они встали за Аказом. Аказ много слы- шал о суровости вспыльчивого царя и поэтому немного волновался. Он отвесил царю глубокий поклон. То же хотели сделать То- пейка и Янгин, но у них не хватило силы—оба упали на колени.
— Скамью подайте хворым,— приказал царь.— Садитесь.
— Я постою,— сказал Аказ.— Большой салам принес я тебе.
— Спасибо. Хорошо ли доехал—не спрашиваю, ибо знаю. Кто вы и зачем пожаловали?
— Мы черемисы горные из рода Туги. Пришли сюда от Волги. А это наш друг, чувашин Топейка. Послали нас в Москву старейшины, чтобы ты наш край под свою руку взял и защитил нас.
— Народом вашим правит кто?
— Большого хозяина у нас нет. Лужаи есть, по-вашему вроде бы вотчины, каждым лужаем правит лужавуй.
— А старший кто?
— Я сам. Горные черемисы меня главой почитают.
— Людишки все ли единодушны, чтобы встать под власть мою?
— Терпеть насилия крымцев больше нет мочи. За то, что не хотим мы нападать на рати русские, что под Казань ходят, крым- цы мстят нам.
— А почему на войско мое вы не хотите нападать? Боитесь?
— От русских зла мы не видели, казанцы же постоянно нас грабят. А когда там Гиреи хозяйничать стали, совсем плохо нам.
— Если я под Казань пойду, поможете?
-- Народ наш готов к твоим войскам пристать.
— Много ли вас?
— Сорок тысяч поднимем, государь!
Терешка никак не мог вспомнить, где он этого человека видел.
Так же пристально на Аказа смотрел князь Горбатый-Шуйский. Ему он тоже казался знакомым.
Меж тем двери залы открылись, и вошла царица Анастасия с Курбским. Она приветливо улыбнулась Аказу, как старому знакомому.
-- Здорова будь, великая царица,— с поклоном произнес Аказ.
-- Осмелюсь я, мой государь, послов просить к столу? Пусть
выпьют они за здравие царя.
— Настасьюшка! Ты умница моя!—царь радостно развел руками.— Посол! Иди к столу! Ты радость мне принес сегодня.
Аказ посмотрел на мрачные лица бояр, сказал осторожно:
— Не знаю, достоин ли я такой чести? Да и одежонка в пути больно поизносилась. За высокий царский стол в такой одеже можно ли?
Иван окинул послов взглядом с ног до головы, потом посмотрел на разодетых в парчу и золото бояр. Быстрым и легким движением снял кафтан и набросил его на плечи Аказа.
— От всей души прими,— и сунул в руку посла пояс.
Гости ахнули! Шутка ли — басурману кафтан с царского плеча!
А Алексей Адашев мигом сдернул ферязь и поднес Янгину.
— А ты моим армячишком не побрезгуй.
— Андрюшенька,— царь обратился к Курбскому,—а твой кафтан, сдается, будет впору третьему послу. Примерил бы.
Курбский, посмеиваясь в бородку, стал снимать кафтан.
Иван насмешливо взглянул на хмурого Сильвестра, взял царицу за руку и прошел в залу. Гости—толпой за ним.
Переодеваясь, Аказ не заметил как к нему сзади подошел воевода Горбатый-Шуйский и шепнул на ухо:
— Снова в Москве, Стрелок гораздый?
— Я не бывал в Москве,— тихо ответил Аказ и почувствовал, что краснеет. Он лгал первый раз в своей жизни.
— Первый раз, говоришь? А кто Глинского от медведя, а Саньку Кубаря от плахи спас?
— Не понимаю, говоришь о чем?
— Ну-ну, не бойся. Я Саньке друг. Коль знаешь, где он, поклон ему. Скажи, что бабушка его преставилась, царство ей небесное, а он на Москву чтобы ни ногой. Молодой царь о его провинности помнит, да и Глинские здесь в силе. Так и передай. Тебе же от меня таиться нечего — вместе на Волгу пойдем.
Аказ кивнул головой в знак согласия и рядом с воеводой пошел в залу. Янгин и Топейка смело шагнули за ними. Проходя мимо Терешки, Аказ улыбнулся, обнажив белые зубы. И тут Тереш- ка вспомнил: это сотник Аказ, с которым вместе когда-то тушили лесные палы...
Свадебный пир закончился только под утро. Иван, охмелевший к полуночи, сейчас в опочивальне был почти трезв. Он скинул летник с ферязью и в одной исподней рубахе сел на кровать рядом с Анастасией.
— Ты на меня не сердишься, Ваня?—тихо спросила та.
— За что?
— Может, послов не стоило мне к столу звать? Бояре и князья ь большой обиде были.
Иван ничего не ответил.
— Я увидела, что послы тебе по сердцу пришлись...
— Кому по сердцу? Мне?! — Иван сердито взметнул брови вверх.— Ничтожные людишки, как и все!
— Зачем же ты их выше бояр поставил?
— Коли надобно будет для целей моих и государства, я их выше себя поставлю. А если надобно, завтра же прикажу псам на растерзание отдать.
— Грозен ты, Иван, в гневе и милости. Как бы не наделал бед великих.
— Это я к слову. Сии послы мне сегодня нужны были.
— Но зачем же злобить бояр? Разве с приемом нельзя подождать было?
— А это я Шуйским назло, Сильвестерке-попу. Я еще покажу им, что я — царь! Завтра велю черемисских послов одарить кольчугами и ратной сброей. Пусть бояре мошной своей потрясут — воинов князя Горбатого в поход на Волгу соберут... Да ну их, бояр и всех протчих! Давай спать.— И он привлек к себе Анастасию
Утром Аказ проснулся поздно. Не спеша оделся, умылся, подошел к окну. На улице все залито солнцем. Снегу в нынешнюю зиму выпало обильно, и он лежит на крышах толстым слоем, чуть-чуть сероватый, окинутый дымом печных труб. Купола церквей тоже под снежными шапками. На душе у Аказа радостно: все, о чем так много и мучительно думалось, исполняется.
Зазвенели под копытами всадников промерзшие бревна мостовой. Около посольской избы остановился князь Александр с двумя воинами, взошел на крыльцо.
— А-а, главный посол уже встамши,— воскликнул воевода.— Принимай мои поминки. Буди товарищей,— и, приняв у воинов два узла, передал их Аказу.
В узлах было каждому по стеганому тегиляю — кафтану со стоячим воротом, по панцирю с легкой кольчужкой и по остроконечному бронзовому шлему.
Когда Аказ, Янгин, Топейка и Мамлей оделись в ратные доспехи, воевода сказал:
— А теперь к государю пред светлые очи.
На дворе день морозом лют, но безветрен. Ветки дерев гнутся, отягощенные снегом, сверкают на солнце. Иногда от стука или легкого ветерка снег падает наземь, и тогда ветка выпрямляется, чуть-чуть покачиваясь. Аказ идет за князем по Кремлю, с тревогой глядит на окна Шигонькиного дома. Там скрывается Санька. «Ах, как бы выговорить ему прощение,— думает Аказ,— сказать бы царю, какой он хороший человек. Но удобно ли?!»
И снова они в прихожей палате Брусяной избы, где позавчера был большой прием и переговорено обо всем: как себя держать с татарами, как готовиться к походу на Казань, как с народом говорить?
Сегодня в прихожей палате много облаченных в ратные доспехи воинов.
Царь вошел почти одновременно с послами. Обращаясь к ратникам, сказал:
— Ну, с богом, воины! Благословляю вас на далекую дорогу. Князь Александр, подойди поближе. Хоть не великую даю тебе рать, но воины отменные. Казань ты пока не воюй, а вот его народу,— царь указал на Аказа,— от насильников защитой стань. Пройди по волжским берегам, пусть лесной народ знает, что черемис мы в обиду не дадим. Дороги лучшие они тебе покажут.
— Каждую тропку лесную знаем! — ответил Янгин.— Проведем князя, куда ему надо, и делу конец.
— Я схожу в ветлужские леса,— сказал Топейка,— пусть и там знают, что Москва нам теперь родня.
— Скажите людям мое слово.— Иван подошел к Аказу.— Если помогут мне отвоевать Казань и встанут с Русью рядом, пять лет не будем брать мы с них ни ясака, ни податей и никаких налогов.
— Великое тебе спасибо, государь!
— Э-э, нет, поклоном не отделаетесь.— Царь повернулся к Ян- гину и слегка ткнул кулаком в плечо.— Ишь, плут! На свадьбе у царя гулял, а отзывать не хочешь. Когда на Казань пойду, непременно заеду в гости. Наверное, уже успели все трое пережениться?
— Янгин холост еще,— смеясь, ответил Аказ.— Ну, что ты молчишь— зови царя на свадьбу.
— Зачем звать? Ты приезжай — и мы сразу свадьбу заварим.
— И делу коней? — Иван расхохотался.
— Да!
— И еще спрошу... Донесли мне, что в послах твоих черемисских татарин есть.
— Есть, государь. Мамлей из соседнего улуса.
— С какой он стати?
— Скажи, Мамлей, — Аказ кивнул другу.
— Мы с людьми Аказа заодно живем, — ответил Мамлей, шагнув вперед.— Наравне с ними притеснения мурз терпим. Нам отдельно от соседей идти нельзя. Куда они, туда и мы... У нас судьба общая...
— Ну, поезжайте с богом.— Иван сел в кресло и махнул рукой, давая знать, что разговор окончен. Ратники, гремя доспехами, стали выходить из палаты.
— Все сделаем, как ты велел,— сказал Аказ, и все трое, поклонившись, пошли за ратниками.
— Аказ, вернись! — окликнул царь,—Мне донесли, будто на Москве ты не впервые?
— Да, государь. Я малость отцу твоему служил.
— Саньку, постельничего, ты знаешь?
— Знаю. Мы вместе из Москвы бежали.
— Я думал, ты скроешь это.
— Я в жизни никому не лгал,— ответил Аказ, искоса поглядывая на Горбатого-Шуйского.
— А где сейчас тот беглец Санька живет, не знаешь?
— Был у нас, теперь, однако, в другом месте.
— И там не был, не знаю.
— Ты можешь его при случае изловить и царю передать?
— Желанным гостем он бывает у моих людей, а гость у нас— священный человек. Его не выдадут.
— Чем он так желанен черемисам?
— Он правду любит, он вере вашей, государству радеет, жизни не щадя. В самую глубь лесов к луговым черемисам ходил, жил там долго.
— Зачем?
— Своим горячим словом склонял народ наш к Москве. Я сюда пришел — в этом его заслуга есть.
— Князь Александр, прознай об этом. А вы ступайте с богом.
Когда Аказ и его товарищи вышли, воевода спросил:
— Беглого изловить прикажешь?
— Узнай, что делает он там, что говорит — и только. Быть может, и верно — большое дело человек делает. Аказу в мысли проникнуть постарайся. Ты знаешь: словам я не верю. Он дал слово когда-то батюшке моему служить, а сам сбежал. Быть может, и ноне в душе у него совсем иное. Язычники—они коварны. К народу ихнему приглядывайся, тут тоже не верь словам. Что не так— секи головы нещадно.
— Исполню, государь.
— А что касаемо ратных дел, все остается как решили в прошлый вечер. Ну, будь счастлив.
Когда князь Александр вышел, Иван перекрестился и сказал про себя:
— Ну, слава богу, ворота в землю казанскую открыты!
Сперва Санька думал, что в Москву пришел зря. Но вышло, что тяжелый путь совершил он недаром. Приютил его Шигоня как старого друга в своем доме, тайно водил к митрополиту Макарию, потом к молодой царице. И все обещали помочь, выпросить у царя прощение. Такой случай представился, когда царь после свадьбы поехал к троице в Сергиев монастырь молиться. После обедни в приятной беседе Макарий как бы случайно промолвил:
— Молясь ныне за благо людей, отчизне нашей полезных, вспомнил я про раба Александра. Гонимый всеми, нашел он приют у недругов наших и много лет жил там с думой и любовью к родине. И недругов тех сделал нашими доброхотами...
— Ты о ком это, святой отец? — Иван взглянул на владыку искоса.
— Единожды я уже просил гебя простить его.
— Саньку Кубаря?
— Ты, государь, и правду пожаловал бы несчастного,— сказала царица.
--Да ты-то отколь его знаешь?
-- На смотрины едучи встретила. Недужен был, в бреду все
прощения у тебя просил. Много хорошего рассказали мне о нем.
— Как же он на пути твоем попался?
— Не хотели мы тебе, государь, говорить, да, видно, надо,— сказал митрополит.— Ведь это он черемисских послов в Москву привел.
— Отчего же он сам прощения не попросил у меня, если был здесь?
— Не корысти ради и не ради прощения своей вины уж много
лет он подвигами живет, а во славу державы нашей и на пользу
вере православной. Таких людей, сын мой, в опале держать грех.
Иван долю молчал, о чем-то думая, потом произнес:
— Истинно ты сказал — грех.
А на следующий день вослед вышедшей рати помчался конник. В его суме лежала грамота воеводе Александру Горбатому-Шуйскому. А в той грамоте было сказано:
«...Вдет с твоей ратью в послах черемисских монах Санька прозвищем Кубарь. Государь того монаха Саньку пожаловал и все вины ему отпустил. И повелел государь тебе, князь-воевода, взять того монаха в войско, и пусть он ныне не токмо словом, но и мечом державе и государю служит...»
[1] Все указанные воеводы позднее казнены Иваном IV. (Примечание автора.)
[2] Юмын комбо корно (мар.) —дорога божьих гусей. Так марийцы называли Млечный Путь.
[3] Идите сюда! Здесь кто-то живет.
О ГРАДЕ СВИЯЖСКЕ
к
И
з Москвы выехали в пятницу сырной недели, а к берегу Волги пришли только в субботу великого поста. Воевода князь Александр Горбатый-Шуйский рать вел не спеша. Впереди шла ертаульная1 сотня, за ней сам воевода, а потом вся рать. За ратью в возке — послы.
Царская грамота о Санькином помиловании догнала воеводу на третьем дне пути. Она очень обрадовала князя. Еще в пору пострижения Соломонии Горбатый-Шуйский восхищался смелостью Саньки и с тех пор все время помнил правдивого постельничего.
Прочитав грамоту, он сразу отъехал в сторону и дождался посольского возка. Только сейчас князь понял, почему там сидят пятеро, а на приеме у царя было четыре посла.
— Аказ, жив ли ты? — спросил князь, следуя рядом с возком.
— Жив!—Дверца открылась, и Аказ выглянул наружу.
— Все целы?
— Все, князь.
— И беглый постельник Санька тоже цел?.. Молчите?
— Здесь я! — раздался голос Саньки.
— Остановись! — приказал князь вознице.— А ну-ка, Саня, вылезай, дай я посмотрю на тебя.
Из повозки выскочили Аказ, Мамлей, Янгин и Тоиейка и, схватившись за сабли, встали у дверцы.
— Его ты не смеешь трогать, он посол,— сказал Аказ.
— Тронешь его — делу конец! — крикнул Янгин.
— Ну и молодцы!—восхищенно сказал воевода и, вынув из рукава грамоту, подал Аказу.— Передай Саньке — пусть прочтет. А прочитавши, пусть садится на коня и догоняет меня. Поговорить надо.
И ускакал вперед.
Через час Санька верхом догнал князя и уж более до самого конца пути в возок не садился. Когда подошли к Волге, Аказ, Янгин и Топейка тоже вскочили на подаренных им коней и до самого Нуженала ехали верхом.
Дорога по Волге совсем не та, что по лесу. Ветры-ветрогоны свистят меж берегов, словно по трубе. Только пурга утихнет, начинается метель. Не успела метель отшуметь, как начался буран. Вот так, воюя со снегами да ветрами, подошли ратники к Нуженалу.
1 Ертаульная (тат.) — сторожевая, в данном случае разведочная сотня, авангард.
Аказ думал, погостит у него князь неделю-две, время метелей переждет. Сказал ему об этом.
— Я и раньше по гостям сидеть не охотник был, а ныне и подавно,— ответил князь.— Подумай сам: рати со мной три тысячи человек. Они за неделю не токмо твое сельбище, но и тебя вместе с онучами сожрут. Ведь без кормов приехали — сам знаешь.— И, помолчав, добавил: — Рать расколем на четыре части: здесь, у тебя, оставлю всего одну сотню с новым сотенным Санькой Кубарем во главе, а остальные по другим землям рассыплем. Пусть там живут и казанцев в твои земли ни на шаг не пускают. А я по Луговой стороне до весны погуляю. Топейку со мной отпустишь?
— Он сам царю на Ветлугу сходить обещал.
— Ну вот и хорошо. Завтра с богом в путь.
Через день опустел двор Аказа. Топейка ушел с князем на другую сторону Волги, а Янгин и Ковяж были посланы сопровождать ратников до своих лужаев и распределять их по илемам.
Санька свою сотню ратников растолкал по домам в Нуженале, велел им жить вместе с черемисами, помогать им в работе, ходить в лес на всякие промыслы — словом, не дармоедничать. И еще повелел постоянно приобщать местное население к православной вере.
До весны много людей научить можно. А весной, как сказал князь, будет дело под Казанью...
На третьей неделе петрова поста стало известно: царь повелел собирать поход на Казань.
Сборы шли до глубокой осени. В ноябре войска вышли в сторону Владимира. Во главе встал верховным воеводой сам царь. Шигоньку взял с собой, дабы великие победы и подвиги царские было кому в летописи заносить.
Шигонька добросовестно, в первые же дни похода, в книге, именуемой «Летописец», начертал:
«Тоя же осени умыслил Царь Иван Васильевич идти на своего недруга, на Казанского царя Сафу-Гирея. Месяца ноября 20 в неделю отпустил перед собой в Владимир воеводу родовитого князя Вельского с ратью, из Мещеры велел идти хану Шигалею да с ним воеводам Воротынскому и иным. И устремилась к победам рать аарская зело борзо и лепо...»
Во Владимире Шигонькина запись чуть-чуть поскромнее стала:
«...а наряд, пушки и пищали проводили с великою нуждою, потому что были дожди, а снегов не было нисколько. И пришли рати в Нижний Новгород со великими муками от января 26 в четверток».
Мог ли думать Шигонька, что в Нижнем Новгороде придется ему видеть царские слезы обиды и о том в летопись записать:
«...а на завтра в пятницу приде государь на остров Роботку,
что от Нижнего Новгорода 35 верст, и некиим смотрением божьим пришла теплота велика и мокрота многая и весь лед на Волге покрылся водою, и пушки и пищали многия провалились в воду, по льду проходить стало невозможно, и многие люди в продушинах ледовых утонули, заранее об оных не зная.
А стоял царь на острове Роботке три дня, ожидая путного шествия, но никак пути не дождался. Затем возвратился к Новгороду Нижнему с великими слезами, что не сподобил бог его к путному шествию...»
После первого похода прошел ровно год.
И снова Иван на Казань с ратью двинулся, и опять Шигонька при царе. Пока ехали, в дороге описал летописец всех воевод и все рати, что на Казань царем позваны. А ратников ныне стало вдвое более, воеводы, почитай, все в походе, наряд пушечный велик, пищалей у воинов много. Царь прошлогодние слезы забыл, снова весел, снова в победе уверен.
И пишет Шигонька страницу за страницей, старательно описывает все, что видит.
«...Царь и Великий князь пришел к городу Казани со всем воинством и велел стать около града. Пушечному наряду большому велел стать на Усть-Булаке противу города, а другому наряду велел стать против города у Поганова озера и воевод расставил.
И туры велел поделати и к городу приступати. И приступ ко граду был, и града не взяли, и было множество людей по обе стороны побито.
И повелел царь встать осадой, но долго не можно было стояти; ино пришло аэрное нестроение, ветры сильные и дожди великие и мокрота непомерная; и впредь приступати к граду за мокротою не можно, из пушек, из пищалей стрелять не можно.
И царь стоял у города одиннадцать ден, а дожди во все дни были многия и теплота и мокрота велика, речки малые попортило, а иные и прошли.
И, видя такое нестроение, пошел царь от града прочь, и пришел на реку Сеиягу, и взъехал на Крутую гору, и, рассмотри величество той горы, надумал тут поставить город. Место, где быти граду и церквам святым стояти указал. А потом пошел своим чином к Новгороду Нижнему обратно...»
Уж если говорить насчет последней строки, то надо признаться, что тут Шигонька просто покривил душой. И совсем не «своим чином» шел царь до Москвы. Испокон веков бояре из-за мест около государя спорили. Недаром обычай этот в закон возведен и зовется местничеством. Бояре за него держались, как черт за грешную душу. И рушить не позволяли никому. Покойного Василия Иваныча обычай этот зело тяготил, да и нынешнему царю он тоже не по душе. Сколько все время грызни меж боярами идет за
то, чей род выше и к государеву месту ближе! А сколько от этого вреда! Взять то же ратное дело. Собирает государь поход и, судя зрело, главным воеводой надо б ставить того, кто умом, ратным опытом и талантом превыше всех. Ан нет, парь в этом не волен, и главным воеводой пойдет в поход тот боярин, кто родом старше и местом ближе. Ведь ходил же Иван Вельский дважды на Казань главным воеводой, хотя ведомо было всем, что боярин этот не токмо глуп, но и труслив.
Царь в походе местами да чинами будто веревками связан. Иногда хочется посоветоваться с умным человеком, посадить в пути в свою повозку, дорога длинна, знай сиди да беседуй. Но сего государь позволить не может, ибо с ним рядом только тот сидит, кому по чину положено.
Этот обычай нерушим, и Шигонька не посмел написать по-иному. Государь, мол, ехал своим чином и все тут.
А на самом деле было так: порешив осаду снять, Иван Васильевич уж не плакал, как прошлый раз, а был зол и скверно бранился. Воеводу большого полка Вельского из повозки своей выгнал.
— Пошел прочь, один поеду! — и плюнул.
— Как смеешь, государь! Родовитого боярина, словно пса, от себя гонишь. Я по месту к тебе всех ближе...
— Место сиречь та часть, на коей сидят. Ты ею только и знатен. А большому воеводе еще и голова надобна... Отныне в походе будем без мест, так всем и передай, и полки будут водить люди, достойные умом, а не родом.
И посадил с собой в повозку Алешку Адашева да Шигоньку Пожогина...
Что за напасть такая — вторую зиму в эту пору оттепель. Царский возок ныряет носом в преогромные лужи, будто лодка. На раскатах возок хлещет полозьями по бокам дороги, поднимая тучи брызг. Стенки возка мокры снизу доверху, дверца набухла — не открыть.
Царь сидит, укутавшись в шубу, молчит. Только сверкают в полутьме злые глаза. Против него сидят Адашев и Пожогин. Молчат тоже.
В Новгороде Нижнем молча поужинали, завалились спать. Наутро снова в путь. И тут царь заговорил:
— О чем, Алешка, думаешь?
— Про то же, что и ты, государь.
— Про Казань?
— Истинно.
— Врешь! Про меня думаешь. Государь-де бестолков — второй раз за зря рати гоняет. Воевода из него никакой. Тако мыслишь?
— Мне ли, умом Хилому, тако мыслить? Я о другом тебе скажу, государь, только не гневайся за правду.
— Говори.
— У всех народов во веки веков не было еще такого воеводы, который мог бы один победно водить рать целой державы. Самолично воевода правит одним полком, а для всей державной рати надобен великий военный совет. Умным полководцем почитается тот, который из тысячи советов, ему данных, сумеет выбрать пять самолучших, следуя которым, он выигрывает сражения. А тебе бояре-воеводы хоть один совет дельный дали? О том, как рати вести, размыслили?
— Перед походом о местах грызутся, ако псы, а в походе о кормах спорят. Каждый хочет, чтоб место было повыше, а кормой дать поменьше. На том их забота и кончается.
— А ведь поразмыслить, государь, есть над чем. Хотя бы пору походную взять. Разве осенью на войну выходить кстати? Пока в таку даль рать приведешь, вот тебе и зима. А зимой воину люто, кормов, особливо коннице, надо много, оттого и неудачи. Вот ежели бы весной в поход двинуться, воевать можно было бы не торопясь. И для людей корма добыть легче и для коней. Травы летом, ой, как велики!
— Больно умно, Алешка, говоришь ты, одначе без проку. Весной в поход идти —державу без хлеба оставить. Весна — простым людям сеять и пахать, на круглый год запасы запасать. Надумай я в поход весной пойти — бояре загрызут меня.
— За все умное они и так грызут тебя. Как я обрадован был, когда ты великой прозорливости шаг сделал — град на Свияге ставить повелел. Ведь оный град при войне с Казанью нам превеликой подпорой будет. А что воевода Вельский говорил? Град-де строить надобны людишки, а где этих людишек взять? Нужны-де бревна, а попробуй в лесах эти бревна рубить. Татары да черемиса всех рубщиков в един день перебьет. Не построить града и в пять лет, а будет токмо нашим людям изничтожение. Было так говорено?
— Было, Алеша, было. И хоть место для града я указал, одначе до се не решил, строить его али нет. Боярин, може, и прав: пока на ту землю твердо не встанешь, бревна рубить нам недруги не дадут. А без бревен да камня крепости не построишь, города тем паче.
— Позволь слово молвить, государь,— сказал Шигонька.
— Молви.
— Есть у меня друг—дьяк Ивашка Выродков.
— Знаю. Умная голова.
— Хотел он тебе советец дать... но воевода Вельский выгнал его: «Не хватало, чтобы кажинный мужик царя учил!»
— Каков советец?
— Бревна для города в местных лесах не рубить.
— Где же их рубить?
— Дома, у нас! Тайно построить где-нибудь в лесу город да, кажинную стенку разметив, разобрать его и на лодках ко Свияжску привезти. Умеючи, за неделю город собрать можно — казанцы и глазом моргнуть не успеют.
Царь от волнения сбросил шубу, крикнул:
— Как рать в Москву приведем, в первый же день дьяка Ивашку ко мне!
— Исполню, государь!
— Этак мы к будущей осени городишко и поставим и учиним казанцам тесноту велику. А людишек для того Свияжска я сам знаю, где взять. Хан Шигалей с городецкими татарами да черемисский князь Аказ Тугаев крепость ту будут оборонять. Кормов и зелья пушечного запасем мы в том граде на год войны и тогда уж...
Во Владимире царь ночевал три ночи. Спал мало — все думал. Потом снова позвал Алешку Адашева и сказал:
— Третью ночь не спится мне, Алешенька,— все о твоих словах про весенний поход думаю. Не дадут мне бояре весной ополчение поднять, видит бог — не дадут. И силы у меня сорвать людей с места нет. А поход ежели уж не весной, то в начале лета начну.
— Позволь сказать, государь.
— Говори.
— Тебе нужно постоянную рать иметь для похода. Доныне поднимают у нас ополчение поместные войска, отрывают мужиков от земли, воевод от пуховых подушек. Ну какое это войско? Тут и старцы и юнцы, одеты кто как, стрелять из пищалей не умеют, а как вооружены-то, боже мой! Один приехал в поход с пищалью, другой с самострелом, третий с топором, а иной и прямо с дубиной. Ратному делу их никто не учит.
— О том и я думал. Заведу при себе войско в этом же году, позову в него вольных и гулящих людей, сделаю из них умелых стрельцов. И будут они моему любому слову послушны. И тогда посмотрим — захотят ли толстозадые со мною спорить! — Царь вскочил с лавки, прошелся по избе, потом снова сел и уже тише сказал:—А как содержать их, Алешенька, а? Ведь сколько корма, сколько денег надо, ежели тысяч сорок стрельцов заиметь. Гели дать им деньги малые, корма жидкие, ведь редкие в стрельцы пойдут. А которые пойдут, и те разбегутся.
— А ты им каждому землицу под Москвой дай по малому куску, пусть с нее подкармливаются, торговлишку безпошлинную разреши вести — пусть стрельчихи с выгодой торгуют. Возвеличь их звание, пусть будет оно, как и у бояр, потомственным, в красивых слободках жить посели. Вот и обойдешься малой деньгой и совсем без корма...
Ярославль и Углич оба на волжском берегу стоят. Если лесом, напрямую — от одного до другого сотня верст. Если по реке—в три раза больше, потому как матушка Волга меж Угличем и Ярославлем преогромным углом в сторону подалась. Потому, наверно, и городок Угличем прозвали. Земля в этом углу лесистая; сосенки такие: глянешь на вершину — шапка валится. Дубы в три обхвата, а елки и пихты сухостойные, дотронешься — звенят.
Для разбойников лучшего места не сыскать.
Микеня в этой глухомани сколько лет с ватагой зимовал — никто не тревожил. А в нынешнюю зиму пошел в уголочке какой-то шум Леса вроде ожили.
Послал атаман разбойничка, что мордой поблаговиднее, проведать, отчего это в его лесу чужие люди захорохорились.
Вернулся разбойничек, торопясь рассказал: «Оттого в лесу шум, что понаехало людей полным-полно, рубят бревна по цареву указу, хотят на бережку город-крепость строить. Главным в этом деле дьяк Ивашка Выродков. И собирает этот дьяк к себе на работу вольных и гулящих людей, про дела прошлые не спрашивает, кормит сытно и деньгу платит немалую».
Зашевелились ватажники, зашумели. И то надо сказать — жизнь лихоимная, ой, как надоела. Не век же в разбойниках ходить, когда-то кончать надо. Сколько можно кистенем грехи отмаливать? А такого случая раз во сто лет дождешься. И порешил Микеня вести ватагу к дьяку.
Ивашка Выродков, не моргнув глазом, записал всю ватагу в лесорубы, назвал артелью, а Микеню поставил опять же старшим.
Разбойнички по настоящему делу истосковались, взялись за топоры — только щепки полетели. К тому же хорошо знают, где в лесу какое дерево растет. За месяц столько бревен накатали — вывозить не успевают.
Дьяк Ивашка за добрую работу одарил Микеню шубой, артель, щикам дал по новой шапке.
— За подарок, дьяче, спасибо, — сказал Микеня», надевая шубу,—только позволь сказать?
— Сказывай.
— Може, ты как дьяк и силен, а как строитель ничего не стоишь. Да кто так города-крепости возводит? Башенки ставишь поверх земли без подвалов, стены дубовые не закрепляешь, а столбы не закапываешь. Большую башню с бойницами посередь города стяпал. Да какому лешему она там нужна?
— А крепость на сем месте кому нужна, как ты мыслишь?
— И крепость ставишь не на месте.
— Вот тут и загвоздка. Городишко делаем на вывоз. Срубим весь да и повезем. А там уж и рвы, и подвалы поставим, и все, как след...
Прошла зима, прошумела ледоходом Волга, и город был полностью срублен. Микенину артель из леса отозвали, и все, кто и городе том работал, принялись срубы разбирать и носить по порядку на берег. В неделю Всех Святых закончили вязать из бревен плоты. Плоты спустили на воду, строители воссели на них со всем барахлишком да и тронулись с богом вниз по матушке по Волге.
На Крутой горе, около Овияги, плоты поджидал хан Шигалей с ратью и воеводами. Бревна подняли на плечи ратники да плотники и единым махом перекинули на Крутую гору. Ивашка Выродков вместе с воеводами усмотрели места, где подвалы копать, где рвы крепостные делать.
Не теряя времени даром, вбили первый столб — и начала расти крепость быстро. Городок тот назвали Свияжском, единственную церковь посвятили святому Георгию Победоносцу.
Первым из Нуженала в Свияжск перебрался по Шигалееву приказу Санька со своей сотней. Скоро и сам Аказ появился в новом городе. Да не один, а с преогромным войском из горных людей.
Пришла пора силой великой грозить Казани.
Из илема в илем, из руэма в руэм шла весть: русские в устье Свияги поставили крепость. Многие верили и не верили. Да и как поверить, если все время в лесах было тихо, никто бревна не рубил, по лесным тропинкам и дорогам никто не проходил, и вдруг — крепость.
Потом слухи поползли один другого тревожнее. Говорили сперва, что в крепости три тысячи войска. Потом — не три, а пять тысяч. Через неделю—двенадцать тысяч. А еще позднее сказали: в городе войска видимо-невидимо.
И заспешили в Нуженал к Аказу с вопросами: правдив ли слух и не грозит ли это бедой?
Аказ каждому отвечал: город на Свияге есть и рать русская в нем тоже есть, но горным людям бояться нечего — из крепости московские люди Казани будут грозить, их, горных людей, будут защищать. Теперь, говорил Аказ, казанцам ясак платить не надо и никому ничего давать не надо. Русский царь слово Аказу дал не брать никаких налогов целых пять лет.
241
И еще сказал Аказ, что русский царь просил черемисов помочь ему воевать Казань и все, что мурзы и эмиры у них награбили, обратно взять. И потому все, кто может держать лук со стремой, должны идти в Нуженал. Всех черемисских патыров поведет Аказ в новый город, а оттуда, коль приспеет время, вместе с русскими— на Казань.
10 Марш Акпарса
Ходоки возвратились по домам, и все стало ясно. Каждый стал думать, как ему быть. Жить пять лет без ясака и налога плохо ли! А вернуть от мурзаков награбленное еще заманчивее Правда, для этого придется повоевать, но разве привыкать черемису пускать стрелу твердой рукой? К тому же есть древний неписаный закон — закон благодарности. Царь защищает их от казанцев — надо и царю за это помочь.
И даже те, кто раньше не одобрял дружбу с русскими, на этот раз стали собираться в войско к Аказу.
Аказ долго не думал — как только собралась первая тысяча воинов, сразу повел их к Свияжску. Дома оставил Топейку — пусть каждого, кто придет в войско, собирает на дворе в сотни и посылает к Аказу.
Янгин поднял всех мужчин своего лужая и, не заходя в Ну- женал (крюк больно велик), повел их сразу к Аказу, потому как до Свияги рукой подать. Привел своих людей и Ковяж.
Много было споров в руэме Мамлея. Да и было о чем поспорить. Одни говорили: в Казань надо идти, всем против русских вставать, веру магометову защищать. Другие — к московской рати надо приставать, помогать русским выгонять из Казани Гиреев да мурзу Кучака, потому как они всему ханству жить спокойно не дают. А если пойти всем за Казань стоять, то русские от деревеньки и пепла не оставят.
Конец спору принес Мамлейка. Он так сказал:
— Наши соседи черемисы русским помогать хотят. Я иду к ним. Кто со мной?
Как и раньше, все бедные татары пошли за Мамлейкой, а кучка богатых ускакала в Казань.
И привел Мамлей к Аказу триста человек.
Пакман долго крепился, войско не собирал до тех пор, пока Сивандай не приехал. Он много не говорил. Посмотрел на соседа единственным глазом, сказал:
— В народе говорят: «Сонной собаке — дохлый заяц». Не пора ли и нам идти в Свияжск?
Пакман неохотно начал собирать людей.
В Свияжск он привел около трех тысяч, думал, станет нал ними воеводой. Аказ, зная его неверность, не дал ему не только трех тысяч, но и тысячи. Пакман стал простым сотником, собрал в сотню ярых недругов Аказа и перестал к нему заходить.
Ешка неожиданно для себя и для всех пошел в гору. Послали его по Шигонькиному совету в новый град Свияжск дьяконом в церковь святого Георгия Победоносца. Иереем же туда был послан старец Фока. Старец тот на первой неделе умер, бо в дороге схватил простуду. И стал Ешка настоятелем единственной церкви в граде Свияжске, и стали звать его отец Иохим.
Приход сначала был невелик, молельщиков мало. Да и откуда им быть, если городецкие татары, что пришли с Шигалеем, все как один басурманы, а русских ратников кот наплакал. Приношения были мизерны — отцу Иохиму и на пропой не хватало.
Потом вдруг прорвалось: стали тянуться к нову городу всякие бродяги, шатущие люди — город стал расти не по дням, а по часам. Рубили избы, рыли землянки, делали шалаши. Хан Шиталей принимал всех без разбора. Скоро понаехали купцы из Нижнего Новгорода, понастроили лабазов, ларьков, лавчонок—жизнь во Свияжске закипела, как в котле.
Аказ, старый Ешкин приятель, привел в Свияжск ни много ни мило двадцать тысяч горных людей. Сбил из них полк и встал под начало Шигалея. Над Ешкой часто посмеивался.
Ты, Кугу тоя, худой поп. Сколько лет по лесам ходил —
на десятка человек к своей вере привел. Вот я хороший поп: две недели не прошло —сразу двадцать тысяч привел. Кропи себе ни здоровье святой водичкой, превращай в свою веру.
А казна храмовая день ото дня полнится. К церкви сделали большой прируб —места для верующих не стало хватать.
Ешка, то бишь отец Иохим, приосанился, начал растить брюшко. Втайне подумывал о заведении при храме медоварни.
А недавно встретил Ешка старых друзей. С Луговой стороны пришли Извай, сын Симокайки, с пятьюстами воинами да двести человек из Чкаруэма...
Дьяк Иван Выродков решил порядка ради всех жителей Сви- ижска-города переписать. В воскресный день на площади около приказной избы собралось множество людей. Народишко разношерстный, говорливый, за словом в карман не лезет. Входят по десятку в избу, где дьяк вместе с отцом Иохимом перепись ведут. Вопросы задают немудреные, Иван пишет имя да прозвание и к чему по работе человек приспособлен. Ешка, тьфу ты, никак не привыкнуть, отец Иохим спрашивает, какой человек веры. Санька пытает каждого: насколь он способен ратному делу.
— Зовут как?
— Вроде бы Фомкой.
— Что делать умеешь?
— Хлеб есть умею.
— А еще что?
— Да коли поднесешь, так и выпью.
Дьяк плюется, толкает Фому в шею.
— А вы кто такие?
— Яшка и Пашка — братья.
— Каким рукомеслом похвалитесь?
— И поедим, и спляшем, только пашни не напашем.
Дьяк снова плюется и гонит гулящих братьев прочь.
Около Ешки тоже гогот.
— Како веруешь?
— Православный, вестимо.
— Молитвы знаешь?
— Одну.
— Какую?
— Господи прости, В чужую клеть пусти, пособи нагрести Да вынести.
— А ты, рыжая сатана, отчего в церкви не бываешь?
— Так ведь на улице грязно — не пройти.
— А в шинок кажинный день ходить не грязно?
— Туда суха тропочка протоптана.
— В шинок ходить грешно, ирод!—ругается Ешка.
— Мы люди темные, не знаем, в чем грех, в чем спасение.
У Саньки разговоры удачливее.
— Коли недруг встречь — не сробеешь?
— Не первый снег на голову.
— Головы-то не жаль?
— Голова — дело наживное.
— А ты, Фомка, на ратное поле пойдешь ли?
— Ы-гы!
— А ежели убьют?
— Лучше умереть в поле, чем у бабы в подоле.
— Кто еще ратником быть хочет?
— Я! Я! Меня зови! Записывай.
Микеня со своей артелью, растолкав всех в стороны, записался первый. Крепко сколотились за много лет мужики: сперва была ватага, потом стала артель, сейчас — ратная сотня. Микеня опять же сотенным воеводой стал. Та же работа, сабелькой махать — только теперь за государя.
Тесно становится во Свияжске-городе. Кроме русских воинов, стоят тут один горный черемисский полк да второй под рукой Магмета Бузубова. В нем собраны чуваши, мордва да беглые из Казани татары.
У Аказа дел столько — дня не хватает. Горный полк — самый большой в Свияжске. Люди вместе собраны в первый раз. Каждого ратному делу учить надо, каждому все растолковать, сотников да тысяцких подобрать. И опять же прокормить такую прорву людей нелегко.
Да и Пакман дает о себе знать, нет-нет да и пустит какой- нибудь злой слух, ратников смущает.
Аказ терпел-терпел и подумал: надо позвать Пакмана к себе для упреждения. А он сам тут как тут. Пришел к Аказу злой, ершистый. Глаза блестят, на скулах желваки перекатываются.
— Зачем рознь меж людьми сеешь, зачем обманом живешь?— грозно спросил его Аказ.— Толькб и слышу то в одном месте ІІакман неправду сказал, та в другом обманул. Зачем все это?
— Это ты скажи мне, зачем обманом живешь? Это я тебя спросить пришел! Всех горных людей обманул, из родных мест нарочно увел, чтобы русские те места пограбили.
— Ты, презренный! Людям врешь и мне осмеливаешься говорить неправду! Выгоню из своего полка!
— Я сам завтра уйду! И не один. Со мной идут все люди моего лужая. Через неделю совсем один останешься.
— Скажи, где и кого русские пограбили?— мягче спросил А кач.
— Ты полковой воевода! Сам все должен знать. Сходи послушай, что люди говорят. А на меня не надейся, завтра мы будем уже в пути.
На этот раз Пакман оказался прав. Горный полк волновался не зря. Из Байгуловского илема пришли женщины и рассказали о том, что у них был русский воевода с войском и забрал весь хлеб и соленое мясо, мед и рыбу, а ратники много одежды и шкур пограбили и теперь в Байгулове начался голод.
Аказ немедленно послал туда своих людей. Наутро прискакали они обратно — все верно. В Байгулове был воевода Плещеев и забрал все, что можно было забрать.
Аказ тотчас же пошел к хану Шигалею с жалобой на Плещеева.
Позвали князя.
— По черемисским селениям мало-мало ходил?— спросил ІІІигалей.
— Было дело,— коротко ответил Плещеев.
— А кто тебе хлеб, масло, шкуру у людей брать велел?
— А кого мне спрашивать? Уж не тебя ли?— надменно произнес князь.— Ты по ратным делам надо мной большой воевода, а о том, как мою рать прокормить, не твоя забота.
— Ты свою рать своим хлебом кормить должен, а не чужим!— крикнул хан.— Людей на голод обрекать кто тебе позволил? Мужики из тех мест с тобою же рядом воевать будут, а ты их семьи без куска хлеба оставил. Сегодня же вернуть обратно!
— Ко-ому?
— Вот ему!—и хан указал на Аказа.
— Накося, выкуси!— и князь поднес Аказу кукиш.— Мы твою землю защищаем — изволь рать мою кормить, ясак платить государю!
— Мне царь Иван обещал пять лет с моего народа ясак не брать. Сам мне говорил,— сказал Аказ.
— А грамота на то у тебя есть?
— Какая грамота?
— Вот такая, чтобы ясак с тебя не брать!
— Такой грамоты мне царь не дал.
— Ну, тогда и дыши в кулак, а нас обманывать не смей. Ничего тебе государь, как видно, не обещал, а ты нас с Шигалеем чуть в ссору не ввел. Вот когда у тебя будет грамота, я асе как есть верну. А пока помалкивай.
Аказ не знал, что отвечать. Хан Шигалей тоже развел руками— грамоты действительно не было.
О разговоре Аказа с князем тотчас же стало известно в полку. Черемисы заволновались. Аказ весь день ходил из сотни в сотню и говорил, что Шигалей пошлет царю письмо и грамота скоро будет, и тогда никто не посмеет взять ни одной беличьей шкурки.
Ночью Пакман увел три тысячи человек.
Утром по всем сотням недосчитали еще пять тысяч. Горный лолк Аказа разбегался. Открыто увел свою сотню Токмалай, которому Аказ верил больше всех.
— Поверь мне, Токмалай, грамота будет,—убеждал его Аказ.
— Я верю этому.
— Так почему же ты уходишь?
— Русский князь — воевода, ты наш князь — тоже воевода. На войне вам друг без друга жить нельзя. Но если один воевода сует под нос другому кукиш — он не воевода, он дурак. И воевать рядом с ним я не хочу. И русский царь, видно, тоже не больно умен, ежели таких воевод около себя держит. Не сердись на меня, я ухожу.
И ушел.
Через неделю у Аказа осталось всего шестьсот человек.
А спустя неделю случилось то, чего Аказ больше всего боялся. У князя Плещеева распалился аппетит на даровые меха, и он снова повел свою рать по лесам собирать ясак. Разослал свои сотни в разные стороны с приказом: съестное не брать, а брать только меха.
Но ни того, ни другого князю не досталось — его сотни, не ожидавшие отпора, были легко рассеяны и частично перебиты. Немногим более половины своих людей привел князь в Свияжск и объявил о бунте черемисов.
Хан Шигалей немедля послал в Москву Алешку Ершова с письмом государю.
Третий раз сел Сафа-Гирей на казанский трон, но как править казанцами, так и не понял. В первый раз дарил своим подданным ласку и золото — стали люди думать, что хан слаб. Второй раз в дела их вмешивался мало, эмирам и мурзам править не мешал — сказали, что хан глуп. Третий раз на трон с палачом рядом сел, всю Казань кровью залил, недругов явных и тайных сплошь вырезал — все равно покоя нет.
Сторонников Москвы стало еще больше, даже святой сеит, верный его союзник, в сторону Москвы смотрит. Царь Иван два раза к Казани приходил, того и гляди в третий раз придет. Ни одной доброй вести не слышал за это время хан Сафа-Гирей.
Черемисскую Горную сторону исстари все ханы щитом Казани называли, людей горных верными подданными считали, Аказа Тугаева беем сделали. Думали: раз был человек в плену в Москве, значит, русских ненавидит. Народ его любит, ему верит. Думали, лучшего правителя не найти.
Не успел Сафа на трон сесть, а тот Аказ (пусть будет шайтан ему братом!) в Москву сбежал, да землю свою под власть Ивана отдал. Разгневался Сафа, джигитов туда послал, да что толку! Вернулся Аказ из Москвы с ратью, с царским воеводой, джигитов переловили.
Ничего не понимает хан, решил позвать к себе сеига. Сеит—потомок пророка.
Прошел хан в Кофейную комнату, в самое красивое место во дворце. Здесь сеита можно принять достойно — никто не помешает. Комната просторна, светла и высока. По нижнему ярусу шесть больших зарешеченных окон из чистого бемского стекла. Такие окна только в трех местах мира есть: в Стамбуле у султана, в Бахчисарае у хана и в Кофейной комнате у Сафы-Гирея. По второму ярусу окна поменьше, стекло в них цветное, наборное, венецианского мастера Алевиза работа. Меж окон по ярко-голубой ткани — орнаменты и изречения из Корана. У трех стен расставлены сплошные широкие лавки, покрыты они персидскими коврами, устланы подушками из золотистой парчи. Во весь пол ковер из Ирана; резной столик для кувшина и кофейных чашек. Безмолвный слуга взбил для хана подушки, подал ему кальян с янтарным мундштуком. Пока хан курил, слуга принес ведро раскаленных углей, высыпал в камин. Пришел сеит, невысокий худощавый старик с седой жидковатой бородкой, в белоснежной чалме на голове. Хан дал знак слуге, чтобы тот принес кофе, а сеита пригласил сесть напротив.
Слуга вышел, приготовил кофе, отцедил его в серебряный кувшин, внес на подносе в комнату и стал не спеша разливать в чашки. Разговор с сеитом уже начался, хан был рассержен:
— Нет-нет! Я не затем тебя позвал, святой сеит. Казна моя пуста, и денег на мечеть я пожаловать не могу. Лучше и не проси. Я беден, как дервиш из Конии.
— Ты тень аллаха на земле. Никто другой святому делу...
— А подданные наши? Где же правоверные казанцы? Мечети обветшали, а они...
— Великий хан!— Сеит принял от слуги чашечку кофе.— Я отвечу упреком на упрек. А разве те, кто к нам пришли из Крыма, учению Магомета не следуют? Аллаху не молятся? А между тем никто на божий храм и медной таньги не бросил. И ты, прости меня, великий хан, в Казани третий раз, но хоть один кирпич в основание мечети ты положил? Коренные казанцы...
— Вздорны твои упреки!—Хан вскочил с лавки, выплеснул остатки кофе на ковер.— «Коренные казанцы». Они не стоят кончика моей нагайки. Я трижды покидал Бахчисарай, чтоб возвеличить вашу вшивую Казань, и что же? Как только у стен появятся русские рати, твои коренные казанцы бьют им челом и просят на престол касимовского хана Шах-Али. Он выкормыш московского царя и, наверное, жрет свиное мясо, а его — на правоверный трон.
— Когда Шах-Али был ханом, он выстроил мечеть на берегу...
— А я не буду! Кому я должен строить? Казанцам? Которые глядят на сторону Москвы? Которые хотят меня прирезать?
— Казанцы себе на уме, великий.
— Мой ум бессилен их понять. Я много думал... Что их влечет к Москве? Ведь там гяуры. За этим и позвал тебя, чтобы спросить.
— Ответь мне, великий, откуда в домах казанских эмиров достаток?
— Младенец это знает: от людей ясачных.
— А всего же более — от торговли. Они — купцы, как и многие в Казани. А теперь вся торговля захирела.
— Кто им мешает?
— А с кем торговать? По Волге в сторону Москвы ты затворил двери, ни к нам, ни от нас купцы теперь не ездят...
— А Крым, ногаи, тюменская орда?
— Места эти дальние, опасные. Тебя не любят потому, что ты стал помехой торговле.
— Так что ж они хотят?!—Хан вскочил снова.— Чтобы я пошел на поклон к урусам? Чтоб грыз свиное ухо? Скорее вспять потечет Волга! И ты, святой сеит, смеешь мне такие советы давать!
Неслышно вошел слуга, тихо произнес:
— Блистательная Сююмбике просит позволения...
— Пусть подождет. Скажи, что я на святой беседе.
— Она уж у дверей.
Сююмбике вошла, слегка склонила голову, сказала:
— Прости, великий, но у меня худые вести.
— Ты с добрыми ко мне не ходишь. Садись,— хан указал на лавку у противоположной стены.
— Что делать,— царица присела на край лавки.— Ты то охотишься, то отдыхаешь в гареме. Худые вести ко мне несут.
— Ну, что там?—спросил Сафа раздраженно.
— Узнала я, что царь Москвы снова собирает огромное войско, а наши князья Чапкун и Бурнаш готовы присягнуть Ивану.
— Эй, где палач? Сегодня же предать их смерти! Я довольно терпел!
— Опять аллах послал нам испытание,— сказал сеит.— В такое время разве можно делать в ханстве смуту? Привлеки Чапкуна на свою сторону. Пообещай что-нибудь.
— Чтоб я боялся этого сопливого мальчишки Ивана?! Я — хан Сафа-Гирей! Его отец Василий был мудр и опытен, а трижды ходил на Казань и уходил ни с чем. И этот тоже дважды бегал от моего порога. Давно ли он из колыбели выпал, а смеет мне грозить!
— О венец мудрости,— Сююмбике улыбнулась хану,—Ты в неведенье. Мы считали Ивана птенцом, а ныне он не только оперился, но и отрастил когти.
— Князья и воеводы у него в единстве,— сказал сеит,— а ты сидишь на троне рядом с палачом.
— Молчи, сеит! Твори свои молитвы! Я сам знаю, как воевать! Пусть посылает Иван свои рати. Их черемисы потреплют. Не зря Горный край щитом нашим называют. У русских под Казанью нет опоры. А доброхотов московских мы казним. Вели схватить их, мудрая Сююм.
— Все знают: ты великий воин.— Сююмбике снова расцвела в улыбке.— Но если воин щит свой утерял...
— Мой ум не постигает твоих слов. Говори яснее.
— Ты отдал Горный край мурзе Кучаку...
— И не раскаиваюсь. Кучак — мой верный нуратдин. Не то что ваши вероломные эмиры.
— Он озлобил горных черемис. У них был мудрый лужавуй Туга, его он убил. У сына лужавуя отнял жену. И тот ушел к Москве. Будет ли щитом Казани Горный край?
— Будет! Там много верных нам людей. Кучак мне говорил...
— А знаешь ли, великий, что у русских теперь есть опора под Казанью? На реке Свияге построен город.
— Быть того не может! Я нынче по весне охотой там тешился. И кроме зайцев...
— Воистину такое невозможно!— воскликнул сеит. У него, как и у хана, в глазах появилась тревога.— Под носом у Казани? Такого не может быть.
— Кто тебе сказал об этом?— совсем тихо спросил хан Сююмбике.
— Пакман — сын Мырзаная. Пять дней назад он прибегал к мурзе. Не смог говорить с ним.
— Мурза на Каму ушел.
— Пакман пришел ко мне. Он здесь, за дверью стоит. Может, послушаешь его?
— Тащи сюда!
Слуга вышел, впустил Пакмана. Тот пал перед ханом на колени, ткнулся лбом в ковер.
— Кто рассказал тебе про город на Свияге?
— Рассказу я бы не поверил, я сам там был.
— Что видел, говори!
— Там на Крутой горе стена, кругом ров глубокий, три малые башни, а у ворот большая. Стена высокая, из толстых бревен, ворота под железом. Бойниц много...
— Кто в крепости сидит?
— Хан Шигалей, городецкие татары, Аказ и горные черемисы, чуваши были...
— Опять этот шайтан Шах-Али! Ублюдок сатаны! Черемис много?
— Было много, теперь разошлись по домам.
— Почему разошлись?
— Воевода князь Плещеев начал наши илемы грабить.
— Слава аллаху! Не зря Кучак говорил мне, что черемисы Москве служить не будут. Аказа надо поймать и убить. Сможешь ли?
— С ним русские ратники. Много.
— Не бойся. Я дам тебе тысячу джигитов. Вот приедет мурза... Убей Аказа — и ты будешь лужавуем Горной стороны.
— Рука твоя, могучий, беспощадна и тверда,— Сююмбике одарила хана ласковым взглядом,— и ею управляет мудрость. Но прежде чем карать ослушников, надо бы кое о чем подумать. Пакман тебе говорил, а мне более того известно, что у черемис верности Москве нет, они из Свияжска бегут...
— Но и сторонников Москвы немало! Один Аказ чего стоит. Он без стариков к царю идти не посмел бы.
— Верно. Аказа, как и Тугу, в Горном краю любят, ему верят. Так зачем же убивать его? Надо его к Казани приблизить, твоим верным слугой сделать.
— Кучак говорил...
— Ты не верь Кучаку. Если бы не он, Аказ давно бы с нами был. И сейчас еще не поздно его к тебе приклонить.
— Посоветуй, как?
— Нужно возвратить Аказу жену. Он до сих пор один и, стало быть, ждет ее и любит. А любя, будет ее слушаться. А она нас будет слушать.
— Будет ли?
— Над нею благословение аллаха,— сказал сеит.— Она давно веру Магомета приняла.
— Где ты ее прячешь?—спросил хан.— Почему я не видел ее
ни разу?
— Она в моих покоях. Эй, Абдулла! Сходи ко мне, там разыщи Эрви, приведи сюда.
— Ты думаешь, она поможет нам?—спросил Сафа, когда слуга ушел.— Сейчас она все будет обещать, чтобы домой попасть
— Она дала нам клятву на Коране. Да и Пакман ей помогать будет. Если что, он ей напомнит о Коране. Ты, слышишь, Пакман?
— Напомню, великая.
Когда Абдулла ввел Эрви, Пакмана спрятали за ширмой. Эрви, увидев хана, пала на колени.
— Встань, Эрви,— ласково сказал Сафа.— Ты не слуга. Царица мне сказала, что ты подруга ей.
— Могучий и милостивый хан велит отдать тебя ему.— Сю- юмбике ласково положила руку на плечо Эрви. Та закрыла лицо руками.
— Ты не бойся, красавица,—сказал хан.— Я хочу отпустить тебя в Нуженал. Твой муж просил об этом. Ты там будешь ему опорой.
— Благодарю тебя, великий! — Эрви снова пала на колени.
— Ты помнишь, в чем клялась прошлый раз?
— Помню, великолепная,—прошептала Эрви.
— В своем краю царицей будь. Приедешь — посмотри кругом, сразу шли гонца. Я все тебе пришлю: права, советы, верных людей.
— Оружие, если надо, пришлем,— сказал хан.
— Муллу пришлем.— Сеит погладил бородку.— Может, кто правоверным захочет стать.
— Оружие ей не нужно,— заметила Сююмбике.—Ум, нежность, красота—вот ее оружие. Ты будешь мне писать о замыслах Аказа.
— Буду.
— Будешь сеять слухи, какие я велю?
Эрви молча кивнула.
— Она все будет обещать,— сказал сеит.— Лишь бы уехать.
— Пакман, ты слышал обещанья Эрви? Не позволяй ей лукавить там...
— Слышал. Я буду помогать ей,—сказал Пакман и вышел из- за ширмы.
— Сколь времени дать тебе на сборы, Эрви?
— Я хоть сейчас!
— Иди и собирайся.
Эрви, выходя, глянула на Пакмана и поняла, капкан, который так долго ей готовила царица, захлопнулся. Сююмбике тоже пошла было за ней, но вошел слуга и сказал:
— Мурза Кучак стоит за дверью.
— Вот, легок на помине,— хан кивнул головой на дверь.— Зови.
Мурза вошел .крупним шагом, положил ладонь на грудь.
— Целую пыль у ног твоих, великий. Мне сказали, был гонец,— мурза через плечо глянул на Пакмана.—А-а, ты уже здесь, зачем таскаешься, куда тебя не просят?!
— Я ждал...
— Ты должен, ожидая, сдохнуть на моем пороге, но не бегать, как собака, по чужим дворам. А ну, вон отсюда!
Хан приподнялся с подушек, в глазах его появился гневный блеск. Он крикнул:
— Ты где стоишь?! Как ты смеешь распоряжаться в ханских покоях?
— Прости, могучий...
— Весь правый берег, весь Горный край мы отдали тебе!
— Аллах благословит твою щедрость.
— Не для того я поставил тебя над этим краем, чтобы ты таскал оттуда девок, чтобы отнимал невест от женихов, чтоб воровал. Не для того, клянусь пророком!— Злость закипала в душе хана все сильнее.— Я думал, Горный край ты сделаешь щитом Казани и ворота ханства там поставишь, закроешь на запор!
— Для русских бейлик мой закрыт, великий, я там стою...
— Хвастливый язык твой надо вырвать! Ты знаешь, русские воткнули в спину ханства нож? Царь Иван поставил крепость на Свияге.
— Тот, кто тебе сказал об этом,— лжец. За столь короткий срок поставить крепость нельзя. А на Свияге... Там черемисы топором стукнуть не дадут. Для крепости нужен лес.
— Я говорю тебе, мурза: Свияжск построен!—сказала Сююм- бике.— И русские нас перехитрили. Они срубили крепость в Угличе, по Волге сплавили и возвели город за неделю. И царь Иван повесил нам на шею камень. Премудрый хан хотел бы знать, как ты его скинешь?
— Выслушай меня, могучий. Скажи, много ли я живу в Казани? То по твоей воле, то послушный царице, я скачу либо на Вятку, либо на Каму, либо за Перекоп. Когда мне крепить Горный край? Скажи, святой сеит, ты, на минарет поднимаясь, устье Свияги видишь?
— В ясную погоду— вижу.
— Так почему же я во всем виноват?
— Ты хочешь сказать, что в том моя вина?—зло спросил хан.
— Спаси меня аллах!
— Позволь сказать, великий хан,—Сююмбике взмахом руки велела Пакману выйти.— Казань не первый раз в беде. И всякий раз мурза своей отвагой помогал нам ту беду отводить.
— Я завтра же подниму все свое войско, я обложу крепость в три кольца, я заморю их голодом. Аказа посажу на кол!
— Не спеши, отважный. Наши доброхоты сообщают безотрадные вести. Молодой царь Иван свой третий поход на нас готовит. У него две крепости — Васильсурск и Свияжск, у него пушки и стенобитные машины. У него сейчас готовы к походу сто пятьдесят тысяч войска, и еще, в случае нужды, он сможет поднять столько же. Не только воинам Кучака, но и всему войску ханства их не отразить.
— Но ты забываешь: один мой джигит стоит десятерых русских лапотников!—воскликнул хан.
— Этого я не забываю! Но не ты ли говорил, что пушек у нас нет, сторонники русских есть? Запасного войска у нас нет, а рознь между беями и эмирами есть. У русских под носом Казани — крепость, а у нас за спиной башкирские князья — недруги.
— Но нам поможет Крым!
— Ты дважды из Казани уходил, великий. Из-за чего? Крымский хан теперь сам у турецкого султана в узде.
— Султан могуч, это верно, но...
— У него, великий хан, надо помощи просить. И ты, мурза Кучак, должен в Стамбул ехать. Ты скажешь могучему султану, что если Казань не устоит, то падет и Астрахань. Тогда не удержаться и Шемаханскому царству. Скажи султану — пора всех правоверных на Москву поднимать. По пути заедешь к моему отцу Юсуфу, к моему дяде Измаилу — пусть они все свое войско готовят. Ты и об этом думал, премудрый, не так ли?
— Да, истинно, я так думал,—ответил хан, подняв голову.
— И, уповая на силу ясного и мудрого ума нашего повелителя, мы будем готовить отпор Москве,— добавила Сююмбике.
— Я пошлю Алима в Горный край,— сказал мурза,— велю на всех дорогах выставить заставы. И воробей не пролетит. Аказа посажу на цепь.
— Ты замысел великого не понял, мурза. Заставами народ разве удержишь? Аказа ты не тронешь даже пальцем. Более того, ты пошлешь ему великие поминки, старейшин щедро одаришь. Тряхни своей мошной!
— Прости, царица. Мне золота не жалко. А честь моя? Черемисы еще больше обнаглеют. Они не понимают...
— О чести ханства думай! Алим нам будет нужен здесь. А Эрви проводит Хайрулла. И помни: проводит по-богатому.
— Я повинуюсь. Но клянусь именем Магомета: Аказа надо посадить на цепь!
— Исполняй наши веленья точно,— строго сказал хан.— Горный край почти в руках Ивана. Если не возвратишь его Казани — посажу на кол! И запомни: хан слов на ветер не бросает!
На следующее утро Хайрулла увел в Нуженал поезд мурзы. Вез дорогие подарки Аказу и старейшинам. Рядом с ним ехала Эрви, за Хайруллой скакал на подаренном коне Пакман. И в тот
же день пришла весть: горный полк Аказов из Свияжска раз-
бегается. Сююмбике довольно улыбнулась. Все идет, как она задумала. Теперь Аказ поймет, с кем ему идти надо. Она медленно и упрямо подтачивала основание трона Сафы-Гирея. Сегодня выбита последняя опора хана — мурза Кучак. Пора звать мурзу на тайное свидание...
— Счастье повернулось к тебе спиной, мурза,— сказала Сююмбике, когда Кучак вошел в покои царицы.
— На все воля аллаха.
— Давно разумом хана Сафы руководит шайтан, а не аллах. Он убьет тебя.
— Не посмеет!
— Хан слов на ветер не бросает. Если в Крыму узнают, что Горный край отошел к Москве, Сафе-Гирею не простят, и он твоей смертью смягчит удар на себя. Ты знаешь Сафу, ради трона он не пощадит родного отца. И тебе негде искать защиты.
— К чему эти слова, благословенная?
— Чтобы твоя голова осталась на плечах, Сафа должен умереть.
— Это тебе не Бен-Али. Сафу не зарежешь, как барана, в его постели. Хан убьет меня или оставит в живых — это известно только всевышнему, а если мы лишим Сафу жизни, крымский хан наверняка снесет мою голову. Ведь я обязан охранять его священную жизнь.
— Но ты хотел, чтобы Сафы не было в живых?
Помолчав, Кучак ответил:
— Твой сын, маленький Утямыш, ведь тоже из рода Гиреев. Я согласен служить и ему. Но прежде должен умереть его отец Сафа и умереть не насильственной, а своей смертью. Только тогда в Крыму не будет беспокойства.
— Сафа-Гирей умрет своей смертью,— твердо сказала Сююмбике.
— О, это случится не скоро!
— Это будет завтра утром, если ты захочешь.
— Если аллаху будет угодно, чтобы Сафа умер завтра, то что я могу поделать? Пусть будет так.
— Да свершится! Утром хан умрет...
Сафа-Гирей просыпался всегда рано. Он прежде всего приходил в нижнюю баню и купался в мраморном бассейне. Хан не любил нежить свое тело и воду наливал холодную. После купания выходил из бассейна, вставал на тростниковую циновку и растирал свое тело полотенцем докрасна. Потом слуга подавал ему чистую одежду. Так было всегда, так начался день и в это утро.
Холодная, как лед, вода взбодрила хана, и он с наслаждением растирал тело, стоя на циновке. Вдруг кто-то резко дернул циновку из-под ног, Сафа потерял равновесие и упал затылком на острый мраморный угол бассейна.
Около полудня в Крым четыре всадника повезли скорбную весть.
Похороны были пышные.
Казань на девять дней оделась в траур.
На десятый день ханом Казани стал двухлетний сын Сафы — Утямыш-Гирей.
На троне сидела Сююмбике.
Утямыш мог пока сидеть только на ее коленях.
Ровно через две недели в Свияжск прикатил Шигонька. Государь Иван Васильевич прогнал его из Москвы спешно, ибо письмом Шигалея и Аказа был весьма обеспокоен. Прослышав о приезде царского посланника к Шигалею, прибежал и Гришка Плещеев. Князь хоть и не показывал виду, но вину за собой чуял и гнева царского очень побаивался.
— Грамоту привез?—спросили разом все трое.
— Не привез,—ответил Шигонька.
— Што я говорил!—торжественно крякнул князь.
— А... почему?—спросил Аказ.
— Потому как царь-государь большую вину на себя положить изволил за то, что до сей поры такой грамоты черемисам не дал. И повелел он тебе, Аказ, собрать посольство из полтыщи человек и ехать в Москву, чтобы государь там мог не токмо вручить вам грамоту, но и одарить всех послов щедро. А на тебя, Григорий Семенов, сын Плещеев, государь великим гневом огневался и повелел привести то посольство черемисское в Москву и служить тем послам, как если бы ему, государю самому, служил. А хлеб и все украденное вернуть немедля же.
Когда Шигалей и Аказ вышли, чтобы немедля же готовить посольство в Москву, Шигонька сказал князю:
— Ну и пустоголов ты, князь. Из-за сотни беличьих шкурок целый народ от государства нашего отпугнул, великое дело, государем задуманное, испортил. Дурак ты, князь!
— Да как ты смеешь!—задыхаясь от гнева, прохрипел Плещеев.— Да кто ты есть, чтобы князя такою лаею корить? Дьяк ты, гусино перышко! Да я тебе!
— Не в похвальбу, а по вынуждению скажу тебе, князь, что государем пожалован я, недостойный, боярским саном и сидеть к государю буду по месту ближе тебя. Отныне я думный боярин государя, попомни это.
Гришка, князь Плещеев, сразу язычок прикусил, вспомнив о том, что ему еще на царские очи показываться надо. Как бы угадав мысли князя, Шигонька сказал:
— Государь Иван Васильевич грозился тот кукиш, что Аказ; ты показал, отсечь вместе с рукой. О сем не забывай.
Иван Васильевич, назначив посольство в полтыщи душ, словно в воду глядел. У Аказа ровно столько верных друзей осталось. Остальные по домам разбежались. У Магмета Бузубова осталось всего сто человек— их тоже решили в Москву взять.
Ковяжа Аказ в Москву не взял, а послал по илемам уговаривать людей вернуться обратно.
ВТОРОЕ ПОСОЛЬСТВО
На Иванов день царь с царицею поехал к троице в Сергиев монастырь молиться. Посольство он ждал не скоро, думал, прибудет не ранее как через месяц.
А посольство по летним гладким дорогам от Свияжска до Москвы проскочило за неделю и сразу же после отъезда государя заявилось в Кремль.
Встретили послов радушно, разместили хорошо, угощать начали и того лучше. Аказа и Магмета князь Плещеев взял на свой двор, в первый же вечер напоил допьяна, спать уложил на пуховые постели.
Утром в Посольском приказе стало известно, что государь вернется через четыре дня. Послам в эти дни велено было отдыхать, смотреть Москву.
Смотреть так смотреть! Посольство разделили на три части. Первую повел по Москве сам Аказ, вторую — Санька, взятый с посольством заместо толмача, а третья часть ушла с Магметкой Бузубовым.
Разошлись вроде в разные стороны, но о том надо знать: всяк Москву смотреть с торга начинает. Глядь, очутились все в торговых рядах. Для людей, ничего, кроме леса и гор, не видевших, Москва, и особенно торговые ряды похожи на волшебную сказку: и страшно, и заманчиво, и удивительно.
Ешка в Москве не был давно. И потянуло его на край рынка, где кабаков много. Прихватив с собой для товарищества пятерых, он пошел прямо в тот конец, откуда тянуло островатым запахом сивухи.
А около кабаков раскинулось огромное торжище. Это, почитай, целый город со своими людными, разбросанными в беспорядке улочками и переулочками из навесов, шатров, палаток, а то и просто крытых телег. Поодаль, на берегу Москвы-реки, позадрали
вверх оглобли мужицкие возы в превеликом множестве. На них окрестные черные людишки привезли на продажу зерно, сено, живность, ткани, кожи и товарец своего рукомесла. Лошаденки у мужиков тощие, стоят у задников телег и, сунув морды в торбы, жуют овес.
Ешка долго пробирался меж возами, приценивался к мужицким товарам, говорил своим товарищам, что и сколько стоит. Делал вид, что пришел сюда не ради кабаков, а базар посмотреть. Но потом не вытерпел, с треском провел большим пальцем по ребрам стоявшей рядом лошаденки, сплюнул, махнул рукой и сказал:
— Пропади оно все пропадом. Пойдем в кабак. Сказано — выпьем.
— А деньги где? Нету денег.— Друзья замялись.
— А зачем вам деньги? А шапки-то у вас для какого беса? Здесь за такую меховую оторочку полбутылки отвалят, не торгуясь. Пошли...
С Санькой около сотни черемисов. Послы к нему попали богатенькие, с деньгой. Еще во Свияжске кое на что выменяли. Свежих покупателей первыми заметили лотошники. Бедовый народ — лотошники. Деньгу по запаху чуют. Засновали между послами, будто челноки, товар свой суют прямо под нос, хвалят взахлеб. А лотки! Где их только не носят: и на голове, и на руках, и на пузе с перевязью или у пояса. Если было бы можно, право слово, к ноге привязали бы.
С другой стороны на послов налетели квасники. Это старые недруги лотошников. С бочонками, медными кувшинами, глиняными жбанами разносят по торжищу пиво, квас, сталкиваются е лотошниками, льют на добрый товар свое пиво, мешают торговле.
Санька с друзьями и пива напились, и безделушек разных да го- | гпнцев понакупили, да и распотешились. Квасники и лотошники, отбивая друг у друга покупателей, схватились драться.
Послы хохотали до слез.
Аказ с Магметом остались одни. Чувашские послы почти все по-русски говорить умеют, каждый собрал около себя малую кучку, да и разбрелись по всему базару. Аказ и Магмет махнули рукой —Кремль недалеко, в случае чего дорогу найдут.
Пошли они по базару, все высмотрели, им обоим цены любопытно знать. Если дружбу с Москвой заводить — значит, придется торговать. Рыбу привозить, меха, кожи, воск. Как и где это продать, надо высмотреть.
Идут они по базару не спеша, ко всему приглядываются.
В рыбном конце под навесом густая вонь. Однако покупатели, зажав носы, толкутся меж рядов, ходят около бочек, полубочонков, кадушек и копаются в рыбе. Со всех сторон слышатся голоса:
257
I 7 Марш Акпарса
— Подходи! Ярославский малосол — бе-е-ри!
— Ры-ыба ха-арошая! Жив-вая!
— Стерлядь муромска-ая!..
А чуть подальше:
— Ко-ожи! Ко-ожи! Я-а-ловые!
Около стен кричат-надрываются посадские женки. Они, как клушки, расселись около своих корзин и голосят:
— Вот клюква! Вот крупна-а!
— Смородинка-ягодка! Берити-и!
В Наливайковском ряду теснота. Кабачонки тут маленькие, зато— на каждом шагу. И Ешка заложил не только шапку, но и кафтан, и рубаху. Он мотался меж кабаками, и на его волосатой груди висел, сверкая, нательный крест. Он хлопал товарищей по спинам и, заплетаясь, уговаривал:
— Ты кафтан... кафтан пропей. Царь увидит у тебя, что нет кафтана-то — новый подарит. Эй, хозяин, пропади ты пропадом. Возьми мои штаны — почти новые. Сказано — налей чарку.
— Ведь голый останешься, идол! — упрекает кабатчик.
— Голому, што святому: беда не страшна! — кричит Ешка,— Бери штаны, я всех нищих в Москве переплюнуть хочу!
— Тебе вроде бы домой пора,— советовали Ешке,—одевайся.
— Голому одеться — только подпоясаться,— заключал веселый отец Иохим и переходил в соседний кабак. Через час в одних подштанниках Ешка стоял у ларька и возмущался:
— Говорят, Москва всем городам город. Врут люди! Что это за город, если выпить купить не на что!
В четверг к вечеру стало известно, что царь возвратился и повелел наутро готовить посольский прием.
Аказ и Магметка не спали почти всю ночь и все говорили. О том, как посольские дела провести, о том, какие обещания Ивану дать. Он наверняка будет о войне говорить, а у них весь полк по домам разбежался. Говорить об этом царю или не говорить? Решили рассказать все как есть и просить у царя грамоту. Потом стали думать каждый свою думу.
Сидят в княжеском тереме у раскрытого окна, молча смотрят в темноту.
Летняя ночь хоть тепла, но темна. Чернотой своей закрыла все щели и не пускает на земной порог ни крохи света, Но хитрюга-заря тихо и неслышно обошла ночь с востока и тайно провела на своем алом поводке новое утро. А за утром вырвался на просторы Москвы ослепительно-яркий июньский день.
На посольском подворье суета.
Послы лесного края трясут свои плетеные лыковые сумки, вынимают чистое белье, расшитые искусным узором рубахи и пояса, новые онучи.
Аказ пришел на подворье — и сразу к Саньке. А тот повел его к послам. Аказ глянул — ахнул: человек пять без шапок и без кафтанов. Около них уже хлопотал царский постельничий Алешка Адашев — готовил послов к приему.
Ешку не нашли. Отец Иохим отсыпался в каком-то кабаке и на прием не попал.
В девятом часу утра посольство двинулось к Грановитой палате. Впереди шли четверо: Адашев, Аказ, Магмет и Санька. За ними по четыре человека в ряду — остальные послы. Плещеев на прием не пошел, сказал, что занедужил.
Алексей Адашев посоветовал во главе посольства Аказу не вставать. Он государь своей земли, и ему самому быть послом непристойно. Решили, что говорить за главного посла будет Магмет Бу- зубов, а Санька будет толмачить.
Стрельцы, дьяки, подьячие, привыкшие к иноземным посольствам, и то тут разинули рты. По Кремлю шагали шестьсот человек, все, как один, в белых вышитых рубахах, в белых портах и в белых онучах. Скоро за ними собралась толпа. Тянулась она за послами до самого Красного крыльца.
Перед Красным крыльцом у Саньки екнуло сердце. Он даже приостановился, но Аказ ободрительно кивнул ему, и он зашагал по ступенькам вверх.
В Грановитой палате послов расставили перед троном в двенадцать длинных рядов, черемисы заняли почти всю палату. Люди, пораженные великой роскошью, крутили головами во все стороны, разглядывая диковинные рисунки на потолке, резные наугольники сводов, позолоченные порталы. Но более всего послов поразило царское кресло, блестевшее сверху донизу золотом, серебром, жемчугом и драгоценными каменьями.
Скоро в дверях, идущих из Святых сеней, появился царь. Послы грохнулись на колени. Царь прошел к трону, сел на него и приподнял скипетр. Послы шумно встали. Иван Васильевич долго разглядывал их, молчал. Притихшие послы тоже разглядывали царя и дивились его одежде.
На царе шапка Мономаха, на плечах бармы, на пальцах персти. Все сверкает, переливается, искрится. Лицо у царя усталое.
Он снова приподнял скипетр и медленно сказал:
— Здоровы ли послы, как доехали?
— Слава богу, государь, доехали хорошо.
— Мои добрые соседи, черемисские люди, чувашские люди, здоровы ли?
— Все живы, великий царь.
— Утеснений каких воеводы наши не чинят ли?
— Мало-мало обижают, царь-государь... Воевода...
— Знаю. С Плещеева взыщу. Говорите, с чем приехали.
Бузубов поправил пояс на рубахе, поклонился царю и, как договаривались ранее, начал:
— Мы, великий царь, от всей Горной стороны, от больших князей, от сотенных воевод и десятных черемис, а также от чуваш челом бьем. Много лет не по своей воле вред мы твоим воинам чинили, плохими соседями были. А теперь просим: отдай нам свой гнев и милостью нас пожалуй — будем тебе служить верно,— Магомет еще раз поклонился.
Иван взглянул на Саньку и, усмехнувшись чуть, сказал:
— Передай, толмач Санька, послу, что обиды за старое на горных людей не держу и милостью своей жалую.
— И еще челом бьем — вели нам у Свияж-города быть, а не под Казанью, потому как мы клятву даем служить тебе верой и правдой и от тебя неотступными быть и нам, и нашим детям...
— Воевать Казань вместе с моими воинами будете ли?
— Великий государь! Всю весну во Свияж-городе стоял большой черемисский полк в сорок тыщ, а теперь тот полк разошелся по домам, потому как воеводы твои начали брати тяжелый ясак. Ежели бы ты в ясаках полегчил и дал нам таковую грамоту, то все обратно пришли бы и стали бы Казань воевать. И еще десять тыщ чуваш пришли бы, и темниковская мордва пришла бы, и от Горной стороны два больших полка.
Царь отыскал глазами Аказа, спросил:
— В минулый раз, как ты был на Москве, я обещал тебе ясак отдать, и слово мое нерушимо. На сколько лет обещал ясак отдать, не помнишь ли?
— Помню, великий государь. На пять лет.
— Ты, брат мой, запамятовал. На три года.
— Память у меня добрая. Но я, быть может, тогда ослышался.
— У обоих у нас после свадьбы в голове шумело; быть может, я обмолвился аль ты ослышался. Принесите мне жалованную грамоту.
Из Святых сеней вышел думный дьяк. За ним на серебряном подносе безусый подьячий нес свиток. При свитке на шнурках — отлитая в золоте печать. Дьяк развернул грамоту и начал читать:
— «Великий Государь Иван Васильевич божьей милостью царь и Государь всея Руси и Великий князь послам горных людей, князей и мурз, и сотенных князей, и десятых, и чуваш, и черемисы, и мордвы, и можаров, и торханов слово царское дает и жалует их, и гнев им отдает, и велит взять их к своему Свияжскому городу и дает им сию жалованную грамоту с золотой печатью, коей повелевает не платить им ясак три года. Той же волею проводит к правде на том, чтобы им Государю и Великому князю служить и хотели во всем добра, и от Свияжска неотступным быти и после трех лет дани и оброка черным людям платити, как их Государь пожалует и как прежним царям платили, а полону русского никак у себя не держать, весь освобождати...
Читает дьяк грамоту гнусаво, спешно, Санька переводить не успевает, то и дело вытирает вспотевший лоб.
— ...Князей и тысяцких и сотных воевод черемисских, а також чувашских и казаков жалует царь-государь шубами с бархаты с золотом, а иным чувашам и черемисам камчатны и атласны, а молодым однорядки и сукна, и шубы беличьи, а всех Государь жалует доспехами и копьями и деньгами. А Большому князю черемисскому Акубею Тугаеву Государь жалует панцирь легкий чистого серебра».
Слуги вносят в палату высокие короба. Алексей Адашев открывает первый короб, вынимает панцирь и подносит царю. Царь кивает головой, показывая на Аказа.
— Прими сей дар от Великого Государя, Аказ, сын Тугаев,— говорит Адашев и передает панцирь Аказу.—А также шубу бархатную с золотом прими.
Аказ с поклоном взял дары. Шубы дарят Магмету, Янгину и Саньке. По палате идет легкий шум. Царь встал с кресла, оглядел посольство. Стало тихо. Бояре подхватили царя под руки, и он покинул палату.
Адашев остался одаривать остальных послов...
Когда Ешка вернулся в посольскую избу, там уже никого не было. Бухнулся под лавку, сразу заснул. Сколько спал —не знает. Проснулся —в голове пудовая тяжесть, в теле ломота и дюже до ветру надо. Схватил чью-то шапчонку, натянул, выскочил на двор, огляделся, забежал за угол. Не успел застегнуть штаны — перед ним подьячий Посольского приказа.
— Ты кто?
— Ась?
— Откуда, спрашиваю, взялся?
— Да вот выбежал посмотреть. Посольство мое куда-то задевалось, никак не найду. Сказано — проспал.
— Посольство твое у царя на пиру.
— Ах, пропади они пропадом! А меня тут единого оставили.
— Уж не Ешка ли?
— Яз — оный самый Ешка.
— Иди в избу, там тебе малиновый кафтан оставлен, бархатная шапка с мехом, и велено тебя на пир проводить.
— Так что же ты, приказная строка, до се молчал! — И Ешка бросился в избу.
Не успел Ешка подойти к теремному дворцу, где шел пир, как увидел, что опоздал. С крыльца спускались захмелевшие Аказ с Янгином, Самька с Магметом и другие послы. Ешка плюнул в сторону от досады.
— Эх, мать твою...— глянул на подьячего, осекся, смиренно изрек:— Ох-ох-хо-о-о! Грехи наши тяжкие... Видно, голодному спать придется.
— Не охай. Ты что, обычай не знаешь, что ли? Все, что на пиру не съедено, не выпито — все в посольскую избу принесут. Иди обратно и не тужи. У нас, брат, со времен покойного Василия Ивановича заведено—кормить послов до отвала. Тут, я тебе скажу, такое бывало: иные послы от премногой еды богу душу отдавали.
Подьячий не соврал. Слуги принесли в посольскую избу множество еды и питья и снова принялись угощать послов. Через час Ешка, довольный, сытый и пьяный, лежал под лавкой и пел песни вперемежку по-русски и по-черемисски. Послы, которые не успели свалиться, подтягивали.
Адашев подошел к подьячему, сказал:
— Без моего ведома со двора никого не пускай. А то почнут шататься средь многолюдства и дары государевы, не дай бог, в кабаках оставят.
Аказу на пиру с государем перемолвиться не пришлось. Не до этого было. Царь послал ему хлеб-соль со своего стола по обычаю, а через Адашева передал: завтра прийти к нему на обед с братом, главным послом и толмачом...
Обедал царь поздно. Почти в сумерки Саньку, Аказа, Магмета и Янгина к царю повел тот же Адашев. В теремном дворце уже зажглись огни. Адашев вел послов проходными сенями под низкими сомкнутыми сводами. Минули Гостиную палату, где царь «сиживал с бояры», и прошли в престольную палату, где изредка в знак особой милости принимались иностранные послы. Сюда без зова царя никто входить не смел.
Царское кресло в Красном углу пустовало, Иван Васильевич сидел за столом с двоюродным братом Владимиром Андреевичем Старицким. По правую сторону от царя — Макарий. На седой голове митрополита белый клобук, на плечах черная шелковая мантия. От груди до самого низа мантии пущены три широкие белые каймы в знак того, что из уст и сердца служителя Христова текут ручьи учения, веры и благих примеров.
Сейчас Иван был не в духе. Только что перед обедом донесли царю, что Володимерко Старицкий, его двоюродный брат, хвалился на игрищах, что скоро его, Володьку, посадят на трон, а Ивана пошлют в монастырь, потому как рожден он не от Василия князя Ивановича, а от какого-то монаха, не то протопопа, с которым Елена Глинская блудничала. А Василий князь Иванович будто к рождению детей был и вовсе не способный. Иван схватил доносчика, велел позвать Володьку Старицкого, а тот, богом клянясь, от сей хулы отказался.
Несмотря на расстройство, царь обедать с послами пошел.
Послы вошли, поклонились царю. Иван будто сего не заметил. Адашев указал послам место от царя в отдалении за отдельным столом. На другой конец царского стола сели Курбский, Шигоня и Сильвестр. Иерей смотрел на инородцев зло, потряхивал гривой. Вошел стольник с большим серебряным тазом, на плечах — по полотенцу. Царь омыл руки, вытер. Полотенце положил на колени. В этой же воде ополоснули руки и остальные.
— Благослови, владыка, нашу трапезу,— сказал царь, и Макарий, встав, троекратно перекрестил стол и снова сел.
Вино налили в кубки, царю в широкую золотую чашу. Он приподнял чашу над столом, сказал:
— Во здравие земли Русской и веры православной.
Все подняли кубки и выпили. Митрополит перекрестил свой кубок, но пить не стал — нельзя.
Слуги внесли в палату на дорогих подносах мисы со стерляжьей ухой, с поклоном поставили перед гостями.
После ухи снова наполнили бокалы, и снова царь сказал:
— За одоление недруга нашего — казанского хана!
А слуги уже вносили жареных лебедей.
Царь ел мало. Он поковырял вилкой лебедя, отломил крылышко, но есть не стал. Вдруг спросил Аказа:
— А князь Плещеев украденное твоим людям вернул?
Аказ и так еле справлялся с непривычной ему вилкой, а тут и совсем выронил ее из рук. И было отчего. Он растерялся и не знал, что ответить царю. Сказать, что вернул — он не мог, плещеевские ратники уж давно взятое поели, а как скажешь правду, если гостил у того князя? И Аказ молчал, поглядывая то на царя, то на Саньку.
— В прошлом году друг мой Аказ говорил, что он не умеет лгать. По глазам вижу, что Гришка волю мою не сполнил.
— Великий государь! Ты его прости. По незнанию, а не ради зла он сделал это. А людям тем, у кого князь ясак взял, мы всем народом помогли.
— Помогли вы тем людям или не помогли, а князь пусть сам все, что взял, обратно привезет, чтобы другим неповадно было. Ты слышал, Алеша?
— Будет сделано, государь.
— Скажите, мои послы, вот вы говорили, что встанут на мою сторону ваши два больших полка. А вера в своих людей у вас есть? В тяжком и опасном бою могу ли я на них положиться? Обопрусь я на них в деле ратном, а они из-под руки моей выскочат, воинов моих под удар подведут.
— Мы людям своим верим! — ответил Аказ.
— Во Свияжске ты тоже так думал, а как поднес боярин тебе дулю — они и разбежались все, да его же, боярина, людей побили.
— Тогда жалованной грамоты не было, государь.
— Я это не в упрек сказал, а к тому, что не мешало бы в бою ваши полки проверить. Вашего же спокойствия ради.
— Повелевай, государь.
— Вернетесь в Свияжск — малый походец на Казань сотворите. Там сами увидите, пойдут ли ваши воины в большое дело. С вами никто из моих воевод не пойдет — сами полки ведите.
— Спасибо за доверие, государь. На Казань мы сходим.
— А теперь, Шигоня, ты скажи, что можно сделать, дабы вет- лужская и кокшайская черемиса с нами в дружбе жила?
— Пусть Аказовы люди, государь, почаще и поболее в ту сторону ходят и о твоем жаловании лесным людям рассказывают. Народ там живет свободолюбивый, и токмо добрым словом да благим примером их на нашу сторону повернуть можно...
— Слышишь, Янгин? Я твое прошлое обещание помню.— И царь погрозил Янгину пальцем.— Наобещал ты мне три короба, а где эти ветлужские черемисы? Слово не сдержал.
— Ты, государь, однако, тоже обещал тогда много, а грамоту только ныне дал.
— Ишь ты! — Царь охмелел и подобрел.
— Не обижайся на него, государь. Молод еще, не ведает, что говорит.
— Правду говорит. Грамоту мне бы давно следовало им дать. Не успеваю.— И, снова обратившись к Янгину, добавил:—Женился, поди?
— Нет еще,— смущенно ответил Янгин.
— То-то же. Без меня женишься — не прощу.
— Ты только приезжай. Всем народом встретим! — горячо произнес Янгин.
— Всем народом, говоришь? — Царь помолчал, что-то обдумывая, потом сказал: — Вот намедни долго думал я о вашем народе. С чистым ли сердцем он ко мне в дружбу идет? Какой ветер к нашему берегу вас прибил? По вере вы от нас далеки, к татарам вроде бы ближе, по крови вы тоже с татарами роднее, и предки ваши и наши жили друг от друга далеко. Думал ли ты, Аказ, об этом?
Аказ, помедлив, ответил:
— Думал, великий государь.
— И что же?
— Мало ты наш народ знаешь. Прости, может, я неладно спрошу, но скажи, почему город твой Москва называется?
— Честно ответствую: никогда не думал о сем. Может, ты, великий отче, ведаешь?
— Мудрейшие люди много искали ответа на сей вопрос, но до се не нашли.
— А я знаю. Старики говорят, что наши предки с вашими вместе жили когда-то, и на этом месте было селение, которое называлось Маска ава, по-нашему значит — мать медведя. Старики говорят, что их прадеды и ваши прадеды долго жили в этих местах бок о бок, и только любовь к лесам заставила их уйти на Волгу. Старики говорят: много лет назад ваш народ и наш народ жили рядом и в дружбе, и придет время—в еще большей дружбе будут жить.
— Тьмой времен покрыта истина,— сказал митрополит,— и кто знает, сколь правдивы слова старейшин ваших. Но одно мне ведомо: идти вашему народу с нашим плечо в плечо отныне и во веки веков. Сложна жизнь, и много будет обходов и объездов, но путь все одно у нас един.
— Это верно, великий отец,— сказал Магмет Бузубов,— отныне мы будем опорой во всех делах государя.
— Я чаю, вам ведомо,— произнес царь,— что готовим мы новый поход на Казань. Когда начнем —лишь всевышнему известно. Одначе я хотел бы знать, сколь ваши люди тому походу помочь могут. Князь Андрей, ты уготовлением того похода занят. Скажи, что тебе от горных людей надобно. Думал о сем?
— Думал, светлый царь. Взять Казань будет тяжело, но и довести рать до града сего не легче. Было бы зело ладно, если б ваши люди к тому времени дороги изладили. И кормами помогли бы чуть-чуть, бо с собой взять много ли можно?
— Ты, князь, только заранее скажи, когда рати пойдут,— сказал Янгин,—мы все на дорогу выйдем—и делу конец!
Иван рассмеялся, потом серьезно сказал Аказу:
— Моим именем повели хану Шигалею всех ратников твоего полка и твоего тоже,— царь глянул на Бузубова,— оделить доспехами, кои ему посланы будут. Пока ратному делу учитесь, ждите большого похода. Придет время — дам знать. А теперь поезжайте с богом по домам. Счастливого вам пути.
Послы встали, поклонились царю и направились к выходу.
Шигонька вернулся с послами в Свияжск, усиленно помогал Аказу и Магмету Бузубову собирать полки. Все участники посольства, нарядившись в подаренные царем одежды, разъехались по руэмам да илемам, чтобы рассказать о посольстве, о царе, о дарах и главное о жалованной грамоте.
Через месяц все, кто был в полку Аказа, вернулись в Свияжск, чтобы верно служить русскому царю. Даже люди Пакмана пришли с повинной. Сам Пакман не вернулся—говорили, будто убежал на Луговую сторону к мурзе Япанче.
Под осень в Шигонькиной памятной книге появились такие записи:
«Горние люди одним своим полком пошли в Казань, чтобы показать свою правду государю и повоевать его недруга. А за ними послали тайно смотреть Петьку Гурова да Алешку Ершова. Велел хан Шигалей своим казакам, кои стояли на Волге, на каменном перевозе переправить горних воев на другой берег по- тарлотою.
И пошли к Казани месяцу июня и пришли на Арское поле ко городу; и вышли к ним все казанские люди, крымцы да с ними билися крепко, и от обоих потери были. А князь Аказ в той сече поранил Алима, сына Кущакова, в плечо саблей.
А хан Шигалей в те поры да князь Голицын с товарищи ходили на Гостин-остров и стояли на Терень-Узяке. К ним прибежали Алешка Ершов да Петька Гуров и сказали хану, что горние люди воевали крепко и служили государю прямо.
Горние люди, видя государево к себе жалование, служити начали ему правдою и на Луговую сторону ходити...
А чуваша арская под рукой Магмета Бузубова пошла боем на крымцев и проскочила во Ханский двор и начали говорить, почему-де вы не бьете Русскому государю челом?
И крымцы, Кушак-улан с товарищи с ними билися...»
В Казани день ото дня беспокойнее. То черемисы на город налетают, то чуваши. Сююмбике шлет гонцов в ногайские степи к своему отцу: давай подмогу! Трон казанский взят, а удержать его нечем. И в Крым несутся гонцы: шлите войско. Давлет-Гирей крымский Сююмбике хорошо знает: не для его пользы села она на трон—и помощь слать не спешит. Ногайцы тоже медлят, надо узнать, что вокруг Казани деется.
Коренные казанцы смотрят на Сююмбике волком—житья им теперь не стало. Торговля захирела совсем, в Казань ни с какой стороны проезда нет. На Волге две русские крепости стоят — Свияжск и Васильгород. Вверх по Каме всюду стрельцы царские, Вяткою вверх по всем перевозам дети боярские и казаки Шигалеевы накрепко стоят.
Рознь меж крымцами и казанцами вспыхнула злым огнем. Местные жители крымцев всему виной считают. Иные князья и мурзы открыто отказались от Сююмбике и ушли в Свияжск служить русскому царю, иные собираются крымцев переловить и отдать русским в плен.
Первым убежал в Москву мурза Чапкун. Как взяла Сююмбике власть, задумал мурза свою любовь ей предложить. Он и молод, и красив, и в бою его отважнее сыскать трудно. Пришел к царице, прямо так и сказал: «Давай вместе трон держать будем. Одну тебя сомнут. А я щитом твоим буду».
Если не было в сердце царицы Алима, быть может, Чапкун и стал бы рядом с ней у трона. Но Сююмбике огневалась и прогнала Чапкуна из Казани.
И очутился Чапкун в Москве, все замыслы казанцев царю поведал, советником по татарским делам стал.
Первый совет Чапкун дал такой: надо немедля послать в ногайские степи умного и хитрого человека, чтобы тот нашел там мурзу Измаила и вместе с ним собиранию войск для помощи Казани помешал бы. И еще одного посла отправить в Стамбул к султану Солиману. Потому как из Казани к Солиману только что ушел мурза Кучак просить помощи от турок. Если же султан и мурза договорятся, большую помеху русскому войску могут сделать.
Царь Иван совета послушался, стал выспрашивать у дьяков Посольского приказа, кого бы на такое дело послать. Судили-ряди- ли, и вышло, что лучше Петра Тургенева не найти. Сей воевода хитер, умен, язык турецкий знает, обычаи ногайские знает. Ибо дед его Турген сам из ногайских мурз родом был.
А Тургенев тут же посоветовал в помощь ему дать сотника Андрюшку Булаева. Вспомнили, что тот Андрюшка еще в молодости послом в Крыму сиживал, а земли ногайские пешком исходил.
В СТАМБУЛЕ И АСТРАХАНИ
Над бухтой кружились крикливые стаи чаек.
Грозная и могучая эскадра империи Османов в полном составе качалась на рейде. Она только что возвратилась из похода и бросила якоря на долгую стоянку. Матросы чистили каюты, мыли палубы, чинили паруса и снасти. В море летели заплесневевшие хлебные корки, отходы из камбузов, сор и пустая посуда. Птицы на лету хватали размокший в воде хлеб и все, что можно было съесть.
Командующий эскадрой, капудан-паша, родной брат и наследник султана Солимана, сходить на берег не торопился. Первым, кого он пригласил в свою каюту, был дворцовый лекарь Гассан. Еще в пути паша узнал, что султан Солиман тяжко болен, и в первую очередь решил узнать, сколь серьезна болезнь его.
— Здоров ли драгоценный брат мой?—спросил он лекаря после взаимных приветствий.
— Слава аллаху, светлейший падишах здоров.
— Говорили, что он хворал...
— Две недели он не вставал с постели, но сейчас болезнь оставила его.
— Надолго ли?
— Все в руках аллаха. Но думаю — ненадолго. Грудная жара редко отпускает свою жертву...
— Что нового во дворце могучего?
— Приехал человек из Казани.
— Что он хочет?
— Просит помощи. Москва снова грозит Сафе-Гирею...
— Который раз,— хмуро заметил капудан-паша,—Этот паршивый город скоро опустошит нашу казну. Все золото, которое я привез из египетского похода, ушло в Крым и Казань. Надеюсь, брат мой больше не думает помогать этим ненасытным ханам?
— Мне кажется, думает. Когда я проводил ночи у его постели, он сетовал на свою судьбу. И сказал мне: «Отважные и мудрые предки наши прославили свое царствование великими победами. И только я один сделал мало. Всю свою жизнь я готовился завершить дело, начатое Баязетом Блистательным. Теперь пришла пора привести северные русские земли под сень золотого полумесяца». Я думаю, султан не только даст денег Казани, но и объявит священную войну русским. Говорят, на днях собирается военный совет.
— Воистину сказано: если аллах задумает наказать человека, он отнимает у него разум. Мои корабли требуют большой починки и...
В каюту постучали. Вошел поручик и подал капудан-паше свиток.
— Ты оказался прав, мой друг, завтра вечером зовут на военный совет.
Всю ночь капудан-паша провел без сна. В успех священной войны он не верил. Флот к такой кампании совсем не готов, султан стар и болен, империя напрасно истратит свои силы в этой войне, и он, наследник, получит пустую казну, ослабленную армию и обессиленный флот. Как быть? Если выступить на совете против султана, поймут ли его правильно? Не озлобит ли он своего брата, не даст ли в руки своих врагов, жаждущих трона, оружие, которым они непременно воспользуются? Есть о чем подумать.
Вечером следующего дня в Малом зале Высокой порты собрался военный совет. Султан Солиман старался скрыть свои недуги, и только бледность лица, мешки под глазами выдавали его. Он не сидел на месте, а ходил вокруг стола, за которым разместились члены совета. Раскачивая грузное тело, он медленно двигался по залу и говорил резко и отрывисто, преодолевая одышку:
— Казань послала к нам мурзу Кучака... И сказал тот мурза, что царь Иван готовит на правоверных большую войну. Мы и сами знали об этом, но не думали, что все триста тысяч воинов будут посланы под Казань... Во имя аллаха великого и милосердного...
Мы должны защитить правоверных казанцев, рассеять русские рати... и тем самым навсегда утвердить на северной земле знамя пророка Магомета! Настала пора... давно настала! Если мы промедлим теперь, то сыновья нашей веры во всей вселенной не простят нам гибели Казани. Царь Иван не остановится на полдороге, за Казанью он отнимет Астрахань, внедрится в земли Шемахи и Дербента, станет грозить Крыму и рассеет наших братьев так же, как его дед рассеял воинов великой Орды... Никто кроме нас... не защитит исповедующих Несомненную книгу. Мы — султан пяти морей Солиман, потомок святого Османа — решили объявить священную войну царю Ивану! Великий визирь! Расскажи совету, как мы сделаем это.
Великий визирь сделал глубокий поклон в сторону султана, развернул свиток:
— Если Московит уведет под Казань триста тысяч — столица его останется незащищенной. Послушный приказу великого Соли- мана крымский хан Даулет-Гирей бросит всех своих конников на Москву и легко покорит ее!
— Воистину святая мысль!—заметил Авилляр-паша.
— Надо отпустить в Астрахань посла с дарами,— продолжал великий визирь.— Пусть он пошлет всю ногайскую орду на Казань.
— Прости, великий, но мурзы ногайские живут не дружно и...
— На то и поедет посол!—перебил Авилляра султан.— Им надо напомнить, что Москва орде гибель принесет. Говори дальше, визирь.
— Как только хан Даулет уведет своих конников на Русь, мы посадим все наше войско на корабли и высадимся в Крыму. Когда крымские, казанские и ногайские воины обессилят русских, мы опустим на них карающую руку пророка. Воистину велик и мудр замысел падишаха. Давно пора покончить с гонителями правоверных! Настает время, чтобы навсегда водрузить над се верными землями золотой полумесяц божественного сияния!
— Готов ли наш флот, брат мой?—султан обратился к капу- дан-паше.
— Наши корабли требуют большой починки,— ответил гот.— Паруса на них обветшали, снасти изорвались, нет ядер для пушек, пороха совсем мало.
— Сколько нужно времени, чтобы починить корабли?
— Трудно сказать, великий. Это будет зависеть от того, как скоро нам дадут полотно для парусов, канаты для снастей, дуб для замены прогнивших укреп.
— Время у нас есть. Мы дадим флоту все необходимое.
— Тогда я и отвечу, как скоро будут готовы корабли к походу
Затем начали говорить другие члены военного совета. Высокая порта план священной войны с Русью приняла полностью. За последние два года в деле был только флот. Пехотные, кавалерийские генералы желали воевать. Капудан-паша на совете больше молчал.
— Кого мы пошлем к ногаям? — спросил Солиман.
— Авилляр-паша мог бы... — сказал визирь, но паша сразу возразил:
— Я стар и немощен...
— Зато ты знаешь ногайские, крымские и русские дела.
— Да будет так,— приказал Солиман.— Кто ныне ханом на Казани?
— Сын Сююмбике, Утямыш-Гирей.
— Он мудр, опытен?
— Ему всего третий год.
— Младенец на троне?! Поистине казанцы легкомысленны. В пору решительных сражений ханством должен править мудрый, отважный воин. Пусть ногайский хан Ямгурчей пошлет в Казань своего человека. И ты, Авилляр, помоги ему выбрать хана для Казани.
Спустя неделю в Кафу вышел легкий двухмачтовый корабль. На палубе его стояли паша Авилляр и мурза Кучак. В Кафе наместнику султана был передан приказ для Давлет-Гирея, далее корабль прошел до Азова. В Азове послы пересели в фелюгу и по Дону добрались до Черки. Там верхом на лошадях проехали к берегу Волги. Авилляр пошел вниз до Астрахани, мурза Кучак— вверх до Казани.
В эту же пору в Стамбуле появился московский посол Петр Тургенев. Солиман сказал великому визирю:
— Пусть русский посол подождет. Пока не возвратился Авилляр, с ним говорить преждевременно.
Выслушав визиря, Петр Тургенев не возмутился. Он сказал, что будет ждать, и выпросил у визиря позволение ходить по городу беспрепятственно. Только худой посол лезет к султану, ничего не разузнав.
Прошла неделя, потом вторая. Тургенев визирю не докучает, ходит по Стамбулу, осматривает город, покупает разные безделушки. Шпики, приставленные к русскому, доносят: «Посол ни к кому не заходит, ни с кем не встречается. Много спит, днем толкается на базарах, никого ни о чем не спрашивает, даже толмача не просит».
В хлопотах визирь скоро совсем забыл о русском после. А тот в одну из ночей, постучав в ворота дворца наследника, высыпал в пригорошни начальника дворцовой стражи кошелек с золотом и попросил свести его тайно с капудан-пашой.
На следующую ночь пришел к Тургеневу провожатый, провел
его в покои наследника. На чистейшем турецком языке русский посол попросил удалить толмача, а когда тот ушел, сказал:
— Великий и могущественный султан Солиман, да будет священно его имя во всей вселенной, задумал идти на Русь войной. После военного совета в Крым и Астрахань ушли послы,— стало быть, война не за горами. Ваши корабли меняют паруса...
— Откуда ты знаешь об этом?—перебил его капудан-паша.
— У нас, в Москве, рассказывают такую шутку: однажды к большому воеводе пришел малый воевода и спросил: «Говорят, завтра наша рать выступает в поход—правда ли это?» Большой воевода ответил: «Мне об этом неведомо, но сейчас я жёнку свою пошлю на базар — она все узнает».
— Ты веселый человек, посол, но почему ты пришел о военных делах говорить со мной?
— Узнал я также, что ты на военном совете не сказал ни слова.
— Что ты мне скажешь еще?
— Всем известно, что султан болен и ты встанешь у кормила империи, ты поведешь корабль царства дальше.
— Допустим, что поведу.
— Но если капудан-паша потеряет паруса, уронит в воду все пушки, изорвет снасти, не тебя ли обвинят в том, что ты посадил судно на мель?
— Ты думаешь, что корабль попадет в бурю?
— Я уверен в этом. Вспомни славных предков твоих. Мурад I завоевал Сербию с моря, Баязет Молниеносный покорил Болгарию с моря же, Мехмед II взял Византию, Боснию, Грецию. Албанию и Крым с двух морей. Почему сие? Да оттого, что империя твоя сильна флотом. С какого же моря брат твой Солиман нападет на Русь? Я слыхал, с Крыма. Но держава наша сухопутная, еще Тохтамыш говаривал, что она в длину 9 месяцев конского ходу и 6 месяцев в ширину. Эти беспредельные просторы армию вашу поглотят. Ногаи вам не помогут—об этом государь мой позаботился, крымские ханы много лет землю нашу воюют, но далее Ор-Капу не сдвинулись. И еще вспомни, благомудрый, про сефевидов. В свое время бунты шиитов вы подавили, но стоит вам силу бросить на север, как мятежники голову поднимут и трон, предназначенный тебе, займут.
— Аллах свидетель — это может случиться!—воскликнул капудан-паша.— Но что я могу поделать? Я один на совете.
— Почему один? Визирь — ему с тобой рядом сидеть. А разве иные воеводы не знают, что скоро под твою руку встанут. Напомни им об этом. Государь мой велел тебе сказать: у него земли хватит, он с Османовыми владениями в мире хочет жить и дружбе; как только на престол сядешь — послов шли. Иван Васильевич братом тебя назовет. А от Казани и Астрахани много ли тебе будет проку?
-- Аллах велик, и воля его неведома смертным. Я беден, и может статься, что не пустят меня к престолу. Многие богаче меня, и они вырвут права из рук моих...
— Ежели мир державе моей посулишь, много будет добра тебе от щедрот царских. На сей раз я одарю тебя только лишь за счастье говорить с тобой, но потом...
— Хорошо, посол. Поживи у нас еще, я подумаю. А подумав, позову. А сейчас пора уходить тебе. Доглядчики, я думаю, уже рыщут. Иди...
Андрюшка Булаев взялся за посольские дела с превеликим удовольствием. Вспомнил свою юность, как ходил по Дону послом к Менгли-Гирею, как из вольной ватаги в Москву хаживал; деда Славко вспомнил, да и ногайцы ему тоже были ведомы. Добрался он до ногайских степей и нашел, как ему было велено, кочевье мурзы Измаила. Мурза к этой поре надежным доброхотом русских стал, торговал с Москвой, служил верно царю. И враждовал со своим братом Юсуфом. Вражда была давняя, потому как силы у обоих братьев равны. В ногайских степях кочевий множество, мелких князьков еще больше, но главные богачи — Юсуф и Измаил. Они в Астрахань на престол поочередно своих ханов сажают. То Измаил посадит Дербыша, то Юсуф — Ямгурчея. Сейчас на троне—Ямгурчей, племянник бывшего крымского хана Менгли- Гирея. Около него молодой царевич Эддин-Гирей, тоже крымский отпрыск. Они турецкую сторону держат, им с русскими идти совсем не с руки. Юсуф тоже около них, потому как дочь его Сююмбике в Казани царицей.
Андрей Булаев приехал к Измаилу больно вовремя. Его как раз в Астрахань позвали, сказали, что приехал из Стамбула посол.
— Вот хорошо,— сказал Измаил.— К ним из Стамбула посол, ко мне — из Москвы. Поедем, послушаем, что они нам скажут.— И показал своему сыну три пальца. Тот отделил от табунов гри тысячи лошадей, посадил на них джигитов. Поехал с ними в Астрахань и Андрей Булаев.
Столица Ямгурчея — на высоченном волжском берегу, над откосом. Вместо дворца — огромная юрта, а вокруг десятка два юрт поменьше. Вместо города — ров, за рвом — кибитки из кошмы в великом множестве. Расположил своих джигитов мурза Измаил на берегу Волги, сам пошел в юрту хана. С другой стороны столицы тоже костры дымятся — там мурза Юсуф своих джигитов поставил.
Хан Ямгурчей заважничал. Шутка ли, из двух великих держав в такое маленькое ханство послы приехали. Видно, и той, и другой
стране хан Ямгурчей нужен. Надо не прогадать — из такой нужды выгоду большую себе можно сделать. Турецкому послу богатую юрту поставили, русскому тоже рядом не хуже храмину возвели. Служанок молодых приставили, охрану надежную. Андрюшка спал плохо— всю ночь мучили блохи. На рассвете не вытерпел, вышел на волю, снял рубашку — все тело в волдырях. Глянул в сторону — там турецкий посол по пояс голый на камне сидит. Андрюшка пригляделся: боже ты мой, старый знакомый! Подошел ближе, сказал по-русски:
— Што, паша, ногайские блохи злее турецких?
Авилляр поднялся, долго и удивленно разглядывал Андрея, но ответил тоже по-русски:
— Всю ночь не спал. Кусаются, как собаки.
— Не узнаешь меня?
— Не узнаю.
— Вспомни Дон. Ватагу вспомни.
— Андрюшка?
— Он самый.
— Вырос ты, вот и не узнал.
— А ты постарел. Слышал я, ты в великих визирях ходил?
Лицо паши омрачилось, надевая рубаху, он ответил:
— Ходил. Теперь вот снова по земле скитаюсь. Силы на исходе, а спокойной жизни нет. Служишь-служишь...
— При троне оно так,— сказал Андрюшка, присаживаясь рядом.— Я вот тоже с малых лет, а до сотника еле дослужился.
Помолчали.
— Все во власти аллаха,— прервал молчание паша.— Вот мы когда-то одному делу служили, а теперь — враги.
— Это царь с султаном враги,— сказал Андрюшка.— А нам делить нечего. Все, что надо разделить, до нас разделено.
— Как это?
— Ты, я чаю, приехал Ямгурчея уговаривать. Чтобы он на Москву войной пошел. Он с мурзой Юсуфом Москве противник, их на сие уговорить нетрудно. Я же к мурзе Измаилу приехал. Он царю моему служит — Казани помогать не будет. А земель у Измаила полханства, вот и суди сам — одолеет ли твой султан Русь или не одолеет. Казань сейчас ослабла, ханом там дите неразумное, а Сююмбике... что ни говори — баба есть баба. И ты свои кости натруждал зря.
— Об этом я знал. И султану о розни ногайской сказывал. И велено мне враждующих братьев Юсуфа и Измаила помирить. И я их помирю.
— В могиле они помирятся.
273
— Посмотрим. Ныне, я думаю, Юсуф и Измаил будут заодно. А на Казань другого хана пошлют. Эддин-Гирея.
18 Марш Акпарса
/
/
— Стало быть...
— Хватит спрашивать. Я и так слишком много тебе сказал. По старой дружбе.— Авилляр, кряхтя, поднялся с камня и скрылся в юрте.
Сначала Андрюшка ничего не мог понять. Гвоздем в голове засел вопрос: почему такой умный и хитрый посол, каким знал он Авилляра, сказал ему о том, что говорить бы никак не следовало? Может, захотел похвастаться своим посольским уменьем? Вряд ли. Зачем же тогда? И вторая загадка: кто такой Эддин-Гирей? Имя это Андрюшке знакомо, где-то он уже слышал его. Напрягая память, вспомнил: когда он был послом в Бахчисарае, таким именем звался племянник Менгли-Гирея. Погоди, погоди,— Андрюха хлопнул себя по лбу,— что же это получается? Если ханом на Казань пошлют Эддин-Гирея, то мурза Юсуф остается ни при чем! Его дочь Сююмбике и внука Утямыша с трона тогда долой! И Юсуф султану покажет кукиш! Он будет заодно с Измаилом против турок. Неужели Авилляр подсказывал Андрюшке это? Ради чего? Если бы узнать!
Долго думал русский посол, но так ничего и не придумал. Пошел к мурзе Измаилу, рассказал ему все, а тот смекнул быстро:
— Надо дать Авилляру много денег, а обещать — еще больше. Доверь это дело мне...
—Доверить-то доверю,— сказал Андрюшка,— но денег у меня мало.
— Это моя польза, и деньги мои. Я иду к паше.
Возвратившись от Авилляра, Измаил потащил Андрюшку в
стан Юсуфа. Мурза заставил брата битый час торчать около юрты, но тот терпеливо ждал. Наконец, их впустили. Юсуф сидел на высоких подушках, рядом с ним — его сын Али-Акрам. Измаилу и послу указал на разостланную перед ним кошму, жены поднесли им по большой чашке кумыса.
— Говори, зачем пришел?—грубо спросил Юсуф.
— Не больно ласков ты, брат мой, но сейчас не время для ссор. Пришел ко мне человек от царя Ивана, чтобы предложить тебе мир.
— Я с Иваном не воюю.
— Нынче этого мало. Царь Иван с турецким султаном из-за Казани воевать хотят.
— Знаю. Посол султана к хану пришел, сегодня вечером нас к хану поведут. Говорить будем.
— Прежде мы меж собой договориться должны. Распри наши из-за кочевий надо оставить, рознь отбросить и вместе Ивану помогать.
— Почему Ивану? Давай султану поможем Русь воевать.
— Твои люди ходят торговать в Бухару, мои торгуют в Москве: и стоит мне схватиться с Москвою, то и самому впору нагому ходить, да и мертвым не из чего будет саванов шить.
— Я тут ни при чем. Ходи и ты в Бухару.
— Но в Москву ближе, торговля выгоднее.
— Мне с Иваном не по пути. Он на дочь мою войной пошел, на внука моего войной пошел.
— Нет, брат мой, Иван на Казань хочет идти.
— Не все ли равно. Там ханом Утямыш-Гирей, внук мой.
— Ему жить на Казани недолго осталось.
— Уж не твой ли Иван его с Казани сведет?!— крикнул Али- Дкрам.
— Нет. Его приказал свести твой друг — султан Солиман.
— Ты лжешь, презренный!
— Сегодня вечером вы это узнаете. И если Иван покорит Казань, тебе, Юсуф, в этих стенах не жить.
— Если же,— добавил Андрюшка,— ты, всесильный мурза, государю моему поможешь, быть тебе у него в чести.
Мурза долго молчал, потом сказал тихо:
— Вечером мы узнаем истину. Идите.
Во дворце хана Ямгурчея вечером был большой спор. Сторонники мурзы Юсуфа предложили на казанский трон Али-Акрама, но хан Ямгурчей настаивал на Эддин-Гирее. Это и не мудрено: Эддин-Гирей женат на дочери хана, и в случае победы над Русью он станет властителем всех земель от Новгорода до Астрахани. За Али-Акрама говорил и мурза Измаил, но посол султана сказал решающее слово: приказ Солимана священен, и в Казань пойдет Эддин-Гирей. Ни мурза Измаил, ни Андрей Булаев не знали, что Авилляр, прежде чем поехать в Кафу, был у капудан-паши, и договорились они поход султана на Русь расстроить.
Через неделю русский посол уезжал в Москву. В сумке он увозил письмо Ивану Васильевичу, подписанное Юсуфом и Измаилом. А паша Авилляр увозил другое письмо — султану. И написано в нем было вот что:
«...Ты, великий султан, печешься о себе, а не о нас, землею нашею не владеешь, живешь далеко за морем, и нам ни в чем не помогаешь. Мы же, скудные и убогие, получаем от царя московского все, что потребно нам, ногаям. И если не помнил бы царь московский наших нужд житейских, то мы не могли бы жить ни единого дня. И за его добро подобает нам всячески помогать ему против казанцев, за их перед ним великое лукавство и неправду...»
Так уж в жизни устроено: знатному все, а простому — ничего. За турецкое посольство Петра Тургенева пожаловал царь саном боярским, а Андрюшка Булаев послан был снова в свою сотню. Даже поговорить с государем не удалось. А сделало посольству великое дело. Теперь со стороны ногайских степей, да и с турецкой стороны помощи Казани не видать. Петр Тургенев уверил Ивана Васильевича в том, что капудан-паша будет чинить Солисану всяческие помехи и если надо ждать опасности, то только от крымского хана.
Хану Шигалею во Свияжск пришел приказ: черемисский и чувашский полки отпустить пока по домам, чтобы не кормить такую ораву, пусть они ждут появления русских ратей, пусть строят мосты, уделывают дороги, готовят рати.
Совсем худо пришлось мурзе Кучаку. Возвратился он в Казань, а там уж известно, что ждут на престол нового хана, а Сююмбике и Утямыш-Гирей доживают у трона последние дни.
Загорелась земля под ногами мурзы Кучака. Узнали крымцы, что смерть Сафы-Гирея его рук дело, возненавидели. А без поддержки их мурзе в Казани не удержаться. И в Крым бежать тоже нельзя: Гиреи за своего хана сразу хребет сломают.
Собрал он всех, кому в Казани жить стало опасно, и убежал
из города, пограбив все, что можно.
Бросились бежать вверх по Каме, надеясь пересидеть где-то до лучших времен. Но нарвались на крепкие стрелецкие посты и, спешно отойдя, метнулись влево, вверх по Вятке. Кучак был уверен, что на Вятке русских нет. И ошибся. Там по велению Ивана уже стояли сторожевые отряды Бахтеяра Зузина, Федьки Павлова да Северги. Узнав о приближении крымцев, сторожевики затаились по берегам и, выждав, когда татары сели на самодельные плоты и вышли на середину реки, налетели на них в легких лодках, иных побили, а многих взяли в плен.
Пленные были доставлены во Свияжск к хану Шигалею.
Мурза Кучак надеялся спасти свою жизнь. Шигалею большого зла он не делал никогда и потому думал, что если согласится служить Москве, то Шигалей за это его помилует. Но когда рядом с ханом увидел Аказа, поджилки у него затряслись.
Антошка Северга, что привел крымцев, спросил:
— Живоглотов энтих куда девать будем?
— Ты что, не знаешь? Секим башка — и все тут. Ты думаешь, такую орду кормить будем?
После тщательного допроса именем государевым повелел Шигалей пойманных казнить. Зная давнюю вражду Аказа к мурзе, хан сказал:
— Кучака бери себе. Делай с ним что хочешь. Смерть придумай, какую— знаешь сам. Бери.
Аказ подошел к связанному мурзе, велел ему встать. Кучак побледнел. Зубы его стучали. Быть может, впервые за многие годы в жестокое сердце мурзы властно вошел страх. Много опасных минут было в жизни Кучака, но тогда он не боялся так, как сейчас. В набегах, схватках мурзе грозила смерть, и это не страшило прирожденного воина. Но сейчас предстояла смерть медленная, мучительная от жестокого врага. Кто знает, на сколько растянет этот черемисин его мучения, какие пытки придумает его озлобленный ум?
— Много лет я ждал этой встречи, мурза. Пойдем,— сказал Аказ.
Медленно спустились с горы, вышли из крепости на узкую тропочку, бежавшую меж густого кленового леса. Аказ толкнул мурзу вперед, и тот медленно пошел по стежке, чувствуя за собой острие копья.
Шли долго. Когда вышли на большую, подернутую по краям туманом поляну, Аказ поставил мурзу к дереву, сам сел напротив на высокий пень. Начал не спеша говорить:
— Много зла принес ты, мурза, мне и моему роду. Говорят, ты убил моего деда Изима, смертельно ранил моего отца Тугу. Ты украл мою молодую жену, ты исковеркал мою и ее жизнь... Сколько нашей крови пролил ты в день моей свадьбы, сколько жилищ наших спалил? Сколько людей моих ты ограбил, сколько жен наших осквернил. Разве можешь искупить ты все зло, которое причинил моему народу! Ты заслужил страшную смерть, мурза,— и Аказ вынул из-за пояса нож.
Мурза упал на траву животом вниз. От страха, от своего бессилия дико взвыл:
— Ы-ы-ы!!
Аказ подошел к нему, ногой перевернул его на спину, плюнул в лицо.
— Прошу тебя... Аказ... сделай смерть короткой! — умолял мурза.— Я скажу тебе, где спрятано мое золото!
— В таких делах золото цены не имеет,— сказал Аказ.— Гордость свою отдай. Целуй мою ногу!
Мурза приподнялся и чмокнул носок сапога.
— Если бы знал мой народ, какой человек угнетал их столько лет! Ты не только презренный трус, мурза, но и низкий человек. Самый захудалый мужичонка из моего илема не целовал твоих ног и не будет никогда. А ты кичился своим благородством, кровью великих ширинов, храбростью и гордостью! Ты даже умереть достойно не умеешь! Я хотел тебя убить, но разве нужна смерть этому червяку? Убить тебя, беззащитного и презренного,— опозорить себя и свое оружие. Знай, мурза Кучак, я воин и не запятнаю свою честь убийством человека, лижущего мои ноги! Я отпускаю тебя! Иди! Думаю, что мы встретимся в бою—и тогда я убью тебя честно.— Аказ приставил к дереву мешавшее ему копье и начал перерезать веревки на руках мурзы.
Дальнейшее произошло мгновенно. Кучак перевернулся, подскочил к дереву, схватил копье и с силой метнул его в грудь Аказа.
О, если бы под кафтаном не было панциря — копье прошло бы насквозь. Но раздался скрежет, мурза понял, что грудь Аказа защищена, и бросился бежать. В несколько прыжков он достиг леса и скрылся в нем.
Аказ упал. Панцирь был легкий, кованого серебра, и копье, пробив его, застряло в металле. Кончик копья чуть-чуть поцарапал грудь. Аказ почувствовал, как под панцирем растекается горячая кровь. Боли почему-то не было.
— Спасибо тебе, Москва,— прошептал Аказ.— Не панцирь ты подарила мне, ты подарила мне жизнь.
ГУСЛИ АКАЗА
Кончилось бабье лето.
Повозка легко катилась по влажной лесной дороге. Эрви с наслаждением смотрела по сторонам. Мимо проплывали убранные поля, конопляники, рощи белоствольных берез, солнечные опушки, глухие боры, овраги с холодными и стремительными ручьями, тропинки, засыпанные ворохом опавшей листвы. Ветерок приносил грибные запахи, дым от костров, запах смолы и тонкую, еле уловимую горечь моховой пыльцы.
Хайрулла с джигитами ехал впереди и Эрви не беспокоил. Дорога длинная, есть время полюбоваться багряными красками осени и помечтать о предстоящей встрече с Аказом, с родными местами, близкими людьми. Эрви хотя и понимала, что прошло много времени, но раз Аказ жив, думала она, значит, все будет хорошо.
Где-то искоркой мелькала мысль: вдруг ей Аказ не поверит, но мысль эта гасла сразу же. Аказ сам был в плену. А разве она не была пленницей? Судьба развела их, теперь снова сводит, но любовь как была, так и осталась.
Эрви долго думала, как ей одеться. Сююмбике подарила ей целый короб нарядов — одежду со своего плеча. Дорогие, красивые платья, почти новые (их царица надевала лишь по нескольку раз), яркие шали и платки, сафьяновые оборные сапожки. Женское тщеславие подогревало одеться ярко, удивить и поразить подруг, понравиться любимому. Но разум и сердце подсказало: надо прийти такой, какой ушла. И Эрви надела свой свадебный наряд, взяла вюргенчык, сохраненный с тех памятных дней. Она ясно представляла, как подойдет к Аказу, повесит свадебный платок на его плечо, приникнет к груди...
Катится по лесной дороге повозка, плывут мимо мягкие краски осени, а Эрви вся в мечтах радостно-тревожных, и сладко замирает в груди сердце...
За Нуженалом, там, где заросли орешника спускаются по крутому склону к реке, раскинулась небольшая поляна. У старой развесистой березы, прямо под открытым небом устроена кузница. Янгин качает мехи, Аказ ворошит полоской железа в горне, раскаленные угли выбрасывают искры. Разведочный поход на Казань показал: оружия в горном полку не хватает. Аказ распустил сотни по домам, воевода выдал им железа, чтобы ковать дома мечи, наконечники копий и стрел.
Возвратившись в Нуженал, Аказ начал готовить оружие. Сам кует мечи, воины за кузницей делают луки, стрелы, точат на граните ножи, наконечники, выпиливают рукоятки. Аптулат недалеко от горна устроил очаг, варит в котле мясо.
Янгин качает мехи, глядит в сторону костра и, переглатывая слюну, спрашивает:
— Дед, скоро у тебя? С утра у котла колдуешь, а толку что-то мало. У нас кишки к спине присохли.
— Корова была старая, мясо худое,— оправдывается Аптулат.
— Ты давай работай,— строго говорит Аказ,— горн не потуши. Еще семь мечей...— Аказ выхватывает из огня белую полоску железа, бросает на наковальню. Янгин хватает большой молот и с остервененьем бьет по металлу. Полоса вытягивается, но скоро остывает, и снова опускает ее Аказ в гудящую пасть горна.
— Скоро сотники придут, надо успеть.
-- Ты бы лучше не поминал про них,— Янгин вытер пот со
лба,— чем я хуже сотников?
— Никто не говорит, что ты хуже.
— Скажи: мы у царя были?
— Ну, были.
-- Я обещал ему подмогу? Обещал. А ты меня в поход взял? Не взял. Ковяжу дал сотню, Топейка тоже сотник. А Янгин куй мечи, Янгин готовь мясо, мотайся по илемам — собирай народ. Ты тоже дома не живешь. Утром приедешь—вечером в Свияжск убежишь. Все дела взвалили на меня.
-- Давай отдохнем.— Аказ сунул окованный меч в воду, из кадки вырвался клуб пара.— Чего ты хочешь, брат?
— Я воевать хочу. В Москве мне дали шлем, кольчугу. На нарах зря валяются. Подумать только, Топейка с сотней был в усадьбе Кучака. Весь дохм вверх дном перевернул, а я варю для победителей лапшу. Вот придет скоро твой Топейка, будет красоваться, хвастаться...
— А ты наденешь кольчугу и думаешь, что будешь сразу воином? Мало знаешь ты. Мы на Казань ходили — это верно. Но нам хвалиться нечем. Побили нас, Янгин.
— Как побили?!
— Очень просто. Мы кулаками драться мастера, а воевать... Бежали мы от Казани так, что только пятки сверкали. Если бы не крепость на Свияге, нас переловили бы давно.
— Ну а Топейка?
— Топейке повезло. Мурза в Бахчисарай ушел за войском, а в это время...
— Прости меня, Аказ.— Аптулат подошел, подал Янгину кусок мяса на кончике ножа — попробовать.— Ты был в Казани, все говоришь о войне, а об Эрви ни слова. Как будто и не было ее совсем. Ты, может, забыл ее, а мне она — как дочь.
— О ней и говорить не стоит!— крикнул Янгин, вытирая нож о штаны.— Подумать только: вернуться к мужу отказалась.
— Кому вы верите? Шемкува врет...
— Она сказала правду,— грустно заметил Аказ.— Искал ее Топейка в доме Кучака — ее там не было. Сказали, что царице служит...
— Говорят, по рукам пошла! — добавил Янгин.
— Я за Эрви перед богом в ответе, я ее к свадебному костру подводил. Надо бы вернее узнать.
— Сколько лет прошло!— Янгин хотел было вступить в спор с Аптулатом, но сзади вдруг раздался густой бас Ешки:
— Осподи Исусе Христе, сыне божий, помилуй нас!
Ешка и Палата возникли над косогором неожиданно.
— О, да это Ешка!—воскликнул Аказ и пошел ему навстречу, раскинув руки.
— Не Ешка, а отец Иохим,— строго заметила Палата и, оттолкнув попа, первая приняла объятия Аказа.— Теперь он настоятель храма во Свияжске, и сану не достойно...
— Молчи, квашня,— прогудел Ешка.— Меж мужиками не суйся.— Он трижды поцеловал Аказа, глянул в сторону очага, втянул носом воздух.— Чую дух мясной, и зело кстати. Я голоден, как стая волков зимой. Давай, веди к столу.
Потом из-за косогора появился Санька. Он вел на поводу коня под седлом, не торопясь привязал его к березе, ослабил подпругу. Конь изогнул шею, потерся головой о Санькино плечо. Санька ласково похлопал ладонью по мягкой конской губе.
У грубо сколоченного стола он обнялся с Аказом, сказал Ешке что-то тихо — Янгин не расслышал. Аптулат сунул в руки Янгина две большие деревянные миски, начал класть в них куски мяса.
— Это русский поп?—спросил он Янгина,—Зачем сюда пришел он? Крестить?
— Он наш друг. Меня от смерти спас.
— А другой русский?
— Да ты не бойся. Не будут они тебя крестить. Мы вместе в Москву ходили.— Янгин подошел к столу, поставил миски, ткнул Саньку в плечо, сказал:—Здорово ли живешь? От Свияги бежишь?
— Из Москвы. Заехал по делу.
— Больно хорошо. А мы как раз старейшин позвали. Вот-вот подойдут.
— А где Ковяж?
— Приедет. В лужай Пакмана заехал. Оттуда слухи нехорошие идут,— ответил Аказ.
— Теперь он воевода,—Янгин сплюнул в сторону,—Четыре сотни Аказ под его руку дал.
— Ждем его,—сказал Аказ,—Приехать должен скоро.
Ешка, вооружившись ножом, смахнул полой рясы со стола
желтые березовые листья, принялся разрезать мясо. Горячие куски дымились паром... У коновязи заржали кони, и на поляну вышли Топейка, Мамлей, Сарвай и Эшпай.
— Тут полон двор гостей!—воскликнул Мамлей.— Здорово, люди! Саня, здравствуй!
— Ешка! Спаситель мой!—Топейка кинулся к попу, облапил его, расцеловал. Сарвай и Эшпай степенно поздоровались с Аказом, Ешкой и Санькой.
— Садитесь все за стол,— предложил Аптулаг и снова ушел за мясом.
Обед начался в молчании. Сарвай и Эшпай с любопытством разглядывали Саньку. Ешка уже побывал в их илемах, а Саньку они видели впервые. Никто не заметил, как к столу подошел Атлаш.
— Мир вам, люди.— Атлаш снял шапку, заткнул за пояс.
— Входи с добро«,— ответил Аказ и подвинулся на скамье, освобождая для Атлаша место.— Будь гостем.
— Я не гостить пришел.— Атлаш исподлобья глянул на Янгина.— Я с жалобой, Аказ. На твоего младшего брата. Без тебя он тут начал много своевольничать. В чужих лужаях распоряжается, как в своем. Пакмана оскорбил.
-- Ему рыло набить надо!—крикнул Янгин. 9
— Пусть Пакман молод, но он теперь лужавуй. Он за столом совета старейшинам ровня. Сказали мне, что вы собираете лужавуев — почему Пакмана не позвали, почему меня не позвали?
— Да ты садись за стол,— снова предложил Аказ.— Давно я тебя не видел.
— Болею часто.— Атлаш сел на край скамьи.
— Да-да,— заметил Янгин.— Болезнь твоя коварна. Она тебя терзает всякий раз, когда надо общие дела делать. Когда надо было второй раз в Москву идти, ты заболел. Но стоило нам тронуться в путь, как ты сразу выздоровел и побежал в Казань.
— Ты говоришь неправду!
— Неправду? Хлеб и мясо горному полку ты не дал, людей для ополчения не послал. Все болел. Пакман под твою дудку пляшет.
— И это ложь. Сейчас Пакман собирает людей. Я триста человек к нему послал. И хлеб и мясо. А ты нас на совет не позвал.
— Ты сам же говоришь, что болел. Вот тебя и не позвали. Пришел — спасибо. Послушай, что нам скажет воевода из Свияжска. Он только что от царя.— Аказ кивнул головой в сторону Саньки.
— Послушаю с охотой.
Санька встал и начал говорить:
— Великий государь велел передать вам, что он горными людьми зело доволен. Велел сказать, что обещание свое помнит. Свое и ваше. Что скоро на Казань пойдут рати, а путь их будет тяжек. Впервые возьмут большие пушки и стенобитные машины. Поскольку много будет зелья и ядер для пушек, кормов с собой полки не берут. Иван Васильевич надеется на вас. Хлеб, солонина, крупа, овес должны быть в Свияжске, в запасе.
— Мы эту работу начали,—сказал Сарвай.
— И вот еще: в минувшие походы для ратников царя любая тропка была пригодна.— А ныне пушечный наряд тяжелый, потребует настильные мосты и гати. И вы обещали их изготовить.
— И это начато,— ответил Эшпай.
— Я что-то не заметил. Ехал по земле вашей — мосточки ветхи, а местами и вовсе нет.
— Он ехал по твоей земле, Атлаш,—сказал Янгин.
— Я о мостах впервые слышу.
— Да? Когда к тебе приходил посыльный, ты сразу заболел.
— Не будем спорить,— сказал Аказ,— языком дороги не починить. Мамлей, сколько при тебе людей?
— Пока пятьсот.
— Бери их всех. Пройди по берегам до реки Пьяны, все мосты изладь, уделай переправы, гати.
-- Все сделаем...
— Топейка! Твои лихие сотни пойдут в другую сторону. К Алатырю.
— Сказано — сделано.
— Ковяжу остается Сурская дорога, а ты, Атлаш, скажи Пакману, чтобы чинил путь от Юнги к Волге. Помоги ему сам.
— Он нам починит,—Янгин махнул рукой.
— И вас я, старики, прошу: поезжайте по домам и, сколько вам указано, везите муку и мясо в Свияжск. Ты понял, Атлаш? Не увезешь — царь не помилует тебя.
— Три шкуры спустит! — крикнул Янгин.
Атлаш встал из-за стола, надел шапку, сказал зло:
— Вот-вот. Мурза по шкуре с нас спускал, а царь сразу три.
— Тебя мурза щадил, и шкура твоя цела.
— Спасибо за еду. Мне пора.
— Не спеши, посиди.
— Мне своя шкура дорога. Надо дороги чинить.— Атлаш, круто повернувшись, зашагал к берегу.
— Напрасно, Саня, ты при нем рассказывал,— заметил Янгин, когда Атлаш скрылся.— Он сейчас поскачет в Казань и все там расскажет.
— Не беда,— сказал Санька.— Что я сказал, не тайна. Пусть
казанцы знают, с чем мы на них идем. Пусть боятся.
— Я велел Ковяжу на Атлашевых землях наших людей оставить. Они в Казань Атлаша не пустят,— сказал Топейка, вставая из-за стола.
— И нам пора, пожалуй,—Эшпай поднялся,—хватит погостили.
— Дел много впереди,—сказал Сарвай.
— Мы вас проводим.— Аказ, Санька и Янгин пошли вслед
за старейшинами.
Ешка строго поглядел на Палату, сказал:
— Что ты расселась? Сходи на речку — посуду вымой. Коней напои. Дай нам о вере поговорить.
— Ну, долгогривый... Если...—Палата собрала посуду и погрозила попу кулаком.
— Давай иди, иди.— Когда Палата скрылась, Ешка спросил Аптулата: — Скажи мне: ты тут вроде за попа?
— Попов нам не надо.—Аптулат посмотрел на Ешку сердито.— Я карт — хранитель обычаев.
— Я знаю, что попов ты не любишь. Однако посоветоваться
с тобой хочу.
— Давай совещайся.— Карт насторожился.
— Ваша вера, это самое,—Ешка щелкнул пальцем по горлу,— не забороняет? Не понимаешь? Ну, в смысле воспринять... после трудов праведных?
— А-а,— карт рассмеялся.— Ежли пиво есть, медовая брага есть — кто может запретить. Только жена.
— Хорошая у вас вера. А сейчас бражки не мешало бы глотнуть. Ежли поискать...
— А чего ее искать? Вон на берегу речки шалаш стоит — там у меня целая кадка...
— Так чего же мы сидим?! Пока моей квашни нету...— Ешка подмигнул карту и направился вниз, к воде. Аптулат засеменил следом.
Спустя несколько минут к столу подошли Санька и Аказ.
— Пока мы двое—поговорить с тобой хочу,— сказал Санька, присаживаясь на чурбан с наковальней.— Что мне с сестренкой делать, посоветуй? В Свияжске ей не место. Я все время в отъездах, одну ее оставлять страшусь. Люд в новом городе собрался бродяжий, озорной, жёнок мало. Недавно сироту одну в лес уволокли, надругались и придушили. И такое не первый раз случается...
— Я слышал тоже.—Аказ помолчал немного.—А что, если ее сюда привезти? Наши мужики теперь дома живут мало, бабы одни. Любой дом ее примет. Да и у меня изба пустует.
— Люди худого не подумают?
— Да что ты. Она мне сестра названая. Выбери время и привези ее. Я буду ждать.
— Ладно. И еще я хотел бы тебе сказать...—Санька осекся, к кузнице подбежала Палата.
— Мой-то долгогривый где?
— Куда-то ушли с Аптулатом,— ответил Санька.
— Наверно, брагу пить ушел, — Аказ улыбнулся.
— Ах, он ирод, луженая глотка! Разве мы за этим в такую даль притащились? Ему надо басурманов ваших к православию приводить, а я хотела, Аказушка, с тобой про Ирину говорить. Ее братец, вон он сидит, хорош — девчонку одну в этом вертепе оставляет, она слезы льет денно и нощно, а вам до этого и дела нет. Словно чужие вы...
— Ты, матушка, погоди.— Санька привстал с чурбака.— Мы только что об этом говорили: я Иришку сюда жить привезу.
— И я с этим же советом шла... — Палата спохватилась: — Где эти старые хрычи прячутся?
—Во-он, тот шалашик.— Аказ указал на берег.
Палата ринулась туда...
Под вечер Санька уехал в Свияжск, Ешка с попадьей ушел в Сарваев илем с намереньем поставить там часовенку.
Спать легли рано. Сон не приходил к Аказу. Сначала мешал спать Янгин. Он с подростками точил мечи, сделанные днем, шумел, разговаривал. Потом пришли думы. Об Эрви, об Ирине. Аказ и раньше не любил высказывать, что у него на душе, а теперь и подавно — он князь всей Горной стороны, он патыр, признанный всеми. Поэтому о своих сердечных переживаниях он никогда не говорил с людьми. Чаще, если приходилось невмоготу, он брал гусли, уходил в лес и в песнях изливал всю горечь сердечных мук, облегчая душу.
Поэтому и сегодня он увел разговор об Эрви в сторону, когда его начал Аптулат, обрадовался появлению Палати, когда говорили об Ирине. В его сердце сейчас жили двое. В него пришла Ирина, но не ушла и Эрви. Аказ понимал: пока он верит в Эрви, пока живет надеждой на встречу, Ирина для него — сестра. И ее скорый приход в илем ничего не изменит. Но почему так радостно замирает сердце при мысли о встрече с Ириной? Думы одна за другой приходили к Аказу, они теснились в голове, некоторые исчезли сразу, а иные, как птицы в силках и тенетах, бились в сознании, не находя выхода. Он поднялся с постели, высек огонь, зажег фитиль в плошке с жиром. Снял со стены гусли, но вдруг за окном раздались тревожные голоса. Накинув поверх рубахи меховую телогрейку, надев на босу ногу сапоги, Аказ вышел.
По двору метались люди с факелами, храпели усталые кони, кто-то кричал, чтобы распалили костер и согрели воду. С криком распахнулись створки ворот, на средину двора медленно въехала повозка, запряженная парой лошадей. Аказ подбежал к повозке выхватил у кого-то факел, осветил человека, лежавшего на соломе. Это был Ковяж. Смуглое лицо его было бледно, нос заострился, щеки ввалились.
— Что с ним?!—крикнул Аказ, и от этого возгласа Ковяж очнулся, открыл глаза, попытался приподнять голову, но не мог. Аказ склонился к его лицу.
— Атлаш... Пакман ушли в Казань... Увели своих людей... Я не смог...
— Кто тебя?
— Атлаш... В спину, ножом...
К повозке подошел Аптулат со снадобьями, появился Янгин. Пока карт разметывал окровавленные тряпки и осматривал рану в кудо разожгли огонь, согрели воду. Аптулат осторожно повернул Ковяжа на бок, промыл рану, приложил к ней мазь, перевязал. Ковяж впал в беспамятство, стонал.
— Выживет? — с тревогой спросил Аказ.
— Крови много потерял,— ответил Аптулат,— шевелить нельзя. Пусть в повозке полежит. Не умрет до рассвета — жить будет.
В хлопотах никто не заметил, как у ворот остановилась другая повозка. Двор был полон народу, около Ковяжа толпились женщины, старики. О несчастье узнали в илеме, и люди все прибывали. На Эрви никто не обратил внимания. Она поискала глазами в толпе Аказа, но не нашла. Около повозки причитали женщины. Сердце Эрви дрогнуло. Она пробилась сквозь плотные ряды людей, встала на ступицу колеса, поднялась над повозкой. Узнала Ковяжа... Как дым, рассеялись мечты о радостной встрече. Глянула на зажатый в руке вюргенчык, расправила и покрыла им скрещенные на груди руки Ковяжа...
Утром чуть свет Аказ ушел. Ночной ветер разогнал толстые дождевые облака, небо прояснилось, выглянуло яркое, по-осеннему холодное солнце.
Эрви, проводив мужа, вышла во двор. На дворе девушки длинными пестами мяли в ступах волокно и пели монотонную, нескончаемую песню-жалобу.
Эрви вспомнила вечерний разговор с мужем, и в груди шевельнулось что-то острое, и сердце заныло нестерпимой болью. Она снова вошла в кудо, села на шкуры, разостланные на нарах, закрыла лицо руками и безутешно заплакала. А со двора неслась тоскливая мелодия, Эрви подхватила ее, всхлипывая, запела:
Что здесь ходил любимый мой,
Я от черемухи узнала,
Что тяжело вздыхал порой,
Березка стройная сказала,
Что разлюбил меня друг мой,
Давно известно сердцу стало.
Любимый мой... Желанный мой...
Так бывает всегда. Запоет женщина песню, выльет в словах печаль-тоску — и станет немного легче. Смахнула с ресниц слезы и Эрви. Смахнула, подумала про себя, какая она несчастная. Была она самой красивой девушкой в своем краю, ей предсказывали большую и долгую любовь, и сама Эрви верила этому. Но вот проходит жизнь, а любви нет.
Сколько лет ждала она встречи с мужем! Думала ли, что будет она такой печальной? Сначала спасала Ковяжа, он на краю могилы стоял. Какая уж тут радость. Потом Аказа спешно позвали в Свияжск. Пробыл он там больше недели, приехал, и снова утащили его друзья в Пакманов илем — что-то там недоброе случилось. Даже поговорить с мужем за это время как следует не пришлось. День и ночь полон дом чужих людей, как на постоялом дворе. То один ночует, то другой, а иногда по семь-восемь человек вповалку на полу спят.
До Эрви нет никому дела. Аказ привык один жить, люди привыкли к тому, что он всегда один был—лезут к нему и днем, и ночью. Сначала она хотела хозяйством заняться, но Аказ сказал: «Отдыхай, работников без тебя найдется». Стала наряды, привезенные из Казани, примерять — Аказ . велел эти обноски выбросить. Теперь принялась она вышивать мужу рубахи.
После полудня снова пошел мелкий, облажной дождь, и Аказ вернулся, весь вымокший до нитки. Попросил смену белья, переоделся спешно и давай снова натягивать кафтан.
— Куда ты? В такую непогодь посиди дома. Не вижу тебя неделями. Есть хочешь?
/
— Мне не до еды. Топейка был?
— Эшпай приходил — ушел.— Эрви развернула рубаху.— Ты посмотри, Аказ, какой я узор нашла. Хороший?
— Да, да — хороший,— ответил Аказ, а на узор взглянул мельком.
— Ты погляди. Я его вышила для тебя.
— Мне до узоров ли сейчас, Эрви, и до нарядов ли? Весь Горный край теперь — моя забота. Я поесть как следует не успеваю. Ем на бегу.
— Не только себя — людей замучил...
— Я думал, ты меня поймешь. А ты...
— Ну, отдохни немного. Если дома побудешь, что может случиться? Хоть ночью забудь дела.
— Все видишь ты и слышишь. Вот-вот война начнется. Кругом тревога. Вот-вот появятся русские рати. А ты говоришь: забудь дела.
— Посмотри в окно. Дождь льет как из ведра. Кафтан мокрый— простудишься. Захвораешь — дела совсем некому будет делать. Дождь пережди.
— Ладно.— Аказ снял кафтан, подсел к столу,—Давай поедим. Эрви побежала в изи-кудо и прямо в дверях столкнулась с
Мамлеем.
— Приветствую тебя, Аказ!—Мамлей снял шапку, ударил ею по колену, выбивая мокреть.— Салам, Эрви, давно тебя не видел.
— Великий юмо! Тебя кто погнал сюда в такую непогодь?!
— Сейчас осень. Дождь все время идет, его не пересидишь. А у нас — беда.
— Что случилось?
— Тынаш воду мутит. Он и раньше с Пакманом в паре ходил, а теперь совсем распустился. Натравил своих людей на наших — драка большая была. Дороги чинить никто не ходит...
— Что Тынаш хочет?
— Кричит: «Нам сотника татарина не надо!» Чувашей из сотен отделили. Меня не слушается. Поедем туда.
— Я русских жду. Войска должны прийти.
— Что же делать?
— Погрейся, обсушись, найди Эшпая. Он где-то близко. Недавно у меня в доме был. Скажешь ему — пусть свои три сотни ведет в ваш край, пусть Тынашу прижмет язык. А ты своих татар и чувашей веди в илем Эшпая. Уживемся как-нибудь.
— Зачем сушиться. Все равно промокну. Пойду.
— Будь здоров.
Эрви внесла миску со щами, оглядела кудо.
— Мамлей ушел? Прогнал его?
т * *
Аказ ничего не ответил, подошел к окну. Капли дождя барабанили по тонкой и прозрачной пленке из бычьего пузыря, натянутой
« *+* т» *
на рамку окна. Эрви сходила за хлебом и за ложками, принесла соленых грибов, а муж все стоял у окна. Потом заговорил:
— Нелегкая дорога мне досталась, путь я себе выбрал тяжелый. И он только начался...
— Где ты сейчас?—спросила тихо Эрви.— Где твои мысли?
— А они идут ведь где-то? — не слушая Эрви, говорил Аказ.— В дождь, в стужу, усталые, голодные... До костей промокли, а все-таки идут.
— Куда идут? Кто?
— Русские полки. Дороги развезло... Постой... Около Нурум- бала мост разрушен. Совсем мы забыли про этот мост. Пойду, людей пошлю.
— Да ты поешь.
— Потом.
Хлопнула дверь кудо, и снова гнетущая тишина воцарилась вокруг. Эрви знала, что к этому злосчастному мосту сейчас пойдут люди, и муж тоже пойдет с ними, вернется ночью, а может, только завтра. И принялась убирать со стола...
Спустя час в кудо вбежал Янгин. Грубо спросил:
— Аказ дома?
— Мост ушел чинить.
— Какой мост?
— У Нурумбала.
— Не ври. Мы тот мост давно столкнули, гать сделали,— и выскочил на двор.
У Эрви молнией мелькнула мысль: муж ее обманывает. Для чего? Может, у него есть другая женщина, у которой он проводит ночи? Наверно, есть. Как она не подумала об этом до сих пор? И Эрви представила мужа в объятиях другой женщины, и в груди у нее полыхнул огонь, опалил сердце жгучей ревностью. Дотемна она ходила от окна к окну, выходила на улицу, ждала Аказа. Но муж не возвращался.
Потом села на лежанку, заплакала. «У кого бы спросить?» — подумала она, но было стыдно с кем-нибудь говорить об этом, да и не было человека, кто бы смог быть с ней искренним. Женщины илема чуждались Эрви. Они не знали, как Эрви жила в Казани, и верили многим плохим слухам о ней.
Эрви увидела на стене гусли, сняла их, положила на колени и, медленно перебирая струны, заговорила:
— Вы, гусли, как живые. Вы все умеете. Можете заставить человека плакать, радостно смеяться. А можете ли вы сказать, куда девалась любовь? Может, вы разлучницу знаете? Кто она — сказать можете? И где она? Молчите, гусли? Значит, разлучница есть. Она и вас приворожила?—Эрви бросила гусли на лежанку, отошла к окну,—Нет, вы не скроете правды! Мне юмо скажет.—
Эрви встала перед окном на колени, заговорила:—Согласия семьи богиня, Серлаге кечава! Смягчи сердце мужа, верни его мне. И ты, великий юмо, услышь мою мольбу!
Никто не ответил Эрви. Шумел в оголенных кронах берез ветер, стучали в окно дробные капли дождя, стекали на раму, как слезы, медленно и непрестанно.
Потом вернулся Аказ. Снимая намокшую одежду сказал зло:
— Янгину завтра дам по шее. Гать сделал — никому не сказал. Зря людей гоняли, зря мокли. Давай твою вышитую рубашку. Эта совсем сырая.
Эрви торопливо подала мужу рубаху, зажгла лучину. Тяжесть с души спала, как камень.
Ночь осенняя, темная, длинная. Такую ночь скоротать, ой, тяжело. И дел переделать много можно, и песню спеть, и выспаться.
Аказ осенние ночи не любит. В них для тоски простору много. Летом ночь, как у воробья хвост: не успеешь лечь — уже рассвет. День заботами полон —тосковать некогда.
А осенью... Осенью по ночам болит у Аказа сердце, думы в голове одна беспокойнее другой. За окнами гудит осенний ветер, грозно шумит лес. Всю неделю шли дожди — Нужа поднялась и затопила берега. В лесу земля разбухла от сырости — ни пройти, ни проехать. Около светильника сидит Эрви, вышивает полотенце. Лучина ярко вспыхивает, пламя колеблется, и оттого на стенах тени выгибаются, будто пляшут. Аказ засмотрелся на огонь, опустил руку на лавку и задумался. Теперь весь край и все люди свои судьбы ему, Аказу, вручили. Кто его народ от богачей и разбойников защитит? Он, Аказ. При дележе мест для охоты и для вырубов кто за справедливостью следит? Аказ. Да мало ли других забот у Аказа! А помочь некому.
Ковяж болеет, рана заживает медленно. Янгнн молод, неопытен. Друзей тоже рядом нет. Топейка день и ночь мотается по дорогам — готовит путь для русских ратей. У Мамлея тоже дел не меньше.
Вот и Эрви вернулась. Она дел свияжских не знает, заботы мужа для нее не понятны — думает, что Аказ на нее в обиде, потому и уехал. Замкнулась в себе Эрви, по ночам тихо плачет, днем поговорить люди не дают. Они ведь не знают, что в доме Аказа происходит, они идут к нему с неотложными делами, советов просят, помощи требуют, зовут то сюда, то туда.
Любовь не прошла, нет, но годы молодые ушли, наверно, в этом все дело. Да и как разлюбишь такую, если она через все эти страшные годы верность свою пронесла. Брачной ночи у них не было—Эрви девичества своего не утратила, красоту и чистоту сохранила. Но, видно, отвыкли друг от друга, да времени для нежностей не хватает, заботы переполнили Аказа. И Санька почему-то не едет, хотя и обещал. Наверно, и у него дел невпроворот— поручено ему пушечное зелье в Свияжске накапливать, склады строить. Вспомнив Саньку, Аказ вспомнил и Ирину. Может, она виной тому, что не находит он для Эрви времени? Нет, пожалуй, не она. Для Аказа что Санька, что она — одинаково дороги. Если бы к Ирине любовь была — он бы больше о ней думал...
— О чем думаешь, Аказ?
От неожиданного вопроса Аказ вздрогнул.
— Думать есть о чем. Дел немало у меня впереди.
— Ты неправду сказал... Я ведь вижу. Ты вспоминаешь что-то?
— И вспоминать мне тоже есть о чем,— грустно произнес в ответ Аказ.
Эрви улыбнулась, подошла к мужу, села рядом, приникла к его плечу.
— Ты помнишь тот день, когда я пришла впервые в твое кудо? Была веселая свадьба, и ты пел мне хорошую песню. Сколько лет прошло с тех пор, она все время в моих ушах. Тогда у тебя находились ласковые слова. Сейчас ты совсем другой стал — гусли покрылись пылью, а сердце, видно, мхом обросло. Ты не можешь простить мне Казани. Моя ли вина в том?
Жалость проснулась в Аказе от ее таких слов. Он нежно обнял Эрви левой рукой, правой погладил причесанные волосы.
Эрви проворно сняла гусли со стены, положила на колени мужу. Аказ не спеша настроил их, коснулся струн легким движением пальцев, заиграл.
Знакомая, много раз игранная мелодия на этот раз не лилась из-под пальцев плавно, как речка, а выплескивалась с неприятным шумом, струны звенели совсем не так, как раньше. Аказ недовольно морщился, голова его склонялась все ниже и ниже к инструменту, казалось, сейчас он бросит играть. Но наступил какой-то миг, Аказ овладел мелодией и стал вспоминать слова свадебной песни.
У Аказа была хорошая память, но странно, он никак не мог вспомнить те слова. Аказ понял: песню ту не вернуть. Теперь сердце подсказывало другие слова, и Аказ тихо запел:
Весною лучистою Тают снега...
Я думал:
И горе растает,
Но дни пролетели.
Но ночи прошли.
А горе все прибавляется.
Печально звенели струны, голос певца дрожал, и много невысказанной тоски было в этом голосе.
А жаркое лето Когда пришло,
Я думал:
Исчезнут печали,
Но дни пролетели,
Но ночи прошли —
А горе все прибавляется.
Подумал я осенью,
Сняв урожай:
Зимою заботы забуду.
Но дни пролетели.
Но ночи прошли —
В кудрях зима пробивается.
И захлестнула сердце тоска, медленно затихли, будто умирая, звуки мелодии, даже ветер за окном перестал выть. Тихо стало в кудо.
— Это не та песня, Аку,— с горечью в голосе сказала Эрви,— совсем не та. Тогда гусли радовались и смеялись—теперь они стонут и плачут. Отчего это? Может быть, это не твои гусли?
— Да, гусли совсем плохо играть стали. Как будто не мои,— согласился Аказ.
Эрви забыла сменить лучину, и та, обуглившись, пустила вверх струйку дыма, потухла. В кудо стало темно. Долго молчали в темноте муж и жена, каждый думая о своем...
На рассвете Аказ ушел в лес. Эрви проводила его без упреков. Вечером они много говорили, муж был ласков с ней и внимателен. В душу Эрви пришел покой. Чтобы не томиться в кудо, она пошла под навес, где бабы мяли коноплю. Оделась в старый кафтан, наглухо повязала платок и принялась работать вместе с бабами. Сначала работницы молчали, но потом разговорились, начали шутить, петь песни. «Какая я дура была, что сидела дома»,—подумала Эрви. Разговоры были разные: о скором приходе русских, о предстоящей войне и, конечно, о мужьях, женихах и невестах. Когда заговорили об Аказе, Эрви в шутку сказала, что муж дома бывает мало, наверно, завел на стороне молодую. Все рассмеялись, одна из пожилых женщин сказала строго:
— Он и без тебя на чужих баб не смотрел, а теперь ему до того ли.
И Эрви стало еше легче.
В полдень, когда все работники ушли на обед и двор опустел, Эрви принялась готовить пищу. Разожгла очаг, повесила котел, засыпала крупу, бросила кусок сала. Взяла ведро, решила сходить за водой к роднику. Не успела спуститься по склону, увидела двух всадников. Они подъехали ко двору, спешились, привязали лошадей к коновязи. Один — пожилой, другой — помоложе.
Вот путники почти у ворот и Эрви видны хорошо. Парень не только красив, но и очень строен. Однако есть что-то очень странное в его походке, движениях. Не доходя до ворот, путники остановились и зашли в кусты орешника. Эрви поняла, что они хотят тут укрыться, и верно: со стороны ворот их теперь не видно никому. Но Эрви их видит хорошо.
Пожилой путник, оглянувшись по сторонам, перекрестился. Сомнений не было: это русские. Молодой поправил пояс, потом очень уж привычным для Эрви жестом завел руки за шею, вытащил оттуда какой-то предмет, зажал его в зубах. Потом тряхнул головой... и из-под шапки показались две толстые косы. «Это баба!»— подумала Эрви и радостно рассмеялась. А спутница между тем быстро и проворно переплела косы, плотно уложила их на голове и снова прикрыла шапкой. Эрви захотелось, чтобы они вошли. Аказ все время говорил, что русские хорошие люди, сейчас она посмотрит, верно ли он говорил.
Эрви быстро вернулась и сама открыла ворота путникам.
К ее немалому удивлению, пожилой сам заговорил с ней по- черемисски:
— Мир дому твоему.
— Входи с добром.
— Аказ дома ли?
— Скоро придет,— ответила Эрви.— В кудо идите, вместе ждать хозяина будем,— и, посмотрев на молодого, лукаво повела глазами, рассмеялась.
— Издалека ли? — спросила Эрви, когда гости уселись на лавку у о.кна.
— Из Свияжска.
— Снимайте кафтаны, отдыхайте, а я пойду еду приготовлю. Наверно, голодны?
— Спасибо,— ответил пожилой, снимая кафтан.
— А друг твой, видно, язык съел? — спросила Эрвл и опять рассмеялась.
— Молод, несмел еще.
— Шапку сними, несмелый! — Эрви расхохоталась.
— Ему шапку снимать нельзя — голова болит.
Вначале Эрви обиделась на их ложь, но потом подумала, что, видно, не ради зла скрывают они косы, и сказала тихо:
— В нашем доме пусть у вас голова не болит. Вы еще по берегу Нужи шли, а я уже знала, что у нее косы под шапкой. Мужика можно обмануть, а бабу разве обманешь? Твоя дочь, наверно?
— Сестра,— ответил удивленно путник.— В пути лихоимцев много, вот и...
Эрви кивнула головой и вышла.
— Кто это? — тревожно спросила Ирина.
— Прислуга, поди. Аказ, если по-нашему, почти что князь. А в доме без бабы князю не обойтись.
Эрви вошла, поставила на стол миску дымящей каши, кринку с молоком, сказала:
— Ешьте мало-мало. Мы тут коноплю толчем, я схожу, скажу, что у нас гости. Скоро приду.
Ирина сначала не поверила Саньке, теперь успокоилась, и они принялись за кашу. Эрви долго не возвращалась, и Санька, насытившись, решил сходить в илем, чтобы встретить кого-то из знакомых и разузнать, где Аказ и скоро ли он будет дома.
Ирина села на лавку, задремала. Очнулась, когда Эрви уже убрала миску с остатками каши и расставляла на столе моченую бруснику, грибы и соты с медом.
— Брат твой один боится ездить? Зачем тебя в такую даль тащил? — спросила Эрви.
— Что ты! Я сама упросила. Уж очень мне хотелось здесь побывать.
— Что здесь хорошего? Лес да чужие люди...
— Аказ нам не чужой. Он меня от смерти спас, а Саню от плахи. В Москве мы были...
— В Свияжск, к тебе, он ездил часто?
— Он ездил не ко мне, а к Сане. Дела были.
— Аказ хороший человек. Его полюбить можно.— Это Эрви сказала с таким участием, что Ирина не поняла женской хитрости и простодушно ответила:
— Когда он радом — я счастлива.
— Наверно, любишь?
— Сама не знаю.
— А он?
— Любил — сказал бы. А он молчит.
— Ты знаешь, что он женат.
— Этого он не скрывал и не скрывает. Да и какая она ему жена. Уехала в Казань давно...
— Ее насильно увезли.
— Силой можно увезти, но жить много лет...
— В плену она Аказу верна была.
— Кто этому поверит. Люди говорят...
— Муж верит. Я все ему сказала.
Ирина резко поднялась, испуганно шагнула к двери.
— Да, я! Теперь мы снова вместе.
— Зачем ты так со мной? Обманом выведала... И ему, наверно, так же лжешь?
— Об этом не тебе судить,— сурово ответила Эрви.— Зачем бежишь? Приехала его увидеть... Садись — поговорим.
— Жестокая ты,— оказала Ирина, помолчав.— Аказ о тебе другое рассказывал.
— Он тебя в жены взять хотел?
— Если бы хотел, давно взял бы.
— Зачем же ты приехала? Надеялась все-таки? Знаю, надеялась. Я сама баба — я все понимаю. Если любишь, всю жизнь надеяться будешь. Вот ты сказала: жестокая я. Поживешь среди злых людей, сколько я жила, будешь и ты жестокой.
— Во Свияжоке люди тоже на волков схожи. Саня все время в разъездах — надоело взаперти сидеть.
От последних слов Эрви вся сжалась, по спине пробежал холодок— она вспомнила Казань. И поняла, как тяжело Ирине. И зло, поднявшееся сначала на девушку, вдруг ушло, сменилось острой жалостью.
— Ты, наверно, здесь хотела остаться? — тихо спросила она.
— Мне бы землянку тихую, работу добрую — боле и не надо ничего. Аказ сестрой меня назвал, ты не думай...
— Забудь обо всем, что здесь сказано. Одно помни: Аказ—мой муж. А я зла держать на тебя не буду. Живи.
На дворе все было по-старому. Так же, как и утром, девушки мяли в ступах коноплю и пели песни. Под крышей старого кудо вился сизый дымок, сладко пахло жареным мясом. Аказ прошел в клеть, бросил крошни, развесил шкурки лисиц и белок для сушки и не спеша вышел из клети. На дворе ждал его Санька. Обнялись. Аказ спросил:
— А где Ирина?
— В доме.
— Пойдем скорее. Я рад вашему приезду.
Ирина в избе была одна. Увидев ее, Аказ пошел ей навстречу, но она, вскочив с лавки, пробежала мимо, скрылась за дверью.
— Что это с ней стряслось? — сказал Санька удивленно.— Дорогой была весела, трещала как сорока...
— Наверно, с Эрви встретилась.
— С какой Эрви?!
— С женой. Она возвратилась...
— Зачем ты душу ей осветил, Аказушка? — после длительного молчания сказал Санька.— Ведь ты знал: жена вернуться может.
— Всю жизнь я ищу для людей счастья, всю жизнь хочу им добра. Но скажи: почему ни радости, ни счастья мне самому не досталось?
— Судьба твоя такая.
— Поэтому меня не вини. Не забывай: я народом правлю. И все знают: я обычаев народа ни разу не нарушил. Никто не скажет: «Наш лужавуй поступил несправедливо». Эрви прошла со мной сквозь свадебный костер. Об этом все знают.
— О том, как жила в Казани, знают?
— Об этом знаю я.
— А где Ирина? Не наложила б руки на себя. Пойду, поищу.
— И я с тобой.
На дворе потеплело. День распогодился, рассеялисъ облака, вышло солнышко. Ирину нашли за сараями, она стояла у поленницы дров и плакала. Аказ обнял ее, вывел во двор, усадил на скамью около дощатого стола, устроенного для обедов на воздухе. Сам ушел в кудо, где хлопотала Эрви.
— Гостей видел?—спросила жена.
— Видел...
— Я знаю. Тебе тяжело. Но мне не легче.
— Перенеси еду во двор. В доме душно. Пиво достань.
Расставив угощения, Эрви пошла в старое кудо за пивом. На
улице светило солнце, а в кудо было темно. Костер под очагом уже потух. Эрви подошла к окну и долго глядела через него во двор. Муж был весел, все трое часто смеялись. Аказ обращался к Ирине по-русски, и Эрви никак не могла понять, о чем они говорили. И оттого ей было невыносимо больно. Раза два она ходила в кудо за пивом и все время следила за Ириной. Ей нравилась эта женщина, но в то же время она боялась ее.
— Эрви, принеси мне гусли. Играть хочу,— сказал захмелевший Аказ.
Эрви принесла гусли и снова ушла в кудо.
«Песни петь захотел. К худу ли, к добру ли?—она вздохнула и задумалась.— Сколько лет прошло с тех пор, как Аказ был в Москве? — Эрви подсчитала, и вышло, что Ирине было тогда не более пятнадцати,—Девчонка! Нет, не о ней думал Аказ все это время»,— решила Эрви и улыбнулась...
А на дворе весело звучали гусли. Мелодия чистая, прозрачная— словно ручеек звенел под небом. Аказ начал петь:
Не забуду я сиянье Глаз твоих —
Двух ярких звезд.
Светит мне и ночкой темной Нежный цвет твоих волос.
У Аказа что на сердце, то и на гуслях. Это Эрви знала и тревожно прислушивалась к песне.
Не забуду стан твой стройный,
Голубой платок с каймой,
И во сне глубоком слышу Где-то рядом голос твой.
Сколько лет, завороженный,
На распутье я стою...
Где искать тебя, такую,
Ненаглядную мою?
Еще не окончилась песня, а лицо Эрви уже пылало. Она все поняла. Здая ревность снова зашевелилась в груди. «Вчера я думала: это не его гусли. Ошиблась я. Это гусли Аказа. Сразу хорошо играть стали. Теперь я знаю, к кому лежит его душа»...
И пошли дни сердечных терзаний, бессонные ночи, жгучая ревность в груди, думы, думы — без конца.
Мужчины договорились оставить Ирину в илеме. Жить определили у вдовы. Муж ее, Айдар, умер давно, сын в войске Аказа. Старушка с радостью приняла Ирину в свой дом. Эрви возразить не смела—она привыкла в Казани слушаться мужчин. Однако бороться за свое счастье решила ожесточенно — не напрасно она прошла через многие муки, чтобы так просто отдать любовь. Если Аказа не было дома, за жилищем Айдарихи следили нанятые девки. Но муж туда не заходил, он по-прежнему мотался между илемами, а всю последнюю неделю жил в Свияжске. Если Ирина выходила за околицу или в лес, Эрви узнавала об этом сразу.
Ирина тоже тоскует. Каждое утро просыпается до свету, открывает окно и встречает зарю. Каждое утро ждет брата. А может быть, еще кого? Брат уехал в Свияжск и в Нуженал не кажет глаз. И Аказ тоже не бывал в Нуженале. Тут теперь хозяином Янгин. Наказали ему заботиться об Ирине и Эрви, он и заботится. Еды, дров у Ирины вдоволь. Вот только одежды русской нет, но Ирина совсем привыкла к марийским платьям. К Эрви в дом ходит редко, неласково встречает ее жена Аказа.
Вот и сегодня, погоревав у окна, Ирина вышла в лес за травами. Еще во скиту, а потом в Чкаруэме научилась она разбираться в травах и знала, от какой болезни какая трава помогает. К Ирине часто заходят люди, лечит она их когда настоем из трав, а когда и ласковым умным словом.
Любят Ирину в Нуженале. Совсем позабыли, что русская, за свою считают, по-черемисски Орина зовут.
Утренняя заря вышла на небо и задернула своим розовым пологом бледные звезды. Потом взошло багровое солнце, предвещая погожий день. Становилось теплей, высохла роса. От земли шел горьковатый запах полыни и еще каких-то неведомых Ирине лесных трав.
Собирает Ирина травы, вспоминает Аказа. Даже сама не знает, кого она ждет больше — его или Саню? Знает, что чужой жены муж, а все равно ждет. Для чего ждет? Да разве сердце спрашивает, когда любить? Просто трудно без этого человека жить — и все.
Вдруг навстречу бежит Айвикт — девушка с Аказова двора. Она чуть не каждый день прибегает к Ирине — новости приносит, скучать одной не дает. Подбежала и выпалила:
— Ой, И'ри, беда у нас! Говорят, Аказ сильно ранен.
— Как ранен?!
— Татарин копьем грудь ему проткнул.
Ирина бросила охапку трав на руки девушке и бросилась бежать в сторону дома Аказа.
Эрви она застала на дворе. Та сидела меж двух молодых березок на скамейке и играла на гуслях.
— Ты знаешь, Эрви, говорят, Аказ ранен!
— Знаю,— спокойно ответила Эрви.
— Как ты можешь?! Он, может, умирает... а ты. Ведь он муж!
— Мой муж, а не твой. Тебе какое дело?
— Так это для всех горе!
— Он патыр, не старуха. Ему к ранам не привыкать. Ты о своем брате заботься, а об Аказе есть кому без тебя думать,— Эрви исподлобья взглянула на Ирину и, поднявшись, пошла в дом.
Ирина настолько была взволнована и испугана, что не заметила неприязни Эрви. Отыскав Янгина, она попросила немедленно дать коня, чтобы ехать в Свияжск.
Кончились перелески, дорога нырнула в дремучий лес. Со страхом направила Ирина коня под своды сосен и елей. На нее дохнуло сырой прохладой, конь с рыси перешел на шаг. Вдруг сзади раздался топот. Ирина оглянулась и увидела Эрви. Она скакала на вороном жеребце, расстегнутый белый кафтан крылом метался за ее спиной. Только сейчас Ирина поняла, какую ошибку она совершила.
— Далеко ли побежала, соседка? — спросила Эрви, выравняв своего коня с лошадью Ирины.
— К Сане, во Свияжск,— ответила Ирина, не глядя на Эрви.
— Врешь. До Свияги более ста верст — ты это знаешь?
— Я думала...
— Я знаю, что ты думала. Поворачивай назад!
Ирина покорно потянула повод коня влево. Резко осадив жеребца, повернула обратно и Эрви.
Долго ехали молча.
— Больно худо может случиться, если еще раз в Свияжск поедешь,— сурово произнесла Эрви.— Знай; у нас женщины из-за мужей не ссорятся, лицо друг другу не царапают, волосы не вырывают. У нас каждая женщина нож имеет, лук и стрелы имеет, и если в дальнюю дорогу ездит, все это с собой берет. Запомни.
Больше они до самого Нуженала не сказали ни слова.
ПЛАЧ СЮЮМБИКЕ
Кони вздрагивали от утренней прохлады.
Вокруг ночевки ходили сторожевые, поеживались. Ночь вроде бы еще летняя, но сырая, с холодком.
Люди спят. Костры погашены. Только из шатра сквозь полотнища пробивается неяркий свет.
В шатре двое: Алим, сын Кучаков, да Пакман.
— Мы с тобой люди одной судьбы,— говорит Алим.— Оба
несправедливо обижены, оба правды ищем, и благодарение аллаху, что мы встретились.
— Сердце мое ожесточено!—воскликнул Пакман.— Злость во мне кипит, как смола в котле. Тугаевы сыновья за то, что перед русским царем на носках стоят, ходят в мехах и бархате, коней имеют самых лучших, сабли в сафьяновых ножнах. Русские дали им власть, деньги, довольство, А я, верный слуга Казани, одни лишения да обиды терплю. Из родной земли убежать пришлось... Сколько лет я помогал твоему отцу, царице Сююмбике, а как пришла беда — разве кто-нибудь вспомнил обо мне, помог?
-— Беда не только к тебе пришла, друг мой. Мне тоже из Казани убежать пришлось, отец мой, говорят, в плену у Шигалея. Может, и в живых уже нет. И царице Сююмбике тоже нелегко— не зря гонца за мной послала, в Казань зовет. Завтра мы будем в городе, и я обещаю тебе: скоро жизнь твоя изменится. По секрету тебе скажу: был в Бахчисарае, руку Гирею целовал, нужду казанскую рассказывал. И обещал мне крымский хан накрепко: пошлет на Москву двести тысяч всадников. Ты подумай — двести тысяч! Русским не только в Свияжске, в Москве не удержаться! Снова возвеличится Казань, и снова засияет звезда Сююмбике. Обещаю тебе: будешь князем всей Горной стороны, царем в Свияжске сядешь. Братьев Тугаевых поймаю сам — тебе отдам, казни их, как хочешь.
— Аказа на кол посажу,— мрачно говорит Пакман. Но потом тревожно вытягивает шею, спрашивает Алима: — А вдруг Сююмбике меня над Горной землей поставить не захочет?
— Царица сделает то, что я захочу. Служи мне верно — и будет все, как тебе хочется.
Фитиль в плошке с жиром трещит и гаснет. Серый предрассветный мрак окутывает шатер.
— Поспим перед дорогой,— говорит Алим, растягиваясь на кошме.
Но разве уснуть, когда голова полна тщеславных замыслов!
В Казани тревожно. Над городом расправила черные крылья мрачная неизвестность.
Сююмбике мучительно ищет опору — опереться не на кого.
Нет вестей от Алима, нет вестей из Бахчисарая. Подмогу из Крыма пошлют ли?
Ногайские князья помогать Казани не хотят. На повеление царя царей, турецкого султана, ответили угрозой.
Знатные казанцы собрались сегодня на совет. С царицей говорить хотят. Сююмбике сидит на троне, вцепилась в подлокотники до синевы в ногтях. Подалась вперед, ждет, что эмиры и сеиты скажут.
— Мы у тебя спросить хотели, мудрая царица,— не спеша начал свою речь эмир Муралей,— как дальше ханству нашему жить? Москва снова грозит нам большой силой. Каким щитом загородишь ты, мудрейшая, наше государство?
— Разве в Казани не осталось смелых и храбрых воинов? — Сююмбике откинулась на спинку кресла, напряженное до сих пор лицо осветила легкая усмешка.—Неужели город наш, отбивший двенадцать походов Москвы, обеднел богатырями? Видно, сильно стреножил страх наших храбрых мужей, если они прибежали спрашивать у женщины, каким щитом она прикроет город. Скажите мне, мужественные эмиры, прятаться за подол бабы — мужское ли дело?
Муралей хорошо знал царицу. О, эта дикая степная оса умеет жалить так, что люди теряют разум. Спокойствие — вот единственный щит от ее ядовитых стрел. И Муралей спокойно отвечает:
— Когда покойный Сафа-Гирей сел впервые в это кресло, под стенами города стояло сто пятьдесят тысяч русских воинов. А Сафе-Гирею было всего семнадцать лет. Любой поседевший в боях воин испугался бы, а он — нет. Он не умел красиво говорить, он не оскорблял своих подданных, но Казань сумел спасти. Сидеть на троне, великая царица, это не только повелевать!
— Мы не пришли прятаться за твой подол,— крикнул Кудугул, ненавидевший Сююмбике,— мы пришли тебе сказать, что разные пришельцы, которые садились на этот трон, довели Казань до того, что нам теперь нечем противиться русскому царю. Они, эти пришельцы, больно много зла наделали нашему могучему соседу, чтобы ждать нам пощады. Ты говоришь — не обеднела ли Казань смелыми воинами? Нет, не обеднела. Но ты и твой муж Сафа посеяли среди нас рознь, разожгли раздоры, и мы скорее кинемся друг на друга, чем на русскую рать! Вот до чего довели вы город!
Сююмбике метнула на Кудугула злой взгляд, встала с трона и сказала:
— Я поняла вас, отважнейшие. Вы хотите, чтобы я ушла с этого места? Клянусь аллахом, оно мне не дорого, и смотрите — я покинула его. Кудугул! Иди сюда, садись, и если ты спасешь Казань, я первая поцелую пыль у ног твоего трона. Ну, что ты медлишь? Садись!
Кудугул и все эмиры не ожидали такого шага царицы. Даже хитрый и смелый мурза Энбарс. Но он сразу понял, что этот красивый взмах руки в сторону престола — хитрость царицы. И он решил напугать ее и посмотреть, что будет дальше.
В наступившей тишине гулко раздались шаги Энбарса. Он твердым шагом шел к трону, смело поднялся на ступеньки перед ним, и, когда до кресла остался только шаг, Сююмбике не выдержала и загородила трон.
— Ты, мурза Энбарс, недостоин трона,— испуганно и торопливо проговорила царица.— Только Кудугул.
— Ты зря испугалась, мудрейшая,— рассмеявшись, ответил Энбарс.—Я как раз сам это же хотел сказать. Не только я, но и все мы недостойны трона, и уж коль тебе тяжело сидеть на нем, давайте посадим на него достойного.
— Кого же?
— Хана Шах-Али!
— Этого пожирателя объедков? — завизжала Сююмбике. Пусть я умру под мечом русского воина, но Шах-Али никогда не будет сидеть на этом месте!
— Подумай, прежде чем говорить такие слова,— сказал Кудугул.— Только хан Шах-Али спасет нас от войны с Москвой. Если он будет в Казани, царь Иван не пойдет на нас.
— Но зато мы попадем в поданные Москвы! — подал голос святейший сеит.
— И выиграем время,— так же спокойно, как и прежде, заметил Муралей.
— Нет-нет! Если сюда придет Шах-Али, он погубит всех нас.
— Но ты, благословеннейшая, будешь нам защитой. Мы попросим русского государя, чтобы он повелел Шах-Али взять тебя в жены.
— Но... трон принадлежит не мне — моему сыну! Хан Утя- мыш-Гирей...
— Пусть пока учится править и повелевать. Его время придет.
До согласия царицы оставалось немного. Это случилось бы
совсем скоро, если б не появились два новых человека. Алим и Пакман вошли в зал незаметно и слушали, как эмиры и мурзы уговаривали царицу и святейшего сеита. И когда Сююмбике готова была сказать: «Да, я согласна», Алим подошел к трону и громко произнес:
— Аллах велик, милостив и правдив. Он не оставил Казань в беде. Хан Давлет-Гирей шлет тебе, великая царица, часть своего сердца. Он сказал мне: «Передай звезде души моей слова привета. Скажи ей, пусть она не боится царя Ивана и смело ждет его рать. Как только войско русских выступит на Казань, я пошлю на Москву двести тысяч всадников, возьму город и потом догоню царя Ивана и разобью его рать. Царствование Утямыш-Гирея, моего племянника, над Казанью будет вечно». И еще был я у твоего отца, благословенная Сююмбике. Он обещал послать три тысячи лучших воинов. И еще встретил я нашего друга черемисского патыра Пакмана. Он обещает поднять весь
Горный край и рассеять русских в пути. Клянись в этом, Пакман!
— Клянусь, великая царица!
Сююмбике поднялась над троном, величие снова вернулось к ней, и она твердо произнесла свои любимые слова:
— Казань никому не будет подвластной! — и, ласково взглянув на Алима, добавила: — Совет окончен.
Через два дня к Шигалею в Свияжск прискакали послы Казани с мурзой Энбарсом во главе. В сумке везли челобитную русскому царю. В ней было сказано:
«Царю, государю всея Руси, великому князю Ивану Васильевичу, Кудугул-улан в головах, да Муралей-князь и вся земля Казанская, и моллы, и сеиты, и шахи, и шахзады, и молзады, и офазы, и князи, и уланы, и мурзы, и ички, дворовые и задворные казаки, и чуваша, и черемисы, и мордва, и можары, и тарханы, и весь край Казанский тебе челом бьют, чтобы ты пожаловал, гнев свой отдал, а дал бы нам Шигалея царя на царство, а Утямыш-Гирея бы царя с матерью взял себе, а полону бы русскому волю дать, а нас бы, государь, пожаловал, не имал и крымцев, и остальных, и жены их, и дети их тоже бы пожаловал — о том челом бьем».
Шигалей прочитал грамоту и пропустил послов дальше, в Москву.
Иван Васильевич, прочитав грамоту, сказал:
— Нрав сей Сумбеки мне давно ведом. Блудница и злодейка. Задушить ее вместе с волчонком — и вся недолга.
— Позволь слово молвить, государь?
— Говори, Адашев.—Царь советы Адашева выслушивал всегда.
— Сумбека, государь, не блудница.
— Выходит, я лгу?! —глаза царя потемнели злобно.
— Не ты, а другие лгут. Любая женщина у трона подобной славы избежать не может, тем паче красивая. Вспомни матушку свою, царство ей небесное, сколько небылишных словес про нее говорено, и все зря. А Сумбека зело умна, и казанцы ее чтут высоко. И ежели мы ее погубим, нашему делу вред большой принесем
— По-твоему, оставить ее в Казани?
— Боже упаси. Она не токмо умна, но и властолюбива, хитра. Такую смуту в Казани заварит — не приведи бог. Ее надобно, государь мой, держать тебе около себя. Привези ее в Москву с почетом. Казанцев не озлобишь и хану Шигалею правление облегчишь
На том и порешили.
Для Сююмбике настали радостные дни. Снова смеется она, снова песни ногайские поет, пляски смотрит. Алима из своих покоев ни на шаг не отпускает. Натосковалась без любимого — насладиться не может.
Им надо бы джигитов мурзы Кучака, разбросанных по ханству, собрать, за казанцами б следить, да разве до этого влюбленным! Сына своего, Утямыша, и то забыла великая царица. Как унесли к мамке, так и не появлялся юный хан во дворце. Иногда закрадется в душу царицы тревога, но вспомнит, что вот-вот три тысячи воинов отца будут тут — успокоится.
Ночь сменяет день, день сменяет ночь. Луна сменяет солнце, солнце — луну. У царицы объятия сменяются песнями, песни — объятиями; время бежит незаметно.
Только за любовь всегда расплачиваться надо. Настал такой час и для Сююмбике. Вечером вошел к ней князь Муралей без спроса, без стука и как всегда спокойно сказал:
— Отныне Утямыш-Гирей не хан. Вся казанская земля Ивану поклон отдала. Отныне ханом в Казани будет Шах-Али. Утром готова будь — поедешь в Свияжск к хану,— сказал и вышел.
Царица кинулась искать Алима. Только он один защитит ее!
Алима еще раньше поймали, привели к Кудугулу.
— Блуд грязный творишь на ложе великих ханов! — зло крикнул Кудугул.— С ногайской сукой Казань позорите! Сейчас же вон из города! Я не хочу марать руки о тебя, презреннейший из презренных. Беги к ногайцам — только там ты можешь спасти свою вонючую шкуру. Если ты появишься в Крыму, хану станет известно, кто убил Сафу-Гирея. Ну а к Шигалею ты сам не пойдешь, убийца его брата.
Напрасно ищет Алима Сююмбике. Нет его в Казани. Ускакал он вместе с Пакманом на Луговую сторону во владения мурзы Япанчи.
К утру царица была готова в путь. Все свое золото и драгоценности зарыла в тайном месте: верила, что придет еще ее время —и снова взойдет ее звезда на небосклоне Казани. Она будет покорной женой Шах-Али до тех пор, пока не придут ее верные ногайские воины. А тогда...
И снова без зова и стука вошли в покои царицы Энбарс, Кудугул да Алимерден Азей. И сказал Кудугул:
— Выслушай русского воеводу. Царь Иван к тебе его послал.
В покои вошел князь Петр Семенович Серебряный, снял шапку, поклонился царице слегка и начал говорить, передавать то, что царь в письме написал.
— Что он говорит? — спросила Сююмбике у Алимердена, знающего по-русски.
А тот и сам мало чего понял из витиеватой речи князя и сказал царице просто:
— Собирайся. В Москву к царю в плен поедешь!
И сразу потемнело в глазах у Сююмбике. Значит, не замужество с Шах-Али, а плен. Значит, всем надеждам конец. Она поднялась, чтобы бросить в лицо ее обидчикам гневные слова, но впервые силы оставили её, ноги подкосились, и если бы служанки не подхватили ее под руки, упала бы на ковер.
И, может быть, аллах воскресил в памяти Сююмбике недавно слышанные слова: «Выиграть время».
Да, надо смириться, надо любой ценой остаться в Казани и выждать время. Никто не знает, что случится завтра.
Сююмбике подняла опущенную голову, сказала тихо:
— Пусть будет на то воля аллаха и царя московского,— и зарыдала.
Вечером Сююмбике позвала воеводу. Она была бледна, одета в траур. Было ясно, что разговор с князем уже обдуман.
— Может, я не знаю русских обычаев, пусть князь меня простит за это, но во всех войнах в плен берут тех, кто воюет. За что же пленил меня, слабую, беззащитную женщину с малым дитятей, русский царь? Переведи ему это, Алимерден.
— Не надо,—по-татарски ответил князь.— Сколько Алимерден знает по-русски, столько я знаю по-вашему. Утром Алимерден тебе неправильно перевел. Я про плен слов не говорил. И государь мой не пленить тебя повелел, а жизнь твою спасти. Люди казанские на престол просили Шигалея, государь мой им сие пожаловал и велел хану в жены тебя взять. А Шигалей в жены взять тебя отказался. Помыслили мы: тебе от него жизни не будет. И повелел государь привезти тебя в Москву.
— Как рабу, как злодейку негодную?
— Нет, как царицу. Ты выйди на берег — посмотри. Три тысячи лучших мечников будут служить твоей почетной охраной, тысяча стрелков будет приветствовать огнем твое вступление ка царский струг. И Москва тебя встретит по-царски.
— Князь, верно, знает, что недавно умер мой муж, хан Сафа- Гирей. Каждое утро и вечер шариат велит мне ходить на его гробницу и плакать. Я еще сорок дней должна ходить.
— Я бы тебя, царица, и год ждал, но ведь я не один. Со мной рати четыре тысячи. Корму взято на десять дён. Если остатные тридцать дён рать мою кормить будешь — ходи на могилу по полному обычаю.
— Спасибо тебе, князь. Через десять дней я в твоей власти.
Святой сеит был неожиданно удивлен, когда в дворцовой
мечети около ханских надгробий появилась царица Сююмбике.
С тех пор, как похоронили Сафу-Гирея, она на могиле мужа не была, а сейчас, видно, покаяться хочет перед отъездом из Казани.
Оставив охрану за дверью мечети, царица тихим шагом прошла к надгробию, упала на него и запричитала громко и протяжно:
— О Сафа, царь мой возлюбленный! Посмотри на свою покинутую горлицу, в слезах на могилу твою упавшую. Ты любил меня больше всех жен прекраснейших, посмотри на свою царицу: она теперь пленница, раба несчастная, вместе с сыном твоим уведут ее в землю чужую, иноязычную.
Сеит подошел к царице, притронулся к ее плечу.
— О аллах, я думала ты совсем не придешь, святой сеит,— заметила Сююмбике.— Меня ни на шаг не оставляют русские, я ем и сплю с охраной, только здесь позволили мне быть одной.
— Что угодно тебе, царица?
— Найди Алима Кучакова, приведи сюда тайно...
— Побойся всевышнего! — воскликнул сеит.
— Не ради греха зову его я сюда, а спасения Казани ради.
— Алим далеко отсюда. Говори, что ему передать.
— Казань не должна погибнуть, святой сеит! Город многолюден и силен, и верно сказал Кудугул: рознь съедает его. Скажи Алиму, что в час великой опасности пусть он будет в Казани, объединит всех людей на ее защиту
— Аллах не может унять рознь казанцев, как же Алиму...
— Только одно может объединить людей города — страх. Если Казань падет, погибнешь и ты, святой сеит, пойми это. И потому вселяй в души правоверных страх перед жестокостью русских. Я из Москвы помогу вам. Пошлю человека, который расскажет о замыслах московского царя, Алима же...
— Сюда идут,— шепнул сеит и скрылся за гробницами.
Через пять дней Сююмбике снова позвала князя. Смиренно сказала:
— Пять дней, пять ночей я не пила и не ела. Одетая в черное, я лежала на могиле мужа, проливая горькие слезы, призывая к себе смерть. Мой Сафа отпустил меня, явившись сегодня ночью во сне. Я готова следовать за тобой, князь.
— Завтра поедем,— ответил Серебряный.
Там, где река Казанка подходит к Муралеевым воротам, стоит сотня лодок. На каждой — десяток стрельцов с пищалями. Посреди лодок возвышается царский струг. На струге, будто фонарик, высокий теремок, внутри теремка — ковры, кресло в серебре.
В полдень из дворца тихо выехала колымага. В ней сидела
царица Казани с маленьким ханом на коленях. Утямыш-Гирей ничего не понимал и радовался, глядя на блестящие доспехи князя, ехавшего сзади, на множество русских воинов, окружавших колымагу.
Царице позволили взять с собой тридцать ее прислужниц и всех ногайских танцовщиц. Они тесной кучкой жались к колымаге, испуганно поглядывая по сторонам.
Сююмбике, подъезжая к берегу, заполненному народом, встала, поклонилась сначала в одну, потом в другую сторону. Глаза ее опухли от слез.
Она попросила остановиться.
Стрельцы по знаку князя отошли в сторону, колымагу сразу обступила плотная толпа казанцев.
— Люди земли казанской! — Сююмбике передала сына служанке и начала говорить. Все думали — начнет царица с жалобы, но только зло услышали в ее голосе.— Горе ждет вас, кровавое горе. Трепещите, казанцы! Напрасно вы возноситесь своей гордостью — никогда больше не будет Казань величественной, навсегда уйдет от нее слава. Господами вы были доныне, тысячи иноземных рабов, пресмыкаясь, служили вам. Придет время, и вы, казанцы, рабами будете лежать у ног бывших слуг. Запомните мои слова, казанцы: никто вам не поможет, кроме вас самих. Запомните мои слова!..
Хорошо умела говорить мудрая Сююмбике.
— Милый мой город, город поверженный,— царица простерла руки к стоящему на горе дворцу и зарыдала,— плачь вместе со мною над своим унижением. Вспомни, город мой, минувшую славу свою, веселые праздники, вольную жизнь. У тебя были мужественные и мудрые ханы, богатство, слава и сила. Где все это? О город мой! —Плач царицы разносился по берегу,— Страшный удар ждет тебя! Отныне не радостью и весельем будешь наполнен ты, а слезами и стонами. Реки крови прольются на твоих улицах. О, горе тебе, град несчастный!
Князь Серебряный недовольно морщился, слушал царицу, но прерывать ее не решался.
— Дайте, о люди, мне птицу быстролетную, я пошлю ее в мои родные степи к моему отцу и матери, пусть она расскажет о страшном горе их дочери, пусть она поведает, как везут ее на поругание и позор к русскому царю...
Князь не вытерпел, махнул рукой — и колымага тронулась. Сююмбике, плача, выкрикивала еще что-то, но слова тонули в шуме колес и копыт.
На берегу царицу взяли под руки и, рыдающую, перевели на струг. Прошло полчаса, воины расселись по лодкам, раздался
пищальный залп, и Сююмбике в последний раз взглянула в сторону Казани.
Через две недели она была в Москве...
Сеит хорошо понял Сююмбике. Во всех мечетях города изо дня в день муллы молились о спасении Казани. В часы утренних и вечерних молитв святители говорили народу об ужасных смертях, которые принесут русские, если возьмут город.
Страх расползался из мечетей по узким улицам, переулкам и скоро заполнил не только Казань, но и все улусы, расположенные вокруг.
В город собирались все, кто боялся жестокости русских. Забыты рознь и распри. Страх сковывал казанцев в один могучий кулак.
И в это время появился в Казани ногайский царевич Эддин- Г ирей.
СЕДОЙ БАРС
Служивого зовут на войну.
Испокон веков сборы были просты и недолги. Брал служивый мешок с просом, несколько фунтов соленой свинины, соль, смешанную с перцем, лук с чесноком. За пояс затыкал топорик, за голенище — ложку, в кисет клал трут с огнивом, брал медную посудину, рогатину — и к походу готов.
Не было у рати кашеваров, общих кормов — каждый питался сам. Коль кончатся запасы — переходи на подножный корм. Потому и походы были недолги, на пустое брюхо много-то не навоюешь.
Сколь Андрюшка Булаев ни помнит — все походы приурочивались к осени. Не успеет рать прийти на место, ан, глядишь, зачинает примораживать. Городишко вражий в осаде попридержать бы лишний месяц, глядишь, и победа. Но у воинов корма кончились, скоро земля под снег ляжет, лошаденок кормить будет нечем. Да и какая зимой война? И топают рати назад не солоно хлебавши.
И в огненном деле тоже ладу долго не было. Пушки таскались за полками каждая сама по себе, пушкари обучались как попало, а иной раз и вовсе неучи попадались в наряд. А в бою, бывало, убьет пушкаря, заменить некем. И суют к пушчонке какого-то ратника, а он, бедный, ладу дать не может, только зелье даром, жжет. А от этого ратным делам урон.
Но пришла пора, и стал государь новые порядки заводить. Стал старых, опытных воинов выспрашивать, что в ратном дело годится, что не годится.
Повелел царь всех пушкарей, кузнецов, плотников и воротников свести вместе и тоже, как и стрельцов, учить огненному делу, чтобы у наряда свой воевода был и пушками кто не попади не командовал бы.
А пушек-то к тому времени царь прикопил немало — сто пятьдесят стенобитных долгих да полуторных было сорок штук, а пищалей так и не счесть.
Андрюшка Булаев около пушек так стрельбе наловчился, что сделали его головою над всем осадным нарядом и приемщиком всех пушек с литейных дворов.
А с нынешней весны в Москве Андрюшка не живет. Послал его царь с большим наказом: как можно тише и безгласнее увезти туда сотню пушек, прибрать их в хорошее место и построить склады, где зелье можно запасать.
Видно, по-серьезному задумал вести войну молодой государь. Только пороху одного в Свияжск привезли двести бочек. А в каждой бочке по три сотни фунтов.
В Свияжске встретил Андрейка старого дружка Аказа, с которым вместе Васильсурск рубили. Вспомнили прошлое. Разошлись поздно вечером.
А наутро примчался из Москвы гонец с тайным царским наказом: спешно быть в стольном граде пушкарю Андрею Булаеву, тысяцкому воеводе черемисского полка со своими воинами и также от чувашей быть в Москве Магмету Бузубову.
Подумал-подумал Аказ — кроме Ковяжа послать некого. А с ним послал Топейку, Саньку и Янгина.
Москва послов встретила, как и в первый раз, звоном колоколов, блеском церковных золоченых маковок, несмолкаемым шумом и суетой. На папертях храмов толкутся, как и раньше, нищие, калеки, слепцы с поводырями.
На посольском подворье снова встретил их Алексей Адашев. Он все так же был деловит, говорил мало. Сразу же сдал Топейку и всех простых послов дьяку Приказа, а Ковяжа, Магметку и Саньку отвел в сторону.
— Вам троим отдыхать не дам, не взыщите. Умойтесь, приберитесь— и к царю на совет.
— На какой совет?
— Поход на Казань начинаем. Государь о многом вас спросить хочет. Говорите подумавши.
Спустя час Адашев ввел Ковяжа, Саньку и Магметку в Грановитую палату. Совет еще не начался, царское кресло пустовало. Под сводами палаты раздавались приглушенные голоса. Бояре, воеводы, князья — все были в сборе. Расселись вдоль стен.
Адашев подвел послов в передний угол, показал на лавку.
Места на лавке было мало — дородные бояре сидели на ней, не стесняя себя. Сначала сели Ковяж и Магметка, а для Саньки места совсем не осталось.
— Садись, садись,— улыбнувшись, сказал Адашев.— Боярин Даниил Петрович, потеснись малость,— и отошел.
— Ну куда ты лезешь? Ну куда? — ворчал тучный боярин, сдвигая разбросанные колени.— Мелочь безродная, а туда же. Охо-хо, до чего дожили!
Вдруг гул сразу стих. В Святых сенях показался царь Иван. В палате все как один поднялись, поклонились царю. Санька глянул на царя и сразу заметил — Иван Васильевич сильно изменился. И времени вроде бы прошло немного с тех пор, как Санька видел его, а совсем другим стал царь. Сильно похудел, лицо осунулось, стало какое-то жесткое, неподвижное, глаза колючие, пронзительные. Длинный с горбинкой нос походил на орлиный клюв. Царь оглядел палату, сел в кресло. Шумно сели вслед за царем и бояре. Когда все утихло, Иван начал говорить:
— Собрал я всех вас: и тебя, брат мой Юрий, и тебя, брат Володимир, и вас, бояре, воеводы и советники, для великого решения. По совету отца нашего митрополита всея Руси и по вашему слову давно решено было — воевать Казань. Сколько терпели обид мы от нее — одному богу известно. Теперь эта пора прошла, приспело время наказать неверных агарян, гонителей веры христианской! Не о славе воинской, не о прибытках казне государевой помышляю я, токмо о защите народа православного думаю. Прямые злодеи и враги Христа — бога нашего — казанцы на всей окраине московской, которая к Казани глядит, льют кровь наших людей, в полон берут, земли грабежу предают. Клятвы дают за всяко просто и тут же их нарушают, правды не знают и знать не хотят. Посему дале терпеть вероломства казанского не можно. И удумали мы с владыкой в день святого Тихона выступить на Казань, дабы град сей покорить и сделать его христианским на веки веков. И на сие великое и многотрудное дело я совета вашего прошу. Кто у нас ноне старший по летам? Ты, Андрей Петрович? Говори, твое слово.
Почтенный Андрей Вельяминов поднялся не спеша, поглядел зачем-то на свои пухлые руки, осторожно начал:
— Все мы молим господа бога нашего об одолении неверных казанцев. Но великую войну державе вести — не шутка!—Боярин поднял перст над головой.— В поход трогаться не рано ли? Людишки наши к тому времени все в поле будут. А оторвем мы их от земли, глядишь, без хлеба, голодом уморим их. Дома-то и на пареной брюкве перебиться можно, а чем силу-рать кормить в далеком походе, ежели с собой не брать? Ежели не посеем да не соберем, то рать в походе мы не прокормим. И посему поход следует починать с осени. Вот и казанский мурза Чапкун то же говорит...
— У мурзы свой язык есть,— недовольно перебил царь Вельяминова.— Скажи, Чапкун, твой совет.
— Казань возьмить мужно только зимой,— ответил Чапкун, переминаясь с ноги на ногу.— Всю лето, всю осень вокруг Казани гирязь, балот, пока не замырзнет, войска не пройдет. Я всю сказал.
—Ты, боярин, что сказать хочешь? Говори.
— Хоть наш совет и тайный, государь,— молвил, вставая, воевода Иван Шереметьев,— одначе в таком деле шила в мешке не утаишь. Я чаю, в Крыму о нашем походе вскорости будет известно. И в тихое время как весна со двора, так татарин на двор, а коль узнают, что нашей рати в Москве нет—налетят немедля. А зимой крымцы на нашу землю не ходят. Я думаю то же: осенью на Казань надо идти. Способнее и безопаснее.
— Как вы, послы Горной стороны, думаете? — спросил Иван, в упор глядя на Ковяжа.
Ковяж встал, поправил пояс и, как советовал ему Санька, не торопясь, начал:
— Наши люди говорят: тот рыбак дурак, который рыбу ловит и пить домой ходит. Зачем ему пить домой ходить, если под ним целая река воды. И зачем, великий царь, твоему войску голода бояться, если перед Казанью целая земля с народом моим — твои друзья. Иди, государь, смело в наш край — людей твоих прокормим. Мы, марийцы, такой народ: если ты наш враг — мы тебя убьем, если ты наш друг — рубашку последнюю отдадим. Мы, как змея, изгибаться не умеем. Мы — прямые люди. И я говорю тебе: иди в поход в любое время, только не зимой. Зимой леса мертвые, земля худая — пропасть не долго, а летом и зверь в лесу мясо даст, и травы для лошадей сколь хочешь, и рыба в реке, и люди летом добрее.
— Позволь и мне, государь, слово молвить,— сказал Санька.
— Говори.
— Ведомо тебе, государь, что я всю черемисскую землю исходил вдоль и поперек, и болот и лесов там видимо-невидимо. Грязь и болота для войны не помеха. И мой совет — на Казань надо идти немедля, потому как время-то больно удобное — там неурядица сейчас. А ежели к зиме, то они успеют укрепиться.
— Пусть за болота у тебя, государь, душа не болит,— сказал Магмет Бузубов, вставая.— Наши люди где надо мосты сделают, гати насыплют. Мы сами впереди твоего войска пойдем — проведем по самым лучшим дорогам.
Грановитая палата загудела. Царь, посветлевший лицом, горящим взглядом оглядывал бояр. Все читали в его глазах укоризну.
— Позволь, государь!— рывком поднялся с места Воротынский.— По взгляду вижу — плохо думаешь о нас. Вот, думаешь, иноземцы, язычники в деле нашем о пользе державы больше радеют, чем бояре да воеводы. Сие не так. Вельяминов да Шереметьев— люди старые, они больше о земских делах заботятся, а о походе ты нас, воевод, спроси. Вестимо, надо сейчас войну начинать, потом будет поздно. И коль черемисские люди нам помогут, то и куда добро! Мой совет таков: идти в поход всему войску.
— А Москву без защиты оставить?— выкрикнул кто-то из бояр.
— Дозволь, государь, совет высказать. Многожды мы ходим на Казань и все по одному пути — через Владимир, Нижний Новгород на Васильсурск. А теперь надо иной путь выбрать—вести рати через Коломну, на Рязань и далее к Алатырю. Тогда более половины пути нашей рати будет во близости к тем дорогам, по которым крымцы на нас ходят. В случае чего можно быстро вернуться.
— Спасибо тебе, воевода, за мудрый совет.— Иван развернул свиток-карту, долго водил по ней пальцем. Бояре и воеводы притихли.
— Размыслили мы с воеводами сей поход вести двумя путями,— начал говорить Иван,— а князь Воротынский посоветовал еще и третий путь. Коль будем живы и здоровы, то июня 16 дня тронемся с богом. Главным воеводой ставлю брата моего Володимира, а в нашем царском полку воеводами станут Володимир Воротынский да Иван Шереметьев. В сторожевом полку воеводами быть Василию Серебряному да Семену Шереметьеву. Полку правой руки идти под воеводством Андрея Курбского да Петра Щенятьева. Большому полку даю в воеводы князя Мстиславского да Семена Воротынского. Левой руки полк пойдет с Дмитрием Плещеевым да князем Микулинским. Хан Шигалей поведет свой полк, а полки чувашский да черемисский, что пребывают сейчас на Свияге, свести в один полк и звать тот полк горным. А воеводы пусть там будут Акубей Тугаев да Магмет Бузубов.— Царь оглядел палату, разыскивая кого-то, потом спросил:
— Андрюшка Булаев здесь?
— Тута я, государь!
— Сколько лодок потребно для пушечного наряда?
— Триста больших да сотни полторы малых.
— Завтра же беги в Муром, и чтобы к нашему приходу на окском берегу сии лодки стояли бы.
— Будет сполнено, государь.
— Наряд большой, пушки стенобитные, зелье и все прочие припасы мы по воде пошлем. Тут уже тебе, князь Морозов, послужить придется. И клюшники мои с казной и со всеми припасами с тобой тоже пойдут. А мы, как бог часу даст, пойдем вторым путем через Владимир да Муром. А князь Курбский поведет полки третьим путем, через Колычев на Рязань и Мещеру. В Алатыре сойдемся, а там буде видно. Может, я неладно размыслил? Может, у бояр иные мысли есть?
В палате — молчание.
— По-доброму размыслил, государь,— за всех ответил Горба- тый-Шуйский.
Еще по дороге в Москву Сююмбике обдумала все. Алим Кучаков хоть и мил сердцу царицы, но это не тот конь, на котором можно снова въехать в Казань. Казанцы его ненавидят. Сейчас в подручные надо и смелого, и умного, и честолюбивого. Хорошо бы из московских доброхотов. И вышло, что мурза Чапкун — самый подходящий человек.
Как только в Москву приехала царица, сразу Чапкуну дала знать.
Через неделю очутился мурза в Казани, поговорил о чем-то с кулшериф-муллой, побывал у хана Эддин-Гирея, а на другой день на большом молении в мечети перед всем народом сказал:
— Простите меня, правоверные, за то, что служил я московскому царю. Видит аллах, больше нет сил моих обманывать свой народ. Недавно царь Иван позвал меня вместе со всеми на совет, и я своими ушами слышал, как на том совете собрались урусы погубить Казань. Жестокий и кровожадный царь — да покарает меня пророк, если я лгу — повелел воеводам истребить весь род: мужчин убить, молодых женщин взять в наложницы, а старух, стариков утопить в реке. Берегитесь, казанцы. Если жить хотите — все от старого до малого беритесь за мечи.
Если прежде слухам об истреблении верили и не верили, то теперь сомневаться было нельзя — о том, что Чапкун-мурза был на совете у царя, знали многие.
Стали ковать мечи, делать копья, готовить стрелы. Сплошным ополчением ощетинивалась Казань.
16 июня после молебна в Успенском соборе русская рать торжественно выступила из Москвы. Топейка с полусотней черемисов еще раньше ускакал вперед, чтобы поднять людей, устроить дороги, починить мосты.
Ковяж и с ним полторы сотни черемисских воинов присоединились к полку правой руки, Магмет Бузубов с таким же числом черемисов и чувашей прошел с ертаульным полком. Санька и Янгин остались в большом полку.
До Коломны войска должны были дойти все вместе, а там уж разойтись по трем дорогам. Но этому не суждено было сбыться.
Вот что узнали мы из Шигонькиных записей:
«...И пришла Государю весть на пути, пригонил из Путимля станичник Ивашко и сказал, что идут люди крымские во множестве к Украине государевой и уж Донец Северской перелезли. Государь, слава богу, не устрашился, а спокойненько повелел Большому полку остановиться под Колычевым, а Передовому под Ростиславлем, а Левой руке под Голутвином, и коли царь крымский придет, повелел делати с ним прямое дело.
Месяце июне 21 дня противу среды пригонил гонец с Тулы и сказывает, пришли крымцы к Туле и град обложили.
Государь тотчас посылает полк Правой руки да Ертаул-полк да Большой полк в Тулу, а сам повелел свой царский полк наготове держать. Вечером в четверток приволокли государю крымского языка, и говорит тот нехристь, что хан крымской Давлет-Гирей и с ним 30 тысяч воинов пошли на Русь, чтобы Москву и иные города пограбить и паче всего помеху казанскому походу учинить. Одначе Тулу взять хан не смог, а узнавши, что вся русская рать к Туле идет, в страхе побежал обратно.
Государь языку тому веры не дал. А в пятницу рано приехал от воевод сотник Глебов и сказал, что на реке Шиврони воеводы Щенятьев да Курбский хана догнали, людей его многих побили и многих живых поймали и полонили. Хан побежал и телеги свои пометал и вельблуды многие порезал и живых побросал.
Порадовавшись победе и поблагодарив бога, Государь повелел воеводам возвращаться в Коломну, а на Свиягу послал Федьку Черемисинова, дабы возвестить там своим воеводам о погублений крымцев и о своем шествии ко Казани».
В Коломне снова был совет. Воодушевленные победой над крымским ханом, войска, несмотря на усталость, готовы были продолжать путь на Казань.
Воеводы, проверив полки, доложили царю, что потери в бою малы, люди к походу готовы.
В понедельник 26 июня русская рать тремя путями двинулась на Казань.
Полк правой руки пошел по новому нехоженому пути. До Рязани шли совсем хорошо. В деревнях покупали хлеб, мясо, лук, толокно. Лошадей было совсем мало — все ратники шли пешком, и потому коней довольствовали подножным кормом.
Довольно благополучно добрались до Мещеры. А после Мещеры и началось. В первый же день чуть не погубили половину людей. Ертаульная сотня, шедшая впереди полка, встретила болото. Ратники покачались на зыбкой, будто ременной, затравине, не проваливались. Всей сотней прошли версты две с половиной.
Дальше бровка болота кончилась. Дали сигнал воєводам. Надо было идти постепенно, через промежутки, но об этом никто не подумал, и вся многотысячная громада людей ступила на зыбкую землю. На середине болота затравь вдруг разорвалась и на поверхность вырвалась коричневая жижа. Передние ратники сразу по шею ушли в болото. Другие, увидев опасность, ринулись назад. Но затравь, порвавшись в одном месте, стала расходиться всюду, и скоро почти половина людей погрузилась в болотную грязь.
Оставшиеся на сухом месте растерялись, толпились около болота, не зная, что предпринять.
Ковяж бросился к повозке, стоявшей невдалеке, и схватил моток веревки.
— Веревки тащи!—крикнул он и первым бросил конец веревки утопающим.
Скоро в болото полетело еще несколько мотков.
Ратники держались, помогая друг другу, ловили концы веревок и мало-помалу выбрались на сухое место.
Пришлось разбить стан и сушиться, а ертаульная сотня до самого вечера искала брод.
На другое утро снова наткнулись на болото и снова обходили его до самого вечера.
За неделю болота вымотали у ратников все силы. Сухари кончились у всех, и сочные ягели, которых на болотах росло много, были единственной пищей измученных людей. Что говорить о ратниках, если князья-воеводы и те хватили голода. Запасов-то не было никаких.
Воины проклинали болота и думали: вот выйдем на сухие места, начнутся деревни, и тогда, даст бог, будет легче. Об этом же думал и князь Курбский.
На десятый день пути рати вышли на сухое место. Заросшая лесная дорога шла в гору,— стало быть, болот больше не будет.
Люди вздохнули с облегчением. Около небольшого озерца полк отдохнул, ратники перемыли белье и всю одежду, а пополудни двинулись в путь. Князь рассчитывал к вечеру достичь какого-нибудь людного места, устроить там ночлег и запастись едой.
Рать шла, а людей все не встречалось. Уж сумерки упали на заросшую мелким кустарником дорогу, вот и ночь окутала лес, а жилья нет как нет.
Идут люди, еле переставляют ноги, но не останавливаются, у каждого теплится искорка надежды: а вдруг там, за поворотом, люди.
Около полуночи впереди блеснул огонек. С какой радостью бросились навстречу ему! Словно не было усталости, будто не мучил целую неделю голод.
Но растерянно молчали ертаульные ратники. Да и что они могли сказать, если нашли старую лесную зимовку, а в ней охотника-мордвина, который сам заблудился в лесу.
Воеводы велели полку остановиться. Собрали сотенных и тысяцких и приказали резать лошадей и кормить войско. Дальше обессиленные и голодные люди идти не могли.
Охотник-мордвин рассказал, что людей здесь нет до самой реки Суры, а до Суры еще без малого двести верст.
Утром от полковых лошадей остались одни кости. Воеводам- князьям пришлось тоже спешиться.
Андрей Курбский выстроил полк, сказал:
— Воины мои, братья мои милые! Тяжелый, страшный путь прошли мы, и еще трудней дорога предстоит. Не стану кривить душой — перед нами двести верст пути. А еды у нас нет ни крошки. Лошадей мы ноне съели, и боле есть нечего. А идти надо, ибо назад в эти страшные болота ходу нет. Всю ночь мы с воеводой Петром Михайловым думали — и нет у нас иного выхода, как позволить вам охоту из пищалей на птиц и зверя. За зелье истраченное как-нибудь ответим.
— Далеко от дороги не уходите,— добавил князь Щенятьев,— не дай бог, разбредетесь да заплутаетесь. Не забывайте, что под Свияжском государь нас ждет.
Подкрепившись кониной, ратники снова зашагали вперед. Полк растворился в лесах, вокруг гулко ухали выстрелы. Только ертаульная сотня двигалась, не рассыпаясь, по ней равнялись отошедшие в сторону ратники. Медленно, но упорно полк продвигался вперед.
От Свияжска до Алатыря дорога и неблизкая, и нелегкая. Семь больших речек надо перейти, а сколько ручьев лесных, так и не счесть. Поэтому, как только Топейка из Москвы приехал и сказал Аказу, что рать русская к Свияжску через Алатырь пойдет, сразу Аказ собрал весь свой полк и пошел дорогу устраивать, мосты чинить. Вышли помогать Аказу и женщины, и дети, и старики. Старики мосты устраивают, Аказовы воины бревна носят, дети хворостом ямы забрасывают, женщины обед мужчинам варят, на охоту ходят.
За неделю подошли к Алатырю, всю дорогу починили, мосты возвели.
Топейка всех людей уверил: не сегодня-завтра русские войска подойдут. Больно охота всем царя увидеть — решили черемисы пойти в илем старого Сарвая и там русским хорошую встречу сделать.
Вперед послали Топейку с полусотней воинов. Целый день ждали — нет от Топейки гонца.
Решил Аказ вести людей, не дожидаясь Топейкиного знака. Видно, пришел на место и песни поет. А поет — забывает про все.
Так оно и вышло. Пришли к илему Сарвая—Топейка местных парней ратному делу учит, сторожевых не послал.
— Мы будем тут сложа руки сидеть, а русские пройдут где-нибудь мимо!—ругал Топейку Аказ.— Когда в Москве был, тебе что сказали?
— Велели дороги чинить, мосты. Встречать на этом месте велели, потом дорогу указывать.
— А ты песни поешь?
— А что мне, плакать? Русская рать—это тебе не дюжина зайцев — мимо не проскочит. Придут — все леса затрещат, на двадцать верст кругом слышно будет.
— Эй-вай!— крикнул вдруг кто-то из парней.— Смотрите, чужие люди!
На противоположной стороне поляны, где были поставлены меты для стрельбы, появились два худых и оборванных человека. Они шли, поддерживая друг друга. Увидев людей, остановились, один упал на траву.
— Это русские!— крикнул Аказ и первый бросился им навстречу.
Подняв упавшего, спросил:
— Ты ранен?
— Голоден он,— тихо ответил второй.— Шесть дён маковой росинки во рту не было.
— Эй, женщины! Еду сюда,— приказал Аказ.
Пока бегали за едой, Аказ спросил:
— Откуда вы?
— Мы ратники князя Курбского.
— Где же остальные?
— В лесу. Разбрелись кто куда. Искать надо. Сарваева земля далеко ли?
— Вы уже тут. Вот хлеб держите, вот творог, мед. Ешьте.
Аказ позвал Топейку, приказал:
— Сейчас же пошли людей в лес во все стороны. Пусть русских собирают, ведут сюда. Найти всех, до одного. А вы, женщины, скорее котлы вешайте, горячую еду готовьте.
Сарвай подошел к Аказу, дотронулся до плеча, сказал:
— Скажи мне, что это за люди из лесу выходят? Я русскую речь не понимаю, но вижу, что у них беда. Голод, видать...
— Да.
— Может, и мне людей в илем послать, чтобы еды больше принесли? Но все равно на всех не хватит. Надо по всем илемам весть дать. Как людям в беде не помочь?
После полудня половина полка с князем Курбским во главе собралась около Сарваева илема. Вторую половину с воеводой Щенятьевым вел Ковяж и, видимо, вывел на Алатырь.
Аказовы воины, вышедшие встречать русских ратников, сразу же сумы свои открыли. Хоть и невелики с собой запасы имели, однако каждому еды понемногу дали. Ратники ели с жадностью. Даже сам князь, забыв о достоинстве, схватил поданную Топейкой лепешку. Топейке смешно. Он вспомнил, как Андрей Курбский ел на царском пиру: взяв крылышко лебедя, отводил мизинец в сторону и, почти не касаясь крылышка губами, откусывал мясо но малюсенькому кусочку. Сейчас князь, ухватившись обеими руками за коман мелна, скорее отрывал, чем откусывал, большие куски. С бороды его текло масло, на усах застряли крошки.
— Может, еще эгерче попробуешь?— предложил Топейка.
У воеводы полон рот — ответить не может. Взял эгерче, положил на колено.
А Топейка знай угощает:
— Ешь, князь, эгерче на сметане деланы. Может, тебе не нравится наш хлеб?
— Што ты, што ты!—машет руками князь.— Ты и сам, верно, не знаешь, насколько сладок ваш хлеб! Пожалуй, драгоценных калачей лучше будет! Как ты сказал — эгерче?
— Да, овсяные лепешки на сметане.
Наелся воевода, повеселел. Шагают они с Топейкой по лесу — то там, то тут видят ратников с черемисскими воинами. Кормежка идет вовсю.
— Зубами сильно стучат,— не утерпев, шутит Топейка.
— Тебя бы две недели не покормить, еще не так стучал бы,— тоже весело отвечает князь.
— Как же в такую дальнюю дорогу без хлеба пошли?— Во взгляде Топейки недоуменье.
— Как да как! Думали по деревенькам покупать. А как минули Мещеру да как вошли в дебри лесные — ни единой живой души не встретили. Думали, все перемрем, дорогой идучи.
— Ну, теперь не умрешь. К илему пойдем, там, наверно, мясо уже сварилось.
Когда пришли на поляну, там было уже много ратников. Воины сидели на траве. Перед ними прямо на земле стояли берестяные бураки с медом, молоком, хлебы, соленое мясо, творог.
Курбский сердечно поздоровался с Аказом, сказал:
— Ну, друг мой, не чаял до тебя добраться. Народу твоему скажи от всех нас великое спасибо. Скажи: мы их не объедим. Уплатим за все.
Аказ перевел слова князя подошедшим черемисам. За всех ответил Сарвай:
— Деньги будешь давать — обидишь. С гостя денег не берут.
Князь, выслушав перевод, низко поклонился, сказал:
— За столь великое гостеприимство поклон вам земной.
Наевшись, ратники свалились кто где, уснули. Воевода тревожить их не стал. Он и сам еле держался на ногах. Шутка сказать, последнюю неделю шли, почти не спавши.
Нуженал опустел.
Почти все черемисы ушли в Аказово войско, их работа легла на женские плечи.
Женщины дома почти не живут: то работают в поле, то ходят добывать бортяной мед, то зверя промышлять. Иные на реке рыбачат.
В Аказовом дому тишина, запустение. Живет здесь Эрви в одиночестве — муж из Свияжска вестей не шлет. Видно, и вправду разлюбил ее Аказ. И стала Эрви собираться к старой колдунье.
Шемкува целыми днями ищет травы, вечерами сидит в старом кудо у костра и варит приворотное зелье. А кому его пить? Мужики все на войну ушли, бабы — в лесу, на охоте. И киснут зелья в глиняных горшочках на самой дальней полке.
Работать Шемкува не хочет. Бедная сиротка Айвика теперь у нее живет, еду готовит и побои терпит. Намучится за день, вечером забьется под нары на тряпье и спит.
Сегодня для Айвики день был особенно труден. Заставила ее старуха молоть на ручном жернове муку, два раза била за то, что не вовремя подала еду. Вечером Айвика юркнула под нары и только начала засыпать, как вдруг человек в кудо вошел. Айвика по голосу узнала — Эрви.
Шемкува удивленно смотрит на гостью, думает. Знает, что Эрви ненавидит ее, и только великая нужда привела сюда эту гордячку. Эрви присела на край лавки, не знает, с чего начать разговор. Зато Шемкува знает:
— От мужа вестей долго нет?
— Нет,— тихо отвечает Эрви.
— А другим женам есть?
— Другим есть.
— Может, Аказ полюбил другую?
— Наверно.
— Колдовать надо?
— Если можешь.
Шемкува, кряхтя, встала на лавку и взяла с верхней полки горшочки со снадобьями. Один из них поставила на горячие угли и, когда снадобье разогрелось, бросила туда щепоть растертых сухих трав. Потом долго шептала над горшочком.
Отдавая снадобье Эрви, сказала:
— Поезжай к мужу и после захода солнца, когда будет ужинать, вливай по две ложки в еду. Через неделю он не сможет без тебя жить и дня.
— Спасибо тебе, проси чего хочешь. Может, шкурку лисы, может, мяса, может, зерна?
— Это все у меня есть. Ты отдай мне сиротку Айвику. Насовсем отдай.
— Она и так у тебя живет.
— Бежать хочет.
— Скажи: пусть тебе служит.
Эрви шагнула к выходу, но дверь распахнулась — и навстречу ей вошел высокий мужчина.
— Салям алейкум, женщины!
— Входи с миром, садись,— Шемкува угодливо расстелила на нары лучшие шкуры, усадила гостя. Человек глянул на Эрви, сказал:
— Это жена Акубея?
— Да, почтенный. Это— Эрви.
— Сам пророк послал ее сюда. Она мне нужна. Я буду говорить устами Сююмбике.
— Как поживает царица?—спросила Эрви.
— Великое горе постигло ее. Она в Москве, в плену у русского царя Ивана.
— О-ей!—воскликнула Эрви.—За что аллах покарал ее? Несчастная!
— Не говори так. Где бы ни была мудрейшая Сююмбике — она всюду царица! Она рождена повелевать, и до самой смерти ее слова будут священны для всех, кто верит в аллаха. И для тебя — тоже.
— Слушаю тебя, почтенный.
— Зови меня мурза Чалкун.— Мурза поглядел на Эрви и неожиданно сказал:—А твой муж напрасно бросил тебя. Ты красива, как луна в девятый день рождения.
— Он не бросил. Он вернется...
— Не криви душой, Эрви. Я все знаю. Твой муж скоро женится на нечестивой русской женщине и не приедет к тебе.— Мурза подвинулся ближе к Эрви, заговорил тише:— Знаешь, кто виновник твоего горя? Русский царь Иван.
— Царь... Иван?
— Пусть покарает меня аллах, если я лгу. Эта русская девка жила здесь, и Аказ не женился на ней. Он об этом и не думал даже. Но когда он ходил с посольством в Москву, царь приказал ему, чтобы он взял в жены русскую, а свою жену бросил. И Аказ не ослушается царя. Сидишь ты в своем кудо и ничего не знаешь. Сююмбике послала меня помочь тебе.
— Мне... помочь?..
— Она велела передать тебе этот перстень. В нем яд.
— Надо отравить эту русскую?
— Какая польза? Отравишь одну — царь заставит жениться на другой. Надо отравить царя!
— Но царь в Москве!
— Стало известно, что Иван со своей ратью скоро будет в Свияжске и заедет в гости к Аказу. Никто, кроме тебя, не сможет сделать это. Если царь Иван умрет, его войско не пойдет на Казань, Сююмбике вернется из плена и сделает все, чтобы Аказ был только твоим. Ну?
— Нет, мурза. Я не возьму яд. Моя любовь к Аказу велика, но мой народ я люблю больше. Если царь умрет от яда, русские затопят кровью мою землю. Разве я могу послать на гибель людей моей земли?
— Тогда Аказ узнает все,— взвизгнула Шемкува,— узнает про Коран, про Булата, про клятву!
— И народ, который ты так любишь, выгонит тебя из родных мест,— мрачно сказал мурза.
— Так же, как они когда-то выгнали меня.
— Пусть!— твердо произнесла Эрви.— Только свой яд спрячь подальше.
— Ты долго жила рядом с Сююмбике и не научилась бороться за свое счастье. На, бери!
— Зачем ее уговаривать?—подняв вверх костлявые руки, кричала Шемкува.— Давай яд мне! Я сумею сделать все, что надо, без нее. А ей все равно конец!— Шемкува выхватила у мурзы перстень и, подскочив к Эрви, крикнула:— Знай, несчастная: я иду к людям, я иду к Аказу! Я всем расскажу про твои грехи, и горе тебе, клятвопреступница! — Шемкува бросилась к выходу, но Эрви схватила ее за руку и, разжав ладонь старухи, взяла перстень.
— Дай сюда.
— Давно бы так!
— От своей судьбы не уйти. Иди, мурза, к Сююмбике и скажи ей, что она не сможет упрекнуть Эрви. Я сделаю все как надо.
— У русских обычай есть: жена хозяина подносит гостю первую чарку. Ты брось яд в вино и подай царю, ведь ты хозяйка. Через неделю он умрет, и никто не узнает про твою вину.— Мурза похлопал Эрви по спине.
Помолчали все немного.
— Я сделаю все как надо,— не глядя на мурзу, спокойно ответила Эрви.— Я решила.
— Да поможет тебе аллах,— бросил мурза вслед уходящей Эрви.
— Я ей не верю, мурза,— буркнула Шемкува, когда Эрви вышла.
— Я тоже,— сказал Чапкун.— Ты следи за ней.
— Ты и мне яду дай. Если она побоится, это сделаю я.
— Ты сама и все твои люди тайно говорите каждому череми- сину, что русские хотят вырубить все священные их рощи и заставить всех вас поклоняться матери русского бога. И еще скажи, что новый хан Казани Эддин-Гирей, Да будет священно его имя, обещал каждому, кто уйдет от русского войска, двадцать золотых монет и коня. Кто придет в Казань с ружьем, полученным от русских, тот получит еще десять золотых монет, а ружье останется ему для охоты. И десять лет никто не будет брать ясак с того, кто будет служить Эддин-Гирею. И еще говорите черемисам: Казань сильна. Напомните им, что русские много раз приходили сюда и всегда уходили обратно. Так будет и теперь. И тогда горе тем, кто предаст нас! Я сам приведу сюда своих воинов и не оставлю здесь и праха изменников.
— Скажи великой царице, что она шлет ко мне только угрозы. Что я могу сделать, если бедна?
Чапкун вынул из-за пояса кисет и положил на нары.
— Возьми и давай каждому по монете. Остальное потом. Держи отраву. Помни: меня здесь не было,— сказал Чапкун и, не прощаясь, вышел...
Айвика ничего не знала про русского царя и не могла понять, хорошо ли, плохо ли будет, если он умрет в гостях у Аказа, которого она очень уважала.
Разгромив крымцев, русская рать двинулась на Казань безбоязненно. От Коломны до реки Суры сторожевой, царский и полк левой руки сделали всего пятнадцать переходов. Войска шли неслыханно быстро.
Впереди для разведывания пути шел легкоконный ертаул-полк с посошной ратью, которая смотрела за исправностью мостов, гатей и дорог. Ертаулом командовали князья Юрий Шемякин да Федор Проскуров. Посошная рать отдана под руку Терешки Ендагурова. Пришло на старости лет Терешке повышение, хоть какой ни есть, а все-таки воевода.
Думали ертаульцы первыми прийти на место встречи. Но их около Сарваева городища уже ждал князь Курбский с полком правой руки, Иван Мстиславский с большим полком да Иван Пронский с передовым...
Воины князя Курбского уже отдохнули.
На другой день к вечеру подошли полки царский, сторожевой и левой руки. Все луга и лес в развилке Суры и Иксы заполнили
войска. Никогда люди рода Сарвая не видели столько воинов. Вышли на большую поляну, надеясь увидеть царя, но им сказали, что царь утомился в пути и сейчас в шатре...
Когда царь проснулся, солнце было уже высоко. Он сбросил с себя одеяло, встал со скрипучей походной кровати.
Вскочил и Адашев, стал спешно одеваться.
— Сходи, позови большого воеводу, погляди, что в полках делается. Иди, иди — я оденусь сам.
Царь сунул ноги в теплые, обшитые сафьяном туфли, зашел за занавеску, умылся над медным тазом и тихо стал одеваться. Пойдя в поход, царь, по совету Сильвестра, уподоблялся простому ратнику: слуг около себя близко не держал, все делал сам или с помощью Алексея Адашева. Питался так же скудно, как и ратники, порой прямо из общего котла.
Войско знало об этом, царя всюду хвалили, это льстило Ивану, но он сам не знал, долго ли выдержит эту постную скудную жизнь.
В шатер вошел Владимир Андреевич Старицкий. В этом походе он шел за большого воеводу.
— По-доброму ли спалось, великий государь?—спросил Владимир Андреевич, кланяясь.
— Сколь раз говорю тебе: теперь я не великий государь, теперь я твой полковой воевода. И на твоем месте меня наказывать должно за лежебокость. А отчего бы мне не по-доброму спалось? Забот ноне нет никаких, все заботы на тебе. Полк мой дошел до места в справности...
Старицкий за время похода привык к таким разговорам с царем. Каждый раз начиналось так: «Я теперь в твоей власти, повелевай — буду повиноваться», а потом сразу забывал об этом. Так и сейчас.
— А другие полки скоро ли придут, како мыслишь, большой воевода?
— Да наперед нас уже здесь. Полку правой руки тяжко досталось— вся дорога была безлюдна, гладу натерпелись. Добро хоть черемиса ласково встретила и напоила, и накормила, и обогрела.
Радость хлынула в сердце Ивана. Народ земли, через которую ранее русские воины проходили осторожно, с оружием наготове, сейчас ласкает и обогревает московских ратников. Значит, недаром отдано столько внимания черемисскому краю, значит, заботы о дружбе не были напрасными.
В шатер вошел Алексей Адашев и объявил:
— Воеводы собрались, великий государь. Может, сюда позвать? Черемисский князь Акубей со своими людьми челом тебе бьет.
— Зови его, Алеша, зови
— А воеводы, великий государь?—воскликнул Старицкий.
— Брат мой, Володимир Андреич, я только что говорил тебе: я полковой воевода. С какой стати ко мне все воинство звать? Ты иди и думай. А потом мне расскажешь.
Большой воевода вышел из шатра и про себя выругался.
Аказ, Янгин, Магметка Бузубов и Сарвай с десятью стариками вошли в шатер. Сарвай по наставлению Аказа держал на протянутых руках полотенце. На белом, как снег, полотне стояла деревянная тарелка с высокой горкой блинов — коман мелна. Старик подошел к царю и начал говорить:
— От нашем земля... От нашем люди возьми этот...— Сарвай замялся и по-черемисски сказал Аказу:—Эй, Аказ, как сказать по- русски «душевно сделанный хлеб», я совсем забыл.
— Он говорит, великий государь,—перевел Аказ,—что этот хлеб народ наш дарит тебе от души и благодарит за милости, которые ты дал людям.
Иван подошел к Сарваю отщипнул от блина небольшой кусочек, съел. Адашев принял дар, отнес в сторону.
— Скажи, Аказ, спасибо твоим людям за доброходство ко мне и ласку.— Царь снова сел в кресло и спросил:—А кто сей старец?
— Это Сарвай, старший над людьми, которые на этой реке живут.
— Скажи, дед, одолеем мы Казань?—спросил Иван, обращаясь к Сарваю.
Старик выслушал, склонил голову сперва в одну сторону, потом в другую, сказал неторопливо:
— Не зря старые люди говорили: народ плюнет — озеро будет. Вся сила в народе. Ты своими людьми больно силен — видели мы, как велика твоя рать. Но теперь станешь вдвое сильнее, потому как и наш народ, и чувашские люди, и мордва к тебе на подмогу пришли. Иди смело — Казань у твоих ног будет.
— Алеша,— сказал царь, обращаясь к Адашеву.— Одари этого старца золотом.
— Нет, нет, не возьму.— Сарвай замахал руками, когда Адашев поднес ему деньги.— Я не за деньги хлеб тебе давал. От души.
— Я не за хлеб, я тоже от души,— сказал Иван. Повелев одарить людей Сарвая одеждой и деньгами, царь отпустил их, Адашеву сказал:
— Володимиру Андреичу передай: семнадцатый стан делать на Цивили.
Около полудня рать двинулась в дальний поход от берегов Суры к берегам Свияги. В главной колонне шли ертаул-полк, полки царский, передовой, большой и сторожевой. На одной линии с царским полком версты по четыре в стороны шли полка правой и левой руки.
Шестнадцатый стан на реке Якле был короток. Зато когда рать достигла Цивили, было указано осесть накрепко.
Топейке Аказ велел ехать в илем Янгина, найти в лесу самое красивое место и готовить большой пир. На пир звать всех черемисов, чувашей и мордву с подарками. Велено Топейке денег, мяса, муки и пива не жалеть, запасти столько, чтобы хватило всем.
Топейка разогнал своих помощников по всем ближним и дальним илемам с вестью: русский царь придет, чтобы шли все люди в илем Янгина и чтобы несли с собой богатое угощение.
Пока те носились по илемам, Топейка такое место нашел, будто нарочно для пира созданное. Поляна ровная, как стол, длинная, как черемисская песня. С левой стороны чистый березовый лес, с правой — река с ивняком да орешником по берегам. Впереди дубняк, сзади поляны овраг, там костры можно жечь — мясо жарить. Топейка сам сделал длинные столы на поляне и стал ждать гостей.
Сегодня рано утром повел на реку поить коня. Спустился к воде, видит: девушка стоит по колени в воде, набок склонилась — волосы мокрые отжимает. Залюбовался Топейка — уж больно стройна. Чья такая, хотелось бы знать? Утреннее солнце своим светом озолотило девичье тело. Крутые бедра сверкающими блесками усыпаны. От воды искры по коже так и мечутся. Вдруг повернулась девушка в его сторону — да это же сиротка Айвика, воспитанница Аказова. Все время грязной малышкой была, когда выросла?
— Это ты, Айвика?—крикнул Топейка.
Девчонка ойкнула, прикрыла грудь скрещенными руками, выскочила на берег, замелькала в кустах ее белая рубашка.
— Как ты сюда попала?— спросил Топейка, подходя, когда Айвика оделась.
— С Шемкувой пришла,— смущенно ответила та и спрятала лицо в платок.
— Эта старая карга здесь?
— Она в илем пошла,— ответила Айвика и взглянула на Топейку ласково-ласково.
Пьет конь воду, от морды идут по реке круги, а Топейка не может взгляда от девушки оторвать. «Старый вонючий хорек,— думает он про себя,— сколько раз рядом проходил, не замечал, какие добрые и приветливые глаза у нее».
— Ты знаешь, у Янгина свадьба завтра.
— Знаю,— ответила Айвика.— Какая Овати счастливая.— Девушка сразу погрустнела.
— Я все думал, кого на пиру мне рядом посадить?— Топейка перекинул повод на спину коня.— Может, ты со мной сядешь?
Айвика метнула взгляд на Топейку и радостно улыбнулась.
— Прямо ко мне пойдешь, женой моей будешь?
— Буду,— шепнула Айвика и осторожно взяла коня под уздцы. Топейка вскочил на спину лошади и радостно ударил пятками в тугие лошадиные бока...
Всю ночь Айвика не могла уснуть. Ей не верилось, что завтра придет счастье, в которое она никогда не верила. Могла ли она, горькая сиротка, не имеющая ничего, кроме доброго и большого сердца да крепких умелых рук, думать о замужестве? Смела ли она даже в мечтах представить своим мужем веселого патыра Топейку, который самому Аказу друг?
Не идет сон к Айвйке. Мучилась-мучилась, тихо вышла на реку, на то место, где говорила с Топейкой. На берегу тихо-тихо. Утро вот-вот придет, а пока все кругом спнг.
Айвика села у воды, стала ждать рассвета.
Раньше всех поднялось над лесом солнце. Оно разбудило хлопотливые ветры, и те прохладными струйками зашумели в вершинах берез. Деревья проснулись, разбудили лес и реку. Река зашевелилась и давай сбрасывать с себя туманное одеяло. Первые лучи солнца озолотили листья берез, вырвались на поляну
Наступило утро веселого и шумного дня.
Первым в илеме появился Янгин. Он привез невесту Овати и всю ее родню. Айвика хорошо знала Овати и подошла сказать слова поздравления. Не утерпела и похвалилась:
— Я тоже скоро женой буду. Топейка позвал меня.
— Когда же ваша свадьба?—спросила Овати.
— Не знаю еще.
— Ты, Янгин, скажи Топейке, пусть с нами вместе женится.— Овати наклонилась к жениху, зашептала:— Я подружке моей больно счастья хочу...
Леса вокруг праздничной поляны гудят. Под каждым деревом примостились гости, под каждым кустиком спят утомленные путники. В дубняке ржут кони — там стоит царский шатер и расположились ратники царского полка.
Полк Аказа на другой стороне реки.
Никогда эти леса не видели такого великого скопления людей
Гости расселись и в березняке, и в дубняке, и по берегу реки.
Аказ дал строгий наказ: до приезда паря ни крошки не есть, ни капли не пить. Люди понимают: так лучше. Поэтому ходят по поляне трезвые, сидят около еды голодные.
Три стола, локтей по триста длины, растянуты вдоль поляны. Один поставлен на невысоком помосте для царя, воевод и князей другой, пониже, для жениха с невестой, их родни и старейшин Третий, совсем низкий, для прочих гостей. Кто за столы не уместится—на траве места много.
Для Ивана Выродкова и Андрюшки Булаева место припасено за первым столом среди больших воевод. Они хоть и безродные людишки, но царь поднимает их высоко: первый всеми осадными делами управлять будет, второй — всем нарядом пушечным.
Однако друзья-товарищи на те места садиться и не думают. Сразу нашли среди черемисов приятелей, легли на животы прямо под березами. Беседу ведут и потихоньку, несмотря на запрет, потягивают из туесков пиво. Им с простыми-то людьми и привычнее и вольготнее, да и интересу больше: народ ведь больно любопытный, мало знаемый.
Около полудня на дороге, идущей из дубового леса, показался царь. Он обеими руками натягивал поводья; конь, изогнув лебедем шею, рвался вперед. Сбруя, усыпанная золотыми бляхами и драгоценными камнями, сверкала на солнце. Да и сам царь был одет в ослепительные, расшитые золотом одежды. Все это горело, сверкало и переливалось в солнечных лучах.
За царем ехал большой воевода Владимир Старицкий, по сторонам, нога в ногу,— Алексей Адашев да стольный боярин Салтыков.
За ними во всю ширину дороги в ряд — воеводы Курбский, Воротынский, Мстиславский, Пронский, Серебряный. В следующем ряду — Щенятьев, Шереметьев, Плещеев, Хилков и Шемякин. Чуть поодаль пешим строем шли воины царского полка.
Около столов Иван остановился Аказ подошел, взял коня под уздцы, протянул царю правую руку. Иван оперся на нее, легко спрыгнул на землю. К нему подошли Янгин и Топейка, поклонились низко.
— Сегодня я и друг мой Топейка свадьбы играем,— сказал Янгин,— просим тебя великим и дорогим гостем на нашей свадьбе быть...
— Не мы одни тебя за стол зовем.— добавил Топейка,— весь народ угощать тебя хочет.
— Благодарствую, Янгин. И тебе спасибо. С радостью выпью за ваше счастье. Воеводы, князья и бояре, прошу за стол-
Царь подошел к своему месту, отстегнул саблю, передал Салтыкову, тот положил ее на вытянутые руки оруженосца. Сняли свои сабли и передали стоявшим сзади воинам и другие воеводы.
— Аказ,— произнес царь,— бери супружницу да садись рядом со мной.
Аказ взял Эрви за руку, подвел к царю:
— Вот моя жена.
Иван с любопытством оглядел Эрви с головы до ног. потом перевел взгляд на левую руку хозяйки и задержал его там на мгновение. Эрви, как от огня, отдернула руку и побледнела. В предпраздничной суете Эрви совсем забыла о поручении мурзы и даже не успела снять перстень с руки. Теперь она вспомнила о нем, и страшный испуг овладел ею. Она задрожала и спряталась за мужа.
— Да ты не бойся,— добродушно сказал Иван,— я не кусаюсь. Садись рядом со мной.
Эрви села на скамью рядом с креслом царя, спрятала руки под стол, сдернула перстень и, бросив его на влажную землю, сильно вдавила носком сапога.
Янгин, Овати, Топейка и Айвика сидели против царя за вторым столом. Вокруг по всей поляне прямо на траве расселись воины царского и горного полков, черемисы и чуваши, прибывшие на праздник. По знаку Аказа все стали наливать пиво, вино, брагу. Заплясали чтрки, туесочки, ушаты, деревянные ковши.
Воевода Старицкий по праву старшего поднялся первым, взял чарку, сказал:
— Первую чашу — за государя.
— Князь, погоди.— Иван тоже встал, поднял свою золотую чарку.—Обычаев русских забывать не след. Сперва поздравить надо женихов с невестами, гостей — потом.
Подняв чарку над головой, Иван громко сказал:
— Воины! Люди! Давайте выпьем за счастье Янгина с его молодой женой, за счастье Топейки и за счастье всех моих друзей!
— Да будут счастливы!
— Пусть радостно живут!
Иван выпил чарку, опрокинул ее вверх дном, и все воеводы по примеру царя выпили до дна.
Иван подозвал пальцем Салтыкова и шепнул ему:
— Пошли на те столы вин и хлебов всяких да марципанов побольше.
Салтыков согласно кивнул головой и отошел. Скоро стеклянные фляги с винами, большие серебряные кувшины появились на всех столах и на поляне. Слуги разносили гостям царские хлебы, перепечи, калачи и расписные пряники.
Чуть захмелевшая поляна сдержанно гудела.
— За славу государя великого выпьем! — крикнул князь Курбский.
— Не торопись, Андрюша,— тихо сказал царь,— меня в ином
прославишь месте, не ради этого мы здесь, пойми. Пусть чарки все нальют-
— Еще одну поднимем чашу! — Иван слегка захмелел, и голос его стал торжественнее и громче.— Прославим хозяина сей земли. Давайте выпьем за здоровье князя Аказа!
Воеводы попридержали чарки, недоуменно поглядывая друг
на друга.
— Нет, я не оговорился, воеводы! Милостью, данной мне от бога, дарую тебе, Аказ, титул князя! Так будь здоров, князь! Выпьем!
Над поляной взметнулись голоса приветствий, поздравлений.
Иван глянул на стольника, сказал:
— Ты что, обычая не знаешь? Где сабля?
— Нежданно, государь... Но я сей миг...
— Не суетись. Подай мою.
Салтыков взял у оруженосца царскую саблю, передал Ивану.
— Прими, князь, оружие — знак княжеского звания—и с. честью носи! — сказал он, передавая саблю Аказу.
Тот принял оружие, поцеловал холодную сталь.
— Многая» лета князю!
— Слава Аказу!
— Сла-а-ва-а!!! — кричали все.
Аказ поднял руку, призывая к тишине.
-- Народ моей земли! От вас от всех хочу я клятву дать великому царю, хочу сказать, что никогда эта сабля не поднимется на друга и будет разить только общих наших врагов. Она придаст нам силу и отвагу.
— Отваги у тебя и так немало. Хан Шигалей рассказывал мне о битве под Казанью. Ты там сражался храбро, бросался на врагов, как молодой барс.
— Спасибо за похвалу, великий царь. Только хан немного ошибся. Сказал, как молодой барс, а у меня уж виски седые.
— Ты седины не бойся», князь,— сказал Иван,— то признак мудрости.
И тут вмешался в речь князь Курбский. Он подошел к Аказу с кубком и весело произнес:
-- Позволь нам, князь, за смелость и за мудрость звать тебя
Седым барсом. Как это будет по-вашему?
— Ак парс, наверно,— чуть помедлив, ответил Аказ
— Так выпьем за князя Акпарса! — воскликнул Курбский.
Аказ поднял над головой руки, и люди утихли. Он перевел
слова царя, и снова поляна радостно загудела.
— Я чаю, вам ведомо,— продолжал царь,— что Казань ноне переметнулась к извечному врагу нашему крымскому хану. И оттого не только нашей державе горе, но и вам лихо. Стонет русский народ на рубежах земли нашей от деяний их злочинных. И дале это терпеть нельзя! И вот задумали мы большое дело — царство Казанское от крымнев отнять и преклонить под нашу державу. Я мыслю, бог нам поможет, и мы вместе с вами одолеем злочинников!
Когда Аказ перевел слова Ивана, по поляне прокатилась волна выкриков.
— О чем они? — спросил царь.
— Веди нас, кричат. Поможем, кричат. Возьмем Казань, кричат,— ответил Аказ.
— Вестимо, возьмем Казань! — Иван подошел к Старицкому, положил руку ему на плечо.— В венце короны русской, как камни-самоцветы, сверкают воеводы князь Володимир Старицкий, князь Андрей Курбский, князья Шереметьевы Семен да Иван, князья Воротынские Михаил да Володимир, князья Серебряный да Мстиславский. Теперь,— царь приблизился к Аказу,— еще один алмаз в короне царской прибыл — отважный князь Акпарс со своим народом.— Иван поднял чарку и закончил: —Я смело пью теперь за победу над Казанью!
Громом восторженных возгласов встретил повеселевший люд слова царя. Все, кто еще твердо стоял на ногах, спешно наполняли чарки, ковшики, черпаки и пили за победное окончание похода
Терешка Ендагуров тоже пил и за царя, и за победный конец, и за Акпарса и потому был дюже навеселе. Подружился он на празднике со старым Сарваем, и они всюду ходили в обнимку.
— Ты царю больно рукой не маши,— говорил он Сарваю,— царь он есть царь. Вот возьмет Казань, про вас забудет. Ты на меня больше надежу держи! На Терешку. Я тебя не Казани взятия ради люблю, а как брата. И в любую пору приходь ко мне, и я все брошу, а тебе на помощь пойду. Понял?
— Как же, все как есть понял. Пасибе тебе,— говорил Сарвай.
Кое-где из общего гула вырывалась песня. Она взлетала над
поляной, но, не успев расправить крылья, тонула в шуме голосов.
Услышав песню, Аказ подозвал Топейку и шепнул ему на ухо.
Скоро появилось десятка полтора барабанов, дюжина пузырчатых шювыров, кто-то принес гусли.
— Теперь позволь, великий царь, потешить тебя пляской.
— Давно пора! — сказал Иван.— Заговорились, а про веселье забыли.
Перед столами освободили место — грянула музыка. Словно ковром белых цветов покрылся свадебный луг. Сорок девушек, а впереди Айвика и Овати, выбежали в круг. Все в полотняных белых платьях, с наплечниками из лент и кружев. Фартуки густо расписаны невиданными узорами по груди и по подолу. Широкие длинные пояски с кистями закреплены на спину чуть пониже ло паток и заколоты на правом боку. У каждой по два цветных платка, связанных за концы и накинутых на плечи. Свободные концы платков держат в руках.
Пляшут легко и грациозно, идут по кругу, помахивают волнообразно руками — радостно глядеть. Широкие платки вьются за раскинутыми руками, и кажется, что летят над лугом невиданные волшебные птицы.
Кончилась плавная мелодия, ударили барабаны, встрепенулись девушки, враз взмахнули платками-крыльями, сбежались по четверо, и десять ярких звезд пылают на поляне. И снова льется .звонкая гусельная струя, и снова кружатся плясуньи, вьется вокруг них цветной платочный вихрь; разбегаются во все стороны, потом сбегаются опять, и что ни миг, то новая картина.
Только успокоилась Эрви, глядя на пляску, вдруг кто-то тронул ее за рукав. Оглянулась — стоит незнакомая женщина, знаками просит ближе подойти.
— Шемкува велела тебе па поляну в кленовой роще прийти,— зашептала женщина.
Когда пляска кончилась, Иван взял со стола две серебряные вызолоченные внутри чарки, сам налил вино и поднес Овати и Айвике.
— Ну, невестушки, плясали вы хорошо! Выпейте на счастье от меня, а чарки в дар примите — на память.
Айвика и Овати пригубили чарки и передали их подругам. И пошли чарки гулять по девичьим рукам. Каждая прикасалась к чарке губами, чуть-чуть отпивала не пробованного ни разу в жизни напитка и передавала вино дальше...
Эрви хорошо знала, зачем зовет ее Шемкува. Еще в прошлый раз, согласившись взять яд, она надумала предотвратить злодейство. Эрви хотела затянуть время, сделать так, чтобы Шемкува, надеясь на нее, не подсыпала отраву сама. А потом, когда царь уедет, будь что будет. И сейчас, когда к ней подошла незнакомая женщина и велела идти к колдунье, Эрви сразу согласилась все с той же мыслью — оттянуть время. Выйдя из-за стола, она осторожно подошла к кленовой роще и спряталась в кустах. Шемкува и женщина (это была чувашка, которую накануне мурза послал в помощь Шемкуве) сидели на маленькой полянке, и Эрви не только хорошо видела их, но и слышала, что они говорят.
— Ну, Топейка, ну, шайтан, этого я тебе не прощу! — ругалась старуха, прикладывая к голове мокрый платок.— Чуть не убил меня, презренный! Ну, где Эрви? Почему не идет?
— На Эрви надежду не держи. Это из-за нее тебя чуть не задавил этот глупый медведь. Если бы не я„.
— Эта пустоголовая трусиха испортит нам все дело! Почему ее до сих пор нет? Сходи еще раз.
Чувашка ушла и вернулась нескоро. Это радовало Эрви: время праздника шло к концу.
— Я нигде не нашла ее.
— Пусть ее заломает керемет! — Шемкува поднялась, схватила клюку.— Я сама пойду на праздник!
Эрви быстро отбежала в сторону и глухо в кулак крикнула:
— Кува-ай, где ты-ы?!
Шемкува тряхнула головой в сторону выкрика, и чувашка побежала искать Эрви. Долго, перебегая с места на место, Эрви водила женщину по лесу.
Когда Шемкува совсем потеряла терпение и дальше обманывать стало ее невозможно, Эрви вышла на полянку.
— Почему так долго не приходила? Предать меня вздумала?
— Я боялась...
— Чего боялась?
-- Я потеряла яд... я всюду его искала...
-- Надо было сразу бежать ко мне,— Шемкува вытащила из
кармана синеватую склянку и сунула Эрви в руку.— Беги, еще есть время.
Эрви взяла яд, покачала головой.
— Теперь уж поздно. Царь уехал в свой шатер —спит, наверно,— и улыбнулась.
Тут Шемкува выхватила из-под лохмотьев мешочек с грамотой и, потрясая им над головой, закричала:
-- Здесь сидит твоя смерть, несчастная. Сейчас я пойду к
Аказу и выпущу ее! Горе тебе, предательница и обманщица.— И, упираясь на клюку, заковыляла по тропинке. Чувашка, глянув на Эрви с явным сожалением, пошла вслед за старухой.
Эрви готовилась к этому. Она знала, что Шемкува не простит ей обмана и выдаст все тайны Аказу. И решение уйти от позора и презрения, решение уйти из жизни, которая полна мучений и унижений, окончательно окрепло в сознании Эрви. «Они и тебя сломают, вот увидишь»,— вспомнила она слова черной старухи. Так оно и случилось.
«Пусть так,— подумала Эрви,— пусть они сломили меня, но не согнули. Нет, не согнули!»
Эрви села на холмик, огляделась кругом: лес в осеннем наряде был удивительно красив и великолепен. «Сейчас я уйду из этого мира,— подумала Эрви,— и никогда больше не увижу ни одетого в золото леса, ни глубокого синего неба. Как хотелось бы прижать в последний раз к груди моего родного Аказа!»
Боль в груди разрасталась, на глаза навернулись слезы. И песня, тихая и грустная, непрошеная пришла в сердце Эрви:
Льет, как из ведра,
Но закончится дождь А слезы мои
не кончаются, люди!
Жжет пламя души —
Раскаленная печь —
Не вырваться
из того пламени, люди!
Когда б родилась я На день или два —
Не видела
столько бы горя я, люди!
Я стать одуванчиком Легким хочу —
Г1усть ветер развеет
тоску мою, люди!
Окончилась песня, старый ворон пролетел над поляной и каркнул протяжно и зловеще. Эрви вздрогнула, вытерла слезу, увидела зажатую в ладони склянку. Пути назад не было, и она, закрыв глаза, поднесла склямку к губам. Жидкость оказалась совсем не горькой, а чуть прохладной и приятной. Эрви подошла к одинокой березке на краю поляны, обняла ее, прижалась щекой к молодой, нежной коре и заплакала. Она верила, что березка видела все и понимает ее.
— Я знаю, березка, сюда придет мой патыр, ты увидишь его. Скажи ему, что я умерла с любовью к нему в сердце.
Эрви сняла платок с головы, повесила на нижний сук березки. Деревце дрогнуло и зашумело всеми листочками. А может, это зашумело в голове Эрви?
— Если сюда придет мой милый Аказ, ты все ему расскажи, березка, ведь ты видела, что я не сделала ничего плохого. Прими мой последний поклон и ты, священная роща.— Эрви повернулась в сторону кюсото и склонила голову.— Ты знаешь, роща, я не предала веру своих отцов, я всю жизнь молилась богам, живущим в твоих ветвях. Скажи, роща, людям моего илема, моим родным и близким, что я ухожу из жизни чистой и безгрешной.
Эрви раскинула руки в стороны, подняла их и стала прощаться с лесом.
— Слушайте меня, мой лес, моя родная земля! Я не хочу, чтобы вы умылись кровыо моих людей. Скажи, земля, моему народу, что я не могла сделать ему зла. Прощайте все и не думайте обо мне плохо.
Кровь колотилась в висках Эрви, лес шумел все сильнее. Казалось, листья, касаясь друг друга, звенят, и звон этот заглушает все другие привычные звуки. В груди, будто свечка, вспыхнул
огонек, и язычок его пламени коснулся сердца. Вот оно вспыхнуло, окинулось пламенем.
— О, как жжет в груди, трудно дышать! — простонала Эрви и, шатаясь, побрела по поляне. Дунул ветерок, и березка качнула приспущенные ветви в сторону Эрви, как будто послала ей свое прощение. А лес звенел множеством звуков, и все они входили в тело Эрви, заполняя, распирали его. Огонь полыхал в груди, готовый вот-вот вырваться наружу. Эрви разжала ладонь, выронила на траву склянку. Вспомнила Шемкуву и не то сказала, не то подумала: — Ты, злая старуха, говорила неправду. Я не покорилась мурзе... Нет! Я не стала рабой Сююмбике, я умираю свободной. Нет, нет — я не предала... Нет... Ой, во мне все горит! Огнем горит! — Эрви повернулась к березке и увидела свой платок. Шагнула к нему, но упала и, не в силах подняться, протянула дрожащие руки.
— Я умираю, березка. Скажи Аказу... скажи ему...
Дальше Эрви не могла ничего сказать. Мгновенно погас огонь в груди, смолк лес. Сразу за тишиной в лес медленно стала входить темнота, и все покрылось мраком. Только светлел в глазах развеваемый ветром платок, потом погас и этот последний луч, который связывал Эрви с миром.
А пир на поляне в самом разгаре. Хмельное пьют, песни поют.
— А теперь, государь, пляску черемисских воинов посмотри,— сказал Топейка и взял у Аказа гусли.
Какая это была пляска!
Аказ вышел на полянку, взмахнул саблей — и выскочили с двух сторон, обнявшись за плечи и чуть склонившись, две сотни воинов. Аказ красивым и легким движением бросил саблю в ножны, раскинул руки, воины рванулись к нему слева и справа и пошли по кругу. За пляской трудно было уследить. Это был ураган движений: воины то изображали в пляске охоту на зверя, то, выхватив сабли, набегали друг на друга, будто в схватке.
Сыпалась дробь барабанов, над поляной взвивалась пыль от этой огненной пляски.
Царь распотешился донельзя, даже бояре, вначале поглядывавшие на хозяев с брезгливыми ужимками, теперь смотрели, разинув рты. Иные притопывали ногами, а Курбский-князь так увлекся, что, забыв все на свете, бил в ладоши и приговаривал:
— Ай-жги! Ай-жги! Ай-жги!
— Ну, князюшка-батюшка, удивил ты меня! — смеясь, говорил Иван Акпарсу после пляски.— Вот тебе и Седой барс. Да ты любого молодого за пояс заткнешь, если так плясать можешь. Ей богу. подобного не видывал.—Посмотрев на Ирину, Иван произнес: — А ты, сиротинушка, гостю, видно, не рада?
— Прости, великий государь,— плясать не умею. И негде было
учиться. В монастыре не больно-то напляшешься. Позволь, спою
тебе?
— Спой, Ириница, песни наши я зело люблю.
Ирина поглядела на Аказа, тот присел с нею рядом, приготовился играть.
Голосом тихим, чуть-чуть грудным, Ирина запела:
У водного отца-батюшки,
У моей голубки-матушки Я чесала свои волосы У окна светлицы-горницы.
Аказ быстро уловил мелодию — и гусли зазвенели, как бы жалуясь:
Промывала свои волосы Ключевой водою чистою,
Я сушила свои волосы На крыльце, на красном солнышке
А у свекора угрюмого Чесать буду я кудерушки Во углу, за занавескою...
Мочить буду я кудерушки Да слезами да горючими,
А сушить свои кудерушки Буду я тоской-кручинушкой.
А кругом веселье. Немногие слушают песню грустную. Микеня вспомнил минулое — разбойничьи песни поет, сотня ему подпевает;
Не рабы мы и не служки!
Выпьем разом все по кружке...
Ни кола и ни двора,
Ни подушки, ни пера.
Дом наш — темный батька-лес,
Друг наш — сам антихрист бес.
Поскорей молитесь богу —
И бегом на небеса:
Мы выходим на дорогу...
Поднимаем паруса...
Терешка Ендагуров ухарски под черемисскую песню пляшет и сам же подпевает:
Не подумайте, что скоро Родниковый ключ устанет,
Для такого ухажера Не одна невеста вянет...
И когда что, пройдоха, по-черемисски петь научился?
Веселье идет вовсю. И только в сторонке женщины-вдовы свою песню затянули:
Почему вода соленая —
Наши слезы в ней замешаны.
Шигонька трезвости придерживается. Ходит повсюду, следит, как бы драки либо другого какого похабства не было. Увидел Микеню, с укоризной сказал:
В сумерки царь с князьями уехали к себе в шатер. Среди гостей оставил Шигоньку.
— Ы-эх, уж и нализался!
— Кто нализался? Я? Ан врешь. Это стольник может нализаться, чеботарь настукаться, швальник настегаться, приказной нахлестаться, дьяк нахрюкаться, а такой ратник, как я, он может только подгулять!
Шигонька плюнул, отошел подальше.
Среди берез дьяк Иванка Выродков и Андрюшка Булаев разговоры ведут:
— Вот идем мы на войну и убьют нас татаре, а? — спрашивает Выродков.— И попадем мы на небеси...
— Дьякам и на том свете хорошо,— вполне серьезно отвечает пушкарь Булаев,— дьяк умрет — и сразу в дьяволы.
— Я вот тебя ляпну по шее.
— Ну-ну, не злобись...
Ну а Ешке опять не повезло. Узнал о свадьбе отец Иохим поздно. Пока лошаденку оседлал да пока одолел неблизкую дорогу, глядь — свадьбе конец. Приехал только под утро, гости все уже спали. Кое-как разыскал Саньку, тот повел его в хозяйский погреб да и оставил там одного.
во все горло:
Через час Ешка вышел из погреба, сильно шатаясь, и запел
Коло города Казани, Чернец пьет,
Чернец гуляет,
Э-э-эх, чернец Гуляет. Молодайку выбирает.
Ну а здеся не найду —
Во Казань искать пойду...
Э-э-эх, искать пойду, Ежли здеся не найду
Потом остановился около дома Яшина, погрозил кулаком, крикнул:
— У, ироды, без попа окрутились. Вот я ужо вас, язычников, в геенну огненную!..
Тело Эрви Аказ похоронил и долго один сидел у свежей могилы. О чем он думал? Кого винил в смерти жены? Судьбу? Татар? А может быть, самого себя?
ОСАДА
Н
ад Казанью встало солнце в тройном венце: в красном, желтом и оранжевом. Поднялось над городом, утонуло в сером дыму, осветило тусклым светом тревожные улицы.
Горят в Казани костры, звенят наковальни. Чуть не каждый мужчина и воин, и кузнец. Всякая железка, какая нашлась в городе, перекована то на пику, то на саблю, а если мала — на наконечник стрелы.
За городом между Булаком и Казанкой тоже поднимаются в небо дымы от сотен костров. Там стоит русская рать. Идет последнее мирное утро.
Во дворце хана, в зале совета и суда, крики и ругань. Собрались тут знатные горожане, разделились на две половины, спор идет с раннего утра.
Одна половина — сторонники Крыма У них главный — Чапкун-мурза. Когда убежал из города Кучак, казанцы думали, что теперь крымцы голову больше не поднимут. Но не прошло и месяца, набралось их в Казани полным-полно. Взяли силу и власть, хана Эддин-Гирея на престол привели.
Другая часть — коренные казанцы. Когда покойный Сафа- Гирей Чуру с Булатом уничтожил, думали крымцы, что остались доброхоты Москвы без головы. Ошиблись, однако. Сторонники русских сплотились, встал над ними мурза Камай. И вот теперь сошлись на совет и крымцы, и казанцы. Хан Эддин-Гирей сидит на троне бледный, испуганный. Попал он на престол казанский не вовремя. В душе клянет сам себя за то, что согласился ханом стать. Слушает, как бранятся мурзы.
— Стыд и позор вам, презренные! — кричал Чапкун в сторону, где сидели приверженцы Камая.— Какие вы мусульмане? Вы хуже гяуров, веру нашу предать хотите, Казань нечестивым отдать хотите. Да покарает вас аллах!
— Ты сам презренный пес! — Мурза Камай вскочил с сиденья, подбежал к Чапкуну,— Ты сам в Москву бегал и веру предавал, свиное мясо жрал. Ты Казань погубишь, людей в ненужной войне положишь. Москва не раз в Казани была и вреда большого пароду не делала. Всегда татарского хана ставила, веру нашу не трогала, людей не убивала. Много ханов было на Казани, и мудрые были ханы, однако Москве всегда уступку делали и людей сберегали. Зато когда с русскими дружба есть, город наш всегда процветает, потому как торговля идет хорошо, люди делом
заняты, а не войной. Пока нашей руки ханы были, Казань строилась. А крымцы только разрушали наш город. Мы все за то, чтобы дружбы у царя Ивана просить, клятву ему дать. Тогда уйдут русские, и войны не будет. Великий хан! — мурза обратился к Эддин-Гирею.— Проси у русского царя мира, и да продлится благоденствие твое на троне Казани. А если война... не быть тебе ханом, беда ждет всех нас. Если мы допустим войну, тогда русские сделают Казань своим городом, и мы навсегда потеряем власть. Разумно ли...
— Замолчи, безумец!—выкрикнул кто-то.
Мурза Чапкун встал рядом с троном и гневно заговорил:
— Какое дело нам до того, что вы, ленивые и грязные верблюды, отдавали свой трон изменникам и предателям. Сейчас на престоле сидит потомок великих Гиреев, а Гиреи не склоняли головы ни перед кем. И не склонят! Верно ли я сказал, великий хан Эддин-Гирей?
— Ты сказал верно, Чапкун. Корона Гиреев сверкает наравне с солнцем. Но и в словах Камая есть зерно разума.
— Неужели ты опустишь перед врагом корону Гиреев?! — воскликнул Чапкун.
— Ты забыл, мурза, на мне казанская корона.
— Но ты Гирей!
— Да, я помню это. И первым мира просить не буду. Если царь Иван предложит мне его...
И, словно в ответ на слова хана, в дверях Дивана раздался голос диван-эфенди:
— Посол от русского царя, великий хан. Просит позволения войти.
— Пусть войдет.— Хан выпрямился, положил руки на подлокотники кресла.
Раскрылись двери — и в них показался Санька с двумя воинами. Он шел твердым шагом и остановился перед троном.
— Хану Эддин-Гирею московского государя Ивана Василье- вича слово,— произнес Санька и передал хану грамоту.
Эддин-Гирей принял свиток и, не разворачивая его, отдал Саньке обратно.
— Читай сам. Мурза Чапкун мне перетолмачит.— Санька I развернул грамоту и начал читать:
— «Царю казанскому Эддин-Гирею я, Государь Руси Иван Васильевич, глаголю: помилуй себя, убойся губления многих людей своих, служи мне верно, яко и прочие цари мои служат, и будь мне яко брат и яко друг верен, а не яко раб и слуга; и царствовать будеши на Казани отныне и до смерти своей. Так и вы, все люди казанские, пощадите животы свои, предайте мне град добровольно, без брани, без пролития крови вашей и нашей. Присягните мне, как и прежде, страха от меня иметь не будете, и прощу я вам все бывшие мне от вас злобы и напасти и честь от меня приемлете и смерти горькия избавитеся. Будете мне друзьями и верными слугами и дам вам льготу велику. Будете жить как вам любо, обычаев ваших, законов ваших, веры вашей не отыму и земли ваши никуды по моим землям не разведу, а сам прочь уйду...»
— Подожди, посол,— сказал Чапкун.—Дальше читать не надо, и так понятно все.
— Читай дальше! — закричал Камай.
— Прочь уйди!
— Посла речь не перебивать!
Эддин-Гирей поднял руку, крики утихли. Хан спросил:
— В городе есть много людей, которые власти Москвы не хотят. Если город мы откроем, тех людей Иван погубит?
— Государь наш повелел мне сказать: те, кто ему повиноваться не желают, пусть идут на все четыре стороны и без боязни, ни един волосок не упадет с их головы.
— Иди, посол, и жди. У нас совет будет. Потом ответ дадим.
Когда Санька вышел, Эддин-Гирей сказал:
— Слово московского царя и грозно, и сладостно. И надо принять его. Я тоже пролития крови народа моего не хочу.
— Велик и мудр хан Эддин-Гирей! — закричали сторонники Камая.— Зовите посла, мы скажем свое слово.
— Стойте! — Мурза Чапкун встал перед троном, загородил собой хана,— Хан один не волен решать такие дела. На то и совет собран. Если Эддин-Гирей против совета пойдет, не быть ему властелином. Да будет тебе известно,— Чапкун повернулся к хану,— турецкий султан и хан Крыма запретили нам думать о Москве. Пусть Ивану служат такие вонючие шакалы, как Шах-Али. Ни один государь правоверных под нечестивым царем не стоял и стоять не будет. И если ты стреножен страхом —уйди с трона!
Загудел совет, все думали, что Эддин-Гирей за саблю схватится, резня у трона начнется. Но хан спокойно встал с кресла н сказал:
— Править городом, где люди рвут друг другу глотки, не велика честь. А воевать при такой розни согласится только глупый. Я ухожу от вас.— И хан начал спускаться со ступенек.
Мурза Чапкун кивнул головой своим друзьям и крикнул:
— Взять его!
Не успели крымцы и подбежать к хану, как мурза Камай выхватил саблю и загородил Эддин-Гирея. Туг же перед ним очутился Чапкун и тоже обнажил оружие. Раздался звон стали, брызнули искрами кривые сабли.
Засверкали ножи, вой и крики взметнулись под сводами Дивана. Крымцы и казанцы бросились друг на друга. Упали под ноги первые жертвы драки, кровью окрасились ковры перед троном И тогда кулшериф-мулла вбежал на верхнюю ступеньку и крикнул:
— Именем пророка — остановитесь!..
Снова Санька стоит перед ханом. Сразу понял: совет был горяч Скользнул глазами по кровавым пятнам на полу, по изодранным одеждам князей татарских, по царапинам и синякам на лицах. Перевел взгляд на Эддин-Гирея. Хан сидит на троне, вобрав голову в плечи, на посла не смотрит. Вокруг него — люди с обнаженными саблями. Тех, кто кричал давеча за то, чтобы дальше грамоту читать, в зале нет вовсе.
Мурза Чапкун вышел вперед, заговорил зло:
— Скажи своему царю: слово хана и всех казанцев непреклонно. Мы лучше помрем все вместе до единого с женами нашими и детьми нашими за законы и веру, за обычаи отцов своих, а под пяту царя московского не ляжем. И пусть он не надеется ни лестью, ни угрозой царства нашего взять, мы лукавство его знаем, и не быть тому, чтобы русские ваши люди, свиноядцы поганые населяли Казань. Да поможет нам аллах. Так все и скажи. А теперь иди.
Санька молча оглядел всех татар и, резко повернувшись вышел.
Ночыо мурза Камай тайно вылез на Арскую башню, чтобы посмотреть, что делается за стенами Казани. После драки в Диване стало ясно, что крымцы взяли верх, на сторону Чапкуна встал кулшериф-мулла, а он в Казани большая сила. Все служители аллаха пойдут за кулшериф-муллой, а их слово для правоверных свято и законно.
И сделать теперь ничего нельзя — русские послы, наверно, давно принесли ответ хана, и быть горю. Остается одно: оставить семью и друзей и как-нибудь бежать к царю Ивану.
С Арской башни далеко видать. Куда ни кинь взгляд — всюду горят костры. Русские полки обложили город кругом. Всюду слышны крики, шум. В отблесках костров видно, как ратники перетягивают с места на место пушки, роют окопы, забивают загинные колья.
Мурза взглянул на небо. На восточной его стороне загорелась кровавая звезда войны.
Пока русские рати переправлялись на левый берег Волги, Аказ (да будем и мы далее называть его Акпарсом) наводил должные порядки в Свияжске. Царь поручил ему выделить из горного полка воинов и оставить их безопасности города ради, чтобы недруги, не дай бог, не ударили в спину да не отняли бы все запасы и зелье, хранимое в Свияжске. Потом, когда рати обложат Казань, велено вместе со своим полком идти к царю
Пока разводили полки, пока плели из ивняка туры да ставили тыны — бабьему лету конец. Началась осень, дождливая, надоедливая. Словно серой овчиной затянуто и без того тусклое небо. Ветер гонит сырость, одежда на ратниках насквозь мокрая.
От царя пришел указ: каждый десяток ратников должен выставить один тур, набитый землей, вырубить по одному бревну для тына, для завалов и для мостов.
Широким сплошным кольцом рвов, затинов и тарасных заборов обложили русские Казань. И велено каждодневно кольцо это сжимать, тарасы передвигать все ближе и ближе к крепости.
Полк Акпарса поставлен в осаду с ертаульским и большим полками как раз супротив Арской башни. Черемисские воины несут тяготы осады наравне со всеми. Акпарс, Янгин и Ковяж вместе с ратниками роют канавы, ставят щиты, ободряют людей. Со стен города с утра до вечера несутся тучи стрел, казанцы частенько выскакивают из ворот и вырубают в рядах осаждающих заметные прорехи.
Как-то вечером в расположении Акпарсова полка появился молодой человек. Первым его увидел Топейка, сразу понял, что не из своих.
— Кого надо?
— Акубея надо,— ответил тот.
— Зачем?
— Я от Япанчи убег. Веди скорее к Акубею Тайное слово сказать надо.
— Говори мне. Я Акубея помощник.
— Тайное слово — пойми.
Молодой человек в землянке пробыл недолго. Вышел он вместе с Акпарсом, тот велел накормить его получше, а сам сразу же пошел в сторону Булака.
Там, где речонка Нижняя Ичка растекается на несколько рукавов, около озерца раскинулись царские шатры. В самом большом только что начался очередной военный совет. Акпарса встретил Алексей Адашев и сразу провел в шатер. Около входа доложил:
— Великий государь, князь Акпарс просится по делу.
— Входи, князь, входи!— крикнул Иван Васильевич.—Посиди с нами, послушай, потом свое дело скажешь.
Акпарс сел, осмотрелся. Царь сидел посреди шатра на низком стуле, широко расставив колени. Меж ног на полу стоял медный таз, в котором лежали горячие уголья. Иван грел над тазом руки, поворачивая ладони вверх и вниз. Вокруг сидели воеводы Курбский, Воротынские, Шереметьевы, Серебряный, Щенятьев с Шемякиным, Ромодановским и Шигалеем. Около входа стояли Иван- ка Выродков, Андрюшка Булаев с Шигонькой. Иноземен розмысл — мастер минных дел — стоял за спиной царя
— Позвал я вас, воеводы, поразмыслить над делом, о коем мне рассказали пушечный голова Андрюшка Булаев да дьяк Иванкэ Выродков. Ну, кто из вас о сем деле воеводам скажет?
Царь вопросительно оглядел воевод.
— Да хош я скажу,— вставая, произнес Андрюшка.— Нужда велика заставила меня к государю пойти. Пока сидим мы за Тарасами, за тыном да за турами, все слава богу идет. А как приходит пора ближе к стенам передвигаться, вот тут настает беда Казанцы, яко диаволы, в нас стрелы да ядры мечут, и прикрыться нам нечем. И тают наши пушкарики, как снег весной, и ратников мы теряем великое множество, а продвинуться иной раз и на шаг не можем. Коли так дале воевать, я всех мастеров огненного дела растеряю—с кем пушками управлять-то будем? И вот, поразмыслив с Иваном Выродковым, мы удумали по-иному осаду вести. Надобно не одним кольцом город сжимать, а двумя. Сдвоить надо обручи-то
— Как это сдвоить? — спросил Воротынский.
— А просто. Ратникам и пушкарям порознь надо на новые места переходить. Пока ратники туры да тарасы к стене приближают, пусть пушкари на месте стоят да огоньком со стен казанцев сметают. Чтобы не мешали басурмане ратникам вперед идти и новые затины ставить. А уж как они на новом месте укрепятся да из ручных пищалей начнут пригибать недругу головы, я тогда с пущенками безопасно к ним перемахну. А потом все сызнова.
— А ведь он дело говорит,— сказал Горбатый-Шуйский
— Язык без костей,— недовольно заметил Курбский.— На словах, как на гуслях, а на деле срам может произойти.— Князь Курбский не любил Булаева и Выродкова. Особенно неприятны они были ему сейчас за то, что лезут вперед.— Я мыслю так, государь,—воевать надо по той науке, которая в сражениях испытана, бывалыми воеводами найдена, а не по указке дьяков да плотников. Сколь мне ведомо, подобного ни у римского кесаря в войсках, ни у круля польского не было. А они крепостей взяли — дай бог нам столько взять. Раз не было у них, стало быть, подобное не пригодно.
— Что ж, Андрюшенька,— сказал Иван,— по-твоему, пока римский кесарь того не испробует, нам и начинать нельзя? А ежели он еще и двадцать лет до подобного не додумается — нам ждать прикажешь?
— Приказывать — дело не мое. У меня совета спросили, я сказал.
— А как иные воеводы думают?
— Нам римский кесарь не указ,— произнес Шереметьев,— нам Казань взять надо.
— Совет гож,— согласился главный воевода Старицкий.
— А раз гож, стало быть, завтра же все как следует переиначить. Ты, Андрюшка, и ты, Иванка, в полки идите и все как следует растолкуйте. Да и глядите мне! А то у нас все тюк на крюк делают. За людьми нужен глаз да глаз.
— Доглядим, государь,— ответил дьяк Выродков.
— А теперь князя Акпарса послушаем. Что у тебя за дело?
— Только что прибежал ко мне от мурзы Япанчи переметчик, сказывает он, что собрали татары луговых и арских людей под рукой Япанчи да Евуша числом тридцать тысяч за Казанью и хотят нам в спину бить. Больно плохо, если так будет. Я пришел сказать.
Царь поглядел на Старицкого, спросил строго:
— Как главный воевода о сем мыслит?
— Кто бы мог подумать?
— Как это кто? Что у тебя, доглядчиков мало? Да ты допреж чем к главному делу приступать, на сто верст окрест должен был все разведать.
— Може, брешет твой переметчик? — спросил Акпарса воевода Ромодановский.— Може, пакости ради он врать прибежал?
— Я ему верю, князь,— ответил Акпарс.— Япанча на такие дела мастак. Большой урон может сделать.
— Плохо воюем, князья, плохо,— вздохнув, произнес царь,— так до зимы у города протопчемся, заживо тут сгнием. Давно повелел я реку Казанку, что в крепость заходит, загородить и воду у казанцев отнять. Перебежчики баяли, что боле воды в крепости взять неоткуда. Время прошло немалое, теперь пора бы осажденным от жажды всем передохнуть, а они, по-моему, и в ус не дуют. Видно, еще где-то воду нашли? Разведали о том? Знаю— не разведали.
— Позволь слово сказать, государь?
— Говори, Адашев, говори.
— Вчерась прибежал к нам из Казани мурза Камай. Сказывал, что есть у казанцев тайник у Муралеевых ворот, и ходят они по подземелью к тайному ключу и воду там берут и нужды в
ней не знают. Мы с князем Серебряным начали рыть под тот ключ подкоп и думаем воду взрывом отнять.
— Скоро ли подкоп будет готов?
— Неделю, может, чуть боле придется подождать.
— Торопитесь! А ты, Выродков, хвастался башней высоченной, с колесами. Готова ли та башня?
— Готова была, государь, да бог нам не помог. Удумали мы на ту башню не токмо воев с пищалями сажать, но втянуть на нее пушки. И башня, не выдержав, рухнула, да людишек кое-каких поуродовала. Теперь мы иную башню строим в четыре ряда, на каждом по две пушки поставим и тогда уж подкатим к крепости беспрепятственно. Днями готова буде, а потом...
Вдруг за шатром поднялся какой-то шум В шатер вбежал князь Мстиславский, за ним ворвался ветер, потушил все свечи.
— Беда, государь мой!—крикнул в темноте воевода.— Вороги налетели на обозы наши, телеги все разметали, слуг поубивали да в полон взяли, добро все с собой увезли. Наскочили, ироды, нежданно, мы даже погоню послать не успели.
— Это Япанчи дело!—воскликнул Акпарс.— Значит, засеки они уже укрепили.
Иван рывком поднялся со стула, скинул шубу, отбросил ногой газ так, что уголья разлетелись по шатру.
— Князь Александр Борисович!
— Тут я, государь,— отозвался Горбатый-Шуйский.
— Бери от большого да от царского полков по две тысячи, в товарищи возьми князя Акпарса с его полком, отыщи на засеках того Япанчу, истреби его.
— Исполню, государь. Только позволь моих конников взять.
— Бери.
— Пойдем, князь Акпарс.
Идет десятый день подкопа под Муралеев родник. Санька со своей тысячей десять дней не видел свету. Копаются в земле ратники, будто кроты, ведут нору все ближе и ближе к цели. На коленях в специальных мешках вытягивают откопанную глину, по цепочке передают наверх. Подпоры ставят через каждые три сажени.
Вечером десятого дня Саньке донесли, что над проходом слышны голоса. Он немедля пробежал к забойщикам, прислушался, и верно: над головой раздаются глухие разговоры, звон кувшинов, плеск воды. Повелев дальше не копать, а только расширить место для зелья, Санька побежал к воеводе Василию Серебряному. Быстро позвали розмысла, дали знать государю. Минных дел мастер немедля же осмотрел горно и проход и сказал,
что для взрыва надо заложить одиннадцать бочек пороху. Ночью привезли бочки, вкатили их в горно. Минный мастер велел сначала открыть две бочки и порох высыпать на пол горна, устланного сеном. Потом велел открыть восемь бочек и перевернуть их открытой частью вниз, расположить на рассыпанном порохе. Порох последней бочки рассыпали дорожкой по всему проходу до выхода, закрыв выход соломой (не дай бог, порох до утра отсыреет), доложили царю, что мина готова. Ночью все беспокоились—дело-то новое, необычное.
На рассвете Иван Васильевич с воеводами осторожно подошел к подземной галерее и велел начинать.
Розмысл вынул изо рта трубку, открыл дверцу прохода и, присев на корточки, вытряхнул на пороховую дорожку комочек горящего табака. Зелье вспыхнуло — и оранжевый огонек, приплясывая, побежал по пороховой дорожке.
— Мы путем считайт до пятдесат и токта путет срыф!—сказал минный мастер, набивая трубку новой порцией табака.
Все напряженно стали глядеть в сторону Муралеевой башни. Но что это? Розмысл довел счет до семидесяти, до восьмидесяти, а взрыва все нет.
— Не надо потрефошится,— успокаивал царя минный мастер,— порох пот семля корит плохо. Сейчас путет срыф.
Когда счет дошел до ста пятидесяти, он сокрушенно сказал:
— Я стелал все верно. Мошет пыть, обвались галерей?
— Кто вел подкоп?—крикнул сердито царь.— Кто?!
Санька взглянул на перекошенное от злобы лицо государя и,
ничего не ответив, бросился в проход. Он бежал, склонившись, по темной галерее, изредка ощупывая рукой теплую дорожку от сгоревшего зелья. Вдруг его ладонь почувствовала что-то сырое и холодное. Под рукой лежал ком влажной глины. «За ночь просочилась вода,—догадался Санька,—и глина, размокнув упала на дорожку. Что делать?» Возвращаться назад было опасно. Кто знает, что придет в голову разгневанному царю?
Санька шагнул вперед и вдруг почувствовал под ногой что-то твердое. Это была оставленная здесь кем-то кирка. И решение пришло мгновенно. Санька схватил кирку и принялся выдалбливать в боку прохода нишу. Мягкая глина поддавалась легко, и скоро была готова выемка, достаточная для того, чтобы спрятаться в ней. Санька вытер о штаны руки, достал кресало и выбил искру. Потом перекрестился и бросил дымящийся трут на пороховую дорожку.
Собрав свое тело в комок, он сидел в выемке и ждал взрыва. Вдруг дрогнула земля, Саньку ударило чем-то свистящим и упругим, вырвало из ниши, бросило назад в проход.
Когда рядом с башней поднялся высоченный столб земли и черного дыма, когда страшный грохот взрыва разнесся над крепостью, царь топнул ногой и крикнул:
— Вот вам водица, поганые!
Алексей Адашев перекрестился и про себя тихонько сказал:
—- Душу раба божьего Александра, господи, прими...
Санька очнулся вскоре после взрыва. Он никак не мог понять вначале, где он. Едкий дым застилал глаза. Впереди светилось какое-то мутное пятно. Не раздумывая, он пошел на свет. Вышел, осмотрелся. Взрывом разнесло весь родник, завалило подземный проход, по которому казанцы выходили к воде. Всюду лежали забросанные землей и каменьями трупы. На самом краю обрыва лежал медный кувшин. Из него тонкой струйкой бежала вода. Вдруг рядом кто-то застонал. Санька наклонился и увидел девушку. Она, словно подбитая птица, лежала на боку, подобрав под себя ноги и руки. Санька опустился перед ней на колени, приложил ухо к груди. Девушка была жива. Осторожно взяв на руки, он перенес ее в проход, прикрыл кафтаном, сходил за кувшином, в котором осталось немного воды, намочил конец пояса, положил девушке на грудь и стал ждать.
Девушка очнулась нескоро. Она открыла глаза и взглянула на Саньку. Он больше всего боялся, что бедняжка, увидев его, умрет от страха. Но девушка, облизнув пересохшие губы, шепнула:
— Су.
Санька приподнял ее и поднес кувшин к губам. Девушка жадно начала пить, изредка поворачивая в сторону Саньки черные, как смородины, глаза.
— Как тебя зовут?—тихо и нежно спросил Санька, когда вода была вся выпита.
— Бельмим.
— А-а, не понимаешь.— Санька ткнул себя в грудь,— Саня. А ты?
— Мин?
— Да, да — син.
— Гази...
— Ты меня не бойся, Гази.
Девушка кивнула головой в знак того, что поняла и закрыла глаза.
— Что же мне делать с тобой, Гази, не скажешь ли?—как бы про себя произнес Санька, когда девушка вновь поглядела на него.— В Казань я тебя отправить не могу.
Гази испуганно встрепенулась и закричала:
— Казанга кирякмы! Не нада Казань!
Она что-то заговорила быстро и умоляюще, но видя, что Санька не понимает ее, показала на нож, висевший у пояса, потом на свою грудь.
— Ты что, девка, очумела? Разве рука у меня поднимется убить тебя? Со мной пойдем. Отпущу тебя на все четыре стороны.
Гази поднялась, оперлась на Санькино плечо, и они тихо пошли по подкопу.
Взглянув на девушку при дневном свете, Санька увидел, как красива Гази. Над черными задумчивыми глазами брови вразлет. Лицо круглое, смугловатое, через маленький, чуть приоткрытый рот виднеется цепочка белых зубов. А на подбородке -- ямочка. Взмахнув ресницами, Гази внимательно поглядела на Саньку, как бы тревожно спрашивая: «А дальше что?»
— Ну, — вздохнув, промолвил Санька, — пора. Иди куда глаза глядят. Держать тебя я не волен.
Гази по голосу поняла Саньку, заплакала и, выкрикивая неведомые ему слова, подбежала, уцепилась за плечи, приникла к груди.
Санька гладил ее по голове и говорил:
— Ну, куда я с тобой? Разве тебе на войне место? И опять же как отпустить тебя одну? Людишки тут кругом озверелые, испакостят, разорвут. Эх, горемышная.
С превеликими осторожностями привел Санька девушку в свою землянку, накормил, напоил и уложил спать.
Через час в землянку спустился князь Серебряный.
— Мы за упокой о нем молились, а он живой вернулся да и трофей с собой приволок, — улыбнулся воевода. — Государь Иван Васильевич о подвиге твоем узнал, а узнавши, повелел тебя наградить. Вот тебе золото из царской казны,— воевода положил на стол фунтовый кошель.
Князь подошел к девушке и долго глядел на нее. Потом сказал:
— Да... жалко, что басурманка. А то бы хорошей женой была тебе, тысяцкий воевода.
— Только куда я с ней-то?
— Завтра посылаем людей во Свияжск за кормами — поезжай и ты. Там пристроишь ее где-нибудь...
Снова потянулись многотрудные дни войны. Только стал замечать Санька, что Гази у него из ума не идет. Днем ли, ночью ли — все о ней думы. В иные дни так защемит сердце, что взял бы и умчался во Свияжск.
Над Муралеевой башней взметнулся оранжево-красный шелковый плат. Ближним к стене ратникам было видно, как татарин махал длинным шестом, на котором привязан был цветной шелк, и что-то закричал по-своему. Со стен перестали стрелять, ратники, разинув рты, смотрели на яркое пятно, плясавшее на утреннем небе, и думали: «Уж не сдаваться ли казанцы хотят?».
Но открылись сразу все ворота города, выплюнули по полу-
тысяче воинов — и конных, и пеших, и бросились татары на осаждающих.
И за спиной у русских вог:к— тревожные крики. Отражают ратники татарские вылазки, посматривают назад. Во втором кольце тоже бой идет: налетел сзади Япанча со своими наездниками, сечет наших ратников нещадно.
Не прошло и четверти часа, как все многотысячное войско на ноги поднялось, и уж все опьянены боем. Затрубили трубы, вздымая тучи пыли, носились по полю боя конники, шумели знамена. И пошла сила на силу, броня на броню, сабля на меч, пешии на конного. Все смешалось в водовороте страшной сечи.
Только к вечеру утихло поле вокруг Казани. Убежали за ворота озлобленные казанцы, ускакали в леса всадники Япанчи. Богатый урожай на этот раз сняла смерть с поля боя. Усталые воины хоронили товарищей, лечили свои раны.
С этого дня пошло. Чуть не каждый день полощется над башней багряно-красное знамя. Стоит только появиться ему над крепостью — сейчас же начнется вылазка из города, налетят со стороны Арского поля воины Япанчи, а от галичской дороги наездники Евуша. И снова закипит сеча.
Ратники Акпарса и воины Горбатого-Шуйского напрасно рыскали по лесам. Япанча встречи с ними избегал. Пока они гонялись за одним отрядом, два других налетали на осаждающих в самом неожиданном месте.
Войска каждый день несли от этих налетов большой урон. Полку правой руки и большому полку доставалось больнее всех. За короткий срок одной трети ратников как не бывало.
Государь спокою не дает главному воеводе Старицкому, воевода грызет Горбатого-Шуйского, а тот Акпарсу твердит все время:
— Думай, думай, как Япанчу изловить. Он твоего племени, ты повадки его должен знать, слабинку у него выискивай. Помни: государь гневается, да и рать на глазах тает.
Стал Акпарс вспоминать все погони за Япанчой, все его уловки. И один случай пришел на ум: как-то догоняя Япанчу, Акпар- совы всадники растянулись, но, почуяв слабину, решили спешно выскочить из леса. И тогда Япанча сразу повернул назад.
Хорошая думка пришла в голову Акпарсу. Поделился он ею с воеводой, тот мыслишку похвалил, и стали они готовить Япанче западню. Выбрали поляну, Акпарс спрятал перед поляной в лесу свой полк, войско князя Горбатого-Шуйского встало в стороне около озера. Топейке дали под начало сотню всадников.
Засека Япанчи расположена в лесу подковой. Перед ней лес вырублен и сложен высокими валками. Пока до валка через вырубленное место бежишь, сразят тебя стрелой. Дорога одна, а кругом густой непролазный лес, и выбить Япанчу из засеки нельзя.
ЗЛІ
Топейка добрался до выруба, расставил всадников за деревья и давай про Япанчу и его людей обидные песни петь. Слушает Япанча, зубами от злости скрежещет. И люди его от обиды зеленеют. Всадники Топейковы тоже не молчат—разные нехорошие слова про Япанчу выкрикивают.
Терпели-терпели засечники насмешки, не вынесли — выскочили на валки, бросились через выруб на обидчиков. Топейка махнул рукой, запели стрелы — и остались смельчаки лежать на открытом месте мертвыми. Тут уж сам Япанча от злобы голову потерял — вскочил на коня, поднял своих людей и вынесся через проход впереди войска с поднятой саблей.
Топейкины всадники повернули лошадей и — удирать.
— Стой, вонючий козел!—кричит Япанча, размахивая саблей. Скачут насмешники что есть духу, за ними с гиком и завыванием— джигиты Япанчи. Сам Япанча на сивом жеребце впереди. Еще немного — и захлестнет Топейкову сотню лавина япанчинцев. «Вот на поляне я тебя и прикончу»,— думает Япанча и выносится из леса на простор.
Но что это? Круто свернули Топейкины всадники вправо, и нет их на поляне, а прямо из леса мчится на Япанчу с копьем наперевес сам Акпарс. Не успел Япанча повернуть коня, ударилось копье прямо в грудь, выгнулось и снова распрямилось. Вылетел Япанча из седла, его же всадники промчались по изувеченному телу своего мурзы.
Выскочил полк Акпарса на поляну — и зашумел в лесу ветер битвы. Дрожит земля, звенят сабли, ржут кони. Стон, крики, вопли разносятся по поляне.
Весть о гибели Япанчи разнеслась по засекам. Его люди скачут на поляну тысяча за тысячей — теперь Акпарсовым воинам несдобровать.
Дрогнул полк Акпарса, тесно стало на поляне от засечных воинов. И уже хотели они насладиться жаждой мщения за смерть своего предводителя, хотели петь песню победы, как вдруг увидели: мчатся от озера русские конные ряд за рядом и не видно им конца. Повернули коней, но нет пути назад — вся дорога ощетинилась русскими мечами, копьями, застлан лес дымом пищальных выстрелов. И сами засеки заняты русскими.
Остался один путь: бросить коней и разбежаться по лесам в разные стороны, чтобы больше никогда не поднимать на московитов оружие. ’! не стало войска Япанчи, опустели близкие к Казани засеки.
Евуш, узнав о гибели друга, испугался так сильно, что бежал до арского острога со своими войсками без оглядки, там укрылся за бревенчатым частоколом крепко-накрепко и стал в тревоге ждать, что будет.
На второй день одумался. Вывел своих воинов ночью в лес и велел умереть, но русских к Арску не допускать.
Узнав о разгроме Япанчи, царь похвалил Акпарса, но гут же спросил:
— А Евуш где?
— В арском остроге сидит. Теперь сюда нос не сунет.
— Так ему татары сидеть и позволят! Силенку подкопит — опять на нас пойдет. Надобно его оттуда выкурить. Передай воеводе Александру Борисовичу, чтобы он в осаду не вставал, а снова вместе с твоими воинами шел бы и дело бы вершил полностью.
— Так будет, государь,—ответил Акпарс, и уже на следующее утро его полк выступил в сторону Арска.
От Казани до Арска около пятидесяти верст, кругом Арска леса, сам острог стоит на холме. Воины вступили в приострожные леса, когда начало смеркаться. Впереди полка версты на три шла ертаульная тысяча Янгина. Акпарс строго-настрого приказал ертаульцам при встрече с недругом в бой не вступать, а сразу, известив полк, отступать, как положено всегда делать ертаулу.
Но Янгин всегда и все делал по-своему. Так и тут. Наткнувшись на засеку, он навалился всей своей силой на препятствие, встреченное в пути. Частично перебив, а частично рассеяв защитников засеки, Янгин принялся ловить разбежавшихся стрелков.
Пакмана он заметил случайно. Стараясь убежать к острогу, тот сам выскочил навстречу Янгину
— А-а, это ты, собачья нога! — крикнул Янгин и пустил коня за убегавшим.— Подожди, я тебя не трону,— кричал он, подхлестывая коня.— Пойди, повинись перед Аказом — и он простит.
Но Пакман, не останавливаясь, бежал, петляя меж деревьями. Янгину казалось, что тот не слышит его, и кричал еще сильнее:
— Остановись! К кому ты бежишь? К врагам нашим бежишь!
Скоро густые заросли кончились, впереди показалось ровное
место, заросшее высокой травой и редкими деревьями; Пакман выбежал на раввину и большими прыжками стал удаляться.
353
— А, трус, ты боишься! Тогда схвачу тебя за твои длинные уши и приволоку к Аказу,—крикнул Янгин и пришпорил коня. Жеребец взвился на дыбы и сделал большой скачок в траву. Заросли осоки распахнулись — и конь грудью ударился в жидкую тину болота. Еще один прыжок вперед — и оба, конь и всадник, оказались по шею в застойной густой жиже. Янгин схватился руками за кочку, но она сразу погрузилась в воду, расплылась, будто растаяла. Самое страшное было то, что правая нога Янгина застряла в стремени и он не мог высвободить ее, а коня засасывало все глубже и глубже. Скоро над водой были видны только его ноздри и кончики ушей. Янгин рывкам бросился к ближнему чахлому деревцу, уцепился за него руками. Дерево пригнулось
23 Марш Акпарса
к самой воде, но все же поддерживало Янгина. Коня уже не было видно, он уходил в бездонную глубь заросшего озера и тянул за собой всадника.
— Ну что, русский прихвостень, теперь делу конец?
Совсем недалеко от Янгина на двух больших кочках стоял, расставив ноги, Пакман. Он со злорадством глядел на Янгина через плечо и не думал спасать его.
— Подержи меня за левую руку, я правой сниму сапог! — крикнул Янгин.— Ты видишь, я тону!
— Туда тебе и дорога! Днем раньше, днем позже — все равно русским под Казанью конец придет, и тебя, и всех вас татары посадят на колья.
— Врешь! Все равно наша возьмет, все равно наш край под Кучаком страдать нэ будет. А ты... Ты моему народу врагом стал... ты татарской кобылы хвост!
— Скоро я хозяном всего края буду!
Янгин вытянул шею, плюнул в сторону Пакмана, крикнул:
— Будь проклят ты, кусок змеиного мяса!
— Ах, так. Подыхай тогда!—И Пакман ударил носком сапога под корень склоненного дерева. Оно обломилось — и вода сомкнулась над Янгином. Скоро деревцо всплыло и медленно закружилось вокруг того места, где нашел свою смерть горячий и беспокойный, любящий свой народ патыр Янгин, сын Тугаев. Арск пал через три дня. Запасы еды у Евуша кончились, и пришлось ему сдаться. Воинов в крепости хоронилось множество, что с ними делать? Послали гонца к царю. А тот, узнавши, что под Арском легло три тысячи ратников, приказал:
— Евуша и его воинов — на колья!
МАРШ АКПАРСА
Шигонька, Иванка Выродков и Андрюшка Булаев живут в одном шатре и все длинные осенние вечера проводят в беседах, спорах и всяческих разговорах. Шигоньке без своих друзей писать книгу о деяниях царских под Казанью было бы трудненько. А тут каждый день приносят друзья ворох новостей, он все услышанное заносит в тетрадку, а потом — в летописную книгу.
Сегодня как раз приспел такой срок, и Шигонька вылавливает из тетрадки наспех записанные мыслишки.
«И зело плохо стало во Казани после отнятия воды и много розни в городе сотворилось. Одни хотели за изнеможение бить челом Государю, иные изменники начата воду копати — искали и не нашли. Токмо малого потока докопались, и был он смраден, от тоя воды люди пухли и умираху с нея...
...Царь же всея дни и всея нощи ездит по полкам и всех жалует и утверждает и труд их похвадяет и жаловати воинов обещается.
И по граду из пушек беспрестанно бьюще, и Арская ворота до основания сбита и обломки сбили и множество людей побиваху и верхнего боя огненными ядры и каменными все ночи стреляли...
...Повелел царь диаку Выродкову башню поставити противу Царевых ворот, та башня шести сажен вверх, и вознесли на нея много пушек и полуторные пищали и затинныя. И стрельцы с пищалями многия стали и стреляли с высоты в город по улицам и по стенам градным и побивая многая же люди. И из-за Тарасов били во все дни и из нор, яко же змеи вылазя бились беспрестанно день и ночь...»
Погасла догоревшая свеча. Шигонька хотел зажечь другую, ан глядь — на дворе утро.
Готовясь к решительному штурму, воины Василия Серебряного рыли подкоп под Ногайские ворота, а ратники Алексея Адашева подкапывались под стену между Аталыковыми и Тюменскими. Особенно трудно доставалось последним. От начала подкопа до стены более ста саженей — пробиться под стену в такую даль не шутка. Но не это беспокоило Алексея Адашева. Он не знал точной меры до стены, и узнать эту меру никак было нельзя. От речонки Верхней Ички шла наискось к Аталыковой башне высокая бровка—она скрывала пространство до стены, и потому даже самые лучшие глазомеры не могли сказать, сколько до крепости саженей. А в минном деле это потребно знать точно: не доведешь подкоп на одну сажень—вся работа прахом пойдет. Прокопать лишнюю сажень еще хуже — вынесет зелье дыру в город, устроят через нее же татары вылазку в наш стан — не оберешься бед. А стена так и останется нетронутой. Уж сколько людей извели, посылая на тайную промерку: разят их со стены стрелами — ни один обратно не возвратился.
Из подкопа по голосам тоже не определишь, где стена. Проход бьют на глубине девяти сажен, выше нельзя — болотистая земля, поплывет все.
Пришел Адашев к Акпарсу, поделился с ним своей заботой, сказал:
— Поговорил бы ты, князь, со своими. У тебя народишко з полку продумный. Может, хитрость какую придумают. Многие люди по-татарски хорошо калякают, может, перебежчиками прикинутся, либо што.
...На Казань спускалось утро. Угасали одна за другой мерцавшие в ночи звезды, восток одевался в по-осеннему бледноватую попону зари. В уходящей ночи защитники стен не сомкнули глаз. До самого рассвета били пушки русских, стены содрогались
от ударов каменных и огненных ядер. Перед утром удачным попаданием снесло вершину Аталыковой башни. В каменных обломках погибло много стрелков.
Несколько суток проводят защитники города без сна. Людей осталось мало, смену делать некому. Те люди, которые на стене сидят, они же, спустившись вниз, запасные укрепы строят. Всю ночь пели над головами казанцев стрелы, выли ядра, свистели пули. В грохоте и дыму тонула ночь. Наутро вдруг все утихло. Русские успокоились, залезли в норы.
На северной стороне, между крепостной стеной и речушкой Ичкой, раскинулось небольшое озерцо Прилуцкое. На сухом песчаном берегу под косогором разместился стан, который с легкой руки Ешки назвали Бабьим. Место тут безопасное: от вражеских стрел спасает косогор, от внезапных набегов — войско князя Микулииского. С тыла тоже опасности нет: там, за Ичикой, царский стан и запасные полки.
Палата, еще будучи в Свияжске, надумала собрать баб, чтобы в бою помогать раненым. Взяла с собой Ирину, Пампалче и других свияжских жёнок и привела под Казань. Запаслись полотном, корнями, травами и снадобьями и расположились у озера.
В эту ночь, как и в прошлые, дел у женщин много. Раненых везут, ведут без конца, каждого надо обмыть, перевязать. Палата привычно перетягивает воину изувеченную саблей руку, Ирина рубит корни, под самым откосом Пампалче развела костерок и вываривает травы, делает мази. Чуть в стороне — вход в подкоп, оттуда ратники выносят мешками землю. К подкопу подошел Акпарс, сел на горку камней, вынутых из подкопа, положил на колени гусли, но играть не стал. Руки — на струнах, а сам ушел в думы. Ирина прошла мимо него, вроде бы по делу, он ее и не заметил. Возвратившись, Ирина села около Палати, заплакала.
— Слезы льешь в три ручья, а отчего?—сказала Палата, продолжая перевязывать раненого.— Ты думаешь, слезами горю поможешь? Нынче с мужиками надо обходиться по-иному. Да если их, прохвостов, ждать, они... У-у, ироды, лихое семя! Они ноне либо в походах шляются, либо воюют, либо пьянствуют, разрази их господи! Ты только погляди: вот братец твой Санька, до собачьей старости дожил, а не женат. А на Ешку посмотри: ведь грива вся седая, а все холостяк! Ужо погоди—возьмем Казань, их, балбесов, надо за загривок брать, да так к венцу и вести. А князюшко новоиспеченный, пока женатым был, кружился около тебя, как петух, а овдовел—крылья сложил...
— Аказа не вини,— сказала Ирина, вытирая кончиком платка слезы.— В том, что его супруга руки наложила на себя,— моя вина. Она его любила.
— А он ее?
— И он. Ты посмотри, как мучается.
— Что случилось, не поправишь. Из гроба человека не воротишь. Живому надо думать о живом. Ну-ка, сердешный, попробуй, встань. — Раненый поднялся, но пойти не смог — нога словно одеревенела.— Пойдем к повозке. Ириша, помоги.
Ирина подставила воину плечо, все трое скрылись в темноте.
Из подкопа вышел Ешка. Увидев Акпарса, подошел к нему, сказал с упреком:
— Сидишь?
— Сижу.
— Наутро штурм, а у нас подкоп не готов. Минный мастер по-своему бранился, теперь уж по-русски матюкается. Не дай бог, государю пожалуется. Он говорит: длину подкопа поручено узнать тебе.
— Да, да. Я Топейку послал, скоро придет.
— Пошли еще кого-нибудь. Смотри — рассветает.
— Я все думаю: почему Эрви отраву приняла?
— Нашел время. Вот-вот появится воевода Микулинский, а то и государь. С ними шутки плохи.
— Сейчас пошлю...
Пригибаясь, Акпарс поднялся на косогор. Ешка двинулся за ним. Миновав гряду невысоких холмов, они вышли на площадку, где стояли пушки. Перед ними возведен высокий бруствер из мешков с землей, из корзин с камнем. За бруствером в редком подвижном тумане до самой крепостной башни белела ровная долина. С той стороны через бруствер перемахнул Топейка —весь в грязи. Отрывая с рукавов репейники, подошел к Акпарсу.
— Что делать будем, Аказ? До башни не могли дойти. На стенах жгут костры, лощина перед стеной, как ладонь. Семь человек ходили мерять — все убиты. Быть может, на глазок?
— Ха, на глазок! — сказал Ешка и плюнул.— Ты что, к лаптям веревку вьешь? Нам надо знать, сколь саженей до башни. Инако мину мы установим не там, где надо. Под землей-то ничего не видно. Не доходя, заложим зелье—весь взрыв коту под хвост. А если дальше башни...
— Возьми еще людей и меряй,— приказал Топейке Акпарс.— Придумай что-нибудь. Спеши.
Топейка снова перелез через бруствер, побежал, пригибаясь вправо, где стояла его сотня.
Ешка снял с пояса баклажку, вытащил из глубокого кармана рясы оловянную кружку:
— Давай пропустим по единой? Как говорят неверные, давай один кружка два раза пьем.
— До этого ли нам? Иди в подкоп, следи.
— Ты не беспокойся — там Мамлейка. Я на него, как на родного брата... Да и подкоп где-то около башни. Смотри, мои Орлы... как муравьи таскают землю. Все будет слава богу. Держи!— Ешка протянул Акпарсу кружку с вином, тот выпил. Ешка налил еще, выпил сам. Сели в сторонке. Туман поднимался ввысь, редел, рассеивался по лощине. Было видно, как несколько человек, склонившись, побежали к башне...
С полночи по приказу главного воеводы Старицкого полки начали менять позиции. Войско с осадного распорядка перестраивалось для штурма. С севера зажал крепость железной подковой полк правой руки во главе с князем Курбским, с юга — сразу четыре крепостные башни поставил под огонь пушек князь Микулинский. С запада вперед выдвинулся штурмовой отряд хана Шигалея, за ним — полк Воротынского. С востока подтянулся полк Мстиславского. Сторожевой и царский полки — в запасе. Остальные рати — во втором штурмовом кольце.
В шестом часу утра около южного бруствера появились царь Иван, воевода Старицкий, князь Микулинский, князь Дмитрий Плещеев и минный мастер Розумсен.
Царь выглядел усталым и встревоженным. Ему шел двадцать второй год. Обычно был он не по-юношески нетороплив и задумчив, строгое царское одеяние подчеркивало его величавость. И вдруг на молодом его лице старые воеводы увидели испуг и растерянность. Только один Адашев знал, что царь всю ночь провел в своей шатровой церкви, молился богу, а на рассвете позвал своего духовника, долго беседовал с ним. Адашев понимал состояние царя. Даже бывалые воины волнуются перед штурмом, а для Ивана этот день был решающим. Если город устоит, то сил для повторного штурма уже не хватит, ратям придется снова, не солоно хлебавши, возвращаться в Москву с позором. И донесения воевод не радовали: приказ о том, чтобы забросать рвы бревнами выполнен не везде, не все полки второго кольца вышли на свои места. Бреши в крепости, пробитые пушками накануне, казанцы успели заставить срубами и засыпать землею.
— Князь Володимир,—обратился царь к Старицкому,— пушечный наряд готов? Кто за него в ответе?
— Его ты поручил, великий государь, ну как его... холопу Саньке.
— Где он?
— Я тут, Иван Василии. Все пушки на местах, у каждой зелья и ядер в достатке.
Увидев Ешку, царь спросил:
— Где воевода горного полка?
— Здесь, великий государь.— Акпарс вышел вперед.
-—Где воины твои?
— Две сотни роют землю. Остальные — на берегу Ички.
— Всех приведешь сюда. С моим полком поставишь рядом.
— Исполню, государь.
— Кто сей подкоп ведет?— Иван обратился к Розумсену.
— Поручил Юхиму. — Минный мастер кивнул головой в сторону Ешки.
— Подойди поближе...— Ешка сделал два шага вперед, царь подошел к нему, сморщил нос — почуял винный запах.— Подкоп готов?
— Не узнана длина подкопа. Где ставить мину, не знаем.
— Адашев! Куда смотрел?!
— Мне воевода горного полка обещал...
— И здесь проруха!
— Лазутчиков к стене не подпускают, великий государь! Я трижды посылал,—сказал Акпарс, и в это время через бруствер перевалился Топейка.
— Аказ! Я ничего не мог поделать. Еще двенадцать человек убито, а смерять не смогли.
— Ты что ж, воевода горного полка?! Тебе доверили большое дело, а у тебя — ни коня ни возу. А минный мастер только что проснулся! Да я вам головы снесу! — Царь подбежал к Ешке, толкнул кулаком в плечо.— Здесь поле брани, а не кабак! Немедля к стене. Сам меряй, сам! Пес долгогривый!
— Иду!— Ешка, кряхтя, полез на бруствер.— Я смеряю...
— Постой! — крикнул Акпарс Ешке.— Я сам пойду. Топейка, гусли!
Пока Топейка бегал за гуслями, Акпарс сбросил кольчугу, шлем, остался в одной рубахе. Никто не заметил, как около бруствера появилась Ирина, подбежала к Старицкому.
— Он — воевода. Ему нельзя. Позвольте мне. Я баба — меня не тронут. Я смеряю.
— Ты с ума сошла! — Санька оттащил Ирину от воеводы. — Сейчас же уходи отсюда!
— Не надо, милый! — Ирина ухватилась за руку Акпарса, но тот отстранил девушку и, повесив гусли на шею, перелез через бруствер.
— Что он задумал? — спросил царь тревожно, а Ирина бросилась к Топейке, крикнула:
— Топейка! Что ты смотришь? Иди, останови его, ведь он на смерть пошел!
Топейка перемахнул через вал, скрылся. Санька вскочил на бруствер и, прячась за высокой корзиной с камнями, стал смотреть на лощину.
— Его видишь? — спросил царь.
— Идет... Идет. Рубаха — будто лебедя крыло. Сейчас ему конец!
— Пустите! Я к нему пойду! — крикнула Ирина и полезла на вал. Ее стащили, увели. Старицкий развел руками, сказал ехидно:
— Теперь ищите ветра в поле. Сбежит к врагу.
— Не надо, князь,— заметил Микулинский.— К врагу бегут трусы. Акпарс не из таких.
— Вот он упал!—крикнул Санька.— Нет, встал. Идет... Играет...
— Зачем же он с гуслями?— спросил Плещеев.
— Младенцу ясно: знак дает, чтоб не стреляли...
— Заранее сговорились. Что черемиса, что татаре — все одно.
— Иван Василии! Вели убить. Он много знает.
— Успеем. Быть может...
...Казанцы сразу насторожились: почему вдруг стало тихо? Напряженно смотрят на осадные ряды, прислушиваются.
Если бы в этой утренней тиши раздался взрыв или выстрел из пушки, никто не удивился бы. Но под стенами города неожиданно зазвучала музыка. Кто-то играл на гуслях и играл искусно. Казанцы чувствовали, что гусли в руках нерусского, и никак не могли понять, откуда эти удивительные звуки. После грохота боя музыка льется в души людей, как прохладная вода в тело изнуренного жаждой путника. За сорок дней осады только звуки выстрелов да стоны раненых терзали слух казанцев.
— Смотрите, вот он!— крикнул один улан, и осажденные увидели человека, который шел от русских рядов. Несмотря на прохладу, человек был одет в белую вышитую рубаху, шел без шапки. Большие гусли поддерживались ремешком, перекинутым через шею.
Гусляр прекратил на мгновение игру, крикнул по-татарски:
— Не стреляйте, люди, я к вам иду.
Видят люди: идет человек по ничьей, опаленной огнем земле, высоко подняв голову, ровным широким шагом. И под стать шагам звенят гусельные струны, и далеко по утренней заре разносится эта песня-марш...
Все больше и больше становится воинов на стене, и вот уже сам мурза Чапкун прискакал сюда, забрался на башню, приник к узкому окну.
Встрепенулись воины, опомнились от очарования музыки, дрожат перед жестоким военачальником.
— Может, убить?— спрашивают.
— Не надо. Я знаю его. Это Акубей — черемисский князь. Что- то важное несет он нам. Скажи всем, чтобы не стреляли.
А музыка все ближе и ближе, все громче и громче рокочут струны — и вот Акпарс встал около самой стены. Снял гусли, повесил на ремешок за спину, поднял голову и крикнул:
— Привет вам, доблестные казанцы!
— Мы слушаем тебя, Акубей,— ответил Чапкун.— Зачем пришел сюда?
— Я пришел сказать, что русские согласны отступить от Казани, если вы дадите откуп семьсот двадцать шесть шапок золота. Вы слышите. Семьсот двадцать шесть! Всего семьсот двадцать шесть — и ни шапки больше. Вы поняли меня?
Акпарс повернулся и тем же ровным шагом пошел обратно. В отполированных планках гуслей, повешенных за спину, отражались лучи восходящего солнца.
— Почему именно семьсот двадцать шесть шапок и не больше и не меньше?— тихо произнес Чапкун.— Какую-то тайную весть хотел сказать он этим, но какую?
И вдруг мурзу осенило! Он ожег плетью первого попавшегося под руку стрелка и крикнул:
— Какой я безмозглый ишак! Он считал шаги, этот презренный волкодав, а мы, развесив ослиные уши, слушали его »пру.
— Его надо убить,— предложил кто-то.
— Убить! Убить! Он так орал, что было слышно в Свияжске. Русские уже знают, что до стены семьсот двадцать шесть шагов. Убейте его!
Дрогнули, зазвенев, струны от первой стрелы, вонзившейся в гусли. И тогда Акпарс побежал, низко наклонив голову. Тучи стрел летели вслед ему. С печальным звоном лопались струны, в гуслях торчали десятка два стрел. Но хозяин их был невредим. Широкие двойные стенки инструмента надежно защищали его спину и голову...
...За бруствером сначала тоже не поняли слов Акпарса.
— Какие шапки? Какое золото?— спросил царь, глянув на Старицкого.
— Я думаю, условный разговор...
— Пищальников сюда!
Около бруствера появились трое с пищалями.
— Убить!
Стрелки положили оружие на мешки с землей, прицелились. И тогда Ешка подбежал к царю, крикнул:
— Стойте! Погодите! Я понял! Шаги! Не шапки! Семьсот двадцать шесть до стены шагов. Вели, Иван Василич, готовить мину. Мамлейка! Иди сюда.
— Смотрите, он бежит назад!— закричал Санька.— О господи! Упал и не встает!
Снова появилась Ирина. Она перелезла через вал, бросилась в лощину, Санька побежал за ней.
— Чья эта жёнка?— спросил царь.
— Сестра ему,— сказал Микулинский.
— А воеводе — кто?
— И ему — сестра,—сказал Ешка.
— Как? Он черемсин.
— Теперь, Иван Василич, мы все родные. Едину чашу крови пьем. Все братья мы и сестры.
Через несколько минут Санька и Топейка перетащили через вал Акпарса, положили на траву.
— Убит?—-спросил царь.
— Ранен.
— Семьсот двадцать...
— Знаем. Спасибо, князь,— Царь склонился над Акпарсом.— Да ты совсем седой.
— Вот гусли жалко,—промолвил Акпарс, приподнимаясь...
Наступило время решительного штурма города. Штольня была увеличена на двадцать шесть шагов, расширено горно, в которое внесли двести пудов пороха. Акпарс лично сам по совету минного мастера разместил бочки. Помня неудачу при подрыве водяного тайника, взрывать зелье решили не пороховой дорожкой, а оставленными в горне свечами. За определенное время до взрыва надумали внести в горно свечу, зажечь ее и поставить на порох. Когда свеча догорит, огонь коснется зелья—и стена взлетит на воздух.
Через два часа полк встал на новое место—недалеко от начала подкопа к Аталыковой башне. Туда же вскоре перенесли царские шатры. Сигналом к началу штурма должен был служить взрыв Ногайских ворот.
Все было готово к решительному штурму, и на рассвете второго октября 1552 года Василий Серебряный и Алексей Адашев подожгли запал первого порохового погреба. Взрыв огромной силы раздался над Казанью. Взлетели обломки крепостных стен, через широкие проломы русские ворвались в город. Казанцы защищались храбро и отчаянно, и настал такой момент, когда они стали теснить наступающих. Ратники хлынули вон из города, и вспыхнула у татар надежда на победу. Думали: нет больше у русских сил, не взять им город.
Царь в походной церкви закрылся, богу молится. То один воевода подскочит к шатру, то другой.
— Силы, государь, на исходе!—кричит.—Пускай в дело царский полк. Люди в крови захлебываются.
— Иван Васильевич, пора!—зовет подскакавший Воротынский.
Иван стоит перед лампадой, молится, а сам про себя думает:
«Слава богу, что в церкви спрятался. Не то давно уговорили бы воеводы запасный полк в бой пустить. Вот побегут наши ратнички, татары за город выскочат, вот тогда...»
Вбежал главный воевода Старицкий:
— Государь, позволь твой полк на подмогу бросить. Беда!
— Ты не видишь, воевода, я богу молюсь за победу. Мешать мне грех. Выйди!
Главный воевода прыгнул на коня и крикнул подъехавшему Курбскому:
— Туда нельзя! Братец мой с перепугу в молельню спрятался.
«Ну, я тебе это припомню»,—думает царь и крестится.
И второй раз осадил коня у царского шатра воевода Воротынский:
— Гибнем, государь! Бегут из града. Сеча уж на воле идет!
— Воеводу Акпарса ко мне!
— Я тут, великий государь.—Акпарс с двумя сальными свечами в руках подбежал к царю.
— Подкоп готов? Заноси свечи. Зажигай!
Акпарс передал одну свечу Мамлею, а сам с другой свечой спустился в штольню. Под землей было темно, однако Акпарс бежал по подкопу быстро—сколько раз тут хожено, каждый выступ знаком. Не доходя шагов десяти до горна с порохом, высек на трут искру, приставил к труту палочку из смолья, подул. Смола вспыхнула жирным язычком пламени, зажгла фитиль свечи. Штольня осветилась бледным светом, слева на стене, выгибаясь, заплясала тень. Акпарс шагнул в горно, подошел к бочке, открыл крышку. На черном, поблескивавшем от пламени свечи зелье лежал заранее приготовленный крестец. Акпарс взял его, накапал на середину сала, установил свечу. Подождав, пока сало остынет и укрепит свечу, осторожно поставил крестец на порох и выскочил из горна. В пяти шагах от зелья выбил подпорки, и штольня рухнула, плотно закупорив горно.
Царь уже ждал его. Акпарс вышел наружу и увидел, что Мамлей зажег свечу.
— Все сделано, великий государь. На порохе такая же свеча. Как догорит, и там огонь коснется зелья. И будет взрыв.
Из-за шатра выбежал Микеня, упал перед царем на колени.
— Государь, спаси! Гибнем, государь! Воевода Шереметьев просил уж ежели не царский, то Акпарсов полк в дело пустить. Подлогу надо!
Встань, сотник!—спокойно сказал Иван.—Беги к воеводе,
скажи: всему свое время. Пусть без меня обходится.
Микеня вытер с лица пот, пыль и копоть и бросился обратно. Не успел Микеня скрыться из виду, как с другой стороны выбежал воевода Микулинский.
— Иван Васильевич! Сил больше нет, и полчаса не минет, как ратники назад побегут! Пусти запасные полки, пусти, послушай меня, старого!
Иван глядел на язычок пламени догоравшей свечи и, не поворачиваясь к Микулинскому, проговорил:
— Время не приспело, воевода. Еще немного...—и махнул рукой в сторону битвы. Микулинский вскочил на коня, хлестнул его плеткой и скрылся за кустами. К царю подошел Сильвестр, их окружили воины из царской охраны, некоторые тысяцкие из запасных полков. Акпарс и Мамлей стояли сбоку. Все неотрывно глядели на свечу. Она оплыла, и фитиль, согнувшись, горел, широко пуская темную струю дыма по легкому ветерку. До конца оставалось полвершка, не более.
И снова около царя осадил коня посланный воеводы Курбского.
— Великий государь! Князь Курбский просит помощи! Татары вышибли нас из города! Ратники бегут. Брат князя, Семен Михайлович, тяжко ранен. Что воеводе передать повелишь?
Иван глянул на посланного, потом перевел взгляд на свечу.
— Мгновение дорого, великий государь!
— Замолкни, воин! Скачи, скажи воеводе, что царь с полками запасными немедля будет там. Скачи!
Умчался воин, расплылась свеча, и фитиль горел теперь на днище бочки, плавая в сале. Царь вскочил на пригорок и устремил взгляд в сторону крепости. Все в напряжении ждут взрыва. Но взрыва нет. Проходит минута, другая, третья... Вот прошло около десяти минут. Но нет взрыва!
Царь бледнеет, поворачивается к Акпарсу—и все видят бешенство в его глазах.
— Почему нет взрыва?!—истошным голосом кричит царь и подбегает к Акпарсу.—Изменник!
— Позволь сказать...
— Ты погубил меня, ирод! Без взрыва башни полки спускать нет смысла! Все замыслы мои прахом пошли! Уж воины мои, наверное, рассеяны и гибнут. И меня трусом чтут!
— Великий царь;—Мамлей шагнул к Ивану,—свеча под землей горит...
— Свеча! Свеча! Ты тоже татарчук, и вместе вы измену готовили. Вы двое погубили меня. Эй, кто там?
К царю подскочили трое с саблями наголо.
— Берите этих двух, и головы долой! Там, за шатром!
Воины подскочили к Акпарсу и Мамлею и обезоружили их.
— Ведите поскорей. Пусть все знают, что измену я терпеть не буду. Как я обманут! — Царь подошел к Акпарсу и с ненавистью оглядел его.— Другом преданным прикинулся, чтобы в решительный час подлую измену сделать? О, как я наказан богом, что язычников пригрел около сердца! Ведите!
— Прощай, мой брат,—спокойно произнес Акпарс,— я смерти
не боюсь, она ходит здесь кругом. Не ты, а я обманутым оказался. Я в ум твой верил, в сердце, а ты...
— Ну, что вы рты разинули? Ведите!
Акпарс оттолкнул охранников, обнял Мамлея за плечи и шагнул навстречу смерти.
— Алешенька, что делать?—Царь поглядел на Адашева, растерянно развел руками.— Неужто отступить, Казань врагу оставить?
— Такого не дай бог,— ответил Адашев.
— Мужайся, государь! — воскликнул Сильвестр.— Полк царский подними, сам воинству покажись, влей в души ратников отвагу. Да будет один пастырь...
И в этот момент над Аталыковой башней взвился столб черного дыма, страшным грохотом разнесся взрыв, которого перестали ждать
— Вернуть! — закричал царь, как только утих грохот взрыва. — Вернуть немедля! Быть может, еще не поздно! — И все поняли, кого надо вернуть. Первым бросился за шатер Алексей Адашев.
А к царю подскочил воин и крикнул:
— Твой полк готов, великий государь!
— Коня мне! —Иван оправил пояс с саблей, боевой дух снова вернулся к нему.— Теперь посмотрим, басурманы, кто кого!..
Акпарса и Мамлея шестеро стражников вывели к берегу ручья. Один из них знал Акпарса и первый заговорил:
— Ты, верно, недосмотрел чего-нибудь? В измену я не верю. Я знаю, ты не такой.
— Спасибо, друг.
— Ежели ты в измену нашу не веришь,—сказал Мамлей,— так спаси нас!
— Ослушаться царя? Да ты в своем уме? За это и своя голова с плеч слетит. Вы сами сделали бы то, что царь повелел.
— Царь молод и горяч,— промолвил другой стражник.
— Да мы не просим, чтобы вы нас отпустили,— настаивал Мамлей.— Богу помолиться перед смертью дайте.
— Богу — это можно. Умереть без молитвы — грех.
— Я и раньше никогда и никого не обманывал,—сказал Акпарс,— а теперь перед смертью зачем мне обман? Нам молитвы не надобно, нам время переждать надо. Свечка под землей совсем тихо горит, я верю, что взрыв будет. Прошу тебя, дождись взрыва, а потом выполняй приказ царя.
— А ведь он дело говорит, — сказал кто-то из стражников. — Мы спешить не будем.
— Охо-хо. А ежели государь узнает?
Взрыв раздался, эхом прогремел над землей.
Стражники сунули сабли в ножны.
— Теперь можете царское повеление исполнять. Мы готовы,— в голосе Акпарса звучала обида.
С пригорка бежал Адашев и размахивал руками.
Стражники начали развязывать Акпарсу руки...
Могучим ударом свежих сил противник был смят, и Казань пала.
Мурзу Чапкуна разорвали сами казанцы, хана Эддин-Гирея отдали в плен, а крымцев выгнали вон. Даже тех немногих, которым удалось убежать, ратники Андрея Курбского перебили за Казанью.
Шигонька о взятии Казани написал:
«Божиею помощью православные одолели басурманов, и бысть сеча велика в граде Казани. Христиан-пленных множество тысяч душ освобождено, а побитых в граде столь множество лежаще, аки негде ступить, чтобы не попасть на убиенных, а за ханским двором костры мертвых лежали со стенами городскими наравне. Вот сколь зла сеча была.
И приехал ко Государю хан Шигалей и поздравил его от души, и повелел Государь одну улицу очистить от мертвых, и по ней Государь въехал в град, и тут у наряду стояло множество народу христианского освобождашеся от плена. Все они пали со слезами на колени, глаголя: «Избавитель наш, Государь, из ада ты нас вывел, для нас, сирых, своей головы не пощадил». Государь повелел их в стан свой отвести и напитати и отсылати по домам их тысячи по три и по пять.
Приказал Государь воеводам огни гасить, а сам поехал во двор за город, где прежде стоял.
Потом Государь послал по всем казанским улусам жалованные грамоты и ясачные, чтобы люди шли ко Государю, не бояся ничего. Кто лихо нам чинил, тому бог отомстил, а Государь их пожалует.
Тогда прислали арские люди бить челом, а с Луговой стороны также черемиса приехали бити челом, и Государь их пожаловал».
С самого утра на Царском лугу идет пир. Иван Васильевич на радостях все винные запасы повелел выкатить на луг и угощать ратников.
Сам царь с ближними воеводами пирует в шатре, а те воины, что помельче, примостились, где придется.
Акпарсов полк пирует несколько поодаль от всех — на берегу реки Казанки. Князь Акпарс, хан Шигалей и Топейка сидят около наскоро сколоченного стола.
— Ты чего не ешь, не пьешь? — спрашивает Шигалей Акпарса.— Забудь обиду.
— Кусок в горло не лезет. Где Янгин пропал? Об этом все время думаю. Сначала казалось—в плену. Теперь весь татарский плен перещупали, нигде не нашли.
— Может, как и Пакман, к луговым подался? — замечает То- пейка.
— Язык тебе вырву! Как ты про Янгина можешь такое думать?
— А помнишь, Аказ,— говорит Шигалей, наливая вино в ковш,— как ты ко мне в плен попал?
— Забудешь разве!
— Клятву, данную тогда, сдержал ли? Кучаку-мурзе отомстил, я думаю?
— Наверно, в Крым удрал, кривоногий верблюд! Но придет пора — поймаю, однако.
— Зачем ловить? Я его давно поймал. На моей сеунчевой цепи сидит вместе с другими.
Акпарс поставил кружку на стол, поднялся:
— Покажи!
— Пойдем.
И еше раз испытал страх мурза Кучак, когда увидел Акпарса. И снова бледностью покрылось его лицо, задрожали губы. Акпарс молча отомкнул мурзу от цепи, сел на первого стоявшего у коновязи жеребца, пустил Кучака впереди себя.
Там, где речонка Ичка делает крутой поворот, Акпарс остановился, привязал коня к дереву, подошел к мурзе.
— Ну, вот мы и встретились, мурза Кучак. Третий раз скрестились наши дороги, и теперь я выполню клятву.
— Убить пленного не велика отвага,— угрюмо ответил мурза.— Давай, кончай
— Видишь у дерева конь? Это наш конь. На него тот сядет, кто останется живой. Ты видишь этот нож? Кроме ножа у меня нет ничего. И смотри! — Акпарс отбросил в сторону нож.— Теперь мы равны. Защищайся! — и пошел на Кучака.
Вобрав голову в плечи, мурза приготовился к прыжку. Он хотел сбить Акпарса с ног, но не зря барсом прозвали Аказа. Он первым налетел на Кучака схватил его за грудь и могучим рывком поднял над головой.
Мурза попытался вывернуться из крепких рук, но не успел: Акпарс с силой ударил его о землю.
Раскинув руки, мурза лежит на тропе. Изо рта, пенясь, течет темно-красная струйка.
— Добей,— прохрипел он, когда увидел подошедшего Акпарса.
— Подохнешь сам,— ответил тот и, ополоснув руки в реке, сел на коня.
Месть, о которой он думал целых двадцать пять лет, свершилась.
Но отчего душа воина не ощутила счастья?
После взятия Казани царь оставался в своем стане ровно неделю. Награждал воевод, князей, воинов. Кроме вотчин, поместий, кормлений, было роздано 48 тысяч рублей деньгами, платьем, сосудами, доспехами и конями. Иван разослал по всем улусам жалованные грамоты, писал, чтобы шли к нему без страха.
Наместником Казани царь оставил боярина князя Александра Борисовича Горбатого, а в Свияжске воеводой стал князь Петр Шуйский. Князь Акпарс был поставлен под его начало. Впоследствии князь Курбский напишет:
«А боярам царь приказал без себя о казанском деле промышлять; они же, от великого такого подвига и труда утомившись, и малого подвига и труда не смогли докончить, и возжелали богатства, начали о кормлениях заботиться; а Казанское строение поотложили...»
И потому еще восемь лет крымцы, ногайцы и турки терзали казанские и черемисские земли и бед русскому воинству принесли немало.
МИРНЫЕ ПЕСНИ
Первый снег упал на Свияжск нежданно. Сначала шел затяжной осенний дождь, потом дохнул на город студеный ветер, и в воздухе замелькали сырые белые хлопья. Снег летел торопясь, будто боялся растаять, не достигнув земли.
В городе стало намного тише. Ушли последние сотни московских ратников, уехали воеводы и князья. Остались только крепостные стражники да мастера и плотники, коим царь велел достроить заложенную в минулом году церковь.
Ешка-поп сидит, облокотившись на подоконник, и грустно смотрит на заснеженную улицу. Большие перемены произошли в жизни Ешки.
Раньше редко задумывался он о жизни. День прожил—слава богу. Завтра—бог даст. А ныне появилось превеликое множество забот. Наипервейшая — язычники.
Перед отъездом царя в Москву Сильвестр от имени митрополита строго и внушительно указал:
— Отныне дело всей жизни твоей окрестных язычников осиять светом православной веры, число прихожан святой церкви непременно ширить. Горный край весь приведи ко кресту, а потом и за Луговую сторону берись. Утверждай веру нашу ныне и во веки веков. Государь повелел тебе о сем помнить всегда.
Ешка молчал. Сильвестр испытующе смотрел на него.
369
24 Марш Акпарса
— Не по плечу ношу кладешь,—сказал тогда Ешка.—Язычников—легион, а я один, как перст божий.
— Повелел государь оставить тебе в помощь две сотни ратников. С помощью меча праведность утверждают пусть.
— А Шигоня говаривал, что веру внедрять можно токмо словом, а не мечом. Ратники народ озлобят...
— Время и деяния государя нашего доказали обратное. Мечом и только мечом. Западные государи в своих крестовых походах в утверждении веры вон сколь преуспели! И нам, грешным, поучиться у них не зазорно.
Ешка вспоминает этот разговор, и его одолевает сомнение. Перебирает в памяти все встречи в Чкаруэме и сердцем чует: неправ Сильвестр.
«Пойду-ка я к Саньке,—подумал Ешка,—да с ним посоветуюсь. Он в делах веры мудрейший мужик, а в смысле меча еще мудрее. Уж он-то знает».
— Ты куда это, батюшка?—пропела Палага, увидев, что отец Иохим надел шубейку.
— К Саньке Кубарю. Посоветоваться хочу по делам веры. Надо неотложно.
— Коли надо, то и пойдем,—И попадья взялась за шаль.
— Дело сие мужское. Чего тебе торчать там без надобности?
— У Саньки, я слышала, сестра есть. Ее навещу, и то слава богу.
Отец Иохим крякнул недовольно и стал дожидаться, пока Палага оденется.
Как разлучился Ешка с бродяжьей волей-волюшкой, так и оплошал. Как сел на одно место, так и пошли в голову мыслишки о семье, о теплой перине да о баньке. Не успел подойти к семейному хомуту и понюхать—глядь, тот хомут уже на шее.
Дело все началось с просвирни. В первое время просфирки в церковь доставляли из Разнежья. А они в дороге черствели, засыхали—не угрызешь. И стали православные роптать, дескать, о такие просфирки и зубы обломать недолго, неужели, дескать, во всем граде нельзя их печь. А того, ироды, не понимают, что для оного важного дела надо иметь просвирню—женщину чистую, целомудренную, которая чтобы до мужских подштанников не дотрагивалась. А попробуй найди в Свияжске такую!
Но однажды пришел к Ешке Микеня и брякнул:
— Нашел я тебе, отец Иохим, просвирню!
— Ну! Кто такая?
— Палага. Кашеварка из нашей ватаги.
— Чирей тебе на язык!—ругнулся Ешка.—Да-ить она разбойница.
— Поверь мне, Ефимушка, Палага—редкой души баба. Сколь она с нашей ватагой исходила, ни одному мужику до себя дотронуться не позволила. Мне, атаману, и то однажды по шее черпаком ерыкнула—до сих пор знатко. Имею подозрение, что сия Палага, не глядя на четвертый десяток лет,—дева. А касаемо ватажных дел, так не ты ли сам говаривал: господь бог один и для разбойников, и для попов.
Так Палата стала просвирней. Высокая, упитанная, властная, она сразу прибрала к рукам все церковное хозяйство, завладела всеми приношениями. А какие просфирки стала печь—боже мой! Ко всему этому у Палати было большое сердце — ей непременно надо было кото-то жалеть, кому-то помогать, делать добро.
Ешку в первые дни выпарила в бане, сожгла завшивленные исподники, пошила новое белье, заштопала рясу, неведомо откуда приволокла перину и, напоив Ешку чаем с малиной, уложила на перину спать. Такое Ешка почувствовал блаженство, какого не испытывал ни разу в жизни. Размягчилась душа у Ешки, бродяжья осторожность притупилась, и... мышеловка захлопнулась! Разнесся по городу слух, что стала Палата попадьей. Надела на отца Иохима хомут и стала потихоньку затягивать супонь.
Перво-наперво запретила Ешке непристойно браниться, потом повелела звать ее матушкой, а сама величала Ешку батюшкой, как и принято в поповском обиходе.
Однажды сказала:
— О душе твоей, батюшка, жалобею. Дал бы ты перед алтарем клятву: зельем хмельным душу свою не поганить. Ежели любишь меня—не пей.
— Совсем?
— Ради надобности али праздника и господь бог наш превращал воду в вино. А ты, батюшка, инда без просыпу пьешь.
Ведь уластила, вредная баба, умаслила. Пошел Ешка к алтарю и дал клятву всуе хмельное не употреблять.
Санька живет в новосрубленной избе около большой башни, от Ешкиного дома далеко. Поручено было Саньке три сотни ратников и сказано, что должен он помогать духовному пастырю свияжскому в делах веры, а также храм божий, ежели надо будет, от язычников оберегать. Велено было подчиняться князю Акпарсу, который тоже жил во Свияжске и должен был нести охрану крепости и города. Не поставил его царь свияжским воеводой, сказав, что, мол, хоть и князь он, да не над кем ему, Акпарсу, княжить, что отныне черемисская земля—его земля.
Живет Санька с Ириной. Сестра еду готовит, управляет по дому. Газейку, спасенную под Казанью татарочку, отдали в дом князя Акпарса—служанкой.
Прямо надо сказать, житье у всех неважное. И вроде бы война кончилась, Казань одолели, спокойные дни пошли, а вот поди ж ты—нет на душе покоя у всех четверых: у Саньки, у Ирины, у Акпарса, у Гази. Все чего-то ждут, ждут в страданиях, в муках душевных. Все надеются, что вот-вот придет то главное, ради чего столько перенесено и столько пережито.
Санька четвертый десяток лет доживает, а все не женат. Гази из головы не идет. Смиренная, чистая и пригожая. Мучительно ищет Санька путей к сердцу татарочки, а их нет. В иное время нашел бы, постарался понравиться, а в сорок лет попробуй приглянись, когда девке чуть поболе двадцати. Ну, допустим, по сердцу пришелся бы ей Санька, а как же с верой?
Думает все это Санька про себя и молчит. Ирине ничего не говорит. Видит—у нее у самой горе. Князь Акпарс и вдовым оказался и свободным, а прежняя любовь, видно, забыта. Теперь в дом к Саньке заходит редко, на Ирину старается не глядеть. И видит Санька по утрам красные от слез сестрины глаза. Вздохнет Санька, ничего не скажет— у самого та же заноза в сердце.
Сегодня Санька воротился со службы поздно, не успел сапоги снять, глядь—гости на дворе. Поп с попадьей чинно шествуют к крыльцу. Санька выбежал встречать, а Ешка, увидев его, раскинул руки, пропел:
Я утром, вечером иду
К соседу на беседу.
И если он меня не ждал —
Зачем иметь соседа.
— Милости просим!—воскликнул Санька и провел гостей в горницу.
Попадья, раздевшись, поклонилась хозяину и сразу прошла в светелку к Ирине. Приоткрыла тихонечко дверь, огляделась. Над божницей лампадка разливает желтый свет. Уронив голову на вытянутые по столу руки, разметав косы, мучается сердечной болью Ирина. Палата подошла к ней, погладила ласково голову. Ирина поднялась, хотела улыбнуться нежданной гостье—не смогла. И снова заплакала, закрыв лицо руками. Попадья села супротив, спросила:
— Слезы льешь в три ручья, а отчего?..
Санька и Ешка тоже беседу начали.
Сперва они малость помолчали. Сидели друг против друга на лайках, застланных багряным сукном. Первый начал Ешка:
— Предался я ныне воспоминаниям, жизнешку прошлую переворошил... Помнишь, были мы в Чкаруэме...
— Да-а, трудны были эти два годика,—как бы продолжая мысль Винки, сказал Санька.
— Так вот я и говорю, жили мы в Чкаруэме. И помнишь: весь народишко веру нашу принял и кресты на свои груди возложил. А были мечи в наших руках?
— Доброе слово да дело.
— То-то и одо. А помнишь, как смело с мурзой они разговаривали, хлеб свой отстаивали, нас в обиду не дали. Слышал я, после нас много Япанча старался, одначе сеют там ныне по многим руэмам. А ведь у мурзы в руках меч, и какой меч. Стало быть, волю народную сломить не мог.
— К чему разговор твой, не пойму?
— А к тому, пропади оно пропадом, что Сильвестр-поп от имени владыки повелел весь черемисский край за един год привести под православную церковь и оставил для сей цели воинов с мечами. А меня взяло сумление...
— В мечи не веришь?
— Сумлеваюсь зело. Коль будем мы с верой насильничать, народ черемисский от нас отшатнется. А ежели приобщать к христианству посредством слов да дел добрых, сие потребует преогромного времени, пропади оно пропадом. И тогда...
— Тогда нам с тобой, отец Ефим, несдобровать. Тебя сана лишат, а меня в Тайный приказ.
— Стало быть, повеление владыки сполнять? Черемисских друзей наших, кои в скитаниях прошлых последним куском с нами делились, мечом под крест подводить? Людей, что с нами испили общую чашу крови под Казанью, ради веры в темницы бросать?
— Да разве руки на то поднимутся!
— Ах, пропади все пропадом! Думай, как быть. Думай, Саня, думай—ты же мудрый. Сильвестр-поп наказал весной гонца слать, с коим известить, сколь душ языческих в нашу веру обращено. По весне с нас ответ спросят, Саня.
Санька долго молчал, думал. Потом сказал:
— В этом многотрудном деле без князя Акпарса нам не обойтись никак.
— Ой, верно, Саня. Аказушко—он нам поможет...
В светелке Ирины—свои, бабьи речи. Попадья стоит над Ириной, уперев руки в бока, будто наседка над цыпленком.
— Дура ты, девка, дура. Да разве слезами горю поможешь! Да ныне с мужиками обходиться надо по-иному. Ежели их, прохвостов, ждать, они сами никогда к бабе не подойдут. В Микени- ной ватаге поживши, я ихнего брата, мужиков, вот как распознала. Их, чертей, надо брать за загривок да так, не отпуская, к венцу и вести. Ну, я ужо за это дело возьмусь, ты не реви, не реви...
— ...а нам, отец Ефим, одно осталось—грех этот на свои души взять. Господь бог нас поймет, простит.
— Стало быть, Сильвестра-попа со владыкой омманем?
— Обманем, коль ничего другого не остается. С помощью Аказа всех людей окрестим, а там пусть живут, как хотят. Кюсоты ихние трогать не будем—какой бог по душе, тому пусть и молятся.
— И да простит нас бог и святой владыка,—сказал Ешка и перекрестился.—Спасибо тебе, Саня, снял ты с моей души груз великого сумления. По сему случаю не мешало бы... что-то к зимней погоде в горле заложило. Я, чаю, у тебя имеется?..
— А матушка?
— Мы тихохонько. Кувшинчиком-то только не греми.
— ...Робость девичью свою брось,—заплетая Ирине косу, уговаривала попадья.— Тебе не семнадцать лет, родимица... И не смей мне перечить! На той неделе будь готова— мы с отцом Ефимом твоего князя так прижмем, он и пикнуть не посмеет. Ишь, супостат, веру православную принял, а над девкой измывается, как язычник. С мужиками надо...—тут Палата остановилась, шмыгнула носом, насторожилась. Еще раз потянула воздух.
— Ах они, ироды! Уже стакнулись!—и бросилась к двери.
Ешка только поднял вторую кружку, а из светелки выскочила
попадья, накрыла кружку пухлой ладонью...
Из гостей Ешка возвращался хоть и трезвый, но довольный. Сзади шла и нудно бранилась матушка.
Смерть Эрви неожиданно больно отозвалась в сердце Акпарса. Раньше ему казалось, что жена в душе верна Казани, ходили слухи, что там она тайно приняла веру аллаха. И Акпарс этому верил и не верил.
И совсем поверил Акпарс измене жены, когда нашли около нее яд. Тем более что днем позже приходила к Акпарсу Шемкува и отдала грамоту, в которой Эрви клялась в верности и повиновении Сююмбике. Колдунья подтвердила, что Эрви приняла веру аллаха и была послана казанской царицей вредить Акпарсову делу...
И вот пришла к нему слава, почести и богатство: еще больше стало друзей. В минувшую осень впервые не рыскали по черемисской земле сборщики ясака, впервые за много лет не свистела нал головой бейская нагайка.
Казалось, чего бы желать еще Акпарсу? Но, окруженный множеством друзей, Акпарс порой чувствовал острое одиночество. Где бы он ни появлялся, народ выражал ему искреннюю любовь и преданность, но не хватало любви. Любви одного человека. Все чаще и чаще думал Акпарс об Ирине, но говорить с ней о женитьбе не решался. «Еще не остыла могила жены, а я приведу в дом другую. Что скажут люди?» Так думал Акпарс и умышленно оттягивал решительный час. Чтобы не расстраивать себя, старался реже видеть Ирину, избегал встреч с ней.
Прошло полгода, и когда одиночество стало невыносимым, он решил привести Ирину в свой дом. Но одно утро (он его запомнит на всю жизнь) перевернуло все его намерения. Татарка Гази, спасенная Санькой, была теперь служанкой в его доме и в это утро убирала Акпарсову постель. Акпарс сидел на лавке и, тихо подыгрывая на гуслях, пел:
9
Утренняя песня
Раздается звонко.
«То поет сестренка»,—
Догадался я.
Оказалось это —
Песня соловья.
Темной ночью песня
Пролетает мимо.
«Это песнь любимой»,—
Догадался я.
Оказалось это —
Грусть-тоска моя.
— Я давно хотела спросить тебя, господин...—Гази робко подошла к хозяину.
— Спрашивай, Гази, не бойся.
— Ты Аказа Тугаева не знаешь ли?
— Аказа? Тугаева?—Аказ сначала недоуменно рассмеялся, но потом понял, что татарочка не знает его первого имени, так как теперь все зовут его князем Акпарсом.
— А зачем тебе Аказ?
— У него жена Эрви есть. Мы вместе у Сююмбике жили. Я рано осиротела, она меня к себе взяла. Увидеть ее хочу.
На лицо Акпарса набежала тень. Он отложил гусли в сторону,
сказал:
— Аказ теперь без нее живет. Она плохой женой была. Веру чужую приняла, мужу вредить приехала.
Гази покачала головой.
— Нет, господин. Эрви больно шибко любила Аказа. Я знаю.
— Что ты знаешь, расскажи.
— Она часто плакала, просилась у царицы домой. Та говорила: «Прими нашу веру—поедешь. Клятву дай». Только Эрви не соглашалась. Потом ее силой заставили это сделать. Что с ней сеит делал, я не знаю—бил, наверно. Когда я пришла, она без памяти была. Ей плохо в Казани жилось. Ты скажи Аказу, пусть он ее обратно возьмет. Она не виновата.
— Продолжай!—волнуясь, крикнул Акпарс.—Говори!
— Потом, когда Эрви домой ушла, я часто про нее разговоры слышала. Я ведь у царицы служила. Сююмбике доносили, что Эрви выполнять клятву не хочет, а она велела пугать ее, грозить, что они расскажут всем о ее клятве. К царице Пакман приходил, Шемкува приходила, все они про Эрви говорили.
— Эй, кто там?—вне себя крикнул Акпарс и подбежал к двери. В комнате появился сотник Алтыш.
— Бери, Алтыш, людей, обыщи всю землю, найди Шемкуву. Тащи ее сюда!
Вечером старую колдунью привели к Акпарсу.
— Она была у царицы?
— Много раз,—ответила Гази.
— Ты всю жизнь жила ложью и изменой,—гневно сказал Акпарс, схватив старуху за плечи.— Но если сейчас скажешь хоть одно слово неправды, я снесу тебе голову. Говори, в чем виновата Эрви?!
— Разве я боюсь твоих угроз?—спокойно произнесла Шемкува и медленно убрала со своих плеч руки Акпарса.—Мне и так осталось жить немного. Я часто думала про твою жену в последнее время, я носила цветы на ее могилу.
— Это ты отравила ее, старая ведьма?
— Она сама приняла яд. Она, как и я, попала в руки злых и жестоких людей, но она оказалась сильнее меня, чище сердцем,— Шемкува закашлялась, одышка мучила ее.—Только сейчас я поняла, почему меня сломила Казань, а ее нет. Я поняла, поняла! Ей дала силу любовь. А у меня не было ее, не было!— Шемкува снова зашлась в неудержимом кашле.—Она любила тебя, неразумный, а ты... Ты виноват, что она умерла!
— Зачем же ты принесла мне бумагу с клятвой, зачем принесла ложь?
— Тебе не понять меня, неразумный. Я завидовала ей! Даже сейчас, когда дни мои сочтены, я не могу умереть достойно, как она. Отпусти меня.
— Иди, старуха. Спасибо за правду.
На следующий день Акпарс поехал на могилу Эрви. Шемкува ходила из илема в илем и рассказывала о чистом сердце Эрви, о последних часах ее жизни. Женщина с именем цветка утренней силы вошла в сердца людей, чтобы пролететь потом сказкой через, многие поколения.
Как после хмурой осени и студеной зимы приходит весна, так после горя и тоски приходит забвение и радость.
По ночам с крыш свияжских хором свешивались длинные ледяные сосульки. Утром поднималось весеннее солнце, и сосульки падали на землю с хрустальным звоном.
Оттаивало и сердце Акпарса. Стала забываться Эрви, все его существо просило чего-то иного, радостного. Проходя мимо Сань- киного дома, Акпарс поглядывал на оконца, надеясь увидеть Ирину. Однако в избу не заходил.
Однажды в сумерки он сидел у окна и услышал возле своего дома шаги. По хрустящему весеннему ледку ко двору шествовали друг за другом Ешка-поп с попадьей Палагой.
Пока Ешка топтался у порога да вытирал о половики грязные ноги, попадья вышла на средину избы, перекрестилась, глядя на скромное, не похожее на княжеское, тябло, поставила на стол что-то завернутое в шаль.
Ешка сыздавна не то чтобы уважал князей, а побаивался и потому ткнул попадью под бок:
— Куда прешь, кобыла. Поклонись сперва князюшке-батюшке.
Палата сурово глянула на Ешку, изрекла:
— Для иных-прочих он, может, и батюшка, а для нас с тобой овца во стаде православном, бо ты есть пастырь того стада. Чо рот-то разинул — благослови князя.— Ешка робко подошел к Акпарсу, помахал крест-накрест у него перед носом.
— Вот теперь, хозяюшко, принимай гостей. Мы уж по-свойски, прости,— пропела Палата.— Батюшка Ефим не соглашался к тебе идти, да я настояла.
— Почему не соглашался? — улыбаясь, спросил Акпарс.
— Соблазна боится. Теперь он хмельного в рот не берет. Зарекся.
— Сам зарекся?
— Вестимо, сам. Духу не выносит,— Палата незаметно для Ак- парса показала Ешке кулак.— Ну, что ты молчишь, батюшка?
— Истинно — не выношу,— жалобным голосом произнес Ешка и, глянув на бутыль, проглотил слюну.
— Садитесь. Я рад вашему приходу. Эй, Гази, собери на стол, у нас гости.
Пока Гази собирала на стол, попадья развернула шаль — и появилась преогромная бутыль. Внесенная в тепло, посудина снаружи подернулась мелкой отпотью, внутри колыхалась чуть мутноватая медовая брага. Ешка громко икнул от удовольствия. Щелкнула дверная щеколда, и в избу ввалился Топейка.
— Садись, друг,— больно кстати,— сказал повеселевший Акпарс, приглашая Топейку к столу.— Жалко, Ковяжа нет, к себе в илем уехал, был бы полный праздник!
И словно в сказке, на дворе появился Ковяж. Он привязал коня к крыльцу, вошел в дом и, раздевшись, подсел к столу.
— Вот теперича все в сборе,— сказала Палага и, налив три кружки, поставила их перед Топейкой, Акпарсом и Ковяжем.
— А отцу Ефиму?
— Да ты в своем ли уме, князь? Пятая неделя великого поста идет, да ему ни скоромного, ни хмельного, ни маковой росинки в рот. И нюхать нельзя. Это с вас спрос мал, вы хоть и крещены, а все одно постов не блюдете — жрете, что ни попади. Вы наполовину басурманы. А нам с батюшкой до христова дня поститься.
Все, с сожалением вздохнув, выпили. Ешка сидел, закрыв глаза, нижняя губа легонько вздрагивала.
— Эй, девка! — крикнула Палата, увидев на столе только одни скоромные яства.— Ты нам с отцом Ефимом постного притащи. Рыбки да лучку с хреном.
— Да разве она по-русски разумеет,— сказал хитрый Топей- ка.— Ты сама сходи, возьми, что тебе надо.
— Верно, верно,— добавил Ковяж.— Татарке верить нельзя. Еще нарочно жиру накапает. Вот будет грех.
— И то, — промолвила попадья и устремилась в варную половину.
Топейка быстро налил кружку, подвинул к Ешке. Тот единым махом плеснул ее в широко открытый рот, занюхал рукавом подрясника. Ковяж тем временем налил вторую. Когда Палага вошла с плошкой рыбы и луком, все сидели чинно, как будто ничего и не случилось. Только в глазах у каждого — смешинки. Попадья, заподозрив неладное, глянула на Ешку. У того замаслянились глаза, по лику разлилось блаженство.
— А ну-ка, дыхни!
Ешка, вместо того чтобы дохнуть ей под нос, хмыкнул в себя.
— Ах ты, ирод, бесово семя! Ах ты, пастырь, поганая глотка! Вот ляпну тебе по шее, греховоднику!
— Не бранись, квашня! — Ешка, выпивши, осмелел.— Не я ли тебя упреждал, что дело сие творить рано. Да мыслимо ли великим постом сватами ходить? Надобно было после пасхи.
— Тьфу ты, дурак, большая башка. Лезешь со своим языком, куда не просят. Да разве после пасхи этих басурманов вместе соберешь? Ныне и то сколь трудов стоило!—Попадья глянула на мужиков, махнула рукой.— Наливайте всем, раз такое дело. И мне наливай. Бог простит нам сей грех, бо во благо он сотворен.
Выпив налитую ей кружку, Палага вытерла губы кончиком платка, пососала рыбий хвост и, приосанившись, сказала:
Собрала я вас, мужички, по большому, угодному богу делу.
Доколе князь Аказ будет ходить един, как перст божий. Ему ли вдовцом быть, к его ли это стати? Удумали мы с отцом Ефимом князюшку оженить.
— А невеста? — спросил Ковяж.
— Про невесту вы его самого спросите.
— Меня? Я невесту не знаю.
— Ах, ты не знаешь? Сколько лет девке голову крутит, и он, седой котище, не знает! — Палага обежала вокруг стола, села рядом с князем.— Кто в Москве нежные песни ей пел? Не ты ли? Кто девке сердце высушил? Из-за кого она слезами изошла, того и гляди руки на себя наложит!
— Да не кричи ты,— сиповато упредил попадью Ешка.— Ведь перед тобой князь, а не Митька-плотник.
— Мне наплевать, что он князь. Он православный и...
— Подожди, подожди,— Акпарс положил руку Палате на плечо.— Разве я отказываюсь? Верно, Ирину я люблю давно. И Топейка про то знает, и Ковяж тоже знает. Однако по обычаям нашим я жениться не мог. Все знают: я жену похоронил недавно. Может, я и виноват, что не был верен ей сердцем, но обычай память о ней хранить велит. Вот тут сидит мой брат, а это мой друг. Пусть они скажут, как мне быть.
— Про твою любовь к русской весь народ теперь знает,— сказал Ковяж.— Однако тебя не осуждает никто. Все знают твою жизнь: было время, когда Эрви считали погибшей, было время, когда жену твою считали предавшей нашу веру. Много лет ты жил один, и ни ты, ни Эрви не виноваты в том. Я тоже тебя не виню. Делай, как велит сердце.
— Ты обычай выдержал, Аказ,— сказал Топейка.— Полгода уже давно прошло. Приводи в дом, кого хочешь. Вот наше слово. Если тебе нужна Ирина — я первый пойду сватать ее. Ирину наш народ любит, давно своей считает. Многие забыли, что она русская.
— Какие вы хорошие люди, пропади вы пропадом! — крикнул Ешка.— Давайте выпьем да и начнем сватов наряжать. Говори, князь, кого в сваты ставишь.
— Пусть Топейка идет, пусть Ковяж... и ты иди.
— Мне по сану неможно, а Палата, моя сизокрылая голубица, она пойдет. Хоть завтра в путь.
— Это отчего же завтра? — проговорила попадья, завертывая в шаль недопитую бутыль.— Идем сейчас же. А после христова дня сразу и под венец...
После пасхи начали таять снега. С гор хлынули потоки вешней воды, Волга вспучилась, освободилась ото льда. Днем позднее тронулась Свияга.
В городе торжество. Гудят церковные колокола, на улицах полно народа. Князь Акпарс стоит нынче под венцом. Ешка постарался на славу. Запалил множество свечей, в церкви — нестерпимое сияние и духота. На обручение и свадьбу прибыл воевода князь Шуйский со свитой. Церковь набита до отказа. Впереди, прижимаясь к самому аналою, теснятся гости: в парчовых ферязях и шубах— русские, в кафтанах тонкого белого сукна — черемисы.
Ирина стоит рядом с Акпарсом, как во сне. В счастье, которое пришло так поздно, трудно поверить. Может, не она стоит под венцом? Торжественно звучит голос отца Иохима. Ирина прислушивается.
— Венчается раб божий князь Акпарс с княгиней Ириной!
«Княгиня? Какая княгиня? — Ирина вздрогнула, но потом успокоилась.— Княгиня это, видно, я».
Санька почему-то сумрачен. Стоит он рядом с сестрой и украдкой поглядывает на окно. За окнами множество любопытных и среди них — Гази. Она басурманка, ее в церковь не пустили.
Князь Шуйский стоит сзади жениха и невесты, довольно потирает сытый подбородок и думает: «Князек черемисский не промах. Какую красавицу отыскал! Теперь с русскими породнился — не оторвешь. Это хорошо».
Попадья — нареченная мать Ирины — оглядывает церковь, а в голове старая, проверенная жизнью, мысль: «Этим скотам спуску давать не надо. Брать за загривок и прямо к венцу. У-у, иродово семя, мужики!»
Отец Иохим под конец обряда стал заметно поторапливаться, забегать вперед хора. Да оно и понятно: из церкви сразу на свадьбу. «Отведу я ныне душеньку,— мыслит Ешка и, сунув руку под рясу, складывает здоровенный кукиш.— А тебе, старая квашня, нанося, выкуси».
И еще быстрее ведет обряд...
На свадьбе гуляли целую неделю. Много на своем роду видели свияжские жители свадеб, а такая была впервой. Вино лилось рекой, обычаи русские и черемисские так перемешались — никто ничего разобрать не мог. Русские пели свои песни, черемисы — свои. Потом все это надоело, давай меняться песнями, плясками.
Токмалай первый затянул русскую песню, которую слышал он в московском кабаке:
Пей: судьба — злодейка!
Там, на дне, копейка,
А как выпьешь все до дна...
дальше Токмалай забыл и .на ходу сочинил свой конец:
Там Топейка наш видна.
Топейке песня показалась неуважительной, и он, стукнув Ток- , малая по шее, велел замолчать. Тот хотел взъяриться, но, посмотрев на широченные Топейкины плечи, сказал уныло:
— Обидна, досадна, но ладна.
А Топейка взял гусли, решил свою песню спеть. Зазвенели гусли, сразу стихли гости. Многие знают: Топейка большой мастер песни петь.
Ветерок подул кружась —
Тучка-дымка поднялась,
Тучка-дымка поднялась,
Мелкий дождик льет на нас.
Взгляд у девушки несмел,
Сердце парня занялось,
Сердце парня занялось.
Как от браги, захмелел!
Ой, Аказ и Орина,
Мы желаем счастья вам,
Мы желаем счастья вам,
Долгой жизни и любви.
Потом кричали: «Горько!», и Акпарс целовал Ирину в теплые губы. Поп Ешка, задрав подрясник, отчебучивал трепака — в избе гнулись половицы.
Палата смотрела на расходившегося батюшку и тихо, но не злобно приговаривала: «Ах, супостат, ах, ирод».
После свадьбы Акпарс послал Топейку в Нуженал и велел ему жить там постоянно и заботиться о порядке в своих землях. Ковяж с пятью сотнями воинов поехал за Волгу к луговым черемисам. Пошли слухи, что появились там разбойничьи шайки и будто люди раскололись на две половины. Одни будто верны клятве русскому царю, другие от клятвы отшатнулись.
Не успел Ковяж уехать, появился в Свияжске Топкай из Чка- руэма и принес Акпарсу неприятную весть. Побывал в Чкаруэме татарский сотник со своей шайкой, весь илем разграбил и сжег, старого Чка утопил в реке. И зовут того сотника Мамич-Берды, а в его шайке много джигитов из разбитого войска, которые раньше служили Япанче.
— Чего хочет Мамич-Берды?—спросил Акпарс.
— Свое ханство поднимать хочет.
— Говорят, его шайка быстро растет?
— Это верно,—ответил Топкай.
— Неужели черемисы лживы? Ведь они клятву царю давали.
— Мамич приезжает и говорит: «Кто едет со мной, становись направо, кто не хочет—налево». Потом, уничтожив стоящих слева, едет дальше. Всем, кому дорога жизнь, приходится идти за ним. Вот мне с Ургашем и пришлось бежать.
— Иди, отдыхай. Завтра в Казань к воеводе поедем.
Если девушка, сорвав молодой листочек, засвистит, значит, девушка хочет выйти замуж.
Если парень пошел в лес и срезал иву для свирели, значит, хочет растревожить сердце девушки, значит, пришла пора жениться.
Если на берегах Юнги зацвела черемуха, значит, на Горную сторону снова пришло лето.
Пришло оно с радостями и заботами. Топейка живет в Нуже- налеи ждет не дождется, когда Акпарс приедет. По цареву указу отвели черемисскому народу много земли, посоветовали, разделив
ее, отдать лучшим воинам во владение. Думал Топейка, что это дело простое. Зачем, думал, землю делить, если она и так разделена. И до этого люди имели свои илемы да руэмы—пусть на старых местах живут.
Но когда дело дошло до дележа, начались споры. Несправедливо больно получалось: чем хозяин богаче, тем хуже под Казанью воевал. А земли у него больше. Беднякам, которые на войне прославились, надо земли больше дать, а где ее взять? У богатых? Попробуй, возьми.
И пришлось звать Акпарса.
Тот приехал и стал твердые порядки наводить; благо, сила в руках была крепкая. Сначала Акпарс хотел было горный полк распустить — война ведь кончилась. Но Санька рассоветовал: «Пока у тебя под рукой воины, землю раздели. Каждому грамоту дай, столбы поставь, укажи, где его земля, от какого до какого места. Да и для охраны власти нашей полк твой будет не лишним—врагов рыскает немало, а русские рати домой ушли».
Акпарс так и сделал. Стяг горного полка перенес в Сюрбиял— в середину горных земель, а воеводой того полка поставил Саньку. Князь Шуйский деяния эти вполне одобрил. Саньке верили все: и князья, и простые люди.
Сегодня приехал Акпарс в Атлашев илем, выбрал хорошее место, раскинул дорогой шатер—подарок воеводы Воротынского. Ирина от Акпарса ни на шаг не отходит. Куда он, туда и она. Гази тоже все время с ней. Полюбила Ирину, как родную сестру. Как подругу.
Позвал Акпарс в шатер двух соседей, Атлаша и Токмалая. Спросил:
— Землями своими довольны ли? Столбовать как было или новый раздел начать?
Атлаш и Токмалай крикнули враз:
— Довольны!
— Недовольны!
— Говори ты, Токмалай. Почему недоволен?
— Я под Казанью четыре раны получил, я до сотника поднялся, мне Иван-кугыжа два раза спасибо говорил. А сколько я земли имею? Кафтаном покрыть можно. Зажали меня соседи. С одной стороны—Сарвай, с другой—Атлаш: дышать нечем.
— Уж не мою ли землю забрать хочешь!—крикнул Атлаш.
— Я правды хочу! Ты все время делу Акпарса вредил, под Казанью не был вовсе, а если людей посылал, так только по нужде. Твой друг Пакман до сих пор где-то с недругами нашими шатается. А владения свои небось раскинул широко, земля самая богатая и лесом, и зверем, и рыбой. Ты, Акубей, если правду любишь, пиши половину его земель мне.
— Я тебе глотку порву, собака! — Атлаш наскочил на Токмалая с кулаками.
— Подождите, вы!—Аказ поднялся.—Токмалай правду говорит. Всю землю по эту сторону реки ему запишем.
— Сунься только—ноги перебью!—кричит Атлаш Токмалаю.
— Не перебьешь. Бери, Токмалай, сотню воинов, ставь на новой земле столбы со своей тамгой. А ты, Атлаш, по ту сторону реки столбы ставь—тебе и там земли хватит. Обидишь Токмалая— посажу в Свияжске в яму. А Пакману передай: петля его ждет, если с повинной ко мне не придет.
— Ладно,— угрожающе произнес Атлаш.— Жди. Он к тебе скоро придет!
В Кудаш-илеме еще интереснее новости. Япык-«мелкий товар» на войну не ходил вовсе, а почти вся округа под его рукой. При разделе люди сами отказались от его земли. Акпарс позвал к себе старого охотника Кудаша, спросил:
— Говорят, ты от надела отказался. У тебя земля лишняя, да?
— Какое—лишняя. Совсем земли мало. Охочусь я и то в чужом лесу.
— Зачем тогда надел не взял?
— Мне Япыкову землю не надо. Это будет несправедливо. Он добрый человек, я ему двести беличьих шкурок должен, он до сих пор не спрашивает. А если я землю его возьму, он спросит. А до сезона охоты далеко. Где я возьму двести белок?
— Ты, Кудаш, не прав. Япык не добрый. Он мошенник. Скажи, сколько шкурок отдал ты за этот нож?
Кудаш вытащил из-за пояса нож и с гордостью попробовал пальцем лезвие.
— Этот нож лучший в илеме. Он стоит сорок беличьих шкурок.
— А Япык в Казани отдал за него всего одну шкурку. Понял, отчего велики твои долги?
Кудаш плюнул себе под ноги, сунул нож за пояс.
— Скажи, Аказ, Топейке, что я беру надел.
Санька, став воеводой горного полка и оставшись без сестры, затосковал в Сюрбияле. Газейка—на сердце и на уме. «Видно, судьба»,—подумал Санька и поехал к Акпарсу в Свияжск. Но зятя своего там не застал, сказали, что уехал Акпарс делить землю под Нуженал. В Нуженале отослали Саньку в Кудаш-илем. Здесь на поляне около речки нашел Санька княжеский шатер, тихо подошел к шатру, остановился.
Вдруг из-за кустов вышел кто-то, юркнул в шатер, и на полотнище четким силуэтом легла черная тень. Санька сразу узнал: это Гази. Легкий ветерок колебал легкую ткань, и тень на ней шевелилась. Стан девушки вытягивался и делался необыкновенно гибким и красивым. Гази, видимо, ходила купаться и теперь переодевалась. Вот она легко сбросила халат, упала на пол рубашка. Вот она наклонилась—и на полотнище двумя тенями повисли длинные косы. Девушка поднялась, косы послушно легли на грудь, мягко облегая стройное тело.
Потом, одевшись, Гази вышла навстречу солнцу. Одета она в легкую кофточку, вместо юбки голубые татарские шаровары, перехваченные у щиколоток. Оглядевшись кругом, села на ковер густых трав у корней клена.
Санька тихо подошел к ней сзади, негромко сказал:
— Салям алейкум, Гази.
Девушка вскочила испуганно, бросилась к шатру, но, узнав Саньку, остановилась и сдавленным, не то от испуга, не то от радости, голосом ответила:
— Здравствай... Саня.
Санька не вытерпел, протянул к ней руки.
— Газейка... радость ты моя!
Девушка рывком бросилась к нему, Санька подхватил ее, поднял на руки и понес, как тогда, под Казанью, к реке. Глаза Гази приблизились к лицу Саньки, и словно увидел он в них отражение полыхающих городских стен и понял, что живет в памяти девушки это страшное время. И он не. ошибся. Гази тихо произнесла:
— Ты второй раз меня так несешь...
— Я тебя всю жизнь на руках рад нести!..
Целый день они провели вместе, ожидая Акпарса и Ирину, которые делили землю в дальнем илеме. Говорили по-черемисски, так как Санька совсем не знал по-татарски, а Гази еле-еле говорила по-русски. О женитьбе Санька не смел и заикнуться, хотя по глазам видел, что татарка любит его. Под вечер вернулись князь с княгинюшкой.
Ирина приезду брата обрадовалась, стала готовить гостю ужин. Гази помогала ей, часто забегала в шатер, бросая на Саньку горячие взоры.
— Я ведь к тебе не гостить приехал,—сказал Санька Акпарсу.—Я по делу. За советом.
— Говори.
— Недаром в народе говорится: седина в бороду — бес в ребро. Жить я без этой татарки не могу. Как быть-то мне, скажи?
— Ты мне Ирину сколько лет любить не давал?—Акпарс добродушно рассмеялся. — А теперь прибежал ко мне за советом? Ты сперва поживи в моей шкуре, помучься, потом я тебе скажу, как быть.
— Мне, друг, не до смеха.
-- Ну, а она тебя любит?
— Кто ее знает? Молчит все. Поговорить бы надо, спросить, да разве я осмелюсь?
— В этих делах без бабы не обойтись... Иринушка! Зайди-ка сюда!
— Тут я.—Ирина вошла в шатер.
— Саня жениться задумал. Газейку замуж хочет брать, а любит ли она его—не знает.
— Как же это ты, Саня? Да она ведь мухаметанка. Грех ведь.
Саньку взяло зло.
— Когда ты Аказу на шею вешалась, он кем был?!
— Так то же Аказ...
— То же, то же! Он язычник был. Что касаемо греха—не знай, кто из нас более грешен. Не ты ли в ските по вечерам в молитве говорила с богом, а ночью во сне с Аказом?
— Я те грехи замолила и венцом покрыла.
— А мне бобылем всю жизнь ходить?
Акпарс поднялся, открыл шатер, сказал:
— Идите в лес, там мало-мало поспорьте, а я с Газейкой сам поговорю. Идите.
Когда брат с сестрой вышли, Акпарс позвал татарку:
— Поговорить с тобой, Гази, надо.
— Я слушаю тебя, господин.
— Скоро полгода, как ты живешь в нашей семье, и все мы любим тебя, а кто ты для нас, до сих пор не знаем.
— Я вам верная слуга, господин.
— А Саня не хочет, чтобы ты слугой была.
— Он прогнать меня велел? За что?—В глазах девушки испуг.
— Он тебе волю дать хочет. Ты его пленница, а ему бог пленных держать не велит. Саня сказал: пусть она идет, куда душа скажет.
— Я бы лучше у вас осталась. Теперь у меня ничего нет: ни дома, ни родных. Мне у вас хорошо.
— Саня с сестрой русскому богу молятся. Я... я тоже крест ношу. А ты ведь аллаху поклоняешься. Как тут быть?
— Я аллаха забывать стала. В своих молитвах только вас благодарю. Саня спас меня от смерти, Ирина любовь мне свою отдала, ты в семью принял. Научите меня русскому богу молиться, и я забуду аллаха. Он мне всю жизнь только несчастья приносил.
— Если русский поп крест на шею тебе повесит?
— Пусть... повесит. Носить буду,—тихо ответила Гази.
— Иди. Я поговорю с Саней.
Когда Ирина с Санькой вернулись из леса, Акпарс сказал Саньке:
385
25 Марш Акпарса
— Поезжай в Свияжск, тащи попа Ешку. Гази нашу веру принять согласна.
Около полудня Санька привез отца Иохима. Ешка за зиму растолстел, тяжелый серебряный крест полулежит на округлом животе. Плотно пообедав у Акпарса в шатре, Ешка долго беседовал с Гази, наставляя ее на путь новой веры. Потом повел на берег речки крестить. В последнее время он к этому привык. Бывало, по целой сотне новокрещеных загонял в воду, читал привычные молитвы, кропил святой водой, получал определенную мзду, и у пастыря в пастве появлялась новая сотня православных.
Крестным отцом решили назвать Акпарса, крестной матерью— Ирину. Имя подобрали самое православное—Акулина.
На берегу Ешка равнодушно молвил:
— Разоблачайся.
Гази смущенно глядела то на Акпарса, то на Ирину.
— Не стыдись, я тебе не парень. Я тебе отец, и святой к тому же.—Видя, что Гази никак не может одолеть робость, крикнул:—Да раздевайся, пропади ты пропадом! Ты, крестный, отвернись!
Когда Гази, смущенная вконец, разделась, Ешка подошел к ней, отрезал прядку волос, вмял ее в комочек воска.
— Лезь в воду. Сказано—лезь.
Вода была холодная, и Гази осторожно вошла в реку по пояс. Окунулась.
Трижды окропив новокрещеную, Ешка начал творить положенную молитву.
— Теперь, раба божья Акулина, подойди ко мне. Целуй крест святой и будь верна ему отныне и во веки веков. Аминь!—И, достав из кармана медный нательный крестик, повесил его на шею Гази.
А вечером, напившись, Ешка укоризненно говорил:
— Ты скажи мне, раба божья Акулина, ведь имя новое забыла? Ну, скажи, как тебя зовут?
— Гази.
— Ах, пропади ты пропадом. Зовись, как знаешь. Только крест... Смотри у меня!—И Ешка погрозил пальцем...
Не успели отгулять свадьбу, вернулся в Сюрбиял Ковяж. Приехал злой и недовольный. В стычке с шайкой Мамич-Берды потерял тридцать воинов и сам первый бросился удирать.
— Ты не думай, я не струсил,—говорил он Акпарсу.—Еще раньше я понял, что воевать нам нельзя. Луговые люди глядели на нас недобрыми глазами, обзывали московскими блюдолизами. Там Мамич свои порядки завел, мне там нечего делать. Только людей зря губить.
— Значит, Луговую сторону Мамичу отдадим?
— А зачем мне Луговая сторона? — крикнул Ковяж,—Мне и на Горной стороне неплохо.
— Разве царю Ивану ты клятву не давал? Разве не обещал ему держать весь край в верности Москве? А теперь Мамича испугался?
— Ты знаешь, как я под Казанью дрался, и Мамича напрасно поминаешь. Я его не боюсь!
— Почему же убежал от него?
— Драться с ним не хотел. Весь народ говорит: Мамич че- ремисское ханство хочет делать, он народу друг. Он не как ты — царя Ивана не боится!
Акпарс вскочил, подбежал к брату, и все думали: сейчас что-то произойдет. Но Акпарс опустил руку, глянул в дерзкие глаза Ковяжа, сел к столу. Ковяж еще больше осмелел:
— Что ты привязался к Ивану? Мы ему Казань помогли взять, пусть скажет спасибо и не мешает нам своей землей править. Надо и нам вместе с Мамич-Берды вставать.
— Я знаю,— тихо сказал Акпарс,— о чем ты думаешь. Ты только о себе думаешь: вдруг Мамич-Берды ханство поднимет, всю власть себе возьмет, Ковяжу с Акпарсом ничего не оставит. Ты врешь! — Голос Акпарса стал суровым.— Мамич-Берды нашему народу не друг, а враг. Он, как и ты, только о себе думает, о власти. А такой человек никогда другом народу не будет. Ты меня русским царем упрекнул. Ты думаешь, у меня к нему сердце лежит? Мне другие люди дороги. Санька, Андрейка, Микеня, Ирина. Вот к кому я привязался. Я вперед гляжу и верю, что дети и внуки наши в дружбе с русскими будут жить. Если они хотят быть свободными и счастливыми, им с этим народом рядом идти надо. А такие, как Мамич, будут забыты народом и прокляты.
— Ну, мне домой пора,— хмуро сказал Ковяж и направился
к выходу.— Если я буду нужен, дай весть.
— Воинов оставь в полку,— резко бросил Акпарс.
— А кто защитит мой илем от разбойников?
— Над разбойниками Мамич-Берды главный. А он, ты сам говорил, народу друг. И твой — тоже. Не тронет твой илем.
Ковяж вышел, хлопнув дверью.
Спустя неделю отец Симеон отправил митрополиту донос на Ешку, где рассказал о греховодном привержении отца Ефима ко хмельному, о сквернословии. Но это было не самое главное, В конце доноса Симеон писал:
«...заботы о утверждении православной веры тот отец Иохим не ведает, язычникам дает великое послабление, и оные язычники вольно в своих кереметищах отдают языческим богам жертвы и жизнь свою ведут по греховодным обычаям, яко дики. Священник свияжский, коего в народе зовут поп Ешка, не токмо пресекает обычаям, а сам потворствует. Недавно на свадьбе князя Акпарса он сам в обрядах языческих скакал подобно скомороху. Те инородцы, кои отцом Иохимом вере приобщены, кресты свои попрятали и в церковь не ходят. Не токмо язычники, а наши русские люди творят тут невообразимое. Что против праздника Иоанна -Предтечи, против ночи и во весь день до ночи, мужи и жены и дети в домах и на улице и, ходя по водам, глумы творят со всякими играми и всякими скоморошествы и песнями сатанинскими, ночью в рощах омываются водою и, пожар запалив, перескаку по древнему некоему обычаю...»
После доноса лишен был отец Иохим духовного сана и, стало быть, бесславно закончил свой путь ревнителя православной веры.
Однако Ешка горевал недолго. Он завел винокурню, испросив на это позволения князя Акпарса.
Андрюшка Булаев и Магметка Бузубов недавно прислали Ак- парсу по поклону с подарками. Служат они в Москве, однако друга старого не забывают.
Про Шигоньку написали, что стал он теперь важным боярином Шигоней Пожогиным и сидит теперь в думе около царя по правую руку.
Только о судьбе Янгина Акпарс так и не узнал ничего. Все поле битвы под Казанью обыскали, нигде тела Янгина не нашли. Овати, его жена, все ждет и надеется на возвращение мужа.
Надеется на это и Акпарс.
Санька повелел стяг горного полка расшить с одной стороны вышивкой, с другой — русским крестом.
Отшумели пиры в честь взятия Казани, отгремели пушечные залпы в честь ее победителей — и понемногу о земле Казанской стали забывать.
А царь год от года становится все тщеславнее. От возмущенного духа хилеет тело. И пришла пора— занедужил царь и лег на смертный одр. Большинство бояр отказались присягать его сыну, а целовали крест Владимиру Старицкому—началась смута.
Тут уже совсем не до Казани стало Москве. На Горной земле пошли неурядицы, воеводы, оставленные в Казани, почуяв слабину, стали творить беззакония, ясак стали брать не хуже татар. Монахи и попы начали насильничать — веру православную стали насаждать неволей да страхом.
Но случилось то, чего бояре не ожидали. Государь поправился, выжил — и ужаснулись бояре его гневу. Старицкие были уничтожены, на всех, кто от присяги отказался, легла великая опала. И что страшнее всего — государь после болезни словно переродился. Куда девался юноша-царь? С постели встал жестокий, постаревший до времени человек. В душе, кроме гнева и недоверия,— ничего. В глазах одна злость. Никого он теперь не любит. И не верит никому. Каждое письмо, любую челобитную велит нести к нему.
Вот и сейчас сидит он в палате, а перед ним — ворох свитков, писем, жалоб. На царе — кафтан голубого сукна с алмазными пуговицами. Рукава широки, исшиты узорами, меж которых искусно вставлены драгоценные каменья. Посох с золотым крестом стоит меж колен.
Взял со стола бумагу. По желтоватому листу блеклыми чернилами (видно, давненько лежит жалоба) крупные строки: «...Царю государю бьет челом раба твоя бедная и беспомощная Васильева жёнка Наумыча Плещеева, горькая вдова Дарья со детишками своими с Бориской да Оленкою да с Андрюшкою...»
Иван хотел было бросить челобитную (лезут к царю со всякой мелочью), но вспомнил, что Плещеев погиб под Казанью, и принялся читать дальше: «...бью челом на ведомого вора и озорника Гришку сына Дмитриева Оболенского, что он позорил дочеришек моих, трех девок небылишными бранными словесами, а про Андрюшку сказал, што ты-де блядин сын оконницу у меня изломал, а про Бориску сказал, што мы-де из тебя, бражника, годовалые дрожжи выбьем, а Олешку назвал псаревичем, а нас, холопей верных твоих, лаял матерны и всякою неподобною лаею...»
Иван вспомнил, что Григорий Оболенский крест ему целовать не хотел и, взяв перо, внизу челобитной начертал: «Гришку Оболенского в яму». Потом принялся читать другую бумагу.
«Брату моему, государю великому Ивану царицы Сююмбике поклон. Третий год живу в Москве я и терплю лихо, кормлюсь худо, а ты, из Казани меня взявши, обещал держать меня не как пленницу, а как царицу. Однако все меня забыли, кроме стражи, и никого ко мне не допускают и меня взаперти держат. Где твое царское слово, где твоя милость и жалование?..»
Дальше Иван читать не стал. «Какая она царица,—подумал он,— и Москве теперь безопасна. Однако слово было дано, и его следует держать». И, обмакнув перо в чернила, написал: «Царицу Сумбеку из града отпустить, дать ей в удел село Раменское со дворами, а сына ее Утямыша отдать в ученье».
Князь Микулинский, владевший Раменским селом, был сослан на Белозеро за измену царю. В летний княжеский дом поселилась теперь Сююмбике и стала хозяйкой раменских земель. Стражи теперь около нее не было, и скоро около царицы появилось много татар.
Поглядывая на них, раменские мужики скребли в затылках: ведь всю царицыну родню надо было кормить, одевать и денег давать. Родню кормить еще полбеды. А вот стали наезжать со стороны всякие. Вчера вечером прискакал один, говорят, с Волги.
Сююмбике сбросила с себя атласное одеяло и легко спрыгнула на ковер. На носках подошла к окну, открыла набранную из разноцветных стекол створку. Сладко потянулась, подставляя свое тело свежему утреннему ветру.
Несмотря на свои тридцать семь лет, Сююмбике красоты своей не утратила. Она присела к зеркалу. Из овала глянули на нее большие черные глаза. При взгляде вниз глаза закрывались густыми длинными ресницами, при прямом взгляде ресницы доставали до бровей. В зрачках—яркие, ласковые искорки. Чуть-чуть припухлые губы полуоткрыты, будто ждут поцелуя. Морщинок на лице немного, старость еще не коснулась царицы.
«Нет, я все еще хороша»,— подумала Сююмбике и принялась расчесывать черные, словно смоль, волосы. За дверью, будто мышь, заскребла служанка. Царица встала и приоткрыла дверь.
— Госпожа,—зашептала девушка,—вчерашний гость.
— Пусть подождет немного, я только оденусь.
В ту ночь Сююмбике спала мало. Очень много думала. Да и было о чем думать. Приехал из черемисских лесов отважный воин Мамич-Берды, сын мурзы Япанчи. Назвал себя татарином, но разве Сююмбике проведешь. Сказал, что приехал великую царицу навестить, поклон ей отдать. Так и нужно поступать умному человеку—сразу свое дело выкладывать не надо. Говорил о волнении В Луговой стороне, О ТОМ, ЧТО КОПИТСЯ у людей на русских гнев. Сююмбике больно приглянулся нежданный гость. Высок, строен, лицо загорелое, мужественное. Глаза серые, холодные. Даже улыбаясь, не допускает он блеска своих глаз—нельзя ничего прочитать в них. Сююмбике знала: такие дольше всего у трона держались. Такие власть не только могут взять, но и держать могут. А в том, что Мамич приехал о властвовании говорить, Сююмбике не сомневалась. Хоть и хитро вел разговор дальний гость, но к чему клонилось дело, сразу было видно.
Давно не было около царицы настоящих мужчин, и ей захотелось приблизить Мамича к себе. Это сулило и наслаждение, и выгоду. Если он власть взять задумал—пусть с ней поделится. Может быть, снова взойдет звезда Сююмбике на казанском небосклоне?
Надев самые лучшие одежды, хозяйка вышла к гостю. После взаимных приветствий и поклонов начался деловой разговор. Сю- юмбнке начала издалека:
— Я помню, Мамич, твоего отца, помню. Могучий человек был мурза Япанча. Вся Луговая сторона под его рукой была, все черемисы его, как огня, боялись. Да-а, хорошее было время—прошло. Разорвали наши владения на куски, растащили ханство по сторонам. Я все время молю аллаха, чтобы послал он человека, могущего снова поднять ханство. Видно, нет такого человека.— Сююмбике глубоко вздохнула.—Было среди моих подданных много батыров, иные погибли, иные покорно шею под русский сапог подставили.
— Не все, великолепная!—воскликнул Мамич.—Есть и такие кто не склонил головы.
— Есть?—Царица усмехнулась.—Много ли их? Прячутся по лесам, как волки. Без силы, без воинов высоко голову не поднимешь.
— А если бы такой человек нашелся? Если бы сила нашлась? Ты помогла бы ему, блистательная?
— Я? У меня ничего нет, милый Берды. Но если бы такой человек пришел ко мне и сказал: «Можно поднять ханство, но для этого надо разделить тело бедной Сююмбике на куски», я бы без слова легла под нож.
— Этот человек перед тобой, царица.
— Говори, я слушаю.
— Казанское ханство не поднять. Надо ставить другое ханство—черемисское. И я мог бы поставить его сам. Но как укрепить его? Тысячи казанских воинов разбрелись по улусам, притаились и предались презренному занятию—копаются в земле, растят хлеб. Только твое имя может собрать и поднять их в помощь мне. Если ты будешь со мной, вся ногайская орда придет к нам на выручку в трудную минуту. Меня не знают в Крыму, но если ты будешь рядом, Гиреи не дадут царю Ивану захватить нас.
— Ты хорошо сказал. Правильно сказал. Однако я не пойму, как я встану рядом с тобой. Кем?
— Женой.
— Но тебе надо только мое имя, а у меня еще есть душа. Может, в ней живет другой?
— Вырви его из сердца. Разве сидящие на троне любят кого- нибудь? Разве ты любила хоть одного из трех своих мужей?
— Ты смел!
— Я прям. Нам с тобой поздно играть в жениха и невесту. Надо ханство поднимать. Если поделим с тобой трон, то постель как-нибудь разделим.
— Я вижу—ты создан для власти. Где думаешь трон ставить?
— Там, где Кокшага впадает в Волгу.
— Сколько людей можешь поднять против русских и когда?
— Если станешь моей женой, то к будущей весне в нашем
войске станет пятьдесят тысяч. Как просохнут дороги, сразу и начнем. Говори: согласна ли?
— Позволь подумать. Вечером приходи—скажу. А сейчас пойдем, нас ждет завтрак.
Обеда в этот день не было. Вечером гостя позвали на ужин. Собралась вся челядь Сююмбике. На столе было много бузы и пива, пить которое, как известно, кораном не запрещено. Хозяйка была с гостем очень ласкова, сама подносила ему напитки, говорила приятные слова. А когда ужин кончился, все, как по знаку, исчезли, оставив Сююмбике наедине с гостем.
— Я жду твоего слова, мудрая Сююм.
— Вот мое слово.—Хозяйка подала Мамичу письмо.—Отдашь это Уссейн-сеиту. Здесь я прошу его сделать для нас с тобой все, что ты скажешь. Он соберет всех, кто помнит меня, и вместе с ним начинайте поднимать новое ханство. А это письмо пошли с верными людьми в астраханские степи, брату моему Али-Акраму. К весне он тоже соберет немалое войско и будет наготове. А с крымскими Гиреями я снесусь сама.
— Да будет аллах над нами,—сказал Берды, принимая письма.—Завтра же еду и буду слать тебе вести, буду ждать твоих ответов.
Сююмбике позвала служанку, сказала властно:
— Хана в прошлую ночь беспокоили комары. Сегодня хан ляжет в мою постель — приготовь там полог.
Служанка ушла. Сююмбике взяла гостя за руку и, волнуясь, шепнула:
— Пойдем, милый. Сегодня ты мой хан.
— Рано еще. Какой я хан, если нет ханства? Я лягу во дворе. Прости меня—еще не время,—тихо освободив руку из ладони Сююмбике, Мамич-Берды поклонился и вышел.
— Это мужчина!—воскликнула восхищенная царица.—Не растаял, не раскис. Идет к своей цели, как стрела, не сворачивая. Такого можно и полюбить по-настоящему.
А утром на прощание Сююм посоветовала Мамичу:
— Пусть Пакман боярину Салтыкову много шкурок привезет, пусть скажет, что у людей накопилось столько шкур, что их некуда девать, и они пропадают зря. Пусть расскажет, у кого и где эти шкурки лежат, пусть зажжет в глазах боярина огонь жадности, и тогда он поможет нашему делу. Ты сам найди верных людей, вырубайте тайно священные рощи, обвиняйте в этом русских. Без дела не сидите. Когда все будет готово, дайте знать мне — и я приеду на место. Велик аллах!
— Велик аллах!
— Теперь в путь!
МАМИЧ-БЕРДЫ И АЛИ-АКРАМ
О
сень в этом году выдалась затяжной и ненастной. Над кокшайской стороной все время клубились низкие тучи, моросил нудный обложной дождь. С деревьев неудержимо стекала листва, леса оголялись быстро.
В семи верстах от Волги на берегу Кокшаги Мамич-Берды начал строить город—будущую столицу ханства. Со стороны приволжских лугов город окружали высоченной насыпной стеной, за которой можно было отсидеться в случае осады. С севера крепость прикрывалась рекой, за которой начинался густой лес— надежная защита.
Город назвали Кокшамары.
Когда казанский воевода узнал об этом, сказал:
— Больно не на месте вскочил сей чирышек. Не дай бог, разболится—пропадем,—и вызвал в Казань князя Акпарса.
И первый раз между князьями произошла размолвка. Воевода повелел Акпарсу поднять горный полк и Кокшамары разгромить. Акпарс прямо сказал воеводе, что воины горного полка убивать своих собратьев не пойдут, да и сам он тоже не хочет, чтобы лилась черемисская кровь.
— Скажи своим боярским детям, чтобы луговых они не обижали, не насильничали, и тогда воевать Кокшамары не надо будет. Луговые сами от Мамич-Берды разбегутся.
Воеводой в Свияжск был послан Борис Иванович Салтыков — человек жестокий, но не весьма мудрый и в ратных делах не столько быстр, сколь горяч. Тот, не разобравшись в делах, перво-наперво снарядил три сотни стрельцов и повел их на Луговую сторону. Первым большим илемом на пути Салтыкова оказался Помарский. Не разобравшись, кто прав, кто виноват, воевода схватил около семи десятков мужиков и тут же предал казни.
Не прошло и недели, как о помарском побоище узнала вся Луговая сторона. Люди валом повалили в войско Мамич-Берды и совсем перестали платить ясак, а главных ясатчиков Ивана Скуратова и Мисюру Лихарева утопили в реке.
Вместо того, чтобы поразмыслить над случившимся, Салтыков стал снаряжать новый тысячный отряд, в который вместе со стрельцами вошло пять сотен воинов горного полка. Узнав об этом, Мамич-Берды вывел навстречу Салтыкову своих конников и неожиданно налетел на карателей, когда те переправлялись через Илеть. В коротком и яростном бою было убито двести стрельцов да двести пятьдесят горномарийских воинов. Салтыков сам еле успел убежать на правую сторону Волги.
Около двухсот русских ратников воины Мамич-Берды увели в плен.
Наступила зима. По снегу воевать с повстанцами было немыслимо, и было решено по весне наказать клятвопреступников. Салтыков стал готовиться к новым боям, князю Акпарсу было приказано заняться обменом пленных.
По зимней дороге на поджарых конях мчатся всадники. На темно-голубом снегу, рядом с всадниками, мчатся длинные черные тени. Высоко в холодном небе сияет луна. Всадники едут только по ночам. Впереди—полтораста человек, столько же сзади. В середине шесть санных возков. В одном дремлет Али-Акрам, брат блистательной Сююмбике. Али-Акрам почти весь возок занял один, его огромное жирное тело, рыхлый живот колышутся, когда возок ныряет по ухабам. В уголке напротив, поджав ноги под себя, скорчившись, сидит посланец Сююмбике старый слуга Зейзет. Это он приехал в ногайскую степь и передал письмо царицы, в котором Сююмбике написала: «Пора ехать на новое ханство».
— Скоро ли приедем?—не открывая глаз, спрашивает Али- Акрам.
— Утром будем на месте,—отвечает слуга.
— Захочет ли Мамич сделать меня ханом? Он ведь сам хотел править.
— Там, где рука мудрой Сююм, править будет тот, кому она повелит.
— Но у меня только триста воинов, а у Мамича, говорят, несколько тысяч.
— Это верно. Только среди них чуть не половина—казанцы. А они слушаются Уссейн-сеита, а Уссейн-сеит слушает Сююмбике.
— Говорили, что сестра хочет стать женой Мамича?
— Она этого не хочет. Большую силу даровал ей аллах. Всякий мужчина в ее руках—воск. Ты знаешь, как она горда.
— После казанского золотого трона править на деревянном черемисском троне—не велика честь.
— Сююмбике знает, что делает. Это только пока ханство будет черемисским. Придет время—и Казань снова будет у ног Сююмбике. Все пойдет по-старому.
— Ты черемисских девок видал?
— Видал.
— Красивы?
— Всякие есть. Как и у нас, в ногайских степях.
— Это хорошо. А то я свой гарем дома оставил.
Скрипят полозья саней, молчит, мечтая о новом гареме, Али- Акрам, молчит и слуга Зейзет.
У каждого свои думы...
Али-Акрама встретили в Кокшамарах пышно. Он привез ответ астраханского хана Измаила, который сына своего на черемисский трон не отпустил, а послал достойного Али-Акрама. Измаил был мудр, он хорошо понял замысел Сююмбике.
В марте по всей черемисской земле помчались гонцы, извещая о рождении ханства. На новом троне сел доблестный Али-Акрам. Мамич-Берды стал главным нуратдином хана—все войско в его руках. Уссейн-сеит взял заботу о ханской казне. Черемисам было велено посылать старейшин к новому хану на совет. До конца месяца в Кокшамары прибывали убеленные сединами старцы. В ожидании совета их принимали как самых дорогих гостей.
Ханская палата вся в коврах: пол крыт персидскими, стены— в бухарских мелкоузорных, потолок—в легких ферганских. Трон устлан шелком, поверх положены подушки в голубом атласе.
На треножниках по бокам горят две плошки с жиром. Лицо Али-Акрама лоснится от сала, поблескивает в отсвете желтых огней. Голова у хана большая, глазенки узкие-узкие. Борода разбегается по скулам клочьями, острые тонкие усы свисают через губы к бороде.
Старейшины входят в палату по одному, падают перед троном на колени, целуют край малинового ханского халата. Потом садятся на указанное место.
Али-Акрам с подданными своими говорить не любит, да и не умеет. К тому же свежеиспеченный хан не знает ни одного слова по-черемисски. Правда, старейшины знают татарский язык, но аллах свидетель, Али-Акрам совсем плохо говорит на казанском наречии. Поэтому совет открыл Мамич. Он встал за трон и повел ласковую речь:
— Пусть живут по сто лет мудрейшие из мудрых, пришедшие сюда, чтобы дать светлейшему хану Али-Акраму совет, как править великим ханством, поставленным на вашей земле. Хан приветствует их.
Али-Акрам утвердительно качнул головой.
— Много зла претерпел ваш народ за последние два года. Много ваших братьев, сыновей и внуков погубили русские под стенами Казани. Жестоким и злым урусам этого показалось мало, и они совсем недавно умертвили невинных помарских жителей. Пусть кровь этих несчастных упадет нашим гневом на головы неправедных. Разве не русские отбирают ваше добро? Разве не они обрекают ваши семьи на голод? Сотни лет вы были под властью Казани, но разве посягали казанцы на вашу веру, разве разоряли ваши кюсоты? Вы спокойно жили под защитой Казани и спокойно молились своєму богу. Но Казань пала, развеялось по ветру великое ханство. И ваш народ остался без защиты. Это тяжелое время прошло. Я поднял оружие и встал на вашу защиту. Астраханский хан Измаил послал для того, чтобы защитить вас, войско с великим Али-Акрамом во главе. Высокий ревнитель веры священной Уссейн-сеит собрал под свою руку самых храбрых воинов Казани и тоже пришел к вам на помощь. И подняли мы ханство вашей земли, могучее, высокое и никому не подвластное. Отныне вы сами хозяева своих лесов, и пусть русские не показываются в нашем краю. Говорите, старейшие и мудрые, как вы хотите жить под рукой справедливого Али-Акрама. Говорите смело—хан слушает вас.
Старейшины долго молчали, потом поднялся один, сидевший справа от трона, спросил:
— Ясак бы уменьшить надо. Русские приходили—брали, ты приходил — тоже брал, в наших илемах голод ходит. Как быть?
— Теперь у нас свое ханство,—сказал Мамич-Берды,—Теперь ясак совсем отдавать не надо. Если и придется воинов кормить-одевать, так они же наши люди.
— Татары больно плохой закон нам дали—девок наших по гаремам таскать, невест на три ночи забирали,—сказал другой старейшина.—Будет ли теперь такой закон?
— Великий хан сказал, что он никому не позволит трогать ваших женщин,—ответил Мамич и посмотрел на Али-Акрама. Тот поморщился, но согласно кивнул головой.
— Я еще хочу спросить.— У двери поднялся третий старейшина.—В нашем илеме ни одного мужчины не осталось — всех Мамич-Берды с собой увел. Как мы без мужчин жить будем?
— Потерпи, отец,—ответил Мамич.—Вот ханство поставим, укрепим свою силу—всех домой отпущу.
Долго шел совет. Старики думали, что хан совета у них станет спрашивать. А вышло что? Они спрашивали, а им обещали. -
Когда сошел снег и чуть-чуть подсохли дороги, воевода Салтыков повел на Кокшамары две тысячи ратников. Из горного полка не взял ни одного воина: князь считал, что только черемисы, да и чуваши вместе с ними были виноваты в его прошлых поражениях.
Воевода надеялся застать Мамича врасплох, подступы к Кокшамарам не разведал, переправу через Волгу не обдумал. Не успели ратники выскочить на левый берег, как попали под стрелы и сабли воинов Мамич-Берды. Схватка была короткой и последней для худого русского воеводы. Князь Борис Салтыков был захвачен в плен и убит. Ратники частью разбежались, многие попали в плен. Убитых было немного.
Али-Акрам в честь победы устроил большой праздник. Хану
в Астрахань был послан подарок—панцирь и боевые доспехи убитого свияжского воеводы Салтыкова. Сююмбике была уверена, что астраханский хан поднимет всю ногайскую орду и приведет ее под Казань, чтобы не только поднять казанское ханство, но и расширить его по всей Волге до Астрахани. Теперь можно было обойтись и без черемисских воинов, а обещания, данные старейшинам, забыть. По лесным илемам снова были посланы ясатчики, хан Али-Акрам сам разъезжал всюду и выбирал красивых девушек в гарем. В Кокшамары потянулись гурты отобранного скота—огромный двор хана надо было кормить.
Снова, как некогда раньше, застонала Луговая сторона. Мамич-Берды алчно поглядывал на Чалым и к осени надеялся отвоевать под власть хана Горный край. Силу копил, новую войну обдумывал.
Люди, посланные с подарками в Астрахань, возвратились с плохими вестями. Хитрые расчеты Сююмбике разлетелись в прах.
Хан Измаил был свергнут, вместо него на астраханский трон сел Ямгурчей—недруг Али-Акрама. О посылке орды под Казань не могло быть и речи: Ямгурчей сам готовился к обороне. Из Москвы на Астрахань шла тридцатитысячная русская рать под рукой воеводы Пронского. Ямгурчей сам в письме Сююмбике намекал, что будет неплохо, если черемисское ханство пошлет ему на помощь свое войско.
Мамич-Берды стал было собираться в поход (лучше общими силами разбить русских под Астраханью, чем ждать их на своей земле), но вовремя узнал, что вятский воевода Вяземский ведет по Вятке и Каме другую рать, и не приведи аллах, если он ударит ему в спину.
Летом рати Пронского и Вяземского встретились там, где Дон близко подходит к Волге, и потом разбили передовые заслоны хана Ямгурчея.
Через месяц Астрахань пала, хан бежал в Азов.
Али-Акрам понял, что в Кокшамарах ему долго не усидеть, и стал усиленно грабить луговых, чтобы успеть до побега как можно больше разбогатеть.
Мамич-Берды подумывал о том, как бы помириться с Акпарсом и в случае чего перескочить на сторону русских.
Ко всему этому в Москве узнали про замыслы Сююмбике, и царь повелел мятежную царицу заточить в монастырь.
Тропинка вьется меж деревьев, как змейка, она хорошо протоптана, идти по ней легко и радостно. Ирина любит тропинки какой-то особой любовью, целыми днями бродит по лесу, веселая и счастливая.
Тропка выбегает на берег Нужи, где растут черемуховые кусты. За ними—прокаленные солнцем полянки, на которых спеет душистая земляника.
Набрав полный берестяной кузовок ягод, Ирина идет дальше. Тропка ведет ее по лесу, потом неожиданно выбегает на ржаное поле и скрывается в волнистой густоте хлебов.
Ирина срывает ржаной колосок, растирает меж ладонями и, сдунув колючие усики, кладет крупные зерна в рот. Рожь на зубах хрустит. Еще день-два—и можно будет собирать урожай.
А через неделю у черемисов будет праздник нового хлеба. Она с Акпарсом специально приехали сюда, чтобы с народом вместе провести этот праздник.
Вдруг Ирина песню вдалеке услышала.
Далеко Нужа бежит,
К Юнге бежит —и рада,
Юнга глядит на берега
И тоже больно рада.
Чему же рады берега?
Цветам красивым рады,
А наши матери-отцы
Глядят на нас — и рады.
Ирина перебежала через поле, видит: под дубом Акпарс, Ковяж, Топейка рядом сидят. Перед ними разостлан кафтан, а на кафтане вино и кой-какая еда.
— Не могли праздника подождать, греховодники,—сказала шутливо Ирина, подходя.— Вот я ужо старому Аптулату скажу, как вы обычай рушите. Разве во время жатвы песни петь можно? Подождать не могли?
— Не могли, Ирина,—сказал Акпарс.— Садись рядом, грешить вместе будем.
— Здравствуй, Ковяж,— Ирина присела рядом с Акпарсом.— Ты что-то плохо поправляешься.
— Грудь болит,—тихо отвечает Ковяж.
— А как же — у друга в гостях побывал,— смеется Топейка.
— Хватит тебе смеяться,—Акпарс глянул строго на Топейку.
— Я не смеюсь. Я правду говорю. Разве я его слов не помню: «Мамич—нашему народу друг».
— Не надо, Топейка,—тихо сказал Ковяж.—Я за эти слова дорого расплатился. Но зато правду узнал. Я уже Акпарсу говорил: посылай меня на кровососов в любое время, жизни не пощажу. Мне бы только поправиться.
— К осени выздоровеешь, гляди,—ласково сказала Ирина,— скоро хлеб свежий поспеет. Он лучше всякого лекаря.
— Я недавно в Казани был,—после некоторого молчания сказал Акпарс,—с князем Александром долго разговаривал. Сильно ругается воевода, и правильно ругается. Вы, говорит, больно не
любите, когда чужие люди на вашу землю приходят. Не любим, говорю. Тогда какого шайтана за порядком в своем крае не следите? Татары под вашим носом, на вашей земле ханство подняли, черемисским его назвали, а что в нем черемисского? Хан—ногаец, воевода—вашего извечного врага сын. Уссейн-сеиг из Крыма приблудный, и не поймешь кто. Если, говорит, не хотите, чтобы наши ратники вашу землю топтали—сами с Мамич-Берды разделывайтесь. Да и, честно говоря, ратников нам царь-государь не даст — они все Астрахань воевать ушли. Я обещал воеводе порядок в нашей земле навести. После уборки хлеба с Мамич-Берды, видно, воевать придется.
— Я Мамичу глотку бы перегрыз!—воскликнул Ковяж.—Но как подумаю, что луговых братьев убивать придется...
— Зачем убивать?—сказал Топейка.—Луговые черемисы сами теперь видят, что в Кокшамарах их враги сидят. Луговым только помочь надо, они сами на хана войной пойдут.
Хлеба уродились в этом году на редкость хорошие, и праздник Нового хлеба справляли вместе, а не в каждом дворе, как раньше.
Вся округа собралась на берегу Юнги. Ночью перед праздником выпал дождь, и утром лес, умытый и посвежевший, благоухал всеми запахами земли.
Люди приходили на берег и слушали песню, которую пело чудесное лето. Соткана эта песня из звона речных струй, из многоголосого щебетанья птиц, из шелеста листьев, из трелей жаворонков в небесах.
Каждый верил: песню лето поет для праздника жатвы. И каждому хотелось подпевать этой песне.
Праздник начался молением. На широком лугу стоит сноп сжатой ржи. Карт Аптулат надел широкую темную рубаху и вынес к снопу большую деревянную плошку—спутницу всех молений. На рубахе медные пластины с изображением змей и диковинных птиц. К карту подошли Акпарс, Топейка, Ковяж и еше несколько мужчин. Акпарс первым сорвал со снопа несколько колосков, растер их ладонями, зерна бросил в плошку. Это же проделали Ковяж и Топейка. Затем один за другим подходили люди, срывали колоски. Аптулат поднял наполненную зерном плошку, люди встали на колени. И понеслась в небеса молитва:
401
— Кугу юмо! Взрастил ты нам хлеб, и мы благодарны тебе! Теперь выйдем мы на поле и, взявши серпы, станем жать; дай нам прибыль в снопах. Потом, когда снопы кладем мы в копны, и в копнах, боже великий и добрый, дай нам прибыль. А когда на поле во всех краях мы будем класть клади, и тогда прибыль нам дай. Юмо великий, юмо добрый! Зерна из колосьев выбивши, мы будем бросать их на ветер, и в ворохе зерен дай нам прибыль. Подобно волжским пескам пусть сыплется в наши
Марлі А кпарса
лари зерно хлеба. А когда хлеб испечем мы, неистощимую прибыль в хлебе нам дай. Пусть мы этим хлебом голодных, приходящих накормивши отпустим, просить приходящих с хлебом отпустим, одну часть зерна вперед положим, две части в запас положим— в этом помоги нам. Когда с родственниками и с семьдесят семью друзьями есть и пить будем, да не истощатся наши запасы. Боже великий и добрый, прибылью хлеба обрадуй нас!
— Прибылью хлеба обрадуй нас!!! — повторили все.
— А теперь, богу помолившись, люди, омоем свои тела, чтобы чистыми к чистому хлебу подойти нам!
И все поднялись и направились к реке. Акпарс первым разделся и бросился в прохладную воду.
За излучиной слышится повизгивание—там начали омовение женщины.
В реке люди ведут себя чинно: моют сначала голову, потом руки, грудь. На берегу снова звучит молитва Аптулата, он просит бога, чтобы с новым хлебом дал тот людям здоровье, силу, красоту и отвагу.
Когда все оделись, началось пиршество. Развязаны узелки — и на траве появились яства: хлеб, испеченный из муки нового урожая с малой примесью солода, пироги с луком и мясом, творог.
Аптулат вынес на середину луга ковш с вином и, подняв его к солнцу, произнес:
— Великая Кече ава, Мать солнца, счастья и богатства, благослови это вино!
Люди поднимали к небу посуду и повторяли:
— Благослови!
— Благослови! — произнес Акпарс вместе со всеми и вместе со всеми выпил первую чарку.
Люди пили и ели, рассевшись группами, потом ходили от одного круга к другому, поздравляя всех с новым урожаем. Ирину и Акпарса долго не отпускали: каждая семья считала за великую честь угостить уважаемых людей.
Акпарс пил и не хмелел. Может быть, оттого, что великой радостью было наполнено его сердце: ведь сегодня шел первый праздник, когда не нужно было оберегаться наезда мурзаков.
Уже зазвучали во всех концах луга песни. Где-то около реки звенят гусли и задорные девичьи голоса поют:
А в Еласах на горе Березняк зеленый,
И липняк сбегает там
Вниз с горы, по склону.
А в Еласах на лугу Девушек немало,
Женихов-парней туда Тоже набежало.
А бабы собрались в один круг, тоже поют:
Яблонька распустится —
Дева запоет,
Расцветет черемуха —
Сватов парень шлет,
Зреет рожь высокая —
Мужу благодать,
Печь горит-румянится —
Радуется мать.
Топейка подошел к Акпарсу, шепнул на ухо:
— Люди хотят твое слово услышать. Скажи им.
Акпарс кивнул, Топейка поднялся, крикнул:
— Слушайте! Аказ говорить будет!
Замолкли песни, тишина спустилась на луг.
— Люди! Богатый урожай вырастили мы этим летом. И весь этот хлеб будет наш. Его не надо делить с мурзой Кучаком, как раньше. И не будем мы знать голода в зимнюю пору. Раньше мы не были дружны, каждый думал только о себе. И этот праздник мы проводили каждый на своем дворе. Сегодня мы собрались вместе, чтобы встретить праздник жатвы. Да будем всегда, как сегодня, вместе: и в радости, и в горе. И счастье не уйдет из наших илемов, и нам не страшны будут любые враги.
Гул одобрения прокатился в ответ.
— Спой нам песню, Аказ! — крикнул кто-то.— Мы давно не слышали твоей игры.
— Дайте мне гусли,—попросил Акпарс, и когда их ему подали, тронул струны, запел:
Я вам песню спою,
Пусть вам песня моя навек остается.
Я прошел по земле
И оставил глубокий след.
С песней моей живите,
Следуйте этой песне,
Следом моим идите,
С русокими рядом идите.
Тихий, серебристый свет месяца расплескался над рекой и лесом. Утихли праздничные звуки, погасли поздние огни. Люди собираются расходиться по домам. Только на бугре, около шатра князя Акпарса потрескивает угольками маленький костерок. Охранник сидит у входа и изредка бросает в огонь сухие еловые лапки.
Сквозь полотнище шатра пробивается свет. Там сидит Ирина. Уснул Аказ, а ей что-то не спится.
За шатром послышались голоса. Ирина открыла вход в шатер. В полосе лунного света появилась голова Топейки. Он сказал:
— Чужой человек пришел, про Янгина вести принес.
— От Янгина?! — Акпарс проснулся сразу.— Веди сюда.
Когда Топейка выходил, Ирина шепнула:
— Обыщи сперва. Не дай бог, с оружием.
Было заметно, что Акпарс волновался. Ирина подошла к нему, но он указал ей на занавеску. Она ушла и села на лежанку. Волнение мужа передалось ей, предчувствие беды сковало грудь.
Топейка ввел человека, который сразу не понравился Ирине. Огромная меховая шапка, надвинутая низко на лоб, почти совсем скрывала глаза вошедшего.
— Пусть он уйдет,— мрачно произнес вошедший и указал на Топейку.— Дело к одному Акубею.
— Топейка, выйди,— приказал Акпарс.— Ну, говори.
— Зачем говорить. Сперва прочитай, тут все написано.
Ирина видела из-за занавески, как пришелец вытащил листок
бумаги, свернутый в трубку, и положил на стол. Акпарс пододвинул ближе свечу, стал читать. Письмо написано было по-русски, но с первых же слов стало понятно, что писал его татарин.
«Адин бух знает, кто и где найдет своя сымерть. Твоя бырат Янгинка умрал гразный, бонючий болот, ты ева напрасно искаешь...»
По тому, как ниже и ниже склонялась голова Акпарса, Ирина поняла, что читать в полутьме шатра мужу трудно. Она хотела зажечь еще одну свечу, встала и тут увидела, как человек снял свою огромную шапку и вытащил из-за меха полусогнутый нож.
— Аказ, берегись!! — крикнула Ирина и бросилась между мужем и пришельцем...
Топейка кинулся к шатру, навстречу ему выскочил пришелец и взмахнул ножом. В свете костра и месяца блеснуло стальное лезвие. Топейка мгновенно присел, с силой оттолкнулся от земли, бросился под ноги. Пришелец перелетел через Топейку, растянулся на траве. Охранник выбил из руки нож, смял злодея под собой. Тот ожесточенно сопротивлялся, рычал, грыз охраннику руки. Топейка, поднявшись, подбежал на помощь, схватил врага за горло и не отпускал до тех пор, пока тот не испустил дух...
В темном проеме появился Акпарс и медленно направился навстречу людям. На руках он нес Ирину. Ее голова безжизненно свешивалась вниз, длинные волосы, упав, касались земли. Багряное пятно на груди расплывалось все шире и шире.
Акпарс нес свою дорогую ношу, не видя ничего вокруг. Люди уступали ему дорогу и, только пропустив мимо себя, замечали: их вождь стал совсем седым. Даже борода и усы побелели, словно окинулись инеем.
Акпарс все шел и шел к священной роще. Люди длинной вереницей шагали за ним. Топейка хотел было помочь Акпарсу, но тот покачал головой и так же медленно пошел дальше. Около кюсото он положил Ирину на траву, начал говорить:
— Люди мои! Вы знаете — земля полна слухов, что враг снова поднимает голову. Сегодня он хотел нанести первый удар и убить меня. Но вместо меня погиб другой человек. Она отдала мне свою молодость, а сегодня — жизнь. Вы знаете, что она человек не нашего рода — она русская. Но разве не делила она с нами все горечи, разве не жила она жизнью наших лесов, разве ей не дороги были люди Нуженала? И я прошу вас похоронить ее по обычаям нашей земли и отдать ей все почести, какие отдаем мы самым дорогим нам людям.
— Она достойна этого! — закричали в толпе.— Она спасла нашего Акпарса!
КОНЕЦ ЧЕРЕМИССКОГО ХАНСТВА
Снова прочитана молитва и провозглашено пожелание тысячелетия* роду Али-Акрама. Хан, вымыв руки и промыв рот, идет на балкон курить кальян и глядеть игры и пляски во дворе. После обеда — час кейфа, час удовольствия, время сладостного развлечения.
Сегодня час кейфа прошел плохо. Хан был угрюм и мрачен, приближенные ничем не могли развлечь его. На счастье, появился слуга, подошел к Али-Акраму, что-то шепнул ему на ухо. Хан поднялся, прошел через двор и остановился у входа в гарем. Охрана оставила хана одного, и он толкнул дверь калитки. На крыльце гарема, свернув ноги калачом, дремал евнух. Увидев владыку, он распростерся перед ханом, стукнулся лбом в циновку и бросился открывать двери в половину гарема, где жили молодые сладострастные бикечи. Но Акрам прошел мимо входа, шагая к дому, где жил Уссейн-сеит.
Перед дверью хан остановился. Его приближение было замечено, и дверь немедленно открылась.
Сеит встретил гостя в комнате, обитой голубым атласом. Он кивнул головой на лавку, покрытую оранжевым сукном, сам сел супротив хана на желтую камчатую подушку.
— Зачем звал меня?
— Хочу до прихода Мамич-Берды поговорить с тобой. Ты забываешь, кто ты есть. Тень милости аллаха на земле, священный и
благоверный хан Али-Акрам по уши увяз в грехах. Раньше ты сокращал молитвы, теперь же совсем забыл аллаха и все время то грызешь овечьи мослы, то куришь кальян, то пропадаешь в гареме. За то наказывает тебя всевышний слабоумием и отнимает силу воли. Не дальше, как вчера, ты послал своих воинов в новый набег на чермышей и повелел привести еще сотню девушек для гарема. Зачем тебе они?
— Это не твоего ума дело.
— Я думал, ты поумнел. Даже младенец понял бы, что сотня отнятых у чермышей девок — это сотня илемов, где тебя будут ненавидеть. С кем же ты будешь защищать ханство, когда русские пошлют на нас рать?
— Скоро сюда придет ногайская орда, и я сверну всех недо- вольных в бараний рог!
— Безумец! Еще вчера я знал, что Астрахань пала и орды уже нет. Сегодня мне донесли, что русские рати на лодках вошли в Каму и плывут на Вятку. Небольшой отдых после астраханской войны — и они двинут силу на нас. Кого ты выведешь им навстречу, о доблестный воитель и победоносный хан? Свой многочисленный гарем или твоих зажравшихся слуг?
— Видит аллах, я не знал, что Астрахань пала! — воскликнул Али-Акрам. — Надо звать моего верного нуратдина и думать о войне... А девок я верну обратно.
— Но вернешь ли доверие чермышей?
— Все в руках аллаха.
— Ты часто вспоминаешь всевышнего в час опасности. Раньше я что-то не слышал твоих молитв.
Вошел Мамич-Берды.
— Что ни час, то плохая весть, — сказал он и присел на лежанку, не обращая внимания на хана.— Алим Кучаков убить Акпарса не смог. Его самого растерзали. Я лишился лучшего друга.
— Зачем нужна была смерть Акпарса?—спросил Али-Акрам.
— Прости, мой хан, я не заметил тебя. Я давно хотел посоветоваться с тобой. Но ты не нашел нужным принять меня.
— Сейчас мы готовы выслушать тебя, — надменно произнес хан и выпятил грудь. — Говори.
Пришла пора менять место. Кокшамары нам гибель сулят.
Раньше мы ждали врага с правого берега Волги, и здесь было хорошо. Теперь же русские на Вятке, за нашей спиной. Кто их задержит, если они пойдут на нас? Берег Кокшаги не укреплен, луговые чермыши того и гляди сами ударят нам в спину. Если русские пойдут на нас с Вятки, им преградой встанет Волга. А здесь земля ровная, как стол.
— Если бы Акпарс умер, нам легче было бы занять Горную сторону, — сказал сеит. — Много раз вставал он на нашем пути, и я начинаю бояться его...
В дни яровой жатвы разнесся слух: Мамич-Берды занял Чалым.
Акпарс немедленно отправился в Свияжск — предаваться своему горю, когда беда грозит всему народу, было нельзя.
В Свияжске Акпарса ждали князья Петр Шуйский и Василий Серебряный, приехавший из Казани.
Долго судили-рядили князья, а выходило одно: с Мамич-Берды воевать одному горному полку. Из казанской рати ни одного воина отымать было нельзя — вокруг бродило много разбитых ногайских татар, да крымский хан того и гляди на Казань своих всадников бросит.
Из Свияжска отрывать ратников и того страшнее — мурза Уссейн-сеит нагрянуть может.
Порешили дать горному полку шесть пушек, снабдить каждого воина пищалью да и тронуться на Чалым.
В Чалыме уже готовились к встрече. Мамич-Берды стянул к Чалыму лучшие свои сотни, состоящие из татар и ногайцев.
8 августа горный полк подошел к Чалыму и, разделившись на четыре части, стал обходить возвышенность со всех сторон.
Ночью началась гроза с сильным ветром. Лес гудел, стонали деревья. Ветер пригибал травы к земле, словно стлал постель для воинов, которые падут в завтрашней битве. Молнии рвали небо, озаряя все вокруг тревожным светом, раскаты грома сотрясали воздух, будто хотели обрушить небосвод на землю. Потом хлынул дождь. Под бешеными порывами ветра его косые струи хлестали землю, деревья, людей. Все вымокли до нитки, отсырело в бочках пушечное зелье, вымокли запасные факелы, а фитили — хоть выжимай. Наутро Санька прибежал к Акпарсу в шатер, сказал:
— Ежели с утра битву начнем, пушки наши будут молчать. Все сыро. Надо подождать денек, обсушиться.
— Сам знаю, что надо. Только Мамич-Берды не дурак. Он обсушиться не даст. Счастье наше, если утром на нас не бросится.
Дождь перестал только па рассвете. И не успела обсохнуть земля, как предутреннюю тишь раскололи тревожные звуки боевых труб. Со стороны Чалыма, рассыпавшись по всей горе, со свистом, гиканьем и завываньем мчались всадники. Впереди, размахивая саблей, летел на вороном коне Мамич-Берды.
Расположенные на опушке леса воины с пищалями положили оружие на треноги, приготовились к залпу.
— Фити-и-ль!
Но отсыревший порох на полках не загорался, и залп вышел жидким — всего несколько хлопков. Воины, отбросив пищали в сторону, схватились за привычные им луки со стрелами. Но было поздно. Передняя ногайская сотня врезалась в ряды защитников.
Санька мигом посадил своих пушкарей на коней (пушки все равно стрелять не могли) и бросился в самую середину сечи.
Акпарс повел тысячу всадников наперерез волне татар, которая катилась от Чалыма вслед за ногайцами.
Алим-Акрам с двумя тысячами джигитов спустился вниз по горе с другой стороны Чалыма и схватился с воинами Топейки и Ковяжа. Пакман налетел на Акпарсову тысячу.
Все смешалось вокруг, и трудно было понять, на чьей стороне перевес: тут валится с седла навзничь убитый всадник, там с горы катится на ребре железный щит, здесь встает на дыбы пораженный в грудь конь.
Гнутся, трещат и ломаются копья. Свистят стрелы. Сыплют искрами, ударяясь друг о друга, сабли. Поет, крутясь, праща, ржут кони.
Смерчем налетел Акпарс на врагов, расколол лавину татарских всадников пополам, выскочил к самому Чалыму. Повернув коня, снова бросился в самую гущу боя. До самого черенка покрылась кровью сабля, брошен иссеченный шит, Акпарсу подали другой.
Но увлекся Акпарс, больно глубоко вклинился в ряды врагов, остался лишь с горсткой телохранителей. Вот погиб от сабли один из них, упал другой... Не замечает ничего Акпарс, рубит саблей во все стороны. Не видит, что с правой стороны выпустил Мамич свежую сотню, и она должна решить исход битвы. Мчится конная лавина, всадники легли на гривы коней, склонили пики — несутся прямо на Акпарса.
Не видит Акпарс высокого ногайца, что, склонившись над гривой коня, мчится за ним с копьем наперевес. Ударить копьем в спину — на это ногайцы большие мастера. Такие удары смертельны. Вся сила человека и разбега лошади вкладывается в этот удар. Уже совсем догнал ногаец Акпарса, сильнее пришпорил коня, поднял острие копья. Еще миг — и случится страшное!
То ли услышал Акпарс за собой топот коня, то ли сердцем почуял опасность, обернулся... и резко приник к шее коня. Копье со страшной силой ударило в левое плечо, пробило кольчугу... Акпарс упал на землю, тяжело охнул. Мир осеннего дня померк, покрылся темнотой.
Бой все еще продолжался. Справа от Чалыма ногайцы торжествовали победу, а там, где к илему подступает лес, воины, ведомые Топейкой, откололи от врагов добрую сотню, загнали их в лес и взяли в плен. Было похоже, что пленные сами захотели этого, и молодой сотник Алтыш признался, что их Мамич заставил воевать насильно. Отведя пленных к пушкарям, Топейка помчался на поле боя. Вдруг видит, мчится ему навстречу Акпарсов конь без седока, золоченое седло, подарок царя, подвернулось под живот лошади.
«С Акпарсом беда!» — подумал Топейка и огрел своего коня плеткой. Конь вынес его на бугор как раз в тот момент, когда ногаец, ударивший Акпарса, проскочил мимо него вторично и, нагнувшись до земли, ловко подхватил окровавленное тело Акпарса, бросил поперек коня.
Вырвав из ножен саблю, Топейка гаркнул:
— Ребятушки! Выручай Акпарса! — И бросился за ногайцем.
408
Десяток воинов кинулись за ним...
Никто в пылу битвы не заметил, как солнце поднялось на небосклоне, обогрело землю.
Никто, кроме Саньки.
Пока вокруг холма кипела сеча, Санька незаметно отделил своих пушкарей, оттянул их к наряду. А там сторожевые высушили фитили, проветрили зелье, забили ядра в пушки.
И больно кстати. Санька сунул в руки пушкарей факелы, растолкал к пушчонкам. Вот уж и дымят факелы, а крайний пушкарь, закрыв правый глаз и скривив губу, держит прицел. Несется свежая сотня, стелются над всадниками волосяные бунчуки. Еще миг — и сомнут ногайцы Акпарсовых воинов.
Первое ядро ударило в переднюю лошадь, переломило ей ноги, покатилось дальше, круша все на пути. За первым второе, третье. Ногайцы взвыли. Задние не могли остановить неистовой скачки, кони падали в кучу, всадники пулями вылетали из седел, обрывая стремена.
Пушки за бугром ухали не переставая — для разогретых стволов сыроватый порох еще лучше идет. Следующее ядро угодило в средину сотни, расхлестнуло лавину на две части. Дрогнули ногайцы, повернули коней...
...Мчатся патыры на выручку Акпарса, а им наперерез — конники Мамич-Берды. Они уже узнали, кто попал в их руки, легко отрезали погоню и, пока шла сеча, вывезли пленного с поля боя. Узнали Санькины пушкари о пленении Акпарса — все как один бросились на выручку. Ковяжева сотня тоже примчалась на это место. Все сбились в одну кучу и не заметили, как обошли их слева ногайцы, справа — всадники Мамич-Берды. Какой уж тут бой — лишь бы живыми вырваться.
Так бесславно и горько кончился бой под Чалымом.
Хан Али-Акрам победу над Акпарсом решил отпраздновать в Кокшамарах. Что это за столица — Чалым? Дворца нет, живет Мамич в какой-то вонючей избе, гарема нет, посуды — тоже. Не будет же хан жрать мясо прямо из казана, как простой воин! Да и все равно в Чалыме делать нечего — тут Мамич-Берды один справится со всем. И хан приказал собираться ногайцам в Кокшамары, позвал Мамич-Берды, сказал:
— Оставайся тут. Моим именем дела верши.
— Ладно, — хмуро сказал Мамич-Берды. — Только прошу тебя, хан, отдай мне Акпарса.
— Он разве не подох? Бери, если надо. Сделай смерть ему тяжкой. А я еду во дворец. Завтра утром.
Под вечер в Чалым приехал Уссейн-сеит.
— Ты из Кокшамар? — спросил его хан.— Все ли там готово для победного пира?
— Готово все, о великий хан. Только Акпарса не забудь с собой взять. Поверженный враг — венец твоей победы.
— Зачем он мне? Я его отдам Мамичу.
— Видит аллах, ты совершишь двойную ошибку! — воскликнул Уссейн.— Ты лишишь себя победной заслуги, но не это страшно. Я совсем не верю Мамич-Берды. Ты думаешь он будет мстить Акпарсу? Он видит в нем союзника — хозяина всей Горной стороны. Если они договорятся — нам с тобой гибель. Пока не поздно — верни Акпарса.
Когда пришел снова позванный к хану Мамич-Берды, первым начал говорить Уссейн-сеит:
— Хан передумал. Акпарса он возьмет с собой в Кокшамары. Есть закон битвы: пленник принадлежит тому, кто его взял.
— Их взяли мои воины, и все пленники принадлежат нам,— зло ответил Мамич. — Ногайцы только мешали битве.
— Ах ты презренный! — крикнул хан. — Лесное отродье!
— Я нуратдин! Я глава всего войска, хан. Запомни это!
— Глава войска! Ты умеешь только махать саблей, а чтобы водить в бой пятидесятитысячное войско, этого мало. Нужна еще мудрость, которой у тебя нет.
— Скажи мне, кто разбил воеводу Салтыкова, кто создал ханство, кто взял Чалым?! Уж не ты ли?— крикнул Мамич-Берды и схватился за саблю. — Вылезаешь из гарема, чтобы пожрать мяса, и залезаешь снова в гарем.
— Ты много о себе думаешь! — сказал Уссейн-сеит.
— А зачем я буду думать о тебе? Вместо того, чтобы добывать победы, ты скрываешься в Казани — поочередно то от русских, то от своих же казанцев.
— Ты не только дурак, но и хвастун! — Али-Акрам ударил черенком плетки по столу. — Воеводу Салтыкова пленил не ты, а сотник Сарый, с которым был мой слуга Зейзет. И аллах знает, как взяли бы мы Чалым, если бы не совет Уссейн-сеита. Он повелел начинать бой именно после дождя, когда пушки русских отсырели. А ты, нуратдин, об этом даже и не думал. К шайтану такого нуратдина! Если ты сейчас же не выполнишь моего повеления, то можешь идти на все четыре стороны!
— Я уйду! — Мамич-Берды натянул на голову меховую шапку.— Но со мной уйдут тридцать тысяч луговых черемисов!
Уссейн-сеит понял: ссора зашла слишком далеко. Сказав, что ради полуживого Акпарса терять дружбу с Мамич-Берды не стоит, он посоветовал хану отказаться от своего повеления.
— Благороднейший Али-Акрам не хотел совсем отнимать у тебя Акпарса, — продолжал Уссейн-сеит. — Он подумал, что ты
410
его задушишь, а для пользы черемисского ханства надо Акпарса поднять на ноги. Вот потому-то мы и решили взять его у тебя. Лучше, пожалуй, оставить его здесь — дорогу в Кокшамары он все равно не перенесет. Только надо хорошего лекаря.
— Пусть остается Зейзет, — буркнул хан, разгадав хитрость Уссейн-сеита.
— Пусть остается, — согласился Мамич-Берды и вышел, не ожидая позволения.
Хан тоже пошел в отведенные ему покои отдыхать...
Уссейн-сеит послал слугу за Зейзетом. Тот для Али-Акрама был и учителем, и лекарем, и слугой. В свое время все знали его в ногайских степях, но теперь пришла старость, и Зейзет не мог давать хану хороших советов. Может, тут и не в старости дело. В ногайских степях все было знакомо Зейзету, все привычно, а здесь — чужие, непонятные люди. Уссейн-сеит не верит Акраму, хан не верит черемисам, а у тех даже между собой согласья нет. Кругом — мрачные леса, хранящие столько тайных опасностей, что на душе Зейзета вечный страх. Он стал бояться всех, даже своего хана, которого воспитывал с пеленок. Уссейн-сеит знал это и, когда Зейзет пришел к нему, сказал прямо:
— Со всех сторон плохие вести, Зейзет. Из Москвы вышло на нас тридцатитысячное войско. Скоро в Казань приведут своих ратников русские князья. Ты всех их знаешь: каждый меньше, чем двадцать тысяч, не водит. Мамич-Берды хочет увести луговых черемис. Нам грозит гибель.
Зейзет погибать не хотел. Здесь, около хана, он накопил много денег и добра — как расставаться с этим?
— Что же делать, мудрый Уссейн?
— Надо бежать.
— Али-Акрам захочет ли?
— Забудь про Али-Акрама. Его надо оставить здесь.
— О аллах!
— Да-да! Если он побежит с нами, русское войско сразу устремится в погоню, и нам не уйти. Нам сейчас нужен не Али-Акрам, а Акпарс. Им мы откупимся от русских. Хочешь ли ты уходить со мной?
— Аллах свидетель — я в твоей власти.
— Тогда слушай: сейчас же пойдешь в дом Мамича и сделаешь все, чтобы Акпарс мог пуститься в путь. Уговори его бежать в Кокшамары, обещай его оттуда отпустить домой. Не тебя учить, как это сделать.
— Потом?
— Я пошлю к тебе Мухаммеда. Вы привезете Акпарса на берег и на лодке доставите в Кокшамары. Мы там будем вас ждать,
— Я сделаю все, как велено...
Очнулся Акперс только на рассвете. Лежал он в незнакомом месте, на нарах. Длинная изба с единственным окном — в полумраке. На лавках, у законопаченных стен, лежали седла, конская сбруя. В дальнем углу — ворох беличьих шкурок, у стропил привязаны тушки копченого мяса. Рядом с нарами — стол, уставленный горшками, плошками. Оттуда доносится острый запах снадобий и мазей. На полу около нар стоит ушат с водой. Над ним вьются тонкие струйки пара. «Где я? — подумал Акпарс и захотел подняться, чтобы осмотреться. Тело ломило болью. Левой руки он не чувствовал, только у плеча — словно сотни иголок покалывало,— Наверное, перележал...» Рывком поднялся, и резкая, нестерпимая боль обожгла все тело. Он глухо застонал, закрыв от боли глаза. Заскрипела дверь, открылась, и лучи утреннего солнца хлынули к нарам, осветили Акпарса.
— Вставать нельзя! Лежи! — Около Акпарса очутился старый ногаец. Он вошел в избу тихо, на цыпочках. Акпарс оглядел обнаженное по пояс тело. Плечо перетянуто серым, суровым полотном, через полотно под пазуху правой руки туго перекинут сыромятный ремень — так перевязывают раны только татары. Вся грудь, живот и подбородок — в синих кровоподтеках и ссадинах.
— Где я? — превозмогая боль, спросил Акпарс.
у Мамич-Берды,— ответил ногаец.— Наши воины хотели
сделать смерть твою скорой и легкой, но Берды воспротивился этому. Он выпросил тебя у хана Акрама.— Тут ногаец склонился к уху Акпарса и зашептал:
— Сможешь ли ты мне довериться?
— Кто ты?
— Я лекарь. Я хочу тебе помочь.
— Чем?
— Мамич-Берды хочет погубить тебя медленно и мучительно. Мало того, он хочет тебя опозорить и обесчестить. Уссейн-сеит послал меня сюда и велел поставить тебя на ноги. Ты нужен Уссейн-сеиту.
— Зачем сеиту такой калека, как я? — спросил Акпарс.
— Я тебе признаюсь: наши дела больно плохи. Скоро придут русские войска...
— Я знаю это.
— Бердей хочет изменить Акраму.
— Этого надо было ждать.
— Я помогу тебе бежать отсюда в Кокшамары, а там мы увезем тебя в Свияжск, чтобы...
— Чтобы вас отпустили домой?
— Ты верно понял замысел Уссейн-сеита.
— И ты думаешь, Мамич-Берды нас отпустит?— сказал Акпарс и снова стиснул зубы от боли.
— Ты только поверь мне. Только скажи, согласен ли бежать?
— Дай подумать, старик.
— Спеши. А то скоро придет этот шайтан Бердей.
Думы в голове Акпарса тяжелые, как свинец. Пришла пора решить, стоит ли жить дальше? Нужен ли он кому-нибудь, изувеченный и старый? Полк? Нужен ли воинам горного полка воевода, побывавший в плену у врага. Его друзья, его люди? Сможет ли он сделать что-нибудь для них? Может, он вернется — и позор упадет на его голову. Не лучше ли... Прочь, прочь эти мысли! Он еще послужит своему народу. Прогоним ханов, будет жить его народ в дружбе с русскими. Если бы была у него не одна, а пять жизней, и то не хватило бы, чтобы уплатить за счастье народа. Он должен быть среди своих друзей, он отдаст им все свое сердце, всю свою мудрость. Нельзя уходить из жизни, пока среди людей властвуют такие, как Мамич-Берды.
— Эй, старик!
— Я здесь.
— Говори, что надо сделать, чтобы уйти отсюда?
— Берды придет — не поднимайся. Говори тихо, покажись ему совсем немощным. Ночью я достану лошадей, й мы уедем.
— Верхом я ехать не смогу.
— Будет повозка. А сейчас выпей вот это и усни. Сил больше набирайся.
Акпарс выпил отвар, налитый в плошку, и скоро уснул.
После ссоры с Али-Акрамом Мамич-Берды не мог уснуть. Он ворочался с боку на бок, но сон не приходил. После полуночи, не вытерпев, оделся, сам оседлал коня и выехал в лес. На поляне развел костер и, вдыхая запах сгоревшей хвои, успокоился, сел на пенек и долго глядел на костер. С шипеньем горят смолистые корни, ненасытное пламя жадно пожирает сухие ветки. «Вот так же ногайцы из банды хана Акрама пожирают черемисских быков и баранов,— подумал Мамич-Берды.— И скоро нечем будет кормить эту свору бездельников. Уже сейчас ненавидят их люди, а что будет потом? Придет время, и люди скажут: ты привел Али-Акрама, ты и убирайся вместе с ним. Настала, видно, пора что- то придумать».
Мамич посмотрел на свои могучие руки, лежавшие на коленях неподвижно, потом шевельнул слегка пальцами правой руки, сжал их в кулак и сказал:
— Это рука посадила Али-Акрама на престол, пусть она и столкнет его.
Но кто будет ханом? Если самому сесть на трон?.. Страшновато. Раньше ему советы Сююмбике давала, теперь — Уссейн-сеит, а станешь ханом — самому обо всем думать придется. А думать Мамич-Берды не любит. Хорошо бы Акпарса рядом с собой поставить. Умная башка, твердая рука, смелое сердце. Недаром выпросил его Мамич-Берды у хана. Если Акпарс в ханство придет, не только Акрама, но и Уссейна можно убрать. Тогда не только Казани, но и Москве грозить можно...
...Дверь распахнулась настежь, и в избу вошел Мамич-Берды. Высокий, стройный, в нарядных одеждах, он подошел к нарам и долго разглядывал спящего Акпарса.
— Сможет ли он говорить со мной?—спросил он у Зейзета.
— Больно слаб. Ему надо лежать без движения неделю.
— Чтобы шевелить языком, не нужно вставать!—Мамич-Берды усмехнулся, глядя на лекаря.
— Я знал человека, которого не могли убить девять ран, а умер он от одного слова. А этот потерял много крови. Лучше приди, великий нуратдин, завтра.
— Я могу говорить сегодня,— тихо произнес Акпарс и открыл глаза.— Я слушаю тебя, Мамич-Берды.
Мамич-Берды резко мотнул головой Зейзету, и тот исчез.
— Откуда ты знаешь, кто я?
— Лекарь сказал, что ты придешь.
— Наверно, старый шакал стращал тебя, говорил, что я буду мстить тебе.
— Зачем сильному воину мстить умирающему от ран пленнику?— сказал Акпарс и закрыл глаза.
— Верно. Я вырвал тебя из рук Али-Акрама не для этого.— Мамич-Берды резко оттолкнул стол от нар, поставил скамью ближе к Акпарсу, сел, широко расставив ноги.
— Я хитрить не умею, скажу тебе прямо: давай вместе черемисское ханство крепить.
— Я не знаю про черемисское ханство. Где оно?
— Как где? В Кокшамарах.
— Даже самый последний кашевар из сотни знает, что в Кокшамарах есть ногайский хан Акрам, казанский казначей Уссейн- сеит, крымский мурза Ширин-бей и кулшериф-мулла из Стамбула. А черемисского там ничего нет, кроме нескольких сот баранов, которых готовят на убой.
— Это ты верно говоришь. Ханство сейчас не черемисское, но оно будет нашим ханством, если ты станешь рядом со мной. Тогда я посажу Акрама в казан и перетоплю его на сало. Согласись, и я найду лучших лекарей, и через две недели ты сядешь на коня. К нам придут луговые, горные, арские черемисы, потом— чуваши, мордва, удмурты. Ты будешь нуратдином, под твою руку я отдам все войско!
Акпарс поднял веки, взглянул на Мамича. Тот ходил по избе, размахивая нагайкой.
— Не стучи сапогами. Сядь на нары ближе ко мне и выслушай меня.—Акпарс говорил тихо, не спеша выговаривал четко каждое слово.—С тобой рядом я не встану, если ты и вылечишь меня.
— Почему?
— Потому что это ханство не нужное никому, кроме тебя и тех, у кого русские отняли большие земли и богатство. А зачем простому человеку ханство? Чтобы снова попасть под кнут мурзы?
— А ты думаешь, русские дадут рай черемису?!— потрясая кнутом, крикнул Мамич.— Они кнутом не бьют, они бьют палкой. Батог называется.
— Я это знаю. Но русские не для этого взяли казанские земли, чтобы отдать их тебе. Они зальют их кровью, но ханству быть боле не позволят. Уж сколько лет нет мира в нашем краю, а ты снова мутишь народ, тянешь их в бой.
— Наш народ воевать любит. Наши предки все время войной жили,— выпятив грудь вперед, сказал Мамич-Берды.
— Врешь, мурза. Это ордынцы заставляли их на войну идти. Ты думаешь, почему наши люди так охотно помогали русским брать Казань? Они хотят жить без войны.
— Видно, зря я чуть не поссорился из-за тебя с ханом. Ты, как старый кот, думаешь о теплой печке. И какой дурак прозвал тебя Седым барсом — ты все время скулишь о мире. Вот ты пугал меня русской ратью! Да мы не раз колотили эту рать в прошлые походы на Казань. Я завтра же поеду к чувашам, и они встанут со мной рядом. И на твоей земле есть люди, которым дорого наше ханство. Мы соберемся все вместе и скажем русским: нам Казань не нужна, но и вы не лезьте на наши земли. Вот я гляжу на тебя и удивляюсь: черемисин, твой род не меньше знатный, чем мой. Но почему я думаю о нашем ханстве, рискую головой за него, а ты присосался, как клещ, к русским? Почему, скажи мне?
— Потому что ты думаешь только о себе. Тебе казанский хан дал земли, богатство, ты без ханства жить не можешь, ведь ты мурза. До взятия Казани ты не вспоминал о черемисах. Жил среди казанцев, а воевал сотником у мурзы Япанчи. Ты вместе с ним грабил наш народ. Ты женился на татарке, и твой сын Ике до сих пор себя черемисином не считает. Я о своих людях думаю, ради них жил. Ты знаешь, у меня ничего нет,—ни семьи, ни богатства. Зато на моей земле люди второй год не платят ясак, вольно ходят на охоту, сеют землю.
— Ты упрям, как осел!—в гневе крикнул мурза.— Подожди, придет время, и горные люди сами встанут рядом со мной. Что скажешь ты тогда?
— Я не доживу до таких дней.
— Аллах милостив — доживешь,—сказал Мамич.— Я скажу Зейзету, чтоб лечил тебя. Лежи неделю и думай. Хорошо, крепко думай. Потом я приду — еще раз говорить буду. Я верю, что наши дороги рядом пойдут. Здоров будь!
И, не глянув на Акпарса, вышел, резко хлопнув дверью.
Вечером в Кокшамарах бухнула единственная в столице Али-Акрама пушка. Она приветствовала появление хана—победителя Чалыма.
От Чалыма до Кокшамар путь неблизкий. Пока хан добирался до дворца, намаялся немало. Всю дорогу он говорил о победном пире и был доволен, что Уссейн-сеит, постоянно упрекавший его за празднества, на этот раз дал совет: устроить пир не только для его двора и ногайских джигитов, но и для черемисских воинов, которые оставались в Кокшамарах.
...Отдохнув и переодевшись в атласный халат и сафьяновые мягкие сапоги, Акрам вошел в большой зал. Столы ломятся от яств и напитков. За столами чинно сидят гости, ждут его появления.
Акрам садится на свое место, оглядывает гостей... Но почему не все собрались на пир?
— Где высокочтимый Уссейн-сеит?
— Сеит жаловался на старость и усталость, — ответил слуга.— Он просил прощения, что на пир прийти не может.
— А Ширин-бей?
— Благородный Ширин болен. Да простит его великий хан.
«Ах, старые козлы, — с досадой подумал хан, — и добывать
победу не умеют, и праздновать не хотят! Сами заменили меня в Кокшамары и оставили одного».
— Эй, слуги! Зовите сюда моих сотников — с ними гулять будем. Ведите сюда из гарема бикечей — пусть тоже садятся с нами за стол!
В полночь, когда пир во дворце был в самом разгаре, Уссейн-сеит, Ширин-бей и кулшериф-мулла тихо вошли во двор, собрали своих слуг, и начались сборы в дальнюю дорогу. Клади у каждого на тридцать-сорок лошадей, добра награбили немало. У самого Уссейна тюков больше, чем у других, недаром он взял у Зейзета ключи от ханских кладовых. Полсотне слуг на конях да полторы сотни вьючных лошадей — такому обозу вырваться из русских пределов нелегко. А путь лежит в Крым, дорога нелегкая, опасная.
Долго судили, где идти. Если плыть по Волге до Суры, там и Мамич-Берды близко, и Васильсурск не миновать. Хорошо бы пройти вниз по Волге до Сарай-Берке, а там перемахнуть на Дон до Азова — прямо во владения крымского хана. Да где там, разве мимо Свияжска и Казани проскочишь? Решили, что самый безопасный путь по реке Цивили.
Волгу переплыли на рассвете, спрятали коней в глубоком овраге и в установленном месте стали ждать Зейзета с Акпарсом.
В Чалыме с полночи горланят петухи. Зейзет днем все приготовил к побегу. Как только стемнело, метнулся на берег, в условленное место, нашел там Мухаммеда и двух слуг с лодкой. И вот сейчас подъезжает Зейзет к дому мурзы в крытой повозке-двуколке. У ворот, кряхтя, вылез из повозки, за ним — человек.
Два стража скрестили копья.
— Кто идет?
— Лекарь Зейзет. Повеленьем Мамич-Берды я везу к раненому пленнику колдуна. Поколдует мало-мало, выйдет обратно.
Стражи колдунов боялись, опасливо отошли от ворот подальше.
— Готов ли ты? — спросил шепотом Зейзет, когда вошел в избу.
— Давно не сплю.
— Этот человек вместо тебя останется, а ты надевай его кафтан.
— А ты, старик, дорогу на Кокшамары хорошо знаешь? — спросил Акпарс, надевая кафтан и меховую шапку.
— Мухаммед знает.
— Но он остается...
Не твоя забота. Он догонит.
Охранники опасливо выпустили их со двора. Зейзет помог Акпарсу забраться в повозку, кряхтя, влез за ним и взял вожжи. Лошаденка ходко потянула повозку под гору. Ночь была по-осеннему темна, дорога за Чалымом грязна и ухабиста. Повозка то и дело проваливалась то одним, то другим колесом в ямы. Акпарс охал и стонал от боли.
— Мы вылетим из повозки, старик. Ямы объезжай.
— Глаза старые, ничего не видят,—оправдывался старик.
— Давай вожжи мне. Я эту дорогу знаю.
Зейзет охотно вложил вожжи в правую руку Акпарса. Тот резко потянул на себя левую вожжу. Повозку сразу перестало кидать из стороны в сторону, она покатилась по ровному полю. Через полчаса Зейзет положил руку на плечо Акпарса и сказал:
— Остановись. Здесь будем ждать Мухаммеда. Что-то он задержался.
Старику было невдомек, что Акпарс давно вывел повозку на дорогу, идущую не к берегу, а в глубь леса, в противоположную сторону.
— Давай подождем, — спокойно ответил Акпарс, натягивая вожжи,—ты покарауль Мухаммеда, а я посплю. — Акпарс свернулся на сене, брошенном на дно повозки, и захрапел. Он хорошо знал, что всю прошлую ночь Зейзет возился с его ранами и не спал. «Сон непременно свалит старика»,— думал Акпарс, притворно прихрапывая.
Так оно и случилось. Сначала Зейзет клевал носом, сидя, по-
417
27 Марш Акпарса
том, бросив под голову охапку сена, прилег. И мгновенно заснув. Акпарс осторожно слез с повозки, распряг лошадь, оставил под оглоблями дугу, чтобы не шевелить повозку. Потом вывел коня к поваленному дереву и с него забрался на влажную спину коня...
Мамич-Берды, уезжая из Чалыма, оставил вместо себя сына Ике. Он наказал ему следить за тем, чтобы Акпарса хорошо лечили, и не приведи аллах, если украдут. Ике утром, чуть свет, пошел к раненому и испугался. Нары были пусты. Кинулся искать Зейзета, и тот исчез. «Увезли в Кокшамары»,— догадался Ике. Он послал гонца в Кокшамары с наказом немедленно привезти пленника обратно.
Через два дня гонец вернулся со страшными вестями: Зейзет и пленник в Кокшамарах не появлялись, Уссейн-сеит с двумя сотнями коней убежал неизвестно куда, с ним ушли Ширин-бей и кул-шериф-мулла. Гонец хотел побывать у хана, но его во дворец не пустили, так как великолепный Али-Акрам спал после бурно проведенной ночи.
Понял Ике, как плохи дела, и послал гонцов вслед отцу. Мамич- Берды возвратился немедля, сразу поднял десять тысяч всадников и берегом повел их на Тинсары. Здесь за одну ночь переправил на плотах через Волгу все свое войско и на рассвете налетел на Кокшамары. Всадники ворвались во двор Али-Акрама, готовые крушить головы ханским джигитам, но те и не думали сопротивляться». Воины Мамич-Берды всех их связали, побросали под навесы, куда загонялся скот для ханской кухни. Потом из гарема выволокли пьяного Али-Акрама и бросили к ногам Мамич-Берды. Поднявшись на четвереньки, Али-Акрам задрал вверх голову и, увидев Мамича, крикнул презрительно:
— На колени перед ханом, недостойный!
Во дворе грянул дружный хохот. Смеялись не только воины Мамича, но и слуги хана. А им бы надо было плакать. Холодный блеск в глазах Берды не предвещал добра.
Он подошел к хану, поднял его и сказал гневно:
*
— Мы посадили тебя на царство, чтобы ты мудро правил нашей землей, чтобы ханство черемисское крепил, чтобы оборонял людей наших. А что ты делал все это время?! Ты только жрал наших быков и баранов, таскал наших девок в гарем да забирал рухлядь у наших охотников. Ты не думал о ханстве, только себя возвеличивал и поднимал высоко. Вот мы и надумали посадить твою голову на высокое место. Эй, принесите тот шест, что стоит у крыши!— крикнул Мамич-Берды и одновременно выдернул саблю. Али-Акрам упал, и в тот момент, когда он хотел снова подняться, над ним, как молния, блеснула сталь...
Шест с головой Акрама укрепили у столба, что стоял посреди двора как коновязь. Оттого, что смерть была мгновенной, лицо хана не исказилось в страхе. Оно было напряженным, один глаз был прикрыт, другой широко глядел в ту сторону, где были его родные ногайские степи. И казалось, что хан мучительно старается понять, зачем судьба бросила его в эти чужие, совсем не нужные ни ему, ни его народу глухие леса.
Погрузив все добро Али-Акрама на коней, Мамич-Берды поджег деревянный дворец хана, и скоро даже пепла не осталось на этом месте.
Заволновалось все Приволжье, заходила ходуном лесная земля. Мамич-Берды провозгласил себя царем черемисского ханства, сыну Ике под руку отдал Арскую сторону, брату Ахмачеку — Луговую, сам сел на трон в Чалыме.
По всем сторонам полетело повеление хана: каждый, кто может носить оружие и иметь коня, должен быть в его войске. И поскакали воины Мамич-Берды следить, как исполняется его воля.
ПО ГЛУБОКОМУ СЛЕДУ
Весть о том, что Акпарс вернулся в Нуженал, облетела весь Горный край с быстротой птицы. Люди говорят, что Акпарс был в плену, что путь растревожил его недавнюю рану, студеный осенний дождь принес ему простуду. Лежит Акпарс дома в горячечном бреду, и не отходят от него Санька и Топейка. Те было начали готовить налет на Чалым, чтобы воеводу выручить, а он сам нежданно-негаданно возвернулся в дом, упал на лежанку — да так и не вставал.
Послали в Свияжск гонца с вестью, что князю Акпарсу конец приходит, просили прислать лекаря. Тот явился только через неделю и по пути привез Ешку и Палату. Увидев умирающего человека, лекарь забегал вокруг, по-петушиному захлопал руками. И прохлопал бы князя, если бы не Палага. Увидев, что от чертова знахаря толку нет, она выгнала из дома в три шеи, вытурила вместе с ним Саньку и Топейку и давай распоряжаться сама. Раны лечить она еще у Микени в ватаге наловчилась. Безбоязненно размотала тряпье, ногайским лекарем повязанное, побросала в печь. Промыла раны теплым настоем свекольного листа, залепила их подорожником, перетянула чистым полотном. Потом заварила целый горшок сухой малины и принудила князя выпить все сразу. Потом вместе с Ешкой затянула хворого на печку, укрыла шубами наглухо. И прошибло тогда Акпарса таким потом, что не только исподнюю, но и верхнюю рубаху хоть выжимай.
Наскоро сменив одежонку и не давая передохнуть. Палата обложила Акпарса тертой редькой от ног до шеи таким толстым слоем, что к утру тело князя покраснело, как у вареного рака.
Утром больному стало легче, и он сам слез с печки на лежанку
Тут к нему подсел Ешка и сказал Палате:
— Сходи-ко, погуляй, квашня. У меня до князюшки разговор тайный есть. Не для бабьих ушей.
— И-эх ты, старая луковица, — укоризненно покачав головой, сказала Палага.— Да нешто я твои потайные разговоры не знаю? Да нешто я не вижу, что ты за пазухой со вчерашнего дня таскаешь? Ей-богу, как дите малое, — добавила она, обращаясь к Акпарсу. — Ладно уж, угости князя, я чаю, не умрет.
— Вот сказала, пропади ты пропадом. Умрет! Да ежели хочешь знать, целебнее этого снадобья во всем свете не сыщешь. Поверишь, князь, — начал рассказывать Ешка, наливая в кружки прозрачную, остро пахнущую сивушным духом жидкость,— до того инда слабею, что ноги таскать не могу. Но как только скляницу этого снадобья приму — отколь сила берется! Только бы на девок и глядел. На-ко, выпей.
Фляжку опорожнили быстро. Акпарс после двух кружек попросил гусли, но играть не стал. Он долго молчал, закрыв глаза. Может, он вспомнил дни своей молодости, может, увидел себя у стен Казани, может, пришло ему на память то время, когда он впервые запел свою песню, рожденную в его сердце.
Ешка несколько раз порывался что-то сказать, но Палага прикрывала ему рот пухлой ладонью. Понимала мудрая старуха, что человеку в такие минуты мешать грешно.
С того дня здоровье Акпарса пошло на поправку. Санька и Топейка несколько раз порывались проникнуть к князю, но Палага держала дверь на таком огромном засове, что друзья махнули рукой и стали ждать.
В субботу вечером Палага сама послала Ешку к Саньке в Еласы. Не прошло и часа, как они прикатили в Нуженал. Вместе с ними приехал и Мамлей. Думали увидеть князя в постели, а он встретил их на крыльце и обнял так крепко, что друзья поняли — Акпарс будет жить.
— Как теперь на охоту ходить? — шутливо спросил Акпарс.
— Не рано ли про охоту задумался, князь, — сказал Санька в том же шутейном тоне. — Свияжский воевода двух нарочных посылал. Повелевает восстановить горный полк в прежнем числе.
— И что ты сделал?—уже серьезно спросил Акпарс.
— А что я могу сделать?
— Люди по домам бегут,— сказал Топейка.
— Сколь человек потеряли под Чалымом?
— Убыль велика: триста человек,— ответил Санька.
— Зачем неправду говоришь?—вмешался в разговор Мамлей. — Убито сорок человек, не больше. Остальные раны по домам зализывают.
— В полку их нет. Стало быть, убыль.
— Полк в Еласах держишь?
— Весь. Бездельничать не даю. Дома строим, церкву новую отцу Симеону заложили.
— Ты слышал, Мамич-Берды объявил себя ханом?—спросил Топейка.
— Слышал. Недаром свияжский воевода о горном полку забеспокоился.
— Эх, опять со своими воевать придется!—огорченно воскликнул Топейка и сплюнул сквозь зубы.
— Раньше, когда шла война, мы дрались со всеми, с кем надобно.
— А теперь? — Санька перестал жевать, ожидая ответа.
— Пока я здесь лежал без дела, я много думал. Выходит, что сейчас самое время горный полк распустить по домам. Пора зимней охоты близко, людям жить надо.
— Да ты в своем уме, князь? Я сам братоубийству противник, но... Государь нас за это не помилует.
— Верно надумал Аказ, верно! — воскликнул Мамлей.— Я ведаю кормежкой полка, знаю. Если на зиму полк оставить — весь Горный край объедим. Мы тогда из хороших людей дармоедов сделаем. На охоту ходить некому, за сохой ходить некому, а жрать—целое войско. А где жратву брать, если за сохой ходить некому?
— Я все это понимаю, Мамлей, но кругом посмотри,— сказал Санька.— Полк распустить легко, а кто нас от Мамича защитит? Он в Чалыме, совсем рядом.
— Ты слышал, что Топейка сказал? Он со своими воевать не хочет. А другие, ты думаешь, хотят?
— Где там,— сказал Топейка.— Война всем надоела. Никто воевать не хочет.
— А луговые?
— Им тоже опротивело, на коне сидя, жить.
— Луговые тоже хорошо понимают, — сказал Акпарс, — если будет ханство, войны не миновать. Не будет Мамич-Берды — станет мир. Их только страх в войске держит. А знаете, чего они еще боятся? Нас боятся — горного полка! Если бы они знали, что за службу хану их русские карать не будут, они давно бы ушли от Мамич-Берды. Он на этом страхе, как на цепи, их держит.
— Ах, пропади он пропадом! — притопнув ногой, сказал Ешка.— Так надо же луговым сказать, что кары им не будет. Слушай, Сань, давай по старой памяти на лодке по Кокшаге махнем. Эх, было времечко — вспомнить приятно!
— Сидел бы уж на месте, пень, — сказала Палата.— Без тебя не скажут.
— Ешка верно говорит, — заметил Топейка. — Надо к луговым людей послать, и я знаю кого. Ты помнишь, Саня, Алтыша?
— Чего ж не помнить. В плен взят вместе с сотней. Я повелел их отпустить еще позавчера.
— А они не ушли.
— Как не ушли?
— Выздоровления Акпарса ждут. Говорить с ним хотят. Мамич- Берды больно сильно ругают.
— Пусть ждут меня, — сказал Акпарс. — Завтра мы с Саней поедем в Свияжск. Приеду — с ними поговорю.
— Это кто поедет в Свияжск? — раздался голос Палати, на этот раз с печки.
— Мы, — простодушно ответил Санька.
— Ты поезжай хоть в тартарары, а князь будет сидеть дома до первых морозов. Разве для того я его выходила, чтобы он сызнова простыл да и умер?! Да с такой раной, да в такой дальний путь — мыслимо ли дело?
— Ты, старая, не забывай, — Ешка погрозил пальцем в сторону печки. — У князя на плечах вся земля горная, ему около твоего сарафана сидеть негоже.
— С этими мужиками одно горе, — ворчала Палата, слезая с печки. — Ну чево расселся, рыжая сатана? В дорогу собирайся!
— Да я-то куда?
— Неужто ты думаешь, что хворого без своего догляду отпущу? Вместе со всеми поедем!
Свияжский воевода Петр Шуйский (племянник Александра Горбатого-Шуйского) как узнал, что Мамич-Берды стал ханом, сразу забеспокоился. Он помнил, что воевода Салтыков погиб из-за Мамич-Берды, и потому этого лесного разбойника сильно побаивался. Он сразу запросил из Казани два полка и передал наказ горному полку, чтобы быть настороже. Гонец из Елае привез неутешительную весть: воевода Акпарс тяжело ранен и болен, может и умереть. Не успел Шуйский отправить второго гонца, а Акпарс — неожиданно сам на дворе. Шуйский с Акпарсом встречался не часто, но уже успел полюбить его за простоту, за мудрость и справедливость. Из всех инородцев, перешедших на службу к русским, он верил только одному Акпарсу.
После ласковой встречи и разговоров о том, о сем приступили к деловой беседе.
— Что про самозваного хана скажешь? — спросил князь.— Я, грешным делом, Акрама не боялся, а этого Бердея зело опасаюсь. Чалым он взял, того и гляди на Еласы ударит. А там, глядишь,—и на Свияжск. Может, сего ждать не следует, а нам самим еще раз на Чалым?..—Князь трахнул кулаком по столу.
— Прости, князь, но ты забываешь, что горный полк не простой полк. Там воины—черемисы. Против своих они воевать не пойдут. Я их собрал только для того, чтобы помочь царю Казань повоевать, и теперь они по домам просятся. Война всем надоела.
— Что же делать, по-твоему?
— Распустить полк.
— Да ты в своем ли уме, воевода?! Совсем не о том стал говорить, как в руках у Мамича побывал.
— Не обижай меня, князь, а выслушай. Сперва наши люди так понимали: вот черемисин, вот русский, вот татарин. Русские пошли на татар войной, наши люди сказали: «Давайте поможем русским!» Нам татары много зла сделали. Теперь война кончилась, ханов и мурз прогнали, пришли сюда русские. Ничего не изменилось — горные хоть ясак не платят, а луговые что при ханах платили, то и сейчас. Вдруг появилось черемисское ханство. Ты думаешь, почему к нему много людей прикачнулось? Каждый думает: при татарах тяжело, при русских не легче — может, у Мамич-Берды будет хорошо? Все-таки свой человек—черемисин. Под пятой Али-Акрама пожили—еще хуже, чем при татарах и русских. Теперь, князь, простой черемисин выберет тот путь, где нет войны. А с Мамичем пойти—непременно воевать. И поэтому люди к Мамичу в войско не идут, и он уже начал сгонять их силой. А эго гибель для него. Он сейчас пугает луговых и арских людей нашим полком. Если мы пойдем на Чалым, Мамичу поверят, и снова начнут люди собираться под его руку. А распусти мы полк — войско Мамича разбежиться в неделю.
— Истина в твоих словах есть,— сказал князь, подумав,— однако риск — дело большое.
— Вспомни, князь, воеводу Салтыкова. Ежели бы он не лютовал на левом берегу, может, ханства Али-Акрама и совсем не было. Будь мудрее Салтыкова, князь.
Шуйский долго ходил молча по горнице, раздумывая, присел к столу, хлопнул ладонью по камчатой скатерти, сказал:
— Ладно, воевода. Послушаю тебя. Только смотри,— князь погрозил Акпарсу пальцем.— В случае чего — головы на плаху понесем вместе.
— Все будет хорошо, князь. По первому снегу приезжай ко мне в Нуженал. На зайца такую охоту устроим!
В день покрова святой богородицы Акпарс распустил воинов горного полка по домам. Полковой стяг водрузили в церковный притвор к отцу Симеону, в алтаре на вечное хранение поставил Акпарс серебряную чарку, подаренную царем на свадьбе Янгина. Часть оружия раздали людям, часть отвезли в Свияжск, в воеводскую сбройницу.
Алтыш со своими друзьями после беседы с Акпарсом ушел на Луговую сторону.
Отарский илем—большой илем. Поэтому здесь Ахмачек надеялся взять в войско нового хана не меньше сотни человек. Он приехал с десятью джигитами, велел всем отарцам собраться у моста. А когда люди собрались, он, не слезая с коня, начал говорить:
— Эй, мужчины, слушайте слово хана Мамич-Берды. Стало нам известно, что русский царь Иван велел горному полку идти на Луговую сторону и воевать наши илемы. Всю землю по эту сторону Волги хотят отдать нечестивому Акпарсу, а вас выгнать в глухие леса на Пижму и Юронгу. Тех, кто служил хану Акраму, хотят покарать. Я и мой брат Мамич-Берды защитим вас от тех, кто продался русским. Вы должны дать в наше войско сто человек. Время у нас мало—завтра утром самые сильные мужчины пусть будут готовы: я поведу вас в Чалым.
Вздыбив коня, Ахмачек помчался в сторону илема Юксары, оставив в Отарах пятерых джигитов. А вечером в илем вернулся Алтыш, а с ним тридцать человек, отпущенных из плена. Верные извечным обычаям гостеприимства, отарцы разобрали усталых и вымокших путников по домам, накормили и обсушили.
Весть, которую принесли друзья Алтыша, взволновала всех жителей илема. Оказывается, горный полк распущен, Акпарс снял с себя звание воеводы и готовится к зимней охоте. Зачем же тогда Ахмачек собирает войско?
Отец Алтыша — давний карт в илеме Отары. Он и самый мудрый. К нему собрались за советом.
— Скажи нам, как быть?—спросили.
Старый карт мотнул головой в сторону сына.
— Алтыш, мой сын, был сотником у Мамич-Берды. Везде бывал, больше меня знает—его спросите.
— Меня спрашивать не надо, вы сами все знаете,—сказал Алтыш.—Под ханом Гиреем нам было плохо, под ханом Али-Акрамом еще хуже. Мамича я тоже хорошо знаю: ему до нас дела нет, ему нужны свои земли, что русские отобрали, свое богатство, что в Казани осталось, защитить. Русский царь тоже другом нам не будет, но если мы уплатим честно ясак и все налоги, русские нас не тронут. А хану Мамич-Берды не меньше давать придется, да жизни в войне класть. Я так думаю: не идти в его войско.
— А ты про Юксары слышал?—спросил кто-то.
— А что в Юксарах?
— Тех, кто в войско идти отказался, саблями джигиты Ахмачека посекли.
Долго судили-рядили, так ничего путного и не придумали. Тогда старый карт, молчавший во время всего разговора, сказал вдруг:
— Разойдитесь все по домам. Всех людей, что с Алтышем пришли, посылайте сейчас же сюда. А людей для Ахмачека готовить надо—у них сила.
Когда старики разошлись, карт спросил сына:
— Твои друзья так же думают, как и ты?
— Им Чалымское ханство не нужно, они войной сыты по горло.
— Если им все, что я придумал, сказать—не выдадут?
— А что ты им скажешь?
— Я вот что, сын, надумал: пока жив Мамич-Берды и его брат Ахмачек, покоя нам не будет. У них—сила, мы—безоружны. По слухам я знаю: нет такого илема, где бы желали воевать за богатство Мамич-Берды. Пусть твои друзья идут по своим илемам и, не дожидаясь Ахмачека и Мамич-Берды, собирают под свою руку людей. А собравши, пусть шлют гонцов с подарками к тебе. А там я скажу, что делать дальше...
Неделю спустя к Чалыму подъехало двенадцать всадников. Их переметные сумы были набиты туго. На переднем коне ехат Алтыш. У дома, где жил новоявленный хан, его остановила охрана.
— Кто такие?
— Передай высокочтимому хану, что к нему сотник Алтыш по большому делу.
Когда Алтыш вошел в просторную избу, Мамич-Берды сидел на троне, вывезенном из Кокшамар. На хане были халат с плеча Али-Акрама, меховая шапка с золотой цепочкой наискосок.
Алтыш упал на ковер, поцеловал подножие трона и поднялся:
— Велика моя вина перед ханом. Я пришел просить у тебя милости и прощения.
— Ты, Алтыш, трус, и тебе пощады не будет. Ты со всей сотней сдался в плен удиравшим воинам Акпарса, вместо того чтобы драться за ханство.
— Поверь, великий хан, нас отсекли от Чалыма воины русской сотни, а ногайцы, видя это, не помогли нам ничем.
— А где твоя сотня?
— Все мои воины вернулись из плена вместе со мной, они тоже, как и я, принесли тебе большие дары и просят милости. На двенадцати лошадях привезли эти дары.
— И это все, что ты хотел мне сказать?
— Нет, не все. Твои верные воины возвратились в свои илемы, собрали каждый по сотне самых сильных и самых смелых парней и теперь ждут твоего повеления. Скажи, куда им идти?
— Вот это подарок достойный!—воскликнул Мамич-Берды.— В каких илемах эти воины?
— Все они живут в лесах по ту сторону озера Таир.
— Я прощаю всех вас и милую. Поезжай к твоим воинам и скажи им, чтобы вели людей к озеру. Через два дня я буду там и поведу их в Кокшамары. Я хочу посмотреть на них...
Минуло два дня. Мамич-Берды переправился на левый берег и встретил Ахмачека. Тот рассказал ему, что сбор войска идет плохо, люди из илемов уходить не хотят, а тех, кого удается увести, трудно укараулить—разбегаются в дороге.
— Ты молод и потому глуп,—сказал Мамич-Берды,—Я знаю, сколько людей искрошил ты своей саблей. Ты распугаешь всех черемис. Кто тогда поддержит ханство? Учись у сотника Алтыша—он привел к озеру Таир около трех тысяч. Сейчас же поезжай в Кокшамары и приготовь им место—я приведу их туда. Мне вдогонку пошли сотню джигитов на всякий случай.
— Хорошо,—хмуро ответил Ахмачек и, огрев коня плеткой, поскакал по грязной дороге...
На песчаной косе около озера Таир людей полным полно. Далеко по берегу меж кустов построены шалаши, горят костры, висят котлы. На вертелах жарится мясо, от него—во все стороны приятный запах. Люди веселы—звенят гусли, рокочут тюмыры, пляска идет на песчаной косе.
Вдруг подскакал к озеру всадник, осадил резко коня и, взмахнув плеткой в сторону леса, крикнул:
— Великий хан черемисский Мамич-Берды!
Не прошло и пяти минут, на лесной дороге показался хан со своей сотней джигитов. Мамич сидит в седле гордо, конь под ним вороной, сбруя золотая—ногайского хана наследство.
Алтыш вышел вперед, взял коня под уздцы, помог хану сойти на землю. Сказал приветственные слова. Люди встретили появление хана радостными криками. Алтыш показал на высокий навес под тремя деревьями—там стоял стол и скамьи.
Мамич-Берды хотел было отказаться—кто знает, что там под закрытым со всех сторон навесом? Но потом сам устыдился своей боязни. С ним сотня вооруженных до зубов джигитов, а тут совсем почти безоружные люди, которые сами пришли проситься под его высокую руку.
И он шагнул к навесу.
Только Мамич вошел под навес, грянула музыка, зазвенела песня, пляски снова начались. Видит хан, что люди хмельные, веселые, пришли к нему по своей воле, о зле не помышляют.
А под навесом сидят знакомые ему люди—вместе когда-то Чалым брали. И уж совсем успокоился Мамич, когда увидел, что все они безоружные, даже ножа на поясе ни у кого нет.
Алтыш поднес хану чашу с пивом.
— Великому гостю—великий почет,—сказал и сам отпил несколько глотков из чаши.
После первой чаши заходили в голове хана какие-то странные мысли. «Для чего ночи не сплю, для чего сам себя в кулак сжал? Сперва ханство создавал—не позволял себе никаких вольностей, ни на одном пиру не был. Потом появился Али-Акрам—тот начал на пирах гулять, ему, Мамичу, пришлось дела ханства вершить— не до пиров. Теперь он сам хан, но опять со страхом за гостевой стол садится. Да сколько же себя в узде держать?!»
— А ну, Алтыш, налей еще! Пить хочу, гулять хочу. Вы радость большую мне принесли, ханство мое укрепили.
И выпили гости по второй чаше.
А за навесом тоже не дремлют — тянут джигитов в пляску, угощают пивом: благо, у каждого по большому берестяному бураку припасено. Под навесом пир идет без передышки. Всем новый хан надавал звания сотников, обещал после того, как ханство укрепится, около своего двора держать. Сотники хану в верности клянутся, славят его мудрость, силу и смелость. А пиво на столе вроде и не убывает, сколько его ни пьют. Мамич-Берды доволен, что он на пиру сильнее других—многие уж попадали под стол, иные спят на скамейках или храпят, уронив голову на стол.
Только он да Алтыш на ногах.
Потом и Алгыш взмолился:
— Отпусти, великий хан, на покой. Все люди давно спят. Завтра дорога предстоит дальняя.
Мамич-Берды махнул рукой: «Иди, спи», а сам вышел на берег. Тихо у озера, все расползлись по своим шалашам, только его джигиты бродят вокруг навеса. Хоть тоже пьяны, но спать боятся.
Хан подошел к одному, сказал:
— Пусть все спят.
А сам, оперевшись на стремянного, пошел к ханскому шатру, на приготовленную для него постель.
Утром проснулся поздно. Огляделся, сначала не понял, где он. В душу закралась тревога—рядом с ним не было ни сабли, ни стремянного. Быстро одевшись, выскочил из шатра—два незнакомых человека с копьями загородили выход.
— Выпускать не велено.
— Кто?—заорал Мамич-Берды.
— Алтыш не велел.
Хан вложил два пальца в рот, пронзительно свистнул.
— Свисти не свисти, никто не придет. Джигиты твои связаны все до одного,— услышал он голос Алтыша сзади.
— О шайтан!—застонал Мамич-Берды.— Это Седого барса дело. Это он тебя научил. Ты, видно, не зря убегал к Акпарсу!
— Не кричи зря,—спокойно ответил Алтыш.—Акпарс даже и не знает об этом.—Люди меня научили, земля научила, лес научил. Без тебя спокойнее всем будет.
— Рано ты меня хоронишь. Вот прискачет сюда Ахмачек, приведет все войско, и мы смешаем вас с грязью.
— Весь народ с грязью не смешаешь. Свяжите его,— приказал Алтыш,— сегодня в Свияжск повезем.
Свияжский воевода принять Мамич-Берды отказался, а приказал Алтышу везти скороспелого хана в Москву.
— Пусть государь знает, что со злодеями вы расправляетесь сами. Сам все там и расскажешь.
Мамич-Берды в Москве пытался вымолить себе прощение, всю вину по ханству свалил на Сююмбике, ставил себе в заслугу убийство Али-Акрама.
Но больно много зла принес Мамич-Берды и русскому, и черемисскому народам — жизнь ему дарована не была.
Сююмбике Иван сослал в монастырь, где она вскоре умерла, так и не приняв христианства.
Сын Мамича, Ике, принял присягу на верность царю. Черемисское ханство перестало существовать...
Сгорел в Кокшамарах дворец Али-Акрама. На дрова изрубили трон, на котором сидел хан чалымский Мамич-Берды. О ханстве стали понемногу забывать. Только нет-нет да и напомнит о нем неуловимый Ахмачек—брат Мамич-Берды. Знал он, что Москва не простит ему, и потому метался он по лесам, собирая под свою руку недовольных.
И правды ради надо сказать—недовольных становилось все больше и больше. Воеводы да князья да стряпчие царские простой черемисский люд не щадили ни от поборов, ни от насилья, ни от обид.
Акпарс два раза ездил к Петру Шуйскому, но толку не добился.
— Послушай-ка, князь,—сказал Шуйский назидательно. — На кого ты жалобишься? На стряпчих? Да они-то при чем? Ты думаешь, они нашего русского мужика больше жалуют, чем твоего черемисского? По одному указу живут.
— Так ведь люди к Ахмачеку бегут.
— А ты Ахмачека слови, чтобы им не к кому бежать было.
Акпарс решил Ахмачека выследить, благо, тот до того обнаглел, что стал и в Горную сторону с грабежами захаживать. В каждом илеме Акпарс наказал: как только Ахмачек поблизости появится, пусть о нем сообщат. А тот долго ждать себя не заставил—под носом у князя ограбил один илем. Ночью Акпарсу сообщили о налете. Не медля ни минуты, он велел оседлать коней и с тремя слугами бросился в погоню. У Ахмачека кони были усталые, у Акпарса—свежие. Догнал Акпарс разбойника...
Сообщники Ахмачека, побросав награбленное, скрылись в лесу за поляной, а сам он замешкался. Акпарс, взмахнул саблей и ударил изо всей силы. Ахмачек упал с коня. Подъехали слуги, оглядели разбойника—удар оказался смертельным. Акпарс велел им забрать труп и ехать в Нуженал и сам тоже туда поехал.
На другой день, провожая Саньку в Сюрбиял, Акпарс прошел с ним около десяти верст. Простившись, медленно побрел обратно и вышел на знакомую поляну, где много лет назад он встретил первый раз Эрви. Сел на сваленное ветром дерево, на котором пел он когда-то свою первую песню любви. Всю жизнь шла рядом с ним эта песня, хоть и тяжела была его жизнь. А правильно ли прожил он ее?—на этот вопрос Акпарс не находил ответа. Чего добился он за свою трудную, полную борьбы жизнь? Богатства? Нет. По-прежнему живет он в Нуженале, в том же доме, с теми же достатками. Может, он добился счастья? Тоже нет.
Да и добивался ли он всего этого? Не о себе думал он, идя по тернистой дороге жизни. О своем народе думал Акпарс все время и только ему хотел счастья. Поймут ли его люди, останутся ли в памяти народа его дела?
Пройдет время, уйдут в мир иной и они, и его сверстники, появится новое поколение, и, может быть, НІИКТО не вспомнит, что жил на земле Аказ, сын Тугаев.
Тяжелые думы теснятся в его голове! Кто скажет ему—правильно ли прожил он жизнь? Может быть, эти два слепых старца, что идут по дороге за маленьким поводырем? Спросить разве? Они ходят много по земле, они знают.
Акпарс вышел на дорогу, оглядел слепцов. У одного за спиной маленькие, всего в шесть струн, гусли. Под мышкой у второго— шювыр.
— Доброго пути вам, деды,—сказал Акпарс.
— Здравствуй, добрый человек.
— Далеко ли идете?
— По земле ходим, песни носим, сами себя кормим.
— Песни? Может, мне подарите одну. Я уплачу.
— Ты, верно, богач? А богатым песни счастья не приносят. Мы за деньги не поем.
— У меня большое горе, отцы. Мне хорошая песня больно нужна. Спойте, я прошу вас.
— Какую песню спеть тебе? У нас много всяких.
— Ту, которую вы для несчастных поете, ту, которая утешает.
Старцы сели у дороги, один снял гусли, положил на колени.
Первые же звуки струн заставили вздрогнуть Акпарса. Гусляр начал играть его мелодию, ту самую, которая родилась на этой поляне и вылетела из его сердца.
Второй слепец стал тихо подыгрывать гусляру. Голосом ровным, чуть хрипловатым гусляр запел:
Волга-матушка наша Далёко течет.
На ее берегах Обездолен народ.
Со слезами да стонами Плыли века,
И соленою стала бы Наша река.
На крутом берегу
Есть илем Нуженал.
Он Акпарса народу Несчастному дал.
Торжественно рокочут струны, тихим звоном ведсм мелодию шювыр, и разносится над лесом песня. И рассказывает она об Акпарсе, о его любви к народу, о его жизни, отданной за счастье и лучшую долю людей...
Умолкла песня. Молчат слепцы. Молчит Акпарс. Нет, недаром прожил он свою жизнь.
Осторожно притронувшись к руке певца, Акпарс взял его гусли, переложил на свои колени и снова повел слышанную только что мелодию, такую близкую для него и родную. Слепец удивленно слушал игру, потом встал и подошел к Акпарсу. Легким, почти незаметным прикосновением пальцев он тронул его волосы, лицо, бороду, плечи.
— Чем наградить тебя за хорошую песню, отец?—спросил Акпарс.
— Это наша лучшая песня, сын мой,—ответил старец.—И я не спрашиваю, кто ты, потому что узнал тебя сразу, как взял ты мои гусли. Я прикоснулся к твоему лицу, и есть ли награда большая, чем эта! Я пойду по земле и всем скажу, что гусли мои были на коленях Акпарса. Ты слышишь, Той,—слепец положил руку на плечо маленького поводыря,—придет время, и я передам эти гусли тебе. Сделай так, чтобы они до конца твоих дней пели славу Акпарсу, пусть дети наши, внуки и правнуки знают о человеке, который сейчас стоит перед нами.
И маленький Той просто ответил деду:
— Так будет, кочай.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
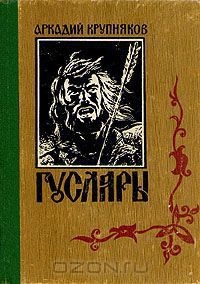



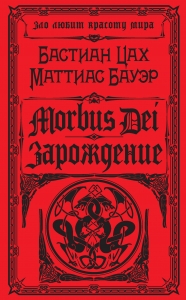
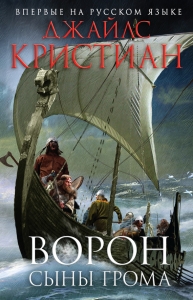


Комментарии к книге «Марш Акпарса», Аркадий Степанович Крупняков
Всего 0 комментариев