Жертвы дракона
ТОО «Элен-Квадра»
Фирма "Наташа"
Москва
НПП "Параллель"
Нижний Новгород
1993
Сергей Покровский Охотники на мамонтов
Следы лесных великанов
Шевельнулись ветки кустов. Лохматая голова показалась, спряталась и опять показалась в просвете.
Человек это или зверь?
Об этом не сразу можно было догадаться.
Рыжая львиная грива спускалась с этой головы и падала по плечам. На груди она сливалась с огромной бородой и совершенно скрывала шею. Из-под низкого лба остро глядели узкие глаза-щели. А над ними мохнатой щеткой нависали брови.
И все-таки это был человек.
Когда он раздвинул гущу ветвей на краю берегового обрыва, можно было разглядеть его сутулую, коренастую фигуру. На нем было надето что-то вроде короткого мехового мешка, подпоясанного лыком. В прорезы высовывались жилистые руки, обмотанные широкими меховыми браслетами. Левая рука сжимала копье с каменным наконечником. Человек втягивал носом воздух, подставляя под ветер широкие ноздри.
Потом он вылез из кустов, сделал несколько шагов вдоль края обрыва и нагнулся.
Здесь трава и кусты орешника были поломаны и помяты.
Рыжий стал на колени, оперся ладонями о землю, пригнул лицо к притоптанной траве и принялся нюхать ее.
Он нашел след какой-то огромной ступни:
— Хумма, хумма, хумма!
Он трижды прошептал это странное слово, поднялся и поманил кого-то к себе волосатой рукой. Потом приложил к носу указательный палец и сделала рукой плавный жест, как будто закручивал в воздухе невидимую спираль. Затем высоко поднял ладонь и помахал ею.
Кому он делал эти знаки?
Не прошло и четверти минуты как из чащи показались еще два человека.
По наружности они резко отличались от первого. Оба были много выше, оба были молоды и стройны.
На их лицах не было ни усов, ни бороды. Прямые черные волосы, перевязанные на макушке, торчали пучком. В середине такого пучка было воткнуто перо, а у пояса позади болталось по лисьему хвосту. Горбатые тонкие носы, широко раскрытые глаза и соболиные брови придавали им смелый и воинственный вид.
Рыжий еще раз прошептал: «Хумма!» — и показал рукой на север. Молодые ответили ему выразительными движениями: они радостно подпрыгнули на месте и взмахнули копьями.
Все трое выбрались на край речного обрыва. Внизу перед ними расстилалась долина Большой реки. На другой стороне зеленела мокрая пойма. На заливный лугах блестели узенькие озерки и лужи: их оставило здесь половодье. Люди осмотрелись и стали спускаться вниз, цепляясь руками за низкие кроны деревьев. Ниже обрыва начиналась пологая и мягкая осыпь: по ней тянулись звериные тропы. Одна, самая нижняя, была и самой широкой. На ней среди давних оленьих следов виднелись огромные свежие следы какого-то гигантского зверя.
— Хумма! Хумма! — радостно шептали охотники.
— Хо, хо! Волчья Ноздря! — выкрикивал, смеясь, самый младший из них — Ао.
Это был горячий восторг перед необыкновенным чутьем охотника.
Волчья Ноздря опустился на колени и стал обнюхивать след огромной ступни:
— Хумма прошел, когда солнце проснулось и роса высохла. Рыжий разбирал следы, как грамотей читает книгу. Он внимательно вгляделся в них и прибавил:
— Прошла молодая самка, а тут старая. Здесь детеныш и еще детеныш.
Ао также пристально изучал следы на краю обрыва и вдруг хлопнул себя ладонью по коленке:
— По воде шли! Много… много…
Волчья Ноздря рассмеялся. Глаза его совсем спрятались в морщинках. Рот растянулся до ушей.
Третий охотник, Улла, стал искать что-то в глубине мешочка, сшитого из беличьих шкурок. Он вытащил оттуда белый предмет, длиною с ладонь. Это была женская статуэтка, вырезанная из мамонтовой кости. Статуэтка была сделана очень искусно. Она изображала пожилую женщину с тонкими, прижатыми к груди руками. Голова ее была опущена. На голове можно было различить что-то вроде шапочки, прикрывающей прическу. Или, может быть это были изображены завернутые венцом косы.
Лица охотников стали сразу же серьезными. Волчья ноздря посмотрел кругом и выбрал место, где отвесная стена обрыва подступала к реке. Со статуэткой в руках он направился туда.
Снизу белели известковые пласты, почти закрытые рыхлой осыпью. Над ними лежала толща плотной глины.
Взобравшись на мягкую площадку осыпи, Волчья Ноздря прежде всего наскреб руками кучку земли и воткнул в нее до колен белую статуэтку.
Ао подошел к обрыву и уверенными знаками копья начертил на гладком отвесе очертания зверя. Это был горбатый слон на толстых ногах. Он был покрыт прядями длинных волос и высоко поднимал концы могучих клыков. Фигура слона была сделана немногими скупыми линиями, но так искусно, что с первого взгляда можно было узнать, кого изображает рисунок. Это искусство настоящего художника, у которого был глаз охотника, привыкшего подмечать все особенности и повадки зверя.
Едва только Ао закончил рисунок, как все трое быстро отпрянули прочь. Глаза их были широко открыты; челюсти плотно стиснуты; пальцы судорожно, с силой сжимали короткие копья; мускулы ног и всего тела натянуты как струны.
Они медленно пятились назад, чтобы быть подальше от обрыва: там перед ними стоял хумма — живой, мохнатый, страшный.
Охотники опустились на колени: Ао и Улла — по бокам, Волчья ноздря посередине, позади статуэтки. Здесь они были в полной безопасности: их охраняла колдовская власть Матери матерей, покровительницы их поселка, могучей заклинательницы вражеских сил и невидимой спутницы во всех их опасных охотах.
Все трое воткнули в землю острием свои копья и ничком припали к земле; потом вскочили на ноги и затянули протяжную песню. Под монотонный мотив начался охотничий танец. Они ходили вокруг копий друг за другом, сгибая через каждые три шага то одно, то другое колено.
И песня и танец не были для них развлечением. Это было заклинание. Заклинание должно было принести им, как они думали, охотничье счастье. Слов в песне было немного. Говорились они как бы от имени статуэтки, от имени самой Ло — Матери матерей рода Красных Лисиц:
Я Ло, Мать матерей рода Красных Лисиц! Я заклинаю горбатого хумму, Заклинаю его бивни, и уши, и все четыре ноги: Хумма, хумма, пей воду! Хумма, хумма, иди в гору! Хумма, хумма, падай в яму! Хумма, отдай нам твое мясо! Отдай нам твои бивни и твои кости! Заклинает тебя Ло, Мать матерей Красных Лисиц.Охотники хлопнули в ладоши и схватились за копья. Хумма стоял перед ними живой, косматый и поднимал к небу свой ужасный хобот. Но теперь он был им уже не страшен. Мать матерей укротила его. Она околдовала его своими чарами. Она связала его силу. Теперь он не мог сделать ни шагу от той стены, на которой был нарисован. Охотники набрали горсти песку и стали с силой бросать в чудовище. Они метили в то место, где Ао изобразил глаза — оба на одной стороне.
Зачем они делали это?
Нужно было ослепить хумму, чтобы он не мог видеть охотников.
После этого Ао подкрался к хумме и быстро обвел тупым концом копья черту вокруг ослепленного зверя. Как только круг замкнулся, охотники опять запели свое заклинание. Они долго-долго кружились, приседали и подпрыгивали.
Наконец заклинательный танец кончился. Охотники поочередно вонзали копья в побежденного хумму. Одно из них пробило глаз, другое — сердце, третье — живот. Этим все колдовство завершилось. Оно отдавало хумму в полную власть охотников. Они верили, что теперь хумме от них не уйти. Кто может отнять у них ту добычу, которую уже опутало их заклинание? Разве только какое-нибудь чужое, еще более сильное слово станет на их пути и разрушит волшебную власть Матери матерей.
Преследование
Самое важное для успеха было сделано. Теперь можно было идти дальше. Но раньше охотники сели отдохнуть. Песни, пляски и заклинания их утомили. Пот градом катился по их лицам. Сердце билось, руки и ноги тряслись. Они только что пережили такие чувства, будто и в самом деле выдержали борьбу с чудовищем и одолели его. Все трое тяжело дышали и отирали ладонями мокрые лбы. Потом они вынули из-за пазухи запасы пищи и стали есть. Это были большие куски мяса молодой сайги.
Каждый держал большой кусок мяса в левой руке, а в правой — тонкую кремневую пластинку с острым, режущим краем; они вцеплялись крепкими зубами в край мяса, а потом кремневым лезвием отрезали кусочек перед самыми зубами.
Иногда им удавалось сразу же отгрызть кусок, чаще же они довольно долго перепиливали волокна мускулов и сухожилий своими осколками кремня. Ели много. Нужно было утолить голод, успокоиться, собраться с силами, чтобы продолжать путь в поисках добычи.
Тропа мамонтов привела их к самой реке. Вдруг Волчья Ноздря остановился. Против устья оврага протянулась песчаная отмель. Вся она была покрыта свежими следами целого стада мамонтов. Здесь хуммы пили, купались, обливали друг друга водой, посыпали себе спины песком, а слонихи кормили тяжеловесных и неуклюжих слонят. Там и сям по отмели раскиданы были кучи помета.
— Хуммы пили воду, — сказал Ао и хлопнул по плечу Волчью Ноздрю.
Ноздря засмеялся. Он вспомнил слова заклинания:
Хумма, хумма, пей воду! Хумма, хумма, иди в гору!Свежие следы вели к оврагу, и скоро тропа со следами животных пошла наискось вверх, на правый берег оврага. Ноздря опять засмеялся.
— Хумма, хумма, иди в гору! — бормотал он.
На высоком берегу оврага стеной стоял осиновый лес. Мамонты проложили тропу по самому краю обрыва. Тропа была вытоптана крепко. Видно стадо было большое и звери уже не раз спускались здесь на водопой.
Охотники шли гуськом, друг за другом, пока чаща не стала светлеть. Пред ними открылась выжженная широкая поляна, покрытая низким кустарником. Кое-где на ней торчали черные стволы горелого леса.
Несколько лет тому назад в жаркую погоду разыгралась гроза. Молния ударила в сухую ель. Дерево вспыхнуло как свеча; от него загорелись кучи валежника. Ветер раздул лесной пожар. Выгорел большой участок. Среди черных пней выросли высокие травы и ягодные кустарники. Летом густыми чащами поднимались целые полчища алых кипреев и густо кустилась земляника.
Охотники успели сделать только несколько шагов, как из-за кустов показалось стадо мамонтов. Здесь были и старые и молодые. Совсем маленькие — приплод этого лета — жались к волосатым животам матерей. Хуммы мирно паслись под охраной огромных самцов. Они угрюмо стояли по краям, как коричнево-бурые холмы, медленно шевеля мохнатыми ушами. Огромные хоботы их качались как маятники гигантских часов.
Толстые самки держались в середине со своими слонятами-сосунками и заботливо подзывали их, когда те пробовали отойти в сторону. Матери попискивали при этом тоненькими, скрипучими голосами, похожими на слабый поросячий визг. И странно было слышать, что такие звуки исходили от этих колоссальных и неповоротливых животных. На обильных летних кормах мамонты сильно жирели, спинные горбы их превращались в мешки, туго набитые салом. Теперь же горбы не были так высоки, как осенью.
Охотники жадно смотрели на мохнатых великанов. У Волчьей Ноздри глаза сверкали, как у голодного волка. Он облизывался и часто глотал набегавшую слюну.
Вдоволь насмотревшись, он толкнул тихонько локтем сначала одного, потом другого соседа и знаками показал, чтобы они шли за ним. Осторожно, низко пригибаясь, они почти доползли до края оврага и спустились вниз к реке.
Охотники решили гнать мамонтов к селению Красных Лисиц, где для них давно приготовлена ловушка — ямы.
Погнать мамонтов! Три человека, одетые в меховые мешки, говорили об этом так просто, как будто это было стадо косуль.
Большерогие олени в ужасе шарахались в чащу, когда на лесной тропе показывалась гигантская фигура вожака мамонтов. Могучие зубры уступали им дорогу. Огромный серый пещерный и бурый медведи не решались вступать в бой со взрослым мамонтом. Даже свирепый северный носорог, при всей злобности своего характера, предпочитал не встречаться с чудовищными бивнями хуммов.
Откуда же эта непомерная дерзость? Неужели эти голые двуногие, которые выучились таскать с собой палки с каменными наконечниками, сильнее медведей, зубров и злобных шерстистых носорогов?
Охотники направились в верх по оврагу, чтобы оттуда пробраться в тыл мохнатому стаду. Но прежде чем начать действовать, нужно было призвать на помощь силу Матери матерей. Правда, заклинание покровительницы племени уже произнесено, но сейчас предстояло выполнить самую трудную задачу: надо было заставить мамонтов идти туда, куда нужно.
Белую статуэтку снова вытащили из беличьего мешка. Все три охотника тихо шептали ей в уши ласковые слова и деловито рассказывали все обстоятельства охоты. Времени терять нельзя: нужно было только объяснить поскорее, куда должна быть направлена неодолимая сила заклинания. Пошептав, охотники вскочили на ноги. Ао взял в руки статуэтку, быстро поднялся по крутому склону и осторожно высунул голову из-за края оврага.
Хуммы по-прежнему мирно паслись среди кустов на том же месте. Ао поднял белую фигурку Матери матерей. Она должна была хорошенько осмотреть и стадо и поляну, чтобы не вышло ошибки.
Через несколько мгновений Ао сбежал вниз. Надо было спешить. Дел впереди еще много. Охотники быстро зашагали в обход спокойно пасущихся мамонтов.
Чего боялись хуммы
Солнце уже спускалось, тени от кустов и деревьев росли.
Мамонты все еще продолжали неторопливо набивать пищей свои огромные желудки. Лесная поляна, богатая кормами, была для них настоящим раздольем. Густая трава, пестреющая весенними цветами, сочные лозы ивняка и жимолости, вяжущие язык ветки молодых осинок и берез — все это было для них лакомым блюдом. Взрослые хуммы держались ближе к опушке, и можно было видеть, как они с треском ломали древесные сучья. Их чудовищные коренные зубы, тяжелые, как жернова, растирали не только траву и листья, ни и крепкую кору и древесину. Мамонты были так заняты едой, что, казалось бы, ни на что не обращали внимания. Вдруг один из вожаков тревожно насторожил уши. Как два огромных кожаных лоскута они поднялись и оттопырились по сторонам головы. Хобот вытянулся вперед, хумма шумно вдохнул в себя свежую струю холодеющего воздуха.
С запада тянул ветерок. Вместе с ним доносился ни с чем не сравнимый запах, который наводил страх даже на сильнейшего из зверей. Это был едкий горьковатый запах лесного дыма. К нему примешивался тот особый дух двуногих существ, которого боятся и звери и птицы.
Маленькие глаза хуммы беспокойно осматривали край поляны, и вот голубоватая струйка дыма зазмеилась с той стороны, откуда восходит солнце. Ветер доносил потрескивание сухих ветвей, душистый запах горящего можжевельника и еловой смолы.
Вожак поднял хобот и протрубил сигнал тревоги. Все стадо разом зашевелилось. Головы гигантов повернулись к востоку, и слонихи беспокойным визгом начали подзывать рассыпавшихся по кустам детенышей.
На несколько мгновений взрослые мамонты застыли в немом ожидании. В это время от опушки леса отделились три странные фигуры, не похожие ни на одного из жителей леса. Они были густо обвязаны сухими ветками елок. Каждая из них держала в руках по огромному пылающему смолистому суку.
Странные существа размахивали огнем и медленно приближались к стаду.
Все горбатые самцы подняли свои огромные хоботы, и отрывистые звуки раздались на лесной поляне. Слонихи первые начали отступление. Слонята рысью затрусили за ними. Сзади замыкали шествие, тяжело ступая, самцы, растопырив, как крылья, необъятные уши. Самый старый и самый крупный из них все еще стоял на месте и глядел на приближающуюся опасность. Хобот его был грозно поднят к небу, а белые бивни, как толстые кривые стволы, торчали вперед. Они загибались в стороны и назад, как белые края гигантской лиры. Он стоял один и был похож на темное бронзовое изваяние. Казалось, он готовился встретить таинственных врагов и уничтожить их. Вид его был страшен. Но люди продолжали наступать. В другое время мохнатая фигура чудовища испугала бы их. Но сейчас они чувствовали за собой непобедимую силу, которая все покоряет на своем пути. Мамонты боялись огня, но наивные люди думали, что силу им придавало заклинание Матери матерей.
Ао шел впереди. От его факела брызгами разлетались искры. И клубы едкого дыма доносились до ноздрей старого вожака хуммов.
В это время до ушей мамонта долетел призывный зов самок. Великан тяжело повернулся и стал догонять удаляющееся стадо. Он шел не спеша, но огромные шаги его были так широки, что человеку пришлось бы бежать, чтобы не отставать.
Мамонты пересекали поляну. Кусты трещали под их тяжестью. Охотники почти бежали, однако на порядочном расстоянии — близко подходить было опасно.
Хуммы возвращались той же тропой, которой пришли сюда. Самцы иногда останавливались и оглядывались на преследователей. Охотники продолжали размахивать дымящимися ветвями и двигались вслед за ними.
Мамонты дошли до берегового обрыва. Здесь слоновья тропа разделялась: одна шла вдоль обрыва на юг, другая — на север.
На минуту слонихи задержались. Они оглядывались на отставших слонов, как бы приглашая их поскорее следовать за ними.
Когда самцы стали подходить, огромная слониха, самая старая и большая во всем стаде, повернула на северную тропинку, и остальные послушно двинулись за ней.
Охотники очень удивились, когда увидели, что стадо повернуло на север. Как же так: ведь они просили свою Ло, чтобы она помогла подогнать стадо к селению Красных Лисиц, а Красные Лисицы жили к югу, а не к северу от поляны хуммов. Неужели заклинаний было недостаточно?
Они поделились сомнениями с Волчьей Ноздрей. — Не бойтесь, — сказал Ноздря, — они ищут другого спуска. Этот слишком крутой. По нему хуммам трудно спускаться. Охотники успокоились.
Между тем хуммы продолжали шагать все дальше и дальше. Эта тропа была и в самом деле более широкой, идти по ней было просторнее.
Слонихи шагали осторожно и, почти не переставая, взвизгивали, подзывая детенышей, которые по-ребячьи легкомысленно отбивались то влево, то вправо. Им нравилось забираться в кусты и ломать свежие ветки. Иногда они принимались гоняться друг за другом, обгонять передовых, ломясь через кусты.
Шалунам нравилось также, разбежавшись, неожиданно ткнуть лбом идущего впереди прямо в хвост и заставить пуститься резвее вперед, чтобы избежать повторного удара. Один из забияк проделал такую рискованную шалость прямо у самого края обрыва.
Получивший удар метнулся в сторону и вдруг земля поехала у него под ногами, комки и камни запрыгали вниз, кружась в облаке пыли. Бедный слоненок сорвался с кручи и покатился вместе с оползнем и глиной с головокружительной высоты прямо на прибрежные валуны.
Это случилось так быстро, что никто из взрослых хуммов не понял, что именно тут произошло, тем более что высокая заросль жимолости не давала возможности ясно видеть обоих шалунов в густой зелени кустарников.
Стадо продолжало шагать дальше. Шаги хуммов как будто ускорились. Казалось, они решили отделаться во что бы то ни стало от своих надоедливых преследователей, продолжавших пугать их огнем и дымом.
Наконец они подошли к тому месту, где начинался большой береговой оползень и осыпь, которые образовались здесь, как видно, очень давно, судя по тому, что обваленные части берега заросли не только густой травой, но и молодыми осинками и кустарниками. Тропа мамонтов спускалась здесь наискось и более полого.
Один за другим животные шли к спуску, притаптывая подросшую траву и обламывая по пути зеленые ветки осинок. Охотники внимательно следили за ними сверху, спрятавшись в зеленой чаще, нависшей над береговым обрывом.
Мамонтов было много. Их длинная вереница отлично была видна с высокого берега. Всех хуммов было бы легко сосчитать. Беда только в том, что охотники считали очень плохо и могли только сказать, что пальцев на руках и на ногах далеко не хватает, чтобы пересчитать всех слоних, слонят и самцов.
С радостью заметили они, что как только стадо спустилось на верхнюю береговую террасу, звериная тропа повернула на юг и хуммы по ней двинулись как раз в ту сторону, куда было нужно.
Вздох облегчения вырвался у всех троих, когда они убедились, что заклинание не обмануло их и длинное шествие хуммов направилось в сторону поселка Красных Лисиц.
О добрая, старая Ло, славная покровительница рода! Твое колдовство не обмануло. Твоя волшебная фигурка из слоновой кости недаром была взята охотниками из рук самой родоначальницы. Ведь это самый верный залог их охотничьего успеха.
Куда пошли хуммы
Мамонты и люди жили в одной стране многие тысячи лет. Когда люди научились охотиться сообща, они стали побеждать самых крупных зверей. Волки, медведи, пещерные гиены с их страшными зубами отступали перед натиском людей с их каменными орудиями.
Мамонты долгое время были непобедимы, но и они в конце концов сделались предметом охоты. Люди научились добывать огонь. Они зажигали сухую траву в конце лета, устраивали лесные пожары, которые ужасали всех зверей и даже мамонтов. Люди научились подстерегать и отгонять от стада новорожденных слонят, чтобы потом захватывать их. Они выучились делать ловушки и загоны, куда попадали и взрослые хуммы.
Вот почему большое стадо мамонтов, несмотря на свою силу, не стало дожидаться нападения этих пахнущих дымом двуногих и предпочло уклониться от неприятной встречи. Пройдя несколько десятков шагов по верхней террасе, оно нашло пологий спуск и стало медленно спускаться вниз, к самой воде, на влажную полоску прибрежного сырого песка и отшлифованных камешков.
Ао, Улла и Волчья Ноздря спустились по слоновьей тропе вслед за стадом к берегу Большой реки. Они торжествовали. Волшебная сила Матери матерей, казалось, продолжала действовать неодолимо. Они твердо верили, что им удастся загнать мамонтов в окрестности селения Красных Лисиц.
А тогда…
Вдруг Улла громко ахнул и протянул руки вперед. Отсюда можно было хорошо видеть, как передовая слониха повернула не к югу, а к северу. Хуммы собирались идти не к поселку Красных Лисиц, а совсем в другую сторону.
Что же это значит? Где же помощь Матери матерей? Где ее могущество? Как остановить их? Как заставить повернуть обратно?
Ао торопливо вынул из мешка и поднял над головой волшебную статуэтку. Волчья Ноздря зашептал заклинательные слова. Все трое стали кружиться вокруг Матери матерей.
Но ничто не помогало. Хуммы упрямо шли своей дорогой. Ни один из них не послушался заклинаний.
Охотники с недоумением смотрели друг на друга и на костяную фигурку. Куда же девалась ее сила?
Вдруг Улла схватил Волчью Ноздрю за плечо.
— Гляди! — зашептал он со страхом и показал на верхушки деревьев.
Осины качались и трепетали листьями. Слабый ветерок, который так недавно гнал дым на мамонтов, теперь сменился другим. Вместо него по лесу шумел северяк, от которого шатались древесные стволы.
— Пущено по ветру, — многозначительно шепнул Улла и тревожно огляделся вокруг.
Волчья Ноздря переменился в лице, а всегда смелый Ао побледнел; руки у него дрожали.
— Пущено по ветру! — повторил он, как эхо.
— По ветру! По ветру! — зашептал и Волчья Ноздря, и было видно, как волосы на его голове стали топорщиться. Так встает шерсть на загривке у волка, когда он чует опасность.
Все трое стали пристально вглядываться в кусты. Ветки их подозрительно качались. Не понимая причин перемены ветра, они решили, что кто-то более сильный в этих местах стал у них на дороге. Это он уничтожил силу заклятья, которое помогало им до сих пор. Какая-то чужая колдовская власть вмешалась в их охоту и повернула все по-своему. Хотя бы один из хуммов пошел к поселку Красных Лисиц!
— Это Куолу! — сказал Волчья Ноздря.
В тревоге охотники спустились к самой воде. Здесь против устья оврага находилась та самая длинная отмель, которую топтали мамонты. Долина реки уходила прямо на север. Там где-то далеко, по рассказам стариков, скрывалось озеро. Из него рождалось начало Большой реки, а еще дальше лежал Великий лед. Оттуда неслись холодные ветры и приползали тучи.
Охотникам было видно, как вереница темно-коричневых мамонтов тянулась гуськом у самой воды по мягкой песчаной береговой полосе. Над береговой террасой поднимались почти отвесные обрывы высокого правого берега, поросшего лиственным лесом. Люди стояли в растерянности. Теперь они не старались догонять зверей, но и упускать их из виду тоже не хотелось.
Расстояние между ними увеличивалось, хотя стадо было еще хорошо видно.
Ао оглянулся и зашептал:
— Смотрите, смотрите!
Он указывал пальцем на береговую кручу, под которой они стояли. Там в густом буреломе свалившихся с вершины берегового карниза сухих деревьев шевелилось что-то темное. Скоро острые глаза охотников рассмотрели фигуру молоденького хуммы, застрявшего головой среди толстых стволов. Он угодил туда, когда упал вниз с высокого берега. Это был тот самый слоненок, который так неосторожно расшалился, когда стадо хуммов проходило по краю обрыва.
Слоненок упал головой в груду бурелома и переломил себе спинной хребет. Он еще двигал ушами и хоботом, но это были уже последние предсмертные движения.
Быстрыми прыжками охотники добрались до слоненка, перелезая со ствола на ствол и расчищая себе дорогу среди чащи засохших, изуродованных ветвей.
Один бок маленького хуммы был сильно ободран, и обломок сучка глубоко вонзился ему между ребрами.
Оглушив слоненка крепкими ударами по голове камнем с острыми краями, Ноздря принялся острием своего копья расширять его рану.
Из раны тонкой струйкой побежала темная кровь. Ноздря подставил сделанную из бересты черпалку и набрал теплой мамонтовой крови. Выпил до дна, не отрываясь, и передал черпалку Улле. Молодые охотники последовали примеру Ноздри.
По поверью жизнь молодого хуммы вошла в них вместе с кровью. Теперь они все трое вооружились кремневыми ножами и собирались уже вырезать себе по куску еще теплого мяса, как вдруг чей-то сердитый окрик заставил их содрогнуться.
Высоко над собой, на самом краю обрыва, они увидели дородную фигуру полуголого человека. Одна только волчья шкура охватывала его стан. Длинные волосы прядями рассыпались по плечам. Волосатый человек махал сучковатой дубиной.
— Наши хуммы! — кричал он, размахивая руками. — Наши хуммы! Чужое мясо! Плохо гоняться за чужой едой!
Волосатый орал и визжал изо всей силы и яростно грозил дубиной.
— Это Куолу. Это он пустил ветер на хуммов, — зашептал испуганно Волчья Ноздря.
Охотники отпрянули прочь и быстро сбежали вниз на песчаную террасу. Зубы их стучали от страха. Куолу нагнулся, поднял с земли камень и швырнул с высоты в охотников. Волчья Ноздря бросился ничком на песок и обеими ладонями закрыл голову. Ао и Улла сделали то же самое. Так лежали они неподвижно, откинув в сторону оружие и уткнувшись лицом в землю.
Куолу еще продолжал кричать. Он швырял камнями, грозил, что не даст им изловить ни одного зверя, что испортит им всякую охоту.
Охотники отошли в сторону и знаками показывали рассерженному Куолу, что отказываются от своей неожиданной добычи.
— Смотрите, смотрите! Не видать вам больше хуммов, ни старых, ни молодых…
Он выразительно махал руками в ту сторону, куда уходили хуммы, и злорадно смеялся, показывая на север. Охотники оглянулись, и теперь им стало ясно, чему смеялся Куолу. Мамонты уже вошли в воду, и начали переходить реку. На той стороне развернулась обширная пойма. Река в этом месте была широка, но мелка. Вода слонятам доходила только до брюха. Они смело шагали за матерями, и все стадо спокойно переходило вброд. По временам хуммы останавливались, чтобы попить в свое удовольствие и побрызгать из хоботов на спины себе или другим. Напившись и пополоскавшись, стадо начало вылезать на противоположный берег. Охотники следили, как хуммы ленивой походкой удалялись в глубь заливных лугов. Они осторожно пробирались между озерами и топкими болотцами, покрытыми зеленой осокой.
За широким простором лугов, далеко на севере, виднелась узкая полоска синего леса. Хуммы тянулись туда. С каждым шагом их темные туши становились все меньше и меньше, пока из огромных животных они не превратились в вереницу ползущих букашек.
Куолу надоело смотреть на удаляющееся стадо. Охотники решили идти вперед по новым местам, и притом против ветра. Звери чутки, и если до них доносится запах человека, они прячутся и убегают.
Чтобы задобрить страшного Куолу, Улла приложил к губам рупором руки и закричал:
— Куолу! Куолу! Хуммы ушли, не надо нам хуммов. Бери себе слоненка. Возьми добычу. Мы пойдем. Будет счастье — принесем жирный кусок и Куолу.
Куолу улыбнулся, молча махнул рукой, и охотники двинулись дальше.
Куолу
Почему же так страшен был охотникам Куолу? Откуда этот трусливый страх, это желание его задобрить?
Куолу стали бояться с тех пор, как он здесь поселился. Он был из рода Вурров, то есть медведей. Становище находилось на расстоянии нескольких дней пути, на берегу притока Большой реки. Вурры жили в курных землянках, похожих на глубокие норы, на склонах речных берегов. В каждом становище ютился отдельный род. Основой рода были женщины-матери. Они были хозяйки землянок. Все они занимались колдовством. Они знали множество заговоров и заклинаний: от зубной боли, от разных болезней, от нападения зверей.
Во главе каждого рода стояла самая старшая, искусная и почтенная колдунья. Она считалась самой могущественной из всех. Все другие получали колдовскую силу только от нее. Она считалась прабабушкой всего детского и юного населения.
Женщины со своими детьми, подростками и девушками составляли полуоседлое население становища. Мужчины-охотники вели полубродячую жизнь. Они то появлялись, то вновь исчезали. По целым дням, иногда по неделям бродили они за добычей и при удаче приносили ее для всех. Все матери считались сестрами. Их дети, то есть все девушки и юноши, также считались братьями и сестрами. Юноши уходили в соседние родственные становища и там искали себе невест. Они оставались надолго жить в поселке своих жен, проводя там теплое время года.
С наступлением холодов, а то и раньше возвращались они в становище матерей, чтобы охотиться и добывать пищу для родного поселка. Жили они отдельно от незамужних сестер и младших братьев, в особой большой землянке, куда имели доступ только охотники и старики.
Сурова была зима в долине Большой реки. Она была очень длинная и снежная. Метели и вьюги бушевали тут по целым месяцам. Глубокие сугробы нередко совсем погребали под собой землянки людей. Особенно много снега наносили западные ветры. Иной раз после сильных буранов жители с трудом прокладывали себе выход из своих засыпанных нор.
Но как ни долга была зимняя пора, весна, хоть и поздно, брала свое. Она разрушала белые бастионы зимы. На освобожденной от снега земле зацветали весенние цветы. Поселки Большой реки встречали победу солнца песнями, плясками, хороводами. Бывало, правда, что жены уходили с мужьями в поселок их матерей и оставались в нем навсегда.
Случилось, что молодой Куолу стал мужем своей ровесницы Изы, девушки того же рода Вурров.
Они были детьми разных матерей, но как члены одного рода они, по понятиям Вурров, должны были называться братом и сестрой.
Их брак был нарушением обычаев и привычных понятий племени. В глазах родичей они совершили преступление и притом непростительное.
Проступок этот сделал их отщепенцами в своем собственном поселке. Никто не хотел жить с ними под одной крышей.
Охотники изгнали Куолу из мужского дома. Женщины не пускали Изу к себе. Куолу и Изе пришлось наскоро вырыть маленькую землянку на краю поселка и отдельно добывать себе пищу.
Вскоре произошло событие, которое окончательно сделало невозможным совместную жизнь их со своими родичами.
В их поселке особенно строго соблюдалось почитание Родового огня. Неуважение к нему каралось как величайшее из преступлений.
Родовой огонь горел в особой пещере, выкопанной в известковом обрыве. В пещеру имели право входить только Мать матерей племени да еще четыре старухи, на которых лежала обязанность поддерживать пламя, подкладывать сучья и валежник.
Каждый вечер все население поселка приносило к пещере свежие вороха валежника и сухих сучьев. Четыре старухи перетаскивали их в пещеру, Мать матерей подкидывала сучья в костер, а толпа молча сидела перед входом, зачарованная блеском огня. Если в поселке гасли все домашние очаги, можно было взять от Родового огня горящую головню. Но сделать это могла лишь Мать матерей после усиленных просьб своих детей и внуков. С особыми церемониями и ворожбой выносила она горящую ветку и отдавала одной из старух, а та, в свою очередь, передавала ее тем, кто почтительно дожидался у входа.
И вот один раз в летнем шалаше молодого Куолу погас костер. Иза побежала за огнем к соседям. Но никто не давал ей огня, потому что она считалась теперь как бы чужой. Тогда она вошла потихоньку в пещеру Родового огня, в которой, как ей показалось, не было никого, и похитила горящее полено.
Но уже к вечеру об этом узнало все становище. Все стали говорить о том, что Иза и Куолу похитили огонь из священной пещеры. Куолу и Иза упорно отрицали свое преступление. Но следопыты рода доказывали, что след маленьких женских ног ведет от пещеры к летнему шалашу Изы и Куолу.
Мать матерей назначила на следующее утро суд над виновниками страшной кощунственной кражи. Суд должен был начаться гаданьем, которое откроет преступников. Виновных ожидало испытание огнем, и в случае их осуждения им грозила немедленная и мучительная смерть.
Своевольная пара знала, что ее ожидает. Куолу и Иза в ту же ночь бежали из своей землянки, захватив с собой оружие и два мешка, набитых звериными шкурками. Они вырыли себе землянку на полпути между стойбищами одноплеменных с Медведями родов Красных и Чернобурых лисиц. Долго и искусно они скрывались, потому что боялись жестокой расправы. Но родные выследили их. Лучшие охотники поселка Медведей отправились, чтобы захватить их. Однако облава потерпела полную неудачу: найденная землянка оказалась пустой.
На другой день преследователи рассыпались широкой цепью и стали обыскивать соседний лес. Они уже напали на след беглецов. Гибель их казалась неизбежной, как вдруг огромный носорог неожиданно бросился на преследователей. Двух из них он убил своим рогом, одного затоптал насмерть ногами. Остальные разбежались и вернулись домой, пораженные ужасом.
Охотники Вурры решили, что это Куолу превратился в носорога. Его стали бояться, как огня. Его считали могущественным колдуном, который может сделать какое угодно зло. Всякую беду, всякую болезнь, смерть или неудачу приписывали колдовским чарам Куолу.
Если охота была неудачной и жители поселка начинали голодать, снаряжалось посольство на поклон Куолу. Его задабривали подарками или обещаниями, просили не мешать охоте и после удачи лучший кусок относили к землянке колдуна. Куолу было выгодно поддерживать свою славу оборотня и колдуна. При случае он рассказывал о себе страшные небылицы. При этом сам он начинал верить в свои россказни и в свои колдовские способности.
И всякий раз, когда людям приходилось держать путь мимо землянки Куолу, они старались сделать это как-нибудь незаметно: обойти ее стороной, проскользнуть ночью или на утренней заре.
Вот почему угрозы Куолу так напугали наших охотников. Какое облегчение почувствовали они, когда толстая фигура Куолу скрылась за выступом берега! Как хорошо, что его больше не видно, и он не может послать им вслед враждебное заклинание!
Неожиданная встреча
Охотники под кручами лесных берегов осторожно пробирались на север.
Солнце уже начинало садиться. Тень от высокого берега перекинулась через реку. Надо было подумать о ночлеге. Все трое стали взбираться на высокий берег в том месте, где он был не так крут. Но только они вступили в лес, как из кустов показалось с десяток вооруженных людей. Охотники приготовились защищаться, но услышали смех и веселые голоса:
— Чернобурые Лисы не грызут Красных Лисиц!
Это была встреча соплеменников, друзей из стойбищ двух родов.
— Что видели хорошего?
— Все хорошо!
— Что видели злого?
— Ничего не видели!
Охотники из рода Чернобурых Лисиц повели соседей к своему лагерю. Неподалеку от берега горел костер. Около него тоже сидели люди. Двое из них поджаривали на вертеле бедро убитой косули. Более голодные лакомились сырой печенкой и кусками парного мяса. Старшие разбивали камнями очищенные от сухожилий трубчатые кости, чтобы добраться до костного мозга.
Чернобурые стали угощать гостей. За едой обменивались новостями. Встреча с мамонтами всех заинтересовала. Сговаривались проследить их для совместной охоты.
— Нет! — сказал самый старший из Чернобурых. — Хуммы уйдут далеко. Пойдут к Великому льду. Хуммы знают: прилетит мошка Зиа-Зиа и будет забиваться в ноздри. Мошек боятся и хуммы. Теперь они худые, осенью будут жирные. Пожелтеют березы, упадут листья, умрет мошка, подует холодный ветер, приползут туманы с Великого льда. Тогда вернутся хуммы и горбы их будут еще выше, чем теперь. Чернобурые будут тогда их сторожить. Они расскажут обо всем Красным Лисицам и станут вместе ловить горбатых хуммов.
Чернобурые рассказали, как они выследили стадо оленей. Они ходят за ними уже много дней. Когда удастся погнать их к загону, Красные Лисицы помогут им окружить рогатых зверей.
За едой и разговорами незаметно спустился сумрак. Вверху зажигались звезды. Лагерь начал готовиться к ночлегу. На всякий случай зажгли костры. Люди расположились на земле, и огонь охранял их сон от зверей и от злых взглядов, которые приносит ветер.
Усталые люди крепко уснули, подложив под голову по охапке мягкой травы. Только двое сторожевых остались сидеть у костра. Чтобы не уснуть, они тихонько переговаривались между собой. По временам они подкидывали в огонь заготовленные пучки валежника. Долго не спал также Ао. Он сидел, охватив руками колени и откинув назад свою красивую голову. Ао прислушивался к затаенным шорохам ночи.
После всех приключений и испытаний этого дня ему не спалось, и он думал о том, что такое эти небесные огоньки. Ао привык слепо верить тому, что ему рассказывали старшие родичи. Но про небесные огоньки говорили по-разному.
Мать объясняла ему, что там, на небе, живут такие же светляки, как и те, что сияют теплой летней ночью под кустами в густой траве на опушке леса.
А вот Тупу-Тупу говорит по-иному. По его рассказам, это далекие костры небесных охотников. Они зажигают их на ночь, когда садятся отдыхать после долгой охоты в широких лугах высокого неба.
И Ао не знал, чему же надо верить.
Утро в поселке Чернобурых
Летняя ночь накрыла темным пологом и поселок Чернобурых, и соседний лес, и всю долину Каменного оврага, где мирно спали люди в своих землянках. Землянки были вырыты недалеко от края оврага и глядели в него темными дырами входов. Ниже выступали каменные глыбы известняков.
Еще темнее было в лесу, который поднимался за поляной.
Но коротка летняя ночь.
Не успели люди отдохнуть, как с востока показались слабые отсветы новой зари. Свет перекинулся и на правый, высокий берег, где у воды по осыпи тянулись низкие кусты ивняка.
Две серые тени выползли из-под кустов и замерли на месте. Пока они были неподвижны, их трудно было заметить. Вдруг они двинулись вперед и темными комочками скользнули к самой реке.
Теперь их можно было разглядеть более ясно. Это были два пушистых зверька, ростом с небольшую собачку. Дымчатая шерстка летних шкурок как нельзя лучше скрывала их в сумерках ночи. Осмотревшись хорошенько, они припали к воде и начали жадно лакать горячими узенькими язычками.
Это были песцы или полярные лисицы. Они водились тогда там, где теперь расстилаются черноземные степи. А северные олени попадались у склонов Крымских и Кавказских гор.
Лисички напились, подняли мордочки, навострили ушки и потянули ноздрями воздух.
Ветер качнул тонкие лозинки и донес им отдаленный, но терпкий запах человеческих нор. Пахло дымом костров, жженой костью.
Песцы жадно проглотили набежавшую слюну и, осмотревшись еще раз, помчались туда, куда призывал их заманчивый запах. Они неслись по берегу плавными скачками, словно пара серых ночных птиц, скользящих бесшумно над самой землей. Возле устья Каменного оврага песцы остановились и прислушались к журчанию холодного ручейка под сводами еще не растаявших в овраге снежных сугробов.
Наконец они очутились у пологого спуска и стали взбираться на высокий берег, прямо к землянкам Чернобурых.
Песцы осторожно подкрадывались к поселку. Люди еще спали. Но тем сильнее манили песцов к себе вкусные запахи.
На ровной площадке перед входом землянок было разбросано немало отличной еды.
Везде валялись кости. Мясо на них было обглодано, но на многих можно было еще найти присохшие сухожилия и свежие хрящи. Губчатые части костей, пропитанные костным жиром, были вполне съедобны. Попадались и куски мяса, брошенные в дни изобилия. Возле одной из землянок валялись рыбьи внутренности, головы щук и налимов.
Зверьки с удовольствием доедали отбросы человеческой кухни. В предутренней тишине отчетливо слышались чавканье и хруст костей.
Заря разгоралась.
В кустах уже заливались птицы. Над болотом потянулись туманные полосы. Близилось утро, и прохладный воздух становился почти морозным.
Вдруг затрещала и отодвинулась заслонка у входа одной из землянок.
Из темного отверстия душного жилья высунулась кудрявая голова. За ней показалась тонкая фигура полуголого юноши, почти мальчика, с широким меховым поясом.
Это был Уа, старший сын рыжей Уаммы и самый бойкий из ее детей. Уа выполз на четвереньках из черной дыры и осмотрелся.
— Фью! — свистнул он на песцов.
Они отбежали на несколько шагов и с любопытством уставились на человека. Он свистнул еще раз, но песцы оставались на месте и продолжали его разглядывать. Тогда ему сделалось страшно.
«Может это оборотни? Может быть это колдуны из враждебного племени Лесных Сов? Отчего они так пристально смотрят? Может быть они хотят послать несчастье недобрым вражеским глазом?»
Уа глядел на них со страхом. Лицо его вытянулось. Он уже начал пятиться назад к землянке, но вдруг взгляд его упал на кучку белых камней, аккуратно уложенных направо от входа. Уа вспомнил, что это наговорные камни: над ними долго шептала сама седая Каху, Мать матерей Чернобурых. Каждый из них был помечен черным углем.
Теперь Уа знал, что надо делать. Если кинуть в оборотня наговорным камнем, от оборотня пойдет дым.
Уа схватил один из волшебных камней и метко швырнул им в лисичек. Песцы взвизгнули и опрометью бросились в кусты.
В землянке Уаммы
Уа был высок и строен.
Если бы его спросили, сколько ему лет, он даже бы не понял вопроса. Во-первых, он почти не умел считать. Если он хотел рассказать, что видел четырех зайцев, то загибал на руке четыре пальца. Всякое число больше пяти называл просто «хао», то есть много. Даже во всем поселке Чернобурых никому и в голову не приходило считать года. Важнее было вот что: на верхней губе у него уже показался рыжий пушок, а голос начал грубеть и ломаться. В последний год он сильно вырос.
Отрочество Уа подходило к концу. Уже давно с нетерпением дожидался он того дня, когда взрослые дадут ему в руки боевое копье, примут в число охотников. Его станут брать с собой на поиски оленей, охоту за зубрами, носорогами, а может быть, и за дикими лошадьми. Правда, ему придется немного пострадать. Он еще должен выдержать трудное испытание. Но он этого не боялся. Он сам готовился к этому «экзамену зрелости». И не раз он, уйдя в лес, хлестал себя гибкой лозой по голой спине, чтобы уметь, не моргнув переносить самую острую боль.
Он готов хоть сейчас на какие угодно муки, лишь бы получить право называться настоящим взрослым охотником.
А пока он еще мальчик. Он должен жить с сестрами и младшими братьями в материнской землянке. Там было и душно и жарко. Хижина битком набита женщинами и детьми. Здесь ютятся четыре семьи: семья его матери и трех ее сестер.
Возле матерей копошится целая куча больших и малых ребят, от длинных подростков до грудных младенцев. Только у самой молоденькой тетки один ребенок.
Под утро воздух в землянке настолько спертый, что трудно дышать.
Люди начинают один за другим выползать наружу, чтобы глотнуть свежего воздуха, освежиться холодной водой.
…Уа вприпрыжку сбежал в овраг и горстью стал черпать ледяную воду, которая журча выбегала из-под снега. Несмотря на июньские дни было почти морозно. С севера тянуло сырым и холодным ветром.
«Старики говорят, — вспомнил он, — в той стороне Великий лед. Летом из-под него течет вода. Там родится много ручьев и потоков. И Большая река вытекает из ледяных ворот. Только это далеко, очень далеко. Ноги заболят, пока дойдешь до Великого льда».
Уа остановился около ручья и задумчиво стал глядеть в ту сторону, откуда мчался холодный и сырой ветер.
— Бррр!
Уа озяб и, дрожа от холода, прыжками понесся в гору. Он проворно нырнул в дыру землянки. Воздух проникал в жилье не только через вход, но и через небольшое оконце над дверью. На ночь его обыкновенно закрывали заячьей шкуркой, но утром торопились открыть, чтобы избавиться от духоты.
В землянке царил утренний полумрак. Даже привычный глаз с трудом различал в нем фигуры людей и звериные шкуры, развешанные по стенам. На полу лежали толстые оленьи меха, они служили постелями. Жилище внутри походило на внутренность большого шалаша или чума. Коническая крыша посередине была подперта крепким столбом. К земляным стенам жилища был прислонен изнутри частокол из еловых жердей. Для прочности их связывали лыками или гибкими прутьями ив.
Все уже проснулись. Матери кормили грудью ребят. Кормили не только рожденных в этом году, но часто двух- и трехгодовалых. Кормилицам приходилось сейчас очень трудно: уже два дня все люди поселка жили впроголодь. Запасов пищи не хватало, дети хныкали и просили есть.
Матери удивлялись, куда пропали охотники-мужчины. Вот уже несколько дней, как они отправились за добычей, и никто еще не возвращался. Верно, забыли, что их ждут, или охота была неудачной.
Начало лета было тяжелым временем. Ягод, орехов и грибов еще не было. Птичьих яиц стало гораздо меньше. Большая часть чикчоков — северных оленей — уже откочевала в тундру. Если охотникам не удавалось овладеть какой-нибудь дичью, приходилось питаться кое-как. Женщины собирали поблизости съедобные травы и корешки. Подростки и девушки в поисках пищи уходили далеко от селений. Ходили гурьбой, чтобы не было страшно.
Уамма только что кончила кормить своего младшего, пятого по счету сына, Лаллу. Она завернула его в мех, сшитый из нескольких шкурок зайца-беляка, и всунула в меховой мешок. Только головка его торчала наружу. Розовый блинчик лица с пуговкой посередине и узкими щелками зажмуренных глаз казался матери краше всего на свете. Уамма подвесила мешок на ремнях к потолку у самой стены. Нехорошо, когда ребенок на полу. На него недолго и наступить в тесном и темном жилье.
Лаллу не протестовал. Он привык к своему мешку. Он был сыт и потому закрыл веки и спокойно уснул в висячей люльке.
Уамма забросила руки за голову и стала закручивать пучком свои длинные, золотистые волосы. На вид ей было около тридцати лет. Она была красивая, сильная и статная женщина.
Как и все матери, она в землянке ходила почти без одежды. Только длинная бахрома из лисьих, песцовых и волчьих хвостов, подвешенных к меховому поясу, составляла что-то вроде короткой юбки вокруг ее стана. Другая такая же бахрома из хвостиков полевок, водяных крыс и мышей, охватывала ее шею.
Грудь ее прикрывал меховой нагрудник, сшитый из пушистых шкурок и беличьих волосатых хвостов.
Покончив с прической она подошла к старшему сыну. Уа лежал, закутавшись в меха и отогревал озябшие руки и ноги.
— Вставай, Уа! — крикнула она. — Рыбы в реке! Птицы на яйцах!
Она шлепнула его ладонью по спине и громко засмеялась. Мальчик вскочил на ноги, и по всему дому раскатился его громкий голос:
— Рыбы в реке! Птицы на яйцах! Хо, хо!
С десяток голосов откликнулись ему со всех концов. И скоро целая куча ребят, наскоро натянув на себя меховое платье, стала собираться на охоту. На поляне к ним присоединились дети из домов других матерей. Здесь детвора разделилась на две партии. Девочки-подростки отправились на опушку леса собирать съедобные травы, рыть корешки и искать в гнездах птичья яйца. Несколько мальчиков, завзятых любителей отыскивать яйца, отправились вместе с ними. Другая ватага двинулась на берег реки. Это были самые старшие из подростков. Рыбная ловля требовала не только искусства, но и силы.
Рыбу добывали руками или рыболовным копьем. Острие такого копья делали из кости. Копьем можно было ловить только крупную рыбу, добыть которую было не так-то просто.
Старая Каху, Мать матерей Чернобурых Лисиц, сама вышла, чтобы проводить рыболовов.
К полудню вернулись девочки. Они принесли ворох корешков и съедобных лишайников. В особом мешке были сложены молоденькие птенцы, найденные в птичьих гнездах. Яиц принесли мало, да и те были насиженные. Время кладки уже проходило. Всех запасов пищи было собрано немало, но накормить все население поселка ими было невозможно.
Найденные яйца отнесли прежде всего Каху и другим старухам, которые жили вместе с ней в землянке Родового огня.
Птенцами накормили маленьких детей.
К вечеру вернулись рыболовы. Они притащили довольно много крупной рыбы. Но беда была в том, что старики Чернобурых вовсе не ели рыбы. Это был пережиток седой старины: предки племени не знали рыболовства. Только недавно Чернобурые переняли приемы рыбной ловли у жителей Нижнего поселка и научились печь ее на горячих углях.
Но и до сих пор старики, а особенно старухи не ели рыбьего мяса — оно внушало им отвращение. Только более молодые решались есть печеную рыбу, но и то лишь тогда, когда не было никакой другой пищи.
На широкой площадке был разведен костер. Около огня собралось все население поселка. Матери кидали рыбу прямо в чешуе на уголья, которые они выгребали палками из костра. Там она, шипя, запекалась, пока кожа ее не обугливалась от жара. Печеную рыбу раздавали желающим. Не давали ее только маленьким детям: они могут подавиться костями.
Обычай требовал всякую пищу предлагать сперва старшим. Лучшие куски рыбы матери отнесли в землянку Родового огня. Там жила сама Каху — Мать матерей поселка Чернобурых. Там жили старухи — хранительницы огня. Целыми днями сидели они вокруг костра, подкидывая туда еловые сучья. Старики по очереди ходили в лес за охапками валежника.
Когда женщины принесли рыбу, старухи отвернулись и сердито зашамкали беззубыми ртами. Некоторые плевались.
Фао, самый старый из дедов, сгорбленный, но высокий, поднялся во весь рост и свирепо замахал кулаками. Серые глаза грозно сверкнули из-под мохнатых бровей. Он вдруг рявкнул на всю землянку, словно большой медведь. Женщины с визгом выбрались наружу, и начали торопливо жевать отвергнутую пищу.
Художник Фао
На другой день солнце встало золотое и яркое. Его лучи разогнали холодную дымку тумана над оврагом и кочковатым болотом. Но в землянках матерей долго не открывались входные заслонки. Вчерашняя еда только ненадолго утолила голод. В жилье стоял полумрак. Людям не хотелось подниматься со своих теплых лож.
Потом начали плакать дети. Они были голодны. Матери сердились и шлепали малышей. Лучше всего было грудным: они были сыты материнским молоком.
Всех голоднее были старики и старухи. Они по очереди выползали наружу и долго вглядывались вдаль, прикрывая глаза костлявыми ладонями.
Сама Каху вышла на площадку и пристально глядела через овраг. Потом она вернулась к очагу и поманила рукой Фао.
Когда он присел возле нее на корточки, она тихонько прошептала ему на ухо несколько слов и показала рукой на землянку Уаммы.
В жилище Уаммы дети особенно раскричались. Вдруг кто-то сильно толкнул снаружи дверную заслонку, и она упала на пол. Через вход ворвались свет и холодный воздух. Дети замолкли. Все испуганно оглянулись.
В дверь просунулась белая голова, и вслед за ней в землянку на четвереньках прополз дед Фао. Он огляделся вокруг своими красными и слезящимися от едкого дыма глазами и подошел к шкуре, на которой сидела рыжая Уамма. Фао похлопал ее ладонью по плечу, молча ткнул пальцем назад, к выходу, и молча выполз обратно.
Уамма быстро набросила на себя меховое платье и вышла за ним следом.
В землянке Каху ярко горел огонь. Еловые сучья трещали и кидали вверх целые снопы искр. Это был не простой костер. Это был неугасимый огонь, покровитель всего племени, податель тепла и света, защитник от тайных врагов и «дурного глаза». Серый дым струей поднимался вверх и уходил через крышу в дымовую дыру. Она была открыта настежь. Дым клубился над стропилами потолка и висел над головами. Когда Уамма поднялась на ноги, едкая гарь начала щипать ее зеленоватые глаза. Она нагнулась и ползком приблизилась к очагу. Вокруг сидели старухи. Одни из них были очень толстые, другие — тонкие, костлявые и горбатые, все в морщинах и складках, с дряблой, обвислой кожей.
Мать матерей Каху сидела посередине, на краю разостланного меха бурого медведя. Она молча показала рукой на медвежью шкуру.
— Плясать будешь! Оленем! — сказала она.
Уамма засмеялась и сбросила с себя одежду. Она улеглась ничком на шкуру и положила голову на колени Каху.
Подошел Фао. В руках он держал меховую сумку, из которой вытряхнул какие-то разноцветные комочки. Здесь была желтая и красная охра, белые осколочки мела и черные куски пережженной коры. Все это были краски первобытного художника-колдуна.
Фао взял уголек и несколькими штрихами набросал на смуглой спине Уаммы фигуру важенки — самки северного оленя с вытянутыми в воздухе линиями ног. Готовый контур был подкрашен мелом и углем, и стало ясно, что художник изображает весеннюю окраску оленя, когда белая зимняя шерсть клочьями начинает выпадать и заменяется пятнами коротких и темных летних волос. В передней части тела важенки Фао нарисовал продолговатое кольцо, закрашенно внутри красным. Это было сердце оленя, полное горячей крови. Копыта покрыты желтой краской, рога — бурой.
По знаку Каху Уамма поднялась. Старухи отвели ее за костер, так что рисунок был отчетливо виден всем, кто сидел в землянке.
— Тала! — сказала Каху.
— Тала, тала! — повторили за ней хором все остальные. Этим словом обозначали жители поселка важенку — оленью самку. Теперь Уамма была не Уамма, она стала духом самки оленя.
В зверя ее превратили колдовское искусство Фао и заклинание Каху. Как маленькому ребенку, Уамме можно было внушить все. Она верила словам больше, чем глазам, и воображение, пылкая фантазия подчиняли ее себе целиком.
С той минуты, как Уамма услышала слова Каху: «Ты, тала! Ты самка оленя!» — она стала сама себя чувствовать оленьей важенкой. Она стала немой — ведь олени не говорят. Она больше не улыбалась — ведь олени не смеются. Она чувствовала, как на ногах у нее выросли твердые двойные копыта.
— Ложись! — сказала Каху. — Спи!
Уамма послушно улеглась ничком и зажмурилась. Два старика принесли оленью шкурку и накрыли ее, а впереди положили голову молодой важенки с шерстью и короткими рогами. Через полминуты Уамма уже спала и видела себя во сне оленем.
Каху назвала еще два имени: Балла и Огга.
Это были две другие матери, которые должны были плясать танец оленей.
Огга была маленькая и толстая женщина. Балла — стройная и худая. Огга была самая многодетная из матерей. Балла была молодая и веселая. У нее был один только грудной ребенок. Два года тому назад ее привел из рода Вурров охотник Калли, и она осталась жить с Чернобурыми.
Фао расписал обеих женщин. Они были раскрашены так же, как и Уамма, и так же укутаны в оленьи шкуры. Всем троим надели на шею по священному ожерелью из оленьих зубов, а на талию — тонкий ремешок, к которому сзади привязали по короткому оленьему хвосту.
Колдовская пляска
Главной заклинательницей племени была Каху. Три матери только исполняли ее волю.
По знаку Матери матерей четыре старика вынесли на лужайку горящие сучья. На них извивались золотые змеи — дети Родового огня. Старики подожгли с четырех концов большую кучу валежника, сложенного посреди поляны.
А кругом уже давно собралось все население поселка. Люди уселись двумя кругами. Внутри сидели дети, кругом — матери, девушки и подростки. Из землянки вышла сутулая Каху. Она опиралась на толстую клюку. Белые космы волос падали на плечи. Голова и руки тряслись. Крючковатый нос нависал над губами.
Старики постлали перед костром три мохнатые шкуры. Каху уселась на средней, опустила голову и тихо забормотала непонятные слова.
Толпа затаила дыхание.
Фао и другие старики вернулись в землянку. Скоро они вывели оттуда трех матерей, окутанных оленьими мехами. Головы их украшали пустые черепа с маленькими рогами молодых важенок. Фао подвел женщин к костру. Каху бросила в огонь связку сухого можжевельника. Пахучий дымок вместе с тучей блестящих искр взлетел в воздух.
Каху и вслед за ней все остальные хлопнули в ладоши. Протяжный мотив заклинательной песни тихо поплыл над завороженной толпой.
Три матери, взявшись за руки, ходили кругом костра. Через каждые три шага они сгибались, опускали руки до земли и срывали зеленые травинки. Так изображали они, как олени пасутся.
Когда плясуньи оборачивались спиной, зрители видели нарисованные там фигуры. И все знали, что перед ними талы — рогатые важенки оленя.
Но вот Каху перестала бормотать. Фао помог ей подняться. Мать матерей провела по воздуху пальцем: это она окружила себя волшебным кругом. Все вскочили на ноги. Старики и старухи, матери и девушки, подростки и маленькие дети сцепились в один хоровод.
Вне хоровода остались только три талы и сама Каху. Губы старухи продолжали шевелиться. В то же время она внимательно искала кого-то глазами. Из взрослых мужчин в хороводе участвовал только один. Это был Тупу-Тупу, искусник в обработке кремня и лучший мастеро-ружейник. Его копья были высшими образцами оружейного искусства. Но Тупу-Тупу был хромой. Искалеченная нога делала его негодным для охоты.
Вдруг Каху протянула свою клюку и дотронулась до проходившего мимо Уа. Он был самый рослый из подростков. Руки и ноги его были стройны, а стан гибок, как молодая березка. Глаза его сияли; на верхней губе слегка пробивался рыжий пушок.
Все остановились. Уа, густо краснея, вышел из круга. Каху подала ему палку с обугленным концом — волшебное копье в обряде заклинания зверей. Теперь началась самая важная часть колдовства.
Хоровод снова задвигался. Женщины и девушки пели. Напев их был однообразен, дик. Они пели про то, как всходило солнце из-за синего леса, как вышли на болото три белые важенки — талы — пощипать зеленой травы и сладкой морошки. Выходил тут из леса молодой Уа-охотник. В руках у него острое копье, во лбу меткий глаз, в сердце у молодца горячая кровь.
В это время Уа опустился на землю. Разрисованные матери ходили вокруг костра и рвали руками траву. А мальчик, сжимая в руке воображаемое копье, подползал к ним все ближе и ближе. Он изображал, как подкрадывается охотник, как высматривает добычу и рассчитывает свое нападение.
Вдруг он вскочил и с криком взмахнул обугленной палкой. Женщины, девушки и дети пронзительно завизжали, а татуированные матери бросились убегать. Лица их побелели от страха. Они бегали вокруг хоровода, сколько хватало сил.
Всего трудней было толстой Огге. Она задыхалась, ноги ее подгибались от усталости. Уа быстро настиг ее и ткнул обугленной палкой в спину. Новый пронзительный визг огласил воздух, и Огга, добежав до медвежьей шкуры, рухнула ничком в густую пушистую шерсть.
Фао подошел к ней со своими красками. Он провел угольком черную линию от красного кружочка кверху, а охрой — красную полоску вниз. Это означало, что копье охотника пронзило сердце и из него побежала красная струйка крови.
Одна самка оленя была убита, но игра продолжалась. Теперь Уа гонялся за Уаммой. Они были не сын и мать: это был страстный охотник, который гнался за испуганной добычей. Уамма бегала лучше Огги, но и она недолго спасалась от своего быстроногого преследователя. Он ударил ее и довольно больно. Фао снова подошел к упавшей на шкуру женщине и проделал над ней ту же церемонию, что и над Оггой.
Теперь настала очередь сразить молодую Баллу. Балла — высокая и стройная женщина. Когда она убегала от мальчика, ветер свистел в ее ушах, и сама она была похожа на резвую девочку-подростка. Уже три круга пробежали они вокруг хоровода, а расстояние между ними почти не уменьшалось.
Вдруг Балла споткнулась о кочку и шлепнулась в траву. Еще мгновение — и охотник был уже над ней. Уа, забывшись, так ткнул ее палкой, что у нее на правой лопатке появилась большая ссадина.
Когда Фао закончил разрисовку поверженной жертвы, у нее на спине можно было заметить две красные полоски. Одна из них была сделана рукой художника, а другая — настоящая кровь, вытекавшая из царапины.
Каху велела трем женщинам подняться. Они стали рядом: Уамма — посередине, Огга, с рогом в левой руке, — налево, Балла — направо. Балла держала рог в правой руке и с улыбкой посматривала на Уа, который так больно ее ударил. Но почему-то ей было смешно, и вовсе не хотелось сердиться.
Охотник стоял неподвижно с поднятым копьем, как будто прицеливался в добычу. А девушки и женщины пели про оленьих важенок, про то, как они вышли на болото пощипать зеленой травы и как вонзил им в сердце копье молодой Уа-охотник.
Загон оленей
Заклинательный танец кончился, но никто еще не расходился. Только Уамма, Балла и Огги побежали проведать своих малышей. Балла мчалась впереди, подскакивая по-детски на одной ноге.
Рыжая Уамма старалась не отставать, но ей это плохо удавалось. Она завистливо любовалась легким бегом Баллы. Сзади трусила Огга. Она тяжело переставляла короткие ноги, пыхтела и задыхалась.
Кашляя и прихрамывая, поплелась в землянку к Родовому огню старая Каху. Она с трудом опиралась на корявую клюку. Губы ее все еще шевелились, как будто она никак не могла кончить свое бормотанье.
И вдруг случилось то, что навсегда утвердило за ней славу великой заклинательницы. Из лесу выбежал высокий охотник.
Все обернулись. Дети закричали:
— Калли вернулся! Калли!
Калли показал копьем в сторону болота.
— Чикчоки! — кричал он. — Много оленей, как комаров! Много! Все радостно засуетились:
— Где чикчоки?
— На болоте! Охотники гонят. Помогать надо! В загон загнать! Олений загон был по ту сторону оврага. Там на кочковатом болоте были воткнуты два ряда высоких жердей. Между собой они соединялись также длинными жердями: привязанными пучками ивовых прутьев.
Это были две высокие изгороди. Через них не могли перепрыгнуть ни олень, ни дикая лошадь. Изгороди в сторону болота расходились широким раструбом. К береговому обрыву они суживались, как воронка. Здесь оставался проход шагов в семь шириной. Он вел на небольшую площадку — род террасы, сплетенной из древесных ветвей и замаскированной елями. Террасу снизу поддерживали тонкие жерди. Сооружение было очень шатко. Даже человеку ступить на него было очень опасно.
Все население поселка, кроме старух и больных, приняло участие в облаве. Матери, девушки, подростки и дети лет от семи и старше перебрались на другой берег оврага. Там залегли они длинной цепью, спрятавшись среди низких кустов ивняка. Несколько дозорных во главе с охотником Калли проползли вперед, чтобы лучше видеть все болото.
Ждать пришлось недолго. Скоро из-за низкорослой ивовой поросли показался живой кустарник. Он качался и двигался. Это были рога, одни рога — много десятков ветвистых рогов, еще обросших бурой шерстью, хрящеватых, полных горячей крови.
Но вот показались и сами олени. Словно стадо больших овец спускались они от леса к болоту. Впереди шли самки с оленятами, сзади — крупные самцы, с огромными рогами.
Животные шли и оглядывались. Они почуяли беду. О ней говорило их тончайшее чутье. По ветру они узнавали человека за много тысяч шагов. Но ветер относил запах поселка в другую сторону. Зато с тыла он нес им страшную весть: двуногие близко. Это пугало оленей, заставляло идти все вперед и вперед.
Стадо приближалось. Уже слышался глухой храп маток. Явственно можно было различить и хрустящее щелканье их широких копыт: то самое щелканье, которое составляет особенность северного оленя. Оно происходит оттого, что во время ходьбы при нажиме на землю двойные копыта их сильно раздвигаются. Это облегчает ходьбу по болоту, по топким местам. При подъеме копыт раздается хрустящий звук, от которого и пошло звукоподражательное название «чикчок».
Оленьи матки то и дело окликали своих сосунков, оглядывались на лес и мордой подталкивали их. Ведь останавливаться было нельзя. Надо было идти во что бы то ни стало, потому что сзади за ними крались неведомые, но страшные запахи. Последние ряды рогачей уже вышли из кустарников, и теперь стало видно все стадо.
В передних рядах их нарастала смутная тревога. Откуда-то с самой земли, с протоптанных между кочками тропинок, начинал врываться в их ноздри этот ненавистный и жуткий запах. Опасность была везде. Она надвигалась и от оврага, и от берега реки, и сзади, от опушки леса.
Олени остановились. Одни зорко смотрели кругом, другие поворачивали назад. Их голоса превратились в отрывистый рык, сливавшийся в глухой басистый гул. И вдруг сзади прорезал воздух громкий охотничий крик, и человек двадцать загонщиков выскочили из-за кустов. Стадо разом рванулось вперед и понеслось наискось к оврагу.
Волчья Ноздря галопом летел впереди всех. С ним рядом весело прыгал через кочки высокий и стройный Ао. Он пронзительно выкрикивал свое собственное имя:
— Ао! Ао!
Волчья Ноздря визжал и рявкал, как дикий зверь. Зрачки его горели.
В это время по знаку Тупу-Тупу женщины и дети выскочили из оврага и с визгом бросились наперерез. Матки шарахнулись в сторону, и все стадо стало вливаться в широкую воронку загона.
Охотники были уже близко и с криком замыкали кольцо облавы.
Олени помчались между двумя заборами. Путь становился теснее. Оленята и матки смыкались в густую кучу. Самцы, как сумасшедшие, напирали сзади. Свирепый рев мужчин, визг женщин и детей очень испугали оленей. В диком ужасе прыгали они друг на друга, давили маток и оленят. Передние ряды уже ринулись через узкий проход на плетеную площадку.
Площадка покачнулась и с треском рухнула вниз. Но стадо уже не могло остановиться. Задние продолжали напирать. Матки и оленята кучами валились с обрыва. На самом краю олени вскакивали на дыбы и пытались повернуть назад, но напиравшие сзади сбивали их вниз и сами валились за ними. Под обрывом лежали известковые глыбы. Олени падали на них, разбивались насмерть или калечили ноги. Самцы, остановленные давкой, вдруг повернули назад и в отчаянии ринулись обратно. Охотничьи копья не задержали их. Они опрокидывали людей, перепрыгивали через них и мчались дальше. Уцелевшие матки и оленята бросились за ними. В несколько мгновений загон опустел. Вырвавшись из него, рогачи летели по кустам и кочкам. Ушибленные и опрокинутые люди со стоном поднимались с земли.
Старый Фао охал, плевал и растирал ладонями синяки и ссадины от оленьих копыт. Тупу-Тупу скакал на одной ноге и грозил копьем убегавшему стаду. Большой олень ударил его по больной коленке, и теперь он почти не мог ступить на правую ногу.
Пир
Большая часть стада вырвалась из загона. Но и без того добыча была чрезмерна велика. Несколько задавленных и искалеченных оленят остались наверху, в узкой части загона. Калли и Волчья Ноздря приканчивали их. Добивали оленя палицей из мамонтовой кости и приговаривали ласковые слова:
— Милый! Да кто ж это тебя так ударил? Это не наши! Это чужие! Это люди из поселка Ежей!
Так поступали со всяким сильным зверем. Люди думали, что у каждого зверя, как и у человека, своя тень. Тень ходит с ним рядом. В ненастье и ночь тень уходит одна и бродит невидимкой. Она может являться во сне. После смерти тень остается и живет недалеко от мертвого тела. Если человек убит рукой врага, тень убитого преследует убийцу и может жестоко ему отомстить. То же делает тень медведя, кабана, оленя, хуммы и всякого большого зверя. Убивший прежде всего старался «заговорить» и задобрить тень своей жертвы. Лучше всего ее обмануть: уверить, что убийцей был кто-то другой, пришелец из дальней страны, охотник из враждебного племени.
К счастью тень довольно простовата. Видит она плохо, а может быть и вовсе слепая. Ведь глаз-то у нее нет.
Весь поселок торопился спуститься вниз, к месту кровавой бойни. Первыми примчались подростки. Следом явились охотники. За ними прибежали девушки. Молодые женщины пришли с маленькими детьми и грудными младенцами, запрятанными за пазухи меховых рубах. Позднее приплелись старики и старухи. Но никто и не думал приступать к пиру до прихода Матери матерей.
Каху осмотрела кровавое побоище и пристально стала вглядываться в заросли ивняка и ольшаника, которые были у самой воды.
Тени убитых оленей прячутся, конечно, в этой густой чаще. Каху стала шептать. Она подняла сухую травинку и бросила ее в воздух. Ветер подхватил ее и понес прямо на север. Каху стала лицом против ветра и опять зашептала заклинания. Надо было заговорить недобрые взгляды и отогнать злые слова. Ведь их приносит ветер.
Наконец Каху махнула рукой — знак, что можно приступать к еде.
Охотники оттащили более крупных оленей на ровное место. Олени были отданы многодетным матерям. К ним присоединились охотники — их мужья, холостые ловцы, дети, подростки и бездетные или имевшие только одного младенца женщины. Старики и старухи присаживались туда, где было меньше едоков.
Мужчины повернули туши оленей ногами вверх и начали вспарывать кожу зверей острыми осколками кремней. Они делали это быстро и ловко, как заправские мясники. Сдирая кожу, охотники продолжали бормотать свои причитания.
Тупу-Тупу вместе с огромным Калли выбрали хорошего оленя.
Охотники освежевали тушу и вынули внутренности — все, кроме сердца.
Острым кремнем Калли перерезал шейную артерию. Ярко-красная струя брызнула из толстой жилы и стала заливать опустевшую полость тела.
Первая проба должна принадлежать Матери матерей. Тупу-Тупу вынул из-за пазухи толстый кривой рог зубра и протянул его Каху.
Каху зачерпнула им из живота оленя и с наслаждением выпила до дна.
Потом она возвратила рог Тупу-Тупу и перешла к другому оленю. Ведь там также первые глотки будут отданы ей. Пили по очереди все.
В это время Уамма, жена Тупу-Тупу, заметила трех охотников из селения Красных Лисиц.
Они нерешительно стояли в стороне и голодными глазами поглядывали на пир едоков. Это Ао, Улла и Волчья Ноздря. Чужие охотники еще не успели присоединиться ни к кому из пирующих. Уамма поманила их рукой. Калли зачерпнул рогом остатки крови и попотчевал сначала одного, а потом и всех других. Ао успел быстро оглядеть всю группу.
Кроме взрослых, здесь были несколько малышей, высокий Уа и его старшая сестра — Канда.
Еще с прошлой весны Канда перешла жить в отдельную землянку, где жили другие девушки.
Канда была хороша.
Ао не мог оторвать от нее глаз, пока она не отвернулась, заслонив лицо руками.
— Пей! — крикнул ему Калли.
Он поднес Ао полный рог, и улыбка оскалила его крепкие зубы:
— С нами гонял — с нами пей! Будешь сильным, как олень. Ао засмеялся. Когда он кончил пить, ему опять захотелось взглянуть на красивую Канду. Но ее уже не было. Закутав голову меховой накидкой, она торопливо уходила прочь. Кто-то засмеялся, и Канда пустилась бежать.
Остальные со смехом продолжали пир.
Теперь победители принялись за мясо. Калли и Тупу-Тупу каменными ножами вырезали мякоть вместе с ребрами и раздавали участникам пира. Женщины получили по куску мяса, величиной с голову ребенка. Каждая из них захватывала его сперва зубами, потом острым кремнем отпиливала порцию перед самым носом. Так же делали подростки и дети. Некоторые поджаривали кусочки мяса на раскаленных в костре камнях.
Мужчины-охотники прежде всего набросились на кости с мозгом внутри. Раньше всего они сгрызли с них мясо, а потом крепкими ударами кремня разбили костяные трубки. Там внутри скрывалась нежная масса теплого жирного мозга.
Мозг для них был больше, чем простое лакомство. Победитель недаром поедает мозг. Люди думали, что тот кто съедает мозг, овладевает крепостью ног оленя, быстротой его бега, умением ходить по болотам, его неутомимостью, искусством издали узнавать врага и находить верную дорогу и днем и ночью.
Удивительно, сколько мог съесть человек каменного века в один присест! Он мог голодать по нескольку суток, но зато, когда мяса было вдоволь, он пожирал его целые горы.
Жители поселка Чернобурых и их гости из селения Красных Лисиц пировали до заката солнца. Они глотали сырое теплое мясо оленей, пока веки их не начали тяжелеть.
Пирующие разбредались по землянкам. Некоторые остались отдыхать на том же месте.
Приглашение на праздник
Еще в самый разгар пира к Ао и Улле подошла Каху. Каху была весела. Глаза ее улыбались. Несколько раз она пошевелила толстыми губами, как бы силясь что-то сказать и не находя слов. Вдруг она ткнула в грудь сперва Уллу, потом Ао, беззвучно засмеялась и пошла дальше. Потом вернулась и оскалила кривые передние зубы.
— Зови Красных Лисиц! — сказала она. — Еды много, зверям достанется — песцам и тому, кто любит мед. Зови своих. Вместе гоняли — вместе и есть будем!
Она опять осклабилась, смеясь замахнулась на Ао клюкой и заковыляла дальше.
Через минуту оба приятеля, захватив в дорогу по доброму куску мяса, пустились в путь. Пробираясь среди пирующих, им пришлось проходить мимо девушек. Когда Ао и Улла поравнялись с ними, девичий разговор сразу умолк. Девушки смотрели на молодых людей, подталкивали друг друга локтями и смеялись.
Одна только Канда не смеялась. Как только Ао встретился с ней глазами, она сейчас же повернулась к нему боком и прикрыла лицо ладонью, как при первой встрече.
Сделав несколько шагов, Ао оглянулся, чтобы еще раз взглянуть на Канду. Среди всех он видел только ее; он видел, как она приподняла ладонь и следила за ним глазами.
— Вот девушка! — сказал Ао, хватая Уллу за плечо.
Оба приятеля еще раз оглянулись. И только у самого поворота закинули они за спину мешки с мясом и весело зашагали по тропинке вдоль берега Большой реки. Легкие, как лани, длинноногие и сухие, они шли молодым упругим шагом. Таким шагом могли они двигаться с изумительной быстротой круглые сутки.
Солнце начинало склоняться к западу. Они завернули за мыс возле брода хуммов. Здесь они заметно убавили прыть и озабоченно вглядывались туда, где за кустами скрывалось страшное жилье.
И вот, когда они со страхом поглядывали вверх, тихий шорох за спиной заставил их вздрогнуть.
В чаще кустов стоял лохматый толстяк с накинутой на плечи рысьей шкурой. Это был сам Куолу.
— Ха! — сказал он. — Красные Лисицы!
Оба охотника со страхом попятились назад. Потом они вытащили из мешков по большому куску оленины и положили на кучу камней — обещанный дар.
— Вот! — прошептал Ао. — Сказали — принесем, вот и принесли. Это тебе!
— Где достали?
— С Чернобурыми загнали много оленей! Очень много.
— Ха, — засмеялся Куолу. — Скажи им, что это Куолу послал оленей!
Левый глаз его хитро прищурился, а правый смотрел гордо и как будто поверх собеседников.
Охотники тревожно глядели на могущественного колдуна. Вот человек! Кто может сделать то, что Куолу! Улла раскрыл даже рот от страха перед знахарем.
— Идите! — сказал Куолу. — Всегда надо дарить Куолу. Куолу возьмет мясо — Куолу пошлет охоту.
Охотники закинули за спину пустые мешки и бодро зашагали дальше.
Колдун долго смотрел им вслед прищуренным глазом. Когда они скрылись, он приложил ладони к губам и громко свистнул. Из землянки показалась женская голова. Куолу поманил ее рукой. Женщина вылезла наружу и стала торопливо спускаться, толстая маленькая женщина в меховой безрукавке, босая и простоволосая. На шее у нее бряцало костяное ожерелье, а подол короткого платья был обшит бахромой из беличьих хвостов и птичьих перьев.
Это была Иза.
Когда-то она была первой красавицей в поселке Вурров, теперь она постарела и обрюзгла. На ходу она качалась, как утка, но это не мешало ей преодолевать все трудные повороты и крутые спуски.
— Возьми! — скомандовал ей Куолу, указывая на мясо. Иза послушно взяла куски и засеменила назад к землянке.
Опять Куолу
Три дня продолжался пир победителей. После долгого поста люди с жадностью поедали мясо. Ели с утра и до вечера. На другой день начали прибывать люди из племени Красных Лисиц.
Первыми явились охотники и старшие мальчики-подростки. Девушки и дети пришли позднее. После всех доплелись матери с грудными ребятами под охраной стариков. Старухи и слабые старики остались дома и ждали, когда им принесут остатки еды.
За ночь трупы оленей остыли и холодного оленьего мяса уже никто не ел. На берегу горели костры. Женщины раскладывали на угольях нарезанные ломти или вертели над огнем большие куски, надетые на палки. К вечеру второго дня Чернобурые настолько были сыты, что ели уже лениво. Больше лежали около костров, черпали воду из реки берестяными черпалками и пили медленными глотками. Зато Красные Лисицы торопились наверстать упущенное.
Гонцы Ао и Улла не стали есть со своими. Они направились прямо к огню Уаммы и Баллы. Их встретили веселыми криками привета. Глаза Ао прежде всего искали Канду. Она сидела на этот раз не с матерью, а недалеко, вместе с другими девушками, возле тушки маленького олененка. Канда улыбнулась при виде молодых охотников. Глаза ее блестели, а на лице пылал яркий румянец.
От солнца с южной стороны побежала по реке золотая дорожка. Был полдень, когда из-за кустов вдруг появился рядом с крайним костром Уаммы волосатый человек. Он был в меховой безрукавке, меховых штанах, с сумкой и коротким копьем в руке.
Тупу-Тупу первым узнал его:
— Куолу!
Все заволновались. Что ему нужно?
Куолу боялись, его никто не любил. Да и за что было любить? Он был юсора — недобрый колдун. На что ни взглянет — все ему надо, что захочет — то и сделает! Захочет — пошлет удачу, захочет — огненную болезнь.
В долине Большой реки все колдовали. Колдовал каждый охотник. Каждый заклинал словами и танцами дичь, которой он хотел овладеть. Колдовала Мать матерей, заговаривала жизнь и благополучие своего поселка. Колдовала каждая мать для здоровья своих детей. Но их не называли юсорами. Своими заговорами они хотели вызвать благо для семьи или своего поселка. Матери бормотали заговоры у порога своих землянок, чтобы прогнать врагов видимых и невидимых. И это было хорошо. Без этого где искать спасения?
Другое дело — юсора. Он был отщепенец. Он жил вне общины. Его колдовство было корыстно. До общины ему не было дела. Он хотел одного: запугать, отуманить, навести страх, чтобы заставить себе служить. Даже если он жил в поселке, он был один против всех и сам по себе… Колдовские действия его устрашали темную мысль людей и подчиняли их волю. Детское их доверие помогало ему, и он цепко держал их в руках, чтобы жить дармоедом и питаться за чужой счет. Он пугал потому, что на страхе людей держалось его благополучие и могущество.
Поклонение кружило ему голову. Он привык брать все, что ему нравится. Отчего не брать, если дают? Куолу брал не только еду, но и украшения, одежду, оружие и разные вещи. Он подстерегал в лесу или возле реки женщин и девушек и уводил их силой в свою землянку. Кроме старой Изы, он держал у себя молодых жен и заставлял их работать. Он запугивал их кривляньями и угрозами напустить на них смерть, если они не будут его слушаться.
Все вскочили, когда Куолу подошел к Уамме. Жадно разглядывая распластанную на земле тушу, колдун молча стал у костра. Ни привета, ни ласковой улыбки. Людей, к которым он пришел, он считал недостойными своего внимания.
— Мяса! — бросил он свысока, сел на камень и чванно развалился. — Куолу послал оленей! — прибавил он, когда Уамма, надев на острую палку свежий кусок мяса, начала обжаривать его на углях.
Волнение быстро распространилось по лагерю. Люди перестали есть. Все робко смотрели на юсору. Те, кто его особенно боялся, отходили подальше. Иные знали, что колдун на них сердится, другие — просто из осторожности. Матери подзывали к себе ребят и старались заслонить их от опасных глаз Куолу. Некоторые из молодых матерей подхватили ползающих малышей и, прижимая их к себе, быстро удалились в свои землянки.
Сама Каху, сидя в отдалении, у костра стариков, очертила около себя охраняющий круг и зашептала колдовские слова. Куолу зорко оглядел лагерь и самодовольно усмехнулся:
— Боятся! Чего боятся? В гости пришел!..
Насмешливая гримаса скривила его губы. Он сидел как раз напротив Ао. Приземистый, с крепкими плечами, с длинными, цепкими, волосатыми руками, он в свое время был очень силен. Но заплывшая шея, толстые щеки, сиплое дыхание указывали на то, что обжорство и ленивая жизнь уже наложили на него неизгладимую печать. Бороду и усы он выщипывал, и только несколько седых щетин торчало у него на подбородке. Длинные кудрявые волосы на голове были еще черны, и, казалось, целая плотная копна спутанной шерсти шапкой надвигалась ему на лоб. Целых три ожерелья спускались на его грудь. Одно было сшито из белых песцовых хвостов, другое — из просверленных молодых шишечек ели, третье — из речных ракушек.
Вдруг он оглянулся и увидел сидевших недалеко молоденьких девушек. Безусый рот его осклабился в улыбке, а глаза заблестели из-под нависших бровей.
— Ха! — грубо засмеялся он.
Он сделал движение, как будто хотел встать. Но в это время Уамма подала ему на палке большой кусок обжаренного мяса. Куолу протянул руку и вцепился в мясо крепкими зубами. Жадность была сильнее всех остальных его чувств. Пока он чавкал, жуя горячую оленину, еще красную и сочную внутри, Уамма бросила тревожный взгляд на Канду. Покосившись выразительно на колдуна, она помахала рукой, делая знаки, чтобы та удалилась.
Девушки вскочили и потащили за собой смущенную Канду.
Колдун заметил это и нахмурил брови.
— Зачем махала? — с досадой сказал он. — Не надо было махать!..
Девушки боязливо оглядывались на ходу. Дойдя до устья оврага, они свернули в него и бегом пустились к землянкам поселка.
Куолу ел кусок за куском. Уамма едва поспевала поджаривать ему новые порции. С тех пор как скрылись девушки, он не обращал больше ни на кого внимания. Казалось, он весь ушел в еду. Вокруг него лагерь продолжал понемногу пустеть.
Люди один за другим поднимались со своих мест и исчезали. Некоторые заходили в кусты и прятались в их чаще. Другие скрывались за крупные известковые глыбы и потом, пригнувшись, ползком пробирались к оврагу.
Куолу, казалось не замечал этого, или делал вид, что не замечает. Вдруг он бросил недоеденный кусок на землю и поднялся с камня.
— Сыт! — сказал он.
Он снял висевший у него за плечами меховой мешок и протянул Уамме. Тупу-Тупу всунул в мешок окорок оленя. Куолу закинул мешок за спину, покряхтел и вдруг внимательно стал разглядывать Баллу. Молодая женщина смутилась и стала медленно пятиться к кустам. Колдун опять нахмурил брови.
— Подойди! — приказал он.
Балла ни жива ни мертва подошла ближе. Колдун указал рукой на ее перламутровое ожерелье. Бала послушно сняла его и протянула колдуну. Куолу брякнул ожерельем и надел себе на шею.
— Хорошо будет? — спросил он Баллу, громко засмеялся и зашагал по тропинке к своей землянке.
Люди провожали его тревожными взглядами, пока коренастая фигура его не скрылась за береговыми кустами.
Долго еще пирующие сидели молча и никак не могли прийти в себя. Всем было и тяжело и жутко. Наконец Каху подымила веткой можжевельника в ту сторону, куда ушел колдун.
— Ушел! — сказала она. — Ешьте и пейте! Теперь не вернется.
Все вздохнули с облегчением. Но прежнего веселья уже не было.
Вурр
К вечеру начал накрапывать дождь. Тучи бежали с северо-запада и несли с собой сырость и холод. Гости и хозяева поселка разбрелись ночевать по землянкам. Старики улеглись поближе к жаркому очагу. На четвертый день стали прятать остатки добычи в глубине оврага.
В этот год зима была вьюжная. Навалило столько сугробов, что в конце зимы весь овраг был засыпан почти доверху, и теперь там все еще лежали и таяли остатки снега.
Весь день мужчины снимали шкуры, потрошили оленей и на длинных жердях переносили приготовленные туши с отрубленными ногами в снег. Всех оленей перенести все-таки не смогли. Несколько туш осталось лежать на берегу. Когда солнце зашло, холодный туман, поднявшись от реки, покрыл берега и всю низкую пойму. Впрочем, и днем было так холодно, что мясо было совершенно свежее.
Как только ушли люди, сейчас же из-за кустов начали появляться песцы. В летних шкурках они не были пушисты и потому казались гораздо меньше, чем зимой. Они были похожи на маленьких тонконогих собачек.
Осмотревшись подозрительно кругом, песцы принялись за еду. Целый оленей они не трогали, но с удовольствием подбирали недоеденные куски, грызли разбитые камнем кости.
Утром поселок проснулся, когда яркие лучи солнца разогнали тяжелый полог тумана. Гости и хозяева один за другим выползали из душных землянок и отсырелых за ночь шалашей.
Начинался новый день, сытный и праздный. Люди собирались закончить пир веселыми играми молодежи. Мальчики-подростки разбрелись по кустам на другой стороне оврага. Все были сыты и счастливы. Вдруг раздался пронзительный крик: целая стайка детей стремглав бежала к поселку и неистово кричала. В становище поднялась суматоха. Женщины выскакивали наружу. В первую минуту никто ничего не мог понять. Все кричали и визжали как безумные. Мужчины брались за оружие и тревожно оглядывались по сторонам. Но большинство не знали, в чем дело. Наконец все разъяснилось.
Прибежавшие мальчики на все лады выкрикивали одно слово:
— Вурр! Вурр! Вурр!
Они оглядывались и тыкали пальцами в кусты, где в это время из-за зарослей ивняка показалось мохнатое чудовище. Это был большой медведь, тяжелый и неуклюжий житель лесов и гор ледникового времени. Он шел потихоньку, с перевальцем, покачивая головой. Как только он поравнялся с землянками, людской крик сделался еще оглушительнее. Кричали все. Кричали женщины и старухи; кричали старики и дети; громовыми голосами орали мужчины. Они махали палками и камнями, зажатыми в кулаки. Круглые булыжники и плоские осколки кремней тучами летели через овраг и шлепались в землю вокруг насторожившегося зверя.
Медведь повернул голову и глухо охнул. Он терпеть не мог людского крика. Не нравился ему и запах поселка: горькая гарь костров, едкий людской дух. К тому же он был сыт. Там на берегу, распугав песцов, он наелся до отвала потрохов оленей да еще закопал себе впрок в кустах два оленьих трупа. Глядя на поселок и на мечущихся людей, он досадливо мотал головой, как будто отбиваясь от рассерженных пчел.
В это время из толпы выскочил Волчья Ноздря, самый сильный охотник поселка Красных Лисиц. С диким криком он стал спускаться в овраг. Прыгая на своих коротких и кривых ногах, он сам рявкал, как дикий зверь. Космы его волос поднимались дыбом, и от этого он казался еще страшнее. За Волчьей Ноздрей двинулись остальные. Женщины и дети в поселке завизжали еще сильнее.
Медведь оглянулся на людей. В это самое время выбежал Ао с горящей веткой сосны. Он подбежал к краю обрыва, с силой перекинул на ту сторону окутанный дымом сук и вихрем помчался догонять товарищей.
Когда первый ряд атакующих, с Волчьей Ноздрей во главе, взобрался на противоположный берег оврага, все увидели, что медведь был уже далеко. Со страху он мчался огромными прыжками, вскидывая толстый зад и перескакивая через кусты и болотные кочки.
Игры победителей
Охотники с хохотом возвращались домой. Они почти не могли ничего толком сказать. Волчья Ноздря только гоготал и взвизгивал. Он потрясал своей страшной бородой и разевал зубастую пасть. Выразительно взмахивая руками и оглядываясь назад, другие мужчины протягивали руки в ту сторону, куда убежал медведь. Все кричали, не слушая друг друга. Торжествуя победу они рассказывали о том, как смешно скакал страшный зверь через кусты, как он улепетывал от огненной палки Ао.
Художник Фао не утерпел и принял участие в атаке. Возвращаясь домой, он шел рядом с Уа. Заливаясь смехом и повторяя слово в слово все, что говорил Фао, Уа добавил:
— Эах — трус! Эах побежал как заяц.
Он хотел сказать еще что-то, как вдруг Фао зажал ему левой рукой рот, а правой больно ударил по плечу.
— Молчи! Нельзя! — хрипел он, сжимая ему челюсть. — Нельзя называть. Услышит — придет ночью! В лес унесет!..
Все кругом разом перестали смеяться и сердито глядели на Уа. Некоторые трусливо оглядывались назад. Другие торопились описать вокруг себя черту острием копья. Третьи замахивались на Уа и даже толкали его кулаками в спину. Уа был обескуражен. Он понял, что поступил непозволительно неосторожно.
Сколько раз мать говорила ему: «Не называй громко того, кто любит мед. Назовешь — повстречается где-нибудь, унесет в свою берлогу!..»
И сама она, если доводилось говорить про какого-то сильного зверя, всегда шептала про него в самое ухо, да еще прикрывалась ладонью:
— Чтобы ветер не подхватил. Ветер подхватит, отнесет слова далеко. Залетят в лес, а там их услышит тот, кого назвали. Узнает хозяин, придет, скажет: «Кто меня звал?»
Так говорила мать, и сам Уа сколько раз учил тому же младших. А тут… Что сделалось с его головой? Как он мог позабыть?
Настоящее имя медведя было «эах». Но вслух говорили вместо этого «вурр». Это было лишь звукоподражание. Так эах ворчит, когда, забравшись в берлогу, лижет свою лапу. Звали медведя также «лохматым», или «кто любит мед», или «кто сосет лапу». Про волка говорили: «кто воет зимой»; про гигантского оленя — «кто бесится осенью». Слово «хумма» также означало громкое дыхание мамонта и было ненастоящим его именем. Чем сильнее зверь, тем страшнее его накликать. Матери с раннего детства внушали это своим ребятам шлепками и угрозами. Это было основное правило охотничьей мудрости.
Впрочем, если вовремя спохватиться, дело еще можно поправить. И Фао сейчас же постарался это сделать. Он наклонился и что-то шепнул Уа на ухо. Уа кивнул головой.
— Это не Уа тебя звал, — сказал он, обернувшись лицом к лесу. — Звал тебя мальчик из племени Окуней.
— Вот, — сказал Фао. — Пускай себе пойдет к Окуням. Пускай поищет!
Все засмеялись. Через минуту охотники уже вылезли из оврага и вступили в поселок. Здесь было шумно и весело. Женщины с радостью встречали своих защитников. Дети прыгали и суетились. Девушки визжали. Канда то кружилась, то бегала вокруг землянки и на бегу всплескивала смуглыми руками.
Жители поселка веселились. Никто не мог устоять на месте. Ноги приплясывали сами собой. Руки тянулись к рукам, и вот без уговору составился огромный хоровод, и людской круг завертелся на лужайке.
Крики и хохот перешли в веселую песню про глупого вурра.
В хоровод втолкнули Волчью Ноздрю. На него со смехом накинули медвежью шкуру. Теперь он должен был изображать самого «страшного эаха». Ноздря сейчас же вошел в свою звериную роль. «Медведь» с ревом бросался на девушек и женщин, а те с визгом разбегались во все стороны, прятались за кусты и за летние шалаши. Актер вскоре перестал быть актером. Он в самом деле чувствовал себя медведем. Да и все окружающие признали это.
Дети плакали от страха и прятались в землянки. Молодые матери прижимали к себе малышей и боязливо смотрели из-за кустов на то, что происходило на лужайке.
В это время, подпрыгивая на одной ноге, приковылял к хороводу Тупу-Тупу. Он махал выхваченным из огня можжевельником. Волосы на его голове были связаны таким же пучком, как у охотника Ао.
Тупу-Тупу зашел со стороны ветра, чтобы искры и пахучий дым летели на «зверя». Оглушительный хохот раздался на поляне, когда Волчья Ноздря стал на четвереньки и уморительно побежал от него по-медвежьи к опушке леса.
Так начался день весенних игр. Сначала играли в медведя, в охоту на разных зверей и птиц. Потом два охотника — Суому и Хоху — с деревянными рогами на голове плясали буйную пляску дерущихся зубров. Они бодались, толкались и ревели друг на друга, подражая реву диких быков.
Под конец стали играть в ловлю оленей. Мужчины были охотниками, женщины — дичью. Игра состояла в том, чтобы от лесной опушки загнать «оленей» в «загон», то есть в промежуток между двумя землянками. «Олени» старались убежать как можно дальше в лес; «охотники» бегали вслед за ними и гнали их к условленному месту.
В лесу уже темнело, когда отряд молодежи, в котором находились Ао и Улла, выследил между кустами кучку спрятавшихся девушек и женщин. Охотники стали заходить с тыла, чтобы отрезать свою «дичь» от леса. Женщины заметили их и с визгом бросились в разные стороны. Ао больше других увлекался игрою. Он быстро обогнул поляну, чтобы забраться поглубже в чащу леса и перехватить путь убегающим «оленям». Он знал, что сюда побежала Канда.
Вдруг он заметил темную фигуру коренастого охотника, который прятался за кустом и, пригнувшись, следил за тем, что делается на луговине.
В это время две девушки, держась за руки, выбежали на середину поляны и, перешептываясь между собою, со смехом подбежали к кусту. В ту же минуту из-за него выскочил коренастый охотник и, прежде чем они успели повернуться, схватил одну из девушек и вскинул ее себе на плечо. Девушка громко завизжала и стала вырываться из его цепких рук.
— Уамма! Уамма! — кричала она, и неподдельный ужас слышался в ее крике. — Люди, спасите! Тут чужие! Спасите Канду! Уамма! Уамма!
Охотник повернулся и быстро побежал со своей ношей, но не к поселку, а в глубину леса.
Ао понял, что это не игра, а настоящее похищение.
Кровь бросилась ему в голову. В бешенстве ринулся он наперерез похитителю, и, прежде чем тот успел сообразить, Ао сунул ему под ноги свое копье. Толстяк споткнулся и тяжело рухнул на землю.
Освобожденная Канда вихрем помчалась к поселку, а ее похититель со звериным ревом вскочил на ноги и бросился бежать.
Ао настиг его и ударил копьем в правое плечо. Толстяк завыл раненым волком.
— О-о! Ой! — вопил он. — Куолу убивают! Куолу!
Куолу! Откуда он взялся?
Тут только Ао сообразил, на кого напал он в сумраке леса. На самого колдуна!
Но вместо страха у него на уме было только одно бешеное желание еще и еще раз ударить обидчика Канды. Да и как можно бояться врага, кто бы он ни был, если он трусливо убегает с поля битвы!
Все же, услышав имя «Куолу», молодой охотник задержался на месте, и Куолу успел юркнуть в кусты. С заячьей прытью промчался он к береговому обрыву, который оказался здесь очень близко. Недолго думая, он кубарем скатился по крутому склону, поднимая целое облако пыли и песка.
Ао остановился на краю и сверху погрозил копьем беглецу, который каким-то чудом ухитрился не свернуть себе шею и не переломать ребра.
— Выдра! — крикнул Ао ему вслед самое презрительное слово, какое он знал.
Что снилось Ао
В эту ночь Ао долго не мог уснуть. Ему казалось, что горячий уголь из костра влетел ему в грудь. Там что-то загорелось и жжет его огнем. В ушах все еще раздавался отчаянный крик Канды:
— Уамма! Уамма!
Кровь кипела в нем, когда он вспоминал Куолу, его звериный вой, погоню за Куолу и свою неожиданную с ним схватку. Узнал ли его колдун в вечернем сумраке леса?
В его мозгу вспыхивали и гасли искры. Слов у него не было.
Поздно забылся он тяжелой беспокойной дремотой. В землянке было душно и тесно.
Вместе с Чернобурыми спали двадцать гостей — охотников Красных Лисиц. Лежали все вповалку на оленьих шкурах.
Под утро ему приснилась Канда.
Он видел, будто она сидит в овраге, около ручья. Сидит так беспечно, не знает, что вот сейчас придет Куолу и унесет ее.
Ао должен ее спасти. Вот он уже спускается в овраг. Он торопится, бежит, он уже близко. Ао хочет приблизиться к Канде, но в этот момент огромный лохматый медведь выскакивает из-за кустов и становится между ними.
Медведь смотрит на него зловеще, становится на дыбы и идет к нему навстречу. Глаза у него хитрые и злые, как у Куолу.
Ао хочет бежать и не может. Ноги будто связаны. А чудовище все ближе и ближе…
Ао крикнул и проснулся. Весь он обливался потом, а сердце его стучало, как у птицы, зажатой в кулак.
Куолу! Это был Куолу!
Ао сделал усилие и сел на меховой подстилке. Дышать было трудно.
Кто-то ночью закрыл для тепла отдушину, и от этого в землянке еще больше сгустился запах: чад очага и едкий дух сырых кож, содранных с убитых оленей.
Ао на коленях подполз к выходной дыре, отодвинул заслонку и вылез наружу. Здесь ночные страхи разлетелись словно клочья дыма от ветра.
— А, старая выдра! — шептал он. — Это ты приходил? Погоди!
Солнце еще не всходило, но было где-то близко, за белым пологом тумана. Оттуда уже сияли его лучи и золотили светлые края облаков. Ао вздохнул полной грудью.
Крепкая молодая радость била в нем веселым ключом. Жажда томила его. Пить жители поселка ходили на дно оврага. Ао сбежал вниз и стал черпать горстью студеную воду.
Лесные свадьбы
С утра девушки начали готовиться к играм. Из мешков и сумок они вытаскивали лучшие наряды и украшения: летние безрукавки, расшитые разноцветными мехами, красивые ожерелья из раковинок и молоденьких хвойных шишек, бахрому из хвостов маленьких зверьков и птичьих перьев.
Те, кому очень хотелось казаться покрасивее, привешивали к ушам костяные подвески. Другие румянили щеки оранжевой охрой или проводили красные полоски на лбу и на плечах.
Цакку нацепила на подбородок блестящий перламутровый кружок, вырезанный из раковины речной двустворки. Уже давно для этой цели в нижней губе ее были сделаны две дырки. А чтобы они не зарастали, в них был продернут шнурочек, свитый из крепких волокон подорожника. В первое время губа болела, нарывала и гноилась. Было так больно, что Цакку потихоньку плакала. Но зато, когда рана зажила, она с гордостью поглядывала на своих подруг, у которых не хватило смелости сделать себе то же самое. Ее круглое лицо сияло, когда она вышла из игры с драгоценным перламутром на подбородке. Она считала себя теперь первой красавицей поселка.
Меньше всего украшений было на Канде и на Балле.
Игры происходили на лесной поляне, недалеко от поселка. После игр Канда привела за руку своего жениха Ао к шалашу, который каждая девушка начинала строить, как только становилась невестой. Вслед за Кандой стали возвращаться и другие пары. Молодожены сейчас же принялись поправлять и расширять свои весенние гнезда. Почти все девушки нашли себе мужей из рода Красных Лисиц или из других поселков. Только тихонькой Ши не хватило жениха.
Ши пришла из лесу поздно и с заплаканными глазами. Зато перламутровый кружочек Цакку оправдал себя в полной мере. Волчья Ноздря — лучший охотник Красных Лисиц — был так ослеплен блеском и игрой перламутра, что покорно позволил привести себя в ее шалаш.
Привели новых мужей и молодые вдовы, мужья которых погибли или пропали без вести. Красивая Баллу вернулась из лесу рука об руку с молодым Уллой.
Испытание Уа
В землянке пылал огонь. Было жарко и пахло дымом костра.
Около очага сидели старики и старшие охотники. Перед ними стоял голый Уа и быстро вращал ладонями заостренную палку. Нижний конец ее был вставлен в дыру, выдолбленную в сухой деревяшке. Палка вертелась, как веретено. От трения обложенный сухим трутом конец ее обуглился и начал чадить. Пахучий дымок серым червячком поднимался из дырки. Старшие серьезно и деловито следили за руками Уа. Пот градом катился по его лицу. Мокрая спина блестела от горячей испарины.
Дым понемногу усиливался.
Уа припал ничком к своей деревянной «зажигалке» и начал раздувать показавшуюся искру. Он прикрыл ее сухой травой и продолжал дуть в нее изо всех сил. Лицо его раскраснелось, а щеки надулись, как пузыри.
Наконец, родился огонь, трава загорелась, и юноша стал подбрасывать тонкие ветки сухого можжевельника. Огонь лизнул их. Через несколько мгновений пламя уже весело запрыгало и стало пожирать более толстые сучья.
— Хорошо! — сказали старики.
Тупу-Тупу сидел в стороне на куче оленьих шкур и смеялся.
Он еще с утра привел к старикам сына Уаммы и пригнул его голову так, что тот низко склонился перед очагом. Это означало, что Тупу-Тупу просит принять сына Уаммы в разряд охотников.
Старик Фао похлопал Уа по спине, взял его за руку и повел к выходу. Все вышли за ними. На лужайке позади землянок уже дожидались семь старших охотников с оружием в руках.
Чтобы стать охотником, недостаточно отрастить волоски на верхней губе. Нужно выдержать испытания. Нужно доказать, что можешь быть мужчиной.
Испытания начались. Уа должен был показать, как быстро он бегает, как высоко прыгает, как ловко взбирается на деревья.
Потом начались испытания с копьем. Как далеко полетит копье из рук Уа? Как метко попадет оно в цель? С какой силой пробьет сухую оленью шкуру?
В те времена люди еще не знали лука и стрел. А в эпоху, когда жили наши герои, высшим достиженьем было уменье метко кидать копье. Это было трудное искусство. Но сын Уаммы недаром целый год упражнялся. Перед стариками и старшими он показал такую силу и ловкость, что ему мог позавидовать и взрослый охотник.
Но и одного уменья владеть оружием все еще было мало. Нужно было знать, как поправить сломавшееся копье, как вставить обратно выпавшее каменное острие и прочно закрепить его в верхнем расщепе древка.
Всем этим искусством Уа уже владел в совершенстве, и судьи остались довольны.
Калли пришел, когда все собрались в охотничьем доме, чтобы перейти к последним испытаниям: Уа должен был показать свою выносливость и терпение.
Юношу заставили долго держать на вытянутой руке тяжелый камень. Калли ударил его гибким прутом по голой спине. Его щипали, ему крутили пальцами кожу на животе. Калли приказал ему лечь ничком и приложил к телу раскаленный на углях кремень. Уа должен был не охнув дожидаться, пока он не остынет. Уа и здесь показал себя молодцом. Сильное желание стать мужчиной помогло ему стойко перенести все муки.
Это было последнее испытание, и Калли, храбрейший охотник поселка, с улыбкой отдал ему свое тяжелое боевое копье. Трудное испытание было выдержано.
Старики вместе с Тупу-Тупу пришли в землянку матери Уа — Уаммы. Они перенесли в землянку охотников вещи Уа: его постель и одежду, его мешки и оружие, которое он сам себе сделал.
Уамма неожиданно для себя всплакнула. Она все еще считала сына маленьким. И вдруг он уже охотник! Остальные женщины тоже прослезились. Младшие братья и товарищи глядели на Уа с восторгом и завистью.
Вечером опять на лужайке кружился хоровод в честь молодоженов и молодого охотника Уа. Только ночь разогнала всех.
Когда поселок затих, огромный и тяжелый Калли вышел из охотничьей землянки. Он осмотрелся кругом и медленно зашагал вдоль оврага. На самом краю обрыва сидела одинокая Ши. Весь вечер она провела одна, не принимая участия в танцах. И теперь еще глаза ее щипало от слез. Она глядела, пригорюнившись, вдаль, не замечая, как густеют сумерки и наступает ночь.
Калли издали заметил ее, неслышно подошел и уселся рядом.
Обоим не хотелось говорить. Они даже не смотрели друг на друга. Вдруг Калли накрыл широкой ладонью маленькую руку Ши. Девушка улыбнулась и ее печальные глазки повеселели. В этом жесте она ощутила ласку, и ей было приятно почувствовать теплоту его руки. Так сидели они до поздней ночи.
Месть Куолу
Куолу едва живой дотащился до своей землянки. Рана была неглубока, но колдун потерял много крови. Он провалялся целый день. Иза прикладывала к больному месту листья. Рана перестала кровоточить.
Землянка Куолу была похожа на землянки других жителей Большой реки. В береговой круче он выкопал неправильной формы округлую продолговатую яму, сверху прикрыл ее конусообразной связкой жердей. Промежутки между жердями были закрыты большими кусками белой бересты, а снаружи укутаны пучками стеблей сухой осоки, тростника, камышей и рогоза. В крыше он проделал дымовую дыру. Другая, пошире, со стороны реки, служила дверью.
Стены внутри были обвешаны мехами зверей, пучками растений и рогами оленей. Несколько лошадиных черепов украшали угол, в котором ютился Куолу.
Куолу лежал молчаливый и злой. Все жены не знали, как ему угодить. Колдун капризничал: то лежал с закрытыми глазами, то требовал воды, а когда ее приносили, опрокидывал посуду.
Через день он услышал голоса возвращавшихся домой Красных Лисиц и послал к ним жен за обычной данью.
— За проход! А Чернобурым сказать: Куолу будет здоров. Узнают скоро! Пусть ждут злого ветра от моих угроз!
Так стала всем известна страшная угроза: Куолу хочет мстить!
Через десять дней сам Куолу сказал об этом трем охотникам Чернобурых. Он встретил их возле реки, недалеко от поселка. К этому времени рана его затянулась. Колдун снова стал выходить.
Куолу потребовал, чтобы в его землянку привели Канду. Он хочет взять ее в жены. А если не послушают, всем Чернобурым будет плохо.
У Чернобурых началась паника. Колдун! Юсора! В его власти пустить по ветру всякую беду. Захочет сделать зло — где спасенье?
Женщины приходили уговаривать Канду — пусть идет к колдуну. Они не хотят из-за нее терпеть несчастье. Канда плакала. Ао с копьем в руке стоял перед шалашом и грозил каждому, кто подойдет. Через день пришло известие: колдун требует в жены не только Канду, но и Баллу.
Ни та, ни другая и слышать не хотели об этом. Но женщины ворчали и сердито поглядывали на красавиц. Матери пошли разговаривать с Каху. Мать матерей взяла из костра горящую ветку и обошла с ней вокруг землянок. Это немного успокоило взволнованные умы. Но скоро страхи возобновились.
В поселке начали хворать люди, особенно дети. Каждое лето дети болели. В этом не было ничего удивительного. Но в этом году болезнь была удивительно злой. Тяжело заболел и умер один из стариков. С каждым днем становилось все теплее и теплее. Тучи мух и мошек вились над поселком. Отбросы были тем местом, где они плодились. Мух становилось все больше и больше, они носились повсюду, быстро распространяя заразу.
В один из пасмурных дней Ао, Волчья Ноздря, Уа, Калли и Улла вернулись с удачной охоты. Они принесли молодого олененка, разрезанного на куски. Но, к их удивлению, никто их не встретил. В охотничьей землянке нашли они товарищей. Остальные охотники тоже вернулись с хорошей добычей.
И старики и дети были сыты, но не было ни у кого обычного в этих случаях веселья.
Все женщины собрались в землянке Уаммы. На полу, посреди жилья сидели с каменными лицами Огга, Уамма и другие женщины. Перед ними была вырыта продолговатая неглубокая ямка. Свежая земля, откинутая в сторону, лежала рыхлым валом.
У стены сидели другие матери и молча глядели на два меховых свертка на дне могилки.
В это утро умерли мальчик и девочка — сын Уаммы и дочь Огги.
Трупики положили рядом и начали засыпать землей. Могилка была так мелка, что детские тела покрылись только тонким слоем земли.
Вместе с ними закопали берестяную чашку с орехами, заботливо положили рядом круглый камень — разбивать скорлупу. Поставили деревянную миску с водой. Когда тени умерших захотят пить, они смогут это сделать, не выходя из могилы.
Прежде чем положить детей в могилу, Уамма сняла ожерелье и надела его на шею своему Лаллу.
Три старухи сидели над могилкой. Это были Мать матерей Каху и еще две.
Каху сидела, скрючившись, на земле, и старческие губы ее шевелились. Она бормотала невнятные слова. Одна из старух держала пучок можжевеловых веток. Время от времени она протягивала одну из них к очагу. Ветка вспыхивала и старуха передавала запылавшую хвою Каху. Та махала веточкой над могилкой, и ароматный запах горящего можжевельника распространялся по землянке. Когда ветка сгорала, Каху кивала, и та же старуха зажигала новую ветку, а другая высыпала из мешочка горсть серых угольков. Каху кидала их на могилку и пришлепывал ладонью к земле. Крючковатый нос ее почти упирался в подбородок, седые космы спадали по плечам.
Потом Каху обошла вокруг землянки и окурила ее можжевельником.
Вдруг раздался тоненький голосок Уззы, восьмилетней дочки толстой Огги.
— А зачем их зарыли? — она показала пальцем на свежую могилку.
— Им там будет лучше, — сказала Огга. — Они будут жить под землей.
— Под землей темно, — сказала Узза.
— Они пойдут туда, где живут тени, — прошамкала старуха, которая зажигала можжевельник.
— А зачем? — приставала Узза.
— Как зачем? Они умерли, а теням куда же деваться? Вот ты спишь, а тень твоя ходит. Так и они. Они спят в могилке, а тени будут жить. Нехорошо, когда тень мертвого по земле ходит.
— А отчего им у нас не жить? — продолжала неугомонная Узза. — Мы бы с ними играли. Или в лес пошли бы за ягодами.
— Глупая! Если тень будет по земле ходить, люди будут пугаться. Заболеть даже можно, если встретишь. Пусть себе ходят под землей. Там есть такие же леса, и речки, и травка. Там им будет хорошо.
Дети окружили старуху и стали спрашивать, что такое тени.
— Тень — такой же человек, только вроде дыма. Сейчас, в полдень, маленький, а вечером станет большой. Когда человек ляжет спать, куда же тень девается? Вот ты сон видишь? А это тень твоя летает и все видит. А когда человек умрет, его надо проводить под землю. Там ему будет хорошо. Там в речке он рыбку будет ловить, в лесу ягоды собирать. Все как здесь, так и там. Только надо о тени позаботиться, а то она рассердится и сделает что-нибудь вредное.
Каху вернулась еще раз к могилке и пошептала над ней. Это она уговаривала тени лежать смирно, не выходить из-под земли и не пугать живых.
Ни Каху, ни Огга, ни Уамма не понимали, что такое смерть. Они не знали, что она — неизбежный и естественный конец всего живого.
Если человек погибает в бою или на охоте, это еще можно понять. Это победитель отнял силу у побежденного или зверь оказался сильнее и одолел охотника.
Но если кто умирает, лежа в своей землянке, — это загадка, и над ней надо хорошенько подумать. Тут дело не обошлось без злого врага. Кто-то отнял жизнь не силой, а колдовством, наговором. Кто-нибудь напустил сперва болезнь, а потом и смерть. Кто-нибудь посмотрел злым глазом, от которого уходит здоровье. Зло можно «напустить» издали. Можно наслать болезнь по ветру. Нужно только знать такие слова. Можно сделать это из мести. Но не всякий может это сделать, а только кто умеет.
Кто же виноват в смерти детей Огги и Уаммы? Кто сумел погубить столько Чернобурых?
Конечно, Куолу! Он ведь грозил отомстить и отомстил.
А все эти Красные! Не хотят уступить колдуну, вот он и злится.
Когда Улла вместе с Ао и Волчьей Ноздрей вошли в землянку охотников, они сразу почувствовали что-то неладное. Никто не позвал их сесть у огня. Никто не спросил об охоте. Их встретили враждебными взглядами. Никто не сказал ни одного слова привета. Их считали виновниками гнева Куолу и его страшной мести.
В мастерской Тупу-Тупу
Вечером, когда в поселке все сидели по шалашам и землянкам, в летний шалаш Канды просунулась рыжая голова. Это был Уа.
Ао лежал около костра и раздувал тлеющие угольки. Уа молча сел у входной дыры. Канда вопросительно поглядела на брата. Вид у него был встревоженный.
— Что скажешь? — спросила Канда.
— Что скажу? В поселке все боятся Куолу. Вот умерли Лаллу и Го. Ведь это его дело. Матери толкуют: всему виной Красные Лисицы. Не хотят отдать своих жен. А из-за них Куолу мстит целому поселку. Старый Фао говорит: надо убить Красных! А Калли и Тупу-Тупу спорят. Говорят: не надо. Тупу-Тупу жалеет Канду. Не хочет, чтобы она шла к Куолу.
Канда со страхом слушала брата. Ао положил ладонь на голову жены:
— Не бойся! Ао не отдаст Канду.
В это время во входной дыре показалась чья-то темная фигура. Канда с криком бросилась прочь. Вдруг все засмеялись:
— Улла!
Улла пришел сказать, что Тупу-Тупу велел звать Ао и Канду к себе.
Тупу-Тупу редко ночевал в землянке охотников. Большей частью он проводил время в своей каменной мастерской. Тут же стоял его шалаш, в котором на мягкой подстилке отдыхал он от дневных трудов. Мастерская помещалась около реки, у самого устья оврага. Нужно было спуститься по узкой тропинке и миновать кусты ивняка. Еще издали до ушей охотников стали доноситься глухие удары камня. — Тупу-Тупу работает! На площадке под крутым обрывом приютился шалаш. Тупу-Тупу сидел на гладком камне и бил камнем о кремень. У края площадки под навесом сидели на земле люди: Волчья Ноздря, его молоденькая жена Цакку с перламутром на подбородке и красивая Балла. Все молча смотрели на Тупу-Тупу. Вновь прибывшие, не говоря ни слова, уселись на землю и стали ждать.
Тупу-Тупу продолжал работать. Он ни на кого не обращал внимания. Он заканчивал свой кремневый нож. Сейчас делал самую тонкую часть работы, наводил последнюю отделку.
Около камня, на котором он сидел, лежало несколько больших кремневых желваков. Такие желваки добывали из глубины известняков, в которых они заполняли пустые места, размытые водой.
Тысячелетия проходили, пока в таких пустотах из просачивающейся сверху воды выделялся кремневый осадок.
Тупу-Тупу брал принесенный желвак и тяжелый ударный камень. На большом камне наковальни он разбивал желвак ударным камнем. Требовалось большое искусство, чтобы отбить от желвака куски, которые были пригодны для выделки орудий. Отбив резким ударом кусок, Тупу-Тупу внимательно разглядывал его со всех сторон и, если он был хорош, пускал в дело.
Но это было только начало. Над таким куском еще долго нужно было трудиться. Тупу-Тупу отделывал его постепенно и очень осторожно. Не торопясь придавал кремню ту форму, которая была нужна. Короткими, отрывистыми ударами отбивал он от куска крошку за крошкой, пока кремень не становился по его воле то наконечником копья, то острым ножом.
Такую отделку называют ретушью.
Пещерный человек раннего палеолита еще не умел ретушировать. Его орудия были грубы. Он кончал свою работу там, где мастер поздней эпохи только начинал обработку орудия.
Мастерская каменных орудий не была собственностью Тупу-Тупу. Каждый мог прийти туда и работать сколько захочет. Камни принадлежали всем. Каждый заботился о том, чтобы в мастерской были большие камни. В известняках часто находили большие круглые желваки, иногда с голову ребенка. Снаружи они были покрыты белой коркой. Каждый умел сделать себе наконечник копья, скребок для очистки шкуры или каменный нож.
Но Тупу-Тупу работал не так, как другие. Он был мастером своего дела. Он любил работу, как художник. Ему нравилось волшебное искусство превращать грубый кусок кремня в изящное отточенное острие.
Он испытывал детскую радость, когда от крепкого удара кремень выбрасывал из-под его пальцев голубоватую искру. Глаза его вспыхивали и сверкали. Словно огонь, выбитый из камня, перескакивал в его глаза, а оттуда в сердце. И никому не удавалось так точно отбить осколок от круглого желвака. Никто так ловко не умел, надавив со всей силой, отломить от крупного куска тот край, который был ему нужен.
Последняя отделка была самой трудной и рискованной частью работы. Одним неловким ударом можно было испортить все: расколоть, изломать, свести на нет полученное долгим трудом произведение искусства.
Тысячи лет первобытные люди улучшали обработку камня. Тысячи лет росли трудовые навыки этих «кузнецов» каменного века.
Совершенствуя свои кремневые орудия, человек улучшал самого себя. Точнее становились движения, острее — глаз, внимательнее делался взгляд, упорнее — характер. Упорная работа над камнем изменяла самого работника. Труд делал его сильнее и сообразительнее и все более отдалял от угрюмого образа жителя древних пещер, каким был его отдаленный предок.
Тупу-Тупу хмурился. Капли пота стекали со лба, глаза пристально следили за работой. Язык по временам высовывался наружу. Наконец он встал и бросил ударный камень.
Работа была окончена: в руках его блестело лезвие великолепного кремневого ножа.
На чем порешили в мастерской Тупу-Тупу
Тупу-Тупу заговорил:
— Красным нужно бежать! — Он свистнул и показал рукой на север. — Убьют, а жен отведут к Куолу. Сегодня заболела еще одна старуха. Еще больше стали бояться. Сердятся на Красных.
За Красных Лисиц заступаются только Уа, да он — Тупу-Тупу. Калли молчит.
Говорили тихо, чтобы голосов их не унес ветер. Ао спросил:
— Что же делать?
— Бежать!
— Куда?
Тупу-Тупу показал рукой на север.
Из поселка Чернобурых было только два длинных пути: на север и на юг, вдоль берегов Большой реки. На запад шла полоса густого леса. По ней уйти далеко было трудно. Густые заросли и поваленные деревья загромождали дорогу. За лесом начиналась сухая степь. Там бегали стада сайгаков и табуны лошадей. Там было мало воды.
На востоке за рекой начинались заливные луга. В них еще не просохли болота. Там тучи мух, комаров, слепней. Дальше земля поднималась и болота сменялись лесами, а за ними опять начиналась степь.
Идти на юг, в селение Красных Лисиц?
Это значит проходить мимо Куолу. Куолу зорок. Он далеко видит кругом. Он их погубит всех до одного. Пройти незаметно до своего поселка нет надежды. Куолу сердится на Красных Лисиц. Он будет им мстить, как теперь мстит Чернобурым.
Нет, дорога только одна. Туда, откуда течет река. Куолу не скоро догадается. Пройдут пять и еще пять дней, и тогда злой глаз Куолу их не достанет.
И Тупу-Тупу поведал им удивительную тайну. Он слышал ее еще от самой Унги, прежней Матери матерей Чернобурых. Она говорила:
«Боишься колдовского глаза — иди к Великому льду. Дойдешь до Великого льда — никто не найдет. На Великом льду съешь сердце хуммы. Ничей глаз зла не сделает. Сам будешь как хумма».
Ао и Улла вскочили и стали громко смеяться: — Туда! Туда! К Великому льду!
На этом порешили твердо. Волчья Ноздря поднял кверху копье. Он тоже пойдет. Он не хочет здесь один оставаться — его убьют Чернобурые, они сердиты теперь на всех Красных. Канда, Цакку и Балла пойдут с ними. Они не хотят идти в жены к Куолу. Лучше Великий лед!
Тупу-Тупу снабдил каждого лучшим оружием. Охотники взяли по копью и по ножу, Ноздря — тяжелую палицу с крепкой рукояткой.
Когда стемнело, жены охотников потихоньку пробрались к своим шалашам. Назад вернулись нагруженные всяким добром. Надели зимнее платье, взяли провизию и необходимые каменные и костяные орудия мужей. Конечно, каждая захватила с собой особый женский мешочек с костяными амулетами и бусами, подвесками, красками для губ, для ногтей, для щек, красивыми раковинами, костяными иглами и моточками тонких сухожилий. Балла, кроме всего прочего, нацепила за спину мешок, из которого выглядывала круглая головка маленького Курру. Он привык спать в таком положении. Как только закачалась на спине матери его меховая люлька, глазки его закрылись. Он мирно стал посапывать носиком и крепко уснул.
Балла захватила также деревянное огниво, острый кинжал, выточенный из мамонтовой кости, с рукояткой в виде оленя. Ао взял мешок с фигуркой Матери матерей Красных Лисиц. Под ее защитой он чувствовал себя смелее. С ней он спокойнее думал о дальней дороге.
В полночь явился Уа. Он принес свое копье и сумку с вещами.
— Зачем принес? — спросил Тупу-Тупу.
— Уа пойдет с ними.
Юноша показал на Ао и Канду. Уа пойдет к Великому льду. Он хочет отведать сердце хуммы. Он не хочет больше бояться Куолу.
А вот и последние новости. Старуха Тхи умирает. Ее корчит и гнет. Совсем посинела. Последние силы уходят…
Старики и старухи смотрят, как волки. Они говорят:
— Умрет Тхи, убить надо Красных! Пусть жены их идут просить Куолу. Пусть берет их, только бы не сердился.
В охотничьей землянке решили утром взять силой Канду и Баллу, а мужей их убить. Тогда они послушаются.
Уа не останется с теми, кто хочет убить Ао и Уллу. Он не хочет отдавать Канду колдуну, он уйдет вместе с ними, и пусть только Куолу попробует показаться — он узнает, умеет ли Уа кидать копье.
Беглецы потихоньку спустились к берегу. Тупу-Тупу проводил их до реки. Он велел им войти в воду. Вода ведь не держит следов. Никто и не узнает, в какую сторону они пошли.
Тупу-Тупу долго смотрел, как семь беглецов осторожно шагали по реке. Потемки скрыли их. Оружейник долго прислушивался к всплескам воды и потихоньку побрел в свой одинокий шалаш.
Тот, кто убивает носом
Первые дни беглецы торопились. Женщины поминутно оглядывались: не следят ли, не догоняют ли?
Женщинам было трудно. Они не привыкли много ходить. Они искусницы шить платья, делать разную домашнюю утварь, а не шагать по лесам и болотам. Кроме того, им приходилось тащить мешки с домашним скарбом. Особенно тяжело было Балле. Вдобавок к другим тяжестям, она несла еще мешок с ребенком.
Возле поселка Лесных Ежей беглецы переправились на другой берег. Ежи недавно поссорились с Чернобурыми, и с ними лучше не встречаться. Реку перешли вброд, в кустах ивняка дождались ночи и только тогда двинулись дальше. Тучи комаров терзали и мучили их. Развести огонь, чтобы дымом отогнать мучителей, нечего было и думать. Шли всю ночь и все утро, и только к полудню, выбившись из сил, бросились на прибрежный песок и уснули.
Питались беглецы неплохо. Охотники каждый день убивали какую-нибудь дичь. По старицам ловили утят и гусят, подстерегали у водопоев оленей.
Уа, вчерашний мальчик, оказался отличным охотником. Каждое утро четверо мужчин расходились по двое в разные стороны. Ао охотился вместе с Уллой; Волчья Ноздря любил брать себе в товарищи Уа. Эта пара не возвращалась к костру с пустыми руками.
На третьи сутки Ноздря показал рукой на север: там туры переходили вброд на лесную сторону. Беглецы переправились вслед за ними.
На правом берегу было суше и комаров меньше. В безлюдном краю звери и птицы мало боялись человека. К вечеру удалось отбить от стада теленка, и Ноздря заколол его. В другой раз на одной маленькой речке нашли большую колонию бобров. Уа метнул с берега копье в старого бобра и пробил насквозь его хвост, похожий на толстую лопату. Копье помешало бобру спрятаться в нору. Уа вытащил его, и бобер больно укусил ему палец. Уа прикончил его ударом камня и с торжеством притащил добычу на стоянку.
В тот же вечер беглецы были испуганы неожиданной встречей.
Женщины вместе с Уллой спустились к реке. Надо было набрать воды в очищенные оленьи желудки.
Вдруг Улла со страхом стал пятиться от кустов лозняка. Оттуда пристально смотрело на него темное мохнатое чудовище. Это был длинношерстный носорог. В те времена эти звери еще бродили по равнинам Европы. Носороги были неприхотливы в еде. От холода их защищала густая шуба из длинных темных волос.
Носорог только что напился. С нижней губы его стекали капли воды. Он стоял спокойно. Но вот глаза его забегали: он не любил встречаться с двуногими. Носорог топнул ногой, наклонил голову и выставил вперед длинный изогнутый рог. Улла побелел как смерть. В два прыжка он очутился у обрыва и стал карабкаться вверх по береговой круче. Женщины с визгом бросились за ним.
Носорог остался внизу и внимательно следил за ними маленькими злыми глазами. Решено было, не откладывая, уходить от опасного соседа. Охотники с женами наскоро собрали пожитки и двинулись дальше. Но не успели они пройти и тысячу шагов, как Улла вскрикнул и схватил Ао за руку. С ужасом глядел он назад: там снова, словно из-под земли, вырос огромный зверь. Носорог шел по их следам и нюхал землю. Зверь явно следил за вереницей людей, пробиравшихся по берегу. Что ему было нужно?
Носорог не хищное животное, но у него капризный и вспыльчивый нрав. Он легко раздражается и приходит в ярость. Когда самки ходят с детенышами, самец особенно вспыльчив и готов броситься на каждого, кто окажется близко.
С оборотнем надо покончить
Тут произошло то, что трудно было предвидеть. Улла вспомнил о Куолу, и его воображению представилась страшная картина: их преследует не носорог, а колдун в образе этого зверя. Улла неистово закричал: «Куолу! Куолу!» — и без памяти бросился в сторону. Он, как безумный, мчался прямо к береговому обрыву. Ужас до того овладел им, что он, казалось, совсем потерял голову. Но всего хуже было то, что носорог, не обращая внимания на остальных, пустился за ним в погоню.
Улла добежал до берегового обрыва и быстро вскарабкался по кривой, наклонившейся над кручей березе. С ловкостью обезьяны добрался он до первых раскидистых сучьев дерева и судорожно уцепился за ветви.
Носорог подбежал вплотную, потоптался на месте, ударил рогом по стволу и отошел в сторону. Тут он фыркнул, пошлепал длинной верхней губой и шумно зевнул. Он ждал, но Улла забрался еще выше. Наконец, зверю надоело ждать, и он медленно удалился. Слышно было, как он ломал кусты и топтал лесной валежник. Когда шум его шагов затих, все понемногу начали вылезать из-за кустов.
Улла по прежнему сидел на березе. Зубы у него стучали, как в лихорадке.
— Это Куолу! — шептал он побелевшими губами.
Как это они раньше не догадались? Вспомнились рассказы отцов. Сколько раз оборачивался он носорогом, медведем, зубром! Вот и теперь…
До встречи с носорогом беглецы начали было успокаиваться. Стали думать: можно, пожалуй, остановиться на постоянное житье. Лето коротко. Незаметно подойдет осень с холодом и дождями, а за ней снежная зима с морозами и метелями.
Не пора ли копать прочные землянки? Не пора ли устраиваться на зимовку?
Оборотень-носорог разрушил все эти планы. Беглецы холодели от страха на каждой стоянке. Они боязливо оглядывались на чащу леса. Куолу в образе носорога преследовал их.
Куолу напал на их следы!
Бежать и бежать! Бежать как можно дальше! Путать свои следы. Делать все, чтобы сбить с толку страшного преследователя. Но этого мало. Колдун оборачивается зверем, пускает в ход свою колдовскую силу — значит, нужно прежде всего ее разрушить.
С утра беглецы приступили к этому важному делу. Ао осколком кремня снял с березы большой кусок бересты. На ней он стал выводить фигуры волосатого носорога, зубра и медведя. Улла слепил из глины высокую колонну возле ручья и на верхушку ее поставил белую фигурку Ло, Матери матерей Красных Лисиц. Пока Ао дорисовывал своих зверей, Волчья Ноздря потихоньку нашептывал в уши статуэтке просьбу защитить их от колдуна.
Но вот рисунок готов. Ао показал его всем. Это были верно схваченные контуры носорога, медведя и зубра. Немного подумав, художник сделал к нему добавление. Это было изображение нескольких копий, вонзенных в тело животного. Потом он прибавил еще два наконечника и большой треугольник. И копья, и треугольник были совершенно понятны зрителям.
Копьем художник поражал не только нарисованных животных — он наносил удар живому врагу — оборотню Куоле. Треугольник — это дом, кровля землянки. Это был колдовской приказ оборотню вернуться домой. Копье должно было приковать его к жилищу. Это на случай, если самый удар не уничтожит противника насмерть. Останется жив — пусть сидит дома!
Ао положил бересту к ногам Матери матерей. Ведь это она должна была своим могуществом придать волшебную силу рисункам.
Все семеро окружили фигурку Матери матерей. Ао рассказал ей все обстоятельства дела. Потом все стали просить ее о помощи. Они еще раз повторили нараспев все сказанное художником. Трижды обошли они вокруг Матери матерей. Заклинание кончилось. Можно идти дальше.
Тундра и криволесье
Сколько суток прошло после заклинания? Беглецы не считали. Но никогда б они не зашли так далеко, если бы не эта встреча со страшным зверем. Страх уменьшился, но не прошел. Особенную власть имел он над сердцем Уллы. Всякий след тяжелой ступни носорога, медведь, замеченный издали, неясные голоса ночи заставляли его вздрагивать. Напуганное воображение рисовало ему страшные картины… Широко раскрытыми глазами старался он пронзить темноту. Каждую минуту ждал, не высунется ли из леса голова оборотня.
Ночью он со страхом прислушивался к звукам, рождающимся в лесной чаще, к таинственным шумам и незнакомым голосам — ночной жизни птиц и зверей.
Но дни проходили за днями. Река, вдоль которой они двигались, становилась все уже.
Каждый шаг путников приближал их к истокам и к тому холодному царству ледника, из-под которого выбегали мутные воды тающего льда и снега.
С каждым днем становилось все холоднее. Лесные деревья на высоком, правом берегу становились все ниже и корявее. Приземистые кривые елки и лиственницы с изуродованными верхушками имели чахлый и нездоровый вид. Стволы их были обвешаны длинными прядями светло-зеленых, а кое-где совсем черных лишайников. Ветки их росли только с южной стороны; казалось, они прячутся за толщу ствола от ледяного дыхания северного ветра. Да, это мертвящее дыхание ледника сказывалось на каждом шагу.
Растущие на кочках пурпурные цветы кустистых каменоломок все были собраны тесной кучкой на южном склоне кочек, и по ним легко можно было угадать, где север, где юг, даже в те дни, когда тяжелые серые тучи закрывали днем солнце, а ночью звезды.
Все чаще и чаще среди леса стали попадаться торфяные болота. Они были или вовсе безлесны, или на них росли кое-где тощие, болезненные и редкие погибающие деревца. На более сухих местах земля была покрыта ползучими стеблями карликовых березок. Часто этих стеблей не было видно, потому что они были прикрыты густым мхом, из которого наружу выставлялись только пучки тонких веточек, густо усаженных листьями. Листья были очень маленькие, не больше ногтя мизинца. Но, также как и у настоящей южной березы, края их были зубчатыми. Если растереть пальцами такой листочек, можно было почувствовать такой же терпкий березовый запах.
Наконец деревья стали попадаться только по берегам рек. Часто встречались то осоковые болота, то моховики. На кочках росли кустики морошки. На одном и том же кусте можно было видеть и белые цветы, и красные незрелые ягоды, и нежные спелые плоды желтого цвета, питательные и приятные на вкус. Беглецы наедались ими до отвала. Даже маленький Курру явно начал выказывать предпочтение ягодам и все реже требовал молока.
Скоро река сделалась совсем узкой. Берега понизились. В оврагах лежали скопившиеся на дне сугробы. Постоянно попадались большие и маленькие озера. Особенно много их было на низком болотистом берегу.
На озерах почти везде виднелись стайки уток, гусей, казарок. Огромные северные гагары ныряли то там, то здесь или, вдруг поднимаясь с воды, быстро неслись по гладкой поверхности, с шумом били по ней сильными короткими крыльями и с трудом отрывались от нее.
Люди с удивлением смотрели на эту безлесную равнину. По тундре бродили стада оленей.
Олени недаром уходили летом на север — здесь их не так тревожили мошки и комары. Здесь вволю наедались они листьями и ягодами кустарников. Между кочками светлыми пятнами белел олений мох.
Охотники каждый день возвращались к стоянке с богатой добычей. Они подкрадывались к зверям ползком, подкарауливали их в кустах у водопоя и уходили порой довольно далеко от Большой реки.
Впрочем, она уже давно перестала казаться им большой. Женщинам приходилось тащить тяжелые свертки мехов, число которых увеличивалось с каждым переходом. Зато ночью меха спасали их от стужи и холодных туманов. Костры разводили сухими сучьями кустарников.
Один раз они попали в крупнобугристую торфяную тундру. Кочки-бугры величиной с высокий шалаш были раскиданы по всей равнине. Сверху кочки были покрыты сухими лишайниками и белыми цветами морошки. Пробираться между ними было тяжело. Наконец охотники еще издали заприметили голубое озеро и поспешили к нему, чтобы скорее выйти из бесплодных и мертвых бугров.
После долгой и утомительной ходьбы они очутились во влажной низине озера, окаймленного широким кольцом зеленых кустов ивняка, и здесь присели отдохнуть. Вдруг Улла толкнул Волчью Ноздрю и показал пальцем в сторону. В отдалении они заметили другие «бугры», которые на их глазах шевелились, переходили с места на место.
— Хуммы! — шепнул Ао.
Действительно, это были мамонты. Они медленно пробирались по течению узенькой речки, густо заросшей корявыми кустами. Речка была узка, и воды издали не было видно. Только полоска береговых ивняков обозначала ее извивы. Хуммы ломали хоботами ветки и отправляли их в свои ненасытные рты. Широкие уши шевелились и топорщились. Детеныши то спускались в воду, то вылезали на берег.
— Этот они! Они! — шептал Улла, вглядываясь в стадо. Ему казалось, что он узнает колоссального старого самца, которого он преследовал с горящими хвойными ветвями.
Волчья Ноздря восторженно смотрел на мохнатых великанов. В нем вспыхнула страсть прирожденного охотника.
Хуммы — ведь это не простая добыча. Это добыча из добыч! Один хумма в ловушке — и сыт целый поселок! И не один день, а много, много и еще много. Месяц родится, станет толстым, похудеет и умрет. Вот сколько дней будут сыты люди поселка. Хумма — это гора мяса. Его горб — гора жира. Его шерсть — гора волос. Охотники сплетут из шерсти крепкие веревки, силки для птиц, привязи для ловушек на горностаев. Бивни хуммы — костяные бревна. Из них Тупу-Тупу делает кинжалы, ножи, иглы, а искусник Фао — чудесные украшения, застежки на одежды, изображения Матери матерей.
Мало ли что может сделать из них искусный резчик! А сердце? Кто съест сердце хуммы, сам станет как хумма. Никакой зверь не одолеет его. И колдун Куолу будет бессилен делать зло. Недобрый глаз потеряет силу. Дурной ветер не принесет вреда. Охотником из охотников станет тот, кто победит хумму. О нем будут петь песни люди Большой реки. А ребра? Ребра пропитаны жиром. Они горят, как дрова.
Беглецы жадно глядели на мамонтов. Уа дрожал от нетерпения. Ноздря облизывался. Ао и Улла крепко сжимали копья.
Стадо медленно приближалось к озеру. Впереди шли слонихи, за ними детеныши, сзади самцы. Охотники наскоро оглядели окрестность и быстро перетащили пожитки на ближайший холмик. Там, под защитой торфяного бугра, они и стали устраиваться. Ао и Улла спустились к зарослям ивняка наломать побольше сухих веток. Балла расстелила оленью шкуру и стала кормить малыша. Канда и Цакку отправились к ручью за водой. Волчья Ноздря и Уа исчезли надолго. Они пошли проследить, что делают мамонты.
Вернулись они, когда от озера поползла белая полоска тумана.
Трещина
С тех пор как беглецы наткнулись на мамонтов, женщинам стало еще тяжелей. Охотники ни за что не хотели потерять из виду горбатых зверей.
Если утром стада не было видно, Волчья Ноздря отыскивал свежий след, и все четверо мужчин пускались вдогонку.
Хуммы не делали больших переходов. Днем они паслись по ивнякам и по травяной пойме возле воды, на ночь поднимались в высокую травяную тундру. Они, как и люди, не любили туманов.
В низине лежал лед. Он копился здесь веками. Каждую зиму метели наваливали сверху свежие сугробы, каждое лето солнце старалось растопить их, но это никогда ему вполне не удавалось. Это и был край Великого льда.
В долину Большой реки заходил его южный выступ. Дальше к северу он сливался с обширным сплошным ледниковым покровом, который тянулся отсюда непрерывной толщей до самого Ледникового моря. Чем ближе к океану, тем более мощной становилась ледяная толща. Над финскими и скандинавскими горами ледник лежал глыбой больше километра толщиной и медленно сползал ледяными потоками к югу и юго-востоку. В самом конце южного выступа из ледяного грота выбивались мутные потоки воды. Здесь было рождение Большой реки. К ее сырым и грязным берегам приходило стадо хуммов напиться.
На ночь беглецы разводили костер и жарили на нем куски оленины, выкопанных из нор жирных пеструшек или бросали на уголья костра зубастых щук. На каждой стоянке они втыкали свои копья в землю вместо жердей, которые тут было трудно найти. На них натягивались оленьи шкуры, получался меховой навес, защищавший ночью от холода и туманов.
Ао просыпался с рассветом. Он первый вылезал из шалаша, любил постоять и прислушаться к утренним голосам. Тундра была полна жизни. В ивняке распевали варакушки. Полярные жаворонки, подорожники и желтые трясогузки подавали свои нежные голоса.
У берегов речушек, озерков и непросыхающих луж суетились бесчисленные кулички, кричали красноглазые морские сороки, реяли чайки и вилохвостые крачки. Хищным полетом стремительно проносились темные поморники, квакали в кустах белые куропатки, на воде крякали утки, гоготали гуси, трубили лебеди и отчаянно звонкими и печальными голосами стонали северные гагары.
Летом дождей почти не было. Небо большей частью было ясно. Только порою со льда наползали туманы, и тогда тело охватывала пронизывающая сырость.
Лето перешло уже на вторую половину. Ночи становились длиннее и холоднее. Последние дни женщины стали часто плакать. Они ничего не говорили, но мужчины догадывались, в чем дело. Женщинам хотелось теплого жилья. Они устали ходить с места на место. Нужно было бы сделать землянку, но здесь не было подходящего места. Топлива тоже было мало. А на зимнее время нужно много, много огня. Охотники сами понимали, что пора уходить, но все медлили. Кто же их удерживал? Хуммы!
Каждый день мужчины шагали по следам мохнатых чудовищ. Они изучали их тропы и стоянки.
Один раз Уа, запыхавшись, прибежал к костру. Он хлопнул Ноздрю по спине и таинственно показал ему в сторону льда. Охотники сейчас же исчезли вместе с ним. Они не вернулись в этот день на стоянку.
Женщинам пришлось ночевать одним. Ночью северный ветер нагнал снежную тучу. Снег падал хлопьями и завалил кусты и кочки. Было страшно. То и дело, приподняв край полога, женщины вглядывались в темноту ночи. Но никого и ничего в ночном сумраке нельзя было видеть.
Мужчины не пришли и на второй день.
Что с ними случилось? Наконец женщины не выдержали и отправились на поиски.
Везде бежала вода. Снег начал таять. Яркие лучи солнца и нестерпимый блеск снегового поля слепили глаза. У края ледника лежали груды песка и камней. Между ними текла вода. Идти было трудно. И куда идти? Цакку заплакала. Она делала это всегда, во всех трудных случаях жизни. Канда взобралась на холмик, чтобы оглядеть окрестность. Кругом были видны темные вершины холмов. Среди них белели отроги ледника. Ниже шумели бегущие потоки мутной воды. Вдали синели холмы, подернутые влажной дымкой.
Это были времена, когда царство льда дрогнуло и начало медленно отступать к северу. Тающий лед оставлял на месте глину, песок и камни. Длинные гряды их громоздились здесь и там. Песчаные холмы тянулись правильными вереницами. Они обозначали старые границы льда, когда оледенение было еще более мощным.
Между холмами сверкали синие зеркала стоячей воды. Мелкие болотистые речки струились по низинкам, пробираясь к верховьям Большой реки.
С верхушки холма Канда видела десятки озер. В чистой их глубине отражалось голубое небо. Дальше, за холмами, озер уже не было видно, но по белым пятнам тумана можно было догадаться, где была вода. Полярные совы неподвижно сидели на верхушках холмов. Белые перья их сверкали на солнце, как круглые снежные комья.
Вдруг на склоне ледника показались фигуры людей. Канда радостно замахала руками. Это были Улла и Ао. Они также увидели ее и стали бегом спускаться.
— Хумму поймали!
Это были первые слова, которые услышали женщины. Все пошли на место охоты. Здесь толща ледника была пронизана глубокими трещинами. Они доходили до самой земли. Тут пролегала хорошо протоптанная тропа хуммов. Мамонты не раз переходили ледник, перебираясь с одной стороны долины на другую.
Уа заметил, что даже узких трещин хуммы не переступали. Верный инстинкт подсказывал тяжелым животным грозящую им опасность. Погибали неосторожные. Оставались в живых те, которые боялись.
Присмотревшись, как ходят мамонты, охотники решили перехитрить толстокожих. В том месте, где тропа приближалась к трещине, начались коварные приготовления. Люди натаскали низкорослых елочек, и устроили из них легкий мостик шириной около десяти шагов. Промежутки между стволами плотно закрыли нарубленными сучьями ивняка, а сверху накидали снегу. Потом крепкими рукоятками копий охотники пробили длинную глубокую канавку впереди мостика. Канавка должна была изображать свежую трещину, которая появилась тут поперек слоновьей тропы.
Копать было тяжело и на это ушел весь день. К ночи все было готово. Теперь нужно было только ждать.
Короткую ночь охотники провели на льду, тесно прижавшись друг к другу. Утром устроили засаду. Вот наконец показалось стадо хуммов. Впереди, покачивая хоботом, шел старый вожак с огромными бивнями. Он грузно ступал по ледяной тропинке; остальные гуськом тянулись следом. Охотники ясно слышали тяжелую поступь великанов.
Вдруг вожак остановился. Он дошел до канавки. Уши его шевельнулись. Хобот поднялся вверх. Раздался отрывистый звук.
Тревога! Этой трещины не было! К нему подошла старая самка со слоненком. Подошли и другие старые и молодые хуммы. Все они нерешительно трогали край канавки хоботами и шевелили ушами. В это время один из слонят взобрался на покрытый снегом помост. Тонкие елки затрещали, и слоненок рухнул вниз вместе с кучей жердей, веток, комьями снега. Старые хуммы шарахнулись в сторону. Слонихи завизжали, подзывая детенышей. Тревога прошла по стаду. Скорее уйти от непонятной беды!
Только одна слониха осталась у трещины. Она звала, но никто не откликался. Слоненок упал вниз головой и застрял на самом дне. Падение оглушило его. Мохнатая слониха напрасно звала… Когда стадо отошло, она перестала визжать и пустилась догонять остальных.
Сердце хуммы
Лагерь был перенесен к самому краю ледника. Охотники выбили ступени во льду, чтобы удобнее было слезать на дно трещины. Вытащить зверя наверх было невозможно.
Первое дело, которое сделали беглецы, было исполнение таинств Матери матерей. Ао долго работал каменным ножом. Он разрезал кожу и мясо на груди у слоненка. Разрубил два ребра, отогнул их руками и вырвал волшебное сердце. С восторгом прижал он его к себе и выхватил из него зубами кусок мяса. Он первый отведал сердце хуммы и теперь ему не страшны никакие колдуны! Ао смеялся и готов был кричать от радости. Тяжело дыша, он вылез по скользким ступеням наверх и бережно положил к ногам охотников свою ношу.
— Ешьте! — кричал он. — Ешьте! Будьте как хуммы! Сердце было разделено между всеми охотниками. Уа отрезал от своей части кусочек и сунул его в рот Курру:
— Пусть вырастет силачом, пусть не боится ни Куолу, ни кого другого!
Балла ласково на него поглядела. В это время Канда подбежала к мужу и выхватила у него один из кусочков мамонтового сердца.
Прежде чем Ао успел опомниться, она сунула кусок в рот и быстро его проглотила. Все смотрели на нее с изумлением. Сердце считалось долей мужчины, а женщины его не ели.
— Канды тоже не будет бояться Куолу! — закричала она и, как ребенок, захлопала в ладоши.
Аммуны
Каждый день охотники спускались в трещину и приносили новые порции мяса. Один раз они добыли двух песцов. Шустрые зверьки уже успели разведать, что плохо лежит. По ночам они подбирались к слоненку тем же путем, что и люди. Здесь утром застал их Ноздря и прикончил двумя ударами дубины.
Однажды Уа заметил стадо овцебыков. Они спустились к реке на водопой. Уа с Волчьей Ноздрей подкрались к стаду и убили годовалого теленка. Еды было вволю, зато мало топлива. Приходилось есть мясо сырым. Это, впрочем, их не смущало. Гораздо хуже было то, что все чаще надвигались густые туманы. Они сползали с ледника почти каждую ночь.
В один из вечеров Ао и Улла вернулись к шалашу раньше других. Они принесли свежую добычу и думали порадовать ею жен. Но женщины встретили их бунтом. Едва только охотники показались перед шалашом, как Балла и Цакку подняли неистовый вопль.
— Аа! Аа! — кричали они.
— Холодно! Аммуны! — вопила Баллу.
— Злые аммуны! Домой! Домой! — голосила Цакку. — Боимся больших аммунов!
Разбуженный криками женщин, в шалаше надрывался Курру. Одна Канда не кричала. Она лежали ничком и утирала слезы. Женщины страшно боятся аммунов.
Всякий раз, как с ледника наползал густой туман, женщины шептали: «Пришли аммуны!» — и прятались в жилье, стараясь закутаться с головой.
Аммуны — это не просто туман. Туман — холодный пар, облако, ползущее по земле, и больше ничего. Но для Канды, Баллу и Цакку туман — это прежде всего таинственное живое существо. Вернее, целая толпа каких-то непонятных существ. Они двигаются, ползают, улетают и возвращаются вновь. Они замышляют злое и причиняют несчастье.
Ао и Улла поняли одно: их женам надоело жить в новых местах. Они страдают от сырости темных ночей. Они истосковались по теплому жилью, соскучились по землянкам поселка. Но главное — их смертельно пугают туманы.
Охотники положили на землю убитого зайца и двух белых куропаток. Но решить дело без товарищей было нельзя. Нужно было их дождаться. Мужчины стояли молча, опершись на свои копья. Женщины уселись на землю и продолжали выть.
— Аа! Аа! Аа! — тянули они, и слезы ручьями стекали по их щекам.
Они плакали громко, а сами следили, какое действие производят на мужчин их вопли и потоки слез.
Иногда они уставали кричать, и начинали потихоньку стонать. Потом вдруг, спохватившись, принимались снова причитать, жаловаться и повторять одни и те же слова.
Наконец вернулись Улла и Волчья Ноздря. С их приходом вопли возобновились с новой силой. Охотники с удивлением смотрели на рыдающих женщин. Временами они переводили взгляды на Ао и Уллу, в их взглядах можно было прочесть вопрос: в чем же дело?
Наконец Ао показал на женщин и сказал только четыре слова: — Боятся аммунов! Хотят домой!
Обратный путь
Возвращаться домой решили без лишних слов. Было ясно, что оставаться здесь дольше нельзя. Мужчины, хотя не так, как женщины, но тоже побаивались аммунов. Они спешили к шалашу, едва только издали замечали приближение тумана. Они знали: когда эти холодные белые существа застанут человека вдали от жилья, они сделают его слепым. Человек не знает, куда идти и где его дом.
Но и помимо аммунов, все заставляло думать о возвращении. Птицы улетели. Большие звери тоже потянулись на юг. Приближалась зима. Улла еще вчера видел стадо северных оленей. Оно двигалось туда же, куда летели и птицы. А в это утро Уа с Ноздрей узнали, что и хуммы ушли. Их свежие следы вели в долину Большой реки, а там поворачивали вниз по течению. Вдоль берега пролегала их кочевая тропа…
Хуммы ушли! Красные Лисицы пойдут за ними!
Ноздря не сказал ни слова. Он просто начал собирать оленьи и песцовые шкуры. Уа принялся их увязывать. Ао занялся мамонтовой шерстью.
Охотники уже давно собирали ее. Острым, режущим краем кремневых пластинок они резали длинные пучки бурых волос и складывали в углу.
Ао запихал их в меховой дорожный мешок.
Женщины повеселели. После ужина улеглись, успокоенные и обрадованные.
С первыми лучами солнца весело двинулись в путь. Он был далек и труден. Впереди — опасности, тревоги, холода и туманы, дожди и суровые ветры, переправы через реки и ручьи, топкие трясины и болота, покрытые кочками. Но зато там, в конце пути, их ждут теплые землянки!
И Куолу им теперь уже не страшен: они ведь все отведали сердце хуммы. Чего им бояться? Вот почему они без страха пустились в дорогу старым путем.
К югу от тундры охотники снова вступили в криволесье. Равнины, покрытые мхами и лишайниками, сменились редким лесом; то там, то здесь попадались стада оленей.
Наконец пошла настоящая лесная полоса. Лес стоял густой и высокий. Темной стеной потянулись еловые чащи. Они сменялись белыми стволами берез, стройными соснами. Возле самой реки тянулась узкая береговая полоска, по которой идти было легче. Но и она часто перегораживалась старыми деревьями, упавшими с высокого берега вершиной к воде. Половодье осенью и весною каждый год прочищало дорогу. Ледоход стирал молодую поросль и уносил вниз по течению все, что валялось там на берегу.
В лиственных рощах было светлее и просторнее. Листья уже пожелтели. Порывы ветра срывали их. Они сыпались вниз и устилали ковром похолодевшую землю.
В одной из таких рощ Уа выследил целое стадо северных оленей. По всем правилам охотничьего искусства Уа обошел стадо и начал подкрадываться против ветра. Делал он это мастерски. Скоро охотник заметил старого самца-оленя и четырех самок с молоденькими оленятами. Он соображал, какой из оленей ближе всего должен подойти к его засаде, как вдруг что-то темное упало с дерева…
Одна из самок сделала огромный прыжок и, закинув голову, ринулась через кусты. Она мчалась прямо к тому месту, где стоял Уа. Охотник увидел зверя, вцепившегося в ее шею. Поравнявшись с кустами, за которыми притаился Уа, важенка остановилась. Колени ее подогнулись, и она рухнула на землю, дрожа всем телом и брыкая задними ногами.
В один миг Уа выпрыгнул из кустов и изо всех сил вонзил хищнику копье ниже лопаток. Удар был так силен, что кремневое острие пробило сердце: ручьем хлынула кровь. На издыхающем олене извивалась в судорогах темнобурая «унда» — свирепая лесная росомаха.
Уа добил ее и напился теплой крови.
— Унда! Унда! Отдай мне твою силу! Унда! Унда! Отдай мне твою жизнь!
Покончив со зверем, Уа вернулся к важенке. Она была еще жива, но кровь ключом била из зияющей раны. Силы оставляли ее, взгляд сделался неподвижным. Она вытянулась, лягнула несколько раз задней ногой и затихла.
Тревога
Уа торжествовал. Глаза его блестели, на щеках играли веселые ямки. Неожиданно он сделался владельцем двойной добычи.
Но что же ему делать? Одному не унести. Нужно позвать товарищей. Он еще раз оглядел свои трофеи и бегом пустился к стоянке.
Через полчаса он добрался до лагеря. Мирно курился костер. Перед костром сидела Балла и кормила маленького Курру.
— Где все? — крикнул Уа задыхаясь.
— Цакку с Кандой на болоте, собирают морошку. Охотники не приходили, идут по следам хуммы.
Уа рассказал о своей добыче. Балла весело смотрела на Уа. Какой он молодец! Какой красивый! Она не забыла еще, как он гонялся за ней с копьем и больно ее ударил.
— Утро придет — надо будет взять, — сказала Балла. Она улыбнулась, показывая свои белые зубы.
— Нельзя утром, — сказал Уа. — Придут те, которые воют по ночам. Они съедят мясо, а нам оставят одну шерсть.
— Ну, будем кричать! — ответила она весело. — Ао! Улла!
Ао!
— Звонко кричишь! Как черный дятел, — сказал Уа.
Оба весело засмеялись и снова принялись громко выкрикивать:
— Улла! Ноздря! Ао!
Потом они уселись и начали ждать. Балла отнесла уснувшего Курру в шалаш. Оттуда вернулась с берестяным кузовком. В нем были спелые ягоды желтой морошки. Оба уселись у костра и стали есть. Но вот зашевелились листья ольхи: это вернулись мужчины.
— Кричали? — спросил Улла.
Уа рассказал о своей удаче. Нужно скорее идти.
Охотники захватили две жерди и быстро зашагали на место, где лежали убитые росомаха и важенка.
Уа шел впереди, другие охотники — за ним. Дошли… Уа растерянно остановился: там, где лежали трупы оленя и унды, было пусто.
Ноздря наклонился и стал рассматривать смятую траву.
— Вурр! — сказал он.
Трава была примята полосой. По ней волочили что-то тяжелое.
— Сюда тащил! — сказал Ноздря. — Сыт был. Тащил спрятать.
Под корнями упавшей елки лежала куча ветвей и листьев.
— Тут! — сказал Ноздря.
Он поворошил в куче копьем. Под валежником лежала зарытая оленья туша. Рядом с ней на обнаженной земле отпечаталась широкая медвежья пятерня.
Медведь был сыт. У оленихи он съел только вымя. Остальное было спрятано на тот час, когда разыграется медвежий аппетит.
Охотники не стали искать росомаху. Они знали, что вурр шутить не будет. Если застанет здесь — придется плохо.
Они быстро вспороли оленью шкуру и ножами отделили оба задних окорока. Всего не донести, да и с медведем лучше было поделиться. Когда все было готово, Ноздря оторвал стебелек травинки и облизал языком. Затем присел на корточки и положил травинку на медвежий след.
— Будь здоров, хозяин! — сказал он ласково. — Мы твои гости! Мы дети твоей сестры. Мы сняли шкуру и приготовили тебе тушку. Не ищи нас. Мы ушли далеко. За реки и озера, за леса и болота…
Наскоро закидали мясо валежником и торопливо пустились к реке со своей добычей. Вдруг Ао остановился:
— Кричат!
Все замерли на месте. Через миг по водяной глади ясно донесся издали отчаянный женский вопль.
— Кричат! Зовут! Тревога!
Швырнув мясо под ореховый куст, охотники вихрем помчались к стоянке.
Неожиданные гости
Стоянка была пуста. Костер догорал. Трава вокруг истоптана. Шалаш наполовину разрушен. Меха раскиданы, часть их унесена.
Все носило следы разбойничьего нападения и борьбы. Не было ни женщин, ни ребенка.
— Звери! — прошептал Уа.
— Люди! — ответил Ноздря.
— Не звери — крови нет!
— Следы, — сказал Улла и поднял с земли меховой колпак вроде мешка с вырезом для лица.
— Чужой!
Это был богатый колпак. По краям искусная рука нашила нарядную бахромку.
— Женщин нет! — сказал Уа.
Ао показал по течению реки. Он хотел что-то сказать, но в это время раздался сзади женский испуганный голос:
— Ао! Улла!
С берегового обрыва спускалась Балла. Она кинулась в шалаш и с плачем выбежала оттуда:
— Унесли!.. Нет Курру!
Она выкрикивала бессвязные слова. Было трудно разобрать, что случилось.
А случилось вот что.
Канда и Цакку вернулись поздно. Балла жарила мясо.
Вдруг из кустов выскочил Куолу и с ним много людей. Схватили Канду. Она стала кричать. Балла бросилась бежать. За ней погнался мужчина. Она убежала в лес. Долго бежала, быстро… Все-таки ее догнали; схватили за руки. Тут она узнала Калли!
Калли приказал ей спрятаться и обещал обмануть Куолу. Он скажет колдуну, что не мог ее догнать.
Мужчины поняли: напали Чернобурые и с ними Куолу. Как он узнал? Хочет мстить? Сколько с ним Чернобурых?
Балла показала пять пальцев на одной руке, на другой три. Потом затрясла головой:
— Нет! Было темно… Испугалась… Нет! Балла не знает! Она заплакала. Ао дрожал: мысль, что Канда в руках колдуна приводила его в ярость.
— Арру! — крикнул он боевой клич Красных и Чернобурых Лисиц.
В этом кличе был и вызов на бой, и зов, обращенный к товарищам, и возглас мужества, и вера в близость победы. Уа и Ноздря также рвались на поиски похищенных женщин. Один Улла остался стоять с опущенными руками. Он втянул голову в плечи, как будто над его головой уже занесена палица врага. Ао с удивлением посмотрел на товарища.
— Чернобурых много, — медленно проговорил Улла. — Пять! — он поднял руку, растопырил пальцы. — Три! — поднял вторую.
— Красных мало!
Балла гневно взглянула на мужа и подняла пять пальцев кверху:
— Балла тоже возьмет копье! Будет пять! Калли не будет драться!
Глаза ее сверкали, как у дикой кошки.
— С ними Куолу… Он все может… Он… — шептал Улла. Ноздря нетерпеливо топнул ногой:
— Красные подкрадутся, как те, кто воет по ночам. Они убьют Куолу. Куолу умрет во сне!
— Красные были у Великого льда. Они ели сердце хуммы! — кричал Уа. — Пусть колдун боится Уа! Уа не боится Куолу! Никого не боится!
Слова эти ободрили Уллу. Он поднял копье:
— Улла тоже ел сердце хуммы. Он не будет боятся.
Балла ласково посмотрела на мужа. Все молча зашагали по следам врагов. Идти нужно было осторожно. Ни шума, ни разговоров. На это был наложен строгий запрет. Шли долго. Ночные потемки густели каждую минуту. Но вот впереди, у самой воды, заблестел огонек.
— Они!
Десять глаз жадно впились в темноту. Шепотом совещались, что делать: обойти стороной по высокому берегу, подкрасться и выследить всех.
Вдруг из кустов к ним шагнула высокая фигура. Это был Калли.
— Пусть Красные не боятся Калли! — зашептал он.
Калли закидали вопросами, на которые он едва успевал отвечать:
— Там Куолу! С ним еще пять и два.
Калли назвал всех по имени. Канда и Цакку там. Их стерегут. Дурного им не делают. Угощают, а они не едят.
Куолу сердит: Балла убежала. Зачем Калли ее не привел? Хотел убить. Потом прогнал. Велел искать и привести. Если Балла не придет, он убьет Курру, изжарит на костре, а уголья бросит в реку. Пусть Балла идет в жены к Куолу, тогда он ничего не сделает Курру.
Балла заплакала, закрыв лицо ладонями. Уа положил ей руку на плечо:
— Не плачь, Балла! Уа не боится Куолу! Он убьет его. Волчья Ноздря только зарычал и заскрипел зубами. Ао вместо слов поднял копье. Один Улла молчал и оглядывался. Калли смотрел на них и удивлялся:
— Вот какие! Колдуна не боятся!
Что случилось за это время в поселке
Когда Красные Лисицы с женами ушли из поселка, Чернобурые были рады. Думали, что беглецы ушли к Красным. Куолу больше не будет гневаться на Чернобурых.
Колдун пришел через два дня. Кричал, требовал Канду, грозил послать злой ветер. Ему показали пустые шалаши беглецов и сказали:
— Они ушли к Красным Лисицам.
Через несколько дней Куолу явился к Красным. Он был в колдовском наряде: в расшитой разноцветными шкурками шубе, меховом колпаке, ожерельях.
Оттуда вернулся лютее волка. К поселку Чернобурых подступил он черною тучей.
Чернобурые обманули его. Он им этого не простит. Они узнают, как обманывать Куолу. Наругавшись, он швырнул палкой в Каху и камнем разбил лицо старику Фао. Затем перешел через овраг и на глазах у всех махал на поселок меховым колпаком, обшитым звериными хвостами.
Все поняли: Куолу нагоняет злой ветер. В этом ветре отрава, его ярость, его колдовство!
Чернобурые, дрожа, прятались по своим норам. Строго запрещалось детям показываться наружу. Сидели, скорчившись вокруг очагов, втянув головы в плечи. Многие накрывали головы меховыми постелями, зажмуривались, боялись дышать, шевелиться и разговаривать. Так просидели они в трепете несколько часов, пока запас топлива не истощился и огонь в землянках не стал угасать.
Тогда поневоле старшие матери осторожно стали выглядывать наружу. Колдуна уже не было.
Перед землянкой Каху ярко пылал костер, и сама она вместе с тремя сестрами-старухами и горящей веткой можжевельника обходила поселок. Она кадила кругом душистым хвойным дымком. Когда сгорала одна ветка, старухи подавали ей новую, зажигая ее от костра или смолистого факела, который нес за ними Фао.
Каху бормотала колдовские слова. Нос ее низко нависал над провалившимися губами, а губы торопливо шевелились и шамкали заклинания.
Заботы Матери матерей немного успокоили жителей поселка, но тревога все еще не прошла. В самом деле, никто не знал, что окажется сильнее: доброе ли колдовство Каху или злое и враждебное колдовство Куолу.
И нужно же было так случиться: трое суток после того не переставал дуть южный ветер. Он принес жаркий воздух, несметные тучи комаров и надоедливых мошек. Ни днем, ни ночью они не давали покоя.
Ветер гнал по реке черную зыбь, крутил в воздухе листья.
Он дул со стороны становища Куолу, и этого было достаточно, чтобы Чернобурые приписали его вражьим козням и силе заклятий колдуна.
Все складывалось в пользу Куолу.
С теплым ветром прилетели маздоки. Маздоки терзают людей, они наводят на них болезни и самую смерть. Колдун натравливает их на своих врагов. Маздоки накидываются на внутренности, сосут сердце, грызут голову, ломают суставы.
На этот раз Куолу выпустил «маздоков живота». Маздоки нападали на старого и малого. Не щадили никого: ни женщин, ни охотников, ни детей.
Умерли два старика и одна старуха. Слег старый Фао. У рыжей Уаммы заболел второй ребенок. Охота была из рук вон неудачной. Не видно было ни оленей, ни диких лошадей. В лесу исчезли зубры и туры.
— Одолевает Куолу!
Охотники сидели на берегу, опустив руки:
— Колдун не дает охоты!
В довершение всех бед заболела сама Каху. Это была явная гибель. Если Куолу сильнее Матери матерей, то где же искать защиты? Больной Фао послал звать стариков и охотников.
— Плохо! Куолу погубит все становище, — говорил он. — Пусть охотники отведут к нему самых молодых женщин.
В тот же день целое посольство — все охотники и женщины — пошло к Куолу с дарами просить пощады. Куолу злорадствовал: Чернобурые признали его власть! Он долго ломался, гнал от себя прочь, плевал на подарки, кидал на землю ожерелья. Наконец смилостивился: надел ожерелья и принял дары. Ожерелья ему понравились. Он улыбнулся, но тотчас же спохватился, нахмурился и сказал:
— Приду пировать! Мириться будем!
Охотники из сил выбивались три дня, пока разыскали сайгу и двух зубрят.
Куолу пришел со всеми женами. Теперь он первое лицо: что захочет, то и будет. Три дня обжирался мясом, издевался над всеми, бил детей, куражился над охотниками, оскорблял больную Каху. На четвертый день приказал мужчинам идти и разыскивать беглецов. Узнать, где прячутся Канда и Балла, и сейчас же донести ему.
Поиски были напрасны: охотники возвращались ни с чем. Куолу бесился и снова посылал искать. Наконец вернулись двое и принесли важное известие.
В стойбище Лесных Ежей им рассказали, что видели людей на той стороне реки как раз в то время, когда ушли Канда, Балла, Цакку со своими мужьями. Люди шли по низкому берегу. Их было много: пять пальцев и два. Четыре охотника и три женщины. Одна несла за спиной ребенка. Шли туда, откуда течет Большая река. Шли вечером, прятались за кусты; видно боялись, что их увидят.
Утром Ежи перебрались на ту сторону. Хотели узнать, что за люди, но ничего не узнали.
С тех пор прошло много дней. Месяц родился и умер, опять родился и опять умер…
Так говорили Ежи.
На другой день Куолу отобрал восемь самых сильных охотников и пошел отыскивать Канду и Баллу. Калли рассказывал:
— Канда не боится Куолу. Когда он схватил ее у костра, она сдернула с него колпак и расцарапала ему щеки. На стоянке он велел привязать Канду к дереву. Когда Куолу подходит к ней, она плюет на него и скалит зубы, как волк. Куолу боится ее.
В это время громкий смех прервал Калли. Ао весело запрыгал на месте, хлопал в ладоши и, как ребенок, захлебывался от радости.
— Канда! Канда! — кричал он и ноги его выплясывали веселый танец.
Ноздря ладонью зажал ему рот и сердито зашипел:
— Молчи! Услышат!
— Канда не боится! — смеялся Ао. — Она ела сердце хуммы там, у Великого льда.
— Все ели! — прибавил Уа. — Куолу ничего нам не сделает.
— И наша Мать матерей Ло сильнее вашей Каху, — прибавил Волчья Ноздря. — Она нам поможет.
Лицо Калли сияло. Ао вынул статуэтку Ло и положил на землю. Все Красные Лисицы стали шепотом просить покровительницу их рода помочь им спасти женщин.
— Теперь идем! — сказал Ноздря.
И все шестеро стали спускаться с кручи.
В лагере все спали. Спали и сторожа возле привязанных женщин.
Из кустов тихо вышел Калли и подошел к дремавшему Куолу.
— Балла пришла, — прошептал он на ухо колдуну.
Между двумя кустами лозняка стояла и улыбалась Балла. Колдун поднялся с земли и пошел к Балле. А она, смеясь, пятилась назад в кусты. Вдруг страшный удар по голове свалил колдуна с ног. Это Уа ударил его тяжелой палицей. Куолу упал, но тотчас же поднялся. Он выхватил из-за пояса костяной клинок, похожий на веретено, и бросился на юношу. Но в это же время Ао и Волчья Ноздря с двух сторон вонзили в него копья, и колдун опрокинулся навзничь. Улла в стороне со страхом смотрел на молчаливую схватку.
Что же будет теперь? Отсохнут руки у Волчьей Ноздри, Уа, Калли и Ао?
Нет! Руки не отсохли и колдовская сила никого не поразила. Куолу был мертв!
Калли будил Чернобурых.
Все произошло так быстро, что никто ничего не слышал. Улла и Ао бросились развязывать пленниц. Балла схватила своего голодного Курру, который несколько часов провисел в мешке на дереве.
Чернобурые протирали глаза. Они сначала ничего не могли понять. А когда поняли и увидели, что Куолу лежит и не дышит, стали кричать и смеяться. Все радовались, точно с них свалилась каменная глыба! Больше колдун не будет их мучить!
Волчья Ноздря приказал кидать в костер сухие ветки.
Скоро пламя поднялось высоким снопом. Золотые искры летели вверх до самых верхушек елок.
Колдуна нельзя было оставлять лежать и нельзя хоронить, как других. По поверью, его тень целый год также опасна, как и колдун. Только огонь мог его обезвредить.
Когда костер разгорелся, Уа с Волчьей Ноздрей подняли колдуна под руки и понесли к огню. Тень колдуна тянулась за ним по траве. Она была еще жива. Она трепетала и шевелилась! Сильным толчком Куолу бросили в самую середину огня и закидали сухим валежником.
После Калли с жаром рассказывал всем: он ясно видел, как тень Куолу вспыхнула, словно сухая трава. Колдун сгорел вместе со своей тенью.
Ветер подхватил дым и понес его к Великому Льду. Охотники кидали в огонь все новые и новые сучья, и огонь целую ночь взвивался до верхушек елей.
Когда взошло солнце, от колдуна остался один пепел. Пепел бросили в реку, и вода понесла его вниз.
Красные Лисицы и Чернобурые долго сидели вокруг костра.
Встреча гостей
Большой известковый камень торчал из воды. На этом камне стоял Тупу-Тупу с гарпуном.
Тупу-Тупу сам выточил из рога оленя зубчатый наконечник гарпуна. Он делал его, как художник. Оттачивая острие, он говорил при этом ласковые слова и просил оружие хорошо служить свою службу. Всякая вещь любит, чтобы с ней хорошо обращались.
Может быть Тупу-Тупу оттого и был лучшим мастером поселка, что был ласков с вещами. Да, он знал слова и умел их говорить. Оттого и оружие, сделанное его руками, работало на славу.
Вот и теперь… Длинная щука хотела было прошмыгнуть незаметно между двумя камнями, но гарпун Тупу-Тупу молниеносно пригвоздил ее к песчаному дну. Щука была тяжела. Тупу-Тупу с трудом поднял ее на воздух. Она отчаянно хлопала хвостом и разевала зубастую пасть. Она рвалась и билась, но гарпун знал свое дело: он держал ее крепко. Рыба была поймана и Тупу-Тупу бросил ее на берег.
С тех пор как Куолу увел за собой восемь сильных охотников, Тупу-Тупу почти забросил свою мастерскую.
Кроме него оставалось только пять охотников. А в поселке было еще немало людей: дети, матери, старики, старухи и больная Каху. Всех их нужно кормить. Все они хотели мяса.
Хромой Тупу-Тупу выбивался из сил. Ходить далеко ему было трудно. Зато он хорошо умел подстерегать зверей у водоемов, мастерил хитрые ловушки на птиц и зайцев и метко бил рыбу. Правда, старики и старухи не любили ее, но все-таки рыба была сытной пищей.
На этот раз вместе с ним на берегу было двое подростков из поселка Чернобурых. Звали их Скалту и Туанту. Оба они также держали в руках по гарпуну и подстерегали крупную рыбу.
Вдруг один из них вскрикнул и показал рукой на север. Там из-за поворота реки выплывало что-то длинное и большое. Это была целая вереница плотов, на них виднелись люди. На каждом стояло по два гребца. Они упирались шестами в дно реки и управляли движением неуклюжей флотилии. Плоты несло вниз. Последнее время шли дожди и вода прибывала. Где-то там на севере усиленно таяли ледники, и речные потоки становились полноводнее и быстрее. Начинался осенний паводок, и река тащила немало стволов, смытых с речных берегов. Из этих плавучих деревьев и были связаны плоты.
Что за люди плыли сюда? Враги или друзья?
Тупу-Тупу вместе с мальчиками спрятался в береговые кусты. Наконец один из мальчиков закричал:
— Калли! Там впереди Калли!
На переднем плоту ясно выделялась богатырская фигура Калли. Понемногу стали узнавать и других. А вот и женщины.
Плоты стали причаливать к берегу. На каждом из них лежали туши убитых зверей. Все ясно: Куолу возвращается домой. Он везет пленников, новых жен и добычу: три оленя, две сайги, кабана с оскаленными клыками.
Но где же сам колдун? Его нигде не было видно.
— Где Куолу? — спросил Тупу-Тупу, когда Калли шагнул на прибрежные камни.
Громкий смех был ответом. Веселы были все, кто вернулся. Убежавшие женщины и их мужья не были похожи на пленных.
Начались разговоры. Разом говорили все, смеялись, перебивали друг друга.
Из всех криков Тупу-Тупу только и понял одно: Куолу больше нет! Уа убил его. Пламя костра съело его вместе с тенью. Бояться некого. Конец всем бедам, конец и страху перед колдуном.
— Скалту! — закричал Тупу-Тупу. — Беги скорей! Скажи всем в поселке: наши приплыли на плотах. Все вернулись, а Куолу больше нет. Убили его, и тень его сгорела! Беги! Скорее беги! Как ветер!
Мальчики вприпрыжку помчались по крутой береговой тропинке.
Через несколько минут весь поселок зашевелился, как растревоженный муравейник. Из выходных дыр остроконечных домов один за другим вылезали люди. Женщины, старики, девушки и дети окружили быстроногих гонцов и наперерыв расспрашивали о том, что случилось.
Мальчики показывали на реку, кричали, смеялись и, наконец, повели всю толпу к речному берегу. Дети, как зайцы, понеслись вперед. За ними следом побежали матери и девушки поселка. Художник Фао величественно выступал перед кучкой седых стариков. А позади, задыхаясь, торопились старухи. Две из них вели под руки взволнованную Каху. Голова и руки ее тряслись, губы шевелились и бормотали привычные заклинания. Она с трудом опиралась на суковатую палку, и седые пряди ее волос извивались от ветра, как белые змейки.
Когда жители поселка гурьбой спустились к реке, они застали на берегу веселую пляску. Быстро двигался танцующий круг. Весело размахивая копьями приплясывали охотники. Громко кричали Ао, Улла и молоденький Уа.
Но всех веселее, хоть и нескладно, топтался на месте оружейный мастер хромой Тупу-Тупу.
Гнездо колдуна
Три дня праздновали Чернобурые победу над страшным Куолу. Давно уж не было столько веселья в запуганном колдуном поселке. Хороводы вокруг костра сменялись играми, игры — песнями и плясками молодежи.
Когда ноги устали от танцев, а горло от крика и песен, из дома охотников вышел Калли. В одной руке держал он боевое копье, в другой — смолистый факел, пылавший ярким огнем. Это был факел мести. Его зажигали, когда собирались воевать, или хотели отплатить за нанесенные обиды.
— Идем разорять гнездо колдуна! Куолу долго издевался над нами! Уводил жен и девушек и у Красных и у Чернобурых. Колдуна больше нет, а колдунья еще есть.
— Разорить его гнездо! — закричали охотники и побежали за оружием.
Сборы были недолги. Обид накопилось столько, что большинство мужчин и даже хромой Тупу-Тупу решили идти вымещать их на жене колдуна, на всем его отродье.
Группа охотников осторожно приближалась к становищу Куолу.
Старшие дочери Изы давно уже обзавелись семьями и целой кучей ребят и поселились в собственных землянках.
Многочисленные жены колдуна давно уже не помещались в одной землянке. У них также было по целому выводку ребят, и все они кормились данью окрестных охотников.
Остроконечные крыши землянок-шалашей и дымы пылающих очагов охотники заметили еще от лесной опушки. Вокруг поселка поднималось несколько высоких жердей. На концах их были надеты черепа зверей. Тут были волчьи головы с оскаленными зубами, толстый медвежий череп, оленьи черепа с огромными рогами. Шкурки лисичек, песцов и куниц были насажены на высокие палки.
Охотники из-за кустов зорко высматривали все, что происходило в поселке. Между летними шалашами не было ни души. Можно было подумать, что здесь никто не живет, если бы не столбы серого дымка над кровлями.
А между тем в землянке Куолу, низкой и темной, как кротовая нора, жизнь шла обычным порядком.
Во всех углах на разостланных шкурах копошились дети, подростки и грудные ребята.
Несколько молодых женщин сидели прямо на полу и сшивали крепкими, как струна, сухожилиями, продетыми в костяные иголки, шкурки мелких пушных зверей. Другие мастерили из этого материала одежду, похожую на меховой мешок, с прорезями для рук и головы.
Красивая, молоденькая Ши грустно сидела в стороне.
Она всех тяжелее переносила свою участь. Первое время она день и ночь мечтала о том, как убежит. Но рассказы про жестокость и волшебную силу колдуна лишали ее мужества. Ведь от колдуна никуда не уйдешь. Он всегда настигнет ее своим колдовством. Он может мстить на расстоянии. Он оборотень и под видом дикого зверя догонит ее везде, куда бы она ни убежала.
Она боялась не только самого Куолу, но и его старшей жены Изы. Другие жены уверяли, что Иза тоже колдунья и так же умеет насылать порчу и болезни. Легковерные женщины сами поддерживали ужас перед Куолу страшными рассказами о колдунах и колдуньях, их чудесах и могуществе.
Старой колдуньи не было в общей землянке. Она сидела на берегу обрыва и вглядывалась вдаль своими дальнозоркими глазами.
— Так и есть, — шептала она. — Это возвращаются хуммы. Далеко к северу, в пойменных лугах, она давно уже заметила вереницу черно-белых точек, которые медленно приближались к реке.
— Возвращаются! — шептала она себе. — Будет! Нагостились! Пора и домой!
И она манила их пальцами, приглашала мохнатое стадо вернуться в свои леса, где для них уже заготовлена большая ловушка.
— Домой! Домой! — повторяла она, подзывая их к себе, и с радостью заметила, как все стадо не спеша стало спускаться в воду.
В том месте, где находился брод, стадо очевидно, собиралось перебраться на другую сторону.
Колдунья поднялась и, колыхаясь своим дородным и жирным телом, пошла к землянке. Но только она успела пролезть в дверную дыру, как из лесу выбежали Чернобурые и с криком окружили землянку.
— Эй, выходите! — кричал Калли. — Колдуна вашего мы сожгли. А то и с вами будет то же самое!
Из летних шалашей, из других землянок стали показываться испуганные женщины, но им скоро объяснили, что бояться нечего, потому что охотники пришли освободить их из плена и проводить домой.
Старший сын Куолу, силач Уду, хотел было броситься с копьем на Тупу-Тупу, но тяжелая палица Калли повалила его на землю.
— А где же Иза? — кричал Калли. — Тащите сюда старую колдунью!
Старуху под руки притащили на расправу.
— Мы убили твоего Куолу. И мы не боимся никого. Мы ели сердце хуммы у Великого льда. Теперь нам не страшны твое колдовство и твои наговоры!
Так кричали Ао и молодой Уа, свирепо размахивая дубинами над ее головой.
— Стойте! — пронзительно крикнула Иза, и глаза ее хитро прищурились. — Иза пригонит вам целое стадо хуммов. Только не троньте моих волос! Не трогайте моих детей! Не ломайте моего дома! Ступайте мирно домой. И за это я пошлю вам целое стадо хуммов.
— Откуда же ты их возьмешь? — спросил Тупу-Тупу.
— Положите ваши дубинки. Куолу был великий колдун, он научил меня приманивать зверей и птиц. Скажи, Тупу-Тупу, чтоб они меня не трогали.
— Пригони к нам хуммов и никто тебя не обидит.
— Ну, положите дубинки! Вот так. Теперь смотрите!
Иза проворно юркнула в свою землянку и через две минуты вышла оттуда опять, держа в руках две длинные еловые ветки с пылающими концами.
Приплясывая и приседая, обошла она сперва вокруг землянки, махая дымящимися ветвями над головой с каким-то непонятным бормотаньем. Потом она подошла к кучке сухих еловых шишек, наваленных возле жилья, присела перед ними на корточки и стала раскладывать их по земле, все время приговаривая вполголоса:
— Хуммы! Хуммы! Хуммы!
Выложив длинный ряд из двадцати или тридцати шишек, она подняла над ним тлеющие концы веток.
Колдунья пошептала еще немного, очень быстро поднялась с земли и стала лицом к положенным шишкам. Тут она стала делать манящие движения обеими руками, как будто подзывая их к себе.
— Ну вот! Теперь идите за мной! — сказала она, кончив свои заклинания.
Она подняла с земли дымящиеся ветки и повела за собой всю толпу присмиревших мстителей. Тропинка шла через кусты и вывела скоро всех к краю обрыва высокого берега.
— Вот! Смотрите сами!
— Ах! — громко вскрикнул Улла, пораженный зрелищем.
По ту сторону Большой реки по низкой равнине заливных лугов прямо с севера двигалось большое стадо мамонтов. Они шли один за другим. Хуммы были еще далеко, но медленно приближались по той самой тропе, по которой весной уходили отсюда в далекую тундру.
С высоты крутого нагорного берега можно было ясно различить их спокойные движения. Было видно, что впереди стада на этот раз величаво шагал старый самец с крупными бивнями, раскачивая в стороны толстый хобот. За ним следом шагало еще несколько взрослых самцов. Дальше виднелась вереница самок, которых можно было узнать по их коротким, менее крупным бивням. Рядом с матерями или позади них поспевали подросшие за лето слонята. За эти месяцы северных кочевий они стали как будто солиднее и уже не резвились так, как это делали весной.
Все стадо растянулось длинной вереницей, с большими промежутками между отдельными животными. Самые дальние мамонты казались совсем мелкими букашками. Но все-таки можно было хорошо разглядеть, что на дальнем конце, замыкая шествие, шли самцы.
Охотники были глубоко потрясены успехом колдовских заклинаний Изы. Доказательство их могущества было налицо.
Как можно было теперь сомневаться в чародейном искусстве старой колдуньи?
— О! Она, верно, знает слово, которое знал Куолу, — перешептывались между собой охотники.
— Видно, что умеет колдовать!
— Хорошо, — сказал Тупу-Тупу, подойдя к Изе. — Теперь мы сами видим, что ты можешь сделать хорошо, если захочешь. Сделай так, чтобы хуммы пришли в наш лес. Мы поймаем хумму в нашу яму и принесем тебе много мяса.
— Хорошо, — сказала Иза. — Я пригоню хуммов в ваш лес. Я пригоню вам и других зверей. Идите мирно домой и не поднимайте дубинок на Изу, на ее детей и внуков.
Так неожиданно закончился, к полному благополучию Изы и ее поселка, этот поход мстителей, собиравшихся жестоко расправиться со всем многочисленным потомством ненавистного колдуна.
Женская хитрость колдуньи оказалась сильнее свирепых намерений этих простодушных взрослых детей природы.
Калли вывел из страшной землянки колдуна счастливую Ши, с которой он был разлучен столько дней. Другие освобожденные жены Куолу также почти все забрали своих детей, чтобы вернуться с ними в поселок Чернобурых.
Две — три более пожилые женщины предпочли остаться здесь. Они уже давно привыкли к Изе и к ее поселку, и менять это привычное жилье на другое у них не было никакой охоты.
Облава
Чернобурые зажили теперь довольной и спокойной жизнью. В окрестностях появились олени. Охотники подстерегали их на переправах и возле речных водопоев. С первым снегом легче было выслеживать и других крупных зверей. Изредка удавалось отбивать от стада туров телят и молодых самок. Каждый день обходили ловушки и волчьи ямы. Этой осенью попало в них несколько косуль.
С холодами в поселках все изменилось. Женщины из шалашей перешли в землянки матерей вместе с детьми и подростками. Мужчины проводили много дней на охоте, а когда возвращались, жили в землянке охотников. Вход к матерям теперь разрешался только старикам. Ао, Улла и Волчья Ноздря пришли в становище Красных Лисиц и рассказали своим, что большое стадо хуммов вернулось в свой лес и колдунья подарила его охотникам.
Незадолго до снегопада к Чернобурым пришли гонцы от Красных Лисиц звать их на совместную охоту. Они выследили все тропинки, по которым кочуют хуммы. Ловушка для них давно готова. А для загона, чем больше людей, тем лучше. После охоты — общий пир.
Первый снег — лучшее время для облавы. В назначенный день жители обоих поселков сошлись на берегу у большого костра и двинулись в лес за Волчьей Ноздрей и другими разведчиками. Четыре старика тащили на носилках плетеный кузов, обмазанный внутри глиной. В кузове были насыпаны горячие уголья из Родового костра. Старики несли его степенно и шепотом бормотали колдовские слова.
В лесу было светло и тихо. Ветер давно сорвал с деревьев пожелтевшие листья. Снег устлал землю пухом пороши. Воздух был чист и спокоен. Копытные звери затаились где-то по темным чащам. Олени и косули старались поменьше оставлять после себя следов.
Только мамонты и носороги никого не боялись. Они бродили по лесам и топтали тяжелыми ногами давно пробитые тропы. В этот день мохнатые хуммы паслись на горелой поляне. Ветви деревьев спускались по опушке до самой земли. Из-под тонкого снежного слоя торчали стебли трав и голые кустарники. Слонята объедали низенькие кусты. Их грузные родители ломали толстые сучья.
Вдруг старый вожак тревожно поднял уши. На другой стороне поляны закурились ряды сизых дымков. Послышался треск загоревшихся сучьев. В одном месте желтое пламя охватило высокий куст можжевельника.
Огонь — самое страшное для зверей. Его боятся даже сильные владыки лесов. Лесной пожар — это ужас для всего живого. Хуммы ощетинили гривы горбов и насторожились. Сомнения нет: за огнями скрываются двуногие. Запах их пахучих шкур доносился вместе с туманом огненной гари. Старые хуммы учуяли беду. Они видели, как желтые языки огня разгораются полукругом с трех сторон по края поляны. Только одно сторона еще свободна от огней и подозрительных запахов.
Старый вожак издал призывный сигнал и решительно направился к тропинке. За ним потянулась вереница остальных великанов. Дородные слонихи подталкивали хоботами слонят. Сильные самцы замыкали шествие. Сзади слышался гул людских голосов. От зажженных костров через поляну стали перебегать группы охотников. Они бежали с пылающими смолистыми сучьями.
По дороге они зажигали заранее заготовленные у опушки кучи валежника. Они двигались по слоновьей тропе вслед за уходящим стадом. Все старались кричать сколько хватает сил и колотили палками по стволам деревьев. Подростки неистово визжали и свистели. В облаве принимали участие взрослые охотники и вся молодежь обоих селений. С ними вместе шагали и более крепкие старики, и молоденькие бездетные женщины, и девушки-невесты. Даже хромой Тупу-Тупу с азартом подскакивал и ковылял, старясь не отставать от остальных.
Мохнатый вожак вел за собой стадо великанов. Он ломал мимоходом мертвые ветви. Упавшие стволы трещали под его тяжестью. Уши его шевелились. Он слышал сквозь топот шагов своих сородичей крикливый гомон человеческой толпы. Ненавистный запах дыма гнался за ним по пятам.
Всякий раз, как крики и шум становились назойливее, задние хуммы топорщили уши и прибавляли шагу.
Еловый лес кончался и переходил в высокий сосняк. В этом месте было особенно много навалено стволов, опрокинутых ураганом. Кое-где они лежали целыми грудами.
Хуммы проходили между двумя такими грудами деревьев. Вдруг вожак остановился.
Путь был прегражден. Несколько елок лежали поперек одна на другой. Вожак внимательно осмотрелся кругом. Выйти из тупика можно было только направо. Здесь оставался узкий проход. Он вел на старую заброшенную тропу, с обеих сторон огороженную жердями.
Слонихи напирали на нерешительного вожака. Задний отряд самцов теснил среднюю часть стада.
В это время свист, крики и глухие удары дубинами по стволам деревьев раздались с новой силой. Толпа приближалась. Запах горящей смолы становился сильнее, и вожак решительно ринулся через проход. За ним хлынули остальные. Здесь начинался уже более редкий сосняк.
Вожак вышел на засыпанную снегом площадку, обнесенную с двух сторон высокой оградой. Но не успел он сделать по ней и двух шагов, как площадка затрещала и рухнула под тяжелым зверем. С ним вместе полетели вниз жерди, сучья, валежник, еловые лапы, комья снега и шагавший рядом годовалый слоненок. Упавший мамонт испустил потрясающий рев. Что-то острое глубоко вонзилось в его внутренности. Он упал так неловко, что задние ноги его еще не опустились на землю, а передние подогнулись, и он никак не мог встать на все четыре ноги.
Перепуганное стадо разделилось на два потока и с треском ломилось через чащу по обе стороны ловушки. Свист и крики подростков, рычанье мужчин и визг женщин становились все громче и сильнее пугали огромных зверей. Как бурная лавина, понеслись к берегу Большой реки потерявшие рассудок хуммы, ломая все на своем пути.
История ловушки
Ловушка, в которую попали большой и малый хуммы имела длинную историю. Она строилась много лет. Ее начали делать еще деды теперешних Красных Лисиц. Сначала на этом месте была небольшая яма. Это была ловушка на малых зверей. В нее ловились лисицы и росомахи, детеныши косуль, иногда зайцы-беляки. Яма была узкая. Глубина ее была не больше человеческого роста. Такие ямы охотники поселка делали в разных местах. Но это была «счастливая» яма. Охотники вырыли ее на звериной тропе в начале оврага. Здесь проходил путь из глубины леса к берегу реки. Грунт был легок для рытья. Дождевая вода не застаивалась в яме. Она уходили в овраг сквозь пористую толщу песка. Охотники прикрывали ловушку настилом хвороста и маскировали гнилыми листьями, мхом и лишайником, а зимой — слоем снега.
Не проходило года, чтобы ловушка не дарила поселку по нескольку пойманных зверей. После каждой поимки ловушку нужно было поправлять и налаживать снова, вынимать осыпавшуюся землю. Песок рыли крепкой и острой палкой, сгребали в кожаные мешки и подавали их тем, кто стоял наверху.
С каждым годом яма делалась шире и глубже. В нее начали проваливаться взрослые косули, молодые олени, телята туров и бизонов. Летом это случалось реже. Зимой, когда снег прикрывал все следы людей и искусственную настилку, ловушка после снегопада работала отлично. Охотники приписывали свои удачи не тому, что хорошо было выбрано место. Они думали, что настоящая причина — искусное заклинание, танцы, бормотанье старух и колдовские рисунки на стволах деревьев. Так верили старые. Так верили и молодые.
Лет тридцать назад в ловушку провалился старый зубр. Он упал вниз головой, а ноги торчали кверху. Ловушка была так узка, что зубр не мог в ней перевернуться. Он дико ревел и бил задними ногами. Края ямы осыпались от ударов копыт. Люди, прибежавшие на рев нашли его полузасыпанным песком. Они истыкали его сверху копьями, и зубр издох от потери крови.
С этих пор яму пришлось сильно расширить и углубить. В следующие годы в нее стали попадать взрослые олени, туры и зубры. Один раз провалился гигантский самец лося. Он обвалил рогами груду песка, встал на дыбы и выпрыгнул из ямы на глазах у охотников. С тех пор яму сделали еще шире и глубже.
Художник Фао, который тогда считался лучшим ловцом, придумал новый прием — вкапывать в дно ямы крепкое копье. Потом стали ставить туда заостренную жердь, чтобы на нее натыкались звери.
Однажды в ловушку свалился грузный носорог. Как щепку, переломил он еловую жердь. После этого Красные Лисицы притащили целое бревно, срезанное бобрами. Обуглили его конец на огне, остругали кремневыми ножами. Это страшное орудие прочно и глубоко вкопали в дно.
Звери чуяли ловушку и обходили ее стороной по новой тропе. Но охотники придумали загораживать перед загоном обходную тропу стволами и направлять добычу по старому пути. Три года подряд в ловушку падали молодые хуммы.
Конец Уллы
Вожак ревел и бушевал в яме, как ураган. С трудом удалось ему встать на ноги. Он топтал провалившиеся бревна. Они ломались под ним, как хрупкие спички. Он швырял хоботом хворост и песок и пытался подняться на дыбы. Огромные дуги его бивней врезались в края ловушки и мешали ему еще больше, чем острое бревно, пропоровшее ему брюхо. Охотники кричали и визжали кругом, как безумные. Великан был в плену, но и в плену он был ужасен!
В голову зверя летели копья и камни. Пленник яростно трубил, шерсть на его загривке щетинилась, белки глаз наливались кровью.
Уа набрал песку и швырнул в глаза хуммы, но тот зажмурился и заряд пропал даром. В это время с горстями песку выскочил вперед Улла. Он взобрался на песчаную кучу, поближе к зверю. Вдруг песок под ним поехал, куча обвалилась, и он неожиданно соскользнул к самому краю ямы.
Огромный хобот чудовища опустился на врага и сбросил его на дно.
Визг женщин прорезал воздух. Охотники отпрянули прочь и на мгновенье замерли от страха. Был слышен только нечеловеческий вопль Уллы. Крик оборвался, когда его ребра затрещали под тяжелой стопой мамонта.
Толпа очнулась, и новый взрыв криков, визга и рева раздался по лесу. В зверя опять полетели копья и камни. Уа сорвал свою сумку, набил ее песком и засыпал им морду хуммы.
На этот раз вышло удачнее. Хумма зажмурился и больше не поднимал тяжелых век. Теперь он только ревел и яростно мотал хоботом.
Старый хумма издох на другой день. Острый кол глубоко врезался ему в брюхо. Слоненок был задавлен большим.
Несчастный Улла был раздавлен мамонтом.
Быстроногие гонцы примчались звать женщин и детей на пиршество. Балла выслушала весть о смерти Уллы равнодушно. С тех пор как осенью Улла ушел, а Балла вернулась в зимнюю землянку, она уже не считала Уллу своим мужем. Она не могла забыть, что Улла оказался боязливее всех и от колдуна ее спасли другие. Она все думала, как Уа, этот смелый мальчик, первым бросился на страшного Куолу, а Улла, ее муж, не мог избавиться от заячьей трусости перед колдуном.
Вместе с детьми и стариками во главе с Каху женщины Чернобурых двинулись к ловушке. Это было настоящее переселение, с мешками и домашним скарбом. Возле пойманного хуммы собирались жить прочно и надолго. Еды должно было хватить на много дней. К тому же за это время могла попасться новая добыча. Рядом в овраге были давно уже вырыты охотничьи землянки. Их нужно было только осмотреть и поправить.
Около мамонта выросло временное становище. Оба рода Красных и Чернобурых Лисиц уживались здесь дружно. Они были добрыми соседями и принадлежали к тем родам, которые заключают между собой брачные союзы. Женщины избрали себе из соседнего поселка мужей, а охотники — жен.
И на этот раз мясо убитого хуммы должно было одинаково насыщать и Красных, и Чернобурых Лисиц. Только шкура и бивни пойдут во владение строителей ловушки.
Пир победителей
Перед началом пира встретились две родоначальницы: Ло и Каху. Ло, Мать матерей Красных Лисиц, была могучая большая старуха. Она на целую голову была выше маленькой Каху. Перед началом пира обе должны были произносить заклинания. Съесть старого хумму — не такая простая вещь. Силен хумма, сильна и его тень.
Месть страшного двойника может быть ужасна. Ее нужно было заговорить прежде всего. В то время как мужчины возились около слоновьей туши, обе старухи — родоначальницы начали свои заклинания в самой теплой из землянок, куда их привели матери обоих поселков.
Посреди землянки ярко горел огонь. Серый дым стелился под потолком и выходил в верхнюю дыру. В землянке было душно, жарко и сыро.
Обе старухи перед пламенем костра наперебой бормотали малопонятные слова. Обе они сидели на разостланных шкурах или стояли на коленях. В низкой землянке дым резал глаза всякому, кто пытался встать во весь рост. На головах у обеих были надеты меховые шапочки. Время от времени они брали пучки рыже-бурых волос хуммы и бросали их в священное пламя. Кончик хвоста мамонта лежал между ними и огнем. В этом кусочке хвоста — вся сила побежденного мамонта и его тени, и заклинательные слова, сказанные над ним, должны были обезвредить и все мстительные замыслы тени умершего хуммы. Каху направляла их силой заклинаний на Лесных Ежей, Ло — в сторону враждебных Вурров.
По окончании обряда хвост был сожжен на костре. Землянка наполнилась удушливой гарью горящего волоса и кожи. Все женщины поспешили накинуть меховые рубахи и вывести очумевших от дыма старух на воздух. Возле ловушки по команде старших матерей начался праздничный пир.
Перед началом пира в неглубокую могилу опустили Уллу и с ним вещи, которыми он владел. В яму положили копье, кремневый нож и палицу. Балла возвратила ему ожерелье, которое он надел на нее весной. Туда же бросили турий рог, из которого он пил, и сумку, с которой ходил на охоту. Затем всунули в руки кусок мяса хуммы, чтобы он не завидовал пирующим. После этого его торопливо засыпали песком, чтобы его тень-двойник не вмешивалась в дела живых. Как только могила была засыпана, все вздохнули с облегчением. Целый год после похорон Уллы имя его никто не будет произносить вслух, чтобы тень покойника не подумала, что ее зовут, и не вышла из могилы. Пусть себе остается под землей и не пугает живых.
Пир начался угощением обеих заклинательниц. Им дали крови и кусочек хобота, чтобы сделать еще могущественнее силу их заклинаний.
Мужчины спускались в ловушку и выносили оттуда вырезанные куски жирного горба мамонта. Они оделяли салом всех, но прежде всего женщин и детей. Большинство сидели рядом со своими женами: Ао — с Кандой, Волчья Ноздря — с Цакку, на подбородке которой по-прежнему сиял перламутровый кружочек. Выросший и возмужавший Уа тоже получил хороший кусок. Он подошел с ним к Балле, которая сидела в сторонке со своим мальчиком на руках и улыбалась.
Они делили по-братски куски мяса. Балла была голодна и ела с жадностью. Оба смеялись.
Переселение
После той большой облавы, которая дала дружеским родам Красных и Чернобурых Лисиц большого мамонта, растревоженное стадо хуммов ушло от их становища.
Бродячие стада северных оленей тоже стали обходить стороной беспокойное место. Чикчоки никогда не отличались большим умом, но память у них была неплохая. Изумительное оленье чутье извещало зверей о близости двуногих за много километров, когда ветер тянул со стороны их землянок. То же можно сказать и о турах, косулях и других копытных. Даже птиц вблизи становилось все меньше и меньше. Весенние набеги ребят на их гнезда и сбор яиц из года в год заметно убавляли густоту птичьего населения.
С каждым годом в поселках Большой реки жить становилось труднее. Все чаще жители обоих поселков ложились спать голодными. Старики заметно слабели. Напрасно старухи бормотали свои заклинания. Напрасно Матери матерей выходили по утрам и манили худыми руками со всех четырех сторон далекую упрямую дичь. Напрасно охотничьи ватаги рыскали по речным берегам в поисках желанной добычи.
Удача все реже и реже выпадала на их долю. Несмотря на отвращение, старикам приходилось утолять свой голод рыбой. Они протыкали ее острой палкой и обжаривали на огне вместе с кожей и чешуей.
Совсем расхворалась старая Ло. Сердце ее мучительно билось при каждом усилии. Одышка не покидала ее. Наконец она велела позвать всех дочерей и старших внучек и объявила: она хочет переселиться в подземные луга. Там ее младшие и старейшие родные — те, которые уже раньше покинули поселок. Все выслушали ее в полном спокойствии. Скоро весь поселок был занят приготовлениями к переходу в подземные луга больной матери Ло.
Позади землянки, у самой стены, мужчины вырыли длинную яму: три шага длиной и глубиной около метра. Когда яма была готова, в нее положили олений мех и посыпали зеленой хвоей то место, на которое будет положена Ло.
Женщины наделали берестяных кружек, положили в них немного рыбы, кусочки сырого мяса, ракушек и орехов. Старуху завернули в мягкую шкуру и бережно опустили на дно могилы. Около стенок ямы расставили берестяную посуду, чашку с водой и разложили украшения — те, что при жизни особенно любила Ло. В ногах в небольшую ямку насыпали горячих углей из большого костра. Дети набрали разных грибов и ягод.
Все тело Матери матерей засыпали порошком красной охры и заложили могилу толстыми ветками елок. Веток накидали так много, что они поднимались над могилой длинным зеленым бугром. Сверху его закидали рыхлой землей. На этом обряд похорон был окончен. Старая Ло закрыла усталые глаза и уже больше не открывала.
После похорон Матери матерей жители поселка не захотели оставаться больше в голодной местности. В лучшие меха, висевшие по стенам землянок и лежавшие на полу, женщины завернули весь свой домашний скарб, взяли одежду, берестяную посуду, за спину закинули мешки с грудными детьми. Мужчины вооружились копьями, захватили свои каменные ножи. Четыре старика подняли заранее сделанные неуклюжие носилки, к которым была привязана сплетенная корзинка. Дно ее было густо вымазано толстым слоем глины. Из большого костра туда положили горящие угли и дымящиеся головешки, чтобы унести с собой частицу Родового огня.
Скоро все население поселка, перейдя вброд реку, длинной вереницей растянулось вдоль низкого речного берега заливных лугов. Впереди шли вооруженные охотники, за ними — старики с Родовым огнем и женщины с детьми, а конец каравана замыкала группа молодых охотников и подростков. Мальчики шныряли по сторонам, разыскивая гнезда птиц, норы жирных пеструшек, собирали яйца, нелетающих птенцов, догоняли маленьких зайчат, вытаскивали из воды у берегов мелких рыбешек, двустворчатые ракушки и десятиногих раков.
Много суток шли переселенцы. Шли небольшими переходами, останавливались всякий раз, как угольки Родового огня начинали гаснуть. На остановках заново раздували огонь и разжигали большой костер, чтобы накормить умирающее пламя сухими сучьями и вновь двинуться дальше.
В расстоянии одного дня пути за ними следом шла другая вереница людей. Это был род Чернобурых Лисиц. Они также решили переселяться вместе с дружественным родом. И те, и другие пробирались туда, где надеялись отыскать более привольные для охоты места с нераспуганной крупной дичью.
Через месяц оба рода свернули в долину большого притока. А еще через месяц и те, и другие уже вырыли себе землянки на крутом берегу, под корнями многовековых деревьев.
Устроив свои незатейливые полуподземные хижины, оба рода зажили на новом месте такой же беспокойной охотничьей жизнью, какую они вели и на прежних, опустошенных ими берегах.
Сергей Покровский Поселок на озере
Часть первая
Уоми
Старая кабаниха мирно лежала на дне лесного оврага, в ручье, среди дюжины своих поросят. Вдруг она почуяла запах врага. Она вскочила и с громким хрюканьем кинулась вниз по течению. Кабанята с визгом помчались за ней. В воздухе свистнула стрела, и один, отстав, неистово закружился на месте.
Из-за ствола, опрокинутого бурей, выпрыгнул стройный охотник. В несколько прыжков он очутился над раненым зверем. Кабаненок попытался бежать, но передние ноги его подломились, и он бессильно уткнулся рыльцем в землю.
Под левой лопаткой его торчала стрела, глубоко вонзившаяся в тело.
Охотник бросился на колени. Одной рукой притиснул кабаненка к земле, а другой начал осторожно выкручивать стрелу из раны.
Кабаненок забился сильнее; тогда охотник вынул из-за ременного пояса тяжелый черный камень, острый с одного конца и тупой с другого, насаженный на дубовую рукоятку и тщательно отшлифованный со всех сторон. Ударом в лоб охотник оглушил кабаненка, и тот замер на месте, вытянув задние ноги. Охотник присел на корточки, погладил рукой жертву и зашептал:
— Не сердись, сын кабанихи! Не Уоми убил тебя. Ударил чужой ловец. Пришел из дальних землянок, откуда восходит солнце. Пусть туда летит твоя тень. Спи, сын кабанихи. Пусть твое дыхание летит к Кабаньему Старику. Скажи: приказывает ему Уоми. Будь здоров, Большой Кабан. Присылай всегда для Уоми много кабанят. Уоми пойдет на охоту, скажет спасибо Старому Кабану.
Пока Уоми говорил, последние судороги кабаненка затихли. Уоми еще раз погладил его, поднялся и обошел вокруг бездыханного тела.
— А теперь отдай Уоми твою душу. Пусть сила твоя перейдет в мою силу, твое тепло в мое тепло, твоя жизнь прибавится к моей жизни.
Охотник поднял кабаненка и припал губами к его ране.
Потом Уоми положил кабаненка на землю, вынул из-за пояса кремневый нож, вделанный в деревянную рукоятку, привычными движениями выпотрошил и освежевал тушу.
Уоми был голоден. Наскоро ополоснув в ручье руки, он снял ножом задний окорочок и крепкими, как у волка, зубами захватил край сырого мяса. Острым кремневым лезвием ловко обрезал кусок перед самыми губами и жадно начал разжевывать нежное, молодое мясо.
Проглотив один кусок, он хотел было приняться за другой, как вдруг какая-то мысль заставила его остановиться. Он внимательно осмотрелся кругом.
Так и есть! Это овраг Дабу. Четыре зимы прошло с тех пор, как он был здесь последний раз.
Уоми и Дабу
Уоми быстро провел рукой по волосам и стал заворачивать окорочок в снятую с поросенка шкуру. Туда же вложил он вырезанные сердце и легкие. Припрятал остальное мясо под куст орешника, прикрыл все это несколькими пучками травы и решительно зашагал туда, где с каменистого уступа, булькая, стекал ручеек.
Уоми взобрался на уступ и неподвижно замер на месте.
Здесь овраг расширялся в круглую котловину, окруженную лесом. Со всех сторон поднимались стеной деревья. Посередине рос громадный дуб. Корявый ствол его, покрытый странными наростами, поражал своей чудовищной толщиной. Девять взрослых мужчин, взявшись за руки, вряд ли могли бы заключить его в свои объятия.
Окружающие деревья были также изрядных размеров и весьма почтенного возраста. Их ветви раскидывались широко над землей. Но и среди этих лесных великанов центральный дуб казался настоящим гигантом. Его кудрявая голова высоко поднималась над лесом.
Огромные нижние ветви темным шатром покрывали землю и нагибались концами чуть не до самой земли. Два толстых сука были безлистны и напоминали мощные, широко распростертые руки с растопыренными пальцами.
Между ними выше человеческого роста виднелось черное дупло удивительной формы. Оно было похоже на разинутый рот, окруженный толстыми губами.
Выше дупла — две черные ямы, искусно выдолбленные и выжженные огнем. Над каждой из них виднелось по большому уродливому наросту в виде насупленных бровей. Все это делало нижнюю, толстую часть ствола похожей на какой-то чудовищный лик с разинутой пастью и черными, наводящими ужас глазами.
Это был старый Дабу — священное дерево, природный идол окрестных поселенцев. Его нижние ветви были увешаны приношениями почитателей. Тут висели шкурки горностаев, выдр, белок и бобров, а также глиняные фигурки каких-то зверей. Это были дары охотников после счастливой охоты или предварительные подарки, которыми они хотели задобрить могущественного хозяина леса.
Тут и там виднелись засохшие венки — приношения молодых девушек-невест. Были здесь и длинные гирлянды желудей; их приносили женщины, молящие об облегчении родов.
Уоми с детства было знакомо чувство необъяснимого трепета, которое охватывало его при виде Священного Дуба. Так бывало всякий раз, когда мать вместе с другими матерями поселка приводила его на поклонение Великому Дабу.
Под густой тенью гигантского шатра из ветвей еще таинственней казался пахнущий лесной гнилью сырой полумрак оврага.
Как только Уоми вступил в эту тень, в нем разом всколыхнулись детские, почти забытые страхи. Сердце его екнуло по-ребячьи, когда на него глянули, как живые, глубокие зрачки идола из-под нависших корявых бровей. Уоми робко положил приношение на корни дуба и упал ничком на землю. Он охватил ладонями голову, зажмурился и долго лежал, прижимая лицо к сухим прошлогодним листьям.
Вдруг старый Дабу тихо шевельнул концами ветвей. В этом шелесте листьев Уоми почудился таинственный шепот живой души. Уоми вскочил, радостно протянул вперед загорелые руки и заговорил:
— Великий Дабу, Старик Стариков, Хозяин лесных деревьев, Прадед Прадедов нашего рода! К тебе пришел Уоми. Родные связали его. Они думали, что он рожден от Злого Лесовика. Родные кинули в челнок Уоми и пустили вниз по реке. Река понесла его. Льдины крутились. Уоми знал, что они злые. Они толкали челнок и хотели его утопить. Они влезали друг на друга. Дни прошли. Ночи прошли. Уоми не умер. Не ел, не пил, только кричал. Душа твоя услыхала. Она сказала Реке, и Река послушалась.
Далеко-далеко она вынесла его на луг и там оставила. Люди нашли Уоми. Они развязали ему руки и ноги. Люди накормили его. Четыре зимы и четыре лета Уоми жил и охотился с ними… И вот он вернулся. Возьми лучшую часть его первой добычи. Ешь, Дабу, и помни об Уоми!
Уоми бросил мясо в раскрытую пасть идола. Потом он вынул из шкурки сердце кабана, выдавил из него на ладонь пригоршню липкой крови и, приподнявшись на выступ коры, обмазал губы идола. Сердце он бросил в дупло:
— Пей, Дабу! Посылай Уоми большую охоту. Дай Уоми скорей вернуться домой…
Тихий шелест снова пробежал по листьям. «Добрый ответ», — подумал Уоми.
Вдруг в глубине дупла что-то зашевелилось. Уоми отпрянул назад. И тут случилось то, что навсегда врезалось в его память.
Из дупла не торопясь вылез огромный филин. Он уселся на нижней губе идола. В когтях у него было зажато кабанье сердце, из которого сочилась кровь.
На глазах онемевшего от изумления Уоми филин рвал клювом мясо и с какой-то странной важностью проглатывал кусок за куском.
Когда птица съела все, желтые глаза ее, не мигая, уставились на Уоми.
Душа священного дуба
«Душа Священного Дуба!» От этой мысли трепет охватил Уоми.
Так вот она какая!
«Ну да, конечно, — думал Уоми, — Дабу хочет ему показать, что он принимает его жертву. Сам Дабу в образе филина вкушал пищу, принесенную Уоми. Дабу к нему благосклонен. Он поможет Уоми».
Уоми был потрясен. Он упал на колени и протянул руки к таинственной птице.
— Дабу, Дабу! — зашептал он. — Отец лесных дубов! Защитник нашего поселка! Добрый покровитель Уоми!
Филин взмахнул крыльями и скрылся в чаще. Большое рыжеватое перо сорвалось и упало к ногам охотника.
В каком-то оцепенении вглядывался Уоми в темную глубину дупла. Там ничего не было видно.
Уоми поднялся, схватил упавшее перо, спрятал его на груди, отер ладонью лоб и вдруг бросился бежать вниз по оврагу, прочь от Священного Дуба. Он бежал до того самого места, где убил кабаненка. Тут Уоми наскоро подобрал оставленное оружие и добычу и торопливо стал спускаться по течению ручья.
В лесу быстро стало темнеть. Кусты орешника и ольхи по берегам ручья мелькали, как ночные тени, причудливые и неясные.
Уоми вздохнул с облегчением, когда овраг наконец вывел его к реке.
Перед ним развернулась спокойная водная гладь, а за нею — вольный простор заливных лугов.
Луга раскинулись по ту сторону, на широкой низине левого берега. А на этой стороне, под высокой кручей у самой воды, терпеливо дожидалась его спрятанная в тальнике лодка.
От реки пахнуло сыростью, и Уоми торопливо принялся разводить костер.
Куча сухих ветвей была заготовлена еще до охоты. Он смахнул пепел, накидал сухой травы и тонких сучков и стал раздувать чуть тлеющие головешки. Скоро веселый огонек запрыгал над ними, высовывая вверх желтые языки. Уоми бросил поверх целый ворох толстых ветвей, уселся поближе к огню и глубоко задумался, подперев ладонями щеки.
О чем думал Уоми
Уоми был строен и юн. Когда он откидывал назад длинные пряди светлых волос, из-под них показывался высокий лоб без единой морщинки. Правильный, с легкой горбинкой нос и резко очерченные губы делали его красивым, несмотря на слегка выступающие скулы.
О чем думал Уоми, следя глазами за быстро взлетающими искрами огня?
Он все еще размышлял о душе Священного Дуба. Думал о том, что будет, когда он вернется домой. Жива ли Гунда, его мать? Как примут его родные? Что скажет Мандру, старший старик поселка? Ведь это он первый сказал:
— Уоми рожден от Злого Лесовика.
В памяти его вставал с необычайной ясностью тот страшный день, когда его, связанного, кинули в лодку. Солнце, белые облака, покатый берег, толпа родичей с лицами, искаженными страхом, и впереди суровый старик с длинной седой бородой.
Как глухо звучал его голос, когда он наклонился над лодкой:
— Плыви, Уоми! Мы отдаем тебя Реке. Коли ты от Злого Лесовика, она утопит тебя, коли от Доброго Духа, она тебя не тронет.
Старик столкнул челн. Река подхватила его и понесла среди льдин. Родичи следили за ним глазами. Мать, охватив ладонями лицо, заливалась слезами.
Когда челнок столкнули в воду, она закричала громче, чем голосят по умершим. В ушах Уоми отдавались ее вопли. Льдины ворочали и качали его лодку. Временами он видел, как мать, растрепанная, бежит по берегу, ломает худые руки.
Ветер доносил до его ушей ее крики. Он слышал, как мать жалобно молила душу Великой Реки:
— Река, спаси Уоми! Вынеси его на песок. Отдай его назад, Река!
Ветер трепал пряди ее волос.
Река относила лодку все дольше и дальше. Боковая струя тащила ее на середину. Она несла ее с такой быстротой, что мать стала отставать. На одном из поворотов Уоми увидел ее в последний раз. Она все еще бежала, но вдруг споткнулась и упала на траву. Течение унесло лодку за выступы лесистого берега, и Уоми остался один, окруженный бешеным потоком. Льдины толкали челнок. Они хотели его опрокинуть…
Уоми с трудом очнулся от этих мыслей. Он почувствовал голод, нарезал несколько кусков мяса, испек их на горячих углях и с наслаждением поел.
Потом он набросал в огонь сухих сучьев и сверху целую груду сырых, покрытых листьями веток. Серый дым густым облаком окутал Уоми. Чем больше дыма, тем лучше защита от комаров. Уоми положил около себя оружие, лег на землю и тут же, в дыму костра, уснул крепким, молодым сном.
Чего было ему бояться?
Огонь — Сын Огнива и Трута — охраняет его. Ушастый филин — душа Священного Дуба — летает по лесу, чтобы посмотреть, не крадется ли где лихой человек или хищный зверь. Сам Великий Дабу там, в глубоком овраге, ворожит ему и оберегает его сон от лесных страхов и ночных нападений.
Двадцать два года назад
Длинная нить удивительных и странных событий, повлиявших на жизнь Уоми, завязалась в жаркий, солнечный день ровно двадцать два года тому назад.
В этот день за оградой укрепленного поселка на Рыбном Озере творилось что-то необыкновенное.
Женщины, молодые и пожилые, и девушки-невесты, седые старухи и девочки-подростки, густым кольцом окружали сплетенный из ветвей маленький шалаш, стоявший посередине поселка. Мужчин не было видно.
Впрочем, в этом не было ничего удивительного. Они и в обычное время все до одного днем отправлялись на рыбную ловлю. Но старики послабее и мальчики отроческого возраста обычно оставались.
На этот раз не видно было ни мальчиков, ни стариков.
Только седой, как белая сова, Мандру, старик над всеми стариками племени Ку-Пио-Су, оставался один в своем высоком, закутанном шкурами доме.
Две старухи прислуживали ему, поддерживая огонь в очаге. На угольях грелся большой глиняный горшок, налитый до краев водой. Выход был завешен мехами, а снаружи заставлен ветвями деревьев.
Все остальные женщины поселка вели себя в высшей степени странно. Они сидели вокруг зеленого шалаша с длинными прутьями в руках. То одна, то другая из них поднималась с земли и махала прутьями. Казалось, что они отгоняют кого-то от шалаша. Особенно усердно хлестали прутьями две старухи, стоявшие перед входом.
Время от времени из глубины шалаша доносились женские вопли. Тогда все женщины вскакивали с оглушительным визгом и гримасами ужаса на лицах.
Неистовый вой женской толпы далеко разносился по озеру, но он вдруг замолкал, как по команде, когда старуха поднимала над головой ладони. Тогда все молодые девушки во всю силу своих голосов вскрикивали разом магическое слово:
— Дабу!
Мгновение все напряженно прислушивались, пока со стороны высокого лесистого берега озера не долетало ответное эхо: «Дабу!..»
Все успокаивались и снова садились около входа.
Поселок стоял на небольшом островке, ближе к берегу, покрытому липовым лесом. Покатые склоны островка были укреплены глыбами известняка.
Длинные мостки на вбитых в озерное дно сваях соединяли островок с берегом озера.
И тут можно было заметить одну странность: мостки посередине были разобраны. Так делали островитяне только на ночь или когда ожидали вражеского нападения.
От какого же врага спасали себя жители поселка?
На лесистом берегу, у самой воды, расположился боевой лагерь. Горели костры. Мужчины и мальчики-подростки сидели вокруг. Мальчики держали в руках палки, мужчины — копья, луки, пращи, каменные топоры и палицы.
Когда с островка доносились пронзительные вопли женщин, мужчины пускали в сторону леса несколько стрел, иные метали камни из ременных пращей.
Тотчас мальчики бросались разыскивать упавшие стрелы и торопливо возвращались с ними обратно.
Эта стрельба по невидимой цели возобновлялась снова и снова всякий раз, когда крики на островке опять усиливались.
Только один смуглый мужчина не принимал участия в этих упражнениях. Он молча сидел в стороне, низко опустив голову и охватив заросшие щеки руками.
Это был Суэго — лучший охотник во всей округе и самый сильный среди мужчин Ку-Пио-Су.
Прошло еще некоторое время. Наконец маленькая горбатая старуха подошла к низкой ограде поселка и поманила оттуда рукой.
Люди на берегу засуетились. Часть их сбежала к воде и начала сталкивать в воду челноки-долбленки. Четверо сильных мужчин взошли на мостки и стали накладывать на перекладину свайных устоев снятые с них жерди. Они старательно переплели их концы гибкими ветками и только после этого перешли по ним на другую половину мостков. Вслед за ними гурьбой повалили дети, дожидавшиеся на берегу. Когда они уже перебежали исправленное место, медленно поднялся Суэго, тряхнул головой и не спеша зашагал через мост. То, что произошло, не шутя взбудоражило все население поселка. Молоденькая Гунда, жена Суэго, родила близнецов, а это, по мнению людей ее племени, означало несомненное вмешательство невидимых сил.
Неясно было пока только одно: были ли эти невидимые силы враждебными для всего поселка Ку-Пио-Су?
Близнецы
Миновало три дня. Гунда лежала с детьми на меховой подстилке и ждала мужа. Он первый из мужчин должен был увидеть сыновей. Тот, которого надо было считать старшим, лежал у нее с правой стороны, младший — с левой.
Но Суэго все не приходил.
Одиночество томило Гунду. Не раз ей хотелось плакать, чтобы не скучать, она принялась вспоминать прошлое.
Суэго взял ее из соседнего рыбацкого поселка Ку-Они. Она хорошо помнит, как десять молодых парней из Ку-Пио-Су вдруг выскочили из кустов, когда пять девушек Ку-Они спустились к реке за водой. Девушки с визгом бросились бежать, Но ни одной не удалось ускользнуть. Сильные руки Суэго схватили ее как клещами. Он вскинул ее на плечо с такой легкостью, как будто она была не тяжелее зайца. Суэго быстро сбежал к кустам тальника, за которыми их ждали челноки. Тут ее и других девушек бросили на дно лодок, и через миг похитители уже гребли вниз по течению. Чтобы девушки не могли спрыгнуть в воду, им спутали руки и ноги.
Девушки пронзительно визжали. В Ку-Они поднялась страшная тревога. Мужчины Ку-Они, вооружившись чем попало, уже бежали к реке и стали спускать в воду лодки. Началась погоня. Но пришельцы ходко гнали шестами свои долбленки. Попутное течение помогало им.
На каждой лодке было двое гребцов: один на корме, другой на носу. Они мастерски управлялись длинными шестами, с силой упираясь ими в речное дно, и скоро преследователи остались далеко позади.
Гунда отлично помнила, как лодки свернули в проток, соединявший реку с Рыбным Озером, помнила, как они причалили к укрепленным камнями берегам островка. По правде сказать, погоня не очень торопилась. Похищение невест было делом обыкновенным, нисколько не нарушавшим дружбы между отдельными селениями, если только похитители давали приличный выкуп. Все увозили девушек друг у друга. Нередко браки заключались через мирное сватовство. Но все же похищение невест считалось более почетным делом. Похищение и погоня были только формой. Похитители честно и щедро расплачивались, поторговавшись сначала относительно размеров выкупа.
Потом обе стороны пировали три дня. Преследователи становились гостями, похитители — радушными хозяевами.
Гунда полюбила Суэго. Он был самым удалым и смелым охотником поселка. Он был также искусным мастером каменных орудий, отличным полировщиком каменных топоров и ножей, метким стрелком из пращи.
И вот прошли уже запретные трое суток, а муж все еще не собирался взглянуть на двоих сыновей, которых она ему подарила…
Вдруг полог шалаша заколебался, и через узкий проход протиснулась широкая мужская фигура.
Но это был не Суэго.
В седом, обросшем волосами старце Гунда узнала Мандру.
Позади него стояли две горбатые старухи и теснились другие женщины Ку-Пио-Су.
Гунда вздрогнула от неожиданности. Сердце ее сжалось от какого-то жуткого предчувствия.
Мандру отступил назад. Он пристально взглянул на молодую женщину. Потом перевел взгляд на двух близнецов, затем снова на Гунду.
— Кто младший? — спросил он ее. Гунда молча указала пальцем.
— Гунда, — сказал Мандру, — твой младший рожден от Невидимого. Он — Уоми! Если от доброго — хорошо. И тебе, и всему Ку-Пио-Су. Если от злого — его бросят в реку, когда придет половодье. Пусть вода унесет его далеко!
Больше ничего не сказал Мандру.
Детство Уоми
С первых же дней Уоми рос отмеченный странной тайной.
Старшие члены семьи поглядывали на него почти с боязнью. То, что он не простой ребенок, об этом знали все. Такова была вера всего племени. Младший из близнецов рожден от одного из Невидимых. Невидимых много. Одни из них — тени умерших, другие — души вещей или их таинственные хозяева. Таков хозяин реки — Водяной, хозяин озера — Озерный. В лугах живет другой Невидимый — Луговик, ветренное существо, перелетающее с ветром из конца в конец. Зимой он поднимает снежные метели, в солнечные осенние дни забавляется сверкающими паутинками и заставляет их плавно летать над лугами. Третьи — это хозяева диких зверей. Каждое звериное племя — лоси и зубры, медведи и кабаны, волки и лисицы — имеет своих хозяев-стариков.
Рожден ли Уоми, сын Гунды, от доброго или от злого Невидимого? Вот вопрос, который тревожил каждого жителя поселка Ку-Пио-Су. Мандру еще не сказал своего решающего слова, и эта неизвестность пугала и томила всех. Когда мальчик подрос, он слышал, как матери останавливали своих детей:
— Не тронь его: он Уоми. Его отец — Невидимый. Обидишь — Невидимый узнает и сделает худо.
Старшего близнеца, Тэкту, звали часто просто «братом Уоми». Оба они были схожи лицом, но Тэкту был коренастее и ниже ростом.
Мальчики Ку-Пио-Су рано выучивались ремеслам и занятиям взрослых. На рыбную ловлю старшие брали их с собой. Они учили их владеть зазубренным костяным гарпуном и метко вонзать его в спину крупной рыбы. Вместе со старшими ставили они рыболовные сети, перегораживая заливчики озера. Ребята учились высекать из кремня искры и раздувать огонь.
Уоми быстро постигал все приемы искусных мастеров, отбивальщиков кремня и полировщиков камня.
К пятнадцати годам он был уже рослым и сильным юношей, ловким гребцом, отличным стрелком из лука.
К этому времени все как-то стали забывать, что над Уоми тяготеет роковое подозрение. Забывали все, но не Мандру.
Мандру был стар. Никто в Ку-Пио-Су не мог бы сказать, сколько ему лет. За последние годы он только сгорбился и стал как будто меньше ростом.
Ни память, ни сообразительность не покидали его. Сыновья его уже давно поседели, а Мандру все еще жил и оставался главой охотников.
В теплый и ясный день Мандру любил посидеть и погреться на солнышке. Сутулый и неподвижный, молча следил он выцветшими глазами за беготней детей и за снующими вокруг островка челноками. И всякий раз, когда мимо пробегали сыновья Гунды, он пристально глядел на них, и бледные губы его начинали шевелиться. Уоми беспокоил его.
Мальчик всем нравился, а сны, которые видел Мандру, говорили другое. По ним выходило, что с этим потомком Невидимого связана опасность для всего Ку-Пио-Су.
Как-то, в конце зимы, Мандру проснулся в большой тревоге. Ему приснился тяжелый сон. Старик с трудом приподнялся и свесил ноги с земляных нар, покрытых лосиными шкурами. Он сидел на них, худой, сгорбленный. Острые ключицы углами выпирали из-под кожи. Старик тяжело дышал, открывал рот, словно сом, вынутый из воды, и растирал ладонью костлявую грудь против сердца. Наконец он слегка отдышался, но тревога в его глазах еще не проходила.
Ему снилось: полночь застала его в лесу. Он торопится выйти, но кусты мешают ему. И вдруг будто бы кто-то сзади схватывает его, валит на землю и начинает душить. Он знает: это Уоми, а позади какой-то громадный, с елку, старик. Мохнатый, словно медведь. Старик скалит зубы и приговаривает:
«Души его, сынок! Души насмерть!»
Долго сидел Мандру на постели и гладил худую шею. Ему казалось, что он еще чувствует на ней чьи-то пальцы.
Вечером Мандру созвал совет. Старики сели вокруг очага и стали слушать.
— Отец Уоми — Лесовик, — начал Мандру. — Ночью приходил ко мне. Велел сыну душить меня.
Старики ахнули.
— Злой. Мохнатый. Хуже медведя. И пахнет, как медведь… Старики ахали хором.
— Нельзя верить этому сыну Гунды. Он Уоми. Рожден от Злого Лесовика. Вырастет — будет от него худо! — скрипел Мандру.
— Убить надо, — сказал огромный Пижму.
— Убить волчонка! — послышались еще два или три сердитых возгласа.
— Нельзя убить! — крикнул Мандру и с сердцем стукнул кулаком по нарам. — Пальцем нельзя тронуть! Обижать нельзя. Узнает Лесовик — худо будет. До смерти худо!..
— Разве можно родного убивать? — раздался из угла звонкий, почти женский голос. — Уоми — кровь наша. Родная кровь. Жить хочет, нельзя убивать!
Все оглянулись на маленького старичка, стоявшего у самого входа. Он был сед, как беляк. Маленькое личико ярко розовело из-под белых кудрей. Щеки раскраснелись, как рябина, но глаза, подернутые мутной пеленой, глядели неподвижно поверх голов. Левая рука его опиралась на высокий посох, а правая была протянута вперед, как будто трогала воздух.
Это был слепой Ходжа, рассказчик, сказочник, лучший песенник поселка. Ослеп он от болезни глаз, но колоссальная его память, звонкий голос и музыкальное чутье остались при нем по-прежнему. Ни один праздник в поселке не проходил без его участия. Он сказывал старинные легенды про древних богатырей, удачников-охотников, про первую родоначальницу Ку-Пио-Су — Орру, про дружеские и враждебные встречи с жителями леса. Мрак объял его глаза, но любимой его былиной был сказ про светлых братьев — солнце и месяц, про то, как они вместе ходили искать себе невесту. Старые и малые любили Ходжу, улыбались, когда он попадался навстречу.
— Нельзя убивать! Неладно будет. Не дам его убивать! — кричал Ходжа, ударяя посохом о землю.
— Стой, Ходжа! — сказал Мандру, и лицо его прояснилось.
— Мандру не даст убивать. А ты иди лучше к себе. Ступай, ступай! Не мешай! Иди разговаривай со своим озером!
Ходжа замолчал, кротко улыбнулся, повернулся к выходу и послушно побрел к берегу, постукивая палкой и бормоча под нос не понятные никому речи.
После его ухода некоторое время все сидели в молчании. Сам Мандру задумчиво загляделся на огоньки очага.
— Как же быть? — заговорил наконец Пижму.
— Приказывай! Что велишь делать?
Старики ждали, что скажет Мандру, но Мандру был нем. Только губы его шевелились, точно задуманные в сердце слова не выходили наружу. Наконец Мандру заговорил:
— Придет весна, побегут ручьи-потоки. Загремит лед. Понесет Уоми Река. Выбрать надо лучшую лодку. Положить оружие, лук, стрелы, палицу, горшок с водой и хорошей рыбы. Утром возьмите сонного. Свяжите ремнями, принесите в лодку, и пусть плывет. Угодно будет Реке — себе возьмет. Ее воля. Не угодно — выкинет на берег.
Мандру опять закрыл глаза и больше не сказал ни слова. Голова его стала склоняться. Он лег боком на медвежью шкуру и стал дышать тем ровным дыханием, которым дышат спящие.
Старики поднялись и тихонько, один за другим, согнувшись, стали вылезать через низкий выход наружу.
В том году снега было много. Люди Ку-Пио-Су, опасаясь разлива, переселились с острова в береговые землянки.
Когда лед на реке начал трескаться, старики пошли к челнокам, которые были вытащены на берег. Выбрали самую лучшую лодку и стали готовить ее к отправке.
Все было сделано, как говорил Мандру. Лодку снарядили, как снаряжают для покойника, отправляя его в страну теней.
Все делалось молча, и никто, кроме стариков, не знал, кто собирается в путь.
С вечера река прорвалась в озеро, бывшее когда-то связанным с ее руслом, и взломала лед. К утру озеро превратилось уже в длинный речной рукав, по которому, кружась, проплывали льдины.
На рассвете в землянку, где ютилась семья Суэго и Гунды, пришли старики и связали Уоми. Ему велели лежать смирно, потом позвали мужчин и приказали нести его в лодку.
Гунда с плачем бежала за ним. Все население поселка густой толпой спустилось к берегу. Уоми положили в лодку и долго ждали, пока придет Мандру. После прощальных слов главы охотников челнок спихнули в воду, и бурная река понесла его.
Так начались странные приключения этого мальчика из Ку-Пио-Су.
Прошло четыре года с тех пор, как Уоми уплыл с весенним половодьем. Понемногу люди стали считать его умершим и, как это всегда бывает, начали его забывать.
Не забывала о нем никогда только одна Гунда. Уоми часто снился ей по ночам. Она просыпалась, чувствуя его тепленькое тельце у своей груди. Видела его младенцем, который только что начал ходить, и резвым мальчиком, купающимся на белой отмели вместе с другими ребятами, и охотником, который стреляет из лука.
Много времени прошло с тех пор. Суэго умер. Его задрала медведица. Дети подрастали. Старый Мандру стал еще старее.
Дни пролетали за днями, а Гунда все ждала.
В то самое утро, когда Уоми еще спал там, на берегу, у костра, Гунда на рассвете вышла на южный конец островка, чтобы взглянуть в дальнюю озерную гладь.
Она делала это почти каждый день.
Ей все казалось, что вот-вот из-за изгиба кустистого берега вдруг покажется его челнок.
Она ждала Уоми и в это утро. Губы ее, как всегда, повторяли его имя.
Тропою зубров
Уоми встал, как только начало пригревать солнце. Свежая роса еще блестела на траве. Уоми скинул одежду, сбежал с берега и, поднимая брызги, бросился в воду.
Купание освежило Уоми. Он почувствовал новый прилив сил.
Одно желание охватило его всего: скорее, скорее увидеть мать и родной поселок!
Он быстро собрал пожитки и хотел уже столкнуть в воду долбленку, как вдруг новая мысль его остановила.
Река в этом месте была очень извилиста. Она делала тут несколько больших петель. Понадобилось бы около двух суток пути, чтобы добраться рекой до Ку-Пио-Су.
Уоми рвался домой и решил идти туда сухим путем, прямо через лес.
Он спрятал челнок в густые кусты ивняка, подложил под него багор и весло и быстро поднялся на кручу лесного берега. У края оврага, по которому он спускался вчера, он нашел знакомую с детства тропинку.
Тропинку эту пробили зубры еще в незапамятные времена. Ею пользовались и другие лесные звери. По ней можно было выйти к ручью, который выбегал к озеру как раз против поселка.
Уоми быстро зашагал по тропинке зубров. Сначала почти бежал, перепрыгивая через поваленные деревья. В одном месте он вдруг заслышал рядом громкий треск сучьев. Это шарахнулись в сторону лоси с лосятами, и Уоми успел заметить, как темно-бурые спины зверей мелькнули и исчезли в чаще.
Немного позднее, когда он пробирался через выжженную молнией большую поляну, из зеленой густой листвы опушки вдруг выглянула огромная, широколобая голова. Темная борода свисала вниз, короткие кривые рога выглядывали из волнистой шерсти по бокам тяжелого черепа.
Великан шагнул вперед и остановился. Он уставился свирепыми глазами на тонкую фигуру человека, осмелившегося встать на его пути. Зубр стоял без всякого страха. Уоми увидел, как белки его глаз начали наливаться кровью. Копытом передней ноги горбатый бык взметнул кверху сухую землю.
— Не сердись, Рогатый Хозяин! — сказал Уоми. — Уоми пропустит тебя. Он не тронет ни тебя, ни твоих детей. Не загораживай ему дорогу!
Охотник отошел в сторону, не спуская глаз с мохнатого великана.
Зубр подождал и, фыркнув, зашагал вперед привычной дорогой.
Следом за ним показалась вереница зубриц с телятами. Сзади замыкал шествие крупный и, должно быть, очень старый зубр. Он был еще мохнатее первого. Одним глазом он только покосился слегка на неподвижно стоявшего человека.
Когда затихли шаги зверей, Уоми вернулся на тропинку и затаив дыхание стал прислушиваться к шорохам леса.
Все было тихо. Ветер не шевелил ни ветвей, ни листвы. Только выводок певчих дроздов тревожно перелетал по кустам, вспугнутый стадом рогатых чудовищ, да зеленый дятел с писком сорвался с древесного ствола и исчез в гуще деревьев.
Встреча
После полудня Уоми вышел из-за кустистой опушки на обрыв высокого берега. Дух у него захватило.
У его ног, там внизу, развернулась светлая гладь родного озера, его родина, колыбель его детства, щедрая кормилица его родного поселка.
Озеро широкой голубой лентой изогнулось в виде подковы.
Концы его терялись где-то далеко за выступами берегов.
С озера доносились голоса птиц. Громко кричали чайки и кружили стаями над самой водой. Вереницами летали утки. Звонко пищали кулики.
Но глаза Уоми только скользнули по этому простору. Укрепленный островок Ку-Пио-Су — вот что приковало его взоры.
Как и четыре года назад, дымок серыми струйками выбегал из остроконечных кровель, разбросанных по всей длине островка. Только к старым прибавилась еще одна.
Уоми из осторожности решил спуститься в овраг, чтобы потом сразу добежать до мостков, раньше, чем его заметят жители островка.
Но не успел он сделать несколько шагов к краю оврага, как перед ним выросли две стройные фигуры: голубоглазая девушка в короткой шубке и молодой охотник, одетый в лосиную шкуру.
— Кто это? — послышался тревожный оклик.
— Я. Уоми, — раздался ответ.
В тот же миг охотник упал на колени и в ужасе протянул перед собой руки:
— Уоми? Душа Уоми или его тень? Ты пришел наказать нас? Уоми! Уоми! Не убивай брата твоего, Тэкту. Вот сестра твоя, Ная. Не убивай нас!
Его побелевшие губы дрожали.
— Я не тень! Я живой. Сам Уоми. Вернулся домой, чтобы жить. Тэкту, брат, не бойся! Я живой…
Через миг оба брата и сестра уже крепко сцепились руками и закидывали друг друга вопросами, на которые едва успевали отвечать. А еще через час, держась за руки, они уже бежали через мостки к поселку. Ная и Тэкту громко звали родных прийти и посмотреть.
— Уоми вернулся!! Совсем вернулся! Живой и невредимый! Сам Дабу, отец всех дубов, помогает ему!
Разбуженные криком собаки подняли неистовый лай. Кричали и визжали дети. Со всех концов озера к островку уже поворачивали носы своих челноков встревоженные криком рыбаки. Женщины и девушки торопливо вылезали из узких входов хижин. Некоторые уже бежали навстречу; впереди всех мчалась полуодетая Гунда, и светло-русые пряди ее волос развевались за ней, подхваченные ветром.
— Уоми! Уоми! — кричала Гунда, и едва только они столкнулись на прибрежном песке, она упала к его ногам и, как в бреду, стала гладить ладонями исцарапанные колючками его колени.
Что было с Уоми в чужой земле
Когда Мандру услышал, что пришел Уоми, он изменился в лице, долго сидел, согнувшись на нарах и держался рукой за грудь.
Старик не захотел или не смог выйти к вернувшемуся изгнаннику. И в то время как Уоми рассказывал родным о своих приключениях, Мандру сидел зажмурившись. Можно было подумать, что он спит.
Наконец он открыл глаза. В хижине не было ни души. От мала до велика все ушли послушать Уоми.
Мандру позвал женщин. Никто не откликался. Старик хотел встать, но слабые ноги не слушались. Мандру тяжело вздохнул и, кряхтя, повалился на постель. Он прислушивался к голосам, которые смутно до него доносились.
Уоми рассказывал о годах, проведенных у чужих людей, о том, как они живут, как едят, как одеваются, о черной смерти, которая в одно лето унесла почти половину жителей их поселка.
Четыре года прожил Уоми у этих людей. Они научили его многому, чего не знал никто из жителей Ку-Пио-Су, даже сам Мандру. Они научили его делать кремневую пилу, снаряд, которым можно пилить и дерево и камень; научили ставить ловушки на птиц и зверей. Они искусно мастерят деревянные пращи для метания камней; не такие пращи, какие в Ку-Пио-Су, а гораздо лучшие. Камень из такой пращи летит далеко и метко. Вместе с ними Уоми защищал поселок от бродячих лесных людей. Бродячие напали на поселок, когда там мало оставалось мужчин. Лесные люди уже начали одолевать. Тогда Уоми забежал в одну землянку, накинул на себя медвежью шкуру с медвежьей головой и с ревом бросился из хижины на врагов. Тем померещилось, что это сам Медвежий Хозяин, и они в ужасе побежали в лес. Тут подоспели бывшие на охоте мужчины и общими силами отогнали бродячих.
В другой раз ему удалось спасти их самого старшего деда. Дикий кабан повалил его, а Уоми пробил копьем сердце бешеному зверю.
За это все полюбили Уоми и стали считать его своим.
Жить у них было хорошо и сытно. Прошло четыре года; Уоми стосковался. Ему стала сниться мать Гунда, озеро, поселок Ку-Пио-Су. Мать звала его домой, и ему так захотелось увидеть все родное, что он не выдержал — в одно летнее утро сказал старикам:
«Хочу домой! Мать зовет Уоми. Каждую ночь зовет».
Старики покачали головами и сказали:
«Мать зовет — идти надо. Мать надо слушать!»
Это были добрые люди. Они говорили:
«Мы тебя не держим. Иди!»
В это время громкое всхлипывание послышалось из толпы. Это плакала Гунда. Все оглянулись.
— Это правда. Я каждую ночь звала Уоми, — сказала она. Уоми улыбнулся, тряхнул волосами и продолжал свой рассказ:
— Старик, которого Уоми спас, дал ему волшебный нож, какого еще никто не видел в Ку-Пио-Су. Он сказал: «У кого этот нож, тому никто не страшен. Нож не простой. Его привезли чужие люди. Он блестит, как огонь. Он спасет тебя от всякой беды. Никто не посмеет тебя обидеть».
— Покажи, — раздались голоса любопытных.
— Покажу, — сказал Уоми, — но раньше пусть увидит его Мандру.
Так говорил Уоми.
Он стоял на ровной площадке, усыпанной раковинами и рыбьими костями, как раз перед домом, где жила Гунда.
Сюда собрались все люди поселка. Впереди сидели дети и слепец Ходжа. Дальше на корточках разместились старики. Женщины присели на коленях; за ними стояли мужчины. Девушки кучей столпились немного поодаль, а рядом с Уоми, не спуская с нею глаз, стояла Гунда и голубоглазая Ная. Самым удивительным из всего, что говорил Уоми, был рассказ о том, как Уоми ходил к самому Дабу и как душа Дабу явилась в образе филина.
— Знайте, — сказал Уоми, — отец Уоми — сам Дабу. Он принял мою жертву. Филин ел мясо, которое Уоми ему принес. Он дал мне перо, чтобы все знали: Уоми — сын Дабу.
Уоми вынул из-за пазухи большое полосатое перо из крыла ночной птицы и поднял его над головой.
Послышались крики удивления. Только слепые глаза старого Ходжи глядели куда-то в небо, а левое ухо его было повернуто к Уоми. Он все еще хотел слушать и слушать.
Поселок Ку-Пио-Су был покорен. Все с восторгом глядели на Уоми. Вернувшийся сын Гунды казался героем, овеянным необычайной тайной.
Все хотели увидеть скорее волшебный нож и всей толпой повели Уоми к хижине Мандру.
Один Ходжа-слепец остался на прибрежном песке. Лицо его сияло; он, казалось, не замечал внезапно наступившей тишины.
В хижине Мандру
Хижина Мандру была самой большой в поселке. Она быта похожа на конус, глубоко врытый в землю.
Чтобы проникнуть в этот дом, надо было пройти через узкий коридор. Точнее, не пройти, а пролезть ползком, потому что вход был низок.
Пол хижины был по крайней мере на целый метр ниже уровня почвы. Земля, выброшенная при углублении пола, окружала хижину высоким валом. Этот вал составлял как бы основание постройки. В него упирались нижние концы длинных жердей, поддерживавших тростниковую обшивку кровли; на нее сверху был наложен для тепла слой сшитых звериных шкур.
Старики первые вошли в хижину. За ними следом — мужчины и несколько женщин. В хижине было темно.
Огонь на очаге почти затух, и только несколько красноватых углей тлели, полузасыпанные пеплом.
Дымовая дыра наверху была единственным окном, пропускавшим сюда лучи света.
Когда глаза Уоми привыкли к полумраку, он увидел перед собой худого, белого как лунь старика, который молча уставился на него выцветшими глазами.
Кто-то успел подбросить на очаг сухой хвои и сосновых сучьев. Вспыхнувшее пламя осветило хижину.
Хижина была велика.
Ее основанием был правильный круг с поперечником в двадцать шагов. Земляные стены были закрыты прочным плетнем, укрепленным на кольях. По стенам кольцом шли низкие и широкие земляные нары, покрытые шкурами лосей, волков и других зверей. На нарах можно было сидеть, как на скамье, и лежать головой к стене, вытянувшись во весь рост. Кольцо нар прерывалось только у входа. Здесь стояли два толстых ствола, подпиравших кровлю. Другие два — против входа. Еще по столбу было врыто на правой и на левой стороне.
Два глиняных горшка стояли по сторонам входа. Они были высотой почти в половину человеческого роста. В них женщины сливали воду, которую носили с реки берестяными ведерками.
Уоми, впрочем, не интересовался этой хорошо знакомой ему обстановкой. Он видел перед собой старика, главного виновника его долгого изгнания.
— Говори, — сказал Мандру, протянув вперед бледную, костлявую руку, — где был? Зачем вернулся?
— Был далеко, — сказал Уоми. — Вернулся жить дома.
— Рассказывай! — приказал старик.
И Уоми должен был повторить еще раз то, что случилось с ним на чужбине.
— Слушай, Мандру! — закончил Уоми и сделал несколько шагов вперед. Он подошел к огню, и только очаг отделял его от старика. — Уоми жил у чужих. Они спасли его. Они поили и кормили Уоми. Они согрели, когда он замерзал. Они давали все, что ему было нужно. А Уоми все не мог забыть про Рыбное Озеро. Он тосковал по матери, которая его вскормила. Тогда Уоми задумал вернуться. Чужие дали ему лодку и оружие и отпустили его. Они хотели, чтобы Уоми взял в жены лучшую девушку. Но Уоми хотел вернуться, и тогда старший дал вот этот нож.
Уоми вдруг вынул из-за пазухи острый и длинный предмет, блеснувший в его руках. Это был бронзовый нож, в отточенном острие которого отражалось пламя.
Уоми продолжал:
— Старик дал его мне и сказал: «Возьми! Этот нож не простой. Его сделали люди, которые живут далеко. Его променял гость за двадцать куниц и за медвежью шкуру. У кого этот нож, тот никого не боится. Этот нож подобен грому. Кому он пронзит сердце, тот умирает».
Уоми взмахнул кинжалом, показывая, как будет поражать врага.
И все увидели, что Мандру смертельно побледнел. Все бывшие в хижине разом затихли и, сдерживая дыхание, ждали, что будет.
— Четыре года Уоми жил у чужих, — сказал Уоми. — Четыре года плакала о нем его мать. Но Уоми не забыл ни озера, ни родного поселка. Старики Ку-Пио-Су отдали Уоми Реке, чтобы она утопила его. Но Уоми живет и стал сильнее, чем прежде. Мандру сказал: Уоми — сын Злого Лесовика. А Уоми говорит: это не так. Уоми был у самого Дабу и видел его душу. Она была похожа на филина. Она ела мясо, которое Уоми принес. Она открыла ему правду: не злой Невидимый был отцом Уоми, а сам Дабу, отец всех дубов… И вот, гляди, дед: филин дал Уоми свое перо и сказал: «Покажи его Мандру! Пусть он знает, что Уоми — сын Дабу».
Мандру поднялся, опираясь на крючковатую палку, и в глазах его отразился неподдельный ужас.
Некоторое время он молча глядел на Уоми, шевеля тихо губами, и, как будто сделав над собой неимоверное усилие, промолвил:
— Живи! — Потом опустился на нары и прибавил: — Сын Дабу!..
Пир
В поселке Ку-Пио-Су пировали. Пир продолжался до наступления ночи и до вечера следующего дня.
День возвращения Уоми, как нарочно, ознаменовался великолепным уловом. Рыбаки доставили в своих челноках несметное множество щук, карпов и стерлядок, а мужчины из хижины Сайму приволокли из лесу убитую косулю. Пищи было вдоволь, и это веселило сердца. Все радовались также, что Уоми признал сам старший старик. Все повторяли последние слова Мандру.
Если действительно Уоми — сын Дабу, отца духов и дружеского покровителя Ку-Пио-Су, то всякие страхи, из-за которых был изгнан Уоми, потеряли силу.
Кроме обжаренного на вертеле мяса и рыбы, испеченной на угольях, на пиру можно было увидеть груды ракушек, которые ели сырыми. Пищу запивали не только водой. Женщины вынесли горшки с напитками, которые варились из сока давленных ягод: черешен, вишен и малины. Их подсахаривали пчелиным медом. Перебродив, они делались хмельными и веселили сердце. Понемногу начались игры и пляски. Играла не только молодежь, но и те старики, ноги которых были еще достаточно крепки. Героем праздника был Уоми.
Уоми ходил между пирующими. Голова у него кружилась. Но когда ему подносили турий рог, наполненный до краем вареным медом, он не отказывался и охотно опрокидывал его в рот.
Все громче звучали песни. Мотивы их были однообразны и монотонны.
Танцоры прохаживались, прихрамывали и приседали. Они делали все это, прихлопывая в такт в ладоши, и подпрыгивали через каждые три шага.
Пляски разом прекратились, когда от одного из костров послышались ритмические звуки бубна.
Слепец Ходжа барабанил пальцами по этому старейшему в мире музыкальному инструменту.
Бубен был сделан из туго натянутой на обруч собачьей шкуры и издавал глухие, но волнующие сердца слушателей звуки.
Ходжа запевал новое сказание. Это был сказ о приключениях Уоми, о его необыкновенном рождении, о тайном совете старцев, об изгнании и бедствиях Уоми, о его жизни и подвигах на чужой стороне, о его славном возвращении под покровительство Великого Дабу.
Сон
Однажды Уоми приснилось, будто он идет по берегу и слышит голос:
«Ищи меня, Уоми! Зачем меня бросил?» Уоми знает, что это зовет челнок.
Уоми помнит, как прятал его в кусты, но где именно — он забыл. Все кусты похожи друг на друга.
То там, то здесь раздается загадочный голос: «Я здесь! Ищи меня!»
Уоми идет дальше и дальше. Вот он заглядывает под куст ивняка, но там сидит только маленькая лягушка и таращит выпуклые золотые глаза.
Уоми идет к следующему кусту, но и там лягушка, только побольше.
И опять голос, опять надо бежать к тому кусту, из которого он раздается. На этот раз вместо лодки находит он совсем большую лягушку, ростом с его сестренку Наю. Лягушка квакает и машет лапкой.
И вот наконец перед ним огромный кудрявый куст. Уоми заглядывает под ветки: долбленка действительно тут. Но что за чудо: в ней сидит голубоглазая девушка в белой шубке, вышитой черными хвостиками горностаев! Девушка заплетает волосы, и с головы ее падают восемь косиц, светлых, как солома. Уоми смотрит на ее румяные щеки, и ему делается досадно, что девушка на него даже не смотрит.
«Зачем ты здесь, в челноке? — спрашивает Уоми. — Откуда пришла?»
Девушка вдруг начинает смеяться.
«Я дочь Невидимого, — говорит она. — Мой отец — хозяин Большой Воды».
«Он живет в нашем Озере?» — спрашивает Уоми. Девушка смеется:
«Ты видел лягушек? Это мои тетки. Вот, слушай: как самая маленькая из них передо мной, так ваше Озеро перед Большой Водой. Там живет мой отец. А я живу на берегу, в поселке».
«А где же эта Большая Вода?»
Девушка опять смеется:
«Садись в челнок и греби! Греби день и ночь. Умрет одна луна и еще другая. Тогда увидишь Большую Воду. Оттуда осенью летят лебеди и гуси».
«Как тебя зовут?»
Девушка встает на край челнока и сходит на землю. «Пойдем!» — говорит она, берет его за руку и заглядывает в глаза. Уоми чувствует, как голова его начинает кружиться, словно от медовой браги.
Она ведет его за руку на край берега и усаживает так, что на его ноги набегает волна.
Девушка сбрасывает шубку и остается в одной безрукавке из рыбьей кожи. Эта одежда светится, как водяная зыбь, и отливает перламутровым блеском. Вся она покрыта крупной рыбьей чешуей и скорлупками ракушек.
«Отец зовет меня Каплей. Водяные сестры — Рыбкой. Людское имя у меня не такое. Узнаешь у Большой Воды».
Она сходит в воду и моет его ноги. И опять лукаво заглядывает ему в глаза:
«Так делают девушки тем, кого любят».
Уоми опять чувствует, как что-то горячее заливает его грудь. Он хочет поймать незнакомку, но руки хватают дым. Клочок тумана взлетает над его головой. Девушка исчезает, и как будто издали до него доносится девичий голос:
«Разве ты не видишь? Я только дыхание. Мое тело там, у Большой Воды, а дыхание здесь».
«Я боюсь, — говорит Уоми. — Зачем ты ко мне прилетала?»
«Не бойся! Капля давно знает Уоми, она видела его, когда льдины хотели его утопить. Это она вытащила на берег лодку».
«Где же ты? Отчего тебя не видно?»
«Ищи меня, Уоми! Ищи у Большой Воды!..»
Пробуждение
Уоми проснулся. Солнце било ему в глаза.
— Капля! Капля! — бормотал он. — Разве такие бывают? Он оглядывался кругом, протирая глаза. Тут он заметил, что под голову подоткнута меховая шуба матери, а сама мать стоит на коленях и льет из берестяного ведра воду ему на его голые ступни.
Другое такое же ведерко, пустое, стоит тут же, рядом.
— Мать! А где же она?
— Кто — она? Ты про кого? — спрашивает Гунда улыбаясь.
— Она! Другая! Девушка! — Уоми вскочил и начал озираться. — Она была тут. Она вымыла мои ноги.
— Гунда вымыла их, — сказала мать. Уоми провел по лицу ладонью.
— Ты вымыла? — удивился он. — Ты?.. Ну, и она тоже! Она тоже мыла. Мать, знаешь, это кто? Это Капля! Она живет у Большой Воды.
— Кто она?
— Она дочь хозяина Большой Воды. Сама сказала.
— Тебе приснилось, Уоми.
— Ну да! Она была тут… нет, там. Мы были там, на берегу. Это было ее дыхание. Она зовет меня!
Гунда нахмурилась.
— Уоми! — сказала она. — Берегись! Она злая. Выпьет твою кровь.
— Нет, она добрая! Она пожалела меня. Меня связали старики и пустили по реке, а она спасла меня и вытянула лодку на берег. Сама сказала.
Лицо Гунды немного посветлело, но она все еще хмурилась.
— Боюсь, — тихо прошептала она.
— Не бойся! Уоми ее отыщет. Уоми приведет ее к тебе.
— Откуда?
— Там! — сказал Уоми и ткнул пальцем на север. — Откуда осенью летят лебеди и гуси.
Гунда задумалась.
— Подожди! — сказала она. Теперь уже скоро осень. Никто не ищет невест в конце лета. Весной, когда сойдет вода, тогда будешь искать.
Уоми сел на большой камень у входа и задумался.
Задумалась и Гунда. Она смотрела в ту сторону, куда показал Уоми, и на глазах ее блеснули слезы. Сердце ее сжималось, тревога и страх охватили ее. Для Гунды девушка, которая приснилась ее сыну, была настоящей, живой девушкой, которая собирается отнять у нее любимого сына.
Утро в хижине Гунды
— Уоми, есть рыба!
Тэкту стоял у входа в хижину и ждал. Еще ранним утром съездил он на тот берег, где в маленьком заливчике поставил свои сети. Рыбы он привез много и теперь приглашал брата отведать его добычи.
Хижина, где жила семья Гунды, была немного меньше, чем у Мандру. В ней жил, кроме детей Гунды, еще дед Аза — старик с длинной седой бородой.
Посередине дымил очаг — площадка, обложенная кругом серыми плитами известняка.
У очага стоял вкопанный в землю обрубок с грубо выточенной человечьей головой. Это был домашний идол, покровитель дома, в котором обитала душа давно умершей прабабушки Орру.
На голове божка можно было заметить две ямки, изображающие глаза, немного кривой нос, плотно стиснутые губы. Рук и ног ему не полагалось. Он просто был вколочен в землю, стоял прямо, глядел всегда серьезно и даже сердито на обедающих.
Несколько готовых к обжигу горшков сохли под самым потолком, надетые на концы воткнутых в стену сучков.
Дрова на костре уже сгорели. На очаге оставалась груда тлеющего жара. Рядом, в плетеной корзине, шевелилась недавно принесенная живая рыба.
Обедающие выбирали то, что по вкусу, и кидали прямо на пылающие угли.
Рыба билась, подскакивала и снова падала в огненное пекло. Щуки, лещи, окуни и стерлядки, упавши на бок, быстро поджаривались с одной стороны, в то время как другая оставалась еще сырой. Длинными палочками сидящие у костра переворачивали их на другой бок. Когда обе стороны рыбы вместе с кожей и чешуей обугливались дочерна, ее вынимали и ели, счистив обгорелые места.
— Садись, — сказал дед Аза, когда Уоми, согнувшись, вошел в хижину.
Брови у старика нависали над самыми глазами, и потому, может быть, он казался более суровым, чем был на самом деле.
Есть Уоми не хотелось, но приглашения деда ослушаться было нельзя. Он сбросил меховую безрукавку и сел обедать.
— Ная, — сказал Аза, — сбегай к слепцу Ходже, отнеси ему осетра. У нас сегодня много, а у него нет.
Ная схватила из корзины тяжелую рыбу и вихрем помчалась к Ходже.
Все кончили есть, стали расходиться.
Дед завалился спать тут же, недалеко от костра, а Тэкту и Уоми, накинув одежду, вышли из дома, с наслаждением вдыхая свежий озерный воздух.
Челнок
Карась сидел на дубовой колодке и долбил ее долотом. Карасем его звали за то, что спина его выгибалась горбом, и этот горб с каждым годом становился все круче.
Несмотря на горб и на свои годы, Карась был замечательно крепок и упорен в работе. Особенной силой отличались его руки. Ремесло оружейника и постоянные упражнения сделали их такими.
С детства Карась был искусным отбивальщиком камня. Никто во всем поселке не умел придать такой гладкой, правильной и красивой формы своим изделиям, как Карась.
В мастерской его все было налажено так, чтобы работать было удобно. Посередине лежал большой гладкий валун, который служил ему сиденьем. Перед ним помещался другой валун, немного поменьше, служивший наковальней. На нем Карась разбивал кремневые желваки и обтесывал камни других пород. Справа находился огромный точильный камень, на котором мастер обтачивал и полировал кремни. Тут же было несколько точильных брусков из крепкого песчаника и два — из слюдистого гнейса, для обтачивания и полировки самых острых наконечников. Слева был вкопан в землю большой глиняный горшок, украшенный рядами точек.
Горшок имел не плоское, а круглое дно и потому мог стоять только в вырытой для него ямке. В нем всегда была вода. Она нужна была и для смачивания точильного камня, и для утоления жажды мастеров, проливавших немало пота на этой тяжелой работе. Тут же, у горшка, были насыпаны две кучки песку: в одной — более крупный песок для грубой полировки, в другой — песок самый тонкий. Он был нужен для окончательного наведения глянца на каменное изделие.
— Хо-хо, Уоми! — крикнул Карась, увидев Уоми, задумчиво шагавшего мимо него к берегу. — Иди помогать старому Карасю.
— Что делаешь? — спросил Уоми.
— У тебя есть глаза? Пусть они тебе скажут.
— Ого! Лодка уже совсем готова?
— Нет.
— Уоми будет помогать! Уоми умеет долбить дерево. Карась дал ему каменное долото и деревянный молот, и оба они дружно принялись за работу. Они ставили наискось кремневое долото и отрывистым ударом отбивали крошечный кусочек дерева.
— Давно стал делать? — спросил Уоми.
— С той луны, как Мандру спихнул тебя в воду.
И между ударами камня, в минуту отдыха, не спеша старый Карась передал ему удивительную историю новой лодки.
То самое половодье, которое четыре года назад унесло из поселка челнок Уоми, сделало поселку Ку-Пио-Су ценный подарок.
Вода принесла к островку большой дуб. Он обрушился где-то в реку вместе с подмытой глыбой берега. Карась пришел к старикам и сказал:
— Отдайте дуб Карасю.
— Почему? — сердито спросил Пижму.
— Пижму знает: когда старики пустили по реке Уоми, они приготовили для него лучшую лодку. Они взяли ее у Карася. Теперь у него остался только плохой челнок. На нем нельзя выходить в озеро в ветер. Отдайте Карасю дуб. Он сделает из него челнок.
— Пусть возьмет, — сказал Мандру, и старики присудили дуб Карасю.
С той поры Карась вместе с сыновьями начал мастерить долбленку. Это была трудная работа. Дуб — крепкое дерево, и долбить его нелегко.
Прежде всего нужно было отделить для челна прямую и толстую часть ствола.
Как сделать это без металлического топора или пилы?
Люди Ку-Пио-Су умели взяться за дело. Они облупили со ствола еще сырую кору, отмерили длину в двенадцать шагов. Карась задумал сделать ладью длиннее всех самых больших челноков поселка.
У самых корней в начале ствола под лежащим деревом разложили костер из сухих веток. Тут будет корма лодки.
Другой костер разложили под тем местом, где будет ее передний конец.
Огонь развели умеренный, чтобы не сжечь все дерево. Он понемногу делал свое дело. Ствол постепенно обугливался и начинал медленно тлеть. Искусство состояло в том, чтобы дерево тлело только в указанных местах. Когда огонь слишком разгорался, дерево обливали водой, чтобы пламя не могло охватить его целиком. Залив огонь, оббивали мотыгами обугленные части и на следующий день принимались снова за ту же работу. Нужна была большая опытность, чтобы пережечь дерево поперек и не спалить его.
Карась хорошо знал свое ремесло.
Не торопясь, но и не теряя времени даром, он принялся делать каменные бойла. Это были тяжелые и прочные орудия, похожие по форме на кирку.
Бойло выбивалось из крепкого и длинного камня. Оно было широкое посередине и заостренное по концам. В средней, толстой части нужно было высверлить отверстие для рукоятки.
Кроме бойл, в мастерской Карася оттачивались прочные каменные долота и тяжелые топоры — словом, все, что было нужно для постройки долбленки.
Прошло все лето и первая половина осени, пока дубовый ствол был наконец окончательно пережжен в двух местах и громадная колода отделилась от корней и верхней части дерева.
Остаток сухого осеннего времени был потрачен на то, чтобы откатить колоду подальше от воды.
Тут качались холодные осенние дожди. Их сменили ранние морозы. Снега завалили колоду, и зимой Карась сделал для лодки только весла.
Весной опять началась упорная работа. Сначала нужно было корявой и толстой колоде придать форму стройного челнока. На это ушло все лето и теплое время осени. На третий год началось самое долбление лодки. Каждый день после рыбной ловли приходили Карась и его сыновья выколупывать по крошкам каменным долотом и киркой древесину колоды. В третье лето она стала похожа на неуклюжее корыто. Борта были еще очень толсты. Это все еще была не лодка, а долбленая тяжелая колода. Ее нужно было сделать легкой и емкой. В четвертое лето началась окончательная отделка. Шаг за шагом стенки становились тоньше. Снимался один слой дерева за другим.
— Работай со мной, — сказал Карась Уоми. — Рука Уоми — рука Дабу! Помогай Карасю. Понадобится Уоми большая лодка, Уоми возьмет и поедет куда захочет.
Так был заключен договор между самым искусным лодочником Ку-Пио-Су и молодым Уоми, сыном Гунды и Великого Дабу.
Пижму и Мандру
Поселок Ку-Пио-Су зажил обычной жизнью.
Всех деловитее были женщины и дети. С раннего утра они спешили к озеру и набирали воду в глиняные горшки или берестяную посуду. Другие перебирались по мосткам на лесной берег, чтобы наломать и взвалить на спину вязанки сучьев.
На всех очагах старшие матери раздували огонь, и из дымовых дыр над крышами поднимались серые струйки дыма.
Мужчины разъехались на челноках, забрав с собой сети, рыболовные крючки, гарпуны и другие снасти. Перед каждым домом можно было видеть стариков, греющихся на солнце.
Некоторые из них работали: вязали сети, мастерили разные поделки из бересты и лыка. Иные сидели просто так, задумавшись, сгорбив сутулые спины. И как им было не думать!
Вернулся Уоми, тот самый, которого четыре года назад на общем совете они присудили к изгнанию из родного поселка. Вернулся в расцвете сил, крепкий, счастливый и красивый. У него за пазухой волшебное перо филина, подарок самого Дабу. У него волшебный кинжал, который делает его непобедимым.
Что, если он не забыл зло, которое ему причинили? Что, если он замышляет жестокую месть и она вдруг обрушится на седые головы стариков, виновных в его изгнании?
Мрачные мысли приходили старому Пижму. Ведь это он тогда на совете требовал смерти Уоми.
Как защитить себя от будущей мести? Как бороться с человеком, которому поможет сама Река и душа Священного Дуба?
Пижму сердито посматривал в ту сторону, откуда доносилось постукивание кремней. Там Уоми и Карась долбили дубовую колоду.
— У-у, горбатый! Погоди, покажет он тебе… — ворчал Пижму. Ему не нравилось, что Карась сдружился с молодым Уоми.
Пижму видел, как Уоми поманил кого-то рукой, и к лодке подошел его брат Тэкту с тремя старшими сыновьями толстой Дамму.
Скоро вся четверка молодых людей присоединилась к работающим, и дружное постукивание кремней стало перемежаться с громкими возгласами и взрывами веселого смеха.
Пижму сердито отвернулся. Наконец он не выдержал и, кряхтя, поплелся узнать, что думает об этом Мандру.
В просторной хижине было сумрачно и тихо.
Постоянные жители ее, особенно молодежь, старались вообще поменьше попадаться на глаза старику. Его все раздражало. Он не выносил громких разговоров. Игры и возня ребят возбуждали его гнев. После встречи с Уоми старик почти не разговаривал. Утром манил старшую дочь, седую Онду, и произносил только одно слово: «Пить!..»
Есть Мандру почти перестал.
Каждую ночь старухи просыпались от глухого и жалобного крика, который раздавался в хижине. При тусклом свете тлеющих углей было видно, как старик с усилием поднимается и спускает ноги с меховой подстилки, растирает рукою шею и голую грудь и дышит тяжело и часто. Онда подавала ему воды. Старик делал глоток и шептал:
— Душит! Совсем хочет задушить…
Он показывал пальцем на голову, а старуха, зачерпнув ладонью из глиняного горшка, мочила шапку его седых волос.
Когда Пижму, покряхтывая, вошел в хижину, Мандру сидел, поджав ноги, на постели.
Пижму тихо уселся у очага и уставился глазами в пол.
Проходили минуты за минутами в полном безмолвии. Наконец старуха отошла и сказала:
— Не ест ничего! Спит плохо. Все стонет. — Потом прибавила, махнув рукой на старика: — Боится Уоми.
Пижму взглянул на сгорбившегося старика.
— Душит меня. Каждую ночь душит. Берет вот так, — Мандру показал на горло, — и душит…
— Приходит к тебе? — с тревогой спросил Пижму.
— Каждую ночь! И раньше приходил. Когда далеко был — и то приходил. Только редко. А теперь — каждую ночь.
Пижму молчал.
— Убить хочет! Зол на меня. И глаза как у волка.
— Что же делать с ним?
Мандру только махнул рукой. И долго сидели они, придавленные бременем лет и жуткой темнотой рожденных больными снами суеверий. Наконец Пижму поднялся, сел на оленью подстилку к Мандру и, загородив сбоку губы ладонью, зашептал в самое ухо:
— Убить надо…
Мандру сморщился, как от зубной боли:
— Нельзя убить: нож у него заговоренный. Пижму опять хрипло зашептал на ухо:
— Сонного! Сонный не услышит.
— А перо? Услышит… Дабу все слышит…
Старики опять замолчали. Тихо потрескивали дрова в очаге. Догорали в нем последние сучья. Серым пеплом покрывались угасшие угли.
— Погубит он нас! — тяжело вздохнул Мандру. Пижму вздрогнул, и лицо его стало багровым.
— Сжечь его! — глухо заворчал он. — Живым сжечь! Чтобы и тени не осталось!..
Мандру опять махнул рукой и вдруг неожиданно громко закричал своим надтреснутым голосом:
— Стариков всех погубит! Половину народа изведет в Ку-Пио-Су! Это были последние слова, которые сказал Мандру. На другое утро его нашли мертвым, лежащим у самого очага с прижатыми к сердцу руками.
Смерть Мандру была страшным потрясением для всего племени Ку-Пио-Су.
Это была смерть старого вождя всех охотников.
В поселке Ку-Пио-Су мужчины имели старшину, которого они смолоду привыкли слушаться. Привычка эта сплачивала и поддерживала дисциплину. А дисциплина была им необходима, чтобы отстаивать жизнь среди тысячи опасностей от всяких врагов, и четвероногих и двуногих.
Смерть старейшины колебала привычный порядок, и место прежнего вождя скорее должен был заступить новый старейшина. Нужно было только, чтобы старшинство его было признано всеми стариками поселка.
Дело, однако, не было таким простым, как кажется с первого взгляда. Большинство стариков плохо считали свои года или попросту их не знали. У них была слабость преувеличивать свой возраст. Ведь почет и уважение к человеку росли вместе с годами.
Дело решала иногда степень седины, и люди, которые долго сохраняли большое число темных кудрей, считались как бы более молодыми в сравнении с совершенно седыми, белыми как лунь стариками. Много значило также умение держать себя важно, по-стариковски.
Иной глубокий старик по слабости, болезни или прирожденной робости сам добровольно отмахивался от старшинства, принадлежащего ему по праву. Поэтому в действительности решительный и властный характер часто имел большее значение для признания старшинства, чем число лет.
Кто был убийцей Мандру
Был еще и другой вопрос, пожалуй, не менее важный.
— Старики, — сказал Пижму, — думайте: кто убил Мандру? Мандру умер в своей семье, в хижине, полной близких ему людей. Из них ни один не заметил ни с чьей стороны какого-либо насилия. Мандру был уже глубокий старец, на много лет пережил всех своих сородичей. В последнее время он был уже очень слаб, с трудом ходил и жаловался на сердце и вечные удушья.
Что может быть естественнее смерти такого дряхлого старика?
Но жители поселка Ку-Пио-Су думали иначе. Для них не было естественной смерти. Человек умирает потому, что кто-то отнимает у него жизнь. Можно отнять ее силой. Охотнику и рыболову такая смерть всего понятнее. Но ведь и охотник добивается своего не только силой, но и хитростью. Смерть можно «наслать» наговорами и разными хитрыми магическими приемами. Болезни не сами приходят, их кто-то посылает. Это делают или враги, или тени умерших, или невидимые таинственные существа, которыми первобытная фантазия населила поля, леса, водоемы, омуты и речные русла — одним словом, всю окружающую природу.
Мандру присудил Уоми к изгнанию. Только чудом спасся Уоми от неминуемой смерти. Стало быть, у него достаточно было причин, чтобы ненавидеть Мандру и желать ему смерти. Никто не видел, как Мандру умер. Но близкие и старый Пижму слышали своими ушами, что Мандру незадолго до смерти говорил: Уоми приходит к нему во сне и душит его каждую ночь.
Пижму стоял на своем: Мандру умер от мстителя. Этим мстителем мог быть только Уоми!
Пижму говорил сердито и повторял слова Мандру: Уоми погубит стариков Ку-Пио-Су.
Старики сидели, уставив глаза в огонь, гладили бороды и качали седыми головами…
Поздно вечером в хижине Гунды ярко горел костер. Ждали старого Азу, а он все не возвращался. Вдруг колыхнулась входная занавеска, и из-за нее выглянула голова с шестью тонкими косичками, светлыми, как сухая солома.
— Не спите? — спросил девичий голос.
В хижину вползла девушка лет семнадцати. Это была внучка Пижму — Кунья. Глаза у нее были голубые, а щеки румяные, как шиповник.
— Ная, — тихо позвала она, — выйди сюда!
Ная быстро накинула платье и покинула хижину. Через несколько минут наружу вышел Уоми и застал обеих девушек в слезах и тревоге.
Кунья рассказала, как потихоньку пробралась она на тайный совет старцев и подслушала, о чем они говорят. Старики признали Пижму старшиной охотников, а Пижму — враг Уоми. Он твердит, что Уоми задушил Мандру во сне и хочет будто бы погубить всех стариков племени. Ему верят. Только Ходжа, да Карась-лодочник, да Аза не соглашаются. Пижму подговаривает сжечь Уоми на погребальном костре. Только старики боятся. А если бы не боялись, пожалуй, послушались бы Пижму. Они боятся заговоренного ножа и гнева самого Дабу. До сих пор все еще спорят…
Ная с плачем прижалась к груди брата. Кунья стояла в сторонке и кулаком утирала слезы.
Уоми нахмурился. Потом решительно тряхнул головой и стал утешать плачущих девушек:
— Не бойтесь! Старики мне не страшны. Они еще не знают, что может сделать Уоми.
Он приказал им молчать и не говорить никому ни слова.
На другой день, когда люди начали просыпаться, они заметили, что Уоми исчез. Вместе с ним исчезли его лук, стрелы и другое оружие. Оказалось также, что и Гунды нигде не видно.
Ная и Тэкту проследили отпечатки их ног до лодочной пристани. Тут, на мокром песке, натоптаны были следы мужчины, женщины и собаки.
— Они увезли с собой лайку, — сказала Ная.
— Далеко захотели ехать, — прибавил Тэкту.
Он указал борозду на рыхлом песке от недавно сдвинутой лодки. Было ясно: мать и сын уехали ночью вместе.
Но куда направили они путь? На этот вопрос никто не мог ничего ответить.
Похороны
С утра мужчины Ку-Пио-Су начали рыть яму. Копали среди других, более старых могил, на вершине небольшого холма, шагах в двухстах от поселка. Рыли каменными кирками, дубовыми кольями, отгребали песок ладонями рук и кусками твердой коры. Рыхлый песок легко поддавался усилиям землекопов.
К полудню неглубокая яма уже была готова. Дно ее усыпали толстым слоем свежей травы, чтобы мягче было лежать.
Тело Мандру перенесли из хижины и опустили на дно могилы.
Мандру положили на правый бок. Руки, согнутые в локтях, уложены были так, как бы это сделал человек, засыпая на своей постели. Сверху тело было посыпано красной охрой. Красный цвет — цвет крови. Красная охра — символ тепла, жизни, возрождения.
Это сделали для того, чтобы покойник проснулся молодым, сильным и здоровым в том новом мире, куда он переселился.
В этом, собственно, и заключался обряд похорон. Оставалось только как следует снарядить покойника.
«Полной смерти нет, — думали люди поселка Ку-Пио-Су. — Покойник только перешел в мир снов. Там есть все, что и в этом мире. Такие же реки, озера и леса. Там плавает рыба, летают птицы, бегают дикие звери. Мандру и там будет вести такую же жизнь, как и здесь.
Там уже ждут его умершие предки, а также сыновья, внуки и правнуки, которые умерли раньше. С ними вместе он построит себе новый дом, сделает новую лодку, будет ловить рыбу и бить лесных зверей».
В могилу опустили то оружие, которое когда-то сделал себе покойник: лук и стрелы, короткое копье, пращу, каменную кирку, долото, костяную иглу и кремневый скребок. Тело закрыли медвежьим мехом, чтобы покойнику было теплее.
Внуки Мандру притащили старое весло, с которым когда-то плавал по озеру сам старик, а также трут и огниво, завернутые в сухую бересту.
Женщины поставили два горшка — один с водой, другой с медом диких пчел. Карась принес на могилу другое, новое весло.
— Возьми, Мандру! — сказал Карась и опустил весло в могилу. — Пусть вспоминает Мандру старого Карася, когда будет ловить рыбу на теплых подземных водах.
В это время неистовый вой огласил озерную гладь. Два сына Пижму тащили к могиле привязанную ременной петлей собаку. Собака рвалась, каталась по траве, рычала, лаяла и жалобно выла, упираясь изо всех сил.
Это была собака самого Мандру, которая, словно предчувствуя что-то недоброе, ни за что не хотела подойти к могиле хозяина.
Собаку притащили на край могилы. Тут ей на шею накинули вторую петлю, и два внука Пижму стали тянуть концы их в разные стороны. Собака захрипела, высунула язык, и глаза ее остановились.
Пижму поднял задушенную собаку и сказал:
— Мандру, возьми с собой свою лайку. Она не захотела остаться здесь без тебя.
С этими словами он бросил собаку к ногам покойника.
В это время к могиле подошла старшая дочь Мандру — вдова Онда. Глаза ее были заплаканы. Седые космы висели по плечам.
Онда подошла к яме и села на землю.
— Мандру, — сказала она, — кто тебя там напоит, накормит? Кто голову расчешет? Кто ночью подаст воды напиться? Без меня некому. Возьми и меня, как взял свою собаку… Старики, хочу пойти на ту сторону. Куда он, туда и я. Пижму, ты теперь самый старший, проводи меня туда…
Она встала, поклонилась Пижму в ноги и осталась лежать, вытянувшись и прижавшись лбом к сырому песку.
Пижму поднялся, огромный, сутулый и неповоротливый, как медведь.
— Надо проводить! — сказал он и поманил к себе рукой младшего сына, Курбу.
Курбу был ростом с отца, но еще шире и костистей. На широких плечах и короткой шее сидела круглая голова, обросшая ворохом рыжих волос. Из-под низкого лба и густых бровей невесело глядели маленькие бесцветные глазки.
Пижму наклонился и что-то сказал сыну на ухо. Курбу медленно повернулся и, раскачиваясь, отправился в дом.
Пижму подошел к старухе и погладил ее по голове:
— Лежи, Онда, и не бойся! Задумала ты хорошо. Надо заботиться о старом Мандру. Привык он к тебе. Скучно будет ему без тебя.
Курбу вернулся с оленьей шкурой и длинным белым ремнем из лосиной кожи.
Пижму, тихо приговаривая, накрыл Онду шкурой.
— Не бойся, Онда, хорошо будет! Ничего не бойся. Курбу сделал посреди ремня петлю и подал отцу.
Пижму не торопясь наклонился, приподнял шубу, надел петлю на шею старухи и опять прикрыл ее мехом. Один конец ремня отдал Курбу, другой — старшему сыну, такому же увальню, как и младший.
Сыновья стали по обеим сторонам старухи и ждали.
— Ну! — сказал Пижму, и оба силача изо всех сил стали тянуть концы.
Старуха забилась и задергала ногами.
Пижму подошел с каменной палицей в руках и нащупал голову Онды.
Мужчины, старики, женщины и дети следили за ним затаив дыхание. Некоторые опустили головы и зажмурились. Пижму поднял свою страшное орудие. Тяжелый булыжник с размаху ударил Онду по темени.
Тризна
Огромный костер перед могилой пылал знойными снопами огня. Жители Ку-Пио-Су справляли прощальную тризну. Она продолжалась уже третий день. Все население островка окружало могилу.
То и дело кучки людей отправлялись по мосткам за новыми вязанками дров. Они тащили их на спине или волокли на длинных и коротких полозьях, загнутых впереди, как лыжи, и скрепленных между собой наподобие саней.
Мужчины по временам садились на свои челноки, чтобы закинуть сети и наловить рыбы.
Только что пойманную рыбу тут же пекли на горячих углях, а когда ели, половину бросали обратно в огонь или в сторону могилы:
— Возьми, Мандру! Ешь на здоровье. Ешь и ты, Онда. Вам далеко идти. Надо набраться сил.
Иногда съедали всю рыбу, а в огонь кидали голову и говорили:
— Ты был у нас голова. Возьми себе голову, Мандру! Ешь, она сладкая. — Потом бросали хвост и приговаривали: — Ты была его хвостом, Онда. Куда голова, туда и хвост!
Могилу к этому времени уже прикрыли сучьями и засыпали сверху песком. Но один угол оставался неприкрытым. В это отверстие ставили пищу покойникам. Его оставили также для того, чтобы души умерших могли вылетать по ночам и вновь возвращаться в свой подземный дом. Ребята подползали к могиле и с любопытством заглядывали внутрь.
На третий день из отдушины стал выходить сладковатый и терпкий запах тления. Это означало, что души покойников окончательно отделились от тела.
Тогда дыру в могиле заткнули травой, переплетенной с колючими ветками шиповника. Дыхание покойника, пожалуй, может выходить из могилы. Но если попробует вылезти сам покойник, он наткнется на колючки и не пойдет. Незачем мертвецам шататься и пугать живых.
Каждый поминальный день начинался пением Ходжи.
С восходом солнца раздавалось глухое бормотание бубна. На подостланной шкуре против могилы слепец заводил свою монотонную музыку. Бубен звучал сначала громко, потом все тише и тише и вдруг начинал греметь, как будто от нового прилива энергии. После третьего затихания раздавались размеренные звуки песни. Мелодия состояла всего из одной или двух музыкальных фраз. Они без конца повторялись одна после другой, хотя и с разными словами.
Мелодичной речью рассказывал певец про долгую жизнь, приключения и подвиги вождя охотников. Все, что когда-нибудь рассказывалось в поселке о славных подвигах Мандру, хранилось в удивительной памяти слепца. Незаметно для него самого живое воображение Ходжи вплетало сюда новые подробности. Действительные подвиги — борьба с диким вепрем, поединок с бурым медведем, которого Мандру запорол насмерть дубовой рогатиной, победа над бешеным лосем — переплетались с легендами о снах Мандру, которые он рассказывал близким. Их было много, и песен о них хватило на все трое суток погребального пиршества.
Когда усталому певцу приносили поесть и попить, песня смолкала. После обеденного отдыха сказания о снах Мандру возобновлялись и продолжались до вечера. Звезды загорались на небе, ночные тени выползали из-за кустов и деревьев, над водой поднимался туман. Певец поникал усталой головой и засыпал над своим бубном.
Так было на первый и на второй день пира. Так продолжалось и на третий. Солнце уже было низко, а Ходжа все еще пел о подвигах Мандру.
Вдруг Тэкту закричал, показывая на озеро:
— Уоми едет! Уоми!..
Сидящие вокруг костра вскочили и стали вглядываться, куда показывал Тэкту.
Из-под высокого берега поворачивал к острову узкий челнок. На корме с жердью в руках виднелась стройная фигура Уоми…
Вместе с матерью
В тот вечер, когда Кунья и Ная принесли известие о коварных замыслах Пижму, Уоми улегся позже всех в доме. Сон бежал от его глаз, веки не смыкались. Мысль, что ему снова грозит опасность, не давала покоя.
Он ворочался с боку на бок и задумчиво следил за светлыми точками звезд сквозь открытую дымовую дыру.
Вдруг чья-то мягкая рука тронула его лоб. Возле него стояла Гунда.
— Мать, — прошептал он, — почему не спишь?
— Уоми не спит, и Гунде сна нету, — ответила мать. Она тихо гладила его по голове. — Ная мне все рассказала.
Уоми взял ее маленькую руку.
— Уйдем, — сказала Гунда. — Уйдем далеко! Чтобы они не нашли нас.
Уоми спустил ноги на пол.
— Уйдем, — шептала Гунда. — Пойдем к самому Дабу. Он защитит. Он научит. От него узнаем, что делать.
— Пойдем! — сказал Уоми. — И пусть никто не знает куда. Он еще раз огляделся: все домашние спали крепко.
— Выходи, мать, наружу! Я за тобой…
Ощупью он собрал свое оружие и походные вещи и крадучись вышел из хижины.
Мать взяла его за руку.
Край неба уже начинал светлеть. Уоми заметил, как сияли глаза матери.
— Скорее, скорее! — шептала Гунда.
И оба они торопливо двинулись к лодкам. Мостки, соединявшие островок с берегом, были разобраны, чтобы никто из чужих не мог проникнуть в поселок.
Глаза и Гунды и Уоми уже различали на прибрежном песке темные силуэты челноков. В это время что-то белое подкатилось под ноги. Это была лайка; она догнала их по следам.
— Молчи! — сказала Гунда и погрозила пальцем.
Уоми выбрал легкий челнок, усадил в него мать, сложил на дно оружие и другие пожитки.
Лайка, виляя хвостом, просилась взять ее с собой.
— Возьми и ее, — сказала Гунда. — Завоет — перебудит всех.
Она позвала собаку, и та, свернувшись, улеглась у ее ног.
Уоми спустил челнок в воду, взобрался на корму и оттолкнулся шестом от берега. Лодка беззвучно скользнула в мутный туман, окутавший островок Ку-Пио-Су.
Уоми переправился через пролив и пристал к высокому берегу. Он направил лодку в устье реки, сбегавшей к озеру по дну лесного оврага. Тут он отыскал удобное место и спрятал челнок в густых кустах. Он сделал это так искусно, что заметить его было очень трудно.
Покончив с этим, он двинулся вверх по течению и повел мать прямо по воде. Ведь в текучей воде следов не остается.
Пройдя несколько десятков шагов, они поднялись на высокий берег оврага и двинулись по знакомой тропинке.
Это была та самая тропа, которая вела к оврагу Дабу.
К вечеру они вышли из лесу в том месте, где была спрятана старая лодка Уоми. Цел ли его челнок? На месте ли багор и весло?
Он отыскал на берегу пепел и угольки костра, под защитой которого провел памятную для него ночь.
Когда раздвигал кусты, сердце его забилось: а что, если он увидит ту самую Каплю, которая являлась ему во сне?
Челнок оказался на месте, а вместо девушки на нем сидела лягушка. Она испугалась и прыгнула в воду.
— Ага! — сказал он вслух. — Капля посылает ее сторожить мой челнок.
Идти сейчас же к Священному Дубу Гунда не захотела: дорога утомила ее. Она достала из мешка небольшой запас печеной рыбы, чтобы поужинать.
Уоми высек кремневым огнивом искру на сухой трут, раздул его и развел огонек. Гунда стала жарить тетерку, которую Уоми подстрелил по дороге. После ужина решили идти.
Уоми привязал лайку ремнем к лодке и взял с собой половину щуки, чтобы накормить Дабу. К Священному Дубу надо было попасть до темноты. Полночь — это время, когда летают ночные тени и Невидимые открывают людям свою волю.
Как только мать и сын вступили в овраг, они почувствовали, что лесная темень настигает их гораздо скорее, чем они ждали.
Здесь, под густым пологом раскинувшихся вверху дубовых вершин, быстро угасали последние отсветы вечерней зари. Гунда торопливо шептала слова древних заклинаний против злых лесовиков и ночных страхов.
Уоми почувствовал, как дрожали похолодевшие пальцы матери в его крепкой руке:
— Не бойся, мать! Дабу близко. Он защитит нас.
Сыну хотелось ободрить мать, но, против воли, ее страх отчасти передавался и ему. С каждым шагом сгущались лесные сумерки. С каждой минутой, казалось, оживают тени леса. Ветви кустов и деревьев тянулись к ним, словно руки, просящие пищи.
Гунда отламывала маленькие кусочки печеной рыбы, кидала их кустам и деревьям и приговаривала приветливые слова:
— Ешьте, милые! Ешьте! Защитите Гунду и Уоми.
Так добрались они до Священного Дуба. С бьющимся сердцем Гунда сделала несколько шагов по сумрачной поляне и остановилась.
Дабу стоял перед ней. Здесь, под его ветвями, Гунда чувствовала себя маленькой и слабой.
Уоми и Гунда опустились на землю и прижались лицами к корням Священного Дуба. А он стоял над ними, растопырив корявые руки-сучья и разинув черную пасть дупла.
Наконец Уоми поднялся.
— Отец, — сказал он, — к тебе пришел сын твой, Уоми! Защити его от врагов!
— Пижму хочет убить Уоми, — сказала Гунда. — Дабу! Ты дал Гунде Уоми. Сохрани его! Уоми — твоя кровь. Защити его…
Она кинула голову щуки и остаток мяса в зияющее над нею дупло.
Мать и сын стояли протянув руки и ждали ответа. Пылкое воображение их работало помимо воли, а глаза, ясные, как у детей, были устремлены на предмет обожания.
Их слух и все чувства обострились до невероятной тонкости. Они слышали чуть заметное журчание ручья, треск отломившейся ветки, шуршание мыши в сухой листве.
Они старались истолковать по-своему значение этих звуков. Они искали в них ответа на свои просьбы.
Вдруг серая тень мелькнула между ветвями. Уоми показалось, что она вылетела из дупла и беззвучно исчезла между стволами. Через минуту громкое улюлюканье филина послышалось где-то рядом. Небо озарилось вспышкой далекой зарницы, которая здесь, среди черных деревьев, казалась особенно яркой.
Это был несомненный ответ. Дабу откликался на их просьбы. Но как нужно было его понять?
— Это его душа! — прошептал Уоми. Гунда дрожала, прижавшись к сыну.
— Ты видела?
— Видела… — прошептала Гунда.
— Останемся здесь до утра. Узнаем, что скажет Дабу.
Заговоренный посох
Уснули они поздно. Гунда забылась первая, прижавшись к руке сына. Потом уснул и он.
Яркие сны вознаградили их за терпение. Гунде пригрезилось, будто она, еще молодая, сидит одна в пустом доме. Перед ней ярко пылает огонь. В хижину входит красивый и румяный старик с ласковыми глазами. Он садится у входа и вынимает из-за пазухи длинный нож. И она ясно видит: нож этот — тот самый, который привез Уоми из далекой страны.
«Отдай его Уоми, — говорит старик. — Скажи ему, пусть ничего не боится. У кого этот нож, тот всех сильнее». Гунда знает: этот старик не кто иной, как сам Дабу. «Пусть едет искать невесту! Придет весна. Полетят журавли. Тогда пусть гребет далеко! Скажи Уоми: Дабу ему поможет».
Гунда проснулась, и сердце ее билось, как пойманная птичка. Еще бы!! Она говорила с самим Дабу. Он сам обещал помощь.
Уоми уже не спал. Он ждал, когда мать откроет глаза. Ему надо было рассказать свой сон.
С ним случилось то, что изредка бывает со всяким. Сон его был повторением того сновидения, которое его уже раз посетило. Опять поиски лодки, опять девушка — дочь Водяного. Опять ему грезилось, что девушка моет его ноги и зовет искать ее у Большой Воды.
Сон повторился, значит, это неспроста. Это вещее сновидение. Оно предсказывает будущее.
Гунда нарвала цветов и бросила их в дупло дуба. Вдруг порывом ветра всколыхнуло нижние ветки, и одно из жертвенных приношений сорвалось и упало к ногам Уоми. Это был посох, один из тех, которыми были увешаны нижние ветви дуба.
Уоми остановился в раздумье. Приношения неприкосновенны. Но ведь Дабу сам бросил его Уоми.
Уоми нерешительно прикоснулся к посоху.
— Что делаешь? — в испуге прошептала Гунда. — Посох заговоренный. Повесил его сам Мандру. Ты был тогда еще мал. Напала на Пижму Хонда. Палила его огнем. Трясла его, ломала. Пижму сам рассказывал. Никто ее не видел, а он видел. По ночам кровь пила… Исхудал Пижму, как щепка. Лицо все побелело. Мандру заговорил болезнь. Напоил Пижму полынной водой. Потом взял посох и заговорил его: «Хонда, Хонда, войди в посошок! Вяжу тебя лыком. Перевязываю ремнем сыромятным. Не выйти тебе, пока ремень не развяжется!..» Всем поселком ходили смотреть. Как Дабу взял посох, так и пропала у Пижму болезнь.
— Что же, — сказал Уоми. — Дабу сам отдает мне этот посох. Теперь Пижму в моих руках. Что захочу, то с ним и сделаю.
Лосиха
Обратный путь проделали по реке. Уоми решил пригнать в Ку-Пио-Су челнок, с которым так много было связано в его прошлом.
Река шла широкими извилинами. То с той, то с другой стороны белели отмели. Водяные птицы плавали возле берегов и безбоязненно глядели на людей в лодке. Речные чайки проносились над головами. Серые цапли неподвижно стояли на отмелях, у самой воды.
Высокий лесистый берег белел известковыми обрывами. То здесь, то там прорезывали его узкие щели лесных оврагов.
Ночь провели они на небольшом островке, поросшем ивовыми кустами. Ранним утром снова пустились в путь.
День был жаркий. Уоми сбросил всю одежду, кроме узкого передника из шкурки бобра. Железные мускулы его выпукло круглились под бронзовой кожей. Белая лайка дремала у его ног. Гунда, свернувшись комочком, с улыбкой следила за ним.
Неожиданная встреча задержала их почти у входа в Рыбное Озеро. Они уже собирались войти в узкий проток, соединявший его с рекой, как вдруг Уоми насторожился.
У самого поворота от берега плыла огромная лосиха, а за нею полугодовалый, молодой лось. Они переплывали в этом месте реку и были застигнуты врасплох.
Лосиха фыркнула, и оба зверя повернули назад. Но было уже поздно. Несколькими сильными взмахами шеста Уоми разогнал лодку и ловко направил ее на лосиху. Прежде чем она успела добраться до мелкого места, Уоми уже нагнал ее и вдруг, выхватив бронзовый кинжал, прыгнул прямо на загривок перепуганному животному.
На мгновение оба они погрузились в воду, но лосиха справилась и снова выставила голову. Уоми крепко ухватился за ее шею. Лосиха шумно фыркнула, ноздри ее раздулись, а сердитые глаза налились кровью. В это время ее задние ноги коснулись дна. Она тотчас же поднялась на дыбы и сделала прыжок, поднимая вокруг себя тучи брызг.
Положение становилось опасным. Уоми напрягал все силы своих рук, чтобы удержаться. Но тут река снова сделалась глубже, и лосиха принуждена была плыть. Уоми сжал рукоятку кинжала и крепко вогнал бронзовое лезвие между затылком животного и шейным позвонком. Лосиха сделала судорожный скачок, снова взвилась на дыбы и всей тяжестью рухнула в воду.
Пришлось потратить немало времени, чтобы подтянуть убитого зверя к земле и кое-как, общими усилиями вытащить его тяжелую тушу на берег.
Чтобы речные волны не унесли лосиху, Уоми крепко привязал ее к стволу ивы и наскоро закидал стеблями тростника. После этого он искупался, чтобы смыть с себя пятна звериной крови, потом снова взобрался в лодку и погнал ее через проток в озеро и дальше, к острову Ку-Пио-Су.
Между тем солнце уже село. Над водой забелела туманная дымка. Становилось холодно, и Уоми пришло одеться, чтобы не озябнуть.
Жители Ку-Пио-Су заметили Уоми только тогда, когда он поравнялся с островком и повернул челнок, чтобы подойти прямо к причалу.
Пижму или Уоми?
Уоми не ждали.
Большинство думали, что Уоми скрылся совсем. То, о чем говорилось в хижине Пижму, не осталось тайной в поселке.
Родные Уоми сурово поглядывали на Пижму. Они были недовольны его старшинством. Исчезновение Гунды вместе с Уоми еще больше их взволновало. Ная и Кунья разболтали причину ухода Уоми среди девушек поселка. Старшие женщины узнали об этом от своих дочерей.
Все были уверены, что Уоми бежал. А раз бежал, значит, боится. Если боится, значит Пижму сильнее Уоми и надо смотреть в глаза Пижму.
Но вот Уоми неожиданно вернулся. Его встретили в полном молчании. В этом молчании скрывалось прежде всего величайшее любопытство. Скорее, скорее узнать, как встретятся двое и кто из этих двоих возьмет верх.
Как только Уоми ступил в круг людей, сидевших у костра, глаза молодых людей вспыхнули восхищением.
Уоми шел как победитель. Он высоко нес свою красивую голову. Походка его была легка, глаза сияли торжеством. Бронзовый клинок торчал у него за поясом. Мать Гунда еле поспевала за ним. Она сгибалась под тяжестью дорожного мешка, а в руках несла длинный лук, рыболовное копье и другое оружие сына. Белая лайка, навострив уши, бежала сзади.
Уоми прошел прямо к камню, на котором сидел Пижму, окруженный более молодыми охотниками.
— Дед Пижму, — сказал он улыбаясь. — Вот умер Мандру, и наши старики признали тебя старшим. Уоми думал всю ночь и захотел навестить отца. Уоми и Гунда ходили к самому Дабу. Они говорили с ним. Гунда, скажи, кого ты видела у Священного Дуба.
— Видела большую сову, — сказала Гунда. — Это была его душа. Она вышла изо рта самого Дабу и летала вокруг. Ночью Дабу спит, а душа его все видит. Она видит все, а глаза ее как угли.
— Она летает близко и далеко, возвращается, и Дабу узнает все, — сказал Уоми. — Дабу знает, что Пижму уговаривал стариков бросить Уоми в огонь.
Шепот изумления пробежал в толпе. Лицо Пижму вытянулось, и он стал теребить свою седую бороду.
Уоми обвел торжествующим взглядом смущенных стариков:
— Дабу знает тех, кто не соглашался с Пижму, и тех, кто смотрит ему в глаза. И Дабу открыл их Уоми. И еще Дабу сказал: не бойся. У тебя волшебный нож. Он защитит тебя от всех нападений, а душа Дабу будет охранять тебя и днем, и после захода солнца.
В это время зычный и пронзительный крик донесся с опушки леса. Это был хохот и улюлюканье ночной птицы.
— Слышите? — спросил Уоми и протянул руку туда, откуда слышался голос филина. — Слышите? Это душа Дабу. Она близко…
Все оцепенели от страха. Пижму побелел, как его собственная борода.
А Уоми продолжал:
— Чего бояться Уоми? Сам Дабу ему помогает. А этот волшебный нож — он горит, как огонь, и убивает, как гром. Убивал ли кто лося одним ножом? Пусть говорит Гунда!
— Уоми прыгнул на лося, как рысь, — сказала Гунда, — и воткнул ему нож в затылок.
Гунда положила мешок на землю и вынула оттуда отрезанное лосиное ухо. Уоми кинул его перед костром.
— Вот, — сказал Уоми. — Поезжайте, куда скажу. Привезете мясо для всего Ку-Пио-Су.
Веселый смех и крики одобрения были ему ответом. Уоми повернулся к Пижму и пристально посмотрел ему в глаза.
— Не бойся, Пижму, наговоренного ножа, — сказал он. — Бойся другого!
Уоми обернулся к матери и взял из ее рук посох с толстым набалдашником:
— Узнал ли Пижму этот посох? Сам Дабу отдал его Уоми. Теперь Пижму пусть остерегается делать Уоми зло. Уоми развяжет ремень, и огненная Хонда выйдет на волю.
Уоми взялся за конец ремня, показывая, что он сейчас же готов исполнить свою угрозу.
Пижму изменился в лице и с усилием поднялся с земли. Голова его шла кругом. Он поднял перед собой обе руки, как бы защищаясь от страшного призрака. Сутулый и неуклюжий, как медведь, стоял он перед Уоми, шатаясь от страха. Губы его тряслись. Рот открывался и закрывался. Он не мог выговорить ни слова. Колени дрожали, и весь он трепетал как в лихорадке.
Наконец он склонился до самой земли.
— Нет! — глухо простонал он. — Не выпускай Хонды!! Пижму не скажет слова против Уоми.
Старый Пижму сдавался без борьбы и со стыдом молил о пощаде.
Часть вторая
Совет стариков
Еще одни сутки продолжалась похоронная тризна после смерти Мандру. Когда привезли убитую лосиху, Уоми угощал ею весь Ку-Пио-Су, ласково потчуя стариков поселка.
Он говорил, что скоро придет к ним просить совета по важному делу.
Прошло несколько дней. Жизнь, казалось, начинала входить в колею, но все чувствовали, что наступила перемена и теперь все пойдет по-новому, не так, как прежде.
Умер Мандру, а новый старшина рода не внушал уважения. А тут еще Уоми затевает какое-то загадочное дело.
Стариков разбирало любопытство:
— Советоваться хочет… О чем? Пробовали подсылать разведчиков.
Светловолосая Кунья, внучка Пижму, вползла в хижину. Долго стояла без улыбки, без слов.
— Кунья, садись сюда, — сказала Ная отодвигаясь. Девушка села на меховую постель подруги.
— Что слышно? — спросила Ная.
— Ничего не слыхать, — ответила Кунья, и еще с минуту длилось молчание. Вдруг Кунья обхватила шею подруги и тихо сказала: — Дедушка приказал узнать, о чем хочет говорить со стариками Уоми.
Уоми мастерил кремневую пилу. Это была кропотливая работа. Между двумя половинами расщепленного вдоль стволика молодой осинки нужно было защемить десятка полтора острых кремневых зубьев, заранее подобранные осколки одинаковой толщины уложить так, чтобы зубцы были все на одной линии. Но этого было мало: надо было каждый из них закрепить и проверить, чтобы он твердо сидел в своей лунке, проделанной каменным долотом.
Такой пилой нельзя было перепилить толстое дерево, но спилить сук, сделать кольцевой надрез вокруг молодой елки, чтобы легче потом сломать, было вполне возможно. Ею можно было также проделать глубокую борозду в каменной плитке сланца, чтобы потом резким ударом отбить нужный кусок как раз по борозде.
Кунья робко повторила вопрос и сейчас же спрятала раскрасневшееся лицо за спину Наи.
— Скажи деду: старики позовут — Уоми придет и все скажет. Не захотят — пойдет к самому Дабу.
Больше ничего не сказал Уоми. Кунья подождала еще и тихонько вышла из хижины.
В тот же день старики собрались в доме Ходжи и послали за Уоми.
Когда посланный привел Уоми, старики уже сидели вокруг пылающего очага.
Вошедший отвесил низкий поклон.
— Старики! — сказал он. — Приходила во сне к Уоми невеста, дочь хозяина Большой Воды. Три раза приходила, звала его. Будет ждать на берегу.
— А-а! Ждать будет? — послышались любопытные голоса.
— Будет. Взять хочет Уоми девушку-невесту.
— Хороша девушка?
— Как лебедь! Кланяюсь вам, старики. У вас разуму больше. Научите, где Большая Вода!
Старики переглянулись, не находя ответа. Уоми опять поклонился:
— Наставьте, старики! У вас разуму больше. Старики молчали.
Первый заговорил слепец Ходжа:
— Ходжа ростом мал, а разумом меньше всех. Ждал, что скажут большие. Никто рта не открывает. Прикажите говорить слепцу Ходже!
— Говори, — сказал Пижму.
— Скажу вам, старики, одну правду. Был Ходжа молодой, были у него глаза. Ходили тогда молодые добывать себе невест. И Ходжа с ними. Снарядили восемь челнов. Был и тогда слух про Большую Воду. Хотели дойти до Большой Воды.
— И дошли? — радостно крикнул Уоми.
Ходжа помолчал, пожевал губами и вдруг грустно покачал головой:
— Не дошли. Немного не дошли, назад вернулись. А были близко!
— Слыхали и мы про это, — сказал Карась.
— Вот, — сказал Уоми. — Ходжа не дошел. Пойдет Уоми. Кланяюсь вам, старики. Хочет Уоми набрать дружину для дальнего похода. Кто захочет идти, не мешайте. Трудно одному идти на край света.
— Нет! — раздался басистый голос Пижму. — Сам иди куда хочешь, а молодых не мути. Пусть дома остаются. Невесты и близко есть.
Пижму сидел потный, красный как рак, и видно было, что скрытая ненависть его к Уоми так и рвется наружу.
Уоми повернулся к Пижму и внимательно взглянул на злобствующего старика.
— Пижму, — сказал он, — помни: посох твой в моих руках. Если забыл, Уоми тебе напомнит.
Пижму поднялся багровый. Злоба душила его. Глаза сверкнули. Он с сердцем махнул рукой и рявкнул, не глядя на Уоми:
— Пусть едут на край света! Пусть едут! Только пусть назад не возвращаются.
Он вышел и с досадой задернул за собой меховую занавеску.
Молодые и старые
На свою голову раскричался Пижму на совете старцев. Этот уход, похожий на бегство, сильно подорвал его авторитет в глазах обитателей Ку-Пио-Су. Теперь всем ясно: Пижму боится. Какой же он старший, если молодой берет над ним верх?
За эти дни Уоми стал настоящим героем молодежи.
Пожилые люди и особенно старики смотрели более осторожно. У иных тоже была причина побаиваться Уоми.
После ухода Пижму они стали говорить:
— Что ж, пусть едут!
Некоторые, как и сам Пижму, были бы не прочь избавиться от этого слишком уж смелого сына Гунды. Отпускать же с ним свою молодежь почти никому не хотелось.
Но молодежь думала иначе. Обычай добывать себе жен из отдаленных селений прочно вошел в быт рыбноозерцев. Это считалось удальством. Чем дальше взята невеста, тем больше почета жениху.
— Почему не пускать? — говорил Карась. — Нужно молодым добывать невест? Нужно. Так о чем тут спорить? Уоми — молодец. С ним не страшно. Да что молодежь! Сам пойду с ними! Довольно Карасю дома сидеть. Может быть, и Карась себе невесту найдет.
Весть о том, что и Карась хочет идти вместе с Уоми, разбила последние надежды Пижму. Теперь никто уже не слушал стариков. Молодые кричали:
— С нами тоже старики!
Вслед за Карасем к Уоми присоединился слепец Ходжа. Сказки рассказывать и песни петь — вот что обещал слепец.
И еще одна седая голова вдруг оказалась на стороне молодежи. Это был дед Аза.
Аза был только немного моложе Пижму. Болезни и старческая слабость приковывали его к нарам. Но Аза понимал молодежь.
— Идите, идите! — бормотал он всякий раз, как укладывался спать. — Идите, не бойтесь! Сам, когда молодой был…
На этом Аза замолкал, и никто не слышал, какие славные подвиги его юности воскрешала стариковская память.
Сборы в поход
Начались сборы в поход. Прежде всего нужны были исправные лодки. Челноки были общей собственностью. Когда заходила речь о том, какие лодки можно отдать участникам похода, поднимались горячие споры.
В далекий поход нужны были большие, хорошие и быстроходные челноки. С собой нужно было взять немало всяких вещей: одежду, оружие, сети и другие рыболовные снаряды. Опытные люди советовали:
— Возьмите лыжи и полозья. Не везде пройдете водой, придется волоком перетаскивать лодки.
Нужно было иметь с собой солидный запас подарков, чтобы мирно уладить дело с родными девушек. Все это составляло порядочный груз, и малый челнок не годился для такого похода. Но и те, кто оставался, вовсе не желали довольствоваться маленькими и худшими челноками. Ведь Рыбное Озеро в бурю и непогоду тоже шутить не любит! Да и отдавать на сторону лучшие произведения тяжелого и долгого труда старикам и пожилым не хотелось. Ведь каждая лодка была делом их рук.
Молодежи приходилось рассчитывать главным образом на лодки, которые еще не были готовы.
На островке с раннего утра раздавались теперь глухие удары. Это стучали кремневые тесла, долота и топоры, отбивая кусок за куском древесину внутри наполовину уже выдолбленных дубовых или осиновых колод.
А сколько нужно было сделать весел и речных багров!
Другая, не менее важная, забота — оружие. В далекий и опасный путь надо было отправляться хорошо вооруженными. В каждом доме был некоторый запас копий, луков и стрел. Но это оружие нужно было и тут, на месте.
Тэкту, Уоми, сыновья Карася и другая молодежь усиленно трудились над обработкой каменных наконечников: маленьких — для стрел и больших — для копий.
Лето уже кончилось. Начиналась дождливая осень. С каждым днем становилось все ясней и ясней, что до весны нечего было и думать пускаться в дорогу.
Пижму
С самого дня похорон Мандру спокойный сон покинул старого Пижму. Он боялся. В руках этого Уоми — убийцы Мандру — его заговоренный посох. Захочет — выпустит Хонду, и Огненная Девка снова придет его терзать. Он вспомнил то время, когда хворал, и волосы зашевелились на его голове.
Лихорадка мучительна сама по себе. Но для Пижму главный ужас заключался в образе страшилища Хонды. Он хорошо помнил, как она приходила к нему, чтобы пить по ночам его кровь.
Почти каждую ночь будила его тревога. Он садился на нары и боязливо осматривался. Прислушивался к мирному дыханию спящих, следил, как медленно догорает огонь в очаге, как тлеют затухающие угли.
Иногда он подбрасывал в очаг несколько сучьев и снова ложился, чтобы мучиться до утренней зари. Но чаще выходил, сгорбившись, наружу, опираясь на толстый дубовый сук.
Мысль об Уоми сделалась у старика неотвязной. Если Уоми попадался ему навстречу перед сном, Пижму, случалось, не мог уснуть всю ночь напролет.
После одной из таких бессонных ночей Пижму полдня провалялся на нарах и с трудом поднялся с постели. В хижине была одна Кунья. Она сидела у очага и грела воду. Она кидала в воду раскаленные камешки и с любопытством следила за тем, как от них, шипя, поднимались пузырьки.
— Кунья! — позвал Пижму хрипло и глухо. — Сядь сюда. — Он поманил ее пальцем.
Кунья вскочила и села около старика.
— Ходишь к Нае? — спросил Пижму.
— Хожу, — ответила Кунья.
Пижму молчал долго. Кунья подумала, что разговор кончен, хотела встать и уйти. Вдруг дед крепко ударил ладонью по ее коленке, и голос его загудел:
— Уоми враг! Хочет меня погубить. Снял с дерева мой заговоренный посох. За это прежде кидали в огонь!
Кунья со страхом следила, какой злобой вдруг исказилось лицо старика.
— Спрятал посох, а в посохе моя болезнь. Развяжет, выпустит, и мне — смерть! — Старик сжал кулаки, и щеки его побагровели. — Найди, Кунья, посох! Узнай, где спрятали. Не найдешь, живой не оставлю!
Он вдруг схватил ее за горло и так крепко сжал пальцами, что Кунья стала задыхаться. Она хотела крикнуть и не могла.
Пижму отпустил ее и взял себя обеими руками за голову. Кунья сидела ни жива ни мертва. Она начала плакать. Всхлипывала потихоньку, и слезы струйкой стекали по ее грязной от копоти щеке.
Пижму услыхал плач Куньи и поднял голову.
— Иди! Делай! — приказал он.
Кунья перестала хныкать, помолчала и сделала вид, что соглашается. Лучше не спорить!
Кунья по опыту знала: послушание на словах — лучшее средство сделать в конце концов по-своему.
В этой борьбе, которую вел Пижму против Уоми, сердце девушки было не на стороне деда.
Замысел Пижму
Хитрости Пижму не приводили ни к чему. Кунья чуть не каждый день бегала к Нае. Старалась заходить днем, когда мужчины были на работе.
Порой Кунья осторожно переводила разговор на братьев, но, когда возвращался Уоми, Кунья умолкала, щеки ее заливались румянцем. Крепко схватив руку Наи, она сидела не шевелясь и неотступно следила за Уоми.
Однажды она призналась Нае, что дед подсылает ее для того, чтобы высмотреть, куда прячет Уоми заговоренный посох.
— Только пусть Уоми не боится: Кунье Пижму — волк. Она не сделает, чего он хочет.
Ная вечером пересказала все матери и брату. Уоми насторожился.
Через несколько дней неожиданно пожаловал сам Пижму. Он старательно высмотрел, когда Аза остался один, и пришел с явным намерением застать старика врасплох.
Но Аза не спал. Он сидел на полу и кашлял.
Пришлось и Пижму сесть у очага в ожидании счастливой минуты.
С усилием выдавливал он из себя слова, но разговор не клеился.
В довершение всего, вдруг вернулась Гунда. Она уселась на нары, усмехнулась и пристально стала смотреть на непрошенного гостя.
Пижму замолчал, покраснел, бегал виноватыми глазами.
— Не думай! — вдруг сказала Гунда. — Нет тут твоего посоха. Ступай-ка лучше отдохни от больших трудов!
Пижму съежился, втянул голову в плечи и, не прощаясь, пошел домой.
Несколько дней после того он чувствовал себя как побитая собака.
Но в одно ясное утро Пижму поднялся, против обыкновения, совсем веселый. Сон ли добрый приснился или пришла новая счастливая мысль? Он бодро поднялся, плотно поел и стал собираться в дорогу. Подозвал старшего брата Куньи, Гарру, и приказал приготовить лодку.
Гарру сбегал на пристань, пригнал лодку поближе к дому, вернулся и сказал:
— Готово. Челнок плыть хочет!
Пижму стоял перед очагом и надевал дорожную одежду:
— Далеко поедем. Захвати с собой побольше еды.
Дед и внук взяли оружие, рыболовные снасти и уселись в долбленку. Гарру поместился на корме и сильно толкал лодку шестом. Пижму подгребал и правил челнок коротким веслом.
Солнце поднималось все выше над озером. На заливных лугах блестели там и сям старицы, болота и лужи.
Урхату
В этот день солнце начало припекать уже с утра. Небо было безоблачно. Душное марево нависало над лесом. К полудню Гарру истомился вконец. Он взмолился об отдыхе. Пижму причалил к берегу.
Место выбрали удобное: на зеленой траве, под тенью густых берез. Челнок вытащили на берег. Гарру, не теряя времени, кинулся в воду и долго окунался, мочил голову, фыркал и снова начинал окунаться. Дед тем временем высыпал на землю из горшка запас горячих углей, накидал сухих стебельков и раздул огонь.
После еды легли в тени на отдых. Пижму спал спокойно, как будто забыл про свою тревогу.
После отдыха двинулись дальше. На западной стороне росли облака, похожие на снежные горы.
За одним из выступов берега вдруг открылась мрачная картина. Обгорелый лес с остроконечными копьями обугленных еловых стволов спускался здесь к самой воде. Множество деревьев, вывороченных ветром с корнями, лежало вершинами вниз по крутому скату берега.
— Поворачивай сюда, — сказал Пижму. — Причаливай к Щели! Здесь к реке выходило устье глубокого оврага. У самого устья съехавшая вместе с глиняным оползнем огромная береза низко наклонилась над рекой и купала в ней свои длинные ветви.
Гарру прикрыл ладонью от солнца глаза, и вдруг неподдельный испуг изобразился на его лице.
— Дед! — позвал он шепотом. — Гляди: Лесовик!
На стволе поникшей березы сидел кто-то, кого едва ли можно было счесть за человека.
Лохматая копна бурых волос покрывала ему не только голову, но и шею и плечи. Волосатая грудь была закрыта широкой боро-,дой, а рысья шкура, обернутая вокруг пояса, издали могла показаться его собственной шерстью.
Чудовище свесило к воде длинные кривые ноги и, казалось, вовсе не обращало внимания на плывущую долбленку.
— Греби, греби! — грубо прикрикнул дед. — Какой Лесовик! Это Урхату!..
Гарру захлебнулся смехом. Об Урхату он слышал и раньше. Как это он сразу не догадался, к кому ехал дед?
Когда Пижму и Гарру подошли ближе к берегу, они поняли, почему Урхату не поднимает головы. Он пристально глядел в воду, а в правой руке держал свитую из жил длинную леску. Удильный крючок, вырезанный из белой кости, просвечивал сквозь толщу воды, а на поверхности плавал обломок тонкого сучка — поплавок.
— В гости приехал, — сказал Пижму.
— В дом пойдем, — ответил Урхату и спрыгнул с березы в воду.
Только тогда, когда Урхату подошел вплотную, можно было вполне оценить, какое это несуразное, огромное существо.
Ростом был Урхату по крайней мере на голову выше Пижму. Его непомерно длинные волосатые руки и кривые ноги казались нечеловеческими. Длинные, с завитками брови нависали так низко, что глаза глядели из-под них, как из-под темных навесов.
— Налима привез, — сказал Пижму и вынул со дна челнока большую рыбину.
— Хорошо! — осклабился Урхату, взвешивая его на руке.
Порыв ветра вдруг зашумел в листьях деревьев. Сверкнула молния, и гулкий удар прокатился по небу.
Гарру наскоро выволок челнок на берег и бегом пустился догонять деда и Урхату, уже повернувших в устье оврага.
Овраг этот был мрачен, как его хозяин. Быстрый ручей пробил здесь себе узкое русло среди известковых скал.
Тропинка стала подниматься выше. Они взошли на просторную площадку, нависшую над обрывом.
Две собаки с яростным лаем бросились им навстречу. Урхату крикнул и замахнулся на них палкой. Собаки, поджав хвосты, отбежали к стене и стояли там, ощетинившись и злобно оскалив зубы.
Гарру с удивлением осматривался вокруг. Не было тут ничего похожего на жилище. Не было даже землянки. У каменной стены обрыва сидела средних лет женщина и потрошила рыбу. Урхату поставил перед ней корзину с новым уловом и сказал:
— Скорее! Гроза!
Не успел он закрыть рот, как в туче ярко сверкнуло, и почти в тот же миг оглушительно ударил гром.
— Идти надо, — сказал Урхату и повел гостей за собой. Через какие-нибудь два десятка шагов перед ними открылась большая ниша под выступом известковой кручи, а в глубине ее — низкий вход в темное подземелье.
Урхату провел гостей тесным коридором, и они очутились в большой и высокой пещере, освещенной внутри пылающим очагом. Вокруг него сидели несколько женщин и подростков.
Рефа
Подземельем назвать жилище Урхату можно было только отчасти. Одна половина находилась под каменным навесом и представляла действительно подобие пещеры, выбитой руками людей. Другая половина была просто глубокой и широкой ямой, прикрытой сверху слоем длинных жердей. Между краем каменного навеса и деревянной кровлей находилось узкое отверстие для выхода дыма. Оттуда падали капли дождя, и Урхату послал женщин прикрыть дыру шкурами. Но еще долго после того срывались с деревянного потолка крупные капли пробиравшегося сквозь кровлю ливня.
Звук шлепающейся на пол воды продолжал своеобразную музыку, к которой с робостью прислушивался Гарру. По временам это тихое лепетание капель прерывалось оглушительными ударами и раскатами грома, от которых дрожали стены пещеры.
— Громовик воет! — сказал Урхату, опасливо поглядывая на кровлю.
Урхату подбросил в очаг охапку сучьев, и высокое пламя ярко осветило подземелье.
Тут Гарру заметил, что лосиная шкура, висевшая на стене, вдруг шевельнулась. Край ее стал оттопыриваться, и из-за нее вдруг выглянуло сморщенное старушечье лицо.
Маленькие зрачки по сторонам острого и горбатого, как совиный клюв, носа сверкнули из-под седых бровей и с любопытством уставились на сидящих у очага Гарру и Пижму.
— Входи, мать! Гости!
Занавеска откинулась, за ней открылся такой же узкий проход, как и тот, по которому они прошли в пещеру. В проходе стояла маленькая старуха, до такой степени сгорбленная, как будто ее спина была переломлена пополам.
Старуха пожевала губами и затрясла головой.
— Что, Пижму? — заговорила она скрипучим голосом. — Знала, что придешь. Беда у тебя? Помогать надо!..
Пижму прижал обе ладони к груди и низко наклонил голову.
— Поворожить приехал. Думал: Рефа стара, много дел знает. Чего сама не знает, скажут ей лесные духи.
Пока Пижму говорил, Рефа подошла к огню. Она не села, а только нагнулась, достала с углей печеную рыбку и молча пошла к своей занавеске.
— Рефа сейчас не будет говорить. Громовик сбесился — покоя не дает. Перестанет греметь, тогда буду ворожить.
Рефа отогнула занавеску и скрылась в глубине темного прохода.
Новый поселок
Урхату родился в Ку-Пио-Су. В детстве его звали по-другому. Прозвище «Урхату» он получил за свой рост и несокрушимую силу.
На языке племени Ку-Пио-Су это имя означало «большой медведь».
Еще в молодости не поладил он с самим Мандру. Не нравилось ему слушать его приказы.
Взял лучшую лодку, посадил в нее жену, двоих ребят, собаку и младшего брата; взял мать, горбатую Рефу, оружие и весь домашний скарб. Ночью выехал из поселка, и след его пропал надолго.
Никто не знал, куда он девался.
Только через несколько лет догадались, что он поселился в овраге Большая Щель.
Место это Урхату присмотрел себе еще раньше и облюбовал его неспроста.
В давние времена, о которых самые старые старики слышали от своих дедов, в этом овраге был большой поселок. Жило здесь племя «нуонки». Они говорили на особом наречии и славились искусством добывать замечательно хорошие кремневые желваки в виде круглых камней величиной чуть не с детскую голову. Снаружи желваки были покрыты корой, а на расколе имели светло-серый тон.
Кремень, который они давали, был превосходен для ручной обработки.
Желваки от удара кололись правильными кусками, отлично поддавались стесыванию, «отжиму» и полировке, и дальние поселенцы приезжали к нуонкам выменять или выпросить хороших камней для собственных поделок.
Оказалось, что нуонки добывали кремень из толщи известковых пластов, делая глубокие шахты в известняке.
Шахта начиналась в виде очень широкой и круглой ямы. По краям выбивали ступеньки, и по ним можно было спускаться на самое дно шахты. На глубине в три-четыре человеческих роста добытчики кремня прекращали дальнейшее углубление ямы и начинали делать не очень длинные штольни, подземные галереи.
В известковом плитняке Щели оказалось целых три таких шахты. Они соединялись подземными ходами. Одна из них обвалилась, две другие сохранились хорошо.
Груды выброшенного известнякового щебня вокруг каждой из шахт успели уже обрасти травой и кустами и отлично скрывали входные отверстия.
Вот в этих-то старых каменоломнях и поселился Урхату вместе со своим семейством.
Построить себе хижину все-таки не так просто, как поселиться в готовой пещере, которую быстро можно приспособить под жилье.
Дикие звери, бродячие лесные люди иногда появлялись то здесь, то там в пустынных береговых лесах. От них хорошо было спасаться в темных каменоломнях.
Верхние отверстия шахт Урхату закрыл стволами молодых сосен, а на них навалил толстый слой торфа и земли.
Население нового выселка из Ку-Пио-Су начало быстро увеличиваться.
Рождались дети. К семьям двух братьев прибавился еще один молодой поселенец с пожилой женой и кучей ее ребят. Жена эта скоро умерла. Поселенец решил добыть новую и отправился сватать невесту в один рыбацкий поселок. Сватовство было удачным: он привез себе сразу двух жен. Оба брата тоже высватали себе по новой невесте. Женские руки были нужны. Хлопот было много: устраивать новое жилье, шить одежду, лепить глиняную утварь, мочить крапиву, сучить нитки для рыболовных сетей.
Для большей безопасности Урхату приволок из лесу толстую сосновую жердь, сделал из нее идола и поставил на площадке перед входом.
Урхату и Пижму мирно беседовали между собой, ожидая, когда замолчит Громовик.
Наконец ветер утих. Туча миновала. На прояснившемся небе загорелись звезды, и из-за леса показался тонкий двурогий месяц.
Меховая занавеска откинулась еще раз, и Рефа позвала Пижму в свое подземелье. Оно было невелико. Низкий потолок его был неровен и покрыт тонкими сосульками известковых натеков. Посередине горел костер. Рефа сидела перед ним на камне. Рядом с ней стоял высокий горшок до краев наполненный водой.
Голова старухи тряслась. Крючковатый нос нависал над беззубым ртом, губы беззвучно шевелились.
Пижму сел на другой камень и положил перед старухой ожерелье из костяных бус.
— Поколдуй, как спастись от врага. Уоми унес посох, а в нем все мои болезни. Грозит выпустить, погубить хочет.
— Знаю, знаю, — усмехнулась Рефа. — Все знаю! — Голова ее затряслась еще сильнее. — Что было, узнаем, и что будет, тоже узнаем, — бормотала Рефа.
Она наклонилась над горшком, бросила в него три сухих листка березы, стала дуть в горшок, и глаза ее, острые, как иголки, следили за тем, как забегали по воде эти гадательные листочки.
Быстро зашептали тонкие губы непонятные слова. Звучно капнула с потолка большая капля. Пискнула летучая мышь. Волхвованье началось…
Зима
Пижму вернулся на третий день веселый и довольный. Он успокоился. Посиживал возле дома, выходил поболтать со стариками и совсем не говорил об Уоми.
Старшина охотников, казалось, забыл о том, кто еще так недавно не давал ему покоя. Он перестал спрашивать о нем Кунью, перестал по ночам подходить к дому Азы. И только иногда, когда Уоми проходил мимо него, Пижму бросал ему вслед пристальный, полный ненависти взгляд.
Между тем наступила и промелькнула осень, по утрам стали ударять морозы. Облетела последняя листва. Только на дубах еще желтели высохшие листья, не сдаваясь перед порывами осеннего ветра.
Наконец захолодало совсем. Небо окутали зимние облака, и как-то утром поселок Ку-Пио-Су проснулся весь усыпанный пушистым снегом.
С первой порошей в леса двинулись партии охотников. Рыба ушла в омуты. Рыбаки теперь превращались в звероловов. За зиму нужно было добыть побольше теплых мехов.
Уоми и Тэкту сколотили дружную охотничью партию.
Гунда чинила зимнюю одежду, нашивала к рукавам длинные надставки, чтобы было теплее пальцам и чтобы в сильные морозы можно было глубоко запрятать в них озябшие руки. Каждому из сыновей она сшила по две пары запасных мягких и длинных меховых чулок.
Охотники перетягивали заново луки, подтачивали наконечники стрел, пробовали, прочно ли сидят острия дротиков.
Когда все было готово, каждый из охотников уложил свою поклажу в объемистую кожаную сумку. Туда запихали запасы сушеной и мороженой рыбы, запасное оружие и инструменты, нужные для жизни в лесу. Дорожный мешок прочно привязали к полозьям, скрепленным между собой лыком и деревянными перекладинами. Вещи прикручивали к салазкам длинным ремнем. К передним концам загнутых кверху полозьев привязали по крепкой ременной петле. Каждый охотник сам тащил свои узенькие и длинные санки.
В поход выступили рано утром. Шли гуськом, ступая по следам передового пешехода. Впереди и сбоку бежали пушистые белые лайки, приученные к охоте.
Тридцать дней пропадали охотники. Дни и ночи шли лесами и лугами, покрытыми снегом. Убитую дичину, пока она теплая, ели сырой и только вечером, перед сном, пекли мясо на горячих углях костра. Спали в старых землянках, а то и просто в сугробах, как медведи в берлогах.
За это время набили немало больших и малых зверей. Гоняли зайцев с собаками, деревянными тупыми стрелами сшибали с деревьев простоватых белок. Жили то сытно, то голодно, и по всему длинному пути ставили на звериных тропах хитрые деревянные ловушки, клали приманки в растянутые на земле ременные силки и петли. С удивительной памятливостью замечали охотники места, где были ловушки, и на обратном пути не только не сбивались с дороги, но не забывали осмотреть ни одной оставленной в лесу западни.
Домой вернулись худые, черные, но с богатым запасом разных мехов. Родные их ожидали, и долго потом матери и сестры усердно обрабатывали шкуры кремневыми скребками, очищая их от жира и мяса.
За когтями медведя
Прошло несколько дней. Морозы становились все крепче. Белым инеем украсились вершины берез.
В хижине Гунды все были в сборе: кто сидел на нарах, кто на полу. Уоми лежал на лосиной шкуре, заменявшей ему постель.
Вдруг меховой полог, висевший перед входом, колыхнулся, и из-под него высунулась бурая медвежья морда.
Женщины и дети с визгом бросились на другой конец хижины. Тэкту сорвал со стены копье, Уоми схватил тяжелую боевую палицу.
Медведь отбросил полог в сторону, встал на дыбы и… громко расхохотался.
Медвежья голова была только колпаком. Из-под нее глядело круглое волосатое лицо, густые брови и огромный рот, обросший усами и бородой.
Перед глазами испуганных женщин стоял Урхату, донельзя довольный своей шуткой.
Заразительный смех Урхату заставил смеяться всех, кто был в хижине. Смеялись мужчины и женщины, смеялся, кашляя и махая рукой, дед Аза. Даже маленькие дети, испугавшиеся было вначале, перестали плакать и присоединились к общему веселью.
Насмеявшись вдоволь, хозяева усадили гостя у очага и стали угощать его вяленой рыбой. Гость ел с аппетитом, а хозяйки добыли из каких-то тайных запасов горшочек меда, чтобы принять гостя послаще.
Урхату был весел. Смеясь, отвечал на расспросы, передавал разные лесные новости, рассказывал о страшной лесной буре, которая пронеслась в конце лета над Каменной Щелью и поломала в лесу много сосен.
Ни слова не сказал Урхату, что это случилось как раз в то время, когда у него гостил Пижму.
На другой день Урхату завел речь о медвежьей охоте. Он нашел в лесу в густом буреломе берлогу. Урхату звал молодежь идти вместе поднимать зверя. Пусть молодежь поучится у старых медвежатников.
— Уоми пойдет, — сказал Уоми.
В его воображении уже мелькнуло новое ожерелье из медвежьих зубов.
Тэкту, как эхо, повторил то же самое.
— Нет, — сказал Уоми. — Уоми хочет сам добыть медвежьи когти и зубы.
Тэкту выслушал молча, наклонил голову, и вдруг заявил твердо и решительно:
— Сын Дабу будет добывать зубы медведя, а Тэкту, сын Гунды, будет беречь его от медвежьих когтей.
Гунда так ласково взглянула на своего первенца, как никогда на него не глядела.
Сговорились выступить в поход на другой же день и начали готовиться к охоте.
В складе оружия достали две дубовые рогатины с остро отточенными концами. Взяли также два тяжелых копья. В мешок положили сушеную рыбу.
Урхату пошел ночевать к Пижму, но чуть только забрезжил свет, как его медвежья голова уже показалась из-за меховой занавески в доме Гунды.
— Уоми, собирайся! — рявкнул гигант, отряхивая снег с шубы.
Братья вскочили и вылезли наружу, где уже лежало заготовленные с вечера оружие и поклажа. Все трое подвязали лыжи и двинулись гуськом прямо через озеро.
Надо спасать Уоми
Не прошло и двух часов после ухода охотников, как Ная, запыхавшись, вбежала в дом и вызвала Гунду наружу.
Там, позади хижины, стоял, робко оглядываясь, Гарру, которого за руку держала Кунья. Вид у Гарру был растерянный. Он, видимо, чего-то боялся и все посматривал в ту сторону, где виднелась кровля хижины Пижму.
Как только подошла Гунда, Кунья дернула брата за рукав:
— Вот, расскажи! Все расскажи, что слышал!
Гарру, заикаясь, стал говорить. Речь его была отрывистая и путанная. Но суть ее можно передать так.
Еще летом, после похорон Мандру, он возил деда Пижму в гости к Урхату. Пижму рассказывал ему, что боится Уоми: Уоми его враг, он завладел посохом, в котором заговорена его старая болезнь. Пижму просил друга помочь и спасти от Уоми. Потом они заставили колдовать старуху Рефу.
Была страшная гроза и гром. Рефа увела Пижму в свою пещеру. Там ворожила ему над водой и сказала, что Уоми может погибнуть от когтей медведя, если только лишится своего наговоренного ножа. Урхату обещал Пижму найти берлогу самого большого медведя, который живет в соседнем лесу. Всю осень ходил он по его следам и выследил, где залег медведь.
У самой берлоги, на сухих еловых сучках, Урхату нашел клочок выдранной медвежьей шерсти. Урхату взял эту шерсть и принес ее своей матери. Рефа заворожила шерсть и сказала: медведь теперь заколдован. Встретит Уоми — тот узнает его когти.
Урхату положил завороженную шерсть за пазуху и пошел в Ку-Пио-Су звать Уоми на охоту. Урхату спал в хижине Азы и подложил под изголовье Уоми медвежью шерсть. И вот Уоми сам захотел идти к заколдованной берлоге. Накануне, во время сборов, Урхату изловчился и вытащил заветный кинжал из дорожного мешка Уоми.
Этой ночью Гарру проснулся и услышал: шепчутся старики.
Он притворился, что спит, а сам все слышал. Урхату рассказывал про медведя и про то, как ему удалось вытащить из мешка Уоми волшебный нож.
Гарру из-под закрытых век следил за стариками и видел, как Урхату передал деду кинжал. Пижму долго смеялся и спрятал нож под изголовье.
«Теперь не бойся, — сказал Урхату. — Медведь убьет Уоми. А если нет, это сделает сам Урхату».
Старики уснули, а Гарру долго лежал и думал. Жалел Уоми и не знал, как спасти. Уснул поздно. Проснулся — в доме никого! Ушел куда-то и Пижму.
Вернулась Кунья и стала вздувать огонь. Гарру рассказал сестре все, что слышал. Кунья бросилась к постели деда и вытащила волшебный кинжал Уоми. Она схватила брата за руку, и они побежали к дому Гунды…
Гунда стояла ни жива ни мертва:
— Где нож?
Гарру молча подал ей бронзовый нож.
Гунда схватила нож и спрятала его у себя на груди. Потом она бросилась будить всех мужчин:
— Вставайте! Идем спасать Уоми!
Она сбегала также к Карасю и подняла на ноги молодежь в доме его старой жены. Захватить оружие было делом одной минуты. Скоро вся ватага вооруженных людей уже бежала по лыжному следу в погоню за коварным Урхату.
У берлоги
Урхату привел Уоми и Тэкту в лес, заваленный буреломом. Ураган повалил здесь множество старых деревьев. Они лежали еще зеленые, с неосыпавшейся хвоей. В одном месте бурелом был особенно велик. Деревья лежали вершинами в одну сторону, громоздились друг на друга, как будто какой-то великан заготовил здесь целый склад леса.
Тропинка, по которой Урхату ходил уже не раз, привела братьев к груде деревьев, опрокинутых вершинами к северу. Стволы, вывороченные с корнями, подняли целые пласты лесной почвы, которые вставали там и тут огромными земляными стенами.
Тропинка оканчивалась перед двумя елками, лежащими рядом. Корни их, залепленные глинистой почвой, образовали что-то вроде земляных ворот.
— Здесь! — шепнул Урхату и ткнул пальцем в проход между елками.
Там, на снежном сугробе, покрывавшем нижние ветки елей, виднелось круглое, желтое от дыхания медведя пятно. Тут же сбоку был лаз, сделанный медведем.
Урхату поставил братьев здесь и велел ждать, а сам пошел к другому лазу, чтобы оттуда пугать медведя.
Уоми приготовил рогатину. Воткнул один конец в снег, а «рога» направил против лаза. Тэкту взял наперевес тяжелое медвежье копье и стал рядом с братом.
Прошло минуты две, показавшиеся Уоми вечностью. Вдруг рявкнул зверь. Урхату пугал медведя, стукая по корням тяжелой рогатиной. Что-то глухо охнуло в глубине берлоги, и прямо против Уоми показалась медвежья голова.
Уоми готовился нанести удар рогатиной, но медведь попятился и скрылся в берлоге. И вдруг послышался отчаянный крик Урхату. Слышна была какая-то возня, трещали сучья, рычал медведь, и дико голосил Урхату.
Уоми бросил рогатину, выхватил копье у Тэкту и бросился на выручку. Урхату лежал опрокинутый навзничь, а на него навалился рассвирепевший хозяин леса. Окровавленная и переломленная рогатина валялась тут же на снегу.
Медведь яростно драл когтями опрокинутого наземь врага и, казалось, ничего не замечал, кроме поверженного Урхату. Уоми подбежал к зверю вплотную и с размаху всадил в него копье. Удар был настолько силен, что дубовое копье глубоко вошло в тело. Зверь рванулся с такой силой, что копье переломилось. Медведь ухватился за обломленное древко обеими лапами, как бы стараясь вытащить его из раны.
Уоми отпрянул в сторону и сунул руку в сумку, чтобы вынуть кинжал.
Кинжала не было…
Уоми был беззащитен перед разъяренным и раненым зверем.
Но медведь не бросился на Уоми. Он нагнул голову и вдруг стал падать и навалился всей тушей на лежащего под ним Урхату. Кровь хлынула из его пасти и залила голову старика.
В это время подоспел Тэкту и ткнул медведя рогатиной. Этот удар был уже лишним: копье Уоми и без того пробило медведю сердце.
Еще несколько судорог, и медведь высунул язык и затих.
— Пей кровь, Тэкту! Пей, пока горяча. Твой удар!
— Нет, — сказал Тэкту. — Твое копье убило. Твое копье — твоя кровь!
Уоми нагнулся, смочил кровью ладони и облизал языком.
В это время раненый стал громко стонать. Братья принялись тащить медведя, чтобы освободить лежащего под ним Урхату. Туша была тяжела. Охотникам пришлось напрячь все силы, чтобы сдвинуть в сторону грузного зверя.
Вид растерзанного Урхату заставил их содрогнуться. Медведь когтями содрал кожу с затылка и темени и надвинул этот кровавый скальп на лоб и глаза охотника до самой переносицы. Шуба на груди была также изорвана медвежьими когтями, и несколько глубоких царапин шли наискось через грудь.
Тэкту ладонями приподнял голову Урхату и передвинул кожу на место. Потом он стал утирать снегом залитое кровью лицо.
Жалобный стон вырвался из груди Урхату. Он был еще жив, несмотря на страшные раны. Потеря крови лишала его сил. Пушистым снегом засыпал Уоми рваные раны на груди. Урхату умолк, тяжело дышал и морщился от боли.
— Языком! Языком надо! — прохрипел он. Тэкту стал лизать рану.
— Пусти! — сказал Уоми, отстраняя брата. — Дай и мне!
Он опустился на колени и начал зализывать глубокие царапины, выправляя скомканную кожу ссадин. Он лизал человечью и звериную кровь, которые смешались. Силы зверя и могучего человека переходили в его нутро.
Оба живы
Сзади затрещали кусты. Сквозь темные стволы деревьев показалась толпа бегущих людей. Впереди всех был Карась, за ним бородатые дядья Уоми, а дальше вооруженная чем попало молодежь.
— Жив Уоми? — крикнул Карась, издали махая руками.
— Уоми жив! А вот Урхату…
Толпа, ахая и задыхаясь, окружила место недавней схватки. Все с ужасом глядели на залитые кровью тела мертвого медведя и раненого Урхату.
— Кто убил? — спросил Карась.
— Уоми, — ответил Тэкту. — Урхату был под медведем.
— Ну, ему-то поделом! — с сердцем сказал Карась.
И тут все наперебой стали рассказывать все, что знали о кознях Урхату и Пижму. История с кинжалом и колдовством Рефы была рассказана с особым негодованием.
Тут было покушение на жизнь и подлое воровство, а воровство в общине Ку-Пио-Су было почти неслыханным поступком.
Карась вынул из сумки бронзовый кинжал и гневно замахнулся им на Урхату.
— На, возьми, Уоми! — сказал он. — Сам убей его. Уоми взял нож и молча поглядел на Урхату.
— Убей! — прохрипел Урхату.
Уоми посмотрел на Урхату почти с жалостью:
— Нет, Уоми не тронет Урхату. Уоми с ним породнился: он только что лизал его кровь. Теперь Уоми не станет ее проливать. Дабу сам наказал Урхату. Не медведь повалил его, повалил Дабу.
Урхату глядел с изумлением на врага, который не хотел ему мстить.
— Кто научил тебя? — сурово спросил его Карась.
— Пижму, — глухо сказал Урхату.
Люди стояли кругом тесным кольцом. Урхату зажмурился, чтобы не видеть столько враждебных глаз, которые казнили его позором.
— Отнесем Урхату в Большую Щель, — сказал Карась, — пусть там умирает. От медвежьих когтей раны не заживают.
— Убей… — едва слышно прошептал Урхату, взглянув на Уоми, и опять закрыл веки: он слабел с каждой минутой.
Охотники тихо совещались, как лучше нести. Карась говорил: надо сначала идти к реке, а там уж он знает дорогу.
Молодежь наскоро сделала носилки. С трудом положили на них тяжелого Урхату, и печальное шествие молча тронулось в путь.
— Уоми, — сказал Тэкту, — возьмем у него когти!
Он показал на медведя.
Тэкту вынул из сумки кремневый нож, Уоми свой бронзовый, и пока Тэкту только распорол кожу вокруг правой кисти медведя, Уоми уже отрезал всю пятерню с длинными кривыми когтями. Тэкту с восхищением глядел на отточенное лезвие, которое так легко справлялось со своим делом.
Уоми быстро отрезал обе ступни и начал резать голову. Тэкту помогал ему снимать кожу и заворачивал ее вниз на шею.
Покончив с головой, братья уложили отрезанные части в мешки и пустились догонять медленно двигающиеся носилки.
На своих лыжах они быстро скользили по протоптанной и заметно покатой тропе. Они уже почти настигли шествие, как вдруг женский вопль пронзил морозный воздух. Навстречу с поднятыми вверх руками бежала женщина. За ней виднелись еще несколько мужчин и женщин. Женщины голосили.
— Уоми! Уоми! — кричали они.
— Мать! — крикнул Тэкту и пустился обгонять шествие. Уоми побежал за ним.
Это действительно была Гунда. Ей невмоготу было дожидаться жутких известий, и она решила идти сама по следу охотников.
Вместе с ней побежали Ная и еще несколько женщин. Белая лайка, как всегда, увязалась за Наей. Скоро к ним присоединились трое подростков-мальчиков, которые захватили из дома луки и подвязали охотничьи лыжи. Когда Гунда проходила мимо дома Пижму, подошли Кунья и Гарру и также решили идти вместе с Гундой.
Женщины шли скоро. Тропа, уплотненная ногами и лыжами стольких людей, была достаточно твердой. Когда толпа свернула от берега в лес, она наткнулась на медленно двигающиеся носилки.
— Уоми несут! — крикнули мальчики, и тотчас раздался тот потрясающий вопль, который заставил шествие остановиться.
Вопли разом умолкли, когда женщины увидели обоих братьев, бегущих навстречу.
— Жив! Жив! — кричали кругом, и Гунда, радостная, но еще с мокрыми от слез щеками, бросилась в объятия Уоми.
Тэкту молча стоял рядом и ждал. Ему так хотелось, чтобы мать взглянула и на него.
Гунда вдруг выпустила Уоми и испуганно оглянулась:
— А Тэкту? Где Тэкту?
— Вот он, — тихо сказал Тэкту, ловя ее руки.
— Оба живы! Оба живы! — всхлипывала она, не зная, на кого из них глядеть.
Медленно подошли остальные. Носилки опустили на землю. Начались расспросы и длинные рассказы о том, как все случилось.
Урхату лежал как мертвый, с закрытыми глазами. Он еще дышал, но был в забытьи.
Здесь толпа разделилась. Женщины вместе с близнецами и подростками повернули назад, в Ку-Пио-Су, остальные понесли Урхату в Каменную Щель.
Впереди шли Гарру и Карась. Они показывали дорогу.
Кто защитит?
Пижму трепетал.
Уоми вернулся цел и невредим. Союзник и друг, Урхату, — при смерти. Все замыслы заговорщиков разоблачены. Все заклинания и злое колдовство старухи, которой боялись ближние и дальние соседи, сокрушены и развеяны явным покровительством самого Дабу. Едва ли не самым страшным представлялось Пижму таинственное исчезновение волшебного кинжала, который он сам запрятал под свою постель.
Гарру молчал, а Гунда обещала Кунье не открывать никому ее секрет.
Весь Ку-Пио-Су гудел от страшного негодования против Пижму. Его заговор против Уоми и воровство кинжала оттолкнули от него даже тех, кто до сих пор был на его стороне.
В первый же день после возвращения сыновей Гунды до ушей Пижму донеслись песни Ходжи, сложенные в честь Уоми. Люди ходили толпой за близнецами и требовали еще и еще раз рассказать о победе над свирепым жителем берлоги и о тайных кознях врагов.
Пижму сидел дома, мрачный и подавленный. О том, как все произошло, он узнал еще накануне: Кунья под свежим впечатлением рассказала домашним о славной победе Уоми и позоре Урхату.
Спросил только:
— А где Гарру?
— Понес с мужчинами Урхату в Щель. Помирает Урхату. Пижму весь съежился, замолчал. До ночи он сидел один.
Семья ушла слушать Ходжу и бесконечные рассказы Тэкту и Наи.
Вернулся Гарру на другой день. Он даже не взглянул на деда и сейчас же куда-то ушел.
К вечеру старик вышел было на улицу. Он прошел на край поселка поглядеть в ту сторону, куда так недавно уходил Урхату вместе с близнецами. Но тут он почувствовал еще острее свое одиночество. Женщины отворачивались. Мужчины, завидев его издали, поворачивались спиной и уходили. Девушки подталкивали друг друга локтями и шептались.
Два старика, сидевшие у домов, низко опустили лица и старались на него не смотреть. Один даже зажмурился, а потом закрылся ладонью.
В стороне, позади хижин, заметил он близнецов и с ними вместе сыновей Карася. Они сдирали шкуру с медведя и собирались его потрошить. Тут же стоял и его внук Гарру.
— И он с ними! — прошептал Пижму.
Сгорбившись, ушел он домой и больше не показывался.
Вечером старики собрались у Азы. Они не сговаривались — вышло как-то само собой. Им не сиделось дома. Смутная тревога гнала их пойти к кому-нибудь в надежде, что станет, может быть, легче.
Неладно было в Ку-Пио-Су. Тот, кого признавали они старшим, потерял их уважение. Отменить старшинство нельзя, как нельзя было прибавить или убавить себе рост. Старшинство — это не должность. Пижму продолжал оставаться старшим, несмотря ни на что. Но в этом-то и была беда. Старший, потерявший уважение, превращался в ничто. Община теряла свою голову.
Перед костром Азы сидели старики на полу и молчали. Только изредка перекидывались они словами и умолкали опять.
О чем было говорить?
Словами испорченного дела не поправишь. Надо было действовать, но в том-то и дело, что никто не знал как.
Нет головы. Кто защитит Ку-Пио-Су, когда придет беда?
Аза тоже молчал. Он только иногда насмешливо посматривал на сокрушенных собеседников. Больше половины их чувствовало себя неладно, потому что недавно еще дружили с Пижму.
Впрочем, Аза не только молчал. Его руки были заняты рукоделием. Перед ним на нарах лежало двадцать огромных когтей убитого медведя. Уоми просверлил их насквозь кремневым шилом, Азе оставалось их только подвязать. Он брал их по очереди и продевал в каждое по короткому сухожилию. Потом взял крепкий, но тонкий ремень, примерил на себе в виде широкого ошейника и начал привязывать к нему когти. Навязывал не как попало: самые крупные когти — в середину, самые мелкие — по краям ожерелья. Центр оставался свободным. Сюда предполагалось навязать четыре клыка, выдернутые из медвежьей пасти.
Когда ожерелье было закончено, Аза весело взглянул на свою работу, поднялся с постели, и глаза его сверкнули.
— Старики, — раздался его добрый голос, — вот медвежье ожерелье! Уоми добыл эти когти и эти зубы. Вот кто защитник Ку-Пио-Су! Уоми, сын Великого Дабу!..
Выгнал из дому
На другой день, несмотря на мороз, все Ку-Пио-Су пировало. На большом костре, горевшем перед домом, женщины обжаривали надетые на палки куски медвежьего мяса. Слои толстого подкожного жира топились в глиняных горшках на выгребенных из костра углях.
Но вот мясо изжарилось, и женщины начали сзывать всех на пир. Они звонко кричали:
— Есть! Есть! Есть!..
Из всех домов стали вылезать и не спеша подходить к костру люди. Каждый получал свою порцию. Двадцатипудовым медведем можно было досыта накормить весь поселок.
Только Пижму никто не позвал. По обычаю, если старший не мог сам по болезни прийти на пир, лучший кусок все-таки подносили ему. Обыкновенно для этого посылали молодых женщин, по одной из каждого дома.
На этот раз никто не соглашался отнести мясо.
Наконец позвали Кунью, и старшая сноха Пижму подала ей палку с нацепленным на нее куском жаркого.
— Отнеси деду! — приказала она.
Кунья вспыхнула, и протянутая было рука опустилась вновь.
— Не пойду! — сказала она. Насилу ее уговорили.
Кунья пошла неохотно, останавливалась в растерянности на дороге и наконец, собравшись с духом, вошла в дом.
— Дед, прислали тебе!
Она протянула ему обжаренный кусок. Пижму не сразу понял.
— Кто прислал? — спросил он, нахмурив брови и беря мясо.
— Все. Празднуют они. Пижму нахмурился еще больше:
— Что же, кроме тебя, некого было прислать?
— Некого, — чуть слышно шепнула Кунья.
— Что празднуют? Откуда мясо?
— Медвежатина, — шепнула Кунья. — Уоми убил.
Тут только понял старик стыд своего положения. Весь поселок празднует победу его врага, а ему, как последнему человеку, присылают подачку.
Пижму побелел от злобы и вдруг поднялся во весь свой огромный рост.
— Вон! — закричал он не своим голосом, и кусок мяса вместе с палкой полетел в голову девушки. — Убью! — рычал он, рассвирепев еще больше оттого, что Кунья успела увернуться.
Он вскочил на нары и сорвал со стены висевшее там копье.
Кунья бросилась в сени и опрометью выбежала вон.
Она слышала, как брякнуло в стену копье и как яростно гремел сзади голос деда:
— Ступай к своему Уоми! Убью, если вернешься!
Кунья в ужасе мчалась через весь поселок. Ей казалось, что дед гонится за ней по пятам.
Только у хижины Азы она оглянулась. Деда не было видно.
Дрожа как в лихорадке, вбежала она в дом и с рыданием бросилась к Гунде.
— Убьет! Убьет! — кричала она. — Сейчас придет сюда!
— Кто убьет? Что ты? — спрашивала Гунда.
— Дед! Пижму! Убить хочет!
— За что убить?
— За медвежатину. Меня послали. Я принесла, а он копьем. Пролетело мимо…
Тут только стала понимать Гунда, что именно произошло.
— Не нужно было посылать, — сказала она. — Он думает — над ним смеются.
— Зверь он! Зверь! — всхлипывала девушка. Гунда как могла успокаивала Кунью.
— Стой, я посмотрю, — сказала она, выглянула наружу и сейчас же крикнула еще из сеней: — Нет его! Не выходил.
— Не придет он сюда, — раздался голос Азы. — Побоится. Уоми не даст обидеть!
Кунья понемногу стала приходить в себя. Она глубоко вздохнула и благодарно взглянула на белого как лунь Азу. По сравнению со страшным дедом он казался ей таким добрым, несмотря на свои свирепые брови.
Гости и хозяева сидели вперемешку. Ели молча, медленно откусывая мясо маленькими кусочками.
Кунья сидела в стороне и, как будто забывшись, молча глядела на Уоми.
— Кунья, что же ты не ешь? — спросили ее. Кунья вздрогнула и начала плакать.
Гунда рассказала, что дед ее выгнал и бросил в нее копьем. Кунья вдруг громко заголосила:
— Не пойду, не пойду к деду! Сказал — убью!
Все стали ее утешать. Гунда убеждала ее не бояться. Старик сегодня сердится, а завтра забудет. Кунья ничего не хотела слушать.
Суаминты
Выгнав из дому внучку, Пижму, шатаясь, вернулся к своему ложу. Дикая вспышка обессилила его. Бешенство сменилось унынием.
Тяжело дыша и хватаясь рукой за грудь, с усилием взобрался он на нары и тяжело упал на меховую постель.
В голове у него звенело, кровь колотилась, шумело в ушах; чудилось, что лежит в болотной трясине и вязнет в ней с головой.
Тяжелое забытье охватило его.
Очнулся он утром. Сердце у него ныло. Но странно: он помнил, что случилось что-то плохое, но что именно — вспомнить не мог.
Только постепенно вернулась память. Он сидел на нарах угрюмый и мрачный.
Между тем жизнь в Ку-Пио-Су шла своим чередом. Мужчины добывали из-подо льда рыбу, ловили налимов, гарпунами, насаженными на длинные шесты, тыкали в глубокие омуты и выталкивали со дна уснувших на зиму сомов. Молодежь ходила на охоту. Стреляли глухарей и рябцов, били тупыми стрелами белок, ставили западни на куниц.
Женщины сидели по домам и шили из меха зимние мужские и женские одежды.
Однажды мирное течение жизни было нарушено военной тревогой.
Молодежь из дома Сойона прибежала из лесу с громкими криками:
— Суаминты! Суаминты!
Суаминтами жители Ку-Пио-Су называли лесных бродячих людей. Это было прозвище загадочного племени, говорившего на чужом языке. Когда племя рыболовов стало расселяться с юга на север, оно всюду встречало этих людей. Они питались только мясом птиц и зверей. Малолюдные орды этого народца вечно переходили с места на место в поисках обильной добычи.
Постоянных селений они не имели, у них были только временные пристанища в два-три небольших шалаша, сплетенных из древесных ветвей. Зимой они жили в землянках.
Как только в окрестностях звери начинали попадаться реже, орда бросала становище и переселялась в другую местность.
Рыболовы, напротив, жили гораздо более крупными поселками, построенными на удобных для ловли местах: на речных островках или по берегам богатых рыбой озер.
Рыболовы всюду оттесняли суаминтов от своих поселений. Вернее, те сами уходили в глубь лесов, куда рыболовы не заглядывали.
Суаминты редко подходили к берегам больших рек. В Ку-Пио-Су о них не было слышно по целым годам. Но иногда они вновь начинали бродить в окрестностях поселка.
Об их появлении узнавали не только по случайным встречам. Суаминты охотно таскали попадавшуюся в ловушки добычу, а иногда воровали и звероловную снасть.
Бывали случаи, когда они похищали детей и женщин. Это делало их особенно ненавистными. Среди рыболовов ходили фантастические, но упорные слухи, будто они людоеды и поедают всякого, кто попадается им в руки.
На этот раз нападению подвергся один из сыновей Арры, жены Сойона. С утра молодой Сойон ушел проверять поставленные ловушки и не вернулся. На заре товарищи отправились на поиски. Места, где были поставлены ловушки, были хорошо известны. После долгих поисков молодого Сойона нашли у дальних ловушек. Окровавленное тело его было истыкано в нескольких местах.
Убили охотника, чтобы ограбить. Унесено было все: меховое платье, обувь, охотничья сумка и все оружие.
Братья Сойона внимательно изучили следы, оставленные убийцами. Опытные следопыты определили, что здесь было не менее девяти человек. Ушли они в глубь леса, двигаясь прочь от реки. Шли гуськом, и следы их сливались в одной протоптанной тропе.
На снегу, возле трупа, валялся короткий сломанный лук и одна стрела. Форма лука и грубого каменного наконечника разрешила все сомнения. Убить молодого Сойона могли только суаминты.
Преследовать убийц немедленно было рискованно. Рыболовов было, считая и убитого, всего пять человек. Оставалось только бежать домой, чтобы собрать народ.
Весь Ку-Пио-Су закопошился, как растревоженный муравейник. Все, кто был еще способен носить оружие, вооружились копьями, пращами, дротиками и дубовыми палицами. Наскоро подвязывали лыжи и на ходу надевали теплую одежду. Все поголовно собрались в погоню за суаминтами.
Человек двадцать, более бойких, уже двинулись вперед.
— Стой! — раздался вдруг оклик Уоми, когда толпа поравнялась с хижиной Гунды. — Нельзя уходить всем: суаминты хитры. Нападут без нас — кто защитит детей с матерями?
Бойцы остановились:
— Кому же идти?
— Пойдут самые быстрые ноги.
— Слова Уоми как мед, — сказал Карась. — Иди отбирай, кому в поход.
Уоми подошел и стал отводить в сторону тех, кто посильней и помоложе.
— Старшие останутся в Ку-Пио-Су!
Странно, что никто не удивился: сам моложе чуть ли не всех, а его слушают, как деда.
— Ведь он Уоми!..
Незаметно авторитет переходил от седых к юному сыну Дабу. Власти старшего старика со времени позора Пижму больше не существовало.
Подходившие сзади охотники спрашивали:
— Почему остановка? Им отвечали:
— Уоми отбирает дружину.
— Бегуны пойдут. Кто постарше, будет стеречь Ку-Пио-Су, — сказал Уоми.
Все соглашались, что так лучше. Уоми рассудил как седой. И каждый послушно отходил туда, куда указывал сын Дабу. Из молодых только одному Гарру велел Уоми остаться.
— Гарру бегает скоро! — обиженно заявил тот.
— Что же, — сказал Уоми. — Понадобятся и тут твои ноги. Нужно в Ку-Пио-Су быть хоть одному бегуну.
Старшему Сойону Уоми отвесил низкий поклон.
— Кланяемся тебе, Сойон, будь вожаком в походе!.. Кто из отцов всех лучше знает леса? — обратился он к толпе.
— Сойон! — отозвалось несколько голосов.
— Кто будет больше всех торопить погоню?
— Сойон! Суаминты надругались над его сыном.
Сойон, сидевший молча на камне, поднялся, страшный, волосатый, с багровым от ветра лицом:
— Сойон будет гнаться как волк!
Опытный охотник был польщен. В словах Уоми почувствовал он признание своих прав и как мстителя за убитого сына и как первого знатока лесных тропинок.
— Стойте еще, — остановил Уоми. — Тэкту, тащи вяленой рыбы. Запастись надо не на один день.
Несколько человек бросились помогать Тэкту.
Позади каждого дома Ку-Пио-Су была зимняя кладовка. Она была похожа на большое гнездо орла. Помещалась она на врытом в землю столбе. Ее набивали вяленой или мороженой рыбой. Ни волк, ни лисица, ни забежавшая в поселок лесная мышь не могли добраться по столбу до запасов.
Тэкту прислонил сделанную из сучковатой сосны подставку и взобрался по ней, как по лестнице. Там он раскрыл кладовку и стал выкидывать вниз охапками кипы сушеной рыбы. Все торопливо набивали ею свои охотничьи сумки.
Сойон с сыновьями Арры двинулся вперед, и три десятка бойцов зашагали следом за ним. Всем не терпелось скорее попасть к тому месту, где в лесу, на окровавленном снегу, валялось окоченелое тело молодого Сойона.
Лесная война
Несколько суток об ушедших не было ни слуху ни духу.
В ночь на пятый день жители поселка были разбужены лаем и воем собак. Псы заливались так яростно, что люди похватали оружие и выбежали из домов.
Ночь была темная. На небе, окутанном тяжелыми облаками, не видно было ни одной звезды. Псы, столпившись у пристани, тявкали хором на лесистый берег.
Там кто-то ходил: собаки чуяли чужих.
Волки ли подходили к поселку или лихие люди? Надо было дождаться света. Идти в темноте никто не решался. Карась приказал разжечь костер:
— Пусть знают, что мы не спим.
Интересно, что седые держались теперь совсем пассивно. С тех пор как старший в роде опозорил себя участием в воровстве, они совсем растерялись.
Самые деятельные только давали советы в кругу своих. Но выходить на первый план и командовать, как они делали раньше, никто из них не решался. Больше всех слушались Азу, но он был слаб ногами и почти не показывался вне дома.
Карась, как хороший оружейник и мастер, пользовался славой умелого человека.
Руководство в укрепленном поселке как-то само собой перешло к нему.
После тревожной ночи Карась с двумя десятками мужчин отправился на разведку.
На льду озера, на снежной пелене, виднелись свежие человеческие следы. Было ясно, что люди подходили к островку довольно близко и потом повернули назад, когда поднялась тревога.
— Испугались! Бегом бежали, — усмехался Карась. Обратные следы были расставлены гораздо дальше друг от друга.
Следов было много. Можно было подозревать, что на этот раз соединилось вместе несколько мелких орд и суаминты в поисках лучших мест двигались группами гораздо более крупными, чем обычно.
Решили все-таки пройти по пробитой тропе и проследить, куда она направляется. Но не успели они сделать и тысячи шагов, как вдруг шедшие впереди были осыпаны целой кучей стрел.
Люди отряда, который вел Карась, двигались вереницей друг за другом, и потому передняя часть оказалась в невыгодном положении. Она была охвачена силами неприятеля, которые нападали не только спереди, но и с боков. Стрелы у суаминтов были плохой отделки, но стреляли они метко, и несколько человек были ранены или серьезно ушиблены в этой перестрелке. Пришлось быстро отступать. Суаминты криками и свистом преследовали рыболовов, которые бежали до самой опушки. Выбежав из леса, рыболовы почувствовали себя смелее.
Суаминты привыкли сражаться в лесу, прячась за стволами, нападая из-за кустов и поваленных деревьев. На открытом месте они действовали неуверенно. Они не умели наступать строем, не знали никакой дисциплины и привыкли действовать, как кому взбредет в голову.
Они были на этот раз многочисленнее своих врагов, но выступить из леса и лишиться своих прикрытий все-таки не решались.
Завязалась перестрелка.
Суаминты держались за кустами и деревьями лесной опушки. Отряд Карася отошел от нее на расстояние полета стрел суаминтов и, развернувшись широким строем, обстреливал, в свою очередь, врага.
Тем временем быстроногий Гарру уже мчался по льду в Ку-Пио-Су за подмогой, хотя воинов, способных сражаться, оставалось там немного.
Перестрелка продолжалась там довольно долго. Карась уже начал опасаться, что суаминты тоже получат подкрепление. Они становились все смелее, и один отряд их начал обходить рыбноозерцев с фланга.
Положение становилось настолько трудным, что Карась хотел уже отступить к укрепленному островку Ку-Пио-Су, как вдруг вся картина боя резко изменилась.
Позади суаминтов раздался громкий рев неожиданной атаки. На них бросился с тыла возвращавшийся отряд Уоми.
Захваченные врасплох, суаминты хотели бежать, но бежать было некуда. Спереди на них бросились бородатые бойцы отряда старших. Суаминты попали между двух огней.
Успели спастись только бывшие на флангах. Остальные были почти все перебиты.
Бойцы ликовали, радуясь блестящей победе. Старшие восторженно обнимали так удачно подоспевшую молодежь, и все, не слушая друг друга, кричали и рассказывали о своих подвигах.
Когда прошел первый пыл, стали искать Уоми. Но его нигде не было.
— Где же Уоми? — с тревогой спросил Карась.
— Жив он или убит?
— Жив, жив! — ответил за всех Сойон-старший. — Сзади идет. Отстал там с двумя ранеными.
— Подойдет скоро, — успокаивали другие.
Но сколько ни ждали, никто из лесу не показывался.
— Неладно! — сказал Карась. — Идти надо отыскивать.
И весь отряд молодых, с Сойоном и Карасем во главе, двинулся обратно в лес С ними пошло несколько старших.
Только сильно ушибленные или раненые повернули в сторону Ку-Пио-Су, откуда им навстречу уже спешили остававшиеся там старики, а за ними — женщины и дети.
По следам Суаминтов
Что же случилось с Уоми?
В первый день, когда отряд выступил в путь, суаминтов нагнать не удалось.
Отряд быстро дошел до той полянки, на которой был убит Сойона. Его тело по-прежнему валялось у опушки, но, когда к нему подошли ближе, крик ужаса вырвался из груди отца. Головы у трупа не было. Она была отрезана и, очевидно, унесена вернувшимися сюда суаминтами.
Некоторое время все стояли в каком-то оцепенении. Молчание вдруг разорвали вопли Сойона. Он кричал, потрясал копьем, грозил кулаком и клялся жестоко отомстить людям, отнявшим у него сына.
Потом он вдруг как-то разом затих и глухо сказал:
— Надо хоронить…
Весь отряд принял участие в похоронах. Общими усилиями была вырыта в снегу большая яма. Ее засыпали снегом, из которого соорудили могильный холм. Сверху закидали валежником и стволами молодых сосен.
Старый Сойон обратился к духу поляны и пригласил охранять лежащий под холмом прах сына.
На этом церемония закончилась.
До самой ночи продолжались поиски врага. Было уже совсем темно, когда тропа подошла к обрывистому берегу лесной речушки.
Тут след разделялся надвое. Один спускался прямо вниз, другой шел по краю обрыва, пропадая между кустами.
Сойон и Уоми решили остановиться. Во мраке трудно было разбираться в следах. Нельзя поэтому было решить, по какой тропинке идти.
Пока люди устраивались, Сойон, Уоми и Тэкту решили пройти втроем по той и другой тропинке. Сперва спустились по береговому склону до самой реки. След повернул влево и пошел по льду в ту же сторону, в какую шла и верхняя тропинка.
Разведчики вернулись обратно и пошли по береговой тропинке. Но едва сделали они двести-триста шагов, как Сойон поднял голову и сильно втянул носом воздух.
— Нюхай! — сказал он, толкая локтем Тэкту.
— Дым! — отозвались близнецы.
Сойон послюнил палец и поднял его над головой. Едва заметный ветерок слабо тянул как раз им в лицо.
Разведчики осторожно прошли еще немного. Скоро приблизились они к краю берегового обрыва, и тут им в глаза ярко блеснул огонек. У самого берега внизу горел костер, и легкий дымок от него медленно плыл навстречу.
До стоянки оставалось пройти еще тысячи две шагов. Тогда они вернулись и подняли на ноги уже успевших уснуть охотников. Весь отряд осторожно стал подкрадываться к лагерю суаминтов.
Очутившись над обрывом, Сойон быстро нашел место, по которому лучше было спускаться.
Сверху можно было хорошо разглядеть стоянку. Внизу горели костры. Чернели укутанные еловыми ветками шалаши. Были видны и снежные хижины, похожие на большие бугры снега. Суаминты ужинали. Пахло жареным мясом.
В ближайший к засаде костер кинули охапку сухих ветвей. Затрещала хвоя, искры фонтаном взлетели вверх. Вспыхнувший огонь осветил всю стоянку, и можно было разглядеть, что на верхушке воткнутого в землю шеста чернела волосатая голова человека.
Сойон крикнул, и его отряд скатился вниз. Застигнутые врасплох суаминты заметались, разыскивая валявшееся на земле оружие. Женщины бросились бежать по льду к противоположному берегу.
Началась яростная схватка.
Более рослые и крепкие, рыболовы быстро сломили сопротивление суаминтов. Рассвирепевший Сойон крушил врагов дубовой палицей с тяжелым камнем на конце.
Суаминты рассеялись; каждый из них думал только о собственном спасении.
Возвращение
На другой день отряд поднялся поздно. Измученные ходьбой и яростной битвой, все крепко спали.
Уоми, напротив, не мог уснуть до утра от сильного возбуждения. Он обошел лагерь кругом и убедился, что табор стоял тут уже давно. Снег кругом был крепко утоптан. Везде валялись отбросы. Во все стороны расходились тропинки.
«Если бы у них были собаки, — подумал он, — они бы не дали нам незаметно подкрасться».
Следующий день отряд провел в том же лагере. У рыболовов не было убитых, но были раненые, и трое — довольно тяжело. Раненые, ослабев от потери крови, лежали в шалашах, прикрывшись мехами, которые они нашли тут же в изобилии.
Кроме того, утром обнаружили большую, уже ободранную тушу лося. Уставшие люди с удовольствием жарили и ели мясо и отдыхали возле костров.
Более выносливые вместе с Уоми и Сойоном занимались разведками по всем дорожкам, идущим от табора.
Сойон, как только проснулся, наклонил шест и снял с него голову человека. Он узнал в ней черты сына и горько заплакал. Потом положил голову в сумку:
— Отнесу туда. Нехорошо телу без головы!
Разведки велись до самого вечера, но не привели ни к чему.
На четвертые сутки один из тяжело раненых умер. Его зарыли и поставили над ним посох. Другие окрепли настолько, что уже могли идти. В путь выступили утром, но из-за больных отраду пришлось еще раз переночевать в лесу.
Этот последний переход больным был особенно труден. Провианта в отряде было мало. Все торопились домой. Раненые скоро начали отставать. Сойон со своим отрядом ушел вперед, чтобы успеть похоронить голову сына в той же яме, где лежало и тело.
Чем более спешили передовые, тем сильнее растягивалась вереница людей. Позади всех двигались двое раненых. С ними вместе шагал Уоми. Рядом шел молодой боец, внук Ходжи, высокий Аносу, не отходивший от Уоми.
Вдруг один из раненых заохал и уселся на поваленном стволе. Ему нужно было отдохнуть. Тут Уоми заметил, что весь отряд уже скрылся из глаз.
Уоми попробовал кричать, но ветер дул навстречу, и в отряде его не слыхали. Никто не откликнулся.
Тогда Уоми послал Аносу догнать отряд и сказать, чтобы он подождал отставших.
Посланный пустился бежать и скрылся за поворотом тропинки. Уоми остался ждать, когда отдохнут раненые. Он чувствовал сильную усталость. Веки его слипались, и он незаметно погрузился в то состояние полусна, которое наступает у сильно утомленных людей.
Древко боевого копья было воткнуто в рыхлый снег по правую его руку.
Вдруг сильный удар по голове заставил Уоми вскрикнуть. Кто-то наскочил на него и опрокинул на землю. Уоми успел заметить, что какие-то серые фигуры накинулись на обоих раненых. Он рванулся и выскользнул из обхвативших его рук, но второй удар оглушил его, и он потерял сознание.
Пятеро подкравшихся быстро прикончили обоих раненых и были в восторге от неожиданной удачи. Когда через две минуты Уоми приоткрыл глаза, он увидел пятерых победителей, плясавших военную пляску вокруг распростертых на земле тел.
Один из суаминтов накинул на шею Уоми ременную петлю и потащил его по снегу.
Лицо Уоми побагровело, потом стало синеть. Он чувствовал, что задыхается. В это время ремешок лопнул, и суаминт, потеряв равновесие, ткнулся носом в снежный сугроб.
Товарищи громко хохотали, глядя на то, как он поднимался с лицом, залепленным снегом.
Уоми лежал как труп. Но сознание на этот раз не покинуло его. Он решил не шевелиться, чтобы не навлекать на себя новые удары. Он слышал, как суаминты тараторили над его ухом. Потом они отошли в сторону и резкими, гортанными голосами переговаривались между собой.
Ухо его уловило слово «майямо», которое они повторили несколько раз. Светлеющее сознание напомнило ему, что слово это — одно из немногих, которое ему было знакомо. Оно означало на языке суаминтов «хотим есть» или «мы голодны».
Внезапно разговор прекратился, и все затихло. Уоми осторожно приоткрыл веки и, не меняя позы, старался присмотреться к тому, что происходит. Он увидел прежде всего спину того самого суаминта, который чуть не задушил его. Он сидел на снегу согнувшись и что-то доставал из привязанной к поясу сумки. Остальные четверо скрылись в чаще. В это время суаминт оглянулся.
Уоми лежал неподвижно с полузакрытыми глазами.
Через несколько минут послышались глухие удары камня о камень. Уоми понял, что суаминт выбивает из кремня искры. Затаив дыхание, он снова стал вглядываться в то, что происходит.
Два суаминта вдали тащили по охапке сухих сосновых ветвей, а добывающий огонь стоял на коленях и, согнувшись, высекал искры на собранные кучи хвои. Суаминты бросили ветки возле него и побежали опять за топливом.
Уоми почувствовал, как постепенно жизнь возвращается в его тело.
Ждать дольше было нельзя. Нужно было действовать.
В это время суаминту удалось добиться того, что хвоя начала тлеть. Он улегся ничком, спиной к Уоми, и стал раздувать искры. Это был момент, который мог не повториться.
Беззвучно, но упруго, Уоми повернулся, поднялся на четвереньки, выхватил из-за пазухи свой бронзовый нож и кинулся на суаминта. Ударом под левую лопатку он пригвоздил его к земле.
Одного взмаха было довольно. Суаминт только охнул и сразу затих…
Дорога домой была свободной, потому что суаминты отправились за топливом в другую сторону.
Уоми быстро нагнулся над убитым и одним взмахом отрубил ему правое ухо.
Это была древняя примета. Если хочешь, чтобы охотничье счастье осталось за тобой, отрежь ухо у только что убитой жертвы.
Сунув ухо за пазуху, Уоми бросился бежать по дорожке.
Вдруг воющие голоса прорезали воздух. Уоми увидел, как слева от него двое выскочили из лесу и, бросив охапки наломанных веток, мчались ему наперерез.
Один из них бежал быстрее другого. В руках у него была только длинная палка.
Уоми приготовился к бою. Первый из нападавших выскочил на тропинку впереди него и остановился. Но он не рассчитал: прежде чем он опомнился, Уоми сшиб его с ног и поразил кинжалом.
В этот миг второй преследователь, вооруженный дротиком, тоже выскочил на тропинку. Но вместо того чтобы вступить в рукопашную схватку, в которой дротик имел явное преимущество перед ножом, он остановился и метнул копье.
В Уоми проснулась вся его зоркость. Он быстро нагнулся, и копье свистнуло над его головой.
В следующее мгновение суаминт уже лежал на земле, вцепившись пальцами в занесенную над ним руку Уоми.
Но Уоми был много сильнее. Он вырвал руку и вонзил нож в сердце суаминта.
С ним было покончено почти также быстро, как с двумя первыми. Одним ударом Уоми отсек у него ухо и выпрямился, чтобы оглянуться назад. Два суаминта бежали через поляну, но были еще так далеко, что Уоми успел увернуться и отрубить ухо и у второго убитого.
Теперь он выпрямился, чтобы немного отдохнуть. Он заметил при этом, что преследователи направлялись не прямо к нему, а к тому месту, где они начали готовить костер и где бросили свое оружие.
Дерзкая мысль мелькнула в его голове. Он смерил глазами расстояние и понял: от костра он находился ближе, чем суаминты. Кроме того, ведь он на твердой тропинке, а они бежали по рыхлому снегу.
Решено! Он кинулся бежать так быстро, что ветер засвистел в ушах, и добежал до костра, когда суаминты были еще не так близко.
Копье Уоми по-прежнему торчало в снегу, и тут же валялся на земле тугой лук и стрелы убитого товарища. Суаминты опешили.
«Теперь я с оружием», — подумал Уоми.
Но суаминты колебались только один миг. Они вытащили из-за пояса пращи и стали закладывать в них метательные камни, доставая их из привешенной на поясе сумки.
Враги и не думали отступать. В опытных руках пращи — страшное оружие. Два раза камни прожужжали над его головой — Уоми два раза нагнулся.
«От пращей надо отстреливаться!»
Он воткнул в снег схваченное было копье. Суаминты подступали и расходились в стороны. Они действовали, как пара волков: когда один нападает спереди, другой забегает с тыла.
Уоми не стал дожидаться.
Тетива загудела, как тугая струна, и один из суаминтов сел на снег с пронзенной насквозь шеей. Обеими руками он старался вырвать засевшую стрелу, но вдруг стал клониться к земле и свалился на бок. В это время сильный удар камня в локоть заставил Уоми опустить левую руку. Она онемела, и острые мурашки забегали по ней от пальцев до самого плеча.
Уоми бросил лук и вырвал из снега копье.
Но когда последний суаминт увидел, что остался один против страшного противника, храбрость покинула его, и он опрометью бросился бежать.
Уоми погнался за ним, как лисица за зайцем.
Оба они бежали по тропинке. Уоми настигал. Суаминт понял, что на тропе ему не спастись, и кинулся в строну.
Расчет был верен. По рыхлому снегу Уоми без лыж не мог бы за ним угнаться. Но вдруг суаминт зацепился и шлепнулся ничком. Он стал подниматься, но было поздно.
Отряд, вернувшись в лес, нашел Уоми только к вечеру.
Он сидел в стороне от тропы, под высокой елкой. Искавшие прошли бы мимо, если бы он их не окликнул. Он был в одной нижней одежде. Рядом с ним нашли трупы пяти убитых суаминтов.
Когда в Ку-Пио-Су узнали о том, как боролся Уоми один с пятью суаминтами, никто не мог усидеть на месте. Женщины всплескивали руками, как будто своими глазами видели страшную битву.
Вечером, в кругу стариков, Уоми должен был рассказать все о своем походе.
— Вот, — сказал Уоми, — правду говорил седой: «Не бойся, Уоми. Носи этот нож. Нож с тобой — никто тебя не одолеет».
Уоми вынул из-за пазухи и кинул к ногам стариков пять отрезанных человечьих ушей.
— Сын Дабу! — сказал Ходжа. — Один против пяти. Кто в Ку-Пио-Су может сражаться так, как Уоми?
Хонда
Все эти события, потрясшие жизнь Ку-Пио-Су, проходили без всякого участия Пижму. Он почти нигде не показывался.
За последние дни он сильно осунулся и похудел. Он с трудом поднимался, чтобы присесть к очагу, когда все домашние собирались обедать.
Несколько дней он жил надеждой, что его враг не вернется из опасного похода.
Но когда Уоми вернулся, и притом с блестящей победой, Пижму пришел в полное уныние.
Что это за человек? Над ним бессильны все нашептывания и наговоры. Неужели и в самом деле Дабу ему помогает?
И он, Пижму, старший в Ку-Пио-Су, вождь охотников поселка, в руках у этого мальчишки! Уоми может сделать с ним что хочет. Такого унижения Пижму не знал за всю свою жизнь.
Опять начались ночные кошмары и муки бессонницы. Опять старик вскакивал по ночам и бродил между хижинами.
В одно из таких ночных похождений бушевала снежная метель, и Пижму жестоко простудился. На другой день к нему вернулась лихорадка.
Первый же приступ болезни заставил его потерять последнее мужество.
— Вот оно! — шептал он, стуча от озноба зубами.
В бреду мерещилась ему Огненная Девка — Хонда. Она приходила к нему, чтобы напиться его крови. Его терзали призраки, и среди них самым страшным был сам Уоми с бронзовым кинжалом в руках.
Старому Пижму было совершенно ясно: болезнь «развязана» руками этого человека. Это сводило его с ума. Каждую минуту чувствовал он себя в таинственной власти Уоми.
Зима между тем приближалась к концу. Вернулась из леса охотничья артель, с которой охотился Гарру. Гарру и его товарищи ставили ловушки около Каменной Щели и один раз зашли переночевать в подземелье Урхату.
Гарру рассказывал о нем диковинные вещи.
Урхату не только не умер от страшных медвежьих ран, но, кажется, стал еще сильнее, чем прежде. Рефа отходила его. Она зашептала его кровь и заколдовала его раны. Она мазала их барсучьим жиром и закрывала кленовыми листочками.
Через две луны она подняла его на ноги. Прошла еще одна луна, и вот он опять ходит на охоту и уже убил большого кабана на болоте.
Тут Гарру оглянулся назад. Пижму, который перед тем лежал неподвижно на спине, теперь сидел на своем ложе, и глаза его горели. Дикая радость освещала его лицо, и он еще и еще заставлял повторять внука о том, как Рефа вылечила Урхату от смертельных ран.
На другой день он приказал сыновьям и внукам отвезти его в Щель.
Из двух длинных лыж смастерили подобие широких саней, усадили на них укутанного мехами деда и вшестером повезли по льду, по накатанной лыжной тропинке.
Едва отъехали от домов, как разыгралась метель. Ветер гнал перед собой белую поземку. Из туч повалил густой снег. Он покрывал белым слоем головы и плечи людей. Сыновья предлагали Пижму вернуться, но старик упрямо отказывался.
Непременно сегодня же добраться до Щели! Ведь там колдунья Рефа. Только она одна может спасти его из-под власти Огненной Девки.
Ная и Кунья вышли посмотреть, куда повезли больного Пижму.
Они долго следили за тем, как все больше и больше разгуливалась метель и как в облаках крутящихся снежинок исчезали из глаз закутанные в шкуры и меха сыновья и внуки Пижму.
Куррумба
Три дня бушевала эта последняя зимняя метель.
Ветер выл и свистел, врываясь в дымовые дыры домов. И как ни старались закрывать их шкурами и широкими полотнищами, сшитыми из кусков бересты, вьюга сшибала их, и на очаг сыпалась сверху мелкая снежная пыль.
И вдруг все разом переменилось. На небе засияло радостное солнце. Ласковым ветром потянуло с теплой южной стороны. На концах еловых ветвей повисли ледяные сосульки, и вокруг каждого ствола стали протаивать воронкой накопившиеся за зиму сугробы.
К полудню солнце так припекало, что снег между хижинами Ку-Пио-Су начал быстро чернеть. Еще через день кое-где появились и первые лужицы талой воды.
Дети и взрослые почти поголовно высыпали на улицу и весело повторяли магическое слово:
— Куррумба!..
«Куррумба» означало «весна», ранняя весна. Но содержание этого слова было гораздо сложнее.
«Куррумба» означало также «лебедь». Первоначальный, узкий смысл этого слова был именно таков. Это было название большой белоснежной птицы, перелетные стаи которой появлялись на озере, как только вскроется лед.
Пролетели лебеди, это значит — кончились морозы, пришла пора песен и птичьего гомона. Вместе с первыми птицами прилетает радость ко всему живому.
Но «Куррумба» означало также «старшая мать лебедей», мать-повелительница всех лебединых племен.
Лебединая мать, Куррумба, имеет таинственную силу. Она может оживлять все, что уснуло или ослабело во время долгой зимы.
…В одну из теплых весенних ночей Уоми проснулся, сбросил с себя меховое покрывало.
Кругом было все как обычно. Спали на привычных местах домашние. Чуть тлели угольки погасшего очага, и в просвете дымной дыры уже сияла заря.
Уоми улыбался.
С первой весенней порой снова и снова повторялся его прежний волнующий сон. Ему снилась девушка. Это была та самая, с ясными, как луна, глазами и волосами цвета соломы, которая снилась ему столько раз с тех пор, как он вернулся на родину.
Сон начинался, как всегда, поисками лодки и встречей у ольховых кустов. И опять девушка звала его туда, к берегам Большой Воды, и говорила, что только там она откроет ему свое имя.
Уоми накинул одежду и осторожно вышел.
Улица между домами, еще недавно блиставшая снеговой белизной, стала темной и покрылась лужами.
Тихие звуки заставили Уоми прислушаться. Это был странный шум, который прерывался отзвуками глухих ударов.
Вскрывалась река. Прибыла вода, ломала ледяную кору, дробила ее на тысячи тяжелых кусков.
«Река начала, скоро начнет и озеро».
Уоми с восторгом вдыхал бодрящий воздух.
— Куррумба! Куррумба! — говорил он и прижимал обе ладони к сердцу.
И, как бы в ответ на его призыв, из-за леса показалась стая птиц. Это были первые лебеди весны.
И пылкому воображению Уоми казалось, что впереди них летит сама великолепная Куррумба, чудесная лебединая мать, подгоняемая теплым ветром.
«Скорее, скорее! Полетит и Уоми в свадебный поход на край света. Куррумба уже прилетела…»
Когда прошел лед, Уоми и его дружина заторопились окончить последние сборы.
Молодежь рвалась в путь. Карась и Ходжа настаивали на том, что надо еще переждать. Старики мазали салом священные посохи невидимых духов-покровителей. Они жгли перед ними съедобные приношения. Они молили их защитить детей от опасностей.
Перед самым отъездом к дружине Уоми стало примыкать все больше и больше народу.
В поход собралась вся молодежь. К ним присоединились вдовые мужчины и даже некоторые из женатых, жены которых состарились и поседели. Из старших собрался в поход также Сойон. Жена его бросилась в погребальный костер, который зажгли, когда справляли тризну по убитому суаминтами Сойону Младшему. Она хотела сопровождать его в странствиях по рекам и озерам страны теней.
Гунда крепилась изо всех сил.
Ее привязанность к сыновьям, особенно к Уоми, не ослабевала с годами.
Она гордилась его удалью. Она краснела от счастья, когда при ней говорили о подвигах ее сына.
Уоми уходит, она больше не увидит его. Он уйдет не только из Ку-Пио-Су. Он уйдет к той, которая ему снится.
Если он и вернется, то вернется не к ней, не к Гунде. Он построит новый шалаш для девушки с Большой Воды.
Ледоход прошел, и озеро очистилось ото льда. Гунда с тревогой выходила на берег и следила, не начала ли убывать вода.
Нет, нет! Она еще прибывает. Сегодня она еще выше затопила берег, чем накануне.
Гунда поднималась на холм и смотрела оттуда, как река и озеро сливались в одно огромное море. Весна соединяла то, что было в разлуке весь год. Заливные луга, затопленные половодьем, стали продолжением озера и реки и были местом их слияния. Больше не было Рыбного Озера и отдельной от него реки. Было одно широкое, безбрежное море Ку-Пио-Су. Над ним летали чайки, плавали стаи лебедей. Сама лебединая мать, Куррумба, умывала в воде свои белоснежные крылья.
Как-то вечером вернулся Уоми и весело крикнул:
— Ну, вода стала сохнуть!
У Гунды упало сердце. Она встала и ушла, чтобы посмотреть, не ошибся ли Уоми.
Нет, он не ошибся. Вода отступала, и большой камень, который еще утром был затоплен, теперь выглянул из воды и завтра выйдет совсем на берег.
В эту ночь щеки Гунды были мокры от слез.
— Уоми уедет! Уоми уедет! — шептала она. Кругом спят. Никто ее не услышит.
Вдруг чья-то рука обвила ее шею. Это была Кунья.
С тех пор как Пижму выгнал Кунью, дом Гунды стал для нее своим. Когда Пижму увезли в Каменную Щель, родные звали ее назад. Старик остался в подземелье колдуньи. Он отослал сыновей, и вот уже больше месяца о нем не было ни слуху ни духу. Кунью уводили иногда братья и сестры обедать, но вечером она все-таки возвращалась и укладывалась спать рядом с Гундой. Гунда заменила ей мать.
Гунда ласково провела рукой по ее лицу. Оно горело и было так же мокро, как ее собственное.
Обе женщины обнялись и уснули. Им не нужно было ни о чем спрашивать друг друга. Они плакали об одном и том же.
Отъезд
На заре Гунда встала деятельная и бодрая, как всегда. Во всех домах Ку-Пио-Су раздували огонь, и над кровлями уже поднимались серые струйки дыма. Женщины готовили прощальный обед.
Когда стали спускать лодки, весь поселок вышел провожать отъезжающих. Девушки утирали слезы. Старики давали последние советы. Ребятишки суетились и бегали вокруг домов. Даже карапузы, насосавшись молока из материнских грудей, выползали из домов и смотрели на лодки круглыми глазами.
Наконец Карась скомандовал:
— Садись!
Он влез в свою огромную лодку и оттолкнулся шестом от берега.
Раздалось глухое бормотанье бубна, и Ходжа затянул песню.
Вслед за Карасем стали отчаливать и другие лодки. Уоми искал глазами мать, чтобы последний раз обнять ее перед отъездом. Но Гунды нигде не было видно.
— Скорее! Скорее! — торопили его товарищи.
Уоми еще раз огляделся во все стороны и только тут заметил легкий челнок, в котором сидели мать, Кунья и Ная.
— Мать! — радостно крикнул Уоми.
— Проводим немного. Переночуем с вами одну ночь…
Водяной караван растянулся. Речная струя помогала ему. С берега громко кричали. С передней лодки все тише и тише доносился глухой рокот бубна и певучий говор певца Ходжи.
На другое утро население Каменной Щели было разбужено голосами, доносившимися с реки.
Из шалашей и подземелий вылезли женщины и дети и побежали к реке. Мужчины захватили луки и стрелы и тоже пошли за ними.
Длинная вереница долбленок выходила из-за крутого выступа берега. Челны быстро шли по течению.
— Что за люди? — спрашивали друг друга жители Каменной Щели. Пижму с Урхату не спеша спускались к реке.
Урхату прикрыл глаза широкой, как лопух, ладонью. Начал считать, загибая пальцы; четыре пясти загнул целиком и еще один лишний палец.
Вот сколько было лодок!
Лодки шли мимо. Ни одна не завернула в гости. Пижму жадно впился зоркими глазами в ту лодку, которая шла впереди.
Рефа помогла ему от лихорадки. Она поила его настоем полыни, и Огненная Девка на время оставила его в покое.
— Молодые плывут. Из Ку-Пио-Су! — сказал он глухо. — За невестами. На край света собрались. Где Большая Вода, туда поехали…
— Чего же погостить не заедут? — спросил Урхату.
— Пусть едут! Назад бы не возвращались… Урхату спустился к самой воде.
— Дай-ка лук, — сказал он младшему сыну.
С лодок давно уже заметили людей. Видели, как Урхату натянул лук и стал целиться. Стрела свистнула в воздухе и упала в воду, не долетев несколько шагов до лодок. Она не утонула, а поплыла по воде.
Уоми повернулся к ней. Стрела была без каменного наконечника. Такими стрелами бьют белок, чтобы не дырявить им шкурок.
На заднем конце было привязано что-то белое. Это было длинное крепкое перо из лебединого крыла.
Лебединое перо! Знак весны, мира и дружбы. Приглашает помириться и забыть недоброе.
Уоми также взял в руки лук. Стрела, пущенная Уоми, вонзилась в мокрый песок у самых ног Урхату. Стрела была с тяжелым кремнем на конце, а на заднем крепко был прикручен жилами большой коготь медведя.
Часть третья
Вестник
Качнулись высокие метелки тростников. Кто-то пробирался через густые заросли, закрывавшие озерную гладь. Слышно было, как хлюпала вода и ломались шуршащие стебли.
Но вот чаща тростников раздвинулась, и на луговину выпрыгнул маленький человечек, мокрый с головы до ног. Целые потоки воды стекали с короткой безрукавки, облегавшей его тщедушную фигурку.
Выйдя на сушу, человечек пугливо оглянулся и, тяжело дыша, стал отряхиваться, словно собака. Отряхнувшись, он стал отжимать руками густые пряди волос, потом оглянулся еще раз и, пригнувшись, зашагал вдоль тростников. Пушистые побуревшие метелки рогоза высоко покачивались над его головой.
Из болотной низины поднялся он на суходол и вступил в веселый березовый лес, по которому вилась тропинка. Местами она приближалась к опушке, и тогда сквозь стволы деревьев перед глазами путника развертывалась необъятная водная гладь.
Там, вдали, она упиралась прямо в небо.
Большая вода!
Человек в рысьей шапке подкрался к кустам и принялся внимательно вглядываться в даль. Но не красота величественного озера занимала его. Он зорко высматривал, что делается там, на маленьком островке, откуда ему только что удалось бежать.
Там тихо дремал лагерь чужих людей. Они появились как будто из-под земли и неожиданно захватили его в плен вместе с братом.
Нет, там еще никто не просыпался. Чужие мирно спали в своих челноках, вытащенных на свой берег.
Никто не заметил побега. Никаких признаков погони или хотя бы малейшей тревоги! Беглец спокойно мог продолжать свой путь.
К полудню он уже пересек березовый лес, и тропа привела его на берег узкого залива, окруженного, как рамой, зелеными берегами.
Внизу, посреди залива, как будто из воды, поднимались остроконечные кровли, похожие на вигвамы индейцев. Над ними курились синеватые струйки дыма. Доносилось звонкое тявканье собак. Дома стояли не на земле, а на помосте, положенном на сваи. Помост в виде большой подковы образовывал искусственную полукруглую гавань. В ней виднелись привязанные около домов лодки.
С другого берега к поселку тянулся песчаный мысок. Его конец подходил близко к одной стороне подковы и соединялся с ней узенькими бревенчатыми мостками. По ним можно было перебраться в поселок, но для этого пришлось бы обойти весь длинный конец залива.
Человек в рысьей шапке сбежал прямо вниз и громко стал вызывать лодку.
Через несколько минут от поселка отвалил небольшой челнок, на корме которого стоял человек с длинным веслом в руках. На нем была надета такая же короткая безрукавка, но длинные волосы, заплетенные в косы, позволяли догадаться, что это была женщина.
— Набу! Откуда? Где твоя лодка? — крикнула она, причаливая к берегу.
— Скорей! Скорей! — ответил Набу. — Вези! Беда! Чужие!..
На пригнанном перевозчицей челноке Набу переправился через пролив, и тотчас же во всем поселке поднялась неописуемая тревога. Люди выскакивали из домов, с криком метались туда и сюда или, сгрудившись вокруг прибывшего, без конца заставляли его повторять о том, что произошло.
А произошло вот что.
Накануне два рыболова из Свайного поселка ловили рыбу по берегам озера. Они перегородили сетью небольшую бухту и медленно тащили сеть к берегу, рассчитывая выловить всю зашедшую сюда рыбу.
И вот в устье бухты показалось несколько лодок с вооруженными людьми.
Заметив рыбаков, лодки повернули к ним, и оба ловца превратились в пленников.
Чужестранцы говорили каким-то особенным говором, но понять их было можно. Они добивались от рыбаков одного: где находится их поселок.
Каву, другой рыбак, испугался. Показал, куда надо плыть, и теперь лодки чужаков уже на Медвежьем островке. Там они сделали привал, развели костер, пекли рыбу, поставили сторожевых, а пленников связали и положили на песок, под опрокинутую лодку.
Всю ночь Набу силился развязать руки. Под утро это ему удалось. Осколком кремня разрезал ремень, которым были спутаны ноги. Потом стал подкапывать песок у края челна. Сперва сделал только дыру, чтобы оглядеться. Кругом все спали. Стал копать глубже. Высунул голову. Увидел, что сторожевые у костра уснули. Тогда вылез, дополз до воды и поплыл. Никто не заметил его бегства.
Добравшись до берега, Набу пролез тростниками до сухой земли, а затем, через березник, тропинкой, добежал домой.
— Что за люди? — спрашивали старики.
— Чужие! Все большие. Вот какие большие!
Набу поднял руку и показал, какого роста чужестранцы.
— Много ли?
— Лодок у них вот сколько!
Рассказчик два раза растопырил до десяти пальцев.
— Лодки короткие. Меньше наших. Лодки простые, безголовые…
— А-ах! — удивлялись слушатели.
Лодки Свайного поселка все были снабжены носовым украшением в виде оленьей головы. Челн, по мнению рыбаков, существо живое. Как же ему быть без головы? Голова нужна, чтобы видеть. В голове живет душа лодки. Лодке без головы не хватает ума. На безголовой лодке опасно ходить по Большой Воде.
Разные поселки на озере различались по типу носовых украшений лодок: у одних были оленьи головы, у других — птичьи, у третьих — рыбьи.
Расспросив все про лодки, стали спрашивать про оружие.
— Копья у них большие. Луки большие. Палицы — вот какие! Когда Каву пугали, махали на него палицами. Каву заплакал. Все им рассказал. Дрожал со страху.
Вопросам не было конца, и Набу едва успевал на них отвечать. Старики начали совещаться.
Чужие
В поселке, кроме женщин и детей, в это время оставалось всего восемь седых стариков и только четверо мужчин-бойцов. Остальные уехали на Мыс Идолов.
Как раз накануне прислал за ними дочерей сам Ойху, суровый хозяин Мыса. Прослышал, что поймали в яму медведя. Велел сказать: медвежатины давно не ел хозяин Ойху.
Повезли ему живого медведя, опутанного толстыми ремнями.
Медведя положили на самую большую лодку и крепко привязали к бортам.
Медведь ворочался и раскачивал лодку. Когда уже далеко отъехали от поселка, все еще было слышно сердитое оханье связанного зверя.
Больше суток нужно грести, чтобы добраться до Мыса. Когда же вернутся защитники? Набу говорил:
— Чужие очень страшные. Что против них могут старики, женщины и дети?
Йолду, старик стариков, молча слушал стоны и хныканье женщин. Его желтоватое скуластое лицо в глубоких морщинах было неподвижно. Ни страха, ни заботы на нем не отражалось.
Вдруг он поднял над головой большой, изукрашенный резьбой жезл вождя рыбаков, и все замолчали.
— Мужчины и женщины, старики и подростки! Пусть все возьмут по копью, — сказал он. — Чужие придут, издали не разберут, много ли в поселке бойцов.
В Свайном поселке поднималось больше двадцати пяти кровель. Дома были меньше и не так вместительны, как в Ку-пио-Су. Но народу в поселке было больше, чем в Ку-Пио-Су.
Около шестидесяти человек обоего пола вооружились копьями, дубинками, луками и каменными топорами.
Издали в самом деле видно было, что весь поселок ощетинился лесом копий. Глаза у Йолду повеселели.
— Съездить за мужчинами! — сказал он.
Несколько человек сразу вызвались ехать. Йолду махнул рукой;
— Сам выберу! Старик обвел толпу глазами. Малорослые люди жили в хижинах Свайного поселка. С давних пор породнились они с низкорослыми желтолицыми племенами в окрестностях Озера. Давно утратили они облик своих предков, пересилившихся с берегов Великой Реки. И ростом, и особым складом скуластого лица, и разрезом глаз они стали сильно напоминать желтолицых. Только язык оставался родственным языку коренных жителей Великой Реки.
Сам Йолду, маленький, кривоногий и худой, казался невзрачным даже среди женщин и подростков поселка. Но подслеповатые, узкие глаза его глядели хитро и остро, и вся родня привыкла слушаться старшего деда.
— Мужчин не пошлю, — сказал Йолду. — Мужчины тут нужны. Кто из жен бывал на Мысе Идолов?
Йолду выбрал из отозвавшихся двух пожилых и самых смышленых женщин и велел собираться в дорогу.
Скоро челнок с двумя посланными уже отваливал от пристани. Весь поселок следил за тем, как он вышел из залива и завернул за лесистые выступа берега.
Йолду все еще не покидал пристани. Что-то его беспокоило. Наконец он подозвал двух подростков-внуков и велел им собираться в дорогу. Он посылал их добраться до Мыса Идолов пешком по берегу. Опасался, что, может быть, посланные в лодке не смогут благополучно пройти, если их заметят чужие.
Мальчики, захватив по легкому копью, быстро перебежали мостки и пустились напрямик сухопутной тропинкой.
Йолду, проводив глазами юных гонцов, пробормотал на дорогу доброе заклинание, приказал разобрать мостки и, покачав головой, вернулся в хижину.
Свайный поселок понемногу успокоился и затих.
Вдруг громкий крик спугнул тишину. Кричали девушки, указывая пальцами в сторону озера.
Тревога охватила весь поселок. Устье залива было занято целой флотилией лодок. Это были лодки чужих.
Лодки вереницей входили в залив. Гребцы действовали не веслами, а шестами. Лодки были действительно простые, без голов, и это сразу без ошибки позволило узнать, что приближаются чужие. Но среди них видна была одна лодка с лосиной головой.
Все в один голос решили, что посланные на Мыс Идолов попали в плен к чужестранцам.
В лодке с лосиной головой видны были две, вероятно, женские фигуры, которые сидели, подперев ладонями щеки. Гребцов не было. Лодку тащил за собой самый крупный челнок чужестранцев, зацепив багром лосиную голову пленного челнока.
Чужие высадились против Свайного поселка и вытащили на берег свои челноки.
Высадившиеся на берег люди развели четыре костра. Женщины уже суетились возле огня, мужчины стояли кучей в стороне от берега и о чем-то совещались.
Вдруг мужчины пришельцев подошли к краю берега. Все они стали лицом к поселку и, как будто по команде, бросили оружие.
Потом опустились сначала на колени, а затем легли ничком, прижимаясь к земле щеками и лбом. Это был ясный знак мирных намерений чужестранцев.
Йолду стоял в кучке стариков и вглядывался в то, что делается на берегу.
— Легли! — прошептал он. — Мирно хотят прийти. Старики засмеялись, показывая друг другу поредевшие зубы.
Йолду вышел вперед и бросил копье на землю. Все остальные жители поселка также опустили оружие.
— Верните женщин! — громко кричал тонким голосом Набу. Через некоторое время от берега отделились две лодки.
В одной сидели Уоми и Сойон Старший, в другой — женщины.
К общему удивлению, пленницами оказались не посланные на Мыс Идолов, а две дочери Ойху, которые накануне уехали из поселка. На корме у них сидел за гребца красавец Тэкту, и обе женщины разглядывали его с любопытством.
— Не бойтесь! — сказал Сойон Старший, подъезжая к поселку. — Невест хотим сватать. Присылайте стариков. Подарки им есть.
Знакомство
Мирное знакомство завязалось. Молодежь Ку-Пио-Су угощала Йолду и других стариков медом. Карась дарил мужчинам оружие. Старым женщинам поселка надели на шеи ожерелья из перламутровых раковин.
Гости привезли с собой убитого лося, и жители поселка получили по куску печеного мяса.
Хозяева не оставались в долгу. Они накормили гостей семгой, и гости хвалили нежный вкус красной рыбы:
— Никогда такой не пробовали!
После пира начались игры, и тут хозяевам пришел свой черед удивляться: такой рослый, сильной и красивой молодежи они еще не встречали.
Состязание в борьбе показало, что жители Свайного поселка не в силах сравняться с чужестранцами. То же было и в других состязаниях: стрельбе из луков, бросании копий, метании камней пращами. Только на воде хозяева оказались первыми. В гребле пришельцы им уступали. Гости восхищались длинными челноками, украшенными на переднем конце лосиными головами. Таких длинных лодок и таких широких весел не умели делать в Ку-Пио-Су. Сам горбатый лодочник Карась вынужден был в этом признаться.
Снятые со своей жерди мостки снова были положены на место, и по восстановленному настилу почти все население поселка переправилось на противоположный берег, где расположился лагерь гостей.
Впереди, около большого огня, уселись старики поселка с самим Йолду во главе.
С ними вместе — старшие из гостей: Карась, Сойон и Ходжа. Уоми и Тэкту стояли за костром с остальной молодежью свадебной дружины.
Ходжа принес с собой бубен, и до захода солнца из хижины Йолду раздавался звонкий голос певца.
Ходжа пел о далеком Рыбном Озере, о Великом Дабу, старике стариков над всеми дубами леса, о его душе, которая вылетает ночью из темного дупла филином-птицей и кружит над поселком Ку-Пио-Су. Он рассказывал про таинственное рождение Уоми, про его необычайную судьбу, диковинные дела и подвиги. Про войну с суаминтами и про великий свадебный поход узнали жители Свайного поселка из песен слепого певца.
Поздно вечером, когда стала гаснуть заря, хозяева поселка по знаку Йолду неохотно удалились на свой островок. Гости стали укладываться в наскоро сделанных из зеленых веток шалашах, где скрывались их женщины, приехавшие с дружиной.
У большого костра оставили ночную стражу. По совету Сойона Уоми приказал дружинникам положить оружие у правой руки.
Ласковы были старики у большого огня, но пока сами дружинники еще не посидели у очагов хозяев, первое знакомство оставалось только знакомством. Оно не было еще закреплено обрядом дружбы.
Уоми не спалось.
Он вышел из своего шалаша и медленно зашагал к лодкам. На небе догорал закат, и багровая полоска отражалась в спокойной воде залива.
— Большая Вода! Большая Вода!
Сколько раз шептали его губы эти слова.
Вот уже целый год, как он живет одной мыслью.
Он дойдет во что бы то ни стало до Большой Воды. Он одолеет всех, кто станет ему на пути. Он увидит сказочное озеро, за которым лежит таинственный «край света».
Он найдет там то, что искал. Он увидит девушку своих сновидений.
Сбывались его мечты. Сны становились действительностью. В Ку-Пио-Су ничего толком не знали о Большой Воде. Один только Ходжа-слепец говорил о ней понаслышке.
И вот она перед ним, эта Большая Вода! Он добрался сюда, пройдя несколько рек, протащив волоком лодки до верховьев последней лесной реки, которая привела наконец к желанной цели.
…Без малого три луны понадобилось свадебной дружине, чтобы от Ку-Пио-Су добраться до Свайного поселка. Много дней странствовали они по озерным берегам, посещая разные рыбацкие поселки. Впрочем, таких поселков встретилось немного. Робкие жители первого из них разбежались, завидев издали приближающуюся флотилию лодок. С большим трудом удалось вызвать людей из березняка, куда они попрятались в страхе перед чужими.
Только подаренный старшему деду поселка костяной рыболовный крючок да маленький горшочек сладкого меда заставил их оставить свои опасения. Старики ели мед, облизывали пальцы и ласково улыбались. В этом поселке дружина сосватала несколько невест. Несколько девушек добыто было и раньше на длинном речном пути.
Свайный поселок, по рассказам, был самым крайним из больших поселений на берегу озера. Дальше были только пять домов около Мыса Идолов. Там живет старый хозяин Мыса, колдун Ойху, его жена и его родня. Еще дальше на полночь пойдут только леса. Они шумят у пустынных берегов Большой Воды, и только желтолицые звероловы бродят в них маленькими артелями или в одиночку со своими остроухими охотничьими лайками.
За эти долгие дни странствования почти вся дружина Уоми сосватала себе девушек. В каждом рыбацком поселке, которые встречались им на пути, шли сватанье и выкуп невест. Познакомившись с хозяевами, дружина угощала стариков и матерей. Молодежь затевала свадебные игры. На играх выбирали себе невест, которых и увозили с собой.
С каждой остановкой все многолюднее становился странствующий отряд, все больше мелькало в нем пестрых нарядов, более звонко раздавался женский смех и теснее становилось в лодках. Число челноков тоже увеличилось: некоторые из невест получали их в подарок от родных.
К тому времени, когда караван лодок добрался до Большой Воды, только немногие не успели еще добыть себе жен. Оставались холостыми из старших Карась, Сойон и, конечно, певец Ходжа, который и не помышлял о женитьбе. Из молодых все еще не обзавелись женами Гарру, два сына Сойона да близнецы Уоми и Тэкту.
Уоми никого не сватал: ни одна из невест не была похожа на ту, которую он видел во сне. Зачем ему эти невесты? Ведь дочь Водяного Хозяина ждет его на берегу Большой Воды.
Когда дружина добралась до Свайного поселка, Уоми насторожился.
«Вот! — думал он. — Где-нибудь здесь!»
Теперь или никогда суждено ему наконец отыскать девушку своих сновидений. Об этом думал Уоми, сидя на большом валуне на берегу тихо спящего залива.
Вдруг мягкая рука осторожно погладила его по голове.
Уоми очнулся. За его спиной стояла Гунда и ласково глядела на сына.
— Что, Уоми? — спросила она. — Нет невесты? Уоми покачал головой.
— Что же ты? — улыбалась мать.
— Какие невесты! Они для Уоми как камни.
— Есть еще девушки. Не всех видел Уоми. Уоми только махнул рукой.
Гунда села рядом и взяла его за руку. Губы ее шевелились, будто она хотела что-то сказать.
…Когда лодка Уоми отчалила от пристани Ку-Пио-Су, Гунда хотела проводить своих близнецов только на один переход. Проехать с ними до первой остановки, переночевать у походного костра, взглянуть на них последний раз и вернуться. Но на первой ночевке она подумала: «Почему не поехать еще дальше?» На второй повторилось то же самое. Решили ехать вместе еще один перегон. На третьей ночевке Гунда проснулась и стала смеяться. Никуда от сыновей она не поедет. Для чего ей возвращаться в Ку-Пио-Су? Она вернется туда, но только вместе с Уоми и Тэкту.
Ная и Кунья всплеснула руками. Они тоже поедут со свадебной дружиной. Они будут там, где Гунда.
С тех пор много дней Гунда, Ная и Кунья разделяли все невзгоды и труды похода. Переносить их было иной раз нелегко. Приходилось терпеть и холод и проливные дожди. Случалось порой голодать. Полчища комаров, слепней и лесной мошкары не давали покоя ни днем, ни ночью. Но все это Гунде казалось мелочью. Зато она могла видеть около себя сыновей и каждый день говорить с Уоми.
Ночью Гунда пробиралась к своим близнецам, спавшим сном богатырей. Утренняя заря не раз заставала ее у изголовья Уоми.
Заключение дружбы
На другой день старшие дружинники с новыми подарками отправились в Свайный поселок. На веслах сидели Уоми и Тэкту.
Они вступили в него без оружия и спросили, как отыскать хижину Йолду.
Набу вызвался их проводить.
Осторожно шагали гости по еловым жердям настила, положенного на толстые сваи. Все занимало их — люди и дома, но больше всего интересовали сваи, искусно вколоченные в мелкое дно залива.
Перед каждой хижиной торчал высокий ствол молодой елки, поставленной вверх корнями. Их прикорневое утолщение должно было изображать голову духа — покровителя дома, корни — копну волос, а желобок ниже утолщения — шею.
Войдя в хижину Йолду, гости опустились на устланный оленьими шкурами пол. Они коснулись пальцами каменной обкладки очага. Прикосновение к очагу означало, что вошедшие отдают себя на волю хозяина дома и просят его покровительства.
Йолду смотрел на гостей внимательными глазами. Ему было приятно, что чужестранцы, которые казались недавно страшными, теперь сами пришли и просят дружбы.
Йолду присел на корточки перед огнем, выбрал небольшой уголек и, перекидывая его с ладони на ладонь, подбросил так, что он полетел к Карасю. Карась поймал уголек и кинул его Сойону, тот перебросил его Уоми, Уоми — Текту, а тот обратно в очаг.
Так была заключена дружба между приехавшими гостями и людьми Свайного поселка. С этих пор та и другая стороны отказывались от всяких враждебных действий и обязывались защищать друг друга от всяких опасностей и враждебных нападений.
По знаку Йолду подошла старуха и поставила перед гостями глиняное корытце с ракушками и печеной рыбой.
Гостям не очень хотелось есть, но обычай требовал отведать угощения. Это была не простая вежливость. Торжественное вкушение пищи перед очагом заключало в себе особый, таинственный смысл. Оно имело значение жертвы, посвященной духу дома, обитавшему в священном посохе позади очага.
Мирная беседа Уоми с приезжими продолжалась довольно долго, как вдруг громкие крики женщин возвестили о каком-то чрезвычайном событии.
В хижине все насторожились. Слышен был топот бегущей по улице поселка толпы детей и женщин и возгласы:
— Едут! Едут!
Йолду вместе с гостями вышел наружу. Жители поселка толпились на краю помоста и махали руками. Все смотрели в ту сторону, где залив сливался с озером. Там из-за лесистого мыса входила в залив длинная вереница лодок.
Это возвращались мужчины, вызванные с Мыса Идолов.
Лодки быстро приближались к островку. На каждой было от двух до четырех гребцов, кроме кормчего, который сидел на корме и правил рулевым веслом.
Гребцы спешили. Все они постоянно оглядывались на берег, где был виден лагерь чужеземцев.
Йолду встретил их у пристани, где приехавшие уже знакомились со слов женщин с тем, что тут происходило.
Приехавшие готовились к жаркой схватке и были удивлены, когда увидели чужестранцев в самом поселке в мирной беседе с Йолду.
Смотрины
Приехавшие с детским любопытством разглядывали чужестранцев. Они трогали их одежду, их оружие и украшения.
Особенно привлекало их ожерелье Уоми из медвежьих зубов и когтей.
На другой день назначены были смотрины. После полудня были положены снятые на ночь мостки. Из поселка двинулась по ним толпа людей. Впереди медленно шли седые с маленьким Йолду во главе. Они шли, важно опираясь на палки. За ними шли мужчины. Некоторые были вооружены копьями; другие несли луки; третьи были безоружны. За ними густой толпой спешили женщины, ведя за руку маленьких детей. Матери несли на руках ребят; другие тащили детей на спине, посадив их в кожаные мешки или берестяные кошелки.
За женщинами шли девушки, держа друг друга за руки. С раннего утра начали они наряжаться. Некоторые еще с вечера стали нашивать лоскутки беличьих шкурок на темные куньи шубы. Они накрасили красным суриком щеки, лбы натерли желтой охрой. У некоторых глаза были обведены черными угольными кругами, и почти все для красоты начернили во рту передние зубы.
Молодые женщины и девушки уселись прямо на траву лицом к большому костру, зажженному на лужайке.
По другую сторону расположились молодые жены дружинников, которые также надели на себя все свои наряды. Головы у них были покрыты в знак того, что они теперь замужние женщины.
Старики поселка поместились на небольшом пригорке, откуда была хорошо видна вся поляна.
Девушки Свайного поселка затянули заунывную песню, слова которой были почти непонятны жителям Ку-Пио-Су. Потом они запели другую песню, более живую и веселую, которую пели, прихлопывая в такт руками. Через некоторое время стали подтягивать и замужние. Голоса хора раздавались все громче и громче, а ритм делался более быстрым. Пение то стихало, то вдруг поднималось до такого надрывного крика, что лица поющих краснели от напряжения.
Наконец девушки поднялись, взялись за руки и двинулись вокруг костра мимо стариков, мимо кучки молодых мужчин своего поселка и молодежи приехавшей свадебной дружины. Двигались медленно, с каменными, неподвижными лицами, без малейших признаков какого-нибудь оживления или улыбки. Их песни и хоровод нисколько не были похожи на веселые танцы в Ку-Пио-Су.
Пожилые женщины между тем хлопотали около костра, поджаривая привезенную мужчинами добычу. Наконец пение прекратилось, и собравшиеся принялись за еду, поглощая рыбу и дичь, испеченные на углях.
Вечером после пира начались игры молодежи. Опять гости показывали свою силу и искусство, а девушки плясали и пели песни гораздо более веселые, чем днем.
Девушки устроили беготню. Мужчины догоняли их и накидывали на голову ременные петли.
Ни Ная, ни Кунья не принимали участия в этих свадебных играх: у них не было никакой охоты оставаться навсегда в Свайном поселке. Еще до конца пира они вместе с Гундой удалились в свой зеленый шалаш, сплетенный ими в кустах ивняка, недалеко от лодок. Отсюда им было удобно наблюдать, что делалось на праздничном лугу. Ная то и дело делилась с матерью и Куньей тем, что она видела:
— Сойон, Сойон! Как молодой! Погнался за рыжей прямо через кусты. Ну и рыжая какая! Как лисица! Не дается. Убежала от него в рощу.
— А где Уоми? — тихо спросила Кунья.
— Даже не смотрит ни на кого. Вон, сидит со стариками.
Гунда ласково смотрела на Кунью и ничего не сказала.
На другой день Гарру, Сойону Старшему и двум его младшим сыновьям пришлось выкладывать выкуп за пойманных ими невест.
Только старый Карась, Уоми и Тэкту не привели никого к своим шалашам. Карась заявил, что он вообще раздумал жениться. Тэкту говорил, что не хочет жениться раньше брата. Уоми молчал, но все знали, что ни одна из девушек поселка не пришлась ему по душе.
Ехать на Мыс Идолов
Прошло еще три дня. Лагерь оставался на прежнем месте, но дружинники начали спрашивать:
— Что же будет теперь?
Почти все, кто хотел добыть себе невесту, уже добились этого. Что же думает Уоми? Идти ли вперед на самый край света или поворачивать обратно?
Уоми как будто не решался ни на то, ни на другое.
Закинув за спину лук, с коротким копьем в руках, с утра уходил он один, шагая вдоль озерного берега, и возвращался поздно, иногда с убитым гусем или уткой. Не сказав никому ни слова, скрывался он в свой шалаш и лежал один, отвернувшись лицом к стене.
Гунда приносила ему поесть. Уоми ел мало и неохотно. Гунда тревожно следила за ним, все хотела спросить о чем-то и не решалась.
На третий день после свадебных игр Ходжа отозвал Карася в сторону. Оба они долго шептались, потом сели в лодку и поехали в Свайный поселок. Там они не только провели весь день, но и заночевали в доме Йолду.
Только на другое утро вернулись в лагерь. Вернулись не одни. В лодке с ними сидел Набу, тот самый, который побывал в плену у рыбноозерцев.
Как только вытащили лодку, сейчас же стали искать Уоми. Они нашли его возле шалаша Гунды. Он лежал один на охапке травы у самого входа. Уоми не спал.
— Уоми… — сказал Карась и остановился: на него глядело осунувшееся, похудевшее лицо с горящими, как бы воспаленными глазами. — Уоми, — повторил Карась, — что же будешь делать?
— Не знаю, — сказал Уоми.
— Ехал на край света. Искал невесту. Девушек сколько видел. Что же не сватаешь?
— Моя невеста не такая. Не похожа на этих.
— Бери какую-нибудь. Дальше поселков больше нет. Уоми молчал.
— В Свайном поселке всякая за тебя пойдет. Бери любую. Смотри лучше.
Уоми покачал головой:
— Всех видел. Не такие они…
Набу и Карась присели на корточки. Некоторое время все молчали.
— Есть тут поселки еще по лесным речкам. Дойти можно. Есть там и девушки. Только желтолицые и по-нашему не говорят. Его спроси, — сказал Карась, показывая пальцем на сидящего молча Набу.
Набу улыбнулся и закивал лохматой головой.
— Нет, — ответил Уоми. — Моя невеста не такая, не желтолицая. Уоми найдет ее у Большой Воды.
— Ну, — сказал Карась, — пусть Набу теперь все скажет. Набу опять закивал головой.
— Есть, — сказал он и крепко зажмурил узенькие глазки.
— Что есть? — насторожился Уоми.
— Есть такая невеста.
— Желтолицая?
— Нет, белая! Совсем белая.
— Где? — спросил Уоми.
— Есть такое место.
— Где? Где? — заторопил его Уоми и даже вскочил со своей постели. — Может быть, далеко в лесу?
— Нет, у Большой Воды. Недалеко. Уоми стиснул ему правое плечо:
— Говори!
— У мыса Идолов. На лодке сутки надо грести…
— Ты был там?
— Бывал.
— И сам видел?
— Ее никто не видит. Только Ойху. Никому ее не показывает.
— Кто ее отец?
— Ойху. Он хозяин Мыса. И всей воды хозяин. Страшный он. Мы его боимся.
— Воды хозяин? Как ты сказал? Хозяин Большой Воды?
— Всякой воды хозяин. Всякая вода его слушает. В озере, и в реке, и в туче вода. Что он скажет, то она и будет делать.
Уоми потер себе лоб. Сбывается сон. Вот где найдет он дочь Водяного Хозяина! Вот где дожидается девушка его снов!
— Как ее зовут? — спросил он, удерживая порывистое дыхание.
— Сольда, а Ойху зовет по-другому. Не позволяет ей показываться людям. Любимая его дочь. Не хочет никому ее отдавать.
— Как же ее увидеть?
— Не знаю. Живет в доме на высоких столбах. Ойху к ней никого не пускает.
— Но ведь ты Уоми, — раздался вдруг голос Ходжи. — Другие не могут — Уоми может все! Ему помогает сам Дабу.
Это было сказано с таким твердым убеждением, что Карась, который молча сидел в стороне, кивнул головой в знак полного согласия с Ходжей.
Уоми в волнении зашагал взад и вперед перед шалашом.
— Уоми поедет, — сказал он.
— Берегись, — сказал Набу. — Ойху страшный. Мы его боимся.
Уоми быстро подошел к Набу и обеими руками стиснул его узкие плечи:
— Набу, покажи дорогу на Мыс Идолов! Уоми поедет к своей невесте.
Набу замотал головой:
— Нет! Набу боится. Ойху узнает — велит убить. И тебя велит убить. Он страшный…
— Кому велит?
— Желтолицым. Они его слушают. Он страшный.
Неожиданный шорох заставил Уоми оглянуться. В шалаше, перед самым входом, полузакрытая сухими ветвями, стояла Кунья. Она была бледна. Глаза широко раскрыты, голые руки крепко прижаты к горностаевой безрукавке на груди. Она почти высунулась из шалаша и с таким ужасом слушала Набу, как будто опасность грозила ей самой.
— Кунья! — невольно позвал ее Уоми.
Но девушка мгновенно закрыла лицо руками и юркнула внутрь. Она сделала это так быстро, что Уоми не успел прибавить ни слова.
— Вот что, — сказал Карась. — Мы и без Набу найдем завтра дорогу. Старики и мужчины из поселка опять поедут на Мыс Идолов.
— Зачем?
— Справлять праздник медведя.
— Они уже ездили, — сказал Набу, — да заторопились назад. Боялись, чужие будут разорять дома. Медведя привезли, а убить не успели. Опять поедут справлять медвежью свадьбу.
— Может быть, не захотят с нами! — заголосил Ходжа. — Но мы ведь породнились теперь, невест у них взяли. Сваты, а не чужие!..
Ходжа кричал с необычайной горячностью, хотя никто с ним не спорил.
Насилу успокоили раскричавшегося слепца и пошли объявить об отъезде всей дружине:
— Готовиться к походу! Ехать на Мыс Идолов!
Я — Уоми!
Вечером, проходя мимо шалаша Гунды, Уоми увидел мать. Она сидела на траве перед входом, а около нее ничком лежала Кунья. Лицо она уткнула в колени Гунды. Плечи ее вздрагивали, и ему показалось, что она плачет.
Гунда ласково и грустно гладила ее по голове. Из шалаша выглянула сестра Ная. Она тоже казалась встревоженной.
«Чего это они?» — подумал Уоми и остановился.
В это время кто-то громко позвал его. Это кричал Тэкту из шалаша, где они жили вместе с Карасем и Ходжей.
Тэкту только что вернулся с охоты. Вместе с товарищами они принесли богатую добычу. Тут был и жирный бобер и молодой олененок, которого они подстерегли около водопоя.
…Ночью Уоми опять снилась его девушка. На этот раз не совсем так, как обычно.
Он увидел Каплю опять на берегу, но теперь будто бы это был берег Большой Воды. Она сидела на красном камне, и белые ноги ее спущены в воду.
Прозрачные волны набегают и ласкают их. Она в белой меховой безрукавке. Голова покрыта шкуркой, а лица не видно. Уоми хочет заглянуть ей в глаза, но девушка закрывается ладонями и отворачивается.
«Когда откроешься?»
«Теперь скоро».
«Где ты живешь?»
«Совсем близко».
Сильно забилось сердце в груди Уоми.
«Как же найти твой дом? Ты не сказала твоего имени. Ты не хочешь открыть лица».
«Вспомни. Ведь ты уже столько раз видел меня!»
Уоми с ужасом чувствует, что совсем позабыл ее лицо. Ему нужно вспомнить. Он силится это сделать и не может. Тогда он быстро снимает с головы ее меховую накидку, но она обеими руками закрывает лицо, и он видит только, что она со всех сторон закрыта рассыпавшимися волосами, светло-желтыми, как солома, как светлые волосы Куньи.
«Вспомни, — слышит он, — тогда откроюсь».
Вдруг чья-то теплая рука погладила его по лицу. Уоми проснулся.
Перед ним стоит мать и гладит его по голове.
— Вставай, Уоми, — говорит Гунда. — Надо сказать…
— Мать, что ты сделала! — с отчаянием вскрикнул Уоми. — Зачем разбудила?
— Пора вставать, Уоми. Дружина хочет видеть!
— Где же? Где же она? — с досадой спрашивал Уоми. Он дико осматривался кругом. — Ведь она вот тут была! Сидела на камне. Уоми только надо было узнать лицо. Зачем помешала?
— Кто она? — спросила Гунда.
— Та девушка. Ты знаешь.
— Опять снилась?
— Вот здесь была. Совсем рядом… Сказала: она тут, близко. Мне нужно было только вспомнить. Ты опять помешала!
Уоми с упреком глядел на мать. Гунда вдруг крепко схватила его руку:
— Слушай, Уоми. Гунда пришла тебе сказать: не езди! Не езди туда! Они тебя погубят. Они всех погубят: меня, Наю, Кунью. Не езди, Уоми! Это обман. Они злые! Они убьют тебя…
Гунда почти кричала. Она была вне себя. Глаза ее глядели куда-то поверх головы сына, как будто она видела что-то страшное там, за его спиной.
Уоми вскочил на ноги и резко выдернул руку.
— Мать, — сказал он, — зачем поехал Уоми? Он хочет найти девушку Большой Воды! И вот она тут, близко… Совсем близко! Уоми не вернется, пока не найдет свой сон… — Ему вдруг стало жалко мать, такую испуганную, такую истерзанную страхом. — Не бойся, мать, — сказал он ласково. — Не бойся! Помни: я — Уоми!..
Последние слова были сказаны с такой силой и верой в себя, что Гунда улыбнулась и глаза ее гордо сверкнули. А с берега слышались голоса:
— Уоми! Скорее, Уоми!..
Уоми тряхнул головой и быстро зашагал к лодкам.
Почему боялись Ойху?
Возле лодок шумела дружина. Слышался гул толпы, возбужденные голоса и крики. Несколько больших лодок из поселка качались тут же у берега.
Тэкту, вышедший на встречу брату, сказал, указывая на дружину:
— Не хотят ехать…
— Не поедем! Не поедем! — раздавались крики.
Смятение началось в лагере, когда рано утром к берегу подъехала лодка из Свайного поселка. В ней сидели несколько седых, а на корме — Набу с рулевым веслом в руках.
Старики сказали дружинникам, что ехать на Мыс Идолов могут только мужчины.
Дружинники удивились. У них на медвежьем празднике были все. Старики переглянулись. Им как будто бы не хотелось всего говорить. Наконец они заговорили, и дружинники узнали удивительные вещи.
Дело не в медвежьем празднике. Дело в хозяине Большой Воды — Ойху.
На Мыс Идолов ни одна молодая женщина поселка добровольно не поедет. Всякая девушка или замужняя женщина, попавшаяся на глаза Ойху, рискует потерять не только свободу, но нередко и саму жизнь. Ойху любит молодых женщин. Стоит ему увидеть девушку, как он берет ее себе в жены. Но это еще не самая большая беда. Плохо, что некоторых жен он мучит и терзает безжалостно.
Ойху держит своих жен взаперти. Под страхом смерти запрещает смотреть на них мужчинам. Под страхом смерти запрещает выходить из дому. Потом по вечерам из его дома начинают слышаться стоны и женские крики. А через несколько дней исколотый и истерзанный труп несчастной, выброшенный в речку, выплывает на озерный простор и носится по волнам, то уплывая в глубину озера, то возвращаясь обратно. В бурю сердитые волны выкидывают трупы на песчаный берег.
— Откуда же Ойху достает себе жен, если женщины туда не ездят? — спрашивали дружинники.
Из рассказов стариков можно было понять, что Ойху накладывает на соседние поселки рыболовов и охотников своего рода ежегодную дань. Он требует себе невест то из одного, то из другого поселка.
Дружинники изумлялись и спрашивали, почему же женщины едут, если они знают о грозящей им участи? Оказалось, что согласия их вовсе не спрашивают. Их выбирают по жребию. Два года назад Свайный поселок послал ему молодую девушку. В этом году поселок узкоглазого племени саамов, на Черной Речке, отвез ему молоденькую женщину, жену лучшего охотника на медведей.
— Почему же все исполняют его приказания? — спрашивали дружинники.
Старики засмеялись:
— Как же можно не слушаться! Ойху не простой человек — он хозяин на Мысе Идолов. Солнце и тучи, буря и сама Большая Вода ему послушны. Захочет — и не даст ловцам ни одной рыбы. Смилуется — и пошлет рыбы столько, что сети едва в силах вытянуть ее на берег. Он может послать всякую беду: болезнь, пожар, гибель челнока, зубы и когти медведя.
В лагере поднялся женский плач, как только жены приезжих узнали, что Уоми хочет вести дружину на Мыс Идолов. Прежде всего заголосили невесты из Свайного поселка. Они-то отлично знали, что значит ехать во владения Ойху. Другие женщины, приехавшие издалека, скоро присоединились к первым, как только узнали, в чем дело.
Когда Уоми появился у пристани, вся дружина взволновалась, как Большая Вода под ударами бурного ветра. Первый раз со времени отплытия из Ку-Пио-Су дружина была недовольна планом своего предводителя.
Никто не хотел везти молодых жен в берлогу чудовища. Никому не хотелось оставлять их здесь беззащитными, если Уоми возьмет с собой одних мужчин.
Тэкту, Карась, Сойон и Набу, перебивая друг друга, старались подробно рассказать Уоми, что значит поездка на Мыс Идолов.
— Что же, — сказал Уоми, — со мной поедет тот, кто захочет Женатые останутся. Никто не захочет — Уоми поедет один.
Глубокая тишина сменила бушевавшую перед тем бурю. Никто не ожидал такого ясного и простого ответа. Те, кто возмущался больше всех, теперь чувствовали укоры совести.
Прежде всех заявили о своем желании ехать с Уоми, конечно, Тэкту, Ходжа и Карась. Немного подумав, решили ехать Сойон Старший и двое сыновей Карася, хотя они только что обзавелись женами, взятыми в Свайном поселке. Один за другим стали присоединяться и остальные дружинники.
Теперь приходилось уговаривать остаться женатых. Прежде всего Уоми настоял, чтобы остался Сойон. Нужно было, чтобы в лагере был кто-нибудь старший. Сойона все уважали. Молодежь с ним считалась, и на него можно было положиться.
Ничего нельзя было поделать с Гарру и двумя сыновьями Карася. Они упрямо твердили одно:
— Ничего с женами не сделается. Пусть подождут несколько дней. Мы хотим быть там, где будет Уоми.
В это время к берегу подошли и другие лодки. Поход на Мыс Идолов уже начался. Гребцы торопились.
Из лагеря присоединились к походу две самые большие лодки: лодка Карася и лодка Уоми.
Вскочив в лодку, Уоми крикнул, чтобы кто-нибудь сходил сказать Гунде: пусть она вместе с Найей и Куньей дожидается их возвращения.
Передать эти слова вызвался Набу, который и на этот раз не решился отправиться к Ойху.
Уоми отпихнулся багром от берега, и обе лодки рыбноозерцев пустились догонять уже двинувшуюся флотилию. Во главе ее на этот раз стоял сам Йолду.
На берегу все еще толпились дружинники. Долго стояли они и смотрели вслед тем, кто уехал.
Когда лодки скрылись за поворотом, Набу вздохнул и зашагал к шалашу Гунды. Он спешил выполнить взятое на себя поручение.
На Мыс Идолов
К Мысу Идолов прибыли только на второй день.
По желанию Йолду, решено было сделать остановку с ночевкой, не доезжая до Мыса: на небе показались дождевые тучи. Было тихо, а в такой вечер, по приметам рыбаков, обильно идет рыба.
На полпути между Свайным поселком и Мысом озеро вдавалось в берег. Тут был широкий заливчик. Заливчик этот, мелкий, с песчаным дном, славился рыбой.
С лодок закинули длинные сети. Каждые две лодки заводили одну сеть и тащили в глубину залива. Лодки медленно двигались к пологому берегу, где было удобно вытягивать и сушить сети.
Улов действительно оказался удачным. Особенно счастье выпало рыбноозерцам. Их искусно сплетенная сеть вытащила на берег целую груду самой разнообразной рыбы. Среди нее было много лососей.
До ночи жгли костры, пекли рыбу и, накрывшись ольховыми ветвями, улеглись спать, чтобы на другой день снова тронуться в путь.
Чем дальше подвигались на север, тем берег становился выше.
С утра установилась тихая и ясная погода. Солнце, поднявшееся над хвойной стеной восточного берега, быстро набирало высоту. Около полудня впереди показался живописный выступ каменного Мыса Идолов.
Не доезжая до Мыса, флотилия повернула к берегу и стала заходить в открытое устье неширокой реки. Рыбаки Свайного поселка называли ее Черной Речкой.
Причалив, вышли на покрытый густой травой луг. Тут заметили они разложенный у берега костер и поднимающуюся над ним синеватую струйку дыма.
Каково же было удивление и беспокойство Уоми, когда около костра он увидел мать Гунду, Кунью, сестру Наю, скуластого маленького Набу и двух младших сыновей Сойона, которые сидели на траве и ели свежую рыбу.
Появление Тэкту и Уоми они встретили веселым смехом и хвастались, что сумели их обогнать.
Братья засыпали их вопросами: как это они решились ехать? И как ухитрились попасть сюда раньше всех остальных?
Все случилось очень просто. Все три женщины и не подозревали, что Уоми уже уехал. Они лежали на разостланных шкурах, и Гунда утешала плачущих девушек. Она повторяла им слова, которые услыхала на прощанье от сына:
— Он — Уоми!
Этим было сказано все. То, что не проходит даром другим, Уоми приносит новую славу. Сколько было опасностей, которые кончились для него счастливо!
Ная понемногу успокоилась и повеселела. Но Кунья оставалась безутешной:
— Нет! Уоми силен, но она его погубит!
— Кто? — спросила Ная.
— Та, что приходит к нему во сне. Она злая. Я знаю это. Она злая!..
Повеселевшее лицо Гунды вдруг испуганно вытянулось. Слова замерли у нее на устах. Она не знала, что сказать, потому что в глубине души боялась того же самого.
— Она его погубит! — повторила Кунья и снова залилась слезами.
Когда Набу вошел в шалаш, он застал обеих девушек в слезах. Он рассказал, что Уоми вместе с Тэкту уже поехали на Мыс Идолов. Узнав об этом, Ная зарыдала по-детски, всхлипывая и захлебываясь слезами. Кунья плакала тихо. Она сидела прислонившись спиной к стене, и глаза ее, полные слез, глядели неподвижно перед собой, как будто там, где-то вдали, она уже видела близкую гибель Уоми.
Набу в смущении смотрел то на ту, то на другую девушку и вдруг как-то странно захлопал веками и схватился рукой за шею.
Женских слез он никогда не мог видеть спокойно, а слезы двух таких красивых девушек лишали его рассудка.
Вдруг Гунда встала, подошла к Набу и низко поклонилась:
— Помоги нам доехать до Мыса Идолов! Где Уоми, там будет и Гунда.
В этот миг она поняла, что не может оставаться вдали. Ее место там. Новая беда, может быть, уже собирается над головой близнецов.
Набу согласился. Он снарядил надежную лодку и уговорил сыновей Сойона поехать гребцами.
Ная и Кунья сразу заявили, что они тоже поедут с Гундой. Кунье как-то вдруг стало легче.
Мужчины быстро достали пищи и все нужное для поездки.
Отплыли они позднее, чем Уоми, но гребли без устали целый день. Когда вся флотилия занималась ловлей в глубине залива и готовилась к ночевке, они миновали его и поздно ночью благополучно высадились в устье Черной Речки.
Посоветовавшись с Набу и кое с кем из стариков, Уоми решил, что женщины устроят себе шалаш на опушке березняка. Тут, не показываясь на голых камнях Мыса Идолов, женщины будут в отдалении ждать, пока кончится торжество и вся флотилия тронется в обратный путь.
Медвежий праздник должен был начаться на следующий день, поэтому спешить было некуда.
В это время Йолду со стариками отправился на Мыс Идолов помазать салом губы деревянных божков. Оттуда пошли вверх по течению реки, чтобы поклониться хозяину Мыса Ойху и поднести ему приятные его сердцу подарки.
Свадьба медведя
Чтобы добраться до Ойху, нужно было пройти через сосновый лесок по тропе, которая выходила к долине извилистой Черной Речки. Здесь на небольшом расстоянии от озера, на самой опушке, стояло несколько хижин, покрытых коническими камышовыми кровлями.
Хижины были населены родственниками Ойху, его женами и их многочисленными детьми. Это были жены, которые счастливо избежали печальной участи других.
В настоящее время они не пользовались особым вниманием Ойху и потому могли жить сравнительно спокойно и даже сытно. Кормились они от обильных приношений, которые близкие и дальние рыбацкие и охотничьи поселки доставляли знаменитому гадальщику, знахарю, повелителю ветров, колдуну и заклинателю вод.
Одна большая хижина была занята семьями младших братьев, и совсем особняком, поодаль от других, в роще молодых березок, стояла хижина, которую занимал сам Ойху. Хижина эта отличалась не только величиной — она стояла на высоком помосте, укрепленном на толстых столбах.
Йолду и старики с поклонами подходили к страшному дому. На помосте не было никого. На сходнях лежал посох. Это было знаком того, что Ойху дома, но не желает, чтобы его беспокоили. Вход в хижину был задернут меховым пологом.
Старики смущенно поглядывали друг на друга и первое время не знали, что делать. Йолду уселся на траву, за ним сели все остальные и долго дожидались, не покажется ли наконец хозяин.
Действительно ли он спал и не замечал пришедших к нему на поклон людей или просто делал вид, что не замечает?
Ойху любил поломаться, насладиться сознанием своей власти и растерянным видом просителей.
Солнце уже стало склоняться к горизонту, когда Йолду поднялся. По сделанному им знаку старики осторожно и молча удалились.
Свидание состоялось лишь на другой день, рано утром.
Ойху принял в подарок свежих лососей, принесенных стариками, и приказал, не откладывая, начинать обряд медвежьей свадьбы.
Медведь сидел в большой бревенчатой клетке. Стены клетки состояли из крепко забитых в землю сосновых стволов, прочно переплетенных между собой толстыми ветвями. Потолок ее был также сделан из тяжелых стволов, увязанных ветвями так, чтобы медведь не мог их разобрать.
Одна сторона клетки состояла из горизонтальных бревен; их можно было развязать и выдвигать по необходимости.
Бревна с этой стороны положены были с промежутками, с таким расчетом, чтобы медведь мог просовывать через них лапы, но не голову.
Когда торжественное свадебное шествие приблизилось, медведь встретил их ревом, похожим на недовольное и громкое оханье. Сам Йолду подошел к клетке и стал совать медведю крупных щук и лососей.
Вслед за Йолду подходили и другие. И каждый, кто кормил пленника, не забывал приговаривать ему ласковые слова.
— Кушай! — говорили они. — Хорошо кушай! Скоро придет твоя невеста.
Вдруг раздался оглушительный визг. Из-за кустов показалась толпа людей, большей частью молодых мужчин и парней, которые пели и кричали все разом. Посреди этой шумной толпы выделялась стройная фигура девушки.
Она была одета в разукрашенный свадебный наряд невесты. Щеки ее были ярко накрашены красной краской, а лоб — желтой, совершенно так, как украшали себя невесты Свайного поселка.
Это выступала «невеста медведя», которая должна была забавлять его на празднике.
Длинные черные косы, стройный стан и гибкие движения плясуньи издали делали эту фигуру красивой. Но вблизи бросалось в глаза подслеповатое лицо, маленький, приплюснутый нос, слишком большие губы и массивные челюсти, которые производили отталкивающее впечатление.
Роль невесты играла Гуллинда, одна из младших дочерей Ойху, рожденная от желтолицей жены. Она плясала по приказанию самого Ойху, который любил смотреть на эти церемонии.
Едва только раздались взвизгиванья плясуньи, как послышались глухие удары бубнов и из тех же кустов показался сам гадальщик.
Уоми, стоявший в толпе приезжих, с интересом вглядывался в важно выступающего владыку Мыса.
С первого взгляда от него веяло какой-то странной жутью. Окруженный свитой своих малорослых жен и детей, Ойху казался среди них великаном. Но не высокий рост был причиной того трепета, который окружал гадальщика. Во всей его фигуре, в странной посадке его надменно закинутой головы, сидящей на длинной шее, в пронзительных серых глазах, как бы впивающихся в тех, на кого он смотрит, было какое-то неприятное, гордое и вместе с тем хищное выражение.
По мере того как приближался хозяин Мыса, смолкали болтовня и смех собравшихся. Все подбирались, выжидая его приближения, и наконец один за другим повалились ничком на землю.
Ойху прошел мимо лежащих на животах гостей и уселся на большой валун, напротив клетки.
— Ну! — глухо сказал Ойху, и голос его без всяких усилий зычно раздался в наступившей кругом тишине.
Он махнул рукой, и снова, под визги и вскрики своей свиты, плясунья закружилась и замахала руками.
Постепенно ее пляска становилась оживленнее. Она ходила по кругу перед внимательно следящими за ней маленькими глазками медведя. Подходила к самой клетке, отбегала в сторону, вертелась и выставляла вперед то одно плечо, то другое. Хор голосов и удары бубнов делались все более задорными, все громче раздавалось притопыванье ног, и под дикий аккомпанемент «невеста» продолжала свой танец. Наконец она встала на одно колено, обвела вокруг головы кистями рук и упала навзничь.
Буря голосов поднялась в толпе.
— Твоя невеста! Твоя невеста! — кричали оттуда. — Бери, медведь, молодую жену.
— Пора вести, — сказал Ойху.
К клетке опять подошел Йолду с корзиной и вместе с ним несколько рыбаков. Они несли длинные и широкие ремни из лосиной кожи.
Йолду показал медведю большого лосося, и как только тот протянул свои передние лапы, рыбаки ловко накинули на них затягивающиеся ременные петли. Тотчас же по нескольку человек ухватились за свободные концы петель и начали растягивать лапы медведя в разные стороны. Медведь взревел и попробовал вырваться, но ничего не мог сделать. За концы ремней схватывалось все больше и больше сильных мужчин, и медведь вынужден был стоять с распростертыми передними лапами.
Зверь рычал, охал, стонал, дергал ремни, но чем сильнее дергал, тем туже затягивались петли.
Чтобы предохранить себя от опасности на случай, если бы какой-нибудь ремень не выдержал, на каждую лапу надели еще по ремню.
Наконец зверь устал рваться. Он только тихонько охал и сопел, поглядывая бегающими глазами на своих мучителей.
Когда зверь затих, Ойху приказал выдернуть горизонтальные бревна клетки, певцы запели песни, и под их оглушительные звуки медведя повели с растянутыми в обе стороны передними лапами.
Перед ним, махая руками, танцевала и кружилась «невеста». Сзади и по сторонам шли остальные зрители и участники церемонии. Сам Ойху, опираясь на палку, горделиво шел впереди всех.
Шествие продолжалось недолго. Оно направлялось к тому месту, где невдалеке от идолов стояли две сосны с обуглившейся кроной и осыпавшейся хвоей. Эти сосны служили как бы воротами, через которые надо было проходить, чтобы проникнуть в святилище. За ними виднелась гладкая гранитная поверхность Мыса.
Зверя поставили между соснами и старательно привязали ремнями к стволам. Когда узлы были крепко завязаны, все отошли в стороны.
Медведь стоял с распростертыми лапами посреди хоровода и кротко поглядывал на продолжавшую жеманничать перед ним невесту.
Ойху подошел к медведю и сунул ему в нос рыбу, которую взял из корзинки Йолду.
Медведь только отвернулся, и рыба шлепнулась наземь.
Ойху низко поклонился ему, стал на колени и прикоснулся лбом к примятой траве.
— Кланяемся тебе, лесной гость! — сказал он, поднявшись и глядя зверю в глаза. — Не гневайся, что мало угостили. Не гневайся, что плохую дали невесту. Лучше не было, — сказал он, придвигаясь ближе к морде медведя.
Медведь со страхом попятился, стараясь отвести глаза от этого пронизывающего взора.
— Ну, пойте теперь последний раз, — сказал Ойху, обернувшись к стоящему кругом хороводу.
Опять началась та же громкая песня, с визгом и хлопаньем в ладоши. «Невеста» опять стала кружиться, обходя вокруг медведя.
Сделав три круга, люди остановились. Теперь перед зверем плясала только «невеста», взвизгивая и махая руками.
— Кланяйся жениху, — сказал Ойху.
Девушка поклонилась.
— Ближе подойди! Чего боишься?
Ойху схватил ее сзади за шею и так сильно толкнул, что она ткнулась лицом в мохнатую звериную грудь.
Медведь огрызнулся. Девушка отскочила и с плачем бросилась бежать.
Ойху громко хохотал.
— Ну, пора! — сказал он и поманил мальчика-сына, который держал в руках лук и стрелы.
Колдун стал против медведя, наложил стрелу и, почти не целясь, спустил тетиву.
Медведь зарычал и начал неистово рваться. Каменное острие пробило ему кожу и застряло между ребрами.
Ойху опять засмеялся. Потом обернулся к толпе:
— Ну, кто добьет? Только разом! Кто сразу добьет, тому дам глаза: увидит, чего никто не видал. Лесом пойдет — не заблудится, кого будет искать — найдет даже в темную ночь.
Рыбаки переминались с ноги на ногу и молчали.
— Что, боитесь? — хохотал Ойху.
— Уоми! Уоми! — раздалось несколько голосов с той стороны, где стояла кучка рыбноозерцев.
Уоми вышел вперед; в руках у него не было никакого оружия.
— Возьми! — сказал Ойху, протягивая Уоми свой лук со стрелами.
Уоми покачал головой и вынул из-за пазухи бронзовый кинжал. Нож был заново отточен, и лезвие ярко сверкало, отражая пламя костра. Уоми обошел привязанного на ремнях медведя и, выбрав место, вдруг вонзил свой длинный кинжал под левую лопатку зверя. Кинжал вошел сразу по самую рукоятку, как будто проткнул кусок сала. Медведь охнул и бессильно повис на ремнях.
Уоми выдернул нож из раны и, не взглянув ни на кого, вышел из хороводного круга.
Сердце медведя
Три дня праздновали Ойху с гостями медвежью свадьбу.
Пока медведь висел еще между сосен, Ойху нацедил глиняный горшок теплой медвежьей крови. Отпив половину этот питья, он приказал привести Гуллинду.
Девушку привели, держа за обе руки, потому что она ни за что не хотела идти добровольно.
Ойху велел ей выпить три глотка, потом обмакнул ладони в горшок, вымазал девушке щеки и лоб и приказал сидеть возле убитого «супруга».
Теперь она считалась женой медведя и не должна была отходить от него ни на шаг.
На другое утро ее нашли еле живую от страха, забившуюся в кусты в нескольких, шагах от медвежьего трупа. Всю ночь ей мерещились всякие страхи, слышались крики и голоса, но, несмотря на смертельный ужас, она не смела вернуться домой и отойти от места, где ей приказано было сидеть.
На другой день Ойху помазал губы идолам, столпившимся на священном погосте.
Накормив идолов, Ойху отослал всех сопровождавших его, а сам прошел на конец Мыса, куда никто не смел ходить без его разрешения.
— С самим будет говорить, — таинственно шепнул Йолду Карасю, который шел с ним рядом.
— С кем? — спросил Карась.
— С хозяином Большой Воды. С Водяным Стариком. Он с ним один разговаривает.
Женщины уже хлопотали около костра и вместе с подростками усердно тащили сухие сучья, которые набирали в лесу.
Костер разгорелся, и уже пора было делить мясо. Никто, однако, не начинал этого делать. Ждали возвращения Ойху. Наконец Ойху вернулся и велел начинать.
Прежде всего начали отделять медвежью голову. Это делалось с особенной торжественностью. Медвежья супруга Гуллинда была положена рядом на землю и накрыта шкурой. Когда медведю срезали голову, Гуллинду подняли и поставили перед тушей. Она сейчас же начала голосить, оплакивая обезглавленного «супруга». Она называла его ласковыми именами и жаловалась на врагов, которые сделали ее вдовой. Плач ее продолжался все время, пока потрошили зверя и делили его на части.
Раньше всего зажарили голову и поднесли ее Ойху. Остальные гости почтительно сидели кругом, присутствуя при торжественной трапезе хозяина Мыса.
Как только Ойху взял в руки зажаренную голову, плач вдовы прекратился, и Гуллинда отправилась в хоровод вместе с другими женщинами.
К костру подвели слепца Ходжу, и церемония закончилась прославлением Уоми и его волшебного ножа.
Ходжа, впрочем, не ограничился восхвалением только этого молодецкого удара. Перед хозяином Мыса Идолов и толпой его гостей певец пропел все свои былины про бедствия и подвиги близнеца-героя. Он рассказал и про войну с бродячими лесными людьми, и про славный свадебный поход из далекого Ку-Пио-Су к берегам Большой Воды. Он рассказал о том, как Уоми затеял этот поход, чтобы отыскать девушку своих сновидений. Но вот уже много дней скитается он по берегам Великого Озера. Вся его дружина нашла себе жен. Все вернутся домой женатыми. А сам Уоми до сих пор не встретил свою невесту. Девушка, которая ждет его здесь, на берегу Большой Воды, еще не открыла ему свое лицо…
Так рассказывал Ходжа свои былины возле костра.
— А где же Уоми? — спросил Ойху, когда Ходжа закончил свои песни.
Ему ответили: Уоми взял копье и ушел один по берегу Большой Воды. Он ищет ту, которая является ему во сне.
— Пусть придет сюда. Без Ойху ему не найти, кого ищет. — Колдун вдруг осклабился и засмеялся глухим, неприятным смехом: — Пусть придет! Ойху поворожит и скажет, где живет невеста.
Только вечером привели Уоми к костру и усадили на траву против Ойху.
— Ешь! — сказал Ойху и протянул ему большой кусок зажаренного мяса. — Ешь, Уоми! Это сердце. Кто съест сердце свадебного медведя, тот найдет не одну невесту. Две найдет или больше, сколько захочет.
Уоми вынул из-за пазухи бронзовый кинжал и разрезал сердце вдоль на две половинки.
Одну он положил около себя, другую протянул Ойху.
— Довольно, — сказал Уоми. — Уоми нужна одна невеста. Другой не надо.
Уоми сорвал пучок травы и старательно вытер запачканный кинжал. Ойху с восхищением глядел на сверкающий в руках гостя острый бронзовый клинок.
— Подари нож, Уоми! — сказал колдун, и глаза его хищно прищурились.
Уоми молча покачал головой.
— За этот нож возьми у меня что захочешь. Уоми засмеялся.
— Нож не простой, — сказал он. — Заговоренный. Уоми с ним ходит днем и спит ночью.
Ойху пристально посмотрел на Уоми.
— Ойху все знает, — сказал колдун. — Духи ему сказали, зачем приехал Уоми. Уоми ищет девушку, которая ему снится.
Уоми встрепенулся.
— Девушка здесь. Близко тут, у воды, живет. Во сне летала к Уоми.
Ойху прищурился и замолчал. Уоми побледнел.
— Она близко, только без Ойху ее не найти.
Уоми изумленно глядел на колдуна. Он не знал, что Ходжа целый день распевал тут про него свои хвалебные песни, и прозорливость хозяина Мыса его взволновала.
— Давай нож. Ойху поможет Уоми.
Уоми вскочил. Первым его движением было сейчас же отдать кинжал. Но острый, отталкивающий взгляд колдуна, который он поймал на себе, заставил его удержаться.
— Помощь твоя — и нож твой, — сказал он. — Уоми возьмет невесту, и тогда Ойху возьмет нож.
Глаза гадальщика сверкнули. Злая искра пробежала в них, и лицо его передернулось судорогой досады. Но через миг он спохватился, и взор его принял приторно-приветливое выражение.
— Кушай, Уоми. Зачем встал? Ты еще не съел жареного. Глаза ешь: ночью увидишь, чего никто не видал. Сердце съешь — невеста любить будет.
Уоми уселся и принялся за свою долю. С утра он еще не ел ничего, а потому был голоден и ел с удовольствием.
Ойху внимательно следил за ним. Велел дать ему еще кусок и, когда Уоми наконец утолил голод, наклонился и на ухо сказал ему:
— Взойдет месяц, приходи опять сюда! Жди Ойху возле сосны. Ойху будет ворожить, Ойху все скажет…
У идолов
Луна поднималась круглая и красная, как кровь. Едва она выглянула из-за леса, как пять темных фигур подошли к месту медвежьей свадьбы.
Вот тут горел костер, тут сидели на траве пирующие; вот две сосны, между которыми был привязан медведь.
— Берегись, — говорил тихо Карась. — Обманет! Уоми с досадой махнул рукой.
Когда вечером у костра Гунды Уоми рассказал о том, что колдун будет ему ворожить этой ночью, все страшно встревожились. Гунда стала умолять его не ходить. Ная всхлипывала и вторила тому, что говорила мать. Кунья сидела в стороне и молчала.
Уоми нахмурился и пошел к лодкам.
Тэкту, чтобы как-нибудь утешить мать, сказал, что он с Карасем и его сыновьями будет вместе с Уоми. Они позовут с собой также двух младших сыновей Сойона.
Через час семь вооруженных людей уже спускались по Черной Речке к озеру. Молодые Сойоны, два сына Карася и Тэкту сидели на веслах. Карась на корме действовал рулевым веслом, Уоми сидел на носу. Он зорко вглядывался в темные очертания прибрежных кустов.
Когда лодки вышли в озеро, стало сильно качать. Ветер дул с запада. Большие волны бежали к берегу и плескались о гранитные отвесы. Когда причалили к бухте у Мыса Идолов, луна уже ярко светила.
Молодые Сойоны остались сторожить лодку, остальные отправились к месту свидания.
Ждать пришлось недолго. Ойху появился внезапно. Он вышел из кустов совсем не с той стороны, с какой его ожидали.
На Ойху была надета пестрая женская шубка. В руках его был большой бубен.
— Пойдем, — сказал гадальщик и поманил Уоми пальцем. — Круглая луна! — сказал Ойху. — Хозяин Большой Воды в гости приходит.
— Хозяин Большой Воды? — переспросил Уоми.
Дух у нет захватило. Он стоял перед Ойху, прижимая к груди обе ладони, словно старался остановить забившееся сердце.
Хозяин Большой Воды! Отец Капли! Она говорила о нем, когда первый раз являлась Уоми во сне. Значит, она тут, близко…
Такие мысли проносились в голове Уоми, но слов у него не было, чтобы сказать, что он думал.
— Шумит, — сказал Ойху, прислушиваясь к реву волн. Колдун пошел вперед. Уоми и его спутники шагали за ним. Когда подошли к стойбищу идолов, Ойху оглянулся и погрозил пальцем.
— Тише, — сказал колдун. — Они не любят тех, кто шумит. И он многозначительно показал на идолов.
К святилищу подходили молчаливые и серьезные, стараясь ступать неслышно. У Тэкту робко пригнулась голова и глаза потупились в землю. Штук сорок деревянных идолов стояли тесной кучкой вокруг большого гранитного валуна. Некоторые были просто прислонены к камню, другие вкопаны в землю, третьи — воткнуты в трещины оголенной подпочвы, выступавшей там и здесь наружу.
Перед камнем лежала целая груда костей и черепов, светлых или побуревших от времени. Больше всего было больших оленьих и лосиных голов. Лежало несколько крупных медвежьих с оскаленными зубами. Немало было также черепов собачьих, волчьих, и лисьих. Позади камня, на высоком колу, висела голова северного оленя с длинной белой гривой волос. Перед черепом на земле чернело пятно пепла и углей, сохранившееся от недавнего жертвенного костра.
Одни идолы были похожи на простые колья, воткнутые в землю. Только вырезанный кольцом желобок, изображавший шею, отделял набалдашник — голову — от туловища. Другие были значительно толще и выше ростом. Они имели слабое подобие человеческой фигуры.
У некоторых можно было ясно различить голову, длинную шею, плечи и косые нарезки по бокам, изображавшие ребра.
Старый Карась и близнецы с опаской поглядывали на хранящее сумрачное молчание стадо идолов. Они боялись даже громко вздохнуть, чтобы не рассердить раздражительных и вспыльчивых божков.
Молча смотрели они, как Ойху по порядку, начиная с самых больших, мазал медвежьим салом губы идолов.
Когда кормление божков кончилось, колдун повел своих спутников к глубокой трещине, пересекавшей гранитную спину Мыса.
Здесь он приказал остановиться товарищам Уоми, а его взял за руку и повел за собой.
Ворожба
Ойху привел Уоми на самый конец Мыса. Уоми робко разглядывал странное место, на котором они находились.
Мыс Идолов был частью твердого гранитного ложа ледника. Это был слабо покатый гранитный спуск, гладко отполированный тяжелым утюгом ледника. Скала выпукло спускалась в воду, как лоб черепа спускается к глазницам. Озерные воды, шипя, набегали на него косыми рядами и сердито брызгали на гранит клочьями белой пены.
Таких больших волн Уоми еще не приходилось никогда видеть. На Рыбном Озере не бывало ничего подобного и в самый сильный ветер. Ойху поставил Уоми так, что луна очутилась у него справа и немного сзади:
— Смотри! Смотри лучше!
Он ткнул пальцем вниз, на гладкую поверхность гранита. И тут только Уоми заметил то, на что раньше не обращал внимания. Вся гладкая полировка скалы была покрыта странными изображениями, выбитыми в граните. Тени от косых лунных лучей создавали резкие контуры их с одной стороны, в то время как противоположная почти сливалась с освещенным красноватым фоном.
Среди них видны были фигуры каких-то птиц с длинными шеями. Почти под самыми ногами Уоми можно было различить отпечатки огромных ступней, которые шли вереницей, начиная от того места, где стоял Ойху, до самого края берега, залитого брызгами волн.
— Тут «Он» выходит из воды, — сказал Ойху.
Колдун повел Уоми по каменным следам. Через несколько шагов они остановились перед огромной фигурой, выдолбленной в скале. У нее был вид голого человека, стоящего на одной ноге, притом так, что ступня ее совпадала с последним, самым крупным следом.
— «Он» тут, — сказал колдун. — Здесь стоит. Это его тень.
Уоми со страхом разглядывал эту удивительную фигуру. Длина ее намного превышала человеческий рост.
— Зажмурься! — приказал Ойху.
Едва только он это сделал, как легкое веяние пахнуло ему в лицо и пошевелило пряди его волос. Раздался глухой длительный свистящий звук со стороны фигуры и стоящего рядом с ней колдуна.
Уоми вздрогнул и открыл глаза. Колдун стоял с поднятым над головой бубном.
Ойху опустил бубен и спросил шепотом:
— Слышал?
— Слышал, — прошептал Уоми.
Колдун велел посмотреть вокруг. Теперь Уоми ясно различал вырезанные в камне изображения. Шагая вслед за Ойху, Уоми вглядывался в них с каким-то тревожным любопытством. Больше всего встречались тут птицы с лебедиными шеями.
— Куррумба, — сказал Ойху. — Лебеди. Тут они садятся весной.
Держа за руку Уоми, Ойху обвел его по всей площадке, покрытой странными изображениями. Затем они вернулись опять к изображению духа, стоящего на одной ноге, от которого они начали обход.
Колдун поставил своего спутника рядом с изображением и опять велел зажмуриться. Едва только Уоми это сделал, как ясно почувствовал, что в щеку ему пахнуло холодом. Колдун забормотал потихоньку странные слова и стал ходить вокруг. По временам опять слышалось странное жужжанье, и легкое дуновение касалось лица Уоми.
Бормотанье раздавалось все громче и громче. По временам оно прерывалось странным жужжаньем, а за ним следовало холодное дыхание. Уоми заметил, что дуло всегда с той стороны, где в этот момент находился Ойху. Наконец он не выдержал и незаметно приоткрыл веки. Сквозь полузакрытые ресницы он увидел, что жужжанье производил сам Ойху, крутя по коже бубна согнутым пальцем. Пожужжав, колдун махал бубном, и Уоми чувствовал то самое дуновение, которое до того было ему непонятно.
Уоми немного успокоился.
Между тем колдун вертелся все быстрее и быстрее. Теперь он не только жужжал, но и постукивал по бубну, а бормотанье его делалось все громче.
По временам колдун испускал какие-то глухие стоны и снова принимался бормотать. Уоми удивляло, что в этом бормотанье ничего нельзя было разобрать.
Танец перешел в какое-то безумное беснование. Ойху кричал, кривлялся, дико вращал глазами, размахивая бубном и вдруг подбежал к самой воде и кинул его назад через собственную голову. Бубен, прыгая, покатился по камням и упал набок возле какой-то фигуры. В то же время колдун завопил страшным голосом и упал навзничь.
Уоми вскочил и в ужасе глядел на упавшего. Некоторое время Ойху лежал как мертвый, с остановившимся, бессмысленным взглядом. Потом повернулся, приподнялся на локте и сел на землю. Несколько раз он глубоко вздохнул, набирая в легкие воздух.
Наконец он поднялся и вытер мокрое от пота лицо.
— Дай руку, — сказал Ойху.
Они двинулись вместе. Бубен нашли возле изображения мужчины, который догонял женщину.
Ойху обошел три раза вокруг бубна, поднял его с необыкновенной торжественностью.
— Смотри, — сказал он, указывая на вырезанные в граните фигуры. — Это тень Уоми поймала свою невесту. Завтра Уоми возьмет девушку, которая ему снилась. — Он посмотрел строго на покрасневшего, как мак, Уоми. — Солнце взойдет на небесную гору. В самый полдень Уоми придет к этим соснам. Один, без людей. Тут будет ждать мальчик. Он покажет Уоми дорогу.
Колдун лукаво посмотрел на Уоми и вдруг прибавил самым обыкновенным тоном:
— Ну, давай нож! Ойху хорошо наворожил.
Уоми сунул руку за пазуху и уже нащупал рукоять, но в это время снова заметил такой жадный и хитрый взгляд колдуна, что невольно остановился. Он медленно вынул кинжал, лезвие которого блеснуло в лунном свете, и поглядел на Ойху.
— Уоми отдаст нож, — сказал он, — как только получит невесту.
Кунья
В эту ночь в шалаше Гунды спала только одна Ная.
Гунда ворочалась с боку на бок и по временам тяжело вздыхала. Ее тело лежало здесь, а душа была там, куда ушел Уоми.
Кунья сидела на охапке мягкой травы. Глаза ее были открыты, и сна не было в них.
К утру Гунда забылась тяжелым сном.
Как только над озером брызнули первые лучи рассвета, Кунья неслышно поднялась и вышла из шалаша.
Влажный утренний воздух охватил ее. Мокрая трава омывала ее босые ноги.
Медленно приблизилась она к реке. Ряды челноков мирно дремала на желтом речном песке.
Вернулся ли тот, на котором уехал вчера Уоми? Она хорошо его знала. Это была новая лодка Карася. Нет, ее нигде не было видно.
Кунья прошла мимо шалашей, в которых спали люди Свайного поселка. Никто еще не вставал.
Вот это шалаш младших Сойонов. Если они вернулись, значит…
Медленно подошла она к шалашу и осторожно заглянула внутрь. На разостланной шкуре спал слепой Ходжа. Но ведь он не ездил с ними.
Больше никого не было.
Там, с краю, остался еще один шалаш. Но туда она ни за что не пойдет. Она только посмотрит издали.
Кунья стояла и смотрела, как во сне. Впрочем, ей только казалось, что она стоит, потому что ее ноги сами собой двигались. Она никак не могла понять, как это произошло, что она очутилась у самого шалаша. Она чуть не вскрикнула, когда заметила, что стоит перед самым входом. Хотела убежать, но ноги ее не слушались.
Нагнувшись, она заглянула в ничем не загороженный вход. В шалаше было пусто. На полу валялось оружие. Стояли прислоненные к стене копья. На медвежьей шкуре лежал огромный дубовый лук и связанный ремешком пучок длинных стрел. Это был лук Уоми.
Пошатываясь, отошла Кунья прочь. В душе ее было так же пусто, как и в шалаше.
Теперь Кунья не знала, куда идти, но она все-таки шла. Она шла в каком-то забытьи, не сознавая того, что делает.
Не сознавая, что делает, вернулась она опять к реке и пошла по тропинке, которая вела ее против течения, вдоль заросшего осокой берега.
Голова у нее кружилась от солнечной ряби, сверкавшей миллионами огней. Сколько времени шла, она не знала и остановилась только тогда, когда тропинка кончилась. Дальше начинались кусты и густая опушка леса. Тропинка сворачивала прямо вниз и обрывалась у песчаной отмели. На песке были видны свежие следы человеческих ног.
Кунья внимательно в них вгляделась. Следы шли к воде, а на той стороне неширокой речки виднелся тоже песок и на нем продолжение тех же следов.
Значит, тут брод. Тут переходят речку.
Кунья постояла еще немного, потом скинула свою белую горностаевую безрукавку. Это была единственная одежда на ней.
Быстро скатав ее валиком, она положила ее себе на голову и вошла в воду.
В середине реки было довольно глубоко. Вода доходила почти до плеч, но Кунья все-таки шла. Скоро сделалось мельче, и, перейдя мелководье, она выбралась на песок.
Здесь она оделась и робко огляделась кругом.
Куда она зашла? Что будет она тут делать? Куда пойдет?
Кругом тесно надвигалась на отмель густая чаща ивняка. Выше громоздился ольшаник. Еще выше — березы. За ними ничего не было видно. Только узенькая тропа пролегала в одном месте между кустами, и на влажной почве виднелись отпечатки ног.
Кунье стало страшно.
Нет, она вернется. Она пойдет к Гунде и будет ждать, пока те приедут. Может быть, все кончится хорошо.
Она только согреется немного и пойдет. Солнце уже стало заметно пригревать. Усевшись на травяную кочку, она подперла подбородок рукой и задумалась.
Вдруг что-то зашуршало в кустах. Кунья вскочила и с испугом побежала к реке. Но было поздно: двое мужчин с копьями в руках бежали ей наперерез.
Она кинулась назад к тропинке, но оттуда глядело на нее толстое человеческое лицо. Лицо это смеялось.
Девушка опрометью бросилась в третью сторону, прямо через кусты, но чьи-то сильные руки обхватили ее и подняли на воздух…
Мужчина перекинул ее через плечо, как мешок, и с громким хохотом зашагал к реке. Кунья с ужасом разглядела вокруг себя четырех мужчин. Все они были коренастые, желтолицые, узкоглазые. Трое были в широких меховых одеждах, сшитых в виде мешков с дырой для головы. У двух в руках были копья, третий держал весло.
Откуда они взялись?
Все четверо говорили громко и непонятно. Говорили быстро, тараторили и так же торопливо смеялись коротким, жестким смешком.
Один из мужчин вложил в рот два пальца и пронзительно свистнул.
Недалеко послышался ответный свист, и через минуту два узких, длинных челнока вынырнули из-за поворота реки.
Желтолицый, державший до сих пор Кунью, спустил ее на землю.
— Хороша девушка! — сказал он вдруг знакомыми словами, с каким-то чудным произношением. — Девушка, будешь меня любить?
Вдруг самый толстый из мужчин, с двумя белыми лебяжьими перьями, воткнутыми в волосы, громко, сердито закричал, затопал ногами, и все остальные сразу притихли. Кунья поняла, что это старший.
— Моя девушка! — сказал толстый и стал настойчиво толкать ее в лодку.
Неожиданно Кунья рванулась и с криком прыгнула в воду. В несколько прыжков толстый нагнал ее и схватил за волосы. В один миг желтолицые скрутили ей руки и бросили на дно лодки. Кунья билась и кричала, пока ее не связали и не заткнули рот чем-то мягким.
Утром Ойху позвал Алдая, пятнадцатилетнего сына одной из своих многочисленных жен. Алдай примчался, как ветер. Он знал крутой нрав отца. На его зов надо было являться немедля. Ойху позвал мальчика к Мысу Идолов, велел там дождаться Уоми и дал строгий наказ, что говорить и что делать. Отправив мальчика, он вернулся в хижину и прилег вздремнуть. Проснулся он от какого-то назойливого стука. Кто-то хлопал палкой по бревнам помоста.
Ойху недовольно выглянул из-за входной занавески:
— Кто там?
По краю помоста снова постучали.
Внизу, на земле, стояли трое желтолицых. Передний — толстый, узкоглазый, скуластый, с двумя лебедиными перьями в волосах — стучал древком копья по еловым бревнам.
— Кто стучит?! — сердито крикнул Ойху.
— Узун, — коротко ответил косоглазый.
— Зачем пришел?
— Дарить!
— Чего еще там? — спросил Ойху смягчаясь.
— Девушку поймал, — сказал Узун, скаля белые острые зубы. — Дарить хочет Узун девушку!
— Откуда взял?
— Узун не знает. У реки сидела. Хороша девушка! — Узун громко защелкал языком.
— Веди, — сказал Ойху и вдруг залился тонким смешком.
— Приведу. Только так сделай, чтобы зверя было побольше. Плохо ловим совсем. Совсем мало зверя в лесу. Голодать будем.
— Это можно!
Узун крякнул и снова начал цокать, расхваливая свой «подарок».
— Ну, иди, иди! Сам увижу.
Ойху схватил высокую палку и стал спускаться по бревенчатому дрожащему скату.
Когда шаги его затихли, меховые занавески у входа в хижину колыхнулись и слегка раздвинулись. В образовавшейся щели мелькнуло белое лицо и сверкнули два черных, как уголь, глаза.
Пальцы маленькой руки придерживали обе полы занавески. Ни щек, ни носа, ни губ нельзя было разглядеть. Внизу, из-под приподнятого края полога, высунулся кончик розовой женской ноги.
Темные зрачки внимательно глядели на удаляющегося по направлению к речке Ойху. Когда Ойху с желтолицыми скрылся за кустами, за занавеской раздался странный гортанный звук. Прозвенел заглушенный женский смех и как-то невесело и внезапно оборвался.
Занавеска закрылась, и в хижине наступила мертвая тишина.
Прошло немного времени, и со стороны лесной опушки раздался протяжный свист.
Внутри хижины послышалось шлепанье босых ног. Занавеска снова раздвинулась, так же осторожно, как и раньше.
Свист повторился. По лесной тропинке, идущей от опушки, показались два человека. Один был почти мальчик, и в нем нетрудно было узнать Алдая. За ним шагал высокий и стройный юноша с коротким копьем и кудрявыми русыми волосами.
Это был Уоми.
Путники направлялись прямо к свайному жилью Ойху.
Занавеска почти сомкнулась, но босые ножки были видны из-под нижнего ее края.
Путники подошли к дому и остановились. Мальчик свистнул третий раз.
Из дому никто не показывался.
— Нет его, — сказал Алдай. — Ушел!
За занавеской послышался чуть слышный смех. Уоми изменился в лице.
— Иди, Уоми, — сказал мальчик. — Ойху велел идти. Уоми ступил на помост. Тотчас же за занавеской кто-то вскрикнул и послышалось шлепанье убегающих ног.
Уоми остановился и провел рукой по волосам. Его, который отважно ходил против медведя, его, который без страха сражался один с пятью суаминтами, теперь охватила странная робость, и он нерешительно смотрел на задвинутые занавески.
— Алдай пойдет, — сказал мальчик. — А ты слушай, она крикнет.
Он повернулся и бегом пустился бежать к реке.
Уоми остался один, прислушиваясь к наступившей тишине, которая казалась ему невыносимой.
В хижине опять послышались чьи-то шаги, и все стихло. Уоми растерянно оглядывался по сторонам. Голова у него кружилась, как тогда, во сне, когда он ловил воздух.
Прошла томительная минута. И вдруг в глубине дома раздались удивительные звуки. Их можно было принять одинаково и за сдержанный смех и за плач женщины.
Кровь бросилась в лицо Уоми. Он быстро взбежал по бревенчатому скату и откинул занавески, закрывавшие вход…
Внутри не было ни души.
Хижина Ойху показалась Уоми низкой, темной и тесной. Свет падал только через открытый вход. После яркого солнечного блеска Уоми с трудом различал находящиеся здесь предметы.
Все тут было необычно и странно: черепа зверей, развешанные по стенам, огромные оленьи рога, стоящие по углам громадные глиняные сосуды. Но всего страннее была мысль, что он, Уоми, в логове страшного колдуна и что где-то тут близко скрывается та, ради которой он рвался сюда, на край света, — девушка его снов, таинственная невеста, посещавшая его столько раз в ночных видениях!
Уоми стоял неподвижно, и в наступившей кругом тишине ему ясно послышалось чье-то дыхание и шелест одежд за меховой перегородкой.
Молчание томило его. Он быстро шагнул вперед и откинул занавеску.
Теперь он очутился в главном помещении хижины, освещенном светом из дымовой отдушины и огнем пылавшею очага. За очагом он увидел прижавшуюся в углу женщину. Она стояла, отвернувшись к стене. Голова ее была закутана серой шкурой рыси, которую она придерживала голой, немного пухлой рукой. На женщине была надета длинная белая безрукавка.
Уоми шагнул к ней, прислонив к стене свое копье, и протянул к ней обе руки.
— Капля! — сказал он. — Уоми пришел к тебе на край света. Ты звала его во сне. Откройся, покажи лицо! Скажи твое настоящее имя!
— Уйди! — раздался из-под рысьего меха какой-то крикливый металлический голос. — Уйди! Он убьет… Он убьет тебя и меня. Беги, он придет скоро! — В гортанном говоре женщины слышался неподдельный ужас.
— Ойху не убьет Уоми. Он возьмет за тебя выкуп. Он сам велел мне прийти. Он отдаст тебя.
— Не верь Ойху! Он обманет. Возьмет выкуп а потом убьет.
— Не бойся! Ойху этого не сделает. Открой только лицо, и тогда никто уж тебя не отнимет.
— Уходи, уходи! — раздался тот же молящий голос, и вдруг она повернулась и приподняла покрывало.
Уоми опустил руки.
На него глядело толстое, круглое лицо. Черные волосы, заплетенные в несколько косичек, падали с ее головы.
Женщина смущенно улыбалась, но к этой улыбке примешивалось столько жалкого испуга, что она нисколько не украшала ее жирное, маслянистое лицо.
Он уловил на себя ее странный взгляд, взгляд рабыни, которая хочет украсть меду, но смертельно боится хозяина. Ярко накрашенные щеки делали ее похожей на большую куклу, и жутко было видеть, что эта кукла шевелится и хочет улыбаться.
Уоми на мгновение застыл в каком-то оцепенении. Так вот какая она, эта девушка, ради которой ехал он сюда, на край света! Вот кого хотел назвать своей невестой! Неужели это ее душа прилетала в Ку-Пио-Су с этих пустынных берегов?
Мысли вихрем кружились в его мозгу.
«Не та, не та!» — хотелось крикнуть, и тут с отчетливой ясностью возник в его воображении образ той, настоящей, которая ему снилась.
Все у той было не так: тонкое лицо, ласковые голубые глаза, маленький рот и волосы, светлые, как солома.
«Та, что снилась, была как Кунья, — молнией сверкнуло в мозгу. — Совсем как Кунья! А эта…»
— Уоми, — зашептала женщина, — приходи в полночь. Я впущу тебя. Ты убьешь его сонного. И тогда Нинда — твоя невеста.
Она засмеялась таким смехом, от которого все в нем содрогнулось. Уоми отшатнулся, когда Нинда протянула к нему свои пухлые руки. Отодвигаясь, он задел приставленный к стене дротик, который со стуком упал на пол.
Нинда схватилась за голову и зашептала испуганно: — Ах, это он! Идет, идет! Беги, Уоми! Прячься! И с побледневшим лицом Нинда кинулась в угол, где грудой лежали целые вороха брошенных мехов — обильные дары клиентов Ойху. Нинда судорожно стала зарываться в меха, словно мышь, которая прячется в нору.
Неодолимое отвращение охватило Уоми. Он отпрянул назад и в несколько прыжков, позабыв даже поднять упавшее копье, выбежал из дома.
В душе его бушевал целый ураган чувств и мыслей. Отчаяние, отвращение и гнев боролись между собой: отчаяние — когда он думал о разбитой надежде, которой он жил в течение этого года, и гнев — когда он думал об обманщике, насмеявшемся над его доверием.
Последнее чувство скоро овладело им целиком.
На миг он остановился на краю помоста, почти ослепленный солнцем. Прикрыв ладонью глаза, он огляделся кругом и вдруг вдали, на тропинке, идущей от Черной Речки, увидел человека. Над зеленью ветвей была видна только одна голова, но зоркие глаза Уоми ясно различали знакомые черты.
Это был Ойху.
«Обманщик!» — захотелось крикнуть Уоми, и он, верно, крикнул бы, если бы до Ойху не было так далеко.
Уоми вытащил свой бронзовый нож, который накануне чуть было не отдал колдуну, и попробовал пальцем его лезвие. Он быстро сбежал по сходням и двинулся навстречу Ойху. Кровь его кипела. Он боялся только одного — что колдун вовремя догадается и постарается скрыться.
Но притворяться и делать равнодушный вид Уоми не умел. Он судорожно сжимал в руке заговоренный кинжал и почти бежал по тропинке. На одном из ее поворотов чаща ольховых деревьев загородила его. Дальше открывалась зеленая луговина с растущей посередине сосной. Луговину надо было пересечь, чтобы добраться до Ойху. В это время из-за прикрытия последних больших кустов он снова заметил колдуна.
Следом за ним показались другие люди. Это были желтолицые. Их было четверо. Приземистый рост скрывал их, в то время как голова Ойху выдавалась над кустами.
Все они вышли на луговину, и перед Уоми открылась неожиданная картина. У желтолицего, который шел позади Ойху, был в руках конец ременной петли, надетой на шею девушки. Девушка упиралась, но желтолицый тащил ее, как пойманную собаку, а двое других толкали ее сзади. Руки девушки были скручены за спиной.
Уоми, к ужасу своему, увидел, что это была Кунья. Как это могло случиться?
Размышлять было некогда. Надо было спасать ее немедленно.
Но как это сделать? Он один! Сбегать за помощью? Но товарищи далеко. Они ждут его там, на берегу, возле лодки. Пока он будет бегать за ними, пройдет слишком много времени. Что сделают без него с девушкой эти люди и куда ее отведут? Да, кроме того, они уже заметили его.
Если Уоми побежит, они поймут, что он их боится. Может быть, их будет потом еще больше. Бежать уже поздно. Надо действовать!
В руках Уоми был только кинжал. Но ведь это — заговоренное оружие. Пока оно у него в руках, чего ему бояться колдуна?
Уоми спрятал за спину кинжал и двинулся вперед. Он вышел из кустов, но едва сделал несколько шагов, как раздался душераздирающий крик:
— Уоми! Уоми! Они убьют! Беги!
В этот миг его снова поразила мысль, что Кунья больше всех напоминает девушку, которая снилась. Он почувствовал, как силы его удесятерились, и твердыми шагами приблизился к колдуну.
Ойху насторожился. В хитрых глазах его мелькнул злой огонек. Казалось, он угадал намерение чужестранца.
— Колдун, ты обманул Уоми! Не твоя толстая Нинда его невеста. Вот невеста — вот она! Сними с нее петлю и отдай Уоми!
Колдун засмеялся:
— Разве Уоми видел мою Нинду?
— Видел! Она не похожа на девушку моих снов.
— А эта? — спросил колдун.
— Эта — она самая.
— Ай, плохо! Ай, как плохо торопиться! Ойху давно знал, кого тебе надо. Он велел поймать эту девушку. Это и есть дочь хозяина Большой Воды. Ее связали потому, что она не хотела идти. Возьми ее и отдай Ойху, что обещал.
Глаза Уоми вспыхнули от робости:
— Кунья! Я не знал, что ты дочь хозяина Большой Воды. Ты моя невеста. Это ты звала меня во сне?
Уоми видел, как щеки девушки занялись заревом яркого румянца.
— Вот где я узнал тебя! — продолжал Уоми. — Ойху, вели развязать ее, сними петлю, — сказал Уоми, показывая на нее кинжалом.
— Узун, отпусти девушку, — сказал Ойху. Желтолицые сняли с Куньи петлю и развязали руки.
— Возьми, — сказал колдун, — и знай: Ойху делает, что сказал. Пусть сделает то же Уоми. Он сказал: Уоми получит невесту — Уоми даст Ойху заговоренный нож.
Колдун протянул ладонь и ждал.
Уоми одной рукой обнял за плечи Кунью, а другой подал кинжал колдуну.
— Хороший нож, — сказал Ойху, любуясь кинжалом. — Блестит, как новый месяц. — Колдун, улыбаясь, подозвал желтолицых. — Гляди, Узун, какой нож! Он заговоренный.
Узун ахнул, хлопнул руками по бедрам и радостно зацокал языком.
— Это хороший выкуп. За него можно отдать какую угодно невесту. У кого этот нож, тому нет страха. Теперь Ойху тоже никого не боится, — колдун громко расхохотался. — Теперь пришла очередь бояться Уоми. У него в руках невеста, но нечем ее защищать. Теперь Ойху будет судить Уоми.
— За что? — спросил Уоми.
— Уоми вошел самовольно в дом Ойху. Узун, что делает Ойху за это?
— Тук-тук! — сказал Узун и постукал кулаком по своей голове.
— Уоми смотрел на его Нинду. Узун, за это что бывает?
— Тук-тук! Много тук-тук! — повторил Узун, опять стуча себя по темени кулаком.
— Уоми прятал за спиной нож. Уоми хотел убить Ойху. За это что сделать?
— Ай-ай-ай! — закричал Узун. — Ойху не будет прощать за это.
— Схватить его! — крикнул Ойху желтолицым.
Все четверо коренастых спутников Ойху, как волки, бросились на Уоми. Ударом кулака Уоми опрокинул толстого Узуна, но двое других крепко вцепились в его руки. Уоми пытался отбиваться, но Узун забежал сзади и обхватил обеими руками его шею. Общими силами они повалили его на землю.
— Уоми! Уоми! — пронзительно закричала Кунья.
Она кинулась к дерущимся и за волосы оттащила прочь толстого Узуна. Тот вырвался и так крепко ударил ее в висок, что она взмахнула руками и без памяти упала наземь.
После этого все снова кинулись на Уоми. Они скрутили ему руки и ноги, заткнули пучком травы рот и по приказанию Ойху привязали к сосне.
В это время очнувшаяся Кунья вскочила и снова принялась кричать. Ее тоже схватили и привязали к белому стволу березы, в нескольких шагах от Уоми.
Вот когда настало высшее торжество колдуна! Сколько песен наслушался он про непобедимого героя Уоми! И вот теперь Уоми, связанный по рукам и ногам, в полной его власти! Вот когда может он насладиться своим могуществом и дать волю всем кровожадным страстям своей натуры…
Ойху расхаживал от одного дерева к другому, взмахивая кинжалом, и делая вид, что сейчас вонзит нож в тело той или иной жертвы. Колдун упивался бессилием своих пленников, которых он собирался терзать медленно и зверски.
Он нарочно не велел затыкать рот Кунье, чтобы ее крики и плач дали возможность вдоволь насладиться бессильной яростью Уоми. — Смотри! — кричал он, захлебываясь отвратительным смехом. — Вот я проткну глаза твоей Кунье! Я отрежу ей одно ухо, потом другое, я проколю ей щеки…
Он замахивался кинжалом и всякий раз наблюдал за тем, как искажается судорогой гневное лицо сына Гунды.
Кунья плакала и кричала в беспамятстве, и звонкие крики ее пронзали воздух.
— Кричи, кричи! — хохотал Ойху. — Будешь кричать еще громче!
Ойху медленно подошел к ней, и лицо его сделалось похожим на морду рычащего волка. Одной рукой Ойху сдавил девушке горло, другой поднял блестевший на солнце кинжал и выбирал место, куда его воткнуть.
— Гляди, гляди! Слушай, как будет кричать Кунья! — издевался колдун, оглядываясь на Уоми.
Но в этот момент произошло что-то непонятное. Как будто пораженный молнией, Ойху внезапно опрокинулся навзничь. Камень, ударивший ему в висок, с силой отскочил и покатился по тропинке.
Махая пращой, из кустов выскочил Тэкту, за ним Карась, два его сына и двое младших Сойонов с копьями наперевес.
Желтолицые бросились бежать, даже не успев подобрать брошенные в сторону дротики. С необыкновенным проворством они юркнули в кусты и скрылись в густых ивняках.
Нападавшие не собирались их преследовать. Они радовались тому, что послушались Карася, который с самого утра, вопреки запрету колдуна, советовал непременно идти за Уоми и не упускать его из виду.
Как только посланный мальчик увел Уоми к дому Ойху, они все отправились за ним по пятам, стараясь ничем не выдавать своего присутствия.
Они видели, как Уоми выбежал назад из хижины от своей воображаемой невесты и как ринулся, размахивая кинжалом, к реке.
Вид его не предвещал ничего доброго, и встревоженные товарищи решили идти за ним.
Громкие вопли Куньи заставили их поторопиться и поспеть как раз вовремя на место разыгравшейся драмы.
Карась быстро отвязал узников, вырвал бронзовый кинжал из кулака мертвого Ойху и подал его Уоми.
— Скорее к лодке! — закричал он. — Скорее! А то сбегутся здешние.
Уоми подхватил на руки обессилевшую Кунью и бегом понес ее к озеру, где лежал их вытащенный на берег челнок.
Заключение
Свадебная дружина Уоми возвращалась домой.
В тот же день, когда Тэкту убил камнем колдуна, все челноки приехавшие из Свайного поселка, покинули устье Черной Речки.
Мать Гунда была бесконечно счастлива, что Уоми назвал Кунью своей невестой. Теперь она уже не боялась, что девушка, которая звала сына во сне, его погубит. Ведь девушкой этой была ее любимая Кунья.
Она не очень удивлялась, что Кунья оказалась дочерью хозяина Большой Воды.
Что ж! Если Уоми — сын Дабу, отчего Кунье не быть дочерью другого Невидимого?
На другой день в лагере рыбноозерцев только и разговору было, что о последних событиях у Мыса Идолов.
Йолду и все жители поселка упросили Уоми и его спутников погостить еще хоть несколько дней. Они просили об этом не только потому, что не хотели сразу расстаться с отданными замуж дочерьми, — главной причиной этих особенно дружеских чувств было, как оказалось, освобождение их от власти жестокого Ойху.
Только после того как Ойху стал безопасен, развязались у всех языки, и рыбноозерцы услышали от местных людей, в каком страхе держал отвратительный старик все окружающие поселки, сколько обид натерпелись от него и русые рыболовы, и черноволосые лесные охотники.
Ойху умел внушить такую веру в его непреодолимое могущество, что весть о его убийстве приехавшими людьми казалась многим невероятной.
Из глубины лесов на легких челноках приезжали звероловы, чтобы проверить правильность дошедших до них слухов. И когда слухи эти подтверждались, они являлись в лагерь рыбноозерцев и просили показать им Тэкту, который оказался сильнее колдуна и не побоялся поднять на него руку.
Имя Тэкту в эти дни почти затмило славу самого Уоми.
Наконец, после нескольких пиров и дружеских угощений, свадебная дружина рыбноозерцев погрузила в лодки свои пожитки и покинула заливчик Свайного поселка.
В эти последние дни рыбаки Свайного поселка просватали гостям самых лучших невест, которые у них оставались. С молодыми женами уехали все, кроме Тэкту и Ходжи, и даже Карась прихватил с собой молоденькую дочку Йолду.
Дружина счастливо добралась до устья реки, по которой месяца полтора перед тем прибыли к берегам Большой Воды.
Тут с ними рассталась ладьи Свайного поселка, которые их провожали, и рыбноозерцы двинулись знакомым речным путем обратно к югу.
В укрепленный городок Ку-Пио-Су добрались они не скоро — только весной следующего года.
Им пришлось потратить немало дней, чтобы протащить волоком, под холодными осенними дождями, свои лодки до мелководного притока бурного Белого Озера.
В Великую Реку спустились они уже поздней осенью, когда дни стали коротки, ночи темны и безлунны, когда небо закрылось холодными дождливыми тучами, а бурные северные ветры не раз грозились захлестнуть волнами низкие борта челноков.
В одном из дружеских рыбацких селений на берегу Великой Реки пришлось им зазимовать в наскоро построенных шалашах и землянках, потому что зима уже подошла, а плыть оставалось немало.
В этом селении и Тэкту нашел себе красивую девушку. Он отдал за нее все ожерелья Гунды, которые еще оставались в его дорожном мешке.
Только на следующую весну, когда по-новому грело и сияло весеннее солнце, добрались они наконец до родного Рыбацкого Озера.
Проезжая Каменную Щель, услыхали они о трех стариках, пересилившихся на подземные реки.
Умерли почти в один день колдунья Рефа и ее сын Урхату, у которого после новой схватки с рассерженным кабаном вскрылись старые рубцы от страшных медвежьих когтей. В его кровь проникло смертельное пламя и сожгло его. Через несколько дней нашли на берегу реки мертвого старого Пижму, которого некому было больше спасать or мучений злой Хонды.
В Ку-Пио-Су старшинство перешло к деду Азу, который все еще глядел на людей своими светлыми глазами.
Лодки повернули с главного речного потока в тихое Рыбное Озеро. В небе неслись весенние перелетные стаи, летели журавли, над озером кричали кулики и чайки, а на воде вереницы лебедей праздновали приход матери всех лебедей — радостной и белоснежной Куррумбы.
На лодочной пристани островка Ку-Пио-Су весело теснились сбежавшиеся мужчины и женщины. Дети первыми заметили вдали многочисленные ладьи и догадались, что это возвращается свадебная дружина Уоми.
Из домов выползли седые старики и старухи. Самого старшину поселка — Азу под руки вывели посмотреть, каких жен добыли себе молодые, ходившие на Край Света, к берегам далекой Большой Воды.
Александр Линевский Листы каменной книги
Часть первая
Глава 1
— И-а-ао-о… а-а-уй! — слышался над рекой не то вой зверя, не то голос человека. Постепенно слабея, эти звуки — тревожные и протяжные — замирали в чаще косматых елей, громоздившихся вдоль берегов широкой и полноводной реки Выг.
— И-а-ао-уй! — заунывно раздавалось с вершины скалистого островка, о который с грохотом дробились пенистые струи порога.
Воды реки, зажатые здесь в узкой расщелине, с гулом мчались мимо островка, то взлетая тысячами брызг от ударов о подводные камни, то покрываясь густыми клубами белой пены…
На высокой скале тускло светился костер. Из груды сырого валежника пробивались длинные пряди колеблющегося дыма. Влажный мягкий ветерок гнал едкий дым на сидящих вокруг огня старух. Они исступленно кричали, тряся иссохшими руками. Впереди, у самого костра, стояла на коленях старуха с разрисованным кровью лицом. Ее седые волосы были заплетены в девять тонких косиц. Выпиленный из черепа оленя обруч с ветвистыми рогами плотно охватывал голову.
Это была Лисья Лапа, главная колдунья стойбища, находившегося неподалеку от порога. Она терла между ладонями гладкие камешки. Один за другим сыпались они на скалу.
— Как из рук падают камни, так из туч упадут на землю олени-и! — тянула она нараспев.
— Упадут! Упадут! Упадут! — подхватывали хором старухи. Колдунья сгребла камешки в пригоршню и, зажмурив глаза, бросила их через костер. Стуча по гладкой скале, они покатились в воду.
— Мы кидаем оленьи души-и-и, — запела колдунья. — В лесу будет много оленей, наши мужчины выследят и убьют их…
— Убьют, убьют, — вторили старухи. — Ой, как много убьют!
Голод — обычный предвестник весны на севере — вновь охватил стойбище. Чтобы было в минувшем году, то случилось и теперь…
Весь день над притихшим становищем разносилось жалобное пение голодных старух. Даже рев порога Шойрукши не заглушал их тоскливых выкриков. Прислушиваясь к завыванию старух, люди, лежавшие в землянках, устало перешептывались, вспоминая недавние сытые дни.
— Много ели тогда, — повторяли они одно и то же. — Ой, как много ели!
Льок был обыкновенным круглолицым подростком со вздернутым по-ребячьи носом и светлыми глазами, в которых то и дело загорались задорные огоньки. Как всякий мальчишка, он не стыдился отнимать у жалобно визжащих девчонок сладкие корни, которые они терпеливо выкапывали в лесу. Проворнее щуки умел ловить в ручье рыбешку и тут же сырьем поедал ее; за много шагов по запаху находил съедобный гриб и быстрее других выискивал спрятанное в густых ветвях гнездо с лакомыми яйцами… Если в драках с мальчишками он не всегда оставался победителем, то в промысле за гусями в период их линьки ему не было равных. Ни у кого из молодежи ожерелье из клювов пойманных гусей не было таким длинным, как у него.
Шестой брат Льока, Бый, всего на год старше его, прошлой весной уже был посвящен в охотники. Скоро придет черед и одногодкам Льока приобщиться к охотничьим тайнам. Каждый мальчик с малых лет мечтал об этом событии, самом торжественном в его жизни. Но Льок был седьмым сыном женщины, не родившей ни одной девочки, а по древнему поверью считалось, что отцом седьмого мальчика бывает дух — покровитель рода. С самого детства Льоку твердили, что он станет колдуном. В прошлом году старый колдун стойбища не вернулся с морского промысла, и теперь охотникам был нужен новый колдун. Вот почему они все чаще и настойчивее спрашивали Льока: не снится ли ему что-нибудь по ночам, не беседуют ли с ним в темноте духи? Встревоженному юноше и в самом деле стали сниться страшные сны.
Наступила весна. Увеличивался день, и начало пригревать солнце. Снег подтаивал даже под елями в лесу, но за ночь покрывался корочкой льда. Олени и злобные лоси стали неуловимы; чтобы догнать их, охотникам требовалось много сил, а их не было — лютый голод, начавшийся месяц назад, обессилил звероловов. Как и в прежние весны, охотники из дня в день возвращались с пустыми руками.
— Нет нам удачи, — шептались они меж собой. — Некому вымолить ее у духов. Кремень виной тому, что погиб колдун. Мужчины хмуро поглядывали на Главного охотника Кремня, плечистого старика, не по возрасту крепкого и сильного. Слыша недовольный шепот охотников, Кремень ерошил седую бороду рукой, еще в молодости изуродованной медведем.
«Нужен колдун, — думал он. — Но Льок слишком молод! Еще сильнее заропщут охотники, вспоминая старого колдуна. Не задобрить ли Хозяина реки, не сделать ли ему большой подарок?»
Охотники тоже стали подумывать: «Может, и вправду сделать большой подарок — бросить в порог Шойрукши красивую девушку из стойбища. Если она понравится Хозяину реки — он смилостивится: взломает речной лед, и тогда на воде заплещутся стаи перелетных птиц».
Слухи об этом дошли до Главной колдуньи, не раз видавшей на своем веку этот страшный обряд. Еще сейчас мерещится старухе, хотя это и было очень давно, жалобный крик ее младшей сестры. Совсем юную, почти девочку, схватили ее охотники и поволокли к бурлящему среди камней порогу. Кого выберут они на этот раз? Не черноволосую ли Сороку, она красивей всех своих сверстниц. Но Сорока — дочь ее дочери. Может быть, Ясную Зорьку — она тоже красивая. Но Ясная Зорька — внучка подруги Лисьей Лапы. Нет, Лисья Лапа не даст погубить ни одной девушки стойбища. Надо отвести от них опасность. Она знает, что надо для этого сделать!
Не в обычае старой колдуньи было откладывать задуманное. Она разрисовала охрой руки и лицо и побрела навстречу охотникам. Они всегда проходили одной дорогой — по тропе мимо скалы у порога.
Старуха взобралась на скалу и, опершись подбородком на высокий посох — знак власти Главной колдуньи, стала ждать.
Весенний ветер трепал ее седые волосы, позвякивая костяными и каменными фигурками духов, подвешенными к ее тощим косицам. Холодно было старухе. Не двигаясь стояла она, всматриваясь в синеющий лес, из которого должны были выйти охотники.
Толпа измученных людей наконец показалась на тропе. Старуха подняла посох и, как полагалось колдуньям, заговорила нараспев:
— Охотники! Мои духи сказали: «Пора испытать Льока, пусть его духи пошлют нам завтра пищу, а не пошлют — значит, они враги нашему роду. Значит, Льок виноват в нашей беде!»
Кремень настороженно посмотрел в иссушенное голодом лицо старухи, но она не опустила глаз.
— Так говорят мои духи! — повторила она.
Кремень повернулся к охотникам и велел позвать Льока. До стойбища было недалеко, ждать пришлось недолго. Льок подошел к Кремню и остановился перед ним. Охотники и старуха молча смотрели на них. Главный охотник заговорил:
— Ты седьмой сын женщины, никогда не рожавшей девочек, — значит, ты колдун, пусть помогут тебе твои духи. А ты помоги сородичам. Добудь пищу. Не добудешь — значит, ты нам враг!
Подросток побелел от испуга. От растерянно посмотрел на старика и прошептал:
— Где мне достать пищу, если ты, лучший из ловцов, не находишь ее?
Ища защиты, Льок повернулся к охотникам. Может быть, они и жалели этого подростка с еще мальчишеским лицом, с чуть покрытыми золотистым пушком щеками. Он совсем не был похож на прежнего, всегда угрюмого колдуна. Но никто не осмелился сказать ни слова, молчали даже трое его старших братьев. Льок взглянул на Лисью Лапу. Мрачная усмешка, кривившая губы старухи, еще больше напугала его.
— Откуда же мне добыть пищу? — спросил Льок охотников.
— Проси Друга, он милостив, — ответил Кремень.
Старик протянул Льоку метательную дубинку колдунов, которую для счастья носил эти дни, и, с трудом передвигая опухшие ноги, направился к стойбищу. За ним побрели охотники. Старая колдунья, опираясь на посох, поплелась вслед.
Юноша сел на выступ скалы и опустил голову. Из гладкого зеркала воды, скопившейся в глубокой выбоине, на него смотрело осунувшееся лицо подростка.
«Проси Друга, он милостив», — сказал Кремень. Другом охотники называли таинственного Роко. С незапамятных времен, из поколения в поколение, передавалось поверье о маленьком горбуне с большой ступней. Когда-то он сам жил в стойбище и был охотником. Звери, птицы и рыбы слушались его зова, он один мог загнать целое стадо оленей. Стойбище не знало при нем голода, люди были сыты даже весной. Охотники любили его, но женщины смеялись над его горбом и большой ступней. Однажды, когда женщины мяли глину, собираясь лепить горшки, Роко проходил мимо, и одна из девушек крикнула ему:
«Иду к нам, горбун, твоя ступня только и годится, чтобы месить глину!»
Роко так обиделся, что навсегда ушел из стойбища. Где он поселился, никто не знал. Говорили, что он ушел к «лесным людям» — бурым медведям; рассказывали, что он и сейчас живет среди них. Роко затаил обиду на женщин, поэтому они боятся его. А охотникам он остался другом, в трудное время выгоняет зверя навстречу их копьям и стрелам, посылает удачу смелым и сильным.
— Роко! — в отчаянии зашептал Льок. — Пошли добычу. Пожалей, иначе меня убьют.
Юноша вытянулся на скале, прижимаясь лицом к холодному камню.
«Что делать, где искать добычи? Что будет со мною завтра?» — спрашивал он себя и не находил ответа.
Долго лежал подросток, полный страха и тревоги.
Вдруг совсем близко, почти над его головой, зашелестели тяжелые крылья. Даже не открывая глаз, Льок узнал крылатого гостя. Боясь спугнуть его, подросток еще крепче прижался к скале. Непривычно скользя широко расставленными лапами по прибрежному льду, огромный лебедь медленно сложил крылья.
Приподняв голову, Льок увидел, что лебедь замер на месте. Тревожно выгибая шею, он рассматривал черневшую во льду полынью. Близость ревущего порога, должно быть, беспокоила птицу. Это был разведчик, который летит впереди стаи, чтобы найти место, пригодное для ее отдыха.
Если летят лебеди, значит, пришла настоящая весна. Скоро прилетят и другие птицы, добычи будет много, голоду придет конец. Но сейчас Льок об этом не думал.
Его рука потянулась к лежавшей рядом метательной дубинке колдунов. Зажав ее в кулак, юноша пополз к лебедю. Из-за грохота водопада птица не услышала приближения человека. Когда он подполз совсем близко, она пошевельнулась и, неуклюже переваливаясь, стала расправлять крылья. Лапы лебедя уже отрывались от земли, когда дубинка ударила его по тонкой шее. Ломая о скалы маховые перья, лебедь тяжело рухнул наземь. Тотчас в руках Льока хрустнули его шейные позвонки, и громадные полукружья крыльев бессильно распластались по скале.
Не смея верить удаче, Льок сжимал шею лебедя, чувствуя сквозь перья его теплоту. Он хотел приподнять птицу, не не мог — не хватало силы. И только тогда он понял, какая в его руках завидная добыча! Долго смотрел Льок на окрашенные заходящим солнцем розовые перья, голубовато-белые в тени… Льоку хотелось как можно скорее созвать сородичей и похвастать нежданным счастьем. Но как выпустить из рук такую добычу, отдать ее грозному старику и, может быть, только смотреть, когда другие будут ее поедать?
Льок не был охотником, но знал охотничьи порядки — он растянулся на крыле, захрустевшем под тяжестью его тела, привычным движением пальцев выщипал на шее ряд коротких перышек и прижался губами к начавшей холодеть коже. Острые зубы прогрызли тонкую кожицу и жилу. Солоноватая, еще совсем теплая кровь полилась в рот. Ее было так много, что, когда Льок истощенный голодовкой, оторвался от птицы, он опьянел до тошноты. Неудержимо захотелось спать.
— Спать, спать, — прошептал Льок, с каждой минутой хмелея все больше и больше.
Тяжелый сон, всегда охватывающий изнуренного и ослабевшего человека, когда он наконец поест досыта, сковал юношу.
Глава 2
В эту светлую весеннюю ночь не могла уснуть только мать Льока, Белая Куропатка. Она сидела у очага, понемногу подбрасывая в него сучья, и каждый раз вспыхивавшие веселые огоньки отсвечивали на ее мокрых от слез щеках. Мать с тревогой думала о сыне. Как достать подростку хоть какую-нибудь добычу, если даже Кремень — лучший из лучших ловцов — ничего не мог добыть! Разве старик не увешивал себя волшебными ожерельями из медвежьих клыков и когтей, высушенными кусочками волчьего сердца, челюстями выдр и бобров, дающих силу, мудрость и знание повадок обитателей леса и воды? И все-таки ничто не помогало, вот уже сколько дней Главный охотник возвращается без добычи… Где же подростку, никогда не ходившему на охоту, найти пищу для стойбища?
Белая Куропатка принялась гадать. Она бросила перед собой короткие деревянные палочки, пытаясь узнать, будет ли ее сыну удача. Перемешав их между ладонями, гадальщица быстро разъединяла руки и зорко следила, как и куда упал черемуховый сучок, означавший колдуна; в благоприятном ли положении березовая палочка, обещающая удачу; куда легла осина, знак горькой доли; какое место занимает сосна, предвестница добрых покровителей, и ограждает ли она Льока от покушений ели, дерева темных и злых духов.
Десятки раз разлетались деревяшки то в сторону Тьмы — запада, то в сторону Света — востока; иногда они падали к Теплу — югу, иногда к Холоду — северу. Всякий раз они ложились по-иному, и женщина не могла понять, какую участь предвещает ее гадание сыну.
Тогда мать решилась на отчаянный поступок. Бормоча заклинания, — им она еще девушкой научилась от своей тетки, предшественницы Лисьей Лапы, — она заплела в волосы семь косичек.
В конец каждой косички Белая Куропатка вплела по выточенной из рябины фигурке: лебедя, гагару, утку — священных птиц женского колдовства, и животных — покровителей колдуний: лису, выдру, бобра, а на конец средней косы — самой толстой — она прикрепила человеческую фигурку. Потом женщина надела ни разу не надеванную малицу, сшитую из шкур молодых оленей, и кровью из расцарапанной руки нарисовала магические знаки на лбу, щеках и подбородке — так делала ее тетка, готовясь к колдовским обрядам.
Пока сын не доказал, что он действительно колдун, Белая Куропатка не должна была заплетать волосы в семь кос и украшать себя волшебными фигурками. Но матери казалось, что если она сама пойдет колдовать на Священную скалу, то ей, родившей семерых сыновей, поможет дух — покровитель стойбища. Трудно было подниматься на кручу Священной скалы. Страшно нарушать обычай племени. Но материнская любовь придавала силы, и Белая Куропатка поднялась на площадку скалы.
Рядом с убитым лебедем она увидела спящего сына. Ее охватила такая слабость, что ноги бессильно подогнулись, и она повалилась на колени.
— Сын спасен! Сын спасен! — шептала она, беззвучно плача от счастья. — Значит, ты на самом деле колдун, — вдруг нараспев проговорила Белая Куропатка. И было непонятно по ее голосу рада она этому или нет.
Мать не посмела будить того, кто сделался колдуном. Считалось, что его душа сейчас витает в далеком мире покровителей. Шепча заклинания, женщина распустила по плечам семь кос — теперь настало время их носить, теперь она мать колдуна! Ей, а не кому-либо другому надлежало быть Главной колдуньей после Лисьей Лапы.
Лучи солнца еще не пронизали ночной воздух, было очень холодно. Измученную женщину охватила морозная сырость. Хорошо бы сейчас уйти в землянку, к теплому очагу. Но она побоялась оставить сына.
Не только мать беспокоилась за судьбу Льока. Бэй, ее предпоследний сын, тоже тревожился за брата. Он знал древний закон — нельзя пролить кровь своего сородича, но Кремень мог столкнуть Льока в водопад, мог привязать к дереву в лесу и оставить на съедение зверям… Весеннее солнце еще не показалось над землей, когда Бэй подбрел к Священной скале, где вечером остался брат. Радостно забилось сердце молодого охотника, когда он увидел Льока, лежавшего на крыле громадного лебедя. Вблизи него сидела мать с волосами, заплетенными в косы, как у колдуньи.
— Он ушел? — шепотом спросил Бэй.
— Да. Душа его беседует с духами, пославшими добычу, — так же тихо ответила Белая Куропатка. — Скажи Кремню, что духи даровали Льоку лебедя.
Слова матери будто прибавили силы Бэю. Он сбежал со скалы легко и быстро, как в прежние дни. По пути в стойбище ему встретились женщины, бредущие к реке за водой. Порадовав их удачей брата, Бэй поспешил к землянке Главного охотника.
Кремень лежал в спальном мешке, сшитом жилами из вывороченных шкур оленя. В него забирались, сбросив всю одежду, — так жарко было спать на толстом слое пышного меха. Когда Бэй откинул полог землянки, Кременю снилась еда — жирное и мягкое мясо семги.
— Друзья шлют нам весеннюю радость! — входя в землянку, проговорил юноша на языке, понятном лишь охотникам. Эти слова означали: «Духи послали нам лебедя».
Главный охотник открыл глаза и посмотрел на Бэя мутным взглядом: видения сна еще не отошли от него.
— Друзья даровали Льоку большую весеннюю радость, — еще раз крикнул Бэй.
Кремень приподнялся на локте.
— Ты говоришь, что Льок добыл лебедя? Значит, он все-таки колдун? — удивился старик и, помолчав, добавил: — Созови братьев, пусть возьмут длинные руки и молнии. Льок обновит их силу!
На том же иносказательном охотничьем языке длинными руками назывались копья, молниями — луки.
Бэй с радостью пошел выполнять приказание Главного охотника. Он гордился, что его младший брат, которого он еще совсем недавно защищал в мальчишеских драках, стал теперь колдуном. Переходя от одной землянки к другой, он громко кричал:
— Охотники, Кремень сзывает вас! — и всякий раз не мог удержаться, чтобы не похвастать удачей брата.
Когда охотники собрались, Кремень вышел из своей землянки, и все толпой двинулись к порогу.
На Священную скалу обычай позволял ступать лишь колдунам и колдуньям. Охотникам разрешалось стоять у ее подножия с той стороны, куда, проносясь над святилищем, дул ветер. Женщинам и детям был отведен соседний островок, и они уже толпились на нем, когда мужчины приблизились к священному месту. Охотники перешли по березовому стволу, перекинутому через бурлящий поток, и стали с северной стороны скалы.
С другой стороны на скалу, кряхтя, уже взбиралась Лисья Лапа, за ней плелись ее помощницы. Взойдя на скалу, Лисья Лапа оперлась на свой посох и посмотрела на Белую Куропатку. Только теперь заметила она, что волосы матери Льока заплетены в семь кос и к концам их подвешены знаки колдуньи.
Лицо старухи исказилось гневом. Привычным движением она распустила ремешок, стягивавший в узел ее девять кос, и они рассыпались по плечам. Первая и девятая косы, на концах которых белели выточенные из кости изображения луны и солнца — знаки могущества Главной колдуньи, — задрожали на ее иссохшей груди.
— Нескоро ты заплетешь девять! — со злобой прошептала Лисья Лапа. — Я еще долго проживу!
— Но твои последние зубы выпадут скорей, чем я потерю первый, — так же тихо сказала Белая Куропатка. — Их теперь у тебя много поубавилось.
Лисья Лапа плотнее сжала губы. В дни голодовки у нее начиналась цинга, зубы шатались и выпадали. Совсем недавно один за другим вывалились еще четыре зуба. Как узнала об этом Белая Куропатка? Когда выпадет последний зуб, власти Главной колдуньи придет конец.
Лисья Лапа протянула руки и что-то невнятно зашептала. Белая Куропатка тоже подняла руки и заговорила вполголоса… Это были те же заклинания. Мать молодого колдуна их знала!
А Льок продолжал сладко спать.
Сон колдуна священ. Надо терпеливо ждать, пока он очнется, и ослабевшие от голода люди томительно переминались с ноги на ногу. Наконец Кремень не выдержал.
— Мать колдуна, — сказал он, — люди устали, помоги нам.
— Его душа сейчас далеко-далеко… Он там. — Женщина протянула руки на восток, куда было повернуто лицо Льока. — Кто осмелится помешать его беседе с духами?
Зная, что у Льока был всегда чуткий сон, Белая Куропатка велела колдуньям повторять ее слова. Сама она стала на колени лицом к западу, чтобы удобней было смотреть на сына, и, раскачиваясь, запела:
— Люди ждут тебя, люди ждут тебя!
Веки спящего дрогнули и приподнялись. Не отрывая головы от скалы, он разглядел пушистую груду лебединых перьев, озабоченное лицо матери, ее заплетенные, как у колдуньи, косы и стоявшую поодаль толпу охотников.
— Что ты прикажешь людям, хотим знать! — тотчас выкрикнула мать.
И старухи послушно подхватили:
— Хотим знать, хотим знать, хотим знать!
Льок понял, что должен немедля что-то сказать, отдать какие-то приказания. Теперь он колдун, к каждому его слову прислушиваются люди. Мать настороженно смотрела на него: «Не торопись, не поступи опрометчиво». Чтобы обдумать, что делать, Льок снова опустил веки и притворился спящим.
— Пошлют ли перья лебедя удачу стрелам охотников? — спрашивала мать.
— Пошлют, пошлют, пошлют! — откликнулись старухи. Льок прислушался к вопросам матери.
— Когда сварим лебедя — кому достанется мясо? На этот раз старухи с особым жаром заголосили:
— Кому достанется мясо? Кому достанется мясо? Кому достанется мясо?
Льоку было нетрудно понять, чего ждут от него. Нужно велеть каждому охотнику прикрепить к стреле по перу, чтобы духи убитого лебедя, тоскующие по своим крылатым друзьям, привели бы стрелка к лебединой стае. Кому присудить мясо? Но об этом Льок не стал долго раздумывать — конечно, колдуньям… Ведь его мать стала колдуньей — значит, и ей достанется мясо.
— Скоро ли ты пойдешь в землянку колдунов? — пропела Белая Куропатка.
Так мать незаметно для других старалась направить первые шаги сына по новому, трудному пути.
— Поди в землянку, поди в землянку, поди в землянку! — неистово завопили старухи, мечтая поскорее получить хотя бы по кусочку мяса.
— Люди устали тебя ждать. Возвращайся скорей к нам! — строю прозвучал возглас матери.
— Возвращайся к нам, возвращайся к нам, возвращайся к нам! — дружно повторили за ней колдуньи.
На самом деле, сколько же времени лежать на холодной скале? Разве не страшно тому, кто привык всех слушаться, отдавать приказания?
Льок поднялся. Белая Куропатка отошла к старухам и стала рядом с Главной колдуньей.
Оробев, Льок по-ребячьи зажмурился — на него смотрели старый Кремень, колдуньи, охотники, сверстники, все ждали, что он скажет.
— Люди («Как трудно ворочать языком!» — удивился Льок), перья прикрепите к стрелам, они принесут удачу в охоте. Лебедя сварите и мясо отдайте мудрым старухам.
Охотники нахмурились. Хоть и не велика была доля мяса, что пришлась бы на каждого из них, но и этому они были бы сейчас рады.
— Кто поделит перья? — с затаенным ехидством спросила Лисья Лапа.
— Главный охотник, — четко ответил юноша и, взглянув на лицо матери, понял, что решил правильно.
Кремень злобно ощипал остывшего за ночь громадного лебедя и роздал охотникам крупные перья из крыльев и хвоста. Затем он искусно разрезал птицу на части, не поломав ни одной кости.
— Был бы Льок охотник, — недовольно перешептывались мужчины, — он бы понял, кому надо отдать добычу.
В это время вблизи Священной скалы развели костер. Вскоре в трех больших горшках закипела вода. Все — и взрослые и дети — получили немного мясного отвара.
— Льок мудрый колдун, — торопливо глотая разварившиеся волокна лебединого мяса, говорили старухи тем, кто с завистью глядел на них. — Конечно, сам Роко, великий Друг охотников, помог ему своими советами.
Глава 3
Землянка колдуна стояла в стороне и от стойбища, и охотничьего лагеря, где мужчины проводили месяцы охоты. В стойбище хозяйничали колдуньи, они ревниво оберегали свою власть и свои тайны. За черту охотничьего лагеря разрешалось вступать только охотникам, а колдун охотником не был. У охотников тоже были свои тайны, которые они открывали только посвященным.
Колдун был обязан добиваться у духов удачи в промысле, заклинаниями охранять сородичей от болезней, голода и мора. Он должен был дружить с духами, чтобы они вовремя предупреждали его об опасностях, грозящих роду, — о злых замыслах соседей, о буре на море.
На промысел колдуна брали редко, только когда ждали большой добычи, чтобы его «друзья» духи, приманили целое стадо оленей, косяк рыбы, или когда боялись какой-нибудь беды, чтобы колдун отвел ее заклинаниями. Во время малой охоты охотники сами совершали несложные обряды. Колдун оставался в своей землянке.
Об этой землянке, куда не смел войти ни один из сородичей, ходили самые страшные слухи. Рассказывали, как с неба туда слетали огненные духи. Это были обычные для осенней ночи падающие звезды, которые гасли, не достигая земли, но женщинам стойбища казалось, что из землянки доносились голоса. «Это колдун — думали они, — беседует с Роко, Другом охотников». Много, очень много чудес рассказывали про это жилище, запрятанное в расщелине между скал и укрытое со всех сторон громадными елями.
Вот почему Льоку, семнадцатилетнему юноше, было страшно приблизиться к таинственной землянке. До этого дня он, как и все сородичи, обходил ее стороной, а теперь он должен в ней жить. Заболеет ли он — никто не придет его проведать. Умрет — так и останется тут. Новый колдун заложит вход черемушником и засыплет землей и для себя построит другое жилище, где-нибудь поблизости, в таком же уединенном месте. Но только один колдун много зим тому назад умер у своего очага. Все остальные погибали вне стойбища.
Льок со страхом рассматривал землянку. Вьюги намели у входного отверстия большой сугроб. Понадобилось немало труда, чтобы раскопать снежную кучу и отогнуть край полога, плотно прикрывавшего вход. Из землянки повеяло острым застоявшимся запахом диких луковиц, высушенными кореньями. Это подбодрило Льока, и он решился шагнуть в полутьму жилища, все же по-ребячьи жмурясь от страха.
С первого взгляда здесь все было, как в других жилищах. Посередине чернели закопченные камни очага, за ним на двух небольших валунах стояла выдолбленная колода с грудой оленьих шкур — видно, старый колдун любил спать в тепле. Вдоль стен тянулся ряд глиняных горшков в берестяных плетенках. Прежний колдун в последний раз вышел из землянки в осеннюю пору, когда делали запасы. Что могло быть в горшках? Льок поочередно стал приподнимать промазанные глиной покрышки. В одном сосуде было что-то светлое и твердое. Льок ковырнул пальцем — сало! В другом хранились луковицы, в третьем — куски копченой оленины.
Сколько пищи, которая еще вчера могла лишь присниться, принадлежало ему одному! Разгрызая промерзшую сладковато-горькую мякоть луковицы, Льок жадно перебирал темно-бурые куски оленины, выискивая те, на которых желтоватый пласт жира был потолще. Он яростно отдирал зубами волокна затвердевшего мяса, осматриваясь по сторонам, и вдруг попятился к выходу. Из полутьмы на него смотрело непонятное страшное чудовище. Охваченный страхом, Льок продолжал отступать, пока плечом не приподнял полог. Луч дневного света, ворвавшись сквозь щель, упал на стену. Льок перевел дыхание. Никакого чудовища не было. На выделанной оленьей шкуре углем и охрой был нарисован Роко, Друг охотников, — Льок узнал его по горбу и огромной ступне. На изображении кое-где чернели дыры, в плече Роко застрял дротик. Юноша ужаснулся: старый колдун посмел поднять руку на Друга, посмел причинить ему боль! А разве не Роко послал ночью лебедя и спас Льока от гибели?
Юноша торопливо выдернул дротик, торчавший в плече покровителя.
— Пусть твоя рана заживет поскорее, — шептал он, разглаживая рваные края дыры. — ты подарил мне удачу, и я никогда не буду делать тебе больно.
Побеседовав так с Роко, Льок решил, что дружба между ними налажена, и совсем успокоился.
Теперь следовало бы развести в очаге огонь, чтобы прогреть промерзшую за долгую зиму землянку. Юноша разыскал у очага зажигательную доску и палочку. Обложил лунку в доске сухой травой и принялся быстро вращать палочку. Трава дымилась, но не вспыхивала. Льок со злостью повторял: «Гори, гори», пока наконец не показался синеватый язычок огня.
Вскоре из очага потянуло сладковатым запахом дыма, потом повалили густые клубы, едкие и горькие. Льок откинул меховой полог входа на верх землянки и присел перед очагом на корточки, привычно пригибая к земле голову. Белесый дым слоем поднимался кверху, плавно колеблясь от струй морозного воздуха, стлавшегося понизу.
Когда камни очага накалились, Льок перестал подкладывать сучья. Остатки дыма вытянуло наружу, дышать стало легче, глаза больше не слезились. Юноша опустил полог, подоткнул его поплотнее и при свете догорающих углей еще раз оглядел свое новое жилище. С восточной стены, против входа, на него смотрел Друг охотников — Роко, но Льок его уже не боялся. Северная стена была в несколько рядов завешана меховыми шкурами. Юноша осторожно приподнял висевшую сверху лосиную шкуру. На обратной ее стороне был нарисован большой, с ветвистыми рогами лось. Под лосиной оказалась оленья шкура, на ней углем и охрой был изображен олень, на волчьей и рысьей — нарисованы волк и рысь. Не было только медвежьего меха. Но тут же, в корзине из черемуховых прутьев, Льок нашел медвежий череп и под ним две пары высушенных когтистых лап.
Перед молодым колдуном раскрылось несложное колдовство его предшественников. Не выходя из землянки, они могли колдовать над изображением тех животных, на которых собирались охотиться сородичи, и требовать от духов помощи. Отныне Льоку предстояла такая же, как у его предшественников, одинокая жизнь: он должен был держаться в стороне от всех, никогда не заходить в землянки, где живут женщины. Говорят, хозяйки гор, лесов и рек очень ревнивы. Они не простят колдуну, если он подойдет к обыкновенной женщине. Он должен дружить только с ними или другими духами — мужчинами. А какие были эти духи — Льок не мог себе даже представить…
Этот день для Белой Куропатки был не похож на другие. Вернувшись со Священной скалы, она прошла через все стойбище. На самом краю его примостилась маленькая землянка. Летом и зимой она стояла пустая и заброшенная, дым над ней вился только в те дни, когда «мудрые старухи» обучали новую колдунью. Здесь посвящаемая должна была прожить до новолуния. Старухи навещали ее поочередно и учили тому, что держали в тайне от всех сородичей, особенно от охотников, — искусству лечения больных, заговорам и заклинаниям.
Белая Куропатка руками разгребла снег у входа, приоткрыла полог, с порога поглядела, оставила ли ей предшественница достаточно хвороста, цел ли сосуд для воды, есть ли спальный мешок, и вернулась в стойбище. В эту землянку она войдет в новой одежде, сшитой про запас Лисьей Лапой, с горячими углями из костра Главной колдуньи, чтобы разжечь здесь давно не горевший очаг.
— Пришла! — угрюмо встретила ее Лисья Лапа. — Я и огонь не успела еще развести.
— Я подожду, — покорно ответила мать Льока.
Бормоча что-то под нос, старая колдунья достала из большого берестяного короба все, что полагалось надеть новой колдунье. Сверху лежали сшитые из выделанной оленьей кожи рубаха и набедренники, к который привязывались длинные, выше колен, меховые чулки, внизу была уложена верхняя одежда: меховая, шерсть внутрь, безрукавка, разукрашенная множеством нашивок, и такая же малица с разрезом на груди, обшитая по краям лисьим мехом.
— Торопись! — проговорила Лисья Лапа. — Торопись! Белая Куропатка оглянулась. Входное отверстие не было прикрыто пологом, солнце заглядывало в землянку.
— Как может женщина показать солнцу свое тело? — не поддалась она хитрости старухи. — Если я нарушу обычай, ты же первая прогонишь меня…
— Хочешь быть Главной колдуньей? — Лисья Лапа, уже не скрывая злобы, посмотрела на женщину, ускользнувшую от ее коварной уловки.
— Так сказала Вещая, сестра моей матери, — не опуская глаз, ответила Белая Куропатка. — Это помнят все мудрые старухи.
У Лисьей Лапы в руках задрожали рябиновые прутья, которые она собиралась бросить в очаг, чтобы разжечь священный огонь. Вещей звали предшественницу Главной колдуньи. Перед смертью она предсказала, что Лисью Лапу заменит женщина, носящая имя птицы. Но Лисья Лапа была не из тех, кто легко уступает другому дорогу.
— Не скоро, не скоро это будет! — крикнула она матери Льока. — Не дождаться тебе моей смерти.
Костер разгорался. Обе женщины присели на корточки. От огня было горячо, а по ногам тянуло морозным воздухом от неприкрытого входа. Пока полыхало пламя, Белая Куропатка и Лисья Лапа молчали. Медленно тянулось время. Наконец хворост вспыхнул в последний раз и рассыпался оранжевыми углями.
Тогда по знаку хозяйки гостья опустила меховую полость. В землянке наступил красноватый полумрак.
Белая Куропатка сняла малицу и взглянула на старуху. Во время обряда переодевания главная колдунья должна заклинаниями призывать духов к той, что надевает одежду мудрых. Но Лисья Лапа молчала. Быть может, она надеялась, что Белая Куропатка не посмеет прикоснуться к священной одежде без ее заклинания. Но старуха просчиталась — женщина знала священные заклятья!
Громко выговаривая одно слово за другим, белая Куропатка сняла старую одежду. Не дождавшись приказания Лисьей Лапы, она упала на вытянутые руки и изогнулась дугой над еле тлеющим очагом.
Новая колдунья заклинала огонь, чтобы он очистил ее тело от всех болезней, уберег от злых наговоров и недобрых духов чужих стойбищ и сделал непобедимой, как сам огонь, от силы которого трескаются даже камни.
Со страхом и ненавистью смотрела старуха на мать колдуна. Власть Главной колдуньи велика. Ни одна из женщин стойбища не смела ее ослушаться. Даже охотники побаивались Лисьей Лапы, и сам Кремень старался ей не перечить. Злобно щурилась старуха, глядя на Белую Куропатку. Ей, матери нового колдуна, ведомы древние заклинания, она еще не стара, а Лисья Лапа дряхлеет с каждой весной. Когда ее слабеющие руки уже не в силах будут поднять тяжелый посох, мать нового колдуна станет на ее место во время священных колдований.
«Горе мне, горе! — думала Лисья Лапа, прислушиваясь к словам, четко раздававшимся в землянке. — горе мне!»
Кончив заклинания, белая Куропатка оттолкнулась руками от земли и выпрямилась.
— Говори! — строго приказала она старухе. — Я и эти слова знаю!
И Лисьей Лапе пришлось требовать от духов, чтобы они наделили могуществом ее соперницу, пока та не торопясь надевала новую, священную одежду. Едва старуха умолкала или пыталась пропустить нужное слово, Белая Куропатка тотчас договаривала заклинания.
Когда женщина облачилась в одежды «мудрой», Лисья Лапа сказала со злостью:
— Как смела Вещая научить тебя словам мудрых? Ты же была тогда еще девчонкой!
— Так велели ей духи! Они сказали ей, что я буду великой колдуньей, — ответила Белая Куропатка. — Дай углей!
— Готовишься, готовишься, прошептала старуха и с такой ненавистью взглянула на соперницу, что той стало страшно. — Только запомни, никогда не заплести тебе девять кос! Никогда не видеть тебе моей могилы, а я еще посмеюсь на твоей!
Горячий уголь надо было нести в ладонях. Это было одно из испытаний, которое приходилось выдержать женщине, решившейся развести огонь в землянке колдуний. Старуха нарочно выбрала уголь, еще полыхавший синеватым огоньком.
Подбрасывая в воздух и перекидывая его с руки на руку, Белая Куропатка почти бегом добрались до землянки на краю стойбища. Она бросила уголь в очаг, обложила его сухой травой и вздула огонь. Морщась от боли в обожженных ладонях, мать Льока понемногу подкладывала в очаг хворост, следя, чтобы все время горела хоть одна ветка рябины. Тревожные думы одолевали ее. Белая Куропатка, как и все женщины стойбища, верила, что Главной колдунье ведомо будущее каждой из них. Лисья Лапа сказала: «Не дождаться тебе моей смерти», — значит, она умрет раньше, чем эта уже совсем дряхлая старуха. А если смерть сама не придет к ней, Главная колдунья постарается наслать на нее беду. Надо остерегаться каждого ее взгляда, каждого слова, надо хорошенько подумать, что может сделать ей старуха.
По обычаю, женщине, посвящаемой в колдуньи, полагалось не спать трое суток. Чем дольше она не поддастся сну, тем большей силой будет обладать ее колдовство. Тетка Белой Куропатки провела без сна пять суток, и столько же не спала Лисья Лапа. Преодолевая сон, будущая колдунья облегчала свое приобщение к таинственному миру духов, которые должны были наделить ее волшебной силой и мудростью, недоступными для непосвященных. В конце концов сон сваливал измученную женщину, она засыпала так крепко, что не почувствовала бы, даже если бы к ней приложили раскаленный уголь. А люди стойбища говорили: «Душа ее ушла далеко-далеко от тела». Некоторые женщины после долгой бессонницы приходили в исступление — метались, кричали, бредили. Тогда сородичи шептались между собой: «Духи сами пришли к ней». Такая колдунья считалась сильнее той, которая впадала в мертвый сон на многие часы.
«Главная колдунья очень хитра, — озабоченно думала Белая Куропатка, следя, чтобы не затухал огонь. — Не причинит ли она мне какой-нибудь беды, когда моя душа уйдет беседовать с духами?..»
Невесело было в это время и Льоку. Ему было тепло, он был сыт. Но страх перед новой, неведомой жизнью не оставлял юношу. Впервые он сидел у очага без матери.
«Что-то она сейчас делает? — тоскливо думал он. — Хорошо бы ей отнести немного еды».
Наложив полный горшок мяса и луковиц, Льок вышел из землянки. Чтобы сохранить в жилье тепло, он старательно притоптал в снег нижний край толстого полога.
Солнце только начало склоняться к лесу, но в стойбище было тихо. Доверху занесенные зимними метелями землянки казались снежными буграми. Если б снег вокруг них не был так истоптан и завален всякими отбросами, никто бы не догадался, что здесь живут люди. Стойбище, летом такое оживленное и многоголосое, сейчас словно вымерло. Только из одной землянки несся надрывный плач ребенка. Верно, мать забылась в тяжелой дремоте. Никого не тревожил его крик, такой жалобный и слабый, что Льок подумал: «Должно быть, сегодня умрет».
Никем не замеченный, Льок прокрался к родной землянке, приподнял полог и остановился — в землянке никого не было, слой остывшего пепла лежал между камнями очага. Только теперь он понял что ведь и в жизни матери тоже наступили перемены, теперь она мать колдуна — значит, и сама колдунья. Не здесь ее нужно искать, а в землянке Мудрых, на краю стойбища.
Белая Куропатка перебирала в памяти заклинания, оберегающие от порчи, которым ее в давние дни научила тетка, когда полог у входа зашевелился.
Женщина в страхе вскочила — не духи ли старой колдуньи, Лисьей Лапы, явились погубить ее? Но на пороге стоял Льок.
— Не входи! Не входи! — с таким ужасом закричала Белая Куропатка, что Льок испуганно попятился.
Она выбежала из землянки и, плотно задернув за собой меховую шкуру, сказала:
— Ни один мужчина не смеет перешагнуть за полог этого жилища. А колдун не должен даже близко подходить к нему.
— Я принес тебе такой вкусной еды, а ты гонишь меня, — жалобно проговорил Льок.
— Теперь ты сам колдун и тебе нельзя приходить ко мне, разве ты не знаешь, что твои духи враждебны нам, колдуньям?
На лице Льока было столько грусти, что материнская любовь пересилила с детства внушенный страх перед запретом.
— Духи послали лебедя, чтобы доказать, что ты настоящий колдун. Ты мой седьмой сын, а дочерей у меня никогда не было, — с гордостью сказала Белая Куропатка. — С того лета, когда ты родился, ни одному охотнику я не давала места у своего очага. Я верила, что мой Льок будет великим колдуном.
У Льока все ниже и ниже клонилась голова, и он казался таким беспомощным и до слез разобиженным мальчиком, что женщина не смогла побороть в себе жалости к младшему сыну.
— Пойдем на Священную скалу, — с тревогой поглядывая на снежные бугры землянок, нерешительно сказала она. — Там хоть люди не увидят нас.
Даже подарок Льока — горшок с едой — она не посмела внести в землянку колдуний и, торопливо сунув в рот кусок оленины, закопала его в снег у входа.
На том месте скалы, где в ту ночь лежал убитый лебедь, сидел ворон и терпеливо выдалбливал из углублений камня кусочки замерзшей крови. Увидев людей, он недовольно покосился на них и, словно угрожая, приоткрыл клюв.
— Нехорошо! Ох, как нехорошо! — Лицо Белой Куропатки даже побледнело. — Не зря сторожит это место ворон. Гляди, как он сердито смотрит на нас.
Они зашли в узкую расщелину, куда не проникал ветер. Льок прислонил голову к груди матери.
— Нельзя колдуну прикасаться к женщине, — испуганно прошептала она, но все же рука ее, как прежде, легла ему на плечо.
Оба помолчали, потом мать, как бы отвечая своим мыслям, тихо проговорила:
— Ворон не улетел, а раскрыл клюв. Нехорошо это!
— Он клевал кровь лебедя и рассердился, что мы ему помешали, — старался успокоить ее Льок.
Женщина покачала головой.
— Знаешь, Быстроногий Заяц, — она назвала его так, как обычно звала в своей землянке, — мы сидим вместе в последний раз. Ты колдун, и я, твоя мать, буду теперь колдуньей. Скоро попаду в мир духов, и они…
— А на кого они похожи?
— Я их никогда не видела, но наши колдуньи говорят, что у духов туловище и голова человеческие, а ноги звериные или человеческие, зато голова такая, какой нет ни у одного зверя. Вернешься сегодня в землянку, сделай так, чтобы духи показались тебе…
— Как же это сделать?
— Откуда мне знать? Это знали колдуны соседних стойбищ, но их съел жадный Хоро, носящий кровавую одежду… Нас он не съел, потому что мы тогда скрывались за рекой. Наши мужчины убили чужого охотника, и мы, опасаясь мести его сородичей, переселились на островок Большого Озера. Кровавый Хоро уничтожил соседей, но к нам не нашел дороги.
— Кто же научит меня колдовать?
— Никто. Наш последний колдун не успел передать тебе свои тайны. Соседи с юга и севера вымерли, когда ты еще не родился. Теперь духи должны сами научить тебя.
Взмахивая зубчатыми крыльями и хрипло каркая, ворон медленно пролетел над их головой.
— Он не велит мне говорить, — вздрогнула Белая Куропатка.
Солнце зашло, и тотчас розовый с лиловыми тенями снег начал синеть. Верхушки сосен почернели, а небо ярко зазеленело. Где-то вверху искрой блеснула первая звезда. Потом снег стал однообразно серым, скалы совсем потемнели, и разлапистые ветви косматых елей точно срослись с ними. Рука Белой Куропатки, хотя обожженная ладонь все еще болела, без устали гладила чуть покрытую мягким пушком щеку сына. Льок не раз порывался спросить мать. Что ему делать, если охотники потребуют, чтобы он начал колдовать, но всякий раз горячая ладонь матери зажимала юноше рот.
— Ворон велел молчать, — шептала Белая Куропатка. — Он послан духами следить за людьми!
Стало совсем темно, из ниши потянуло промозглой сыростью. Белая Куропатка нехотя поднялась на ноги:
— Надо возвращаться в землянку, не то костер потухнет, а снова идти к Лисьей Лапе мне нельзя. Она подумает, что я заснула и упустила огонь. Не забудь, сынок, придешь в свою землянку — потребуй от духов, чтобы они явились к тебе.
Льок не вставал, ему до слез не хотелось уходить.
— Ну вот, в последний раз, как раньше… когда ты был маленьким, — проговорила мать и, прижав лицо к его лицу, начала тереться своей щекой о его. Это была самая нежная ласка матерей стойбища.
Когда они подходили к поселению, мать сказала:
— Больше ко мне не приходи. Теперь ты колдун! Возвратясь в землянку, Белая Куропатка привычно раздула уже покрывшиеся пеплом угольки. Медленно разжевывая принесенное Льоком мясо, она тревожно думала о сыне.
Прежде бывало так: если старый колдун стойбища умирал, не успев передать своих тайн преемнику, из поселений юга и севера приходили мудрые старики и обучали нового колдуна всему, что знали сами. Теперь лишь ветер носился над обезлюдевшими землянками соседей, и некому было наставить Льока. Но старые охотники крепко держатся вековечных обычаев. Стоит Льоку нарушить их — ему перестанут верить, случится что-нибудь в селении — скажут, что это новый колдун навел на стойбище беду. Белая Куропатка с материнской заботой обдумывала, кто бы из охотников постарше мог рассказать ее сыну, что должен делать колдун в том или другом случае.
Нельзя быть и за себя спокойной. Злобная старуха Лисья Лапа только о том и думает, как бы наслать на нее беду. Встревоженная женщина решила принести жертву духу очага колдуний, чтобы он оберег ее от опасностей.
Белая Куропатка отрезала от края малицы кусочек меха и, попросив огонь принять дар, положила его на камень очага. Дым тоненькой струйкой поднимался вверх, а не стлался по земле. Значит, дух огня принимал ее приношение! Это был знак, что ее просьба услышана.
— Будет ли мне беда от Лисьей Лапы? — прошептала женщина и положила на край очага новую жертву — щепоть оленьего волоса.
От сильного жара волосы стали спекаться и дымиться, а желтоватый дымок опять поднялся струйкой кверху.
— Не будет беды! — облегченно вздохнула она. — Лисья Лапа не причинит мне вреда!
Глава 4
Усталый Льок без снов проспал до утра под ворохом мягких шкур.
В золе еще тлели угольки, и юноша без труда раздул огонь. Потом сел перед очагом, спиной к страшному Роко, поставив у ног горшок с оленьим мясом и горшок с салом. Еще недавно, подобно другим подросткам, в который раз он перекапывал снег вокруг землянки в напрасных поисках обглоданных, но еще годных для варки костей и, возвращаясь с пустыми руками, с тоской глядел в исхудалое лицо матери — может быть, она раздобыла хоть что-нибудь из еды? Но мать могла предложить сыну только горькую кашицу из толченой разваренной сосновой коры.
А сейчас он хозяин больших запасов пищи. Но к радости примешивалась неведомая прежде забота. Мать сказала: «Сделай так, чтобы духи явились к тебе»… Но он даже не знает, чем их приманивать, как с ними говорить. Верно, они очень страшные, эти духи.
Льок через плечо покосился на горбатого Роко. Тень юноши падала на свисающую со стены размалеванную шкуру. Когда угли в очаге вспыхивали, тень колебалась, и казалось, что Роко то поглядывает на свет, то прячется. Рука его была поднята, будто он грозил Льоку. Юноша поскорей отвернулся и подвинулся ближе к огню, доброму покровителю людей.
То глядя на раскаленные угли, то закрывая воспаленные от дыма глаза, Льок думал все об одном — как быть? Скоро охотники соберутся на большой промысел. Как помочь сородичам?
Кто как ни Роко, Друг охотников, может послать удачу? Вот если бы Кремень попросил его на охотничьем языке, известном Лишь посвященным! Роко сам великий охотник, он не отказал бы своим собратьям в помощи!
Но как это сделать? Кремень, как и другие люди стойбища, не должен входить в землянку колдуна.
«Не повесить ли шкуру с изображением Друга на Священную скалу?» — подумал Льок, но тут же вспомнил, что ни одну вещь нельзя выносить, а затем вносить в землянку — вместе с вещью в жилище колдуна могут проникнуть насланные по ветру злые наговоры колдунов из дальних стойбищ.
Взгляд Льока, задумчивый и рассеянный, остановился на кучке речной гальки, лежавшей под колодой, в которой полагалось спать колдуну. Здесь были маленькие и большие камешки, круглые и плоские. Рядом с ними аккуратно разложены куски гранита с заостренными концами. На груди у Льока висел обернутый в бересту один из таких гладышей, на котором выбит замысловатый рисунок, оберегающий от болезней. Когда прошлой зимой Льок захворал, старый колдун снял с его шеи ремешок с оберегом и выбил на другой стороне гальки еще один рисунок. Зажав кусок гранита в кулак, он приставлял его острым концом к гладышу, а по тупому ударял тяжелым камнем. На гладкой поверхности гальки появлялась белесая точка, колдун чуть передвигал острие гранита и вновь ударял по нему. Вскоре на камешке забелел двойной круг. Круг, да еще двойной, означал крепкую ограду. Так колдун хотел защитить Льока от злых духов и болезней.
Вспомнив колдуна, Льок припомнил и другое, совсем было им позабытое. Недалеко от стойбища, в лесных чащобах, укрыто озеро с маленьким островком посредине. Неглубокая речушка соединяла это озеро с рекой Выг. Когда-то оно было большим, но потом начало пересыхать и постепенно превратилось в болото, поросшее ржаво-красным мохом. Суеверные жители стойбища считали эту трясину окровавленным ртом земли, поглощающим всех — и людей и животных, — кто осмелится ступить на нее. Но Льок не верил этим рассказам. Как-то в детстве в поисках птичьих яиц ему посчастливилось, перепрыгивая по кочкам, благополучно пробраться на островок. Там оказалось множество гнезд, и Льок вернулся в стойбище сытым и довольным. С этого времени каждый год весной, когда птицы откладывали в гнезда яйца, от прокрадывался к этому островку.
Там у него было любимое место — пологая из красного гранита скала, уходившая в воду. Льок нередко подолгу лежал на скале, словно ящерица, греющаяся на солнце.
Однажды он забрался на островок поздним летом и, по обыкновению, пошел к скале. Вода, скрывавшая веснами большую часть скалы, теперь спала. Льок вскрикнул от удивления — на красном граните белел рисунок рыбы. Она изогнулась, словно семга, скачущая через камни порогов, когда она поднимается вверх по течению, чтобы метать икру. Льок наклонился и потрогал изображение рыбы пальцем. Поверхность рисунка была шероховатая из-за мелких выбоинок, потому-то она казалась матовой, хотя вся скала ослепительно блестела под лучами солнца.
Юноша очень удивился — кто мог сделать рисунок семги? Спросить у кого-нибудь из жителей стойбища он не смел. Сюда, на этот остров, привозили на вечное изгнание тех, кто нарушил обычай племени. Никому из сородичей не разрешалось приходить сюда.
Сейчас в голове Льока все соединилось в одно: неизвестно откуда взявшийся рисунок семги, колдун, который выбивал узор на голыше-обереге и изображение Роко на шкуре. Льок даже вздрогнул, так его поразила новая догадка. Неведомый сородич, верно, приманивал к островку семгу ее изображением на камне! Он колдовал! Льок тоже так сделает, только еще лучше. Он выбьет на Священной скале фигуру Роко. Тогда сами охотники смогут просить об удаче своего друга.
И вот на Священной скале, где издавна собирались колдуньи, вскоре послышался равномерный стук камня о камень. На поверхности ярко-красного склона, сглаженного ледником до блеска, сначала появилась голова Роко, потом большой горб.
Льок изредка вытирал рукавом выступавший на лице пот. Руки немели от усталости, но он продолжал выбивать на твердом камне одну ямку за другой. Вот уже появилось туловище… Нога с огромной ступней…
С каждым ударом все яснее вырисовывалась фигура Друга, совсем такая же, как на оленьей коже. Роко смотрел в сторону реки, почти круглый код кормившей стойбище.
— Пусть Главный охотник потребует, чтобы Друг вызвал из глубины моря в воды Выга много-много жирной семги, — бормотал Льок, сжимая кусок гранита. — Пусть ее наловят столько, чтобы хватило в запас на зиму.
Когда от усталости рука совсем онемела, Льок поднялся и, отступив на шаг, задумался — какими изобразить уши у Роко: длинными, как рассказывают старики, или короткими, как у всех людей.
Вдруг где-то поблизости раздался крик:
— Он осквернил Священную гору! Горе нам! Горе!
На том месте, где скала уходила под заросли вереска, стояла Лисья Лапа и в ужасе трясла руками. На блестящей поверхности камня белели очертания ненавистного колдуньям горбуна! Как совершать теперь древние обряды, когда со скалы на колдуний будет смотреть Роко, покровитель мужчин и заклятый враг женщин? Льок навсегда лишил мудрых старух их заповедного места колдований… Ничего хуже этого не могло случиться!
Рядом с Лисьей Лапой стояли другие старухи, а позади всех — Белая Куропатка, которую они привели, чтобы обучить обрядам колдовства. Снизу от реки, спотыкаясь, бежали женщины. Они шли за водой, когда раздался крик старухи.
— Льок осквернил Священную скалу! Льок погубил всех нас! — хором вопили за Лисьей Лапой старухи.
Мать Льока молчала. Несчастье казалось ей таким же страшным, как и всем другим женщинам. Но поправить сделанное нельзя, остается только одно — поскорее придумать, как отвести беду от сына.
— Смерть тебе, погубитель! — крикнула Лисья Лапа и, не помня себя от ярости, шагнула к Льоку.
Теперь юноша и сам испугался того, что сделал, но он хорошо знал, что ему несдобровать, если голос его не будет уверенным, а лицо спокойным.
— Не подходи! — громко сказал он. — Так велели мне духи, тебе ли, женщина, восставать на Роко, покровителя охотников!
— Мы не знаем Роко! — закричала Лисья Лапа. — Наши духи сильнее!
— Если сильнее, пусть они прогонят Друга со скалы! Главная колдунья замолчала. Сколько бы она ни трясла руками, но с камня не стереть того, что на нем выбито.
— Духи колдунов враждебны нашим, потому они и велели Льоку отнять у нас священное место, — наконец решилась вступиться за сына Белая Куропатка, — разве его вина…
Лисья Лапа быстро обернулась к женщине.
— Это из-за тебя мы потеряли святилище! — рассвирепев, крикнула она и потянулась крючковатыми пальцами к лицу Белой Куропатки.
Бедной женщине показалось, что старуха хочет проткнуть ей глаза, и она в страхе попятилась. Пригибаясь, как рысь перед прыжком, старая колдунья шагнула к ней. Шаг, другой, третий…
Испуганная женщина в ужасе отступала все дальше и дальше от надвигавшейся на нее колдуньи.
— Мать, — закричал Льок, — порог!
Белая Куропатка покачнулась и, взмахнув руками, рухнула в кипящий поток.
— О-о-ох! — вздохнула толпа.
Лисья Лапа выпрямилась. Сейчас она не чувствовала обычной слабости и озноба, не покидавшего ее даже под теплыми шкурами. Вот оно, неожиданное избавление от соперницы!
Старуха не отрывала глаз от бурлящей желто-бурой воды. В густых клубах пены ей мерещилось ненавистной лицо той, что хотела стать поперек дороги.
— Женщина, носившая имя птицы, неправду говорила тебе Вещая. Исполнилось сказанное мною вчера вечером: «Никогда не видеть тебе моей могилы, а я еще посмеюсь на твоей!» Сами духи внушили мне эти слова! — бормотала Лисья Лапа, словно погибшая могла ее услышать.
Потом колдунья медленно повернулась к толпе и подняла свой посох.
— Так хотели наши духи! Так хотели наши духи! — прохрипела она. — Вы видели, она сама ушла к Хозяину реки. Он требовал большого подарка… Теперь он скоро пошлет нам пищу.
Старуха направилась к стойбищу. Две колдуньи, ее помощницы, подхватили ее под руки и бережно повели. Нельзя Главной колдунье выказывать немощь, она пошла, напрягая последние силы.
Гибель Белой Куропатки была так неожиданна, все произошло так быстро, что Льок и женщины на соседнем островке долго не могли опомниться. Уже скрылись за прибрежными кустами три старухи, а еще никто не двигался с места. Некоторые плакали, некоторые с жалостью смотрели на Льока, но не смели ничего сказать. Наконец испуганные и подавленные женщины одна за другой потянулись к стойбищу.
Льок никуда не ушел. Он долго стоял не двигаясь, глядя прямо перед собой и ничего не видя. Потом опустился на камень и закрыл лицо ладонями. Над ним высоко поднимал руку покровитель охотников Роко, которого так боялись и ненавидели колдуньи. Чуть живые от усталости и вновь без добычи возвращались охотники в стойбище. Здесь их ждали небывалые новости — молодой колдун выбил на Священной скале изображение Друга, а дух порога взял к себе мать колдуна. Как ни был измучен Кремень, он не пошел в землянку и не отпустил охотников. Все направились к скале и издали с удивлением и страхом рассматривали белевшего на камне горбатого Роко.
Главный охотник переводил взгляд то на изображение, то на Льока, сидевшего на камне с опущенной головой. В первый раз он не знал, что сказать, как поступить.
Наконец Льок встал и оглядел всех покрасневшими от слез глазами.
— Мои духи сказали: «Пока охотники будут слушаться старух, не видеть им от нас помощи!» — глухим голосом, не похожим на свой обычный, по-мальчишески звонкий, заговорил он. — Духи велели мне: «Выбей на скале Друга, и пусть сам Главный охотник просит у него помощи, а свою волю и решения мы будем передавать через тебя».
Кремень совсем растерялся. То, что потребовал Льок, делало власть Главного охотника еще больше, это было на пользу Кремню. Но тогда он, а не колдун будет отвечать, если охота окажется неудачной.
«Ни при одном из колдунов так не было. Не хочет ли этот мальчишка обмануть меня?» — размышлял старик, не сводя взгляда с бледного, ко всему равнодушного лица Льока.
Охотники тоже не знали, что думать. Все давно свыклись с тем, что мужчины промышляют, а колдун и колдуньи своими заклинаниями вымаливают им удачу. Теперь со скалы на них смотрит горбатый Роко, и колдун именем своих духов велит Кремню самому вступать в беседу с Другом охотников.
Много ли было пользы в этом году от заклинаний старух? Не лучше ли послушаться молодого колдуна и самим просить Роко о помощи? Ведь послал же он вчера через Льока лебедя. Охотникам вспомнились когда-то слышанные ими рассказы о чудесных делах Друга, не забывающего своих сородичей. Устало переминаясь с ноги на ногу, они обдумывали скупые слова колдуна. Но никто не осмеливался заговорить первым. Это надлежало сделать Главному охотнику. Однако старик все еще не мог понять, как отнестись ему к новому решению духов.
Льок опять нарушил тягостное молчание.
— Если охотники никогда больше не обратятся к колдуньям, мои духи позволят им самим колдовать на священной скале, — медленно и громко сказал он. — Приходите завтра сюда просить у Друга удачи.
Кремень посмотрел на стоявших позади него охотников.
— Придем на скалу! Попросим у Друга удачи! — закричали они. — Разве на охоте мы не сами колдуем?
— Теперь идите все в землянки, — подняв правую руку, приказал Льок, — когда встанет солнце над рекой, будьте здесь с дротиками и стрелами!
Если колдун поднимал над головой руку, это означало, что он передает решение своих духов и охотники должны выполнять сказанное. Кремень недовольно, из-под нависших бровей всматривался в молодого колдуна. Но и он, Главный охотник, не смел возразить колдуну, стоявшему с поднятой рукой. Опустив голову и хмурясь, старик медленно повернулся и пошел к березовому стволу, переброшенному через поток.
Главный охотник остановился перед этим скользким, неверным мостиком и протянул руку. Ее тотчас взял шедший за ним охотник и сам протянул руку тому, кто был рядом с ним. То же сделал и третий, и четвертый, и пятый… Живая цепь перешла по шаткому бревну над клокочущих потоком.
У Священной скалы остались Льок и еще три охотника. Это были его братья. Им надлежало совершить обряд расставания с матерью.
Каждый из них понимал, что быстрое течение давно унесло ее тело к взморью, но гибель настигла мать у этого места, здесь и надо было прощаться с нею. У подножия скалы, на самом краю обрыва, стали два старших брата. Чуть поодаль от них — шестой сын. Младший, седьмой сын Белой Куропатки — колдун Льок, остался на скале.
Обычай запрещал плакать и сожалеть об умершем. Надо быть веселым, чтобы умершему не хотелось покинуть живых.
— Ты не уходи от нас! — громко, насколько позволял ему голос, крикнул старший сын Белой Куропатки. — Мы скоро принесем тебе еду. Хочешь жирной гусятины или мягкой утиной грудки?
— Мы не забудем тебя, — сказал второй сын. — Мы помним твои заботы о нас.
— Первого бобра, что я поймаю, я брошу в поток, — пообещал Бэй, ее шестой сын, — пусть Хозяин порога отдаст его тебе. Ты всегда любила мясо бобра.
Настала очередь Льока. Он знал, что нельзя плакать, но губы помимо воли тряслись и по щекам катились слезы. Он стал на колени, прижался лбом к холодному граниту скалы и что-то зашептал. Даже Бэй, стоявший к нему ближе других, не услышал, о чем говорил Льок. Грохот порога заглушал шепот брата.
Недолго пустовала Священная скала. Старому ворону не стоило прилетать сюда издалека. Только раз или два успел он ударить твердым клювом в трещину на камне, где еще темнели капли лебединой крови, как ему снова пришлось взметнуться ввысь: на скале появилась Лисья Лапа.
Она приплелась одна, без обычных спутниц, опираясь на два длинных батога.
Ее землистое лицо было покрыто испариной, дрожали иссохшие руки, подгибались колени. Волоча распухшие ноги, старуха с трудом поднялась на скалу. Она встала перед изображением Роко и, сунув под мышки концы батогов, чтобы не упасть, протянула руки.
— Исчезни, — неуверенно бормотала колдунья, не спуская глаз с горбуна, белевшего на красной скале. — Говорю тебе, исчезни!
От истощения кружилась голова, осекался голос, холодный пот леденил тело. Временами у нее мутилось в глазах, и тогда очертания ненавистного Роко начинали расплываться, бледнеть. Казалось, еще немного — и гранит опять станет гладким и чистым, каким был до сегодняшнего утра. Шепча заклинания, колдунья устало смыкала веки, но, раскрыв глаза, опять видела горбуна. Сколько ни шептала Лисья Лапа, лютый враг не исчезал.
Чуть живая старуха побрела прочь. Сделав три шага, она остановилась и через плечо еще раз с отчаянием взглянула назад. Может быть, сейчас он все-таки исчез? Но Друг охотников по-прежнему смотрел на нее со скалы.
Отныне священное место не принадлежало колдуньям, больше не ступят сюда ни Лисья Лапа, ни послушные ей старухи. Их заклинания, испокон веков раздававшиеся на этой скале, больше никогда не сольются с гулом порога. И всему виной этот безбородый мальчишка! Какой же казнью покарать осквернителя Священной скалы, посмевшего отнять ее у мудрых?!
Глава 5
По широкому простору Сорокской бухты Белого моря то там, то тут чернели лунки, затянутые тонкой ледяной коркой. Лунки пробивали по две в ряд, из одной в другую протягивали широкие ремни и привязывали к вмерзшим в лед кольям. Рано утром к бухте приходили женщины стойбища. По двое становились они у каждой пары отверстий — одна у правого кола, другая — у левого. Отвязав концы ремней, они осторожно вытаскивали из-подо льда перемет — широкую сыромятную полосу, на которой было прикреплено около десятка ремешков с костяной спицей-крючком на каждом.
Под толстым льдом медленно плавала в полумраке тресковая молодь. У этой рыбы плохое чутье, ей надо натолкнуться на крючок, чтобы заметить и проглотить наживу. Много было расставлено подо льдом снастей, но скуден улов — две-три большеголовые рыбины на перемет уже считалось большой удачей. Чаще же всего приходилось заводить снасти обратно под лед, не сняв ни одной рыбины. Женщины снова накрепко привязывали концы ремня к кольям и с тоской загадывали: попадет или не попадет завтра хоть какая-нибудь рыба?
От стойбища до бухты было не близко. В эту голодную пору немногие женщины имели силу добраться до залива и вернуться обратно. Самые слабые оставались в стойбище вместе с детьми и старухами. Они садились на корточки у входа в землянку и, повернув головы в сторону взморья, скрытого за лесом, томительно ждали, что добудут сегодня рыбачки. Неужели опять не принесут ничего?
Нетерпеливым детям не сиделось на месте. В конце концов, незаметно для самих себя, ребятишки выбирались на тропу, чтобы поскорее выведать от матерей, сколько они несут еды. Чаще всего улов помещался в плетеном из лыка коробе одной из женщин.
Редко выпадал день, когда на каждую землянку доставалось по целой рыбине. Тогда над всеми землянками поднимались клубы дыми. В месяц обилия люди выедали лишь мясистую спину сырой рыбы, выбрасывая все остальное. Когда добычи было много, ее не берегли. Но теперь раскромсанную рыбу разваривали в глиняном горшке до того, что она кашицей оседала на дне. Только затем начинали хлебать эту мутную ушицу.
Каждый день начинался проводами рыбачек и охотников, тянулся в томительном, полном надежд ожидании и чаще всего кончался горьким разочарованием.
Но то утро, когда охотники должны были собраться колдовать у Священной скалы, началось по-другому. Охотники потихоньку от женщин отправились к порогу Шойрукши, а не на охоту, женщины же и вовсе не вышли из стойбища. Ночью умерла старуха, одна из помощниц Главной колдуньи, и навеки затих грудной младенец. Хотя смерть теперь была частым гостем в стойбище и к ней привыкли, она всегда вызывала много шума и суетни.
Умершую колдунью по обычаю полагалось отнести на Священную скалу, прислонить ее к Стене мертвых и совершить обряд расставания и проводов в Страну духов. А хоронить ее надо было у землянки, где она жила с младшей дочерью, Красной Белкой, и внучкой, чтобы колдунья и после смерти охраняла их покой, — у этой землянки еще не было своего «охранителя». Тех же, кто умрет потом в этом жилище, уже не зароют возле него, а унесут в лес.
Когда Главной колдунье сказали о смерти ее помощницы, Лисья Лапа пришла в замешательство. Льок осквернил Священную скалу, и теперь невозможно было совершить установленный обряд.
Растерянность Главной колдуньи передалась ее помощницам. Имя Льока не сходило с их языка.
— Проклятый мальчишка! — бормотала Лисья Лапа. — Ты еще пожалеешь, что пошел против меня!
После долгих колебаний Главная колдунья решила совершить обряд расставания тут же, у землянки.
Умершую вынесли из жилища и положили у западной стены.
Всем в стойбище нашлось дело: надо было выкопать яму, чтобы скрыть тело, надо было натаскать камней, чтобы сделать над могилой насыпь. Это лежало на обязанности женщин и девушек. А старухи уселись вокруг умершей. Лисья Лапа положила ее голову себе на колени и опустила руки на плечи мертвой.
— Ты должна оберегать Красную Белку и заботиться о ней, — нараспев проговорила она, глядя в лицо умершей.
— Ты должна оберегать Красную Белку, — хором повторили сидящие вокруг старухи.
— Ты должна охранять Ясную Зорьку, свою внучку, — продолжала поучать мертвую Лисья Лапа.
Один за другим следовали наставления Главной колдуньи, и старухи хором повторяли их. Потом Лисья Лапа напомнила умершей, что надо передать предкам от имени живущих — дочерей, внучек, правнучек. Когда все наказы и все поручения были перечислены, Главная колдунья наклонилась к уху умершей и зашептала:
— А еще — вели духам наказать осквернителя Священной скалы! Ты знаешь, имя его Льок, не забудь же сказать о нем.
У измученных голодом старух не хватало сил нести тело на руках. Умершую положили на оленью шкуру и подтащили к выкопанной яме. Тело засыпали землей, потом каждый, от старого до малого, повторяя одно и то же: «Не уходи от нас, защищай нас», стал бросать на могилу камни, пока над ней не вырос продолговатый холмик.
Ребенка похоронили без всякого обряда. Мать бережно завернула его в шкуру лосенка, снесла в лес к заранее облюбованной ею березе и повесила свою ношу на сук. Зато если при погребении старухи никто не уронил ни слезинки, здесь, у старого дерева, было пролито немало слез.
Только после того как похоронили умерших, женщины пошли к взморью. Улов сегодня был не лучше вчерашнего. Может, и в эту ночь кто-нибудь, тихо заснув, больше не проснется. Смерть от голода легкая — она совсем незаметно приходит во время сна.
Глава 6
Еще только начинало светать, а Льок уже сидел у Священной скалы. Молодому колдуну было грустно. Теперь он остался совсем один. Никто не поможет ему советом, никто не расскажет о древних поверьях, а ведь мать знала их много.
Сегодня, чуть поднимется солнце, охотники придут к Священной скале просить духов послать удачу. Счастливая охота очень нужна людям стойбища, они больше не могут голодать. Удача нужна и самому Льоку. Ведь если охотники и сегодня вернутся без добычи, Лисья Лапа, погубившая мать, скажет, будто Льок, осквернитель Священной скалы, прогневил духов. А как сделать, чтобы колдовство было верным?..
И вдруг до его слуха откуда-то сверху донесся еле слышный знакомый звук. Льок поднял голову. В чуть светлеющем небе он ничего не увидел, но знакомый звук повторился. Сомнений не было — это летели гуси. Льок радостно засмеялся. Чтобы приманить семгу — выбивают изображение семги, чтобы приманить гусей — он выбьет на скале гуся. Надо спешить, пока не взошло солнце.
В назначенное время охотники вместе с Кремнем, нахмуренным и озабоченным, пришли на островок. Они с удивлением увидели, что на скале, подле огромной ступни Роко, появился большой, толстоклювый и длинношеий гусь.
Льок, указывая на новый рисунок дубинкой, сказал:
— Пусть каждый охотник метнет в птицу мою дубинку.
Кто попадет сейчас, тот не промахнется и на охоте.
— Так делали наши старики! — воскликнул Нюк, один из самых старых охотников. — Откуда Льок узнал этот обычай?
— Это духи его научили, — ответил другой старик. — Кто кроме нас, мог знать об этом?
«Пусть верят, что духи», — подумал Льок.
Он протянул дубинку молодому охотнику, стоящему с краю. То был Ау, который несколько зим назад учил маленького Льока охотиться за линяющими гусями. И это была большая ошибка — дубинку, конечно, надо было вручить Главному Охотнику.
Глухой рокот, пробежавший по толпе, и гневный возглас оскорбленного старика смутили неопытного колдуна. Но Ау не исправил промаха Льока.
— Раз колдун дал мне, значит, так нужно! — размахивая дубинкой, громко сказал он.
Главный охотник выхватил дубинку из рук Ау.
— У Кремня есть еще сила, — угрожающе проговорил он. — может, хочешь побороться со мной?
Ау молча опустил голову. Он хорошо знал, какие страшные руки у старика: схватил — не выпустит живым.
— Будешь бросать последним, — приказал Кремень и, далеко отведя руку, метнул дубинку.
Она со свистом описала дугу и конец ее ударил по шее выбитого на скале гуся.
Старик горделиво взглянул на толпу — меткость руки считалась главным качеством охотника — и передал дубинку стоявшему рядом с ним старому Нюку.
Сначала старшие охотники, потом те, кто был помоложе, один за другим метали дубинку в изображение гуся.
— Если ты попал в гуся сейчас, значит, попадешь и на охоте! — громко говорил Льок каждому, метко попавшему в птицу.
Эти слова, сказанные колдуном, дружащим с Роко, рождали у охотников уверенность в удаче. Такое колдовство казалось им надежнее, чем малопонятные завывания старух. Охотники повторяли за Льоком:
— Я попал сейчас, я попаду и в лесу!
Последним, как приказал Кремень, метал дубинку Ау. Молодой охотник был так обижен наложенным на него наказанием, что не попал в цель ни в первый, ни во второй раз.
— Теперь идите! — громко сказал Льок. — На маленьких озерах, среди скал, вы найдете добычу.
Все разошлись, и у порога Шойрукши остались только Льок и Кремень. Юноше стало страшно.
— Ты тоже иди, — пробормотал он, набравшись смелости. — Твоя добыча будет богаче всех.
— Много колдунов сменилось на моем веку, — не слушая его, сказал старик. — Ты первый нарушил наши порядки.
— Мои духи велели так, — неуверенно ответил Льок, — разве я могу ослушаться их?
Главный охотник молча взял его за руку и подвел к самому краю скалы, под которой, зажатая в узком гранитном ложе, кипела вода порога.
— Пять зим назад с этого места я сбросил колдуна, посмевшего пойти против меня. — Кремень не спускал глаз с побледневшего лица юноши. — Его духи не помогли ему и не покарали меня. И твои духи не помогут тебе!
Льок попятился, но Главный охотник крепко держал его руку.
— Я ничего тебе не сделал плохого…
— Сделал! Ты нарушил порядок, ты прогнал мудрых старух со Священной скалы, теперь они сердиты на меня. Ты хочешь свалить на меня вину за неудачи на промыслах! Сегодня ты ввел новый обычай…
— Старики сказали, что он был раньше.
Кремень так сжал руку Льока, что тот невольно вскрикнул.
— Помни, если не хочешь себе беды: как жили мы раньше, так и теперь должны жить!
Старик наклонился к юноше так близко, что косматая его борода коснулась лица Льока.
Ладони старика легли на плечи Льока, все крепче и крепче сдавливая их. И вдруг юноша почувствовал, как отделяется от земли. Показалось, будто со всех сторон надвинулась темнота. Шум порога стал ближе и сильнее, потом стал удаляться и глохнуть. Юноша запомнил, как сверкнули над его лицом страшные глаза Кремня. Больше он ничего не помнил.
Когда Льок очнулся, грозного старика не было на скале. Юноша приподнялся и застонал — плечи сводило от острой боли. Много силы еще было в руках Кремня, столько лет оберегавшего свою власть над стойбищем.
Вести по селению разносились быстро. Не успели охотники покинуть скалу, как Лисья Лапа уже знала все. Мальчишка завел новый порядок — сегодня охотники сами колдовали на священном месте, издревле принадлежавшем мудрым старухам.
«Если мужчины перестанут верить нашим духам, что будет с нами, колдуньями! Не захотят слушать наших заклинаний — не захотят и заботиться о нашей старости», — горько думала старуха.
Но Главная колдунья не могла так легко выпустить власть из своих цепких рук. Она решила поговорить с Кремнем.
Выйдя на тропинку, ведущую от Священной скалы к лесу, Лисья Лапа, опершись на длинный посох, стала ждать. Кремень и в самом деле скоро показался из-за поворота.
— Не моя вина, — увидев ее, сразу сказал старик, — справляйся сама с мальчишкой.
Он хотел пройти мимо, но Лисья Лапа протянула батог поперек тропы.
— Разве колдун выше Главного охотника? — спросила она.
— Откуда я мог знать, что он затевает? — угрюмо взглянул на нее Кремень. — А теперь охотники верят ему.
— Что будет, если желторотые станут попирать обычаи старших?
— Сейчас он лежит на скале. Теперь он многое понял. Может, станет умней? — уклончиво ответил Главный охотник и, обойдя протянутый поперек тропы батог, пошел дальше. Потом обернулся. — Мы сверстники. Разве твоя молодость не была моей молодостью? — медленно проговорил он. — Обида твой старости — обида для меня!
Старуха долго смотрела ему вслед, пока он не скрылся за густым ельником. Затем она побрела в стойбище.
Льок, возвращаясь после ссоры с Кремнем в свою землянку, увидел бредущую по тропе колдунью. Встречаться с ней сейчас ему не хотелось. Юноша спрятался за ель. Едва передвигая ноги, пошатываясь и часто приостанавливаясь, мимо него медленно прошла колдунья. Льок услышал, как она бормотала:
— Я мудрая, а он глупее олененка. Справилась с его матерью, справлюсь и с ним…
Как только старухи не стало видно, Льок вышел на тропу и острым камнем разрыхлил землю, на которой остался след ее ноги. Это считалось верным средством нанести врагу вред.
— Ты мудрая, а я хитрее тебя! — тихонько шептал он.
Глава 7
Искра опустила усталые руки и с трудом разогнула ноющую спину. Ослабевшей от голода женщине нелегко дочиста выскрести шкуру каменным скребком, а затем долго ее мять, чтобы она стала мягкой. Отдохнув, Искра вновь принялась за это трудное дело. И вот оно подошло к концу. Искра стала внимательно разглядывать шкуру, прикидывая, что можно из нее выкроить. Ей хотелось сшить одежду для того, кто добыл зверя. Но из одной шкуры выйдет одежда только для маленького Као.
Молодая женщина бережно спрятала скребок в кожаный мешочек, всегда висевший у пояса, и достала оттуда каменный, заостренный с одного края нож. Положив нож около себя, она, перед тем как начать кроить, еще раз растянула шкуру.
Тут край полога отогнулся, и в землянку проскользнул Као — радость и гордость Искры. Увидев малыша, мать отбросила шкуру в сторону. Шкура легла мехом вверх, шерсть на загривке и по хребту встала дыбом.
Као — пятилетнему охотнику — сразу стало понятно: большой голодный волк (ведь весной все голодны!) подкрадывается, чтобы вцепиться в горло матери. Но Као мужчина, он ее защитит.
— Не бойся! — закричал мальчик. — Я его сейчас убью.
И он бросился в угол землянки, где висел его маленький лук со стрелами. Искра, улыбаясь, отступила в сторону.
А Као припал, как заправский охотник, на одно колено, натягивая тетиву. Слабо прожужжав, маленькая стрела запуталась в густом волчьем меху.
Мальчик с гордостью взглянул на мать, потом шагнул к своей добыче. Надо взять стрелу, их у него не так много. Он протянул руку и отдернул — а вдруг волк только притворился мертвым. Он помедлил. Шкура, как ей и полагалось, лежала неподвижно. Тогда Као, опять почувствовав себя неустрашимым охотником, решительно взял стрелу.
Облегченно вздохнув, Као вспомнил, зачем он пришел в землянку. Снова став маленьким мальчиком, он захныкал:
— Есть хочу… Дай есть…
Молча сняв с горячей золы очага горшок, Искра поставила его перед Као.
Усевшись на корточки, мальчик попробовал варево. Сделал два-три глотка и заныл:
— Горько… Ой, как горько…
Искра сама знала, что сколько ни вываривай сосновую кору, сколько ни сливай с нее воду, она все равно останется горькой. Но все же это хоть какая-то еда.
Мальчик поплакал немножко, потом затих. Всхлипывая, он подобрался поближе к очагу и, согретый его теплом, вскоре заснул.
Искра привычно раздула угли, подбросила в очаг сухого валежника и принялась при неровном, вздрагивающем свете выкраивать одежду для Као из дважды убитого волка. Шкуру она положила мехом вниз на большой плоский камень. Сильно нажимая концом ножа, женщина неторопливо водила острием по одному и тому же месту, пока не прорезалась кожа. Терпеливо передвигая нож, она отделила от шкуры ненужные куски. Теперь можно начать шить.
Искра достала из своего мешочка проколку, костяную иглу и связку оленьих жил, гибких и крепких. Не зря женщина размачивала и мяла их долгими зимними вечерами. Острой проколкой, сделанной из расщепленного ребра лося, она провертела по краю шкуры ряд дырочек, а потом стала продергивать через каждую дырочку тупую иглу с жилой, сшивая куски меха.
Молодая женщина так занялась кропотливой работой, что не заметила, как приоткрылся полог. Наклоняя голову под низким накатом потолка, в землянку вошел широкоплечий охотник. Тут только Искра обернулась.
— Ау! — сказала она радостно и тотчас подавила вздох — как насытить усталого охотника горшочком отвара из коры?..
Ау молча шагнул к очагу и положил на колени женщины большого тяжелого гуся.
— Я подбил трех! — с гордостью проговорил он. — Двух отдал хозяйкам еды, а этого принес сюда. Кремень сказал: отнеси в землянку женщины, у очага которой ты спишь.
Быстрые пальцы Искры уже ощипывали птицу. Радость сияла на ее лице. Она всегда знала, что Ау — лучший из охотников стойбища. Словно отвечая ее мыслям, молодой охотник сказал:
— Не я один вернулся с добычей. Новый колдун крепко подружился с Роко. Мы, охотники, сегодня колдовали с ним у Священной скалы. И вот видишь… — Он кивнул на гуся.
Искра, ощипав и распотрошив, положила птицу в самый большой горшок, какой нашелся в ее хозяйстве.
— Льок совсем еще мальчик, — раздумчиво сказала женщина. — Кто знал, что он такой хороший колдун.
— Роко любит молодого колдуна, — убежденно сказал Ау. — Как ему его не любить? Льок, если б не был колдуном, сам стал бы ловким охотником. А теперь дела пойдут еще лучше. Придет весна, дичи станет больше, и Роко будет ее выгонять навстречу нашим копьям и стрелам.
В горшке, стоявшем на очаге, громко забулькало. Вкусно пахнувший пар стелился под низким потолком землянки. По другую сторону очага зашевелился Као. Ему приснилось, что чудесно пахнувший кусок жирного оленьего мяса убегал от него. Као никак не мог его догнать. Он потянулся за ним и проснулся от резкого движения.
Наяву он почувствовал тот же восхитительный запах. Приподнявшись, мальчик увидел гуся, варившегося в горшке, и сидевших у огня мать и Ау — большого охотника, которого Као помнил с тех пор, как помнил себя и на которого он обязательно будет похож, когда вырастет. Маленькими руками он потянулся вперед — он сам не знал, к горшку с гусем или к Ау, — и счастливо засмеялся.
Глава 8
Наконец наступила долгожданная весна. Высоко в сиявшем небе затрубили почти невидимые людьми журавли. Это был верный знак, что вот-вот прилетят бесчисленные стаи всякой птицы. И вправду, уже к вечеру на вскрывающихся ото льда озерах слышалось деловитое кряканье уток, громкое гоготанье гусей. Заглушая эти звуки сотней других, на большие полыньи спускались все новые и новые стаи. Держась в стороне от этой шумной сутолоки, проплывали парами важные, молчаливые лебеди. Нельзя было узнать еще совсем недавно по-зимнему угрюмых, безмолвных озер. На каждой льдине, на каждом свободном клочке воды, на скалах, по берегам кипела жизнь.
Большой гусь на склоне Священной скалы был теперь тоже не одинок. Льок выбил рядом с ним лебедя и трех уток. Чтобы охота была удачной, молодой колдун каждое утро метал в них дубинку. А так как охота и впрямь была удачной, никто не сомневался в пользе нового колдовства. Только Лисья Лапа качала головой. Разве в прошлую весну меньше было дичи? Но вслух она не смела ничего сказать. Измученным долгой голодовкой людям хотелось верить в силу нового колдуна, в его крепкую дружбу с духами. Обрадованные обилием еды, они славили Друга охотников, милостивого горбуна Роко.
В первые дни охотники не пропускали ни одной птицы и поедали даже жесткое мясо гагар. Потом они начали охотиться с разбором. Куда бы ни ступила нога охотника, всюду кишела дичь! Над озерами и озерками, от болотистых кочек до тихих стариц Выга и его притоков стоял стон от тысяч птичьих голосов. В воздухе и на воде, по болотам и вдоль берегов взлетали и камнем бухали в воду, перелетали с места на место, дрались и суетились неисчислимые стаи птиц.
Теперь всем было много дела! Охотники, не чувствуя холода, без устали били гусей, добычу более ценную, чем суетливая мелочь утиных стай. Убитую дичь сносили к условленным местам, откуда мальчишки перетаскивали ее в стойбище.
Там тоже не знали передышки. Мясо гусей быстро портилось, и потому женщины и девушки день и ночь были заняты разделкой гусиных тушек.
Как ни болели пальцы у женщин, никто не поддавался усталости. Сначала выдергивали твердые перья, потом выщипывали нежный подпушек. Сделав продольный надрез, с гуся сдирали кожу, покрытую слоем жира, и потрошили тушку. Внутренности, шея, голова и лапки поедались в тот же день, все остальное заготовлялось впрок. Самую мясистую часть гусиной тушки — грудку — вырезали и, нанизав на веревку из сухожилий, коптили в дыму. Кожу с жиром резали на кусочки и, вытопив жир, сливали в мешок из промытого оленьего желудка.
Когда зимой копченые грудки и твердые тушки вкусно запахнут в горшке с кипящей водой, люди стойбища с благодарностью вспомнят шумное время прилета птичьих стай. Чем больше заготовлено весной, тем сытнее зима.
Каждый раз, когда колдуну надо было пополнить свои запасы, он приходил в стойбище к старухам, которых называли «хозяйками еды».
Однажды, идя по тропе с пустыми плетенками, Льок встретил молодого охотника Ау, из-за которого так рассердился на него Кремень. Ау остановил его.
— Вчера мой брат Зиу, — сказал он, — подслушал, что Лисья Лапа хочет навести на тебя порчу. Она околдовала кусок гусятины и велела моей матери дать тебе, когда ты придешь за едой. Что думаешь делать?
— Мои духи защитят меня, — ответил Льок, но голос его дрогнул.
Не было у него веры в защиту тех, кого он ни разу не видел ни наяву, ни во сне!
Было две «хозяйки еды», которые выдавали пищу жителям стойбища. Льок мог бы не пойти к матери Ау, чтобы избежать опасности. Но он нарочно пошел к этой старухе. «Она не знает, что мне известно про хитрость Главной колдуньи, — думал он, направляясь к землянке, где провел свое детство Ау, — скорее всего она хранит этот кусок отдельно от других».
Ничего не говоря, старуха прошла с ним по узенькому переходу в соседнюю землянку, где хранился запас пищи. Льок внимательно следил, как «хозяйка еды» снимала с деревянных спиц куски и клала их в корзину.
«Не здесь, не здесь, — наблюдая за ее руками, мысленно твердил он. — Этот кусок она хранит не здесь, она положит его напоследок».
Льок угадал. Почти наполнив плетенку, старуха сняла одиноко висевшую в стороне грудку гуся.
— Это такой жирный кусок, — проговорила она, — что ты можешь даже не варить его. Льок выхватил у нее из рук плетенку и спрятал ее за спину.
— Отнеси этот кусок Лисьей Лапе! — крикнул он. — Мои духи запрещают его есть.
— О, Льок, — прошептала оторопелая старуха, — ты действительно великий колдун!
Что-то бормоча и боязливо оглядываясь на юношу, она поплелась, выполняя его приказание, к землянке Лисьей Лапы.
«Если хитрость с заколдованным куском не удалась, — провожая взглядом старуху, сказал сам себе Льок, — то колдунья придумает что-нибудь другое! Как же мне узнать о новой опасности?»
Стояла пора, когда подростки разбредались по окрестным озеркам в поисках гнезд водоплавающей птицы, в которых среди пуха белели крупные яйца.
Теперь Льок уже не был мальчишкой. Колдуну не пристало шарить в прибрежных кустах. Но вот запасы кончились, а идти к «хозяйкам еды» он боялся. Да и можно разве сравнить вкус свежих яиц с копченой гусятиной, пропитанной прогорклым жиром? И Льок решился. Однако, чтобы его не увидели за этим занятием, он забирался подальше от стойбища, в чащу.
Однажды он набрел на такое место, где было очень много яиц. Наевшись вдоволь, он принялся собирать яйца про запас. Вдруг его чуткое ухо уловило какие-то странное потрескивание. Льок насторожился — это не был зверь, приближался человек. Он отступил за кусты: никто из сородичей не должен встретить его здесь, у гнезд.
Шаги были не быстрые — детские, не твердые — мужские, кто-то, тяжело шаркая, волочил ноги. Льок, чуть отогнув ветку, посмотрел. По еле заметной тропе плелась Лисья Лапа.
В лесу уже темнело, и юноша не сразу разглядел, что тащит на плече старая колдунья. А она несла что-то тяжелое, видно было, как старуха сгорбилась сильнее, чем обычно. Всмотревшись, Льок чуть не вскрикнул от удивления. Лисья Лапа несла ребенка. Льок узнал девочку, это была маленькая Птичка, прозванная так за звонкий голосок.
«Куда она ее тащит?» — подумал Льок, тихонько пробираясь вдоль кустов за колдуньей.
Лес становился все гуще, ели выше и чернее. Потом пошел бурелом, где любили прятаться рыси. Тут старуха осторожно положила спящего ребенка на опавшую хвою и, что-то невнятное бормоча, побрела назад.
Когда колдунья скрылась за деревьями, Льок подошел к девочке. Сердце его дрогнуло от жалости. Скоро ночь, ребенка растерзают звери. За что злая старуха обрекла девочку на гибель? Льок, не раздумывая, поднял маленькое тельце и бережно понес к стойбищу.
Пройдя с полдороги, юноша остановился.
«Если я отнесу Птичку матери, я никогда не узнаю, что замыслила Лисья Лапа, — подумал он. — Но куда же деть девочку?»
Льок вспомнил про заветный островок, тот самый, дорогу к которому знал он один и где на камне у воды было выбито изображение семги.
«Отнесу ее к кровавому рту земли, — решил он. — зверей на островке нет, пищи вдоволь. С девочкой там ничего худого не случится. Посмотрю, что будет».
Исчезновение девочки заметили не сразу. Весной дети всегда кормились яйцами, которые сами же отыскивали в лесу, и засыпали там, где их заставала ночь. Никто не беспокоился о ребятишках. Но когда на третий день девочка не вернулась в землянку, встревоженная мать побежала к «мудрым». Старухи принялись колдовать, но так и не узнали, что случилось с девочкой. А еще через день Лисья Лапа объявила Льока виновником несчастья. Ветер донес до землянки колдуна неистовые крики женщин. Разрисовав лицо и руки охрой, Льок побежал в стойбище. Женщины встретили его угрозами.
— За что ты погубил мою дочь? — крикнула мать девочки.
— Разве твоя дочь погибла?
— Ты убил ее! — вмешалась Лисья Лапа. — Мои духи сказали мне об этом.
«Так вот оно что! — подумал Льок. — Чтобы навредить мне, злая старуха не пожалела и ребенка».
Женщины в ярости подступили к колдуну. Тогда, подняв руки над головой и шевеля раскрашенными пальцами, Льок сам пошел на толпу. Толкая друг друга, женщины отпрянули назад.
— Вы слышали? — громко заговорил Льок. — Духи Лисьей Лапы сказали, что девочка умерла…
— Да, да, да! — захрипела колдунья. — Духи так сказали!
— Мать! — повернулся Льок к женщине. — Лисья Лапа говорит, что твоя дочь мертва. Мои духи знают, что она жива! Кому из нас ты веришь?
Женщина заколебалась.
— Мое сердце не знает, кому верить, — прошептала она растерянно. — Не знает…
— Если веришь, — тихо сказал Льок, — что она жива, то скоро прижмешь ее к груди.
— Верю, верю, верю! — зарыдала несчастная. — Верю, что моя дочь жива.
Льок облегченно вздохнул.
— Женщины! — снова заговорил он. — Если я не найду ребенка, пусть падет на меня смерть! Но если девочка жива, пусть погибнет обманувшая вас Лисья лапа.
— Пусть будет так! — хором проговорили женщины.
Этот возглас стал приговором стойбища. Теперь или Льок, или старуха были обречены на смерть.
Чтобы показать, что его духи сильнее, молодой колдун принялся колдовать. Для свершения колдовских обрядов полагалось разводить костер, но Льок и тут изменил древнему обычаю. Вытащив из-за пазухи кухлянки мягкую шапку из шкуры рыси, он надел ее и закружился вокруг главной колдуньи. Лисья Лапа испугалась — такого колдовства она не знала. Стараясь все время быть лицом к Льоку, чтобы предохранить себя от порчи, она завертелась вслед за ним, пока не пошатнулась и не упала.
Когда старуха очнулась, колдун приказал ей и матери пропавшей девочки идти с ним к реке, где у берега стоял челнок, выдолбленный из ствола большой осины. Льок направил лодку сначала по реке, потом свернул в речку, вытекавшую из озера.
Сгорбившись, охватив голову тощими руками, сидела старуха на дне лодки. Мысли у нее путались, сердце щемил страх — уж очень уверенно блестели у Льока глаза. Не перехитрил ли мудрую Хозяйку стойбища проклятый мальчишка?
Наконец челнок пристал к островку. Все трое вышли на берег. Льок стал рядом с женщиной и велел ей позвать дочь.
Мать крикнула ребенка. Никто не отозвался. Она повторила свой тихий зов, но ответа не было. Тусклые глаза колдуньи начали оживляться. Она выпрямилась, насколько позволяла старчески согнутая спина, и что-то бормотала.
— Кричи громче, — приказал женщине Льок. — Мои духи зовут вместе с тобой.
Мать закричала снова. Re крик, молящий и жалобный, словно повис над островком. Из-за дальних деревьев отозвалось эхо. Женщина вздрогнула, а Лисья Лапа развязала ремешок на лбу, и ее девять кос, гремя амулетами, упали на костлявые плечи.
— Слышишь? — торжествующе сказала она Льоку. — Духи леса смеются над твоими духами!
Но Льок вскочил на поросший мхом камень и крикнул сам:
— Иди к нам! Твоя мать зовет тебя!
И вот из глубины островка донесся чуть слышный голосок. Потом вдали раздвинулись кусты, и показалась девочка.
— Дочь моя, дочь! — Женщина бросилась к ребенку. Увидев девочку, колдунья пошатнулась.
— Обманщица! — крикнула ей счастливая мать. — Не ты ли говорила, что моя дочь погибла? Значит, твоя сила ушла от тебя?
Льок посадил в шаткий челнок мать и ребенка, вскочил сам и оттолкнул лодку от берега. Колдунья осталась на островке.
У стойбища толпа женщин ожидала, чем кончится спор Лисьей Лапы с молодым колдуном.
Льок выпрыгнул из лодки с ребенком на руках. Высоко подняв девочку, он громко проговорил:
— Обманщица, сказавшая, что девочка умерла, осталась на островке у кровавого рта земли. Мои духи сказали: если она покинет его и войдет в стойбище — пропадет весь наш род!
Этим заклинанием Льок обрекал старуху на гибель. Теперь никто из жителей стойбища не посмел бы прийти ей на помощь.
В память своей победы над колдуньей Льок высек на Священной скале старуху с пышным лисьим хвостом. Тут же рядом он выбил другой рисунок — мужчина с заячьей головой ведет за руку ребенка. Заячью голову он изобразил, чтобы всем было понятно, кто спас девочку; Льоком — маленьким зайцем — назвала его мать, когда он родился.
Глава 9
С незапамятных времен каждой весной в Сорокскую губу приходят громадные косяки сельди. Они собираются где-то в просторах Ледовитого океана и, пройдя узкую горловину Белого моря, плывут много дней, чтобы войти в залив и нереститься на мелководье побережья.
На всем длинном пути за косяком неотступно следует множество морских животных, птиц и рыб. Врезываясь в косяк, киты, белухи, моржи и тюлени заглатывают медленно движущуюся рыбу. Морские птицы, тучей носясь над косяком, то и дело ныряют с лету и вновь взмывают вверх с серебристой рыбкой в клюве. С глубины за лакомой пищей поднимаются хищные рыбы, среди них и проворная семга, провожающая косяк до самого места нереста, где сельдь так густо облепляет дно прибрежья своей икрой, что вода мутнеет от политых на икринки молок. Здесь отъевшаяся семга покидает сельдь, не выносящую пресной воды, и входит в устье полноводной реки Выг, чтобы нереститься в ее верховьях, у озера, из которого река берет начало. Там, в тихих заводях, среди десятков островков Выгозера, подрастает ее молодь, чтобы затем спуститься в море и через много времени вернуться обратно для нереста.
Семгу не останавливают никакие препятствия, даже гранитная гряда порога Шойрукши, двумя островками перегораживающая течение реки. Стиснутая здесь в узком пространстве, вода кипит и ревет, дробясь о скалы летом и зимой. Мороз не в силах сковать поток, разбивающий в щепы даже бревна.
Для людей стойбища ход семги был важным событием. Промысел на нее был легкий, а добыча большая. Заготовленное впрок вяленое мясо этой рыбы кормило стойбище в зимнюю пору; в свежем виде, розовое и жирное, оно было любимым лакомством.
Вот почему каждый год в селении с нетерпением ждали этого времени. Еще задолго до того, как в реке показывались первые рыбы, на Священную скалу выходили мудрые старухи призывать семгу заклинаниями. Но священное место было осквернено Льоком, а Лисья Лапа погибла. У ее помощницы, избранной Главной колдуньей, не было ни мудрости, ни хитрости Лисьей Лапы. Растерялась ли она оттого, что теперь неоткуда призывать семгу, или хотела отомстить молодому колдуну за смерть Хозяйки стойбища, только она объявила, что этой весной по вине Льока семга не придет к порогу Шойрукши.
Предсказание старухи испугало женщин стойбища.
Еще свежи были в их памяти страшные дни предвесеннего голода, и, хотя все сейчас были сыты, одна мысль о том, что не будет привычного промысла, приводила их в отчаяние, им казалось, что голод снова подкрадывается к селению.
— Чем будем жить? — кричали они. — Погибнем из-за колдуна! Горе нашим детям!
Возвращаясь из леса в землянку, Льок услышал гул голосов, доносившихся сперва издали, потом все ближе и ближе. Он притаился за деревом и увидел, как толпа женщин, что-то кричащих и размахивающих руками, бежит от стойбища к его жилищу. Не смея подойти к жилью колдуна, они остановились поодаль, грозя кулаками и швыряя в землянку камни и палки, громче всех кричала стоявшая впереди новая Главная колдунья. Из ее выкриков Льок понял, в чем его обвиняют.
«Никак не могут угомониться эти глупые старухи, которых называют мудрыми!» — подумал Льок.
Он достал из мешочка, висевшего у пояса, кусок охры, раскрасил лицо и ладони, и незаметно подкравшись сзади замешался в толпе. Одна из женщин неожиданно увидела шевелящиеся раскрашенные пальцы и страшное лицо неведомо откуда взявшегося колдуна и с визгом метнулась в сторону. Тут его заметили и остальные женщины, с воплями бросились они врассыпную.
Льок только собрался направиться к своей землянке, как увидел приближавшегося к нему Кремня. Главный охотник, узнав о предсказании колдуньи, встревожился. В другое время он не стал бы слушать вздорной женской болтовни, но промысел семги был слишком важным для стойбища, да и говорила об этом не простая старуха, а Главная колдунья.
Кремень подошел к Льоку и, сумрачно глядя на его раскрашенное лицо, сказал:
— Старшая мудрая говорит, что из-за тебя в этом году не будет семги. Что скажешь?
— Главную колдунью оставил разум. Семга придет, как приходила каждую весну.
Осмелевшие женщины понемногу стали собираться снова. Подошла и Главная колдунья.
— Он лжет! — крикнула она. — Семга боится горбатого Роко на Священной скале. Друга охотников слушаются звери, а рыбам он не хозяин.
Женщины опять запричитали, а Кремень нахмурился — может, старуха говорит правду, ведь путь семги лежит мимо скалы.
— Мои духи — верные друзья нашего стойбища, — торжественно проговорил Льок. — Они не допустят несчастья, которое хотят наслать духи Старшей мудрой.
Несколько дней волновалось стойбище. Охотники больше верили Льоку, женщины — Главной колдунье, и спорам не было конца. В ожидании время тянется медленно, скоро всем стало казаться, что пора бы уже начаться лову, а семга все не шла… Главная колдунья ходила торжествующая, молодой колдун забеспокоился: «А вдруг семга не появится, и сородичи поверят старухе?»
Как-то вечером он вышел из землянки и направился в сторону взморья.
В лесу, нагретом за длинным жаркий день, было тепло и душно от густого запаха свежей хвои, растопленной смолы, пряно пахнущей листвы, прошлогодней — гниющей на земле, и свежей — ярко-зеленой, пышно распустившейся на деревьях. В прозрачном сумраке белой ночи жизнь не утихала: на ветках и в кустах возились птицы, под прелой листвой шуршали какие-то ночные зверушки. На севере в это время лес не спит.
Но вот деревья поредели, и с моря дохнуло солоноватой прохладой. Вскоре перед Льоком развернулась гладь бухты.
Направо и налево тянулся каменистый берег, зигзагами уходящий в синеющую даль. На горизонте блеснул багровый краешек, потом выкатился шар солнца, сперва красный, а затем ослепительно золотой, от него к Льоку потянулась искрящаяся огоньками дорожка. Начался прилив, усилился шум набегавших на берег волн. Зубчатый берег опоясался белой каймой пены.
Льок не спускал глаз с залитой солнцем бухты. Воздух над ней был пустынным. Юноша постоял, выжидая, потом медленно пошел назад. Перед тем как войти в лес, он обернулся и радостно вскрикнул. Вдали в ясном небе будто замелькали хлопья снега — это летели чайки.
Сородичи Льока не добывали сельди — у них не было сетей, они не задумывались, почему каждый год после появления в бухте множества чаек к порогу Шойрукши приходит семга, кормившаяся сельдью. Они просто знали, что это так.
Теперь Льок был спокоен. Вернувшись, он нарочно прошелся по всему стойбищу и всем, кто ему встречался, говорил одно и то же: — Мои духи борются с духами Главной колдуньи, отгоняющими семгу. Как только мои духи победят, семга заплещется у островка.
Глупая старуха думала поссорить Льока со стойбищем, но вышло так, что не Льок, а ее духи оказались врагами селения. Когда ей рассказали о словах колдуна, ее по-старчески выцветшие глаза испуганно заморгали. Только сейчас она поняла, что натворила: появится семга — люди скажут, что Льок защитник сородичей, не будет семги — ее духи окажутся виноватыми.
Беда, нависшая над головой старухи, не заставила себя ждать.
Как-то на рассвете две большие семги выбросились на скалистый берег у самого порога. То сворачиваясь в кольцо, то расправляясь и с силой отталкиваясь хвостом от земли, они передвигались прыжками, огибая по скалам непреодолимые быстрины Шойкурши.
Подростки, высланные Главным охотником подкарауливать приход семги, затаив дыхание, следили, как, обдирая бока об острые камни, рыбы перебирались через гряду скал. Вот они ударили хвостами в последний раз и, подпрыгнув, ушли в тихую воду выше порога. Подростки могли бы схватить их руками, но, пока семга на берегу, к ней нельзя прикасаться. Старики говорили, что это не рыба скачет по суше, а ее хозяева, духи, поэтому к ним даже подходить близко считалось опасным. Ловить семгу можно было только в воде. За первыми двумя семгами показались третья, четвертая…
Подростки стремглав бросились в стойбище.
— Скачут! Скачут! — кричали они во все горло.
Голова колдуньи поникла, спина сгорбилась еще больше. Теперь беду не отогнать никакими заклинаниями! Но то, что было несчастьем для старухи, было радостью для людей стойбища. Начался лов, долгожданный лов, о котором столько грезилось в мучительные недели голодовки… Семгу ловили с плотов. Пока один из ловцов отталкивался шестом, чтобы плот медленно двигался против течения, двое других били рыбу. Подцепив гарпуном, вытаскивали добычу на плот, глушили и перебрасывали на берег. Подростки подхватывали одну рыбину за другой, складывали в плетеные корзины и волокли тяжелую ношу к женщинам. Женщины вспарывали рыбье брюхо, собирали в большие горшки икру и молоки и, распластав семгу, развешивали рыбу на жердях, чтобы она провялилась в дыму разведенных тут же костров.
Утром четвертого дня рыба пошла реже, а на пятый только чешуя, блестевшая на камнях по берегу, напоминала о семгах-путешественницах.
В очаге каждой землянки ярко пылал огонь. Стойбище праздновало двойной праздник — окончание удачного промысла и переход мужчин в охотничий лагерь, где они должны были жить до осени, пока не кончатся месяцы охоты.
Ели и веселились всю ночь, а с восходом солнца охотники покинули землянки и направились в лес, к лагерю, обнесенному высокой изгородью.
Пока длился лов, некогда было думать о Главной колдунье и ее злополучном предсказании. Старуха просидела эти дни в своей землянке, не смея показаться на глаза сородичам. Она знала, какая судьба ждет ее.
Проводив охотников до опушки, женщины собрались у жилища старухи. Колдунья медленно вышла из землянки, у входа она остановилась, обернулась лицом к очагу, который больше никогда не будет ее греть, и шагнула за полог. На ее девяти косицах уже не болтались священные изображения, в руках не было заветного посоха из рябины — дерева колдуний.
Спокойная, словно ничем не опечаленная, она поклонилась жалостливо смотревшим на нее женщинам — их она тоже больше не увидит — и неторопливо пошла прочь из селения, сопровождаемая несколькими старухами. Не говоря ни слова, не оглядываясь, она шла все вперед и вперед. Старухи понемногу отставали, только две из них, ее давние, еще девичьи, подруги, долго провожали ее в последний путь. Наконец и они повернули обратно к стойбищу.
Старуха осталась одна. Она должна была идти, не останавливаясь, все дальше и дальше на запад, пока силы ее не иссякнут и не подкосятся старые ноги. Так карал род колдунью, духи которой нанесли вред стойбищу. На этот раз беда миновала, но люди стойбища считали, что это заслуга молодого колдуна, вступившего в борьбу с ее духами.
Всю жизнь без раздумий выполнявшая обычаи становища, старуха и сейчас покорно подчинилась жестокому закону рода. Даже оставшись одна, она не посмела присесть отдохнуть и шла до тех пор, пока не споткнулась. Неподалеку от нее из земли выходил толстый корень ели. Старуха подползла к нему, положила поудобнее голову и больше не двигалась. Она терпеливо стала ждать смерти, все равно какой — от жажда и голода или от хищных зверей.
Глава 10
А следующий день после переселения охотников в лагерь к стойбищу подошел Бэй. Он остановился на пригородке, не доходя до крайних землянок, — в месяцы охоты никому из живущих в лагере не позволяется входить в селение. Приложив ладони ко рту, он выкрикивал одно имя за другим.
— Мэ-ку-у-у!.. Тибу-у!.. Зиу!.. — неслось по стойбищу.
Из землянок выскакивали юноши, чьи имена были только что названы, и с радостными лицами бежали к посланцу. Бэй кричал так громко, что его зов долетел и до одинокого жилища колдуна. Молодой колдун прислушался — брат выкрикивал имена его сверстников, но имени Льока не назвал. Все-таки Льок не утерпел и побежал к пригорку. Подходя, он услышал, как Бэй говорил собравшимся вокруг него юношам:
— Вам шестерым Главный охотник велит сегодня вечером прийти в лагерь.
Юношам не надо было спрашивать, зачем их призывает Кремень. Каждый год в эти дни происходил торжественный обряд посвящения в охотники, пришел и их черед. Они громко закричали от радости, а Зиу даже запрыгал на одной ноге, но тут же спохватился — не пристало прыгать по-мальчишески тому, кто станет сегодня охотником.
Льок стоял в сторонке и чувствовал себя еще более одиноким, чем тогда, когда впервые вошел в свое новое жилище. Хотя ему давно твердили, что он будет колдуном, он никогда по-настоящему не верил в это и вместе со своими сверстниками только и ждал, чтобы Главный охотник вручил ему лук и копье. Недаром он лучше других знал птичьи повадки и умел неслышно подкрадываться к дичи. Посвящение в охотники считалось самым значительным днем в жизни каждого, о нем мечтали с детства и вспоминали потом в старости. За что же его, Льока, лишают этой чести?
Когда взволнованные юноши разбежались по стойбищу, чтобы похвастать радостной новостью и подготовиться к ночному празднеству, Бэй подошел к брату, стоящему с опущенной головой. Он сам был настоящим охотником и сразу понял, о чем горюет Льок.
— Ничего, — сказал он, желая утешить брата. — Ведь ты помогаешь нам охотиться, когда просишь у духов, чтобы наша охота была удачной.
Льок только вздохнул.
— А как их будут посвящать? — спросил он, думая все о том же.
— Зачем ты спрашиваешь про то, чего тебе нельзя знать? — упрекнул его Бэй. — Разве я могу выдавать тебе тайны братьев-охотников? Ты же не можешь рассказать мне, как беседуешь с Роко.
Льоку хотелось крикнуть, что он ни разу не видел духов, но как признаться в этом даже любимому брату!
Братья еще немного постояли молча, потом Бэй вспомнил, что Кремень ждет его, и направился в сторону охотничьего лагеря, а Льок подошел к юношам, о чем-то горячо толковавшим посреди стойбища. Завидев колдуна, юноши умолкли, а насмешливый Мэку, с которым он еще мальчишкой постоянно дрался, сказал:
— Когда мы уйдем на охоту, смотри, старательней нянчи младенцев, не то старухи не будут кормить тебя!
Льок круто повернулся к своей землянке. Весь день он просидел там, но к вечеру не выдержал и потихоньку прокрался к лагерю.
Лагерь стоял на большой поляне, на которой не росло ни одного дерева. Стоило сосенке или елочке чуть подняться над землей, ее вырывали с корнями. Если позволить дереву подрасти, на него станут садиться птицы, чтобы подсматривать, что делается за высокой оградой. Они заметят, что охотники собираются на промысел, и разнесут весть об этом по всему лесу — звери спрячутся, и охотиться будет не на кого. Но чуть подальше лес стоял стеной, и как раз напротив входа в лагерь, возвышаясь верхушкой над всеми деревьями, темнела огромная ель. Для засады ель самое удобное дерево — спрятавшегося никто не заметит, а тот всегда найдет просвет в густых ветвях, чтобы высмотреть что надо. Но как ни пристраивался Льок на дереве, кроме отблеска больших костров он ничего не видел.
Торжество началось. Из-за ограды доносились глухие, однообразные удары колотушек о бубен, потом раздалось пение. Песни были незнакомые, многих слов Льок никогда раньше не слышал, все же ему было понятно, что охотники кого-то благодарили и что-то обещали. Потом наступила тишина и вдруг кто-то пронзительно закричал. Голос показался Льоку знакомым. Не успели вопли смолкнуть, как за оградой сердито запели короткую песню, затем ворота чуть-чуть приоткрылись, из них вылетел голый человек и шлепнулся на землю. Вслед за упавшим полетела малица… В щель высунулась голова Кремня.
— Твое место среди женщин и детей! — гневно прокричал Главный охотник. — Лепи с ними горшки, пока не научишься терпеть боль, как настоящий мужчина.
Плетеные ворота захлопнулись.
Голый подросток, всхлипывая, натягивал одежду. Теперь Льок узнал его. То был Мэку, который днем посмеялся над ним. Мэку и мальчишкой был трусом и хвастуном — храбрился и грозил, а начиналась драка — тотчас поднимал рев. Изгнанный оделся и понуро побрел к стойбищу.
«Со мной бы такого позора не случилось», — подумал Льок, и горькая обида снова сжала ему горло.
Но вот в лагере опять забили колотушками по бубну, так быстро и весело, что Льоку захотелось прыгать и плясать. Распахнулись ворота, и выбежали люди. Сначала Льок никого не мог узнать — лица у всех были закрыты, у одних полоской бересты, у других куском меха, однако, присмотревшись, он догадался, что впереди шел Кремень. Хотя его лицо было окутано шкурой, содранной с головы медведя, длинные могучие руки и широкие плечи выдавали Главного охотника. Он держал за руку низкорослого Тибу, совсем голого и окровавленного.
«Тибу молодец! — одобрительно подумал Льок. — Он ни разу не крикнул».
С другой стороны посвящаемого держал Бэй в берестяном колпаке, насаженном по самые плечи. За ними цепью шли другие посвящаемые и охотники. Приплясывая и что-то дружно выкрикивая, они побежали мимо ели, на которой сидел Льок, и скрылись в лесу.
Льок сполз с дерева и стал красться за охотниками, чтобы посмотреть, что будет дальше.
Охотники спустились в низинку к ручью. Из-за ствола толстого дерева Льок увидел, что посвящаемые вымазались жидкой глиной, смыли ее ключевой водой — Льока даже дрожь пробрала, когда он подумал, как им должно быть холодно, — и стали надевать новую одежду, которую им подавал Главный охотник. Одевшись, юноши выстроились в ряд перед Кремнем, и тот вручил каждому копье, дротик и лук. Льок чуть не заплакал от досады: неужели ему никогда не придется сжимать в руке древко копья! Но тут Главный охотник отдал какое-то приказание, посвященные вдруг припали к земле и бесшумно поползли, как ползут охотники, когда подбираются к зверю. Старшие осторожно ступали рядом, наклонив ухо к земле и прислушиваясь, достаточно ли ловко и тихо пробираются молодые по хвое и сухим веткам. Как на беду, они ползли в ту сторону, где притаился молодой колдун. Что делать? Льок понимал, что если его увидят сородичи, пощады ему не будет. Он отступил за другой ствол, и в это время под ногой у него громко треснула ветка. Люк повернулся и бросился бежать, стараясь скрываться за кустами и деревьями.
— Зверь! Зверь! — закричали сзади, и топот многих ног послышался за ним.
Мимо просвистело копье, пущенное наугад в сумраке ночи. Топот приближался, спасения не было. Тогда Льок надвинул малахай, скорчился, как только мог, медленно вышел на открытое место и, повернувшись к преследователям, погрозил поднятыми кулаками.
Топот утих, и в наступившей тишине раздался чей-то возглас, не то испуганный, не то радостный: — Роко!
Льок разжал ладони и взмахнул несколько раз руками, как бы приказывая не приближаться к нему. Охотники застыли на месте, потом послушно повернули назад.
Никогда еще Роко не показывался охотникам, и они сочли его появление счастливым предзнаменованием, — верно, в этом году будет очень хороший промысел.
Глава 11
Каждый год женщинам стойбища приходится лепить горшки. Как ни береги эти хрупкие сосуды, они все равно часто бьются. То обвалятся камни очага, и стоящий между ними горшок упадет и расколется, то неловкая девчонка, мешая варево, ударит по краю, то дети, расшалившись в тесной землянке, раздавят, разобьют на мелкие куски… Вот почему в тихий день у реки собрались женщины и девушки — почти в каждой землянке надо было обновить запас глиняной посуды.
Девушки натаскали кучу желтой глины, а женщины, более опытные в этом деле, уже подсыпали в нее крупного белого песку. На плоских валунах раздробили куски удивительного камня — асбеста, который не разбивается на осколки, а распадается на волокна, как прогнившая древесина. Эти волокна добавляли в глину, чтобы горшок после обжига сделался прочным и не растрескивался на огне. В глину налили воды, и три девушки, разувшись, принялись медленно вымешивать ногами вязкую массу.
Вскоре их шутки и смех поумолкли, пот начал катиться по лицам. Месить глину для сосудов — тяжелое и утомительное занятие.
Вдруг Искра обрадованно закричала:
— Смотрите, какого помощника нам ведут! Уж мы заставим его поработать!
Все оглянулись, и дружный смех зазвенел над рекой.
К ним приближалась немолодая уже женщина. Она пинками подгоняла упиравшегося, багрового от смущения подростка. Это мать, стыдясь всех встречных, вела незадачливого сына Мэку, которому Кремень в наказание приказал лепить наравне с женщинами горшки до тех пор, пока он не станет настоящим мужчиной, стойко переносящим боль. Девушки охотно предоставили тяжелую работу опозорившемуся юноше.
Не смея поднять глаз, Мэку угрюмо топтал глиняное тесто. А женщины, стараясь перещеголять друг друга, осыпали его насмешками.
— Мэку у нас оборотень, — сказала одна, — недавно как будто был мужчина, а сегодня превратился в женщину.
— Где твои дети, Мэку? — подхватила вторая. — Не забыл ли ты покормить их грудью?
Мэку только сопел, едва удерживаясь от слез. Женщины не унимались.
— Если когда-нибудь станешь охотником, — смеялась Ясная Зорька, — и увидишь в лесу страшного рогатого оленя, кричи погромче, я приду тебе на помощь.
Смешивая глину с песком, Мэку мысленно проклинал насмешниц и в сотый раз давал себе слово, что теперь он вытерпит какое угодно испытание, хоть режь его Кремень на куски, он не проронит и звука.
Смех и шутки женщин, словно ножом, резали сердце матери Мэку. Четырех сыновей вырастила она. Один погиб в неравной борьбе с медведем, два и сейчас ходят за добычей с охотниками, а вот этот, младший, таким стыдом покрыл ее седую голову. Со злостью отщипнула она кусок глины, размяла в пальцах и швырнула в сына.
— Меси получше, жалкий ублюдок, — прикрикнула она, — если ничего другого не умеешь!
Наконец глина, размятая ногами Мэку, заблестела на солнце, будто ее смазали китовым жиром.
— Можно начинать, — сказала Искра.
Женщины уселись полукругом. Каждая насыпала перед собой кучку песка и положила рядом большой кусок глиняного теста.
Началась лепка сосудов, только Мэку остался без дела. Но уйти без разрешения самой старшей женщины, которой подчинялась молодежь, он не осмеливался. Стараясь не обращать на себя ничьего внимания, он присел на корточки за спиной матери и через ее плечо стал наблюдать, как делают горшки.
Женщина отделила от куска глины небольшой комок, скатала его шаром и, то нажимая на глину большими пальцами, то оглаживая снаружи ладонями, вылепила остроконечное дно сосуда. Чтобы глина не приставала к пальцам и поверхность горшка была гладкой, она то и дело обмакивала руки в сосуд с водой. Донышко получилось похожим на острый конец яйца. Женщина поставила его в кучу мелкого песка и принялась наращивать стенки. Раскатав длинную глиняную полоску, мать Мэку стала налеплять ее ребром на край донышка. Глиняной полосы хватило на полтора круга. Новая полоса была крепко слеплена с кончиком старой. Еще один оборот, потом еще — стенки сосуда медленно росли, сначала расширяясь, потом чуть суживаясь. Мокрой ладонью мать Мэку беспрерывно проводила по сосуду снаружи и изнутри, сглаживая места соединения глиняных полос.
Юноша, забыв об обидах, с любопытством следил за работой.
Прежде он думал, что горшок лепят сразу из целого куска. Ведь детей, чтобы они не мешали матери, прогоняли подальше от места работы.
Когда мать Мэку решила, что стенки достаточно высоки, она слегка отогнула и примяла бортик. Затем взяла острую костяную палочку и начала покрывать горшок узором. Она делала в мягкой глине три ямочки, потом проводила зубчатую полоску, потом опять три ямочки, потом опять полоску.
Мэку насмешливо фыркнул.
— Я бы лучше сделал, — сказал он хвастливо. Мать стремительно обернулась:
— Ты здесь еще, несчастный ублюдок!
Женщины обрадовались поводу, чтобы немного передохнуть. Снова раздались насмешки, а Ясная Зорька швырнула в Мэку комком глины. Комок расплющился и прилип к его лбу. Сорока не отстала от подружки, и метко пущенный ею глиняный шарик попал в переносицу юноши.
— Что тебе приказал Главный охотник? — строго спросила мать.
— Он сказал, — невнятно пролепетал Мэку, — лепи горшки.
— Вот и лепи!
Пришлось и Мэку взяться за лепку горшка. Пока он смотрел на работу женщин, это дело казалось ему пустяковым. Но теперь глина почему-то расползалась под его неумелыми пальцами в разные стороны, полосы не хотели скрепляться, выскальзывали из рук. В конце концов он все-таки слепил горшок, но это был такой кривобокий урод, что женщины хохотали до слез, а Искра схватила это убогое изделие Мэку и нахлобучила ему на голову. Скверное дело, если глина облепит волосы. Мэку поплелся к реке и долго отмывал голову, присев на прибрежный камень.
Когда он, едва не плача, вернулся к месту работы, чуть подсушенные ветром горшки уже стояли на раскаленных углях. За кострами внимательно следили — огонь вначале не должен быть слишком сильным, иначе глина оплывет. Хворост подбрасывали постепенно, стараясь, чтобы огонь был ровным и сосуды прокаливались одинаково со всех сторон. После равномерного крепкого обжига сосуд не треснет на огне очага и не пропустит воду. Это важное дело поручали только пожилым и опытным женщинам. Молодежь притихла, внимательно слушая пояснения старшей — придет время и кому-нибудь из них придется учить этому мастерству своих внучек и молодых племянниц…
До самого вечера пылали огни над рекой. Слышалось тихое пение — это старшая из женщин заклинала новые сосуды, чтобы они не были хрупкими, не бились и, главное, чтобы вкусная еда всегда наполняла их до краев.
О Мэку все забыли. Он потихоньку отошел в сторону и, забившись в расщелину скалы, изо всех сил щипал себе грудь, ноги, руки. До нового посвящения юношей в охотники оставался почти целый год. Мэку твердо решил, что за это время он приучит себя безмолвно переносить любую боль. Он будет смел и вынослив и выдержит самое страшное испытание.
Глава 12
Вскоре после посвящения юношей в охотники мужчины начали готовиться к морским промыслам на белуху или хотя бы на тюленя. Заветной мечтой было добыть кита, но такая большая удача выпадала, может быть, раз в десять лет.
Охотники сами мастерили снасти и промысловую одежду — рука женщины не должна была прикасаться ни к одному предмету, нужному во время лова.
С утра охотники отправились на берег моря, где у высохшего еще в древности рукава реки Выг хранились промысловые лодки стойбища. Еще рано было выходить на промысел, и мужчины занялись трудным и кропотливым делом — изготовлением новой лодки. Три года тому назад они выбрали большой дуб с прямым, толстым стволом. Каменными долотами стесали кору широким кольцом у корней. Не получая из земли питательных соков, дерево засохло. Листва уже не покрывала его ветви, летний зной и зимние морозы иссушили древесину дуба. Теперь она стала звонкой, как бубен колдуна. Значит, настало время валить дуб. Для этого очистили от земли корни и развели под ними костер. Огонь медленно лизал узловатые, еще влажные от почвы корни, обугливая и словно обгладывая их. Наконец, ломая сучья, дерево с треском повалилось на землю. Прошло много дней, пока люди пережгли его надвое, отделив гладкий ствол от верхней, переходящей в ветви, части. Охотники терпеливо обтесали концы толстого, в три обхвата, обрубка и принялись выжигать сердцевину. Калили камни на большом, разведенном поблизости костре и раскладывали их по стволу. Где каменными топорами, где теслами охотники отбивали обуглившийся слой еще несожженной древесины и затем снова раскладывали раскаленные камни вдоль обрубка. Долго трудились люди, пока огромный чурбан не превратился в неуклюжую ладью, тяжелую, но устойчивую на морской волне.
Остальные лодки надо было только починить. Сосновой смолой, растертой с мелким песком, замазывали трещины; вырыв под днищем глубокие ямы, разводили небольшие костры, сложенные из смолистых пней, чтобы прокоптить ладьи дымом, — жирная копоть, покрывающая борта и днища, не пропускала воды.
Охотники, оставшиеся в лагере, тоже не сидели сложа руки. До лютой боли в ладонях они мяли ремни, шили из кож морских животный непромокаемую обувь. Сейчас всем находилось дело. Работу начинали с восходом солнца и трудились дотемна.
Только Кремень почти не показывался на берегу. Он приходил изредка, чтобы посмотреть, все ли в порядке, коротко отдавал распоряжения и уходил снова. Он готовил орудия к промыслу — гарпуны, наконечники для копий, топоры. По стародавнему обычаю рода выделывать промысловые орудия мог только Главный охотник. Чтобы копье не отклонялось, летело в намеченную цель, нужен ровный, хорошо отделанный каменный наконечник. Костяной гарпун должен быть прямым и острым, Зазубрины с обеих сторон одинаковыми… У Кремня же кисть правой руки еще в молодости была изувечена медведем, сила в ней сохранилась большая, а ловкости не было. Пальцы его огрубели от старости, плохо гнулись, и сделанные им орудия с каждым годом становились все хуже и хуже. Когда охотники получали от Главного, взамен сломанных или потерянных, новые орудия, они лишь сокрушенно покачивали головой, но роптать не решались. Однако на этот раз молодой охотник Ау, взяв из рук Кремня новый костяной гарпун, долго рассматривал его со всех сторон, потом протянул обратно Главному охотнику и сказал:
— Разве таким гарпуном попадешь в зверя? Дай мне другой.
— Для тебя и этот хорош, — рассердился Кремень. — Бери, другого ты не получишь.
Делать было нечего, пришлось взять кривой гарпун. Между тем именно в этот лов решалась судьба Ау — каждый молодой охотник через пять лет после посвящения впервые получал право метать гарпун в морского зверя. Если испытуемого два раза постигала неудача, он был обречен всю жизнь оставаться простым гребцом и кому-то другому, более счастливому и ловкому, доставалась честь бить белух и тюленей.
Ау пошел к болоту и принялся метать гарпун в поросшую мхом кочку.
«Если рука приловчится, может, и этой кривой палкой удастся попасть в зверя», — утешал он себя.
Но напрасно он старался — из пяти раз гарпун попадал в цель не больше одного. И все-таки молодой охотник метал снова и снова, пока злость не охватила его. Он швырнул гарпун себе под ноги и присел в отчаянии на камень. Так его и застал Льок, возвращавшийся с дальнего лесного ручья, куда он ходил, чтобы пополнить запас охры. Увидев друга, Льок сразу понял, что с ним случилось что-то неладное. Ау ничего не ответил на расспросы Льока, только поднял валявшийся гарпун и показал молодому колдуну. Хотя Льок и не был охотником, но отличить хорошее оружие от плохого сумел бы в стойбище даже малый ребенок.
— Подожди меня тут, — сказал он и бегом бросился к своей землянке.
Кто-то из колдунов — предшественников Льока — любил коротать время над изготовлением орудий из кости. Еще в первые дни своего нового житья Льок нашел в берестяном коробе под колодой нож из ребра лося, несколько наконечников для стрел и большой, с острыми ровными зазубринами гарпун. Он никому не рассказал о своей находке, втайне он все еще надеялся, что когда-нибудь сам станет охотником. Но для такого друга, как Ау, ему ничего не было жаль: ведь это он предупредил его, когда Лисья Лапа хотела подсунуть околдованный кусок мяса! Льок схватил гарпун и побежал обратно.
Ау не мог оторвать глаз от прекрасного оружия, такого он еще никогда не видел. Нерешительно, словно не веря своему счастью, он взял его, размахнулся и пустил в ближайшую кочку. Гарпун вонзился в самую ее середину. Ау метнул в другую кочку, подальше, и острие снова мягко вошло в то место, куда он метил.
— Ты великий друг… ты великий друг! — повторял сияющий Ау, но тут же лицо его омрачилось.
Он протянул гарпун Льоку и сказал:
— Возьми назад. Кремень все равно отберет его. Обычай велит получать оружие только из рук Главного охотника.
Но Льок и об этом уже подумал. Он наклонился к самому уху Ау и тихо, чтобы не услышали ни зверь, ни птица, ни даже комар, что-то ему зашептал. Понемногу лицо молодого охотника прояснилось, под конец он радостно засмеялся.
— Так и сделаем, — уже громко сказал Льок, засовывая гарпун за ворот своей малицы.
Все было готово для выхода в море. Оставалось только выбрать благоприятное время. Морской промысел — самый опасный. На суше охотники чувствовали себя надежно, иное дело на море, где неуклюжая, неповоротливая ладья то взлетает на высокий гребень, то проваливается между двумя валами. Раненый разъяренный морж или белуха могут опрокинуть лодку, поднявшаяся буря может унести ее так далеко от берега, что людям никогда уже больше не вернуться к родному селению. Пока нога охотника не ступит на твердую землю, он не бывает спокоен за свою жизнь.
Поэтому, прежде чем пускаться в открытое море, надо было все предусмотреть. Из поколения в поколение в стойбище копились приметы. Старые охотники могли угадать, в нужную ли сторону подует завтра ветер, не таится ли в маленькой тучке на краю неба страшная буря. Такие приметы много раз спасали охотников от большой беды. Но были и другие приметы. Если когда-нибудь в новолуние охотников постигала неудача, то старики передавали детям и внукам, что в пору, когда месяц похож на изогнувшуюся для прыжка семгу, нельзя выходить на промысел. Надо было прислушиваться и к велениям духов, которые передавали свою волю через колдуна.
Сородичи ждали от Льока решительного слова. Молодой колдун растерялся. Он попробовал колдовать у себя в землянке и вызывать духов, но никто ему не показывался, никто не отвечал. Тогда Льок прибег к своему испытанному средству. Он выбил изображение белухи и кита, чтобы охотники сперва попытали удачи у Священной скалы. Но прежде чем назначить день, он подстерег на тропе у лагеря старого Нюка, который прожил очень много зим и много раз ходил на промысел. Он завел с ним разговор о погоде, о морской охоте и, выпытав у простодушного старика все, что ему было нужно, пошел к лагерю охотников. Вызвав Кремня, он сказал:
— Идите все к Священной скале колдовать на морского зверя! Подчиняясь зову колдуна, охотники собрались у порога Шойрукши, с любопытством рассматривая новые изображения.
Льок в своем колдовском наряде вышел вперед и заговорил нараспев:
— Духи велели выбить на скале тех, кого охотники увидят на море. Они сказали, что завтра пора выходить на промысел.
Все пошло по установленному Льоком обычаю. И белухи и кит на скале были большими, попадать в них было легко, и ни разу брошенная дубинка не пролетела мимо.
— Верно, будет богатая добыча! — радовались охотники. После окончания колдовской церемонии Льок, подняв руки, громко сказал:
— Слушайте, охотники! Вчера ко мне приходил горбатый Роко и принес подарок. Он велел его отдать тому, кто в эту весну впервые будет метать гарпун. Скажи, Главный охотник, как его имя?
Кремень нахмурился, он почуял что-то недоброе. Но как было разгадать хитрость молодого колдуна?
— Ay, — пробормотал он нехотя.
— Подойди сюда, Ау! — торжественно произнес Льок. — Стань рядом со мной и протяни руку к покровителю и другу охотников Роко.
Ау приблизился, и колдун положил ему гарпун на ладонь.
— Бери дар Друга охотников! — сказал он.
Охотники, позабыв, что они на священном островке, толпились вокруг Ау, шумя, как малолетки, и отталкивая друг друга, чтобы получше рассмотреть дар духов. Кремень побагровел от злости. Он сразу узнал этот гарпун. Когда-то, в дни юности, у него был друг, ставший потом колдуном. Он-то и выточил из твердого бивня моржа это орудие и собирался отдать его Кремню, но они поссорились, и гарпун, видно, остался лежать в землянке колдуна. Кремень уже давно забыл о нем, а теперь хитрый мальчишка уверил охотников, что это подарок Роко, и отдает его желторотому, который еще ни разу в жизни не метнул гарпуна.
— Никто не смеет нарушать обычай! — загремел голос Главного охотника. — Оружие получают только из моих рук.
Не помня себя от гнева, старик потянулся к гарпуну.
— Брось его в порог! — приказал он Ау.
Тот судорожно прижал оружие к груди. По толпе охотников пробежал ропот. Как можно загубить такой замечательный гарпун!
— Это же дар духов! — крикнул Льок. — Неужели ты хочешь навлечь на охотников их гнев?
Охотники одобрительно закивали головами. А старый Нюк шагнул к Кремню.
— Разве можно идущим в море противиться велению духов? Тебе ли, Главный охотник, менять их милость на гнев?
Кремень промолчал, ему пришлось уступить.
Скоро охотники разошлись. У скалы остались только Кремень и молодой колдун, как тогда, когда охотники впервые метали священную дубинку в изображение гуся.
Старик спросил:
— Это ты послал Роко в ночь посвящения молодых охотников?
— Я просил его, — ответил Льок.
— Почему он тогда не дал гарпун? Ты же говорил, это его подарок.
Не по-старчески живые глаза словно впились в лицо Льока.
«О чем он догадывается и чего не знает? — подумал юноша. — В то, что приходил Роко, он верит, о гарпуне же лучше с ним совсем не говорить».
Вместо ответа Льок спросил:
— Не говорил ли тебе Роко, что меня следует посвятить в охотники? Все колдуны у нас были старые, я один молодой, ноги у меня быстрые, руки сильные.
— Нет, — ответил Кремень. — Охотником ты быть не можешь, тебе нельзя знать наших тайн. Умрешь — все расскажешь зверям.
Старик бросил на юношу такой недобрый взгляд, что Льоку стало страшно.
Глава 13
Ночь перед выходом охотников в море прошла по-разному в стойбище и в лагере.
Едва закатилось солнце, Кремень велел всем охотникам лечь спать — зоркий глаз и меткая рука бывают только у хорошо отдохнувшего человека.
Зато женщины даже не ложились. Не слышно было ни обычной болтовни, ни криков детей, и все-таки в стойбище была напряженная суета. В пузырях, сделанных из желудка лося, дети таскали воду с реки, старухи, хозяйки стойбища, ведавшие припасами, раздавали женщинам сушеную рыбу и вяленые гусиные грудки. Надо было запасти побольше питья и еды. Кто знает, сколько пробудут охотники в море? А ведь все это время женщины и дети должны неподвижно и тихо пролежать в землянке, чтобы морские звери были тоже тихи и неподвижны и подпустили охотников на расстояние удара гарпуна. С первыми лучами солнца женщины, закончив свои приготовления, залезли в спальные мешки, крепко прижимая к себе ребятишек.
Тихий шепот слышался в землянках за опущенными на входное отверстие пологами — это матери перечисляли детям запреты, нарушить которые значило навлечь беду на охотников. Стойбище словно вымерло.
А в лагере начались сборы. Охотники сняли с себя всю одежду, затем тайком, будто прячась от врага, один за другим выскользнули за ограду. Поеживаясь от утренней прохлады, они шли по лесу совсем обнаженные, не смея даже отмахнуться от налетевшей на них тучи комаров.
По знаку Кремня, Бэй отделился от вереницы охотников и быстро побежал к землянке колдуна. Издали он бросил несколько камешков в опущенный полог. Льок тотчас же вышел. Увидев, что на Бэе нет одежды, Люк начал торопливо стаскивать с себя кухлянку. Но Бэй замахал на него руками — колдуну не полагалось особой одежды на морских промыслах. Люк кивнул головой, что понял. Говорить было нельзя — птицы и животные, насекомые и рыбы узнают о замысле людей, услышав человеческую речь. Пока не раздастся сказанное человеком слово, можно не бояться, что морские звери догадаются о готовящемся на них нападении.
Бэй привел брата на полянку, где их поджидали охотники. Все тронулись в путь. Хорошо было идти бором в тихое утро! Пахло хвоей, багульником, множеством расцветающих в эту пору трав. Уже высоко поднявшееся солнце щедро заливало лес такими жаркими лучами, что смола таяла, как на огне, и текла по стволам золотистой, долго не мутнеющей струйкой.
Впервые видел Льок на теле бывалых охотников белеющие рубцы от медвежьих когтей и темные следы от удара лосиного рога или укуса хищного зверя. Особенно много рубцов было на теле Кремня — видно, старик за свою долгую жизнь на раз схватывался один на один со зверем.
Льоку о многом хотелось спросить у Бэя или Ау, но, пока охотники не наденут промысловые одежды, нельзя проронить ни единого слова. Бесшумно, будто их подстерегал враг, крались они между кустами и деревьями, стараясь, чтобы под ногою не хрустнул сучок, не сдвинулся камешек.
Но вот дошли до отвесной стены гранитных скал. В одном месте скалы чуть расступились, и Кремень, велев Льоку подождать их, исчез в этой узкой расщелине. За ним проскользнули охотники. Сначала Льок присел под деревом, потом не утерпел и тихонько подполз к щели. Осторожно раздвинув кусты, прикрывавшие проход между скалами, он увидел небольшую поляну и на ней почерневшие от старости ели. На мохнатых ветвях висели берестяные короба. Под одной из елей, стоявшей немного в стороне, желтело могучее тело Кремня. Это дерево легко запоминалось по раздвоенной вершине — других таких здесь не было. Зажмуривши глаза, старик натягивал на себя охотничью одежду. Под другими деревьями одевались остальные охотники. Глаза их тоже были закрыты, губы шевелились, — видно, они шептали заклинания. Те, кто уже успел одеться, разрисовывали себе лица краской из глиняных горшков.
С завистью глядел Льок на своих сверстников, которые проделывали весь этот охотничий обряд наравне со старыми, испытанными охотниками. Если бы он не стал колдуном, он был бы вместе с ними, а сейчас ему только и остается, что украдкой подсматривать, да и то под угрозой страшного наказания. Льок пополз обратно и грустный уселся под деревом.
Вскоре один за другим стали возвращаться охотники в непромокаемой промысловой одежде из рыбьей кожи. Лица их были размалеваны охрой до неузнаваемости. Это была хитрая уловка, после промысла духи убитых животных начнут искать тех, кто пролил их кровь, но охотники смоют с лица краску, и духи не сумеют их признать.
Снова тронулись в путь. Теперь разрешалось перешептываться, и Льок услышал много незнакомых слов. Дернув Бэя за рукав, он отвел его в сторону и начал расспрашивать. Бэй объяснил, что «горой жира и мяса» охотники называют кита, «усатым стариком» — моржа, «пестрой мышью» — тюленя, а «белым червем» — белуху.
— Иначе нельзя! — важно сказал молодой охотник. — Услышав свое настоящее имя, звери поймут, что мы идем охотиться за ними, и уплывут далеко в море или опустятся на дно, где их не достанет никакой гарпун.
Скоро вышли к покрытой валунами старице, древнему руслу реки Выг. Между стволами сосен видно было, как совсем близко искрилась на солнце морская рябь. Тяжелые лодки стояли у старицы наготове. Охотники поволокли их к морю, подкладывая под днища заранее приготовленные катки из тонких стволов. Молодые охотники быстро притащили припрятанные в потайных местах вставные мачты, весла и паруса, сшитые из кусков кожи.
Радостное оживление сверстников передалось и Льоку, ему также захотелось вместе с ними сталкивать лодки в воду, ставить мачты. Он уже ухватился за борт ближайшей лодки, но Кремень грозным окриком остановил его.
— Не забывай, что ты колдун, а не охотник! Льок с досадой отошел в сторону.
Когда лодки наконец закачались у берега на легкой волне, охотники начали рассаживаться. Льок направился к лодке в которую прыгнул Ау, но тут снова раздался голос Главного охотника:
— Колдун поедет со мной!
Льоку пришлось сесть в ладью Кремня.
Бормоча заклинания об удаче, Кремень привязал на мачту поперечную жердь с прикрепленным к ней парусом. Парус надулся, ладья, как живая, вздрогнула и рванулась в море. Дул попутный ветер, и четырем гребцам, сидевшим на дне лодки, нечего было делать. Лишь один из них держал шест с прикрепленным к нему нижним краем паруса и, отклоняя его то в одну, то в другую сторону, направлял ладью туда, куда знаками показывал Кремень. Старик сидел на носу лодки, прижимаясь грудью к борту. Приставив ко лбу ладонь и жмурясь от мерцающей ряби, он зорко смотрел вдаль. Рядом, прикрытые куском оленьей шкуры, лежали метательный гарпун с кособоким, хотя и старательно отточенным наконечником, свернутый в большое кольцо длинный, тонкий ремень и привязанный к нему туго надутый воздухом пузырь из цельной шкуры тюленя.
Ладьи шли широким полукругом. Посредине плыла лодка Кремня, рядом, держась чуть позади, двигалась ладья, на носу которой сидел Ау.
Льок еще никогда не был в открытом море и не переставал радоваться, что попал вместе со всеми на промысел. Он сидел вблизи Кремня, прижимаясь спиною к мачте и любуясь то полоской видневшегося слева лесистого берега, то морем, красивым и тихим.
Изредка с криком проносились большие чайки, широко раскинув изогнутые крылья. Люди провожали их недовольным взглядом: чайка — этот непрошенный соглядатай — может все высмотреть и рассказать морским животным. Потому-то охотники так заботливо прикрывали промысловую снасть.
Маленькое облачко набежало на солнце, и слепившая глаза рябь потускнела. Вдруг Кремень весь напрягся и быстро сунул руку под оленью шкуру. Льок посмотрел туда, куда не отрываясь глядел Главный охотник, и увидел, как невдалеке блеснуло что-то ярко-белое, перекатилось по воде и исчезло в брызгах.
— Белый червь, — шептал Кремень, — белый червь! Вскоре белое пятно снова мелькнуло на воде. Животное приближалось к ним.
— Счастливы твои духи, — сказал Льоку один из гребцов. — Как скоро показалась нам добыча!
Лицо Кремня, искаженное гневом, круто повернулось к говорящему. Старик молча потряс кулаком — преждевременная похвальба могла отпугнуть добычу.
Началась утомительная охота. Надо было, не напугав белуху, подобраться к ней так близко, чтобы гарпун вонзился в ее упругое, налитое жиром тело. Зверь резвился, не замечая людей. Изогнувшись дугой, животное кувыркалось и перекатывалось на мелкой волне.
Прячась за бортами, гребцы осторожно подгребали к белухе.
Несколько раз белый бок животного мелькал совсем близко, но, вдруг нырнув, белуха показалась из воды уже далеко от лодки. Снова терпеливо подбирались охотники к беспечно игравшему зверю. Наконец лоснящееся на солнце длинное туловище появилось у борта лодки. Со свистом рассекая воздух, гарпун Кремня врезался в бок животного.
Белуха бешено закрутилась на месте, пытаясь освободиться от засевшего в тело острия.
Наступил самый напряженный и опасный момент охоты. Обезумевшее от боли животное билось с такой силой, что могло опрокинуть неповоротливую ладью. К счастью для промышленников, белуха то ныряла, то выпрыгивала на поверхность в стороне от лодки. Не отрываясь, следили охотники за метавшимся животным.
«Выбросится на берег или уйдет в море?» — думал каждый.
— В море, — со стоном выдохнул Кремень, — в море!
Нырнув в последний раз, белуха стремительно удалялась от берега. Все дальше и дальше мелькали среди волн ее порозовевшие от крови бока.
Промысел начался неудачей. Тут все вспомнили не вовремя сказанные слова гребца — похвастался добычей заранее, вот она и ускользнула! Рассвирепевший Кремень выпрямился во весь рост. Перешагнув через Льока, он с размаху ударил провинившегося гребца по голове с такой силой, что у того хлынула из носу кровь. Могла ли случиться беда, худшая, чем эта!
Сразу опомнившийся Кремень ссутулился и тяжело опустился на свое место. Провинившийся тщетно зажимал нос обеими ладонями. Кровь заливала его подбородок и грудь. С соседних лодок с ужасом смотрели на происшедшее. Не дожидаясь приказания Кремня, гребцы повернули лодку и направили ее к берегу. Пошли к берегу и остальные ладьи.
Кремень так и сидел, опустив голову и закрыв лицо волосатыми руками. Он не шевельнулся, пока дно лодки не заскрежетало о прибрежную гальку.
В первый же день промысла случилась такая большая беда! По вине одного из сородичей солнце увидело кровь другого сородича. На Кремня было жалко смотреть. Чувствуя, что его вине нет оправдания, Главный охотник потерял всю суровость и важность. Все сторонились и его и гребца — до свершения очистительного обряда оба считались нечистыми, никто не должен был к ним прикасаться.
Старый Нюк, который сейчас распоряжался вместо Кремня, велел Льоку отправиться на ночь подальше в лес и не возвращаться раньше рассвета. Непосвященный не должен быть свидетелем охотничьего обряда. Льоку стало обидно. Весь этот день он чувствовал себя таким же охотником, как другие, — так же нетерпеливо ждал, появится ли зверь, так же горевал, когда белуха ушла в море… С большой неохотой он углубился в лес. Ночь он провел у старицы, под сгнившей лодкой, которую уже невозможно было починить.
Когда утром Льок вернулся к охотникам, весь обряд очищения давно уже был закончен. Только от пяти дотлевающих костров, расположенных кругом, еще тянулась вдоль берега полоса дыма.
Охотники готовились к выезду. Кремень, хмурый и сосредоточенный, опять распоряжался, как всегда.
— Ты хорошо сделал, что пришел пораньше, — сказал он Льоку. — Не будем терять времени.
Вышли в море. Ветра не было, паруса обвисли, пришлось идти на веслах. Вначале гребла одна пара гребцов, затем, пока одна отдыхала, гребла другая. Кремень опять сидел на носу, зорко вглядываясь в даль. Хмурое утро перешло в такой же хмурый тихий день. Кремень неподвижно сидел на своем месте и с надеждой смотрел вперед. Но, сколько ни бороздили лодки гладкую поверхность залива, зверь не попадался навстречу. Лишь раз издали блеснула бьющая вверх струя воды — там плыл кит. Кремень и гребцы встрепенулись и повернули было лодку в ту сторону, но кит был слишком далеко, и вскоре совсем ушел из залива в море.
Уже к вечеру с трудом догребли усталые охотники до берега.
Развели костры, на этот раз не пять, а только четыре, и не кругом, а вдоль берега, один подле другого. Охотники нехотя пожевали сушеной гусятины и тотчас повалились спать поближе к дымившим кострам, чтобы не так мучили комары.
Третий день охоты был не лучше первых двух. Ау так и не пришлось взяться за свой гарпун. Охотники искоса поглядывали на Кремня. Видно, очистительный обряд не помог: слишком тяжкий проступок пролить кровь сородича! Зверь, должно быть, потому и ушел из бухты.
На совете охотников было решено всем вернуться в лагерь и через день выйти на промысел снова. Не жалея сил, поволокли тяжелые лодки к старице, как будто промысел был уже окончен. Пусть звери думают, что охотники ушли совсем, чтобы больше не возвращаться. В хранилище между скалами сняли промысловые одежды, глиной и водой смыли охру с лица и сумрачные вернулись в свой охотничий лагерь.
Едва начали укладываться спать, как за оградой послышался пронзительный старушечий голос, звавший Кремня. Главный охотник вышел и увидел, что это была новая Главная колдунья.
— Видно, на море удачи вам не было? — спросила старуха. Кремень рассердился — и тут ему не дают покоя! Он зло махнул рукой, повернувшись, чтобы идти назад.
— Постой, Главный охотник, — зашептала колдунья, — если и вправду не добыли зверя, я скажу тебе, кто виноват. В стойбище нарушен обычай…
И она рассказала, что два дня назад мальчонка, сын Искры, молодой женщины, в землянке которой живет Ау, когда кончаются Месяцы охоты, выбежал за полог. Не слушая испуганного зова матери, не смевшей двинуться с места, он все утро на зависть другим ребятишкам носился по стойбищу, забавляясь тем, что никто его не ловит.
Велев старухе созвать женщин с детьми к Священной скале, Кремень вернулся в лагерь.
— Идемте все к порогу Шойрукши, — пряча в бороду торжествующую усмешку, сказал он охотникам. — Вы узнаете, кто виновен, что зверь ушел из залива.
Скоро все собрались на двух островках у скалы. В светлом сумраке северной летней ночи лица и мужчин и женщин казались совсем белыми, а вода порога черной. Было очень тихо, никто не смел сказать ни слова. Тягостное предчувствие беды нависло над людьми.
Кремень знаком подозвал к себе Тибу и вполголоса что-то ему приказал. Посланный перешел на островок, где стояли женщины, и тотчас вернулся, ведя за руку Као. Мальчик с любопытством озирался кругом. Льок, стоявший на скале, заметил, как заволновался Ау, когда Тибу подвел ребенка к Главному охотнику. Ау метнулся было к скале, видно, хотел искать защиты у своего друга, колдуна, потом подбежал к старому Нюку и что-то горячо зашептал ему, но тот только покачал головой.
Из толпы женщин раздались рыдания Искры. Кремень поднял с земли и поднес к порогу Као, очень довольного, что его взял на руки сам Главный охотник.
Ау бросился навстречу, пытаясь преградить дорогу Кремню. Но старик, высоко подняв ребенка над головой, громко сказал:
— Он виноват и будет наказан. Как ты смеешь восставать против обычаев рода?!
Бэй схватил Ау за плечи и оттащил друга в сторону, — тому за ослушание на священном месте грозила такая же страшная кара.
Кремень спокойно подошел к самому краю скалы, держа в вытянутых руках испуганного мальчика. Все замерли. Даже рыдания Искры на миг прервались.
Стараясь перекричать рев воды, старик воскликнул:
— Возьми, Хозяин порога, ослушника, а нам пошли счастье на промысле!
Расправа с виновным была окончена. Молча потянулись охотники к своему лагерю. Позади всех брел Ау, пошатываясь от горя. Двинулись к стойбищу и женщины, крепко прижимая к себе испуганных ребятишек. Старухи силой увели молодую мать.
Глава 14
Снова у старого русла реки молча суетились люди. Одни волокли к морскому берегу тяжелые ладьи, подкатывая под них катки. Другие тащили из потайных мест мачты, весла и паруса, сшитые из нескольких кож. Со стороны казалось, будто охотники за этот год впервые выходили в море.
Какой бы морской зверь догадался, что это те самые люди, которые всего день назад бороздили морские воды! Тогда лица охотников были размалеваны совсем по-другому.
В это утро свежий ветер дул с юго-запада. На ладьях подняли паруса, и выйдя из Сорокской губы, поплыли вдоль морского берега на север. Лодки опять разошлись большим полукругом, вперед вырвались легкие челны, шедшие по бокам, в середине плыла ладья Главного охотника, позади — ладья Ау. Хотя Кремень казался, как всегда, невозмутимым, но от зоркого глаза Льока не укрылось, что старик сильно обеспокоен.
Пора морского промысла коротка. Если сейчас не запастись мясом и жиром морского зверя, еще задолго до весны стойбище начнет голодать. Старика тяготило также опасение, что его слава, слава не знающего неудач охотника, теперь поколеблена среди сородичей. В неудаче промысла первых дней он не виноват, но, чтобы вернуть былое доверие, ему следовало самому добыть крупного зверя.
В полдень ветер улегся, и поневоле гребцы взялись за тяжелые весла. Медленно двигались лодки по стихающим волнам.
Уже в четвертый раз сменились гребцы у весел, когда вдалеке на востоке среди волн вдруг забелели спины трех белух. Кремень даже прижался грудью к носу ладьи, словно этим можно было ускорить ее ход, а гребцы налегли, не щадя своих сил, на весла.
Ладья Главного охотника отделилась от полукруга лодок и стала приближаться к стаду спокойно игравших животных. Вырвалась вперед и вторая лодка. Старшим на ней был Ау. Напрягая все мышцы, словно готовясь к прыжку, он поднял свой гарпун.
Белухи по-прежнему перекатывались среди волн.
Обе лодки понеслись рядом, потом лодка Ау чуть выдвинулась вперед. Кремень заскрежетал зубами от ярости. О меткой руке и верном глазе молодого охотника уже давно говорили в стойбище, а теперь в руках у него такое замечательное оружие! Если он, Кремень, из-за кривобокого наконечника промахнется, а молодой попадет в зверя, позор ляжет на его старую голову.
Вот лодка Ау опередила ладью Главного охотника. Упираясь правым коленом в борт и слегка наклонившись вперед, Ау занес руку с гарпуном, готовясь послать его в налитую салом белую спину животного.
Не говоря ни слова, Кремень торопливо сделал знак гребцам своей лодки. Гребцы послушно задержали правые весла в воде и сильно загребли левыми. Лодка круто повернула, нос ее устремился наперерез ладье Ау. Гребцы той ладьи, увидев грозящую беду, попытались изменить ход лодки. Но было поздно, и лодки столкнулись. От неожиданного удара Ау пошатнулся, Кремень в это время быстро метнул свой гарпун. Однако сильный толчок лодки о лодку лишил его руку верности. Гарпун не вонзился в спину белухи, а только царапнул ее. Белуха нырнула в воду. Почуяв неладное, остальные белухи тоже стремительно скрылись под волнами.
Напрасно продолжали бороздить воду ладьи охотников. Морс оставалось пустынным. В этот день больше не встретился ни один зверь.
Перед вечером задул ветер. Срывая пену с гребней волн, налетел порыв, за ним другой, третий. Темная синева быстро наползла с моря. Начинался шторм. Ладьи охотников подхватило ветром и понесло к берегу. По счастью, ветер пригнал лодки в бухточку, где за мысом волны не так свирепо бились о камни.
Когда промокшие и усталые охотники сели вокруг разведенного костра, старый Нюк сказал:
— Гневаются на нас духи.
— Гневаются! — сказал гребец с лодки Главного охотника и искоса глянул на Кремня.
И другие охотники в упор посмотрели на старика, ожидая, что он скажет в свое оправдание. Но Кремень молчал. Что было ответить тому, кто дважды за этот промысел провинился перед сородичами?
Буря не утихала. Настала ночь, такая же ненастная, как вечер. Охотники помоложе стали укладываться спать. Двое из них, подогадливее, раньше других растянулись на земле, головами друг к другу. Остальные легли поперек, положив на этих хитрецов свои головы. Кому-кому, а тем стало тепло. Льок с завистью смотрел на молодых охотников. По обычаю колдуну полагалось спать отдельно от всех. Он отошел в сторону, подрыл вылезавшие из песка корни старой ели, натаскал в эту нору мха и залег туда, точно медведь в берлогу.
Старики остались сидеть у костра, подбрасывая хворост в огонь и то и дело уклоняясь от жалящих искр и клубов едкого дыма, мечущихся под порывами ветра. Они долго что-то обсуждали вполголоса и задремали только перед рассветом.
К утру ветер утих, и вздыбленные волны начали успокаиваться.
Разбудили спящих. По обычаю засыпали чуть тлеющий костер прибрежным песком. Неизвестно, где застанет охотников будущая ночь, поэтому нельзя оставить в пепле ни одной искры. Вдруг явится какой-нибудь чужеродный и заставит огонь их рода служить себе.
Когда Льок вылез из-под корней ели и, щурясь от солнца, подошел к охотникам, Кремень громко выкрикнул:
— Слушайте, сородичи! — потом, повернувшись в Льоку, спросил: — Скажи, колдун, велят ли твои духи дать морю сладкого мяса? Верно, без этого не будет нам удачи.
Льок не понял, о чем говорит Кремень.
«Сладкого мяса… Что же это такое? Может, и вправду, если дать морю сладкого мяса, оно пошлет добычу?..» — раздумывал он.
Льок хотел было раскрыть рот и ответить: «Да, велят», но, увидев тревогу на лицах своих братьев и Ау, понял, что ему грозит какая-то беда.
— Так что же говорят твои духи? — нетерпеливо спросил старик у молодого колдуна. — Почему бы не дать морю сладкого мяса?
— Подожди, духи еще не ответили мне, — сказал Льок.
И тут ему вспомнился давний рассказ матери о страшном духе, который живьем глотал людей и называл их «сладким мясом». Так вот что задумал старик!
— Нет! — медленно и громко сказал Льок. — Мои духи не велят давать морю сладкого мяса!
У Кремня перекосилось от злости лицо. Разгадав его замысел, Льок решил отомстить старику. Он поднял руку и заговорил снова:
— Мои духи сказали другое: «Мы сердиты на Кремня. Он любит себя больше, чем свой род. Мы не будем помогать ему. Пусть он уйдет! Пусть Главным охотником на море будет Ау. Ему мы пошлем большую добычу!»
— Меня ли ты смеешь изгонять?! — загремел Кремень, наступая на юношу.
Но старший брат Льока заслонил его собой.
— Разве ты можешь отменять волю духов? — крикнул он Главному охотнику. — Не от них ли зависит наша удача?
— Уж не забыл ли ты, Главный охотник, древний обычай? — с гневом заговорил старый Нюк. — Провинившийся перед родом должен отойти в сторону, пока духи не перестанут сердиться. Иди в селение и жди конца промысла! Так ли сказал я, сородичи?
— Да будет так! — разом ответили охотники.
Кремень опустил голову. Слова, повторенные всеми охотниками, становились приговором. Главный охотник подошел к гарпунам, сложенным на берегу, и взял свой гарпун. Полагалось отдать его тому, кто оставался главным на промысле. Но Кремень не смог сдержать себя, он не протянул Ау гарпун, а с такой силой бросил его о камень, что не только костяной наконечник разлетелся на куски, но переломилось пополам и крепкое древко. Потом, не глядя ни на кого, Кремень, сгорбленный и словно одряхлевший, нетвердой поступью медленно направился к лесу. Очень долгой была жизнь старика, но на его памяти никогда еще не изгоняли Главного охотника с промысла… Даже для самого младшего, только что посвященного, не было большего позора, как уход в дни промысла домой.
Охотники начали готовиться к выходу в море. Пока гребцы сталкивали тяжелые лодки в воду, Льок, заметив, что лицо Ау помрачнело, подошел к нему и тихонько спросил:
— Разве ты не рад, что стал Главным на промысле?
— Кремень никогда не забудет этого, он сумеет погубить меня.
— Скажи, Ау, — спросил Льок, — а меня он хотел сегодня погубить?
— Духи спасли тебя, — чуть слышным шепотом ответил Ау. — Прошлым летом так погиб старый колдун. Он долго боролся с волнами, наши лодки ушли далеко, а мы все еще слышали его крики. Но духи послали нам в тот день двух тюленей, — старики говорили, что их приманило «сладкое мясо»… А я думаю, мы и так бы убили этих тюленей.
Пора было садиться в ладьи. Ау, а вслед за ним и Льок прыгнули в лодку Главного охотника.
Буря нагнала к берегу множество мелкой рыбы, лакомой пищи китов. Едва только охотники выбрались из бухточки в море, они заметили вдали четыре серебристые струи, нет-нет да взлетавшие над поверхностью воды. Это были киты! Охотники не осмеливались даже мечтать о такой добыче. Их неуклюжим ладьям и при попутном ветре не догнать быстро плывущего кита. Но на этот раз счастье улыбнулось охотникам. Киты плыли к ладьям. Четыре горы жира и мяса приближались. Подойдут ли киты так близко, чтобы брошенный гарпун не пролетел мимо? Не скроются ли под водой, когда поравняются с ладьями? Каждый охотник молил духов подогнать китов поближе, и каждый страшился этого. Одно движение хвоста могучего зверя могло потопить их ладью, волна, поднятая огромным телом, могла перевернуть ее. Льок увидел, что справа неслось что-то огромное, черное, взметнулся громадный хвост, подняв целый столб пены и брызг, потом волна завилась широкой и глубокой воронкой — кит ушел под воду.
«Мимо!» — едва не выкрикнул Льок. «Мимо, мимо! — думали охотники. — Такая добыча потеряна! А сколько ям можно было бы набить жиром и мясом этого кита!»
Но люди ошиблись. Вблизи ладьи Ау опять забурлила вода, и среди кипящей пены и волн всплыла иссиня-черная, блестевшая на солнце спина морского великана. Ау метнул гарпун как раз в тот миг, когда это надо было сделать, — орудие не скользнуло по гладкой коже, а врезалось в спину кита с такой силой, что древко выскочило из втулки.
Привязанный к гарпуну длинный ремень, свернутый кольцами на дне лодки, повинуясь точному движению трех гребцов, вывалился за борт вместе с мешком из тюленьей кожи, туго надутым воздухом.
Счастье продолжало сопутствовать людям. Раненый кит с разгона пронесся мимо их ладьи. Он бил хвостом, вздымая высокие волны. Следуя за мечущимся зверем, далеко в стороне плясала по гребням надутая пузырем шкура.
Куда он понесется? Если в море, то прощай удача! Если на берег, то все люди стойбища будут сыты много-много десятков дней! Другим ладьям не повезло, киты пронеслись на расстоянии, недосягаемом для удара гарпуна. Все глядели туда, где бурлила и вспенивалась вода и перепрыгивал с волны на волну, то исчезая, то появляясь, заветный поплавок. Сперва кит шел большими кругами, и у людей захватывало дыхание всякий раз, когда он поворачивал в море. Но вдруг гора жира и мяса еще раз ударила хвостом, и чудовище понеслось прямиком к прибрежной отмели. Все лодки повернули за ним, люди, взмахивая веслами, кричали до хрипоты, не помня себя от радости. Радовались они не напрасно. Гора жира и мяса с размаху выбросилась на сушу.
Вскоре люди на четвереньках карабкались на гору жира и мяса, плясали на огромной спине кита, скользя на мокрой, гладкой коже, скатывались в мелкую воду и снова забирались наверх.
Много прошло времени, прежде чем охотники опомнились и со смехом стали оглядывать друг друга — одни были так мокры, что вода бежала с них ручьями, у других на лице и руках были царапины и синяки, третьи сорвали голос, докричавшись до хрипоты.
Не часто выпадает такое счастье! Теперь в стойбище долго будут помнить об этом событии и обо всем, что случилось в этом году, станут говорить: «Это было в тот год, когда Ау убил кита».
Люди стойбища считали себя сыновьями кита и в знак этого всегда нашивали на одежду кусочек китовой кожи. Они не смели притронуться к добытому с таким трудом вкусному жиру и мясу, пока не получат прощения у своего предка за то, что убили его.
С нетерпением ждали охотники наступления вечера, когда можно будет совершить обряд примирения с китом.
Едва солнце скрылось за лесом, охотники торопливо развели большой костер. Потом все улеглись на землю и, притворившись спящими, громко захрапели. От костра к неподвижной громаде кита поползло что-то черное. Это был молодой Зиу, совсем недавно посвященный в охотники. Спину его прикрывал кусок старой китовой кожи, который запасливые старики предусмотрительно захватили с собой на промысел. Зиу изображал кита. Навстречу ему выскочил Бэй с разрисованным, словно для охоты, лицом. Приплясывая, он стал колоть копьем плывущего по песку «кита». Острие копья оцарапало «киту» руку, и капли крови пролились на песок. «Кит» громко закричал. Тут спящие вскочили и набросились с кулаками на разрисованного охотника.
— Мы не дадим тебе обижать нашего друга кита! — кричали они изо всех сил, чтобы настоящий мертвый кит слышал их получше. — Вот тебе, вот тебе за обиду!
Сородичи так увлеклись, их кулаки работали так усердно, что Бэй поспешил упасть на землю, будто его уже забили до смерти. Тогда охотники ухватили Бэя за руки и ноги, поднесли к самой пасти кита и, раскачивая взад и вперед, громко закричали:
— Вот кто убил тебя. Съешь его за это! Нам не жаль! Злоключения Бэя на этом не кончились. Раскачав его еще сильнее, охотники бросили «мертвеца» в море. Хорошо, что в этом месте дно было песчаное, и Бэй не ушибся. Смыв с лица краску, он вылез на берег и побежал к костру сушиться.
Тем временем сородичи принялись за раненного Бэем «кита» — Зиу. Они также подхватили его за руки и ноги, втащили на гору жира и мяса, и, обмазав его китовым салом, положили на то место, куда вонзился гарпун Ау.
— Дух кита, входи скорее в свое живое тело! — уговаривал Нюк духа предка. — Выходи из этой мертвой горы жира и мяса! Мы спустим тебя в море! Мы пустим тебя в море! — подхватили охотники и швырнули Зиу прямо со спины кита подальше в волны.
Бедный Зиу барахтался на глубоком месте, а сородичи кричали:
— Мы твои друзья, не бойся нас, приходи к нам еще!
Теперь, когда дух предка, помирившись со своими детьми, вернулся в море, можно было приняться за разделку туши. Охотники засуетились вокруг горы жира и мяса, не заботясь о Зиу. Юноша, которому мешала плыть раненная копьем Бэя рука, еле выбрался на отмель.
Целую неделю убирали охотники мясо и жир кита в большие, глубокие ямы, стенки которых укрепили жердями, чтобы они не осыпались. Плотно уложенные куски мяса перекладывали пластами жира. Набив ямы доверху, их покрывали берестой, затем плоскими камнями и сверху засыпали землей. Так мясо скисало, но сгнить не могло. Оно делалось вонючим и горьким, но не было ядовитым. Зимой, в голодное время, люди будут есть остро пахнущие жирные волокна.
Вот наконец из-под толстого слоя жира и мяса показались громадные ребра кита. Они тоже нужны были в хозяйстве — не найти лучших, чем они, подпорок для землянки. Ребра были полукруглые и ровные; их тонкие загнутые концы скрепляли вместе, а толстые вкапывали в землю, они не прогнивали, как жерди, которые часто приходилось менять. В таком прочном жилище могло прожить несколько поколений.
Охотники были довольны. Десять ям — целых две руки пальцев! — глубиной в человеческий рост и шириной в человеческий рост были набиты пищей доверху. Зачем же еще бороздить море? Все были до тошноты сыты. Хотелось поскорее вернуться в селение, чтобы порадовать женщин счастливой вестью и добраться до землянки, где не мешают спать ветер и дождь, где не мучают комары, выгнанные дымом.
Вблизи от старательно заваленных ям охотники сложили столб из плоских камней, чтобы сразу найти это место зимой, когда все кругом заметет снегом. Потом сели в ладьи и пустились в обратный путь на юг, все время держась у берега. Иногда останавливаясь, складывали на мысках приметные знаки из камней и плыли дальше. На следующий день показались знакомые с детства скалы, и ладьи вошли в родную бухту.
Глава 15
Радостные, с ликующими криками подходили охотники к поляне перед стойбищем. Услышав их голоса, из землянок выбежали женщины и дети. Измученные долгим лежанием в темных жилищах ребятишки до одури носились на просторе, а женщины обступили охотников тесным кругом. Старухи, одобрительно кивая головами, слушали рассказ Нюка о десяти ямах, доверху набитых вкусным мясом. Молодые женщины и подростки засыпали охотников вопросами. Тибу, гордый тем, что в первый же его выход в море случилось такое важное событие, лег на землю и показывал ахавшим женщинам, как бил хвостом кит, чуть не потопивший лодку, в которой он сидел. Мэку жадно слушал, прячась за спинами женщин, чтобы охотники не заметили его и не подняли на смех. Девушки не сводили глаз с Ау, оказавшегося великим охотником, и сам Ау с гордостью поглядывал кругом. Но больше всех радовалась за молодого охотника Искра, сейчас она даже забыла о своем горе. Ау нашел ее глазами в толпе женщин и ласково улыбнулся.
На поляне не было только Кремня. До него, конечно, доносились радостные крики у стойбища, но старику, лучшему охотнику рода, было стыдно наравне с женщинами слушать похвальбу других охотников. Он сидел в самой большой землянке охотничьего лагеря, дожидаясь, когда вернутся мужчины.
Много, много лет прошло с тех пор, как Кремень стал Главным охотником. Он привык, чтобы его слушались с первого слова, привык, что любая удача на промысле считалась его удачей. И теперь невыносимо обидно было гордому старику узнать о том, какое счастье выпало молодому охотнику Ау в первый же день, как тот сел вместо него в ладью Главного.
Пока Ау рассказывал, старик, сдвинув седые брови, обдумывал, как заставить охотников снова поверить в его силу, как уничтожить мальчишку, чтобы он не становился на его дороге. Молча выслушав рассказ до конца, он приказал молодому охотнику:
— Принеси гарпун. Ты свое дело сделал, он тебе больше не нужен.
В приказании Кремня как будто не было ничего удивительного. Так бывало и раньше: если кому-нибудь на охоте или морском промысле приходилось на время заменять Главного охотника, ему передавалось оружие Главного, и потом он должен был возвратить это оружие назад. Но Кремень разбил свой гарпун о камень, и Ау растерялся. Потом он вспомнил о том кривобоком изделии, которым старик наделил его перед выходом в море, и принес его Главному охотнику.
— Не тот, — еле глянув на оружие, сказал Кремень. — Принеси гарпун, поразивший кита.
Ау побледнел, как белеет зимой земля.
— Тот гарпун подарили мне духи, — прошептал он осекшимся голосом, — как я отдам его?
— Я еще Главный охотник! — напомнил Кремень. — Ты не смеешь ослушаться меня.
— А может, ты разобьешь его, как разбил свой гарпун? — твердо ответил Ау. — Кто знает, какие мысли в твоей голове?
— Тебе нет до этого дела, ты должен слушаться! — угрожающе повторил старик.
— Нет, — решительно сказал Ау. — Какой охотник отдаст на гибель такое оружие?
На Кремня неодобрительно и настороженно смотрели десятки глаз. И ответ Ау всем был по душе — в самом деле, какой охотник отдаст на гибель такое превосходное оружие!
Наступило долгое молчание. Кремень как будто ждал, что юноша одумается. Но Ау не пошевельнулся, и старик заговорил:
— Обычай велит подчиняться Главному охотнику. Ты сидел один день на моем месте в ладье и думаешь, что теперь можешь не подчиняться? Но двух Главных не должно быть в стойбище. Это принесет несчастье роду. Пусть завтра у порога умершие предки — наши ушедшие старики — решат, кто из нас двоих Главный охотник!
Безопаснее попасть в лапы к медведю, чем пойти на единоборство с Кремнем. От медведя иногда можно уйти живым, а вырваться из крепких рук Главного охотника не удавалось еще никому. Но у молодого Ау не было выбора. Если он откажется прийти завтра к порогу, его назовут трусом и навсегда изгонят из стойбища. Да если б его и не ждало такое позорное наказание, он все равно принял бы вызов Кремня.
— Пусть будет, как ты говоришь, — глядя в глаза старику, хрипло проговорил Ау.
Едва замерло последнее слово молодого охотника, Бэй, сидевший недалеко от выхода, бесшумно поднял тяжелый полог и выскользнул из землянки.
Льок снова сидел в уединенном жилище колдуна. Вот и кончились радостные, хотя и тревожные дни, когда он был почти совсем как охотник. Теперь ему стало еще тяжелее жить в стороне от всех. Пусть хоть веселый огонь будет ему товарищем! Льок нетерпеливо тер палкой о зажигательную доску, но дерево отсырело, крошилось, и дымок долго не появлялся из-под острия палочки.
За пологом вдруг раздался зов Бэя.
— Подожди, — крикнул Льок. — Сейчас разожгу очаг.
— Потом разожжешь, выходи скорее!
Голос брата был так тревожен, что Льок сейчас же выбежал к нему.
— Большая беда случилась!.. Что делать?.. — срывающимся голосом начал Бэй и рассказал обо всем, что произошло в лагере.
Льок испугался не меньше брата.
— Что делать?! — повторил он. — Старик задавит Ау.
— Но Ау не может отказаться! — крикнул Бэй в отчаянии и вдруг схватил Льока за руку. — Послушай, брат, ведь гарпун — дар Роко. Верно, Друг охотников не знает, что замыслил Кремень. Ты расскажи ему, он тогда вступится за Ау…
Льок задумчиво покачал головой:
— Не знаю, может ли Роко или… Но ты хорошо сделал, что сейчас же прибежал ко мне. А теперь иди назад, пока не заметили твоей отлучки. Я подумаю.
— Ты хитроумный, ты придумаешь! — воскликнул Бэй и, повеселев, пошел к лагерю.
Льок долго просидел на камне перед землянкой, пока придумал, что делать. Но для его замысла прежде всего нужна была свежая, не свернувшаяся кровь. Где достать ее? Идти в лес и выследить оленя? Долго, да и найдешь ли его? Порезать себе руку? Для друга не жаль, но крови надо много. И вдруг Льок вскочил с камня — хорошая мысль пришла ему в голову.
Почти бегом добрался он до неглубокого озерка, спрятавшегося в густых зарослях колючего кустарника. В этом озере матери не позволяли детям купаться, но Льок когда-то мальчишкой все-таки попробовал поплескаться в нагретой солнцем воде у берега и навек закаялся. С тех пор он и близко не подходил к озеру, а если вспоминал, то холодные мурашки кололи ему спину.
Но сейчас Льок снял липты и решительно вошел по колени в мутную воду. Что-то холодное прикоснулось к одной ноге, потом защекотало другую ногу, затем еще и еще. Льок морщился, но терпел.
И, только когда почувствовал, что кожу на ногах покалывает во многих местах, он осторожно вышел на берег. От ступней до самых колен чернели присосавшиеся пиявки. Льок отодрал от ближайшего дерева кусок бересты, смастерил что-то вроде кузовка и стал терпеливо дожидаться, пока холодные, скользкие твари насосутся его крови и отвалятся. Раздувшиеся, теперь уже не черные, а темно-багровые, сытые пиявки одна за другой падали в подставленный кузовок. У молодого колдуна слегка кружилась голова, хотелось прилечь, словно после утомительной работы, но время не терпело. Ночь уже надвигалась на лес. Быстрыми шагами направился Льок к знакомому месту, где между скалами хранились промысловые одежды охотников. Проскользнув в расщелину, он вышел на полянку и сразу нашел приметную ель с раздвоенной вершиной. Не знал Главный охотник, что наступает час его гибели…
На рассвете в одной из землянок на краю селения проснулся подросток от странных, тревожных звуков, разносившихся по стойбищу. Он выглянул за полог и, отпрянув назад, стал расталкивать мать. Та выбежала из землянки и увидела, что вблизи сидит колдун, раскачивается, разводит руками и заунывным голосом сзывает сородичей. Женщина сбегала к соседке, ребятишки подняли других женщин, и скоро позади колдуна собралась целая толпа. Заглянуть в лицо колдуну никто не решался, все понимали, что он говорит с духами, а кто же посмеет стать между колдуном и теми, с кем он беседует?
Льок долго бормотал что-то непонятное, потом, обернувшись с закрытыми глазами к женщинам, сказал:
— Скорее зовите охотников! Беда близко. Перепуганные женщины послали в лагерь подростков. Когда все собрались, колдун, по-прежнему не открывая глаз, быстро заговорил:
— Вижу много зверя в лесу, много птицы на скалах, много рыбы в реке… Духи сулят удачу роду, но рядом стоит беда!
Льок опять забормотал что-то непонятное, потом вскочил, широко открыл глаза, словно увидел что-то ужасное, и обеими руками стал от кого-то отмахиваться.
— Кровавый Хоро? Ты пришел к нам?
Люди отпрянули от колдуна — страшнее Кровавого Хоро не было никого на свете! Когда он приходил, вымирали целые селения. Кожа покрывалась черными пятнами, и люди гибли, как мухи осенью. Из всех духов один Хоро являлся к людям в человеческом образе и в человеческой одежде. Иногда он даже подолгу жил в каком-нибудь стойбище, и никто не догадывался, что это не человек, а злой дух, пока кровь загубленных им жертв не выступала пятнами на его одежде.
— Вижу, вижу страшного Хоро! — опять заголосил колдун. — Он хочет пожрать всех мужчин, всех женщин, всех детей! Но Друг охотников сильнее его, помоги нам, Роко! Скажи, что делать!
Льок замолчал, словно к чему-то прислушиваясь, потом поднял обе руки, как делают колдуны, передавая сородичам волю духов.
— Роко сейчас сказал мне: «Пусть охотники наденут промысловые одежды, и я покажу им Кровавого Хоро».
Не заходя в лагерь, прямо с поляны у стойбища, охотники пошли к хранилищу между скал. Кремень, угрюмый еще более обычного, тяжело ступал впереди, сейчас воля колдуна была сильнее его. У хранилища Льока оставили одного, а сами гуськом вошли в расщелину, чтобы надеть охотничью одежду.
Томительно долго тянулось для Льока время. Законы рода священны, никто не смеет их нарушать. Не посвященный в охотники не должен входить в хранилище промысловых одежд — ослушнику грозит смерть. Какую же лютую казнь заслуживает тот, кто осквернит охотничью одежду, кто решится на обман сородичей?! А он, Льок, это сделал…
Сначала в хранилище было тихо, потом кто-то вскрикнул, и крик этот подхватили многие голоса. Вскоре мимо Льока, не замечая его, пробежали охотники. Руки у многих были окровавлены. Среди бежавших не было одного Кремня. Ау был спасен!
Вскоре все стойбище узнало о случившемся. Охотники, по обычаю зажмурив глаза и шепча положенные заклинания, переодевались в охотничьи одежды. Проворный Тибу оделся раньше других, он открыл глаза и увидел стоявшего под елью с раздвоенной вершиной Кровавого Хоро. Хоро был совсем как Кремень, но одежда его была покрыта кровавыми пятнами. Тибу закричал…
Теперь охотники наперебой хвастались перед женщинами, как они расправились с Кровавым Хоро и спасли стойбище от страшной беды.
Одного не могли понять ни охотники, ни женщины — куда делся старый Кремень и почему Кровавый Хоро был так похож на Главного охотника?
К толпе подошел молодой колдун, и когда его спросили об этом, он ответил:
— Духи сказали мне: «Кровавый Хоро похитил Кремня. Он принял его образ и стал жить среди нас».
Сородичи поверил молодому колдуну. Начались толки о том, с какого же времени страшный Хоро мог поселиться в стойбище. Пролил кровь сородича в ладье на промысле, конечно, не Кремень, а Кровавый Хоро, он хотел разгневать духов моря и обречь людей на голод. Кто-то из женщин сказал, что никогда человек не бросил бы ребенка в поток, это мог сделать только злой дух! Старухи говорили: «Хоро принял образ Главного охотника очень давно, вот они постарели и потеряли силу, а Кремень совсем не дряхлел, значит, он не был человеком!» Охотники наперебой вспоминали, как Кремень, не жалея их, посылал на промысел в мороз и бурю, как за малейшее ослушание грозил раздавить непокорного своими страшными руками. Не может быть такой силы у человека! «Конечно, это Кровавый Хоро — враг всех людей — принял облик Главного охотника», — уверяли друг друга жители стойбища.
Все были рады, что так счастливо избавились от заклятого врага. Хотя тяжелый камень лежал на сердце Льока, радовался и он. Все-таки ему удалось спасти своего друга от неминуемой гибели.
Глава 16
Очень тревожной была эта ночь для людей селения. Охотники убили старого Кремня, в которого вселился Кровавый Хоро, но кто может погубить злого духа? Хоро и теперь, верно, бродит где-то совсем близко около стойбища. Чтобы помешать страшному духу проникнуть в селение, колдуньи от заката до восхода солнца жгли костры из можжевельника. Языки пламени, бледные в полусумраке белой ночи, опоясывали поляну, где темнели бугры жилищ. Прижатый к земле ночной сыростью, дым синеватой пеленой стлался над землянками, разнося по лесу отгоняющий злых духов сладковатый запах горящих можжевеловых веток.
Старухи колдуньи с размалеванными лицами сами были похожи на духов. Они без устали расхаживали от костра к костру, ударяя костяной колотушкой по коже, натянутой на рябиновый обруч. От гулкой дроби бубнов жителям стойбища становилось еще страшней.
— Бе-да! Бе-да! Бе-да! — слышалось всем в этих тревожных звуках. — Беда близко… Бойтесь беды!
Никто не решался заснуть в эту ночь. Злому духу легче погубить спящего, и потому матери безжалостно тормошили детей, не давая им задремать. Дети терли слипавшиеся глаза и громко плакали.
Из-за высокой ограды охотничьего лагеря до стойбища через лес неслись раскаты боевых песен. Нестройный гул бубнов, детского плача, заклинаний старух, низких басистых голосов охотников поднимался над окутанным дымом селением.
Кремень столько лет ревниво оберегал свою власть и так жестоко расправлялся с непокорными, что после гибели старика никто не помышлял о том, чтобы стать на его место. Многих удерживал страх перед Кровавым Хоро. Месть злого духа прежде всего обратится на того, кто заменит Кремня.
Но стойбищу нужен был вожак, и охотники решили на совете: пусть духи колдуна укажут, кому быть Главным. К восходу солнца Льок должен был передать их веление.
Из стойбища до уединенной землянки колдуна долетали тревожная дробь бубнов и завывание колдуний, а из охотничьего лагеря доносились обрывки боевых песен.
Для такого важного события колдуну нужно было облачиться в полный колдовской наряд — малицу, покрытую мехом рыси, квадратную шапку и нагрудник из китовой кожи. Чтобы надеть этот нагрудник, Льоку пришлось снять с шеи семь ремешков, на концах которых висели вырезанные из дерева и кости изображения животных и человека. Тут он заметил, что не хватает самого важного амулета — оберега, фигурки человечка. Льок переворошил всю землянку, но так и не нашел его. Где он мог потеряться? Ремешки были длинные, и фигурки-покровители, брякая одна о другую, мешали Льоку, а снимать их не полагалось ни днем, ни ночью. Вот почему, когда никого не было поблизости, Льок беспечно закидывал их за спину. Видно, пробираясь по лесной чаще, он зацепился за сучок и оборвал ремешок с человечком.
Яркое зарево — предвестник скорого появления солнца — все шире разливалось над лесом. Льок налил в глиняную плошку воды и, склонившись над ней, начал раскрашивать себе лицо. Растерев красную охру, зеленую пину и сажу с жиром, Льок обвел красными кругами глаза и рот, намалевал на щеках зеленые прямые полосы, а рядом с ними черные волнистые. С каждым мазком лицо его становилось все страшнее, а когда он нарочно скривил рот и сморщил нос, то увидел на гладкой поверхности воды такое чудовище, что его самого взяла оторопь. Льок провел еще две зеленые черты на лбу, раскрасил руки и вышел наконец в полном уборе из землянки. Над лесом уже поднялся огненный шар солнца.
Увидев издали молодого колдуна, старухи еще сильнее забили своими колотушками по коже бубнов.
— Идет! Идет! — завопили они на разные голоса. — Он идет!
Женщины и дети сбежались к тропе, по которой колдун должен был пройти в охотничий лагерь. Всем не терпелось поскорее узнать, кого же избрали духи.
Льок шел, наклонив голову и прикрыв лицо ладонями. Когда он приблизился, колдуньи закричали хором:
— Кому быть? Кому быть? Кому быть?
Льоку по-мальчишески захотелось пугнуть любопытных. Он отнял ладони от размалеванного лица и, скорчив страшную гримасу, подступил к ним.
Женщины и ребятишки с визгом разбежались. Колдуньи шарахнулись в стороны, бормоча заклинания и отмахиваясь бубнами. Очень довольный, что напугал мудрых, Льок пошел дальше.
Перед высокой оградой охотничьего лагеря он остановился, еще раз проверяя свое решение.
— Да, так будет лучше всего, — сказал он себе и шагнул за ворота.
Охотничий лагерь состоял из трех больших землянок. Одна, стоявшая посередине, называлась жилищем «усатого старика», в ней и жили самые старые охотники, испытанные в трудном промысле на моржа. Другая была предназначена для молодежи, недавно посвященной в охотники, и носила название «блестящей стрелы», что на охотничьем языке означало семгу. В третьей жили охотники постарше, уже набравшиеся опыта. Это были самые сильные охотники рода, на боявшиеся ходить в одиночку на медведя. Их землянка так и называлась жилищем «лесного человека».
Охотники стояли у входов своих землянок, ожидая, кого из них избрали духи колдуна.
Льок прошел мимо землянки «блестящей стрелы», даже не взглянув на безусых юношей, которые еще совсем недавно помогали женщинам месить глину и таскали им корзины с семгой.
Старые охотники закивали головами: так и должен был поступить колдун. Но Льок прошел и мимо их жилища, лишь немного, будто в раздумье, замедлив шаг. Старики нахмурились — неужели Главным охотником станет кто-нибудь не из их землянки? Колдун и в самом деле подошел к жилищу «лесного человека». Знаком он велел отойти в сторону первому охотнику, второму, третьему, и, только когда очередь дошла до Ау, колдун торжественно сказал:
— Вот кого мои духи избрали Главным охотником!
Глава 17
Дни становились короче, а ночи длиннее. По вечерам в темнеющем небе стали появляться крупные звезды. Поспевали ягоды. Учившиеся летать птенцы с каждым днем поднимались все выше и выше. Исчезли оводы, и олени, освободившись от своих маленьких лютых мучителей, спокойно бродили по лесу, поедая грибы. Грибов было такое множество, что олени, исхудавшие за лето, быстро жирели.
Пора позднего лета — веселая и хлопотливая, каждый — от муравья до человека — торопился сейчас запастись едой на долгую зиму.
В стойбище все были заняты делом. Даже дряхлые старухи и те разбрелись по лесу, по болотам, собирая только им известные травы и коренья, которыми можно и вылечить и околдовать человека. Взрослым помогали малые ребята — они старательно разыскивали остро пахнущий дикий лук, выкапывали его из земли и несли в селение. В дни предвесеннего голода, когда у людей стойбища начинали пухнуть ноги и кровоточить десны, лук был лучшим лекарством.
Больше всего радостных хлопот было у молодежи. Юноши, еще не посвященные в охотники, и девушки, не переселившиеся в отдельные землянки, вместе с подростками не выходили из лесу. Они забирались в самую глушь, к озеркам среди топких болот. К середине лета болота немного подсыхали, и, перепрыгивая с кочки на кочку, можно было добраться до густых зарослей осоки. Там укрывались линяющие гуси.
Тибу, недавно посвященный в охотники, считался наравне с Льоком лучшим ловцом линяющих гусей. Только Льок любил выслеживать птицу в одиночку, а Тибу всегда подбирал себе целую ватагу сверстников.
Охотникам не полагалось заниматься этим промыслом, У них было сейчас другое дело — мять ремни и готовить охотничьи снасти. Но Тибу так любил охоту на гусей, что стал просить Ау отпустить его в последний раз за «линьками».
Ау задумался — это было не в обычае стойбища. Но ведь юноша может принести большую пользу селению, распоряжаясь молодежью на охоте за дичью. А чтобы мять ремни, хватит и пожилых охотников. Поразмыслив, Ау согласился. Обрадованный юноша сейчас же побежал догонять друзей, уже ушедших в лес.
Старый Нюк имел привычку обходить по вечерам лагерь, чтобы посмотреть, все ли в порядке. Заглянув в землянку «блестящей стрелы» и сразу приметив, что Тибу нет на обычном месте, он сказал об этом Главному охотнику. Ау объяснил, что отпустил юношу на промысел за линяющими гусями.
— Зачем нарушаешь порядок? — начал выговаривать старик. — Разве Главный охотник не должен следить, чтобы все было, как велит обычай?
Старого Нюка поддержали не только пожилые охотники, а и те, кто был помоложе, — кому не надоест изо дня в день мять до боли в ладонях мокрую кожу? Разве не веселее разыскивать притаившуюся в чаще приозерной осоки птицу?
Если бы на месте Ау был Кремень, он бы одним взглядом из-под нахмуренных бровей заставил бы умолкнуть недовольных. Но Ау приходилось трудно. Старики не упускали случая напомнить ему, что он еще молод и потому многого не знает, а молодежь слишком привыкла считать его простым охотником, как и они сами.
Чтобы не рассориться со всеми, раздосадованный Ау ушел из лагеря в лес, захватив с собой копье.
Пора светлых северных ночей была на исходе. Еще не потускнела на небе багровая полоса заката, а в лесу уже начало быстро темнеть. Птицы немного повозились на ветках, устраиваясь на ночлег, и притихли, звери помельче забились в норы, зато ночные хищники вышли на охоту. В озерах по самому дну бесшумно двигались щуки, над ними темной тенью скользили выдры. На толстом суку притаилась рысь, поджидая добычу. Бесшумно рыскали волки, где-то ревела медведица, сзывая разбежавшихся медвежат. Ей самой некого было опасаться, но глупые детеныши могли погибнуть и от когтей рыси, и от клыков волка.
Обида на сородичей душила Ау, и он, сам не зная зачем, шел все дальше и дальше по притихшему ночному лесу. Не глядя под ноги, он по привычке опытного охотника ставил ступню так, что не слышалось ни треска сломанного сучка, ни хруста валежника. В другое время зоркий охотник рассмотрел бы распластавшуюся на суку рысь, но сейчас даже вспыхнувшие зеленым огнем глаза хищника не привлекли его внимания.
Долго бродил Ау по лесу, не замечая, как идет время. Обычно чуткий к каждому шороху леса, он не слышал и не видел ничего, пока чуть не наступил на молодого дрозда. Птенец махал уже оперенными крыльями, подпрыгивал в траве и, открывая во всю ширь клюв, пищал что было мочи. Он не мог взлететь. Ау наклонился над птицей. Уже начинало светлеть, и зоркий глаз охотника разглядел, что лапа птенца запуталась в травинке, и у него не хватало сил освободиться. Ау осторожно протянул руку, чтобы распутать стебли. Птенец умолк и вдруг, свирепо зашипев и натопорщив перышки, клюнул палец охотника. Верно, увидев перед собой страшного врага, он решил продать свою жизнь подороже. Ау засмеялся — вот какая храбрая пичуга! Он освободил продолжавшего клевать его руку птенца и посадил на ладонь. Тот нахохлился, но не шевелился — выжидал, что будет дальше, но когда Ау чуть двинул пальцем, птенец быстро клюнул его еще раз и вспорхнул.
Это смешное приключение прогнало всю злость Ау на сородичей, и он уже спокойно повернул назад к лагерю, но по пути сказал себе:
— Если нужно будет, я все-таки стану делать по-своему.
В глуши болот и на озерках в лесной чаще гусыни и утки растили птенцов. Заботливо оберегая потомство от многочисленных врагов, матери со своими выводками уходили на островки посреди озер, куда не могли добраться ни хищные звери, ни люди. По берегам, в зарослях осоки, укрывались ослабевшие, больные самцы. Вместо сильных крыльев с толстыми и длинными маховыми перьями у них в ту пору торчали лишь жалкие отростки. Сейчас птицы не могли подняться в воздух и только бегали по земле, беспомощно растопырив лишенные оперения крылья. Но на воде они чувствовали себя по-прежнему хорошо. Почуяв врага, они, ныряя, отплывали подальше от берега и там пережидали опасность.
Молодежь охотилась на «линьков» ватагами. Кто-нибудь выслеживал птицу и, вспугнув, гнал ее в ту сторону, где поджидала засада. Вот тогда-то и начиналась веселая потеха! Гусь в страхе громко гоготал, преследовавшие его девчонки визжали, мальчишки радостно горланили. Самцы были хитрые, они норовили забраться в заросли осоки, до крови резавшей голые ноги охотников. Но охотничья страсть так сильна, что и юноши и девушки бесстрашно лезли в гущу осоки, не боялись самых топких мест, а если птице удавалось добежать до воды, пускались вплавь за ускользающей добычей.
В этом году Тибу решил отправиться на дальнее озеро, которое пользовалось дурной славой. Его окружали топкие болота, а берега гусю заросли камышом и осокой. Топи не подпускали к озеру ни людей, ни лесных хищников, и птицам здесь было раздолье. Два поселившихся в этом потаенном уголке коршуна ревниво оберегали свои владения от соперников. Иногда сюда залетал их сородич. Тотчас же возникала схватка, в воздухе клубком кружились сцепившиеся в смертельной борьбе хищники, и перья их разлетались во все стороны.
Сюда-то и привел Тибу свою ватагу, подобранную из самых смелых сверстников. В их числе была Ясная Зорька, внучка колдуньи, умершей от голода весной. Тибу охотно взял ее с собой на промысел. Она считалась самой ловкой среди всех девушек стойбища, и не случайно ожерелье из клювов добытых ею гусей было у нее длиннее, чем у сверстниц. Тибу удивлялся ее удальству, а девушке льстило, что настоящий, уже прошедший обряд посвящения охотник хочет дружить с нею. Как-то всегда получалось так, что они оказывались рядом.
Выбрав пригорок для стоянки, Тибу назначил, кому с кем идти, указав места, удобные для ловли. Потом все по двое, по трое разошлись в разные стороны. Ясная Зорька опять оказалась в паре с Тибу.
Они направились к одному из заливчиков озера, заросшему особенно густым и высоким тростником. Берега тут были такие болотистые, что не подсыхали даже в это жаркое время года. Зорьке и Тибу приходилось брести по воде, перепрыгивая с кочки на кочку, зато они знали, что это добычливое место. Ведь ни лисе, ни рыси, боявшимся воды, сюда не пробраться, значит, птицы здесь будет вдоволь.
Когда молодые охотники приблизились к зарослям, оттуда, и справа и слева, послышались звуки, напоминавшие покашливание, которое издают гуси в эту мучительную для них пору.
Хотя ни девушка, ни юноша не сказали друг другу ни слова, но оба думали об одном и том же: как добыть сегодня побольше гусей? На этот раз их манила не богатая добыча, которой можно было бы похвастаться перед сверстниками, а только гусиные клювы. Среди молодежи издавна велся обычай дарить эти клювы украдкой от всех избраннику своего сердца.
Ясной Зорьке в этом году предстояло обзавестись своей землянкой. Тибу тоже еще жил в землянке матери. Поднести ожерелье из клювов — значило посвататься, а принять дар — означало дать согласие. Дарили клювы не только юноши. И для девушки не считалось постыдным повесить на шею юноши такое же украшение. Тибу и Зорька, втайне друг от друга, решили обменяться такими ожерельями.
Гуси очень чутки, а подкрадываться к ним приходилось по шуршащей осоке. Правда, сегодня помогал ветерок. Нужно было дождаться, пока он зашумит жесткой травой, и в это время продвинуться на несколько шагов, а потом опять замереть на месте, терпеливо ожидая нового порыва ветра.
В густых зарослях охотиться вдвоем за одним гусем было неудобно, поэтому Зорька и Тибу разошлись в разные стороны. Зорьке попался хитрый гусь, но, как он ни таился, девушка добралась до него. Чтобы спастись от нее на воде, гусь метнулся к озеру. Позволить гусю нырнуть — значит потерять его. Вытянув руку, девушка прыгнула за птицей и провалилась в вязкую, холодную, как лед, трясину. К счастью, в топь ушли только ноги, а тело легло плашмя на зыбко колышущуюся сеть из густо переплетенных между собой корней болотных растений. Если бы Зорька не успела распластаться на осоке, ее тотчас затянуло бы под заросли. Сейчас она на время спасла себя, но это была лишь отсрочка смерти. Под тяжестью ее тела переплетенные под водой корни медленно расходились…
Ясная Зорька принялась кричать, зовя на помощь Тибу, Над ее головой однообразно шелестела осока и, казалось, крики запутывались в зеленых стеблях. Девушка чувствовала, как под ней подается зыбкая опора. Услышит ли ее Тибу? Поймет ли, откуда раздаются крики? Успеет ли добраться до нее?.. Снова и снова звала девушка своего друга. Вода начинала заливать ее, ноги стыли в ледяном холоде непрогретой топи. Охотнице удалось осторожно перевалиться на спину, и тело ее легло на новое место, где сеть корней была еще прочной. Но скоро вокруг нее опять стала скапливаться вода. Девушка еще немного передвинулась в сторону… Неужели не придет спасение?!
Ясную Зорьку охватило отчаяние, и она даже перестала кричать. Будь что будет! Но, когда болотная вода подступила к груди, ей стало так страшно, что тело ее само невольно сделало судорожное усилие, и она передвинулась на новое место…
Тибу услышал ее крики, но добраться до девушки по трясине удалось не сразу. Все же он подоспел вовремя. Он приволок три длинные жерди, которые догадался подобрать по пути. Положив жерди поперек, он лег на них и схватил Зорьку за руки. Осторожно, стараясь не делать резких движений, он медленно подтягивал девушку к себе, перехватывая ее руки все выше и выше.
Он не знал, сколько прошло времени в этой борьбе с трясиной. Наконец топь выпустила закоченевшие ноги девушки. Упираясь коленками, Зорька выползла на жерди. Потом, немного отдышавшись, спасенная и спаситель выбрались на твердую землю. Девушка принялась сушить набухшую в воде одежду. Горячее солнце быстро согрело Зорьку и уняло дрожь.
Когда вечером Тибу и Зорька вернулись к месту общего сбора на пригорке, и им, и сверстникам было понятно, что, после того как Ясной Зорьке сделают землянку, не кто иной, как Тибу, поселится в ней.
Старательно подражая женщинам, девушки хлопотливо хозяйничали у огня. Надо было ощипать перья, выпотрошить птицу, отделить грудку и коптить тушки в дыму — словом, сделать все так, как делали их матери на стойбище во время весенней охоты на гусей.
Ау не зря отпустил Тибу из охотничьего лагеря — пожалуй, никогда еще добыча «линьков» не была такой обильной, как в этом году.
Глава 18
Сельдь давно уже отошла от берегов Белого моря, вслед за ней покинули прибрежные места и морские животные — белухи, моржи и тюлени. В поисках пищи они передвинулись к Куче островов — так охотники называли большой и два маленьких острова, поднимавшиеся из моря на расстоянии дня пути от берега. Тут, в глубоком проливе, образуемом островами, скапливались мелкая рыба и те, кто кормились ею. С какой бы стороны не налетал ветер, рыба и морской зверь всегда находили хорошее убежище от бури в узких проливах и в извилинах бухт.
Каждую осень промышленники отправлялись к Куче островов добывать белух и тюленей. Это был опасный и скучный промысел. Осенью ветры капризны и море коварно. Сутками лениво плещутся свинцовые волны о низкий борт ладьи, и вдруг откуда-то налетит ветер, и тотчас начнут вздыматься огромные валы с шапками белой кипящей пены. Горе тогда вышедшим в море промышленникам! Стоит закоченевшим под ледяным ветром людям хоть немного промедлить, не успеть вовремя повернуть ладью поперек волны, и тяжелый вал мигом опрокинет ее. Много, очень много ловцов погибало на этом добычливом промысле у островов.
Приходилось промышлять только в тихую погоду и подолгу укрываться в проливах, где буря не так страшна.
Молодежь не любила промысла у Кучи островов, в эту пору ее манила охота на оленей, где можно было показать свою удаль и ловкость. Вот почему старики с Главным охотником уходили к островам, а молодежь в это время выслеживала в лесу оленей.
Два раза уже проносились на море короткие бури, предвестники осени. Охотники стали готовиться к отъезду: опять смолили ладьи, оттачивали костяные гарпуны, резали ремни из мятых шкур. Охотничьей снасти требовалось много. Морской промысел не похож на сухопутный. В лесу нетрудно отыскать раненое животное, а на море подкараулить и попасть в зверя — только начало удачи. Сколько раненых белух, моржей и тюленей исчезало в морских глубинах, унося с собой промысловую снасть.
Молодой колдун тоже по-своему готовился к промыслу. Он отправился на Священную скалу и принялся высекать на камне то, что каждый охотник хотел увидеть на промысле. На этот раз он задумал выбить большой гарпун, который пронзал и моржа и белуху. Льок так увлекся своим делом, что не заметил, как подошел Ау.
— Не хочу ехать на Кучу островов, — словно оправдываясь перед кем-то, сердито заговорил молодой охотник. — Это стариковское дело — сутками лежать в ладье и поджидать, когда из-под борта вынырнет глупый тюлень. Хочу, как прежде, выслеживать оленей и гнаться за ними по лесу, быстрее, чем они сами. Я уже говорил кое с кем из стариков, но они твердят свое: «Главному охотнику место на островах!» Кремень-то был стар, он не мог охотиться на оленей, а я не старик…
Льок задумался. Ау верно говорит — лучшего охотника, чем он, не найти. Что ему делать со стариками? Но старики не отступятся от того, что положено по обычаю…
— Я тебе помогу, — сказал он другу. — Приходи сюда вечером.
Когда Ау снова пришел на островок, Льок вытащил из-за пазухи два бурых корешка.
— Съешь их, Ау, — сказал он, — ты заболеешь, и старики сами побоятся взять тебя на промысел, чтобы дух болезни не перешел на них.
Ау взял корешки, повертел их и покачал головой.
— Не хочу петлять, как заяц! — запальчиво проговорил он, швырнув корешки в воду. — Как обману своих?!
— Но если старики не согласятся оставить тебя здесь? Ты все-таки поедешь?
— Нет, не поеду. Я Главный охотник, и они не могут мне приказывать. — Глаза Ау сердито заблестели. — Я уже дал стойбищу кита и на охоте убью много оленей. Помнишь, сколько рогов добыл я прошлой осенью?
Уже настала пора пускаться в дальний путь. Но охотники не назначили дня отъезда — все не сходились приметы: то солнце садилось в тучу, то луна была слишком красной. Наконец месяц засеребрился на ясном небе и спокойный полет чаек указывал, что бури не будет. Решено было завтра идти к островам.
В тот же вечер Ау пришел в большую землянку «усатого старика» и объявил старым охотникам, что остается промышлять оленей.
— Зачем ты, Главный охотник, нарушаешь обычай? — заспорили с ним старики. — Разве Кремень когда-нибудь оставлял нас одних?
— Он был старик, — возразил Ау. — Ему было не угнаться за легким, как ветер, оленем. А мне зачем лежать на брюхе в лодке, если мои ноги умеют быстро бегать?
Молодые охотники, пришедшие вместе с Ау, дружно поддержали его.
Но старики не соглашались. Особенно упрямо спорил Нюк.
— Вы старые, испытанные в морском промысле охотники, — попытался задобрить стариков Ау, — а я еще никогда не бывал на островах. Разве не лучше вам будет слушаться Нюка, который убил своего первого «белого червя», когда я еще не родился? Его, наверное, очень любят морские духи, а на меня они сердиты за то, что я убил кита.
С этим старики не могли не согласиться. Нюк на самом деле отлично знал повадки морского зверя, он ведь столько лет ходил на этот промысел.
Обряд последних сборов был несложен. Каждый из отъезжающих повесил на шею мешочек с пеплом из очага своей землянки и щепоть земли, взятой с места, где была погребена мать. В ладью Нюка поставили большой глиняный сосуд с горящими углями и захватили запас хвойных шишек, чтобы во время переезда не дать углям потухнуть. Очаг в землянках на островах надо было разжечь огнем родного селения.
Садясь в ладьи, охотники запели священную песню, зовя с собой духов, покровителей рода, и бросили в воду вялые гусиные грудки и куски копченой оленины по числу отправившихся на промысел охотников. Люди стойбища верили, что морские духи, получив в дар мясо животных, которые не водятся в море, отблагодарят промышленников обильной добычей.
Глава 19
Вскоре после отъезда стариков молодежь отправилась на охоту за оленями. Отошло время, когда олени, спасаясь от оводов, забирались в озера и от восхода до заката солнца простаивали в воде, выставив наружу только ноздри. К осени оводы исчезли, и олени чувствовали себя привольно. Много было сейчас грибов, их любимой пищи. Вскоре шерсть оленей стала лосниться, они жирели, теряя быстроту и неутомимость в беге. Сначала они ходили по двое, по трое, но потом разбредались поодиночке.
Собрав молодых охотников, Ау рассказал им, где лучше искать зверя, одним велел идти в одну сторону, другим в другую, чтобы в погоне за оленями пути их не скрещивались.
Ау взял себе в помощники Бэя. День для охоты он выбрал серенький, пасмурный. На отсыревшей земле под ногой не так трещат сучки, ветер шевелит листья, наполняя лес неумолчным шуршанием, заглушающим шаги охотника. В такой день олень теряет свою зоркость и не так чуток, как всегда.
Дротик был любимым оружием молодых охотников. С короткого расстояния он валил зверя насмерть, надо только иметь сильную руку. Старики больше любили лук — стрела летела во много раз дальше, чем дротик, и попасть в зверя можно было издали. Спор о том, какое оружие лучше, шел из поколения в поколение. Ау и Бэю незачем было спорить. Оба были молоды, и дротик был их лучшим другом.
Собирая на ходу съедобные грибы, они шли рядом, не отрывая взгляда от земли там, где почва была мягкой и зверь мог оставить след. На каменистых местах они зорко смотрели в просветы между стволами — Ау в одну сторону, Бэй в другую. Во время поисков добычи в лесу нельзя разговаривать даже шепотом. Но как не поделиться со спутником мыслями, когда одолевают разные думы?
Бэю захотелось сказать, что они идут уже долго, а никаких следов зверя нет. Он пожал плечами и поднял брови. Ау сразу понял его и, низко пригнувшись, стал озираться по сторонам, не поворачивая шеи. Бэй догадался: Ау говорит, что, наверное, волки вспугнули оленей. «А может, медведь?» — подумал Бэй и показал другу ладонь с согнутыми пальцами. Но Ау согнул свои пальцы еще больше и ударил ими по другой ладони, — так бьет лапой рысь, нападая на зверя.
Вдруг Ау остановился. Замер на месте и Бэй, хотя не приметил сначала ничего, заслуживающего внимания. Потом, поглядев туда, куда смотрел друг, сразу оживился. На земле лежал олений помет. Оба охотника опустились на корточки. Их зоркие глаза рассмотрели слабые следы раздвоенного оленьего копыта. Крупный, немолодой самец прошел сегодня утром в этом направлении. Ранней осенью эти животные становятся ленивыми и не делают больших переходов. Значит, искать его надо где-то поблизости.
Хороший охотник, найдя след, никогда не теряет его. Ау был хорошим охотником.
Началось преследование. Медленно, осторожно продвигаясь вперед, нет-нет да останавливаясь, они попеременно хватали друг друга за руку, указывая на какую-нибудь отметину, оставленную животным. Видно, ничто не тревожило оленя, он шел не спеша, спокойно переходя от одного грибного места к другому и объедая шляпки. Торчавшие белые ножки грибов указывали его путь.
Солнце склонялось к закату, когда охотники увидели за деревьями неторопливо бродившего по лужайке оленя.
От охотничьего волнения у Бэя по спине пробежала дрожь. Он умоляюще взглянул на Ау. «Позволь метнуть первому?» — попросили его глаза. Ау не пожалел бы для друга даже жизни, но был не в силах отказаться от своего права первым нанести удар.
Припав на одно колено и сжав в руке дротик, он дождался, пока олень, не отрывая головы от земли — видно, в этом месте грибы росли целым гнездом, — повернулся к нему боком. Сейчас же просвистел дротик и впился в брюхо животного. Олень покачнулся и взметнулся на дыбы.
— Бросай! — крикнул Ау Бэю.
Дротик Бэя, направленный в шею, ударился о ветвистые рога и застрял в них. Олень упал на колени, но тотчас вскочил и помчался вперед. Он бежал, казалось, не разбирая дороги, вытянув морду и положив рога на спину.
Дротик Бэя выпал из развилки рога. Ау на бегу поднял его и осмотрел — кремневый наконечник от удара о рог переломился пополам, не причинив оленю вреда. Скоро выпал и дротик Ау, ранивший оленя. Бэй хотел было метнуть его вдогонку зверю, но Ау выхватил дротик у него из рук. Отдать свое оружие кому-нибудь во время промысла — значит отдать свое охотничье счастье.
Лес расступился, открылось большое полувысохшее болото, поросшее ржаво-красным мхом. Старый, опытный олень хорошо знал, что нельзя приближаться к этому месту: острые копыта увязнут в мягком, пропитанном водою мху, и тогда ему не уйти от погони. Он круто повернул и побежал по закраине болота, покрытой огромными валунами. Охотники рванулись за ним, нельзя было терять ни одного мгновения — в этом нагромождении каменных глыб раненый зверь мог легко скрыться от преследователей. Олень тоже напряг последние силы, сделал несколько отчаянных прыжков и пропал за большим валунном. Бэй и Ау обогнули камень — оленя там уже не было.
Охотники растерянно огляделись, но вокруг были только камни и скалы. На каменистой почве не оставалось следов, не видно было почему-то и пятен крови. В какую же сторону направиться, где искать зверя? Ау велел Бэю бежать прямо, а сам побежал налево. Долго петлял он между валунами, пока не послышалось где-то тяжелое дыхание. Держа наготове дротик, охотник стал бесшумно красться вперед, чтобы не вспугнуть оленя. Но эта предосторожность была излишней. Обессилевший от потери крови олень умирал.
Ау громко позвал Бэя, и, когда тот прибежал, зверь уже был мертв. По охотничьему обычаю, загнанный зверь считался добычей всех, кто его преследовал, но только тому, кто нанес смертельный удар, доставалась полоска шкуры с шеи самца, поросшая длинным, будто седым волосом. Это было лучшим украшением праздничной одежды женщин, и поэтому, чем удачливее был охотник, тем наряднее была одежда женщины, в землянке которой он жил.
Помогая Ау свежевать тушу, Бэй с завистью смотрел, как его друг осторожно вырезал полоску шкуры с подшейным волосом. Ау перехватил этот взгляд и уже хотел было разрезать полоску надвое, но подумал, что украшение будет испорчено и не принесет радости ни ему, ни Бэю. Тогда он снял с шеи ожерелье из волчьих клыков и протянул другу.
Бэй просиял. Это был самый лучший подарок! Вместе с ожерельем из клыков волков, убитых охотником, частица его сил и охотничьего счастья переходила к получившему дар.
Промысел на оленей начался удачей. Загнали четырех оленей и олененка. Молодые охотники, усталые, но довольные, сгибаясь под тяжелой ношей, перетаскивали к стойбищу освежеванные туши.
— Верно, покровитель охотников — Роко очень любит Ау, — весело переговариваясь они, радуясь, что Главный охотник остался с ними.
Зато сородичи, ушедшие в море, поминали Главного охотника недобрым словом. Обычай был нарушен, и старикам казалось, что промысел будет хуже, чем в прошлые годы.
Словно наперекор их воркотне, всю дорогу дул попутный ветер, и ладьи быстро дошли до места.
Вокруг островов и в проливах между ними, выставляя из воды белые бока, перекатывались между волнами белухи, то там, то тут чернели круглые головы тюленей. Старики приободрились — значит, удача не покинула их!
В первый день никогда не начинали промышлять. Нужно было собрать валежник и выброшенный бурями плавник, сложить костры вокруг землянки и зажечь их огнем, привезенным из родного стойбища. Это был повторяющийся из года в год обряд очищения промысловой стоянки от злых духов, которые могли за время отсутствия охотников поселиться в заброшенном жилье.
Собирая на каменистом берегу плавник, Нюк нашел обломок весла, покрытый затейливой резьбой. Он долго разглядывал ее старческими глазами, хорошо видевшими вдаль и плохо вблизи, и одобрительно кивал головой — умелые руки ее делали. И вдруг вспомнил, что много-много лет тому назад он сам вырезал и этот круг, чтобы солнце не сходило с неба на все время промысла, и белух, чтобы они приманивали настоящих белух, и ладью с людьми на спокойных волнах. Потом Нюк подарил это весло своему другу Тяку, но оно не принесло ему счастья. Кажется, в эту же весну, а может, в следующую раненная Тяку белуха опрокинула его ладью, и друг Нюка утонул.
Весь вечер Нюк вспоминал старые времена и своего друга. Не мудрено после этого, что Тяку привиделся ему во сне. Тяку ничего не сказал Нюку, только постоял, опираясь на весло, и пропал. Утром, когда охотники ели у костра вяленую семгу, перед тем как выйти на промысел, Нюк рассказал свой сон промышленникам.
— Он что-то хотел, да, видно, не посмел мне сказать! — тревожился старик. — Это плохо, очень плохо. Не собирался ли Тяку предостеречь нас от беды на море?
Тревога старика передалась и другим охотникам, они долго обсуждали, стоит ли выходить сегодня в море, и решили лучше обождать денек.
Белухи кувыркались в волнах, словно дразнили их, но охотники сидели на берегу и рассказывали друг другу страшные истории. Многие из тех, кто был постарше, хорошо помнили Тяку. Один из них даже тонул вместе с ним, но вовремя ухватился за перевернутую лодку, а Тяку волна отбросила в сторону, и он, не умея, как и все сородичи, плавать, пошел ко дну.
За день, проведенный без дела, охотники вспомнили много событий, одно страшнее другого. Следующей ночью Тяку приснился уже троим промышленникам. Одного он звал бить моржей, но эти моржи почему-то не плавали в воде, а бегали по лесу, другой увидел, как он едет с Тяку в ладье, и вдруг ладья среди тихого моря перевернулась вверх дном. Но больше всего напугал охотников сон третьего — Тяку сказал ему, чтобы промышленники поскорее уходили с островов, потому что духи сердятся на них и решили всех потопить.
Утром стали обсуждать: почему могут сердиться на них духи? Не потому ли, что Главный охотник нарушил обычай? Тут же решили: пока не случилось беды, надо добираться до стойбища. Тотчас загасили огонь, сели в лодки и уехали, так и не убив ни одного зверя.
Глава 20
Еще много дней оставалось до того времени, как охотники после окончания промыслов перейдут на зиму в землянки стойбища. Однако женщины уже собирали валежник, меняли жердняк, подпиравший стенки, и подравнивали пол в жилье. Кое-кто нашивал кусочки пестрого меха на свою одежду, чтобы выглядеть понаряднее.
К возвращению охотников в стойбище три девушки должны были перейти из жилища матери в свое собственное жилье. Переход в свою землянку был для девушки таким же заветным днем в жизни, как для юноши посвящение в охотники.
После полнолуния, в первый же солнечный день у землянки, где жила Красная Белка, мать Ясной Зорьки, столпились шумливые подростки. Ясная Зорька была внучкой умершей колдуньи, и мудрые старухи решили, что в эту осень первую землянку надо сделать для нее. Вскоре явилась Главная колдунья со своими помощницами. Она приподняла плотно опушенный полог и вошла в землянку, где у очага сидела Ясная Зорька со своей матерью. Старуха взяла девушку за руку и вывела к нетерпеливо ожидавшим у входа подросткам. По обычаю мать осталась сидеть у очага.
Когда-то за девушками приходили молодые охотники из других селений и навсегда уводили их в свое стойбище. Но с тех пор как от страшного мора вымерли все жители соседних селений, торжественные проводы девушек из родного края заменились обрядом выбора ими места для своего жилья. Сопровождаемая мудрыми и друзьями детства девушка шла по окраине стойбища, пока не спотыкалась о попавшийся на пути камень или нога ее не попадала в какую-нибудь выбоину. На этом месте и устраивали землянку.
Медленно шла по селению Ясная Зорька: внимательно глядя ей под ноги, шествовали за ней старухи колдуньи, а за старухами тянулась толпа ее сверстников. Приподнимая полог, женщины высовывали головы и кричали ей вслед добрые пожелания: чтобы охотник, который поселится у ее очага, был сильный и смелый, чтобы на ее очаге было всегда вдоволь пищи, чтобы детский крик, радующий сердце матери, поскорее раздался в новом жилье, и хворь не нашла бы входа в ее землянку.
Ясная Зорька недолго бродила по стойбищу. Она давно уже облюбовала себе место на краю селения, у четырех березок, росших в ряд. Тайком она принесла сюда небольшой камень и теперь, обойдя вокруг селения, нарочно споткнулась о него.
Главная колдунья тотчас крикнула:
— Здесь!
Сверстники Ясной Зорьки побежали к заранее приготовленным кучам хвороста и, набирая большие охапки, тащили сучья и ветки к избранному месту. Вскоре возле четырех березок, шелестевших ярко-желтыми листьями, выросла горка валежника. Ясная Зорька принесла из очага своей землянки огонь и сама зажгла костер, чтобы очистить площадку, на которой предстояло рыть новое жилье.
Пока, потрескивая сучьями, ярко пылало пламя, молодежь обсуждала все подробности предстоящей работы — ведь землянка строилась на много лет. Больше всего было споров, с какой стороны сделать вход. Чтобы обитатели землянки не задыхались в клубах дыма, обычно его рыли со стороны соседних жилищ. Но на этот раз никаких споров не было. Ясная Зорька не случайно выбрала именно это место. Толстые и гладкие, будто обшитые белой кожей, стволы берез, их густая листва помешают ветру врываться в землянку. Девушка сама показала, откуда делать вход, а Главная колдунья одобрительно кивнула головой.
Большой костер догорал, когда в стойбище, запыхавшись, прибежал Тибу. Все давно уже догадывались, что Тибу, а не кто иной, поселится в землянке Ясной Зорьки, и Ау отпустил его на постройку жилища.
По-хозяйски взглянув на березки, Тибу принялся деловито распоряжаться дружной ватагой сверстников. Прежде всего он велел двум самым высоким юношам лечь на землю головами друг к другу и острым камнем сделал две отметины — у пяток каждого. Такой длины должна быть будущая землянка. Потом Тибу, согнав длинноногих подростков, сам разлегся посредине выжженной площадки и, вытянув руки, пальцами рук и ног выскреб ямки — это была ширина жилища. По этим отметинам он обвел черту кругом, стараясь, чтобы она была поровней. Теперь можно было начинать рыть яму.
Молодежь привыкла слушаться Тибу на промыслах за линяющими гусями и сейчас охотно подчинялась каждому его слову. Все дружно взялись за работу. Юноши толстыми палками с крепким сучком на конце разрыхляли землю, а девушки берестяными совками выгребали ее за черту, проведенную Тибу.
Быстро углублялась яма, и так же быстро вырастал земляной вал по ее краям. Тибу веселыми окриками подбадривал подростков, ему хотелось, чтобы яма была поглубже. В низкой землянке и дым от очага будет низко стлаться, заставляя плакать хозяев, даже если им весело. Все же когда Ясная Зорька, встав посредине ямы, уже не смогла коснуться поднятыми руками жерди, положенной на земляную стенку, Главная колдунья остановила не в меру старательного будущего хозяина.
Теперь девушки стали утаптывать пол, полого спускавшийся от входа внутрь ямы. Они засыпали каждую выбоинку, разравнивали каждый бугорок и, приплясывая, уминали рыхлую землю. Посреди землянки вырыли углубление для очага, а близ входа, стараясь не обвалить земляную стенку, в обгоревшем дерне выкопали еще две ямки для глиняных горшков, в которых держали воду. Юноши в это время подравнивали отвесные стены ямы и земляного вала и обкладывали их жердняком. Пазы между жердями замазывали глиной, замешанной на песке. Чтобы стенки вместе с жердняком не завалились внутрь, Тибу закрепил их вверху и внизу хорошо просушенными и просмоленными жердями, связанными четырехугольником.
Усердно работая, Тибу поторапливал и помощников. Ясная Зорька то и дело поглядывала на небо — по обычаю на постройку землянки отпускалось время между восходом и закатом. Если солнце сядет раньше, чем в готовом жилище впервые запылает очаг, эту землянку бросали незаконченной, а новую позволялось строить только через год. Вот почему так тревожились ее будущие хозяева.
Нелегким делом было устройство кровли. Она должна была быть прочной, не обваливаться, не пропускать дождевой воды и выдержать толстый покров снега зимой. На земляной вал наложили тесным рядом жерди, на этот потолочный накат расстелили в несколько пластов бересту, на бересту насыпали слой песку, а сверху глину. Затем односкатную крышу выложили заранее принесенными кусками дерна. Весной кровля зазеленеет, как пригорок в лесу.
Сверстники не ленились, и землянка была готова задолго до заката. Тибу и Ясной Зорьке казалось, что лучшей землянки нет во всем стойбище, хотя она, конечно, ничем не отличалась от прочих жилищ селения. Как и другие землянки, она была небольшой, но у очага, прижимаясь к стенке, могло сидеть несколько человек, а в глубине оставалось достаточно места для спанья четырех-пяти обитателей.
Колдуньи отогнали заглядывавшую через вход молодежь. Пришел черед мудрых приниматься за работу. Прежде всего нужно было соорудить очаг. Шепча заклинания, старухи обмазали очажную яму глиной, насыпали песок и в давно заведенном порядке разложили большие камни.
Главная колдунья с помощницей навесили перед входом полог, сшитый из двух оленьих шкур, кожей внутрь. В стойбище верили, что болезнь и смерть проникают в землянку, подобно людям, через вход. Поэтому, вынув из мешочка когти рыси, завернутые в бересту, Главная колдунья, не переставая бормотать заклинания, закопала их на пороге. В земляную насыпь над входом она закопала наговоренные корешки. Теперь ни один злой дух не сможет войти в землянку.
Пора было разжигать очаг. Послали за матерью Зорьки. Красная Белка принесла в глиняном горшке горящие угли из своего очага. При свете огня, впервые запылавшего в землянке, старухи проговорили над молодой хозяйкой положенные заклинания, потом все женщины одна за другой ушли. Ясная Зорька осталась одна в новом жилище. Оно еще не было обжито, на спальном месте не лежала лосиная шкура, служившая подстилкой, не было и оленьей шкуры, под которой было так тепло спать. И лосиные, и оленьи шкуры должен принести тот охотник, который поселится у ее очага. Но охотники еще жили в охотничьем лагере, и Тибу не смел появляться со свадебным даром. Ясной Зорьке пришлось лечь на голую землю, поближе к раскаленным камням очага.
Глава 21
Ясная Зорька недолго скучала одна в новой землянке. Скоро полили осенние дожди, и охотники, покинув лагерь, перешли жить в стойбище.
Очаг, казалось, запылал жарче, сухие сучья затрещали веселее в землянке Ясной Зорьки, когда Тибу с огромным ворохом оленьих и лосиных шкур, согнувшись, вошел через входное отверстие и присел рядом с ней у очага.
Веселее стало и в других землянках. Женщины целыми днями варили мясо и рыбу, чтобы досыта, повкуснее накормить охотников. За лето и осень скопили немалые запасы, и теперь пищи было вдоволь.
Охотники не выходили за стойбище. Наконец настало время отдыха, они лежали на мягких шкурах, грелись у очагов, ели, спали.
Скучно и одиноко было только колдуну. Чтобы как-нибудь скоротать сумрачные осенние дни, он стал вырезать из кости амулет взамен потерянного. Сухая кость плохо поддавалась кремневому резцу. Льок положил ее в горшок с водой и через два дня принялся за работу. Теперь резец мягко врезался в кость, не крошил и не расщеплял ее. Человечек получился даже лучше, чем прежний. У того голова была круглая и гладкая, как лесной орешек, а руки были намечены просто двумя ровными бороздками. А у человечка, которого сделал Льок, на голове была колдовская шапка, прижатые к груди руки держали большой круглый бубен.
Но вот и амулет был готов, а дожди все еще не прекращались. Тогда Льок вспомнил, как Ау однажды пожаловался ему, что не умеет делать орудия. Льок решил помочь другу. Среди вещей старого колдуна он нашел ровный красивый наконечник для стрелы. Льок внимательно разглядел его со всех сторон и взялся за отбойник. Времени было много, терпения у него хватало… Постепенно отбойник в его руках стал послушнее, и дело пошло на лад.
Пока охотники отдыхали, молодой колдун сделал пяток наконечников для стрел и столько же для копий и дротиков.
За этим занятием он и не заметил, как прошла пора дождей и закружился первый снег. Но земля еще не промерзла, и снег быстро таял. Холодные дожди постепенно сменялись заморозками, осенние ветры сбросили поблекшие листья с деревьев. Все реже и реже трещал валежник под тяжелой пятой медведя, — чуя близкие снегопады, медведи залегли на долгую зиму в берлогу. Надвинулись тесные ряды по-зимнему низких туч, и вихри закрутили колючий снег, забивая им каждую впадину. Потом ветры улеглись, начался тихий снегопад, и тяжелые белые шапки, покачиваясь, повисли на поникших ветвях елей. Гибкие вершинки березок и осин пригнулись, и их завалило пухлыми сугробами. Настала северная зима, морозная, с частыми метелями и лютой пургой — для всех голодная пора…
Зимний промысел начинался охотой на лосей. Как только снег лег ровной пеленой, Ау и Бэй на лыжах пошли в лес.
Поиски не были напрасными. К полудню они наконец напали на тропу, протоптанную к водопою лосями.
Ау нашел удобное для засады место, где вдоль тропы тянулся ряд приземистых сосен. Сюда-то он и привел на следующий день охотников.
Охотники выбрали деревья с толстыми, крепкими сучьями и устроили на них небольшие помосты из жердей. На каждом таком помосте залегло по два охотника. Густые ветки хорошо укрывали их, а чтобы сохатый не учуял человека по запаху, охотники обсыпали свою одежду растертой между ладонями хвоей.
В лесу было так тихо, как только может быть зимой в безветренный день, когда не шелохнет ни одна веточка. Лишь изредка, с глухим шумом то там, то тут обрушивались с елей слежалые шапки снега. Сорвавшийся с вершины ком сбивал снеговые пласты с нижних ветвей. Все дерево приходило в движение — широкие ветки, освобожденные от тяжести, как живые, поднимались кверху. Выросший по пути ком грузно падал, вдавливаясь в пуховую пелену и вздымая вокруг дерева серебристое облачко снежной пыли.
Льок лежал на помосте рядом с Ау. Когда поблизости с одной из чернеющих елей обрушилась лавина снега, Ау радостно шепнул ему на ухо:
— Это Роко дает нам знать, что посылает лосей.
Но прошло еще немало времени, пока недалеко от них качнулись ветки приземистых сосен и на тропе показалось лосиное стадо. Впереди шел старый самец. За ним осторожно выступала крупная лосиха, и около нее, то отставая, то забегая вперед, трусил лосенок. Несколько поодаль шли еще две лосихи с лосятами.
Льоку приходилось видеть лосей только издали — у лосей хорошее чутье, они не подпускают близко человека. Но сейчас старый самец шел ровным шагом, устало мотая головой, отягченной громадными, широкими рогами. Не доходя до сосен, где залегли охотники, он вдруг остановился и, шумно втягивая в себя воздух, стал медленно водить по сторонам горбатой мордой. Кроме острого запаха растертой хвои, он ничего не учуял.
Некоторое время лось стоял в нерешительности, настороженно озираясь. Лосихи послушно замерли на месте. Наконец вожак, опустив чуткие уши, медленно двинулся вперед. Когда он поравнялся с сосной, где лежали на помосте Ау и Льок, Главный охотник с силой метнул копье. Лось, всхрапнув, отпрянул в сторону — копье глубоко вошло ему в бок. Тотчас на стадо посыпались копья. Лосенок шедшей позади всех лосихи с жалобным мычаньем повалился ей под ноги. Лосиха неуклюже метнулась назад, и копье, которое Тибу как раз нацелил на нее, лишь скользнуло по ее гладкой шерсти. Испуганно мыча, лосята поскакали вслед за матками, забавно вскидывая задние ноги.
Уже давно стадо скрылось в лесу, но вожак, сделав два-три шага, остановился, копье, раскачиваясь от его движений, причиняло невыносимую боль; смертельно раненный самец, дрожа всем телом, с грозным фырканьем медленно поднял кверху морду. Небольшие глаза, злобно сверкая, отыскивали невидимого врага… Но кругом по-прежнему было тихо, охотники притаились на помостах. Из широкой раны лося сочилась, поблескивая на солнце, струйка крови, пятная чистый снег. Как ни вынослив был старый лось, но вскоре от потери крови он стал заметно слабеть. Отягощенная широкими лопастями рогов голова нет-нет да и клонилась к снегу. С усилием поднимая ее, он пошатнулся и, чтобы не упасть, шире расставил передние ноги. Но колени дрожали все сильнее и сильнее, и вот наконец голова бессильно уткнулась в снег и больше уже не поднялась…
С радостными криками охотники соскочили с помостов. Завидев людей, лось приподнял куст громадных рогов, но сил уже не хватало — ноги подломились, и с коротким мычанием, полным боли и гнева, он тяжело рухнул на землю.
Теплая кровь только что убитой добычи — любимое лакомство охотников. На шее у лося прокололи жилу, и охотники постарше поочередно припадали к ней ртом. Молодежи оставалось подбирать ладонями алый, солоноватый снег. Льок тоже стал глотать ярко-красные комки.
— Уходи, — сердито сказал Нюк колдуну. — Нам надо мириться с лосем. Непосвященному нельзя на это смотреть.
Льок грустно побрел из лесу. Дойдя до Священной скалы, он вытащил припрятанный в расщелине отбойник. Постепенно, точка за точкой, на гладком красном граните появились очертания лося с громадными, широкими лопастями рогов, с торчащим в боку обломком копья.
Глава 22
Старики испугались снов и пропустили осенний промысел на морских зверей у Кучи островов. Стойбище осталось без толстых и крепких шкур, из которых шили непромокаемую обувь и одежду, без жира, которым смазывали лицо и руки, чтобы кожа не трескалась на ветру и морозе. Теперь надо было наверстать упущенное — набить побольше моржей за время зимней охоты.
Как только ударили крепкие морозы и вдоль берегов залива протянулась полоса льда, охотники вышли на трудный и опасный моржовый промысел. Шкура у моржа такая толстая, что ее не пробивает ни каменный, ни костяной наконечник. Лишь на загривке, под толстыми складками, кожа у него потоньше, но складки разглаживаются, когда морж скачками передвигается по льду, опираясь на короткие ласты. В уязвимое место и должен ударить охотник копьем или гарпуном, а для этого ему нужно подобраться к зверю вплотную.
На моржовый промысел выходили на ладьях, чтобы с моря подойти к береговому припаю и отрезать отдыхающему на льду «усатому старику» путь к открытой воде. Зимнее море и сильный зверь с мощными клыками были опасными противниками. Нередко случалось, что раненый морж в ярости бросался на ладью и опрокидывал ее своими бивнями. Бывало и так, что льдины, сдвинувшись под натиском ветра, сдавливали и крошили в щепы ладью.
На этот опасный промысел колдуна брали с собой, надеясь, что его духи охранят и пошлют удачу.
Снова шел Льок с охотниками по знакомым местам к хранилищу промысловых одежд. Он не был здесь с того страшного утра, когда, спасая друга, решился на обман рода.
Охотники тоже не заглядывали на эту поляну меж скалами, боясь Кровавого Хоро. Но на охоту за моржами не поймешь без зимней промысловой одежды.
От хранилища двинулись к морю. На берегу среди скал чернели полузанесенные недавней пургой ладьи. Охотники налегли на вмерзшие лодки и с трудом сдвинули их с места. Дальше пошло легче; ладьи, взвизгивая, заскользили по припорошенному льду.
Охотники старались не загреметь днищем, не стукнуть веслами — звук по воде разносится очень далеко. Наконец лодки дотащили до чистой воды, и они, обламывая еще не окрепший у самого края лед, скользнули на невысокую волну.
Было пасмурное, почти безветренное утро. Небо было серым, и только на востоке, там, где оно сходилось с морем, зеленела полоска чистого неба. Медленно перекатывались тяжелые валы, они тоже были темно-серые, и лишь их гребни, вздымаясь, отсвечивали зеленым.
Ладьи разделились. Сидя на корме лодки, шедшей вдоль береговых льдов, Льок смотрел, как медленно удаляются в противоположную сторону две другие ладьи. В лодке, где был Льок, сидели Бэй, старый Нюк и Тибу. Тибу тоже был впервые на моржовом промысле и, подобно Льоку, озирался по сторонам.
Долго плыли вдоль ледяной кромки. В белесой полутьме над морем чуть виднелось мутное пятно солнца. Охотники, не отрываясь, глядели на прибрежный лед: не лежит ли между торосами «усатый старик»?
Льоку очень хотелось первому заметить зверя, и он, напрягая зрение, не отводил взгляда от ледяных глыб. Но ему не повезло. Именно в тот миг, когда он прикрыл усталые глаза ладонью, охотники увидели за нагромождением смерзшихся льдин туловище моржа.
Бэй и Тибу еще несколько раз осторожно взмахнули веслами и круто повернули ко льду. За торосом раздался короткий низкий рев, похожий на медвежий. Нюк подал знак, и Бэй ловко подвел ладью к кромке. Тотчас же старик бесшумно вылез на лед, держа в правой руке копье с длинным наконечником. К копью был привязан тонкий, но крепкий ремень, другой конец этого ремня, свернутого на корме кольцами, был прикреплен к деревянному чурбану, лежавшему на дне лодки. Нюк пополз к торосу, прикрываясь широкой обледеневшей доской. Бэй, следивший за каждым его движением, понемногу отпускал ремень, а Тибу, опираясь веслом о льдину, удерживал ладью на месте.
За торосом послышался шумный вздох, и кто-то тяжело заворочался. Нюк пополз быстрее и скоро исчез за гребнем наломанных морем льдин.
Вновь раздался рев «усатого старика», но не короткий и сонный, как раньше, а протяжный и грозный.
Из-за тороса показалась круглая голова с большими клыками, белевшими из-под усов. Громко шлепая ластами, громадный зверь неуклюжими прыжками пробирался к воде. Ослепленный болью, он направился прямо на лодку. Бэй успел оттолкнуть ладью в сторону, и огромная туша с громким всплеском тяжело плюхнулась в море, вздымая тучу брызг. В тот же миг Бэй выбросил свернутый кругами ремень и деревянный чурбан-поплавок.
Подбежал к краю льда старый Нюк, но в ладью не сел. Приставив к глазам ладонь, он так же, как другие, смотрел на воду. Ни моржа, ни поплавка не было видно в волнах. Не забился ли зверь под лед, тогда прощай и добыча, и гарпун с ремнем! Облегченно вздохнули охотники, когда из воды наконец выпрыгнул деревянный чурбан, а за ним, чуть поодаль, высунулась усатая голова. Зверь был тяжело ранен. Вода вокруг него потемнела от крови. С шумом выпустив и вновь набрав в себя воздух, зверь опять нырнул. Он показывался еще не раз и все чаще и чаще — видно, быстро слабел от потери крови. Бэй и Тибу, налегая на весла, подвели ладью к качавшемуся на волнах и уже не уходящему под воду чурбану. Обрубок подняли в лодку, добрались до ледяной кромки и перекинули его Нюку. Откатив чурбан подальше от воды, старик несколько раз обмотал ремень вокруг ледяного выступа. Теперь и Бэй выпрыгнул из ладьи и вдвоем с Нюком стал осторожно выбирать ремень. Они подтягивали его до тех пор, пока у берегового припая не показалась туша уже совсем обессилевшего, но, на счастье охотников, еще живого моржа.
Нюк быстро сделал из ремня петлю и ловким движением накинул ее на животное. Медлить было нельзя — у мертвого моржа легкие тотчас наполняются водой, и он камнем уходит на дно. Бэй зацепил веслом проплывавшую мимо большую плоскую льдину, прыгнул на нее и подогнал к зверю. Накинув вторую петлю на передние ласты моржа и упираясь ногами в край льдины, он подвел ее под тушу. Судорожным предсмертным движением морж сам налег на опустившийся под его тяжестью край льдины. Она так сильно накренилась, что Бэй едва удержался на ногах; потом медленно выпрямилась, подняв уже мертвое животное.
«Усатому старику» распороли брюхо. Смрадом пахнуло от дымящихся окровавленных внутренностей. Даже привычные охотники отвернули лица. Льок обрадовался, когда Нюк велел ему идти на берег и разжечь костер, чтобы остальные охотники, завидев дым, пришли на помощь. Он торопливо собрал выброшенный осенними бурями плавник и развел огонь.
Охотники с других лодок приметили условный знак, и скоро две ладьи подошли к месту, где лежал уже выпотрошенный морж.
Льок издали увидел, что Нюк, вытащив из-под своей малицы шкуру неблюя[1] и держа ее перед собой, кланялся то убитому моржу, то морю — так охотники совершали обряд примирения. Потом Нюк подошел к краю ледяного припая и бросил шкуру в волны.
За Нюком каждый из охотников бросил хозяину моря свой дар — заранее припасенные гусиные грудки. На этом обряд примирения с морем был окончен.
Тяжелые снежные тучи заволакивали небо, стало темнеть раньше, чем надвинулся вечер. Охотники поторопились перетащить тушу моржа на самый берег, лодки тоже нельзя было оставлять на льду. Береговой припай ненадежен — налетит шторм, вздыбит лед, переломает его, искрошит в куски и унесет в море.
Обмотав тушу ремнями, охотники потянули ее к берегу. Морж попался очень крупный, не раз пришлось останавливаться и отдыхать, пока не выбрались с добычей на твердую землю. Потом вернулись за лодками, их тащили уже в густых сумерках под хлопьями снега.
Глава 23
У соседней бухты, на опушке леса, с давних пор стояла землянка, вырытая для тех, кого ночь застигла у моря. В ней собрались заночевать охотники, чтобы с утра приняться за разделку моржовой туши.
Моржа подтащили к костру и наготовили целую гору валежника, на всю долгую ночь. Охранять тушу остался Нюк. Кряхтя, он опустился на вязанку хвороста у самого огня.
Ау шел впереди. Перед тем, как завернуть за выступ скалы, он оглянулся. Ярко светил костер, очерчивая красно-желтый круг на снегу, и в этом светлом круге, скорчившись, сидел старый Нюк. Ау знал, что значит пробыть морозную ночь у костра: подсядешь поближе к огню — он обожжет лицо и опалит одежду, отодвинешься — холод доберется до костей. А в тесной землянке охотники лягут вповалку, каждый прижмется грудью к спине соседа, и скоро всем станет тепло, как под шкурами в своем жилище. Ау пожалел старика. Нюк уже давно без ошибки угадывал непогоду за два вперед — так болели и ныли стариковские кости перед дождем или бурей, и Ау подумал: плохо же будет старику в долгую холодную ночь без сна. Он приостановился, пропуская мимо себя охотников, и, когда последний скрылся за поворотом, вернулся к костру.
— Иди в землянку, — сказал он Нюку, — я останусь тут.
У старика так ломило все тело, и мысль о теплой землянке была так заманчива, что он молча встал и, захватив копье, пошел к лесу. У туши остался Ау.
Летом всегда можно узнать по краснеющему на краю неба зареву, скоро ли начнется восход. Зимой ночь кажется бесконечной. Слишком длинной казалась она и молодому охотнику. Скупо подкидывая топливо в костер, Ау с досадой думал:
«Верно, духи, надвинувшие на землю шапку, крепко заснули и позабыли ее снять!»
Клубы едкого дыма резали ему глаза, одежда отсырела и словно давила плечи. Ау попробовал вытянуться на туше моржа, но зубы у него застучали от озноба. Он снова подсел поближе к костру, но тогда искры стали злобно жалить лицо.
Не один Ау маялся в эту студеную ночь. Неподалеку на берег бухточки выбрался скрытый темнотой старый медведь. Его родичи уже давно залегли по берлогам и теперь безмятежно дремали в тепле. Он тоже вовремя залег на зимовку, но медведь помоложе выгнал одряхлевшего старика из его убежища и занял берлогу по праву сильного.
Старик уступил не сразу и жестоко пострадал в схватке. Клочьями повисла шерсть, не прикрывая ран, и мороз усиливал боль. Неудачник был обречен на голодную смерть, но медведи очень выносливы и живучи. Он не ел уже много дней и все-таки бродил по снегу, ослабевший, но лютый от голода. И вот наконец его чуткий нос уловил запах моржового мяса. Голод повел его прямо к тому месту, где лежала пища.
Хищные звери всегда боятся огня. Но сейчас даже дымное пятно костра не испугало медведя — вместе с дымом до него доходил запах моржатины. Ничто не могло теперь удержать одичалого зверя. Он перестал шататься от слабости, забыл о боли в ранах и собрал остатки былой силы, которой хватило бы еще на несколько недель вялого шатания по лесу, чтобы истратить ее в короткой борьбе за кусок мяса. Встреться ему в этот миг недавний враг, выгнавший его из теплого логова, молодому медведю, пожалуй, пришлось бы отступить.
Но перед зверем был человек, вооруженный копьем. Медведю не удалось незаметно подкрасться к Ау. На охотника пахнуло зловонием гниющих ран и медвежьей шкуры. Ау зашел за костер и, уперев конец древка в ногу, выставил острие копья вперед. Огромная туша перемахнула прямо через огонь. Наконечник копья, пропоров медвежье брюхо, врезался в кишки и вышел наружу. Но древко не выдержало и переломилось, как сучок, и страшная тяжесть обрушилась на Ау и придавила его. Теперь некому было подкладывать хворост в костер, и он понемногу начал гаснуть.
Старые люди спят меньше молодых. В середине ночи Нюк проснулся и больше не мог заснуть. Мысль, что не он остался охранять добычу, мучила охотника. Как ни хотелось еще полежать в тепле, как ни страшил холод, Нюк все же заставил себя подняться.
В землянке было тесно, некуда даже ногу поставить, и старик пополз по телам спящих к выходу.
Колючий холод и мрак зимней ночи охватили Нюка. Опираясь на древко копья, он пошел к берегу, стараясь не сходить с свежепротоптанной охотниками тропинки. Дойдя до поворота, из-за которого открывался берег, старик остановился — зарева костра не было видно.
— Ау заснул, и огонь потух! — ужаснулся Нюк. — Как простить Главному охотнику такой проступок? Теперь злой дух принесет нам беду!
Нюк вспомнил, что Ау раз уже нарушил обычай — не поехал на Кучу островов, и потому важный промысел был упущен. А сейчас, пожалуй, не удастся набить и моржей.
По законам стойбища заснувшего у охранного костра ждала строгая кара. Старый Нюк топтался в нерешительности. Ведь это он, а не Ау должен был всю ночь бодрствовать подле мертвого зверя. Молодой охотник хотел ему добра. Но благодарность к пожалевшему его Ау не смогла перебороть гнева Нюка — слишком велика была вина Главного охотника, из-за него всему стойбищу грозит несчастье!
Нюк вернулся в землянку и разбудил спящих. Он сказал, что Ау, видно, заснул и упустил огонь. Может быть, ветер уже размел пепел, и костер придется разжигать заново. На ветру огонь добыть труднее, чем в землянке, проще здесь зажечь смолистые сучья и с ними идти к берегу.
Пламя металось на ветру, от этого мрак впереди казался еще чернее, и охотники поняли, что случилось, только подойдя вплотную к погасшему костру.
Медведь был еще жив, но так ослабел, что даже не сделал попытки подняться, он лишь приподнял голову и, почуяв людей, с коротким ревом бессильно уткнулся мордой в распоротое брюхо моржа.
Ау охотники нашли не сразу. Огромная туша медведя совсем накрыла его, только нога в меховой липте высовывалась наружу.
Копья со всех сторон впились в зверя. Он опять заревел, хотел подняться на передние лапы, но они подогнулись, и, ломая хрупкие наконечники копий, медведь рухнул, опрокинувшись на спину. Теперь все увидели голову Ау, его уродливо вывернутую руку. Бэй и Льок бросились к другу. Но разве может остаться человек живым под страшной тяжестью навалившегося медведя?
Долго длилось молчание, еще более тягостное, чем плач и крики. Нюк, который остался в живых благодаря тому, что Ау решил вместо него всю ночь просидеть у костра на морозе, Бэй, для которого Ау был и учителем, и лучшим другом, Льок, возлагавший на него столько надежд, и другие охотники, не проронив ни слова, стояли, опираясь на копья, и не могли отвести взгляда от мертвого товарища. Наконец, еле выговаривая слова, Нюк сказал:
— Зажгите костер!
Когда ярко заполыхало пламя, медведя оттащили в сторону. Зверь не изуродовал Ау, ни клыки, ни когти не коснулись молодого охотника. Медведь, придавивший его, сам истекал кровью. Но все-таки он дотянулся до туши моржа и изгрыз ему брюхо.
В боку зверя еще торчало копье Ау, древко его сломалось, но наконечник, который прошел насквозь, не задев кости, был цел.
Старик Нюк выдернул наконечник из раны и сказал:
— Он мой!
Взять оружие умершего Главного охотника означало занять его место.
Никто не возразил Нюку. Охотники были согласны.
Охотника полагалось хоронить там, где он умер. Тут же закапывали и зверя, виновника его смерти.
Земля так промерзла, что решили, не закапывая, насыпать над телом молодого охотника холм из камней. У медведя отрубили голову и лапы. Мертвого Ау положили на тушу зверя, прикрыли обоих валежником, потом стали сносить камни, выкапывая из-под снега. Медленно росла каменная насыпь.
Теперь Ау, которого погубил «лесной человек», сам превратится в медведя, будет бродить в этих местах, помогать сородичам в охоте, выгонять к ним зверя. «Лесному человеку» нужны крепкие, длинные когти, и потому отрубленные медвежьи лапы зарыли вместе с ним.
Когда насыпь была готова, рядом вбили высокий кол и насадили на него голову медведя. Пусть ее клюют птицы и поливают дожди, пусть она мерзнет зимой, а летом мучится от жары под солнцем. Такие же мучения будут терпеть и другие медведи, живущие в этом лесу, за то, что их родич убил человека.
Во время обряда похорон все распоряжения отдавал старый Нюк. Старик хорошо знал стародавние законы рода, и умершим предкам не за что было сердиться на него — он не нарушил и не забыл ни одного обычая. Охотники беспрекословно исполняли его приказания, они верили, что Ау будет хорошо, если при погребении они сделают все, что положено.
Закончив обряд, пошли спускать лодки на воду, чтобы продолжать промысел. Теперь в ладье на место Главного охотника сел старый Нюк.
Глава 24
Люди стойбища еще с детства приучались следить за солнцем; по тому, где оно стояло на небе, угадывали время дня, находили дорогу в лесу… Даже ребятишки знали: когда солнце выходит из-за ствола сосны с расщепленной верхушкой и заходит за громадную косматую ель на косогоре, то наступают самые короткие дни в году. Пройдут три-четыре ночи, и солнце начнет появляться левее сосны, а заходить, все больше и больше отклоняясь, правее древней ели.
С незапамятной поры эти короткие дни считались самым опасным временем года. Колдуньи рассказывали, что в детстве им довелось самим слышать от старух, будто бы в это время злые духи борются с добрыми, а солнце воюет со мглой. Кто не знает, что солнце дает тепло и посылает много-много пищи? Кто не знает, что мгла рождает двух близнецов — холод и голод? Чтобы солнце победило темноту, люди помогали ему, зажигая ночью костры, дающие, подобно солнцу, свет и тепло, и подобно ему, отгоняющие злых духов.
Вот почему и дети, и взрослые задолго до этого времени уже начинали собирать в лесу хворост и валежник, ломать еловые ветви и складывать в большие кучи вокруг селения. Еще осенью, не жалея сил, вытащили на берег подмытые рекой деревья, теперь их тоже приволокли к стойбищу. Наконец все было готово. Сложенные костры, которые оставалось только поджечь, опоясывали селение. Ждали лишь слова Главной колдуньи, чтобы начать празднество «помощи солнцу».
Вновь выбранная Главная колдунья не была такой мудрой, как Лисья Лапа. Та знала все приметы не хуже опытного охотника. Каждый год, когда наступали короткие дни, Лисья Лапа в звездные ночи приходила к сосне с расщепленной верхушкой и, стоя на одном и том же месте, у самого толстого корня, подолгу смотрела в небо. Старуха тут же у сосны делала зачем-то зарубки и выцарапывала какие-то значки на своем рябиновом батоге.
Многое знала Лисья Лапа. Подобно охотникам, по стуку дятла о сухостой она могла угадать, какая завтра будет погода. Нередко, присев на корточки, она рассматривала, по-весеннему ли плотно слежался снег или он еще по-зимнему рыхл и пушист. Ее сгорбленная фигура встречалась охотникам и на морском берегу, и в лесной чаще. Вещая колдунья медленно бродила повсюду, опираясь на батог, и зорко приглядывалась и прислушивалась ко всему, что делалось в лесу и на море. Сам Главный охотник, старый Кремень, советовался с ней, с какого времени и с какого места начинать охоту.
Накануне празднества «помощи солнцу» охотники всегда собирались у землянки Лисьей Лапы, и она предсказывала им, какой промысел в этом году будет удачным, каких снастей побольше готовить зимой к весне и каких бед следует опасаться.
Лисьей Лапы не стало, одна за другой заменявшие ее старухи не знали ее мудрых примет. Когда охотники их о чем-нибудь спрашивали, они вместо ответа принимались жаловаться, что Льок отнял у них Священную скалу и им негде гадать. Что они могут теперь знать, раз им негде советоваться со своими духами?
Вот почему, когда Главная колдунья наконец объявила, что сегодня настала пора зажечь костры, старый Нюк пришел к Льоку и сказал:
— Вещая говорит, если ты хозяин Священной скалы, то и должен узнать, что ждет нас в этом году. Спроси твоих духов и к вечеру передай их ответ.
Пока Ау был Главным охотником, Льока никто не заставлял беседовать с духами и ему не приходилось хитрить и изворачиваться. Он вспомнил, как Ау выбросил в воду корешки, насылающие болезнь, и крикнул: «Не могу петлять, как заяц!» Льоку сейчас тоже хотелось крикнуть Нюку, что никаких духов он никогда не видел и не слышал, что они не приходят к нему, сколько бы он их ни звал, и ничего ему не говорят. Хотелось крикнуть, что ему надоело быть колдуном и обманывать сородичей. Но Льок промолчал. Как мог он признаться?! За обман сородичей покарают смертью не только его, но Бэя и других братьев.
Молодой колдун ушел в землянку, бросился на шкуру и долго-долго лежал без движения, невольно прислушиваясь к веселым голосам подростков, накладывающих еловые ветки поверх хвороста, чтобы, когда зажгут костры, огонь давал искры.
Значит, опять Льоку надо было что-то придумывать и говорить за духов, никогда им не виденных и никогда не слышанных. Опять надо всех обманывать, даже тех, кого он горячо любил. Ведь Бэй верил, что он передает волю духов! Где же они, эти духи? Ни во сне, ни наяву не показывался ни один из них.
Льоку хотелось убежать подальше от стойбища, от братьев, от охотников. Но куда уйдешь с дротиком в руках? Разве человек, как сыч, может жить совсем один? Льоку припомнилось, как лет пять назад, во время промысла за гусями, заблудился его сверстник. Когда его нашли поздней осенью, он не узнавал никого из сородичей, бросался на них, пытаясь, как зверь, искусать людей. Ему связали руки и ноги, закопали в яму и завалили ее камнями. Такая же участь ждет и того, кто посмеет обмануть сородичей.
Чувствуя, как озноб леденит спину и теснит грудь, Льок забрался под оленьи шкуры и, пригревшись, незаметно заснул. Страшные сны мучили его, он стонал, метался в узкой колоде, молил кого-то о пощаде.
Под вечер Льока разбудили голоса, кто-то настойчиво звал его выйти наружу.
В темноте, пошатываясь после тяжелого сна, Льок добрался до выхода. Откинув полог, он долго жмурился, пока не рассмотрел, что сумрачный и тихий день был уже на исходе. Мутные тучи затягивали небо, и в воздухе бесшумно падали редкие снежинки.
Перед землянкой сидели на корточках охотники, впереди стоял Нюк.
— Что тебе сказали духи? — спросил Главный охотник, озабоченно глядя на колдуна. — Каков будет год?
Льока охватила оторопь — он проспал то время, что ему дали для беседы с духами, и он ничего не успел придумать! Но охотники ждали ответа, надо было говорить.
— Они сказали многое, — начал Льок и, чувствуя, что от страха подгибаются ноги, присел на пороге землянки. — Они велели тебе задавать вопросы.
— Какой промысел будет удачлив? — тотчас спросил старик.
«Ты-то сам любишь больше всего покачиваться на лодке в безопасном проливе у Кучи островов», — подумал Льок и потому ответил:
— В этом году охотники убьют много «пестрых мышей».
По довольному лицу старого Нюка было видно, что ответ ему понравился.
— Удастся ли добыть новую гору жира и мяса? — нетерпеливо выкрикнул Тибу.
Льок посмотрел на старчески сгорбленную спину Нюка.
«Где такому метнуть гарпун в стремительного кита!» — решил он.
— Нет, в этом году не надо ее даже искать.
— Это правда, никогда гора жира и мяса не попадается два лета подряд, — одобрительно кивнув головой, подтвердил Нюк.
Один за другим задавали охотники вопросы, и колдун старался каждому дать ответ. Выходило, что предстоящий год не многим будет отличаться от прошедшего. Но это не показалось никому странным — жизнь людей стойбища и на самом деле была однообразной.
Льок уже радовался, что тягостное испытание кончилось, как вдруг Бэй спросил его:
— Не придется ли кому-нибудь из охотников схватиться с медведем?
Лгать и горячо любимому брату Льок не хотел.
— Надо остерегаться, — сказал он уклончиво.
Но Бэй стал расспрашивать: не сердятся ли на них «лесные люди» и где они собираются подстеречь охотников?
— Духи не велят больше говорить. Уходите, — крикнул Льок и ушел в землянку. «Сегодня я спасся от беды, — порадовался он, — но когда-нибудь ложь меня погубит!»
Пробиваясь сквозь меховой полог, до Льока стали доноситься странные звуки: это колдуньи ударяли колотушками по гулко звучащей коже нагретого у огня бубна. В нетопленную землянку колдуна прополз сладковатый запах дыма, издали слышались веселые голоса.
В стойбище началось празднество. Размахивая пылающими сосновыми сучьями, люди разом со всех сторон подожгли заготовленный хворост. Огненное кольцо охватило селение.
Взрослые и дети прыгали через дымящиеся костры — считалось, что дым очищает человека от всего злого. Все, у кого в сырую погоду ломило кости, ныла натруженная спина или мучили другие недуги, надев вывороченную наизнанку одежду, становились в клубы дыма, чтобы он выгнал злых духов, притаившихся в складках.
Самая долгая ночь в году для людей стойбища проходила незаметно. Белесой пеленой дыма затянуло селение. Чтобы дым стал еще гуще, дети бросали в огонь пригоршни снега и пучки смоченных водою веток. Все забыли свои горести, плясали и пели, кричали на разные голоса, подражая то реву зверей, то крику птиц, перебегали от костра к костру. Землянки стояли пустые, даже самые маленькие дети не спали и веселились со старшими.
Только в одной землянке теплился огонь очага, и подле него одиноко сидела женщина. Это была Искра. Она прислушивалась к шумному веселью, но ей самой не было весело. Уж очень тяжелым был для нее прошедший год — еще не забылся ни Ау, ни ребенок, брошенный в кипящий поток Шойрукши.
Празднество кончилось только с наступлением утра. Весь день и следующую ночь люди отсыпались, а потом взялись за обычные дела. Женщины скребли и мяли добытые за год шкуры, выделывали из жил крепкие нити, чтобы к новым промыслам нашить достаточно одежды. Мужчины готовили охотничьи снасти, вытачивали костяные крючки для подледного лова. Хотя зима еще лютовала над стойбищем, но солнце уже звало весну и потому все дольше и дольше оставалось каждый день на небе.
Глава 25
Вскоре после празднества «помощи солнцу» Главный охотник вместе с двумя старухами — хозяйками стойбища — проверил запасы пищи. Ее оставалось уже немного, как это бывало каждый год к этому времени. Но голод все же не грозил селению — на берегу моря в десяти больших ямах хранились мясо и жир кита, которого убил великий охотник Ау.
Нюк велел готовиться к дальнему пути за китовым мясом. Два дня охотники чинили лыжи, распаривая их и вставляя в правилку. Те, у кого лыжи были ненадежными, делали новые. Женщины плели большие кошели из бересты, привязывали к ним широкие ремни, чтобы ношу было удобно нести на спине.
Всем предстояло немало дней утомительного труда. Китового мяса зарыто в ямах столько, что перенести его сразу было невозможно. Но женщины не могли идти с мужчинами до самых ям. Ночь застала бы их в дороге, а женщинам полагалось ночевать в своих землянках, чтобы хозяйки лесов, болот и гор, ревниво охраняющие свои владения, не смогли их обидеть. Нюк, вспомнив, как делали в таких случаях раньше, решил, что охотники будут сбрасывать ношу в условленном месте на расстоянии полудня ходьбы от стойбища и возвращаться назад к ямам за новым грузом. До условного места женщины успеют дойти и еще засветло вернуться назад.
На третий день утром охотники на лыжах двинулись в дальнюю дорогу. Льок отправился с ними. Шли один в затылок другому. Лыжи идущих позади легко скользили по накатанному следу, зато переднему приходилось трудно — он прокладывал лыжню по снежной целине. Поэтому время от времени передний круто сворачивал в сторону, пропуская мимо себя всех лыжников, и последним бежал за ними.
На другой день к вечеру охотники увидели на скале столб, сложенный из камней.
Охотники приостановились. Старый Нюк вышел вперед, чтобы принести благодарность киту — предку рода, который милостиво накормит своих потомков мясом. Потом двинулись дальше, уже не смея проронить ни слова. Медленно приближались охотники к месту хранения запасов. Вдруг по цепи лыжников прошел повторяемый шепотом приказ Главного охотника:
— Стой!
Те, кто был впереди, увидели, что снежная пелена испещрена следами и камни над одной ямой разворочены.
В страхе и гневе охотники застыли на месте. Из-за камней на краю ямы поднялся высокий, широкоплечий человек в изодранной одежде. Хотя человек стоял спиной, все тотчас узнали его. Это был Кремень! В одной руке он держал кусок мяса, а вторую приставил ко лбу. Должно быть, он расслышал хруст снега под лыжами, но не понял, откуда шел звук, и смотрел в другую сторону. Тихий вздох ужаса пронесся по толпе охотников. Кремень обернулся.
— Смерть Кровавому Хоро! — закричал Нюк. — Смерть ему!
— Смерть ему! Смерть! — подхватили охотники и, наталкиваясь друг на друга концами лыж, бросились на врага.
Старик сорвал что-то с шеи и, подняв руку, закричал:
— Я Кремень! Я не Хоро! Льок обманул вас! Ему, а не мне смерть!..
Но было поздно. Передние охотники добежали до старика, сшибли его с ног. Вмиг подоспели и другие. Все сбились в кучу и, когда потом разом расступились, то на снегу неподвижно осталось лежать изуродованное тело старика.
Гул встревоженных голосов вдруг прорезал звонкий крик Тибу:
— У него нет зубов! Это не Хоро!
Старики всегда говорили, что у Кровавого Хоро острые, словно у щуки, зубы, от их прикосновения человек покрывается черными пятнами и умирает.
Старый Нюк наклонился над телом и увидел, что Тибу сказал правду.
— Это не Кровавый Хоро, — подтвердил он, рассматривая мертвеца. — Это беззубый старик. Значит, это настоящий Кремень.
Потом Главный охотник наклонился еще ниже и разжал мертвую руку. На снег упал вырезанный из кости человечек, которого в стойбище называли отцом колдунов. Голова у него была круглая, как лесной орешек, туловище напоминало короткую палочку, руки были намечены черточками. Нюк, переживший трех колдунов, много раз видел такую фигурку. Она была четвертым, самым главным из семи амулетов в колдовском ожерелье, ей полагалось всегда висеть на груди колдуна. Как могла попасть фигурка в руку Кремня?
— Где твой отец колдунов? — быстро обернувшись к Льоку, спросил Главный охотник.
Льок побелел — значит, он обронил его в хранилище промысловых одежд, когда, спасая друга, готовил гибель Кремню.
— Покажи его! — повторил старый Нюк.
Льоку перехватило горло, он рванул ворот, и пальцы его нащупали новый амулет, который он сам вырезал из кости в пору дождей. Юноша вздохнул свободнее. Он снял ремешок с шеи и протянул его Главному охотнику.
— Вот, смотри, — сказал он.
— Это не тот! — покачал головой Нюк. — Ни один колдун не носил такого! Вот настоящий. Скажи, как мог он попасть к Кремню? Скажи, почему Кремень назвал твое имя?
Льок ничего не ответил.
— Я спрашиваю тебя, колдун! — грозно крикнул Нюк. Льок молчал.
— Пусть он спросит своих духов! — пришел на помощь брату Бэй. — Какой человек что-нибудь понимает во всем этом? И ты, Нюк, ничего не понимаешь.
— Я не понимаю, — согласился старик. — Но мы должны понять! Спроси, колдун, своих духов.
Растерянно смотрел Льок на лежавшего на снегу мертвеца. Что сказать сородичам? Как объяснить, что у Кровавого Хоро нет зубов? Как объяснить, что амулет оказался в руке старика? Почему у него, Льока, на ремешке новый человечек? Что кричал про него Кремень?
Охотники в угрюмом молчании ждали его объяснения. В этой напряженной тишине Льок почувствовал, что смерть совсем близка. Не увидеть ему восхода медленно уходящего за море солнца.
Но тут он вдруг понял, что закат солнца — это отсрочка гибели.
— Пока земля не покроет мертвого, духи не придут на беседу со мной, — проговорил он, сообразив, что хоронить покойника можно лишь до заката солнца.
Смерть отодвинулась от него, но так много было истрачено сил за это короткое время, что Льок зашатался и, теряя сознание, упал на снег.
Очнулся Льок в стороне от ям, за скалой, защищавшей от ветра. Когда от открыл глаза, первое, что он увидел, было склоненное над ним лицо брата.
— Ты жив! — обрадованно проговорил Бэй. — Ты был белый как снег.
Уже совсем стемнело, и семь костров ярко полыхали на поляне в прибрежном лесу. Охотники разожгли их, чтобы дух непогребенного Кремня не мог приблизиться к ним. Пока солнце не разгонит ночную тьму, никто из них не осмелится выйти за круг огня.
«Пройдет длинная зимняя ночь, настанет утро, что я скажу тогда сородичам?» — с тоской подумал Льок.
— Бэй, — прошептал он. — Моя голова не находит ответа, посоветуй — как быть?
— Что я могу сказать, — проговорил Бэй. — Я ничего не понимаю. Кто же лежит там у ям — Кровавый Хоро или Кремень?
— Это Кремень, — тихо ответил Льок.
— Как же попал к нему твой амулет?
— Я потерял его в хранилище промысловых одежд. Бэй схватил Льока за руку.
— Ты был в хранилище?!
— Был…
И Льок рассказал всю правду.
Бэй в ужасе отодвигался все дальше и дальше от брата. Льоку показалось, что Бэй хочет уйти совсем, и он торопливо заговорил:
— Вспомни, что ты сказал, когда надо было спасти Ау от верной смерти: «Ты хитрый, ты придумаешь!» Я придумал, а ты теперь отворачиваешь свое лицо. Разве Ау не был твоим другом? Разве лучше было, чтобы погиб Ау, а не Кремень?
Бэю нечего было возразить на это. Он подвинулся к Льоку и медленно, едва выговаривая слова, взволнованно прошептал:
— Завтра тебя задушат! Убьют и меня, и наших братьев. Тебя за обман, нас за то, что мы дети женщины, давшей жизнь обманщику рода.
Оба долго молчали.
Когда затихли голоса охотников у костров, Льок проговорил:
— Давай убежим. Бэй задумался.
— Убежим, — наконец повторил он. — Тебя не будет, — кто поймет, как все произошло?.. Наши братья останутся живы.
Лыжи обоих лежали рядом. С дротиком Бэй никогда не расставался. Братья подвязали лыжи и стали на лыжню.
Взглянув в последний раз на костры, на сородичей, среди которых им больше никогда не жить, они бесшумно заскользили по накатанному следу.
Зимняя ночь длинна, и к утру беглецы успели пройти немалый путь. Уже рассвело, когда братья остановились у каменной гряды, с которой ветер сдул снег. Здесь они свернули с лыжни, сняли лыжи и пошли, не оставляя на голом камне следов, в глубь леса. Потом беглецы опять надели лыжи и побежали дальше.
Часть вторая
Глава 1
Братья не побежали на восток — там простиралось Белое море. Не пошли они и на запад — там, по рассказам стариков, жили «лесные люди» — медведи, зорко следившие, чтобы нога человека не ступала в их владения. Беглецы не повернули свои лыжи и на север. Зачем идти на север, где стоит вечная ночь? Они направились на юг, откуда летят весною лебеди, гуси, утки.
Бэй бежал впереди. Он был сильнее и прокладывал лыжню. Путь был нелегким. Приходилось то пробираться сквозь чащу молодняка, то перелезать через огромные стволы рухнувших от старости сосен, то подниматься на крутые холмы, то спускаться с откосов.
Когда смерклось, они забрались на дерево, и пристроившись, как птицы, спали до рассвета в развилке толстых сучьев. Потом снова двинулись на юг.
Днем братья увидели лыжню. Значит, близко какое-то стойбище. Идти ли туда или пробираться дальше? Они хорошо знали — незваных пришельцев встречают, как врагов, и потому решили идти вперед, пока хватит сил. Еще дважды попадались беглецам следы чужих лыж, однако, ни разу не встретились люди.
Со вчерашнего дня они ничего не ели, но Льок напрасно уговаривал брата подстеречь олененка, когда им случилось набрести на изрытую оленьим стадом лужайку. Бэй не соглашался. Он боялся волков, всегда круживших зимой вблизи облюбованного ими стада. Дротик — не защита от волчьей стаи, и Бэй круто свернул в сторону.
Выйдя на большое, поросшее редкими сосенками болото, Бэй заметил, что ветер начинает по-особому, с тихим посвистом, нести поземку. Над дальним лесом быстро вырастала темная полоса. Льок не понимал грозившей беды, но для Бэя год жизни среди охотников не прошел бесследно, он знал по опыту, что означает этот посвист и почерневший небосклон. Будет пурга! Спастись от нее можно, построив укрытие из снега, чтобы отлежаться в нем до конца вьюги. Но времени было совсем мало, пурга близка, и Бэй повернул назад в лес.
На счастье братьев, это был ягодник, и кроме сосен, здесь было много поваленных бурей елей: под корнями одной из них оказалась берлога, покинутая медведем. Это было лучшим убежищем от пурги. Братья успели наломать ельника, завалили ветками вход в берлогу и улеглись на груде мха, заботливо натасканного прежним хозяином этого жилья.
Налетела вьюга и плотно занесла снегом вход. Ветер в лесу буйствовал, стучал ветками о стволы, но чем больше заметало берлогу, тем слабее доносился туда вой пурги. Братьям казалось, будто снаружи кто-то выводил тоненьким и очень злым голоском: «у-ую-ю… у-ую-ю…» Пригревшись на мягком мху, беглецы заснули.
Когда Льок проснулся, буря продолжала бушевать. Он прислушался. Сквозь толстый слой снега над ними слабо слышался свист мечущейся бури. А в берлоге было, как в землянке, — совсем темно, тихо и даже тепло. Плохо верилось, что снаружи, в лесу, неистовствует буря, замораживая все живое, что попадет ей на пути. Бэй не просыпался. Льок, радуясь, что не надо двигаться и можно еще спать, снова задремал. Ему приснилась мать. Она гладила его по голове, что-то говорила, но что — Льок не мог понять. От огорчения он даже проснулся и почувствовал, что щеки его мокры от слез. Льок закрыл глаза, стараясь вновь заснуть — может, мать придет еще раз, тогда он разберет, что она хочет ему сказать.
Сколько времени провели братья в медвежьем логове, они не знали — может, день, два.
Когда они выбрались из берлоги, их поразила тишина залитого солнцем леса. Не было слышно ни монотонного стука дятла о промерзший ствол, ни крика ворона, даже ветки не шуршали густой хвоей. Лес будто устал и теперь отдыхал от борьбы с непогодой. Братьям казалось, что они совсем одни в этом огромном пустом бору и никого, кроме них, не осталось в живых после губительной пурги.
Беглецы ослабели от голода, с трудом переставляли недавно еще легкие, а теперь казавшиеся такими тяжелыми лыжи.
Они набрели на место, где под снегом лежали тетерева. Как ни быстро взлетает испуганный тетерев, Бэй успел подбить дротиком крупную птицу.
На четвертый день их путь снова пересекла лыжня. Братья долго рассматривали ее: в их стойбище лыжи были короткими и широкими, а люди этого края, судя по бороздам, делали совсем узкие лыжи.
Братья остановились в раздумье. Уйти ли от следа или добраться по нему до неведомого стойбища? Сколько же еще времени блуждать им так? Чем эти люди опаснее тех, что живут еще южнее? Льок предложил попытать счастья. Бэй согласился с ним, молодого охотника мучил стыд — словно волки, опасаясь встречи с людьми, бродят они по лесу.
Они двинулись по лыжне, слишком узкой для их лыж. Вскоре им попалась удивительная находка — на снегу лежал большой глухарь, шея которого была зажата двумя палками.
— Это сделано человеком, — сказал Бэй, наклонившись над мертвой птицей. — Наше племя не знает таких хитростей.
— Съедим? — предложил Льок и потянулся к глухарю.
Бэй ударил брата по протянутой руке.
— Разве ты забыл, что стало с чужаком, забравшимся две зимы назад к Главной колдунье? — сказал он и, потянув Льока за собой, побежал вперед.
Вдруг из гущи ельника показался лыжник. На плечах его, спереди и сзади, висело по большому глухарю. Человек остановился, выставив вперед копье, но Бэй с криком «ей-ей!» отшвырнул в сторону дротик и, подняв руки, пошел навстречу незнакомцу. Тогда тот, воткнув в снег копье, сделал несколько шагов вперед.
Это был крепкий старик. Одет он был почти так же, как братья. Его короткий олений балахон, шерстью внутрь, был подпоясан ремнем, на котором висели какие-то мешочки, сбоку виднелся топор с засунутым за пояс топорищем. Он пытливо осмотрел пришельцев с ног до головы. Увидав на их груди нашитые кусочки китовой кожи, он закивал головой, словно поняв, откуда они пришли.
Несколько минут молча стояли они друг против друга — Бэй с поднятыми вверх руками, старик с вытянутыми вперед. Затем лыжник сложил руки на груди, и тогда Бэй сделал тоже самое. С трудом подбирая слова, старик спросил, зачем они пришли сюда? Бэй рассказал все, что они придумали с Льоком, — о нападении чужеземцев, о разоренном стойбище…
Старик, как видно, поверил рассказу. Он закивал, потом с уважением потрогал ожерелье из волчьих клыков, висевшее на груди Бэя и, сойдя с лыжни, повел рукой вдоль нее. Бэй понял, что старик велит им идти вперед, подобрал брошенный дротик и, подтолкнув брата, двинулся по узкому следу лыж. Старик шел позади.
Когда пахнуло сладковатым дымком жилья, лица беглецов побледнели. Что ждет их? Льок испуганно посмотрел на хмурого, сосредоточенного Бэя.
— Не будь трусом! — шепнул ему брат.
«Эти слова сказала мне мать, когда я поселился в землянке колдунов, — вспомнил Льок. — Не погубила бы Лисья Лапа нашу мать, все было бы по-иному!»
Между просветами сосен показалось селение. Навстречу со свирепым рычанием выскочила стая зверей, очень похожих на волков.
Льок окаменел от ужаса. Бэй поднял дротик, но старик что-то крикнул и, глухо ворча, звери остановились. Тут Льок заметил, что хвосты у зверей не поджаты, как у волков, а загибаются крючком.
— Это не волки, — сказал он брату. — Они слушаются людей, значит, живут с ними.
Приход двух незнакомцев вызвал переполох в стойбище. Из землянок, держа копья наперевес, выскакивали мужчины, со всех сторон сбегались женщины и дети.
Бэй торопливо спросил брата:
— Сказать им, что ты колдун?
— Ой, не говори! Все духи давно ушли от меня! — зашептал Льок. — Не говори. Нет во мне никаких духов… От них и пошли все несчастья!
Мужчины и женщины тесным кольцом окружили пришельцев. Жители этого стойбища мало чем отличались от сородичей братьев, только одежда женщин, разукрашенная кусочками меха, пестрела более сложными узорами.
Все что-то кричали, перебивая друг друга. Бэй и Льок напряженно вслушивались: многие слова казались знакомыми, и все-таки речь людей этого стойбища была непонятной.
Вдруг толпа затихла и расступилась. К ним неторопливо подходил широкоплечий, высокий человек. Полы его одежды из белой лосины были обшиты, как бахромой, прядями седой шерсти, срезанной с шеи самца-оленя, рукоятка топора за поясом была украшена резьбой. Он молча остановился перед братьями.
«Верно, это Главный охотник», — догадался Льок.
Старик, который привел их сюда — все называли его Кру, — стал что-то быстро объяснять, показывая то на пришельцев, то на себя.
Когда Кру кончил свой рассказ, широкоплечий и пожилой мужчины начали о чем-то переговариваться, молодежь почтительно прислушивалась к их словам. Братья удивились: у них на родине любой безусый охотник мог говорить наравне со старшими, Наконец старик повернулся к братьям.
— Наши мужчины не хотят вам вреда, — сказал он, — они говорят: «Пусть бегут от нас прочь».
«Опять блуждать по лесу», — уныло подумал Льок. Но Бэй сказал старику:
— Передай им — пусть они лучше убьют нас Разве мы олени, чтобы бегать от охотников?
Старик перевел ответ Бэя мужчинам, и те одобрительно зашумели. Толпа опять раздвинулась, мужчины с копьями стали пятиться назад. Братья остались в середине широкого круга.
— Они нас приколют, как лосят, — прошептал Льок.
— Твоя голова не лучше головы грудного ребенка, — весело ответил Бэй. — Разве ты не понимаешь: нас хотят испытать. Будем трусами — нас убьют, будем смелыми — нас полюбят и оставят жить в стойбище.
Охотники с дружным криком устремились на братьев. Копья прикоснулись к их телам, а одно из них, которое держал молодой охотник, слегка кольнуло Льока. Нападающие отступили назад и снова начали переговариваться.
— Мы остаемся у них! — тихо сказал Бэй. — Они примут нас в свое племя!
Встретивший братьев старик сделал им знак идти за ним. Вскоре они вошли в землянку раза в три более вместительную, чем на родине.
Братья с удивлением осмотрелись вокруг. У них в стойбище жилища были глубоко вырыты в земле, и полукруглые стены землянки подпирались поставленными стоймя жердями, здесь стены были прямые, сложенные из лежащих друг на друге бревен, поднимавшихся срубом над землей. В каждой стене было прорублено отверстие, через которое выходил дым очага. Когда с севера поднялся ветер, старик задвинул с этой стороны отверстие толстой палкой.
— Этого у вас нет, — указал он на отверстия и задвигавшие их планки, — у нас дым не выедает глаза.
В землянке Кру, приютившего братьев, жили еще невестка с мальчиком — вдова умершего сына — и дочь старика.
Женщины, с любопытством поглядывая на пришельцев, засуетились, стали кормить их мороженой рыбой. Когда братья утолили голод, Бэй спросил старика, откуда он знает язык северных людей. Кру рассказал, что давно-давно, когда он был молодым, как Бэй, он с сородичами ходил к морю на промысел за моржовыми клыками. Однажды ветром оторвало от берега и унесло в море льдину, на которую он втащил только что убитого зверя. Много дней прожил он на этой льдине, питаясь моржовым мясом, пока его не подобрали северные охотники. У них в стойбище он прожил до следующей зимы, вот тогда-то и научился их языку.
— Но он все-таки говорит не совсем по-нашему, — шепнул Льок брату.
— Верно, он попал к нашим южным соседям, которых съел потом Кровавый Хоро, — ответил Бэй.
Вскоре в землянке собрались женщины и молодежь. Они рассматривали братьев, шептались, посмеивались, но, как только один за другим вошли три старика, все примолкли и освободили им место у очага. Сидя у огня, старики неторопливо переговаривались с хозяином землянки, посматривая на пришельцев.
— Они говорят, что тебя можно взять в сыновья, — наконец сказал Кру Бэю, — ты сильный, будешь хорошим охотником.
«Как же? Неужели меня собираются прогнать?» — испугался Льок.
— А мой брат? — тотчас спросил Бэй. — В нем и во мне одна кровь.
— У нас хватит пищи и для твоего брата, — согласился старик.
— Придет время, и он будет такой же сильный, как я, — поспешил сказать Бэй, — мы оба хотим быть вашими сыновьями.
Кру передал ответ своим сородичам. Один из них что-то сказал, и тогда все разом засмеялись. Братья растерялись, догадываясь, что смеются над ними. Когда смех затих, Бэй спросил, обиженно глядя на хозяина землянки, утиравшего кулаком выступившие слезы, что нашли люди смешного в его словах.
— Чтобы быть нашими сыновьями, — ответил старик, — тебе и брату надо снова родиться. Мы согласны на это!
— А как это сделать? — пробормотал Бэй. — Ты понимаешь? — спросил он брата.
Льоку тоже было непонятно, как можно вновь родиться взрослому человеку?
Несколько дней спустя братья поняли, почему так смешно было людям приютившего их селения.
В первую же ночь полнолуния молодежь засуетилась вокруг стойбища. Собирали хворост, ломали еловые ветви и относили на полянку за селением. Вскоре там выросла большая куча валежника и хвойных веток, у которой собрались все жители стойбища. Старый Кру привел сюда братьев.
— Похоже на то, что будут жечь костры? — с недоумением сказал Бэй, следя за приготовлениями.
Появились две женщины, одетые в широкие, длинные рубахи. Обе они, крича и охая, словно от боли, влезли на кучу ветвей. С громким смехом присутствующие сели вокруг. Четыре старухи подошли к Льоку и Бэю, показывая руками, что надо раздеться.
— Злые духи съели их разум, что ли? — удивился Льок. — Разве…
Но закончить ему не пришлось, женщины повалили его на снег и быстро раздели. Бэй поспешил раздеться сам. Потом старухи поползли на четвереньках к куче хвороста, поясняя знаками, что братьям надо сделать то же самое.
— Делай, как они показывают, — поеживаясь от холода, пробормотал Льок, — значит, это нужно!
Так братья вслед за старухами добрались до двух лежащих на хвое женщин. Кру издали крикнул им, что надо вползти в широкий ворот рубах женщин и головой вперед вылезти из-под одежды «рожениц».
Под оглушительный хохот всего стойбища нырнули Льок и Бэй под одежду женщин и выползли наружу. Старухи тотчас подхватили братьев, положили на оленьи шкуры, завернули их и плотно обвязали ремнями.
— Вот мы и новорожденные! — крикнул Льок брату. — Теперь, чего доброго, нас станут кормить материнским молоком.
Так и случилось. «Младенцев» с пением и веселыми криками понесли в стойбище. Потом толпа ушла, оставив Льока и Бэя на попечение их «матерей», которые принялись кормить «новорожденных» грудью.
— Неужели мы долго будем младенцами? — спросил брата Бэй. — Пропадем с голода.
К счастью, «младенчество» продолжалось только до утра. Утром Кру пришел за братьями, развязал ремни, стягивавшие их, и сказал:
— Теперь вы сыновья нашего рода. Когда научитесь нашему языку, мы посвятим вас в охотники.
Глава 2
Трое суток приемышей не выпускали за пределы стойбища, но они могли ходить от землянки к землянке и заглядывать в любую из них.
Стойбище было спрятано глубоко в лесу, вдали от озера, такого большого, что противоположного берега его не было видно. Старики рассказывали, что когда-то давно по озеру на больших лодках, неизвестно откуда, приплыли чужие люди. Враги разорили селение, стоявшее в те времена у самого озера. Тогда род переселился в лес, подальше от большой воды. По краям круглой поляны, вплотную прижимаясь к стене леса, невысоко поднимались над землей бревенчатые срубы с односкатной крышей, занесенные снегом. Из боковых отверстий вился синеватый дымок и таял, не доходя до верхушек деревьев.
Меж землянок бродили тощие собаки, похожие на волков. Сначала Льока и Бэя брала оторопь, когда эти незнакомые звери, скаля клыки, угрожающе рычали на них, но заботливый Кру приставил к братьям внучонка, и мальчик храбро покрикивал на собак, отгоняя их прочь. Собаки, недовольно ворча, отходили.
— Зачем они им нужны? — спросил Бэй Льока.
— Верно, чтобы отпугивать злых духов, — по привычке свалить на духов все непонятное тотчас ответил Льок. Потом он спохватился и сердито закричал на брата: — Зачем спрашиваешь меня? Откуда я знаю? Я ведь сказал, что я теперь не колдун.
На третий день маленький проводник повел братьев к самой дальней землянке. Он приподнял полог у входа, пропустил вперед Льока и Бэя, а сам ушел.
Из темного угла навстречу им поднялся хозяин землянки. Не произнеся ни слова, он подошел к яме, вырытой у стены, и вытащил большой горшок.
«Наверное, сейчас будут угощать!» — подумали братья. Их не раз уже зазывали то в одну, то в другую землянку и потчевали свежей лесной дичью или маслянистой квашеной рыбой, очень напоминавшей розовую семгу, которую так любили у них на родине. Но хозяин зачерпнул берестяным ковшом из горшка какую-то жидкость, опустил туда руку, затем брызнул на резной деревянный столб, стоящий у входа в жилище, и стал что-то бормотать.
— Смотри, человек сделан из дерева, — удивился Льок.
— А на стене шапка, как у наших Главных колдуний, — сказал Бэй, — это колдун!
Колдун?! Тут только братья заметили, что волосы хозяина заплетены в девять косичек и на каждой висят деревянные фигурки человечков и животных. У них в стойбище такие косички носили только колдуньи.
Льок с интересом принялся рассматривать землянку. На восточной стене висели одна на другой, шерстью наружу, шкуры разных животных. На шкуре рыси, висевшей поверх других, кожа была порвана во многих местах, и мех висел клочьями.
— Знаешь, почему шкура порвана? — торжествующе спросил Льок брата.
— Не знаю.
— А я знаю… У них такое же колдовство, как и у нас!
В это время колдун кончил бормотать. Еще раз, опустив бурую от грязи руку в жидкость, он окропил деревянный столб, похожий на человека, затем пригубил сам и протянул ковш Бэю. Тот сделал несколько глотков, от удивления прищелкнул языком и передал ковш Льоку. Такой жидкости братья никогда не пили — она была сладкой и в то же время почему-то обжигающей рот.
Колдун налил из горшка еще жидкости, и братья опять выпили ее. Теперь она казалась еще вкусней, чем раньше. Хозяин землянки был щедрым, он снова налил полный ковш, на этот раз даже не щипало язык и губы.
Колдун постучал по опустевшему ковшу, потом коснулся своей головы и начал описывать пальцем круги в воздухе. Братья не поняли, зачем он так делает, но это им казалось очень смешным, и они рассмеялись.
Льоку хотелось похвастать, что он знает колдовские тайны. Показав Бэю пальцем на рысью шкуру, он сделал движение, словно бросал в нее копье.
— Если повернуть шкуру, то на коже будет нарисована рысь, — торопливо объяснил он брату, — хочешь покажу.
— Подожди, — сказал Бэй, — у меня голова закружилась. Весь день едим, а она кружится, как у голодного.
В это время полог у входа приподнялся, и в землянку вошла женщина с ребенком на руках: цепляясь за ее малицу, бежал второй ребенок, немного постарше. Женщина прошла в дальний угол, уселась и стала кормить малыша грудью.
Льок очень удивился — в землянке колдуна живут женщина и дети. У колдуна была семья! Все порядки в этом стойбище не такие, как у них!
Юноше казалось, что под ним земля колышется, словно лодка на реке. Придерживаясь рукой за стену, он подошел к шкуре и быстро перевернул ее. На обратной стороне ее была нарисована рысь.
Хозяин землянки рассердился, схватил Льока за руку и оттолкнул от шкуры.
Льок покачнулся и упал на пол. Стены землянки будто ожили, зашевелились, потом все закружилось и куда-то понеслось. Что было дальше, он не знал.
Очнулся Льок раньше брата. Он и Бэй, раздетые, лежали на лосиной шкуре. Все тело у них было разрисовано пестрыми узорами. Вокруг них с бубном в руках кружился колдун в длинной одежде, на которой бренчали и стучали болтающиеся на ремешках костяшки и камушки.
У самой стенки сидели на корточках трое стариков. Льоку стало страшно — кругом чужие и, может быть, враждебные люди, зачем-то нагнавшие на них сон и раздевшие их донага, Льок вскочил на ноги. Но ничего страшного не случилось. Колдун перестал кружиться, положил бубен и колотушку, подошел к юноше, вырвал из головы Льока несколько волосков и бросил их а огонь.
Старики хором выкрикнули какое-то слово. Один из этих голосов Льок уже слышал, он пригляделся и узнал Кру, потом узнал и второго — это был Главный охотник стойбища. Незнакомым был только третий старик, сгорбленный и заросший бородой почти до самых глаз. Юноша понял, что над ним с Бэем совершают какой-то обряд.
Кру велел Льоку перепрыгнуть через горящий очаг. Костер был большой, и языки пламени вздымались высоко. Чуть поколебавшись, Льок прыгнул вкось, через край очага, где жар был слабее.
Старик с бородой почти до самых глаз наклонился и что-то сказал Кру. Тот довольно улыбнулся.
— Мастер говорит, — пояснил он Льоку, — у тебя очень хитрая голова!
Колдун, снова невнятно забормотав, протянул через костер новые, еще не ношенные набедренники из оленьей замши.
— Надень, — велел Кру.
Льок торопливо надел и облегченно вздохнул. На его родине считалось позорным, если с мужчины снимали набедренники. Это делали только тогда, когда присуждали к смерти.
Потом колдун также над огнем передал Льоку малицу, шерсть на которой была коротко острижена, меховые чулки — липты и, наконец, пимы — такие же чулки, но шерстью наружу.
Когда Льок совсем оделся, колдун опять взял свой бубен и закружился вокруг все еще спящего Бэя. Он изо всей силы бил колотушкой по натянутой коже над самым его ухом и даже, как будто нечаянно, задевал ногами, но Бэй все не просыпался.
Колдуну надоело кружиться в тяжелом убранстве, он еще раз громко стукнул колотушкой и что-то сердито сказал старикам.
— Разбуди брата, — велел Кру Льоку, — тебе это можно, колдун разрешает.
Льок едва растолкал Бэя.
Когда пришел черед прыгать через огонь старшему брату, он, не раздумывая, перемахнул через самую середину очага и довольно сильно обжегся, но виду не подал, что ему больно.
Старики опять зашептались, потом Кру объяснил:
— Старшие говорят — ты не хитер, зато будешь храбрым и выносливым охотником!
Надевая новую одежду, Бэй вспомнил об ожерелье из волчьих клыков и стал просить Кру отдать его.
— Нет, — ответил старик, — ведь ты хочешь быть нашим. Нельзя носить вещи людей чужого рода. Завтра вы оба пойдете со мной на промысел, я научу вас всему, что должны знать наши охотники. Забудь все, что было раньше в твоей жизни.
Глава 3
На следующее утро братья проснулись поздно. Подняв тяжелую, должно быть, после вчерашнего колдовского напитка голову, Льок осмотрел землянку. Кру дома не было. Дочка его, Шух, и молодая вдова сидели в углу и оленьими жилами нашивали кусочки меха на новую девичью малицу. И руки и языки у них были заняты, они болтали без умолку, в то же время ловко втыкая и вытаскивая костяные иглы.
Заметив, что братья проснулись, вдова встала и вышла из землянки.
Братья сели, поджав под себя ноги, и стали ждать, когда молодая вдова принесет мелко накрошенную мороженую рыбу, обычную утреннюю еду.
Льок перебирал подаренную вчера одежду, грудой лежавшую рядом с ними.
— Хорошая одежда, — сказал он.
— И наша была хорошая, — недовольно проворчал Бэй. — А они забрали и ее, и подарок Ау. Он сказал мне, когда дарил: «Будь всегда смелым. Волчьи клыки помогут тебе».
— Кру велел: «Забудь все, что было раньше в твоей жизни», — напомнил Льок.
Бэй сердито взглянул на брата.
— Здесь нам будет хорошо, — пытался успокоить его Льок. — Нас с тобой взяли в сыновья стойбища.
— Все равно у нас не их кровь, мы из чужого рода.
— Она тоже из чужого рода, — кивнул Льок на вошедшую в это время с берестяным коробом, полным наструганной мерзлой рыбы, молодую вдову. — А смотри, как ей хорошо. Она все время смеется.
Женщина, и вправду, громко засмеялась и, проходя мимо, будто нечаянно уронила холодный кусочек рыбы на голое колено Бэя. Ее недаром прозвали «Смеющейся», она всех передразнивала и первая же смеялась.
И сейчас, разложив на широком чурбане рыбу, она, громко причмокивая, отправляла в рот кусочек за кусочком и лукаво посматривала на братьев, но не звала их.
Все еще хмурясь, Бэй протянул руку за рыбой, но в это время вошел Кру в охотничьем коротком балахоне и велел братьям одеваться.
Выйдя из землянки и подвязав лыжи, все трое двинулись по хорошо накатанной лыжне. Бэй нарочно сошел с наката, и лыжи его глубоко провалились в снег.
— Вот видишь, — сказал он Льоку, — наши лыжи лучше, чем эти.
— Зачем так говоришь? Разве теперь это не твои лыжи? — обернулся шедший впереди Кру. — Разве ты теперь не сын нашего рода?
Вскоре лыжня привела их в еловую поросль, за которой полукругом высились старые ели.
Кру остановился, остановились и братья.
Среди елей стоял резной столб, высотой почти в два человеческих роста. Снег местами густо облепил резьбу, но все же можно было понять, что на столбе вырезаны одно под другим семь человеческих лиц. Перед столбом был сложен из плоских каменных плит невысокий помост. Поодаль, с той стороны, где заходит солнце, виднелся ряд резных невысоких чурбанов. К одному из них шли свежепротоптанные следы, и пелена снега перед ним была изрыта. Кру снял лыжи, братья сделали то же.
Взяв Льока и Бэя за руки, старик провел их к столбику, перед которым был взрыт снег.
— Здесь лежит мой отец, — сказал он, — тут лежат все отцы и деды нашего рода.
Потом, положив ладони на головы братьев, старик заставил их склониться перед чурбаном.
— Отец, всегда оберегающий меня, — взволнованно заговорил Кру, — прими их во внуки, как я беру их в сыновья! Я забуду, что погиб мой сын, они мне заменят его.
Ладони старика сделались еще тяжелее, и братья наклонились еще ниже.
— Отец, береги внуков своих, — продолжал Кру, — на тебя они надеются, нет у них защитника более заботливого, чем ты! Береги их жизнь, как бережешь мою! Дай им оружие и дай им огня.
Старик сжал братьям руки у кисти и потянул их к разрыхленному снегу.
Под пальцы Льока попал костяной нож, а Бэй нащупал топор.
Еще дважды нагибались старик и братья. Во второй раз они достали из-под снега по мешочку, куда было сложено все, чтобы разжечь костер, в третий раз — нож для Бэя и топор для Льока.
Хмурое с утра лицо Бэя просветлело: ему очень понравился топор и костяной нож. Такого хорошего оружия на его родине не умели делать. Но еще радостней было Льоку — наконец-то он стал настоящим охотником!
Старик обнял братьев и прижал к себе.
— Теперь у вас есть все, что нужно охотнику, лук и копье вам тоже дадут. Сын мой умер. Сейчас вы — мои сыновья. Будете ходить со мной на охоту и осматривать ловушки.
Последнее слово братья не поняли, Кру сказал его на своем языке.
— Что такое «ловушка»? — спросил Бэй Льока.
Тот немного подумал и ответил:
— Верно, это те хитрые палочки, что поймали в лесу глухаря.
Не снимая рук с плеч братьев, старик повел их к высокому резному столбу.
Он снял с пояса прозрачный пузырь, развязал его и вынул маленький берестяной коробок с застывшим салом. Положив сало на помост, сложенный перед идолом, он разрезал его на четыре части.
Одну часть он отдал духу, изображенному на столбе, и громко пообещал, что новые сыновья скоро принесут ему еще сала и вкусного мяса, если он будет им покровительствовать и помогать в промысле. Две части отдал братьям, а четвертую разделил надвое: половину съел сам, а другую закопал перед столбиком, где был похоронен его отец.
В селении, приютившем беглецов, жил человек, по имени Кибу, считавшийся лучшим мастером по выделке орудий. Его изделия высоко ценили соседи севера и юга.
Когда-то Кибу был одним из лучших охотников в стойбище. Однажды он пошел по следу раненого им оленя. Голодная рысь опередила его. Оба столкнулись у истекавшего кровью животного. Запах крови сделал рысь храброй. Ни хищник, ни человек не хотели уступить добычу. Рысь бросилась на Кибу. Они долго боролись. Человек задушил рысь, но она успела когтями и клыками так изранить охотника, что тот едва дополз до селения. Кибу пролежал три месяца, и когда поднялся, то его спина оказалась согнутой, как дуга лука, а правая нога словно одеревенела и не сгибалась. Только руки по-прежнему оставались ловкими и сильными, и Кибу нашел им дело. Он научился так искусно выделывать из камня разнообразные орудия, что ни в этом стойбище, ни в соседних не было ему равных.
К нему-то и привел Кру своих новых сыновей.
Кибу сидел у входа в землянку. Это был тот самый, заросший волосами старик, которого они видели вчера у колдуна. Перед ним на двух камнях лежала большая плоская плита. Склонив над ней кудлатую голову, старик затачивал сланцевый топор, осторожно водя им взад и вперед по шлифовальной плите.
Кру с братьями остановился перед ним, не говоря ни слова. Кибу даже не поднял головы. Льок с интересом следил за каждым его движением, а Бэю скоро надоело стоять, и он нарочно шагнул немного в сторону, чтобы тень его упала на плиту. Но и это не помогло — старый мастер продолжал медленно водить острием по плите, пока не решил, что топор достаточно заточен.
— Пришли? — спросил он, по-прежнему не поднимая головы.
— Пришли, — подтвердил Кру, — сыновьям нечем метать. Кибу неуклюже поднялся с мягкого, чем-то набитого мешка, сделанного из целой шкуры олененка. Волоча больную ногу, старик сделал два шага, пригибаясь при этом так низко, что мог бы рукой коснуться земли. Чтобы рассмотреть братьев, мастеру пришлось сильно откинуть к спине голову. Пристально разглядывая Льока, старик улыбнулся, и курчавые пучки волос зашевелились на его заросшем лице.
— Ему не надо тяжелого копья, ему надо легкий дротик, — совсем молодым, как у юноши, голосом проговорил он, взяв руку Льока в свою. Она ему чем-то понравилась, и старик стал ощупывать ее, то сгибая пальцы юноши, то отгибая их в сторону.
— Такой рукой хорошо делать топоры и наконечники для стрел, — наконец сказал он Кру, — отдай мне его на выучку.
Кру помолчал, Льок и Бэй должны быть его верными помощниками, сильными и ловкими охотниками. Не для того он привел их из лесу и взял в сыновья, чтобы отдавать старому Кибу, хотя он и хороший мастер.
Теперь Кибу подошел к Бэю, постучал его по груди, ощупал мышцы и сказал:
— Вот этому дадим копье, этот справится и с медведем.
Копье называлось одинаково на языке обоих селений, и братья поняли, о чем говорит бородатый. Льоку стало обидно. Он, правда, много слабее брата, зато ловкостью поспорит с ним, да и хитростью тоже. Льок сердито, исподлобья взглянул на Кибу, но мастер опять улыбнулся юноше и, поманив его за собой, вошел в землянку.
Жилище Кибу было не похоже на все другие землянки в этом стойбище. О том, что здесь живут, напоминал лишь очаг и груда спальных шкур. Каждый уголок был приспособлен для выделки наконечников и топоров. У очага на четырех камнях лежала такая же, как у входа, гладкая плита с насыпанной у одного края кучкой мелкого песка. Тут же стоял горшок с водой. Немного подальше, но так, чтобы можно было дотянуться, не отрываясь от работы, на берестяной плетенке были разложены кремневые желваки — большие и маленькие, круглые и продолговатые. Вдоль одной стены ровными рядами тянулись топоры, тесла, долота, кирки. У другой — наконечники копий, дротиков и стрел. Отдельно лежало все, что нужно женщинам в хозяйстве, — скребки для выделки кож, ножи, проколки.
Кибу с гордостью повел рукой, показывая на орудия, потом ударил себя в грудь, как бы говоря, что все это сделал он сам. Наклонившись, он поднял топорик и маленький наконечник стрелы, поднес к самым глазам Льока и причмокнул, будто ел что-то очень вкусное. Наконечник был так ровно обит по краям, а топор так гладко отшлифован и остро заточен, что Льок залюбовался. Он вспомнил грубые и кривые орудия, выходившие из рук Кремня, и уже с невольным уважением посмотрел на старого мастера. Все-таки хорошо уметь делать такие вещи!
В одном углу прислоненные к стене стояли древки — длинные для копий, покороче для дротиков. Тут же кучкой лежали совсем тоненькие стрелы, еще без наконечников. Кибу велел Льоку взять древки копий и вынести из землянки.
Кру вытянул одно древко из охапки и воткнул его в снег шагах в пятидесяти от входа.
Бэю не нужно было ничего объяснять. Он брал из рук Льока одно древко за другим и, размахнувшись, сильным и точным движением бросал его вперед. А вокруг уже толкались откуда-то взявшиеся мальчишки, выражая свой восторг громкими криками, когда древко вонзалось в снег за чертой, отмеченной воткнутой палкой. То древко, которое упало дальше всех и легло точнее других, Кру поднял сам и принес к землянке Кибу. Остальные с визгом кинулись подбирать мальчишки.
Теперь на древко нужно было насадить наконечник. Это была трудная и кропотливая работа. Кибу повел Кру и его сыновей в землянку. Усадив их, он принялся за дело. Прежде всего мастер поставил на огонь горшок с чем-то темным и твердым, налил в долбленую колоду воды и опустил в нее лосиный сыромятный ремешок. Потом, выбрав из нескольких наконечников тот, что показался ему получше, Кибу приставил его черешком к концу древка, посмотрел, подумал и положил рядом. Древко он зажал между камнями и принялся вырезать выемку для черешка и обтесывать края.
К тому времени, когда Кибу покончил с этой частью работы, состав в горшке стал мягким, тягучим. Мастер вынул из колоды сыромятный ремешок, отжал его и чуть подсушил. Потом обмакнул в смолистую жидкость черешок наконечника и конец древка и, не давая смоле застыть, наложил на край выемки кончик ремня, наставил сверху черешок и быстрым движением вогнал его в узкое отверстие. Наконечник и ремешок крепко сели в выемку. Свободный конец размоченного, теперь податливого ремня Кибу обмотал вокруг заостренного древка, стараясь, чтобы он охватывал дерево как можно плотнее и ложился ровно, ряд за рядом.
Льок, не открывая глаз, следил за ловкими и уверенными пальцами мастера. Но вот Кибу отрезал кусочек ремешка, смазал обмотку смолой лиственницы и с гордостью осмотрел готовое копье. Теперь черешок точно врос в древко. Сам наконечник мог сломаться от удара о что-нибудь твердое, но вытащить его из выемки было невозможно.
Бэй нетерпеливо потянулся за копьем, но Кибу отвел его руку и приставил древко наконечником вверх к стене, чуть поодаль от очага. Пусть смола застынет получше, так будет верней. Потом мастер принялся за дротик. И вся работа пошла тем же порядком.
Подавая Льоку готовый дротик, Кибу что-то сказал, и Кру, улыбаясь, перевел:
— Голова у тебя хитрая! Вчера ты сразу догадался, как прыгнуть через очаг, не опалив себя. Я говорю, ты перехитришь всякого зверя, а он говорит — ты перехитришь всякий камень, будешь хорошим мастером.
Но Льок крепко схватил дротик — свое первое оружие — и крикнул:
— Нет, нет! Я охотник!
Кибу рассмеялся, поняв, без объяснения Кру, слова юноши.
Бэю тоже понравилось копье. Он привычно примерил его к руке, попробовал пальцем остроту наконечника и одобрительно кивнул головой:
— Знаешь, брат, копья здесь делают лучше, чем у нас.
Кру отвернулся, чтобы скрыть довольную усмешку, — если приемышу пришлось по руке оружия рода — значит, ему придутся по сердцу и обычаи рода! Чужое стойбище станет своим для него…
Глава 4
Много-много зим прошло с тех пор, как старый Кру наладил свой первый самолов. Верно, у всех людей стойбища не насчитать столько пальцев, сколько переловил он за эти годы зверей и птиц. Теперь старый Кру начал уставать. Все труднее становилось ему обходить ловушки, разбросанные в потаенных уголках огромного леса. Из рук словно ушла еще недавняя ловкость и гибкость, ноги потеряли неутомимость, а когда он все-таки заставлял их бежать, удушье хватало его за горло.
Каждый раз, собираясь в дальний обход, старик вздыхал, что рядом с ним нет сына. Но в это утро сборы были для него праздником — он шел не один.
Братьям надолго запомнился их первый выход в лес, тесно обступивший стойбище. Впереди, словно помолодевший, шел Кру, за ним по лыжне, запушенной свежевыпавшим снежком, бежали Бэй и Льок.
Льок весело поглядывал по сторонам. Он видел кое-где изрытый снег, цепочки следов, в одном месте — перышки на снегу, но, не задумываясь, пробегал мимо. Лес не говорил с ним. А Бэй и старый Кру сразу понимали, кто здесь был и зачем и что случилось тут утром или ночью. Голодный песец набежал перед рассветом на тетерева, закопавшегося в снег, но тот взметнулся в воздух, песец раздасадованно потоптался и побежал дальше — в этом месте снег был разрыхлен, а к нему и от него тянулась цепочка следов. Глазастая сова схватила ночью спавшую на ветке птицу и унесла — снег осыпался с ветки, и два перышка лежали под деревом.
Вдруг старик остановился и сокрушенно покачал головой, сердито тыча палкой в заячий след. Бэй не понял, отчего он сердится, однако сказал Льоку:
— У зайца нет одной лапы. Он бежал на трех.
Вскоре лыжня привела их к осине, снег под которой был измят, будто перекопан. Из невысокого бугорка торчали две тесно сдвинутые палки, и между ними белело несколько коротких волосков.
— Глупые палки! Упустили добычу! — сердито пробормотал Кру.
— Это шерсть того трехногого зайца, — сказал Бэй.
Старик надел оленьи рукавицы, раскопал вокруг палок снег и, кряхтя, вытащил тяжелую деревянную плаху, в которую накрепко была всажена одна из палок. Узел из сухожилий притягивал к ней другую палку, покороче. Быстро вращая ее, Кру раскрутил узел. Братья следили за его руками. Старик опять стал вертеть палку, уже в другую сторону, теперь веревка из жил скручивалась все туже, но Кру растягивал ее, не давая собираться в узлы. Короткую палку он вставил в желобок, выдолбленный внизу большой палки, притянутые друг к другу мгновенно скрутившимся сухожилием палки с треском захлопнулись, крепко зажав копье.
Братья обрадовались и громко засмеялись.
— Вот почему заяц бежал на трех ногах! — закричал Льок. — Ему придавило лапу. Но он высоко прыгал, палки прищемили ему только палец. Он вырвался и ускакал.
Кру повеселел. Теперь он даже не жалел об упущенной добыче. Вот какой умный у него младший сын! Хороший будет ловец.
Старик протянул оленьи рукавицы Льоку и велел ему наставить самолов. Юноша присел на снег, положил на колени плаху и, стараясь точно повторять все движения старого ловца, начал вращать палку сначала в одну сторону, потом в другую. Время от времени он поднимал голову и поглядывал на Кру. Тот одобрительно кивал ему. Сперва неумелые пальцы не слушались, и только что туго закрученное сухожилие упорно свивалось в узлы, но потом дело пошло лучше. Наконец Льок насторожил капкан. Старый охотник засыпал самолов снегом так, чтобы из-под него торчали только концы палок.
Двинулись дальше. Они пробежали полянку, поднялись на холм, спустились с него, и тут старик, круто повернув лыжи, остановился. Бэй замер на месте, а Льок, не удержавшись, пробежал еще несколько шагов.
Самолов был совсем незаметен под выпавшим недавно снегом. Кру молча показал братьям две вешки из еловых ветвей, отмечавшие маленький бугорок, махнул рукой и побежал дальше. Ловушка была пуста.
Не было добычи и в третьем капкане. Снег вокруг был ровный, нетронутый. Кру нахмурился еще больше — день начался неудачно. Но вот лыжню пересек след зайца и исчез за деревьями. Потом он снова пересек путь охотников, еще и еще раз. Старик повеселел, — петляя и делая скидки, заяц все-таки шел в ту сторону, где его подстерегал четвертый капкан. А за зайцем шла лиса. Рыжая, видно, была опытной охотницей. След ее был прямее и перехватывал путаные заячьи петли наперерез. Местами лапы ее глубоко вдавливались в снег — это она, помедлив, разгадывала заячьи хитрости. Охотники, волнуясь, ждали, что выкинет косой. А вдруг совсем свернет в чащу? Тогда и лиса минует западню! Наконец заяц, видимо, убедился, что никакие уловки ему не помогут. Надеясь на быстроту своих ног, он помчался, уже никуда не сворачивая, прямо по лыжне, где снег был тверже. Лиса, наседая на зайца, неслась за ним по пятам.
Теперь и люди рванулись вперед…
В узком проходе между двумя валунами был насторожен большой капкан. Заяц, разогнавшись, перепрыгнул ловушку, зато лиса сделалась ее жертвой. Издали охотники еще видели, как стиснутый поперек туловища зверь бился и грыз острыми зубами край плахи. Когда они подбежали, задушенная лиса уже бессильно висела, уткнув острую мордочку в снег.
Старик подмигнул приемышам. День не прошел даром. Сбросив лыжи, он присел на корточки и стал рукавицей разгребать снег. Этот капкан не был похож на первый: палки его были больше, толще и круто изогнуты. Когда сухожилия скручивались, концы палок заходили друг за друга и охватывали добычу словно кольцом. Такая западня ставилась на волка или рысь. Из прямого капкана сильный хищник мог вырвать свое поджарое тело, оставив ловцу лишь клочья шерсти. Но в мощных тисках этого самолова он оставался беспомощным. И настораживать такой капкан приходилось вдвоем, одному человеку было не справиться.
Натужась, старик оттянул кривой рычаг капкана и вынул лису. Потом он выпрямился и достал из висевшего на поясе мешочка сушеную головку сига. Что-то бормоча и кланяясь, он бросил ее через плечо. Это была жертва хозяину леса за богатый дар.
Лиса была огненно-красная с белоснежной грудью. Бэй не отрывал от нее глаз. Ему доводилось убивать лисиц, но сколько он тратил на это сил, времени, терпения и хитрости. А здесь рыжая красавица сама прибежала в ловушку старика. Хотя перемет — рыболовная снасть на треску — тоже вроде самолова, но люди из становища братьев никогда не догадывались, что так можно промышлять зверя на суше.
Первый самолов настораживал Льок, а теперь старик взял в помощники сильного Бэя. Как бы в награду, он дал нести ему богатую добычу. Бэй даже покраснел от оказанной чести и бережно перекинул лису через плечо. Зато лицо Льока огорченно вытянулось. И это тоже понравилось старику. Значит, будет охотником, если руки скучают по добыче.
— Тот заяц, что убежал, — сказал Кру, утешая Льока, как маленького, — верно, ждет нас впереди.
Так и вышло. Ошалевший от погони заяц, никуда не сворачивая, добежал до следующего капкана и здесь нашел свой конец. Этот подарок лесного хозяина, хоть и не такой завидный, старик доверил Льоку. Охотники обошли за короткий зимний день три десятка ловушек. Кроме лисы и двух зайцев, им достались еще четыре птицы, запутавшиеся в силках: три тетерева и глухарь. День был удачен.
Хотя они вернулись поздно и очень усталые, старик освежевал лису и зайцев и отнес шкурки вместе с двумя тетеревами Главному охотнику стойбища. Лисью тушку бросили собакам, а мясо зайца, тетерева и глухаря осталось в хозяйстве Кру.
Как всегда болтая и поддразнивая братьев, Смеющаяся живо ощипала птиц, обмазала их толстым слоем глины и засыпала горящими углями. Радостно было этим вечером в жилище старого Кру. Доволен был старик своими нареченными сыновьями, и сами сыновья были горды и счастливы удачей, довольна была Шух — она дошила свою свадебную малицу. А Смеющаяся — та всегда была весела. Спать не ложились долго. Кру старательно учил приемышей языку своего селения. Один лишь внук старика, набегавшись за день, сладко посапывал на шкурах.
Глава 5
Каждый зверь боится человека и без крайней нужды не нападет на него. Но старые охотники рассказывают, что им случалось набредать на свирепого медведя, который и в сытое время бросается на людей. Огромный, с всклокоченной шерстью, истерзанный своими же сородичами, этот страшный зверь таится в лесной глуши, обезумевая от ярости, если повстречает кого-нибудь на своем пути. Даже в пору медвежьих «свадеб», когда медведи собираются на какой-нибудь полянке, одичавший отшельник уходит подальше. Он хорошо знает, что, попадись он своим же собратьям, те разорвут его в клочки, зато и он не даст пощады, завидев одиночного медведя. Страшна встреча с таким медведем-отшельником!
Но еще страшнее волк одиночка. Кто знает, стая ли изгнала его или сам он отбился от своих, но, враждуя со всем живым, он рыщет отщепенцем, пока его не выследит волчья стая и, настигнув, растерзает.
Вот такой-то волк вдруг появился днем в стойбище, пробежал между землянками, напугав детей и женщин, схватил трехлетнего ребенка, перекинул на спину и исчез в лесу. Напрасно до ночи бродили охотники в поисках хищника. Они нашли лишь клочья оленьей шерсти — остатки малицы да просверленный черный камешек, что повесила мать на шею мальчугану, чтобы уберечь его от злых духов.
Дней через пять волк снова появился и уволок собаку. Видно, страшный зверь облюбовал стойбище. Еще через три дня он ворвался в круг играющих детей и унес маленькую девочку. Люди поняли, что, пока хищника не убьют, стойбище не будет знать покоя. Охотники сделали облаву и опять не нашли зверя.
Не было помощи и от колдуна. Напрасно тот, бережно срезав снег со следами огромной лапы, бросал его в костер. На волка не действовало даже это, казалось бы верное, колдовство.
Матери стали бояться выпускать детей из землянок, да и сами дрожали от страха, пока ходили за водой к речке.
Теперь в селении только и было разговоров, что о свирепом хищнике. Между землянками по очереди расхаживал кто-нибудь из охотников, вооруженный копьем и луком со стрелами. Но на третью ночь волк напал на такого сторожа и перегрыз ему горло.
Охотника отнесли к святилищу и, в знак укоризны стоявшему там деревянному идолу, прислонили труп к каменному помосту, воздвигнутому перед истуканом, — пусть постыдится, что так плохо охраняет стойбище. Наутро, когда сородичи пришли хоронить охотника, они увидели, что волк изгрыз труп. «Покровитель» стойбища не смог помешать даже этому злодеянию! Тогда колдун сказал:
— Наши люди чем-то провинились перед духами леса, и они послали на нас зверя.
Кто-то высказал догадку — не наказывает ли волк стойбище за усыновление пришельцев? Вспомнили, что на Бэе было ожерелье из волчьих клыков, сожженное вместе со всей одеждой. Прошел слух, будто Бэй убил отца этот волка, и теперь волк-сын мстит за нет. Начались разговоры, что, пока братья живут здесь, никто не будет в безопасности.
Братьям ничего не говорили, они узнали об этом от Смеющейся. Она рассказала все, что слышала, стараясь не глядеть на Бэя, и глаза у нее были заплаканные. Кру целый день где-то проходил, а вечером вернулся хмурый и озабоченный. Без привычных веселых разговоров, молча, поели у очага и раньше обычного улеглись спать. Но никто не мог уснуть. Из угла, где спали женщины, чуть слышно доносилось перешептывание Смеющейся с Шух. До самого света ворочались на ворохе шкур трое охотников.
Утром перед землянкой Главного охотника собрались все люди селения. Тут же шныряли подростки и, не понимая, чем озабочены взрослые, играли маленькие дети. Стали толковать о беде, свалившейся на стойбище. Почему раньше не приходил волк и не уносил детей? Как «Покровитель» позволил осквернить тело мертвого охотника, отданное под его защиту? За что гневается на них Хозяин леса, наславший зверя? Поглядывая на братьев, стоящих подле Кру, люди сперва тихо, потом все громче заговорили: уж не пришельцы ли, неведомо откуда взявшиеся, виноваты в такой напасти? Ведь пока их не было, не было и волка.
Кру хмурился все больше. Он хорошо знал, что такие разговоры опасны для Бэя и Льока. Еще не сказано решительное слово, еще молчит Главный охотник, но если и он поверит толкам, у старого Кру опять не станет сыновей, а он уже успел полюбить их.
Что же сказать в их защиту, как отвести от них гнев рода?
Вдруг Бэй вышел на середину круга.
— Люди, мы пришли к вам, потому что человек не должен жить, как ворон, в одиночестве, — сказал он громко, старательно подбирая слова еще малознакомого ему языка — Вы взяли нас к себе. Вы не должны жалеть об этом. Я пойду и убью этого волка, и дети посмеются над ним, когда мы с братом положим его голову на том месте, где он загрыз охотника. Пусть мне не будет покоя, пока я не выполню своего слова.
Больше не о чем было говорить. Молча, кивнув головой, ушел в свою землянку Главный охотник. Потихоньку разошлись и все остальные. Теперь надо ждать, чтобы пришелец выполнил то, что обещал. Но горе ему, если он не выполнит своего обета. Люди стойбища станут его судить, как презренного хвастуна, которому нет места среди них.
Снова было тихо в землянке Кру. Старик, грустный и молчаливый, один пошел на обход своих самоловов, братьев он не взял с собой. Кто дал слово роду, должен только о том и думать, как бы его сдержать.
Шух надо было идти за водой, а она боялась волка. Льок мог бы пойти вместо нее, но охотнику не пристало делать женскую работу. Он взял дротик и отправился ее провожать. За ними увязался и малыш.
Как только в землянке никого не осталось, кроме Бэя, Смеющаяся торопливо сунула ему что-то в руку. Это был обгоревший просверленный волчий клык.
— Я сегодня разгребла место, где старики сожгли вашу одежду. Может быть, вещь принесенная тобой с родины, поможет тебе, — сказала она и потом тихо добавила: — Я ведь тоже тайком храню раковину с берега родной реки.
И она показала ему маленькую, блестевшую перламутром раковину, которую прятала во мху, заполнявшем щели между бревнами стены.
Бэй очень обрадовался — ведь это клык из ожерелья, которое подарил Ау. Подарок — это частица того, кто дарит, и теперь Ау, лучший из лучших охотников, будет вместе с ним! Бэю казалось, что он стал вдвое сильней.
— Ты самая хорошая из всех женщин, — смущенно сказал он. — Когда убью волка, примешь ли от меня его шкуру?
Смеющаяся покраснела, но кивнула головой и без всякого дела выбежала из землянки. Принять от охотника шкуру — значило согласиться стать его женой.
Бэй был прирожденный охотник, — он умел думать так, как думают те, на кого он охотился. Когда вернулся с реки Льок, брат сказал ему:
— Всякий раз, когда волк насытится, он приходит не раньше, чем на третий день. Последний раз он приходил в прошлую ночь. Значит, ждать его надо не сегодня, а завтра. А пока надо много спать, чтобы быть сильным.
Бэй лег и действительно тотчас уснул. Льок тоже попробовал спать, но ему все мешало: потрескивание сучьев в очаге, тихий шепот женщин и даже скрип снега под ногами тех, кто проходил мимо землянки.
Вечером полусонный Бэй, все время позевывая, лениво поел со всеми и снова повалился на шкуру.
Проснувшись ночью, он увидел, что Смеющаяся сидит у очага и понемногу подкладывает хворост. Ночь выдалась очень морозная, и холод, пробиваясь сквозь все щели, стлался по полу землянки. Заботясь о спящем Бэе, Смеющаяся не ложилась и поддерживала огонь, чтобы юноше было тепло.
На другой день Бэй, выспавшийся и бодрый, вместе с Льоком пошел к святилищу.
Он рассуждал так: голодный зверь не забудет место, где лежал мертвый охотник. Прежде всего он придет туда, к недоеденной добыче. Значит, там и следует ожидать его.
Волк, с которым Бэю предстояло вступить в бой, был страшным противником. По отпечаткам лап на снегу было видно, какой это огромный зверь. Должно быть, он очень сильный, а яростью не уступит рыси. Надо хорошо подготовиться к борьбе, в которой кто-то из двух — охотник или хищник — должен был неминуемо погибнуть.
Волчьи следы шли широким кругом по краю поляны и обрывались, глубоко вдавившись в снег, против помоста. Отсюда зверь прыгнул на мертвого охотника. Бэю очень хотелось пройти по следу, чтобы понять, почему волк прыгнул именно с этого, а не с другого места. Но охотнику нельзя выдавать себя. Если зверь узнает, что человек разгадал его повадки, он не поддастся на уловки.
Юноша прикинул на глаз длину волчьего прыжка и посмотрел на копье. Древко копья было слишком коротким. Удлинить его? Нет, это не годилось, очень длинное древко может помешать. Значит, надо самому броситься навстречу зверю.
— Понял? — спросил Бэй брата, указав на нетронутый снег между четырьмя глубоко вдавленными следами и помостом.
— Я раньше не был охотником, — виновато улыбнулся Льок. — Но, кажется, я понимаю. Здесь он прыгнул тогда, прыгнет и теперь. Ты хочешь…
Но Бэй быстро закрыл ему рот ладонью. Нельзя рассказывать, о чем думаешь. Ветер может донести до волка неосторожные слова охотника, пролетевшая птица услышит и прокричит ему с высоты…
Бэй наломал еловых веток, сложил кучей у помоста и сел на них лицом в сторону, откуда ждал волка. Копье он положил рядом, справа от себя.
— Я останусь тут на ночь, — сказал он Льоку, — а ты иди в землянку. Уже темнеет.
Льок покраснел от обиды.
— Ты дал слово за нас обоих. Если я тебе мешаю, я пойду караулить волка в селении, но укрываться в землянке, когда тебе грозит опасность, не буду.
Бэй уступил. Он усадил брата за каменным помостом. Вдвоем лучше: если зверь не испустит дух от первого удара, Льок нанесет второй.
Было полнолуние, но луну затягивали тонкие облака, и в глазах рябило от лунных бликов. Не свистел в деревьях ветер, и в полной тишине был хорошо слышен каждый звук. Пока все складывалось удачно. Теперь оставалось только ждать.
Как долго в ожидании тянется время! Какая-то ночная птица села поблизости на ель и, невидимая, раза три крикнула, не то предупреждая, не то напоминая о чем-то.
Льок вспомнил о вороне, который так напугал мать.
«Она говорила, что его посылают духи, — вспомнил он, — а где эти духи?..»
Юноша покосился на деревянного истукана. Но ничего страшного в нем не было, просто чурбан с вырезанными лицами. Что такой может сделать?
Прислоняясь головой к выступу плиты, Бэй прислушивался и досадливо морщился всякий раз, когда вскрикивала птица, словно боялся не расслышать того, что было нужно.
Но вот надоедливая птица улетела, и стало совсем тихо. Братья ждали еще долго. Наконец где-то в чаще треснула сухая ветка, потом еще раз, поближе, и Бэй услышал хриплое дыхание зверя.
Волк пришел. Он неторопливой рысцой бежал по старым следам, царапая когтями твердый наст. Бэй бесшумно привстал на одно колено и крепко сжал копье правой рукой. Зверь остановился на том самом месте, откуда прыгнул в первый раз. Он поставил лапы так, чтобы задними оттолкнуться от земли, а передними загрести под себя побольше пространства. В этот миг Бэй бросился на него. Копье охотника, всем телом метнувшегося вперед, вошло в пасть, пробило и отделило друг от друга шейные позвонки. Хищник свалился боком, подбирая лапы, как будто все еще хотел прыгнуть. И сейчас же на его голову с хрустом опустился топор выскочившего из-за помоста Льока. Волк даже не дрогнул, он был уже мертв. Оба брата стояли над ним, боясь поверить удаче.
Потом Бэй выдернул копье, по охотничьей привычке взглянул, не сломан ли наконечник, и помог брату вытащить засевший в черепе топор.
Помня обычай своего становища, Бэй отправил Льока звать охотников. Но Льок вернулся один.
— Они не идут, — еще издали крикнул он, — они придут на рассвете.
Теперь, когда дело было сделано, время летело быстро. Охотники пришли к святилищу только на заре. С ними были и женщины, но они остановились поодаль: приближаться к святыням рода им не разрешалось.
Связав три лыжи, охотники потащили к стойбищу огромного волка. Его волокли до того места, где пришелец дал обещание. Бэй ловко снял с волка шкуру и высоко поднял ее. Шкура оказалась почти в человеческий рост. Протяжный гул пробежал по толпе.
— Отцы, — громко сказал Бэй, — я прошу награды!
— Проси, — ответил за всех Главный охотник стойбища. Наступила тишина. Все замерли: чего потребует смелый охотник?
— Хочу подарить шкуру Смеющейся.
— Он этого достоин! — громко сказал Кру.
— Он этого достоин! — подтвердил Главный охотник стойбища.
Кто-то вытолкнул навстречу Бэю вдову, хотя она и не думала убегать. Она смело подошла к нему, и тяжелая шкура, мягко обвисая и стелясь лапами по снегу, легла на ее протянутые руки.
Глава 6
Скоро женился и Льок. Он не сам выбрал себе жену, просто старики привели его к маленькой землянке, где жила молодая вдова с двумя мальчишками-близнецами. Каждому охотнику нужна жена, чтобы готовить ему пищу, шить одежду, поддерживать огонь в очаге, когда он вернется усталый, продрогший с охоты. И женщине плохо оставаться одной, надо, чтобы кто-то заботился о ней, приносил бы пищу и шкуры для одежды, особенно если у нее есть дети. Жена Льока звалась Боязливая. Никто не слышал ее смеха. Даже если она чему-нибудь радовалась, то и тогда лишь застенчиво улыбалась.
Точно так она улыбнулась, когда ушли старики и Льок впервые присел к ее очагу. Льок вспомнил, как одиноко ему было в родном стойбище в землянке колдуна, где не с кем было обменяться словом в долгие зимние вечера. А когда женился Бэй, Льок в землянке Кру почувствовал себя лишним.
Теперь у него была своя семья. Мальчики, сыновья Боязливой, быстро к нему привыкли и, когда он приходил из лесу, они теребили его за полы охотничьего балахона и требовали, чтобы он показал им, какого зверя или птицу принес сегодня с охоты. Они давно росли без отца и сейчас не могли нарадоваться, что у них в землянке, как у соседских ребят, живет настоящий охотник. Мальчики гордились им и считали, что новый отец самый лучший ловец в стойбище — это он убил страшного волка. Льок искренне привязался к этим малышам.
И с Боязливой ему было хорошо — еда всегда была готова к его приходу, одежда вовремя просушена и починена. Льок чувствовал себя так, будто снова живет в землянке матери. Но мать знала много интересных преданий и мудрых поверий и рассказывала их сыну вечерами, когда они оба сидели у очага, а Боязливая говорила совсем мало.
Когда Льоку хотелось о чем-нибудь поговорить, он шел к своему соседу Кибу. Старый мастер редко выходил из своей землянки, но знал все, что делается в стойбище, кто отличился на охоте, у кого следует Льоку поучиться. Сам он давно не охотился, но рассказывал про звериные повадки, про хитрости птиц так, будто никогда не выпускал из рук копья. Но лучше всего были его рассказы о разных камнях, о том, какие чудесные изделия могут сделать ловкие руки из куска кремня или сланца. Он показывал Льоку некрасивый серый камешек и говорил наперед, как отколется от него пластинка, если ударить вкось. Льок подолгу следил, как в ловких руках мастера камень превращался то в узенький наконечник для стрелы, то в скребок, то в острый нож.
Как-то Льок сам попробовал взять в руки отбойник. Первый наконечник вышел кривобокий, и Льоку захотелось непременно сделать второй, не такой уродливый. Второй вышел получше, но Льоку и этот не понравился, а старый Кибу все похваливал и подзадоривал его. Он знал, чем удержать возле своей рабочей плиты самолюбивого юношу, который так приглянулся ему с первого раза. Незаметно для себя Льок привязался и к самому старику и к его любимому делу. Новые сородичи скоро увидели, что изделия пришельца немногим хуже орудий старого мастера, и стали называть юношу Мон-Кибу, что означало молодой мастер.
Так шла счастливая и спокойная жизнь Льока: по утрам он обходил самоловы, днем работал у старого мастера, а вечером его тешила звонкая болтовня ребятишек и радовала робкая улыбка ласковой, хоть и молчаливой жены.
Глава 7
Миновала пора предвесенней поземки, когда даже легкий ветер взметает пушистый снег и он дымится над сугробами серебристыми на солнце струйками. Теперь снега лежали таким плотным слоем, что ни заяц, ни лиса не оставляли следов.
Солнце начало пригревать, и на снегу появились какие-то крылатые насекомые, они еще не взлетали, только вяло ползали. Сухостой под носом дятла не звенел, как зимой, а бесшумно крошился отсыревшей трухой. Иногда откуда-то слышался глухой рев медведя, вылезшего раньше времени из берлоги и олютевшего от голода. Все предвещало близкую весну.
Днем под ярким солнцем снег подтаивал, а ночью подмерзал, одеваясь твердой коркой, выдерживавшей на себе даже волка. Настало короткое время охоты за лосем по насту.
Братья давно с нетерпением ожидали этой поры. На капюшоне каждого охотника стойбища торчало лосиное ухо — знак, что охотник принят в братство Лося, покровителя и, по поверью, предка рода. Бэй и Льок еще не были приняты в братство, потому что для обряда посвящения нужна была свежая кровь сохатого. Хотя никто не корил братьев за то, что на их голове не красовалось лосиное ухо, но Бэй считал это постыдным для себя.
Вот почему он от зари дотемна бродил в эти дни по лесу, выискивая следы лосей. Он даже забывал осматривать самоловы, и Кру с Льоком доставалось работы вдвойне. А когда и дряхлеющий Кру начал прихварывать и все чаще и чаще оставался дома, Льок отправлялся обходом в одиночку. Впрочем, у него теперь был верный товарищ — веселый рыжий пес, похожий на лису. Сначала Льок с опаской поглядывал на этих лохматых незнакомых зверей, потом попривык и перестал обращать на них внимание. Но однажды, увидев, как целая свора набросилась на пса поменьше и послабее других, он разогнал палкой рычавших собак, а рыжему бедняге кинул кусок оленины. Наутро пес ждал у землянки, и Льок опять покормил его. Так началась дружба. Пес жался к его ногам, неотступно ходил за ним по стойбищу, а как-то увязался за ним и в лес. Льоку понравилось это: вдвоем бродить по лесу всегда лучше, чем в одиночку.
Один раз, когда юноша осматривал самые дальние самоловы, Рыжий убежал от него, и скоро издалека послышался его лай. Льок продолжал настораживать капкан — пес нередко лаял на птицу или белку, а то и просто на куст, показавшийся ему живым и страшным. Но сейчас лай Рыжего был необычный — частый, отрывистый и настойчивый. Быстро переставляя лыжи, Льок побежал в ту сторону. Пес, опустив нос, делал короткие перебежки, останавливался и лаем звал своего хозяина. Льок подошел поближе и увидел на снегу свежие следы лося.
«Вот удача! — подумал юноша. — Бэй очень обрадуется».
На следующий же день братья выследили целую семью — старого самца и двух лосих с лосятами.
А еще через день Бэй, Льок и несколько самых выносливых охотников вышли рано утром из стойбища на долгожданную облаву. Им удалось бесшумно подобраться почти вплотную к прогалине, облюбованной лосями. Но сохатый, почуяв недоброе, поднял голову с тяжелыми ветвями рогов, глубоко втянул ноздрями воздух. Самки тотчас кинулись в разные стороны и, ломая кусты, бросились в чащу. Вожак широким, размашистым шагом стал уходить от людей.
Теперь для охотников началось самое трудное. Человек должен быть сильнее и выносливее могучего зверя в долгом и утомительном беге. Вначале лось оставил врагов далеко позади себя, люди даже не слышали треска валежника под его ногами, а шли только по следу. Подаваясь вперед всем телом, они легко скользили лыжами по твердому насту, зорко смотря перед собой, чтобы не зацепить концом лыжи за елочку, занесенную снегом по самую вершину.
Солнце уже передвинулось за западную половину неба, а охотники все бежали, подбадривая друг друга криками.
Зверь начал заметно уставать. Следы его становились глубже — значит, он ступал медленнее и тяжелее. Твердый наст ломался под его копытами, и уже давно острая ледяная корка в кровь изрезала ему ноги. Заметив красные пятна на снегу, охотники гикнули и понеслись быстрей. Теперь зверю долго не выдержать. И в самом деле, скоро измученное животное подпустило их почти на бросок копья. Охотники уже видели его мокрые, тяжело ходившие бока. Но еще рано было радоваться. За деревьями показался длинный скалистый кряж. Сохатый, собрав последние силы, взбежал на него и помчался вдоль края. Охотники решили перехитрить зверя. Не сговариваясь, они разделились и побежали, огибая кряж с двух сторон. Только Бэй, разгоряченный погоней, ничего не видя перед собой, кроме лося, взлетел за ним по крутому подъему.
Зверь и человек неслись вперед, как только позволяли их силы. Расстояние между ними не увеличивалось и не уменьшалось.
Вдруг кряж словно вздыбился и затем оборвался. Лось с размаху прыгнул вниз. Бэй, пружиня ноги, успел резко оттолкнуться, и лыжи вынесли его за край скалы.
К счастью, под обрывом была ровная поляна. Описав в воздухе огромную дугу, охотник, ломая лыжами ледяную корку, все же удержался на ногах.
Лось, ошеломленный падением, совсем обессилел. Он стоял пошатываясь, опустив рога до самой земли. Вытянув застрявшие под настом концы лыж, Бэй подбежал к нему и обухом топора оглушил загнанного зверя. Лось тяжело рухнул на снег.
Вскоре подоспели охотники и прирезали его. Дымящуюся кровь они собрали в пузырь из высушенного оленьего желудка. Льок с гордостью посматривал то на убитого лося, то на брата, стоявшего впереди всех.
Бэй наклонился к нему и сказал:
— Теперь и мы будем носить лосиное ухо!
Двое из охотников помоложе отправились в стойбище сзывать людей, а остальные, с трудом ворочая тяжелую тушу, принялись укладывать лося так, как требовал обряд примирения.
Вскоре лось лежал на брюхе, положив рогатую голову между вытянутыми передними ногами.
К вечеру из стойбища пришли охотники. Впереди шел Главный охотник, рядом колдун, а позади всех усталый, но счастливый Кру. Они остановились невдалеке от лося. Колдун лег позади лосиной туши и закричал:
— Здравствуйте, мои дети! Я давно вас жду! Охотники хором отвечали:
— Здравствуй, наш отец! Мы пришли на твой зов.
— Знаете ли, кто меня убил? — спросил колдун. — Я не приметил.
Кру сказал за всех:
— Убили тебя медведи, «лесные люди». Это они гнались за тобой. Когда мы поедим вкусного мяса, то пойдем и убьем их.
— Приходите и ешьте мясо, — произнес нараспев колдун. — Сытые люди сильнее голодных!
Потом он вылез из-за туши и сказал обыкновенным голосом:
— Ну, вот и помирились! Теперь усыновленным пришельцам лось будет добрым отцом, он на них не в обиде.
Развели огонь. Пока старшие охотники свежевали лося, Главный охотник велел Бэю и Льоку снять одежду.
Раздетых догола юношей натерли лосиным жиром: в грудь втирали жир, взятый с груди лося, чтобы она была могучей, как у него, в бедра — жир с бедер, чтобы ноги были выносливы и быстры. Когда все тело у них залоснилось, Кру с колдуном подвели братьев к ярко пылавшему костру, перед которым полукругом сидели охотники. Кру чуть слышно шептал сыновьям слова, а они громко повторяли их, обещая быть смелыми и помогать новым сородичам во всякой беде. После того как посвященные произнесли последние слова клятвы, колдун вырвал у них из головы и груди по нескольку волосков и бросил в огонь.
— Если вы не выполните, что обещали, пусть огонь сожжет вас, как сжег ваши волосы! — проговорил он и протянул братьям на кончике копья по кусочку лосиного сердца.
Настал самый торжественный момент посвящения. Кру подвел сыновей к Главному охотнику, уже облаченному в диковинный наряд. На лбу у старика был обруч с небольшими рогами, выпиленный из головы молодого лося. На шее блестело ожерелье из лосиных зубов, с плеч спускалась, как плащ, шкура лося.
Главный охотник сложил ладони вместе, и колдун бережно налил ему в пригоршню уже успевшую сгуститься кровь. Охотники окружили тесным кольцом посвящаемых в охотничье братство.
— Выпейте крови лося, братья, — торжественно проговорил Главный охотник, — густой крови лося!
Осторожно, чтобы не пролить ни одной капли, Бэй и Льок выпили кровь из ладоней вождя. Вот когда они стали настоящими сыновьями лося!
Нарушая тишину, по-старчески хрипло запел Главный охотник:
Мясо лося, кровь лосиная — Основа дружбы и родства! Обет на помощь! И на мщение!Далеко по лесу разнеслось пение:
Мясо лося, кровь лосиная — Обет на помощь! И на мщение!Три дня тянулся пир. Слегка запеченное в огне мясо разрывали руками и зубами, а кости осторожно обгладывали и бережно откладывали в сторону. Перед возвращением в стойбище все кости, даже самые мелкие, сложили кучкой в расщелину скалы и завалили камнями. Охотники верили, что наступит время, когда лось вновь оживет. Но этого не будет, если не хватит хотя бы одной косточки или если она будет поломана.
Глава 8
Новое стойбище стало для братьев родным. Они научились правильно выговаривать еще недавно непонятные и так трудно произносимые слова, и уже никто не смеялся, когда они что-нибудь рассказывали. Оба считались ловкими охотниками. Льоку нравились обычаи и порядки в этом стойбище, а еще больше нравилось, что он такой же, как все, и ему не надо призывать духов и притворяться, что он видел их и беседовал с ними. Он крепко дружил со старым мастером и очень гордился, что носит прозвище Мон-Кибу. С каждым днем точнее становилась его рука, красивее и острее наконечники копий и стрел, которые он выделывал из кремневых желваков.
Начиналась весна. Снег повсюду стаял, и только посиневшие остатки сугробов еще лежали в глубоких ложбинах. На ветках набухли почки, на ивах уже распустились белые шарики, пушистые, как птенцы куропатки. Куда только ни падал горячий луч солнца, всюду начинало копошиться что-то живое. Муравьи дружно тащили сухие травинки и опавшую хвою, чтобы подновить пострадавший за зимнюю непогоду муравейник. Оживали мухи, взлетали, блестя на солнце ярко-зеленым брюшком, и, застыв в еще холодном воздухе, обессиленные, падали. На озерах лед взбух, посинел, местами его заливали талые воды. В узких бухтах Онежского озера уже играла рябь волны. Сюда, в черные проталины, стая за стаей опускалась перелетная птица. Онежское озеро богато рыбой, а птицы проголодались после долгого пути. Крик и гомон стоял здесь от зари до зари. Только когда густые сумерки окутывали берег, на заре затихала суетня. Но тишина и спокойствие были обманчивы. Черной тенью скользили под водой выдры, из леса к берегу, боязливо обходя лужи, подбирались за лакомой гусятиной лисы.
Льок, как все, радовался весне. Но вместе с радостью пришла и тоска. Так же пахла пригретая солнцем земля на его родине, у Белого моря, так же прилетали птицы и повсюду шла веселая, деловитая суетня, но у моря это весеннее изобилие люди ценили больше, чем здесь, — там оно приходило как избавление от долгих мучений голода.
«Может, кто из бывших сородичей не дожил до этой весны, — думал Льок, — а ведь они могли бы не голодать, если бы копья и стрелы у них были лучше, а капканы бы ловили зверя и птицу. Теперь я умею делать ловушки и мог бы их научить».
Тоска по родному стойбищу была так сильна, что Льоку не хотелось слышать веселого смеха и криков подростков в селении, и он, прихватив с собой Рыжего, уходил подальше на озеро.
Однажды он набрел на место, совсем похожее на святилище у порога Шойрукши. Это был узкий залив Онежского озера, над которым поднималась гранитная скала, такая же гладкая и красная, как Священная скала у родного стойбища. Будто нарочно, чтобы юноше еще яснее вспомнилась родина, шурша крыльями, взлетел огромный лебедь.
Льок долго смотрел ему вслед, вспоминая лебедя, которого он убил в ночь, когда стал колдуном. Ему захотелось выбить что-нибудь на скале, как он это делал дома. Острый отбойник для выделки орудий он всегда носил с собой, в мешочке, привешенном к поясу, а увесистый камень, чтоб ударить по отбойнику, нетрудно было найти поблизости. Столько событий произошло за последнее время в жизни братьев! Надо, чтобы о них осталась какая-то память. Дробно застучал по граниту отбойник. Точка за точкой стали намечаться очертания лося, его вытянутые в беге ноги и огромные рога. Потом на скале появился рисунок человека с копьем — это был, конечно, Бэй. Немного пониже Льок выбил зверя, похожего на лису, только хвост у него был не такой длинный и пушистый, а загибался крючком.
За любимым занятием Льок не замечал, как идет время. Голодный Рыжий недовольно повизгивал, зовя хозяина назад в стойбище. Солнце уже зашло, но Льоку не хотелось уходить. Он присел под скалой передохнуть и едва успел хорошенько обдумать, что бы еще выбить на камне, как солнце опять показалось над озером. Хотя руки ныли от усталости, юноша снова принялся за работу. Теперь он выбил охотника, вонзающего копье в разинутую волчью пасть. Волк, защищаясь, протягивал вперед лапу. Осталось только наметить горбатый хребет зверя, осевшего на задние ноги, но тут кто-то окликнул Льока. Это был сынишка Боязливой, жены Льока. Прождав в тревоге целую ночь, она утром послала сына на поиски.
— Мать велела мне… — начал мальчик и вдруг, взглянув на скалу, пронзительно закричал.
Напрасно пытался Льок его успокоить — мальчик, громко плача, улепетывал так, будто и лось, и волк, и зверь с хвостом-закорючкой, и охотник с копьем слезли со скалы и гнались за ним. Рыжий, обрадовавшись развлечению, заливисто лаял ему вслед.
Только сейчас вспомнив, что он забыл осмотреть самоловы, Льок отправился в лес.
К полудню, нагруженный тремя глухарями, Льок медленно возвращался в селение. От голода слегка кружилась голова, юноша не ел целые сутки. Навстречу ему выбежал испуганный, озабоченный Бэй.
— Что ты наделал? Зачем принялся за старое? Старики уже побывали у скалы и теперь кричат, что враги по твоим рисункам узнают, где селение, придут и убьют всех… Неужели нам опять скитаться!
Льок растерянно остановился. Он не хотел причинить зла своим новым сородичам. Чем же исправить неосторожный поступок?
— Не будь пугливым, как заяц! — немного подумав, сказал он, повторяя слова, когда-то сказанные ему Бэем. — Все будет хорошо, наши останутся довольны.
Бэй недоверчиво покачал головой, но Льок смело пошел к встревоженно гудящему стойбищу.
Заметив его, ребятишки подняли крик, а толпа угрожающе смолкла. Льок смело вошел в круг охотников. Первым с гневной укоризной заговорил Кру. Он напомнил о том, как привел братьев в стойбище и как доверчиво их приняли сородичи. Чем же отблагодарил Мон-Кибу за все это добро? Не тем ли, что показал врагу знаками на скале путь к селению?
— Может, их подослали враги! — крикнул кто-то, и толпа негодующе зашумела.
Но Льок поднял руку и спокойно сказал:
— Выслушайте меня, сородичи. Вспомните, как вы радовались, когда мы убили волка… Разве наши враги не такие же волки? С ними и поступать надо, как со зверем. От скалы, где я выбил рисунки, мы проложим узкие тропы, наставим на них самоловы, и если враги подкрадутся к стойбищу, они попадут в ловушки. Только теперь мы сможем спокойно спать. Самоловы будут стеречь наше селение!
Льок умолк, молчали и удивленные сородичи.
— Ух-ух! — шумно вздохнул наконец один из стариков. — Ты, наверное, самый хитрый из всех людей!
В этот вечер охотники, женщины и даже дети на все лады повторяли слова Льока:
— Враги, что волки, и ловить их надо, как волков!
В землянках не утихали ожесточенные споры — в каких местах протоптать тропы, где и как поставить ловушки.
Утром веселой толпой все отправились к берегу озера. От скалы, на которой бежал лось и издыхал волк с протянутой лапой, далеко в обход стойбища проложили тропинку с крутыми поворотами. На конце тропы устроили непроходимые завалы из камней и деревьев, а в оставленных узких проходах насторожили сильные, как на крупного зверя, капканы.
Льок взял полусгнивший ствол березы и, выставив его перед собой, на корточках подобрался к самолову. Как только ствол березы прикоснулся к ловушке, она захлопнулась, и полусгнившая древесина рассыпалась в тисках. Дружный хохот раздался кругом.
— Великой мудростью наградили духи нашего «молодого мастера», — гордясь названным сыном, сказал Главному охотнику старик Кру. — Вот мы с тобой старые охотники, а кто из нас мог бы придумать такую хитрость?..
— Хорошая у него голова, — важно согласился Главный охотник. — Может, когда я умру, он заменит меня. Сейчас-то он молод, да и я еще поживу…
Льок снова сунул обрубок дерева в капкан, а люди опять зашумели, радуясь этому зрелищу. Им очень хотелось поверить, что ловушки избавят их от вечного страха, терзавшего одно поколение за другим, перед возможным нападением врага.
— Враги будут думать, что застанут нас врасплох, — радуясь, твердили они друг другу, — а сами попадутся в капканы, как глупые зайцы и жадные волки! Великий ум у нашего Мон-Кибу!
Глава 9
Дважды в год по гальке мелководной, но широкой реки звонко стучат сотни твердых копыт — это с берега на берег переходит брод большое оленье стадо. Осенью оно направляется на юг в густые леса, а в разгаре весны возвращается обратно на север.
Зимою олени кормятся ягелем — белым мхом, который выкапывают из-под снега. На болотах и в редколесье севера ветер делает снег плотным и твердым, как лед, — у оленя не хватает силы пробить его копытами. Южнее, в густых лесах, где ветер застревает в чаще ветвей, снег лежит толстой, но рыхлой пеленой. Тут оленю легче докопаться до седых прядей мха. Вот почему еще и осенью олени перекочевывают из тундры севера в леса юга.
Но поздней весной тучей вылетает из осиновых и ольховых рощ овод, страшный бич оленей. Оводы прокусывают шкуру животных и откладывают в ранки яички. Вскоре там выводятся белые червячки — личинки оводов, которые въедаются под кожу несчастного оленя. Животное не знает ни минуты покоя от нестерпимого зуда.
Спасаясь от укусов маленьких крылатых врагов, олени, собравшись большими стадами, возвращаются из лесов в тундры. Впереди вожак, позади самки с детенышами, по бокам самцы, чтобы защищать более слабых от недобрых спутников стада, голодных волков, — так идут олени, пробиваясь сквозь чащу лесов, переплывая широко разлившиеся весной реки.
Время перекочевки оленей сулит людям богатую добычу. Беспомощные в воде, сгрудившиеся на узкой полосе мелководья, олени десятками падают под ударами копий и дротиков охотников. А это значит, что в селении будет много мяса, мягких шкур для одежды и постелей, сухожилий для самоловов и луков, жил для шитья.
К этим дням начинали готовиться заранее. Кибу и Льока завалили работой. Надо было подновить запасы оружия, заострить притупившиеся наконечники, ножи для разделки туш и скребки для выделки шкур. И старый Кибу и Льок еле успевали вздремнуть в короткую весеннюю ночь, а весь долгий день не разгибали спины над своей кропотливой работой.
Главный охотник стойбища велел сделать наконечник для копья. Он хотел, чтобы наконечник был не из кварца или роговика, крошившихся при сильном ударе, а из твердого и прочного кремня. У старого Кибу запасы кремня подошли к концу. Это был редкий материал, его нельзя было найти поблизости от стойбища. Лишь в одном месте на реке он выходил грядой из-под песка. Но там были владения другого рода, и соседи отдавали небольшие куски кремня только в обмен на готовые орудия в дни, когда женихи стойбища ходили в то селение выбирать невест.
Кибу вытащил из потаенного места последний кремневый желвак и, подумав, протянул его Льоку. Он ничего не сказал, но юноша понял, какое важное дело доверил ему старый мастер.
Льок завернул кремень в мокрую шкуру и так оставил его на ночь. Утром он принялся за работу. Обив шершавую, твердую корку, наросшую за долгие века на желваке, и обровняв острые углы, Льок долго всматривался в камень, угадывая, как идут жилки и слои. Потом резкими точными ударами он стал скалывать одну за другой тонкие пластинки, до тех пор пока не получил такую пластину, которая ему была нужна, — большую и ровную. Кибу заглянул через его плечо и молча кивнул головой. Все шло хорошо. Теперь кремневую пластинку предстояло превратить в наконечник — работа трудная и кропотливая, одно неверное движение руки могло погубить многодневный труд. Немало времени просидел над ней Мон-Кибу. Тоненькие плоские кусочки, похожие на рыбью чешую, отлетали от пластинки под его ловкими руками. Выпуклая посредине пластинка становилась все тоньше к краям, концы ее вытягивались и заострялись, пока она не стала похожа на упавший с дерева лист с коротким черешком для насадки на древко.
Кибу взял в руки готовый наконечник, осмотрел со всех сторон и сказал, что давно не видел такого хорошего изделия. Но Льок все еще не был доволен. Ему показалось, что в одном месте возвышается лишний бугорок, и он решил стесать его. И тут случилась непоправимая беда. Раздался треск, и наконечник переломился. Столько труда пропало даром. А самое страшное, что в стойбище не осталось кремня, чтобы сделать новый наконечник.
Кибу даже не пытался утешать Льока, он хорошо знал, что значит для мастера такая неудача.
Как только Льок вернулся к себе в землянку, Боязливая сразу увидела, что с мужем случилось неладное. Льок даже не притронулся к пище. Когда близнецы с криком прибежали домой, Боязливая вытолкала их прочь, а сама, присев на корточки рядом с мужем, пыталась расспросить его о том, что произошло, но Льок упорно отмалчивался.
— Говорят, стойбище, из которого тебя взяли, богато кремнем, — сказал он. — Знаешь, где его там находят?
— Девушка, становясь женой охотника из чужого рода, должна забыть тайны своего рода, — тихо ответила Боязливая. — Я не знаю, где добывают кремень.
— Ты плохая жена, — сказал Льок. — Смеющаяся вспомнила бы, если б понадобилось Бэю.
— Нет, я хорошая жена! — вскрикнула женщина. — Я покажу тебе, где найти кремень.
Льок хотел взять с собой брата и послал за ним Боязливую, велев ей ни о чем не рассказывать ни старику Кру, ни болтливой жене Бэя. Боязливая скоро вернулась одна. Бэй и Кру уехали на лодке вниз по течению лучить рыбу. Смеющаяся сказала, что они вернутся только дня через три.
— Что ж, пойдем одни, — вздохнул Льок.
Решили выйти на рассвете. Сборы были недолгими. Льок захватил мешок из оленьей шкуры, за пояс засунул топор. Жена заботливо припасла еды на дорогу.
Рыжий увязался было за ними, но Льок, пригрозив палкой, прогнал его прочь — такой спутник мог легко выдать их лаем.
Тихонько прокравшись по стойбищу, они вышли к берегу. Проще было бы подняться вверх по реке на лодке, отталкиваясь шестом. Но между двумя селениями, стоявшими в полудне пути друг от друга, давно существовал уговор — не ездить по этому отрезку реки ни одному, ни другому роду.
Медленно продвигались путники вдоль изгибов неширокой, но полноводной в это весеннее время реки. Льок досадовал на каждую помеху в их трудном пути, ему хотелось скорее добраться до цели и еще засветло вернуться в стойбище. Он представлял себе, как разложит перед изумленным Кибу куски драгоценного камня. Вместо одного испорченного наконечника он, Льок, сделает много новых, еще лучших. Он станет трудиться без отдыха, чтобы успеть сделать побольше — ведь дней до прихода оленей осталось совсем мало. Охотники будут довольны, и никто не посмеет сказать, что у Мон-Кибу неловкие руки.
А Боязливая, казалось, была рада всякому обросшему мхом валуну, выраставшему перед ними, всякому поваленному дереву, преграждавшему дорогу. С каждым шагом вперед ей становилось все страшнее. Что будет, если бывшие сородичи увидят ее на своем берегу? Она знала: когда девушка, став женой, уходит в чужое стойбище, она уходит навсегда. Путь обратно ей закрыт. Только ради мужа она посмела нарушить вековечный запрет. И теперь она шла, повторяя тихонько все заклятия, какие могла вспомнить, чтобы отвести беду, грозившую им обоим.
Льок остановился, поджидая отставшую жену. Заметив тревогу на ее обожженном весенним загаром лице, он взял ее за руку и ласково спросил:
— Боишься?
— Боюсь, — призналась она, — о-ох, как боюсь!
— Ничего, я не дам тебя в обиду…
— Я и за тебя боюсь! Что скажут старшие?
Только тут Льоку пришло в голову, что следовало спроситься у Главного охотника. Он понял, что нарушает закон не только чужого, но и своего стойбища.
— Вернемся? — словно угадав, о чем он подумал, тихо спросила Боязливая.
— Но разве стойбищу не нужен кремень? — отвечая и жене и самому себе, сказал Льок. — Пойдем! — И он, решительно повернувшись, двинулся вперед.
— Мое сердце чует беду, — вздохнула за его спиной Боязливая.
— Твое сердце всегда чует одни только беды! — досадливо отозвался Льок, не оборачиваясь.
Боязливая умолкла.
Они шли еще долго, и только когда перевалило за полдень, Боязливая, тронув мужа за плечо, сказала:
— Вот здесь.
Льок остановился. Прямо против них, на том берегу, невысокой грядой темнели скалы, а посредине реки течение намыло две большие песчаные отмели, одну ближе к этому берегу, другую к тому. Льок прикинул на глаз расстояние до первой отмели, подумал, потом отыскал длинную, крепкую жердь и, упершись ее концом в дно, легко перескочил на островок.
— Прыгай за мной! — крикнул он Боязливой.
— Разве я смею покинуть землю моего мужа? — с испугом прошептала она. — Зачем кричишь, тебя могут услышать.
На первой отмели в чистом песке не было даже речной гальки, и Льок с помощью того же шеста перебрался на второй островок. У его края, ближе к кремневым скалам на том берегу, выходил, пройдя под водой, отрог каменной гряды и зеленел невысокий кустарник. Льок бросился вперед и вспугнул гревшуюся на солнце гадюку. Оставляя на влажном песке чуть заметную волнистую полоску, она исчезла в зелени кустов. Следя за змеей, Льок увидел две чуть торчавшие из кустов палки с поперечиной между ними.
«Капкан! — догадался он. — Значит, не я первый придумал такую хитрую защиту от врагов!»
Подойдя к ловушке, он ударил палкой по поперечнику. Ловушка с треском захлопнулась, крепко зажав конец палки.
Под самой скалой Льок увидел полузанесенный песком кусок кремня. Вода и мороз откололи его от скалы. «Из него выйдет отличный наконечник», — порадовался Льок этой находке. Раскапывая песок концом палки, он вытаскивал один за другим куски кремня. Скоро мешок наполнился до половины. Льок приподнял его и встряхнул.
«Много будет наконечников! — чувствуя тяжесть мешка, подумал он. — А можно набрать еще и в тот, что у Боязливой».
На первую отмель Льок со своим тяжелым грузом кое-как перепрыгнул, а на берег выбраться было труднее, поток тут был шире и глубже. Боязливая перебросила несколько жердей, и Льок перешел по этим шатким мосткам.
— Дай мне твой мешок, — попросил он. — Пойду собирать на том берегу, там кремень, должно быть, еще лучше.
Но женщина торопливо сбросила жерди в воду.
— Нельзя сыновьям Лося ступать на тот берег! — с удивившей Льока решимостью сказала она. — Война будет, смерть будет!
Льок понял, что она права. Кремня и так было собрано немало. Закинув увесистый мешок за плечи, он с Боязливой двинулся в обратный путь.
Чем ближе он подходил к стойбищу, тем сильнее охватывала его тревога. Хорошо ли он сделал, нарушив запрет? Но, чувствуя тяжесть мешка за спиной, он успокаивался. Кремень так нужен стойбищу! Кибу обрадуется.
Но Кибу не обрадовался. Когда Льок высыпал перед ним из мешка камни и быстро стал подсчитывать, сколько и чего выйдет из такой большой кучи кремня, старик сразу понял, где Льок пропадал весь день и откуда такое богатство.
— Стрелы и копья из этого кремня принесут стойбищу не удачу, а беду! — сурово сказал он. — Сложи все обратно в мешок и пойдем к Главному охотнику.
Главный охотник велел сейчас же созвать стариков.
Скоро старые охотники стали входить в землянку. Неизвестно, как и от кого они успели узнать о беде, которую снова накликал на стойбище их приемный сын. Они входили с нахмуренными, озабоченными лицами и садились на шкуры.
— Верно, соседи будут воевать с нами! — сказал Главный охотник. — Они не потерпят, чтоб сын Лося в неурочное время вступил на их берег.
— Я же не вступал на их берег! — закричал Льок. — Я собрал кремень на отмели посреди реки, а река ничья!
Старики облегченно вздохнули и стали переговариваться между собой. На душе у Льока тоже стало легче — значит, не так уж он виноват, а теперь он сделает такое оружие из принесенного кремня, что его еще похвалят. Похвалили же за выдумку с капканами.
Но тут встал Кру и сказал:
— Чужое надо скорее бросить в воду!
Все старики согласились с ним. Поднимаясь с места и выходя из землянки, они старались не прикоснуться к мешку, лежавшему посреди жилья. Льок сидел ошеломленный — чего-чего, а этого он не ждал. Заметив его растерянность, Главный охотник велел ему взять мешок и нести к реке.
Стыдно и больно было Льоку идти с мешком за плечами впереди охотников, женщин и детей, поглядывавших на него кто с жалостью, кто с укором. У излучины, где женщины набирали воду, толпа остановилась.
— Бросай, — хмуро сказал Главный, — бросай чужое!
Мешок, тяжело расплеснув прозрачную воду, ушел на дно.
Вздох пронесся по толпе охотников. Такое богатство было в руках, и вот его уже нет!
— Иди в свою землянку, — велел Главный охотник Льоку. — Жди, пока старшие решат, что с тобой делать.
Льок был рад поскорее уйти от всех и спрятаться хоть на время в своем жилье. Но и там он не нашел утешения. Огонь в очаге не горел. Боязливая сидела скорчившись в углу, и, когда она подняла навстречу мужу лицо, Льок увидел кровоподтек под глазом и большую царапину на щеке. Женщины побили Боязливую за то, что она навлекла опасность войны на стойбище. Они побили ее и за то, что она нарушила запрет стойбища отцов, — ведь все они были взяты сюда из селения на том берегу реки.
Льок сел рядом. Боязливая по-детски прижалась к нему. В нетопленную землянку забрались комары. Назойливо кружась над головой, они нагоняли заунывным пением еще большую тоску.
Близнецы вернулись поздно. В теплое время дети, как и в родном стойбище Льока, сами добывали себе пищу — дикий лук и какие-то болотные коренья, от которых щипало язык, мелкую рыбешку, птичьи яйца. Увидя, что матери не до них, они забились, как маленькие зверьки, под шкуры в глубине землянки и тотчас уснули.
Льок и Боязливая еще долго сидели в темноте у холодного очага, стараясь угадать, что решат старики, что ожидает их завтра… Потом они незаметно задремали.
Рано утром их разбудил старый мастер.
— Вставай, Мон-Кибу, — сказал он, — надо работать. Олени скоро придут. Вчера твои руки спасли твою голову.
Боязливая бросилась разжигать очаг. Клубы дыма быстро выжили комаров и мух. Скоро запахло печеным мясом. В землянке сразу стало тепло и радостно, и Льоку и Боязливой показалось, что беда миновала бесследно.
Глава 10
Когда солнце ярко светит целый день, плохо сидеть в темной землянке. Сырость идет от земляных стен и пола и влагой пропитывает меха постели, даже сушеное мясо покрывается плесенью. Воздух нетопленного жилья становится совсем промозглым и затхлым.
У старого Кибу весной всегда ломило суставы на руках и ногах, ныли все кости. Стоило ему немного посидеть в землянке, как его одолевал удушливый кашель, ноющие пальцы начинали дрожать и удары отбойника делались неточными.
Вот почему с наступлением тепла старый мастер выносил свою шлифовальную плиту и работал на солнышке, сидя у входа в землянку.
Так и в это утро, особенно ясное и жаркое, усердно трудились Кибу и Льок, склонившись над рабочей плитой. Старый мастер шлифовал топор, а Льок заканчивал скребок для очистки кожи от волоса, который он сделал из половинки сломанного им наконечника. Это был не только скребок: сторону разлома Мон-Кибу заострил так, что она стала ножом для раскройки кож. Никто раньше не додумался до того, чтобы из одной кремневой пластинки делать два орудия! Теперь оставалось только закрепить скребок-нож в деревянной рукоятке. Она уже лежала рядом на плите, Льок протянул за ней руку и вдруг увидел, что Рыжий, спокойно дремавший до сих пор у его ног, проснулся и, задрав голову, забавно водит носом по воздуху. Крупное крылатое насекомое кружило над головой пса.
— Овод! — крикнул старый Кру, оторвавшийся от работы. — Овод! Значит, скоро придут олени.
И тут с другого конца стойбища донеслись звонкие голоса подростков:
— Оводы! Оводы прилетели!
На крики мальчишек из землянок выбегали охотники. Вышел и Главный охотник стойбища. Поднялась суета сборов. Главный неторопливо отдавал распоряжения. Молодые охотники и подростки, с нетерпением ожидавшие этого дня, должны были сейчас же отправиться в лес по ту сторону реки, чтобы подстеречь и выследить ход оленьего стада.
Только Льок не поднялся с места. Работы у мастеров было много, нечего было и думать, что старый Кибу отпустит его с молодыми охотниками. Льок тяжело вздохнул, и его отбойник застучал еще быстрее по кремневой пластинке.
Шумной гурьбой прошли мимо молодые охотники. Бэй отделился от них и подошел к мастерам.
— Идешь? — спросил он брата. — Разве ты старик, чтобы отказываться от радостей охотников?
Льок глазами показал на старика, медленно водившего почти законченным топором из сланца по шлифовальной плите.
— Отпусти брата, — сказал Бэй. — Ты сам был молодой. Как ему сидеть, когда мы все идем?
Кибу поднял голову, лукаво взглянул на грустное лицо Льока, потом перевел взгляд на Бэя и, что-то вспомнив, ласково усмехнулся.
— Вот и за меня когда-то просил брат… Да только меня не отпустили.
Льок помрачнел.
— Отпусти, — упрямо повторил Бэй. — Как можно не пустить охотника?
Старик опять усмехнулся:
— Ну уж иди. Доделаю сам.
Олени не всегда выходили к реке в одном и том же месте. И время их появления угадать было трудно. Иной раз они пускались в дальний путь из глубины лесов тотчас после вылета первых оводов, а иногда почему-то задерживались. Поэтому засаду на них приходилось устраивать заранее, в полудне ходьбы к югу от стойбища.
Дойдя до обычного места, разведчики разошлись по одному, растянувшись длинной цепью на восток и на запад. Каждый облюбовал себе дерево и, забравшись на сук, принялся устраивать из сосновых или еловых веток укрытие. Вскоре на деревьях, на расстоянии птичьего голоса друг от друга, появились огромные, круглые, но совсем не птичьи гнезда.
Льок и Бэй выбрали сторожевые посты по соседству, чтобы можно было, сойдясь, шепотом поговорить на родном языке и подменять друг друга на время сна.
Спать приходилось по очереди — один дозорный следил за двумя участками. Но и в первую, ни во вторую ночь олени не показывались. Недолгий, урывками, сон помогал кое-как коротать ночь, зато дни, наполненные тишиной и ожиданием, казались нетерпеливой молодежи томительно длинными.
Особенно трудно было Бэю. На родине братьев не знали такого промысла. Их стойбище лежало у самого устья широкой и глубокой реки, и оленьи стада, должно быть, проходили далеко стороной. За оленем охотились по двое, по трое, а иногда и в одиночку, удача зависела от быстроты и выносливости ног, от зоркости глаза и меткости руки охотника. А здесь все было по-другому — надо было сидеть, притаившись, на дереве и терпеливо ждать, когда придет стадо. Бэю было скучно, и он сердился.
— Разве наши охотники стали бы прятаться и упускать из-под носа одну добычу ради другой, которая, может, и не появится, — возмущенно шептал он брату.
— Старики говорят, что, если загнать стадо в реку, много можно набить оленей, получить много мяса…
— А разве мало мяса было в том глухаре, что сейчас улетел от меня! — не мог успокоиться Бэй. — Если бы старики не отобрали у нас копья, я никого бы не стал слушаться. Мне стыдно перед глухарем. А сейчас он, должно быть, сидит где-то на ветке и смеется: глупый этот охотник, верно, вовсе не охотник.
Еще через день заскучали и другие. Стали поговаривать: может, стадо выбрало новые броды, где-нибудь восточнее, и они зря сидят на деревьях, словно совы, что ночью не спят, а днем боятся покинуть ветку и только таращат глаза, ничего не видя.
Но на следующее утро братья чутким ухом охотников уловили далекое потрескивание сухого валежника. Конечно, и другие дозорные услышали, как из глубины леса движется стадо, потому что сейчас же от одного сторожевого поста к другому прокатился, постепенно замирая, крик чайки — условный знак: «Идут олени!»
Горе охотникам, если хоть один олень почует человека. В страхе все стадо помчится за метнувшимся прочь животным, и тогда прощай богатая добыча!
Сквозь сеть хвойных ветвей, укрывавших его, Бэй пристально смотрел вперед. Мерная поступь многих копыт слышалась все ближе. В просветах между стволами показался вожак. Высоко подняв рога и насторожив уши, он приостановился, медленно водя мордой и шумно втягивая в ноздри воздух.
Но лес казался безмолвным, запах человека заглушался густым смолистым ароматом хвои. Ничто не вызывало тревоги у чуткого вожака. Он спокойно шел вперед, а за ним, беззаботно пощипывая мох, послушно следовало стадо. Еще немного, и олени поравнялись с линией засады. Бэй увидел внизу, прямо под собой, толчею спин, путаницу рогов, услышал шумное дыхание. Никогда в жизни он не думал, что бывает столько оленей сразу. Стадо, медленно колыхаясь, будто проплыло вперед. И когда последние олени пропали за деревьями, снова прокатился птичий крик. От дозора к дозору неслось на этот раз кукушечье кукование:
«Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!»
Бесшумно соскользнув с деревьев, дозорные двинулись за стадом. Они крались широким полукольцом, все время держась поодаль, чтобы животные не приметили их. Самые крайние побежали стороной к стойбищу — известить, что олени близко.
В селении все только и ждали радостной вести. Когда олени приблизились к реке, на берегу со стороны стойбища из-за вороха наломанных елей за ними уже следили десятки глаз. Но вожак и тут ничего не почуял. Насыщенный хвойным запахом воздух не выдавал людей.
Олени начали спускаться к воде. Вожак вел их по склону не прямо, а наискось — к островку, почти перегораживающему течение. Этого нельзя было допустить — кругом островка были отмели, и олени, почуяв недоброе, могли почти посуху в несколько прыжков пересечь реку и вихрем пронестись мимо засады. Оленей надо было во что бы то ни стало направить на глубокое место.
Люди хитрее зверя. Один из дозорных уже, крадучись, забежал сбоку. Он быстро развернул и встряхнул по ветру мокрую волчью шкуру, и густая струя страшного запаха ударила в ноздри вожаку.
Он коротко замычал, и тотчас все стадо беспокойно затопталось на месте. Но охотник снова туго скатал шкуру шерстью внутрь, и когда вожак еще раз втянул в себя воздух, волчий запах исчез. Все-таки встревоженный старый самец решил держаться подальше от подозрительного места. Он повернул в сторону от островка и повел стадо через реку прямиком.
Осторожно ступая в холодную воду, вздрагивая и поводя ушами, олени медленно погружались все глубже, пока наконец не поплыли, пересекая течение. Когда передние достигли середины реки, из засады на противоположном берегу выскочили женщины и дети. Они бегали взад и вперед, кричали, стуча палкой о палку, и размахивали руками. Испуганные животные попытались было повернуть назад, но и на том берегу раздались вопли и улюлюканье дозорных. Олени сбились в кучу и поплыли по течению. Люди бежали вдоль воды, не давая стаду пристать к берегу. А на воде их настигали в легких челноках охотники с копьями, с дротиками, с двузубцами из оленьих рогов. Животные заметались.
Обезумев, они бросались из стороны в сторону, налезая грудью на передних, те шарахались, тесня и давя соседей. Охотники не подпускали оленей к местам, где они могли коснуться копытами дна. Быстрая река несла сгрудившееся стадо к озеру, а люди с челнов били оленей топорами и кололи копьями, стараясь не ударять в хребет, чтобы не сломался хрупкий наконечник. Вода окрасилась кровью раненых. Погибла чуть не половина стада, пока передним все же удалось добраться до спасательной мели. Огромными прыжками, вздымая тучи брызг, выскочили олени на берег и скрылись в лесу.
Охота выдалась удачная. И хоть много убитых и раненых животных течением унесло в озеро, люди не горевали об этом. У них осталась большая добыча, которую они стали вытаскивать на берег свежевать. Лакомые части внутренностей складывали в содранные еще теплые шкуры, а тушу рассекали надвое.
Пригибаясь под тяжестью ноши, один за другим уходили в стойбище, женщины и те подростки, что были посильнее. Никто не замечал ни оводов, круживших над ними, ни комаров, облеплявших лица — все спешили скорее добраться до селения и начать пиршество.
Глава 11
Пять дымков сизыми струями поднимались на поляне — это пылали костры, зажженные в честь удачного промысла. Колдун уже совершил обряд примирения с душами животных, молодые охотники проплясали олений танец, женщины разложили на бересте еще теплые потроха. Их не заготовляли, как мясо, впрок, не коптили, не сушили, а торопились съесть. Пиршество было в разгаре. Руки и губы людей стойбища лоснились от жира. Даже вечно голодные псы были так сыты, что уже не дрались из-за костей. Солоноватая кровь вызывает жажду, но отяжелевшим от еды охотникам лень было подняться с места и пойти к реке напиться. Две женщины с неохотой встали и, захватив большие берестяные ведра, отправились к реке.
Скоро они прибежали обратно, с распущенными по плечам в знак беды волосами, и, задыхаясь, остановились перед Главным охотником. Веселый шум пиршества прервался. Все повернули к ним головы и ждали, что они скажут.
— Там на реке лодка… — вымолвила наконец одна из женщин.
— Соседи прислали красного, с красной стрелой, — подхватила другая.
Все вскочили со своих мест, матери громко звали ребятишек, молодые охотники бросились к месту, где грудой лежали их копья.
Главный охотник поднялся на ноги и, подав знак старикам, торопливо пошел к реке. Старики двинулись за ним. Только Кру и Кибу нарочно замешкались. Они незаметно подозвали Льока.
— Теперь, должно быть, тебя не спасут ни твои умные руки, ни твоя хитрая голова. Уходи в лес на три дня и три ночи.
Льок, не понимая, что случилось, но чуя недоброе, обогнул стороной костры и, хоронясь за деревьями, пошел прочь от стойбища. Когда юноша скрылся из виду, Кру и Кибу поспешили вдогонку за Главным охотником.
Перед тем как выйти к реке, Главный охотник зашел в свою землянку и вынул из берестяного колчана три стрелы. Одну он оставил себе, две отдал Кру и Кибу. Все три старика оправили на себе одежду, приосанились и медлительной, мерной поступью, держа стрелы острием вниз, спустились к берегу. Охотники, подростки и тихо причитающие женщины с ребятишками на руках, не смея приблизиться, толпились поодаль.
Посредине реки покачивалась большая, выдолбленная из осины лодка. Два гребца, уперев шесты в дно, удерживали ее на месте. Между ними стоял старик в одежде, выкрашенной ярко-красной охрой. В протянутой руке он держал окровавленную стрелу, острием направленную на стойбище, — знак, что этому селению объявляется война.
Главный охотник, Кру и Кибу, подойдя к самой воде, протянули «красному» свои стрелы, по-прежнему, в знак миролюбия, повернутые к земле.
Лодка приблизилась к берегу, и одетый в красное взял протянутые стрелы. Принятие дара означало, что приехавшие согласны на мирное разрешение спора.
— Вашего стойбища человек нарушил обычай предков и взял наше добро, — сказал одетый в красное и показал лежавший на окрашенной охрой ладони кусок кремня.
— Нашего стойбища человек не вступал на ваш берег, — с достоинством ответил Главный охотник стойбища.
— Но он взял то, что принадлежит нам.
— Пусть твои храбрые гребцы опустят руку в воду. Там, на дне, вы найдете ваше добро. — Главный охотник показал место, куда был сброшен мешок.
Когда один из гребцов вытащил мешок из воды и высыпал кремень на дно лодки, посланец, опять направив стрелу на стойбище обидчиков, спросил:
— Разве это не наше добро?
— Разве олень, перебежавший с вашего берега на наш, не делается нашей добычей? — ответил Кру.
Одетый в красное молчал.
— Разве эти камни не сами ушли с вашей земли? — добавил Кибу. — Наш человек не коснулся вашей скалы.
— Он подобрал их в песке островка, что лежит у нашей земли, а нам оставил в насмешку свои следы и палку в охранной ловушке…
— Разве можно по воде провести рубеж? — опять спросил Кибу. — Разве песок не принадлежит воде? Она его приносит, она его уносит. Разве вода ваша или наша?
Старик опять замолчал, но острие окровавленной стрелы в его руке не опустилось книзу — спор был еще не кончен.
— Вы говорите, что ваш человек не нарушил обычай, — сказал наконец одетый в красное, — но он приходил не один. Радом с его большим следом был меньший, женский. Сына Лося привела дочь нашего рода! Вы наказали ее?
Теперь молчали старики стойбища.
— Выдайте нашу дочь, мы сами накажем ее. Окровавленная стрела в руках посланца немного опустилась к земле.
— Но у нее двое сыновей, — проговорил хмурясь Кибу, — кто заменит им мать?
— Если мы забираем назад нашу провинившуюся дочь, мы забираем и ее детей.
Старики не отвечали, и конец стрелы снова поднялся. Главный охотник стойбища переглянулся с Кру, а добрый Кибу печально опустил голову.
— Пусть будет как вы требуете, — проговорил Главный охотник и, не оборачиваясь назад, крикнул: — Приведите женщину и детей!
Сыновья Боязливой оказались тут же на берегу, их взяли на руки и передали в лодку. Не понимая, в чем дело, мальчики радовались, что их покатают, и весело смеялись.
Оставшиеся на берегу сверстники завидовали им. Вскоре притащили рыдающую женщину. Гребец бросил на берег сыромятный ремень. Им связали руки и ноги несчастной жены Льока. Один из охотников поднял ее и перенес в лодку.
Тогда одетый в красное протянул Главному охотнику окровавленную стрелу. Это был знак, что переговоры закончились миром. Лодка, постепенно удаляясь от берега, пошла вверх по течению. Пока она не исчезла за поворотом и не заглохли крики женщины, никто, даже маленькие дети, не тронулись с места.
Так откупилось стойбище от угрозы войны и неминуемого разорения. Селение северных соседей было многолюднее. К тому же нападать выгоднее, чем обороняться. Нападающие сами выбирают время, чтобы нагрянуть врасплох.
Льок вернулся в стойбище той же ночью. Старики велели ему не показываться трое суток, но как мог он укрываться от опасности, если стойбищу грозила какая-то беда, притом из-за него. Весь долгий день он бродил по лесу, пытаясь уснуть на мягком мху, вставал и вновь без цели блуждал по чаще. Поздним вечером он не выдержал и решил узнать, что делается в селении.
Крадучись, словно рысь, пробрался он к поляне, где темнели в сумраке ночи невысокие бугры земляных крыш. Он подполз к одной из них и услышал доносившееся из-за полога сонное бормотание старухи. Подкрался к другой — там громко храпел охотник.
Тогда Льок направился к своей землянке. Рыжий, повизгивая, ткнулся влажным носом в его руки. Хорошо вернуться к своему очагу! Льок тихо приподнял полог, но на него пахнуло холодом нетопленного жилья. В землянке на разные лады звенели комары. Протянув руки, Льок шагнул к стене, к спальному месту, и в темноте стал ощупывать шкуры. Ни жены, ни детей в землянке не было.
Льок понял, что с Боязливой случилась беда. Ведь женщина должна спать только у своего очага. Если Боязливой не оказалось в землянке, значит, ее нет и в селении. Неужели ее увез посланец соседей, одетый в красное и державший окровавленную стрелу? Но, если женщину увозили в родительское селение, значит, ее обрекали на смерть! То, что не было и сыновей Боязливой, подтверждало страшную догадку — вина родителей падала также на головы детей…
Льок бросился к землянке Кибу.
Старые люди спят мало, и сон их очень чуток. Едва Льок успел войти и осторожно, чтобы не задеть в полумраке ногой священных углей очага, сделал два шага, как старик проговорил:
— Утром пойди к Главному охотнику. Он все скажет.
Напрасно Льок задавал один вопрос за другим. Старик больше не промолвил ни слова.
Льок опустился на свое привычное место, и первое, что увидел, было новое орудие — скребок-нож, который он собрался подарить Боязливой. Оно было сделано из половины того сломанного наконечника, из-за которого Льок пошел к соседям добывать кремень. Льок долго держал на ладони старательно заостренную с двух сторон пластину.
Кибу тоже не мог спать. Он вышел из землянки, и вскоре послышалось шуршание сланца о поверхность шлифовальной доски. Ш-ш-ш, ш-ш-ш, — доносилось до Льока, сидевшего в полумраке у почти погасшего очага.
«Старик не говорит ни слова — значит, беду ничем не поправишь, — думал Льок, прислушиваясь к однообразным звукам. — Можно было бы поправить — старик научил бы меня».
Ночь казалась бесконечно долгой. Невыносимо было ждать рассвета, и Льок побежал к приемному отцу. Там все спали.
— Где Боязливая? — крикнул Льок.
— Пойди к Главному охотнику, — сразу отозвался старик, повторив слова Кибу. — Он скажет.
— Ты скажи! — забывая, что перед ним старший, настаивал Льок.
— Боязливую отдали северным соседям, — медленно ответил Кру. — Она нарушила обычай отцов, ее закопают в землю.
— Это я виноват, меня надо наказать! — крикнул юноша.
— Соседи не могут тебя наказать, ты нашего рода. Они собирались идти на нас войной, но не захотели лить кровь многих. Мы отдали им нарушившую запрет.
— А ее дети? — прошептал Льок, прислушиваясь к спокойному дыханию спящего в изголовье Бэя мальчугана.
Смеющаяся зашевелилась и тихонько вздохнула. Но ни она, ни старик не ответили на вопрос.
Льок стоял, прислонившись к стене, пока не раздались голоса девушек, шедших мимо землянки за водой. Кру разбудил Шух. Сонно потягиваясь, она взяла берестяные ведра и пошла догонять подруг.
День в стойбище начался как обычно. В жилищах просыпались люди, весело перекликались мальчишки, отправляясь в лес за топливом.
У Льока, словно у старика, подгибались колени, когда он вышел из землянки Кру и побрел к Главному охотнику стойбища.
— Это я нарушил обычай! — с трудом проговорил он. — Боязливая не виновата! Она не могла ослушаться мужа. Я пойду к ним, пусть они лучше меня накажут…
— Как ты можешь уйти, если мы не отпустим тебя? — удивился Главный охотник. — Неужели на твоей родине каждый делал, что хотел? Ее уже нет в живых. А ты нужный нам человек. Ты хороший мастер. — И, желая утешить Льока, добавил: — Осенью отправим тебя вместе с женихами за новой невестой.
Охотнику не подобает плакать. Глотая слезы, Льок ушел от Главного. У входа в свою землянку он остановился, тяжело было войти в это опустевшее жилище. Тут кто-то взял его руку и повел, как маленького ребенка. Это был Кибу.
— Здесь тебе будет лучше! — сказал старый мастер, вводя Льока к себе в землянку.
Глава 12
Едва не нарушенная кровавой схваткой жизнь селения шла своим чередом. Никто не упрекал Льока, хотя самовольный поступок молодого мастера чуть не навлек беду на сородичей. Все понимали, что он не желал зла стойбищу. Молодые охотники часто заговаривали с Льоком о том, как они вместе пойдут осенью к северным соседям выбирать жен. Льок отмалчивался — он не мог забыть Боязливую. Ему было горько, что в селении уже не помнят о ней. Но это было не так. Женщины, когда поблизости не было мужчин и даже детей, часто говорили о Боязливой. Соблюдая черед, каждую ночь до наступления полнолуния женщины приносили в опустевшую землянку Боязливой еду и питье, чтобы насытить души погибшей и ее детей.
Льок совсем переселился к старому Кибу. Они вместе варили себе еду и спали рядом. Но теперь около землянки мастера редко слышался перестук двух отбойников. Льоку опротивела любимая раньше работа. Все чаще он стал уходить из стойбища, стараясь быть вместе с Бэем, Кибу укоризненно качал головой, но все же отпускал его.
С берега озера вдалеке виднелось несколько островков. Охотники стойбища зимой добирались иногда до них по льду в поисках забредающих туда с материка рысей. Охота на рысь трудна и опасна. Обычно этот зверь труслив, но, раненный, он приходит в такую ярость, что бесстрашно бросается на человека. Нарядный мех рыси очень ценился, в ее шкуру женихи заворачивали дар своей будущей жене — разукрашенное брачное ожерелье. Из-за красивого меха рыси и ходили сюда молодые охотники, когда замерзало озеро.
Но летом к островам никто не ездил. Люди стойбища боялись глубокого огромного озера, где неожиданно налетали бури, как на море.
Богатый зверем лес и река, изобилующая рыбой, кормили всех досыта круглый год. Зато братьям тем и полюбилось озеро, что напоминало море. Здесь, на островах, они были только вдвоем и могли спокойно говорить друг с другом на родном языке. Вот почему они часто уезжали в долбленом челноке к островам лучить рыбу.
Белые ночи уже заметно потемнели, стояла самая удобная пора для этого промысла. Братья зажигали на носу лодки толстые смолистые сучья, свет которых вырывал из темноты кусок озерного дна. Льок, чуть шевеля веслом, медленно вел лодку вдоль отмели, а Бэй, перевесившись через борт, с острогой наготове, всматривался в светлый круг, перемещавшийся по дну…
В этом круге, на освещенном песке, четко виднелись темные спины рыб. Иногда это бывали лобастые налимы, иногда длинномордые, большие щуки. Меткая рука Бэя не знала промаха. От удара острогой в голову сейчас же всплывал белым брюхом вверх оглушенный налим. Больше возни было со щукой. Даже пригвожденная ко дну острогой, живучая хищница била хвостом и разевала огромную, зубастую пасть до тех пор, пока удар копья не перебивал ей позвоночник. Лодка постепенно наполнялась крупной добычей, но Бэй все еще был недоволен.
— Болтаемся по воде, как щепки, — ворчал он, втаскивая в лодку большого скользкого налима. — Что это за промысел? Вот на море есть где показать и силу и смелость! А какая здесь жизнь: добудешь — ладно, не добудешь — тоже не беда! Живем, прячась в лесу, как кроты…
— Зато если Хозяин моря не посылает добычу, — сказал Льок, — голодает все стойбище…
— Если бы сородичей научить ставить капканы, у них бы не было весной голода, — задумчиво ответил Бэй. — Я теперь умею делать ловушки на каждого зверя.
— А я из черного камня научился делать хорошие орудия… Они помолчали. Потом Бэй взглянул на брата и сказал:
— А что если?.. — начал он.
— Я сам об этом думаю. Мне все снится, что мы вернулись назад.
— И я все об этом думаю. Начну есть и думаю: «А как наши? Как у них промысел в это лето?»
На светлом дне зачернела мясистая спина громадного налима. Бэй, словно нехотя, проткнул ему острогой голову и, прижимая рыбу к песку, добавил:
— Но что сказать сородичам? Почему мы убежали, почему вернулись назад? Как объяснить, что у Кремня оказался человечек с твоего ожерелья?.. Сразу всего не придумаешь. Льок кивнул головой:
— Надо долго думать.
Причалив к берегу, рыболовы развели костер, развесили рыбу коптиться в дыму и улеглись у огня. Засыпая, Бэй сказал брату, как когда-то уже говорил:
— Я все думаю и думаю, а придумать ничего не могу. Ты хитроумный, ты, верно, придумаешь.
Под утро Льок разбудил Бэя.
— До чего же ты долго спишь! — недовольно заговорил он. — Я давно придумал, а ты все спишь и спишь.
С Бэя сразу слетел сон.
— Говори скорей, — заторопил он брата.
— Надо так сказать сородичам… — начал Льок. — Когда охотники в хранилище промысловых одежд накинулись на Кровавого Хоро, он побоялся показываться нам и выпустил Кремня, в образе которого жил. Значит, у ям был настоящий Кремень. Он не смел вернуться в стойбище, — ведь мы бы подумали, что это опять пришел Хоро, — а есть ему хотелось, он и стал разрывать ямы…
Бэй слушал, кивая головой.
— А твой человечек? Как он попал к Кремню? — спросил он.
— Человечек? Его сдернул с моей шеи лесной дух и подарил Кровавому Хоро, вот он и оказался у Кремня. А мы ушли с тобой на юг, потому что так велели мои духи. Они сказали, что там мы научимся делать ловушки и хорошие орудия, чтобы сородичи никогда не голодали весной. Мы научились, как надо их мастерить, и вернулись на родину.
Бэй восхищенно смотрел на брата.
— Как все складно у тебя получилось… Вот удивится старый Нюк, когда палки сами наловят тетеревов! — И Бэй громко засмеялся, представляя изумление сородичей. — Давай уйдем сегодня, — сказал он и стал торопливо снимать с жердей коптившуюся рыбу.
Братьям следовало бы остаться на рыбалке еще дня два. Стояла тихая погода, и после недавних бурь на отмелях у островов скопилось много рыбы. Но Льоку и Бэю не терпелось осуществить задуманное.
До сегодняшней ночи им самим казалось, что они совсем привыкли к стойбищу потомков Лося. Они обходили ловушки и лучили рыбу в тихой реке и на озере. Льок целыми днями просиживал со старым мастером, склонившись над каменной рабочей плитой, а Бэй стал одним из лучших охотников селения. Жизнь текла спокойно, по заведенному порядку, и братьям думалось, что так и будет всегда. Но стоило сказать вслух то, что каждый из них таил от другого, как они снова почувствовали себя сыновьями Кита. Жизнь далекого родного стойбища была тревожной, голод почти каждую весну угрожал смертью жителям морского побережья. А в лесном селении у огромного озера было всегда сытно и спокойно. Все же тоска по родным местам и по родным людям с такой непреоборимой силой охватила братьев, что они больше не хотели медлить даже дня.
Льок бросился помогать Бэю складывать еще не докоптившуюся рыбу в лодку.
— Значит, ты опять будешь колдуном? — спросил Бэй, передавая Льоку еще теплую от дыма щуку.
— Ой, нет, нет! — Тяжелая рыбина даже выскользнула из рук юноши и шлепнулась за борт. — Я хочу быть как все! Я скажу, что духи наказали меня за то, что я потерял их дар — фигурку человечка, и они отступились от меня. Я хочу быть как все! Да я никогда и не был колдуном и никаких духов никогда не видел…
— Как — не видел?! Ты же всегда говорил: «Мои духи велели мне сказать так или этак». Значит, ты обманывал нас?
— Я не хотел… Но это всегда само получалось… Разве ты не помнишь, как Кремень приказал добыть для селения пищу? С лебедя и началось…
Бэй все еще не мог поверить.
— Как же ты говоришь, что не видел духов, когда даже мы, простые охотники, видели Роко. Он показался нам в ночь посвящения.
Льок тихонько засмеялся, вспомнив, как он погрозил кулаком охотникам и те отступили.
— Это был не Роко, это был я…
От изумления и гнева Бэй не мог вымолвить ни слова, он повернулся и ушел в глубь островка.
Льок постоял на берегу, но брат не возвращался. Тогда он пошел искать его.
Бэй лежал на земле, уткнув лицо в мягкий мох. Льок тихонько тронул его за плечо.
— Уйди! — крикнул Бэй, не поднимая головы. — Как я вернусь к сородичам с таким обманщиком?!
Льок сел рядом с братом. Терпеливо дождался, пока тот немного успокоился, потом заговорил. Он рассказал, как старалась погубить его Лисья Лапа, как Кремень хотел бросить его в порог, как горевал Ау, когда Главный охотник дал ему плохой гарпун, как он, Льок, помог ему, подарив гарпун прежнего колдуна…
Долго говорили братья на пустынном островке и вернулись в селение только под вечер.
Бэй хотел, чтобы Смеющаяся ушла с ними, и очень обрадовался, когда, вернувшись с рыбной ловли, застал ее одну в землянке. Он присел к очагу и рассказал, что задумали они с братом.
— Ты пойдешь с нами? — спросил он.
— Я не умею говорить по-вашему, — испуганно ответила она.
— Ваши женщины не примут меня…
— Ты быстро научишься, — успокоил ее Бэй. — Ведь мы тоже не знали вашей речи.
— У меня здесь и сестра и все мои сверстницы, — сказала Смеющаяся. — А там все чужие. Как они отнесутся ко мне?
Этого Бэй опасался и сам, но все же уговаривал жену:
— Ты ведь придешь с нами…
Смеющаяся не знала, на что решиться, ей было страшно идти к чужим людям и не хотелось расставаться с Бэем.
— Вчера мой сын ушел с другими детьми на птичий промысел, — в конце концов сказала она. Как я могу оставить его одного? Вот он вернется, тогда дам ответ.
— Хорошо. Буду ждать, — согласился Бэй.
Птичий промысел продолжался долго. Начинался он в полнолуние, а заканчивался следующим полнолунием. Когда наутро братья пошли осматривать ловушки, Бэй сказал Льоку:
— Сейчас уходить нельзя. В лесу еще голодно. Надо подождать, пока появятся грибы, ягоды и подрастут птенцы. Сейчас в пути нечего будет есть. И Смеющаяся ждет с птичьего промысла сына.
Льок ничего не ответил, он сразу понял, почему Бэй, так торопивший его, теперь откладывает задуманное.
Глава 13
Однажды утром Льок встал, приготовил еду для себя и Кибу, поел и, как всегда в последнее время, направился к выходу. Он уже приподнял полог, но тут его окликнул старый мастер.
— Подожди, — сказал он. — Разве ты уже не Мон-Кибу? Смотри, как бы камень не перестал тебя слушаться. Уже лето в разгаре, скоро у нас будет большое празднество. Молодые охотники из соседнего стойбища придут сватать невест, а старые — обменивать свои орудия на наши. Чем сможет похвалиться наш род? Я уже стар, много не работаю. Садись, Мон-Кибу, рядом со мной.
Льок помедлил немного и присел у рабочей плиты рядом со старым мастером. И вот в землянке раздался давно не слышавшийся двойной перестук отбойников.
Но дело у Льока сначала не спорилось. Он торопился, будто хотел наверстать упущенное время, и камень выскальзывал из его пальцев, отбойник ударял не по тому месту, которое намечал глаз. Льок искоса взглядывал на старого мастера — не смеется ли тот над ним, но Кибу низко опустил голову, казалось, он весь ушел в работу. Юноша успокоился, и теперь каменные чешуйки стали падать из-под отбойника на рабочую плиту ровные и тонкие. Рука приобрела прежнюю уверенность, и Льок вдруг удивился, что его совсем не тянет ни к озеру, ни в лес и, как прежде, ему хорошо со старым мастером.
Так прошло несколько дней.
Льок старательно шлифовал сланцевый топор, когда в землянку вошел Главный охотник стойбища. Он окинул одобрительным взглядом почти законченное орудие и спросил старика:
— Хватит ли нам изделий?
Кибу молча откинул оленью шкуру, покрывавшую уложенные рядом кирки, топоры, тесла и долота, изготовленные из сланца, в котором так нуждались соседи.
— У соседей будет меньше, — уверенно сказал Главный охотник, — ты не терял зря времени.
— Пришлось нам посидеть с Мон-Кибу, — озабоченно ответил старый мастер, стараясь не показать, что доволен похвалой, — орудия из желтого камня, что наменяли прошлым летом, почти все поломались…
— Желтые наконечники хуже красных, — согласился Главный. — Когда наши мужчины пойдут звать гостей, они скажут им, чтобы несли красные, а желтые пусть оставят себе.
— Но, может, они мало принесут?
— Тогда осенью мы отнесем свои изделия к северным друзьям. Их работа не хуже, чем у южных!
Когда Главный охотник ушел, Льок спросил:
— Северные — это те, у кого наши берут жен?
— Да. Туда наши охотники пойдут потом, незадолго до того, как олени начнут перекочевывать через реку на зимовье в лес. Верно, и ты возьмешь себе жену?
— Нет, — угрюмо сказал Льок, — я в то селение не пойду. Не надо мне жены.
— Ну, там видно будет, — успокаивающе ответил Кибу. — Об этом рано еще говорить. Сначала девушек будем выдавать. Они сейчас только об этом и думают.
В эти дни девушки не знали покоя. Их матери озабоченно перебегали из землянки в землянку посоветоваться друг с другом, а заодно и поглядеть, хороши ли наряды у соседних невест, не красивей ли, чем у дочери. Кое-кто, прибежав назад, торопливо начинал подшивать к свадебной малице новые кусочки разноцветных мехов — чем лучше наряд у невесты, тем больше будут смотреть на нее женихи.
У Шух не было матери, но она подготовилась не хуже других. Старый Кру напромышлял немало зверей, целый ворох самых лучших шкур припас он для дочери. Да и Бэй с Льоком не забыли названную сестру. А Смеющаяся помогала ей шить, на это она была мастерица.
Наконец все было готово у невест стойбища. И вот как-то под вечер, разодетые в брачные наряды, девушки вышли из землянок. Трижды обошли они с песнями вокруг стойбища. Это был знак, что они велят охотникам звать женихов.
На следующее же утро отрядили трех посланцев — приглашать соседей южного стойбища на празднество.
В селении поднялась суматоха — шли последние приготовления к встрече гостей.
Гости прибыли сутки спустя. Шли чинно. Впереди — Главный охотник соседнего стойбища. Он нес на спине красиво расшитый мешок с товаром, за ним шествовали пожилые охотники, и позади всех шли долгожданные женихи, бережно держа перед собой завернутые в мех брачные ожерелья.
Гостей усадили на поляне посреди стойбища, против входа в землянку Главного. Старики, присев на корточки, неторопливо разложили перед собой принесенные для обмена изделия: кремневые наконечники для копий и дротиков, разные стрелы, острые — на птицу, тупые и короткие — на мелкого пушного зверя.
Охотники помоложе сели по правую сторону. По левую в ряд разместились женихи, важные и неподвижные, как резной столб в землянке колдуна. Каждый из них держал на коленях сверток с ожерельем. Много труда вложили сами женихи и их матери, чтобы соорудить это пышное украшение, которое предстояло надеть на шею невесте. Оно собиралось долго, частями; в нем были разноцветные перья и хитроумные плетенья из тонких ремешков, были резцы бобров, лисьи лапки и непременно челюсти щук, потому что щука считалась священной рыбой южного селения.
Мимо женихов прохаживались молодые охотники стойбища, отпуская веселые шутки. Женихи оставались невозмутимыми. Может быть, они были бы не прочь переброситься словом со сверстниками, но нельзя уронить свое достоинство, и они продолжали молча ждать, когда начнется пиршество и им покажут невест.
Старики не теряли времени даром. Главный охотник, Кибу, Кру и еще четверо старых охотников деловито осматривали выставленные гостями изделия. Хитрые соседи разложили орудия из желтого кремня, но зоркие глаза Главного охотника стойбища и старого мастера приметили, что к поясу одного из старших гостей был привешен туго набитый тяжелый мешочек. Видно, сначала хотели сбыть, что похуже, а что поценнее припрятывали на крайний случай.
— Видишь? — тихонько подтолкнул Главный охотник старого Кру, неприметно кивая на мешочек.
— Вижу, — ответил тот, глядя совсем в другую сторону, туда, где сидели женихи.
— А что ты видишь? — с усмешкой спросил Кибу. Тут Кру понял, что ответил невпопад, и рассердился:
— Зачем спрашиваешь? Разве мои старые глаза ничего уже не могут разглядеть?
— Твои старые глаза уже, верно, высмотрели хорошего жениха для дочери, — сказал Главный охотник. — Пусть теперь твои глаза посмотрят на орудия соседей. Пора начинать обмен.
Кру шагнул к принесенным орудиям, посмотрел, подумал, потом, быстро нагнувшись, повернул острием назад в одном ряду — три, в другом — два наконечника, это значило: «Таких не берем, несите обратно». Кибу одобрительно гудел за его спиной — правильно делает старый охотник, эти наконечники никуда не годятся.
Пока Кру продолжал свой придирчивый осмотр и гости забирали отвергнутые им изделия, Льок, по знаку Кибу вынес из землянки свои изделия и разложил их против принесенных.
У гостей заблестели глаза, но никто даже не пошевельнул рукой. У разложенных гостями орудий старый мастер провел черту — это был знак того, что хозяева требуют прибавки. Гости пошептались, и из заветного мешка достали десяток красных кремневых орудий.
Торг длился долго. Когда хозяева решили, что изделий с обеих сторон выставлено достаточно и никому не будет обидно, они прибегли к давно испытанному средству — Главный охотник стойбища велел нести угощения.
У женщин все было готово еще с утра. Они быстро и ловко расставили перед гостями рыбу, дичь, вяленую оленину, съедобные коренья и ягоды, юноши важно вынесли три больших сосуда с веселящим напитком и поставили самый большой перед стариками, другой, немного поменьше, — перед охотниками, третий поднесли женихам.
Проголодавшиеся гости жадно накинулись на еду. Они усердно работали челюстями, а берестяные ковши с напитком переходили из рук в руки. Только женихи по-прежнему сидели, как врытые в землю, им не полагалось ни пить, ни есть. Жених будет пировать потом, в землянке невесты.
И хозяева не притрагивались к еде, надо было сначала закончить обмен. Томиться пришлось недолго. Напиток закружил голову соседям, и они перестали дорожиться. Потомки Щуки взяли изделия потомков Лося, потомки Лося забрали орудия потомков Щуки.
Теперь уселись пировать и хозяева, сосуды пошли по кругу. А когда оба сосуда опустели, то хозяева и гости без стеснения распили и жениховский напиток.
Одно дело было кончено, следовало начинать другое.
Старухи вывели разукрашенных меховыми одеждами смущенных невест и усадили их в ряд перед женихами. Нелегко выбрать себе жену среди девушек, которых видишь в первый раз. Юноши разглядывали невест — какая из них красивей, старались угадать, кто будет ловчее работать. Осмелев, девушки подняли глаза на женихов.
Разряженная Шух еще раньше, сквозь опущенные ресницы, приметила, что на нее, не отрываясь, глядят двое. У обоих были широкие плечи, крепкая шея, большие, сильные руки, оба, должно быть, хорошие охотники. Но, когда девушка пристально взглянула на них, ей показалось, что один из них, сидевший с краю, чем-то похож на Бэя, у него было такое же доброе, смелое лицо. Шух только успела подумать про это, как к ней тихонько подкралась Смеющаяся и зашептала в самое ухо:
— Выбирай крайнего. С ним тебе будет хорошо, как мне с Бэем.
И Шух больше не отводила глаз от этого молодого охотника. Его сосед подождал немного, но увидя, что понравившаяся ему девушка не обращает на него внимания, тихонько вздохнул и занялся другими невестами. В этом году выбор у женихов был богатый — их было девять, а невест — тринадцать.
Когда старухи решили, что молодежь достаточно нагляделась друг на друга, они позволили наконец женихам встать. Некоторые из молодых охотников нерешительно топтались на месте, они еще не выбрали сами или не были уверены в согласии невесты.
Девушка могла ведь и не принять подарка, а быть отвергнутым не пристало молодому охотнику… Но юноша, похожий на Бэя, не колебался, он шагнул к Шух и протянул ей завернутое в мех рыси свадебное ожерелье. Взяв сверток, Шух дрожащими руками отогнула край пушистой шкуры. Это значило, что она дала согласие. Жених дернул за другой край шкуры, и Шух счастливо улыбнулась. Такого пышного ожерелья, пожалуй, ни у кого не было! Зеленые, белые и желтые перья торчали из него в разные стороны.
В ожерелье были вплетены беличьи хвосты, а посредине красовалась зубастая челюсть огромной щуки, окруженная бобровыми резцами. На длинном ремешке к ожерелью были привязаны волчий клык и коготь медведя. Девушка не ошиблась в выборе; жених — совсем молодой охотник, а уже добыл и медведя, и волка, и рысь.
Юноша, гордый тем, что его подарок понравился, надел ожерелье на шею невесты. Шух взяла жениха за руку и повела в отцовскую землянку. За ними пошли родичи — довольный Кру, Смеющаяся с Бэем и сыном и грустно улыбающийся Льок.
Гости пробыли в стойбище три дня. Это было веселое время. Старики пировали на опушке под тенью деревьев. Молодые охотники мерились силой и ловкостью — метали копья, пускали стрелы из луков или попросту, взявшись в обхватку, старались повалить друг друга на землю. Особенно усердствовали женихи, чтобы не ударить лицом в грязь перед невестами. Самым ловким и сильным оказался жених Шух. Он победил подряд пятерых сыновей Лося на глазах у невесты, и Шух сияла от гордости. Бэй, сперва тоже улыбавшийся, с каждой новой победой молодого охотника хмурился все больше. Наконец он не выдержал и вступился за честь стойбища. Копье его воткнулось в землю на четыре шага дальше копья жениха, зато стрела жениха взвилась выше и пала на два шага дальше. Теперь спор должно было решить единоборство. Тут и старики забыли свое стариковское веселье — сосуд с напитком — и подошли поближе. Шух и Смеющаяся, крепко держась за руки, не сводили глаз с состязавшихся, и каждая желала победы своему. Схватка длилась долго, иногда казалось, что верх одерживает жених, иногда — Бэй. И все-таки победил Бэй. Огорченная Шух отпустила руку Смеющейся, а Кру, увидев, что дочка готова заплакать, примирительно сказал:
— Как же ты хочешь, чтобы годовалый олень победил двухгодовалого! Подожди, настанет время и твой годовалый олень превратится в силача.
Состязание Бэя с женихом Шух напомнило старикам давние времена их юности — они, как юнцы, тянулись на палках, боролись, стреляли в цель из луков. В сумерки разложили костры, прыгали через них, плясали, пели.
Наконец подошло время расставаться. В эту ночь также никто не спал. Только вместо веселого смеха по стойбищу разносилось заунывное пение — это причитали матери над дочерьми, которых они никогда больше не увидят. Четыре девушки, оставшиеся невестами еще на год и потому проплакавшие три дня пиршества, теперь радовались: им не надо было покидать родное стойбище. Невест страшила предстоявшая новая жизнь в незнакомом селении и в то же время радовало, что у них скоро будет свой очаг и что священный обряд приобщения к духам этого очага совершат не чужие, незнакомые женщины, а свои — старшие сестры и тетки, тоже дочери Лося, которых сыновья Щуки взяли в жены год, десять или двадцать лет назад.
Когда солнце поднялось над лесом, люди стойбища и соседи двинулись к берегам озера. В узком заливе между двумя мысами покачивались лодки. Но гости даже не взглянули на них. Они пришли пешком, пешком должны были и уйти. Лодки были приготовлены для невест. Обычай велел, чтобы из родного стойбища до места новой жизни их в последний раз провожали свои. И теперь девушки-невесты, окруженные родными, стояли у залива, глядя вслед уходящим. Те цепочкой растянулись по берегу. Впереди шел Главный охотник, за ним — старики и охотники, и позади женихи. Женихи то и дело оборачивались.
Только молодой охотник, взявший в жены Шух, долго крепился и не оглядывался, храня степенное достоинство. Все же у крутого поворота не выдержал и он. Но вместо милого, опечаленного лица девушки он увидел чудовище с огромной головой и длинным хвостом. Выворачивая руки и ноги, чудовище плясало, прыгало и рычало на голоса разных зверей. Молодой охотник сначала испугался, потом понял — это колдун покидаемого ими стойбища отгоняет от своей земли чужих духов, которые могли проникнуть в селение вместе с гостями.
Когда последний из гостей скрылся за мысом, начались проводы невест. Под плач матерей и младших сестер они по двое усаживались в лодки. С ними уселись старухи, чтобы из рук в руки передать невест старухам южного селения, которые сами были из рода Лося.
В строгой тайне от мужчин старухи совершат обряд приобщения невест к очагу мужа. Это таинство навсегда закроет им обратный путь в селение, где прошло их детство и юность.
Как же могли не плакать матери, расставаясь с дочерьми, ведь они их никогда больше не увидят! Каждая вспоминала, как когда-то сама покидала родной очаг, а кому же девичья пора не кажется лучшим временем жизни?
Но вот гребцы взмахнули веслами, и лодки стали медленно удаляться.
Голоса девушек, посылавших последние приветствия, постепенно замирали над тихой водой. Пожелания родных, несшиеся им вслед, скоро перестали долетать до уезжающих.
Оставшиеся женщины еще долго не уходили с берега. Они плакали, громко приговаривая, и из плача и жалобных слов сама по себе складывалась грустная песня. Пройдет год, и на этом же месте ее опять запоют при новом расставании. Одни слова забудутся, другие прибавятся, но по-прежнему песня будет щемяще печальной.
В этом году при расставании с невестами горестней всех плакала и причитала Смеющаяся. Женщины думали, что она оплакивает разлуку с Шух, дочерью старого Кру. Никто не знал, что ей предстоит разлука еще более горькая. Бэй и Льок решили оставить селение на следующий после проводов день. Они сказали Смеющейся, что это самое удобное время — все будут отсыпаться после долгого пиршества и пролитых слез, никто не заметит их ухода. Бэй снова уговаривал Смеющуюся идти с ними. Но она сказала:
— Шух увезут, ты с Льоком уйдешь, как я покину Кру? Разве старик всех нас не любит, разве о всех не заботится? Что будет с ним, когда он останется совсем один? Я не брошу его.
Вот почему, расставаясь с Шух, она так горько плакала и громко причитала. Женщина прощалась с девушкой, заменявшей младшую сестру, и с пришельцем, который стал ей другом и мужем, а теперь уходил навсегда.
Глава 14
На следующий день после проводов девушек селение казалось вымершим: никто не шел за водой, которую приходилось таскать издалека, никто не тащил на спине валежника. Дети и подростки с утра разбрелись в поисках ягод, а взрослые все еще спали. В это жаркое, безветренное утро крепким сном были охвачены не только люди; даже собаки, непривычно сытые объедками трехдневного пиршества, спали в тени землянок.
Тихо было и в жилище старого Кру. Сам хозяин и его внук безмятежно похрапывали на мягких шкурах. Бэй молча сидел рядом с женой. С тех пор как он вернулся с рыбной ловли у острова, он много раз пытался убедить Смеющуюся идти с ними.
— Как уйду? — повторяла она. — Как оставлю старика? Бэй напрасно надеялся, что, когда придет время расставания, она передумает. Они долго сидели, опустив голову и не глядя друг на друга. Наконец Бэй медленно поднялся, погладил по курчавым волосам спящего мальчугана, в знак прощания осторожно прикоснулся к седой голове Кру и еще раз, теперь уже последний, взглянул на Смеющуюся. Она поняла молчаливый вопрос и также молча указала на спящих.
Последняя надежда Бэя не оправдалась. Он повернулся, порывисто вышел из землянки и направился в жилище старого мастера.
Кибу, большой любитель «веселого напитка», крепко спал. Спал и Льок. Тронув брата за плечо, Бэй разбудил его. У Льока тоже все было готово: в кожаном заплечном мешке лежали два полюбившихся ему отбойника и запас вяленого мяса на время пути. Юноша не решился взглянуть на спящего старика. Ему было жаль навсегда оставить и его и эту землянку, и в то же время было радостно — он возвращался к своим!
Бэй решил, что разумнее всего сначала идти по мелкой воде, вдоль самого берега озера, чтобы собаки в случае погони за ними не учуяли их следа.
Вышли к Онежскому озеру. Льоку захотелось в последний раз взглянуть на рисунки, выбитые им на скале. Когда он вернулся назад, то увидел, что Бэй, приставив ладонь ко лбу, всматривается в ту сторону, куда утром ушли лодки с невестами.
В глубокой дали озера виднелись какие-то черные точки. Сперва они казались неподвижными, чуть заметными, потом, понемногу увеличиваясь, превратились в пятнышки.
— Уже возвращаются? — удивился Льок. — Но ведь их ждут только завтра.
— Это не они, — отрывисто проговорил Бэй. — Это чужие лодки!
— Может враги? — тревожно сказал Льок.
— Да, это враги, — отозвался Бэй. — Вот мы с тобой и не убежали. Люди сделали нас своими сыновьями. Как покинуть их в беде? Пойди разбуди Главного охотника. Я подожду здесь.
Младший брат бросился к селению, а старший спрятался в кустарнике, чтобы следить за лодками.
Трудно было добудиться Главного охотника, но как только тот услышал слово «враги», сон мигом слетел с него. Быстро поднял он все селение на ноги.
Старики торопливо повели женщин и детей с ценным скарбом в убежище, надежно запрятанное среди топких болот, а охотники, вооруженные копьями, топорами и луками, направились к озеру. Они подоспели вовремя.
Пришельцы уже вытащили на прибрежную гальку две длинные лодки с высоко вздыбленным носом, украшенным рогатым черепом дикого быка. Разминая ноги, чужаки бродили по берегу. Все они были рослые, с длинными, светлыми волосами, одеты в одинаковые короткие куртки из кожи моржа, подпоясаны широкими поясами. На боку у каждого висела непонятная для охотников длинная и узкая полоса, ослепительно блестевшая на солнце.
Из одной лодки светловолосые с громким смехом выволокли на прибрежную гальку связанную женщину. Ей развязали ноги и пинками заставили встать. Ее нарядная одежда была разодрана, а лицо было окровавлено и покрыто синяками. Это была Шух!
Ропот гнева поднялся в прибрежных кустах, где скрывались сородичи, но Главный охотник криком чайки заставил их умолкнуть. Затаив дыхание, охотники продолжали наблюдать за пришельцами.
Люди стойбища поняли, что враги напали или на селение соседей или на лодки, увозившие невест, и почему-то пощадили одну Шух.
Один из светловолосых, держа конец ремня, связывавшего руки девушки, стал подталкивать ее вперед ударами в спину.
Девушка повернула измученное лицо в ту сторону, где в густом лесу было укрыто стойбище, потом пошла по тропинке, уводящей прочь от селения. Светловолосые взяли в правую руку блестящие, как солнце, палки и гуськом, один в затылок другому, пошли следом за ней. Четыре раза согнул каждый охотник пальцы своих рук, пока пересчитал всех пришельцев. Почти столько же было и охотников.
Неразумно выскочить сейчас на открытый берег. Лучше заманить врагов в лес, а там, скрываясь за кустарником и стволами деревьев, напасть на них. Быть может, Шух заведет своих мучителей в завал с наставленными капканами?..
Охотники не ошиблись. Шух не пропустила поворота тропы и повела за собой незваных чужеземцев.
Как обманчиво было спокойствие леса! По узкой тропе бесшумно, волчьей поступью шли рослые воины, которых, пошатываясь, вела измученная девушка. Рядом, укрываясь за деревьями, невидимые для врагов, пробирались ее сородичи. Одни крались позади пришельцев и по сторонам тропинки, другие торопились добраться до завалов, чтобы там встретить светловолосых лицом к лицу.
Шух остановилась у последнего крутого поворота тропы, где громоздились наваленные друг на друга толстые стволы, между которыми были насторожены капканы. Девушка не хотела погибнуть, как зверь в ловушке, да и что пользы! Она только выдаст этим хитрость сородичей. Шух упала на землю и, хотя град жестоких ударов обрушился на нее, она не поднималась.
Кру с названными сыновьями бросился на помощь к дочери, и два желтоволосых упали, пораженные топором Кру и копьем Бэя. Остальные пришельцы стали защищаться, размахивая блестящими полосами.
Это было страшное оружие — с одного удара оно перерубало, как щепку, самое крепкое дерево! В руках Бэя вместо копья оказалась срезанная наискось палка. Но люди стойбища все ближе подступали к незваным пришельцам. Укрываясь за деревьями, они кололи длинными копьями и теснили их за поворот тропы в глубь леса.
Желтоволосым ничего не оставалось, как пятиться к тупику, где их поджидали настороженные ловушки.
Раздался крик — один из врагов попал в тиски капкана. Второй в испуге отпрыгнул в сторону и тоже закричал — другой капкан сдавил ему грудь. А из-за стволов в светловолосых полетели короткие дротики.
Зажатые в тесном проходе между высокими завалами, пришельцы с трудом отбивались от хозяев леса. Проход был узок, и, сгрудившись, пришельцы мешали друг другу. Тогда седой широкоплечий бородач что-то крикнул им, и светловолосые бросились бежать, стараясь пробиться к озеру.
Кру, подняв Шух на руки, хотел отнести ее в сторону, но в этот миг бородач, расчищавший путь своим воинам, рассек голову старика и смертельно ранил девушку в грудь. Подоспевший Бэй ударил седого обломком древка в висок с такой силой, что тот замертво повалился на землю рядом с Кру и Шух.
Бэй выхватил из его руки блестящую полосу, размахнулся и ударил по шее бежавшего вслед за бородачом воина. Голова врага скатилась к ногам Бэя. Такого чуда он еще не видал. В испуге молодой охотник отпрянул в сторону. Это спасло его от меча другого пришельца.
Как ни извилиста была длинная тропа, но бегущие не сходили с нее, боясь заблудиться в незнакомом лесу. Еще много людей стойбища и незваных гостей рассталось с жизнью, пока пришельцы добрались до берега. Они столкнули одну ладью на воду и прыгнули в нее. Четыре десятка чужеземцев сошло на берег, а сейчас они не насчитывали и десятка.
Напрасно сзывали своих светловолосые, отирая руками кровь, лившуюся из глубоких царапин от кремневых наконечников. Никто больше не выбежал на берег. Три десятка незваных гостей, убитые или оглушенные, остались лежать на тропе в лесу.
Но сыновья Лося тоже потеряли немало людей. Блестящие палки пришельцев губили каждого, к кому прикасались.
Главный охотник не велел охотникам выходить из-за прибрежных деревьев, чтобы не показать, как мало их осталось. Четверо желтоволосых сели на весла, и ладья медленно тронулась.
Еще легко можно было догнать их ладью на быстрой осиновой лодке.
— Нельзя упускать врагов, они наведут на нас новых! — кричал сородичам разгоряченный схваткой Бэй. — Наши копья длиннее их блестящих палок…
— Их палки секут наши копья, — угрюмо возразил Главный охотник стойбища, глядя на обрубок своего древка. — Мы и так потеряли много наших братьев…
— Трусишь, старик! — обозлился Бэй. — У нас на родине люди храбрее, они не упустили бы врага.
Охотники нахмурились. Не отрывая глаз, Бэй смотрел, как медленно удаляется тяжелая ладья.
— Мы можем догнать их! — размахивая мечом, опять закричал он. — Кто не побоится идти со мной?
— Брось оружие врагов! — приказал Главный. — Оно принесет несчастье…
— Им я рассек четверых, — гневно ответил Бэй, — им я убью и других!
Он бросился к прибрежным кустам, где была спрятана лодка. Но Главный охотник преградил ему путь.
— Кто смеет пойти против старшего в стойбище?! — крикнул он.
— Я смею! — ответил Бэй. — Недобитые враги приведут своих сородичей, тогда все мы погибнем! — И, обернувшись к брату, он крикнул на языке родного селения: — Беги за мной!
Вдвоем братья принесли и опустили в воду длинную, но совсем легкую лодку.
— Кто еще не боится врагов?! — позвал Бэй. Трое охотников присоединились к братьям.
Пять против десяти — на каждого приходилось по два врага! К счастью, храбрые сыновья Лося владели могучей силой, о которой даже не подозревали. В руках у Бэя был бронзовый меч. Точно такие же мечи были у тех, кто спасался сейчас бегством. Но как охотнику нельзя на промысле пролить кровь другого охотника, так нельзя было и пришельцам ударить своим мечом о меч, который достался Бэю. Светловолосые были между собой побратимы, и потому мечи их тоже считались побратимами. Проклятие падет на святотатца, меч которого зазвенит о меч содружинника!
Легкая лодка быстро догоняла тяжелую ладью. Бэй понял, что биться борт о борт им нельзя — ударом толстого, длинного весла пришельцы могут опрокинуть их лодку.
— Я перескочу в ладью и буду драться блестящей палкой, — сказал он сородичам, — а вы колите врагов в спину копьями.
Как только нос осиновой лодки подошел под корму вражеской ладьи, молодой охотник перепрыгнул в нее.
Бэй так никогда и не понял, почему светловолосые не подняли на него блестящие палки, а старались голыми руками отнять доставшееся ему оружие.
Бэй отчаянно отбивался, и один за другим под его ударами трое пришельцев повалились на дно лодки. А копья друзей Бэя жалили врагов в спину. Еще один желтоволосый упал, бессильно перевесившись через борт. Пришельцы стали отбиваться от копий, а Бэй тем временем уложил еще двоих.
С берега была хорошо видна схватка смельчаков с врагами. Две лодки заскользили по воде на помощь сородичам. Но свершилось почти чудо — меч и четыре копья одолели десять мечей! На долю подоспевших осталось немного — добить двух раненых и перевезти тела врагов на берег!
Сыновья Лося стали подсчитывать потери. Они были велики. Оружие желтоволосых наносило раны, которые нельзя было залечить. На тропе, где недавно кипела битва, лежали изрубленные тела сородичей. Двадцать храбрых охотников никогда уже не возьмут в руки копья.
Зато и врагов уложили немало. Четыре десятка убитых или оглушенных желтоволосых сволокли на лесную полянку. Враг даже мертвый опасен. Охотники верили, что человек после смерти продолжает делать то, что делал при жизни. Надо было обезвредить мертвых врагов, переломать им руки и ноги, выколоть глаза и, искалечив тела, упрятать понадежнее, чтобы они не могли мстить победителям.
Неподалеку от этой поляны ярко зеленело болотце. Люди стойбища хорошо знали, как обманчива его нарядная зелень. Совсем недавно на это место забежал лось. Он попал в капкан и, волоча его за собой, пытался уйти от людей. Охотники видели, как трясина поглотила зверя. Пусть она поглотит и тех, кто покинул свою землянку, чтобы грабить и убивать мирных людей!
Мертвым связали перебитые руки и ноги и на шестах, как носят убитых зверей, отнесли к болоту. Чтобы подойти к трясине, на зыбкие берега положили шесты, на которых притащили врагов, а сверху навалили еловые ветки. Осторожно ступая, охотники попарно подносили тяжелую ношу и, раскачав, бросали в болото.
Когда последний враг исчез в трясине, к болоту подошел колдун.
— Пусть ваши души, — крикнул он, — никогда не отходят от тел!
Охотники трижды повторили его возглас и пошли обратно к берегу озера.
Тем временем на поляне женщины, вернувшиеся из своего убежища, палками разворошили окровавленный мох, натаскали сухого валежника и зажгли его. Огонь оберегает людей от всего страшного и опасного, а кровь врага была так же опасна, как живой враг.
Охотники верили, что опасность таилась и в оружии убитых пришельцев. Главный велел утопить оставшуюся лодку и блестящие полосы. В лодке пробили дно и оттолкнули ее от берега. Опасливо берясь за рукоятку, забрасывали оружие подальше в озеро. При каждом всплеске воды люди стойбища издавали радостный крик, и никто из них не догадался, что острые мечи светловолосых служили бы им так же верно, как служили пришельцам.
Но Бэй побелел до синевы губ, когда Главный охотник, хмурясь, протянул руку к его мечу.
— Нет! — крикнул он, прижимая к груди меч. — Я убил этим оружием много врагов. Теперь оно мое, и я его не отдам.
— Почему ты, безродный, — впервые Главный назвал так приемыша, — смеешь не подчиняться решению старших? Или наши обычаи ты не хочешь считать своими?
Бэй не знал, что ответить Главному охотнику, и молча прижимал к груди полюбившееся ему оружие.
— Ты назвал его безродным, а он мой брат. Значит, и я безродный. Но позволь мне ответить тебе, — выступил на помощь брату Льок.
— Пусть скажет, — проговорил подошедший Кибу. — Напрасно ты, Главный, унизил тех, кто предупредил нас о нападении и спас от гибели.
Одобрительный гул пробежал по толпе охотников.
— Пусть Мон-Кибу скажет!.. Пусть скажет… — послышалось отовсюду.
Льок заговорил:
— Ваш обычай — наш обычай. Разве брат не свершил сегодня великих дел храбрости? Ты, Главный, велишь эту палку, которой Бэй убил столько врагов, бросить в воду. Неужели ты хочешь, чтобы она, как рыба, отправилась по воде к себе домой? Ты хочешь, чтобы она привела сюда новых врагов?
Теперь побледнел Главный. Охотники громко зароптали, поверив, что брошенные в воду мечи вернутся к себе на родину.
— Палку, что досталась Бэю, надо закопать в песке на берегу озера. Так говорят мои духи, — забывшись, торжественно проговорил Льок, как когда-то в родном стойбище у Священной скалы.
— Твои духи? Разве ты беседуешь с духами? — удивленно и встревоженно спросил колдун. — Ведь духи объявляют свою волю только через колдунов.
Льок еле нашелся, что ответить.
— Когда я не знаю, что делать, кто-то говорит мне в ухо, — сказал он. — Вот и сейчас я слышу этот голос: «Блестящую палку надо закопать там, где стоит твой брат».
Главный охотник вопросительно взглянул на колдуна селения.
— А что говорят твои духи?
— Они подтверждают то, что сказал Мон-Кибу, — поспешно ответил колдун.
Льок подошел к Бэю и, шепнув на родном языке: «Не будь глупым», — взял из его рук меч, выкопал им неглубокую ямку между корнями сосны, положил туда оружие и закопал его ладонями. Это было надежное место. В любую темную ночь Бэй сумеет найти эту сосну.
Глава 15
Теперь пора было проводить в последний путь своих покойников. Люди верили — будет время, и те, что сейчас остались в живых, встретятся с навсегда покинувшими стойбище сородичами. Потому и проводы ушедших не должны быть печальными. Их надо получше накормить и непременно напоить «веселым напитком».
Только два дня назад пировали, провожая невест, а теперь привелось опять прощаться. Мертвых перенесли на полянку, где высился истукан и где лежали засыпанные землею ушедшие раньше родичи. Вбили два кола, привязали к ним жердь и, прислонив к ней спинами, усадили мертвых, уже переодетых в наряды, в которых они в свое время ходили свататься в северное селение. В этой праздничной одежде их полагалось уложить в могилу.
Странное зрелище представляли собой обряженные для погребения покойники. Голова почти у каждого была туго обмотана полосками бересты, и только бороды виднелись из-под ее рядов. Враги, нанося удары страшными мечами, обрекали свои жертвы на том свете оставаться с рассеченным черепом. Но женщины помогли беде «ушедших», обернув головы убитых берестой и проделав в ней отверстия для глаз. Охотники положили на колени мертвецам луки и стрелы, а в правую руку каждого дали копье. Рядом с Кру Бэй поставил капкан, чтобы старик мог продолжать заниматься своим любимым дело.
Охотники сели по сторонам и напротив, образуя вместе с мертвыми замкнутый круг, означавший, что сейчас нет различия между живыми и ушедшими из жизни.
Женщины в праздничных нарядах сели отдельным кругом. Растерзанную брачную одежду Шух заботливо прикрыли шкурой рыси, и каждая из женщин и девушек подарила ей какое-нибудь украшение: красиво сплетенный ремешок, сшитые вместе разноцветные кусочки меха или блестящие камешки. Девушки сплели из цветов венок и, подвесив к нему пестрые перья, надели на голову Шух, чтобы скрыть на ее лице следы жестоких побоев.
Мертвые скоро встретятся с ранее ушедшими, и живые спешили передать свои просьбы, наказы и последние новости. Сын поручал рассказать умершему много зим назад отцу, что теперь у того есть два внука, и просил послать им здоровья. Охотники извещали об удачах и неудачах на промысле, напоминали, чтобы ушедшие старики позаботились послать побольше добычи. Всякий раз просьб и поручений набиралось очень много. Но сегодня, когда чуть не половина охотников навсегда покинула землянки, было не до этого. Горе было таким тяжелым, что забылись каждодневные заботы. Угрюмые и молчаливые сидели охотники в одном кругу с мертвыми, а женщины с трудом удерживали слезы — многие из них потеряли кто мужа, кто сына.
Когда на днях отдавали невест южным соседям, выпили весь запас «веселого напитка». Теперь пришлось занять его в долг у Большого предка. Долбленую березовую колоду, доверху наполненную напитком, выкопали из земли у подножия деревянного истукана, пообещав к следующему празднику вернуть взятое.
Колдун смочил напитком губы изображений, вырезанных одно под другим на столбе.
— Отец наш, самый старый и самый лучший, — торжественно провозгласил он, — прими дар своих детей.
Потом колдун неторопливо обошел ряды невысоких столбиков, которыми отмечались места, где были зарыты покойники, скупо обрызгивая около них землю.
— Ушедшие от нас старики, — хором повторяли охотники, — возьмите наш дар и примите к себе своих детей.
Напоив «стариков», колдун пригубил сам и передал сосуд Бэю. Тот сидел рядом с Кру, и на его обязанности было смочить губы мертвеца «веселым напитком», после чего он сам сделал один большой глоток и передал сосуд соседу.
Когда сосуд обошел круг, колдун опять наполнил его обжигающей рот жидкостью и снова подошел к Большому предку. Теперь он заговорил с ним уже не так почтительно.
— Зачем, самый старший отец, ты допустил врагов напасть на своих детей? — сердито закричал он, опять смачивая губы истуканов. — Ты должен был послать бурю и затопить их ладьи.
Повторяя те же укоры, колдун скупо, по нескольку капель еще раз полил столбики, под которыми лежали захороненные сородичи.
Напиток был крепок, и вскоре провожающие вначале тихо, а затем все громче стали переговариваться друг с другом.
Льок видел, как багровело лицо упорно молчавшего Бэя, настороженно прислушивавшегося к выкрикам других охотников. У самого Льока на этот раз сильнее, чем двое суток тому назад, кружилась голова.
Третий раз подошел колдун к деревянному столбу.
— Зачем ты позволил погубить столько своих детей?! — уже с яростью кричал он. — Разве мы не заботились о тебе? Когда приходили южные соседи, разве я не поил тебя «веселым напитком»? А ты, неблагодарный, допустил, чтобы столько наших братьев погибло от рук врагов?
Пошатываясь, колдун отнес сосуд к резным столбикам, вернулся к истукану, сел на корточки и по-собачьи начал рыть землю перед каменным помостом.
«Зачем он это делает?» — подумал Льок, наблюдая за колдуном. К его большому удивлению, колдун вытащил толстую суковатую палку.
— Вот тебе за то, что погубил столько наших братьев! Вот тебе за твою вину!
И с этими словами он стал колотить палкой Большого предка.
— Бей его сильнее! Бей! — послышались пьяные крики охотников. — Какой он отец, если не уберег своих детей!
К яростным выкрикам охотников стали примешиваться вопли и плач женщин. Сначала они только перебирали пальцами распущенные вдоль плеч волосы, затем начали дергать и вырывать целые пряди. Громче всех звучал звонкий голос Смеющейся.
— Зачем, Шух, ты ушла такой молодой и не успела порадоваться жизни? — обливаясь слезами, кричала женщина. — Вот у других есть дети, а кто тебя станет веселить? Скучно тебе будет, Шух!
Продолжая громко рыдать, Смеющаяся выбежала из круга женщин, вбежала в круг охотников и бросилась на землю перед телом своего названного отца.
— Разве ты не был лучшим ловцом, старый Кру? — стала причитать она. — Разве мы не любили тебя? Ты жалел меня, когда твой сын ушел к старикам!! — Смеющаяся билась головой о землю. — Бывало, я ночью плачу, и ты тихонько плачешь… А как ты радовался, когда Бэй стал моим мужем, ты полюбил его, как родного сына…
Скоро за Смеющейся и другие женщины перешли в круг охотников — кто плакал по мужу, кто причитал у ног сына. Охотникам тоже было чем вспомнить убитых. Они громко перечисляли, сколько оленьих шкур, медвежьих когтей и волчьих клыков добывали те, что сейчас неподвижно сидели перед ними. Долго разносились по лесу выкрики, причитания и плач.
Только когда заходящие лучи солнца начали окрашивать верхушки сосен и елей, люди стойбища, поддерживая друг друга, побрели к своим землянкам. Мертвые остались сидеть на поляне под защитой Большого предка. Завтра вернутся сородичи и закопают их в землю.
Почти в каждой землянке на том месте, где раньше спал убитый, лежал вынутый из очага камень. Люди верили, что умерший, пока не зарыто его тело, по привычке может вернуться к себе в землянку. Положенный на спальное место камень помешает ему, и он уйдет обратно на кладбище. У входа в жилище не позабыли воткнуть палку из осины. Если мертвый придет, она преградит ему путь, а когда он в ярости станет грызть палку, горький вкус осиновой коры отпугнет его.
Не было осиновой палки перед землянкой Кибу, и очажный камень не лежал на спальном месте. Смерть не коснулась жилища мастеров.
Утром, когда Льок проснулся, Кибу уже сидел за своей излюбленной шлифовальной плитой. Услышав за спиной шорох, он повернул заросшее волосами лицо к юноше.
— Наше селение потеряло половину охотников, — сказал он с укоризной, — а ты все по-прежнему думаешь уйти с Бэем к себе на родину.
Льок так растерялся, что не мог вымолвить слова. Ему сразу стало холодно, словно он выскочил из теплой землянки на сильный ветер.
— Кто сказал тебе? — прошептал он, с ужасом думая о том, что же теперь будет.
— Ты сам, — с той же укоризной ответил старик.
— Я никогда никому не говорил об этом.
— Ночью во сне ты часто рассказываешь мне обо всем, что думал и что делал за день… Куда унес ты вчера утром два своих отбойника?
Льок промолчал.
— Скажи, Мон-Кибу, ведь тебя спрашивает старший.
Льок рассказал, как вчера они с братом совсем собрались уходить и как остались, увидев чужие лодки.
— Я так и подумал, когда ты прибежал с известием, что идут враги, — подтвердил старик. — Твой брат великий воин. Он спас наших людей от гибели…
Медленно водя взад-вперед по мокрой плите, обсыпанной мельчайшим белым песком, тонкий сланцевый нож, старик задумался, нет-нет да и поглядывая на помощника.
— Пойди скажи Бэю, чтобы он пока не собирался уходить. Охотники недовольны Главным. Сегодня будем держать совет.
Льок пошел в землянку Кру. Когда он увидел почерневшие от копоти камни очага, лежавшие там, где совсем недавно спали Кру и Шух, в глазах его сверкнули слезы.
Он утер их кулаком и повернулся к Бэю и Смеющейся.
— У маленького зайца большие уши, — сказал он Смеющейся, показав на ее сына, сидящего у очага.
Женщина тотчас послала мальчугана за хворостом, и Льок, смущаясь, рассказал, как Кибу узнал их тайну.
— Старый мастер сказал, чтобы мы пока не уходили, — закончил он свой рассказ.
— Неужели он думает, что мы можем уйти, когда тело отца еще не покрыли землей?! — рассердился Бэй.
Смеющаяся встревожилась.
— Плохо, что старик узнал, — проговорила она, — страшная кара ждет вас, если он расскажет об этом на совете.
— Он не расскажет, — тихо ответил Льок. — Он не хочет нам зла.
Льок еще долго сидел с братом и Смеющейся у очага, и к полудню вместе с другими они пошли к мертвым.
Суковатыми, толстыми палками мужчины взрыхляли землю на полосе шириной в человеческий рост и длиной, достаточной, чтобы уложить в ряд всех убитых. Женщины сгребали землю берестяными корзинами и выносили ее на край могилы. Когда яма была вырыта на полроста взрослого человека, на дне ее расстелили оленьи шкуры и стали укладывать погибших охотников, одного подле другого.
У тела Кру положили капкан и копье, на грудь — лук и две стрелы. Тем, кто любил рыбачить, не пожалели отдать навсегда хорошую острогу, а птицеловам клали под пальцы пучок волосяных петель.
Долго длился обряд погребения. Погибших было много, и казалось, не будет конца наставлениям, просьбам и наказам. У сородичей не было тайн друг от друга, и каждый по очереди высказывал все, что думал и что хотел передать с «уходящими» тем, кто умер уже давно.
Тело Шух хоронили ее сверстники. Девушку положили в могилу, вырытую в ногах ее матери. С ней долго разговаривали и те, кому предстояло в ближайший год уйти в замужество на юг, и те, кто собирался привести с севера жену. Молодежь поручала Шух побывать у соседей, разведать, какие женихи и невесты в южном и северном селении и кого из них лучше выбрать в дни сватовства. Пусть Шух все узнает, а потом придет к каждому из сверстников и расскажет ему во сне, как поступить.
Когда все поручения были переданы усопшим, тела их обсыпали красной охрой. Люди верили, что окрашенные в цвет крови тела умерших будут защищены от дряхлости, болезней и непонятного вечного сна.
Вечером на той же полянке, где зимой обсуждали, что делать, чтобы избавиться от страшного волка, опять собрались люди стойбища. Сейчас было особенно видно, как много убыло охотников. С тревогой глядели женщины на горстку мужчин. Нападут новые враги — немного найдется у селения защитников.
В стороне от всех, окруженный лишь братьями, угрюмо стоял Главный. Охотники громко хвалили Бэя, не давшего врагам уйти от расправы, вспоминали, как отважно прыгнул он в ладью врагов. Если бы Бэй послушался Главного охотника, светловолосые добрались бы до своих, и тогда новые ладьи с воинами приплыли бы мстить за убитых.
Все громче и громче говорили о том, что для стойбища будет лучше сменить Главного охотника, и смотрели при этом в сторону Бэя.
— Ты хочешь быть Главным охотником? — тихо на родном языке спросил Льок брата.
— Я хочу уйти на родину, — едва шевеля губами, ответил Бэй. — Ты такой хитроумный, придумай, что сказать.
— Что я придумаю? — беспомощно развел руками Льок. Чем чаще произносилось имя Бэя, тем больше хмурился Главный охотник и тем теснее окружали его братья.
Запрокинув голову, чтобы видеть всех, старый Кибу зорко следил за лицами говорящих и прислушивался к каждому слову. Старик понимал, что раздоры в стойбище могут плохо кончиться. Вдруг Главный вздумает выселиться вместе со своими братьями в глубь леса на речку Черную? Тогда селение на долгое время станет совсем малолюдным. Слабых не уважают, и соседи перестанут считаться с ними. Что будет с родом?!
Вот почему, когда один из охотников выкрикнул, что Главным охотником надо выбрать Бэя, Кибу поднялся со своего места и, с трудом волоча больную ногу, торопливо вышел на середину круга.
— Хорошие слова сказал ты, — обратился старик к крикнувшему. — Бэй великой храбрости охотник! Но нам надо позаботиться, чтобы среди нас было побольше воинов. Пока наши мальчики станут охотниками, пройдет много лет, а ведь враги могут напасть куда раньше. Пошлем Бэя и Мон-Кибу на их родину. Может быть, не всех в их селении перебили враги? Пусть братья скажут своим родичам, чтобы они переселились к нам? Пищи у нас хватит вдоволь на всех!
Как и ждал мудрый старик, Главный охотник и его братья дружно одобрили совет мастера. Обрадованный Бэй тотчас же согласился пойти на север звать родичей. И хотя многие озабоченно хмурились, никто не стал спорить. Что делать, когда за одно утро защитников селения стало вдвое меньше?
— Пустите со мной Смеющуюся, — опять заговорил Бэй. — Женщины больше поверят женщине.
Все посмотрели на Смеющуюся, по ее просиявшему лицу было понятно, что она согласна.
— Сын ее пусть останется у нас, — сказал один из стариков. — Сердце матери будет стремиться к своему ребенку. Смеющаяся приведет к нам Бэя, и Льока, и тех, с кем они провели детство…
Радость сбежала с лица Смеющейся и тогда старый Кибу подошел к ней и тихонько шепнул:
— Не горюй, я позабочусь о мальчике. Даже если ты не вернешься, сын вырастет храбрым охотником…
И вот опять, как полгода назад, перед братьями с утра до вечера мелькали деревья. Но тогда перед глазами беглецов были толстые сучья, а теперь братья и Смеющаяся видели перед собой тонкие, заросшие длинными прядями лишайника ветви — сейчас они шли с юга на север.
Нелегко брести по топким болотам, пробираться сквозь чащу молодого ельника, карабкаться по каменистым кручам, огибать извилистые берега бесчисленных озер. Но если знаешь, что приближаешься к родному селению, если веришь, что твой приход принесет пользу сородичам, то разве ноги будут чувствовать усталость?
Родное стойбище становилось все ближе и ближе…
Послесловие
Дочитана последняя страница повести о Льоке и Бэе, и читатель, если он не остался безучастным к их судьбе, обязательно подумает: «Что же будет с братьями в дальнейшем? Как сородичи примут беглецов? Получат ли они прощение за обман родного племени?»
У вдумчивого читателя возникает много разных вопросов. Я, как автор этой книги, отвечу хотя бы на некоторые.
Чаще всего у меня спрашивают: «Листы каменной книги», конечно, чистая выдумка? Разве можно узнать, как жили люди на Севере три-четыре тысячи лет назад? Ведь тогда не существовало письменности!»
— Нет, отвечаю я, — это не сплошная выдумка. «Листы каменной книги» — научно-фантастическая повесть. В основе ее — правдивый показ жизни той эпохи.
Такое утверждение кажется неправдоподобным. Всем известно, что от материальной культуры того времени на Севере сохранились, в основном, только каменные орудия и черепки разбитых сосудов. Как же по ним, не прибегая к «чистой выдумке», восстановить те многочисленные обряды, обычаи и верования, а также приемы охоты на суше и на море и еще многое-многое иное, о чем рассказывается в книге?
Даже про столь отдаленную от наших дней жизнь людей можно написать правдивое повествование. Для этого мы имеем три источника сведений.
Во-первых, нам известны описания быта многих охотничьих племен Сибири и севера Европы, сделанные путешественниками и учеными еще в XVII–XVIII веках. Благодаря их дневникам и записям мы довольно обстоятельно знаем о промыслах и особенностях быта, о верованиях и обычаях охотничье-рыболовных племен.
Во-вторых, огромный материал для правдивого показа жизни в каменном веке на Севере дают почти две тысячи рисунков, выбитых на скалах первобытными художниками Беломорья и Карелии.
Эти наскальные изображения (в археологии их называют петроглифами) являются подлинными документами той эпохи. Люди выбивали на скалах то, что сами видели, что с ними случалось, что их тревожило или радовало. И обо всем этом мы узнаем из рисунков, выбитых на скалах три-четыре тысячи лет назад!
И, наконец, в-третьих, большой дополнительной материал дают раскопки могильников и поселений той эпохи.
Таковы три источника создания «Листов каменной книги».
Пусть это послесловие будет моей заочной встречей с читателем. Расскажу, как создавалась повесть и почему я любил возвращаться к ней, чтобы дополнить книгу новыми эпизодами.
В 1926 году, будучи студентом Географического института, я выехал из Ленинграда на летнюю практику в Карелию. Мне, как этнографу, надлежало изучать новые явления в быту поморов Белого моря, записывать сведения о событиях гражданской войны на Севере, собирать материал о жизни населения в дореволюционное время.
В конце трехмесячной экспедиции произошло непредвиденное событие, после которого я решил, где мне работать и чему посвятить жизнь.
В семи километрах от старинного села Сороки (ныне город Беломорск) находится селение Выгостров. В нем, судя по рассказам сорочан, не было ничего для меня интересного. «Хлеб жуют да селедочкой закусывают», — так говорили они о жителях Выгострова.
Однако мною почему-то овладело то неуемное беспокойство, которое хорошо знакомо участникам любой экспедиции: «А вдруг там найдется что-нибудь замечательное?» В августовскую жару, с тяжелым рюкзаком на спине, побрел я в деревню Выгостров. По дороге мне посчастливилось разговориться с жителем Выгострова Григорием Павловичем Матросовым.
На следующее утро он повез меня на лодке к островку, называемому «Бесовыми следками». Здесь на пологой скале были выбиты семь следов то правой, то левой человеческой ступни, которые вели к изображению «беса» — самой крупной фигуре на этой скале. «Бесовы следы» окружало множество силуэтов оленей, лосей, китов и других животных. Были выбиты здесь на первый взгляд малопонятные сцены быта и различных промыслов. Всего на этой скале насчитывалось до трехсот рисунков. До сих пор не могу понять, как же сорочане, жившие в семи километрах от деревни, ничего не знали о «Бесовых следках»?
Вот в этот день и решился для меня нелегкий вопрос — куда ехать работать после окончания геофака.
С 1926 года до настоящего времени мои исследовательские работы по археологии, истории, этнографии и фольклору, а также беллетристика целиком посвящены западному побережью Белого моря, территории Карельской республики и южному Приладожью.
Наскальные изображения, найденные мною на острове «Бесовы следки» (в археологии они именуются беломорскими петроглифами), не единственные в Карелии. Еще в середине XIX века были известны на восточном берегу Онежского озера группы петроглифов. Кое-кто из ученых — русских и иностранных — пытался их «прочесть», но все попытки оказывались безуспешными. «Сама судьба, — сказал мне выдающийся археолог А. А. Спицын, — велит вам заняться карельскими петроглифами».
Расшифровке этих памятников древности я отдал более десяти лет жизни. За этот срок удалось собрать около восьмисот изображений. Такое количество рисунков трех-четырехтысячелетней давности дает возможность воссоздать быт давным-давно исчезнувшего населения. Так, например, благодаря петроглифам можно с документальной достоверностью определить годовой промысловый цикл в неолитическом обществе на Севере, выявить разнообразие приемов охоты на того или иного животного и даже узнать, какими представляли люди свои многочисленные божества.
Среди наскальных изображений было много непонятных сцен. Однако трудности их расшифровки меня не пугали. Совсем наоборот — они увлекали! Чем труднее было осознавать смысл изображения, тем больше радости доставлял успех, когда загадочное после долгих-долгих усилий вдруг становилось понятным. Первооткрывателю всегда нелегко: ему не с кем посоветоваться, не от кого позаимствовать опыт разработки материала. В 20–30 годах петроглифами Карелии по-настоящему никто не занимался. Приходилось самому вырабатывать приемы осмысления многофигурных композиций. Какое это было для меня чудесное время! Всегда вспоминаю те годы как счастливейшую пору молодости. Из мглы незнания все яснее проступали детали такого своеобразного, такого сложного мира людей каменного века.
Ценность повести в том, что она написана на основе рисунков, созданных рукой человека столь отдаленной от нас эпохи. Если в научном исследовании вымыслу места нет, там все должно быть подтверждено фактами, то в художественном произведении вымысел просто необходим. Однако домысливая, писатель должен добиваться правдоподобия, а это достигается хорошим знанием того, о чем пишешь.
В деревушке Бесоновской у Онежского озера очень быстро и легко была мною написана небольшая повесть «Листы каменной книги». Ее опубликовали в первых номерах московского журнала «Всемирный следопыт» за 1930 год. Затем, через девять лет, несколько увеличенная в объеме, повесть вышла отдельной книжкой в Петрозаводске. В самом конце 40-х годов было решено ее переиздать, и тогда я заново написал третий вариант. Объем книги увеличился более чем в два раза, однако сюжетные линии изменениям не подверглись.
— Если сюжет остался прежним, какой был смысл заново писать повесть? — удивленно спросит читатель.
Смысл был. За истекшие двадцать лет наши знания о новом каменном веке (неолите) Севера очень расширились, углубились, уточнились. И повествование о быте древних северян требовалось также расширить. Сюжетная же канва не вызывала сомнений и необходимости ее переделывать не было.
Сюжет «Листов каменной книги» делится на две части. В первой из них события происходят в Беломорье, затем действие переносится на Онежское озеро. Чтобы увеличить познавательность повести, я показываю две стадии неолитической культуры Севера. Читателю понятно, что быт беломорского племени примитивнее, чем быт населения, живущего на берегах Онежского озера.
Первая часть книги рассказывает о борьбе нарождающегося патриархата с господствующим с древнейших времен матриархатом. У населения не было прочной семьи. Охотники в промысловый период жили отдельно от селения, и женщины под руководством колдуний, хранительниц традиций и древних обычаев племени, воспитывали детей. Борьба колдуна поневоле Льока с Главной колдуньей стойбища и отражает это переходное время. Новую стадию общественных форм — утвердившийся патриархат — я показываю на примере населения, живущего в районе Онежского озера. Здесь охотник круглый год проживал в определенном жилище, и это способствовало созданию постоянной семьи. Применение механических ловушек, как на охоте, так и в рыболовстве, обеспечивало племя постоянной добычей. На берегах Онежского озера не знали бедствий из-за весенних голодовок, столь обычных для населения Крайнего Севера даже в XIX веке. Профессор В. Г. Богораз-Тан, десять лет отбывавший царскую ссылку на Севере, ярко описал голод прибрежных, занимавшихся морским промыслом («морских») чукчей. Зато «оленные» чукчи (оленеводы) круглый год были обеспечены олениной.
Обращаю внимание читателей на то, что жители района Онежского озера менее суеверны, чем жители беломорских стойбищ. Это понятно: уверенные в завтрашнем дне люди не нуждались в магических заклинаниях. У них колдун не пользовался такой властью, как в Поморье, хотя и здесь существовали множество суеверий, вера в загробную жизнь, боязнь козней мертвецов (в особенности иноплеменных), а также неисчислимые запреты и поверья.
Показывая онежскую культуру более высокой, чем беломорская, я не искажаю действительности. Среди онежских петроглифов находим много изображений капканов (механических ловушек), а среди тысячи пятисот беломорских изображений ни одного капкана нет. Значит, население Беломорья еще не имело представления о самоловах, сыгравших огромную роль в развитии культуры древнего общества. Если беломорский житель должен был на охоте сам встретиться со зверем, чтобы его поймать и убить, то на Онежском озере охотник мог расставить хоть сотню механических ловушек, а затем по очереди обходить их, вынимая из капканов попавшую добычу.
Единственно, что я позволил себе, — так это сблизить во времени две стадии неолитической культуры. В ту эпоху до предела медленного изменения общественных форм не было сосуществования разных уровней культуры, что характерно для нашего времени. Разве не чудо, что, например, пигмеи Африки, крайне примитивный быт которых упорно не меняется тясячелетиями, сегодня, подойдя из леса к земледельческому поселению, могут узнать по радио новости со всех концов земного шара! Но три-четыре тысячи лет назад развитие культуры шло очень замедленными темпами, и мне пришлось погрешить против истории, позволив братьям (после трехдневного пути на лыжах) вдруг очутиться среди населения нового, более высокого, этапа культуры.
Приведу пример, как я сочетаю «выдумку» с исторической правдой. У некоторых сибирских племен существовал обычай считать седьмого сына женщины, родившей до него шесть сыновей и ни одной дочери, колдуном. Авторский вымысел проявился лишь в подборе ситуаций, где «колдун поневоле» попадал в затруднительные положения. Точно так же не выдуман обряд колдования старух в пору голодовки, авторская фантазия здесь проявлялась лишь в показе столкновения колдуний с Льоком. Следовательно, моя фантазия только частично воссоздает те или иные события, а содержание книги строится из переплетения этнографических и археологических материалов. Такое количество сведений о каменном веке позволило мне избежать необоснованных придумок.
Таким образом, дорогой читатель, тебе, наверно, понятно, что прочитанная тобой повесть — не «чистая выдумка», а научно-фантастическое произведение.
Отвечу на вопрос, который часто задают читатели: «почему вы неоднократно возвращались к повести?»
Буду откровенным до конца — люблю возвращаться к этой книге. Повесть я писал в чудесное время моей научной и писательской молодости. Помню, как мне страстно хотелось заинтересовать читателя рассказами о каменном веке, в котором проходила юность человечества. Прошло пятьдесят лет с тех пор, как мною найдены петроглифы, но по-прежнему во мне живет желание заинтересовать молодежь своей книгой.
Напишу ли я продолжение повести?
Мне самому хочется продолжить повествование и рассказать о том, как братья вернулись на родину и что затем произошло с ними. Но пока нет у меня времени заняться предельно трудоемкой работой и дополнительно расшифровать другие петроглифы, а без этого не хочу продолжать повесть. Без введения научных материалов она, и на самом деле, станет «чистой выдумкой», и тогда значение книги будет обесценено.
Как и в первые годы работы над «Листами каменной книги», я надеюсь, что кое-кто из читателей, прочитавших повесть, сам займется этим своеобразным миром. В Советском Союзе живет свыше сотни народов, и каждый из них имеет свою культуру, во многом отличающуюся от соседних. Но историков, восстанавливающих исчезнувшие этапы национальных культур, по-прежнему все еще слишком мало!
А. М. ЛиневскийВладимир Тан-Богораз Жертвы дракона
Глава 1
Юн Черный встал в полночь, когда другие спали. Было тихо, только река Дадана слабо шумела внизу под обрывом. Юн вытер росу со своего нагого тела, слегка потянулся, сдерживая дрожь, потом посмотрел на звезды. Звезды были благосклонны. На краю неба уже поднимался Охотник[2] в ярком Поясе из трех светлых Раковин и протягивал вперед свой остропламенный Дротик[3]. Дикие Олени[4], которые пасутся на берегах Песчаной Реки[5], не пошевелились, и яркое око Отца[6], вечно недвижное в небе, мигало, как будто говорило: «Ищи».
Юн Черный опустил голову вниз и посмотрел на воинов. Их голые тела смутно белели в слабом свете звезд. Ночь была холодная, но перед крупной охотой или войной Анаки остерегались закапываться в листья или покрываться плащами из шкур. Они спали нагие, на голой земле, как змеи или как камни.
Перед этой охотой даже костров не зажигали. Анаки ждали оленей. Запах дыма мог бы заставить пугливое стадо свернуть в сторону. Уже девять дней Анаки сидели на берегу реки Даданы без огня и почти без пищи. Они даже говорили шепотом и в разговоре называли оленей уклончивым именем: — «Серые Лица», чтобы колдуны оленьего стада не услыхали и не поняли.
Юн Черный пытливо смотрел на белые тела. Воины спали или притворялись спящими, ибо никто не должен был видеть, как он уходит. Юн Черный был колдун ночной, полусокрытый. В эту ночь он шел на борьбу с колдунами оленьего племени, и ему не нужно было ни друга, ни помощи.
Воины спали, старые и молодые. Юн узнавал знакомые фигуры. Вот Альф Быстроногий, Map Красивый и Несс, друзья-соперники, Илл Бородатый, Лиас большой и много других. Они походили на белых тюленей, заснувших на песке.
Отроки спали отдельно от взрослых. Они еще не приняли обета посвящения и не прошли установленного искуса в роще терновой под хлесткими прутьями и потому не имели права спать рядом со взрослыми.
Кроме воинов и отроков, в лагере никого не было. Это была мужская орда. Племя Анаков делилось на две половины, мужскую и женскую. Они обитали отдельно весною и летом и сходились вместе только после великих охот на праздник осеннего солнца. Этот праздник был также праздником брачным. Там составлялись новые пары и зачинались новые дети Анакского племени. И через девять месяцев, весною, дети Анаков рождались на свет к новому теплу и изобилию пищи.
Юн Черный взял копье, потом подобрал мешочек с красками и сошел к реке. Он три раза окунулся в свежие волны, совершая обряд очищения, вытер тело песком, стараясь скрести свою кожу как можно сильнее. Тело его горело. Он поднялся обратно наверх, но не пошел на становище, а углубился в ивовые заросли, которыми были покрыты берега Даданы. Они сплетались стеной, густой и невысокой. Ему приходилось пробираться почти ползком, как пробирается лисица на охоте.
Постепенно кусты поредели; открылось волнистое взгорье, пересеченное ущельями, поросшее лесами, смутно черневшими во мгле. Перед Юном была тропинка. Она пропадала и снова появлялась, раздвигала кусты и уходила в горы. Это была оленья тропа.
Олени каждую весну собирались стадами и спускались с гор на моховые пастбища у берегов океана. Они шли прямо, с юго-востока на северо-запад, и переплывали по дороге широкие реки. На реке Дадане у них были три битые тропы. Анаки сидели на средней тропе у Лысого Мыса. Они кололи оленей длинными копьями в волнах реки и в удачный год убивали тысячи.
Стада за стадами являлись в разное время. Сперва приходили матки с телятами, потом быки. Анаки находили такое разделение совершенно естественным. Они говорили, что олени живут раздельно и сходятся осенью справлять в дальних горах праздник осеннего солнца, и ставят колесо, и пляшут кругом вперемежку с женами, точь-в-точь как люди.
Юн Черный добрался до леса и остановился на опушке. Он встал на оленьей тропе, чтобы чарами привлечь запоздавшее стадо.
Прежде всего он решил испытать добрые чары и льстивые слова. Он вынул из мешка щепотку красной охры, смешанной с жиром, размял ее между пальцами и стал выводить на груди, животе и на бедрах красные мирные знаки. Это были кисти рук с загнутыми пальцами, крючки с петлями. Юн повернулся боком так, чтобы эти крючки протягивались вперед, навстречу предполагаемым оленям.
— Мы ждем вас, серые друзья, — заговорил он самым убедительным тоном. — Придите. Мы снимем ваши шубы, и вы отдохнете. Мы вас согреем у теплого огня. Мы вам постелем мягкие шкуры…
Он замолк и остановился, прислушиваясь. Ничего не было слышно. Олени не являлись. Тогда он начал второе заклинание, более сильное, — брачное заклинание весенней охоты. Ибо охота на маток и телок весною считалась, как брак. Это была первая красная свадьба анакских охотников.
Юн говорил:
Жены оленьи, сдавайтесь. Я внушаю вам страсть. Пусть запах мой вас привлекает, как мускус. Пусть песня моя для вас будет, как ягель. Спешите на пир…Он делал зазывные жесты, кружился и прыгал, изображая брачную пляску Анаков. Эту пляску они плясали перед женами без копья и без всякого оружия. Юн Черный перед весенней охотой плясал ее с копьем в руках.
Серые жены, сдавайтесь, Мы возьмем вашу плоть…— Пел Юн.
Он снова остановился и прислушался; потом встал на колени и припал ухом к земле. Земля молчала. Ни один звук не говорил о приближении желанного стада.
Черный Юн рассердился.
Он быстро стер со своего тела красные знаки привета, вынул кусок черного камня и стал проводить на груди грубые черты, прямые и кривые. Это были знаки войны и вызова. Они изображали открытые пасти, усеянные зигзагами зубов, прямые разящие копья, большие круглые глаза.
— Серые шкуры, — заговорил Юн, — идите биться. Волчья сыть, мы выпьем вашей крови…
Юн долго ждал и слушал, но олени не являлись.
— Мы выпьем вашей крови, — повторил Юн. Брюхо его сжалось от голода. Алчный рот стянулся, как будто от оскомины.
Тогда Черный Юн начал молиться богам. В своем полуночном коварстве он с тайным расчетом помолился сперва солнцу, богу дневному и богу чужому и сказал ему так: «Красное Око, посмотри хорошенько, не найдешь ли ты этого стада. Я дам тебе жиру».
Солнце не отвечало.
Юн стал поминать всех богов и духов, которые ему приходили на ум: Речного Бога, трехпалого, с одним глазом; Горного Духа с гранитной головой, замурованного в утес. Он обратился даже к собственному брюху и сказал ему так: «Брюхо, запой, дай знак о приближающейся пище». Но брюхо молчало.
Только тогда Юн обратился к последнему богу, грозному богу Дракону, тому, кто поглощает солнце и извергает его обратно. То был его собственный бог, древний бог, малоизвестный людям, бог полуночи, таинственный, странный, лукавый.
Юн обратился к нему, полный трепета, и сказал ему так:
— О, Дракон, как ты поглощаешь солнце, дай мне поглотить этих оленей… Сделай хоть знак… Я дам тебе жертву.
Юн подождал.
— Телку молодую, лучшую из стада…
Бледное лицо луны поднималось с востока. Лицо луны было лицом Дракона. Оно смотрело на Юна и насмешливо улыбалось.
— Белую телку… — сказал Юн. Он сам не знал, что обещать больше. Белые телки были редки, иногда за всю охоту не попадалось ни одной.
Он замолчал и стоял, ожидая. Бледное лицо в небесах молчало и улыбалось.
Тогда Юн вспомнил о женской орде. Она стояла на реке Дадане, за полдня ходьбы вниз по течению. Там были матери с детьми, девушки, старухи. Обитая отдельно, они получали запасы от промысла мужчин. Во время оленьей охоты на реке Дадане они выезжали в широких ладьях и ловили туши, которые несло по течению. Мужчины брали себе только тех животных, которых прибивало к берегу тут же, на месте охоты.
Юн вспомнил женский лагерь, и сердце его сжалось. В женском лагере жила Юна, жена колдуна. Черный Юн сошелся с ней четыре года назад из-за сходства имен, а также из-за ее пушистых светлых кос. С тех пор они встречались каждую осень, не ища и не желая никого другого. В первую весну после их брака Юна принесла ребенка, мальчика. Юн видел его только по зимам. Он не знал даже его тайного имени, данного старухой-гадальщицей. В разговоре с Юной и вслух перед другими они называли его Мышонком. Но он думал о своем белом Мышонке в эти голодные вешние дни. И даже колдовством своим он привлекал мелкую добычу, куропаток и зайцев и посылал их в женский лагерь, прямо к сыну.
Но в эту скупую, холодную полночь все колдовство его было бессильно. Безумный гнев охватил Юна, он заскакал на месте и закружился, как будто ужаленный осою.
Сами собой к устам притекли богохульные слова:
— Божонки, нищие, дать вам нечего. Дух Лесной, и Дух Речной, и Дух Озерный, идите сюда. Я вас съем…
Раздался треск сучьев. Из-за толстого древесного ствола поднялось что-то большое, темное. Юн вздрогнул и смолк. Потом сделал движение, чтобы бежать, но остался на месте. Мохнатая черная грива, которая принесла ему прозвище Черного Юна, зашевелилась от страха на его голове.
В бледном свете месяца Юн увидел грузную черную фигуру. Она встала и выпрямилась. Она показалась ему неслыханно огромной. Вид ее был, как вид медведя, вставшего на дыбы. Дух Лесной во образе медвежьем явился на зов и приближался к дерзкому колдуну.
Юн стоял и ждал с тупым отчаянием в душе. Фигура подходила все ближе. Он слышал хруст веток под ее ногами и тяжелое дыхание.
И вдруг чувство неминуемой опасности выросло и заслонило в нем суеверный ужас. Он не думал, но чувствовал: «Это — медведь, живой медведь».
Живой, настоящий медведь весной, пожалуй, опаснее, чем медвежий призрак. Он только что вышел из зимней берлоги, тощий, злой и растрепанный. После зимнего поста он голоден, но найти весной еду трудно. Поэтому весной медведь опаснее, чем летом.
«Он сейчас на меня бросится», — чувствовал Юн.
Он выставил вперед правую ногу, упер перед нею в землю ясеневое древко своего длинного копья, подставил навстречу медведю костяное острие и ждал, что будет.
Медведь уже обдавал его своим горячим дыханием. Юн глянул на него, и ему показалось, что, несмотря на близость, черное чудовище сделалось как будто меньше.
Страх Юна сменился яростью.
«Твоя погибель или моя, — подумал он, стискивая зубы. — Медведь ты или дух…»
И вдруг, в самую решительную минуту, когда копье Юна уже касалось мохнатой груди чудовища, случилось что-то неожиданное, почти невероятное. Темная фигура быстро опустилась на землю и мягко, без всякого шума скользнула в сторону. И почти тотчас же налево от тропинки послышались звуки борьбы, странные храп и движения грузных тел.
«Олени», — подумал Юн. Он узнал бы этот храп из тысячи других.
Шум продолжался. Слышался частый стук, как будто кто колотил по дереву палкой. Это умирающий олень трепетал в агонии и бился копытами о молодые стволы. Вместе со стуком раздалось чавканье. Был ли это зверь или дух, но он был голоден и стал пожирать добычу еще заживо.
Все мысли Юна перепутались.
«Стало быть, это медведь, — подумал он с облегчением. — И олени пришли. Кто их прислал, какой бог?»
Бледное лицо луны заглянуло ему в глаза и улыбнулось насмешливо.
«Ага, ты… — подумал Юн. — Спасибо».
Медведь продолжал чавкать под деревом. Все существо Юна зажглось от радостного голода и хищной жажды убийства.
Еще минута, и он двинулся бы к дереву отнимать у медведя горячее, истерзанное мясо.
Внезапно с левой стороны послышалось хорканье, странное, тревожное, похожее на скрип сырого дерева и на плач ребенка.
«Теленок плачет… — подумал Юн. — Матку зовет…»
Он весь согнулся, сжал копье и быстрыми шагами стал пробираться на голос.
Хорканье повторилось левее, потом еще левее. Теленок не хотел уходить и описывал широкую дугу вокруг медведя и матери. Юн осторожно крался вперед. Глаза его горели, как у волка, ноги ступали бесшумно, как будто на пружинах.
Теленок опять хоркнул, и Юн увидал его. В свете луны он перебежал тропинку. Осторожность Юна была излишняя. Теленок был маленький, глупый. Он бежал вперед нетвердой рысцой, колеблясь между двумя инстинктами и двумя запахами. Один был знакомый запах матери; другой запах был крепкий и темный и внушал ему ужас, хотя он еще не понимал, что это было.
Юн выждал минуту и твердой рукой пустил копье. Длинное костяное острие, острое, как шило, вонзилось теленку в брюхо и вышло наружу с другой стороны.
Теленок сделал скачок в сторону, задел ногами за древко копья, споткнулся, упал, хотел встать и не мог. Юн в два прыжка перескочил пространство, отделявшее его от добычи. Он придавил теленка коленом, потом, видя что тот не перестает биться, достал из своего поясного мешка острый кремневый нож в чехле из дерева, искусно выдолбленном, и перерезал теленку горло. Он припал к ране воспаленными губами и стал тянуть сладкую, теплую кровь, и это освежило его. После того он поднял маленькую тушу и вскинул ее себе на плечи.
«Матка с теленком, — думал он. — Матки идут».
Оленье тело на его плечах было гибкое, теплое, как тело ребенка, и он вспомнил в этой связи своего белого Мышонка, который в это самое время, может быть, умирал с голоду в женском лагере.
Юн подхватил свое копье и быстрыми шагами направился на запад, слегка отклоняясь вправо к реке. Он не думал о медведе, который остался сзади и пожирал добычу, не думал также о становище своих братьев-охотников. Он направлялся к женскому стойбищу отнести своему голодному сыну первую добычу этой весны.
Глава 2
Женский лагерь помещался в лесистой лощине, доходившей до самого берега. Он не был похож на становище мужчин. В разных концах горели костры перед навесами, сплетенными из ветвей и поставленными так, чтобы давать защиту от ветра. Малые дети не могли оставаться без огня и без крова.
Женщины вообще работали больше мужчин, и работы их были разнообразнее. Они плели корзины из прутьев, лепили горшки из глины, шили детям платье из шкур и варили для них пищу у огня. Детские зубки нуждались в мягкой пище. Мужчины, напротив, презирали все эти ремесла и удобства. Пищу свою они жарили на камнях или пекли на угольях. Многие части мяса, хрящи, потроха они потребляли сырыми. Иные воины давали обет есть всю жизнь только сырое. Это считалось признаком мужества и закаленности. Занимались мужчины только войной и охотой. В остальное время они приводили в готовность свое боевое оружие или попросту спали, все равно — днем или ночью.
Весенний голод был для женского лагеря тяжелее, чем для мужского. Дети вообще были хлипкие, податливые к смерти. Они мерли, как мухи, — зимой от холода, а весной от голода. Женщины, кроме того, умели добывать пищу хуже мужчин. Они собирали съедобные корни и серых червей, ловили куропаток петлями. Но именно в это голодное время корни были жестки, а куропатки редки.
Женщины выражали голод иначе, чем мужчины. Мужчины терпели молча, — жаловаться считалось ниже их достоинства. Женщины кричали и бранились друг с другом и с собственными детьми. Иные пели, другие плакали, третьи вспоминали отсутствующих друзей, хотя это и считалось нарушением приличий. Особенно круто приходилось многодетным, но их было немного. Матери обычно кормили детей до пятилетнего возраста, рождения разделялись большими промежутками, и семьи были немногочисленны.
Всех круче приходилось Майре Глиняной, прозванной так за бескровный цвет лица. У нее была двойня, два шустрых мальчика по пятой зиме. Одного звали Антек, другого Лиас. Отцом Лиаса считался Лиас Большой из мужского лагеря, но он наотрез отказался от другого младенца, и после этого на праздниках любви уже не приближался к Майре. С тех пор Майра жила одна с детьми и не имела мужчины.
У нее уже не хватало молока для обоих младенцев. Она пробовала отлучать их от груди, но пищи тоже не хватало. Ее дети были самые голодные и неугомонные во всем стойбище. И теперь они теребили мать за пояс, справа и слева, и неотступно кричали «Дай, дай!..»
— Где я возьму? — кричала несчастная Майра.
— Дай!..
Дети карабкались на колени и тянулись к груди матери.
— Нету! — кричала Майра. — Отстаньте!
— Леший, — прибавляла она с угрозой, — возьми этих мальчиков. Они еду просят.
— Зачем родила двоих? — насмешливо сказала соседка Аса-Без-Зуба.
Она сидела на корточках у своего костра, закутав спину вытертой шкурой оленя. Соседки накануне поссорились из-за деревянного приспособления для вытирания огня. Женщины Анаков отличались в зрелом возрасте вспыльчивым и неукротимым нравом. Никакие бедствия или лишения не смягчали их охоты к ссорам.
Майра молчала. Она сделала вид, что не слышала слов соседки.
— Один от человека, другой от дьявола, — сказала Аса. Двойни были редки в племени Анаков и, как все необычное, вызывали враждебное чувство.
— Оставь, — сказала старая Лото, которая сидела у того же огня и грела руки. — Лисица четырех приносит, и все настоящие…
Лиас залез на колени к матери и добрался-таки до ее груди. Он потянул губами сосок, но грудь была пуста, как опорожненный мешок.
Мальчик в ярости укусил зубами сосок. Майра взвизгнула от боли и одним движением отбросила сына в сторону. На грязной коже ее обвислой груди показалась рубиновая капля, медленно налилась и упала вниз, как кровавая слеза.
— Зарежу! — крикнула Майра. Но мальчик быстро пополз в сторону на четвереньках, как молодой лисенок. Он остановился на порядочном расстоянии и смотрел на мать тем же блестящим голодным взглядом.
Литта Златогривая сидела поодаль, не разводя огня. Она подостлала под себя свой меховой плащ, а ее золотистые волосы рассыпались по голым плечам и грели не хуже плаща.
Она сидела, уткнувшись локтями в колени, и пела монотонным напевом старую песню о золотых яблоках. Это была любимая песня женщин. Молодые девушки часто пели ее во время голода. Мужчины во время голода мечтали о мясе, свирепо и молча, как дикие звери. Женщины же охотнее вспоминали о ягодах, орехах и плодах, даже о таких, каких никогда не бывало в соседних лесах.
Золотые яблоки тоже не рождались в стране Анаков. По преданию, эти яблоки росли в счастливой стране Вияр, откуда пришли первые божественные люди, породившие племя Анаков.
Литта качалась, как пьяная, и пела тонким однообразным напевом:
Я была в золотом лесу. Я рвала золотые яблоки. Сочные яблоки… Одно яблоко я взяла себе, Другое отдала своему другу, Сочные яблоки…Винда и Рея-Волчица, две молодые матери-сестры, сидели в стороне вместе со своими младенцами. У них тоже пропало молоко в грудях, и они поили младенцев белым раствором «земляного жира» в воде. Это была съедобная глина, мягкая, белая и жирная на ощупь. В голодные дни дети Анаков поедали ее горстями. Они белели от нее, как будто посыпанные пеплом; щеки и грудь покрывались мучнистыми пятнами, глаза мутнели и теряли блеск. Анаки говорили, что дети от «земляного жира» линяют, как тощая рыба.
Но в этой местности был редок даже съедобный жир земли. Его приносили с юга за полдня ходьбы. Там наплывал он белыми пятнами в горном ручье из-под нависшей полуразрушенной скалы.
Девочки-подростки копошились целой стаей у большого костра. Они были заняты важным делом: варили толкушу из древесной заболони. Дело это было медленное и трудное. Им распоряжались три подруги: Яррия, Ронта и Илеиль. Они были однолетки и в ближайшую осень должны были подвергнуться обряду благословения чрева, который для женщин соответствовал мужскому обряду посвящения и составлял признание брачной зрелости.
Впрочем, в настоящее время их фигуры не имели никаких признаков зрелости. У них были тощие плечи, костлявые спины. Они отличались от мальчиков только гривой спутанных длинных волос, висевших по плечам. У Яррии были черные волосы, у Илеиль каштановые, у Ронты золотистые, почти такие же, как у Литты златогривой. Все девочки были наги. Они должны были получить меховой плащ только осенью, как первый подарок возлюбленного.
Больше всех хлопотала Яррия. Она отдавала приказания направо и налево:
— Девки, торопитесь… Милка, дров тащи!.. Скорее!.. Милка, совсем маленькая смуглая девочка, топталась у костра и плакала от голода и нетерпения. Но при этом окрике она поспешно утерла слезы и побежала в лес.
— Элла где? — спрашивала Яррия вдогонку.
— Сестра? — переспросила Милка. — Под деревом сидит, — прибавила она на бегу. — Злая, страсть. Я ее позвала: «Пойдем к девкам», а она схватила полено…
— Девки, торопитесь, — крикнула Милка в свою очередь. — Дров тащите!.. Скорее!..
Она повторила окрик Яррии точно таким же повелительным тоном, потом побежала вприпрыжку по узкой тропинке вниз за своими подругами. Иные из них уже возвращались к огнищу с охапками хвороста. И, несмотря на голод и слезы, им было весело. Вся эта затея походила на игру, и трудно было разобрать, настоящая она или не настоящая.
Ронта утвердила на земле странный сосуд, до половины налитый водою. Он держался на четырех палках, крепко врытых в землю и поддетых под его края. В сущности это был не сосуд, а мешок, сплетенный из корней. Но плетенка была такая частая и ровная, что вода держалась, и ни капли не вытекало.
С десяток девочек сидели на корточках и скоблили заболонь. Она была двух сортов: тополевая со стволов и ивовая с корней. Тополевая была надрана длинными белыми лентами и лежала на земле, собранная в кучу. Ивовая была разбросана кругом узкими спиральными завитками, похожими на змей или на крупных червей.
Яррия разрыла длинной палкой красные уголья. Под грудой жара лежали круглые камни, которые собственно и служили для варки. Ловко действуя двумя палками, как будто щипцами, Яррия доставала камни из костра и опускала их в котел. Вода скоро согрелась и задымилась от легкого пара. Потом стали выделяться крупные пузырьки, возвещавшие о близком кипении.
Ронта сидела, обхватив руками колени, и смотрела в огонь. Девочки с жадными лицами стояли кругом костра и дожидались, чтобы варево поспело.
Старших мальчиков не было в лагере. Они проводили целый день в лесу, рыскали взад-вперед, искали добычи.
Только горбатый Дило остался дома. Ноги у него были кривые, и он так ослабел от голода, что не мог бы угнаться за другими товарищами. Но утром, когда они уходили, он тоже ушел от костра сестры своей Пенны, по прозвищу Левша, и забрался в густой куст ольховника. Там, лежа на мху, он мало-помалу объедал горькие почки, как заяц.
Однако теплый смолистый запах толкуши дошел и до куста, забрался внутрь и стал щекотать ноздри Дило. И скоро он не смог удержаться, вылез из своего убежища и стал понемногу приближаться к костру девочек.
Илеиль в последний раз попробовала древесную похлебку.
— Готово, — сказала она. — Жрите, шакалки!..
Девочки бросились к плетеному котлу и стали засовывать в горячую воду свои грязные руки. Они обжигались и отскакивали назад, потом опять совали в котел руки и даже носы. Они, действительно, напоминали шакалов, которые в то время ходили следом за человеческими ордами и при удобном случае готовы были сунуть нос в горшок и даже в огонь. Люди то били их, то относились к ним благодушно и даже бросали им негодные куски.
Дило совсем приблизился к костру. Он тоже походил на шакала — больного и хромого. Милка, жадно поедавшая свою порцию, посмотрела на него и вдруг фыркнула от смеха. Она разбрызгала горячую жидкость во все стороны и чуть не подавилась, но потом справилась и промычала с полным ртом: «Мм… лягушонок!»
— Дайте мне тоже, — сказал Дило, протягивая руку. Милка уже облизывала свои липкие пальцы.
— И девочкам не хватит, — сказала она. — Ты мальчик, иди птиц ловить.
— Чем же я мальчик? — жалобно сказал Горбун. — Я тоже девочка.
— Как девочка?! — хором запротестовала вся девичья гурьба.
— Если я сижу дома, то, значит, я девочка, — сказал Дило в виде аргумента.
— Врешь, — сказала Милка. — У тебя и нос не такой, — прибавила она со смехом.
— Яррия, — громко позвал Горбун, — дай мне хоть одну стружку!.. — Яррия не отвечала. Она скоблила ногтями внутренность плетеного котла. Твердые ногти звенели, как железо.
— Яррий кормил меня, — сказал Дило и вдруг заплакал. Плач его был, как кашель. Он прикрывал горстью рот и нос и лаял в ладонь странными звуками, как будто захлебываясь.
Яррий был брат Яррии. После минувшей зимы он перешел в мужскую орду вместе с тремя другими отроками и сейчас ожидал посвящения. Он был старше Яррии, но женская зрелость наступала раньше, чем мужская. Брат и сестра должны были пройти очистительные обряды в одно и то же время, после великих охот, перед осенним праздником солнца. Среди подростков Яррий славился охотничьей удачей, и даже имя у него было Яррий Ловец. В самое трудное время он всегда приносил что-нибудь — кролика или сову, связку рыб, пойманных острым шипом уды в водах Даданы, змею, сурка. Яррий Ловец в голодную вешнюю пору кормил Горбуна. В сытные летние дни Дило, несмотря на кривые ноги, не отставал от товарища. Они переходили с поля на поле, от перелеска к другому перелеску в поисках добычи.
Дило, несмотря на свое уродство, был мастер на все руки. Он плел из крапивы частые сети для ловли золотоперок в ручьях, делал дудочки из тростника и выманивал, подсвистывая на этой первобытной свирели, робких пищух из нор в песке. Он умел также рассказывать длинные сказки, которые никогда не кончались и переплетались, как кружево: то уходили на небо к Отцу и его звездному племени, то спускались в подземные пещеры, где таился после ущерба луны страшный бог, Лунный Дракон, или убегали в далекие степи, туда, где живут странные боги Молокоеды, у которых лица людские, а копыта конские. Они скачут повсюду вслед за стадами скота и, дивное дело, сосут молоко, как телята.
— Яррий кормил меня, — повторил Дило упавшим голосом.
Ронта поспешно вынула изо рта собственную жвачку и сжала ее в горсти. Это был ее последний глоток.
— Иди, — сказала она мальчику, — во имя Яррия…
Дило быстро подполз, положил ей голову на колени, закрыл глаза и открыл рот. И она вложила ему свой кусок, как матка баклана вкладывает жвачку голодному птенцу. Она отдала ему не только собственную пищу, но соки собственного рта. Мальчик удержал ее руку и стал тщательно облизывать ладонь. Он не желал терять ни единой питательной капли, или, быть может, благодарил ее, как благодарят ручные звери за ласку.
На другом конце лагеря собрались младшие мальчики, которые были слишком малы для лесного промысла. Но даже эти малыши были настроены более хищно, чем девочки. Они обступили со всех сторон своего товарища Рума.
— Дай! — кричали они сердито и назойливо. В голодные дни этот детский крик раздавался на стойбище с утра до вечера.
— Дай! — кричали мальчики и наступали на Рума.
Рум прижимал к груди желтоватого щеночка шакальей породы. У щеночка была острая мордочка, и черные глазки его бегали по сторонам. Он, по-видимому, хорошо сознавал опасность своего положения.
Дети нередко подбирали и выкармливали щенят, лисенят, молодых зайчат, даже воронят и гусенят, но все эти питомцы быстро вырастали и уходили на волю или попадали под нож. Держать взрослых зверей в полуголодном лагере было бы слишком накладно.
Но шакалий щеночек Рума был особенный. Он совсем не рос. Уже два раза он зимовал в лагере и остался таким же, как прежде.
В сущности, это был не щенок, а взрослый шакал-карлик. Он был совсем ручной и никуда не хотел уходить: должно быть, понимал, что слишком мал и беззащитен, чтобы жить на воле. Его могли бы съесть собственные, более крупные братья. Зато Рум очень любил его и называл тоже Румом. Они спали вместе, и мальчик делил с ним последний кусок. И даже в эти голодные дни ребра младшего Рума-шакала выдавались меньше, чем у его двуногого тезки.
— Дай! — кричали малыши. — Убьем!..
Они хотели съесть четвероногого Рума. По закону Анаков, в голодные дни никакая живность в лагере или вне его не избавлялась от ножа, даже рогатые змеи, которые в обычное время считались священными и получали жертвы.
Лиас и Антек тоже были здесь. Они бросили мать, от которой ничем нельзя было поживиться, и вместе с другими наступали на обоих Румов.
— Дай! — кричал Лиас.
Он схватил камешек и бросил его в голову Старшему Руму. Но рука Лиаса была еще не верна. Камень попал в голову Руму Младшему, желтоватому шакалу. Шакал жалобно взвизгнул. Рум старший тоже взвизгнул. Потом глаза его загорелись зеленым светом, как у рыси. Он бросил на землю своего мохнатого друга, схватил из костра головню и кинулся на обидчика.
Зубы его оскалились, спутанные волосы на голове встали дыбом. Озадаченные мальчишки отступили. Рум швырнул головню, подхватил шакала на руки и бросился вон из лагеря по тропинке, ведущей в лес.
Мальчики тотчас же опомнились и бросились было вслед за ним с гиканьем и свистом, но в это время на тропинке показалась новая фигура. Это была высокая девушка, темноволосая, в плаще из волчьей шкуры. Она шла, опираясь на длинное копье, и несла на плече большую бурую птицу, крылья которой волочились по земле. В руке она держала светло-серого зайца. Это была Высокая Дина, охотница женского лагеря. Она принесла соплеменницам охотничью добычу.
Младшие мальчики обступили охотницу, дергали ее за плащ, хватали за перья орла. Девочки тоже сбежались со всех сторон, как белки.
— У орла отняла, — сказала Илеиль, указывая на зайца. Его левый бок был наполовину истерзан чьими-то глубокими и острыми когтями.
— И орла принесла, — сказала Яррия с явным восхищением.
— Этого и Яррий не сможет, — прибавила она, подмигивая Ронте.
— Чем ты его убила, Дина?
— Плоским деревом, — сказала охотница, указывая на свой пояс. За поясом было заткнуто изогнутое орудие из легкого и твердого дерева. Охотники Анаков метали его в воздух, убивая летевших мимо птиц. Но подбить этим куском дерева огромного орла да еще с добычей, — таким броском мог похвалиться не каждый охотник.
Охотница Дина не была похожа на других женщин племени. Начать с того, что она до сих пор не выбрала себе мужа, хотя уже три осени тому назад женщины благословили ее на брак. Они не уклонялась от праздника и плясала вместе со всеми кругом травяного колеса, пела и ела с мужчинами, но ни один не мог похвалиться тем, что осуществил над ней пылкое обещание брачного гимна:
Я сожму твои груди, Как спелые ягоды.Дина была очень красива. Ее зрелая красота затмевала младших подруг и рядом с женами соблазняла, как невиданный плод. Тело у ней было гладкое, без единой складки. И груди были, как те золотые яблоки, о которых пела старинная песня.
Мужчины сражались за Дину, раздирали друг друга когтями, как дикие звери, но в последнюю минуту она уклонялась и убегала со смехом.
Дина жила по-своему и от мужчин ничего не принимала ни в дар, ни в обмен. Каждую осень ей предлагали лучшие шкуры на плащ, но она отвергала их с презрением, не желая платить любовью. И все же, противно обычаю, неприступная дева носила пышный плащ новобрачной. Этот плащ не был принят из рук мужчины. Дина добыла его минувшей зимою собственным копьем и содрала собственным ножом с еще трепетавшего тела матерого волка.
Такова была охотница Дина, ненавистница мужей.
Она остановилась у первого костра и сбросила на землю свою двойную добычу.
— Ого! — крикнула она звучным голосом. — Малых кормить…
Дина ненавидела мужчин, но очень любила детей. Она свято соблюдала древний обычай, который повелевает в голодные дни отдавать первую добычу малышам, кроме охотничьей доли; вторую — беременным женам и матерям с грудными младенцами; третью — подросткам, и только четвертую — взрослым. Она сама кормила ребятишек и часто отказывалась в их пользу от своей законной охотничьей доли.
— Сюда, сюда, сюда! — кликала Дина. И на этот зов малые дети покидали матерей и шли переваливаясь, ползли на четвереньках и собирались у ее ног, как муравьи у муравейника.
— Гули, гули, гули… — ласково звала Дина, как будто ворковала. Дети теснились кругом нее и тоже ворковали, как дикие голуби.
Девочки, не теряя времени, стали теребить орла. Дина схватила зайца и искусной рукой в два-три приема содрала с него шкуру.
Она прикинула на руке кровавую тушку. Заяц был старый и жирный.
— Сырое мясо, — сказала она весело. Есть сырое мясо считалось мужской привычкой. Женский лагерь варил свою пищу и часто в разговорах даже назывался «лагерем горшка». Но Дина и на этот раз желала переставить установленный обычай.
— Сюда, сюда, сюда, — ласково пела она. — Гули, гули, гули…
Своим острым ножом из редкого прозрачного камня она отрезала мелкие кусочки заячьего мяса, скоблила кости, обдирала жилы. Дети хватали ее за руки, жались к ее ногам и пищали, как галчата. Она вкладывала крошечные порции в широко разинутые рты. Дети глотали, и жевали, и сосали, кто как умел, и давились от жадности, и подбегали снова.
В самый разгар этой суеты рядом с лагерем, в лощине раздался свист. Женщины вскочили и прислушались. Свист был резкий, мужской. Он повторился еще раз с особым переливом, потом еще раз. Свист этот говорил ясно, как будто словами: «Мясо, свежее мясо».
Воины Анаков часто приносили женщинам куски мяса и целые туши зверей. Но, по обычаю, они должны были оставлять их поодаль и извещать женщин пронзительным свистом о своем приношении.
— Это Юн свищет! — крикнула Юна. — Это его голос. Подруга Черного Юна была высокая, с широкими бедрами и, несмотря на голод, ее нельзя было назвать худой. И молока у нее в грудях было много. Оттого ее младенец был гладкий и тяжелый. Но в эту минуту она не думала о младенце; она сунула его в чьи-то услужливо подставленные руки, и опрометью бросилась из лощины по тропинке, ведущей налево. Она мчалась, как ветер, и через две минуты уже была наверху. Перед нею открылась широкая поляна. С подветренной стороны до нее донесся запах свежего мяса, и ноздри ее раздулись. Но в эту минуту ею овладела другая страсть, более могучая, чем голод. Теплые лучи весны, заливавшие зеленую землю, показались ей лучами брачной осени; перед ее глазами как будто мелькнуло огненное колесо и пляска брачного хоровода.
Теленок лежал под деревом во мху. Возле него была воткнута ветка с пучком травы, привязанным к верхушке. Но Юна не смотрела на теленка; она ловила глазами белое пятно, мелькавшее вдали за поляной среди частых стволов кленового и букового леса. Это было все, что она могла видеть от своего мужа Юна, который быстро убегал, согласно закону Анаков. Юна протянула руки. В ушах ее звучал припев брачного гимна: «Солнце, жги!»
Потом она опомнилась и быстро закрыла глаза. Перед началом оленьей охоты даже далекий женский взгляд мог осквернить охотника и приманить неудачу — маленького серого чертенка, который любит вертеться вокруг людских становищ, катается серым клубком по охотничьим тропам и попадается по ноги; вырывается из-под самой подошвы камешком или хрустит сучком и спугивает добычу. Думать о нем нельзя. Только подумаешь, а он уже тут, и дразнится, и бегает кругом.
Юна сотворила заклинание и обернулась к оленю. Ее первое чувство погасло. Теперь была не осень, а весна — время голода и свежей добычи. Женщины ждут внизу. Они будут есть мясо. Она тоже будет есть по праву, вместе с другими.
Юна тряхнула головой, своими крепкими руками схватила теленка за ноги и вскинула на спину. Потом твердыми шагами стала быстро спускаться обратно в лагерь.
Женщины уже собрались внизу, готовые к разделу добычи.
Здесь были матери, костлявые, как смерть, истощенные двойным бременем: голода и кормления младенцев. Кожа на их животе и боках висела бурыми складками, даже волосы у них стали тусклые и шершавые от голода. Еще страшнее были беременные жены. Они должны были родить через месяц и таскали в своем чреве уже зрелых младенцев, и вся сила и сок их тела ушли на детей. Спина и ноги были как будто подпорки из кости, обтянутые замшей, для этого безобразного отвислого мешка.
— Кто будет делить? — спросила Юна, сбрасывая теленка на землю.
— Лото пусть делит, — заговорили женщины, — старуха пусть делит.
Лото считалась самой справедливой старухой всего племени, и ей надлежало делить первую добычу. Она вынула нож из черного камня, широкий, обоюдоострый, сжала его в руке и быстрым взглядом окинула всех участниц дележа. Их было девятнадцать: семь беременных и двенадцать детных. Майра тоже хотела замешаться в их число, но они отогнали ее в сторону. Дети у нее были большие, и в эту весну она должна была окончательно отлучить их от груди.
— Оставьте! — строго сказала Лото. — Майра, иди!.. Будет как раз четыре руки.
Анаки вели счет по пальцам рук. «Четыре руки» означало четыре пятка, то есть двадцать.
Опытным глазом старая Лото прикинула размеры туши.
— Будет всем по куску, — решила она, — а кости в котел.
Двадцать услужливых рук уже ободрали кожу с телячьей туши. Она лежала на земле, вся красная, с ног до головы. Только копыта и ноздри были черные. И белки глаз резко выступали из орбит. Этими белыми глазами красная тушка тускло глядела на окружавших ее женщин.
— Посматривает, — хихикнула Исса, другая старуха, за плечами делильщицы.
Исса была колдунья ночная, подобная Юну, и соседки ее боялись. Она была совсем сгорбленная и ходила, опираясь на посох. Женщины удивлялись, как держится дух в этом дряхлом теле. Они говорили, что Исса-колдунья каждый раз откупается от дьявола смерти чужими головами. Два раза ее принимались убивать. Но оба раза она успевала вырваться и убежать в лес. Дня через три она возвращалась, как ни в чем не бывало. И племя принимало ее без ропота и оставляло в покое. Она была искусница на две стороны: могла приманить дичь и отогнать ее, дать здоровье или скормить его дьяволу смерти, перевести любовь с женщины на женщину и с мужчины на мужчину.
Исса-колдунья тоже часто делила мясо между женщинами, особенно жертвенное. Она стояла сзади Лото и злыми глазами смотрела на теленка. Ее мучила зависть. Запах крови щекотал ей ноздри.
— Смотрит, Драный, — сказала Исса злорадно.
В толпе женщин послышался ропот. С драным оленем была связана зловещая охотничья легенда. Она говорила, что Анаки, много лет тому назад, однажды захватили на реке такое огромное стадо, что насытились убийством и опустили копья; но олени все шли. Тогда охотники поймали живого оленя, ободрали с него кожу и в таком виде отпустили его на волю.
С тех пор ободранный олень привязался к племени Анаков. Он ходит вслед за ними, является им на стойбище и во время охоты и жаждет мести.
Лото подняла нож вверх и молча показала его Иссе.
На плече у черной колдуньи был глубокий шрам от старого, зажившего пореза. Говорили, что этот порез сделан именно черным ножом старухи Лото, хотя и не ее рукой.
С тех пор прошло много лет, но Исса не забыла. Она отступила и затряслась. Нижняя челюсть ее отвисла. Она отвернулась в сторону и забормотала что-то непонятное, как бормочут колдуньи во время гаданий. Не то она бранилась, не то жаловалась неведомо кому.
Винда и Рея-Волчица первые схватили по куску и побежали в сторону. Уже на ходу они торопливо жевали и совали жвачку своим младенцам. Младенцы захлебывались, и их беззубые рты окрасились розовым соком, и сами они как будто уже порозовели от одного появления спасительной еды.
Лото резала и раздавала и отсчитывала на пальцах. На третьем пальце второй руки у нее засосало под сердцем. Во все эти дни голод мало мучил ее жилистое тело, но теперь теплый пар свежего мяса растравил ее. Руки ее были в крови по локоть. Но Исса стояла за ее спиной, и она мужественно воздерживалась даже от того, чтобы облизать свой нож.
— Берите, — говорила она и совала куски. — Девки, ставьте котел.
Илеиль и Яррия давно приготовили мясной котел. Он был сделан иначе, чем первый, сплетен из прутьев и обмазан слоем глины. Этот котел ставили прямо к огню. С ним следовало быть очень осторожным, ибо глина трескалась и бульон выливался в огонь.
— Берите, — машинально повторяла Лото и резала ножом. Глаза ее плохо видели, голова кружилась. Ее тошнило от голода.
— Пятый палец четвертой руки.
Это была Майра, двадцатая. Лото двинула ножом с последней энергией и глубоко порезала собственный палец обратной стороной лезвия.
Она крикнула от неожиданности, и, будто эхо, отозвался злорадный смех Иссы, стоявшей сзади.
— На две стороны, — громко сказала Исса.
Черный нож мог резать на две стороны. У всего на свете есть две стороны…
Но Лото не слушала. Она бросила нож в сторону и поднесла палец ко рту. Лизнула, ощутила знакомый сладкий вкус. Но это была ее собственная старая кровь, а не оленья, уже застывшая.
В глазах у нее стало красно, будто красная река разлилась перед ней. В ушах зазвенело. Это река звенела о камни. Камни были, как острые ножи. Они резали тело и все были испачканы красным.
Лото, делильщица мяса, упала без чувств на груду оленьих костей, ни разу не нарушив своего долга перед племенем.
Глава 3
Юн Черный вернулся к Лысому Мысу не той дорогой, что прежде. Он спустился на самый берег реки и пробирался вперед, прячась под нависшими ярами и переползая в траве. Олени могли спуститься в это самое утро, и нужно было удвоить осторожность.
И действительно, когда он добрался до последнего поворота и увидел Лысый Мыс, то различил на его желтых откосах большое пятно, темное, движущееся. Это были олени. Они построились клином и уже входили в воду. Юну показалось, что в острие клина мелькает белое пятнышко.
«Белая телка», — подумал Юн, потом припал к земле и застыл, не шевеля ни одним членом.
Оленье стадо, действительно, спускалось к реке и собиралось плыть через волны Даданы на северный берег.
Олени шли, не торопясь, только копыта постукивали, задевая друг за друга, да тонкие рога поднимались над берегом саженей на сто в ширь, как сухие сучья.
Впереди шли два передовых. Это были самки, молодые, бездетные. Они осторожно ступали, поворачивая во все стороны свою стройную головку и поводя большими черными пугливыми глазами. Но ничего опасного не было видно. Лагерь Анаков как будто провалился сквозь землю, даже трава на лужайке не была примята.
Внизу, на изгибе плеса, зеленели тростники, но и там все казалось безопасным, ибо их гибкие верхушки не шевелились ни от чьих предательских движений.
Передовая самка в последний раз потянула воздух своими тонко вырезанными ноздрями, фыркнула, решительно вошла в воду, сделала шаг, другой и поплыла наперерез течению. Через десять минут все стадо уже отделилось от берега и колыхалось в зыбких волнах Даданы.
Берег остался сзади, и волны Даданы стали сносить их вниз по течению. Но впереди показался другой берег, низкий и ровный, весь синий и смутный. Он проходил мимо вдали, как будто тихо скользил по воде, в обратную сторону, против течения Даданы.
Внезапно сзади раздались громкие, страшные звуки, гиканье и будто вой и свирепое тявканье. Были ли это серые волки или желтые шакалы, или самые страшные из всех, высокие, белые, коварные враги с одним длинным когтем, прилетающим по ветру? Олени не разбирали. Они, не оглядываясь, слепо, изо всей силы перебирали ногами. Глаза у них выкатывались из орбит. Голова по привычке откидывалась назад, как на быстром бегу. Им казалось, будто они мчатся во всю прыть по этой предательской воде, но быстрые волны мешали им и сносили их вниз.
Сзади не было ни волков, ни шакалов, — были только Анаки. Они выскочили из тростников с гиканьем и воем в своих легких берестяных челнах и мчались по воде, загребая воду длинными двухлопастными веслами то слева, то справа. Весла гнулись; челноки то зарывались в воду, то почти совсем выскакивали вон, как играющие рыбы. Анаки гребли изо всех сил, нагибаясь вперед, и дыхание их вырывалось коротко и со свистом.
Здесь были самые лучшие, сильные, смелые охотники. Старики и подростки остались на берегу и бежали по песку, потрясая копьями. Они продолжали выть по-волчьи и лаять по-шакальи, чтобы отогнать оленей от берега и помешать им вернуться обратно.
Шакалы, впрочем, тоже были здесь. Их небольшие фигурки высыпали далеко от людей, почти у того места, где прятался Юн. Они бежали у самой воды вниз по течению, поводя беспокойно острыми мордами и следя глазами за стадом и охотниками. Они рассчитывали расстояние, чтобы встретить каждого беглеца, который рискнул бы вернуться на берег.
Юн Черный не стал рассматривать дальше. При первом охотничьем крике, долетевшем от Лысого Мыса, в его душе что-то зажглось и вырвалось наружу. Стиснув зубы, не помня сам себя, он бросился вперед, направляясь к заветным тростникам. Его челнок был колдовской, с лицом двузубого беса на остром носу, искусно загнутом кверху. Копье у него было с красными кистями. И оттого их не тронул ни один слишком ретивый охотник из пешего отряда.
Юн толкнул челнок ногой, прыгнул на ходу и погреб вперед. Охотники гнались за стадом, он гнался за охотниками.
Люди уже нагоняли. Они развернулись веером, заходя с левой стороны и стараясь отрезать у стада «нижнюю воду». Юн взял ниже всех и очутился на крайнем фланге. Он замыкал дугу развернутого веера.
Минуту или две люди и олени плыли параллельно. И вдруг грянула песня, бодрая песня весенней охоты:
Серые жены, сдавайтесь, Мы возьмем вашу плоть…— Возьмем, возьмем! — гремел оглушительный хор. И под эти оглушительные звуки конец веера загнулся и встал поперек оленьего пути. Стадо смешалось, остановилось и превратилось в беспорядочную кучу.
Теперь люди и олени стояли друг против друга и смотрели друг на друга. Но люди слегка подгребали своими длинными веслами против течения. Олени, сидевшие в воде по шею, были беспомощны. Волны Даданы неудержимо сносили их вниз, прямо на охотников.
Юн быстрым взглядом осмотрел товарищей. Тут были все: Альф Быстроногий, Лиас, искусный в метании копья, Санг — Птичий Коготь, Map Красивый и Несс, друзья-соперники; двое братьев Семов, одного звали Голодным, а другого Сытым; Илл Бородатый, самый рослый человек во всем племени. Лицо у него было красное, борода огненная. Оттого его звали также Илл — Красный Бык. Его челнок сидел в воде глубже других, зато лопасти весла у него были широкие, как в женских ладьях.
Охотники были совсем близко к оленям. Они ясно видели их крепкие груди с белым подгривком, точеные головы, изящные рога и тонкие ноздри, часто дышащие от усталости. Олени глядели им в лицо дико и беспомощно.
«Красивые, — подумал Юн. — И жирные», — прибавил он мысленно.
И при этой мысли в его душе и даже во рту как будто что-то растопилось.
«Так растопился их жир от гонки», — подумал Юн. Он все загребал вперед и заводил свой конец дуги кругом стада.
Его челнок уже развернулся носом к южному берегу. И вдруг он издал короткое восклицание. От южного берега выплывал еще челнок. Он плыл легко и стройно, так быстро и прямо, как будто катился по гладкому льду. Он описал вокруг стада такую же широкую дугу, как раньше Юн, и теперь подъезжал с другой стороны.
Охотники насторожились.
«Чужой», — подумал Юн. Но никто чужой не дерзнул бы вмешаться в охоту Анаков. Кроме того, чужих не было вблизи. Стойбища племени Селонов лежали за десять дней пути, на нижней оленьей тропе через реку Дадану.
Это, действительно, не был чужой. Это был Яррий.
«Непосвященный», — гневно подумал Юн.
Яррий еще не прошел обряда посвящения и потому не имел права выплывать на реку и участвовать в охоте.
«Испортит охоту», — сердито подумал Юн.
Яррий, однако, был далек от того, чтобы испортить охоту. Челнок у него был новый, из желтого луба, очень длинный и узкий. Свежий луб поблескивал на солнце, как золото. И при каждом ударе двойного весла челнок прыгал вперед, как будто кузнечик. Яррий скоро подъехал, обогнул Юна и стал левее, немного поодаль. Теперь он замыкал дугу веера. Он взял весло в левую руку, а правой стал снимать копье. Оно было очень длинное, под стать челноку, длиннее, чем у всех охотников племени.
«Ишь какое копье, — подумал Юн, — и когда он сделал?..» «Неблагословенное, — припомнил он тотчас же, — несчастье будет».
Впрочем, теперь не было времени раздумывать. Еще минута, и стадо могло разделиться на части и рассыпаться во все стороны. Тогда охота была бы труднее и менее успешна.
Альф Быстроногий решительно ударил веслом, протянул копье и ткнул навесно в бок ближайшего оленя. Олень мотнул головой, отпрыгнул в сторону и стал биться, захлебываясь. Через минуту он опрокинулся боком и поплыл вниз по течению, как кожаный мешок с мясом, унесенный с берега приливом.
Сердце у Юна екнуло. Олень повернулся на левый бок. Это была дурная примета. И вдруг он вспомнил свои вчерашние речи, буйные слова против скупости богов. Ему стало страшно.
«Дракон, не допусти», — помолился он мысленно. Он ободрял себя тем, что Дракон все-таки прислал оленей Анакам и, стало быть, не отверг предложенной жертвы.
— Не сердись, Дракон, — сказал он опять. — Воздам сторицею.
Илл бородатый выгреб вперед и заколол одного за другим матку и двух телят. Удары его весла были спокойные, длинные, ровные. И красное лицо его было тоже спокойно. С таким же точно лицом он, бывало, сбивал палкой осенние яблоки с яблонь, растущих в лесах у Кенайских пещер. И с таким же лицом убил ножом клыкастого вепря на узкой тропинке в густых тростниках по речке Калаве.
Map Красивый подъехал к стаду вплотную и стал поражать оленей без разбора. Другие охотники держались на прежних местах и старались не давать стаду разбиться на части…
Яррий до сих пор держался поодаль. Он опасался ссоры с другими охотниками. Но теперь он поднял копье и въехал внутрь стада. Олени бились кругом и каждую минуту могли разбить или опрокинуть его челнок, но он смело вогнал нос челнока в самую гущу стада и втиснул его между двух оленей, плывших рядом. Олени раздались как раз настолько, чтобы очистить место охотнику. Дальше отодвинуться им мешали другие. Дерзкий охотник поставил весло поперек челнока и даже положил его краями на спины оленей в виде баланса. Олени жмурились от ужаса, но не сопротивлялись. Теперь Яррий стал частью оленьего стада и плыл вместе с ним. Главная внутренняя масса стада даже сжалась теснее. Желтый челнок как будто служил ей центром и притягивал оленей к себе.
Об этом приеме рассказывали старики, но уже много лет никто из Анакских охотников не отваживался на такую дерзость. Для того, чтобы выполнить ее, нужно было иметь прежде всего легкое и тонкое тело, такое, чтобы челнок шел по самому верху и поворачивался быстро. Малейшая неловкость означала потопление челна и гибель охотника, ибо даже хорошему пловцу было бы почти невозможно выплыть на волю из этой массы сжатых тел и бьющих по воде копыт.
Зато теперь Яррий в своем челноке был хозяином стада. Он протянул через головы ближайших оленей свое длинное копье и быстро закалывал одного за другим по большому кругу вокруг своего челнока. Дальние олени не видели его и не знали, откуда приходит смерть. Он щадил ближайших, только обтачивал стадо на длину копья, как будто колесо. Заколотых уносило течение, другие олени приходили на их место. Река наполнилась трупами и окрасилась кровью. Наконец стадо дрогнуло и разбилось, сначала на две части, потом на четыре. Охотники тоже разбились, въехали внутрь, и началась бойня.
Цепочка мертвых туш плыла посередине реки. В дикой суматохе этой охоты только они одни были спокойны. Живые олени по большей части не думали о защите. Они покорно принимали удар и гибли молча, как гибнут рыбы, окруженные сетью. Матки протягивали голову перед телом телят, закрывали их собственной грудью и гибли вместе с ними. Только иные бычки помоложе давали отпор. Они оборачивались к челноку и бросались навстречу, прыгали на борт копытами и, наклонив голову, старались поразить охотника рогами в грудь. Но длинное весло давало людям слишком большое преимущество. Одним ударом они отгребали в сторону и подставляли нападавшему смертоносное острие.
Небольшая часть стада, штук в пятьдесят или немного больше, выбилась наружу из гибельного круга и, не зная, что делать, повернула обратно к южному берегу. Люди, бежавшие по берегу, удвоили крики, потом подняли копья и дротики, готовые исполнить свою часть охоты. Иные из них даже забрались в реку и бежали, расплескивая воду ногами для того, чтобы встретить оленя как можно раньше, пока движения его еще связаны водой. И все береговые охотники: зрелые мужчины, и отроки, и старики громко повторяли песню: доносившуюся с реки:
Возьмем вашу плоть, Возьмем вашу плоть!..Шакалы тоже вернулись. Они бежали теперь вверх по течению, искоса поглядывая на копья охотников и остерегаясь подходить слишком близко. Ибо даже в лучшем случае двуногие охотники и их четвероногие нахлебники хранили между собой вооруженный мир.
Олени приблизились к берегу, но, при виде охотников, повернули назад. Теперь они плыли вдоль берега вниз, и люди бежали по берегу параллельно с ними.
Место это было намного ниже Лысого Мыса. Здесь река Дадана делала поворот, и течение отбивало к противоположному берегу. Южный берег стал шире и выпустил длинную песчаную отмель далеко в реку, почти поперек течения. Олени плыли вперед прямо на конец отмели. Теперь люди были сзади. Они прибавили ходу, но берег стал вязким и илистым.
Первый олень внезапно обмелел и достал ногами до дна. Седобородый старик, бежавший впереди с дротиком в руке, остановился и измерил глазами расстояние. Но олень был слишком далеко. В два прыжка он добрался до берега, перебежал на другую сторону косы, где почва была тверже, и ринулся вперед.
Один из шакалов, самый смелый или самый проворный тоже был впереди. Он сделал прыжок, но острое копыто оленя задело его по голове, и он отлетел в сторону. Олень, как буря, умчался вверх по косогору.
Старик посмотрел ему вслед и погрозил дротиком, но другие олени уже доплывали до берега. Они выбегали на землю, друг за другом, тремя серыми струями, и бросались напролом сквозь стену охотников. Люди поражали их дротиками и копьями, набрасывали им арканы на шею, хватали с берега камни и бросали им в голову.
Шакалы успели схватить злосчастного теленка, отбежавшего в сторону, потом еще другого. Они облепили их со всех сторон и рвали живьем на части, не думая о другой добыче.
Рул Отрок, товарищ Яррия, впопыхах не захватил ни копья, ни аркана. Не имея под руками оружия и не желая оставаться без добычи, он бросился на оленя, пробегавшего мимо, и крепко схватил его руками за рога. Это была яловая самка, сильная, с ветвистыми рогами. Яловые самки оленьего стада были похожи на быков резвостью и силой. Анаки называли их Ялама — мужеподобная.
Мужеподобная самка мотнула головой, но Рул держался крепко. Ялама закинула голову назад и побежала по косогору, увлекая за собою дерзкого охотника. И вслед за ними раздалось, как будто в напутствие:
Возьмем вашу плоть, Возьмем вашу плоть!..Рул попробовал задержаться ногами за землю, потом за дерево, но Ялама оторвала его без усилия и побежала дальше. Тело его волочилось и билось о кочки и о корни деревьев. К счастью, в этом месте деревья росли редко. В лесной чаще он изодрался бы на смерть или отпустил бы добычу.
Он крепко держался руками за рога и изо всех сил старался пригнуть голову Яламы вниз. Но она была сильнее. И, чувствуя, что добыча ускользает из его рук, Рул потянулся всем телом вперед, продвинул голову вниз под шею Яламы и впился зубами в ее напряженное горло. Ялама мотнула головой и остановилась. Рул висел на ее горле, как белый волк, стискивая зубы. Обеими руками он тянул ее голову вниз за рога.
Ялама опять мотнула головой и встала на задние ноги. Ноги Рула тоже встали на землю. С минуту они боролись, потом Ялама ударила его передними копытами в грудь и подмяла под себя. Рул ударился головою о корень; в ушах у него зазвенело, искры посыпались из глаз. Но зубы его не разжимались. Их нельзя было бы разжать даже лезвием копья. Ялама зарыла голову вниз и ударила Рула рогами. Верхние отростки прошли над его головой, но нижний левый отросток, прямой и острый, как копье, вонзился в его плечо, прошел насквозь и воткнулся в землю.
Рул тихо застонал сквозь сжатые зубы, ударил ногами раз, другой, потом остался недвижим. Он потерял сознание. Ялама еще раз мотнула головой, как будто хотела вырвать горло и рог, но вместо этого колени ее подогнулись, она тяжело грянулась на землю и придавила Рула. Мертвое тело добычи лежало поверх омертвелого тела охотника. Лицо его ушло в белый мех ее подгрудка, но руки соскользнули с рогов и как будто обнимали ее шею. Так они лежали, обнимаясь смертным объятием на зеленом мху приречного леса.
Юн Черный заколол уже многих, больше, чем по оленю на каждый палец его рук и ног. Его сердце и его копье напились первой крови. Теперь им было нужно другое. Он глядел по реке вправо и влево, отыскивая белую телку.
Сначала он посмотрел среди трупов. Их было много, они проплывали мимо длинными рядами и цепями. Они были, как стадо, и дорога их шла прямо, как будто направлялась куда-то.
— К женам, рыба за рыбой, — сказал Юн. Он имел в виду, чтобы ни один олень не застрял на пути, но прошел до самого женского стана, без всякой задержки, как рыба.
После этого Юн посмотрел между живыми. Они были теперь рассеяны на огромном пространстве, группами и в одиночку. От берега до берега они наполняли все блестящее лоно широкой Даданы. Охотники шныряли между ними и кололи, кололи без конца.
На левой стороне, ближе к другому берегу, Юн наконец увидал белую телку. Она быстро уплывала, и вместе с нею плыла группа оленей, как будто верная свита.
Юн Черный изо всех сил погреб по тому направлению. Олени судорожно сторонились от него, но он не думал о них и не преследовал их. Только одна молодая самка не посторонилась. Быть может, она чересчур устала от бесконечной гонки. Она остановилась как раз на дороге Юна и посмотрела ему в лицо. Две крупные слезы выкатились из ее глаз и канули в реку. Юн Черный, почти не глядя, ткнул ее копьем в брюхо и поехал дальше.
В это самое время Яррий заколол всех оленей по линии круга, до которых могло достать его длинное копье. Группа, поддерживавшая его челнок, стала разбиваться.
Надо было выбираться на волю. Он схватил весло левой рукой, бесцеремонно уперся лопастью в голову левого оленя, одного из двух ближайших, дал сильный толчок назад и выскользнул на волю, как рыба из-под камня.
Он не стал убивать этих последних оленей из чувства благодарности, или, быть может, ему надоели простые олени. Он даже не посмотрел на них и, налегая на весло, погреб к противоположному берегу. Он тоже заметил странную белую телку. Она уходила налево, и ему захотелось овладеть этой редкой добычей.
Оба они, Юн и Яррий, мчались к последней группе оленей, как будто взапуск. Но Яррий был ближе. Он первый стал подъезжать к драгоценной добыче и уже положил правую руку на копье. Олени плыли к берегу, тревожно оглядываясь. Только белая телка не оглядывалась. Он видел ее голову и начало спины. Она была снежно-белая, как лебедь, и даже рога у нее были белые, со странными розовыми жилками, как будто из мрамора.
— Не смей! — крикнул Юн сзади. — Не твоя!
Молодой охотник обернулся с удивлением и гневом.
«Сам хочешь?» — спросил он мысленно и смерил глазами фигуру колдуна. Сердце его сжалось от злобы и вместе от ревности.
Он скрипнул зубами и повернулся к добыче. Неожиданно от группы оленей отделился один, по рогам — молодой бык, с коричневой шерстью. Он мотнул головой, как будто бросил вызов, и решительно поплыл навстречу охотнику. Плыл он на редкость легко. Плечи его совсем выходили наружу. При каждом ударе сильных ног показывалась впадина спины и широкий круп, гладко-коричневый, блестящий от воды.
Яррий выгреб вперед и хотел ударить копьем, но олень сделал резкий прыжок в сторону. Все туловище его вышло из воды наружу, показались четыре ноги, и светлая полоска пространства блеснула под его брюхом. В ярком блеске полудня тело оленя казалось красным, почти кровавым. «Что он, ободранный, что ли?» — подумал Яррий.
Он вспомнил легенду о Драном Олене, но не ощутил ни страха, ни удивления. Впрочем, у него не было времени думать дальше. Его копье попало в рога и сломалось пополам. Влажные белки сердитых глаз оленя мелькнули перед Яррием; передние ноги оленя упали на нос челнока и пробили его, как две острые секиры. Яррий выпустил весло и упал в воду, нырнул, потом выплыл и, разводя руками, поплыл вперед, все-таки к белой телке. Обломки челнока и копья плавали на поверхности.
Теперь молодой охотник был в таких же условиях, как и его добыча. Но он плавал нисколько не хуже, чем звери. И, кроме того, он лучше их понимал, как надо держаться наперерез течения. Через минуту он уже заплыл в группу оленей, подплыл к белой телке и положил ей руку на шею.
Другие олени ринулись в стороны. Белая телка плыла вперед. Яррий плыл рядом с ней. Он не нанес ей удара. Вода кругом него окрасилась в розовый цвет, но это вытекала его собственная кровь. Ибо обломок копья в схватке с коричневым быком отскочил назад и ранил его в грудь. У него кружилась голова, ноги его помертвели и повисли бессильно. Но он крепко держался рукою за шею белой телки и вместе с нею подвигался к берегу.
Юн Черный тоже подъехал сзади, но слишком поздно, чтобы вмешаться в битву. Он мрачно посмотрел на эту странную группу. Белое тело Яррия точно сливалось с шерстью телки. Они плыли рядом к берегу, прижимаясь друг к другу, как брачная чета.
Гнев вспыхнул в сердце колдуна.
«Мальчишка, — подумал он, — хватает чужое».
Он сжал правой рукой копье и подумал, что было бы хорошо одним сильным ударом пронзить обоих.
— Тебе, Дракон, — произнес он короткую молитву и двинулся вперед.
Коричневый олень, победивший Яррия, неожиданно вернулся. Он не обратил внимания на молодого охотника, который теперь плыл в воде со зверями, но челнок и человек с копьем опять вызвали в нем боевое чувство. Он поплыл навстречу Юну Черному точно так же, как и в первый раз. И вместо двух белых жертв Юну пришлось сперва принять эту битву с коричневым врагом.
Юн был осторожнее Яррия. Он сделал притворный выпад копьем, и когда олень отпрыгнул в сторону, он снова гребнул и снова ткнул копьем. Но и олень опять повернулся и прыгнул, как дельфин.
Копье Юна скользнуло в сторону, но все-таки вонзилось в оленя и попало в кость лопатки. Наконечник хрустнул. Олень прыгнул еще раз, копье сломалось. Только небольшой обломок остался в руках у Юна. Конец этого обломка расщепился, как будто кто расколол его ножом.
Юн бросил обломок на дно челнока и подхватил весло, которое уже собиралось свалиться и уплыть. Впрочем, оно было цело, и челнок не повредился в битве.
Юн посмотрел на Яррия и белую телку. Они были далеко, почти у берега. Тут Юн рассердился. Этот проклятый олень вырвал у него из рук двойную добычу и даже копье.
Его честь требовала расправы с этим дерзким врагом, который, противно обычаю своего рода, первым нападал на человека. Он повернул челнок к оленю и стал искать глазами копье. Оно выскочило из раны и плавало на воде. Юн осторожно подплыл, не спуская глаз с врага, и подобрал копье. Но оказалось, что оно больше не годилось для охоты. Костяной наконечник был сломан пополам. Теперь это было не копье, а обломок палки. Юн был безоружен и не мог напасть на оленя. Олень, впрочем, тоже не думал о нападении. Теперь он сидел в воде глубже прежнего и плыл медленнее. Опытный глаз Юна заметил красные струйки в воде у его левой лопатки. Это была кровь, вытекавшая из раны.
Юн стал щупать руками пояс, но не нашел ни ножа, ни поясного мешка. Он, должно быть, обронил их во время последнего стремительного бега к тростникам, на место засады, под Лысый Мыс. Он на минуту нахмурился, потом немного подумал и достал осторожно со дна челнока первый короткий обломок копейного древка. Он еще раз внимательно осмотрел его, потом поднес ко рту и расщепил зубами. Один из расщепов был острый и гладкий, как осколок кости.
Олень уплывал вперед смирно и грузно.
— Не уйдешь, — сказал Юн.
С решительным видом он ударил веслом, догнал оленя и подъехал вплотную к его рогатой голове. Олень сделал движение, как будто хотел прыгнуть, но уже не мог.
— Теперь не можешь, — сказал Юн с насмешкой.
Он схватил оленя левой рукой за рога, а правую, вооруженную осколком копейного древка, как будто кинжалом, вытянул вниз, опустил в воду и нащупал то место оленьего тела, где было сердце. Юн двинул рукой, и осколок вошел. Юн нажимал ладонью, и дерево шло все глубже и глубже, как будто копье. Потом Юн сломал осколок и оставил его в ране.
— Тебе, Дракон, — сказал он. — Черного за белого. Прими…
Он достал веревку со дна челнока, накинул на рога, укрепил и повел тело на буксире к близкому берегу. Ибо это была жертва, а не часть добычи, и ее нельзя было отпускать вниз по течению.
Они были уже на два поворота ниже Лысого Мыса и далеко впереди, на виду у всех стали выплывать ладьи, широкие, медленноходные, но зато поднимавшие много груза. Это шли женщины подбирать добычу. Нужно было вернуться, чтобы не встретиться с ними на водяном поле.
Через две минуты Юн догреб до берега, вытащил оленя на песок. Он перерезал ему горло ножом, чтобы выпустить дух жизни, и положил его на землю головой на полночь. Олени, доплывшие до этого берега, давно исчезли. На перестрел копья лежало не песке белое тело. Это было тело Яррия Ловца. Его рана, омытая водою, перестала сочиться. Он был в сознании, но до того обессилел, что не мог подняться.
Белой телки нигде не было видно. Она не стала медлить и убежала вместе с другими.
Глава 4
Ронта шла по тропинке мимо ручья Калава, в густых камышах. Камыши были высокие, прямые, гибкие, как зеленые копья. Их острые верхушки поднимались выше ее головы. Тропинка была узкая и глубоко втоптанная в землю. Ее проложили кабаны, продираясь сквозь эту чащу. С обоих боков смыкались две плотные, зеленые стены. Даже в глазах становилось черно, если взглянуть сквозь частые стебли налево или направо. Оттого Анаки называли эти камыши черными камышами.
Но вверху над камышами сияло ясное небо и яркое солнце. Оно катилось по небу — большое, пламенное. Лето было в разгаре, и солнце было в зените. Ронта шла вперед упругими шагами. Это была не та весенняя Ронта, а новая, иная. Две луны закатились после весенней охоты. С тех пор у Анаков было вдоволь пищи. В мешках лежал сушеный жир и в ямах под дерном сырое мясо. На речных островах были птичьи яйца. Зайцы и белки вышли на опушку из леса. Дикие гуси часто попадались под удар «плоского дерева». Много было также пищи волокнистой, растущей из земли. Корни полевой репы наливались вкусным соком, поспели ягоды и земляные орехи. Мелкие дикие яблоки тоже почти созрели в оврагах у ручьев.
Анаки вышли на эти широкие степи, окружавшие Калаву, совершая свой обычный путь. Здесь они должны были устроить большую охоту на диких лошадей. Мясо лошадей, хотя и уступает оленьему, но зато его больше. Однако, охотиться за ними труднее, ибо лошади зорки и видят далеко, и убегают, как ветер. В крайности они жестоко дерутся.
«Злая лошадь хуже медведя», — говорит пословица.
После охоты Анаки должны были подняться в предгорья к тем пещерам, где они проводили зиму. В пещерах было сухо, не было ветра и снега. Удобнее этого места не было на свете.
За это изобильное время все Анаки отъелись, потолстели и повеселели. У Ронты тоже тело сделалось глаже и крепче. Она только что выкупалась, и влажная кожа ее блестела на солнце. Плечи ее остались костлявы, и груди чуть распустились. Но старая Исса похвалила ее чрево.
— Хорошо будет благословить это чрево, — сказала она с странной усмешкой. Ронте сделалось страшно. Женский обряд посвящения имел тайные подробности, и о нем передавались между подростками невероятные рассказы.
Для подростков и для детей лето было, как нескончаемый праздник. С раннего утра они забирали кусок сушеного мяса и уходили из дома. Они не возвращались в лагерь по два и по три дня, и никто не беспокоился о них. В эту пору под каждым кустом был готов ночлег и ужин. Даже дикие звери не были страшны. Пищи было много и для них, и не было нужды нападать на людей. Почти все они успели узнать, кто самый сильный, и без крайней надобности не решались на враждебные действия.
Ронта шла вперед по узкой тропинке. Над ее головой жужжал и вился толкун мошкары. В ярких лучах полудня мошки мелькали и носились, как золотые пылинки. Эти золотые мошки не жалили и не кусались. Оттого солнце позволяло им летать в полдень. Тем же, которые пили кровь, оно высушивало крылья и заставляло их прятаться в траву и ждать вечерней прохлады. Золотые мошки мелькали кругом, как искры, и толклись, и пели яркому солнцу свою благодарность. Голос у них был тихий и тонкий: — Ззз…
Ронта остановилась и прислушалась, но она не могла разобрать, что поют мошки.
С левой стороны тихо смеялась Калава, пробираясь между древесными корнями.
«Калава темноволосая», — подумала Ронта.
Дно у Калавы было мшистое, темное. Она не несла водяных кудрей, ее струистые волосы ложились вдоль хребта прямыми полосами.
Тростники тоже пели. Когда порыв ветерка пробегал по верхушкам, они гнулись и гудели. Голос у них был низкий, густой:
— Ввв…
Ронта прислушалась. Голос мошек и голос камышей сливались вместе в одну стройную песню. И теперь Ронта разобрала напев и даже слова.
— Солнце, жги! — жужжали мошки и пели камыши.
Это был припев брачного гимна. Юноши и девы, еще непосвященные, не имели права петь этот гимн. Но припев повторялся в десятках различных песен, детских и девичьих, весенних и жатвенных, когда жены Анаков собирали колосья на диких полях у верховьев Калавы. Все Анаки чтили солнце, но каждый певец вкладывал в его хвалу особый смысл.
— Солнце, жги! — пели камыши. И солнце жгло. Ронта подняла глаза и лицо к небу.
— Солнце — Отец, — сказала она.
Калава опять засмеялась, протекая мимо. И смех у нее был тихий, лукавый. Ронте представилось, будто она прячет лицо под корнями и выглядывает украдкой и, прикрывая рот рукою, смеется втихомолку.
«Чему ты смеешься?» — чуть не спросила она.
И, как бы в ответ, сквозь камышевую чащу донесся новый звук.
То был голос камышевой свирели. Она пела, словно выговаривала: — Тиу, тиу, тиу… Солнце, жги!
В густых камышах жили Камышевые боги. Они были белые, статные, носили зеленый венок на голове и тростинку в руках, как символ владычества. Ей пришло в голову, что кто-нибудь из них забавляется с тростинкой.
— Посмотреть бы его, — сказала она и пошла вперед. Калава сделала внезапный поворот и отошла вправо. Камыши оборвались. Тропинка вышла из чащи на прибрежную поляну. Ронта осмотрелась, но бога нигде не было. Вместо бога на камне у воды сидел Дило Горбун. Он срезал камышинку, сделал из нее свирель и, прижимая ее к губам, выпевал протяжно: «Тиу, тиу, тиу…»
— Это ты поешь? — сказала Ронта с невольным разочарованием.
— Я, я! — пропел Дило.
— Я думала: Камышевый поет, — сказала Ронта наивно.
— Ага, — сказал Дило:
Русая грива, золотое лицо, Вот мы приносим тебе мяса.Это была молитва Камышевому богу, которую пели дети перед ловлей гольцов в темных водах Калавы. Ронта улыбнулась и кивнула головой. Дило опять взялся за флейту.
— Это я пою, я, Дило… Фиу, фиу, фиу… А ты знаешь, что я пою?
Ронта покачала головой.
— Как я могу знать, что поют мальчики? — сказала она.
— Не знаешь теперь, узнаешь осенью, — сказал Дило и дерзко улыбнулся.
Ронта вспыхнула и отступила.
Со дня рождения до самого обряда посвящения дети не знали ничего о любви. Они не имели права присутствовать на осеннем празднике, а потом, в зимнее время, об этом не говорилось. Летом взрослые начинали думать об осенней встрече и постепенно разгорались, но дети вместо того думали о связанных с ней обрядах. О них тоже знали не все, и они казались странными и таинственными.
— Я все знаю, — смеялся Дило, — я видел…
— Не называй запрещенного, — сердито сказала Ронта.
— Тиу, тиу, тиу, — пропел Дило вместо ответа на своей камышинке. — У Дило золотая голова и золотые руки. Посмотри, что я сделал.
Он вынул из-за пояса коротенький кремневый резец, молоток без ручки и кусочек белой кости, обточенной в виде звериной фигурки.
— Что это такое? — спросила Ронта, заинтересованная.
— Это Помощник, Мясная Гора, — сказал Дило.
Мамонт Сса — Зверь-Гора, или Мясная Гора — считался помощником Отца в созидании вселенной. Отец утвердил землю и развернул над нею небо, как плащ, а Сса Помощник усыпал его звездами по широкому полю, прорезал реки, выкопал озера и моря, раздвинул горы для прохода.
Дило утвердил свою костяную игрушку между пальцами левой руки и, тихо жужжа, принялся обтачивать ее своим резцом.
Жужжание его было все то же: «Тиу, тиу, солнце, жги…» Ронта присела рядом и стала рассматривать костяную поделку.
— А зачем же у него ноги сведены? — полюбопытствовала она. Все четыре ноги костяного мамонта, действительно, были сведены вместе.
— Этот Сса в беде, — сказал Дило, — в яме. Ронта нахмурилась.
— Это опять запрещенное, — сказала она.
Анаки, действительно, рыли для мамонтов ямы. Несмотря на все почтение к этому страшному зверю, помощнику Отца, овладеть им было слишком соблазнительно. Недаром его звали Мясная Гора.
Однако напоминать страшному Сса о его беде было почти кощунством.
— Ничего, — сказал мальчик загадочным тоном, — люди сильнее…
Он продолжал работать над игрушкой легкими и точными движениями. И понемногу Ронта придвинулась совсем близко и так засмотрелась, что забыла все запреты. Искусство Дило было велико. Тело мамонта, высокая голова и круглый хобот выходили из-под его резца, как будто живые. Даже маленькие глазки Сса он наметил с обеих сторон своим волшебным резцом.
Потом он отложил в сторону резец и поднес к лицу Ронты свою костяную игрушку.
— Нравится тебе? — спросил он. — А хочешь, я и тебя сделаю? Есть у меня кость, такая белая… — протянул мальчик, — как твое тело. — И он ткнул пальцем в стройный бок девушки.
— А ты поправилась, отъелась, — прибавил он тотчас же. — И груди налились. — Рука его дерзко скользнула на грудь девушки.
Ронта вскрикнула и ударила его по руке. Но Дило не обиделся. Он посмотрел на Ронту блестящими глазами.
— А знаешь, — сказал он, — я, быть может, еще и пойду в терновую рощу вместе с Яррием.
Ронта посмотрела на него с упреком.
— Яррий кормил тебя, — напомнила она. Лицо Дило тотчас же изменило выражение.
— Правда, — сказал он, — и ты тоже кормила. Когда Дило был голоден.
— Ты моя мама, — прибавил он тотчас же. В его голосе звучала признательность.
Ронта задумалась. Слова Дило привели ей на память отсутствующего друга.
Дило посмотрел на нее, и лицо его оживилось.
— Хочешь видеть его? — спросил он неожиданно.
— Его, — повторила Ронта, как эхо. — Кого его?
— Его, Камышевого духа, — лукаво объяснил Дило. — Ты ведь на голос пришла к Камышевому духу.
— А ты видел его? — спросила Ронта недоверчиво.
— Дило все видел, — сказал Горбун. — Идем со мною. Я покажу тебе.
Они перешли Калаву вброд. Вода доходила им до плеч, и Ронта высоко подняла над головой поясной мешок, чтобы не замочить его. Но у Дило не было мешка. Он завернул свой резец и костяную игрушку в широкий зеленый лист, сунул за пояс и даже не стал оберегать их от воды.
— Небось, они не размокнут, — сказал он.
На другом берегу Калавы был буковый лес. Кабанья тропа пропадала и снова появлялась. Горбун катился впереди на своих кривых ногах ловчее, чем можно было ожидать. В густом кустарнике он падал на руки и полз, как зверь, «на всех четырех костях», как говорили о нем другие мальчишки. Руки у Дило были крепче, чем ноги. Когда он полз на четвереньках, он был похож на барсука, короткого, приземистого, с горбатой спиной. Они миновали буковый лес и добрались до Сарны. Сарна была дочь Калавы и резво бежала навстречу матери. Они перешли ее по камням; она весело смеялась и щекотала им ноги.
На другом берегу Сарны было поле диких колосьев. Эти колосья уже пожелтели. Они срывали их по пути и стряхивали себе в рот. Спелые зерна хрустели и скрипели под зубами. Нижние, мягкие, сочились белым соком.
Резвая Сарна обежала кругом поля и снова призывала их со смехом на свои гладкие камни. В этом месте ее берега стали выше. Сарна подмыла высокий обрыв, и он навис над водой, но еще держался корнями кустов, которые росли наверху.
— Вот он, — сказал неожиданно Дило, — смотри.
На самом краю обрыва стояла фигура. Она ярко вырезывалась на синем безоблачном небе. Она была высокая, стройная. На голове у нее была русая грива. И лицо было загорелое. Под солнечным лучом оно пылало и казалось золотым.
— Это Камышевый? — спросила Ронта недоверчиво и тотчас же узнала и радостно крикнула: — Яррий!
Яррий быстро обернулся и увидел своих друзей из женского лагеря. Он бесстрашно шагнул на самый край обрыва.
— Ронта! — окликнул он. Одну минуту он хотел даже спрыгнуть вниз, но потом передумал, побежал в левую сторону и исчез из глаз, но скоро опять появился уже внизу, на правом берегу.
— Ронта! — повторил он радостно, подбегая к девушке. Они положили друг другу руки на, плечи и потерлись щека о щеку. Таково было приветствие Анаков при встрече.
Ронта с восхищением смотрела на своего друга. За эти несколько лун он сильно изменился, и недаром она не узнала его сразу. Яррий вырос почти на ладонь человека и раздался в плечах.
«Это мужская удача», — подумала Ронта.
Когда он ушел по весенней дороге с мужчинами, он был еще мальчиком. А теперь это был уже не мальчик, а воин. Даже глаза его смотрели иначе. На шее у него появился длинный белый шрам.
— Очень болело? — спросила Ронта, дотрагиваясь до шрама рукою.
— Ничего… — улыбнулся Яррий. — Белая телка занозила мне шею. У Рула дольше болело. Спанда сказал…
— А где Рул? — перебил Дило, который тем временем развязал сумку на поясе Яррия и бесцеремонно достал оттуда несколько темных кусочков сушеного мяса. В летнее время Горбун был прожорлив, как крыса.
— Рул там… — Яррий сделал неопределенный жест рукой.
— Где там?
— Там, в лесу.
— Мы пойдем, посмотрим на него, — сказал Дило. Яррий покачал головой:
— Не надо трогать его. Он спит.
Дило с любопытством поднял вверх свою подвижную мордочку, но тотчас же вспомнил другое и перешел на новую тему.
— Скажите, когда вы пойдете в терновую рощу?..
В терновой роще производился обряд посвящения юношей. Их подвергали предварительному испытанию голодом, бессонницей и жестокому сечению — терновыми прутьями. После этого они принимали племенной обет. Обряд заканчивался торжественным заклинанием, которое превращало отрока в мужа и делало его правоспособным к браку.
— Я тоже пошел бы, — сказал Дило не совсем уверенно. Яррий нахмурился.
— Я, быть может, не пойду в терновую рощу, — сказал он после короткого колебания.
— Как? — в один голос воскликнули Ронта и Дило.
— Юн отвергает меня, — сказал Яррий.
— За что? — быстро спросила Ронта.
В женском лагере слыхали в общих чертах о приключениях Рула и Яррия, но не знали ничего о недовольстве колдунов. Яррий покачал головой.
— Спанда говорит, что я слишком много убил оленей.
— Слишком много оленей, — повторила Ронта с недоумением.
— Без посвящения, — объяснил Яррий с угрюмой улыбкой. — Юн грозится: «Зачем же он ходил убивать? Его самого надо убить». А Спанда говорит: «Убить нельзя. Я лечил его и Рула вместе. Их кровь смешалась».
Настало тяжелое молчание.
— Зачем же ты пошел? — спросила наконец Ронта. — Не подождал до осени.
Яррий тряхнул головой.
— Меня зовут Ловец, — сказал он просто. — Чего мне ждать? Сердце не стерпело.
Ронта опять положила ему руку на шею. Она заметила, что кроме белого шрама на этой крепкой бронзовой шее не было ничего больше.
— Где твой хранитель? — спросила она.
Анаки носили на шее кожаную ладанку, в которой была зашита маленькая деревянная фигурка, попросту даже раздвоенный сучок. Эта ладанка надевалась младенцу на шею при наречении имени, и сучок считался ангелом-хранителем своего владельца.
— Я потерял его в реке, — сказал Яррий неохотно.
— Худой знак, — сказала Ронта, хватаясь рукой за мешочек на собственной груди.
Яррий в виде ответа только пожал плечами.
— Он маленький, а я большой, — сказал он, помолчав. — Кто же кого охраняет?
— Грех, — сказала Ронта с упреком. — Духи услышат.
— Где духи? — упрямо возразил Яррий. — Я их не вижу.
— Где духи?.. — Ронта посмотрела на него с новым удивлением. — Везде, кругом. В воде, в камышах, в пространстве. Везде духи и везде боги.
— Пусть же они придут, — сказал Яррий. — Я ходил в лесах и в камышах, днем и ночью, и звал их. Никто не приходил.
Ронта посмотрела на него со страхом и недоумением.
— Старые люди говорят, — начала она снова. Яррий тряхнул головою и перебил ее.
— Да, я знаю, что говорят старые люди: «Надо пресмыкаться перед богами, кланяться в землю. Трепетать и покоряться. Пищу им давать, чтоб самого не съели. Защитников искать». — Пусть они приходят, — повторил он, как прежде. Глаза его сверкали странным блеском. Он закинул голову назад и стал как будто выше.
Дило радостно хихикнул. Дерзкая речь Яррия, видимо, доставляла ему величайшее наслаждение.
— Я ненавижу их обряды, — пылко говорил Яррий. — Розги Спанды коснутся моего тела? Зачем? Не бывать этому! Уйду я от них.
— Куда? — спросила Ронта. Яррий широко повел рукою.
— На свете места много. Я один буду жить на вольных полях.
— А мы как? — сказала Ронта огорченным тоном. — Мы больше тебя не увидим…
— Все равно и так не много видите, — сказал Яррий. Брачные обычаи племени Анаков, видимо, тоже не удостаивались его одобрения.
Ронта посмотрела кругом. Дило не было видно. Он уполз в сторону в погоне за ящерицей. Она опять положила руку на плечо юноши.
— Яррий, останься!
Ее детский голосок звучал просительно и наивно.
— Зачем? — сказал Яррий.
— Я хочу плясать с тобою на празднике солнца, — сказала она.
Яррий молчал.
— Страшно, должно быть, там, — сказала Ронта. — Мужчины с бородами. Мне будет страшно плясать с ними без тебя.
— Да, — подтвердил Яррий. — Илл Бородатый. У него борода огненная. Под ним челнок садится в воду глубже всех. Но на бегу он медлен.
— Я боюсь его, — сказала Ронта. Яррий загадочно улыбнулся.
— Он не боится тебя. Мужчины с бородами любят девушек помоложе.
— У!.. — Ронта даже головой замотала от страха и отвращения.
— Яррий, не уходи, — сказала она почти со слезами и даже схватила его за руку, как будто опасаясь, что он тотчас же исчезнет.
Лицо Яррий смягчилось.
— Если они ничего не скажут, — проворчал он неохотно, — я тоже не стану говорить. — Это было полусогласие на возможный мир с племенем и его обрядами.
— Ну, теперь я пойду, — сказал Яррий. — Вечер близко. Рул ждет меня.
— Зачем тебе Рул? — спросила Ронта и даже брови сдвинула.
— Рул — брат мой, нас соединила кровь, — сказал Яррий. Он вынул свою руку из пальцев Ронты и ласково провел ладонью по волосам девушки.
— Я приду, — сказал он. — Теперь не ищи меня. Я сам найду тебя. Где бы ты ни была, в лесу или в лагере, я найду и вызову тебя. Вот так…
Он свистнул тихо и жалобно, подражая призывному крику Шиана, самца пестрой совы: — Угу!..
Ронта откликнулась ответом маленькой самки Шианы: — Угу!..
— Прощай, я ухожу! — крикнул Яррий.
Он свистнул опять, но уже по-иному, громко, пронзительно, уперся древком копья о землю, сделал неожиданно огромный прыжок в сторону и побежал вдоль берега. Ронта смотрела ему вслед. Через минуту он исчез за поворотом. Потом раздался плеск воды. Это он наступил резвой Сарне ногой на шею. Высокая фигура его снова показалась вверху над обрывом. Он приветственно махнул копьем Ронте в и пропал в чаще.
Час, и другой, и третий Яррий бежал полями и лесами. Он перебегал болота с кочки на кочку, не оступаясь, как молодой олень. Он переползал в густой чаще, как змея или призрак, и сзади его не оставалось следов.
Солнце закатилось, первые смутные тени упали на землю, когда он нашел своего друга. Это было в последнем лесу перед мужским лагерем. Здесь все деревья были редкими, высокими и тенистыми, а земля под ними была ровная, твердая, так что ноги отскакивали упруго на каждом шагу. Рул лежал под деревом, уронив голову на руки. Он как будто спал и не слышал шагов. Яррий окликнул его по имени. Рул поднял голову и мутными глазами посмотрел на товарища.
— Неможется тебе? — спросил Яррий заботливо. Рул покачал головой.
— Зачем ты столько спишь?
Рул посмотрел на него странным и жалобным взглядом.
— Она заставляет меня.
— Кто заставляет?
— Ты знаешь, кто: она, Мужеподобная…
Он неожиданно вскочил, протянул руки вперед и запел высоким, чистым, горловым напевом:
У ней четыре ноги и два тела, Одно тело женское, другое мужское. Она кивает мне ножами рогов своих: «Спи, Рул, только во сне я могу посещать тебя!»— Пустое, — сказал Яррий. — Ее давно съели, Горбун Дило, моя сестра Яррия и другие.
Лицо Рула исказилось от яростного гнева. Он погрозил Яррию кулаком:
— Будьте вы прокляты, если съели ее!..
— Ах, что она говорит, — прибавил он без всякого перехода, подходя к Яррию и кладя ему руку на плечо. — Мне стыдно сказать, — шепнул Рул и положил голову на грудь товарищу, как женщина.
— Тебе кажется, — сказал Яррий, упорствуя в своем неверии.
— Она велит мне: «прими другое тело», — шепнул Рул.
— Как? — переспросил Яррий, не расслышав.
— Новое тело, — повторил Рул.
Он посмотрел на Яррия отчаянными глазами.
— Вот она зовет, — сказал он, прислушиваясь, и тотчас же хоркнул сам два раза по-оленьему. — Это ее голос. Но я не хочу идти за ней. Я борюсь.
Он поискал руками кругом себя, как будто ища, за что бы ухватиться. Лицо его выразило крайнее напряжение. Даже пот проступил мелкими каплями на лбу и на висках. Яррий с некоторым ужасом заметил, что капли эти были красного цвета.
— Что с тобою? — спросил он с тревогой. — Разве твоя рана раскрывается?
— Душа моя раскрывается, — сказал Рул. — Жарко мне до кровавого пота.
Это был кровавый пот начинающих колдунов, когда они противятся велению духов.
— Как я пойду в терновую рощу?! — заговорил Рул снова. — Она велит другое: «Плащ твой собственный брачный прими из чужих рук. Пляши с мужчиной…»
— Мерзость, — сказал Яррий с отвращением. Он понял наконец смысл таинственных велений Мужеподобной Яламы. — Это Юн тебя учит…
Но Рул не слышал.
— «Я сделаю тебя великим колдуном, дам ход подземный и полет воздушный», — продолжал он перечислять обещания призрака. — «Не то убью. Резала тебя, недорезала. Теперь дорежу».
По повелению духов и старших колдунов, иные из юношей отрекались от своего пола и уподоблялись женщинам. Такие потом получали великий дар волшебства. Именно на этот путь Черный Юн и убитая Ялама толкали отрока Рула.
Рул задрожал и опять сел на землю.
— Пойдем домой, — сказал решительно Яррий. — Надо тебе сегодня спать у костра с друзьями.
Рул упирался, но он взял его за руку и повел с собою сквозь темный лес, туда, где среди развешанного мяса горел костер и сидели колдуны и охотники, — Юн Черный и Спанда Мудрый, Илл Бородатый и многие другие…
Месяц был на исходе. Ронта и Яррий встретились еще раз; мужской лагерь переместился и подвинулся к женскому. Он находился теперь на берегу Калавы пониже устья Сарны. Он был устроен чрезвычайно просто. Большой костер, на котором охотники жарили пищу, беспорядочная груда сухих сучьев для топлива и в разных местах кучки зеленых ветвей для постелей. Не было даже навесов от дождя, ибо мужчины не строили крова весною и летом.
У костра никого не было. Огонь тлел тихо, объедая две здоровенные колоды, положенные накрест. Только запасное копейное древко, прислоненное к дереву, да длинный аркан, сплетенный из тонких ремней, говорили о том, что это стойбище не было покинуто людьми.
Анаки, впрочем, были близко. Они собрались все вместе внизу у воды и образовали круг. Перед кругом стояли два колдуна, светлый — справа и темный — слева, а между ними стоял Яррий. Черный Юн исполнил свою угрозу и привлек дерзкого Ловца к суду племени.
Все охотники держали в руках копья. Даже подсудимый являлся на сход с копьем. Воина можно было лишить жизни, но никак не оружия. Анака, убитого в таком судебном кругу, выносили оттуда с копьем в руке и клали на поле. И Яррий, хотя и непосвященный, тоже пришел с копьем. Анаки встретили его угрюмыми взглядами, но не сказали ни слова.
Только Спанда и Юн не имели оружия. Они были вооружены словом своим, которое ранило больнее копья. На лице Черного Юна было написано злое ожидание. Спанда был высокий, с седой бородой старик, тот самый, который во время весенней охоты первый встретил оленей, выбегавших на берег. Глаза у него были спокойные, слегка насмешливые.
Сход только что собрался, но все молчали. Молчал и подсудимый.
— Говори, Яррий, — обратился к нему Спанда, впрочем, без суровости.
— Вы сами говорите, — неохотно проворчал Яррий.
— Ты отнял у бога живую добычу, — сказал Юн глухо и с гневом.
Яррий посмотрел на него исподлобья, но не сказал ничего.
— Говори, Яррий, — снова сказал Спанда.
— Если отнял у бога, зато дал Анакам, — сказал Яррий. — Это мое копье перекололо полстада.
Юн посмотрел на него ядовитым взглядом, потом обратился к племени.
— Если непосвященные мальчишки будут оленей убивать, — сказал он, — то что же останется взрослым?
Яррий ничего не сказал, но щеки его покраснели и глаза вспыхнули.
— Ты отнял у бога живую добычу, — повторил Юн.
— Не у тебя ли отнял? — возразил Яррий дерзко. — У твоего короткого копья?..
— Лжешь! — вскрикнул Юн запальчиво. — Я видел тебя в воде. Четвероногий олень ехал на твоей спине.
— Рука моя лежала на шее белой телицы. Мы плыли рядом, как муж и жена…
Они стояли лицом к лицу и смотрел друг другу в глаза. Оба они были одного роста, статные и сильные. Только у Юна глаза и волосы были черные, а у Яррия глаза были серые, а волосы русые.
— Бродяга, — прошипел Юн, — знаешь ли ты, что такое бог?
Яррий ответил ему презрительным взглядом.
— А ты знаешь? — спросил он неожиданно.
— Постой, — вмешался Спанда. — Мы спрашиваем о боге у тебя, не у Юна. Скажи нам, где твой бог?
Яррий поднял копье и с силой опустил его на землю.
— Вот мой бог, — сказал он резко.
— Слышите, Анаки! — воскликнул Юн с ужасом. И Анаки отозвались гневным ропотом. Яррий нахмурил брови и крепко оперся рукою на копье.
Спанда слегка пожал плечами и сказал спокойно:
— Какой же это бог? Это — древко. Яррий молчал.
— Или нет на земле иного бога, сильней, чем копье твое? — продолжал Спанда. — Зачем ты молчишь? Стыдишься говорить?
— Чего мне стыдиться? — сказал Яррий угрюмо. — Нет на земле иного бога, кроме Анака. Сса — Зверь-Гора и Полосатые Тигр подвластны нам. Горы и долы, леса и поля, все это наше.
Странно прозвучали эти гордые слова перед лицом враждебного круга воинов. Анаки сердито ворчали. Им нисколько не льстило считаться земными богами во устранение небесных.
— Еще что? — опять спросил Спанда с явным любопытством.
— Реки поят нас, а дубрава кормит, — продолжал Яррий, — звезды любуются нами. Ясное солнце светит для нас…
В голосе его звучало волнение.
— Молчи ты, — отозвался тотчас же Спанда. — Про солнце мы сами знаем.
— Я стану говорить, — сказал Юн, — мой бог требует жертвы.
— Какой жертвы? — спросил Спанда так же спокойно.
— Замены, — сказал Юн, — жертвы живой, вон той… Он указал пальцем на юношу.
Спанда пожал плечами.
— Мы, Анаки, не шакалы, друг друга не едим.
— Мой бог ест, — упрямо повторил Юн. — Бог белый, Месяц.
— Солнце — бог красный, — сказал Спанда. — Твой бог — Луна.
Юн посмотрел на него с ненавистью. Противоположность этих двух слов: Месяц, Луна, выражали всю противоположность двух преданий.
— Лунный бог создал небо и землю, — сказал Юн мрачно.
— Когда это было? — спросил Спанда с насмешкой.
— Солнце было женой ему и Анаки детьми.
— Солнце — отец наш, — сказал Спанда.
И все Анаки повторили:
— Солнце — Отец.
— Лунная вера — старая вера, — сказал Юн. — Первые люди с вороньей головой, истребители падали, они были детьми Дракона.
— Я старик, — сказал Спанда, — и дед мой был старик. Он всегда говорил, что мы — дети солнца.
— Довольно! — крикнул Юн. — Мой бог требует крови.
— Летнее солнце не любит крови, — сказал Спанда.
— Мой бог пошлет на вас месть, — с зубами крысьими. Не дайте видеть его белому глазу лицо оскорбителя!..
— Что ты скажешь, Яррий? — спросил Спанда. Яррий опять посмотрел на Юна.
— Белого бога не вижу, вижу Черного Юна. Пусть возьмет копье и заступится за своего бога.
Юн бросил ему уничтожающий взгляд.
— Даже ножа обрезального не хочу я поднять на такого, как ты.
— Что скажете, Анаки? — спросил Спанда, обращаясь к племени.
Анаки молчали. Потом Илл, Красный Бык, повернул лицо к юноше и сказал коротко и веско: «Уйди!»
— Правда, — загалдели Анаки. — Уйди от нас. Собственной силой живи. Странствуй один.
— Верно вы рассудили, Анаки, — сказал Спанда. — Летнее солнце — кроткое солнце. Лунный бог — страшный бог. Пусть мстит ему одному без нас. Что ты скажешь, Яррий?
— Я уйду, — сказал Яррий отрывисто.
— Теперь слушай и помни, — сказал Спанда строго, — воды нашей не пей, не грейся у огня, будь нам чужим, другого племени, без нашего бога, без нашего кладбища.
— Уйду! — крикнул Яррий. — А вы, будьте вы…
Он не докончил проклятия, только схватил копье и погрозил им Анакам. Потом повернулся и быстрыми шагами ушел влево по берегу Калавы.
Глава 5
В кленовой роще ночью сидели подруги: Ронта, Илеиль и высокая Яррия, и еще две, Элла Большая и Элла Певучая. Певучая Элла была старшей сестрой черноволосой Милки. Ее называли также Элла Сорока. Она была маленькая, круглая, как будто комочек. Волосы у нее были коротенькие, в кудрях. Они стояли над ее головой, как запутанное облако.
Эллу звали Певучей за то, что она пела целый день. Что бы на глаза ни попало, как бы оно быстро ни промелькнуло мимо, песня Эллы являлась еще быстрее и выливалась, как щебет. Элла пела о камне, который подвернулся под ноги, о стаде быков, которое попалось мужчинам, или о драке двух девчонок, которые поссорились из-за цветной раковины. Но если песня ей нравилась, она готова была повторять ее с утра до вечера. Оттого ее звали также Элла Сорока.
Подруги сидели в кленовой роще у костра и ждали утра. Это была последняя ночь перед обрядом. Они не могли спать: им было жутко. На другом конце рощи были обе старухи, Лото и Исса. Лото должна была исполнить первую часть обряда, белую, дневную. Исса должна была исполнить вторую часть, ночную, темную. Лото сидела одна у особого костра и варила в глиняной плошке пахучие травы. Иссы не было видно, она скрывалась в темноте. И все, что ей было нужно, — травы и притирания, она давно сварила и приготовила, хотя никто не видел, когда и как. Иссы и ее притираний боялись подруги.
Согласно обычаю, другие женщины в эту ночь не могли присутствовать в роще… Они должны были явиться утром и принять участие в обряде посвящения. Но вместе с испытуемыми сидела взрослая помощница, Аса-Без-Зуба.
Девочки перестали шептаться, — им стало скучно. Костер был маленький, в тихом воздухе безветренной ночи огонек горел тонкою алою струйкою. Илеиль подняла свою русую голову и сказала:
— Спой песню, Элла.
Элла сидела по другую сторону костра; она посмотрела на подругу, и тонкое прыгающее пламя отразилось на минуту в ее сверкающих зрачках.
— Песню? Хорошо.
Пять трясогузок, все дуры, сидели под листьями клена, Нахохлившись, как в дождь. Ястреб сказал: «Я вас замуж возьму, Ощиплю вас до перышка…»— Страшно, — вздохнула Ронта и боязливо поглядела в темноту.
— Чего страшно? — спросила Элла задорно из-за костра.
— Иссы страшно и тех… — сказала Ронта и указала глазами в ту сторону, где был мужской лагерь.
— О, тех!.. Об Иссе я не знаю и знать не хочу. Но я знаю, что те сделают с нами…
Пять трясогузок…— Молчи, молчи… — зашикали на нее подруги со всех сторон.
Говорить о мужчинах в связи с тем, что относилось к браку, считалось неприличным даже для взрослых женщин во всю первую половину года, вплоть до осеннего обряда. Если иные и думали о своих друзьях, то они молчали об этом.
— Ушла бы я на край света, — сказала Ронта тихо.
— Куда ты уйдешь? — сурово возразила высокая Яррия. — Бродяги уходят, но женщин-бродяг не бывает.
— Все уходят, — сказала задумчиво Ронта. — Время проходит, и они уходят и никогда не возвращаются назад…
Девушки замолчали.
— Куда они уходят? — спросила Ронта, склоняя голову.
— К племени своему уходят, — сказала Яррия, — на небо, к Отцу. Там тоже есть племя Анаков.
— Я сказку слыхала, — сказала Илеиль. — В той стороне есть место. У самых ног Отца сделана дыра и вбита затычка, и женщины подходят и выдергивают, и смотрят вниз; и если какая-нибудь пожалеет и заплачет, то слезы ее к нам падают росою.
Все инстинктивно подняли головы и посмотрели вверх, туда, где наискось к полночи светилось недвижимое Око Отца. В ночном воздухе мелькали какие-то неуловимые влажные искры, и им показалось, что это слезы тех, небесных женщин.
— Будет вам, — снова вмешалась неукротимая Элла. — Вы говорите о тех, которые уходят. Я хочу говорить о тех, которые приходят.
— Души детские, — сказала Илеиль и усмехнулась радостно. — Малые детки…
Элла посмотрела на нее лукаво и подмигнула левым глазом.
— Малые и большие… Оттуда и оттуда!..
Она указала кивком головы на небо и тотчас же протянула обе руки к северу, туда, где находился мужской лагерь.
— Я люблю их, — сказала она громко, потом слегка потянулась и свела руки вместе. — Всех люблю.
И было так, как будто она сразу заключила в свои объятия всех мужчин и детей.
— Молчи, — сказала Илеиль, но не совсем уверенно. Элла Сорока знала, как будто, действительно, больше, чем другие подруги.
— Дуры вы, — возразила Элла и рассмеялась.
Пять трясогузок, все дуры…— Трясогузка Ронта, — сказал неожиданно голос сзади, такой же веселый, как у Эллы.
Девушки обернулись. Дило Горбун подполз к костру так тихо, что никто его не заметил. Он остановился перед костром, как полз, на четвереньках, и вертел головою, как будто черепаха.
— Уйди, — крикнули девушки, — зачем ты пришел?
— К вам пришел, — сказал Дило, — мне одному тоскливо.
— Здесь мальчикам не место, — сказала Илеиль. — Это девичья роща.
— Разве я мальчик, — сказал Дило вкрадчивым тоном. — Если бы я был мальчиком, то был бы с мальчиками.
Девушки засмеялись. Это была обычная присказка Горбуна.
— Я вам сказку расскажу, — соблазнял Дило.
— Уйди, не то палки возьмем.
— Расскажу и уйду. О Рунте-трясогузке… Мне одному темно в этом лесу.
— Ну, расскажи, — поколебались девочки.
Их в особенности соблазняла тема рассказа. Имя Ронты с небольшим изменением в Рунта означало: трясогузка. Молодых девушек вообще называли трясогузками за их предполагаемую стыдливость.
Они посмотрели нерешительно на взрослую помощницу. Но круглые глазки Асы тоже горели любопытством, и, ко всеобщему удивлению, она не сказала ни «да», ни «нет».
Пять трясогузок сидели под листьями клена, —начал Дило нараспев.
— Молчи, дурак, — сказали девушки полусердито.
Дило, по-видимому, хотел начать с присказки и заимствовал ее у Эллы.
— Нет, — сказал Дило.
Пять трясогузок сидели под листьями клена. Пришли пять турухтанов и распустили свои крылья. И сказали: «Спляшем брачный танец. Совьем колесо солнцу, будем плясать брачный пляс. Будьте нам женами, будем нам мужьями…»По обыкновению Анакских сказочников, Дило наполовину пел, строфу за строфою.
Лунный Дракон пришел к красному солнцу. И сказал: «Солнце, спляшем брачный танец. Будь мне женою, я тебе буду мужем».— Разве солнце — жена? — спросила Илеиль с удивлением.
— Не перебивай, — сердито сказал Дило. — В то время Солнце было женою.
Солнце сказало: «Я не хочу. У тебя, Дракон, чужое лицо. На твоей шее чешуя стала дыбом. Ты мне не муж, я тебе не жена…» Дракон рассердился и проглотил Солнце. Вместе с Солнцем проглотил все лучи; На земле и на небе стало темно. Турухтанам и трясогузкам стало темно. Темно свивать колесо Солнцу, Темно плясать брачный танец… Рунта молодая сказала подругам: «Я поднимусь на небо, я верну Солнце, Я дам свет, Пойду к Дракону в юные жены. Пусть я исчезну, вы будете жить»…После этого Дило стал рассказывать прозой:
Молодая Рунта поднялась на небо и приблизилась к Дракону. Он дремал, раскрыв пасть после сытной еды. Солнце, большое и круглое, тускло сияло в его утробе.
— Я пришла, — сказала Рунта.
— Зачем? — спросил Дракон.
— В жены к тебе, — сказала Рунта.
— А, хорошо, — сказал Дракон.
— Как берешь ты жен? — спросила Рунта.
— Пастью беру, — сказал Дракон.
Молодая Рунта вошла в пасть Дракона, из пасти в утробу и отыскала Солнце. Она обвязала его травяной веревкой и потащила его вон. Вытащила Солнце в горло Дракона, потом вытащила в рот Дракона, потом вытащила на язык Дракона. И лопнула веревка с таким треском, как падает дерево. Тогда встрепенулся Дракон и тряхнул головою. Круглое Солнце обожгло ему язык и выкатилось вон. Брызнул свет, настало новое утро.
Дило замолчал, девушки тоже молчали.
— А Рунта вернулась? — спросила Илеиль. Дило лукаво посмотрел на девушек.
— Рунта, вот она, — пошутил он, указывая пальцем на подругу Яррия. — Рунта-Ронта.
— Нет, правда!
— Правда, — настаивал Дило. — Вы знаете: предки возвращаются сквозь женское чрево. Так Рунта вернулась…
— Постой, — сказала Элла. — Какую песенку пела молодая Рунта?
«Пусть я исчезну, вы будете жить…»— Печальная песня.
Ронта сидела и слушала, не шевелясь и не произнося ни слова.
Но когда Элла повторила печальную песню Рунты-трясогузки, ее лицо неожиданно сморщилось, нижняя губа задрожала. Еще минута, и она разразилась плачем, тихим и жалобным, как огорченный ребенок.
Яррия положила подруге руку на шею.
— Глупая, — сказала она. — Ну, не плачь. Это другая погибла, та, молодая Рунта. Ты живешь.
— Нет, — всхлипывала Ронта, — это мне нравится. Пусть я исчезну, вы будете жить. Это хорошо.
Слезы ее падали без конца. Она уткнулась лицом в землю, и плечи ее тряслись от заглушаемых рыданий…
Полночь прошла. На краю неба опять поднимался Охотник, угрожая дротиком диким оленям в Песчаной реке. Все спали, девушки и их помощница. Лишь у Лото поодаль слабо мерцал костер, и она низко склонилась над ним, как будто творила заклинания. И вдруг на опушке раздался слабый призыв маленькой пестрой совы Шиана, который ищет в темноте свою подругу: — Угу!..
Ронта вздрогнула во сне и подняла голову. Призыв повторился еще раз. Она посмотрела на соседок. Никто не шевелился. Костер чуть вспыхивал.
Еще не совсем проснувшись, Ронта поднялась, как лунатик, и, натыкаясь на деревья, пошла вперед, куда звал крик совы.
На опушке леса стоял Яррий. Его фигура смутно белела в свете звезд. Он двинулся Ронте навстречу и быстро подошел. В руках у него было неизменное копье. Связка дротиков висела через плечо. Через другое плечо был подвешен большой мешок, как у охотника, уходящего в дальние горы. И весь вид у него был, как у человека, уходящего в дорогу.
Дремота Ронты исчезла.
— Что, Яррий? — спросила она тревожно, даже не успев разглядеть в темноте его лицо.
— Они изгнали меня, — сказал Яррий.
— Изгнали, — откликнулась Ронта жалобно.
— Сказали: «Будь нам чужим, другого племени, не пей нашей воды, не грейся у огня».
— За что? — спросила Ронта беспомощно. Она как будто забыла в эту ночь о весеннем деле Яррия.
— За то самое, — сказал Яррий. — Юн говорит: — «Ты жертву отнял у темного бога, белую телку. Будь же извергнут».
— Как же обет? — спросила Ронта растерянно. Яррий коротко засмеялся.
— Стану ли плакать о муках и истязаниях? Нож Юна-врага не коснется меня. Буду жить непосвященный, как жил.
Ронта молчала.
— Куда же ты пойдешь? — спросила она нерешительно. Яррий повел рукою.
— Свет широк, и солнце везде светит. Челноки растут в лесах, и реки текут вниз… Попрощаться я пришел. Где Дило?
— Не знаю, — сказала Ронта, — был тут недавно. Прогнали его… Куда пойдешь ты?..
— Пойду на край света, — сказал Яррий, — на берег моря. Узнаю людей медвежьих и людей орлиных. Увижу морских великанов с зубами, как у мамонта.
— Как ты будешь жить, Яррий? — твердила Ронта печально.
— Один буду я жить, диким бродягою, рвать добычу когтями буду, как звери рвут.
Он замолчал и долго молчал, и вдруг сказал отрывисто:
— Пойдем со мною, Ронта!.. Ронта не отвечала.
— Лица мужчин не увижу. Глаза женщин не будут смотреть на меня. Когда я умру, шакалы закроют мне глаза… Ронта, пойдем со мною…
Ронта бросила взгляд назад, в глубину рощи. Ничего не было видно. Только угли костра чуть мерцали сквозь темную чащу.
— Жалко тебе оставить Иссу колдунью и сварливых жен? — спросил Яррий злым, изменившимся тоном.
— Жалко, — призналась Ронта.
— С Иллом хочешь плясать, красную бороду гладить девичьей ладонью?
— Нет, — с ужасом сказала Ронта. — Я не хочу.
— Ну, так пойдем со мною.
Ронта опять посмотрела назад и тяжело вздохнула.
— Прощайте, сестры, — шепнула она. Пусть я исчезну, вы будете жить… Яррий, я иду с тобою.
Они взялись за руки и тихо, как тени, скользнули вдоль опушки. Никто их не видел. Только небесный Охотник смотрел им вслед и грозил дротиком.
За день ходьбы от кленовой рощи лежало мертвое поле Анаков. Оно было широкое, ровное, занесенное песком. Этот песок в незапамятное время принесла река Саллия своими весенними разливами, но теперь река давно ушла отсюда вправо, почти на половину дневного перехода. Поле осталось, как прежде, серое, унылое, нагое. На нем не росло ни куста, ни травинки. Только местами поднимались какие-то странные серые сучья. Это были бараньи и оленьи рога, воткнутые в песок, принесенные живыми на поминки покойникам. Ибо на это поле с разных концов своей земли приходили умирать Анаки. Под древнему поверью считалось, что только с этого поля возможен отход в дальнюю дорогу, в страну предков. Он начинался от низкой песчаной стрелки, перерезавшей мертвое поле на две половины. Эта стрелка называлась «тропой мертвецов». От стрелки отход продолжался по песчаным рытвинам старого сухого русла, потом по реке Саллии, против ее течения, на юг.
По убеждению Анаков, если кто умирал вдали от мертвого поля, ему приходилось после смерти прежде всего являться сюда. Оттого родные спешили воздвигнуть ему могильник на мертвом поле. Это был посмертный приют для него. Могильник состоял из каменного овала, выложенного просто на песке, как будто вокруг мертвого тела. Все мертвое поле было усеяно такими овалами. Пустых было меньше, а больше было таких, в которых лежали белые скелеты. Ибо Анаки даже в болезни крепились, как могли, и приходили сюда умирать, чтобы избавить себя от трудного посмертного перехода.
Во многих овалах вместо целого скелета остались только белые ребра да толстые берцовые кости. Гиены объедали своими крепкими зубами даже головки берцов и оставляли на земле только костяные трубки, пустые внутри. По всему полю валялись черепа, круглые, гладкие, выбеленные солнцем и ветром. Это были как будто большие странные чаши, разложенные на выбор для живых и для мертвых.
На это поле на другой день после побега Ронты пришла старая Исса. Она была одна, и никто не следовал за ней. Она прошла по «тропе мертвецов», дошла до середины, встала и огляделась кругом. Потом сошла в сторону и вскоре нагнулась и подняла белый череп. Она взяла его с места, которое было украшено не только рогами, но даже пучками перьев и сухих цветов. Это был могильник черной колдуньи Меланто, которая была старухой, когда Исса была еще маленькой девчонкой. Покойная Меланто считалась великой чаровницей, и на ее могилу до сих пор приносились дары мужчинами и женщинами. Исса вернулась с черепом к тропе мертвецов. Она наполнила череп водой из лужи, которую нашла тут же. Вода эта была солоноватая и пригодная для колдовства. Старая колдунья села на песок, поставила череп на землю между ног и запахнула над ним полы своего мехового плаща. Она снова оглянулась и достала из поясного мешка щепотку серого порошка. Этот порошок она бросила в воду, и вода задымилась. Белый пар клубами повалил из черепа, хотя нигде не было огня, и вода не согрелась. Исса прикрыла череп плащом еще тщательнее, но пар или дым выходил струями из каждой прорехи ее покрывала, у шеи, у плеч и у ног, как будто она вся горела внутри.
Склонившись лицом вниз и сливаясь вместе с черепом, Исса стала творить страшное заклинание. Оно было направлено против бежавшей девушки для того, чтобы отомстить ей за позор и предательство.
— Беглая тварь, — говорила Исса, — обрекаю тебя гневу. Запираю в твоем теле юность и зрелость. Да будут плечи твои остры, и груди плоски, и чрево бесплодно… Неосвященная и неблагословенная. Будь Яламой, безмужной и безлюбовной. Запираю тебя мертвой костью. Когда муж твой подойдет к тебе, пусть взоры его будут, как взоры убийцы. Спасайся, трепещи!..
Исса достала из мешка маленький сучок, раздвоенный с одного конца, обычную замену человеческой фигуры.
— Ялама, — сказала она, обращаясь к сучку, ибо он представлял Ронту-беглянку. Слово «Ялама», означавшее самку оленя, непригодную к браку, относилось также к хилым, бесплодным женщинам.
Она вынула череп из-под плаща и осторожно опустила сучок в череп.
— Ялама, — сказала она снова, — вот тебе собственная вода и собственная лодка. Вода твоя да будет в лодке твоей. Садись и плыви по тропе мертвецов.
Она поставила череп на песчаную стрелку.
— Иди, догоняй, — сказала она ему сурово, — где бы она ни сидела и ни бегала.
Чары были окончены и посланы вдогонку, и Ронта была обречена их всесильному гневу.
Глава 6
День за днем Яррий и Ронта спускались вниз по реке Дадане, направляясь к морю. Яррий сделал челнок еще на берегах Калавы из желтого луба, такой же гибкий и легкий, какой он оставил на месте оленьей охоты, вместе с другими челнами племени. Они спустились по Калаве в реку Саллию. Она впадала в Дадану на полдня ходьбы повыше Лысого Мыса и оленьей тропы. Где можно было, они плыли. Где было мелко или слишком много камней, они выходили на берег и вели челнок за собою на веревке из стеблей крапивы или просто волокли его по мокрой траве, где он скользил легко, как рыба, потом опять спускали его в воду и плыли. Они садились, по обычаю, спина к спине и протягивали ноги в разные стороны. Яррий греб веслом, а Ронта смотрела на воду и ждала очереди. Их нагие спины крепко опирались друг на друга. И в росистое, свежее утро это одно место было теплым у обоих. Оно давало им тепло и грело все их обнаженное тело.
В первую ночь они ночевали на острове, в тополевом лесу, вытерли огонь из сухого дерева, развели большой костер и потом заснули. Они спали на одном ложе, как брат и сестра, и между ними лежало копье, как общий защитник.
На другой день они вошли в Дадану и скоро проплыли мимо Лысого Мыса и места весенней охоты… Отсюда начинались места незнакомые. Дадана уходила от Анаков на запад, а куда именно, никто не знал. Все, однако, говорили, что Дадана — река огромная, протекает сквозь многие земли и доходит до дальнего моря. Они не терпели голода. Ибо в это время года на Дадану во множестве спускалась перелетная птица с соседних озер — утки, крохали, гуси. Яррий был искусный охотник с дротиком и плоским деревом и копьем. На берегу во время ночлегов они копали также корни, мучнистые и сладкие.
Солнце светило ярко. Было ясно и тихо. Им попадались олени; один бросился в воду и поплыл, но был он слишком далеко, и Яррий не мог достать его копьем. Гигантские шельхи стояли на берегу неподвижно, как будто каменные. Их ветвистые рога выступали на солнце, как обведенные резцом. Они смотрели на челнок равнодушно и презрительно, как будто это было дерево, проплывшее мимо.
— Есть ли здесь другие люди? — сказала Ронта.
— На что нам люди? — возразил Яррий со смехом. — Мы двое — люди. Хорошо нам.
Он широко ударил веслом и громко запел песнь гребца, которую Анакские юноши пели на реке летом во время охотничьих поездок:
Двойным веслом я загребаю воду, Длинное копье я держу в руке.Он пел и греб в такт песни и с каждым звуком и взмахом чувствовал, словно входит в него что-то сильное и сладкое. Плечи его широко двигались, как будто с них упало тяжелое бремя.
— Анаки остались далеко сзади. Во век бы не видеть их… Он привстал на куске коже, служившей ему сиденьем.
— Игой! — крикнул он звонко и протяжно, как молодой жеребец, который призывает на вольном лугу и сам не знает кого, — короткогривую подругу свою, или сердитого соперника.
— Иго-го-гой!
Река Дадана текла широко, мощно и спокойно. Ее повороты тянулись на добрый людской перебег от плеса до плеса. Берега исчезли из глаз, и дальние мысы чуть всплывали в синем тумане, как марево. Река расстилалась перед глазами широко и прямо, как зеркало.
Потом берега стали выше, а русло уже. Дадана встретила на пути горный хребет и прорезала его насквозь. Она стала глубже, полноводнее и быстрее. Она катилась теперь среди двух высоких стен, и по обе стороны ее простирались крутые, дикие скалы.
Челнок быстро плыл мимо. Крутые берега уходили назад и исчезали навсегда. И на одном повороте совсем неожиданно они увидели женщину. Она сидела на самом краю и смотрела на реку. Была она совершенно нагая, и тело ее, особенно груди, были смуглее, чем у Анакских жен. Волосы у нее были длинные, черные, как вороново крыло. Она распустила их на плечи и расчесала белым костяным гребнем.
При виде этих волос и гребня у Яррия странно заныло сердце, ибо жены Анаков с такой же заботой чесали свои волосы и заплетали косы перед брачным обрядом, и гребень считался брачной принадлежностью.
Челнок проплыл близко к берегу, но женщина не шевелилась. Она чесала волосы и пела песню, — тихую, длинную, тягучую, как нить. И казалось, что над рекою Даданой течет другая река, тихо-звучная, незримо-струйная.
Челнок проплыл мимо; женщина осталась сзади, и песня ее слабела и замерла.
— Кто это? — сказала Ронта с удивлением. — Женщина, дух?..
— Не знаю, — сказал Яррий, потом прибавил невольно: — Нет, это не дух.
Он вспомнил груди женщины. Они были небольшие, как у девочки, но странно удлиненные, даже слегка повисшие книзу. Они показались ему какими-то редкими плодами.
Он повернулся назад и посмотрел в полоборота на спутницу. Груди у нее были такие же недоразвитые, бедра — узкие. Волосы ее были короче. Они не были расчесаны и падали на плечи беспорядочной гривой. Вся фигура Ронты походила на мальчика.
И, отвечая взгляду своего друга, Ронта оживленно сверкнула глазами и сказала с ребяческим задором:
— Вернемся, посмотрим.
Яррий послушно взмахнул веслом и повернул челнок. Но ехать назад было труднее. Они лепились к берегу, борясь с течением реки, не пропуская ни одного изгиба, и когда, наконец, показался тот же мыс, теперь уже знакомый, женщины не было. Они пристали к берегу и долгое время ходили по взгорью, но ничего не нашли. Даже следов не осталось нигде, как будто эта женщина не ушла, а растаяла.
Яррий посмотрел на спутницу с некоторым смущением, но она улыбалась. Дети Анаков любили играть в прятки в зеленых лесах у Даданы и у Калавы. Ей казалось, будто она ищет и не может найти спрятавшуюся подругу. И, видя смущение юноши, она весело засмеялась и сказала:
— Поедем дальше.
Они отплыли и скоро уже огибали новый плес вниз по течению.
Ронта как будто тотчас же забыла о таинственной встрече. Она радовалась каждой новой птице и каждому утесу незнакомых очертаний и спрашивала без умолку:
— Яррий, что это? Яррий, где же мы?
И Яррий большей частью отвечал, как в первый раз:
— Я тоже не знаю.
Они пристали на ночлег под высокой скалой, развели огонь и поужинали, но спать им не хотелось.
Полная луна светила на реку и отражалась внизу второй луной. Длинный серебряный след ложился на воду.
— Это дорога наша лежит, — сказала Ронта.
Она посмотрела в глубь вод, на ту, вторую луну, потом подняла глаза вверх, как будто для сравнения.
— Что это за знаки? — спросила она, разглядывая темные пятна на белом, широком лице луны.
Яррий пожал плечами:
— Нос как будто и глаза. Говорят: лицо Дракона.
— Пенна говорила, — сказала Ронта, — что это совсем не глаза. Это Лунные Анаки, мальчик и девочка.
Яррий улыбнулся.
— Как же они попали туда?
— Дракон изловил их арканом лунного луча и поднял к себе, чтобы не было скучно.
— Ты смеешься, — сказала она обидчиво. — Не веришь мне?
— Я не смеюсь, — сказал Яррий. — Они, как мы, эти лунные Анаки. Я знаю, как их зовут: Яррий и Ронта. И если ты хочешь, мы тоже поднимемся, сами собою, по лучу солнечному, взойдем на солнце и будем жить в сиянии.
Ронта посмотрела на него с легким недоверием.
— Разве ты тоже колдун, как Исса и Спанда?
— Если ты захочешь, — повторил Яррий, — я стану колдуном больше, чем Спанда.
Ронта засмеялась.
— Отлично, — сказала она. — А только я спать не хочу. Пойдем лучше, еще раз походим по горам.
Они погасили огонь, спрятали челнок в расселину утеса и укрепили его камнями, чтобы его не мог снести внезапный порыв налетевшего ветра. Потом Яррий взял копье и два дротика.
Ронта тоже взяла дротик и пошла вперед, стройная и легкая. Они шли гуськом, друг за другом. Шаги их были неслышны, и тела их блестели в ночном сиянии луны.
Берег реки перешел в высокую равнину. Местами темнели леса, как чернильные пятна, потом расстилались широкие луга. В свете луны они были пушисто-матовые, как мех.
Там и сям торчали группы скал и камней, странных, обрывистых, поросших снизу мхом и травой, а вверху обнаженных. Их голые верхушки выступали на ночном небе четкими черными зигзагами.
Путники прибавили шагу, потом побежали вприпрыжку, как бегут оленята после водопоя, попали в густую тень ближайшей группы скал, мелькнули быстрыми пятнами по освещенному полю, снова попали в тень.
Яррий внезапно остановился.
— Смотри, — шепнул он, — на левой стороне.
— Где? — спросила Ронта. — Я не вижу.
— Там, вверху, — указал Яррий. — Постой немного.
На верхушке ближайшей скалы мелькнула голова. Она появилась из тени на свет и с минуту оставалась как будто отрезанная. Это была голова козла. Можно было видеть длинную бороду и тонкие рога, отогнутые назад. Голова повернулась влево. Борода закачалась.
«Хм, хм», — донеслось тихое, будто простуженное покашливание. Еще минута, и голова спряталась. Снова донеслось «хм, хм», уже из темноты, и все стихло.
— Не спит, сторожит, — сказал Яррий.
— Глупый козел, — засмеялась Ронта. — Полезем, посмотрим.
Они пригнулись и поползли в траве, потом свернули вправо и стали подниматься по узкой лощине вверх. Дальше начинались скалы. Они перелезали от камня к камню неслышно, как змеи, и, наконец, добрались до верху. Наверху была площадка в выемке меж скал. Они посмотрели осторожно из-за широкого камня и увидали группу коз, устроившихся на ночлег. Здесь были маленькие и большие. Они лежали на жидкой траве, положив головы на камни. Все они казались черного цвета, но можно было различить, что козлята темнее маток.
Глаза Яррия блеснули. Он поднял дротик и стал метиться в ближайшего козла.
— Постой!
Ронта, в свою очередь, схватила его за руку.
— Смотри вниз!
Далеко внизу, на той самой дороге, по которой они взобрались, мелькнула тень, скрылась, опять мелькнула.
Эта часть подъема была плохо видна козлу-сторожу. Очевидно, еще охотник подбирался к добыче.
— Росомаха, — шепнула Ронта.
— Нет, другое, — сказал Яррий, приглядываясь.
— Волк?
— Не волк.
— Бурый?
— Не знаю, — сказал Яррий нерешительно. — Бурый… Кажется, не совсем бурый.
— Бежим, — сказала Ронта.
— Смотри туда, — сказал Яррий вместо ответа.
— Дальше, — прибавил он, следуя глазами за взглядом Ронты.
— Налево.
На левой стороне, на открытом лугу, между двумя группами деревьев мелькнула новая тень, метнулась через поле и снова исчезла.
— Подождем здесь, — сказал Яррий решительно.
Они припали между камней и глядели на дорогу, сжимая в руках дротики. Та тень, что была ближе, мелькнула снова. Потом между камнями появилась фигура и стала подниматься вверх, пользуясь каждым прикрытием.
Яррий и Ронта с удивлением смотрели на нее. Это была не пантера, не волк и не бурый, хотя по величине и по движениям она немного подходила к последнему.
Она была темная, плотная, с крепкими, короткими ногами, но шерсть на ее спине была редкая и совсем не походила на пышный медвежий мех. И вместо острого рыла у нее было широкое лицо и большие круглые глаза, которые беспокойно поглядывали по сторонам.
— Вот это дух, — сказала Ронта, скорее с любопытством, чем со страхом.
Яррий нерешительно кивнул головой.
— Лицо, как у человека, — сказал он в виде подтверждения.
— Какая походка странная! Посмотри-ка, у него такие же руки, как у нас.
— Нет, это не дух, — сказал он с внезапным презрением. — Видишь, он ползет на кулаках, как маленький ребенок.
Фигура остановилась, соображая. Она, очевидно, подбиралась к козам, но эта дорога ей не понравилась. Она свернула дальше вправо, продолжая, впрочем, слегка подниматься вверх, и скрылась за поворотом.
— Как он убьет? — сказал Яррий с любопытством. Прошло несколько минут напряженного ожидания.
— Где он? — хотела сказать Ронта, но в эту минуту слева раздалось: «хм, хм», громче и тревожнее прежнего. Стадо вскочило на ноги и ринулось вниз.
Странный охотник, видимо, обошел кругом и зашел с противоположной стороны, но невовремя попал на глаза чуткому сторожу.
Козы бежали прямо на молодых Анаков. Яррий не выдержал. Он вскочил на ноги и бросил дротик в большого козла, бежавшего последним. Дротик попал под левую лопатку. Козел сделал огромный прыжок и упал на бок.
Черный охотник тотчас же показался сзади. Он бежал быстро, но довольно неуклюже, как прежде, опираясь руками на сжатые кулаки.
Ему, очевидно, не удалось убить ничего. Увидев чужую добычу, он остановился поодаль, рыча.
Яррий выставил вперед копье. Этот охотник был опаснее козла, и нельзя было полагаться на дротик.
Черный охотник поднялся на ноги и теперь стоял перед ними прямо, как человек, и смотрел на них, скаля зубы в свирепой гримасе. На правой щеке у него был беловатый рубец, видимо, след раны, доходящий до рта и с этой стороны обнажавший еще выше два крупных белых клыка.
Он яростно фыркнул и погрозил Яррию кулаком.
— Что тебе надо? — невольно спросил Яррий, потрясая копьем.
— Грруар! — ответил выразительно Черный, поглядывая на козла.
Яррий двинул копьем.
— Не трогай, — поспешно сказала Ронта. — Это Лесные Анаки.
Анакская легенда говорила, что где-то в темных лесах обитают лесные жители. Они не умеют говорить и ловят зверей руками, не зная копий. И замечательно, что легенда, которая за Селонами и за Тосками, ближайшими соседями и врагами Анаков, не признавала даже имени людей и называла их просто «чужими чертями», — в виде контраста называла этих лесных жителей Лесными Анаками, как будто желая подчеркнуть родство своего племени с ними.
— Что тебе надо? — повторил Яррий, растягивая слова для отчетливости.
— Гррм! — проворчал Черный уже на другой лад, потом быстро повернулся и побежал в сторону на двух ногах, как человек.
Яррий и Ронта, совершенно забыв о козле, побежали за ним.
Черный пробежал несколько шагов, потом, видя, что его преследуют, упал на руки и устремился вниз быстрее и быстрее, кубарем, как им показалось, скользнул по косогору и скрылся из глаз.
Яррий и Ронта тоже сбежали с утеса и помчались через поле.
От первой группы скал, мимо которой они недавно прошли, доносился шум борьбы.
Козы убежали в этом направлении и, должно быть, попались другим охотникам.
— Это был загонщик, — соображали Анаки. — Стало быть, у этих лесных жителей есть свои охотничьи планы, как у настоящих людей.
Первая группа скал была меньше и ниже второй.
Хитрость лесных Анаков в том и заключалась, чтобы направить коз к этому месту, более удобному для преследования.
У подошвы этих скал Яррий и Ронта увидели трех лесных охотников. Они были счастливее загонщика, ибо им удалось изловить одного козла. Он лежал на земле и дрыгал ногами, а они били его по голове деревянными палицами. Они были так увлечены своим делом, что не обратили внимания на подбежавших молодых людей.
В левой стороне слышался какой-то странный лай или плач. Нельзя было разобрать, — дети эти или шакалы. Молодые люди побежали туда и увидели странное зрелище. Здесь был обломок скалы, довольно высокий и совершенно отвесный. Молодой козленок бог знает как в темноте с перепугу заскочил на эту скалу. Он стоял на верхушке и снизу было видно, как тело его дрожит от ужаса и напряжения.
Три темные фигуры бегали кругом подножия и лаяли от злости. Они пытались подняться на скалу, но с полдороги срывались вниз. Один из них схватил палицу и бросил в козленка, но она не долетела.
Яррий посмотрел и засмеялся. Гримасы и движения ночных охотников были чересчур забавны. Он подошел к скале, не обращая на них внимания, и стал подниматься вверх, опираясь на копье. На полуподъеме пришлось и ему остановиться. Но он утвердил на выступе камня правую ногу, выпрямился, крепко оперся левой рукой на копье и бросил дротик. Козленок подпрыгнул всеми четырьмя ногами и рухнул к подножию скалы.
— Гррм! — заревели единодушно Лесные Жители и подхватили козленка, как будто на лету.
Яррий сделал несколько шагов вниз, потом оперся копьем о скалу и спрыгнул на землю.
Один из лесных людей поднялся к нему навстречу. Это был загонщик. Яррий узнал его по шраму над щекой.
Он сделал шаг по направлению к юноше. В руке у него была палица. Он, должно быть, оставлял ее внизу, чтобы легче карабкаться по камням.
Яррий тоже сделал шаг вперед, не выпуская из рук копья. Черный загонщик пристально посмотрел на Яррия, потом быстрым движением отбросил палицу в сторону. Яррий немного подумал.
— Хорошо, — сказал он. Он не стал бросать копья, а передал его подошедшей Ронте.
Черный посмотрел на это с видимым одобрением.
— Гррам! — сказал он и мотнул головой.
— Тебя зовут Гррам? — переспросил юноша. — Меня зовут Яррий Анак.
Черный сделал еще шаг вперед и протянул правую руку к Яррию.
— Аггру!
— Союз? — переспросил юноша, как будто Черный говорил на языке совершенно понятном. — Хорошо.
Он тоже шагнул вперед и протянул свою руку. Они пожали друг другу руки, причем Яррий почувствовал, что у Черного ладонь мягкая, почти как ладонь ребенка.
Потом, преодолевая смутное чувство отчуждения, он приблизил свое лицо к лицу Черного и потерся об его щеку, по обычаю Анаков. Он почувствовал под кожей его лица крепкую челюсть, как у гиены или у льва.
Черный неожиданно положил руку ему на голову и искусно захватил и вырвал несколько волосков. Яррий чуть не крикнул от боли и гнева, но Черный уже совал ему в руки свою толстую, короткошерстую голову. С тайным злорадством Яррий захватил своими крепкими пальцами большую щепоть и дернул ее изо всей силы.
Черный не крикнул, а как-то хрюкнул от боли, но тотчас же поднял голову и дружелюбно посмотрел на юношу. По-видимому, ему понравился столь энергичный способ заключения союза.
Еще один Черный подошел, сначала несмело, потом смелее и ближе. Он тоже мотнул головой и сказал:
— Гррам!..
— Ты тоже Гррам? — спросил Яррий. — Да, конечно. Второй Гррам был потоньше загонщика, должно быть, моложе.
Он заинтересовался Ронтой больше, чем юношей, подошел к ней и коснулся пальцем ее плеча.
Но Яррий, не долго думая, повернулся к нему, оскалив зубы и зарычал: «Груарр!» почти так же выразительно, как Гррам-загонщик над трупом первого козла.
Второй Гррам понял и оставил Ронту в покое. Другие тоже подошли и обступили Анаков. Их было шестеро.
— Гррам! — говорили они.
Это было, должно быть, не только имя племени, но и взаимное приветствие.
Молодые Анаки с удивлением рассматривали это диковинное племя. Ронте все еще казалось, что это могут быть духи. Ибо ей было известно, что духи так же охотятся и убивают добычу, как люди. Но ведь духи умеют, кроме того, летать или нырять под землю. Они дышат пламенем, меняют свое тело по произволу на волчье, или птичье, или мушиное. Эти не делали никаких чудесных штук. Они поступали, как обычные люди или звери. Переступали с ноги на ногу, чесали себе спину. Они были слишком неуклюжи для хищных, проворных духов. Все они были страшно похожи один на другого, кроме того, что у загонщика был шрам, а второй товарищ его был тоньше телом.
Груди и плечи и все их сложение было похоже на людей, только ноги у них были короче, а руки, напротив, длиннее.
Большие пальцы на ступнях торчали врозь. У них были толстые губы и крепкие челюсти с могучими зубами. Все тело их, кроме лица, было покрыто бурою шерстью. На груди и спине шерсть была редкая, но живот и ноги до колен были мохнатые, как у козла.
— Какие они, — сказала Ронта с гримасой, обращаясь к Яррию.
Яррий в ответ улыбнулся.
— На кого они похожи? — сказал он, подыскивая сравнение. — На Илла, — докончил он и засмеялся.
Загонщик вопросительно поднял голову, потом тоже оскалился и одобрительно кивнул головой. Ронта и Яррий посмотрели друг на друга и расхохотались.
Действительно, у грузного Илла была такая же грудь и квадратные плечи, и даже массивные челюсти. Только ноги у него были длиннее и волосы реже и другого цвета.
Пришли еще двое Гррамов. Они тащили первого козла, убитого Яррием. Трое Гррамов взвалили на плечи по козлу и пошли, согнувшись. Двое убежали вперед. И Яррий снова увидел, что они падают на руки, согнув кулаки, и бегут на четвереньках быстрее, чем на двух ногах. Загонщик пошел сзади всех, приглашая знаками молодых людей следовать вместе. Идти пришлось довольно долго, но Гррамы шли мерно, таща без особого усилия свою ношу. Они перешли большое поле и вошли в лес. Яррий раздул ноздри и потянул в себя воздух. Из теплой сырости спящего леса на него пахнула острая струйка сухого, приятного запаха дыма. Они продолжали идти, как вдруг с высоких деревьев навстречу им скатились маленькие, черные, косматые зверьки.
— Ам! — кричали они. — Арм!..
Это были дети Гррамов. Они галдели громко и радостно. Подскочили к носильщикам и стали теребить козлов за ноги и за уши.
Передний Гррам протянул руку и погладил ближайшего по голове.
— Ап! — проворчал мальчик, словно челюстями щелкнул. В это время дети увидели чужеземцев.
— Яп, яп, яп! — забормотали они испуганно и прыснули обратно на деревья.
Жилище Гррамов помещалось, однако, не в лесу, а в пещере. Огонь горел в глубине, и снаружи его не было видно. Дым выходил в расселину в потолке пещеры. У стен пещеры были набросаны груды листьев и валялись старые кости, сухие, объеденные добела. В отличие от Анаков, мужчины и женщины обитали вместе. Племя было небольшое, человек тридцать вместе с ребятишками, которые не замедлили набиться в пещеру вслед за охотниками.
Женщины Гррамов были такие же черные, неуклюжие, но менее мохнатые, чем мужчины. Одна женщина подбросила дров в огонь. В пещере стало светло и немного дымно, ибо весь дым не успевал выходить сквозь расселину. Другие женщины снимали шкуры с козлов. У них были кремневые скребки, как у Анаков, но, в отличие от Анакских женщин, они больше работали руками и зубами.
Дети разделились на две группы. Одна следила за мясом, другая за чужестранцами. Эти юные любознательные Гррамы сидели на безопасном расстоянии у стены и старались не пропустить ни одного движения Анаков. Потом они стали смелее и принялись повторять движения и жесты гостей. И когда Яррий вынул нож и стал заскабливать изъян на древке копья, все они схватили по обломку палки и тоже стали скоблить ее первым попавшимся сучком.
Яррий с удивлением заметил, что дети хватают сучья не только руками, но также и ногами. И ноги у них были странные, с мягкой подошвой, без пятки. Они как будто имели две пары рук спереди и сзади.
Наконец мясо было разделено на части. Ребятишки оставили чужестранцев и подскочили к женщинам. Самый нетерпеливый, не дожидаясь, схватил кусок и хотел убежать, но женщина поймала его за ухо.
— Мам! — закричал он жалобно и тотчас же закусил похищенный кусок и стал грызть его, ворча и задыхаясь.
Женщина бросила в огонь кусок жиру.
— Ам! — сказала она. На языке Гррамов это означало, по-видимому, «ешь!»
Она даже челюстями задвигала, изображая процесс еды. Это была жертва огню.
Через минуту все Гррамы сидели с кусками козлиного мяса в руках и с остервенением грызли сырые волокна и крепкие хрящи.
Анаки вообще-то ели и сырое мясо, не только вареное. Но в эту минуту, повинуясь безотчетному чувству, Яррий взял свою часть, наткнул ее на палку и поставил жариться у огня. Один из маленьких Гррамов тотчас же оторвался от своего куска, поддел его на палку и стал жарить у огня, подражая Яррию.
— Сгорит, — сказал Яррий, видя, что мальчик придвинул мясо слишком близко к огню. Женщина взяла у мальчика кусок и стала поджаривать его на огне с большим вниманием. Другие дети тотчас же побросали свои куски и стали теребить женщин.
— Мам, мам! — кричали они наперерыв.
Скоро весь костер был заставлен импровизированными вертелами с жарким. В этот вечер Яррий, помимо желания, своим примером увлек все племя Гррамов на более высокую кулинарную ступень.
Загонщик Гррам ел медленно и с достоинством. Окончив свою долю, он посмотрел на Яррия, потом взял копье, прислоненное рядом к стене, и стал внимательно рассматривать кремневое лезвие, обвязки из сухожилий, потрогал пальцами грани кремня, даже на язык попробовал, потом одобрительно покачал головой и отставил копье в сторону.
Молодой Гррам сидел на почтительном расстоянии и, не отрываясь, смотрел на белое лицо Ронты, и в глазах его перебегали отсветы от дымно-багрового костра.
Третий охотник неожиданно схватил палку и бросил ее в противоположную стену навесно, как дротик. Он тоже подражал манере Яррия. Палка отскочила назад и ударила в плечо женщину. Она сердито заворчала, потом засмеялась, схватила ветку и бросила в голову охотнику. Они тотчас же схватились и стали возиться, а дети прыгали кругом и весело кричали: «Гррм, Гррм!»
Ронта смотрела на эту возню с удивлением. Анакские нравы не допускали ничего подобного. Но скоро все прекратилось. Гррамы стали укладываться на ночлег парами и гнездами: мужчина, женщина и маленькие дети вместе.
Одна из женщин подбросила дров в огонь и села настороже у груды сухих сучьев, приготовленных на ночь. Гррамы слишком ценили свой огонь, чтобы оставить его без наблюдения и пищи даже на время ночного сна. Женщины Гррамов не усыпляли углей под серой золою. Они хранили свой племенной очаг живым и бессонным с утра до вечера и с вечера до утра.
Усталая Ронта тоже свалилась на груду листьев и тотчас же заснула. Яррий улегся рядом, сжимая копье готовый вскочить на ноги при первой тревоге.
Глава 7
Праздник любви должен был совершиться в женском лагере в ближайший темный промежуток между двух лун. Женщины целый день ходили по окрестностям, искали место получше. Им нужна была ровная площадь для игрища и для хоровода. Они отыскали ее на большом лугу у опушки букового леса. Кругом росли высокие, буйные травы, еще не поблекшие, только чуть огрубевшие осенней жесткостью. Местами пестрели последние поздние цветы. Они были большие, синие. Они расцветали позже всех, и женщины любили их и выделяли из общей безымянности. Они называли их — «любовные чаши».
На это место женщины перенесли свои мешки и несложную утварь, зажгли новые костры и стали выравнивать площадку. Они мечтали теперь о мужчинах вслух, не стесняясь друг друга. Одни говорили о своих друзьях минувшего года, называли их по именам, восхваляли их силу и мужество, пели песни о них. Другие, склонные к перемене, перебирали всех, восхваляли то одного, то другого, влюблялись заочно по три раза в день и никак не могли остановиться на ком-либо одном.
Брак был свободен, но разные люди жили по-разному. Иные пары жили в единобрачии от юности о смерти, рождали детей, помогали друг другу, насколько это позволяли обычаи Анаков. Другие, напротив, проявляли крайнее легкомыслие, особенно женщины. Они из года в год меняли супруга и даже на игрище перебегали от одного к другому, хотя это не одобрялось и называлось крысиным обычаем. Анаки считали крысу нечистым животным и приписывали ей самые неблаговидные привычки и свойства.
Уже были столкновения. Аса-Без-Зуба и Пенна Левша назвали одно и то же имя Санга Птичьего Когтя и чуть не исцарапали друг друга собственными когтями. После ущерба луны женщины стали приготовлять отборное угощение для брачного пира. Целое лето они копили жир, сушеные языки, грибы, орехи, сладкие корни и ягоды. Они собирали крупных серых червей и стебли кипрея, которые были еще слаще ягод, и откладывали их до праздника. Теперь они стали приготовлять разные лакомые блюда, смешивали ягоды с почечным жиром и костный мозг с кислыми листьями степного щавеля. Они выделывали из этих смесей толкуши, пироги и колобки и сушили их на солнце или у огня.
Важнее всего было приготовление Хума, брачного вина. Это было дело трудное и кропотливое. Женщины разбрелись по всем окрестным лугам, отыскивая корень Хум, из которого приготовлялось вино. Он был небольшой, довольно мясистый, толщиной в палец. Цветок у него был маленький. В эту пору Хум давно отцвел, и его было трудно отыскать в траве. В женских мешках были запасы весеннего Хума, но корни эти были сухие и менее сильные, — их можно было употреблять только пополам со свежими.
Когда пять мешков были наполнены плотными белыми корешками, женщины приступили к работе. Они вынули из большого мешка с посудой две деревянные чаши, одну огромную, другую поменьше. Та, что побольше, назначалась для Хума, та, что поменьше — для воды.
Они уселись в кружок, сотворили благословение и стали жевать Хум. Каждая брала один корешок, превращала его в жвачку и сплевывала в чашу. Потом набирала глоток воды из водяной чаши, споласкивала рот и выливала поверх жвачки. К этой жидкой серой смеси они добавляли потом мед диких пчел, который собирали в прекрасных липовых лесах по берегам речки Сарны.
Время Хума было временем любовных заклинаний. Каждая сплевывала свою жвачку и при этом тихонько называла желанное имя и этим самым добавляла в Хум свое желание.
Новопосвященные девушки, которые теперь стали полноправными женщинами, сели, по обыкновению, рядом. Они быстро жевали коренья своими крепкими белыми зубами, но на лице их отражалась нерешительность.
Кого назвать? Они мало что знали о мужчинах и еще ни разу не видели брачного обряда. А, между тем, желание Хума должно было быть прямым и сильным. Оно не допускало колебаний и смешения имен.
Русоголовая Илеиль сплюнула одну жвачку, потом другую. Тогда ей стало страшно. Неужели она пропустит весь Хум без своего желания?
Она наклонилась направо, к уху своей соседки, Эллы-Певучей, и шепнула чуть слышно тот же мучительный вопрос:
— Кого назвать?
— Илла Огнебородого, — быстро ответила Элла. Она думала о рыжем великане и выговорила его имя почти машинально.
— Я назову Илла, — поспешно объяснила она во избежание недоразумений.
Хум, Хум, живое питье. Дай мне Илла!— Нет, Мара Красивого, — прибавила она также поспешно. — Нет, лучше Илла. — Я крыса, крыса, — закончила она почти с отчаянием.
Противоречивые заклинания можно было погасить, только выразив готовность подражать крысиному обычаю. После того можно было начинать сначала, но вторые заклинания были слабее первых.
Смятение Илеиль увеличилось, но она не хотела отказаться от своего намерения. Она нагнулась налево, к другой своей подруге, высокой Яррии, и шепнула тот же вопрос.
Яррия повернула лицо и сурово посмотрела на подругу, потом щеки ее зажглись темным румянцем. Она думала о том же самом.
— Его назови, — шепнула она коротко.
— Кого? — спросила Илеиль, замирая от стыда.
— Его, — повторила Яррия, — воина, мужа, Анака…
Шепот ее стал тише и мягче, но она не нашла более определенного имени и вдруг сказала сердито и почти вслух: — Отстань!
Другие женщины смотрели на них и смеялись. Они догадывались, о чем шепчутся девушки.
Илеиль пришла в отчаяние, и глаза ее затуманились, и вместо заклинания в чашу с Хумом упала слеза.
Первую наполненную чашу вылили в большой мех, тонкий, выскобленный и сухой, и снова взялись за работу. В эту ночь женщины назвали перед сном имена своих избранников и, ложась, простирали руки к северу, откуда мужчины должны были придти. Они хотели увидеть их во сне.
Три дня жевали женщины Хум и наполнили мех. Потом они положили его у огня и покрыли шкурами. Под этим темным и теплым покровом сонный Хум бродил, бурлил и отцеживался, готовясь к празднику.
После этого женщины стали готовить солнечное колесо и брачное огниво. Солнечное колесо было свито ими из сухой травы. Оно было большое, круглое, со спицами, которые выходили наружу за жгут обода и представляли лучи солнца. Брачное огниво было установлено на столбе из липового дерева. Его выбрали из стоялого сухого леса и укрепили на поляне, поближе к правой стороне. В верхушке этого столба, на вышине человеческого роста выжгли огнем глубокую круглую дыру. И в эту дыру крепко забили чурбан из красной сосны, сухой и звонкой, как железо. В голове чурбана проходили две длинные жерди, крест-накрест, по выжженным ходам. Эти жерди должны были служить ручками огнива. При помощи их чурбан ходил в своем гнезде туго и со скрипом. Солнечное колесо было укреплено на палке, вставленной в центр чурбана. Оно было прилажено вертикально, на горизонтальной оси.
С этого дня совершилось разделение лагеря на брачных и небрачных, ибо небрачные не имели права не только участвовать, но даже присутствовать при обряде. Небрачными были подростки и дети, а также беременные женщины. Они считались нечистыми и не допускались к обряду. Старухи могли, по желанию, быть вместе с брачными или небрачными.
Небрачная часть лагеря накануне обряда уходила из лагеря и жила отдельно. Они могли вернуться только с новым ущербом луны. Небрачным и непосвященным присутствовать при брачном обряде было опасно. Брачные мужчины и особенно женщины были свирепы к чужим и могли растерзать постороннего на месте.
Мужская любовь начиналась иначе, чем женская. Молодые люди уже после полнолуния стали смотреть друг на друга косо. Они тоже пели песни и восхваляли подруг, но еще чаще в песнях своих они осмеивали друг друга. Завязывались ссоры и брачные поединки. Молодые люди внезапно бросали оружие в сторону и убегали в лес. Там они сражались наедине руками и зубами. Ибо, по закону Анаков, древнему и мудрому, брачные поединки происходили без копий и даже без палок. Впрочем, эти поединки были все-таки ожесточенными. Соперники возвращались из лесу в шрамах и ранах, с надорванными ушами и вывихнутыми руками. Но на эти раны никто не обращал внимания. К тому же они заживали с необыкновенной быстротой, как будто жажда любви была целительным эликсиром.
Ожесточеннее всех сражались Map и Несс, друзья-соперники. Уже третий праздник они сражались с каким-то слепым ожесточением. И замечательно, что в обычное время они относились друг к другу весьма дружелюбно, и на летних птичьих охотах их челноки постоянно плавали рядом. Но к полнолунию, перед праздником, оба сходили с ума. Ссору начинал Map, но Несс был сильнее. И на голове Мара была белая плешинка, след прошлогоднего ушиба. Другие юноши сражались за разных женщин, за молодых и даже старых. Map и Несс сражались только за Охотницу Дину. Оба они преследовали ее уже два праздника и оба были рады, что она никому не досталась.
В средний день междулунного промежутка женщины встали с рассветом. Они достали из мешка свои костяные гребни и ушли к ручью; рассыпались порознь и стали разливать и заплетать свои лохматые косы. Это нужно было производить наедине, ибо чесаться на чужих глазах считалось неприличным.
Они вплели в свои косы мелкие раковины и надели на шею ожерелья из косточек вишни, из рыбьих позвонков и маленьких твердых жуков, блестящих и черно-синих. Они натерли свои груди жиром и намазали губы ярким соком жучка-листоеда и провели черным камнем две черты от углов глаз направо и налево.
Приведя себя в порядок, они стали ждать. Суетливая Элла то и дело убегала на разведку, сперва прямо по лугу, потом направо в лес. В третий раз она воротилась с криком: «Мужчины!» Было это около полудня.
Мужчины были в полном воинском уборе, который одновременно был брачным убором. Волосы у них были тоже расчесаны и скручены вместе на темени и связаны туго в трубку. Поверх трубки они вставали султаном. Они были украшены орлиными перьями и пучками козьей шерсти, окрашенной в алый цвет.
Грудь мужчин была разрисована черными знаками боя, но живот и бедра имели красные знаки приязни. Они надели на шею крупные бусы из разноцветных камешков неправильной формы.
Просверливать такие камни было искусством трудным и медленным. Но каменное ожерелье считалось лучшим украшением брачного мужского наряда.
Мужчины были с копьями и палицами и на плече несли звериные шкуры. Эти шкуры предназначались для брачного подарка женщинам. Каждый мужчина подстилал свою шкуру под ноги избраннице. Потом она уносила ее с собою и делала из нее себе плащ. Шкуры были самые отборные — волчьи, рысьи, медвежьи. Приносить оленьи или козлиные шкуры считалось постыдным. Не один охотник носил на своей груди глубокие следы когтей того зверя, шкуру которого он завоевал для брачного подарка. Илл Красный Бык с гордым видом принес на плече пеструю шкуру огромного барса. Илл задушил его руками в страшном единоборстве, без всякого оружия. Это, конечно, больше всего подобало для брачного дара, и дар Илла был вдвойне ценен и желанен для каждой женщины.
Женская группа теснилась на площадке. Мужчины с важным видом обошли кругом, шагая, как журавли, потом развернулись в линию, подняли копья и с воинским кличем опустили их на землю:
— Игой!..
— Игой! — подхватили женщины своими тонкими голосами. Это был первый брачный хор.
Мужчины тотчас же отошли в сторону и сложили свое оружие, мешки и перевязи. Они покрыли это оружие зелеными ветвями, чтобы оно не видело их брачной пляски.
Два полухора развернулись и встали друг против друга по сторонам площадки.
Красные ягоды созрели, —запел женский полухор.
Женские груди налились, —ответил мужской полухор.
Красные ягоды соберем, —пел женский полухор.
Женские груди сожмем, —ответил мужской полухор с новым увлечением.
— Солнце, жги! — подхватили оба хора вместе. Началась брачная пляска, стена против стены. Стена мужчин наступала стремительно, как будто в атаку шла, подходила так близко, что их горячее дыхание обдавало женщин, потом отступала обратно. Женщины плясали на месте, чуть перебирая ногами, и с вызывающей улыбкой посматривали на мужчин.
Первым вышел вперед для брачного бега Альф Быстроногий. Первый начинающий должен был отличаться особенным проворством.
Женщины тоже выставляли самую быструю, и делом мужской чести было догнать и схватить ее как можно быстрее.
Альф сбросил пушистую шкуру на землю и запел, вызывая себе брачную пару:
Я — буйный козел. Рога мои — копья…Он поднял вверх оба указательные пальца, изображая ими рога:
Я — буйный козел, Пара, приди! Не придем, не придем, —пели женщины.
Дайте невесту, —запел мужской полухор.
Не дадим, не дадим. —пели женщины.
Возьмем, возьмем, —пели мужчины.
Пенну дадим, Пенну, Пенну!..Это была явная насмешка, ибо Пенна Левша была женщина в летах и не могла составить пары для буйного Альфа.
— Не возьмем, не возьмем, — возражали мужчины.
— Асу дадим, Асу, Асу, — лукаво пели женщины. Аса и Пенна были соперницы и стоили друг друга.
— Не возьмем, не возьмем, не возьмем…
— Эллу дадим, Эллу, Эллу…
И вдруг торопливая Элла выскочила вперед и быстро пробежала мимо Альфа, проворная, как белка.
Альф бросился за ней, протянул руки и чуть не схватил ее, но Элла увернулась и скользнула в сторону. Они обежали площадку по внешнему кругу, и когда Альф снова готов был схватить Эллу, она уже добежала до женской половины.
Женский полухор разбился и построился двумя рядами в виде узкого коридора. В руках у женщин очутились ремни и прутья, до того невидимые.
Элла прыгнула в этот коридор, как мышь в нору. Альф ринулся за ней, как хорек за мышью.
— Не дадим, не дадим, — пели женщины.
Ремни и прутья в такт пению опускались на обнаженную спину Альфа и оставляли на ней красные следы, но он не обращал внимания на удары. Его глаза были прикованы к белому телу, маленькому и округлому, плотному и проворному, мелькавшему впереди. Он проскочил сквозь женский строй и кинулся за беглянкой.
Второй раз пробежала Элла по кругу и опять увернулась от Альфа и скользнула в коридор. Альфу пришлось пройти сквозь строй вторично.
Его спина вздулась от ярких рубцов. Рисунки на груди стерлись от жаркого пота. С левого плеча, от какого-то удара, особенно жестокого, брызнула кровь. Но он проскочил сквозь женский строй, как змея сквозь сухие листья, и в три пряжка снова догнал Эллу. Она увернулась, но неудачно, и чуть не упала. Он подхватил ее налету. Поднял вверх и стиснул изо всей мочи. Элла взвизгнула от боли. Объятия Анакских охотников были опасны даже для барсов. Но женщина, пойманная в кругу, была добычей, и с ней следовало поступать так же, как и с подлинным зверем.
— Взял! — крикнули мужчины.
Альф выпустил Эллу и поставил ее на брачную шкуру. Она посмотрела на него лукавыми глазами.
Женщины смеялись. В сущности трудно было судить, кто быстрее: Альф или Элла. Это была известная женская уловка: на третьем перебеге уступать желанному, а от нежеланного уходить всеми правдами и неправдами. На перебеге составлялись брачные пары, но редко это случалось против выбора и желания женщин.
Красные ягоды созрели, —запели снова женщины.
Из мужских рядов одновременно выдвинулись вперед двое. Map и Несс. Они остановились в нерешительности, только обменялись горящим, ненавидящим взглядом.
Кого дадим, кого дадим, —пели женщины лукаво.
Многие смеялись. История Дины и двух влюбленных была хорошо известна всем. Общественное мнение женского лагеря порицало Дину, но только не в эту минуту. Это была минута женского счастья, высшего торжества, свободного выбора и господства над мужчинами.
Map передернул плечами и решительно двинулся вперед. Несс даже зубами заскрежетал от злости, но посмотрел по сторонам, на лица товарищей, и покорился. Все знали, что Map быстрее и проворнее. Ему надлежало на этой площадке выступить первому.
Я — буйный бык, —запел Map, —
Рога мои — копья.— Дину дадим, Дину, Дину, — пели женщины.
Дина вышла вперед и стала перед Маром. Лицо ее было спокойно, коварно, загадочно. Но все мускулы ее тела трепетали. И непроницаемые серые глаза чутко подстерегали каждое движение противника.
В рядах мужчин раздался шепот и замер. Дина была одета с нарушением всех традиций и даже приличий. Волосы ее не были заплетены в косы. Они были собраны на темени в трубку и кончались султаном по-мужски. Но только ни у одного мужчины не было такого пышного, мягкого, ровно расчесанного султана. Он реял над ее головою, как знамя. Волосы Дины были украшены орлиными перьями. Ей пригодился орел, которого она убила налету в голодный вешний день.
На плечах ее был плащ из шкуры матерого волка, светло-серого, почти белого. Его огромные зубы скалились за ее ухом, уши торчали, как будто у живого. Такой плащ с головой и зубами носили только мужчины. В каждой складке этого плаща и в каждой пряди темных волос и во взгляде серых глаз сверкал вызов мужчинам, неукротимый и задорный.
Map простоял несколько секунд, собираясь с силами. Дина была перед ним, но он знал по опыту, что Мужененавистницу на брачном празднике труднее схватить, чем поймать ужа голыми руками за хвост.
Оба они стояли и следили друг за другом, как волк и куница на травле в старинной сказке Анаков. Наконец, Map сделал движение, и оба сорвались с места и помчались, как ветер.
Дина бежала мелкими, ровными шагами, но так быстро и плавно, как будто она летела, не касаясь земли. Map мчался ей вслед большими прыжками. Но когда он прибавлял ходу, Дина тоже ускоряла свой плавный бег, и расстояние между ними не изменялось. Со стороны казалось, будто она ведет его за собой на невидимой веревке. Они пробежали по кругу, обогнули мужчин и вернулись назад. И, перебегая вторично через брачную площадку, Дина попутно толкнула ногою брачную шкуру Мара, пышный мех черной речной выдры, которую он изловил руками на льду над самой прорубью, благодаря своей ловкости и быстроте. Шкура подскочила вверх и свернулась в комок.
— Го! — крикнули женщины, увлеченные этой новой дерзостью. Несс посмотрел на подбегавшего соперника угрюмым взглядом.
— Это тебе не выдра, — сказал он громко. — Эта проворнее будет.
Дина вскочила на женскую улицу и промчалась наружу. На спину несчастного Мара посыпались палки и плети. Женщины били, не жалея. Он стиснул зубы и вырвался наружу. Три раза обежали они по кругу. Каждый раз пинала Дина брачный дар влюбленного, и снова бичевали его женщины, и когда в третий раз он выскочил из этого живого ущелья, он шатался от боли и от усталости.
— Не взял, не взял, — пели женщины, ликуя.
Мужчины хмурились, но молчали. Это было неоспоримое женское право отвергнуть непроворного.
— Дину дадим, Дину дадим, — запели женщины снова. Они знали, что вслед за Маром на то же состязание выйдет Несс.
И снова встали на брачной площадке Дина и Несс друг против друга. Сильный Несс знал, что не сможет догнать легконогую Дину. И, несмотря на свою силу, он посмотрел на свою избранницу просящими, жалобными глазами. Она ответила тем же коварным и чутким, непроницаемым взглядом. Никогда она не была так красива, как в этот миг. Лицо ее разгорелось от бега и ликования. Пышный темный султан веял над головой. Вся она была, как степная богиня Амида, которая тешится на перебеге с пугливой антилопой и легкой птицелошадью и первая прибегает к меже.
И вот, они сорвались и побежали. Несс бежал тише Мара, и медленнее уходила от него Охотница Дина. На обратном перебеге через брачную площадку она дала ему приблизиться. Руки его уже простирались над ее плечами. Но в эту минуту она прыгнула вперед и нырнула в женское ущелье, как ныряют в воду. На широкую спину Несса посыпались те же удары, какие прежде достались проворному Мару.
Еще два раза они пробежали по брачному кругу.
— Не взял, не взял, — пели женщины.
Мужчины хмурились. Они были разбиты два раза подряд.
— Кого дадим, кого дадим, — пели женщины.
Вперед вышел грузный Илл, первый воин племени. Он сдернул с плеча широкую барсовую шкуру, взмахнул ею над головой и бросил вниз. Она распрямилась в воздухе и с мягким шорохом легла на землю.
Илл откинул назад голову и запел:
Я — буйный мамонт. Клыки мои — копья.— Литту дадим, Литту дадим, — пели женщины. Златовласая Литта не выходила сама, и они вытолкнули ее почти насильно. Она стояла на площадке и смотрела на Илла широкими, слегка испуганными глазами. Илл был высок и грузен. Его рыжие волосы были коротки, он подрезал их осколками кремня. Борода у него была широкая, огненного цвета. И его красное лицо в этой огненной рамке было, как солнце, окруженное лучами.
Илл тоже смотрел на Литту. Она была без плаща. И волос не заплела по обычаю. Они спускались, как всегда, на ее белые плечи длинными, прямыми, светлыми прядями, и ее синие глаза выглядывали из-за их покрова, как синие «чаши любви» смотрят из-за густой, уже пожелтевшей травы.
Возьмем, возьмем, возьмем,— пели мужчины, но Литта не шевелилась. Илл слегка усмехнулся и сделал шаг вперед. Но в эту минуту неукротимая Элла выскочила не в очередь и скользнула, как горностай, в довольно узкий промежуток между Иллом и Литтой.
— Куда? — ахнули женщины.
Глаза Литты блеснули. Она тряхнула головой, и волосы ее отхлынули назад. Она как будто вышла наружу, нагая и белая, как русалка из камыша.
— Я — крыса, крыса, крыса, — дерзко стрекотала Элла. Она сделала круг и подбежала к Иллу с нескрываемым вызовом.
Илл вдруг сорвался с места, в два прыжка догнал Эллу и положил на нее свою огромную руку. Так желтый лев прикрыл бы лапой мышь, пробежавшую мимо.
Одною рукою он схватил Эллу и вернулся на площадку. Другою рукою он взял Литту за белое плечо и заставил ее ступить вперед. На барсовой шкуре было довольно места. Он поставил их рядом, — отступил назад и поглядел на обеих с той же спокойной усмешкой. Обе они были разные, но очень красивые, каждая по-своему. Литта была, как зеленое дерево; Элла была, как круглая, юркая мышь.
— Взял, взял, — кричали мужчины с радостным смехом.
Красный Илл возместил двойное поражение двойной победой.
Еще четыре четы пробежали по брачному кругу. Время шло вперед. Солнце уже было низко на небе. На этот первый день было довольно ретивой игры.
Ряды смешались. Мужчины и женщины подошли к мешкам, лежавшим в стороне. Здесь были разложены лакомые пироги. Впрочем, пока об еде никто не думал. Это было угощение послебрачное. Но Хума, крепкого вина, нужно было выпить по чаше.
Женщины открыли заветный мех с вином. Темный Хум глухо бурлил и постукивал в стенки. Он требовал выпустить его наружу для участия в празднике.
Мужчины и женщины запели песню Хума:
Мы пили Хум, Хум, Живое питье, Дай нам любовь!Чашей была большая, блестящая, пестрая раковина. В земле Анаков не было цветных раковин. Они приходили из дальних стран, и Анаки выменивали их у племени Селонов на красильную землю и шкурки оленьих телят, еще не рожденных, выпоротых у матки из брюха. Эта чаша, впрочем, не была куплена на памяти людей. Она переходила по наследству от поколения к поколению. Она звалась «чаша любви» так же, как синие чаши поздних осенних цветов.
Из своих рук женщины поили Анаков, потом выпили сами. Густое медвяное питье проникло в пустые желудки и ударило в голову. Жадными глазами мужчины и женщины смотрели друг на друга. Крепкий Хум проснулся в их глазах и засверкал буйным и ярым весельем.
Мужчины и женщины кончали свое пирование быстро и беспорядочно, с одного взгляда, без слов, соединяя свои руки в знак согласия. Зрелые мужчины сходились с юными девушками и юноши со старухами. Хум всех равнял и всех красил.
Новые ссоры завязывались и тотчас же гасли. Вечер был близко. Волны Хума и волны любви мчали их неудержимо вперед, к брачному таинству.
Красный Илл стоял неподвижно на месте, как столб. Сила Хума была не властна над его головой, крепкой, как дубовая чаша. Только глаза его вспыхнули рыжим огнем. И руки сжались и сами простерлись вперед. Элла игриво обежала кругом него, как будто опять повторяя брачные круги. Так лисица делает петли по снегу, подбираясь к куропатке. Илл посмотрел на Эллу, потом отвернулся. Литта стояла перед ним, тоже высокая, стройная, неподвижная, как он сам.
Ярый Хум зажег красный румянец на ее щеках. Или, быть может, это было заходящее солнце? Она была теперь, как белая сопка, покрытая зимним снегом и обожженная зарею.
Он стал подходить медленно, шаг за шагом. Литта смотрела ему в глаза, потом зажмурилась, как будто от блеска.
— Солнце, Красный Бык, — сказала она.
Элла сделала еще один круг и, как ни в чем не бывало, подбежала к Альфу, своему первому избраннику.
— Крыса, прочь! — крикнул Альф бешено. Но Элла схватила его руками за шею.
— Я кошка, не крыса, — шептала она. — Я задушу тебя. Они стали бороться грудь в грудь, и крошечная Элла оказалась равной силы с высоким и стройным Альфом, ибо любовь в эти дни всех равняла и всех соединяла. Они упали на землю, но продолжали бороться и на земле, перекатываясь друг через друга и извиваясь, как змеи. Элла укусила Альфа в грудь и запустила свои острые когти в его крепкую, загорелую шею. Он схватил ее за волосы и пригнул ее голову к земле. Наконец они поднялись, успокоенные, и взялись за руки. Они были теперь четою, готовою к браку.
Map и Несс подскочили к Охотнице Дине слева и справа и схватили ее за руки. Они потянули ее в разные стороны, как будто хотели разорвать пополам. Но Дина тряхнула плечами и выдернула руки. Потом с удивлением посмотрела на того и на другого. Насилие над женщиной не допускалось на брачном празднике Анаков даже в самые пьяные и буйные минуты.
Соперники ответили ей взглядом бешеной ненависти.
— Плащ, — шипели они, — от кого плащ?
— А, плащ, — засмеялась Дина. — От мужа моего брачный дар…
— Какой муж? — взвизгнул Map. — Где он?
— Муж мой покойный, — сказала Дина громко и весело. — Вот его голова. Он головой заплатил вместо брачного дара. Мой серый волк… А вы заплатите?..
— Заплатим, — крикнули оба и оторвали глаза от соблазнительницы и скрестили их, как копья.
— Который из вас?
— О-о!..
Соперники взвыли от злости волчьим голосом, как будто хотели уподобиться тому покойному мужу Охотницы Дины, шкуру с которого она сняла собственными белыми руками.
Руки Мара и Несса соединились. Еще минута, и они бы стиснули друг друга объятием бешенства. Но на брачной площадке были запрещены всякие иные объятия, кроме любовных. С яростным криком и визгом они оставили Дину и бросились в лес. Они бежали, как братья, держась за руку, но бежали они под сень темного леса для нового брачного боя.
Дина посмотрела им вслед и тихо засмеялась. И почти тотчас же обернулась назад на новый призыв.
Перед нею стоял Рул. Он был высокий и тонкий. И, стоя на месте, он качался, как тростинка. Лицо его было бело, и в широко открытых глазах черным пламенем горел тяжелый Хум.
— Ты, — сказал он отрывисто, как будто выдохнул сквозь сжатые зубы.
— Что тебе, мальчик? — сказала Дина с удивлением, но кротко.
— Ты приходила ко мне, — сказал Рул также отрывисто.
— Когда приходила?
— Ты… Она…
— Кто она? — спросила Дина снова с растущим удивлением.
У ней четыре ноги и два тела, —запел неожиданно Рул: —
Одно тело женское, другое мужское. Велит, творит: «Возьми себе женское, Оставь мне мужское».— Это Хум говорит, — сказала Дина в виде объяснения. — Слабая твоя голова.
Рул быстро снял с плеча шкуру барсука, скромный брачный дар слабого юноши, и бросил ее на землю под ноги Дине. Потом, к ее новому удивлению, он сам упал перед нею на землю и простерся на шкуре у ее ног.
— Выбери меня, — сказал он изнемогающим голосом.
— Зачем? — сказала Дина, делая вид, что она не понимает.
— Топчи меня ногами, — шептал Рул. — Брачный дар — шкура моего тела.
По лицу Дины пробежала как будто молния, и глаза ее вспыхнули. Потом они погасли, но вместо обычной холодной твердости в них засветилась жалость. Она посмотрела на Рула такими глазами, какими смотрела на малых детей в голодное утро на берегу реки Даданы. Рул лежал ничком перед ее ногами.
— Мальчик, встань, — сказала Дина кротко.
Он поднял голову и посмотрел на нее, и в глазах его сверкнуло пламя неукротимого голода. Этот голод был страшнее весеннего голода детей.
— Встань, Рул!..
Он обнял ее нагие колени и стиснул их изо всех сил, как будто хотел уронить Дину на землю. Потом руки его ослабели и разжались. В углах его рта выступила пена. Он был без чувств.
На лице Дины выразилась жалость. Она нагнулась над ним и подняла его своими сильными руками. Она села на землю, разостлала барсучью шкуру и положила голову Рула к себе на колени, и поглаживала его по щекам, и баюкала его бесчувственное тело, как баюкают ребенка.
— Рул, мальчик, — шептала она.
У нее было к нему странное, смешанное чувство. Как будто это был не жалкий влюбленный, а сын от ее плоти. Любовь его роднила его с ее плотью и будила в ее непокорном сердце страсть материнства, жаркую, странную, почти плотскую. Ей захотелось его больную голову, пьяную от страшного Хума, приложить к своей груди, как прикладывают младенца; вместо вина любви напоить его молоком материнства. Но грудь ее была девственна и не имела молока, и не могла узнать мягких уст сосущего младенца…
Спанда и Исса тоже стояли рядом и смотрели друг на друга. Оба были старые, седые. Длинная борода колдуна была даже седая с зеленью. Впрочем, он был высокий, могучий. Был он похож на старый дуб, сверху поросший древесным зеленоватым мхом. Исса была маленькая, сухая, кожа и кости, несмотря на обильное питание лета. Но глазки у нее были живые. Темный Хум зажег в них хмельное веселье, и они бегали кругом, как будто плясали брачную пляску на утоптанной площадке.
Старая колдунья выпрямила свой сгорбленный стан и с вызывающим видом помахивала посохом.
Спанда посмотрел на нее сверху и погладил рукою зеленую бороду.
— Ну, что ты умеешь? — сказал он, подмигивая. Лицо его, впрочем, сохраняло прежнюю важность.
— Хи! — усмехнулась Исса. — На две стороны умею: убивать, оживлять, дарить, отнимать, чары строить.
— Ну-ка, ну-ка, — поощрял ее Спанда, — какие, скажи!
— Хи! — усмехнулась Исса. — Любовные, всякие.
— Ну, покажи, — подбодрял ее Спанда.
— Сейчас!
Она обежала вокруг Спанды три раза вприскочку. Странно было видеть такие легкие движения в этом сухом старческом теле. Она прыгала вокруг старого колдуна, как молодая девочка. Потом она встала против Спанды, закинула голову назад и впилась в его глаза своими вороватыми зелеными глазками.
— Красным червем заползу в твое чрево, свяжу паутиной, изъем твой покой. Крепкий запах мой войдет в твои ноздри. Будешь тянуться к моим грудям, как голодный сосун.
Спанда с серьезным видом разгладил свои усы.
— Сильные чары!
— Ага! — сказала Исса. — Все на свете бывает на две стороны, как бревно на перевесе. Один конец опустится, другой поднимется. Где твоя сторона?
— Вот моя сторона, — сказал Спанда. Он обернулся лицом к заходящему солнцу. Его большие серые глаза смотрели на солнце, не мигая и не закрываясь. Нос у него был большой, загнутый книзу, и весь он был, как старый орел, грузный и белоголовый.
— Солнце, жги! — повторял он знакомый припев.
В его старых глазах блеснула желтая искра. Даже борода его приняла красноватый оттенок, и весь он стал похож на Красного Илла.
И как будто заражаясь сознанием этого странного сходства, Исса бросилась в сторону и побежала по тропинке.
— Хватай меня! — крикнула она на бегу.
Она проворно катилась вперед, и движения ее были, как движения Эллы Певучей на брачном перебеге. Старый Спанда смотрел ей вслед и не двигался с места…
Два брата Сема и две сестры, Винда и Рея-Волчица, плясали на месте, схватившись за руки. Сестры принесли своих младенцев и положили их на траву. Младенцы лежали смирно и не плакали. Быть может, они сознавали, что в эту минуту никто не обратит внимания на их плач.
Юн положил Юне на плечи свои тяжелые руки.
— Где мой Мышонок? — спросил он низким тоном. Его глаза не отрывались от ее глаз, и руки его слегка раскачивали плотное тело жены.
— Там, — показала она головой. — Что ты так смотришь? — тотчас же прибавила она. — Он был во мне. Теперь вышел наружу.
Она была заботливая мать. Но в эту минуту она думала не о ребенке. Он был слишком велик, и она отдала его Лото и забыла о нем на брачное время… Ее голова горела и кружилась. Грудь бессознательно тянулась вперед. Ей казалось, что тело ее стало легче и мягче и тает под праздничным солнцем, как жир у огня.
— Ого! — сказал Юн. — Мой Мышонок! Вырос, должно быть…
Юна покорно вздохнула и подчинилась настроению мужа.
— Да, вырос, — сказала она. — На тебя похож.
Юн неожиданно стиснул жену крепким объятием и поднял вверх. Он приблизил свои губы к ее уху, но вместо любовного слова шепнул ей на ухо то же заветное имя:
— Мой Мышонок…
Юна закинула мужу руки на шею и попыталась угнездиться на его широкой груди.
— Поноси меня, — шепнула она, — как носишь ребеночка. Голос ее звучал детскою просьбой. Юн поднял это тяжелое, плотное тело и понес к брачному огниву. И ему казалось, что он сжимает общим объятием мать и ребенка…
Элла Большая была с высоким Лиасом, Пенна Левша схватила за руку Санга и увлекла с собою, бросив попутно Асе-Без-Зуба победоносный взгляд.
Аса не обратила на нее внимания. Она стояла на месте и мутными глазами смотрела в сторону. Потом отошла, покачиваясь, и тихо побрела вправо по направлению к лесу. Никто ее не останавливал и даже не посмотрел на нее. Пенна с Сангом исчезли. Аса шла, спотыкаясь. В ее голову вошел Хум, самый черный, густой, как дождь. Он вел ее в дубраву, и она не могла противиться.
Потом Аса вошла в лес и повернула налево. Ее движения изменились, шаги стали тверже, и глаза сверкнули лукавством. Хум ли вел Асу в дубраву, или Аса вела Хума, но они поладили друг с другом и продвигались по дороге торопливо, даже вприпрыжку.
Аса говорила своему Хуму:
— Я всех веселее, ищу того, кто всех веселее…
И ее красные глазки шныряли по сторонам и искали в листве.
Среди высоких буков никого не было. Аса забралась в орешник, густой, почти непроходимый. И здесь, в круглой ложбине, которая была похожа на хороший зеленый шалаш, она увидела Дило Горбуна. Он стоял на четвереньках по своему обычаю. Она тоже встала на четвереньки и посмотрела на него.
— Видел? — спросила Аса.
— А как же, — ответил хладнокровно Дило. — Я тут, как тут.
Оба засмеялись.
— И меня видел? — спросила Аса с кокетливым видом. Вместо ответа Дило сделал движение плечами, и в этом легком движении отразилось все сладострастие и натиск и томность брачного танца. Аса с лукавым видом погрозила ему пальцем.
— Ты непосвященный, — сказала она.
— Пустое, — сказал Горбун весело. — Волки живут без посвящения, а прыгают высоко.
— А ты видел? — заинтересовалась Аса.
— Видел, — кивнул головою Дило. — Волка и волчицу. Глаза Асы сверкнули странным огнем.
— Как они любят? — спросила она.
Дило засмеялся. Аса сделала шаг вперед и остановилась.
— Я принесла тебе Хум, — сказала она.
— Где? — спросил торопливо Горбун. — Давай.
— Вот здесь.
Она показала пальцем на грудь. Серая пола ее мехового плаща была мокрая. Аса вылила сюда лишнюю чашу вина и принесла ее Горбуну в виде брачного дара.
Дило быстро подполз к соблазнительнице и жадно стал всасывать хмельное питье из мокрого меха.
Она схватила его голову и прижала к груди.
— Как любят волки? — шепнула она ему на ухо.
Солнце спустилось еще ниже. Нужно было исполнить вторую часть брачного обряда. Анаки подошли к колесу и стали у перекладин песта четырьмя рядами. Два ряда было мужских и два ряда женских. То были четыре луча брачного колеса. Они положили руки на деревянные жерди и уже напирали на них грудью и топали ногами о землю, сгорая от нетерпения.
— Солнце, солнце, солнце, — запели они вместе, — дай огня!
Они двинулись вперед, вращая спицы колеса. Мужчины шли за женщинами и женщины за мужчинами, и вечно вращались и не могли догнать друг друга. Пест медленно и туго ходил в гнезде, обтирая тесные стенки.
— Солнце, жги! — пели Анаки.
И огниво скрипело и тоже пело вместе с ними: «Жжи!..»
— Солнце, солнце, солнце, дай любовь, — пели Анаки. Они двигались все быстрее, и колесо скрипело громче и пронзительнее.
— Солнце, жги! — уже не пели, а ревели Анаки. А солнце спускалось на землю, большое и красное. Оно было теперь, как огромный костер, круглый и алый, и Анаки были алы, и им казалось, что они пылают в пламени этого костра.
— Жги! — ревели Анаки. Они бежали теперь, что было мочи, и как будто гнались, мужчины за женщинами и женщины за мужчинами, вечно гнались и не могли догнать друг друга. Лучи колеса вертелись со свистом. Им казалось, что эти лучи несутся сами собой, увлекают их вместе. Ноги их как будто не успевали ступать по земле. Иногда они поднимались и волочились сзади, и переступали в воздухе. Бешеное колесо увлекало Анаков вперед, как горсть перьев, приклеенных рыбьим клеем к его свистящим лучам.
Солнце спустилось до самой земли и слегка затмилось тонкими вечерними парами.
«Жж!..» — скрипело колесо. Густой клуб дыма хлынул из-под песта и ударил фонтаном вверх.
— Жги! — ревели Анаки в неистовстве. Лучи колеса вертелись с несказанной быстротой. Небо и земля, и солнце, и поля кружились в глазах. Анаки перестали разбирать, где они и где солнце, где мужчины и где женщины.
«Жж!..» — гудело колесо. Первый язык пламени ударил из-под песта, потом другой, третий. Колесо мчалось все в огне, Анаки мчались вслед за ним. Таинство брака совершилось в дереве. Большое соломенное солнце поравнялось с круглым огненным шаром, спустившимся там, далеко, на край горизонта. И все заволоклось дымом и вспыхнуло пламенем. В ослепленных глазах Анаков оба солнца слились и перемешались, и они не знали, которое пылает в тучах, которое в дыму. Соломенное солнце исчезло. Красное солнце стало спускаться за край горизонта. Оно как будто входило внутрь, врубалось в земную твердь своим пламенным, красным и круглым топором. Таинство брака совершилось в природе. Красное солнце слилось с землей.
Глава 8
Три ночи Яррий и Ронта ночевали у Гррамов. Черные люди дружески относились к молодому Анаку. Они заставили его выдрать по клочку шерсти из каждой квадратной головы. Яррий еще раз ходил с ними на диких козлов, уже не ночью, а днем. Но козлы оказались слишком осторожны, и охотники не смогли подобраться к ним так близко, как надо. Зато на обратном пути он очень удивил Гррамов своим барканом. Это было орудие для охоты на птиц. Оно состояло из шести костяных шариков, привязанных на ремешках. Ремешки были с другого конца связаны вместе в пучок.
Яррий пустил это орудие в стаю уток, пролетевших над его головой. Баркан развернулся налету, и шарики встали порознь на тонких ременных лучах. Как будто огромная лапа растопырилась в воздухе и летела на птиц. Утки испугались и потеряли голову. Баркан налетел сбоку. Одна из уток шарахнулась влево, потом вправо, задела крылом баркан. Тотчас же костяные пули обрушились на ее тело, и ременные лучи захлестнулись. Она грянулась на землю и по дороге неизвестно как задела еще другую и увлекла с собой.
Гррамы смотрели с удивлением и страхом на этот род охоты, новый и непонятный. Они даже боялись подходить к убитым птицам, и когда Яррий размотал баркан и поднес младшему охотнику, тот с криком отскочил в сторону, как будто от змеи. Загонщик оказался храбрее. Он осторожно взял баркан пальцами за кончик ременного пучка, поднял вверх и стал рассматривать на расстоянии, как опасную гадину. Баркан не шевелился. Тогда загонщик понемногу осмелел и стал перебирать пальцами ременные лучи. Он попробовал даже бросить баркан вверх, но ремешки спутались и не развернулись колесом. Баркан упал вниз почти на его голову. Он сморщил лоб от гнева или от размышления. Потом подобрал несколько маленьких круглых камешков, зажал их в горсть и попробовал метнуть в другую стаю уток, пролетавшую вверху. Камни полетели в разные стороны и упали вниз. И на этот раз один из камней больно задел другого охотника, очень толстого и черного. Они чуть не подрались из-за этого.
Мальчишки оказались переимчивее взрослых. Они сделали себе палки по образцу дротика, заострили их на огне и целый день упражнялись в навесном метании, по примеру Яррия. У них был очень верный глаз. И почти сразу они стали попадать в ствол дерева, служивший им мишенью.
Три девчонки, которые были в племени, ходили неотступно за Ронтой. Ее белая кожа служила для них предметом неистощимого любопытства. Они дотрагивались до ее рук и плеч и даже терли их пальцами, как будто хотели стереть светлый налет и вывести наружу здоровую черную кожу. И, наконец, один раз они принесли из костра мелкого угля и пепла и хотели зачернить ими светлое тело Ронты. Оно, очевидно, казалось им некрасивым или неприличным. Ронта даже обиделась, потом рассмеялась. Она пробовала учить их анакским словам, но они не могли выговаривать ясно и путались, и будто давились анакскими звуками. И каждое слово у них выходило гортанно и сбивалось на «груарр».
После Гррамов они плыли шесть дней, останавливаясь только на ночные часы. Река стала широкая, как море. Берега сделались ниже. Вместо высоких яров и обрывистых скал были пологие склоны. Леса стали иные. Липа и бук заменились осиной и ольхой. Везде тянулись заросли кустов, ореховых и ивовых, густых, непроходимых. Зато отдельные буки, липы и клены стояли огромные, развесистые, как шатры.
На шестом ночлеге произошла их первая ссора. В тот вечер они пристали к берегу в обычное время и скоро изжарили мясо на ужин. Костер догорел, они не прибавили дров. Они сидели рядом под липой, широкой, как туча. Звезды тихо мерцали. И в ветвях липы над их головой защелкал Бульбуль, серая птичка, у которой в горле поет живая дудочка. Этой дудочке подражают анакские дети на своих камышовых свирелях. И почти безотчетно Яррий протянул руку и привлек Ронту к себе на грудь. Она сначала покорились, и скоро руки Яррия стали смелее. Оба они не отдавали себе ясного отчета в своих чувствах и действиях. Но через минуту Ронта вырвалась и отодвинулась в сторону.
Яррий не сделал попытки удержать ее. Было темно под деревом. Они сидели, на глядя друг на друга.
— Ронта, — наконец окликнул Яррий.
— Я, — отозвалась девушка неохотно и не сразу.
— Отчего ты такая?
— Такая, — повторила девушка уныло и негромко. И в голосе ее звучало подтверждение.
Яррий повернул к ней лицо и стал рассматривать ее в темноте. В тусклом мерцании звездного света, проходившего сквозь листву, она показалась ему страшно маленькой, не больше ребенка.
Руки его только что обнимали ее тело и, как будто, еще ощущали ее острые плечи.
— Ты как Милка, — сказал он, наконец, неуверенным тоном.
— Милка — сестра моя, — отозвалась Ронта грустно.
— Как сестра? — спросил Яррий с минутным удивлением.
— Мы все были сестры, — сказала Ронта грустно.
— Все равно, — сказал Яррий, — долгие годы пройдут, и Милка не будет еще сидеть в роще кленовой.
— Я тоже не буду, — сказала Ронта тихо, и голос ее прозвучал как будто упреком. Они больше ничего не сказали, но в эту ночь, противно привычке своей, они спали порознь.
Яррий, впрочем, не спал. Он ходил взад и вперед с копьем в руках по зеленому берегу, как будто дозором. То смотрел по сторонам, не крадется ли хищник, то думал и сам не знал, о чем, но ему было грустно. И временами ему казалось, что враг Юн, которого он оставил сзади на столько дней пути, уже тут, близко и крадется сквозь тьму. И он поворачивался назад и стискивал копье, готовый нанести удар в немое пространство.
На следующее утро они не отправились в путь. Яррий вытащил челнок выше и стал зарывать в песок, по обычаю пловцов. Ронта сначала ему помогала, а потом спросила:
— Разве мы не поедем сегодня дальше? Яррий поднял голову и вяло сказал:
— Зачем?
И Ронта сказала:
— Ты обещал мне показать синее море и великанов с клыками, как у мамонта.
И Яррий покачал головой и сказал:
— Я не поеду, я устал.
Ронта немного подождала, потом подошла и положила ему руки на плечи.
— Ты сердишься, Яррий? — спросила она. И так же просто и грустно Яррий ответил:
— Я не знаю.
Две недели они прожили здесь, не трогаясь с места. Странная это была жизнь. Место было удобное, обильное пищей. В кустах на опушке созрели ягоды, черные и красные и еще другие — желтые, крупно-зернистые, пахучие и сладкие. Таких ягод не было в земле Анаков. Они росли по мокрым местам, на низеньких кустиках. И еще были ягоды, голубые, с легким пушком; они висели большими кистями и стлались по земле. И сколько бы их ни есть, нельзя было наесться до сыта. Только в ушах начинало шуметь, и светлые искры плясали в глазах, как будто от Хума.
В желтых холмах, поодаль от реки, было много кроликов. Рядом с их становищем в Дадану впадал ручей, узкий, почти пересохший от летнего зноя. Но, несмотря на мелководье, в ручье было много рыбы. Она входила из реки и шла вверх, обезумев от жажды нереста. Она была крупная, с блестящей чешуей. Рыба перепрыгивала с камня на камень, сверкая серебряным боком, иногда выбрасывалась на траву. Ее можно было ловить просто руками.
Солнце светило так же ясно и безоблачно, как и на летовьях Анаков по Калаве и по Сарне. Снизу, от речного устья, прилетал ветер, но скоро улетал дальше. Они бродили целый день по окрестным полям не вместе и не совсем отдельно, ибо, если Ронта уходила в холмы и долго не показывалась, Яррий ощущал беспокойство и отправлялся на поиски, часто даже не отдавая себе отчета. Но стоило ему увидеть вдали ее белое плечо, он останавливался и, не подходя ближе, принимался за какое-нибудь дело, большей частью ненужное, — выламывал палку и начинал точить новое древко для дротика, собирал смолу для жевания в трещинах дерева, раскапывал землю в погоне за большими черными пауками, которых анакские дети ненавидели и всегда тщательно выкапывали из земли и уничтожали.
Они, впрочем, не ссорились, но и не мирились, как следует. Разговаривали мало. Ронта больше не спрашивала о поездке. Она жила, как живется, изо дня в день. Спала на куче листьев под ветвистым осокорем, но Яррий больше не спал рядом с ней. Он садился у костра с копьем в руках, как сидят на тропинке хищных зверей или в засаде на красной стезе войны. Так сидя, он чутко дремал до утра, оберегая Ронту.
Лето перегнулось через середину и тихо покатилось на светлую осень. И Яррий видел кругом себя сладкий праздник любви и рождения. Все живое соединялось парами. Все торопилось жить, любить и наслаждаться, пока не настали сырость и холод. Он один проводил свои дни уныло и бесцельно. Иногда в знойный полдень, когда птицы щебетали над его головой и гонялись друг за другом, он чувствовал, что пьянеет от этого солнца и щебета, как будто от Хума. Глаза его беспокойно бегали кругом и находили подругу, ноги его подходили сами, и руки тянулись к Ронте. Она смотрела на него с удивлением и тревогой. Была она худенькая, как мальчик, и тонкая, как тростинка. С каждым днем она как будто становилась не старше, а моложе, и возвращалась обратно от пышной осени к незрелой весне.
— Чего ты хочешь? — спрашивала она невинно. И он ничего не отвечал и уходил обратно.
Лебеди и гуси вывели птенцов и учили их плавать. Птица Бульбуль ловила мошек для своих голодных детей. В лисьих норах появились маленькие лисенята. В полдень они выползали из устья норы наружу и щурили свои плохо прорезанные глаза на яркое солнце, потом уползали обратно. Олени и быки, и козы, и степные антилопы соединялись в пары только теперь. Они были похожи на Анаков, ибо их жены носили детей долго и рождали их весной одновременно с анакскими женами. Яррий видел, как молодые красношерстные олени, которые живут в лесах и не собираются стадами, стучат рогами о древесные стволы, вызывая друг друга на битву, совсем как Map и Несс, а темношерстная самка стоит в стороне, ожидая развязки, и делает вид, что щиплет траву и украдкой посматривает на битву.
И при этом зрелище у Яррия напрягались руки и сжимались кулаки. Он свирепо поводил глазами и отыскивал соперника, но соперника не было. Побежденный олень, весь в крови, с разбитой головой, убегал с храпом. И победитель, гордо потрясая ветвистыми рогами, подходит к завоеванной добыче.
Яррий отыскивал глазами свою подругу. Ее белые плечи мелькали вдали, но она плела венок из поздних цветов и зеленых трав и не смотрела на него. В один вечер они сидели у костра на берегу реки. Солнце садилось. За рыбным ручьем тихо гоготали гуси, устраиваясь на ночлег. Яррий был особенно печален. Ронта посмотрела на него и увидела, что его щеки поблекли и под глазами набежали синие круги от бессонных ночей.
— Что мучит тебя? — спросила она тихо. Яррий не отвечал.
— Я сделаю все, что ты хочешь, — сказала Ронта, опустив голову.
Яррий неожиданно вскочил, топнул ногой и бешено крикнул:
— Ялама!
Но на другой день с утра он не отходил от подруги. Ронта пошла в поле, он пошел вслед за ней. Они вошли в лес и дошли до поляны. Поляна была круглая, озаренная солнцем, заросшая травою, как будто озеро. Тихо было в лесу, даже птицы не щебетали. И в этой тишине перед их глазами явилось лесное чудо, одно из тех зрелищ, которые нужно наблюдать, не шевелясь и с затаенным дыханием. На поляну выскочили две кабарги, самец и самка. Они были маленькие, с большими клыками и стройными ножками. И пахло от них брачным мускусом, пьяным и крепким. Они стали бегать по поляне и гоняться друг за другом. Они бросались одна к другой и слегка касались, потом поднимались на задние ноги и клали передние копытца друг другу на плечи, как будто боролись и вместе с тем обнимались.
— Ты видишь, Ронта? — сказал Яррий без слов, одними глазами.
— Вижу, — шепнула Ронта. — Они справляют осенний обряд.
Кабарги как будто услышали и кинулись в сторону, и обе исчезли в чаще.
— Слушая, Ронта, — сказал Яррий. — Если ты хочешь, мы тоже справим осенний обряд.
— Как мы справим? — спросила Ронта неуверенно.
— Сделаем солнце осеннее, — сказал Яррий, — и заставим петь огниво. Ты будешь, как жены, а я, как мужи. В синей крови ягод найдем свой Хум. И спляшем брачную пляску и будем — племя.
— Хорошо, — сказала Ронта. Лицо ее оживилось, и глаза смотрели на юношу с прежней простой и детской радостью.
— Я косы заплету, — сказала она, — и надену венок. Мы будем плясать, и будет весело.
Они не стали медлить и в тот же день принялись за работу.
Они сделали огниво по смутным описаниям, которые все-таки передавались между детьми. Яррию было много хлопот, чтобы вырубить своим кремневым топором и выжечь огнем деревянную ступу и пест. Ронта сплела соломенное солнце, и они укрепили его высоко на спице.
Она надавила сладкого сока из синих гроздьев и приготовила еду.
Яррий собрал свою русую гриву султаном, раскрасил свое тело, взял оружие, повесил на плечо шкуру дикого козла, которую ему дали Гррамы, — другого брачного дара у него не было, — и ушел в лес. Через минуту он явился и мерным шагом прошел на площадку у брачного огнива.
— Игой! — радостно окликнул он.
— Игой! — ответила Ронта звонким голосом.
Он посмотрел на нее влюбленными глазами. Она омылась в реке, заплела свои светлые косы и надела на голову венок, сплетенный из колосьев дикого овса и мелких голубых цветочков. Круглых синих чаш любви она не нашла на этих лугах. Вся она была белая и свежая, как ручей или как молодая березка с еще не затвердевшим стволом. Яррию вдруг захотелось бросить все и схватить ее, и унести в лес, и вобрать ее всю в себя, чтобы она растворилась в нем, и чтобы даже красное око Солнца больше не могло смотреть на ее красоту.
Он удержал этот порыв, но чувства его искали выхода. И, не снимая оружия, он стукнул копьем о землю и откинул голову, и вместо брачного хора запел песню, как певали анакские юноши в предбрачное время.
— Красная ягода Ронта, — пел Яррий, — белая рыбка, солнечный луч, заря розолицая, синяя чаша любви.
Ликуя, он осыпал ее всеми ласковыми именами, какие приходили ему в голову. Он бросил ей под ноги свой брачный дар. Он был готов вырвать из груди свое сердце и бросить ей под ноги.
Ронта слушала, лукаво улыбаясь, склонив набок голову. В эту минуту ребенок готов был стать женщиной, и поздний синий цветок осени готов был, наконец, развернуть свои лепестки и обнажить середину.
— Ронту возьму, — громко выкрикивал Яррий. — Не дам никому! Ронта моя!..
— Выходи, — крикнул он изо всей мочи, и в ближнем лесу отдалось эхо, как будто духи, услужливые и коварные, спешили передать его вызов дальше и привлечь соперника.
И, словно в ответ на этот вызов, из лесу выскочил человек и побежал по тропинке, направляясь к ним. Он был странный и страшный. У него была смуглая кожа, черная грива и косматая грудь, почти такая же, как у Гррамов. На нем не было ни пояса, ни дорожного мешка, и в руках у него не было никакого оружия. Но ногти на его пальцах были длинные, твердые, как будто кремневые.
Не доходя до брачной площадки, он остановился и горящими глазами посмотрел сперва на Ронту, потом на Яррия. Яррий узнал «Полевого Бродягу». В племени Анаков, а также у Селонов и у Тосков бывали такие неуживчивые люди, которые, достигнув зрелых лет, бросали товарищей и уходили в поле, чтобы жить в одиночестве. Они скоро дичали, теряли копье и палицу и жили, охотясь на кроликов и ланей руками и зубами, как медведи. Анаки называли их Бродягами и относились к ним без гнева. Они иногда попадались анакским охотникам в лесах, но никого не трогали. И Анаки их не трогали. Было поверье, что если кто ранит Бродягу, тот до окончания года получит такую же рану от мстящего духа. Ибо духи, как и люди, имели таких же Бродяг, и эти заступались за своих людских товарищей. Таких же свирепых самцов-бродяг имели все крупные звери — кабаны и олени, волки и мамонты.
Из Анакского племени последний Бродяга ушел много лет тому назад, когда Яррий был еще ребенком. Яррий не помнил его лица и не мог бы сказать, он это или не он. Они отдалились на много дней пути от Анакских охотничьих полей, но Бродяги блуждали повсюду, не считаясь с границами племен. Этот Бродяга был не молод, но очень крепок. В его волосах не было мертвых шерстинок зимнего цвета. Кожа на его плечах и руках была смуглая и твердая, как рог.
Бродяга отвернулся от Яррия и снова посмотрел на Ронту.
— Ж-жа, — вырвалось из его груди с резким вздохом, как будто из полного меха с Хумом, как только его откроют. Все члены его тела пришли в возбуждение. Не теряя времени, он обежал брачное огниво с наружной стороны и бросился на Ронту.
— Ай, — крикнула Ронта в ужасе и отскочила в сторону. Яррий с копьем в руках бросился на защиту и заслонил дорогу пришельцу. Ронта отбежала еще и встала у дерева, готовая каждую минуту сорваться прочь и мчаться, как испуганная лань.
Брачный обряд неожиданно дополнился. Здесь были два соперника, которые должны были вести борьбу за обладание женщиной.
Бродяга тоже понял это. Он остановился перед Яррием в двух шагах от наконечника его копья, посмотрел ему в лицо, потом заскрежетал зубами и ударил себя кулаком в грудь.
Тогда Яррий вспомнил, что брачные бои Анаков ведутся без копий и палиц. Недолго думая, он отбросил в сторону оружие и встал в такую же позу, как дикий Бродяга. И также заскрежетал зубами и ударил себя кулаком в грудь. Руки у него были безволосые, но такие же крепкие, как у нападавшего. Зубы и челюсти были слабее, чем у звероподобного Бродяги. В его голове, как молния, сверкнула мысль: надо бороться так же, как Илл Бородатый боролся с медведем. Ибо за два года перед тем Илл Красный Бык покрыл себе спину куском конской шкуры и вышел на поиски медведя с ножом в руках. Он охватил медведя своими могучими руками и подпер ему подбородок своей квадратной головой. Потом нащупал нужное место, ткнул медведя ножом под левую лопатку и угодил прямо в сердце.
Притопывая и приплясывая, боком, решительно и вместе с тем осторожно, они стали сближаться. Соперники походили на турухтанов, когда те собираются в пляске брачного боя вонзить друг другу в тело свои острые шпоры. И вдруг они бросились друг на друга и схватились и сплелись вместе. Яррий нагнул голову вперед, зарыл ее под густую бороду Бродяги и крепко подпер его толстую челюсть. Потом обхватил его спину руками и сжал, что было мочи. Бродяга пошатнулся от напора. Руки его легли на спину Яррия, но она не была покрыта крепкой кожей коня. И десять когтей впились в его незащищенное тело и разодрали его влево и вправо, как когти тигра разрывают спину оленя.
Он крикнул от боли не своим голосом. Ронта ответила жалобным криком. Сила его как будто удесятерилась от этого крика. Он просунул правую ногу между узловатых ног Бродяги, рванул его в сторону и ударил его о землю, и сам тоже упал, увлекаемый собственным натиском.
Падая, Бродяга ударился с размаха спиной и головой о крепкий обрубок древесного пня, короткий и рогатый, который остался от брачного огнива и валялся тут же. Руки Бродяги разжались, и глаза закатились. Он захрипел и стал бить ногами о землю, как заколотый олень. Потом изо рта его хлынула струя крови и залила Яррию грудь и лицо.
Через минуту Яррий поднялся с места. Он тоже был ошеломлен падением, но теперь он был победителем. Голова его кружилась от напряжения борьбы. Он дико посмотрел кругом и увидел Ронту. Она стояла под деревом и дрожала, как в лихорадке. Белая она была, чистая, как будто пугливая снеговица, русалка зимнего леса, которая прячется в дуплах и вылетает в вихре снежном, при первом звонком ударе кремневого топора о мерзлое дерево.
Глаза его, горящие бешенством борьбы, зажглись другим инстинктом и налились кровью, как у поверженного Бродяги.
Он сделал шаг вперед и стал медленно приближаться к Ронте. Она смотрела на него широко раскрытыми глазами, как смотрят на призрак. Он был страшен. Брачные краски его тела наполовину стерлись и смешались с алыми знаками свежих ран. Его растрепанный султан был красен от крови противника. Он был переполнен звериным брачным желанием.
— Ж-жа! — вырвался у него такой же звук, как у недавнего соперника. Он подходил, не торопясь. Ронта не убегала, но она протянула вперед тонкие отстраняющие руки.
Он обхватил ее плечи и прижал ее к себе. Они стали бороться точно так же, как недавно боролись он и Бродяга. И так же он просунул предательскую ногу и повалил Ронту навзничь и упал на нее, но она взвизгнула, как раненая белка, и изо всей силы укусила его в грудь своими острыми зубами.
Миг, и она выскользнула и вскочила на ноги. Яррий тоже поднялся и бросился к ней. Она не стала убегать. Она смело обернулась к нему. Глаза ее горели, большие, ненавидящие.
— Прочь, — сказала она ему, — гадина!..
Черное проклятие Иссы владело ею. Она смотрела на Яррия, и он казался ей похожим на Красного Илла а вместе с тем на убитого врага. Яррий молчал.
— Бродяга, изгнанник! — крикнула Ронта вне себя от возбуждения. — Я уйду, я вернусь к племени.
— Иди! — сказал Яррий бешено. — Они зарежут тебя.
Это были его первые слова после борьбы с Бродягой. Но он не сделал новой попытки броситься на девушку.
— Пусть режут, — сказала Ронта, — я поцелую нож, который ударит меня в сердце. К племени, к племени!..
Она повернулась и пустилась бежать вдоль берега Даданы.
Яррий сделал шаг вперед, как бы собираясь пуститься вдогонку. Но она повернула лицо и бросила уже на бегу:
— Прочь, дикая тварь!..
И эти слова ударили его в лицо, как древко копья. Он, тем не менее, ничего не сказал, только пожал плечами, подобрал копье и спустился к реке. Раны его болели. Он машинально обмыл их холодной водой, но лица не обмыл. Потом сел тут же на большой камень, опустил голову и стал смотреть в воду. Вода сперва мутилась, потом стала чище и светлее. Он увидел под собою в воде человеческое лицо. Оно было страшное, с дикими глазами, в кровавых пятнах. Он не узнал этого лица, и так же, как Ронте, ему показалось, что это лицо недавно убитого Бродяги. И как недавно, перед поединком, он смотрел на Бродягу, так теперь Бродяга смотрел на него.
— Чего ты смотришь? — спросил он наконец, не будучи в силах выдержать этот горящий взгляд.
Лицо Бродяги в воде тоже зашевелило губами, и ему послышалось из воды тихое: «Встань!»
Он послушно встал, но продолжал смотреть вниз, в воду. Бродяга тоже встал.
— Ну? — спросил Яррий равнодушным тоном. Он ожидал услышать новое приказание. Но ему было все равно, что делать сейчас.
— Иди, — сказал Бродяга.
— Куда?
— Иди, иди, — настаивал призрак и кивал головой.
Рябь побежала по воде, и призрак исчез, потом опять появился. Но в это короткое мгновение он успел измениться. Лицо у него стало другое и покрылось лоснящейся шерстью коричневого цвета. Над головой стояли ветвистые рога. Это была теперь голова оленя. Яррий узнал его. Это был тот самый олень, с которым он сражался на весенней охоте за белую телку.
— Иди, — сказал олень, потрясая рогами. Вода запенилась. Это была кровавая пена. Тело оленя тоже как будто покрылось кровавою пленкой. И Яррий узнал его снова. Как и тогда на реке, это был Ободранный Олень. Он был весь красный. Только сверкали белки сердитых глаз, большие, дикие.
— Иди, — сказал олень.
— Куда? — спросил Яррий с каменным равнодушием.
— Верни ее, — сказал олень.
— Кого? — спросил Яррий прежним тоном.
— Белую телку, — сказал олень.
— Зачем?
— Они зарежут ее, — сказал олень. — В замену, в замену!..
Он неожиданно рванулся и прыгнул вверх всеми четырьмя ногами, как будто хотел выпрыгнуть из воды наружу. Яррий вспомнил этот отчаянный прыжок. Он кивнул оленю головой. Ему казалось, что этот олень такой же воин и Анак, как он сам. И лицо его было похоже на лицо Яррия.
— Я пойду, — сказал Яррий.
Он встал с места, поднялся наверх, методически собрал свои вещи и приготовился в путь. Потом бросил беглый взгляд на брачное огниво. Оно стояло нетронутое и молча просило брачного огня.
Он взял головню из костра и поднес к соломенному солнцу. Оно закурилось и вспыхнуло. Горсть сухого пепла упала вниз на голову огнива. Яррий сурово посмотрел на этот серый пепел, в котором еще пробегали последние золотые искры. Потом нагнулся, дунул и раздул пепел по ветру.
Он повернулся к реке и легким шагом пошел вдоль берега по той же дороге, по которой убежала Ронта.
Глава 9
Много дней продолжался праздник осеннего солнца. Молодой месяц вынес на небеса свои тонкие рога, и с каждым вечером он становился старше, и рога его становились толще. Потом он повернул к земле свое широкое лицо. Но Анаки не смотрели на него. Они смотрели друг на друга и засыпали, обнявшись. Утром они просыпались и смотрели на солнце. Оно улыбалось в ответ, не уставало смотреть на брачное игрище и не покрывалось туманом. Не уставали и Анаки.
Но в одно утро, проснувшись, они увидели с левой стороны дневное лицо месяца. Он смотрел на них холодными и скучными глазами, как будто с того света, уныло, загадочно и вместе с тем насмешливо. И они разомкнули объятия и посмотрели друг на друга такими же холодными глазами, и все лица были бледны, как лицо месяца.
— Уйти бы, — думали мужчины и мечтали о весне, когда охотники ходят отдельно от женской орды, свободные, как птицы. Теперь же надо было идти на зимние квартиры вместе с женщинами и детьми.
Брачный и небрачный лагерь соединились вместе и уже на другой день тронулись в путь. Женщины несли на плечах грудных детей и мешки со скарбом. Мужчины надели плащи и собрали оружие. Молодые охотники рыскали кругом в поисках добычи и приходили только к вечеру на новую стоянку. Праздничный месяц съел все запасы, и, как обыкновенно, племя ждала холодная и голодная зима.
Мужчины постарше помогали женщинам. Юн Черный посадил себе на плечи своего быстроглазого Мышонка и неутомимо шагал вперед. Юн ничего не говорил и как будто даже не замечал своей ноши. Но она грела его шею, как меховое ожерелье, и он радостно думал, что это тепло будет согревать его тело в долгую зимнюю стужу. Мальчику было весело. Он громко смеялся, болтал ножками и хватался руками за черную гриву отца.
Зимняя стоянка Анаков лежала в грядах Кенайских гор, на три дня пути от брачных полей. Эти гряды тянулись белыми террасами; в террасах были пещеры, глубокие и ветвистые, когда-то прорытые водой, а потом высохшие. В этих пещерах и жили зимой Анаки. Они занимали большую пещеру на средней террасе, ставили два шалаша, один у левой стены, другой у правой. Шалаши были сплетены из ивовых прутьев и покрыты сухой травой. Они походили по форме на сундуки, узкие и низкие и очень длинные. В этих шалашах на грудах листьев, покрытых шкурами, спали Анаки. Они согревали свое помещение теплом собственного тела, и им было хорошо спать. Женская орда спала в левом шалаше, а мужская в правом. В промежутке между шалашами разводились костры.
Обе половины племени жили вместе и все же отдельно. Их чувства спали, усыпленные осенним холодом. Они думали о пище, а не о любви. Кенайские холмы имели еще другое преимущество. Кроме Анаков, в осеннее время сюда приходили также Мамонты Сса, привлекаемые полями зеленого хвоща, который был для них лакомым кормом. Хвощ был тоненький и рос не очень густо, но именно на этом хвоще быстро отъедались и жирели эти чудовищные звери. В осеннее время Анаки занимались охотой на Мамонтов Сса. Правда, почтение их к Помощнику Отца было сильно, но голод был еще сильнее и не хотел считаться даже с богами.
Охота на Мамонтов сопровождалась различными церемониями и очистительными обрядами перед страшною жертвой. Кроме того, племя имело право убить только одного Мамонта. Потом следовало немедленно устроить искупительный праздник и принести очистительную жертву духу и телу Сса. Анаки могли убить огромного зверя только одним способом. Их копья и палицы были слишком слабым оружием для его непроницаемой шкуры. Но Мамонты ходили к водопою на речку Урулд, протекавшую мимо пещеры. Их тропы были глубоко вытоптаны в земле тяжеловесными ступнями. Они походили скорее на русло сухого ручья, чем на звериную тропу. На этих тропах Анаки копали глубокие ямы-ловушки. Они приходили всем племенем с женами и детьми, осторожно снимали дерн и верхний слой земли и в один день вырывали огромную воронку с остроконечным дном. В этом дне они укрепляли прямой древесный ствол с острым концом, обожженный в огне. Потом закрывали яму хворостом, закладывали дерном, а вынутую землю уносили подальше. Мамонты не отличались особой осторожностью. Сса был царь земли, и ему некого было опасаться.
Он один из всех зверей еще не научился бояться человека.
Часто в ту же ночь Зверь-Гора извещал трубным звуком окрестные поля, что он в яме. Анаки приходили только утром и с большой осторожностью. Другие Мамонты часто по целым суткам сторожили у ловушки и пытались вытащить товарища своими крепкими хоботами. Но потом они уходили и не возвращались обратно. Они больше не приходили к этой тропе и выбирали себе новый водопой, пониже или повыше. И в ту же ловушку нельзя было поймать двух Мамонтов подряд. Впрочем, после удачной охоты Анаки обычно заваливали яму землей, чтобы показать Мамонтам, что они непричастны к их беде.
Зверь-Гора был в яме. Он засел в ней плотно всеми четырьмя ногами. Страшный кол пробил ему брюхо и высунул сквозь спину свое обугленное рыло. Теперь оно было уже не черное, а красное от крови. Чем дальше, тем Мамонт садился глубже, и кол выходил наружу, как огромный деревянный гвоздь, как будто кто-то забивал его снизу. Страшный могучий Зверь Гора не мог пошевельнуться. Яма стиснула его своей тупой пастью и как будто силилась проглотить его целиком. Только огромный хобот, весь в круглых кожистых кольцах, был свободен. Зверь-Гора поднимал его вверх, и, несмотря на глубину ямы, хобот пленника доставал до краев. Мамонт судорожно водил хоботом взад-вперед, разыскивая, за что бы ухватиться, но ухватиться было не за что.
Племя Анаков было наверху, кругом ямы. Здесь были все — мужчины, женщины, дети, кроме грудных младенцев; неугомонные мальчишки Антек и Лиас, сыновья Майры, прибежали сюда раньше других. Зверя Сса не мог победить отдельный охотник, его побеждало племя. Братья Румы, конечно, не оставались позади. Карлик-шакал теперь был гладок, и шерсть его лоснилась. Он смело бегал среди людей, тявкал и бросался к яме. Он, очевидно, тоже желал принять участие в этой великой охоте.
Женщины в этой охоте были важнее мужчин, ибо победу на Сса давала не грубая сила, а сложное волшебство. Это волшебство было доступно только женщинам. Оно побеждало Сса и потом отстраняло его посмертную месть.
Мужчины, женщины и дети держались за руки и вели кругом ямы огромный хоровод. Старая Лото шла во главе хоровода. У нее был на голове меховой убор странной формы. Спереди свешивалась длинная узкая полоска. Этот убор представлял голову Мамонта с длинным хоботом. Лото изображала тетку Мамонта, Дантру, которая по верованиям Анаков жила в неведомых глубинах земли, но ныне явилась самолично, в помощь Анакам, заклинать племянника. Исса шла рядом с Лото. Она была запевалой хоровода.
Лото держала в руках два камня, ибо у Дантры были каменные копыта. Она сильно ударяла одним камнем о другой.
— Дантра идет, — запели громко Анаки.
— Дедушка Сса, — затянула Исса своим дребезжащим голосом: — Дантра, — тетка твоя, а наша прабабушка, велит говорить тебе: «Не пугай нас, умри!»
— Умри! — подхватили оглушительным хором Анаки. — Умри, умри!..
И как бы в ответ Зверь-Гора вытянул вверх беспокойный кончик своего трубчатого носа и пустил к небу высокий, долгий, пронзительный рев или вой: Хрнхр…
Сса ревел. И все Анаки ревностно вторили, тонкие детские голоса взвивались к небесам, и тоньше всех поднимался вой четвероногого Рума, плаксивый и вместе с тем ликующий. Это был как будто истинный голос этого лицемерного хора почтительных убийц.
Рев Мамонта оборвался так же внезапно, как начался; беспокойный кончик его хобота снова забегал по краю ямы.
Теперь Анаки пришли в возбуждение. Лото стучала камнями. Исса шла перед нею и пела:
Стучи, стучи! Ворон крячет, сухое дерево трещит. Дантра, стучи! Носатый ликует, добычу предчувствует.— Умри! — кричали ребятишки и топали ногами. Неугомонный Лиас выбился из хоровода наружу, потом обежал кругом и проскочил обратно между Лото и Иссой. Теперь он был внутри хоровода. Он еще раз обежал кругом, размахивая ручонками и визжа от восторга. И вдруг кончик хобота как будто раздвинулся, стал тонок и длинен и вытянулся наружу. Так тянется червяк, выходя из земли и желая ухватиться за далеко стоящую былинку. Лиас с криком отскочил назад, но было уже поздно. Короткий серый палец хобота поймал его за руку. Потом вокруг его тела скользнула как будто серая веревка или змея. Мальчик крикнул и тотчас же мелькнул в воздухе и исчез в яме. Послышался глухой удар, и крик оборвался. Все это случилось в одно мгновение. Хоровод ревел по-прежнему: «Умри!» Но в общем реве прорезался дикий крик Майры, матери Лиаса: «Не тронь!»
Это относилось не к пленному зверю, а к Иссе. Мальчик, в своей неудачной попытке спастись, отскочил к колдунье, и она протянула руки, чтобы схватить его. Но матери показалось, что колдунья толкнула его обратно к яме.
Майра сделала попытку выскочить из цепи хоровода и броситься в яму, но соседи крепко держали ее за руки. Хоровод мчался вперед по своей круговой стезе и увлекал ее за собою. Но теперь Анаки кричали: «Возьми, возьми!»
Легкая человеческая жертва пленному зверю была прекрасным предзнаменованием, особенно так, как это случилось, — невзначай. И больше всего для этого годился один из близнецов Майры Глиняной.
«Дьявол дал, дьявол взял», — подумали Анаки.
Они приносили человеческие жертвы редко, только в случаях крайних бедствий. Но дух Зверя-Горы, который погибал в яме, конечно, нуждался в примирении. Сса, Помощник Творца, требовал в свою очередь человеческого помощника и провожатого в тот таинственный путь, который ему предстояло совершить после смерти.
Праздник воскресения зверей должен был совершиться тотчас же после разделки Мамонта. По счету Анаков, этим праздником заканчивалась осень и начиналась зима, сырая и холодная. Четыре времени года у Анаков были отмечены как будто четырьмя вехами. Весна называлась «бродячее время», ибо она начиналась уходом с зимних стоянок. Мужской и женский лагеря разбивались врозь и медленно шли вперед на расстоянии дня пути, направляясь к реке Дадане и охотничьим полям. Лето называлось «время встречи», ибо оно начиналось после оленьей охоты и оканчивалось встречей с женами, праздником брака и осеннего солнца. Осень называлась «время воскресения зверей», ибо она заканчивалась этим праздником. Зима называлась кратко и выразительно: «время смертей».
Зверь-Гора, очевидно, вполне удовлетворился полученной жертвой, ибо тотчас же после того он замолк и больше не подавал признаков жизни. К вечеру женщины, наконец, осмелились спуститься в яму. Сса был мертв. Но разделывать на части эту огромную тушу в узкой яме было очень трудным делом. Кожа Сса была толстая и крепкая, как дерево. Чтобы сделать хоть что-нибудь, нужно было прежде всего окопать и убрать землю кругом трупа, потом подобраться к животу и подмышкам, где кожа была мягче.
Три долгих дня все племя кромсало огромную тушу большими кремнями и вытаскивало ее наружу кусок за куском. Потом кожу удалось раздвоить и раздвинуть в стороны, как два огромных щита. Женщины добрались до связок и сухожилий и стали с несравненным искусством отделять член от члена и сустав от сустава.
Тело Лиаса отыскалось в земляной стенке ямы. Огромный зверь в своих предсмертных конвульсиях вмял мальчика во влажную глину. Но члены маленького тела не были повреждены. Только шея была надломлена, и русая головка неестественно повисла, как сломанный цветок. Старухи очистили тело от земли, обмыли и положили на шкуре у большого костра внутри пещеры. Оно должно было лежать здесь, как главная жертва Мамонту Сса во время праздника.
В середине четвертого дня, когда работы у ямы закончились, молодежь разбрелась по окрестным полям. Нужно было набрать травы Сонт для завтрашнего праздника. Это была высокая, тонкая, шелковистая трава. Она росла капризно, островками и клочками, больше всего по низинкам и по мокрым долочкам. И ее трудно было находить на этих сухих известковых грядах в такое позднее осеннее время. Но без травы Сонт нельзя было устроить праздника. Она употреблялась на новые шубы для воскресающих зверей.
Мальчики и девочки сошли к речке Урулд и пошли вниз по течению. Другие перебрались через речку и пошли наперерез луга.
Дило тоже ушел вслед за другими. Но вместо того, чтобы спуститься вниз, он пошел по высокой белой террасе, потом повернул на запад и углубился в горы. В сущности, это были не горы, а только холмы, но довольно крутые, часто почти отвесные. Как будто кто-то взрезал твердую землю прямыми складками и отвернул пласты, а местами разрубил поперек, как женщины рубят широким ножом длинную ленту коры или хребтового мяса.
Дило шел вперед неслышно и неторопливо, пересекая складки гряд; ловко взбирался наверх, проходил по ярам и ущельям, перебредал через ручьи. Он мало думал о траве Сонт. Вместо этого он рассматривал камешки в ручьях и россыпях и иные прятал в свой поясной мешок, ибо на этот раз Горбун захватил с собой не только мешок, но даже дротик. В одном месте он нашел пластинку, прозрачную, как лед, и твердую, как лучший кремень. У нее были грани, как у зеленого стручка. Анаки называли такие пластинки ледяными стручками. Он завернул ее в вялые листья и спрятал особо. В другом месте он отыскал несколько каменных зерен неправильной формы и ярко-синего цвета и засмеялся от удовольствия.
Из этих зерен посредством кремневого сверла, песка и воды он собирался высверлить синие бусы для нового ожерелья. Этим ожерельем он хотел украсить собственную шею в знак совершеннолетия. Ибо он чувствовал себя совершеннолетним, хотя и не прошел сквозь обряд посвящения и не толкал брачного колеса своей искривленной грудью. Он выглядел теперь много старше и крепче. Щеки его обросли пухом, редким, но довольно грубым; плечи стали шире, а руки вытянулись и завязались крепкими мускулами. Теперь Дило Лягушонок не стал бы просить, чтобы его приняли в девчонки. Он чувствовал себя мужчиной и даже охотником. Именно поэтому он захватил с собою дротик, который достался ему в наследство от Яррия. Впрочем, это был дротик его собственной работы, ибо в минувшие годы его любимым занятием было чинить и выделывать оружие для своего удачливого друга.
Но теперь он думал о собственной добыче. Он шел вперед осторожно и неслышно и зорко посматривал по сторонам, не увидит ли козы, или молодого оленя, или мелкой свиньи, какие водились в низких лесах по этим ущельям.
Когда он перерезал четвертое ущелье, прошел через лес и взобрался на северный склон, который чаще всего оставался открытым, он увидел дичь крупнее, чем рассчитывал. Это были Буа, бородатые быки, крупные, с большими, широко расставленными рогами. В открытом поле даже медведи и тигры боялись нападать на Буа. Он мог подкинуть противника вверх своим широким квадратным лбом не хуже, чем Сса. Анаки ставили на Буа петли из крепкого ремня на лесных тропинках. Но старые быки часто разрывали самую крепкую петлю или ломали дерево, к которому она была привязана. Конечно, Дило не мог и думать о том, чтобы напасть на этих огромных зверей. Их было четыре — старый бык, две коровы и один небольшой теленок. Он посмотрел на теленка и покачал головой. Без больших это была бы подходящая добыча.
И, будто на пущий соблазн новоиспеченному охотнику, теленок стал отдаляться от больших Буа. Он отыскал полоску рыхлого камня, грязно-белую, зернистую, похожую на грязный снег. Нагнув голову к земле, теленок усердно лизал этот рассыпчатый камень.
Дило знал этот камень. Анаки называли его горьким камнем. Через много веков потомки назвали его солью. Женщины иногда собирали его в летнее время, превращали в песок и примешивали к тухлому мясу и испорченной рыбе, но мужчины не любили его. Они говорили, что вкус его напоминает пепел.
Дило посмотрел кругом и увидел небольшую пластинку того же камня почти у себя под рукой. Он отломил кусочек и почти машинально сунул его в рот, но тотчас же с отвращением выплюнул. Густая горечь проникла как будто внутрь его неба.
«Точно желчь», — подумал он с отвращением.
Теленок еще подвинулся вперед. Дило посмотрел ему вслед и увидел, что с этого места ущелье становится круче и поднимается вверх. По сторонам его были отвесные дикие скалы. И в глубине выступал массивный навес из серого камня. Под навесом темнело полуприкрытое сверху, широкое устье подземного хода, как будто провал.
Дило узнал это место.
«Это Кандарское устье», — подумал он.
Кандарским устьем открывалась целая сеть пещер и подземных проходов. Иные из них выходили по ту сторону гряды, к верховьям речки Урулд. Другие спускались вглубь земли, неведомо куда.
«Там бы засесть», — подумал Дило, провожая глазами теленка.
В эту минуту в осыпях серого камня, на полуподъеме к Кандарскому входу, Дило заметил камешек — огненно-алый и круглый. Камень этот сверкал и как будто разгорался ярким и странным светом.
Глаза у Дило тоже разгорелись.
«Это на среднюю подвеску, — подумал он. — Ни у кого не будет такого ожерелья».
Он стал переползать к новой находке, вслед за теленком, очень осторожно, чтобы не увидели большие, и почти тотчас же увидел другой камень, рядом с первым, не больше, как на пядь. И этот был такой же яркий, багровый, струящийся. Дило даже не по себе стало. Камни сверкали, как угли, и как будто бросали искры. Они смотрели на него, как страшные глаза.
Теленок был гораздо ближе к этим светящимся камням. Он вел себя странно. Он перестал лизать свой горький песок. Тело его трепетало. Он промычал чуть слышно, как будто простонал, и сделал шаг вперед.
И вдруг Горбуну показалось, что спина ущелья встает дыбом перед его глазами. Камни полетели во все стороны.
«Земля сердится», — подумал Дило в страхе.
Старые женщины говорили, что бывает время, когда земля сердится и поднимает спину дыбом, швыряет камнями во все стороны, и даже горы плюются пламенем. Тогда убежать невозможно, ибо твердые ребра земли ходят под ногами, как волны. До сих пор Дило этому не очень верил, но теперь это начиналось воочию.
Однако под его ногами земля была спокойна. Но ущелье окончательно встало, выгнулось и приняло форму огромного зверя. Дило смотрел на него с остолбенением. Он никогда не видел такого зверя и даже не слышал о нем. Зверь был так велик, что наполнил собою ущелье. Сса, Зверь-Гора, перед ним был, как новорожденный младенец. У него были низкие лапы и грузное тело. Оно становилось тоньше к заду и переходило в огромный хвост. Хвост этот был похож на древесный корень. И кончик его был тонкий и как будто уходил в груду серых камней. И цвет зверя был такой же грязно-серый, как будто каменный. На спине его были широкие, смутно очерченные пятна, как отпечатки плит.
«Каменный зверь», — подумал Дило с трепетом. Шея у зверя была длинная, голова плоская, и для такого тела не очень большая. Он припал на своих крепких лапах и, протянув шею вперед, мерно покачивал головой влево и вправо, влево и вправо. Как алые камни были его глаза. Они сверкали и струили багровые лучи, и поворачивались мерно: влево и вправо. Тело зверя не шевелилось, но голова и глаза как будто плясали.
«Колдует, должно быть», — подумал Дило, и сердце его замерло.
И, привлекаемый странными чарами этих пляшущих глаз, теленок сделал еще шаг вперед. Голова нагнулась. Страшные зубы впились в тело добычи. Голова Каменного Зверя схватила и подняла вверх молодого Буа, как серая куница хватает полевую мышь.
Теленок крикнул, как человек. И ему ответил яростный рев взрослых Буа внизу. Огромный бык шел впереди на подмогу питомцу стада. Он опустил голову к земле и выставил рога. И, по обычаю Буа, он останавливался по временам, тряс бородою, рыл землю копытами и грозно ревел для устрашения противника.
Страшный Каменный Зверь бросил теленка и сердито зашипел, как рассерженный змей, но только гораздо громче. Его алые глаза яростно блеснули. И когда Буа снова поднял голову и увидел этот блеск, ему, должно быть, стало страшно. Он перестал реветь и уже собирался повернуть обратно перед лицом своих рогатых жен, шедших сзади, как боевой резерв. Но в эту минуту Каменный Зверь оттолкнулся хвостом, отделился от своего места и скользнул вниз быстро, как обвал, но так неслышно, как будто его огромное тело было сделано из облака.
Еще минута, и он схватил быка передними лапами и повалил его на землю, потом схватил его зубами за спину так же легко, как выдра хватает мясистого леща, мягко повернулся всем телом назад и быстро пополз обратно вверх по ущелью. У него были короткие лапы, но он двигался быстро и уверенно, и его огромный гибкий хвост был как будто пятая нога страшной силы и вместе с тем как руль для внезапных поворотов.
Еще через минуту он исчез под каменным навесом в устье Кандарского прохода. Другие Буа бежали в ужасе. Все это совершилось так быстро, что Дило опомниться не успел, как уже перед ним никого не было.
«Не приснилось ли мне?» — подумал Дило. Но тело теленка, все в крови, лежало на камнях, где бросил его Зверь для новой добычи.
— Он вернется за ним, — подумал Дило. И при этой мысли ноги его развязались от оцепенения и сами повернули назад. И он помчался по камням не хуже Буа, спеша уйти от страшных глаз и убийственных зубов таинственного зверя.
Только на третьем перевале он остановился, задыхаясь. В бешеном беге у него подвернулась нога, и нужно было волей-неволей перевести дух. Он посмотрел осторожно кругом. Опасности не было видно. Зверь остался сзади, занятый своей добычей.
«Что же это за зверь? — подумал Дило в десятый раз. — Быть может, это дьявол?»
Но до сих пор Дило не верил, что духи и дьяволы существуют отдельно от людей и зверей.
Однако о таком звере не рассказывал ни один анакский охотник. Дило стал думать дальше и вспомнил рассказы о сказочных Реках. По рассказам, Реки были огромные звери, и люди вели против них истребительную войну. В одной сказке страшный Рек напал на целое племя и истребил всех людей, мужчин и женщин. В другой сказке, напротив, люди умертвили Река и бросили его тело около стойбища. И когда не хватило припасов зимою, люди взялись за тушу Река и стали срезать мясо с костей. Но каждую ночь кости снова обрастали мясом, и туша принимала прежний вид. Всю зиму племя питалось неистощимым мясом Река, но весной пришла зараза и унесла всех. Река тоже не стало. Он исчез, отомщенный.
«Быть может, это тоже Рек», — думал Дило. Но сказочные Реки описывались иначе. Они были с рогами на носу, с твердой острозубчатой спиной, с чешуйчатой шеей. У многих были перепончатые крылья, как у летучих мышей.
Этот Рек был гладкий, серый, без рогов и без крыльев. Голова и шея у него были, как у гигантского змея, и когти длиннее, чем у медведя, и хвост, как длинная ладья, и глаза, как угли из костра. Дило не знал, куда его причислить.
Горбун вернулся домой к вечеру, перед закатом солнца. День, впрочем, был облачный, и солнца не было. По небу ползли тяжелые серые тучи, похожие на чудовищ. Мальчик, однако, не думал о небе и о тучах. На нем не было лица, глаза его выкатывались из орбит. Он бежал по старой привычке своей на четвереньках, и дыхание его выходило со свистом от быстрого бега.
Мужчины и женщины побросали свою работу, вскочили с мест и бросились ему навстречу.
— Кто гонится? — кричали они с тревогой. Но он прокатился мимо, как испуганный заяц, вскочил в пещеру и забился в темный угол женского шалаша. Ему казалось, что под этой двойною кровлей, каменной и травяной, он будет более безопасен от страшного врага. Мужчины с недоумением смотрели в сторону его прихода, но там ничего не было видно. Женщины и дети столпились у входа пещеры и ждали, чтобы Горбун показался. Но Дило упрямо сидел в спальном шалаше.
— Дило! — наконец окликнула его Аса-Без-Зуба, которая подошла сюда одною из первых.
— Я… — боязливо отозвался голос из темной глубины.
— Выходи, Дило!
— Я боюсь!..
— Никого нет. Выходи. Кто напугал тебя?
— Зверь, — сказал Дило тихо.
— Какой зверь? — спрашивали Анаки наперебой. — Никакого зверя не видно.
— Может быть, Пестрый, — сказала Аса участливым тоном. Под этим именем Анаки подразумевали тигра. Но другие засмеялись. Трудно было предполагать, чтобы пестрый хищник дал уйти этой неловкой хромой добыче.
— Может быть, крыса, — сказала насмешливым тоном Элла Сорока, которая тоже была тут, впереди всех.
— Зверь, дьявол! — сказал наконец Дило.
— Какой дьявол? — переспросила Аса с недоумением. — Дьявол, Рек…
— Ты расскажи, что ты видел, — терпеливо сказала Аса. — Какой он был из себя?
— Как гора, — сказал Дило.
Женщины смотрели на него с растущим изумлением.
— Зверь-Гора? — высказала Аса предположение. Она подумала о Мамонте. Дило покачал головой.
— Больше Зверя-Горы, больше утеса… Сдвинулся вниз, и камни посыпались.
— Обвал?.. — сказала Аса опять.
— Не обвал, — сказал Дило с раздражением. — Каменный Рек, живой каменный дьявол.
Мужчины тоже подошли.
— Что же он делал? — спросил Map с любопытством.
— Ел. Вытянул шею и съел двух Буа. О, какие зубы! Я сам видел…
Он даже зажмурился, как будто отгоняя от себя страшное зрелище.
— А тебя вот не съел, — настаивала Элла по-прежнему насмешливо.
— Если бы был Рек, — вмешалась Илеиль, — дышал бы огнем.
— Дышал огнем, — тотчас же откликнулся Дило. Он не стал спорить против этой новой подробности. Его собственное неверие исчезло без следа. И он готов был поверить во все сверхъестественное. Теперь ему действительно казалось, что страшный зверь дышал огнем.
Альф Быстроногий пожал плечами и сказал:
— Гора… Дышит огнем… Приснилось ему…
Он полагал, что Дило заснул и видел во сне огнедышащую гору. На восток от Анакской земли была гора Музач, которая дышала огнем. И иногда скитаясь в той стороне, охотники видели в ночные часы тусклое зарево над ее вершиной. Но в этой местности не было гор, дышащих пламенем.
— Я не спал, — угрюмо возразил Дило. — И совсем не гора. Зверь — как гора. Спина из плит. В глазах огонь и камень. Лапы и пасть. О, какая пасть! Схватил большого Буа, и кости хрястнули…
Альф посмотрел на него недоверчивым взглядом.
— Это не сказка? — спросил он подозрительно. — Ты мастер на сказки… Где это было?
И Дило отвернулся от него и еще угрюмее сказал:
— Не знаю, отстань!..
Юн Черный, стоявший поодаль, слушал внимательно. Теперь он тоже подошел и спросил:
— А какое у него было лицо?
— Такое, каменное, — тотчас же ответил Дило.
— Белое?
— Да, серое, — Дило кивнул головой.
— Серебристое, мерцающее?
Мальчик кивнул головой с новой готовностью. Вопросы Юна совпадали с настроением того дикого ущелья и голых камней, грязно белых, ало мерцающих, странных.
Юн немного помолчал и потом сказал:
— Это Месяц.
Спанда тоже приблизился. Два колдуна стояли друг против друга с хмурыми лицами.
— Какой Месяц? — проворчал Спанда. — Я не понимаю.
— Лунный Дракон, — твердо сказал Юн. Племя стояло и ждало разъяснения.
— Вы знаете, — сказал Юн, — что в темные дни, после ущерба, Месяц приходит на землю и становится Драконом.
— Что ты говоришь? — сказал с удивлением Спанда. — Месяц вон там, на месте своем.
И, будто в подтверждение, на горизонте разорвались тучи; вышла полная луна и белым глазом своим посмотрела на Анаков.
— Место его на земле и на небе, — сказал Юн упрямо. — Ходит, где хочет.
— Зачем бы ему приходить? — усомнился Спанда снова.
— Мы обещали ему жертву и удержали ее, — сказал Юн. — Затем, должно быть, пришел.
— Ты обещал, — сказал Спанда с ударением.
— За племя обещал, — жестко возразил Юн. — За весеннюю добычу.
Анаки молчали.
— Теперь надо отдать, — сказал Юн. — Завет переступили.
— Кого отдать? — сурово спросил Спанда.
— Белой телицы замену, — сказал Юн бесповоротно, — чтоб хуже не было.
— Меня отдайте, — вдруг крикнул Дило. — Я переступил завет.
— Молчи ты, — крикнула Аса с испугом. Если бы раскрылся их маленький грешок во время праздника, рассерженные Анаки могли бы побить их камнями по старому обычаю.
— Ты дешево стоишь, — сказал Юн, — если он сам не захотел взять.
— Постойте, — сказал Спанда. — Вот завтра мы пойдем и посмотрим, какой Дракон и чего он хочет.
— Завтра праздник, — заговорили Анаки.
— Ну после праздника, — сказал Спанда, — утром. С бубнами пойдем и с дарами. И спросим его. Если он там и хочет, пусть скажет… Мы дадим.
— Мы дадим, — угрюмо подтвердил Юн, — чтоб хуже не было.
Глава 10
Праздник начался на другой день с рассветом. Женщины плотно завесили вход в пещеру и развели огонь. Своды пещеры наполнились дымом, пахучим и едким. В пещере было темно, и искры огня сверкали сквозь дымную завесу, как будто в сумраке ненастного вечера.
Около костра, на видном месте, устроили «гостей». Это были воскресающие звери. Главное место занимал Мамонт Сса. Он был представлен куском собственной шкуры, на которой лежали оба глаза, щепотка шерсти с подгрудка, частицы сердца и печени, крошки мозга, кусочки жира от почек. Мертвые глаза были круглые, матовые, с жилками пожелтевшей крови. Их повернули к огню зрачками, и дымное пламя слабо отразилось в их тусклом овале.
Рядом с глазами стояла фигурка Мамонта, сделанная из жертвенных трав, истолченных и смятых в тесто. Это была душа Мамонта, — вторая, съедобная. Анаки съели ее вместе с мясом и заменили фигурой. Главная душа, не съедобная, незримо витала тут же. Рядом с душою Мамонта лежало тело мальчика Лиаса. Перед Мамонтом на шкуре лежала новая одежда: два пучка травы, тщательно подобранной, былинка к былинке, и перевязанной корою, и отборная пища — сушеный жир, лесные яблоки, ягоды. Это были дары гостеприимства высокому гостю.
Женщины и мужчины доставали из сумок символы других зверей и раскладывали на шкурах. Олени были представлены куском нижней челюсти с мелкими, недоразвитыми резцами, лошади — желтым копытом, волки — шкурой с лапы, медведи — черным обрезком кожи от носа. Здесь были также уши зайцев, крылья лебедей и гусей, кости крупных рыб. И хотя от каждой добычи была взята только небольшая частица, все вместе составляло значительную тяжесть. Анаки переносили ее на своих плечах вместе со своим несложным скарбом. Весь этот сбор нужно было непременно принести на Праздник Воскресения Зверей, ибо без этого звериная порода должна была иссякнуть и охотничье счастье споткнуться о камень неудачи.
Женщины разложили эти звериные мощи кругом Мамонта Сса, каждую породу особо. Спанда и Юн достали две кожи жертвенных бубнов, размягчили их жиром и натянули на деревянные ободья. Эти два бубна они повесили над гостями. Один назначался для Мамонта Сса, другой для младших гостей. Мужчины и женщины тоже натянули на ободья кожаные пленки и вооружились звонкими заячьими лапками, засушенными от долгого употребления и черными от копоти.
Женщины украсили свои плащи пучками разноцветной шерсти, окрашенной алой корой ольхи и черным дымом можжевельника. Старая Лото скрылась в женском шалаше. Она должна была выйти оттуда потом, в середине праздника.
Исса взяла бубен и стала обходить все углы пещеры, расселины, проходы, отверстия наружу. У каждой щели она останавливалась, постукивала в бубен заячьей лапкой и шептала: «Чужие, не входите». Это делалось для того, чтобы обезопасить церемонию от вторжения посторонних духов. Они могли расстроить переговоры с гостями, захватить часть жертвы и вообще нарушить великое празднество Анаков.
Женщины сели на корточки рядом, по левую сторону огня, лицом к звериным символам.
Мужчины встали с бубнами по правую сторону.
По знаку, данному Иссой, женщины завопили неистовым голосом.
— Пришли, пришли, пришли!..
— Привет гостям, — отозвались мужчины и ударили в бубны.
— Вы устали? — спрашивали женщины ласковым тоном. — Разденьтесь. Мы приготовили вам новые плащи. Вы озябли, погрейтесь у огня. Вот пища, питье. Вот постель, отдохните.
Мужчины изо всей силы колотили в бубны. Тугая кожа звенела. И в глубине пещеры отдавалось смутное эхо.
— Тсс, — сказала Исса предостерегающе, — гости спят.
Бубны и голоса разом смолкли. В пещере стало тихо. Женщины сидели, не шевелясь, и смотрели друг на друга напряженно-предостерегающим взглядом. Во время сна гостей нельзя было даже шелохнуться. Каждый шорох предвещал неудачу виновнице и оплачивался потом какой-нибудь легкой карой. Либо лопнет горшок для варки пищи, либо шакалы утащат плащ, либо ребенок заболеет. Без возмездия ни за что не обойдется.
Мужчины тоже стояли неподвижно. Только два колдуна прошли осторожно к месту гостей, сняли два бубна, посвященные им, и стали тихонько постукивать косточкой пальца в натянутую кожу. И эти скользящие, странные, слегка царапающие звуки успокаивали, как колыбельная музыка, и баюкали усталых гостей: «Дын, дын, дын…»
И даже пламя костра горело ниже и стлалось по земле, как будто убаюканное.
Неожиданно раздался густой и низкий храп: «Хррнх…»
— Гости просыпаются, — сказала Исса.
Этот храп был голос Сса, когда он вечером идет на водопой и призывает свою жену и семейство:
— Хрнхрр…
Лото вышла из шалаша с задней стороны и неожиданно появилась пред огнем. Она снова надела ту же странную шапку с меховой полоской спереди. Но теперь она должна была изображать уже не прародительницу Дантру, тетку Мамонта, а самого высокого гостя.
Женщины запели громкий, ликующий гимн:
Сса Помощник, он устроил землю. Реки прочертил, выкопал моря.И под эти ликующие звуки Лото, белая колдунья, живое воплощение бога-зверя, торжественным шагом три раза обошла кругом огня, потом остановилась над маленькой фигуркой Мамонта и снова хрюкнула: «Хрнхрр…» с несравненным искусством.
— Проснулись, проснулись, — кричала Исса. Теперь все женщины повскакали с мест и вмешались в пеструю толпу. Они хоркали по-оленьи, ревели по-медвежьи, ржали, как лошади, выли, как волки, кликали, как лебеди, гоготали, как гуси, жалобно взвизгивали, как зайцы, и тявкали, как молодые лисенята.
Гости-звери проснулись и вселились в анакских жен, которые их съели. В данную минуту люди и их добыча сливались в одно.
Мужчины стучали в бубны и потрясали заячьей лапой, как будто дротиком. Они сохранили свою основную роль охотников-истребителей, но теперь они желали просить у зверей прощения.
— Не сердитесь на нас, — говорил Спанда своим низким голосом.
— Нет, нет, нет, — ревели олицетворенные звери.
— Мы вас не убивали, — уверяли мужчины.
— Нет, нет, нет…
— Молния вас убила огненным копьем.
— Да, да.
— Скалы упали вам на голову. Земля проглотила вас.
— Да, да.
— Мы вас ласкали и грели у огня.
— Да, да.
— Придите к нам в другой раз.
— Да, да.
Неистовство женщин достигло крайнего предела. Они топали ногами о землю, прыгали через огонь, бросались на мужчин и царапали их ногтями и покусывали зубами, изображая радостных, шумных, дружественных диких зверей.
Приближался заключительный обряд отпуска зверей, когда нужно было открыть пещеру, выйти вон и выпустить зверей на волю, рыб — в воду, четвероногих — в поле и птиц — в воздух.
Неожиданно Исса подняла руку, давая обычный знак. Все стихло.
— Слышу чужое, — сказала Исса, и в голосе ее звучал непритворный страх. Лицо Иссы было обращено ко входу, и все глаза обратились туда. Но там не было видно ничего постороннего.
— Вижу чужое, — еще раз сказала Исса и протянула руку к завесе входа. Все ждали, не двигаясь с места, и через минуту один край завесы слегка отодвинулся и в пещеру скользнула маленькая юркая тварь.
В ней не было с виду ничего опасного. Это была обыкновенная крыса-пеструшка, с серой спиной и белым пятном на груди, из тех, которые тысячами снуют по пустыне и служат лакомой добычей лисице, горностаю и всем мелким хищникам полей и лесов.
Анаки тоже, случалось, ловили и ели крыс, но они презирали их и не давали им места на осеннем празднике. Эта крыса явилась незванно и видимо желала принять участие в общем воскресении зверей.
— Прочь, — крикнула Исса и махнула рукой, но крыса как будто не слышала. Она двигалась вперед какими-то странными, дробными шажками, поравнялась с костром и остановилась. И вдруг, как будто заразившись недавним безумием воскреснувших зверей, стала корчиться, прыгать, бросаться в разные стороны. Обежала вокруг огня, вскочила на ложе Мамонта, разбросала частицы и тотчас же скакнула вперед и исчезла в темной глубине пещеры.
— Что это это было? — спрашивали Анаки. Крыса или тень?
— Не знаю, — сказала Исса. — Забота нежданная.
Ибо, по анакскому поверью, в образе крысы людям являлась забота. Она приходила нежданно и своими острыми зубами грызла покой человека.
— Это Рек послал, — сказал угрюмо Юн, — чтобы вы не забывали о нем.
— Надо гадать, — предложил Спанда, — тогда все узнаем.
На празднике Зверей совершалось гадание о ближайших судьбах племени, об охотничьей удаче, болезнях, нападениях соседей, кознях злых духов, внутренних ссорах. Оно производилось через посредство главного гостя — Сса-помощника. Ему задавались вопросы, и он отвечал на них, как умел, самыми простыми, наглядными знаками.
Для этой цели Спанда установил перед костром небольшое коромысло. Потом завязал в обрывок шкуры смертные останки Сса, лежащие на ложе, и повесил клубок на конец коромысла.
— Кто будет спрашивать? — сказал он.
По обычаю задавать вопросы должна была молодая девочка или девушка из непосвященных.
— Пусть Милка спрашивает, — сказали женщины. Но Милка не хотела спрашивать.
— Ой, что вы? — сказала она, отбиваясь от подруг. — Что вы, чертовки? Я не хочу, я боюсь.
Женщины вытолкнули ее вперед.
— Положи руку на этот конец коромысла, — сказал Спанда. — Вот на этот, свободный.
Милка положила руку, хотя и не очень охотно.
— Теперь говори: «Сса, скажи, как будем есть и жить в наступающем году?»
Милка молчала. Ей было страшно задать этот зловещий вопрос, ибо отрицательный ответ на него мог предполагать повальные болезни и голодную смерть.
— Говори: «Как будем жить и есть?» — настаивал Спанда. Милка повторила фразу.
— Теперь тяни.
Именно в этом состояло гадание. Чем легче поднималось коромысло, тем благоприятнее был ответ. Милка потянула за коромысло, но оно не поднималось. Мамонт не хотел отвечать на вопросы племени. Его символическое тело как будто приклеилось к земле и не хотело отставать.
— Тяни, тяни, — говорил Спанда с оттенком нетерпения. Милка потянула изо всей силы. Клубок, завернутый в шкуру, вдруг подскочил вверх, соскочил с рычага и попал прямо в огонь. Пламя жадно лизнуло наружную обертку, запачканную жиром. Сса, очевидно, предпочитал сгореть на костре, чем отвечать на вопросы Анаков.
Со стесненным сердцем Анаки докончили обряд. Они открыли завесу входа и вынесли наружу на растянутых шкурах символы зверей и понесли их на отпуск. Когда они проходили по полю, щуря от солнечного света свои покрасневшие глаза, они увидели другую серую тень. Она скользнула мимо и побежала в сторону. Это была тоже крыса, — та же самая или другая, никто не знал. Мальчик Рум не вытерпел и бросил в нее камнем, но не попал. Тем не менее, крыса упала и вытянула ноги, и когда ребятишки подбежали, она издыхала в конвульсиях. Кровавая пена била у нее изо рта и пачкала белый передник на ее груди. Они не знали, что с ней делать. Она, очевидно, решилась купить собственной смертью право на воскрешающий отпуск. И, после некоторого колебания, Анаки решили уступить ей. Женщины положили ее тело на шкуру и понесли вместе с другими.
Исса захватила с собою головню из костра. Они отошли от пещеры довольно далеко, натаскали дров и разложили огонь. Он поднялся высоко, желтея на солнечном свете своим проворным языком. Они ссыпали в костер останки отпускаемых зверей и сожгли их в пламени. В то же пламя они бросили жертвы — жир и тертые ягоды и даже предметы утвари: миниатюрные циновки, горшочки из сырой глины, деревянные подобия ножей и топоров. Ибо воскресшие звери уходили на далекую родину и должны были жить там полным хозяйством.
И вслед за фигурой Мамонта Сса Исса бросила в огонь другую фигуру из тех же трав, человеческую по форме. Это был мальчик Лиас, которого она отдавала ему в вечные слуги.
Костер рассыпался и стал догорать. Исса взяла горсть пепла и пустила по ветру.
— Уходите, — сказала она.
— Да, да, — вторили женщины.
— Потом возвращайтесь.
— Да, да.
Это и был отпуск.
После того они пошли к речке для рыбного отпуска. Но когда они спускались к берегу, случилось новое диво, страшнее предыдущих.
Толстый Несс, который молчал весь день и даже в бубен бил неохотно, вдруг прыгнул вперед и стал скакать, как будто одержимый. Он выбрасывал в сторону руки и ноги, корчился, сгибаясь почти до земли, потом отскакивал назад, как будто отброшенный невидимой рукой.
Map подскочил к нему с удивлением и беспокойством:
— Чего ты, Несс?
Праздник любви прошел, и их дружба возобновилась.
Несс бормотал что-то невнятное. Он посмотрел на своего товарища мутными глазами, как будто они были покрыты пеленою тусклого Хума. Потом он остановился, шатаясь, как пьяный, но лицо у него было не красное, а бледное, как мел.
Еще через минуту он снова отпрыгнул и крикнул: «прочь!» и сделал движение, как будто палкой ударил. Ему мерещилась крыса. Потом он бросился бежать, споткнулся и упал. Лежа на земле, он продолжал корчиться. Язык у него вывалился изо рта, распухший, с белым налетом, и изо рта побежала кровавая пена на белую грудь, точь-в-точь как у пеструшки.
Они наскоро докончили обряд, потом подняли Несса и понесли в пещеру. Он был очень тяжел. По дороге он продолжал корчиться, вырывал у них свои руки и ноги и хрипло кричал невнятные слова. И когда они поднесли его к пещере, он вытянулся и затих. Лицо у него стало страшное, синее, в пятнах.
Они положили его на шкуре перед огнем, там, где недавно лежали воскресшие звери. Он не шевелился и не говорил ни слова, ибо был мертв. Он лежал у огня, как новое воплощение, незваный таинственный гость, который явился неведомо откуда и требовал у Анаков жертвоприношений важнее тех, которые они давали на отпуск костям Медведя и Мамонта.
Глава 11
Мрачно прошла эта ночь для Анаков. Мертвеца можно было унести в поле только на следующее утро. Но, по обычаю племени, люди не могли ночевать под одной крышей с покойником. Мужчины и женщины ушли из пещеры. Было холодно и сыро. Шел мелкий дождь. Анаки попрятались в расселинах, каких было много вблизи их главного обиталища, улеглись на холодном камне и чутко дремали в ожидании утра.
Только Спанда и Map остались в пещере наблюдать за покойником, ибо мертвецы в одиночестве коварны. Оставаясь без свидетелей, труп мог бы очнуться и запрятать в пещере злые чары в наследство живущим.
Мертвец лежал на шкуре у огня. Спанда уселся в головах на широком камне, взял бубен и стал слегка поколачивать пальцем о край обода. Бубен тихо звенел, как будто плакал. Этот звон должен был усыплять мертвеца и смягчать его мысли, горькие и злые, перед отходом в область тихого мрака, в страну загробную.
Map сидел у ног покойника несколько сбоку и смотрел в лицо своего бывшего соперника. Огонь мелькал и вспыхивал, и по лицу Несса пробегали тени, и казалось, что он шевелит губами и что-то шепчет, и подмигивает, и слегка кивает головой.
И в ответ на эти мелькающие жесты Map стал говорить с Нессом.
— Сердишься, Несс? — спрашивал он. — За что? За девку? Ну, больше не будем драться. Хочешь, бери ее себе…
И Несс кивал головой.
Дети сбились все вместе, в расселине слева, малыши и подростки, мальчишки и девочки. Они жались гурьбой, как белки в древесном дупле в холодное зимнее время. И, несмотря на темноту и жуткую близость неведомых духов, они шептались тихонько между собой.
— Отчего он такой синий, — шептала Милка, — а она серая?
— Я убил ее, — сказал Рум старший не без некоторой тайной гордости.
— Ты не попал, — возразила Милка с оттенком прежнего задора.
— Шш… — шипели соседи, — молчите!
Но проходила минута, и Милка снова задавала вопрос:
— А отчего они скакали?
Дило тоже был тут, но поместился поодаль.
Еще со вчерашнего дня дети сгорали от любопытства и приставали к нему с расспросами во всех промежутках праздника. Но Дило хмурился и отвечал коротко: «Отстаньте». Он прятался от них целый день, но теперь ему было страшно одному.
Он старался заснуть, но не мог.
Глаза его сами открывались и устремлялись в темноту; осенняя ночь была черна, как пещера. Кругом было тихо, дети молчали, но ему начинало казаться, будто что-то маленькое, неуловимое, крадется за его спиной. Он вздрагивал и оборачивался, но того уже не было сзади. Оно проходило теперь впереди, как серая тень. Оно постоянно меняло форму, съеживалось и расширялось, было, как головка одуванчика и даже как пушинка, потом становилось, как клуб перекати-поля, бегущего по ветру, тотчас же бежало само, на длинных бессчетных ногах, как серый паук, и глаза у него были, как яркие уколы, алые и злые. Оно поднималось на воздух и металось, как нетопырь, проплывало мимо, как серая сова, и задевало его мягким крылом по лицу.
Он вздрагивал и просыпался. Было темно и тихо. Только дождь шумел снаружи. Дождевые струи тянулись прямо, как нити, шуршали дробно и монотонно. А оно опускалось на землю и становилось пушистым, как мех, и шуршало по земле мягкими лапками и двигалось прямо, как нить. Только глаза сверкали, как алые искры.
Голова Дило опускалась ниже, и оно останавливалось и вдруг без всякого усилия меняло размеры и становилось горой. Крутая спина вырастала и вставала, как вал, над темным ущельем, алые камни огненных глаз сверкали загадочным блеском, серая голова тянулась вперед с разинутой пастью. Он делал страшное усилие и просыпался с криком. Все становилось иным. Вместо ущелья была лощинка за пещерой и вместо серого Река — серая крыса.
И сам он тоже был иной — измененный, слабый и крохотный, как муха, и серая крыса казалась ему, как прежде, горою. Это был тот же Рек, пламенноокий и страшный. Он глядел на Дило своими страшными глазами и тянулся к нему с той же разинутой пастью.
До самого утра грезил Дило, и только когда поздний рассвет забрезжил на востоке и осветил расселину, он упал на землю и заснул, как мертвый. И отошли от него и Реки, и крысы, и страшная смерть, витавшая над стойбищем. Но только сон его был тяжелый и черный, как преддверие смерти.
Вместе с рассветом Анаки проснулись и закопошились у пещеры. Но наступившее утро было для них печальнее минувшего вечера, ибо не все поднялись с сырого ночлега. Пенна Левша, старшая сестра Дило, не могла подняться с места. Она осталась под каменным кровом, прижалась к стене, как раненый зверь, и не отвечала на вопросы.
Map вышел из пещеры, но другие посмотрели на него и отшатнулись в страхе. Он как будто распух и стал толще, и вдруг сделался странно похожим на своего друга-соперника Несса. И лицо у него было такое же синее. Глаза у него были пьяные от Хума неведомой заразы. Он шел, спотыкаясь и держась за голову руками, потом уселся у скалы и стал покачиваться из стороны в сторону с каким-то странным жужжанием. Не то он пел, не то стонал.
Рея-Волчица нашла у своей груди младенца мертвым. Ее недаром звали в племени Волчицей. Она была вне себя от горя и ярости. Она подбежала к пещере, высоко неся в руках маленький трупик, и сунула его к самому носу Черного Юна, ночного колдуна.
— Ты жертву требовал, — крикнула она, — с Реком твоим. Нате, жрите!..
Юн молча принял маленький трупик и внимательно осмотрел его.
На вялой шейке были два маленьких черных пятнышка.
— Это знаки Дракона, — сказал Юн, — теперь сами видите.
— Ну, пойдем, — сурово напомнил Спанда. — Найдем, узнаем…
Юн хотел что-то ответить, но в это время к пещере подошла его дебелая подруга с Мышонком на руках. Ее сытое лицо было встревожено. Мышонок хныкал и держался руками за голову.
Юн схватил своего сына и стал жадно рассматривать его тельце. Никаких знаков не было. Но глаза у него были мутные, и щеки горели неестественным румянцем.
Юн сердито оттолкнул жену, прижал ребенка к груди и стал бегать по площадке перед пещерой.
— Мышонок, не плачь, — говорил он каким-то сдавленным голосом. — Не надо хворать. Мы в лес пойдем, зайца поймаем. Пусть зайчик хворает.
— Идем к Дракону, — напомнил Спанда.
— Прочь! — крикнул яростно Юн. — Ночью пойдем, в темное время…
— В лес! — крикнул он еще раз, подхватил одной рукой копье, другою — бубен, посадил ребенка на плечи и крупными шагами скрылся в ближайших кустах.
В этот день не было больше умерших, но захворали еще две женщины, — русоволосая Илеиль и Санния, уже пожилая, в волосах у которой были снежные нити.
Женщины внесли больных в пещеру и положили у огня. Только Map остался снаружи сидеть у скалы, несмотря на холод.
Юн вернулся из лесу, когда смеркалось. Он нес Мышонка у груди, завернутого в плащ. Мышонок спал.
Тучи на небе стали редеть, бледный месяц тихо поднимался с востока.
— Идем, — сказал Спанда, — я тоже бубен возьму.
— Не надо, — сурово возразил Юн и отбросил свой собственный бубен с явным презрением.
— Какие дары? — спросил Спанда.
— Не надо даров, — сердито буркнул Юн. Он постоял с минуту в нерешимости, сжимая в объятиях спящего младенца, потом решился и передал его Юне. И тотчас же с угрозой поднес к ее лицу свой крепкий кулак.
— Если не сбережешь — убью, — сказал он отрывисто.
Он не взял даже копья и вместо того подхватил кремневый топор, тяжелый, с длинной ручкой, помахал им в воздухе и сунул за пояс.
— Идем, Спанда.
— А Дило где? — спросил старик. — Он должен показать путь.
Они отыскали Дило на прежнем месте, под каменным навесом. Дило все еще спал, и все усилия растолкать его остались безуспешными.
— Хоть место назови, — настаивал Спанда.
Дило подымал голову, мычал что-то и снова падал на землю.
— Болен, — сказал Спанда.
— Боится, притворяется, — сказал Юн с презрением. — Копьем бы его.
Но вместо копья он сердито ткнул Горбуна носком ноги.
— Падаль… Без него найдем.
Они вышли на площадку перед пещерой. Юн бегло взглянул на месяц, потом повернулся по очереди на все четыре стороны света, выбрал направление и твердым шагом двинулся в путь. И это было даже не то направление, по которому Горбун вернулся на стойбище. Оно лежало левее. Но точно так же, как Дило, два колдуна пересекли первую гряду, спустились вниз; потом они поднялись на вторую гряду и пошли по гребню. Избранный ими путь был удобнее пути Дило, ибо им не попадались обрывы и густой кустарник. Они шли скоро и безостановочно.
Юн шагал вперед так уверенно, как будто страшный Рек подавал ему издали беззвучные, но верные сигналы. Время шло. Месяц поднимался к зениту пядь за пядью. А ночь становилась гуще и дремотнее. Они перешли еще две гряды.
— Где же Дракон? — проворчал Спанда, споткнувшись о камень, и вдруг остановился и застыл на месте, как вкопанный.
На склоне горы, над темным ущельем им представилось поразительное зрелище. На твердом камне покоилась огромная фигура. Она казалась черною на фоне ночного неба и выглядела, как грузная глыба, оторванная от ближней скалы. Но, присмотревшись, они разобрали крутую спину, могучий хвост и плоскую голову на вытянутой шее.
Дракон сидел, нагнув голову к земле. И его алые глаза отсвечивали блеском месяца. Голова его шевелилась вправо и влево. Они припали к земле и со страхом следили за этими однообразными движениями.
Спанда понял странные слова Дило: «Каменный Зверь, Живой Камень». Чудовищный зверь казался каменным даже в своих движениях.
А перед Драконом они увидели новое диво. Ибо весь склон горы был покрыт маленькими движущимися фигурками. Это были пеструшки. Их легко было узнать в свете месяца. Их были тысячи и тысячи, без конца и без счета, как песчинок в пустыне. Они двигались вперед и шли прямо на Дракона. И чудовище, пригнув голову книзу, глотало их одну за другой своей глубокой темной пастью. Она была такая большая, что пеструшки, кажется, даже не понимали, в чем дело. Быть может, им казалось, что передние колонны проходят в какую-то темную арку, сквозь сердце скалы. Они шли, не останавливаясь, и Дракон глотал их мерным движением. И в свете месяца казалось, будто льется странная, живая, кишащая река, поднимается снизу вверх, вопреки законам тяжести, и вливается в Дракона.
Когда колдуны увидали это странное зрелище, они сдвинулись с места и поползли наискось горы. Они не смели подняться ближе к страшному Реку, но они подобрались почти вплотную к живому потоку. Это были пеструшки-странники, мельче обыкновенных и поразительно однообразного вида. Они шли правильными рядами, как катятся волны по мелкому песку. Но, приглядевшись внимательно, Спанда и Юн увидали, что не все крысы были в одном состоянии. Огромное большинство шло, соблюдая странный порядок, но были и такие, которые выскакивали из рядов, кружились и даже кувыркались. Иные падали и катались на месте, препятствуя движению задних рядов, а затем замирали в неподвижности. Другие поднимались и снова ползли вверх и через силу доползали до этой всепоглощающей пасти.
Время катилось вперед, пеструшки поднимались вверх, и Дракон их глотал без устали, как бездна. Этому, казалось, не будет конца. Тогда Юн Черный выпрямился и сделал шаг вперед по направлению к Дракону.
— Слушай, бог, — сказал он громко, обращая лицо свое к лицу чудовища.
Рек шевельнулся и будто прислушался. Или, быть может, он, наконец, ощутил сытость в своей огромной утробе.
— Там есть маленький мальчик, — сказал Юн и указал головой в сторону стойбища. — Ты хочешь взять его в жертву. На что он тебе? Возьми другого.
Дракон молчал.
— Десять возьми, — предлагал Юн, — двадцать возьми. Дракон не шевелился.
— Даю тебе живую часть моего тела! — крикнул Юн. Он выхватил топор, опустился на одно колено, положил левую руку на камень и с размаху ударил топором по мизинцу. Кость хрустнула, и палец повис у нижнего сустава на сплющенных волокнах. Юн вынул нож и быстро перерезал расплющенные ткани. Потом правой рукой бросил палец по направлению к Дракону.
— Вот кровь моя, — прибавил он, махнув левой рукой, и брызнул в сторону Дракона свежей кровью из обрубленного пальца.
Рек поднял голову выше и поглядел на колдуна своими яркими глазами презрительно и высокомерно, потом повернулся и пополз в гору, направляясь к Кандарскому устью. Он был сыт и даже устал от мясного потока, и ему не было дела до этих ничтожных людских приношений.
Юн еще постоял, потом опустил руку, вынул из мешка приготовленные листья, обернул ими обрубок пальца и, не говоря ни слова, пустился в обратный путь.
Спанда покачал головой, но тоже не сказал ничего и последовал за Юном.
Они вернулись обратно с рассветом, но лагерь уже не спал. У входа в пещеру горели два костра, и люди растерянно бегали взад и вперед. Ибо за минувшую ночь страшная сеть неведомой заразы унесла прежние жертвы и опутала новые. Пенна и Илеиль лежали на своих ложах мертвые. И даже после смерти их лица и тела покрывались синими пятнами и ужасными нарывами. Это дьявол заразы пожирал их трупы, как свою законную добычу.
Еще один ребенок умер у груди матери. Map лежал у скалы снаружи, вытянувшись во весь рост. С этого места он не тронулся со вчерашнего дня. Он еще дышал, но глаза его были закрыты. Были больные среди детей и подростков, и женщин, и мужчин. Иные из них лежали в пещере или сидели снаружи, изнеможенно прислонясь спиною к скале. Других не было видно. Они уползали в кусты и камни и прятались там, как издыхающие шакалы. Исса исчезла одною из первых. У нее была привычка даже без всякой болезни прятаться во время общественных бедствий. Иные покидали Кенайскую гряду и с посохом в руках, через силу, тащились на север к реке Саллии. Они шли умирать на смертном поле Анаков.
Когда два колдуна стали приближаться к пещере, все здоровые бросились к ним навстречу с криками. Даже больные, кто мог, вскочил с места и смешались с толпой.
— Что, говорите! — кричали Анаки с тоскливым нетерпением.
Спанда пожал плечами и сказал, указывая на Юна:
— Его спросите.
Вместо ответа Юн окинул глазами толпу. Юны не было. Он растолкал руками Анаков и бросился в пещеру. При бледном свете огня, который мешался с неверным дневным светом, он увидел свою супругу. Она сидела на длинном бревне с ребенком в руках и качалась взад и вперед, как пьяная. Она подняла навстречу мужу лицо, глаза ее были покрыты тусклой дымкой заразы. Он толкнул ее в грудь и выхватил ребенка. Мальчик был мертв. И даже тело его похолодело. Оно лежало на его руках, вялое, как кожаный лоскут.
Страшный вопль вырвался из его груди. И будто эхо отозвался слабый стон его жены. Но Юн с яростью подскочил к ней опять, изо всей силы ударил ее ногой в живот и выбежал наружу.
— Говори! — кричали Анаки ему навстречу.
— О-о! — ответил Юн воплем, еще пронзительнее первого. — Вот, о-о!.. Рек не хочет замены!..
— Чего он хочет? — кричали Анаки. — Говори!..
— Сам возьмет! — кричал Юн. — Вот, о-о!..
— Что возьмет, кого возьмет? — кричали Анаки.
— Все племя возьмет, — крикнул оглушительно Юн и, сжимая в объятиях труп своего сына, бросился в лес по той же дороге, что и вчера.
Анаки проводили ночного колдуна нестройным воплем, потом заметались кругом, как звери перед потопом. Им казалось, будто страшный Рек уже ползет с горы, чтоб проглотить их. Они дико озирались кругом, ища какой-нибудь защиты. У них еще оставались Спанда и Лото. И они обступили их с криками:
— Сделайте что-нибудь, спасите, защитите!
Лото закрыла лицо руками, Спанда молчал, и жалкие вопли Анаков стали грозны и яростны. Мужчины и женщины скрежетали зубами и сжимали кулаки. Еще минута, и они разорвали бы в клочки бессильных колдунов.
На востоке, в густом и сером тумане, всходило солнце. Оно было бледно-желтое и словно выщербленное и висело над землей, как призрак, и куталось в мутный туман, как будто в саван.
— Солнце, ты видишь, — сказал тихо Спанда, обращаясь к дневному светилу.
Но солнце молчало. В сером саване тумана, в прозрачном свете осеннего утра, оно было похоже на унылый месяц.
— Я мог бы изменить ваши лица, — сказал Спанда, — выбрить волосы, расчертить щеки полосами, мужчинам груди привесить, а женщинам бороды и скрыть вас от духов заразы.
Анаки не отвечали. Но было очевидно, что такие жалкие уловки были бы бессильны, чтобы отстранить нападение духов болезни — могучих, крылатых, всеведущих.
— Я мог бы изменить ваши имена, — сказал снова Спанда, — назвать вас волками или дубами лесными, Селонами чужими, и скрыть вас от врагов.
Он замолчал и задумался. Анаки тоже молчали и ждали. И вдруг Спанда принял решение и снова обратился к племени.
— Слушайте, дети. Чем нам отдавать все племя тому, — он мотнул головой на запад в сторону Дракона, — лучше дадим одного этому. — Он показал глазами на солнце.
— Дадим! — крикнули анаки. — Кого, скажи!..
Они свирепыми глазами смотрели друг на друга, как будто намечая заранее жертву.
— Такого… маленького… — тянул Спанда. — Детские тело и душа слаще.
Его взгляд упал на шустрого Антека, второго сына Майры, который по обыкновению пролез вперед и терся под ногами старших.
— Дадим! — крикнули Анаки. Двадцать рук протянулись к ребенку, но Майра с воплем бросилась вперед и закрыла его своим телом.
Женщины накинулись на нее со всех сторон.
— Отдай, — кричали она, — лишнего чертенка, семя чужое!
— Лишнего взяли, — вопила Майра не своим голосом. — Это — мой сын!
— Этот чужой, — кричали женщины с насмешкой и яростью.
— Оба чужие. Отдай, проклятая!
Они душили ее за горло, царапали ее тело ногтями и как будто хотели отодрать ее по клочкам от обреченной жертвы.
Минута — и Майра отлетела в сторону, ударилась о землю, потом подобралась, села на песке, обхватив колени руками, вся скорчилась, как груда лохмотьев, и застонала долгим, унылым, неторопливым стоном.
Мальчик уже был в руках Спанды. Он был, как в столбняке, от ужаса. Глаза его выкатились. И из полураскрытых губ вырывался такой же жужжащий стон, как у матери.
— Давайте чашу, — сказал Спанда.
Женщины тотчас же достали из мешка огромную чашу осеннего Хума. Спанда вынул из-за пояса длинный костяной кинжал и вонзил в горло жертве. Струя крови брызнула вверх, навстречу дневному светилу.
— Солнце, тебе, — сказал Спанда. Потом повернул мальчика над деревянной чашей. Кровь стала цедиться из детского трупика, как будто из сосуда с узким горлышком.
— Идите сюда, — сказал он Анакам. Они подошли и стали кругом.
— Это вино кровавое, — сказал Спанда. — Хум жертвы солнцу. Возьмите и творите помазание во имя Солнца Отца.
— Солнце, дай защиту!.. — возопили Анаки.
Они опускали в чащу два пальца, макали их в теплую кровь, потом проводили на лбу длинную черту и бормотали: «Провожу реку багровую; все духи утонут, враги захлебнутся».
— Пейте от этой крови, — сказал Спанда.
Огромная чаша с чудовищным алым напитком стала переходить из рук в руки. Все нагибали ее через край и мочили в ней губы, наблюдая, чтобы осталось другим.
Все Анаки, мужчины и женщины, здоровые и умирающие, даже грудные дети вкусили от жертвенной крови.
Только Майра сидела на земле, уткнул голову в колени, и стонала монотонно, как стонет ночное ненастье.
— Майре помазание, — приказал Спанда, и двадцать рук протянулись к несчастной матери. Они откинули ей голову и провели на лбу ту же кровавую черту, потом поднесли ей к устам ужасную чашу. Майра не сопротивлялась, она послушно нагнула голову и вкусила жертвенной крови от собственного сына, потом отклонилась назад, упала на землю и застыла без движения, как будто кровь в ее устах стала могучим ядом, убивающим, как молния.
Глава 12
Юн промчался через площадку и бросился в лес по той же вчерашней дороге. Он несся, задевая ногами молодые деревья, и ему казалось, что от его ударов деревья гнулись, как от ударов лося.
Заяц выскочил навстречу и шарахнулся в сторону, точно такой же заяц, какого они вчера поймали и отпустили живьем, чтобы он унес с собою болезнь Мышонка.
— Зайцы живы, а мой Мышонок умер, — подумал Юн и снова завыл от боли и от гнева. — Подлые, подлые, подлые! — выкрикивал он, и слово это обращалось одинаково и к богам, и к людям-соплеменникам, которые не были взяты мстительным Реком.
— Моего забрал! — сердито крикнул он. — Несытое брюхо! Он опять задел ногою за дерево и больно ушиб колено и света не взвидел от ярости. Даже сына он положил на мох, и, выхватив из-за пояса каменный топор, быстрыми движениями стал обрубать враждебное дерево кругом ствола.
— Вот тебе, вот! — приговаривал он сквозь стиснутые зубы.
Каменное лезвие отскакивало, крепкая дубовая ручка подозрительно трещала, но Юн удвоил усилия, и, наконец, дерево погнулось, треснуло в разрубе и с шумом упало на землю.
— Что, будешь? — спросил Юн с мстительным торжеством и хотел подобрать трупик, но ему пришла в голову новая мысль. Он отыскал два крепких сухих сучка, быстро сделал прибор для вытирания огня, добыл искру, развел огонь. Потом отрубил кусок ствола в три локтя длиною и стал выжигать огнем черное дупло, как выжигают челнок из толстой осины. Он сделал для своего сына погребальную колоду, чтобы дикие звери не съели его тела. Ибо особенно любимых покойников, в отличие от прочих, Анаки хоронили в колодах и подвешивали на деревьях.
Он выровнял бока колоды своим крепким ножом из лосиного рога, потом стал пригонять крышку из толстых, ровно обрезанных палок. Когда все было готово, он поднял маленький трупик.
— Прощай, Мышонок, — сказал он раздирающим голосом и приложился лицом к шее своего ребенка, чтобы втянуть в себя запах сына, как делали Анаки вместо поцелуя. Но знакомого запаха уже не было. Тело Мышонка пахло смрадом, как тухлое мясо из летних запасов. Сердце Юна сжалось, охладело и стало, как труп.
— Прощай, дитя, — повторил он безжизненным голосом. Постлал мху в колоду, опустил туда труп и вбил верхние палки на место. Потом отыскал вблизи высокое дерево, подхватил на плечо тяжелый гроб и полез по сучьям вверх с ловкостью бурого медведя, который влезает к пчелам за медом.
На половине вершины он укрепил колоду в развилке ветвей и крепко привязал ее стеблями лиан. Теперь тело его сына было укрыто от хищников и непогоды.
Он мало думал о том, что ему делать дальше. Хотел было остаться на дереве, у гроба, но что-то будто столкнуло его вниз на землю.
Он, впрочем, не ушел, сел тут же, под деревом, протянул ноги и сложил руки на груди. До самой ночи он не ел и даже не пил и ни о чем не думал. И ему казалось, что тело его деревенеет и ноги пускают корни в холодную землю, и волосы шуршат, как листья, и весь он обращается в такое же бездушное, безжизненное дерево.
Пришла ночь. Месяц вышел на небо и заглянул в лес. Юн поглядел и увидел, что месяц движется так низко, что даже задевает за вершины деревьев и прыгает между ветвей, как белая жаба. Еще минута — и месяц спустился на землю и стал подходить к колдуну.
Он был странен с виду. Тело у него было, как тело Дракона, а лицо, как лицо полной луны, и это лицо в то же время было огромным глазом, и его холодный блеск заглядывал в самую душу.
— Дай, что обещал, — сказал Лунный Рек.
— Нету, — коротко отрезал Юн.
Рек говорил, очевидно, о белой телице.
— Ну, племя дай…
— Не дам, — крикнул сердито Юн, — жадная тварь! Дракон немного подождал и пожевал той странной щелью, которая у него была под светлым диском и заменяла рот.
— Ну, половину дай, — сказал он примирительным тоном.
— Не дам, уйди, — кричал Юн.
— Худшую, больную, — просил Лунный Рек, — что тебе стоит?
Он даже облизнулся и лукаво посмотрел на Юна.
— Уйди, — повторил Юн с угрозой и сжал топор. — Не дам ничего!..
Но в это время с вершины дерева упал слабый голос, как шелест ветра в листьях: «Отдай!..»
И от этого мертвого голоса, знакомого, любимого и странного, Юн в ужасе сорвался с места и побежал куда глаза глядят. Два дня и две ночи бегал он по лесу, не разбирая дороги, забиваясь в самую глушь и опять выходя на поляны и чистые места. Без сна, без еды он скитался, как олень, обезумевший от мошкары, и не находил места, и временами ему являлся загадочный Рек с круглым лунным лицом, одноглазым и светлым, и настойчиво просил по-прежнему: «Дай половину…» Только на третье утро Юн немного пришел в себя, напился из ручья, освежил себе лицо водой и направился обратно к пещере.
Два дня и две ночи мрачно прошли для племени Анаков. Солнце Отец не принял жертвы или, быть может, он был бессилен перед гневом Дракона. Ибо страшная болезнь росла с каждым часом и забирала новые жертвы. Прежде всех она забрала Майру и, не дав ей очнуться от красного хмеля, умертвила ее как камнем по голове. Потом унесла Яррию и быстроногого Альфа, и маленькую Милку, и еще других, взрослых и детей. И с раннего утра здоровые выбивались из сил, унося трупы далеко в открытое поле. Ибо законы Анаков не позволяли держать их на стойбище дольше одной ночи, да и страшно было оставлять их дольше, чтобы они следили за живыми своими потускневшими глазами.
Анаки обвязывали их травой и древесными корнями, прилаживая у головы и ног две широкие петли. За эти петли они уносили мертвое тело, как носят связку сушеного мяса, потом оставляли тело в поле и даже не обкладывали его камнями, как требовал обычай, но тотчас же убегали обратно. И каждый раз, когда одни возвращались, другие снова уходили.
К полудню следующего дня Map закрыл глаза и больше не открывал. Оба жениха Охотницы Дины были мертвы, но она была здорова. Хум болезни имел над нею не больше силы, чем Хум любви. Но глаза ее светились холодным отчаянием, ибо она как будто осиротела без Мара и Несса.
Когда мужчины уносили Несса, она шла сзади. И осталась после того, как все ушли, не опасаясь мертвеца. Ибо она не боялась Несса, ни живого, ни мертвого. Она собрала камни и обложила ими мертвое тело и воздвигла в головах своего покойного друга каменный холмик, чтобы люди и звери, проходя мимо, знали, что это был сильный охотник. Потом посмотрела на него в последний раз и вернулась к Мару. Целый день просидела она над Маром и тихо пела ему сладкие напевные слова. Map по временам поворачивал голову и открывал глаза. Он уже ничего не понимал. Потом он закрыл их в последний раз и больше не открыл.
И тогда Дина встала, завернула мертвое тело в свой волчий плащ, взвалила его на свое сильное плечо и понесла в поле к другу его Нессу. Она положила его на землю рядом с первым покойником, в тот же каменный круг, и выше нарастила каменный холм в головах, чтобы было довольно на двоих, а сама села поодаль, как будто на страже. Теперь она не пела. Покойники молчали, молчала и Дина.
А над стойбищем Анаков стояли плач и ужас и дикие крики. Спанда и Лото еще пытались вести неравную борьбу с коварным духом заразы. Отражать его они не дерзали, но теперь они старались укрыть свое племя, чтобы духи заразы его не нашли и прошли мимо.
Спанда осуществил свои мудрые уловки. Он торжественно дал всем мужчинам и женщинам новые имена и каждое из этих имен отыскал, по примеру гадающих старух, при помощи подвешенного камня, в стране предков, отцов и дедов, давно усопших. Ибо предки во всю свою жизнь не знали подобной заразы.
Рум старший бегал взад и вперед и выкрикивал громко: «Слушайте, духи, я не Рум, я — Лаин! Мой дед, Лаин!.. Старый Лаин вернулся на землю. Я не Рум!..» И Рум Младший, шакал, бегал сзади и жалобно тявкал и будто выкрикивал тоже: «Я не Рум!» Но духи лукаво ловили знакомое имя и узнавали о перемене.
Старая Лото села на краю стойбища в стороне от соплеменников и стала произносить тройное заклинание, самое сильное заклинание анакских колдунов. Она бросала на землю маленький сучок и приговаривала: «Пусть станет непроходимый лес. Грызть вам, не перегрызть!..» Потом она бросала камешек через плечо и говорила: «Пусть станет высокая гора. Лезть вам, не перелезть!» После того чертила пальцем землю сзади себя, не глядя и не оборачиваясь, и говорила: «Пусть станет огненная река. Плыть вам, не переплыть!..» Окончив три заклинания, она опять начинала сначала.
Спанда целый день колотил в бубен без устали и молча, а к вечеру устал и ушел в пещеру, залез в мужской шалаш и утром уже не вышел. Ибо страшные духи заразы желали взять племя Анаков в полном составе, от младенцев до старых колдунов.
Когда Спанды не стало видно, холодный ужас овладел Анаками. Они смотрели друг на друга дикими глазами, как бараны без вожака. Еще минута, и племенные узы были бы расторгнуты, и они разбежались бы врозь и навеки, как разбегается стадо оленей от волчьей погони среди открытой пустыни.
В это время на опушке ближайшего леса появился Юн. Он был совершенно наг, ибо его плащ остался в лесу. Волосы его были полны листьев и колючих шишек. И лицо у него было дикое. Анаки со страхом смотрели на него. За эти два дня Черный Юн как будто сделался Лесным Бродягой, братом враждебных духов. Он был теперь скорее чужой, чем свой брат Анак.
Однако они бросились с криком ему навстречу.
— Говори, мы дадим! Сколько твой бог возьмет?
— Я сказал, — отозвался Юн, спокойно и даже безучастно. — Все племя.
— О-о! — завыли Анаки все сразу, как волки на зимней дороге, не знающей добычи. Они плакали. Из их воспаленных глаз по бурым щекам катились грязные слезы. И руки ломали они и волосы рвали горстями от безысходной тоски.
Юн смотрел на их горе, и ни один мускул на его лице не пошевелился. Однако он произнес почти лениво еще два слова:
— Ну, половину.
— Какую половину? — вопили Анаки. — Ешьте. Мы дадим!
— Худшую половину, — сказал Юн задумчиво, потом остановился и коротко прибавил: — Хворых.
Это было странное, ни с чем несравнимое шествие. Все племя Анаков двинулось со стойбища, направляясь к ущелью Дракона. Оно было готово отдать Лунному Реку всех запечатленных его зловещей печатью. Здоровые вели больных под руки, а других тащили за руки и за ноги, как мешки с мясом. Матери несли на руках грудных младенцев. Никто не роптал, никто не жаловался. Духи смерти витали над племенем и могли взять, кого хотели. Когда проходили мимо пещеры, случилось нежданное. Из черного устья пещеры вышел Спанда. Он был бледен и шел, опираясь на посох, на лице его не было синих пятен. Но пышную бороду свою Спанда оставил сзади, в пещере. В одну ночь она вылезла вся без остатка. Без бороды, с мутными глазами и провалившимися щеками, старый Спанда имел странный и жалкий вид. Он не сказал ни слова, замешался в толпу и вместе со всеми пошел на жертву Дракону, вслед за Юном, вождем.
Когда проходили мимо поля, увидели покойников; они лежали там и сям, обвитые травою. И перед своими друзьями сидела Охотница Дина, недвижная, как камень. Аса окликнула ее, проходя, и тогда снова свершилось нежданное. На оклик встала не Дина, — поднялся один из трупов. Это был Map. Дина подняла Голову, посмотрела на Мара, но все-таки не встала.
С синим лицом и закрытыми глазами, качаясь на ходу, мертвый Map пошел за племенем. Но никто не испугался, ибо всякие другие ужасы бледнели перед ужасом общей гибели. Только Красный Илл вдруг отступил в сторону, пошел и взял с места труп Несса, темный и уже тлеющий, взвалил на плечо и стал догонять племя. И тогда Дина встала и тоже пошла сзади.
Так шли они, здоровые и больные, все обреченные, но желавшие выкупить из двух голов — одну, изо всего — половину. Медленно двигалось шествие. На каждом шагу останавливались. Того или другого схватывали конвульсии, и они извивались, как рыба на сухом берегу, и обдавали кровавой пеной своих поводырей. Другие вырывались и падали на землю и корчились, как черви, и потом лежали неподвижные, но в конце концов вставали снова, как труп Мара, и шли дальше. Как будто чары коварного Река захлестнули каждого незримой петлей и волочили его вперед, волей или неволей, живого или мертвого.
Впереди всех шел Черный Юн, со страшным лицом, похожий на дьявола. Он часто отходил вперед и оглядывался, поджидая толпу, но он не проявлял нетерпения, как опытный ловец, который тянет по берегу ветхою сетью стаю крупных рыб и знает, что нельзя торопиться.
Но когда они спускались с третьей гряды, он снова остановился, потом зашатался и грохнулся на землю и стал извиваться, как скорпион, прижженный огнем. Таких конвульсий еще не видели Анаки даже в ужасах черной смерти. Через минуту он вскочил и вновь свалился. Три раза Юн схватывался с духом заразы грудь с грудью, и нельзя было сказать, кто же сильнее. Ибо в третий раз Юн справился с припадком и пошел вперед тем же странным, размеренным шагом. Только лицо его почернело с натуги. Но Анаки, шедшие сзади, завыли сперва тихо, потом громче:
— Юн тоже, Юн тоже!..
Сильнее и сильнее раздавался этот унылый вопль, обрекавший в жертву болезни и пасти Дракона, вместе с другими, также злого колдуна, Черного Юна.
— Юн тоже!..
И впереди ответил отзвук — такой же глухой, унылый, зловещий:
— Юн тоже!..
Это сам Черный Юн дал ответ.
Он ускорил шаг и почти подбежал вперед. Племя тоже бежало, больные вместе со здоровыми. Они были у самого Кандарского ущелья, где жил Дракон.
Он был на месте обычной засады и сливался с окружающей почвой до полного обмана глаз. В первую минуту они не могли разглядеть его, но потом всмотрелись и разобрали крутую спину, могучий хвост и тяжелое чрево. Все было грузное, серое, каменное. И алые камни пламенных глаз огромного Река сверкали, как два факела. Они смотрели на пришедших и будто считали добычу.
Юн не стал медлить и побежал вверх, прямо к Дракону, и тогда выдвинулась вперед серая, злая голова и подхватила колдуна поперек тела, как луговая кошка хватает ящерицу, и подняла вверх, и посмотрела на Анаков.
При этом неслыханном зрелище внезапный ужас проснулся в сердцах анакского племени. Камни посыпались вниз с боков Дракона прямо на Анаков. И, будто по сигналу, они шарахнулись назад. Матери роняли своих детей и убегали прочь. Юноши и девушки толкали друг друга. Больные убегали, как здоровые. Здоровые, напротив, бросались на землю и лежали, как мертвые. Иные умирали на месте от страха. Это и были обреченные жертвы Дракона. Он мог взять их и пощадить других.
Анаки мчались назад торопливо и слепо, обгоняли друг друга, задыхались, падали, потом вскакивали и бежали дальше. Миновали одну гряду, другую, третью. Когда они свернули на восток и спускались уже к пещере, они увидели возле нее еще раз нежданное. На площадке перед входом стояла фигура. Тонкая она была, белая, с длинными светлыми волосами, совершенно нагая, как будто Камышевая Дева, озябнув в болоте, явилась к людям, чтобы погреться у их огня холодной осенью.
— Кто это? — спрашивали Анаки. — Быть может, защита?..
Ибо в минуту гибели каждое новое лицо могло дать только защиту. Так верили Анаки.
Внезапно Аса-Без-Зуба испустила громкий крик. Она узнала эти острые плечи и волнистые волосы. Это была Ронта, беглянка. Она вернулась к племени в самый зловещий и гибельный час.
Глава 13
От устья реки Даданы Ронта бежала обратно в пределы Анаков.
Дни проходили и дни уходили, она двигалась слепо и прямо, как будто во сне. Она всходила на горные склоны, спускалась в ущелья, переходила через болота и сквозь леса, везде находила дорогу. Ей встречались широкие реки. Она приходила на берег и садилась на камень, и сидела над водой час и другой, и ночевала на песке, потом уходила по берегу вверх и шла до переброда и на другом берегу тотчас же возвращалась на прежний путь.
Луна началась и окончилась, лето минуло и осень настала, что дальше, то холоднее. Она не замечала тепла и холода, все шла и шла, не торопясь, беззаботно и спокойно, то отдыхая, то снова пускаясь в путь. Была она, как Унна, Бескрылая Лебедь из сказки, которая пустилась пешком по осеннему пути догонять своих летучих подруг.
Питалась она кореньями и ягодами, зерна собирала на полях, драла сочную кору с тополей и грызла, как зайцы, орехи находила в зарослях, подбирала ракушки на отмелях. В это время года много было всякой пищи во всех землях. Только ничего живого не ловила Ронта, не проливала крови, хотя бы птичьей, не разводила огня. При ней не было ни копья, ни ножа, ни огнива, но дикие звери не нападали на нее.
Ей встретился однажды большой серый волк; он бежал по лесной дороге, принюхиваясь к следу оленя, ибо для волка и в осеннем обилии нет другой пищи и сытости, кроме трепещущего мяса. Волк пропустил ее мимо, потом остановился и долго смотрел ей вслед. После того он снова повернулся и побежал дальше, но через несколько времени остановился второй раз, потянул носом воздух и шарахнулся в сторону, ибо по следу Ронты так же лениво и прямо шла еще одна фигура, белая, двуногая, высокая. И у ней было копье, и от нее пахло смертью.
То был Яррий. Он следовал за Ронтой, как будто за дичью, никогда не отставал, но не подходил ближе. Когда она останавливалась, он тоже останавливался и ложился на ночлег. День и другой проходили, и он не видел ее, потом где-нибудь на открытом месте мелькал на минуту ее белый силуэт и снова терялся в пространстве. Он знал, куда он идет, но не знал — зачем, только не мог отстать, даже если бы по дороге на каждом шагу грозила смерть. Иногда в его ушах звучали последние слова оленя-двойника: «зарежут, зарежут!..» Но чаще всего ничто не звучало. Он шел так же слепо, как Ронта, и мысли его спали.
Они покинули берег Даданы и шли прямиком, перебираясь через горный кряж. В горных ущельях было морозно, и местами лежал снег. Они прошли босыми ногами по оледенелым камням и даже не заметили. Землю Селонов они перерезали от края до края и область пращников Тосков, но никого не встретили, ибо земли были широки, а людей было мало, и кто не искал, мог перейти через горы и долы и не встретить двуногих, — друзей или врагов. Они стали подходить к зимним пределам Анаков. Ронта шла впереди и увидела Кенайскую гряду и перед ней знакомое поле. Потом перешла поле и нашла родную пещеру.
Здесь было зимнее стойбище Анаков. Она остановилась поодаль. Сердце ее билось, в голове стало яснее.
— Вот здесь они живут, — думала она. По сотне признаков она узнавала, что племя здесь, никуда не ушло. Об этом говорили свежие следы костров, вытоптанная трава, плоские кучи костей, обрезки дерева. Две шкуры, волчья и конская, были растянуты на кольях для просушки. Обе они были еще свежие, сырые.
Дверь пещеры была открыта, но людей не было видно.
«Где же они?» — думала Ронта, не решаясь приблизиться.
Анаки не являлись, и все было пусто и тихо. Только неприбранный детский трупик валялся у скалы. Маленький он был, молчаливый и зловещий, единственный житель безлюдного стойбища. Губы у Ронты дрожали. Еще немного, и она разразилась бы плачем, как плачут испуганные дети, но в эту минуту на ближнем склоне горы из лесу выкатилась фигура, потом другая, потом еще и еще. И почти тотчас же вся толпа с дикими криками бросилась вниз, прямо к ней. Женщины бежали впереди, размахивая руками.
— Беглая, — кричали они, — держите ее! Аса-Без-Зуба добежала первая.
— Шлюха, — крикнула она и угрожающе замахнулась.
— Я не шлюха, — сказала Ронта тихо, но внятно.
— С бродягой жила!..
Они называли Яррия, как изгнанника, бродягой.
— Ни с кем я не жила, — сказала Ронта так же, как прежде.
Ее худощавая, незрелая фигура явно подтверждала справедливость ее слов, ибо после брака девушки пышно распускались и становились женами, и каждая жена носила на себе печать своей зрелости. Но женщины, ослепленные своей ненавистью, не слушали и не смотрели.
— Лжешь! — кричали они. — Беглая, убьем…
В руках у Асы очутилась крепкая палка, и она угрожающе замахнулась, но ударить ей не пришлось. Из женских рядов вышла Охотница Дина и встала рядом с беглянкой. На ней не было плаща, и плечи ее были в грязи. Она имела усталый вид, но в руке у нее было копье. В глазах сверкал отблеск прежнего огня.
— Не трогайте ее, — сказала Охотница Дина. — Видите, она ничего дурного не сделала.
— Я не сделала, — подтвердила Ронта детским тоном.
— Черная корова, — кричали женщины, — побить ее камнями.
Но вслед за Диной среди мужчин отозвался Бледный Рул.
— Не трогайте ее, — сказал он тоже. — Какая же это корова? Разве вы не видите? Это белая телка.
Спанда вышел вперед и встал перед беглянкой.
— Ронта, скажи… — начал он и запнулся. Даже голос теперь у него был иной — жалкий, дребезжащий, старческий. Он как будто одряхлел за эти страшные дни. Вместе с другими он вернулся назад из злого ущелья, нарушив обещание Анаков. Ибо он был больным и не отдался Дракону. Теперь он был, как призрак, ни живой и ни мертвый.
Ронта молчала и ждала.
— …Ты не жила с Яррием?
— Ни с кем я не жила, — повторила Ронта угрюмо.
— Где же ты была?
— Там.
Она указала на северо-запад.
— А он где?
— Там.
Она указала в ту же сторону, но жест ее был короче, и Спанда понял разницу.
— Близко?
— Да, близко.
— О-о! — завыли снова Анаки оглушительным хором. — За вас погибаем. Злодеи, нечестивцы. Убить вас надо.
Аса-Без-Зуба снова выскочила вперед.
— Вы всех убили, — крикнула она. — Даже мальчика Дило, и того вы убили.
Руки ее сжимались в кулаки, на углах рта выступила белая пена.
Но Спанда отстранил ее от Ронты.
— Полно кричать, — сказал он с оттенком прежней строгости. — Я знаю, о чем ты кричишь.
Он посмотрел на Асу острым, загадочным взглядом. Она тотчас же умолкла и попятилась назад.
Рул вышел вперед и неожиданно упал перед Ронтой на колени.
— Мы погибаем за вас, — повторил он, — спаси нас!
Ронта посмотрела на него с испугом и недоумением, потом повела глазами кругом, отыскивая знакомых, и тихо спросила:
— Где Илеиль?
Рул схватил горсть холодного пепла с огнища, посыпал себе голову, потом указал рукой через плечо, в сторону поля:
— Там.
Пальцы его были сложены вместе и протянуты. Этот жест означал покойника.
Ронта немного помолчала и спросила опять:
— Где Литта?
— Там, — указал Рул в другую сторону, к горе. — К Дракону пошла.
— А где Яррия… Где Элла?
И еще два раза монотонно сменили друг друга два жеста и два ответа: «Там, в поле…», «К Дракону пошла…»
Тогда Ронта остановилась, подумала и спросила:
— Какой Дракон?..
— Лунный Рек, Дракон, — ответили Анаки. — Духи Заразы… Убивают незримые…
— Хватает жертву так!..
Мужчины и женщины, и дети кричали наперерыв, строили гримасы и показывали жестами, что делает Дракон.
Рум Старший схватил щепку и закусил ее зубами с свирепой миной. Он хотел изобразить страшное лицо Лунного Река с Юном в зубах.
Ронта молчала в оцепенении.
— Мы обещали ему белую жертву, — сказал Рул. — Оленную жену. Он злится, требует.
Теперь Ронта начала понимать. Рул говорил о белой телице весенней охоты. Грозное слово Черного Юна оказалось правдиво. По вине Яррия Лунный Рек спустился на землю и мстил племени.
— Спаси нас, — снова воскликнул Рул, простирая к ней руки.
— Ваша вина, — прибавил он уныло и с упреком.
— Как я спасу вас? — сказала Ронта негромко.
— Иди к Дракону.
Ронта сделала рукой отклоняющий жест и испуганно отступила назад.
— Мы все ходим, — закричали Анаки. — Теперь ходили. Все племя требовал, взял половину.
— Зачем я пойду? — спросила Ронта снова. Голос ее звучал глухо. В горле у нее пересохло.
— Белой невестой пойди, — сказал Рул, — в белые жены. Ты — чистая, святая. Уговори его, пусть нас оставит. Уйдите на небо назад. Смерть наша…
Ронта молчала.
— О-о! — заревели Анаки. — Смерть наша незримая. Чего ждать? Куда бежать? Лучше покончить жизнь самим.
И быстрые в своих решениях, воины выхватили ножи и подняли их вверх, готовые нанести самоубийственный удар.
— Спаси нас! — быстро и страстно лопотали женщины. — Спаси племя, маленьких детей, еще не рожденных!
Старый Спанда упал на колени рядом с Рулом и прошамкал старчески:
— Спаси племя!
— Мы убьем себя! — кричали мужчины.
Всех громче ревел Илл Красный Бык. Голос его раздавался, как рычанье медведя:
— Убьем себя!
Ронта посмотрела кругом растерянным взглядом. Рядом с ней стояла Охотница Дина, опираясь рукой на копье.
— Что делать, Дина? — спросила Ронта беспомощно.
Дина с минуту молчала. Потом лицо ее как будто окаменело.
— Если можешь, иди, — сказала она.
И Ронта тихо заплакала и сказала чуть слышно:
— Я пойду.
— А-а!
Громкий взрыв радостных криков раздался кругом. Он покрыл горы и долы и вызвал эхо в лесах и ущельях:
— А-а-а!..
Возле пещеры Анаков на малое время ходьбы была кленовая роща. Ровная она была и густая, но в этой роще не слышались девичьи шутки и не совершались женские обряды. Холодный ветер сорвал все листья с развесистых вершин, и они стояли под дождем нагие и печальные, как женщины без плаща.
Но в эту ночь под широким деревом недалеко от опушки горел костер, и у костра сидела Ронта. Она была совсем одна, ибо это был ее обряд, ее одинокий праздник. Подруги совершили его без нее и заключили брак свой и умерли. И к Дракону, в юные белые жены, она также должна была идти одна, без подруг. Охотница Дина хотела сидеть в эту ночь вместе с нею, как старшая помощница, но она отослала ее. Старая Исса явилась неведомо откуда и собиралась зажечь второй костер, как полагалось по обычаю.
— Зачем? — сказала Ронта. — Не нужно.
— Я расколдую тебя, — неожиданно предложила Исса. Она употребила бранное слово: «Ялама», то самое, которое Яррий бросил когда-то в лицо своей подруге.
Губы Ронты задрожали. Перед глазами ее мелькнуло распаленное лицо, залитое кровью, и она готова была вскочить и бежать без оглядки. Но старуха спохватилась и замолкла и почти тотчас же исчезла. И теперь она, должно быть, сидела где-нибудь в темноте, с черепом между коленями, разрушая прежние чары или сотворяя новые.
Это было еще в сумерках. Ронта, оставшись одна, подбросила в огонь новую охапку хвороста, села и задумалась, и забыла о старухе.
Она сидела у костра и смотрела в огонь, но не творила никаких обрядов, никаких заклинаний. Только напевала тихонько про себя старую сказку покойника Дило:
Пять трясогузок сидели под листьями клена…Эти слова напевала Элла-Сорока. Элла тоже была покойница. Все умерли. Она одна осталась.
Она продолжала напевать строфа за строфою старую загадочную сказку.
— Зачем ты? — спросил Дракон. — В жены к тебе, — сказала Рунта. — Как берешь ты жен? — спросила Рунта. — Пастью беру, — сказал Дракон.Она докончила песню, немного помолчала и потом сказала:
— За племя…
В лесу было тихо и спокойно. Неожиданно с опушки долетел знакомый тихий свист пестрой совы Шиана, точно так же, как в тот раз, летом.
— Угу!..
Ронта не пошевелилась. Свист повторился и замер. И через минуту хрустнул сучок на тропинке. Высокая фигура обрисовалась в свете костра. Это был Яррий. Ронта не подняла глаз. Она видела его тень, но не видела его лица.
— Зачем ты пришел? — спросила она после короткого молчания.
— Я твой муж, — отрывисто сказал Яррий.
— Мой муж там, на горе, — сказала Ронта.
— Знаю, — простонал Яррий, — Рул сказал.
И вдруг он упал на землю и стал биться головою о землю.
— Ронта, Ронта, Ронта!..
— Полно, — сказала Ронта. — Сядь здесь.
Яррий поднялся и сел против нее у огня. Теперь она видела его лицо. Оно было, как у безумного. Глаза у него были дикие, заплаканные.
— Не плачь, — мягко сказала Ронта.
— Ронта, зачем? — снова простонал Яррий.
— За племя, — сказала Ронта, — за маленьких детей.
— Из чрева твоего могли бы родиться дети, — заговорил Яррий, — несчетное племя, наше собственное. Ты не захотела…
Ронта покачала головой:
— Я не могла.
— Каждый волос твой дороже Анака, — говорил Яррий. — Капли крови твоей, как яркие звезды. Красное сердце твое, как красное солнце…
— Полно, Яррий, — сказала Ронта снова.
— Не дам тебя за них, — воскликнул Яррий еще страстнее. — Кто они? Трусы, убийцы, рабы!..
— Будут другие, — сказала Ронта коротко.
— Другие будут жить, а ты умрешь. Не дам тебя. Лучше я сам умру! — В глазах его вспыхнула прежняя решимость.
Ронта посмотрела на него с беспокойством.
— Что ты задумал? — спросила она.
Яррий молчал. Лицо его по-прежнему стало сурово.
— Скажи, Яррий?
— Я — воин, у меня есть копье, — сказал Яррий угрюмо.
— Не надо, — поспешно сказала Ронта. — Он сожрет тебя.
— Пусть сожрет! — страстно воскликнул Яррий. — Не боюсь. Ненавижу.
— Он — бог, — сказала Ронта с дрожью в голосе.
— Ненавижу богов! — крикнул Яррий запальчиво. — Не боги — враги. Будь они прокляты!..
— Нас боги создали, — возразила Ронта.
— На гибель создали! — кричал Яррий. — Жить не дают, радость отнимают у нас! Не нужно их!
Он вскочил с места и весь трясся от возбуждения. В эту минуту он верил в богов и ненавидел их, как худших врагов.
— Сядь, Яррий, — сказала Ронта снова. Яррий тотчас успокоился и сел у огня.
— Слушай, Яррий, — заговорила Ронта, — помнишь реку Дадану и наш челнок?
— Помню, — вздохнул Яррий.
— Мы вместе сидели, — сказала Ронта, — сомкнувшись плечами. Ты вперед смотрел, а я назад. Волны бежали за нами и гнались, и не могли догнать.
Яррий молчал. У него голова кружилась от этого острого и яркого воспоминания.
— Теперь я смотрю вперед. Я вижу…
— Что видишь ты? — спросил Яррий.
— Вижу передние волны. Они убегают от нас, — сказала Ронта. Яррий молчал.
— Задние волны, это — минувшие наши, — сказала Ронта, — прадеды, деды, отцы. Они догоняют нас, но не могут догнать. Передние волны, это — грядущие наши, дети детей и внуки внуков.
— Не наших с тобою детей, — сказал Яррий.
— Дети Анаков. Мы тоже Анаки. Вижу внуков и правнуков. Они вырастут, как листья. Каждый ребенок станет народом. Покроют землю.
— Ты не увидишь, умрешь…
— Вижу теперь, — сказала Ронта спокойно, — а смерти не минуешь.
— Я не отдам тебя смерти, — сказал Яррий твердо. И снова вспыхнул тот же спор.
— Не надо, — твердила Ронта. — Он сожрет тебя.
— Кто знает? — угрюмо возражал Яррий. — Я ведь не мышь.
— Он как гора, — говорила Ронта.
— Сса тоже Зверь-Гора, — возражал Яррий, — но люди его побеждают.
— Ты погибнешь, погибнешь, — повторяла Ронта с тоскою.
И Яррий вспыхивал снова.
— Пусть я погибну. Или я недостоин погибнуть с тобою?..
В разгаре их спора с опушки послышался резкий свист, и замелькали фигуры и факелы.
— Беги, — воскликнула Ронта. — Анаки проснулись.
Это, действительно, были Анаки. Они вовсе не спали, глаз не могли сомкнуть от крайней тревоги. Они не смели подойти к костру белой невесты, чтобы не нарушить обряда, но сторожили ее издали, помня о летнем побеге. И теперь они заметили у костра другую фигуру. Быть может, Рул, после свидания с Яррием в поле, предупредил соплеменников.
— У-у! — завыли Анаки. — Бродяга, осквернитель!
Видно было, как они потрясали копьями, но подойти ближе они не решались. Несколько камней и дротиков, брошенных в темноте, ударились в деревья и зашуршали в листьях.
— Беги! — умоляла Ронта. — Они убьют тебя.
— Хочешь, я унесу тебя, — шепнул Яррий. — Мы убежим в дальние горы. Пусть они погибнут. Мы будем жить.
— Нет, нет, — шептала Ронта. — Иди, живи.
Еще один дротик, пущенный издали с неистовой силой, пролетел мимо, очень близко от Яррия.
Ронта вскочила на ноги, подскочила к своему другу, обняла его и закрыла своим телом, чтобы защитить его от смерти.
Она оторвалась от него, потом толкнула его от костра. И такая тревога была на лице ее, что Яррий схватил свое копье и бросился в темноту.
— Держи! — ревели Анаки. — Бей, бей!..
В лесу раздался треск, шум торопливых шагов. И все затихло. Потом на склоне горы высоко над рощей раздался последний пронзительный свист с знакомым переливом. То был свист Яррия.
Ронта уселась у костра. И далеко за полночь, когда Небесный Охотник уже протягивал к зениту свой пламенный Дротик, Ронта, как прежде, сидела над огнем и тихо напевала:
— Как берешь ты жен? — спросила Рунта. — Пастью беру, — сказал Дракон.Глава 14
Солнце только что село, но было светло. Острые зубцы каменной гряды выступали в медном закате, как будто иссеченные кремневым резцом небесного мастера Нейра, сына Солнца. Вечернее небо было ясно. Легкие тучи собрали свои белые перья все до единого и унесли их на полночь. Но узкие стены Кандарского ущелья стояли темные, как будто кого стерегли своими резкими тенями.
Внизу, на подъеме к ущелью, показалась фигура. Она была маленькая, тонкая, нагая; белая она была, как снег, и вся порозовела под ярким отблеском заката. Это была Ронта. Она шла навстречу своему грозному браку.
Сзади на большом расстоянии рассыпались широкой дугой другие фигуры, маленькие и большие, светлые и темные. Это были Анаки. Белая жертва шла впереди, и они не дерзали приблизиться. Но они зорко следили глазами за белой фигурой, ибо желали увидеть до конца брачный пир лунного Дракона и жаждали узнать, найдут ли они после кровавого обряда в свирепых глазах жениха прощение и жизнь. Ронта шла, сложа руки на груди, неторопливым шагом. Плечи ее сжимались, как будто от холода. Но она не боялась и ни о чем не думала, и только готовилась встретить Дракона вопросом, как Рунта из сказки:
— Как ты жен берешь, Дракон?..
Уже впереди затемнело широкое устье Кандарского входа. Она стала искать взглядом алые камни глаз Дракона, о которых говорили Анаки, но их не было видно. Лунный Рек, должно быть, скрывался в своем логовище.
В эту минуту наверху каменной стены появилась еще фигура. Она была такая же четкая, выпукло-резная, как будто каменная. Но она была живая. Она постояла секунду на гребне, потом стала спускаться вниз, опираясь на копье.
Анаки завыли от злобы. Ибо это был тот же изгнанник, нечестивый и богохульный Яррий. Он решил довести до конца свое злое дело и пойти наперекор спасению племени. Но сделать они ничего не могли. Яррий был впереди Ронты, в пределах владений Дракона, и даже бросить туда копье было бы святотатством. Да никто и не дерзнул бы подойти на перелет копья.
При этих внезапных криках Ронта подняла голову и тоже увидела Яррия. Он прыгал по уступам, с невероятной ловкостью спускаясь в ущелье, наперерез ее дороги. Щеки Ронты окрасились легким румянцем. Она бросила Яррию взгляд, последний взгляд…
В эту минуту из черного ущелья сверкнули две яркие точки, и показалась голова, серая, злая, на вытянутой шее.
Яррий измерил ее взглядом холодной ненависти. Это не была голова бога; это была голова огромного зверя. И даже, вопреки рассказам Анаков, она не показалась ему чрезмерно огромной.
У Зверь-Горы было такое же темя, только у этого шея была длиннее и зубы иные.
Глаза Дракона светились алым блеском.
— В глаз буду метить, — сказал себе Яррий.
Ронта остановилась. Яррий спрыгнул вниз и сжал копье.
Голова повернулась и посмотрела на белую жертву и ее защитника…
Послесловие
Печатаемая повесть представляет попытку восстановить то реальное зерно, которое должно заключаться в широко распространенной легенде о девушке, отданной в жертву дракону, и юноше, защитившем ее. Образ дракона имеет всемирную известность на востоке и на западе. Дракон является племенным гербом у различных народов, например, у древних германцев, и государственным гербом у китайцев. Можно предположить с большой вероятностью, что этот фантастический образ представляет стилизованное воспоминание о гигантских драконах-ящерах, в том числе и о летучих, как птеродактили, — действительно существовавших на земле. Ко времени появления человека, во второй половине третичного периода, эти ящеры драконы должны были вымереть, но тем с большей силой должны были действовать немногие уцелевшие чудовища на воображение первобытного, еще беспомощного человека.
Эти последние животные гиганты для человеческих племен являлись божеством, воплощением стихийных таинственных сил, злых или добрых. Дракон, ставший гербом, это дракон-покровитель. С другой стороны, до сих пор даже в так называемых «высших» религиях дракон или змий с лапами и крыльями является главою и худшим воплощением злых духов, враждебных человеку.
В указанной легенде юный герой обыкновенно побеждает дракона и женится на освобожденной девушке. Но скорее могло случиться обратное. Об этом как будто свидетельствуют подробности легенды, — ужас, внушаемый драконом, производимое им истребление живущих по соседству людей и эти постоянные жертвы, приносимые дракону. Только ужас, внушаемый некогда драконом людям, на своих черных крыльях донес к нам это злое воспоминание от древней эпохи раннего палеолита.
Но легенда, стилизуя прошлое, не могла примириться с поражением и гибелью героя, как было, должно быть, на деле. Ибо легенда — это вера человечества и она из прошедшего всегда устремляется к грядущему. И вера человечества есть вера в конечную победу и конечное торжество над всеми драконами, над всеми злыми силами земли и небес.
Вот почему, в волшебном фонаре расцвеченного вымысла, какой-нибудь слабый борец с его костяным копьем и деревянным луком, съеденный некогда ужасным ящером, воскрес победителем, человеко-богом, Юрием-Победоносцем.
Мой Яррий это именно реальный прообраз победоносного Юрия. Внуки и правнуки Яррия не желали допустить, что их бесстрашный предок мог погибнуть в пасти чудовища, и в старой зловещей легенде тотчас же переделали конец. Мировая легенда — роман о драконе и юноше с девушкой, как и все мировые романы, кончается победою и счастливым браком. Только остается прибавить:
И я там был, мед-пиво пил, По усам текло, да в рот не попало.Я оставил роман свой как бы неоконченным, ибо я не хотел дать свирепому дракону пожрать благородного Яррия и не мог дать Яррию побить дракона. Пусть же читатели сами кончают, как хотят…
Но худшие драконы, это — создания нашего воображения, и тогда драконоборец становится героем-богоборцем, героем-мятежником и революционером. Он борется не только с телесным, физическим чудовищем, но и с зловещими уставами собственной эпохи, собственного племени.
Богоборцем мятежником, первым революционером древнейшего палеолита, я сделал своего Яррия. И пусть не говорят, что это надуманный образ, ибо от самой седой древности в человеческом сердце, рядом со слепою покорностью самосозданным чудовищам, живет и неверие, и смелый порыв к отчаянному противоборству. И я сам встречал неоднократно, у чукчей, у эскимосов, у тунгусов и юкагиров, таких точно юношей, как Яррий, которые, на зло колдунам и шаманам и сложной сети духов и демонов, заполнивших весь первобытный кругозор от земли и до неба, утверждают себя в неверии и всех духов, и «верхних, и средних, и нижних», вызывают на бой.
Кощунственные речи первобытного атеиста заимствованы мною из действительных речей, слышанных мною где-нибудь у вечернего костра среди необозримой тундры или на берегу морском, перед лицом ревущей бури.
И также из действительной жизни первобытных племен заимствованы мною и другие фигуры и сцены романа. В охоте на диких оленей мне самому приходилось участвовать, а также и в празднике воскресения зверей, с той разницей, что центральное место, вместо огромного древнего мамонта, занимал такой же огромный кит.
Праздник вытирания огня из дерева существует в разнообразнейших формах, даже у культурных народов.
Эпидемии я видел не менее опустошительные, чем описанная в романе, и видел, как шаманы переодевали обезумевших женщин мужчинами и мужчин женщинами, чтобы обмануть невидимых духов-убийц.
Разделение полов, весенние пляски и брачные оргии тоже являются общим явлением. Первобытная жизнь совсем не является простой. Она проявляет ту степень общественной сложности, какая изображена в романе.
Ибо судьба человека первобытного и судьба человека современного подчинены одним и тем же законам. Из далекого прошлого в безмерно далекое будущее устремляется мужество Яррия богоборца и нежная душа его подруги Ронты, когда они вместе плывут по быстротекущей реке бытия в хрупкой лодке собственного воображения.
Я ничего не сочинял, я только комбинировал. Образы, легенды, рассказы заимствованы у разных племен и северных, и южных. Последняя песнь Ронты — лишь вольный перевод полинезийского предания о затмении солнца. На основе всех преданий, сплетенных мною в цветочный венок повествования, я старался осознать и углубить эту мечту палеолита.
В. Г. Тан (Богораз)Примечания
1
Неблюй — неродившийся олененок.
(обратно)2
Орион.
(обратно)3
Альдебаран.
(обратно)4
Кассиопея.
(обратно)5
Млечный Путь.
(обратно)6
Полярная звезда.
(обратно)
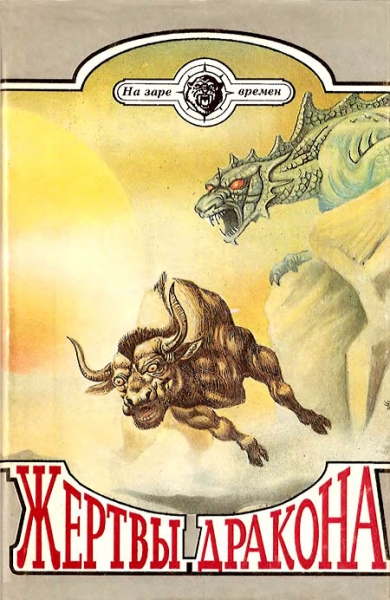
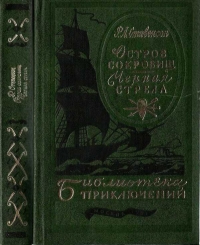





Комментарии к книге «Жертвы дракона», Сергей Викторович Покровский
Всего 0 комментариев