ИСТОРИЯ БЕЗ МАСОК
Автор этого романа не имеет особых литературных премий, не принадлежит ни к каким творческим союзам и вообще малоизвестна в литературных кругах. Но если поинтересоваться, кто же самый успешный из современных украинских писателей, кого больше всех читают и чьи книги активно покупают, то окажется, что на первом месте в десятке лидеров именно она — Симона Вилар, тираж книг которой давно превысил миллион экземпляров.
Жанр ее нового романа «Лазарит» — исторические приключения, граничащие с альтернативной историей, когда один-единственный яркий персонаж затмевает множество героев, а сухая история при этом сдобрена экзотическими специями авантюрного толка. Так, нынешний наш герой Мартин — потомок христианских паломников в Святую землю, еще ребенком выкупленный из приюта в Константинополе еврейским раввином для того, чтобы в дальнейшем воспитать из него защитника его гонимого народа. Это, безусловно, трикстер, путешественник и благородный рыцарь, оказавшийся в водовороте нешуточных страстей официальной истории. Ему даже приходится прятаться под маской прокаженного воина-лазарита, чтобы подстегнуть караван сюжета. Гармония вымысла с историей возникает, когда пыльный фактографический путь убегает в сад расходящихся тропок, в котором нас ждут увлекательные приключения. Кажется, что в терпком нектаре «Лазарита» едва ли не впервые в нашей романистике со времен «Людоловов» Зинаиды Тулуб и «Роксоланы» Павла Загребельного авторский энтузиазм реализовался в описании малоизвестных событий.
Роман «Лазарит» предлагает читателю классическое удовольствие от текста, в котором его ждет встреча как с вымышленными героями, так и с историческими личностями, чьи имена рождают сладкую музыку сюжетной симфонии: Элеонора Аквитанская, султан Салах ад-Дин, Филипп Август, Гвидо де Лузиньян, Изабелла Иерусалимская, Конрад Монферратский. В целом это гремучая смесь времен XII века, в которой архаичная германо-скандинавская мифология не уступает по своему сюжетному накалу мистике арабского мира, франко-европейской романтике и турецко-египетской экзотике. В трагической эпопее Третьего крестового похода, возглавляемого Ричардом Львиное Сердце, задействованы короли и герцоги, магистры и священники, классические рыцари тамплиеры и прочие рядовые этнографического воинства вроде безжалостных сельджуков, мамлюков и ассасинов.
Кроме всего прочего, радует воображение широкая география романа, ведь Симона Вилар вышивает по исторической канве собственный узор сюжета, в котором древняя история Византии и Палестины, Кипра и Сицилии, Турции и Сирии наполняется «живой» жизнью героев, сложными судьбами, семейными историями и причудливыми перипетиями. Но если концепция «ключевого факта» в истории предполагает сугубо материальную деталь, способную изменить ход мировой истории, то в «Лазарите» сей ингредиент имеет исключительно духовный характер. Любовь — вот что является стержнем сюжета, вокруг которого развиваются бурные события. Любовь-предательство, любовь-ненависть и любовь-страсть не просто наполняют эмоциями историю заговоров, интриг и вражды времен Третьего крестового похода, но и образуют целый мир человеческих отношений, без которых ни одна история не имеет смысла. Тем более если это история масок, за которыми скрываются святые и прокаженные, короли и нищие нашего далекого прошлого.
Игорь Бондарь-Терещенко.ПРОЛОГ
Константинополь, март 1167 г. Предместье Галата.[1]
За блистающими бирюзой водами залива Золотой Рог, в предместье Галата, с давних времен селились осевшие по той или иной причине в столице Византии латинские христиане. Здесь же основали свою прецепторию[2] и госпитальеры — рыцари-монахи ордена Святого Иоанна. Здесь принимали на постой паломников из Западной Европы, направлявшихся в Святую землю, оказывали им посильную помощь, в прецептории имелись лечебница и небольшой сиротский приют.
В тот погожий весенний день сестра София,[3] служившая ордену, вывела подопечных приюта во дворик прецептории на прогулку. Детей было немного: рассыпавшись по двору, они принялись бродить среди оставшихся после недавнего дождя луж. Грубые коричневые накидки делали их неотличимо похожими, словно горошины.
Только один из малышей выделялся среди прочих: казалось, его не интересуют трещины в кирпичной кладке стен, окружавших дворик, куда можно было так славно вставить подобранную на размокшей земле щепку; он также не пытался спугнуть ворковавших на выступах карнизов голубей или измерить глубину ближайшей лужи. Неподвижно застыв посреди двора, этот ребенок пристально следил за проплывавшими в вышине облаками, при этом выражение его лица было глубоко сосредоточенным и задумчивым. Глаза малыша сияли такой чистой голубизной, что казалось, будто само высокое небо отражается в них и озаряет мечтательным светом его бледное личико.
— Какой прелестный малыш! — невольно обронил наблюдавший за мальчиком купец-еврей Ашер бен Соломон, только что вышедший из прецептории, внеся положенную за проживание в ее владениях арендную плату.
Сестра София, полная, несколько мужеподобная особа, явно скучавшая в четырех приютских стенах, тотчас догадалась, о ком толкует этот некрещеный, и с готовностью подхватила:
— Это же наш Мартин! Среди армянских и греческих подкидышей мальчонка и в самом деле выглядит сущим ангелом! Что тут скажешь: сразу видна благородная кровь.
— Значит, он не отпрыск безвестных родителей? — заинтересовался Ашер бен Соломон.
Сестра София, бросив взгляд на окна прецептории и убедившись, что оттуда за ними никто не наблюдает, позволила себе поболтать с этим сутулым длиннобородым иудеем, чтобы хоть отчасти развеять одолевавшую ее скуку.
— Хоть ты, Ашер, и грешишь ростовщичеством, все же отвечу: Мартина не подбросили под ворота приюта Святого Иоанна, как никчемного котенка, от которого хотят избавиться. Дитя вверил нашему попечению достойный человек, варанг[4] из тех, что служат при дворе императора… Однако ныне его здесь больше нет, — поправила она себя, сурово поджав тонкие губы.
Ашер бен Соломон смотрел на нее с кроткой улыбкой, ожидая продолжения, и она взялась пояснять:
— Отец Мартина носил имя Хокон Гаутсон, а жена его прозывалась Элина Белая Лебедь. Она и в самом деле была словно дивная птица — иначе и не скажешь. Это в нее пошел Мартин — светловолосый да ясноглазый.
— Какие все же странные имена у этих северных дикарей, — рассеянно произнес купец, не сводя с малыша пристального взгляда.
— Твоя правда, иудей, — закивала сестра София. — Диво, что с такими-то именами они все же почитают Иисуса Христа и Деву Марию. Но это так, иначе мы и не согласились бы приютить у себя их чадо. Тебе следует знать, Ашер, что шведы и датчане, направляющиеся в Святую землю, иной раз остаются здесь, в Константинополе, ибо хлеба императора ромеев[5] много щедрее скудных северных достатков. Так вышло и с родителями Мартина. Варанг Хокон Гаутсон стал служить при дворе, но со временем получил повеление снова отправиться в свои края и доставить сюда для службы своих сородичей, сколько бы из них ни изъявили согласие. В то время госпожа Элина была на сносях. Где же ему было оставить супругу, если не здесь? Не с ромейскими же схизматиками, не признающими власти наместника святого Петра!
Монахиня демонстративно осенила себя крестным знамением на латинский манер — всей ладонью и слева направо.
— Выходит, госпожа Элина произвела на свет сына под кровом вашего госпиталя, — задумчиво произнес Ашер бен Соломон. — И, надо полагать, умерла в родах, если ее дитя по сей день пребывает в приюте.
На круглом, со следами перенесенной оспы лице сестры Софии появилось удивленное выражение.
— Истинно говорят, что вашему брату только слово скажи, а об остальном он и сам догадается…
Она уже собралась было уйти, но купец удержал ее за полу плаща.
— Не гневайтесь на неразумного еврея, госпожа! Я всего лишь позволил себе подумать, что родители не оставили бы своего ребенка в приюте, пусть даже он и принадлежит столь почитаемому ордену, сотворившему столько добра, что одно небо знает ему истинную меру.
Похвала ордену Святого Иоанна, хоть и из уст иноверца, несколько смягчила монахиню, и она нехотя подтвердила, что Элина, прозванная Белой Лебедью, действительно скончалась от родильной горячки.
— Мы же, сестры, нарекли младенца Мартином, ибо он родился как раз одиннадцатого ноября, в день, когда церковь вспоминает святого Мартина Турского. Случилось это не далее как четыре года назад.
— Четыре года назад… — эхом повторил Ашер бен Соломон. — Преклоняюсь перед вашей великолепной памятью, госпожа София. Поистине орден имеет в вашем лице неоценимую помощницу. — Он почтительно склонился, приложив обе руки к ниспадающей на грудь курчавой бороде.
Сестра София с важностью заметила:
— Да уж, жаловаться на память мне не приходится. И я не забыла о том, что, покидая землю ромеев, Хокон Гаутсон внес в прецепторию немалый вклад, дабы его супруга и долгожданный отпрыск ни в чем не нуждались. Да только с тех пор, как он отбыл, больше не было о нем никаких вестей. Недаром отец прецептор говорит, что если бы благородный Хокон отправился на корабле вокруг Европы, это было бы много безопаснее. Однако он избрал путь через земли Руси, где кипят смуты и войны[6] и даже испытанному воину сгинуть так же легко, как угодившей в рыбацкие сети кефали из залива Золотой Рог. И мы уже потеряли всякую надежду, что сей достойный муж вернется за сыном. Что же до Мартина… Долг милосердия велит нам заботиться о нем. Когда же он подрастет, орден решит, как с ним поступить.
Ашер бен Соломон внимательно слушал собеседницу, по-прежнему следя за маленьким Мартином. Приютские дети тем временем затеяли веселую кутерьму, стали носиться, толкая друг друга. Досталось и Мартину — он упал, капюшон его откинулся, открыв светлые пушистые волосы. Другие дети смеялись, не давая младшему встать на ноги, но сын варанга не уронил ни слезинки даже тогда, когда его окатили водой из лужи. Он молча поднимался снова и снова, хотя все это уже не походило на игру, и старшие дети явно измывались над ним.
Сестра София и не подумала вмешаться, чтобы приструнить шалунов. Продолжая болтать, она поведала купцу о том, что деньги, выделенные на содержание ребенка, давно закончились, что живет он в приюте только из милости, как самый обычный подкидыш, а среди схизматиков-ромеев не так уж много желающих жертвовать на приют Святого Иоанна.
Поняв намек, Ашер бен Соломон развязал свой кошель и вручил госпитальерке несколько серебряных монет.
— Иоанниты[7] всегда были добры к нам, гонимому и рассеянному народу. Поэтому примите мой скудный дар, достопочтенная госпожа. Думаю, вы знаете наилучший способ, как им распорядиться.
При этом купец повернулся так, чтобы из окон прецептории, где как раз показался один из орденских братьев, могли заметить, что сестра София принимает у него пожертвование. После этого Ашер бен Соломон направился к воротам, но напоследок бросил еще один быстрый внимательный взгляд на светловолосого и голубоглазого ребенка, разительно отличавшегося от большинства смуглых и черноволосых обитателей приюта.
Дом Ашера бен Соломона располагался в предместье Галата, где и предписано было селиться константинопольским евреям. Их община вела замкнутый образ жизни, члены ее были всецело погружены в собственные торговые дела, христиане избегали общения с иноверцами и редко посещали этот квартал. Впрочем, это не помешало купцу вскоре проведать, что сестра-госпитальерка София была уличена в сокрытии полученных от него денег. В результате она рассталась с должностью смотрительницы приюта и была отправлена трудиться скотницей в одно из располагавшихся за пределами столицы поместий, принадлежавших ордену.
А еще через пару недель в прецепторию явился рослый рыжеволосый юноша, обликом походивший на северянина и говоривший по-гречески с варварским акцентом. Юноша назвался Эйриком Эйриксоном и объявил, что прибыл из округа Согн, что в Норвегии, по приказу своего дядюшки ярла Хокона Гаутсона, чтобы забрать из Орденского дома его жену фру Эллину и их ребенка.
Отец прецептор лично принял рыжего норвежца. Первым делом он поставил его в известность, что жена благородного варанга умерла в родах, а затем поинтересовался, отчего же сам Хокон Гаутсон не явился за сыном. Оказалось, что тот при всем желании не смог бы прибыть в Константинополь, ибо получил жестокое увечье в битве, но велел своему родичу Эйрику щедро расплатиться с орденом и забрать жену и сына.
С этими словами неотесанный пришелец выложил на стол перед прецептором пару приятно позвякивающих мешочков, добавив, что уж если фру Эллина и померла, то его, Эйрика, прямой долг — озаботиться судьбой сына Хокона. Он готов забрать его сегодня же и, пока ветер благоприятствует, а его корабль стоит в столичной гавани, немедленно пуститься в обратный путь.
Прецептор не стал возражать. Маленький Мартин получил напутствие и благословение в дальнюю дорогу, после чего рыжий норвежец взял его за руку и они покинули пределы Орденского дома госпитальеров.
Только убедившись, что за ними не следят, Эйрик отвел мальчика в ближайшую харчевню на побережье Золотого Рога и накормил его густой мясной похлебкой. Себе же велел подать кувшин вина и добрый ломоть свиного окорока.
— Какой же ты все-таки тихоня, — ворчал норвежец, вгрызаясь крепкими зубами в вяленое мясо, хоть и был втайне доволен, что, судя по всему, особых хлопот с этим мальчишкой не предвидится. — По тебе и не скажешь, что ты сын славного ярла! Не дело, конечно, что он оставил тебя и твою матушку на столь долгое время без вестей и поддержки, но ведь и вправду мог сгинуть где-то. Такова судьба воина, но теперь будет кому о тебе позаботиться. Не робей, малыш, не пропадешь…
При этом Эйрик не переставал налегать на густое и темное хиосское. Голос его становился все невнятнее, пока, наконец, он не уронил огненно-рыжую голову на дощатый, изрезанный надписями на многих языках стол и не захрапел.
Подобное в питейных заведениях Галаты никому не было в диковину. А поскольку Эйрик, несмотря на молодость, имел поистине богатырские плечи и на его поясе болтался длинный меч с крестообразной гардой, никто не решился его потревожить.
Мартин просидел рядом со своим «дядей» до самого вечера, с любопытством, но без боязни разглядывая посетителей харчевни. Те приходили и уходили, ели, пили, ссорились, буянили. На них с Эйриком никто не обращал внимания до тех пор, пока совсем не стемнело. Лишь тогда в неверном свете масляной лампы за их стол подсели двое гнусного вида проходимцев и принялись трясти храпящего норвежца и запускать лапы в его кожаную суму.
Встревоженный Мартин, не зная, как разбудить рыжеволосого великана, нашел простой выход — впился зубами в его руку. Эйрик вскочил с громовым рыком, опрокинув стол, и хотя мошенники тут же бросились наутек, успел-таки наподдать одному из убегавших под костлявый зад.
— Я вроде бы немного вздремнул? — осведомился норвежец, дико озираясь налитыми кровью глазами. — А ты… ты, выходит, не удрал, малыш?.. Это славно! Не то досталось бы мне от нашего благодетеля… А ведь он и в самом деле благодетель, раз уж принял такое участие в твоей судьбе. И пусть подобных ему величают еврейскими собаками, распявшими Христа, — клянусь богами старой родины, с этим человеком вполне можно иметь дело… А теперь — в путь, Мартин!
Он стиснул в своей громадной лапище ручонку мальчика, и они вышли в сгущающиеся сумерки.
Мало кому довелось видеть, как уже в полной темноте рослый, плотно закутанный в плащ молодой человек и мальчик в грубой накидке с остроконечным капюшоном миновали путаный лабиринт переулков Галаты. Вступив в квартал, где на многих дверях виднелось изображение звезды Давида, они постучались в одну из таких дверей, скрытую в глубокой тени под деревянной перголой, увитой виноградными лозами.
Из-за двери донесся голос, о чем-то негромко спросивший, и как только Эйрик произнес условленные слова, она распахнулась.
Мартин увидел перед собой сутуловатого длиннобородого мужчину с темными вьющимися волосами до плеч и плоской шапочке, чудом державшейся на затылке. В руках у мужчины чадила плошка с горящим фитилем. Отблески колеблющегося пламени озаряли его смуглое удлиненное лицо с хрящеватым носом с заметной горбинкой.
— Благословен праотец Авраам от владыки неба и земли! Я уж решил, что ты потерял ребенка, Эйрик, рыжий пройдоха!
— Ну вы, право, и скажете, почтенный ребе! — загудел норвежец. — Все сделано, как велено. Хотя того, что предрекли этому парню норны,[8] все равно не изменит никто. Даже вы, господин Ашер бен Соломон.
Еврей на это ничего не ответил. Он наклонился к ребенку, который смотрел на него своими синими, как льдинки, глазами, и взгляд его был серьезным и настороженным. Однако мальчик легко позволил взять себя за руку и повести вглубь дома.
— Хава, иди скорее сюда, Хава! — позвал Ашер, поднимаясь по лестнице. — Эйрик привел того христианского мальчика, о котором я тебе рассказывал.
Мартин увидел, как на площадке лестницы появилась высокая красивая женщина в светлых одеждах с маленьким ребенком на руках. Завидев светловолосого мальчика, которого держал за руку ее муж, она сошла вниз и с улыбкой взглянула в его лицо.
— Какой голубоглазый! И красивый, — добавила она, кладя ладонь на светлую макушку Мартина. При этом она спустила своего двухлетнего малыша на пол, и упитанный кудрявый карапуз тут же прильнул к незнакомцу и что-то залопотал на своем птичьем языке.
Мартин впервые за все это время улыбнулся. Ашер и его жена Хава следили за тем, как их сын косолапит, увлекая за собой чужого ребенка, явившегося в этот дом из приюта.
— Кажется, у Иосифа появился новый дружок, — с улыбкой произнесла госпожа Хава.
— Бог Иакова да ниспошлет им обоим благодать! — отозвался ее супруг. — Надеюсь, с его благословения то, что я задумал в отношении этого потомка назареян,[9] в один прекрасный день принесет добрые плоды.
ГЛАВА 1
21 марта 1191 г. Остров Сицилия.
Неф церкви в обители Сан-Сальваторе был украшен росписью от каменных плит пола до дубовых балок свода. Лики и одеяния святых и праведников были выписаны с византийской роскошью и дышали величием. Однако вся эта божественная красота таилась в полумраке, ибо только в одно узкое, как бойница, окно над алтарем проникал закатный луч солнца. Косо падая вниз, он освещал фигуру смиренно склонившегося в молитвенной позе человека. Мужчина стоял на коленях, касаясь лбом крепко сцепленных пальцев рук, и горячо молился. В его негромком, как шелест ткани, голосе звучала смиренная просьба:
— Для славы твоей, Господь Всемогущий, для цели великой и во имя Твое! Благослови же предпринятое мною ради Сына Твоего, принявшего муки на кресте ради нашего спасения! Не лишай меня, Господи, милости твоей, помоги исполнить данную мною клятву, дабы смог я освободить град Иерусалим во имя Христа, Он же есть Бог воскресший и живущий, и вновь грядущий в славе судить живых и мертвых… Дай же мне совершить намеченное, ибо я всего лишь ничтожный раб, а все остальное в непостижимой воле Твоей!..
Мужчина с глубоким чувством осенил себя знаком креста и начал подниматься с колен.
В сумраке храма закатный луч, словно сияющий указующий перст, коснулся его чела, а фигура молящегося, выпрямляясь, будто преисполнилась таинственного величия. Вот вспыхнула алым откинутая нетерпеливым движением пола плаща, расправились могучие плечи, гордо взметнулась голова с золотисто-рыжей, свободно ниспадающей гривой — густой и жесткой, подобной львиной. Простое медное очелье, смирявшее буйную гриву, внезапно засверкало, как золотая корона. И неспроста: этот человек в самом деле был властителем — королем Англии Ричардом I Плантагенетом, носившим прозвище Львиное Сердце.
Смирение тотчас покинуло Ричарда, и его лицо приобрело совсем иное выражение: стало властным, решительным, полным достоинства. Теперь он даже с некоторой подозрительностью косился на лики святых, которыми пестрел каждый закоулок церкви, ибо привык к более сдержанному и строгому убранству храмов Западной Европы. Но здесь, на Сицилии, жили и славили Господа люди разных исповеданий — как чтившие Папу, так и те, кто признавал своим главой константинопольского патриарха; даже мусульмане имели на острове свои мечети.
Не просто было свыкнуться с таким смешением языков и религий, хотя король уже знал, что там, куда он направляется — в Святой земле, — будет так же. Что ж, молиться единому Господу можно по-разному…
Ричард сделал остановку на острове по пути в Палестину. Так было условлено давно: Сицилию предназначил для сбора кораблей крестоносной армады король Вильгельм II Добрый.[10] Когда мусульмане захватили Иерусалим,[11] Вильгельм первым велел нашить крест на свой плащ и начал готовить поход ради отвоевания у неверных Гроба Господня.
Но смерть внезапно настигла этого государя, а после него престолом Сицилии завладел племянник покойного, бастард его брата — Танкред Лечче. Мало того — новый правитель захватил и удерживал в плену вдову отошедшего в лучший мир короля Вильгельма, родную сестру Ричарда — Иоанну Английскую. И, судя по всему, вовсе не собирался возвращать ей свободу вместе с так называемой «вдовьей долей», составлявшей внушительную сумму золотом. Не было речи и о кораблях, которые обещал предоставить его предшественник крестоносному воинству.
Прибытие объединенных сил паладинов неожиданно породило конфликт с коренным населением острова. Против Ричарда выступили жители сицилийского города Мессина. Они выразили недовольство тем, что Ричард расположился в обители Сан-Сальваторе, устроив там склад провианта и оружия и потеснив, а фактически изгнав оттуда греческих монахов. Некогда покорившиеся норманнам сицилийцы видели в Ричарде нового завоевателя-северянина. Они отказывались торговать с крестоносцами, не желали предоставлять им жилье, а подчас и оскорбляли, не разумея, что воинство, выступившее против грозного султана Салах ад-Дина,[12] не может стерпеть наглых насмешек от «изнеженных греков», как крестоносцы презрительно называли сицилийцев.
В итоге произошло несколько стычек. Союзник Ричарда Филипп Французский попробовал урезонить островитян словом, Ричард также попытался уладить дело, но в своей манере: он врезался в толпу сошедшихся врукопашную мессинцев и своих людей, схватил с земли палку и принялся колотить ею по головам сражавшихся, не разбирая, кто перед ним — свой или чужой.
Но тут мессинцы необдуманно обстреляли крестоносцев из луков, и началось сущее побоище, в ходе которого король с горсткой своих приверженцев разогнал огромную толпу, пробился в город и водрузил на крепостной башне свой флаг.
Ричард действовал отважно и успешно — недаром в Европе он пользовался славой непревзойденного воителя. Однако Филипп Французский заявил, что не за тем они выступили в поход под знаком креста, чтобы сражаться с единоверцами.
С того дня напуганные жители Сицилии величали Ричарда не иначе как Львом, тогда как Филиппа они окрестили Ангелом. И Ангел сумел-таки уговорами и хитростью уладить возникшие противоречия. Больше того — король Танкред безропотно вернул Ричарду его сестру Иоанну вместе с ее «вдовьей долей» и даже предоставил ему — обойдя при этом Филиппа — обещанные прежним монархом снаряженные для дальнего похода суда.
Но когда все было улажено, не кто иной как Филипп Французский внезапно счел себя оскорбленным и обойденным и потребовал у короля Англии половину полученного им на Сицилии.
Так или иначе, но крестоносцы благополучно перезимовали на Сицилии, переждали время штормов и даже провели у стен Палермо в дни Рождества Христова великолепный турнир. Король Танкред теперь всячески выказывал свое расположение Ричарду, оставаясь холодно вежливым с Филиппом, что приводило в ярость последнего.
Весна была в разгаре, пора было отправляться в Святую землю. Но Ричард медлил в ожидании прибытия своей матери — Элеоноры Аквитанской. Ему донесли, что она уже в Калабрии[13] и отплывает на Сицилию со дня на день.
Короля грызло нетерпение: на этом недружелюбном острове он не мог проявить себя во всем блеске. Изо дня в день ему приходилось изворачиваться, изыскивать окольные пути, вести дипломатические переговоры. В нем жила душа прирожденного воина, он рвался в битву, и там ему не было равных. Однако судьба сделала его правителем огромной Анжуйской державы,[14] что налагало определенные обязательства…
Погруженный в эти мысли, Ричард вышел на галерею монастырской церкви.
Издали приглушенно доносилось пение монахов, отправлявших службу в уединенной часовне, чтобы не помешать молитвенному сосредоточению английского Льва. То была не литания, напев звучал иначе, но он не мог разобрать, тем более что время от времени пение заглушали возгласы часовых, обходивших монастырскую стену, и гомон оруженосцев, собравшихся у коновязи. Внезапно все эти отдаленные и неясные звуки прорезал негромкий властный голос. Короля окликали по имени:
— Ричард!
Она стояла под сводом арки в конце галереи. Ричард видел ее белое покрывало, пышную мантию, горностаевую муфту, в которую она прятала свои постоянно мерзнущие руки. С возрастом королева Элеонора стала зябкой, и даже тепло южной весны не могло согреть ее старческие пальцы.
— Матушка! — выдохнул английский король и порывисто шагнул к ней.
Королева Элеонора в свои семьдесят выглядела величественно. Годы не согнули ее: спина прямая, как древко копья, голова горделиво откинута. Присущая ей в молодые годы стройность сменилась худобой, но королева умело драпировала ее роскошным тяжелым одеянием. Шелковое покрывало скрывало седину в волосах, тончайшая барбетта[15] прятала морщины на шее и подбородок до жестких, почти утративших цвет губ, оставляя открытой лишь верхнюю часть лица. Но линия ее бровей была по-прежнему горделивой и отчетливой, нос — прямым и тонким, а во взгляде бледно-зеленых глаз светилась сила, с которой не смогли справиться целые десятилетия, полные невзгод. Перед Ричардом была королева до кончиков ногтей, и он молча опустился перед нею на колено и коснулся губами края ее одеяния.
— Для меня величайшее счастье видеть вас здесь, ваше величество!
Элеонора смотрела на сына. Она произвела на свет десятерых детей, но подлинно материнские чувства испытывала только к нему. Не потому ли, что провела с ним больше времени, чем с другими? Тех она, едва успев оправиться, передавала кормилицам и нянькам, сама же вновь погружалась в дела государства. Или оттого, что рано убедилась в выдающихся дарованиях Ричарда? Скорее всего, он больше других напоминал ей ее самое в молодости — такой же порывистый, с горячим сердцем, жадно любивший жизнь и стремившийся перекроить ее по собственному разумению.
Как и Элеонора, Ричард питал страсть ко всему прекрасному. Его восхищали утонченные манеры, он любил поэзию и музыку, окружая себя избранными и лучшими в своем искусстве. Глядя на них, знать следовала венценосным образцам, и мало-помалу лоск и изящество оказались в чести не только при дворе, а жестокие забавы, грязь, безудержное пьянство и сквернословие стали почитаться уделом простолюдинов. Шаг за шагом мать и сын изменяли самый дух Анжуйской державы, при этом ни на миг не выпуская из рук бразды правления.
Королева осенила склоненную золотоволосую голову Ричарда знаком креста, и он выпрямился во весь свой величественный рост. Сын оказал почтение матери и даме, в прошлом — супруге двух королей, и теперь, в согласии с этикетом, великолепной Элеоноре Аквитанской полагалось отвесить церемонный поклон повелителю бескрайних земель.
Однако Ричард удержал ее:
— Довольно, матушка! Вы уже не в том возрасте, чтобы склоняться перед правителями.
И тут же сухонькие пальцы королевы-матери нашли и ущипнули его запястье.
— Никому, даже тебе, я не позволю называть меня старухой, а не дамой!
Ричард рассмеялся.
Элеонора смотрела на него с любовью. Сходство с отцом, Генрихом Плантагенетом, было разительным, но сын походил и на нее. От обоих родителей ему досталось все лучшее. Решительный, суровый, немного исподлобья взгляд серых, как оркнейский гранит, глаз, от которого кое у кого стыла кровь в жилах, принадлежал Плантагенетам. Но правильные черты лица и золотистый отлив в жестких кудрях выдавали кровь герцогов Аквитании, унаследованную ею. Он высок и статен, как и она, а мощью и неотразимым мужским обаянием его, бесспорно, наделил Генрих. Мать еще в юности научила Ричарда изысканно одеваться, но воинственный пыл и непреодолимое упорство в достижении цели досталось ему от отца, создателя Анжуйской империи, простиравшейся от северных морей до Пиренейских гор.
Мать и сын сразу же заговорили о делах.
Элеонора, в молодости сама побывавшая в крестовом походе,[16] одобряла намерение Ричарда, хотя и полагала, что он несколько поторопился, покинув свои владения вскоре после того, как взошел на трон. Однако сын удивил ее, поведав, насколько разумные и взвешенные шаги он предпринял, чтобы его земли пребывали в мире и благоденствии во время его отсутствия: Англию новый король оставил под присмотром истинного рыцаря, всецело преданного Плантагенетам Уильяма Маршала, а внутренними делами острова будет ведать умудренный опытом канцлер Лошан. Континентальные же владения — Нормандию, Пуату, Мэн, а главное, неспокойную Аквитанию, — все это он намерен вверить самой Элеоноре.
Такая беспредельная власть, вновь обретаемая ею, поразила и обрадовала вдовствующую королеву. Позади у нее остались четырнадцать лет, проведенных в заточении по повелению ее супруга Генриха, — долгих лет, когда имя блистательной Элеоноры было почти повсюду забыто. Но теперь она вновь покажет, на что способна! Даже возраст не смущал «Золотую орлицу» — именно так величали ее в юности аквитанские трубадуры. Она и ныне была готова подняться ввысь!
— Ричард, но как быть с претензиями Иоанна, твоего младшего брата, на трон? — все же решилась спросить Элеонора. — Они тебя не тревожат?
Ричард тряхнул золотистой гривой.
— Нет и еще раз нет! Я исполнил желание Иоанна, отдав ему в жены богатейшую наследницу Глостершира. Отныне Иоанн — самый могущественный вельможа Англии, однако… — он помедлил, лукаво улыбаясь, — однако замки в его владениях принадлежат короне, и там расположились мои гарнизоны.
Это выглядело разумным шагом. И все же Элеоноре было неспокойно.
— Ты пускаешься в опасный путь, сын мой. Я буду днем и ночью молиться за тебя, но, знаешь ли… Не мне тебе говорить, что на войне случается всякое, а ты так и не назвал имени своего преемника.
— Отчего же? — повел могучими плечами король. — И не беда, что у меня нет законного сына и наследника. Я распорядился, что в случае моей гибели трон должен перейти к вашему внуку Артуру, сыну Джеффри Бретонского.[17]
— Но Артура воспитывают французы! — нахмурилась королева-мать. — Англичане упрямы и могут не признать Артура, сочтя его иноземцем!
— Мадам, — Ричард галантно поцеловал руку матери. — Я не настолько прост, чтобы не понимать этого. Артур в качестве наследника престола нужен мне только для того, чтобы умерить прыть Иоанна. Ответьте мне, матушка, кто решится поддержать его на материке, если повсюду будет известно, что по воле законного короля трон наследует Артур? И кто последует за ним в Англии, где достаточно преданных мне людей? И на вас я надеюсь — кто, если не вы, присмотрит за Иоанном, чтобы он не натворил бед? Верно?
И он, почти так же, как в детстве, уткнулся лбом ей в плечо. Лев ластился к престарелой львице.
Элеонора глубоко вздохнула. Это был вздох облегчения и в то же время сожаления.
— Признай, Ричард, было бы много надежнее, если бы трон перешел не к человеку из числа нашей родни, а к прямому потомку законного короля. Твой союзник Филипп имеет наследника, а ты — нет.
— Его Людовик еще младенец, — заметил Ричард. — А Филипп, хотел он того или нет, но тоже выступил в поход.
— Хотел он того или нет… — задумчиво повторила Элеонора. — Видишь ли, Ричард, этот француз, которого кое-кто называет ангелом, лукав и коварен. А ты слишком прямодушен, хоть и умен. Я опасаюсь его пагубного влияния на тебя.
— На меня? — надменно вскинул брови Ричард. — Но ведь не кто иной как я вынудил Филиппа отправиться биться за Гроб Господень, несмотря на самое горячее желание этого Капетинга остаться во Франции!
— Ричард, ты забываешь, что твое предназначение — быть властителем, а не паладином!
— На что годен король великой христианской державы, дозволивший неверным попирать величайшую святыню его подданных! Именно это я и сказал Филиппу, когда Папа призвал к новому крестовому походу ради освобождения Иерусалима. Даже рыжебородый германский боров Фридрих[18] тряхнул стариной и повел свою тяжелую конницу на священную войну…
— И погиб, даже не ступив на Святую землю, — насмешливо заметила Элеонора.
Ричард отпрянул.
— Разве это повод для глумления? Великое горе, что христианское воинство лишилось такого предводителя, а с ним и значительной части своих сил, ибо рыцари Фридриха после гибели императора предпочли трусливо повернуть вспять. И это в пору, когда на Востоке объединяются силы сарацин,[19] тесня христиан! Вам ли, матушка, некогда самой носившей крест на плаще, радоваться такой беде?
Элеонора Аквитанская промолчала.
Сейчас не время напоминать сыну, как священная война с неверными обернулась для нее невыносимыми тяготами походной жизни, горечью поражений и бешеными ссорами с супругом Людовиком, в конечном счете приведшими к расторжению их брака. Но нет худа без добра: расставшись с Людовиком Капетингом, она смогла соединиться с тем, кого полюбила всем сердцем — с отцом Ричарда Генрихом Плантагенетом.
Поэтому она повела речь о том, что Ричард, даже если и будет увенчан в этом походе лаврами величайшего воина христианского мира, обязан прежде всего помышлять о выгодах, какие может принести его державе война с неверными.
Сын прервал ее:
— Не для хвалы, власти и богатства я отправляюсь воевать в Левант,[20] а ради вящей славы Господа!
Его глаза гордо блеснули, он с силой прижал ладони к груди. Истинный рыцарь, готовый отдать жизнь ради высокой цели. Таким Элеонора его воспитывала, таким привыкла видеть. Но сейчас этот пыл вызвал у нее только раздражение.
— Чепуха! Все до единой войны ведутся ради власти, земель и золота. И ты это знаешь. Не следует себя обманывать.
Ричард ответил внимательным взглядом.
— Я не дитя, и действительно понимаю это. Анжуйская держава простирается на многие сотни миль с севера на юг, но может случиться и так, что Святая земля однажды станет моей, а за ней и вся Малая Азия. Это ли не цель?
Глаза Элеоноры просияли. Так вот каковы намерения ее любимца!
Однако это не было последним словом короля. Ибо вслед за тем он добавил, что в любом случае главным для него остается освобождение Иерусалима.
— Разве могут христиане надеяться на милость небес, если станут отсиживаться у своих очагов, когда самому Христу нанесено жесточайшее оскорбление! — воскликнул Ричард, и голос его дрогнул. — Откуда взяться миру и покою на земле, если Искупитель поймет, что наши мышиные делишки для нас важнее памяти о его крестной муке?
Он в это верил. И Элеонора верила.
Она еще не забыла холодный ужас, охвативший ее, когда разнеслась весть о падении Иерусалима под ударами воинства Саладина. А теперь ее сын готов воспротивиться натиску сарацин, свято верующих, что исламу в священной войне предстоит покорить все страны и земли, а слово их пророка Мухаммада должно возобладать во всем мире.
Ричард действовал хладнокровно, этого не отнять: он обстоятельно подготовился к походу, собрал огромные средства и лучших воинов, какие когда-либо выступали против сарацинского зеленого знамени. Он заручился поддержкой союзников, продумал каждый шаг, мудро отказался от тяжелейшего сухопутного маршрута, на котором во время прежних походов крестоносцы несли неисчислимые потери, а вместо этого снарядил великолепный флот, который по морю доставит его паладинов к берегам Палестины. Он вполне мог победить там, где отступили другие!
Элеонора желала ему победы и готова была помогать всеми силами…
Король-крестоносец и его мать все еще стояли бок о бок на галерее. Отсюда открывался вид на Ионическое море, пронзительно синее, сверкающее в лучах склонившегося к закату солнца. В монастырской часовне продолжалось богослужение, оттуда время от времени доносился тяжелый бас диакона и множество вторивших ему голосов. Но эти мирные звуки теперь тонули в лязге оружия, топоте и выкриках ратников, слитном перестуке конских копыт по пыльной земле.
За пределами монастырской обители шли учения крестоносного воинства. Высокая, грубой кладки стена скрывала их маневры от Ричарда и Элеоноры, но можно было не сомневаться, что предводители отрядов не дают воинам прохлаждаться. Для тех, кого король собрал под своей рукой на Сицилии, долгие месяцы зимовки превратились в нескончаемую череду воинских упражнений. Ричард не щадил никого — ни себя, ни своих людей.
Он и сейчас, воодушевившись, принялся объяснять матери, что за маневры оттачивают его воины, что означает тот или иной сигнал рога, каким образом конные рыцари обучают боевых коней по команде укладываться на землю вместе со всадником, и как это важно при атаках конных лучников, когда для укрытия надлежит пользоваться любой неровностью почвы.
Сарацины — непревзойденные стрелки, но теперь у крестоносного воинства появилось новое оружие, чтобы противостоять их губительным атакам: на складах у пристани ждут своего часа сотни новых арбалетов с тетивой не из крученых бычьих жил, как встарь, а с металлической, изготовленной особым способом пружиной. Болт[21] такого арбалета развивает огромную скорость и летит гораздо дальше, чем можно вообразить. И хотя Святой престол объявил арбалеты жестокими и безбожными, запретив использовать их в войнах между христианами, это не имело значения, так как крестоносцам противостояли жестокие и коварные иноверцы.
Ричард мог говорить о таких вещах бесконечно, тем более что знал: его мать разбирается в оружии не хуже закаленного воина. Король разгорячился, начал жестикулировать, ему стало жарко в суконном плаще, подбитом алым шелком, и он широким жестом отбросил его полы за спину. В эту минуту глаза его по-мальчишески блестели, а лоб под медным оголовьем покрылся испариной.
Элеонора, однако, по-прежнему зябла. С гор в сторону моря уже тянул прохладный вечерний бриз. Она поплотнее прижала к груди муфту, в которой пыталась отогреть руки, дождалась, пока Ричард сделает паузу, и проговорила:
— Ричард, ты должен был догадаться, что раз уж я здесь, то это означает, что я привезла тебе невесту.
Король взглянул на мать с недоумением. Его глаза погасли, словно присыпанные пеплом, он глубоко вздохнул и, скрестив руки на груди, облокотился на парапет галереи.
— Да, нечто подобное приходило мне в голову. И что, ваше сватовство оказалось удачным?
— Иначе я не посмела бы тревожить тебя в такое горячее время.
Ричард отвел взгляд. Бриз шевелил его длинные вьющиеся волосы, профиль казался отлитым из бронзы и четко вырисовывался на фоне сине-фиолетового вечернего неба.
— Кто же она?
— Беренгария Наваррская.
— О, крошка Беранжер! — король улыбнулся, произнося имя наваррской принцессы на аквитанский манер. — Некогда ее отец, король Санчо Наваррский, зазвал меня на турнир в Памплону. Малышка Беренгария вручала победителям награды и при этом очень смущалась. Ей было тогда лет десять, не больше. Она показалась мне весьма скромной и милой. Я даже попытался сочинить кансону в ее честь, да так и не закончил… Но ведь с тех пор прошло столько лет! Я был уверен, что принцесса Наваррская давно замужем.
— Нет, она свободна, к счастью, хоть ей уже двадцать шесть.
— Многовато для новобрачной, — прищурился Ричард. — Раз она так засиделась в невестах — что с ней не так?
— А тебе бы понравилось, если бы с ней было что-то не так? — язвительно возразила королева. И вдруг вполголоса добавила: — По пути в Памплону я наведалась в округ Коньяк, где имела честь присутствовать на свадьбе твоего сына Филиппа де Фольконбриджа.
Король слегка побледнел, затем исподлобья быстро взглянул на мать.
— И каков он?
— Очень похож на тебя. Такой же рослый и рыжий, — уголки губ старой королевы дрогнули в улыбке. — Я подобрала ему славную невесту, юную и добронравную девицу Амалию, его ровесницу. У алтаря оба были очаровательны. Во владение им достанется город Коньяк. Это выгодное дарение, так как через него проходит путь паломников в Сантьяго-де-Компостелла, — добавила она деловито, давая понять, что бастард ее любимца ни в чем не будет нуждаться.
Но Ричарда волновало вовсе не это.
— А она… мать Филиппа… Она присутствовала там?
— Разумеется, — невозмутимо отвечала Элеонора. — Ведь Филипп де Фольконбридж ее первенец. Правда, после него она родила супругу еще восьмерых. И можешь мне поверить — эта твоя белокурая красавица давно уже не так хороша, как в те времена, когда вы вместе носились верхом по лесам Бретани. Да и с мужем прекрасно ладит.
У Ричарда туго заходил желвак на скуле. Он молчал.
Элеоноре было и жаль его, и в то же время она испытывала странное удовольствие, причиняя сыну боль.
О, рыцарственный Ричард! Безудержно отважный, галантный, даровитый и безгранично преданный в любви. Поразительно: его отец не мог пропустить ни одной мало-мальски смазливой мордашки, Ричард сызмальства слышал россказни челяди о любовных похождениях отца, но сам оказался однолюбом. Что это? Нежелание ни в чем походить на разнузданного Генриха? Или ему ведома тайна той любви, о которой грезят трубадуры и юные девушки?
Ее сын рос при дворе Пуату, где Элеонора вершила свои знаменитые «суды любви», а рыцари и дамы увлеченно рассуждали о том единственном чувстве, что способно наполнить душу человека до конца его дней. Юному Ричарду, разумеется, все это было не чуждо. Нет, подобно многим, ему доводилось влезать в окно к тоскующей вдовушке или забавляться на дальнем лугу с простодушной пастушкой. А уж то, что творилось в Пуату во время подавления мятежа горожан, иначе и не назовешь, как вакханалией. Тем не менее Жанна де Сен-Поль, дочь неимущего рыцаря из Бретани, не имела ни малейшего отношения к его мальчишеским похождениям.
Когда Элеоноре сообщили, что Ричард избрал эту девицу в качестве дамы сердца, она расхохоталась. Она считала своего любимца сорвиголовой, и ее потешило, что он выбрал для своей любовной истории особу с точно таким же нравом. Жанна была единственной дочерью в семье, где рождались одни сыновья. Храбрая и мужественная, умеющая кому угодно дать достойный отпор, с язвительным и острым языком, она всегда была не прочь поучаствовать в состязаниях стрелков из лука или объездить норовистую лошадь.
Королеве не долго довелось наблюдать за тем, как развиваются их отношения: именно тогда она подняла мятеж против супруга, потерпела поражение, была пленена и по приказу Генриха брошена в Винчестерскую башню, где и провела многие годы. Лишь в дни Рождества, когда ее выпускали из заточения, чтобы она могла принять участие в придворных празднествах, Элеонора могла повидаться с Ричардом — и вновь убедиться, что он по-прежнему неразлучен с Жанной. Даже будучи обручен с французской принцессой Алисой, Ричард изо всех сил противился этому браку, бранился с отцом и требовал расторжения помолвки, совершенной без его ведома. И все это ради того, чтобы соединиться навек с какой-то лошадницей из бретонской глухомани!
Элеонора полагала, что эта блажь рано или поздно пройдет. Король Генрих действовал более решительно: по его повелению Жанну увезли от двора и насильно обвенчали. Ричард, обезумев от горя, примчался к матери, рыдал у ее ног, твердя, что это неслыханная жестокость, что Жанна носит под сердцем его дитя, и они самим Всевышним созданы друг для друга. Ни дать ни взять — сам влюбленный Ланселот Озерный, чьей преданностью было принято восхищаться при дворе.
Даже тогда королева не придала должного значения мучениям Ричарда, однако позаботилась о будущем внука. Когда у Жанны родился сын, младенца увезли в Аквитанию, и он получил воспитание, вполне достойное отпрыска Плантагенетов.
Ричард порой навещал его. Искал встреч и с Жанной — но только до тех пор, пока не убедился, что ее брак оказался удачным и строптивица смирилась со своей судьбой. Тогда-то Ричард и объявил, что готов обвенчаться с французской принцессой.
Однако эта свадьба не состоялась по причинам, уже не зависевшим от Ричарда. Сам же он, ища исцеления от неутоленной любви, увлекся войной, стал грозой мятежных баронов и победителем множества турниров. Вместе с тем ему сопутствовала слава сочинителя мелодичных кансон и сирвент, а дамы почитали его куртуазнейшим рыцарем Анжуйской державы. Но ни одна из них не заняла в его сердце места Жанны де Сен-Поль, которая так и осталась для Ричарда Плантагенета единственной.
Даже здесь, на Сицилии, много лет спустя, он менялся в лице и мрачнел при звуках ее имени. Элеонора рассердилась.
— Довольно, сын мой! Ты можешь хранить в сердце любовь и сколько угодно вздыхать и сокрушаться о своей утраченной даме, но ведь и безупречный Ланселот вступил в законный брак, несмотря на свои возвышенные чувства к супруге другого. Что касается тебя, то иного пути просто нет! В этом году ты достигнешь возраста Спасителя, ты у порога великих свершений, но, как государь, ты обязан даровать роду Плантагенетов законного наследника. Мы с тобой не раз обсуждали это, и, как мне показалось, ты выразил согласие. Поэтому будь готов встретить свою невесту и совершить с нею таинство брака!
— Мадам! — порывисто обернулся к королеве Ричард. — Да будет вам известно, что Филипп Французский прибыл на Сицилию вместе с принцессой Алисой. Он настаивает, чтобы я назвал ее своей королевой, иначе его участие в походе на Восток окажется сомнительным. По крайней мере он позволяет себе это утверждать.
— Какая низкая наглость!.. — выдохнула Элеонора. — Сын мой, надеюсь, ты понимаешь, что это невозможно ни при каких обстоятельствах?
Лицо ее залила бледность, а в глазах вспыхнул хищный блеск.
Престарелую королеву и поныне волновало все, что касалось ее супруга. А упомянутая Ричардом Алиса Французская была последней любовью стареющего короля Генриха. Алису еще ребенком доставили ко двору Плантагенетов с тем, чтобы она по достижении должного возраста обвенчалась с Ричардом. Но если поначалу сам Ричард отказывался от брака с француженкой, то позднее его отец без всяких видимых оснований воспротивился этому союзу. Помолвка не была расторгнута, Франция ратовала за выполнение условий брачного договора, в конце концов даже сам Папа Римский вмешался, потребовав безотлагательного бракосочетания юной четы.
Но свадьба наследника английской короны так и не состоялась. Ибо вскоре пронесся слух, что Алиса Французская стала любовницей Генриха и родила от него ребенка, который вскоре умер.
Тем не менее помолвка сохраняла силу и после смерти старого короля. Филипп Французский всячески настаивал на союзе Ричарда с Алисой, обратив его чуть ли не в главное условие своего участия в крестовом походе. Но Лев Англии не желал делить трон с французской принцессой, обесчещенной его отцом, — это было бы величайшим позором для него. Вместе с тем и опорочить сестру могущественного союзника он не мог. Поэтому вопрос о его браке с Алисой оставался неразрешенным.
— Да, мадам, вы правы. Трудно вообразить, какой удар нанесла бы такая женитьба моей чести. Это понимают многие, но не Филипп.
— А ты, как и прежде, прислушиваешься ко всему, что нашептывает тебе последыш Людовика, моего бывшего мужа? Ричард, ты могуч, умен и рассудителен, но ты слишком близко подпускаешь к себе этого изнеженного лукавца. Известно ли тебе, что болтают злые языки при дворе короля Танкреда? Они намекают, что вы с Филиппом — любовники, разумея содомский грех!
Ричард так раскатисто расхохотался, что ворковавшие на кровле галереи голуби шумно вспорхнули, хлопая крыльями.
— Ваше величество! — наконец произнес он, вытирая тылом ладони невольно навернувшуюся от смеха слезу. — Ну кто же в это поверит, глядя на меня? Разве я не любимец дам? Разве я мало сражался ради их благосклонности на турнирах и воспевал их красоту в стихах? Добро бы нечто подобное болтали о Филиппе с его изнеженностью, страстью к пышным нарядам и благовониям, с его вечными жалобами на вымышленные недуги и слезливостью, недостойной воина. Не могу забыть, как после турнира, во время которого безвременно погиб мой брат Джеффри, Филипп рыдал и заламывал руки над его могилой, словно вдова, утратившая супруга. А ведь они были не более чем дружны. Но Филипп Французский таков, каков есть, в том числе и в неумеренных проявлениях чувств.
— Но ведь и ты дружен с Филиппом, — как бы колеблясь, осторожно произнесла Элеонора. — Помнится, ты говорил, что одно время вы были неразлучны, ели с одного блюда и спали в одной постели. Это так?
— Чего только не бывает в походе, — отмахнулся Ричард. Однако, перехватив пристальный взгляд матери, внезапно спросил: — Уж не посеяли ли эти слухи зерна сомнения и в вашей душе? Не оскорбляйте же меня подозрениями в смертном грехе!
Королева сделала протестующий жест.
— Нет-нет, ничего подобного у меня и в мыслях не было, Ричард. Я всего лишь хотела сообщить тебе, что мне известен источник этих гнусных слухов.
— И кто же он?
— Филипп Французский. Именно он клевещет на тебя, а люди повторяют услышанное. И если, по твоим словам, сам Капетинг женоподобен, но от грязных обвинений его защищает то, что он, хоть и моложе тебя, был женат, успел овдоветь, и у него есть сын и наследник. Ты же, пребывая в том возрасте, когда иные имеют дюжину сыновей, остаешься холост, и никто не может припомнить ни одну из твоих сердечных привязанностей. Жанна де Сен-Поль не в счет — как истинный рыцарь, ты делаешь все, чтобы имя твоей дамы оставалось безупречным.
— Но ведь и второй такой больше нет, — подавленно пробормотал Ричард.
Королева словно не услышала этих слов.
— Всем известно, — продолжала она, — что все свое время ты, Ричард, проводишь с воинами, и общество закованных в доспехи рыцарей тебе милее, чем альков какой-либо из дам…
Прервав ее, король насмешливо возразил:
— Любой, кто хоть раз увидит, как я с утра до вечера упражняюсь с копьем и мечом, как муштрую своих людей, поймет, что после таких усилий едва ли придет охота одеваться в шелка и затягивать нежную альбу[22] у окна башни прекрасной дамы. Я начинаю дремать от усталости, еще пока оруженосцы расшнуровывают мои поножи, а уж когда погружаюсь в чан с теплой водой, челяди приходится следить, чтобы я, сонный, попросту не захлебнулся в нем. Но все это не впустую — те, кого я привел сюда, ныне — лучшее воинство в христианском мире!
— Я привезла тебе невесту, возлюбленный сын, — повторила Элеонора на это, — и это далось мне не просто. Отчего же? — спросишь ты. Ведь король Англии ныне — самый именитый и желанный жених в Европе! Так полагала и я, отправляя посольства ко дворам тех или иных правителей. И что же? Император Фридрих, уже почти согласившись на твой союз с его дочерью Агнессой, внезапно отказал мне в ее руке. Затем последовали отказы при Арагонском дворе и даже в далекой Дании под предлогом того, что пока не будет расторгнута помолвка с Алисой Французской, твой брак с любой другой женщиной не может считаться законным. Однако при дворе графа Овернского мне объявили иную причину: Мария Овернская не может стать женой английского короля, ибо он в любовных делах отдает предпочтение мальчикам и юным мужам. Ты догадываешься, кто за этим стоит?
Ричард побагровел, но сдержал гнев. Слышать подобное было невыносимо, но еще труднее было поверить в низкие намерения Филиппа.
Несмотря на полное несходство характеров и предпочтений, они были дружески близки с Филиппом Французским. Только он поддержал Ричарда, когда тот впервые восстал против отца. Было и то, что их объединяло — страсть к охоте, борьба со строптивыми баронами, мечты о грядущем походе в Святую землю. Но уже тогда Ричард начал понимать, что Филипп никогда не станет ему искренним другом, ибо они непримиримые противники в силу занимаемого обоими положения. И это было печально — ведь Филипп, капризный и живой, полный обаяния и остроумия, часто дававший дельные советы, несмотря на свою молодость и кажущееся легкомыслие, все еще нравился ему.
В душе он даже подыскивал оправдания Филиппу, зная, как тревожит его судьба безнадежно запятнанной сестры. И все же Ричард не мог на ней жениться. Взять в жены любовницу отца — чем это отличается от кровосмесительства?
— Мадам, — наконец проговорил он, — думаю, нам больше не стоит возвращаться к грязным сплетням. Лучше поговорим о невесте. Я понимаю, насколько этот брак выгоден для нас, учитывая то, что на наши южные владения в любой момент могут посягнуть графы Тулузы. Если же я женюсь на Беренгарии, такой союзник, как Санчо Наваррский, в мое отсутствие сумеет отстоять наши земли. Это, безусловно, разумно и выгодно. Но скажите мне, какова сама Беренгария? Образ застенчивого ребенка, запечатлевшийся в моей памяти, — все, что я о ней знаю.
Элеонора тонко улыбнулась.
Ричард без промаха оценил политические преимущества предполагаемого союза, но гораздо важнее то, что он наконец-то заинтересовался невестой. Поэтому она не стала говорить о том, что даже при Наваррском дворе ей пришлось поклясться, что о браке Ричарда с Алисой Французской не может быть и речи. Лишь благодаря ее былому величию король Санчо Наваррский не только дал согласие на брак дочери с Ричардом Английским, но и позволил принцессе отправиться вместе с королевой-матерью к ее сыну-крестоносцу.
По его приказу принцессу Беренгарию тотчас доставили из монастыря, где она проживала в силу своей склонности к молитвенному уединению, предполагая со временем принять последние обеты. Это, однако, противоречило намерениям ее отца — для своей очаровательной и образованной дочери он готовил иную судьбу.
Беренгария, получившая монастырское воспитание и привыкшая к послушанию, не стала роптать, когда отец-монарх объявил ей свою волю: ей предстоит стать супругой великого воина и правителя. Наоборот — неожиданное известие она приняла с покорностью и тихой радостью. Именно такая жена — милая и покладистая — нужна мятежному Ричарду. Она не станет отвлекать его от дел государства, но будет всегда готова принять его с любовью и почтением.
Элеонора говорила с жаром и убежденностью. Она поведала, как мужественно держалась Беренгария на протяжении нелегкого пути через альпийские перевалы и Италию, как скромно, почтительно и сдержанно вела себя с будущей свекровью.
— Сейчас она пребывает в одном из монастырей в Калабрии, — наконец объявила Элеонора. — Принцесса готова к встрече с тобой, Ричард, она ждет с нетерпением и готовит для тебя свадебный дар — собственноручно вышитый бисером и жемчугом пояс.
Ричард смотрел вдаль. Всего три мили отделяют Сицилию от итальянской Калабрии. Отсюда, с гористого островного побережья, итальянские холмы за проливом казались окутанными голубоватой дымкой.
Дивный вид, и где-то там его ждет трогательно-прекрасная невеста, нанизывая на иглу одну за другой мелкие, как детские слезы, жемчужинки. Воспитанниц монастырей обычно учат шитью — золотом ли, шелком ли, бисером. И, как утверждает мать, Беренгария скромна, послушна и хороша собой. Право, лучшей супруги и пожелать нельзя. Но отчего же ему так грустно? Может, потому, что в его ушах до сих пор звучит звонкий смех той, другой?
Ричард отогнал печальные мысли и заставил себя улыбнуться.
— Итак, мадам, сыновний долг велит мне принять избранную вами невесту. Что же касается Алисы, отныне она больше не будет препятствием на нашем пути. Как бы ни бесновался Филипп, я потребую у него расторжения помолвки, но предварительно заручусь двумя свидетелями, готовыми подтвердить под присягой, что французская принцесса пребывала в греховной связи с моим отцом и родила от него ребенка. Однако надеюсь, что до этого не дойдет. Честь Филиппа не будет уязвлена, а его сестра избежит позора.
Элеонора безмолвно возликовала. Это дорогого стоило — еще раз убедиться, что великому воину достался ум искушенного государственного мужа.
— Уже завтра Беренгария будет здесь, и ты сможешь, не медля ни часа, обвенчаться с ней! — воскликнула королева-мать.
Но Ричард с неожиданной резкостью возразил:
— Нет! Сейчас это невозможно!
И, уже мягче, добавил в ответ на полный недоумения взгляд Элеоноры:
— Вторая неделя Великого поста. Какие свадебные торжества в такое время?
— Что за чепуха! — возмутилась королева-мать. — При всей своей рассудительности ты упускаешь из виду важное обстоятельство. Ежели ты, освободившись от обязательств в отношении Алисы, снова станешь медлить с женитьбой, твои враги получат новую пищу для пересудов. Что мне сообщить Санчо Наваррскому? И как быть с Беренгарией?
— Я сказал свое слово. Не стану лишний раз напоминать, что ваш сын, мадам, возглавляет воинство Христово, и грешить во дни поста ему не к лицу… — Ричард вскинул руку, останавливая готовую возразить Элеонору. — Не далее как послезавтра я намерен предстать перед епископами Сицилии, чтобы исповедовать грехи, очистить совесть и, получив отпущение, без колебаний и сомнений вести своих паладинов на битву с неверными!
— Ты заблуждаешься, возлюбленный сын мой! Война сама по себе греховна. И как бы благородны ни были твои цели, тебе не удастся не осквернить душу кровью и насилием.
— И тем не менее я не отступлю от задуманного.
— Но Беренгария! — Элеонора сопроводила это восклицание выразительным жестом в сторону калабрийского берега.
— Если я не ослышался, она в монастыре. Монастырские стены, пусть и в другом краю, служили ей домом на протяжении последних лет. Полагаю, для принцессы Наваррской не станет большим разочарованием, если она предстанет передо мной не завтра, а лишь спустя несколько дней. К тому времени я расторгну помолвку, исповедуюсь, уйму ярость Филиппа. Поверьте, мадам, только при таких обстоятельствах не будет нанесено никакого ущерба достоинству моей нареченной. Затем… я убежден, что столь набожная особа, как Беренгария, сама воспротивится совершению брачного таинства в дни Великого поста. Но я дал слово, и честь моя порукой в том, что я его сдержу…
Помедлив, он добавил:
— Беренгария могла бы сопровождать нас в походе. Так же, как это намерена сделать моя сестра Иоанна.
Королева-мать насмешливо вскинула бровь.
— Не удивляйтесь, мадам, — продолжал Ричард. — Иоанна выразила искреннее желание примкнуть к крестоносному воинству и готовность передать свою «вдовью долю» на нужды войны с сарацинами. Благочестивая дама из рода Плантагенетов — вполне достойная спутница для принцессы Наваррской. По истечении времени поста, на второй день праздника Пасхи Христовой, мы с принцессой обвенчаемся. Думаю, это произойдет на острове Крит, где наш флот остановится, чтобы подготовиться к высадке на берега Леванта.
Элеонора склонила голову, как бы свидетельствуя, что ее вынуждают принять сказанное. И хотя в глубине ее души кипел гнев, она не могла не признать, что Ричард действует разумно и взвешенно…
Не далее как на следующий день состоялось расторжение помолвки с Алисой Французской. Филипп Французский неистовствовал, Ричард дал ему ясно понять, что не остановиться перед тем, чтобы предать огласке обстоятельства ее любовных похождений, чего король Франции чрезвычайно опасался. Однако окончательно смирило его то, что Ричард передал ему значительную часть золота из «вдовьей доли» сестры Иоанны и несколько кораблей из состава собственного флота.
Тем не менее Филипп отказался украсить своим присутствием обручение принцессы Наваррской с королем Англии, и его флот покинул гавань Мессины в тот же час, когда в нее входил корабль, на борту которого находилась Беренгария.
Невеста пришлась Ричарду по душе. Стройная, хрупкая, миниатюрного сложения, она в свои двадцать шесть лет по-прежнему казалась юной девочкой. В ответ на ее застенчивую улыбку король улыбнулся ей открыто и нежно. Пристально следившая за ними королева-мать смогла облегченно вздохнуть.
Во время обручения Элеонора сопровождала молодую чету, однако присутствовать при обряде покаяния не смогла. Видеть сына, гордость и грядущую славу Англии, в неподпоясанной власянице в собрании епископов, исповедующим вольные и невольные прегрешения, было выше ее сил.
Тем более что ей пора было готовиться к возвращению в Пуату. Отныне Элеоноре Аквитанской предстояло зорко следить за всем, что совершалось в огромной державе Ричарда — как на континенте, так и на Британских островах.
Их последнее свидание состоялось перед самым отплытием престарелой королевы. Элеонора уже ступила на корабельные сходни, когда послышался гром копыт — Ричард примчался в порт, чтобы проститься с матерью.
Коснувшись руки короля, она величественным жестом приказала свите удалиться, чтобы их беседа не имела лишних свидетелей.
— В этих хлопотах и треволнениях, Ричард, — начала Элеонора, — я упустила из виду несколько важных вещей. Нет, не смотри на меня насмешливо — твоей матери еще хватает ума, чтобы понимать: зрелому мужу, правителю великой державы, не так уж нужны советы слабой женщины. И все же я дам их тебе, а ты распоряжайся ими по собственному усмотрению. Там, куда ты направляешься, ты найдешь троих влиятельных людей, каждый из которых заслуживает особого внимания. Тебе следует всячески прислушиваться к мнению блаженнейшего Патриарха Иерусалимского Ираклия. Не упускай также из виду Уильяма де Шампера. Ныне он маршал ордена Храма, но в нем течет кровь Плантагенетов, и он, по всей вероятности, будет избран следующим Великим магистром. И наконец, ты должен всячески опекать Иерусалимского короля Гвидо де Лузиньяна. Лузиньяны наши соотечественники и вассалы, но Гвидо — помазанник Божий, как и ты, сын мой.
При этих словах лицо Ричарда выразило сначала изумление, затем стало задумчивым и, наконец, насмешливым.
— Мадам, ваша мудрость известна всему свету, однако эти советы, думается мне, неверны. Как я могу считаться с патриархом Ираклием, если этот человек, распутный и алчный интриган, открыто жил с любовницей и вдобавок отказался внести выкуп за плененных неверными христиан? Султан Саладин, не чуждый благородства, сам выделил деньги для их освобождения, а многих просто отпустил с миром. Тогда как Ираклий, покидая Иерусалим, увозил полные сундуки сокровищ! Что касается Уильяма де Шампера, — продолжал король, — то при всем уважении к сему рыцарю, я бы хотел видеть Великим магистром ордена другого человека. Тамплиеры сами выбирают магистра, но я полагаю, что те рыцари Храма, что присоединились к моему воинству, охотно поддержат того, на кого укажу я. Сможет ли после этого де Шампер быть мне полезен, да и понадобятся ли мне его услуги? И наконец, Гвидо де Лузиньян. Этому потомку наших вассалов удалось пленить сердце королевы Иерусалимской и благодаря браку стать правителем в Святой земле. Однако как воин он показал себя полным ничтожеством, и благодаря его скудоумию и нерешительности в битве при Хаттине[23] полегло все христианское войско. С какой стати мне ратовать за этого человека? Уж лучше я поддержу Конрада Монферратского, героя, отстоявшего от неверных приморский Тир, когда иные твердыни одна за другой покорялись Саладину!..
Ричард говорил запальчиво, и лицо королевы-матери омрачилось.
— Да, я стара, Ричард, и мои советы кажутся тебе никчемными. Но напряги память: разве тебе доводилось когда-либо раскаиваться, поступив так, как я советовала? Не думаешь ли ты, что у меня недостаточно ума, чтобы парировать любой из твоих доводов? Так выслушай же меня хотя бы затем, чтобы продлить эту минуту расставания, ибо одному Богу известно, где и когда нам придется встретиться снова.
Она оглянулась и, убедившись, что расстояние, скрип снастей и крики чаек надежно оберегают ее слова от посторонних ушей, вновь заговорила о патриархе Ираклии.
Да, несомненно, этот иерарх — отнюдь не зерцало честного слуги Божьего. Но когда Иерусалим был захвачен неверными, именно он предстал перед троном Плантагенетов с мольбой о помощи и обещаниями любых наград вплоть до короны Священного города. Следовательно, он сторонник Ричарда Английского в схватке с теми, кто не прочь завладеть столь лакомой добычей, как Святая земля.
Уильям де Шампер… Возможно, храмовники и в самом деле изберут магистром того, на кого укажет Ричард. Но ему не следует забывать, что де Шампер много лет жил и воевал в Леванте, он знает каждую пядь этой земли, и его совет может понадобиться предводителю крестоносного воинства — независимо от того, кто станет новым Великим магистром. Ибо Ричарду пока еще неведомо, что такое Святая земля и насколько она отличается от того, к чему он привык в Европе.
О Гвидо де Лузиньяне следует знать только одно. В Палестине в среде крестоносцев огромную роль играет общность происхождения — Элеонора убедилась в этом сама, да и Ричарду вскоре придется с этим столкнуться. Поэтому Гвидо — его человек, хочет король того или нет. И пусть он бездарно проиграл Хаттинскую битву, но именно Гвидо де Лузиньян начал осаду Акры. Что же до Конрада Монферратского, столь восхваляемого Ричардом, — сей ловец удачи делает только то, что выгодно ему самому. Поэтому неясно, как Конрад, всячески стремящийся возвыситься, отнесется к прибытию в Палестину столь прославленного воителя, как Ричард Львиное Сердце, ибо он алчет славы только для себя! Помни об этом днем и ночью!
Это были ее последние слова. Элеонора Аквитанская, плотно запахнув на груди накидку, защищавшую ее от порывов ветра, легко, как в юности, взбежала по сходням.
Позже, когда сицилийский берег уже отдалился, она пожалела, что их с Ричардом расставание оказалось настолько бурным, что она не успела благословить сына.
Непрошеная слезинка скатилась по ее морщинистой щеке. Королева-мать вскинула руку и осенила знаком креста гавань, причал и сухие склоны гор, нависавшие над городом, моля Пречистую Деву уберечь ее мальчика от огня, железа и людской злобы.
Слезы туманили глаза, и она уже не могла различить ничего, кроме алого пятнышка его плаща, все еще маячившего на причале.
ГЛАВА 2
В это же время…
Трое всадников неспешно приближались к Никее[24] по старой купеческой дороге.
Один из них был христианским рыцарем в длинной, богато расшитой тунике, надетой поверх кольчуги, второй — сарацином в темной чалме и полосатом халате, третий — рослым крепким мужчиной средних лет. Его широкое веснушчатое лицо обрамляли рыжие височные косы, ниспадающие до плеч. Кони у всех троих были превосходными, но крайне утомленными, да и всадники не без удовлетворения посматривали на вырастающие перед ними стены Никеи — цели их путешествия.
Сарацин кивнул в сторону массивных городских укреплений, окрашенных в темный багрянец лучами закатного солнца.
— Я говорил вам, что мы достигнем Никеи еще засветло. Но солнце субботы еще не покинуло небес, а наш друг и покровитель Ашер бен Соломон, — да пребудет с ним милость Аллаха! — строго соблюдает обычаи своего народа и едва ли сможет принять гостей в день, когда иудеям предписано предаваться отдыху и благочестивым размышлениям. Скорее всего, нам предстоит искать пристанища в одном из никейских караван-сараев.[25]
Он произнес это ровно, касаясь пальцами своей холеной иссиня-черной бороды, а затем, будто ища подтверждения своим словам, обернулся к ехавшему бок о бок с ним голубоглазому рыцарю-христианину.
Однако откликнулся не рыцарь, а их рыжеволосый спутник.
— Ответь, Сабир, худо ли провести славный вечерок в одном из никейских «домов веселья»? — Его широкое лицо расплылось в улыбке, рыжие усы встопорщились, открыв крепкие белые зубы, а в серо-голубых глазах заплясали веселые искры. — Клянусь Одином, мудрым богом моих предков, жизнь слишком коротка, чтобы бессмысленно влачить ее, а мы и без того засиделись в Константинополе. И это так же верно, как то, что меня зовут Эйрик. Новые края, стычки в пути, скачка во весь дух и радость победы мне много милее, чем все утонченные наслаждения ромейцев, вместе взятые. И вот что я скажу: примут нас сегодня или нет, но я счастлив, что старина Ашер позвал нас и заставил стряхнуть с себя греческую тоску. Жизнь воина, презирающего опасность, — что может быть лучше? Верно, Мартин? Что скажешь, Сабир?
Не получив ответа, рыжий великан нисколько не смутился и продолжал мерно покачиваться в седле с такой безмятежной улыбкой, словно все увиденное окрест его несказанно радовало.
Они миновали трущобы предместья, где обитали греки, армяне, левантинцы-мусульмане. Никея была сущим Вавилоном, и недаром за ее стенами высились не только купола христианских базилик и башни колоколен, но и минареты последователей пророка Мухаммада. Здесь же селились и многие евреи, имевшие в Никее куда больше привилегий, чем где-либо, и получавшие неплохой доход от торговли, которая процветала в городе, стоявшем на перекрестье караванных путей.
Стражники, остановив всадников, потребовали у них подорожную плату, и те, расплатившись мелкой серебряной монетой, вступили под мощную арку главных городских ворот. Прямая, мощенная на ромейский манер светлым камнем улица уходила отсюда вдаль. Город выглядел внушительно и великолепно, ибо его власти бдительно следили за тем, чтобы Никея, оплот Константинополя в Малой Азии, многократно подвергавшийся набегам и переживший ряд землетрясений, не терял своего блеска. Могучие крепостные башни, увенчанные зубцами стены, рвы и укрепленное предполье, — все говорило о том, что форпост империи готов дать отпор любому, кто рискнет на него посягнуть. Отряды греческой стражи патрулировали городские кварталы, разгоняя местный сброд, спешащий убраться в свои норы до того, как будет подан сигнал тушить огни.
И все же, пока тьма окончательно не окутала город, лавочники продолжали настырно зазывать прохожих, водоносы предлагали свежую родниковую воду с окрестных холмов, а размалеванные шлюхи заигрывали с припозднившимися гуляками. Окликали они и ехавших шагом всадников, обращаясь, как правило, к Мартину. По одежде, оружию и осанке в нем издали можно было признать благородного господина, да и выглядел молодой человек привлекательно: тонкие черты, блестящие светло-каштановые волосы, ровно подрезанные чуть выше линии плеч, ярко-голубые, особенно приметные в полумраке узких переулков глаза. Он походил на франка,[26] а те были охочи до смуглых малоазийских жриц любви, да и деньги у них водились.
Однако путникам сейчас было не до них.
Рыжего Эйрика привлекла попавшаяся им по пути площадь для гимнастических упражнений, где еще толпились мужчины. Одни выделывали затейливые трюки на деревянных брусьях, кое-кто метал в цель копья и дротики. При виде этих забав потомок викингов объявил спутникам, что намерен до наступления темноты поразмять одеревеневшие в седле мышцы, а затем поискать местечко в округе, где доброму человеку можно промочить горло.
Он тут же повернул коня, и вскоре с площади уже доносился его могучий голос, советующий по-гречески какому-то новичку, как должно заносить локоть при метании дротика. Затем он вызвался сам показать, как и что, после чего послышался одобрительный гул — рыжий великан первым же могучим броском разнес в щепы мишень и опрокинул треногу, на которой та была установлена.
— Надо полагать, сегодня здесь найдется немало желающих угостить нашего славного викинга, — впервые с той минуты, как они миновали городские ворота, подал голос Мартин. При этом его твердо очерченные губы сложились в слегка насмешливую улыбку.
Сабир невозмутимо продолжал ехать рядом, не касаясь поводьев и правя конем одними коленями, как принято у сельджуков[27] — прирожденных наездников.
— Клянусь бородой Пророка, — чуть погодя, заметил сарацин, — весь ум нашего Эйрика сосредоточился в его руках и ногах, позабыв о том месте, которое изначально определил для него Всевышний. Если бы это было не так, вряд ли мудрый Ашер бен Соломон нуждался в наших услугах. Ведь, как тебе известно, он нашел Эйрика намного раньше, чем тебя или меня, и именно его предназначал для исполнения своих поручений.
— Эйрик и впрямь превосходный воин. Но знаешь ли, Сабир, наш господин однажды сказал, что есть люди, которые ведут, а есть те, кого ведут, и они принимают это как должное. Наш славный язычник из таких. И у него достаточно ума, чтобы с этим не спорить. Он легко справляется с тем, что ему поручено, а платит ему Ашер ничуть не меньше, чем нам с тобой, можешь поверить.
Он с улыбкой взглянул на Сабира. В полумраке смуглое лицо сарацина казалось совсем темным, глубоко посаженные проницательные глаза внимательно смотрели из-под чалмы. Черные как смоль кудри и вьющаяся тщательно ухоженная бородка вокруг тонкогубого рта довершали картину.
Сарацин внезапно спросил:
— А как ты думаешь, кого из нас господин на сей раз поставит во главе?
— Зачем гадать, если вскоре все станет известно? Все зависит от того, куда лежит наш путь. Если доведется сопровождать соплеменников Ашера бен Соломона в христианские земли, то я возглавлю наш маленький отряд, если в мусульманские княжества — ты станешь играть роль эмира, а я буду замыкать караван и следить за тылами.
Мартин произнес это совершенно равнодушно. Невозмутимость и скрытность были его сильными сторонами, и Сабир стремился подражать в этом своему приятелю-франку, хотя порой его горячая натура брала верх над напускной сдержанностью. Так и сейчас: ноздри его орлиного носа затрепетали, губы дрогнули, словно он намеревался произнести нечто резкое, но вместо этого Сабир неожиданно улыбнулся, сверкнув острыми белыми зубами.
— Ты скромничаешь, друг Мартин. Господин вырастил тебя в своем доме, в кругу семьи; когда же Руфь, прекрасная дочь Ашера бен Соломона, станет твоей супругой, именно ты будешь решать, куда нам направить коней и где нести нашу службу.
Он все же добился своего. Лицо Мартина утратило невозмутимость, рука его непроизвольно рванула поводья, и рослый саврасый конь недовольно заплясал под рыцарем, потряхивая темной гривой. Голубые глаза юноши вспыхнули, как два светляка в ночи, но голос звучал по-прежнему спокойно:
— Что может укрыться от твоего орлиного взора, Сабир? Мне действительно хотелось бы, чтобы Ашер не воспротивился, когда я попрошу у него руки нежной Руфи…
Тем временем всадники приблизились к месту пересечения двух главных улиц Никеи, близ которого высился собор Святой Софии, главный храм города. Нечего и говорить, что эта София не шла ни в какое сравнение с величественной Софией в Константинополе. В этот час храм покидали последние прихожане, женщины прятали лица под покрывалами, мужчины собирались группками, чтобы переброситься словцом, кто-то спешил получить благословение у длиннобородого, облаченного в темную рясу священнослужителя.
Брови сарацина сошлись на переносье. Оттого ли он хмурился, что главным храмом города, некогда принадлежавшего его единоверцам,[28] стал собор христиан, или просто погрузился в свои мысли — бог весть.
— Аллах свидетель, мы многим обязаны Ашеру бен Соломону, — наконец проговорил он, склонившись к Мартину и понизив голос. — Он многому научил… но, в конечном счете, только ради достижения своих целей. Я не осуждаю его: кто не знает, что в этом мире все делается ради выгоды. Больше того — господин никогда не относился к нам как к наемникам, он называет нас друзьями и щедр в своем гостеприимстве. Ты стал другом его сына Иосифа, госпожа Хава радуется тебе, а красавица Руфь смотрит на тебя влюбленными очами. Знай я только это, я бы решил, что твоим мечтам суждено сбыться. Но помни, Мартин: ты не их крови и другой веры. Среди иудеев ты чужак, как и я, и останешься чужаком, как бы ни были с тобой приветливы и дружелюбны. И это, приятель, не пустые слова. Ашер бен Соломон будет любезен с нами до тех пор, пока мы ему нужны. Но я вовсе не уверен, что он горит желанием породниться с тобой. Сыны Израиля горды. Повсюду гонимые и презираемые, они считают себя избранным народом и даже в крайнем унижении ничего не ценят так, как свое избранничество. Поэтому ты для них — чужой, что бы там ни говорили.
— А если я приму их веру? — негромко спросил Мартин. — Совершу гиюр, как они говорят.
— Ты? Но ведь ты крещен!
— Очень давно, — пожал плечами рыцарь. — Я был несмышленым младенцем. Разве я мог понимать то, что со мной тогда происходило?
— Тем не менее тебя крестили, а вода крещения — нечто иное, чем та, что плещется в кувшинах водоносов. Неужели твое чувство к Руфи так сильно, что ты готов отречься от своего Бога?
Мартин ответил не сразу. Он был не из тех, кто легко открывает душу, но с Сабиром их сближали перенесенные испытания и долгие вечера у походных костров.
— Все мы полагаемся на некую высшую силу, друг мой, — произнес он после недолгого раздумья. — Так принято от века. Я родился в доме, где почитали сына Божьего Иисуса Христа, затем попал к иудеям, которые верят в Яхве, а Христа не признают и считают самозванцем. Об этом можно рассуждать по-разному, но, признаюсь тебе, Сабир, все эти рассуждения мне безразличны. Во мне нет огня веры. Евреи же всегда были моими друзьями, никто из них не причинил мне зла, я почитаю их за сплоченность, стойкость и великое терпение в годину невзгод. Да, я не прочь стать одним из них. Ради Руфи и ради себя самого. Что же до веры… Я скажу тебе, во что я верю: в дружеские чувства Иосифа, в доброту Хавы и мудрость Ашера, а еще — в то, что в трудную минуту ты и Эйрик всегда будете рядом и я смогу опереться на ваши плечи. Вот что для меня свято. Ну а высшие силы… Что им до меня? Должно быть, поэтому, — добавил он со своей странной улыбкой, когда один уголок рта улыбался, а второй — нет, — мне то и дело приходилось прикидываться то греком-православным, то франком, преданным Святейшему престолу, то верным слугой Пророка, а однажды даже довелось побывать зороастрийцем.
Оказывается, они уже давно стояли на площади перед собором. Их усталые кони переступали с ноги на ногу и фыркали, а прохожие косились на путников, увлеченных беседой, один из которых выглядел как франк, а другой несомненно был сарацином. И хоть в Никее, городе на скрещении торговых путей, подобное вовсе не было дивом, Мартин решил, что им обоим вовсе ни к чему привлекать к себе любопытные взгляды.
Тронув повод, он направил коня в восточную часть города, где располагался еврейский квартал, однако Сабир отказался последовать за ним.
— Езжай один, Мартин. Во мне недостаточно дерзости, чтобы тревожить покой господина Ашера бен Соломона в субботу вечером. Тебе же желаю удачи, друг мой, не верующий даже в своего странного пророка Ису, в которого верят мусульмане как в того, кому суждено возвестить миру о начале Страшного суда. Но, прощаясь, все же скажу тебе: человек, который ни во что не верит, рано или поздно становится слугой шайтана. Да хранит тебя Аллах от столь злой участи!
С этими словами сарацин направил свою серую в яблоках кобылу в ту сторону, где располагались караван-сараи, охотно принимавшие путников. Мартин же неспешно поехал туда, где находилось жилище его благодетеля.
Ранее Ашер бен Соломон обитал в константинопольском предместье Галата. Но десять лет назад греки-ромеи учинили погром кварталов, в которых селились приверженцы латинского обряда, и, как всегда бывает в таких случаях, в этих беспорядках досталось и евреям, проживавшим за Золотым Рогом. Вскоре после этого купец принял решение перебраться вместе с семейством в богатую и спокойную Никею, где отношения между национальными и религиозными общинами мудро регулировались особыми законами.
С тех пор Ашер разбогател. Теперь он имел торговые предприятия не только в Никее, но и в Киликии,[29] кредит в итальянских республиках и в странах ислама, а помимо того получал доходы с рудников в Конийском султанате.[30] Его торговые суда и караваны отправлялись на Запад и на Восток, а его доверенным людям — Мартину, Сабиру и рыжему Эйрику — приходилось сопровождать их, обеспечивая безопасность людей и товаров.
Но не это было их основной целью. Ашер бен Соломон, став в Никее главой еврейской общины и даяном,[31] взял в свои руки заботу о перемещении своих единоверцев из опасных мест в относительно более спокойные. Отныне им троим приходилось служить проводниками и защитниками гонимых. Ашер щедро оплачивал эту работу, это правда, и жаловаться никому из них не приходилось.
Мартин приближался к иудерии — укрепленному кварталу, в котором проживали евреи. Как и положено вечером дня субботнего, здесь было тихо и безлюдно, ворота повсюду затворены, а улицы освещены лишь редкими факелами, укрепленными за коваными решетками в нишах стен.
Невдалеке от дома Ашера в колеблющемся свете факела Мартин различил кучку подростков-оборванцев. Спешившись, рыцарь бесшумно приблизился, чтобы взглянуть, чем они заняты. Отвратительный смрад ударил ему в нос. Приглядевшись, он понял, что подростки, следуя примеру взрослых, презиравших иудеев, поливают нечистотами ступени, ведущие к дверям дома бен Соломона.
— Эй, вы что тут делаете? — грозно окликнул он их на местном греческом диалекте.
Дети бросились было наутек, но вскоре остановились, сообразив, что незнакомец — не еврей и не городской стражник.
— Подарочек еврейским собакам, — развязно объявил один из них, выглядевший постарше. — Пусть-ка попробуют теперь отмыть свои святыни от христианского дерьма!
Только теперь Мартин обнаружил, что подростки облили нечистотами не только ступени и ворота дома, но и нишу у двери, в которой помещалась мезуза.[32]
— Немедленно навести порядок!
Голос рыцаря звучал непреклонно, а его рука лежала на рукояти меча, и все же дети не спешили исполнить приказание, словно не веря собственным ушам. Мартину ничего не оставалось, как поймать за шиворот парочку сорванцов и подтолкнуть их к двери. Остальные бросились врассыпную.
— И не совестно вам, христианскому рыцарю, печься о протухших еврейских святынях! — выкрикнул тот, что постарше, оказавшись на безопасном расстоянии.
Мартин молча наблюдал за тем, как притворно хнычущие пленники полами своих драных хламид пытаются оттереть ступени и очистить нишу. Возможно, это было жестоко по отношению к несмышленым и не ведающим, что творят, но стерпеть подобное надругательство он не мог. В последние месяцы ему довелось повидать немало жестокостей и унижений, которым подвергали сынов Израиля. Те, как обычно, сносили все со стоическим смирением. Но что всегда поражало его — эту стойкость и силу духа христиане и мусульмане единодушно считали неким проявлением козней дьявола, адским упрямством.
— Ну что, готово? А теперь прочь отсюда, и чтоб вашей ноги больше не было в иудерии!
Подростки метнулись в темноту. Свое дело они сделали наспех, в воздухе все еще стоял густой смрад. А тем временем за дверью послышался шорох, небольшое решетчатое оконце в ней отворилось, в нем мелькнул свет, и надтреснутый старческий голос взволнованно воскликнул:
— Благородный сьер Мартин! Хвала Богу Авраама — это вы!
Престарелый Хаим, дальний родич Ашера бен Соломона, исполнявший в доме обязанности привратника, кинулся отворять запоры. Мартин тотчас указал ему на следы нечистот вокруг мезузы, но старик, тряся седыми пейсами, твердил, что управится сам, поскольку господина Мартина ждут и будут счастливы видеть.
Из глубины дома на шум, поднятый стариком, один за другим стали появляться домочадцы. При виде госпожи Хавы Мартин едва не прослезился: эта женщина заменила ему мать. Она была уже не той рослой красавицей с бархатными очами, какой он увидел ее впервые. Госпожа Хава располнела после многочисленных родов, виски ее уже серебрились, но когда она обняла его со словами: «Наконец-то ты вернулся, мой дорогой мальчик!», он и в самом деле почувствовал себя дома. Радостно приветствовали Мартина старшие дочери Ашера и их мужья. А вот и друг детства, уютный толстячок Иосиф!
Друзья крепко обнялись, и в эту минуту никто не решился бы назвать лицо Мартина замкнутым или отстраненным: его синие глаза сияли от прилива чувств, он улыбался той теплой улыбкой, которую обычно таил, но здесь ему не перед кем было таиться — он был среди своих.
Напрасно вечно недоверчивый Сабир настаивал на том, что он чужой в кругу семьи Ашера!
— Мне нужно обязательно поговорить с тобой, и как можно скорее! — обратился к Мартину Иосиф.
Невысокий, с ранних лет склонный к полноте, он смотрел на друга снизу вверх. Мартин охотно последовал бы за ним, но его острый взгляд уже заметил на галерее еще одну особу, и его глаза при виде нее просияли. Руфь, дочь Ашера бен Соломона, спускалась по ступеням, неся перед собой серебряную лампу, озарявшую ее лицо так, что казалось, будто сияние исходит не от огня, а от ее лица. Ее симарра[33] также имела цвет пламени, а расшитое золотистыми блестками покрывало оставляло открытыми взору вьющиеся пышные волосы, обрамлявшие округлое смуглое лицо девушки. Тонкие и благородные черты, небольшой, яркий, как цветок, рот и огромные, темные, словно ночь, глаза. Она была так хороша, что Мартину невольно вспомнились строфы из Соломоновой Песни Песней: «О, ты прекрасна, возлюбленная моя! Глаза твои голубиные под кудрявыми волосами; волосы твои — как стадо коз, сходящих с горы Галаадской!»
Позади девушки из полумрака возникла еще одна фигура — сутуловатая, но крепко сбитая, облаченная в светлые одеяния дня субботнего. Ашер бен Соломон…
Мартин не мог не отметить, что волосы никейского даяна поседели за время его отсутствия, будто присыпанные солью, а серебристая проседь пробилась уже и в пышной бороде патриарха. Но глаза Ашера светились прежней живостью и умом, а глубокие морщины придавали его лицу значимости. Здесь, в кругу домочадцев, он держался почти величественно, но, покидая дом, выглядел обычным купцом-евреем — заискивающим, кланяющимся, лукавящим. Мало кто в Никее знал, что этот человек среди малоазиатских евреев пользуется не меньшим почтением, чем древние цари этого народа.
— Мир тебе, Мартин назареянин! — улыбнулся гостю даян.
— Мир и тебе, почтенный Ашер бен Соломон, — низко поклонился главе дома рыцарь.
С появлением даяна он уже не осмеливался так открыто любоваться Руфью, ибо все еще не ведал, как Ашер бен Соломон относится к его намерениям.
— Я ждал тебя, мой мальчик, однако не рассчитывал, что ты явишься на исходе дня Шаббат, дарованного моему народу в пустыне…
Возникла секундная неловкость. Однако Иосиф тут же вступился за друга:
— Не будь так строг, отец! Мартин прибыл с наступлением темноты, день субботний завершается. Что может помешать ему присутствовать на нашем празднике?
К радости и облегчению Мартина, Иосифа поддержали все присутствующие, в том числе и Руфь, которая не сводила с отца умоляющего взгляда.
Ашер улыбнулся в бороду.
— Ты всегда занимал здесь особое положение, синеглазый. Далеко не такое, как сумасброд Эйрик или угрюмец Сабир. Входи же, и да войдут вместе с тобой в наш дом мир и благословение!
Так Мартин вновь оказался среди людей, которых знал с детства и в глубине души считал самыми близкими. А с тех пор, как подросла и стала красавицей Руфь, это чувство стало для него по-особому важным.
В прохладе весеннего вечера все семейство собралось на открытой террасе внутреннего дворика, и госпожа Хава зажгла светильник. Свет этот имел особое значение: возжигание огня с заходом солнца в пятницу отделяло субботу от будней и символизировало светлую радость наступившего седьмого дня недели, вечером же субботы пламя светильника возвещало завершение дня покоя и возвращение к повседневным делам. Руфь приняла у матери светильник, подняла его над головой, и все присутствовавшие одновременно вздохнули — то ли с сожалением, то ли с облегчением.
Над столом вился дымок ароматных воскурений. Глава дома произнес благословение над полной до краев чашей с вином, не преминув пролить на пол несколько капель. В этом тоже был особый смысл: пролить вино — знак процветания дома.
Беседа за трапезой была негромкой и полной дружелюбия. Речь поначалу зашла о дочерях даяна, живших с мужьями в других малоазийских городах, затем все принялись обсуждать предстоящую женитьбу Иосифа на дочери богатого купца из города Сис в Киликийском царстве по имени Биньямин. Ашер бен Соломон заметил, что евреи под властью царя Левона[34] в Киликии благоденствуют, поэтому женитьба сына позволит ему расширить там свои торговые связи и основать новые предприятия, передав Иосифу управление всеми делами. При этом даян не преминул посетовать на то, что ради дела придется на время расстаться с единственным сыном и наследником, ибо двоих других его сыновей Господь забрал к себе.
Иосиф слушал отца, ни в чем не возражая, явно смирившись с уготованной ему участью. Однако Мартин все еще хорошо помнил, как безутешно горевал его друг, когда в родах умерла его первая молодая супруга. Что ж, время лечит. Теперь Иосиф готовится к отъезду, и, скорее всего, одна из причин, по которой Мартина вызвали в Никею, — желание Ашера бен Соломона, чтобы он сопровождал его сына в долгой дороге через всю Малую Азию.
Но сейчас Иосиф благодушествовал в кругу отца и матери, старших сестер, их мужей и многочисленных отпрысков, а также дальних родственников, наводнявших дом даяна. От его внимания, конечно же, не укрылись взгляды, которыми обменивались его друг-воин и младшая сестра. Иосифа это трогало: что может быть лучше, если их мечты сбудутся и однажды он сможет назвать Мартина не только другом, но и братом.
Поэтому, как только с трапезой было покончено и пришло время отдыха, он обменялся несколькими словами с Руфью, а затем остановил Мартина на полпути к отведенному ему покою и увлек в сторону.
— Ступай в сад, — шепнул он. — Руфь будет ждать тебя у большого можжевельника за фонтаном.
Мартин коротко пожал руку другу и поспешно направился туда, где в темноте слышалось журчание струй и плеск воды. Руфь, как невесомая золотистая птичка, порхнула в его объятия.
— Поцелуй же меня! Поцелуй, как тогда, когда мы открыли наши сердца друг другу!
Ее тело трепетало в его сильных руках, девушка приподнялась на носках, упиваясь поцелуями Мартина, ее покрывало упало, кудри растрепались. Руфь была пылкой и несдержанной, и эта ее страстность сводила Мартина с ума. Но он ни на миг не забывал, что эта девушка — дочь его друга и благодетеля. И когда она подняла себе подол и он ощутил атласную прохладу ее бедра, Мартин отступил первым.
— О нет, моя сладостная роза! И хоть ты лишаешь меня рассудка, я смогу позволить себе более смелые ласки лишь тогда, когда назову тебя своей женой…
Он сделал шаг назад и опустился на скамью, покрытую ковром, стараясь справиться с охватившим его возбуждением. Руфь томно вздохнула и опустилась рядом, склонив растрепанную кудрявую головку на его плечо. И, будто читая у него в мыслях, стала полушепотом напевать из Песни Песней:
— «На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя, искала его и не нашла его. Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя…»
Внезапно она спросила, оборвав себя:
— Почему ты так долго не приезжал, назареянин?
Мартин негромко засмеялся в темноте.
— Ты хорошо знаешь, что мои отношения с твоим отцом таковы, что я не смею являться сюда, когда пожелаю.
— Но ведь ты не слуга ему, а друг! Отец сам часто говорит об этом.
У Мартина потеплело в груди от ее слов.
Приблизив лицо к девушке так, что их дыхание смешивалось, он поведал, что больше не станет медлить и непременно будет просить у достопочтенного Ашера бен Соломона ее руки, а вместе с тем совершить гиюр, чтобы он, Мартин, сделался единым целым с его народом и чтобы они с Руфь могли стать семьей и никогда больше не разлучаться.
— Да, да, ты прав — никогда! — шептала она, снова ища его ласк. — Я знаю, Иосиф будет просто счастлив… Несмотря на то что вскоре ему придется уехать, он обещал, что непременно вернется еще до того, как состоится наша свадьба.
Похоже, Руфь не сомневалась, что ее брак с Мартином дело решенное. Младшая из детей даяна, поздний, боготворимый всей семьей ребенок, она и представить не могла, что с ее желанием могут не посчитаться.
В полумраке, пронизанном лунным светом, ее лицо казалось Мартину прекраснее всего, что ему доводилось видеть. А ведь он многое повидал за свои двадцать восемь лет и знавал немало женщин. Но ни об одной из них не мог думать, когда рядом была Руфь.
Мартин негромко рассмеялся, неожиданно вспомнив, как они впервые узнали друг друга.
Он был на двенадцать лет старше Руфи и только что вернулся в Константинополь, закончив обучение у ассасинов. Тогда Мартину недавно исполнилось пятнадцать, но после суровой школы в горах он выглядел старше и был так дик и нелюдим, что когда госпожа Хава попросила его побыть час-другой с малышкой, не почувствовал ничего, кроме глухого раздражения.
Какой же неугомонной была Руфь в свои три года! Мартин просто извелся, не знал, гневаться ему или смеяться, и к тому моменту, когда явилась припозднившаяся нянька, готов был бежать от этой девчонки хоть на край света.
Затем он продолжил ученье — на сей раз в замке одного высокородного германского рыцаря. Рыцарская наука была не похожа на все, что Мартину довелось узнать прежде, но уже через три года, вопреки традиции, он был посвящен и опоясан мечом. Теперь, в новом обличье христианского рыцаря, он начал совершать далекие путешествия, выполняя всевозможные поручения Ашера бен Соломона.
В доме покровителя ему доводилось бывать от случая к случаю, но всякий раз он замечал, как меняется несносная малышка, превращаясь из неуклюжего подростка в прелестную юную деву. А три года назад, когда вернулся в дом Ашера после одного из самых сложных и опасных дел, израненный и смертельно утомленный, его выхаживала госпожа Хава, а порой у его ложа бодрствовала вместо матери четырнадцатилетняя Руфь.
Слушая Мартина, юная еврейка молча улыбалась. О, она помнила каждую минуту, проведенную у его изголовья, каждый его взгляд! Ни царь Давид, ни премудрый Соломон, как ей казалось, не были и вполовину так хороши, как этот назареянин с синими, словно персидская бирюза, глазами.
Он был поражен расцветшей красотой дочери Ашера и Хавы и ее радостным, легким, светлым нравом. После всего, что довелось пережить Мартину, ее присутствие было лучшим лекарством, чем все бальзамы и припарки мудрой Хавы.
Вернувшись в свой дом в Константинополе, он еще около года приходил в себя, восстанавливая былую крепость мышц и быстроту движений, то и дело вспоминая чарующую улыбку этой юной девушки, когда она склонялась над ним, чтобы коснуться губами его горячего лба. В четырнадцать Руфь была уже не дитя, она волновала его кровь и заставляла сладко трепетать сердце. Однако эти чувства потускнели, когда Иосиф написал другу, что отец подумывает выдать младшую дочь за богатого торговца из Фессалоник.
Едва Мартин упомянул об этом, как Руфь встрепенулась:
— Но ведь я наотрез отказалась стать женой этого Гамалиэля из Фессалоник! Я плакала, рвала на себе волосы и умоляла отца отменить свадьбу. Гамалиэль далеко не молод и ужасно противный! Я даже колючки от кактуса глотала, чтобы заболеть и не достаться ему! Потому что у меня есть ты, мой рыцарь!
Мартин усмехнулся и одновременно почувствовал, как у него перехватывает горло. Он вспомнил, как спустя год снова приехал в Никею, и дивно похорошевшая Руфь короткой запиской позвала его на свидание. Это было как исполнение самой затаенной мечты!..
— Завтра я буду просить твоей руки, — произнес Мартин между поцелуями. — Я оказал твоему отцу столько услуг, что он не посмеет отказать. Я достаточно богат, чтобы его изнеженной дочери не пришлось менять свои привычки. И еще я намерен сказать ему, как глубоко и преданно тебя люблю!
Губы Руфи отвечали его устам, из ее груди, словно голубиное воркование, вырывались легкие стоны, и Мартин окончательно потерял голову от желания.
Внезапно со стороны дома донесся взволнованный голос Хавы, окликавшей дочь. Руфь тут же вырвалась из его рук, привела в порядок одежду и спрятала рассыпавшиеся пряди волос под покрывало.
— Матушка знает, что я здесь, — все еще задыхаясь, проговорила она. — Она позволила мне увидеться с тобой… но ненадолго.
Мартину стало не по себе. Хава отпустила к нему дочь, уверенная, что с ним она будет в безопасности, а он едва не забыл обо всем на свете!
— Ступай, моя жемчужинка. Ступай, но помни: вскоре у нас будет предостаточно времени для встреч. До конца наших дней.
В темноте зашуршали шаги — Иосиф шел за сестрой. Но она все еще льнула к своему рыцарю, шептала напоследок:
— «Беги, возлюбленный мой; будь подобен серне или молодому оленю на горах бальзамических!..»
Но не ему, а ей пришлось бежать на зов матери. Иосиф опустился на скамью рядом с Мартином.
— Моя сестра тосковала без тебя. И я дал отцу понять, что причина ее печали — ты.
— И что же он? — спросил влюбленный рыцарь.
— О, как всегда, — только посмеивается. Ты же знаешь его! Никто никогда не знает, что у него на самом деле на уме.
ГЛАВА 3
В ту ночь Мартин долго не мог уснуть: сквозь решетку окна светила луна, вдали лаяли бродячие псы, духота теснила грудь.
Но не это заставляло его метаться в постели: после свидания с возлюбленной его душа была переполнена, плоть пылала, сердце оглушительно стучало. Рыцарь мечтал о Руфи, о том времени, когда они будут вместе и он наконец-то избавится от одиночества. Он обретет близкую душу, станет членом большой и дружной семьи, и никто не будет видеть в нем чужака. Мать и брат девушки не против их союза, значит, можно убедить и других, прежде всего самого Ашера бен Соломона. Это нелегко, покровитель Мартина очень непростой человек, но простые люди и не добиваются столь высокого положения, какое занимает этот богатый, влиятельный и пользующийся всеобщим уважением иудей.
Вместе с тем для Ашера нет ничего важнее семьи, и если семья окажется на их с Руфью стороне, он не станет мешать их счастью. Да, он суров, порой неумолим, его поручения подчас требуют нечеловеческих усилий. И все же даян никейской иудейской общины иначе относится к сироте, выросшему в его доме, чем к прочим помощникам, и временами выказывает ему самое дружеское расположение.
Мартину удалось забыться только на рассвете. Его никто не тревожил, и спал он долго, глубоким и безмятежным сном. Прежде всего потому, что нигде он не чувствовал себя в такой безопасности, как здесь, в этом знакомом до мелочей доме. Так повелось с тех пор, когда он впервые попал к этим людям в качестве приемыша и вскоре поверил, что наконец-то обрел семью, которой не безразлична его судьба. И какие бы испытания ни готовила ему жизнь странника и воина, он всегда возвращался сюда, как в тихую гавань.
Рыцарь проснулся, когда солнце стояло высоко. Слуга сообщил, что Сабир и Эйрик уже здесь. Эйрик храпит в отведенной ему комнате, утомленный бурно проведенной ночью, а Сабир расположился в дальнем конце опоясывающей дом галереи и совершает полуденный намаз, обратившись лицом к Мекке.
После омовения и завтрака Мартин, облачившись в легкие свободные одежды, направился в покои Ашера бен Соломона: приглашение было передано ему одному, и это значило, что покровитель намерен поручить ему нечто необычное.
Минуя галереи и переходы просторного дома даяна, он снова поразился его великолепию. Стены покрыты золоченым декором, на панелях — затейливая вязь изречений древних мудрецов, за занавесями, в нишах, — низкие диваны, заваленные шелковыми подушками, ноги утопают в драгоценных коврах из Шираза. Прислуги нигде не было видно, из сада доносилось только мелодичное журчание фонтана и шелест листвы, и от этого тишина казалась еще более глубокой. И это в шумной, крикливой, пыльной и душной Никее!
Поистине, этот народ умел окружать себя удобствами и благами, неведомыми другим племенам. Но иначе и быть не могло: дом еврея — его крепость, житница, источник радости и счастья. Здесь забываются все страдания и унижения, выпавшие на долю гонимого и презираемого народа.
У входа в покои Ашера бен Соломона Мартин приподнял тяжелую, расшитую серебром занавесь и ступил в прохладный полумрак. Дневной свет проникал сюда сквозь листву глициний и плюща, оплетавших решетку оконного проема. Полумрак казался зеленоватым, драпировки вдоль стен слегка колыхались от движений воздуха, и казалось, что ты внезапно оказался под водой.
Даян сидел за столом у окна, перед ним лежал свиток Торы.
— Да пребудут с тобой мир и благословение, мальчик мой, — приветствовал он вошедшего.
— Да умножится это благословение на тебе и на твоей семье, мудрый Ашер бен Соломон, — сдержанно поклонился рыцарь.
Он поцеловал руку покровителя и опустился на диван напротив. Несмотря на все свое самообладание, Мартин был напряжен: он понимал, что откладывать разговор о Руфи не следует. Другого подобного случая может и не представиться. В то же время он испытывал некоторую робость перед Ашером — возможно, уходящую корнями в его сиротское детство.
Ашер развернул свиток.
— Эта книга веками ограждает мой народ от духовного вырождения, невежества и варварства. Из века в век сыны Израиля подвергаются гонениям и пребывают в презрении. Участь наша нелегка. И все же мы — избранный народ, так как не нуждаемся в посредниках между нами и Всемогущим. Пусть иные ощупью бродят во тьме, тщетно полагаясь на слова лжепророков, нам же дозволено непосредственно созерцать лицо Его и чтить Его заповеди!
Даян был известен своим цветистым красноречием. Мартин знал об этом и молча слушал, зная, что за этим вступлением последует длинный перечень бедствий, унижений и зол, которые доводится претерпевать евреям.
Так и случилось, но сегодня Ашер бен Соломон в особенности обрушился на франков. Эти варвары, — объявил он, — не обладающие никакими добродетелями, кроме бессмысленной храбрости, лгут во всеуслышание, что народ Израиля якобы запятнал себя кровью того, кого они в своем заблуждении именуют Сыном Божьим! И каких только злодеяний они не приписывают детям Сиона: дескать, евреи не только умертвили Мессию, но и насмехаются над святым причастием, обирают добрых христиан, отравляют колодцы и совершают убийства христианских младенцев, чтобы на их невинной крови замешивать тесто для своих опресноков. Священнослужители франков призывают с кафедр всячески порочить евреев, дабы те беспрестанно чувствовали свою греховную вину и в конце концов обратились к истине Христовой, отвергнув свою веру.
Мартин молчал. Все это ему приходилось слышать не единожды. Но сейчас горячность его наставника имела какую-то скрытую причину. Возможно, дело в том, что Ашер, зная, что Мартин, постоянно живущий в окружении христиан, мог впитать то, что говорилось в их кругу, и заколебаться. А ведь он был ближайшим доверенным лицом даяна, и тот хотел полагаться на него во всем, без каких-либо оговорок и сомнений.
О, если бы Ашер бен Соломон ведал, как мало было веры в Мартине! Жизнь в окружении людей, принадлежащих к различным религиям и конфессиям, убедила его в том, что не высшие силы, а сам человек принимает решения, опираясь на свою волю, силы и ум. Другое дело, что именно евреи были к нему добрее других; он испытывал глубокую симпатию к этому трудолюбивому и предприимчивому народу, который умудрялся подняться даже будучи низвергнут в бездну, вызывая зависть и ненависть своих гонителей.
— Я позволю себе прервать вас, учитель, — наконец произнес он, стараясь не смотреть на изумленно вскинутые брови даяна. — Ваши слова полны истины. Я немало размышлял об этом и пришел к выводу, что для меня пришло время стать одним из вас. Принять на себя заповеди Торы, обрезание, очиститься в микве[35] и перед лицом всего мира стать правоверным иудеем.
Строгое лицо Ашера бен Соломона застыло. Отвернувшись к окну, он принялся растирать ладонь левой руки большим пальцем правой — жест, как было известно Мартину, выдававший его волнение или смятение. Но когда даян заговорил, голос его звучал ровно:
— Известны ли тебе, Мартин, законы Ромейской империи? В согласии с ними, того, кто совершит обрезание христианина, могут осудить как за насильственное оскопление.
— Но кто об этом узнает?
Ашер слегка наклонил голову, тень от крупного носа легла на его сухие губы, и стало казаться, что они искривлены скептической усмешкой.
— Мальчик мой! То, о чем ты говоришь, не может меня не радовать. Душой ты с нами, в этом нет сомнений. Однако тебе часто приходится путешествовать, жить среди назареян, а там… там всякое может случиться. И если о том, что ты обрезан, станет известно — не поздоровится не только нам, но и тебе.
Мартин коротко вздохнул, лицо его побледнело, резче проступила линия скул.
Пора. Сейчас он скажет о самом главном.
— Дорогой друг и учитель! Уже более десяти лет я выполняю для вас ту опасную работу, для которой вы меня предназначили. Мне было всего пятнадцать лет, когда вы открыли мне, ради чего ввели меня в свой дом и не жалели средств, чтобы сделать меня искусным воином, проводником и лазутчиком. Вы ничего не скрыли и дали мне понять, что если я откажусь служить вам, вы отпустите меня на все четыре стороны, и знания, которые я приобрел, станут мне подспорьем в дальнейшей жизни. Я смогу стать рыцарем, наемником, толмачом, послом, придворным — кем угодно, но бедствовать мне не придется. Тогда же вы объяснили, какие трудности и опасности ждут меня, если я останусь с вами. И, поразмыслив, я сделал выбор, ибо с детства был привязан к вам и любил вашу семью. С семнадцати лет я служу вам — не по принуждению, а по доброй воле. За это время я стал очень состоятельным человеком…
Мартин умолк. Он говорил с необычной для себя горячностью, расхаживая по покою. Ашер искоса следил за ним, поглаживая бороду и слегка кивая, словно в подтверждение его слов.
Далее Мартин поведал, что, разбогатев, приобрел виллу с садом в Константинополе и поместье в окрестностях Никеи, регулярно приносящее солидный доход. Да что там говорить — Ашеру бен Соломону известно все о положении дел и состоянии своего воспитанника, так как Мартин вложил немало средств в его предприятия и начинания.
И все же волнение молодого человека оставалось загадкой для его покровителя до тех пор, пока Мартин не начал жаловаться на одиночество. О да, у него много дел, он редко имеет досуг, но и не стремится к праздности, ибо в то время, когда он не занят поручениями даяна, душу его охватывает тоска. Что толку от самого великолепного дома, в котором тебя никто не ждет, кроме слуг?
Ашер бен Соломон выпрямился, откинув голову так резко, что венчавшая его поседевшую шевелюру кипа[36] едва не упала на каменные плиты пола.
— Ты решил жениться?
Его глаза остановились, словно он вглядывался в себя.
— Вот, значит, как? Ты одинок, привязан к моему роду, хочешь жениться, а перед тем упомянул, что хотел бы пройти гиюр и стать иудеем. Помнится, Иосиф однажды шутливо заметил: мол, ты не сводишь глаз с нашей красавицы Руфи. И что же из этого следует? Ты хочешь породниться со мной, Мартин?
В горле у рыцаря мгновенно пересохло, словно он только что пересек пустыню. В этот миг он испытывал неописуемую слабость, ему даже пришлось опуститься на прежнее место на обтянутом полосатым шелком диване.
— Хорошо, что это сказали вы, а не я, — наконец проговорил он. — Может, я бы так и не осмелился, ибо безмерно вас почитаю и помню, каким вы нашли меня в приюте у госпитальеров. Но ведь с тех пор многое изменилось, не так ли?
— Верно, — кивнул Ашер бен Соломон. — Ты действительно наш, тебя любит моя семья. Что касается Руфи…
Мартин пылко воскликнул:
— Смею уверить, если бы я не питал надежду на взаимность со стороны вашей дочери, я бы не стал даже заговаривать об этом. Спросите ее! Евреи не поступают со своими женщинами так, как принято у назареян, — они считаются с их волей и желаниями.
Порыв ветра тронул вьющиеся растения на окне, по лицу Мартина побежали причудливые тени.
Ашер бен Соломон видел, какой неистовой надеждой горят глаза этого молодого человека. И сам пристально разглядывал его, словно не узнавая.
Какая мощь таится в этих широких плечах! Как великолепно вылеплена шея, как горделиво посажена голова! Ни у кого из его соплеменников нет столь величавой осанки, как у этого потомка северных воинов. В детстве волосы Мартина были светлыми, как овсяная солома, но с возрастом потемнели и приобрели мягкий каштановый отлив. Все в нем изобличает европейца. Черты лица приятны и соразмерны: крепкий подбородок, высокие скулы, прямой нос. Легкая горбинка на переносье — след давнего перелома, — придает лицу мужественности.
Да, его приемыш вырос и стал красивым мужчиной, могучим воином. Слишком красивым, как порой с досадой думал Ашер. Некогда, углядев в прецептории госпитальеров белокурого ребенка, он хотел превратить его в своего лазутчика в среде христиан. Но шпион не может обладать столь яркой и приметной внешностью. Человек, выполняющий тайные поручения, должен быть неприметным, как мышь, и столь же незапоминающимся.
Однако и красоте Мартина нашлось применение: со временем он научился пользоваться своей мужественной привлекательностью в интересах дела. Сердца дам, среди которых были очень влиятельные и высокопоставленные особы, с легкостью открывались перед ним, и они охотно помогали пригожему христианину там, где любой мужчина заупрямился бы или отступил.
Но совсем иное дело, если речь идет о его дочери. Сейчас Мартин готов смирить гордыню и умолять его о милости и благословении на брак. Согласен ради этого даже обратиться и стать евреем. Но выгодно ли это Ашеру бен Соломону?
— Я не готов сейчас говорить с тобой об этом, — признался Даян, отводя взгляд и снова принимаясь потирать ладонь левой руки.
Затем он развернул свиток и, найдя нужные главу и стих, негромко прочитал: — «Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное; время убивать, и время врачевать…»
Даян сделал паузу и закончил, пропустив несколько стихов:
— «Время любить, и время ненавидеть».
Взгляд его оторвался от свитка и остановился на лице молодого человека. Тот понял.
— Вы не хотите говорить со мной о Руфи… И это значит, что у вас для меня новое поручение. — Мартин резко выдохнул воздух, словно освобождая место в груди: — Что ж, не будем терять время и перейдем к делу. Однако… Во имя Бога Авраама, Исаака и Иакова, не забывайте того, о чем я вас просил. Мне нужна Руфь!
Его синие глаза неожиданно сверкнули ледяным холодом.
«Все они таковы, — Ашер бен Соломон невольно поежился под пристальным взглядом рыцаря. — Эта варварская гордыня… Мальчик говорит, что просит, но на деле требует и угрожает. И он давным-давно не мальчик, а воин, решительный и опасный. Недаром Синан, старец горы Масьяф, получил от меня столько золота в обмен на то, чтобы сделать из него бесстрашного бойца и убийцу».
Поистине не стоило сердить Мартина.
Поэтому даян почти благодушно произнес:
— Дай время, друг мой, чтобы подыскать слова, подобающие для ответа. Ибо Руфь… О, она словно венец пальмовый, венчающий свежей зеленью мои седины! Как любящий отец, я желаю ей только добра. И если я удостоверюсь, что брак с тобой будет для нее и для всей нашей семьи наилучшим, я не стану препятствовать вашему счастью.
Ашер бен Соломон искоса взглянул на рыцаря и, убедившись, что при его последних словах лицо Мартина прояснилось, произнес другим тоном:
— А теперь о делах, друг мой…
Начал даян с того, что напомнил Мартину о его не столь давнем путешествии в Англию.
Верные люди сообщили главе никейской общины, что положение евреев в этой стране весьма сложное. При прежнем монархе — Генрихе Плантагенете — они имели немало свобод и привилегий: глава английской еврейской общины, некий Аарон из Линкольна, долгое время занимал пост советника государя, а богатое купечество не раз ссужало Генриху крупные суммы. Взамен король позволил английским евреям свободно торговать во всех своих владениях и взимать проценты с ссуд без ограничений. Однако при смене власти всякое могло случиться, и после кончины Генриха предусмотрительный Ашер решил отправить на острова Мартина — тот должен был в обличье рыцаря-храмовника находиться в Лондоне и вмешаться, если тамошним евреям понадобится помощь.
Однако Аарон из Линкольна счел опасения Ашера бен Соломона чрезмерными. И когда пришло время коронации Ричарда, многие евреи прибыли в Лондон, рассчитывая богатыми подношениями расположить к себе нового монарха. Тем более что всем было известно — Ричард отчаянно нуждается в деньгах для организации нового крестового похода и, вероятно, милостиво примет дары купечества и подтвердит привилегии сынов Израиля.
Как ни прискорбно, но случилось именно то, о чем предупреждал глава никейской общины. Аарон из Линкольна оказался сущим глупцом. В толпе, собравшейся по случаю коронации, к евреям-дарителям, ждавшим своей очереди быть допущенными к трону, начала приставать развязная чернь, тут же пронесся слух, что иудеи замышляют недоброе, и толпа набросилась на них. Это стало поводом к тому, что по всему Лондону начали громить дома евреев-ростовщиков, выбрасывать их жен и детей на улицу, уничтожать долговые грамоты.
— И это в день коронационных торжеств! — горячился Ашер. — Поистине у этого монарха сердце не льва, а гиены, ибо он наложил свою железную руку на сынов Авраама, объявив избиение евреев столь же богоугодным делом, как истребление сарацин!
— Не могу с вами согласиться, — возразил Мартин. — Я был там, видел все собственными глазами и готов выступить в защиту английского короля. Гнев его был обращен не на евреев, а на учиненные чернью во время коронации беспорядки. Ричард повелел немедля пресечь бесчинства и отправил отряды воинов, чтобы разогнать поджигавшую еврейские дома чернь…
Он и сам был в составе одного из таких отрядов. Ему удалось не допустить кровопролития и вывезти за пределы охваченной беспорядками столицы несколько еврейских семей, чтобы затем препроводить их во Фландрию. Для Мартина, облаченного в белый плащ храмовника, это не составило особого труда. А тут как раз подоспел указ короля, запрещавший преследовать евреев в пределах его державы.
— Ты защищаешь его? — нахмурился Ашер. — Ричард Английский этого не заслуживает. Напомню также, что, спасая жалкую кучку лондонских евреев, ты своевольно покинул страну, оставив без защиты множество наших единоверцев за пределами столицы.
Мартин отвел взгляд. У даяна были все основания его упрекнуть. Он действительно покинул Англию вскоре после того, как король Ричард взял евреев под свое покровительство. Больше того — им было создано так называемое «Еврейское казначейство», призванное наблюдать за торговыми операциями еврейских купцов и улаживать споры между иудеями и англичанами. Не было никакого смысла и дальше оставаться в промозглой Англии. Ему и в голову не пришло посетить графства — хотя бы тот же Линкольншир, чтобы убедиться, каково истинное положение евреев.
Увы, едва Ричард отплыл на континент, как разыгралась трагедия: в городах Восточной Англии чернь обрушилась на еврейские кварталы, и пока несчастные пытались найти защиту в королевских замках, многие из них лишились жизни, а некоторые предпочли покончить с собой, не дожидаясь, пока их растерзает разъяренная толпа.
— Невозможно предусмотреть все, — негромко произнес Мартин.
На это Ашер бен Соломон холодно возразил:
— Именно к этому я и стремлюсь. И Бог благословляет мои усилия, ибо мне удалось сделать немало.
Мартину это было известно: глава никейской общины только за последние несколько лет защитил, уберег от опасности и предоставил возможность обустроиться в относительно спокойных местах тысячам собратьев по вере. Недаром его имя благословляют в синагогах и на Востоке, и на Западе.
— Грядет время новых испытаний для моего народа… — помедлив, глухо произнес даян.
И поведал о том, что вскоре после того, как султан Саладин покорил державу, созданную крестоносцами в Святой земле, он позволил евреям вернуться на землю их предков. Там их называют «зимми»,[37] однако не притесняют; оттого и быстро возросла алия[38] на земли Эрец-Исроэль, куда некогда привел свой народ Моисей. Ныне же опять высоко взмыли знамена бродяг и грабителей, носящих крест на плаще, и толпы кровожадных франков рвутся вновь завладеть гробницей своего лжепророка. Надвигается война, и неведомо, насколько успешной она окажется для Саладина, ибо могучие силы великих держав Запада уже на пути в Левант. Всевышний ясно указал, на чьей он стороне, бесславно погубив самого опасного из предводителей крестоносного воинства — императора Фридриха. Его отряды, смущенные гибелью вождя, повернули назад, и лишь кучка фанатиков, несмотря на болезни и лишения, сумела добраться до земли, которая еще недавно звалась Иерусалимским королевством. Но двое других правителей — Филипп Капетинг и Ричард Плантагенет — остаются верными обету избавить от власти ислама Палестину и ее священные города. Если же это случится…
— Горе нам! Сегодня и помыслить невозможно, что ждет евреев в той земле в случае победы франков. — Ашер бен Соломон скорбно всплеснул руками. — Полагаться на их милость — все равно что ждать, чтобы лев возлег бок о бок с агнцем. О, будет ли конец пленению Израиля!..
Ашер умолк, тяжело дыша.
Тем временем из перехода, ведущего к его покоям, донесся звонкий детский смех. Занавесь у дверного проема зашевелилась, откинулась — и в покой ворвались трое внуков даяна. Лицо Ашера бен Соломона, потемневшее от тяжелых раздумий, озарилось улыбкой. Он нежно любил внуков, и в доме этим сорванцам дозволялось все. Их баловали и нежили, словно для того, чтобы заранее возместить те невзгоды и унижения, которые сулил им большой мир. А ожидали их не только камни и плевки уличных мальчишек, брань и проклятия, но и грязные лапы охотников за еврейскими детьми, готовыми за гроши похитить малыша и спрятать в монастыре, чтобы впоследствии насильно окрестить и навсегда оторвать от своего народа.
Мартин, посмеиваясь, наблюдал, как дети теребили деда, пока в покои не вбежала одна из дочерей даяна, Ракель, и силой не увела малышей.
Ашер тут же смахнул улыбку с лица и спросил:
— Что тебе ведомо об осаде Акры?
В глазах рыцаря появился стальной блеск.
— Акра? Большой город и порт на побережье, ранее принадлежавший Иерусалимскому королевству. Я не бывал там, но знаю, что крестоносцы отменно укрепили его. И все же Акра была захвачена Саладином, как и большинство крепостей и замков христиан.
Он умолк и пожал плечами, давая покровителю знать, что добавить ему нечего.
Однако Ашер не отступал:
— После взятия Акры султан Саладин расположил в крепости многочисленный гарнизон, назначив командовать им своего сына Афдаля. В этом была прямая необходимость, так как неподалеку находится Тир, оставшийся под властью Конрада Монферратского, безумного искателя славы и подвигов. Известно тебе об этом?
Мартин ответил кивком.
Жить в Константинополе и не знать маркиза Конрада Монферратского немыслимо. Итальянский род Монферратов предпочитал служить императорам: как германцу Фридриху Барбароссе, так и Ромейской империи. Конрад пользовался таким влиянием при Константинопольском дворе, что добился согласия императора Исаака Ангела на брак с его сестрой Феодорой. Преданность маркиза правящей династии проявилась и в том, что с его помощью был подавлен мятеж противников василевса.[39] Это так возвысило Конрада, что он стал объектом всеобщей зависти, интриг и даже заговоров.
Но Конрад не стал ждать, чем обернется для него клевета завистников, тем более что и сам Исаак уже склонялся к мысли, что его фаворит, ставший слишком популярным, прокладывает себе путь к трону. Нельзя исключить, что так оно и было, — уж слишком честолюбив и алчен был маркиз Монферратский. Тем не менее он внезапно объявил, что оставляет службу при дворе, чтобы нести крест паладина, и стремительно отбыл в Святую землю.
Вскоре весь Константинополь наполнился слухами о том, что, пока султан Саладин одну за другой вынуждал к сдаче крепости крестоносцев, Конрад сумел обосноваться в приморском городе Тире и надежно закрепился в этой твердыне. Султан предпринял попытку взять город, но она ни к чему не привела. Конрад же обратился к горожанам Тира и окрестным жителям с требованием признать его законным правителем, иначе он откажется сражаться за их безопасность и имущество.
— И надо признать, маркиз отчаянно бьется за Тир, — продолжал Ашер бен Соломон. — А сама по себе весть о том, что непобедимый Саладин оказался бессильным против Конрада Монферратского, распространившись по Святой земле, подняла боевой дух и вселила новую надежду в редеющие ряды крестоносцев. К маркизу стали со всех концов стекаться воины-христиане, ратующие за восстановление королевства франков в Палестине, а ряд других крепостей оказали султану жестокий отпор. Среди них и Триполи, где ты, Мартин, побывал после битвы при Хаттине. И хотя граф Раймунд Триполийский, раненый, уставший и вконец разочаровавшийся в своих надеждах, не смог возглавить оборону, это сделала за него его жена Эшива…
— Довольно! — неожиданно прервал даяна Мартин. — Не стоит говорить об этих людях…
Он отвернулся к оконному проему, словно его внезапно привлек узор зелени.
Ашер бен Соломон видел его твердый, полный достоинства профиль. Благородный лоб, четкие линии носа и подбородка. Нижняя губа слегка прикушена… Лицо спокойно, но в груди бушует ураган чувств. И это неприятно, потому что от человека, которого взрастили в качестве защитника иудейского племени, следовало бы ждать иного. Слишком болезненно он относится к той роли, которую ему, Мартину, довелось сыграть в падении Иерусалимского королевства.
Но ведь все было известно заранее, так как у них имелся тщательно продуманный план, и в соответствии с ним они действовали! Мартин знал, на что шел. Нет, не так: в то время никто еще этого не знал. Ни Саладин, желавший малого — отвоевать земли Тивериады[40] у Галилейского озера, ни сам Ашер бен Соломон, заключивший с султаном соглашение о том, что если его человек исполнит обещанное, Саладин позволит сынам Израиля беспрепятственно селиться, возделывать землю и торговать в Галилее.
Что ж, молодой рыцарь превзошел самые смелые ожидания, не пощадив себя.
Позже даян расплатился с ним с особой, еще небывалой щедростью. Но сейчас Мартин в смятении, его душа раздвоена. Тут есть о чем поразмыслить.
Однако глава никейской общины продолжал свою речь — с полным спокойствием, не упуская ни одной детали, как всегда, когда требовалось исчерпывающе обрисовать ситуацию и ввести Мартина в самую сокровенную суть предстоящего дела и дать ему ясно понять, чего же от него ждут.
Первым делом он поведал о том, что как только власть Конрада Монферратского в Тире укрепилась, султан Саладин неожиданно освободил захваченного в плен в битве при Хаттине иерусалимского короля Гвидо де Лузиньяна. Со стороны это выглядело рыцарственным жестом — даровать свободу плененному врагу. На деле же искушенный в тонкостях политики султан вогнал таким образом клин раздора между все еще остававшимися в Святой земле крестоносцами. Под чьи знамена им теперь встать? Гвидо де Лузиньян был законным королем, но Конрад Монферратский — удачливым полководцем и защитником Тира. Он желал властвовать и не намеревался делиться властью ни с кем. В особенности с монархом, получившим право на престол благодаря удачному браку, а не собственной доблести.
Именно поэтому, когда король Гвидо вскоре после освобождения из плена с горсткой приверженцев прибыл в Тир, Конрад отказался признать его права. И многие сочли это разумным и обоснованным. Ведь Гвидо де Лузиньян оказался настолько беспомощным в битве при Хаттине, что именно его сочли виновником страшного поражения и гибели королевства. При этом он оставался законным королем и помазанником Божьим, и постепенно вокруг него сплотились верные соратники, с которыми Гвидо решился на такой дерзкий шаг, как осада приморской Акры.
— Акра крайне важна для крестоносцев, — развивал свою мысль Ашер бен Соломон, машинально поглаживая бороду. — Если они завладеют этим городом, у них появится порт на побережье, который сможет принимать прибывающие с моря суда со свежими и полными сил воинами-христианами. Между тем после первых же успехов под Акрой к Гвидо начали прибывать пополнения со всей Европы. Французы, фламандцы, итальянцы, отряды из Германии и Австрии постепенно образовали огромный военный лагерь вокруг крепости, и несомненно взяли бы ее, если бы сами не оказались в окружении подоспевших сил Саладина. Уже почти два года беспрерывно длится эта странная осада: крестоносцы, получив пополнение, бросаются на штурм укреплений Акры и тут же, развернув фронт и перегруппировавшись, переходят к обороне от наседающей с тылу конницы султана.
Даян сделал паузу и отпил глоток прохладной воды, чтобы смягчить пересохшее горло.
«Он по-прежнему многословен, — заметил про себя Мартин. — Вникает во все мелочи, хотя и знает — для меня важно одно: то, что мне надлежит делать. Какие силы и средства потребуются для этого. К тому же Акра находится в Западной Галилее. Не забыл ли Ашер последнее условие, которое я поставил перед ним?»
Тот, между тем, объявил, что пришел к выводу, что надежда мусульман отстоять Акру станет призрачной, как только в Святую землю прибудут корабли предводителей нового крестового похода — Ричарда Английского и Филиппа Французского. Разумеется, султан Саладин думает иначе, полагая, что крепости удастся устоять, но он, Ашер бен Соломон, взвесив все «за» и «против», убежден: город будет сдан. То, что последует за этим…
— Помнишь ли ты сестру мою Сарру и ее мужа Леви бен Менахема? — неожиданно спросил даян.
Мартин подтвердил — несомненно. Шесть лет назад он, выдавая себя за рыцаря Храма, буквально вырвал этих родичей Ашера из Андалусии, где исламские фанатики из берберийских племен столь же яростно, как и христиане в Европе, преследовали евреев. Мартин доставил это семейство в Кастилию, где к людям, чтящим Тору и Талмуд, относились лояльно. Он вверил Сарру, Леви, а также их детей попечению местной еврейской общины, получил свою плату и с тех пор ни разу не задумывался об их дальнейшей судьбе. Сарра, родная сестра Ашера бен Соломона, производила впечатление любезной и приветливой женщины, а ее супруг показался Мартину человеком желчным и высокомерным.
В этом он, как выяснилось, не ошибся. Ибо даян с горечью поведал, что Леви бен Менахем, ведущий свой род чуть ли не от самого царя Давида, ни с того ни с сего решил, что в суровой Кастилии ему недостает восточной роскоши, к которой он привык в Андалусии. К тому же Леви бен Менахем бредил возвращением на землю праотцев, и когда Гвидо де Лузиньян позволил евреям селиться в Иерусалимском королевстве, при первой возможности вместе со всеми чадами и домочадцами перебрался в Акру.
— Зять мой и сестра прижились там совсем неплохо… — Ашер несколько раз кивнул, словно соглашаясь со своими тайными мыслями. — Леви завел торговое дело, разбогател вдвое против прежнего, удачно женил старшего сына. Но теперь все изменилось, и им грозит гибель. Я получил письмо от сестры из Акры, полное отчаяния. Несчастный Леви скончался от злокачественной лихорадки, которая нередко свирепствует в осажденных городах, а Сарра с детьми осталась без защиты и опоры, ибо мусульмане редко бывают добры к зимми, лишившимся средств. Она опасается, что, если Акра падет, — а это весьма вероятно, как я уже говорил, — ее и детей ожидает участь тех наших несчастных собратьев, которые оказались в Иерусалиме, когда туда ворвались опьяненные кровью орды западных варваров.
Ашер имел в виду события времен Первого крестового похода, когда овладевшие Иерусалимом крестоносцы со зверской жестокостью поступили с жившими в городе евреями — часть из них изрубили мечами на месте, а те, что успели укрыться в синагоге, были сожжены заживо вместе со зданием.
Мартин знал, чего опасается его покровитель: после сдачи города, согласно обычаю, он в течение трех дней и ночей принадлежит воинам-победителям. Так возмещается пролитая ими в боях кровь, так расплачиваются за преданность, дозволяя грабить, насиловать и творить любые бесчинства. Особенно безжалостны завоеватели к угодившим в их лапы иудеям.
Рыцарь порывисто подался вперед.
— Кажется, я понимаю, господин мой. Еще до того, как Акра падет, я должен пробраться в город и вывести из него вашу сестру с семьей. Но есть одно обстоятельство…
Он нахмурился, его глаза потемнели.
— Когда понадобилось защищать евреев во время погромов во Франции, я взялся за это не рассуждая. Когда мне довелось нарядиться знатной дамой, чтобы вывезти гонимых из Германии, я не роптал. Даже когда мне пришлось убить бургундского барона, пронюхавшего, что я спасаю врагов Христа, я не колебался ни секунды, несмотря на то, что впоследствии за мою голову была назначена награда. Исполнил я и то, что было мне поручено при Хаттине. Однако, почтенный Ашер, вы должны помнить слова, сказанные мною по возвращении из Иерусалимского королевства: нога моя больше не ступит на эту землю! И вы клятвенно обещали, что так и будет. Поэтому, при всем уважении к вам, я не могу принять это поручение! У вас есть храбрый до самозабвения Эйрик, есть осторожный и умный Сабир, полагаю, есть и другие люди, которых я не знаю, способные справиться с этим делом, далеко не самым сложным.
Ашер бен Соломон слушал внимательно, но в глазах его читалась глубокая скорбь и мольба. Наконец он проговорил:
— Мальчик, речь идет о самых близких мне людях. Я не сплю ночей, думая о них. И ты ошибаешься, считая, что спасти их будет легко. Оттого я и обратился к тебе — лучшему из моих воинов, моему другу… а возможно, и будущему родственнику!
При этих словах Мартин вздрогнул. Старик не оставил ему выхода.
В листве за окном играло солнце, зеленоватые тени скользили по коврам и по панели над головой Ашера бен Соломона, на которой древней священной вязью — той, которой пользовались еще во времена первых царей Израиля, было начертано: «Не ищи приключения, но и не беги от него».
В этом, в сущности, и заключалась работа Мартина — рисковать собой, следуя воле того, кто его послал. Того, кто однажды скажет единственное слово — и он обретет счастье.
— Я весь внимание, достопочтенный Ашер, — произнес он, окончательно смиряясь.
Даян снова пригубил из хрустальной чаши, лицо его разгладилось, голос зазвучал ровнее.
— Ты заблуждаешься, Мартин, думая, что все обстоит просто. Акра в двойном кольце, состоящем из войска крестоносцев и сил Саладина. Ни те, ни другие не подпустят тебя к городу: франки примут тебя за чужака-лазутчика, сельджуки и курды султана решат, что ты — один из их врагов. И все же ты должен туда попасть. Как? Это можно решить только под стенами крепости, оценив обстоятельства на месте. Есть лишь два пути: проникнуть в осажденный город еще до того, как начнется решающий штурм, или дождаться, когда ворота будут открыты, и ворваться туда в числе первых. Тогда тебе придется разыскать мою сестру еще до того, как победители начнут грабить и расправляться с мусульманами и евреями. Ты должен во что бы то ни стало спасти мою Сарру и ее детей, Мартин! Только тебе, лучшему из лучших, я могу доверить их судьбу!
Никогда еще Ашер бен Соломон не выглядел таким взволнованным. В эту минуту он остро нуждался в сострадании.
— Можете быть уверены, господин мой, — негромко произнес рыцарь. — Я сделаю все, что в человеческих силах. А теперь прошу вас посвятить меня в детали.
Как только речь заходила о деле, Мартин становился настолько же сух и точен, насколько Ашер бен Соломон обычно тяготел к пространным пояснениям. Но сейчас даян избежал обычной многоречивости:
— Ты появишься под стенами Акры в обличье рыцаря-госпитальера, некоего Мартина д'Анэ. Этот воин родом из Намюра; нам известно, что он покинул свой Орденский дом и направился вместе с другими паладинами в Святую землю, но в пути его одолел тяжкий недуг, и теперь он доживает последние дни в лечебнице ордена в Константинополе. Нам удалось завладеть его подорожной грамотой и рекомендательными письмами. В том, что этот госпитальер, так же, как и ты, наречен в память святого Мартина Турского, есть добрый знак, и тебе будет проще освоиться с новым именем.
Рыцарь сдержанно улыбнулся: смешно говорить о таких вещах. Каких только имен ему не доводилось носить, исполняя поручения главы никейской общины, и кем только он не звался: французом, фламандцем, лотарингцем, нормандцем, австрийцем, испанцем; случалось ему выдавать себя за арабского эмира и даже за пулена — так называли христиан, уроженцев Иерусалимского королевства.
В те годы, когда Мартина тщательно готовили к его роли, он освоил несколько европейских и восточных языков, изучил нравы и обычаи множества стран, стал весьма сведущ в том, под властью какого сеньора пребывает та или иная земля, и мог говорить о местах, из которых он якобы прибыл, словно родился там и прожил большую часть жизни.
И сейчас он счел необходимым заметить, что его не так воодушевляет общность имен с неизвестным рыцарем, как беспокоит нечто более серьезное.
— Главная опасность, господин мой, — заметил Мартин, — заключается в том, что в Палестине есть люди, которые способны меня опознать. Независимо от того, какой облик и имя я приму.
— Несомненно, риск велик, — согласился даян. — Но я не стал бы подвергать тебя опасности без крайней нужды. Человек с твоей наружностью повсюду притягивает к себе взоры. Вот почему я всегда настаиваю на том, чтобы ты менял свой облик, насколько это возможно. Тебе доводилось изображать бритоголового эмира и почтенную даму под вуалью, бородатого одноглазого головореза и монаха-пустынника. Ты сам поведал мне, что среди тех, кто знал тебя и с кем ты сталкивался на своих путях, ни один не сумел тебя опознать. Тебе удалось, выполняя последнее и наиболее важное для нашей общины поручение, прожить целый год в замке графини Эшивы в Тивериаде в обличье Арно де Бетсана, благородного щеголя нормандских кровей, уроженца Святой земли, имеющего обыкновение красить волосы и бороду хной, подобно жителям Персии!
Ашер бен Соломон вполне осознанно упомянул эти события, не прекращая пристально наблюдать за Мартином. Но рыцарь на сей раз остался совершенно невозмутим, на его лице не дрогнул ни один мускул.
Даян продолжал:
— Под именем Мартина д'Анэ ты прибудешь в лагерь под Акрой и затеряешься в этом беспорядочном скопище палаток, коновязей, временных укреплений и обозов. Когда же тебе удастся проникнуть в крепость… — тут он принялся пространно объяснять, где располагается дом покойного Леви, в котором ныне укрывается Сарра с детьми.
Затем Ашер бен Соломон развернул план Акры, и оба внимательнейшим образом проследили путь от крепостных ворот к этому богатому дому, скорее дворцу, который легко было узнать по изображению улыбающейся собаки, высеченному над входом, и растущей рядом со ступенями древней смоковнице. Таким образом, найти его среди прочих городских построек не составит особого труда.
— Разумеется, — усмехнулся Мартин. — Нет ничего проще. Вот только как отнесутся к появлению рыцаря-госпитальера в осажденной Акре обороняющие ее сарацины?
Ашер бен Соломон снова принялся растирать ладонь левой руки. Наконец он произнес:
— Не мне тебя учить искусству воина. Действительно, являться в крепость в обличье крестоносца — безумие. Но главное в том, чтобы любой ценой попасть туда. Сарра узнает тебя и поймет, что ты прибыл по моему поручению. В дальнейшем тебе придется действовать по собственному усмотрению. Если это произойдет уже после падения Акры, ты сможешь обратиться к пизанцам или генуэзцам, зафрахтовать купеческий корабль и вывезти моих близких оттуда морским путем.
— Вы забываете, господин мой, о важном обстоятельстве. Я прибуду в лагерь как Мартин д'Анэ, рыцарь ордена Святого Иоанна. А это означает, что если я захочу покинуть лагерь и уехать, мне понадобится испросить на это разрешение главы ордена. Дисциплина у госпитальеров весьма строга, и меня могут просто не отпустить.
Даян задумчиво кивнул.
— Мне всегда нравилась твоя предусмотрительность, мальчик мой, — заметил он. — Ты не безумный франк, похваляющийся слепой отвагой, — ты мой воспитанник, и я тобой горжусь. Поэтому скажу: если такие трудности возникнут — а я отдаю себе отчет в том, что они непременно возникнут, — у нас есть человек, чье влияние сможет тебе помочь. Это Уильям де Шампер, маршал ордена Храма…
Ашер бен Соломон замолчал и отвел взгляд, выжидая.
Рыцарь полулежал на полосатом шелковом диване, опираясь локтем на груду подушек. Прядь светло-каштановых волос падала на чело молодого воина, глаза его оставались в тени, но их блеск внезапно стал холодным и колючим.
— Этот человек — мой враг, — коротко произнес он. — Уильям де Шампер допрашивал меня в Триполи после битвы при Хаттине. И на какие бы ухищрения я ни пускался, меняя внешность, он меня узнает. Скажу больше: если мы столкнемся с ним лицом к лицу, я вряд ли смогу помочь вашим близким. Меня просто повесят на первом же суку, как изменника. И это в лучшем случае. В худшем — отправят туда, откуда меня с таким трудом вызволили Сабир и Эйрик, — в пыточное подземелье.
Даян чуть подался вперед и слегка прищурился:
— Мартин, поверь, я продумал и это. Де Шамперу вовсе не обязательно видеть твое лицо.
После этих слов он с довольным видом откинулся на спинку кресла.
— Видишь ли, мой мальчик, говоря о рыцаре Мартине д'Анэ, я упомянул, что он сражен недугом и не способен продолжать путь. Но я не сказал, что это за недуг. Лепра,[41] она же финикийская болезнь!
— Ну и ну! — Мартин удивленно приподнялся. — Проказа?
Некоторое время он молчал, размышляя.
— Теперь мне понятно, что вело Мартина д'Анэ в Святую землю. Я встречал таких, как он, рыцарей, которые, заразившись этой хворью, но еще будучи в состоянии сражаться, вступали в орден Святого Лазаря Иерусалимского, который принимает в свои ряды прокаженных. Лазаритов считают самыми доблестными, ибо им нечего терять. О, это воины, каких поискать, а Бодуэн Иерусалимский, король-прокаженный, был лучшим из них. Жестоко страдая, разлагаясь заживо, он так бился с сарацинами, что померкла даже слава полководческих талантов султана Юсуфа.[42]
Он снова на миг задумался, а затем обратился к Ашеру бен Соломону:
— Мне ясен ваш замысел. Маршалу де Шамперу незачем видеть меня, так как я предстану перед ним в облике лазарита, скрывающего изуродованное проказой лицо. Но как, даже оставаясь неузнанным, я смогу склонить этого надменного храмовника выполнить мою просьбу?
— Весьма просто, — тонко улыбнулся даян. — Поставив под угрозу его честь. У твоего врага безупречная репутация. Честь ордена — вот как его величают! После гибели Великого магистра Жерара де Ридфора[43] ни у кого нет сомнений в том, что именно Уильям де Шампер будет избран следующим главой ордена тамплиеров. Но именно теперь, когда он рассчитывает безмерно возвыситься, само его славное имя станет для де Шампера ахиллесовой пятой. И мы этим воспользуемся, принудив его к уступкам. Да и что это за уступка для столь влиятельного человека — позволить покинуть город жалкой кучке беженцев?
Ашер бен Соломон снова омочил губы в чаше и повел рассказ дальше:
— Уильям де Шампер — выходец из знатного английского рода, имеющего общих предков с Плантагенетами. Он старший сын в семье, но еще в отрочестве отказался от наследства и предпочел вступить в орден тамплиеров. Когда ему исполнилось восемнадцать, он прибыл в Святую землю, участвовал во многих сражениях и прославился. В ордене его всегда отличали: де Шампер был комендантом целого ряда замков, его направляли в самые опасные места, и везде он показывал себя превосходным воином и стратегом. Как человека образованного и не чуждого богословию орден дважды посылал его с особой миссией к Святому престолу. В Риме де Шампер вел с понтификом переговоры о тайных делах тамплиеров. Сам Папа проникся к нему расположением, оценив его дарования и, не в последнюю очередь, родство с правящим домом Англии. Влияние Уильяма в ордене крепло с каждым годом. К моменту начала битвы при Хаттине маршал де Шампер находился в приморском Аскалоне,[44] а затем взял на себя руководство его обороной. И добился такого успеха в борьбе против аль-Адиля, брата султана, что Саладину пришлось привезти под стены Аскалона захваченного в плен короля Гвидо и объявить, что тот будет обезглавлен на глазах у защитников крепости, если те не сдадут ее сарацинам. Сама Сибилла Иерусалимская, супруга Гвидо и сестра покойного короля Бодуэна, на коленях умоляла аскалонцев вступить в переговоры с неверными, добиться приемлемых условий и сдаться. Маршал Уильям де Шампер поступил разумно: дал согласие прекратить сопротивление при условии, что ни один волос не упадет с головы горожан и защитников Аскалона. Терять время на то, чтобы взять гарнизон крепости измором, Саладину не улыбалось, он торопился — впереди его ждал Иерусалим. Поэтому он не стал торговаться… О, Иерушалайм! — даян скорбно воздел руки. — Когда же закончится пленение твое?!
— Господин мой, — нетерпеливо заметил Мартин, — не нам искать ответ на этот вопрос. Но ответьте мне, почему после сдачи готовой сражаться крепости имя маршала де Шампера не было покрыто позором в точности так же, как лишился чести Жерар де Ридфор.
Ашер бен Соломон вздохнул.
— Причиной тому — прежняя слава, мой мальчик. Когда маршал вместе со своими рыцарями покинул город и оказался в руках сарацин, султан Саладин доставил своих пленников под конвоем в Египет. Затем их погрузили в Александрии на суда и отправили в Европу. Но де Шампер еще до того сумел бежать и пробрался в Триполи, где в то время среди приближенных графини Эшивы находился и ты. Де Шамперу было поручено организовать оборону города, ведь опыта в этом деле ему не занимать, а граф Раймунд находился при смерти. И султан Саладин, прослышав о том, кто стоит во главе людей графини Эшивы, отказался от намерения захватить Триполи… У тебя такое лицо, словно эти воспоминания причиняют тебе боль, мой мальчик! — взволнованно закончил даян.
— Нет, господин мой, — гневно возразил Мартин. — Не воспоминания, а сам Уильям де Шампер причинил мне адскую боль. — Он распахнул полы своего шелкового халата и указал на пару страшных бугристых шрамов слева на груди. — По его повелению палачи жгли меня брусками раскаленного добела железа, пытаясь вызнать…
— Не будем ворошить былые беды. К счастью, все это уже в прошлом.
Ашер бен Соломон примиряющее улыбнулся. Однако лицо Мартина осталось жестким.
— В прошлом? И тем не менее в самом скором времени мне предстоит встретиться с этим храмовником.
Улыбка даяна моментально исчезла.
— Если тебе известен иной способ проникнуть в Акру и спасти мою сестру — да поможет тебе бог Израиля!
Мартин опустил веки и помолчал, чтобы выровнять дыхание.
— Прошу простить меня, господин мой и учитель! Вы всегда предоставляли мне свободу действий. Если вы полагаете, что встречи с этим псом мне не избежать, я готов выслушать все, что вы найдете необходимым мне сообщить. Но, клянусь, только глубокое уважение и любовь к вам смогут удержать мою руку, чтобы при встрече с ним не всадить кинжал в это черное сердце.
— Ты воин, Мартин, — произнес даян. — Как и Уильям де Шампер. Но вы оказались по разные стороны поля боя. Именно поэтому он обращался с тобой как с врагом. Убив де Шампера, ты всего лишь завершишь поединок, отомстив за унижение и боль. У франков это считается достойной победой. Но твоя победа окажется намного более славной, если ты сломишь гордыню надменного храмовника и принудишь его подчиниться себе. Честь для рыцаря дороже жизни, и удар по ней куда болезненнее удара клинка. Ты жил среди этих людей и знаком с их пустыми и смехотворными законами, которые они сами поставили над собой.
Молодой человек не произнес ни слова и лишь по прошествии некоторого времени сдержанно кивнул.
Его стареющий наставник умен. Ему известны тайные пружины, заставляющие людей повиноваться, и не стоит пренебрегать его словами.
— Ну что ж, — Ашер бен Соломон сложил перед собой сухие смуглые руки. — Если ты согласен со мной — продолжим. Сейчас повсюду говорят, что едва соберется капитул[45] ордена Храма, как рыцари немедленно изберут Уильяма де Шампера своим магистром. При этом никто не считается с тем, что ныне в Святую землю прибывает все больше тамплиеров из Европы, а среди них немало известных и родовитых рыцарей, имеющих могущественных покровителей. Каждый из них готов возглавить орден и будет к этому стремиться. Легкой тени на репутации де Шампера вполне достаточно, чтобы отодвинуть его в сторону ради более достойного соискателя. И для того, чтобы эта тень возникла, нам понадобятся… его родственники!
— Какие, ради всего святого, родственники? — возмутился Мартин. — У рыцарей Храма нет родственников. Я знаком с их уставом: для тамплиера семья — орден, и с той минуты, как он принес обеты, рыцарь разрывает все узы крови.
— И все же честь рода значит для них немало. В орден не допускаются люди, чьи близкие утратили честь и запятнали себя трусостью либо преступлением. А Уильям де Шампер, как мне стало известно, никогда окончательно не порывал с семьей, к которой принадлежит по рождению.
На лице Мартина отразилось недоумение.
— Осмелюсь напомнить, — заметил он. — Вы только что подчеркнули, что маршал де Шампер покинул Англию в незапамятные времена, еще отроком. Какие же связи он мог поддерживать с родней?
— Письма. Многолетняя переписка. Иногда мы перехватывали некоторые из его посланий. Из них нам стало известно, что служба ордену Храма в их семье — наследуемая традиция. Тамплиерами были его дед и отец, но оба не посвятили себя ордену полностью. В те времена устав храмовников был не так строг, как ныне, и по прошествии нескольких лет они покинули ряды рыцарей-монахов. Однако их связь с орденом не прерывалась: они жертвовали на его нужды крупные суммы, помогали в осуществлении сделок, выполняли иные поручения Великого магистра. А главное — разводили в своих поместьях лошадей, способных нести тяжеловооруженного рыцаря в бою, и доставляли их морем в Орденские дома на Святой земле. Тебе ясно, что это значит?
Мартину ли было не знать, какая могучая сила — рыцарь-тамплиер на хорошо обученном рослом коне! Устоять в открытом конном бою против храмовников не удавалось почти никому. Недаром всадники ордена Храма считались лучшими воинами Иерусалимского королевства, если не всего христианского мира. Плотный строй закованных в броню и вооруженных до зубов рыцарей — настоящая машина убийства, перед которой бессильны даже сарацины. Между тем маршалу ордена как раз и предписывалось следить за пополнением поголовья тяжеловесов-дестриэ, а то, что семья Уильяма де Шампера разводила и поставляла на Восток столь необходимых здесь боевых коней, более чем оправдывало его связи с английской родней. В чем же Ашер бен Соломон рассчитывал его уличить?
— Недавно мы перехватили еще одно письмо, адресованное маршалу, — с жесткой усмешкой продолжал даян. — Из него стало известно, что к нему направляется сестра, решившая в столь смутное время вместе с супругом совершить паломничество к святым местам Палестины. Она рассчитывает, что к моменту ее прибытия туда неверные будут изгнаны и она сможет беспрепятственно поклониться той пустой пещере, которую назареяне именуют Гробом Господним. Прямо скажем — не самая удачная мысль. Сейчас сестра маршала храмовников находится в Никее. Имя ее — Джоанна де Ринель, в девичестве де Шампер. Сумасбродная знатная дама, путешествующая в сопровождении мужа-аристократа. Но разве это имеет значение в присутствии человека с такой внешностью, как твоя?
Мартин перехватил острый взгляд Ашера и невольно напрягся, догадываясь, о чем пойдет речь дальше. Но тот словно ничего не замечал.
— Дама эта, очевидно, не слишком рассудительна и скромна. О ней говорят, что она ветрена, любит мужское общество, и одно время к ней был по-особому благосклонен король Франции Филипп. Чтобы прекратить пересуды, венценосный кузен Ричард отправил ее в Венгрию, и вскоре Джоанна с отрядом тамплиеров прибыла в ее столицу — Эстергом. Она пользуется покровительством храмовников, у нее также имеются векселя ордена, что не удивительно, учитывая заслуги ее рода. Но сколько мы ни пытались, нам не удалось уличить де Шампера в том, что он тратит средства ордена на дорожные расходы сестры…
Ашер бен Соломон нахмурился, словно перед его глазами проносились некие тревожные картины, а затем продолжал:
— Эта женщина действительно блистательно хороша собой и произвела неизгладимое впечатление при дворе короля Белы Венгерского.[46] Вдобавок она слагает стихи, как трубадур, обладает прекрасным голосом и ловко музицирует. Всю минувшую зиму Джоанна де Ринель развлекала венгерский двор, словно позабыв о предстоящем паломничестве, и стала едва ли не самым близким доверенным лицом супруги короля Белы — Маргариты Французской.[47] Не говоря уже о поклонении великого множества венгерских рыцарей. Супруг тут бессилен: не в его воле смирить темперамент родственницы Плантагенетов и сестры маршала могущественнейшего ордена Европы. Однако, судя по всему, ему все же удалось настоять на отъезде из Эстергома, ибо уже в начале весны эта чета прибыла в Константинополь и была принята при дворе вдовствующей императрицы Агнессы.[48] Там тоже вышла неприглядная история… Впрочем, это к делу не относится…
Даян знал, что вступает на весьма зыбкую почву, но цель была важнее, гораздо важнее.
— Итак, мальчик мой, тебе предстоит соблазнить эту легкомысленную особу. Вероятно, это не столь уж трудно, а учитывая широко восхваляемую красоту сестры де Шампера, — даже приятно. Имя Мартина д'Анэ, которое отныне станет твоим, в Никее пока никому не известно. Однако в случае удачи необходимо пустить слух о вашей связи с этой дамой. Когда же в обличье прокаженного лазарита ты предстанешь перед маршалом, у тебя будут все основания, чтобы принудить его исполнить твои требования. Угрозы предать огласке внебрачную связь его сестры с прокаженным, я полагаю, будет вполне достаточно. Положение маршала в настоящее время весьма неустойчиво, и он предпочтет как можно быстрее отделаться от «заразного» любовника беспутной сестрицы… Ты хочешь спросить меня о чем-то, Мартин?
Молодой человек смерил даяна взглядом, в котором изумление смешивалось с презрением и гневом.
— Прежде всего, — начал он, — для осуществления этого плана мне понадобится тем или иным способом избавиться от супруга этой родственницы Плантагенетов. Но не это главное…
Он поднялся во весь рост и теперь смотрел на сидящего за столом человека сверху вниз. Ашер бен Соломон невольно втянул голову в плечи.
— Я хочу, чтобы вы, господин мой, объяснили мне одну вещь: уместно ли давать мне такое поручение после того, как я просил руки вашей дочери? И не выглядит ли это преднамеренным унижением? Ответьте мне!
Голос Мартина зазвенел. Он тяжело дышал, его глаза метали молнии.
В ответ Ашер пожал плечами, как бы недоумевая.
— Ты знаешь, как я отношусь к тебе. Порукой тому — годы, которые ты провел в моем доме как сын. И довольно об этом. Что касается мужа Джоанны де Ринель — поступай по своему разумению. Она, как мне кажется, почти его не замечает. Но будь осторожен с этим человеком — он слывет знатным турнирным бойцом. К тому же часть пути с вами проделает Иосиф, а я бы не хотел, чтобы у него возникли неприятности в дальнейшем.
— Но моя любовь к Руфь…
— Остановись, Мартин! — Ашер мгновенно вскинул ладонь, словно заслоняясь от удара, и указал рыцарю на его прежнее место. — Присядь, и обсудим все спокойно.
Мартин повиновался. В глазах даяна мелькнула и погасла насмешливая искорка.
— Ты должен знать, что этот план был задуман задолго до того, как ты заговорил со мной о Руфи. Как я мог считаться с тем, о чем понятия не имел? К словам Иосифа о вас с Руфью я не отнесся с должной серьезностью, ибо знаю свою дочь и то, что эта лилия долин, чтобы позабавиться, может вскружить голову кому угодно. Но сейчас я объявляю тебе свое окончательное решение: как только Сарра и ее дети переступят порог этого дома, я буду готов снова выслушать твое предложение и ответить на него, как должно. Это мое последнее слово!
Ашер бен Соломон внезапно улыбнулся.
— И не торопи меня, мой мальчик. Праотец Иаков служил семь лет и еще семь ради того, чтобы добиться руки женщины с тем же именем. В такой поспешности и настойчивости я вижу неуважение к себе.
— О нет, учитель! Я глубоко чту вас, готов по-прежнему служить вам и не теряю надежды, все это вместе взятое — залог того счастливого дня, когда я вместе с Руфью вступлю под брачный шатер.
— Неплохо сказано, — заметил Ашер.
Лицо Мартина просветлело. Он неожиданно шагнул к столу, склонился над развернутым свитком Торы и прочитал:
— «Если клятву даешь, должен исполнить ее не мешкая; ибо Господь Бог твой спросит с тебя и грех падет на тебя. Что сошло с твоих губ, то ты должен исполнить и сделать так, как поклялся».
Ашер бен Соломон с достоинством кивнул.
— Если тебе будет сопутствовать удача, я узнаю, что Бог отцов наших подает мне знак, чтобы я исполнил то, чего ты хочешь.
— Не только я, но и Руфь! — воскликнул Мартин.
— Возможно, ты и прав. Я исполню то, чего пожелает моя любимая дочь. Даю тебе в этом свое слово.
ГЛАВА 4
В Древней Никее сходились многие торговые пути, связывавшие Восток и Запад, Юг и Север. Город процветал, но с тех пор, как христианский мир начали теснить кочевники-сельджуки, владения империи значительно сократились, воинственный Конийский султанат оказался совсем рядом, и Никея превратилась в город-крепость. За ее стенами было немало караван-сараев, где путешественники, паломники и странствующие торговцы могли найти защиту и дать отдых измученному телу.
Путешествия в те времена были опасным предприятием, поэтому путники объединялись в большие группы и нанимали надежных вооруженных проводников, которые вели их по караванным путям от города к городу, от одного убежища к другому.
У главного никейского караван-сарая было людно: здесь толпились купцы и стражники, слуги вели на водопой мулов, купцы проверяли прочность обшитых кожей тюков с товарами, носильщики вьючили верблюдов. Здесь можно было встретить и богато одетых патрикиев,[49] и купцов из Самарканда, и темнокожих жителей Аравии. Особняком держались греческие священнослужители в черных одеяниях и люди Запада: паломники, рыцари с оруженосцами, монахини, исполняющие обетования. Повсюду носились дети, ревели ослы, а разносчики навязывали гостям свой товар. Шум стоял адский.
— А вот свежая и холодная вода из источника Святого Иоанна! Извольте пригубить!
— Кому кебаб?[50] Ароматный, сочный кебаб прямо с угольев!
— Бастурма, пилав, лаваш! Бастурма, пилав, лаваш!
— Кому нужен носильщик? Вы только взгляните, что за мускулы, что за плечи!
— Ковать лошадей! Ковать лошадей.
— Эй, погонщик! Убери своих двугорбых с дороги! Из-за этих смрадных тварей не может проехать благородный господин!
Последняя реплика была обращена к погонщику в засаленной чалме, который беспечно кейфовал прямо в пыли, привалившись к покрытому попоной облезлому боку дремлющего верблюда. На окрик погонщик приподнялся, окинул взглядом улицу и возмущенно возопил:
— С каких это пор презренная еврейская собака стала зваться благородным господином?
В ту же секунду длинный ременный бич рассек воздух и обвился вокруг тощей груди лентяя, оставив кровавый рубец. Погонщик отчаянно завизжал.
— Прочь с дороги, немытый шакал! — рыкнул рыжий Эйрик, сматывая на кнутовище ремень. — Прочь, пока я не содрал с тебя остатки кожи за то, что ты распускаешь свой грязный язык и пачкаешь имя моего рыцаря!
Только теперь погонщик понял свою оплошность: справа от молодого купца-еврея восседал на рослом коне рыцарь-госпитальер. Лицо его было холодным и замкнутым, словно ровным счетом ничего не происходило. Вот почему так разгневался этот оруженосец — здоровенный варанг в кожаных доспехах и круглом шлеме, из-под которого выбивались огненные косы.
— Прошу простить меня, высокородный и великодушный господин! — затянул погонщик, торопливо отползая к своим верблюдам. — Клянусь бородой пророка, глаза мне изменили. Всему виной эти вездесущие евреи, от них нигде нет спасения…
Исполненный важности госпитальер, облаченный в черную котту[51] с белым крестом, тем временем проследовал мимо, обмениваясь замечаниями с молодым евреем. Погонщик моментально умолк, а когда всадники удалились на безопасное расстояние, с ожесточением сплюнул на землю.
— Проклятые кафиры[52] совсем стыд потеряли и готовы за деньги прислуживать еврейским собакам! Как же так — ведь они твердят, что именно евреи замучили их лживого бога? Да уведут девятнадцать грозных стражей и тех и других в самые страшные бездны ада!
Его злобного ворчания путники не слышали — они уже въезжали в широкие ворота караван-сарая. Само здание было двухэтажным, оно окружало просторный прямоугольный двор, на который выходила двухъярусная галерея с арочными сводами. На верхнем ярусе галереи находились комнаты для постояльцев побогаче, а расположенные внизу помещения предоставлялись простым путникам. Там же располагались склады, конюшня, помещения для вьючных верблюдов и ослов. В центре двора имелся небольшой квадратный водоем, откуда слуги черпали воду для кухни и наполняли каменные корыта, из которых поили животных.
Ехавший стремя в стремя с Мартином Иосиф первым заметил спускавшегося с верхнего яруса галереи Сабира. Сарацин заранее обосновался в караван-сарае, дабы оставить за собой комнаты, предназначавшиеся для сына Ашера бен Соломона и мнимого госпитальера. Сабир был в одежде простого слуги-проводника: в однотонном халате поверх гамбезона[53] и темной чалме. Ему и Эйрику предстояло изображать спутников рыцаря д'Анэ, который якобы согласился взять под свое покровительство еврейского торговца Иосифа — разумеется, за внушительную плату. Иосифа также сопровождала охрана, состоявшая из нескольких ромейских воинов, — это были проверенные Ашером люди, не единожды исполнявшие поручения даяна.
Сабир держался, как и полагается слуге, — скромно, но без подобострастия. Закончив отдавать прислуге караван-сарая указания относительно имущества вновь прибывших, он поднялся с Мартином на галерею, откуда был хорошо виден двор.
— С кем нам предстоит ехать в составе каравана, Сабир? — негромко поинтересовался рыцарь.
Сарацин сообщил, что уже сговорился с караванщиком об оплате, внес задаток и, если ничто неожиданно не помешает, уже через день-два караван тронется в путь. Вожака каравана зовут Евматий, он надежный человек, и защита в пути будет неплохой. Больше того: среди путников, присоединившихся к купцам, будет небольшой отряд тамплиеров — с них не берут платы, но они обязуются обеспечивать безопасность людей и животных на всем протяжении пути.
— У тебя это не вызывает опасений, Мартин? — поинтересовался Сабир.
Его беспокойство имело основания. В битвах с сарацинами тамплиеры и госпитальеры сражались плечом к плечу, но в мирное время рыцари соперничавших орденов не жаловали друг друга.
Мартин в ответ пожал плечами, заметив, что станет держаться подальше от храмовников, и спросил:
— Что тебе удалось вызнать за это время об интересующей нас даме?
Сабир невозмутимо сдвинул чалму на лоб.
— Она уже здесь. Прибыла две недели назад, сразу после того, как по особому повелению Исаака Ангела[54] ей и ее супругу было приказано покинуть Константинополь. Некий скандал, связанный с их проживанием во дворце вдовствующей императрицы Агнессы. Не знаю, в чем там суть, но эта английская дама ведет себя как ни в чем не бывало, к ней по-прежнему заискивают, добиваясь ее милостей. Она и здесь умудрилась собрать вокруг себя нечто вроде маленького двора, которым помыкает как ей заблагорассудится. А разве не сказано в Коране о женщинах: «Пусть они потупляют свои взоры»? Эта же полна дерзости…
— Не забывай, Сабир, что она — родственница короля Англии, — отбрасывая длинную прядь со лба, заметил Мартин. — Тебе это нелегко понять, друг мой, но у франков знатные дамы считаются неким идеалом, которому предписано поклоняться и воспевать. Это зовется куртуазностью. Дамам полагается во всем уступать, осыпать их любезностями, целовать их руки. Христиане почитают Деву Марию, мать Иисуса, которую вы, мусульмане, зовете Мариам. И в лице каждой дамы они усматривают отблеск непорочной святости, присущей их небесной покровительнице. Но лишь при условии, что эта дама непорочна, возвышенна и действительно достойна поклонения.
Сабир слегка пожал плечами.
— У вас, назареян, все по-иному… и я не скажу, что это мудро. На мой взгляд, Джоанна де Ринель, леди Незерби, больше похожа на манящую гурию,[55] чем на тот идеал, перед которым преклоняют колени ваши неразумные рыцари. В Никее она всеобщая любимица, ее окружают патрикии и рыцари, даже суровые тамплиеры отвешивают ей поклоны. Когда же она поет, все эти мужчины смотрят на нее с таким благоговением, что оно кажется святотатственным.
Уголок рта Мартина тронула усмешка.
— Из своих странствий по землям франков я знаю, что дама, наделенная музыкальным даром, пользуется особым почетом. Но скажи мне, какова она, эта англичанка? Так ли хороша, как уверял меня Ашер?
Сабир потеребил ниспадавший на плечо край чалмы. Губы его сложились в ироническую гримасу.
— А ты, друг мой, непременно хочешь, чтобы она оказалась хороша? Должно быть, так тебе легче забыть поцелуи дочери нашего господина, лучшего цветка в его саду?
Мартин не ответил, но его взгляд словно подернулся льдом.
Сабир — старый друг, но и Сабиру не дозволено насмехаться над его чувствами! Тем более когда горечь разлуки все еще томит сердце рыцаря.
Сарацин первым отвел взгляд и огладил сухой ладонью бороду.
— Трудно выдержать твой взор, Мартин. И все же не стоит гневаться. Снова напомню тебе, что для Ашера бен Соломона мы — всего лишь наемники, исполнители его воли. Платит он щедро, этого я не стану отрицать, но породниться с тобой…
— Ашер дал слово, — упрямо тряхнул головой Мартин. — И во все дни, что мы жили в его доме, не препятствовал нашим встречам с Руфью. Поэтому…
Он неожиданно умолк, вслушиваясь. И хотя во дворе караван-сарая было шумно, его чуткий слух уловил взволнованный голос Иосифа. В нем звучало отчаяние. Комнаты, отведенные сыну Ашера, находились поблизости, и сейчас оттуда явственно слышались призывы о помощи. Ромеи-охранники были в тот момент далеко, и рыцарь с Сабиром поспешили на зов.
Мартин первым распахнул дверь в комнату. Какой-то светловолосый франк в желтой бархатной тунике, вцепившись в горло Иосифа, тряс его так, что с головы юноши свалилась кипа, а волосы пришли в полный беспорядок.
Рыцарю едва удалось сдержать себя, чтобы не броситься на обидчика. В последнее мгновение Мартин опомнился: он был в обличье госпитальера, а рыцарю-христианину, пусть даже взявшемуся за плату охранять еврея, не подобало поднимать руку на единоверца. А франк явно был христианином — длинные соломенные волосы, крупный прямой нос, зеленовато-серые глаза под густыми, свирепо сведенными к переносью бровями свидетельствовали об этом не хуже, чем знак креста, нашитый на тунику.
Шагнув в комнату, Мартин опустил тяжелую руку на обтянутое бархатом плечо незнакомца.
— Ради Святого Иоанна!.. Что вы тут делаете, почтенный?
Тот выпустил метнувшегося в сторону Иосифа и обернулся к госпитальеру, все еще бурно дыша:
— Этот пес-иудей осмелился указать мне на дверь!
— Но ведь он у себя, не так ли?
Незнакомец перевел дух.
— Мое имя — Обри де Ринель, лорд Незерби. Я и моя супруга совершаем паломничество к святым местам. В пути я, как водится, поиздержался и решил призанять денег у этого пса. Больше того: я оказал ему честь и предложил за умеренную плату охранять в пути его негодную шкуру — а такой человек, как я, слов на ветер не бросает, клянусь гербом предков! И в ответ услышал, что лишних денег у него нет, после чего он потребовал, чтобы я удалился. Посмели бы мне сказать нечто подобное те евреи, которых мы резали в Бери-Сент-Эдмундс!
Этот человек имел в виду события двухлетней давности. Именно тогда Мартин отправился из Англии на континент с небольшой группой лондонских евреев, а уже в пути его догнала весть о том, что в городе Бери-Сент-Эдмундс, возникшем вокруг бенедиктинского аббатства, было жестоко убито более полусотни евреев.
Имя этого человека сказало ему также, что перед ним — супруг Джоанны де Ринель. И как бы ни хотелось ему вышвырнуть наглеца с галереи на утоптанную землю двора караван-сарая, приходилось считаться с обстоятельствами и полученным от Ашера бен Соломона заданием. Сблизившись с этим человеком, он обретет шанс быть представленным леди Джоанне, это сейчас важнее всего. К тому же, как сразу отметил Мартин, лорд Обри, его будущий соперник, был сильным и красивым мужчиной, чем, вероятно, и привлек к себе внимание прославленной красавицы.
Учтиво склонившись в легком поклоне, Мартин представился рыцарем-госпитальером из Намюра, а после того, как лорд Обри ответил на его поклон, сообщил, что у молодого еврейского купца имелись все основания отказать благородному англичанину. Сей Иосиф бен Ашер не так давно внес изрядный вклад в прецепторию иоаннитов в Намюре, и тамошний великий приор повелел ему, Мартину д'Анэ, направляющемуся в Святую землю, оберегать еврея в пути. Но если у рыцаря затруднения с презренным металлом, — добавил он, заметив, как затрепетали ноздри лорда Обри, — его долг единоверца и собрата по оружию оказать ему всяческую поддержку: они могли бы путешествовать вместе, и владелец Незерби не будет иметь денежных затруднений в пути.
Англичанину это пришлось по душе. Он объявил, что сочтет за честь иметь спутником рыцаря ордена Святого Иоанна и совсем не прочь скрепить новую дружбу чашей-другой доброго вина.
«За мой счет, разумеется», — усмехнулся про себя Мартин.
— Я подумаю над этим предложением, — вымолвил он. — Наш устав не столь строг, чтобы лишать рыцарей земных радостей. А пока, достойный сэр, примите небольшую помощь от лица ордена, дабы вам не приходилось испытывать мелких затруднений в ближайшее время.
На свет появился небольшой мешочек, плотно набитый монетами.
Сэр Обри просиял и поспешил удалиться.
Сабир презрительно заметил:
— Я здесь недавно, но уже успел убедиться, что этот желтоволосый — величайший скряга и вдобавок наглый вымогатель. Едва прибыв, он потребовал для себя и жены лучшие покои, но отказался уплатить столько, сколько требовалось. Затем поссорился с вожаком каравана Евматием, заявив, что тот его обобрал, и препирался с ним до тех пор, пока леди Джоанна не расплатилась с греком. Судя по всему, леди держит все деньги при себе и сама ими распоряжается, не доверяя супругу ни гроша. А тот норовит на каждом шагу наделать долгов.
Мартин знал об этом. Ашер бен Соломон сообщил ему, что сестра Уильяма де Шампера владеет векселями тамплиеров и получает по ним необходимые суммы в их Орденских домах. Неприглядная картина: дама, распоряжающаяся семейным достоянием в ущерб интересам супруга. Это усилило неприязнь Мартина к Джоанне из Незерби — чрезмерно властные женщины были ему не по душе.
Однако взглянуть на эту особу ему довелось лишь на закате, когда Джоанна вернулась с конной прогулки. Что говорить — выглядела она блистательно, и не менее пышным было ее окружение — знатные ромейские щеголи, пара рыцарей-франков, несколько тамплиеров и целая толпа слуг и стражников.
При первом же взгляде на даму, которой предстояло стать объектом его внимания, Мартин не мог не отметить, насколько привычно и ловко она держится в седле. В том, как она правила красивой гнедой лошадью, чувствовалась крепкая рука. Одежда Джоанны отвечала последней европейской моде: бархатное бледно-фиалковое блио,[56] шлейф которого почти полностью покрывал круп лошади, а рукава развевались на ветру. Сверкающий тонкий обруч-диадема удерживал складки легкой розовой вуали, из-под которой на грудь дамы падали тяжелые темные косы. Косы у модниц того времени были так популярны, что их носили и юные девицы, и зрелые матроны. Лицо англичанки — чистое, с нежным персиковым румянцем — показалось Мартину вполне привлекательным. Она то и дело с улыбкой обращалась к своим спутникам и явно наслаждалась всеобщим вниманием.
Впрочем, ее улыбка погасла, едва она завидела супруга, спускавшегося с галереи во двор караван-сарая. Сэр Обри властным жестом протянул жене руку, а когда Джоанна спешилась, немедленно увел ее от пестрой толпы обожателей.
Следившие за прибытием красавицы Мартин и Сабир не могли не отметить, что темнокосая леди Незерби в присутствии посторонних вела себя скромно и покорно, но едва супруги поднялись на галерею и скрылись за арочными опорами, вырвала руку у сэра Обри и произнесла несколько отрывистых слов, сопроводив их выразительными жестами. После чего исчезла за дверью отведенных ей покоев, а сэр Обри остался стоять на галерее с крайне удрученным видом.
Сабир беззвучно рассмеялся:
— Этому желтоволосому можно посочувствовать. Супруга лишает его денег, разъезжает по окрестностям в сопровождении воздыхателей, а при виде мужа и повелителя темнеет лицом. Аллах всемогущий! Как же мудры твои законы, установившие, что женщине дозволено сколько угодно красоваться только перед своим господином, но она не смеет даже взглянуть на чужих мужчин!
Мартин не стал возражать: слишком многое свидетельствовало о том, что Джоанна де Ринель вздорна, капризна и властолюбива. А вскоре Эйрик принес еще одну новость: оказалось, что ко всем ее недостаткам она еще и бесплодна, как заброшенное поле.
Рыжий обладал непревзойденным даром с легкостью заводить знакомства среди прислуги, в особенности женской. Он уже успел вскружить голову горничной английской леди, и та поведала ему истинную причину паломничества супругов в Святую землю — они надеются, что там будут услышаны их мольбы и небо наконец-то благословит их брак, длящийся более семи лет, детьми.
— Малышка Саннива — так зовут ту молоденькую козочку, служанку леди, — говорит, что путешествуют ее господа неспешно, но уже успели посетить ряд святынь и поклониться куче реликвий. Это не помогло, и теперь они стремятся в Святую землю. Одно время супруги даже намеревались присоединиться к воинству французских крестоносцев в Везле,[57] но там вышла какая-то история, и король Ричард спешно отправил обоих в Венгрию с миссией к королю Беле.
«Возможно, это каким-то образом связано с королем Филиппом», — Мартину вспомнились слова Ашера бен Соломона.
— Кроме того, Саннива поведала вот что, — посмеиваясь в рыжие усы, добавил Эйрик. — Оказывается, пока лорд Незерби и его жена гостили в Константинополе, начался Великий пост. Сэр Обри помолился и внезапно дал обет, что станет избегать супружеского ложа до тех пор, пока не преклонит колени перед Гробом Господним в Иерусалиме! Ибо Господь якобы дал ему знать, что лишь после этого они смогут зачать дитя. Ну не олух ли этот англичанин?
Мартин тоже рассмеялся. Что ж, тоскующая без мужской ласки дама, скорее всего, станет легкой добычей.
Однако подступиться к ветреной англичанке будет непросто. Ее постоянно сопровождает стража — с десяток опытных, отменно вооруженных воинов, которых возглавляет капитан[58] Дрого — родом сакс. Проследив за тем, как тот упражняется с копьем, Эйрик только одобрительно хмыкнул. При даме состоят паж, повар и пожилая камеристка Годит, которая следит за ее туалетами. И, разумеется, горничная Саннива, чье сердце, как уверяет Эйрик, уже на его стороне. Кроме того, вокруг Джоанны постоянно увиваются щеголи из числа тех, которым предстоит отправиться с караваном.
В том, что сестра Уильяма де Шампера отменная певунья, Мартин убедился в тот же вечер.
Едва сгустились сумерки, во дворе караван-сарая погонщики развели костер, и как только путники собрались у огня, появилась леди Джоанна с небольшой лютней в руках. Расположившись в кругу мужчин, она коснулась струн и затянула задорную и весьма нескромную балладу. Голос у женщины оказался действительно замечательный — свободный, бархатистый, легко взлетавший от низких грудных нот к самым высоким тонам. В балладе речь шла о том, как некая девица остроумно отказала и барону, и лорду, и старому рыцарю, потому что ждала своего крестоносца, который вскоре должен вернуться овеянным славой и поведать, сколько сарацин он уложил во имя своей избранницы. Каждая строфа заканчивалась нехитрым припевом, и слушатели дружно подхватывали его, хлопая в такт.
Тем временем Мартин приметил мужа певицы, в одиночестве стоявшего на галерее, и направился к нему. Сэр Обри раздраженно обернулся, но, узнав щедрого госпитальера, сумел изобразить некое подобие улыбки.
— Тоже любуетесь, как моя супруга веселит этот сброд?
— Почему же сброд? Здесь немало благородных господ — патрикии, рыцари Храма, служители Господа, воины. А сброд — вон он! — Мартин указал на столпившихся поодаль слуг, погонщиков и проводников.
На лице Обри де Ринеля появилась презрительная гримаса.
— Леди Джоанна воспитывалась при дворе королевы Элеоноры Аквитанской, где дамам позволяются такие вольности, о которых на севере Англии, откуда я родом, благородные девицы и не слыхивали. Мне было непросто свыкнуться с тем, что моя супруга увеселяет гостей, словно нанятый за плату гистрион. Но ее семья относилась к этому чудачеству благосклонно. И не диво: ее батюшка слыл первым трубадуром при короле Генрихе, да и нынешний король слывет мастером пения и сам слагает стихи.
— Вы не одобряете этого?
Обри в ответ повел плечом.
— Могу ли я осуждать своего короля? Как по мне, лучше бы он поменьше времени уделял сочинительству, а как следует намял бока этому заносчивому исчадию ада — Саладину.
— Как раз это он и намеревается сделать, — заметил Мартин и, склонившись к сэру Обри, спросил: — Но отчего такой воин, как вы, мой друг, не стали паладином своего короля, как тысячи других рыцарей?
Обри отвел глаза. Он явно испытывал неловкость оттого, что госпитальер уличил его в нежелании присоединиться к крестоносному воинству. Но причина, и весьма убедительная, нашлась: король Ричард избрал морской путь, а сэр Обри абсолютно не переносил качки.
— Я едва не отдал Богу душу, когда мы угодили в шторм при переправе через Английский канал.[59] С тех пор я поклялся: больше никаких путешествий морем! Именно поэтому мы избрали кружной и опасный путь по суше.
Пение умолкло, на галерею доносился лишь негромкий перезвон струн, который вскоре потонул в гуле одобрительных возгласов и рукоплесканий. Грузный купец из Магриба,[60] один из самых богатых в караване, шагнул к даме и с низким поклоном протянул ей дар — шелковую шаль.
Кулак Обри де Ринеля обрушился на край балюстрады.
— Клянусь мессой! Вы только взгляните: ее одаривают, как площадную девку!
Он схватился было за меч, но Мартин удержал разгневанного супруга.
— Не вмешивайтесь, друг мой. На Востоке принято выражать одобрение, преподнося те или иные дары. И, замечу, эта шаль из такого шелка, который в Европе считается драгоценным. Поистине щедрый дар.
— Вы полагаете? — оживился сэр Обри. — Сколько же он может стоить?
Ожидая ответа, англичанин успел заметить в свете горевшего неподалеку факела усмешку на лице госпитальера, и спохватился:
— Собственно, мне нет никакого дела до этого тряпья. Жалкий купчишка смеет обращаться с высокородной леди, как покровитель! Это наносит урон ее чести!
— Вы не правы, сэр. У мусульман купцы в таком же почете, как и воины. Сам пророк Мухаммад был купцом…
Тот все еще продолжал ворчать и сердиться, когда Мартин внезапно решил: сейчас самое время принять предложение желтоволосого англичанина, от которого он поначалу уклонился, и посетить соседнюю греческую харчевню. Это позволит ему составить более полное представление о леди Джоанне.
Сэр Обри мгновенно воодушевился.
Оба спустились во двор и, пройдя позади слушателей, по-прежнему окружавших даму, покинули караван-сарай.
Вино в харчевне оказалось весьма недурным — густым и сладким, как большинство вин на Востоке. Мартин, сославшись на обеты, ограничился пряным шербетом, зато сэр Обри, осушив несколько кубков подряд, быстро захмелел, и язык его развязался. «Госпитальер» умело направлял беседу, и вскоре речь вновь зашла о супруге владельца Незерби.
— Не дивитесь, сэр рыцарь, что Джоанна надменна и окружает себя поклонниками, — Обри де Ринель внезапно стиснул крепкий кулак. — На самом деле все это — пустая видимость. Готов поклясться каждым гвоздем Креста Господня, что любит она одного меня. А как могло быть иначе, если я добился ее благосклонности, став победителем большого турнира в Винчестере… Право, никогда в жизни мне не приходилось видеть такого скопления народа, как там! И среди прочих — она, совсем еще дитя, младшая дочь одного из знатнейших лордов Англии и родственница самого короля… И, смею заметить, — одна из богатейших наследниц страны… О, мне было ради чего сражаться и преломлять копья, но я знал, как добиться своего, ибо я — лучший воин в Английском королевстве! Что и было признано, когда герольды во всеуслышание назвали имя победителя…
Сэр Обри поспешно опорожнил очередной кубок и продолжал:
— Видели бы вы, как смотрела на меня в тот миг Джоанна! И я понял, что означает этот взгляд, и повел осаду по всем правилам. Я нанимал толпы менестрелей, распевавших во весь голос под ее окнами, я назначал ей тайные встречи, осыпал подарками. Какая юная леди перед этим устоит? Когда же мы с ней пали на колени перед ее отцом и признались, что любим друг друга, гордый барон Артур де Шампер, владелец Малмсбери, Гронвуда и иных обширных земель в Англии, не смог ответить отказом. Сам король Генрих присутствовал на нашей свадьбе — ведь де Шамперы его родня, он всегда благоволил к ним… Так я, бедный рыцарь с далекого севера, стал членом могущественного рода и… — Язык сэра Обри уже заплетался, мысли путались. — Воис… воистину, я зав-воевал ее мечом и удалью, как рыцарь из баллады!..
Серо-зеленые глаза подвыпившего англичанина помутились, соломенные волосы растрепались, лицо пылало. Трудно было поверить, что этот рослый, но уже рыхлый и располневший мужчина всего семь лет назад был победителем известного во всем христианском мире турнира. Может, это всего лишь пьяное бахвальство?
Необходимо поручить Эйрику и Сабиру выяснить, насколько соответствуют истине рассказы сэра Обри. Но сейчас Мартину оставалось одно — поднять на ноги уже начавшего сползать со скамьи англичанина, доставить его в караван-сарай и сдать с рук на руки хмурому капитану Дрого.
Вместо благодарности этот сакс что-то сердито пробурчал. Из своих покоев на миг показалась леди Джоанна, бережно обхватила талию мужа и увела его с собой, что-то вполголоса выговаривая ему на ходу.
Может, она и впрямь так привязана к супругу, как уверял его сэр Обри?
В том, что задание, поставленное перед ним Ашером бен Соломоном, выполнить не так-то просто, Мартин убедился в течение двух следующих дней. Темнокосая англичанка держалась отстраненно, и все его попытки завладеть вниманием женщины оказывались тщетными. Серьезной помехой были и тамплиеры — они постоянно окружали Джоанну, словно второе кольцо стражи. С незнакомым госпитальером рыцари Храма вели себя учтиво, но холодно, всем своим видом давая понять, что его присутствие здесь неуместно.
Сэр Обри также не спешил представить вновь обретенного приятеля супруге. Он был приветлив с Мартином, расточал улыбки, при случае намекал, что не прочь повторить их визит в греческую харчевню, но тем дело и кончалось.
День отбытия каравана был полон суеты, как бывает всегда, когда большая группа людей, чьи интересы ни в чем не сходятся, покидает насиженное место. Но именно в этой суматохе Мартину удалось приблизиться к знатной даме, которую ему предстояло не только соблазнить, но и очернить.
Он поспешно спускался с галереи, а леди Джоанна поднималась к своим покоям, и они едва не столкнулись на ступенях. На краткий миг оба оказались близко, почти вплотную. Мартин впервые увидел лицо женщины вблизи и невольно восхитился. Нежная, без единого изъяна кожа цвета сливок, легкий румянец и торопливое дыхание, слегка приоткрытые яркие и полные губы, небольшой, изящный нос и широко поставленные глаза — серые, глубокие, с удивительным фиалковым оттенком.
Прекрасное всегда радует, и Мартин невольно улыбнулся. Во взгляде англичанки мелькнул лукавый блеск, но она тут же отпрянула, горделиво вскинув голову.
Мартин посторонился, отвесив учтивый поклон.
— Мадам!
Вместо ответа — едва заметный кивок.
Леди Джоанна продолжила свой путь, а он провожал ее восхищенным взглядом до тех пор, пока не удостоверился, что этот взгляд замечен камеристкой Годит. Та, еще раз взглянув на восхищенно застывшего госпитальера, догнала свою госпожу на верхней галерее и принялась что-то нашептывать. Ему удалось уловить легкий кивок супруги сэра Обри, адресованный камеристке, но она так и не обернулась.
Мартин был удовлетворен: теперь фигура рыцаря-монаха, на которого произвела столь неизгладимое впечатление леди Джоанна из Незерби, неизбежно возникнет в доверительных разговорах этих двух женщин.
Но тем все и кончилось.
Джоанна покидала караван-сарай как обычно — окруженная толпой почитателей и белыми плащами храмовников. Супруга высокородной госпожи в этой свите не было: утром между ними вспыхнула ссора, и английский рыцарь предпочел держаться подальше, смешавшись с толпой паломников и проводников.
Караван вышел из Никеи в тучах пыли. Выкрики погонщиков, ржание мулов и коней, хриплый рев верблюдов, топот копыт и скрип колес тяжелых сарацинских повозок, звон верблюжьих бубенцов сливались в оглушительную какофонию. Помимо проводников и стражи, в караване насчитывалось свыше ста человек, включая женщин и детей, а также более трехсот вьючных животных. Процессию возглавлял испытанный каравановожатый Евматий, рядом с ним ехали несколько помощников — их обязанностью было оказывать в пути различные услуги знатным купцам и паломникам, а замыкал караван отряд тамплиеров, взявшихся охранять путешествующих. По обочине дороги гнали гурт овец, которым предстояло быть съеденными в пути.
Мартин с Иосифом, Сабиром и воинами-охранниками, выделенными для охраны сына Ашера бен Соломона, держались в середине каравана. Эйрик же, напротив, при первой возможности догнал людей из свиты англичанки и теперь следовал вплотную за ними. Мартин порой завидовал легкому и беспечному характеру рыжего — тот успел не только обворожить горничную знатной дамы, но и завести приятельские отношения с капитаном Дрого; повар Бритрик угощал его сладостями, а паж Жос заливался смехом от его шуточек.
Спустя некоторое время Мартин подал знак Эйрику приблизиться.
— Ну, и что тебе от меня понадобилось, малыш? — спросил тот, осаживая коня и приноровляя его шаг к шагу лошади мнимого госпитальера.
Эйрик был на двенадцать лет старше Мартина и порой по старой памяти величал его «малышом» — как в те времена, когда они только что узнали друг друга. В ту пору Мартин действительно был четырехлетним малышом из приюта Святого Иоанна, приемышем Ашера бен Соломона, важного купца, облагодетельствовавшего сироту.
Мартин с усмешкой склонился с седла к уху варанга и вполголоса проговорил:
— Уж если, рыжий, ты стал своим человеком в свите леди Джоанны, было бы не худо при случае поведать какую-нибудь трогательную историю о своем рыцаре. Мол, господин мой, благородный Мартин д'Анэ, вступил в орден после того, как безвременно скончалась его обожаемая супруга, прекрасная и кроткая… Как же ее звали?.. Допустим — Элеонора, как королеву Элеонору Аквитанскую, в честь которой многие называют дочерей… Итак, сокрушенный горем рыцарь д'Анэ решил отрешиться от всего земного и связал себя обетами, став смиренным воином ордена Святого Иоанна. Подобные истории всегда производят впечатление на женщин.
Эйрику не требовались долгие разъяснения.
Он мгновенно усвоил, что ему надлежит говорить, и от себя добавил, что, надо полагать, мнимая супруга мнимого госпитальера умерла в родах, и таким образом молчаливый и печальный рыцарь, едущий в середине каравана, разом лишился жены и сына. Только железное сердце останется равнодушным к подобной трагедии. А уж если в сердце женщины родится сочувствие, тут и до нежности недалеко!
С тем Эйрик и ускакал, вздымая клубы пыли.
Несмотря на то что стояла середина апреля, солнце жгло, как в разгар лета. Мартин отбросил кольчужный капюшон, позволив ветру играть с каштановыми прядями его блестящих волос. Ближе к полудню тень коня и всадника уменьшилась настолько, что теперь лежала прямо под копытами его скакуна.
Когда вереница каравана, казавшаяся бесконечной, изгибалась вместе с поворотом дороги, рыцарь мог видеть Джоанну де Ринель — великолепную нарядную наездницу, словно не замечавшую ни жары, ни пыли. Ее стройный стан мерно покачивался в такт поступи лошади.
Сколько же ей лет? — спрашивал себя Мартин. Сэр Обри упомянул, что в брак леди Джоанна вступила семь лет назад, совсем юной. Следовательно, ей немногим больше двадцати. И при этом она беспечна, весела, со смехом расспрашивает о чем-то каравановожатого Евматия… Должно быть, о груде развалин, высящейся на соседнем холме, — только что она указала на нее рукой, затянутой в длинную серую перчатку… Но вокруг по-прежнему свита, а сэр Обри окончательно куда-то пропал.
Несколько позже удача улыбнулась Мартину: он сумел свести знакомство с камеристкой Годит.
Это случилось вскоре после полудня, когда неторопливо продвигавшийся караван догнала тагма[61] закованных в броню воинов императора. Тяжеловооруженные всадники спешили, и по знаку каравановожатого погонщики начали останавливать вьючных животных и отводить их на обочину, чтобы дать дорогу воинам. Как часто случается в спешке, на дороге образовалась сумятица, люди и животные заметались, заревели верблюды и отчаянно закричала какая-то женщина, чей ребенок выбежал на середину дороги, когда сверкающие сталью всадники находились в двух шагах.
К счастью, Сабир успел схватить мальчишку за шиворот и одним движением переправил его прямо в руки голосившей матери. Тем временем камеристка Годит начала резко разворачивать своего мерина, и на землю посыпались какие-то тюки и сумы, притороченные к ее седлу. Мартину пришлось придержать мерина под уздцы и помочь женщине поднять поклажу.
— Как вы добры, господин! — ахала матрона, поправляя покрывало, которое то и дело норовил сорвать с ее головы жаркий ветер. — Истинный воин святого Иоанна, не оставляющий в беде страждущих!
— Надеюсь, вы не пострадали? — сдержанно поинтересовался Мартин, помогая женщине снова сесть в седло, а затем похвалил наборную сбрую на ее мерине, заметив, что и знатная всадница подобной не устыдилась бы.
Камеристка сочла это замечание достаточным поводом, чтобы вступить в беседу. Сообщив, что сбруя — от щедрот ее доброй и благочестивой хозяйки, Годит поведала, что ее госпожа в пути уже больше года, что ее цель — святые места Иерусалима, а сама Годит состоит при ней в качестве камеристки и доверенного лица.
— Ваш слуга, господин рыцарь, оказался молодцом, — заметила Годит, пришпоривая мерина, чтобы догнать коня госпитальера, шедшего размашистым шагом. — Спас мальчишку, да как ловко! А я-то думала, что сарацины только на то и годятся, что швырять на копья христианских детишек. Но если он служит вам, значит он крещен водой и духом, как и положено, несмотря на то, что во всем остальном выглядит сущим язычником?
Мартин усмехнулся и промолчал. Для христиан все иноверцы — язычники. Что бы сказала эта рассудительная особа, если б знала, что и второй его «слуга» наотрез отказывается принимать причастие, утверждая, что всякий варанг должен помнить веру предков. Сабир — правоверный мусульманин, однако они уже много лет стоят плечом к плечу, и он доверяет ему как кровному брату.
— А вам, сэр, уже доводилось бывать в этих диких краях? — не унималась словоохотливая камеристка. — Сдается мне, у ромеев здесь не все ладно. И сарацин здесь, как мышей в подполье у нерадивого хозяина, их муллы завывают громче, чем звонят колокола в церквях, призывая к службе. И то сказать — что за христиане эти схизматики-греки, если не признают Папу Римского наместником Бога на земле?
— Но вместе с тем глубоко почитают Христа и Пречистую Деву. — Мартин осенил себя знаком креста, и Годит поспешила последовать его примеру. — Поэтому василевс Алексей Комнин[62] в свое время и обратился к Папе с просьбой о помощи в борьбе с сельджуками, наседавшими на его державу.
Камеристка лишь изумленно всплеснула руками, но после краткого замешательства последовал новый вопрос:
— Если ромеи добрые христиане, то отчего же император Исаак Ангел в то время, когда весь мир содрогнулся, узнав, что Саладин овладел святым Иерусалимом, наоборот, возрадовался и поздравил султана с военной удачей? По-христиански ли это — радоваться победе врагов Христа?
— Скажу на это лишь одно: Исаак Ангел совершил ловкий политический ход. Поздравив Саладина, он тем самым добился главной цели: султан не стал изгонять и преследовать живших в Иерусалиме восточных христиан. Всем им была обещана безопасность.
— До чего же лукавы эти греки! — сокрушенно покачала головой камеристка. — Недаром сказано, что ни одному из них нельзя доверять. Они и неверных привечают, хоть и без конца воюют с ними.
— Здешние тюрки — такие же подданные императора, как и греки. В Ромейской державе живут люди всякой веры — армяне, евреи, греки, арабы, но все они платят налоги императорской казне. Зачем же изгонять того, кто приносит прибыль и почитает своего владыку?
— Это мусульмане-то почитают? А куда, по-вашему, господин мой, направлялся тот отряд, что недавно словно железный вихрь пронесся мимо нашего каравана? Небось, где-то мятеж, и язычники снова режут добрых христиан — да хранит нас Господь от подобных ужасов!
Мартин рассмеялся.
— Не стоит забывать, что у самых границ Ромейской империи ныне возвысился могучий Кенийский султанат. И это далеко не самый мирный сосед. Вот почему число воинов императора в Малой Азии умножилось и все дороги патрулируют многочисленные отряды. Но, согласитесь, это ведь истинное благо для путников.
Женщина задумчиво потрепала гриву своего мерина, а затем устремила живой взгляд на спутника.
— Вам известны такие вещи, господин рыцарь, что я…
Она умолкла, не то подбирая слова, не то не решаясь продолжать. Камеристка Джоанны де Ринель говорила по-французски, но акцент свидетельствовал, что ее родным языком был английский. Однако сейчас дело было не в языке.
— Мне пришло в голову, — наконец произнесла почтенная матрона, — а не побеседовать ли вам об этих вещах с моей госпожой? Все эти тонкости ее очень интересуют…
Именно это и требовалось Мартину. Но каким образом может состояться такая беседа, если интересующая его дама постоянно находится в окружении тамплиеров?
Камеристка мгновенно перехватила его взгляд и тут же пояснила, что рыцари Храма приняли на себя обязательство беречь ее леди в пути, ибо она — родная сестра маршала ордена Уильяма де Шампера.
— Кто же не слышал о благородном де Шампере, чье имя покрыто славой, а доблесть служит образцом для всех, кто носит крест на плаще! — воскликнул Мартин. — Значит, ваша госпожа и в самом деле его сестра?
Его восхищение было таким неподдельным, что словоохотливая Годит тут же выложила многое из того, что впоследствии могло сослужить Мартину добрую службу.
Госпожа почтенной Годит, младшая дочь владетельных сеньоров де Шампер, появилась на свет в ту пору, когда ее старший брат Уильям покинул Англию и отбыл в Святую землю. Брат и сестра никогда не виделись, но леди Джоанна была с детства наслышана о нем. Когда же супруги из Незерби решили посетить Палестину, матушка леди, баронесса Милдрэд, отписала своему прославленному сыну, известив о скором прибытии сестры. Сэр Уильям откликнулся. В своем послании он писал, что Джоанна и сэр Обри могут во всем рассчитывать на него и тех людей ордена Храма, с которыми ей доведется иметь дело. Однако ныне он занят войной с неверными, и едва ли ему удастся лично приветствовать чету родичей на Святой земле. Это-то и тревожит леди Джоанну, да и нет в этом ничего удивительного — несмотря на рыцарский конвой, вокруг простирается чужая земля, населенная племенами, чьи нравы и законы так отличаются от английских.
Мартин был удовлетворен. При мысли о том, что ему, если верить словам Годит, пока не грозит неожиданная встреча с Уильямом де Шампером, он сдержанно усмехнулся.
— Вы смеетесь, сэр? — возмущенно воскликнула камеристка.
— Моя улыбка вызвана иными причинами, — проговорил Мартин. — Я всего лишь дивлюсь причудам судьбы. Встретиться на пути к Святой земле со столь знатной дамой, в чьих жилах течет кровь не только де Шамперов, но и самих Плантагенетов! Лишь теперь я понимаю, отчего леди Джоанна столь высокомерно обращается со своим супругом!
— Моя госпожа высокомерна? Господь с вами, сэр рыцарь, — не судите о том, что вам не известно!..
И почтенная Годит с большой откровенностью поведала историю этого брака.
Обри де Ринель и впрямь был победителем турнира в Винчестере. Именно там он приглянулся молоденькой и прелестной пятнадцатилетней Джоанне. Девушка была так хороша, что ее единодушно избрали королевой турнира, а Обри своего не упустил, хоть и был беден. Он принадлежал к тем рыцарям, которые, не имея обширных владений, кочуют с турнира на турнир, а весь их доход составляют доспехи и кони побежденных в турнирных поединках противников. Семья его считалась довольно родовитой, но обеднела и была обременена множеством детей. Сэру Обри, второму по старшинству среди сыновей его отца, не предстояло ничего унаследовать,[63] поэтому женитьба на леди Джоанне оказалась для него неслыханной удачей.
— Сэр Обри окружил нашу юную госпожу таким поклонением, — увлекшись, продолжала камеристка, — что сумел-таки добиться ее любви. И получил вместе с нею поместье Незерби, ленные владения, пруды, мельницы и обширные пастбища. Не говоря уже о замке, который недавно был перестроен и украшен двумя новыми башнями и барбаканом с подъемным мостом. Загляденье, а не замок, скажу вам по чести! И во владение им сэр Обри вступил, не имея ничего, кроме коня, доспехов, пары оруженосцев, с виду напоминавших разбойников, да благородного имени — де Ринель. Предки его явились в Англию с Вильгельмом Завоевателем,[64] но одному Господу ведомо, сколько среди его воинства было всяких негодяев и голодранцев!
— Напрасно вы так считаете, сударыня. Благородное имя — это уже немало.
— Для кого-то, может, так оно и есть. Только не для де Шамперов! Поверьте, я сама родом из знатной саксонской семьи, мои предки бились с норманнами при Гастингсе, но для меня великая честь — быть в свите леди Джоанны. Ведь де Шамперы вхожи к самому королю! Вот почему, когда лорд Артур неожиданно согласился отдать свою дочь такому человеку, это вызвало всеобщее удивление. На то, однако, была особая причина: некогда его светлость, сэр Артур, завоевал руку своей будущей супруги, став победителем турнира. Я полагаю, его сердце смягчилось тем, что он усмотрел в судьбе дочери отражение судеб ее родителей. Именно поэтому он дозволил юной Джоанне совершить свободный выбор. Зато его супруга, леди Милдрэд Гронвудская, далеко не сразу приняла сэра Обри. Когда его светлость вместе с новобрачными вернулся в замок Малмсбери, миледи впервые осмелилась упрекнуть супруга, хотя более нежной и любящей жены во всей Англии не сыскать! На целых полгода она удалилась в монастырь Святой Хильды, но в конце концов ей пришлось смириться с тем, что сэр Обри перед Богом и людьми стал мужем ее младшей дочери…
В это время Годит окликнула ее госпожа. Женщина взялась за поводья, чтобы заставить мерина перейти на рысь, но Мартин остановил ее:
— Прошу вас передать леди Джоанне: коль скоро ей наскучит однообразие пути, я готов позабавить ее рассказами о здешних местах.
Годит просияла.
— Будьте уверены, господин рыцарь, я непременно передам!
Исполнила она обещанное или нет — неизвестно. Во всяком случае Мартин до самого вечера продолжал ехать в середине каравана, и никто к нему не обращался. Сэр Обри попался ему на глаза лишь тогда, когда караван прибыл в Прусу и путники начали располагаться в тамошнем караван-сарае.
Обри де Ринель выглядел странно — он нетвердо сидел в седле, глаза его были полузакрыты, а спешивался он столь медлительно и неуклюже, что леди Джоанна даже попыталась поддержать мужа. При этом она смущенно и растерянно оглядывалась, но слуги были заняты багажом, а никого из свиты не оказалось поблизости. Сэр Обри шатался из стороны в сторону и не мог самостоятельно сделать ни шагу.
Заметив ее растерянность, Мартин поспешил предложить свою помощь.
Это, однако, еще больше смутило даму: ее супруг снова не в себе, и уже второй раз госпитальер вынужден оказывать ему помощь. Но препровождая сэра Обри в отведенное ему помещение, Мартин заметил нечто странное — несмотря на то, что англичанин находился в тяжелом опьянении, запах вина в его дыхании отсутствовал, а глаза были налиты кровью.
Утром следующего дня сэр Обри сам разыскал Мартина. Выглядел он скверно: свинцовые крути под глазами, осунувшееся лицо.
— Где же ваш подопечный иудей? — осведомился англичанин.
Мартин указал назад: Иосиф ехал в окружении еврейского семейства, присоединившегося к каравану в Прусе. Обри криво усмехнулся, начал было говорить что-то о непомерных правах, которыми в Ромейской державе пользуются евреи, но в конце концов сбился и стал благодарить рыцаря за оказанную ему накануне помощь.
— Но ведь вы не были вчера пьяны, как казалось на первый взгляд, — негромко заметил мнимый госпитальер.
Сэр Обри пристально уставился на него.
— Не мне вас судить, сэр, — продолжал Мартин с невозмутимой улыбкой. — В дороге всякое бывает.
Англичанин перевел дух.
— Это гашиш, — признался он. — Мне было любопытно испробовать нечто новое. Но теперь, когда я испытал его действие на себе… Признаюсь, вряд ли у меня скоро появится желание повторить подобный опыт…
Лорд передернул плечами.
Мартин окинул взглядом вереницу каравана: греки, мусульмане, цыгане, евреи. Кто угодно мог приторговывать этим зельем.
— «Аллах проклял опьяняющее и тех, кто его употребляет» — так свидетельствует Пророк ислама, — сказал он. — И еще: «Тому, кто употребит опьяняющее, не будет воздаяния за совершенные им молитвы в течение сорока дней». Советую поразмыслить об этом в пути к святым местам.
— Языческая чепуха! Я все равно никому не скажу, кто угощал меня зельем! — Лорд Незерби упрямо тряхнул головой.
В эту минуту англичанин ни в чем не походил на благородного лорда: щеки покрыты щетиной, светлые волосы свалялись, глаза, как у снулой рыбы. Мартин знал — первый прием гашиша часто заканчивается именно так. Но если за ним следуют другие… Об этом не хотелось даже вспоминать, и рыцарь заговорил о другом:
— Скажите, сэр, как совместить прием черного снадобья с тем, что вы решили блюсти строгий пост вплоть до прибытия в Иерусалим? Уж если вы отказались всходить на брачное ложе…
В серо-зеленых глазах сэра Обри внезапно появился опасный блеск.
— Я вижу, сэр рыцарь, вы успели обстоятельно побеседовать с Годит, камеристкой моей супруги, чей язык не знает узды. Вчера я видел вашу лошадь рядом с ее мерином. Этой саксонской овце ничто не доставляет такой радости, как разнюхивать, подслушивать, а затем судачить с кем попало. Прочие тоже хороши… Ох уж эти люди из Незерби!
Последние слова прозвучали как брань.
— Но ведь это ваши люди! — заметил Мартин.
Брови сэра Обри сошлись на переносье.
— Будь над ними моя полная воля…
Некоторое время они ехали молча. В какой-то миг Обри тронул повод, и лошади рыцарей пошли едва ли не вплотную. Колени всадников соприкоснулись, и англичанин склонился к спутнику с лукавой улыбкой:
— Вам, сэр, небо даровало исключительную внешность. Осанка, благородная форма рук… Временами чудится, что ваши глаза вобрали в себя всю лазурь дневного небосвода…
Взгляд сэра Обри приобрел странное, как бы заискивающее выражение.
Мартин молчал, обескураженный этой неожиданной тирадой. Их лошади продолжали идти так близко, что в конце концов саврасый мнимого госпитальера фыркнул, резко тряхнул гривой и загарцевал. Всаднику пришлось натянуть поводья. Скакун сэра Обри также взбрыкнул, и англичанину пришлось натянуть поводья.
— У вас превосходный конь, — проговорил госпитальер, возвращая беседу в обычное русло.
Его замечание возымело действие: сэр Обри с удовольствием огладил шею своего темно-рыжего скакуна и объявил, что все кони, на которых едут он сам, его супруга и сопровождающие их люди, выращены в поместье Незерби.
Мартин не мог не заинтересоваться: породистая лошадь в те времена считалась роскошью и стоила целое состояние. Лишь богатые и родовитые люди могли позволить себе содержать лошадей, все прочие обходились мулами и ослами. А прислуга и воины-охранники супругов де Ринель восседали на прекрасно выезженных, крепких конях. Это были рыжие или гнедые животные с благородной статью, все без исключения с белыми отметинами на лбу или морде: свидетельством того, что за чистотой породы тщательно следят.
Приободрившийся сэр Обри с готовностью сообщил, что порода, которую разводят в Незерби, зовется хакне. Эти лошади предназначены для долгих переездов и необычайно выносливы. Особенно хороши они в легкой упряжке. Зато в поместьях родителей его супруги выращивают настоящих боевых жеребцов — дестриэ, способных как пушинку нести на себе рыцаря в полном вооружении. Дестриэ — один из главных источников доходов семьи де Шампер, их охотно раскупает знать, хотя значительная часть поголовья безвозмездно передается в собственность ордену Храма, а затем отплывает в трюмах кораблей в Святую землю, где всегда ощущается недостаток в рыцарских конях. Тем не менее и хакне из Незерби стоят немалых денег.
Смакуя подробности, лорд углубился в рассказ о сложностях коневодства и доходах, которые оно приносит. И при этом с уважением упомянул супругу, которой, по его словам, нет и не было равных в выездке. А заметил ли сэр рыцарь, как изящны и невелики головы незербийских скакунов, какие у них лебединые шеи, стройные бабки, выразительные глаза и чуткие уши? Все это они унаследовали от арабских коней, привезенных с Востока дедом его супруги — бароном Эдгаром Армстронгом. Именно с тех пор во владениях де Шамперов и повелось коневодство.
Когда мужчины говорят о лошадях, их нелегко отвлечь. Поэтому ни тот, ни другой не заметили, как к ним приблизилась Джоанна де Ринель.
— Милорд супруг мой, — учтиво обратилась она к Обри. — Вы всегда мечтали ехать в Левант тем путем, по которому когда-то шли первые паладины. Только что наш каравановожатый Евматий сообщил, что вскоре мы свернем на старую дорогу крестоносцев, ведущую к Дорилее.[65]
Обри с женой ускакали в голову каравана. Вскоре Мартин увидел супругов вместе коленопреклоненными у могилы, над которой возвышался прямой латинский крест. Таких погребений здесь было множество — крестоносцев, не вынесших тягот пути и ран, полученных в стычках с конницей сельджуков, хоронили прямо у обочин дороги. За минувшие десятилетия жаркие ветра почти сровняли с землей последние прибежища паладинов, но кресты были видны издали. Ромеи не трогали их, а на склонах окрестных холмов и в глубоких лощинах нет-нет да и находили изъеденные ржавчиной шлемы, обломки мечей и наконечники копий…
К вечеру караван достиг придорожного караван-сарая.
В отличие от тех, что располагались в больших городах, этот караван-сарай, находившийся на расстоянии дневного перехода от ближайшего поселения, походил на небольшую крепость, обнесенную высокими и толстыми стенами. Ворота из тяжелых дубовых плах на ночь запирались крепкими коваными засовами. Внутренние помещения были тесными — даже в лучших покоях едва помещалась пара лежанок, а для жаровни с угольями места уже не оставалось.
А нужда в тепле в этой гористой местности была велика: как только село солнце, из ущелий потянуло пронизывающим до костей холодом. Поэтому многие путники разместились во дворе, где можно было обогреться у ярко пылавшего костра.
Мартин, несмотря на утомительный путь, не испытывал ни малейшего желания отправиться на узкую и жесткую лежанку и тоже присоединился к собравшимся у огня. Беседа здесь шла о том, что обычно интересует людей в дороге: сколько еще дневных переходов до цели, следует ли опасаться разбойников и не слышно ли чего о бродягах-кочевниках. Тем временем горные совы, обитавшие в окрестностях, устроили перекличку. Их уханье, стоны и протяжные вопли нагоняли жуть: словно в темноте притаилась свора пустынных демонов.
— Покричат и уймутся, вреда от них нет, — успокаивал путников каравановожатый, подбрасывая в огонь сухие колючие плети ежевики. — А завтра мы окажемся за стенами Дорилеи, там и вовсе нечего опасаться.
— Давно ли вы водите караваны? — спросил у грека кто-то из собравшихся.
— Давно. Еще мой отец сопровождал на этом пути купцов и крестоносцев, а я унаследовал его дело.
— И много ли войск тут проходило, чтобы сразиться с последователями Пророка? — спрашивавший говорил по-гречески, но в его голосе явственно слышались гортанные арабские ноты. — Хотя зачем спрашивать, если вскоре этому придет конец: ведь султан Саладин, волею Аллаха, отвоевал наши исконные земли навсегда!
Теперь стало ясно, что говорит купец из Магриба. Рыцарей-тамплиеров не было рядом, и он чувствовал себя уверенно, сознавая, что даже ромеи не посмеют пенять ему за дерзкие слова.
Однако ему возразили:
— Почему вы решили, почтенный Ваиз, что земли Палестины всегда принадлежали мусульманам?
Мартин с удивлением узнал голос леди Джоанны. А затем при вспышке пламени сумел разглядеть и ее лицо: молодая женщина сидела на сваленных на землю тюках рядом со своей камеристкой Годит, укутавшись, как в плащ, в кусок светлой овчины.
Магрибинец искоса взглянул на нее. На всем протяжении пути он был любезен с этой красивой и знатной дамой, но ее последние слова не пришлись ему по душе. Купец молчал, раздумывая, сказать ли то, что было у него на уме, или просто промолчать. Но тут неожиданно вмешался греческий священник:
— А ведь эта госпожа права, почтенный Ваиз! Землями в Леванте, захваченными султаном, не всегда владели мусульмане. Больше того: некогда эти края были колыбелью христианства, и даже в Магрибе, откуда вы родом, а равно в Египте и в Сирии, люди славили Христа. Там возводились монастыри и храмы, вера была крепка и люди чтили Писание. Всему этому было суждено погибнуть, как только из пустынь Аравии, с Кораном в одной руке и саблей в другой, явились воинственные последователи Мухаммада. Они загасили светочи христианства на Востоке. И войны, которые ныне ведутся, призваны остановить натиск ислама и вернуть в Палестину христианство.
Вслушавшись в слова священнослужителя, Мартин заметил:
— Вы ученый человек, святой отец! Но отчего же греки не признают власти Папы, хотя, похоже, согласны с тем, что войны, которые ведут на Востоке мои крестоносцы, справедливы?
Священник уклонился от ответа, обменявшись взглядами с монахами-ромеями в темных куколях, сидевшими неподалеку. И сейчас же в разговор вступила леди Джоанна:
— Достойные всяческого доверия ученые мужи утверждают, что в давние времена, когда Святая земля была впервые захвачена сарацинами, они не препятствовали христианам почитать их святыни. Они называли христиан «людьми книги», дозволяли пилигримам совершать паломничества. Но сама вера последователей Пророка, требовавшего повсеместного распространения ислама, привела к тому, что паломников начали убивать и грабить. Почтенный Ваиз наверняка слышал о злодеяниях халифа аль-Хакима,[66] не оставившего в целости ни одной церкви и монастыря в Палестине и Сирии и разрушившего до основания священный для всего христианского мира храм Гроба Господня!
— Халиф аль-Хаким был безумцем, это всем известно, — подумав, согласился магрибинец. — Однако после его смерти гонения прекратились.
— Но разве перестали убивать паломников? Разве прекратились набеги на христианские земли? Святой отец! — обратилась Джоанна к ромейскому священнику. — Не согласитесь ли напомнить почтенному Ваизу, сколько городов утратила Ромейская держава с появлением на ее рубежах сельджуков?
Священнослужитель лишь сокрушенно покачал головой.
О нашествиях мусульман, которые одно за другим приходилось отражать Ромейской державе, знал весь западный мир. Именно эта война, конца которой не предвиделось, вынудила императоров ромеев обратиться за помощью к Святому престолу и христианским государям. Однако это не привело к примирению между западной и восточной церквями, и священник не стал поддерживать эту пылкую молодую даму в ее споре с мусульманином.
Леди Джоанна не сдавалась:
— Кто осмелится отрицать, что крестовые походы начались только после того, как Петр Пустынник принес в Европу весть о чудовищных избиениях христианских паломников? Разве до того христиане воевали с мусульманами? Нет! Они жили в мире, несмотря на то, что арабы уже обратили в ислам немало государств. Злодеяния было необходимо прекратить! Поэтому войны крестоносцев — священные войны…
«Истинная сестра непримиримого Уильяма де Шампера!» — невольно подумал Мартин. Но он уже видел, каким гневом пылают лица приверженцев учения Мухаммада, сидевших у костра, и решил вмешаться:
— Все это, однако, не оправдывает той резни, которую мои единоверцы учинили, захватив Иерусалим.
Головы в чалмах закивали, соглашаясь с его словами, и гортанные голоса принялись вспоминать жестокое завоевание Иерусалима.
Но леди Джоанна стояла на своем:
— Странно слышать подобные речи от вас, рыцаря ордена Святого Иоанна! Вы наверняка видели могилы крестоносцев у дороги. Тяжкий путь, жестокие битвы, поражения, победы… Их вела вера! Они терпели лишения, проливали кровь, гибли, но те, кто выжил, продолжали священное дело. Но война — всегда война. И в чем их винить, если крестоносцы, одолев неисчислимые препятствия, явились под стены Священного Града, а язычники, видя, как ослабело их войско, принялись насмехаться над паладинами и разрушать у них на глазах христианские святыни? Могла ли не вскипеть кровь в жилах воинов? Но и тогда они не ринулись на приступ, а трижды обошли стены Иерусалима под звуки труб и презрительный смех неверных, вознося молитвы Всевышнему… Видит Бог, я не оправдываю истребления мирных горожан и восхищаюсь поступком мужественного Готфрида Бульонского,[67] который велел прекратить бесчинства в Священном Граде. И хочу напомнить, что жестокость, проявленная крестоносцами в Иерусалиме, впоследствии не коснулась ни одного из захваченных сирийских городов. Праведный гнев остыл — и эти люди начали создавать христианскую державу в Святой земле, и вновь к святыням веры начали стекаться паломники из самых дальних краев…
Внезапно один из мусульман отрывисто выкрикнул на ломаном франкском:
— Всем известно, что ваши правители привели с собой не воинов, а нищий сброд, жадный не до веры, а до чужого добра! Их головы были полны мыслями о золоте, а не заповедями пророка Исы![68]
Говорившего трясло от ярости и негодования. Мартин подумал, что леди Джоанне следовало бы как можно быстрее удалиться, но она, бесстрашно сверкая глазами и стиснув кулачки, горячо заговорила:
— Вы, последователи Магомета, убеждены, что только вам даровано сокровище истинной веры, тогда как все прочие — стяжатели и убийцы. Да, на призыв Папы Римского откликнулись самые разные люди, и среди них было множество нищих. Но большинство вовсе не были глупцами и знали, чего потребует от них такой далекий путь. Оружие, лошади, доспехи — все это стоит дорого. Но даже самые неимущие христианские рыцари закладывали последний клочок земли ради того, чтобы сразиться за святыни и спасти свои души. Так и сейчас: король Ричард не ринулся сломя голову в Палестину, а обстоятельно готовится к борьбе за…
— Не смей упоминать здесь имя этого шайтана, женщина!
Мартин кошачьим движением выдвинулся вперед и успел отшвырнуть прочь ринувшегося к леди Джоанне человека в синей чалме. После чего, вопреки этикету, бесцеремонно схватил ее за руку и повлек за собой.
— Вы, госпожа, выбрали не слишком удачное место и время для упражнений в красноречии! — на ходу насмешливо заметил он.
Женщина попыталась освободиться, но он не отпускал ее руку.
— Ради всего святого! Вы не переубедите язычников, а ваши речи вызовут разброд и взаимное ожесточение между людьми в караване. Возьмите себя в руки!
Она уже немного успокоилась, но рыцарь все еще слышал ее бурное дыхание. Тогда он проговорил:
— Вы были необыкновенно хороши, отстаивая святость нашего дела!
Леди Джоанна стремительно обернулась:
— Вам ли, рыцарю, принесшему обеты, говорить с дамой языком трубадуров?
— У меня есть глаза и сердце. То, что я сказал, — всего лишь слова. У меня и в мыслях не было оскорбить вас. А теперь отправляйтесь к сэру Обри, как и надлежит благонравной супруге.
Однако Обри де Ринель сам заявил о себе, причем неожиданным образом: испуская истошные вопли, он внезапно выскочил на опоясывавшую внутренний двор караван-сарая галерею и заметался там, размахивая руками, словно пытался стряхнуть с себя нечто ужасное. В его возгласах звучал неподдельный страх.
— Ну что опять! — воскликнула леди Джоанна, стремительно бросаясь к мужу.
Рядом со своим господином уже находился капитан Дрого — обхватив сэра Обри, он изо всех сил удерживал его, словно опасаясь, что лорд вот-вот вырвется и исчезнет в темноте. Леди Джоанна принялась успокаивать мужа, гладя его волосы и щеки, но тот лишь вздрагивал и пытался ее оттолкнуть.
Подоспевший Мартин поинтересовался — чем вызван переполох?
На это сэр Обри, задыхаясь, ответил:
— Исчадием ада — иначе и не скажешь! Я едва не погиб кошмарной и бесславной смертью!..
Капитан Дрого выступил вперед. В свете факела блеснул его кинжал. На острие клинка виднелось нечто бесформенное. Только приглядевшись, Мартин понял, что перед ним останки малоазийского тарантула — крупного мохнатого паука, одним укусом способного умертвить верблюда.
— Хорошо, что господин вовремя заметил эту нечисть!
Мартин обернулся — на шум уже сбегались погонщики, слуги, оруженосцы. Кое-кто с насмешкой поглядывал на испуганного англичанина.
— Поистине опасное создание, — заметил рыцарь. — Укус его неглубок, но яд проникает в кровь очень быстро. Человек корчится в судорогах, испытывая жгучую боль, потом начинает задыхаться и, наконец, падает замертво. Противоядий не существует.
Сэр Обри застыл, внимая словам рыцаря, а затем истерично расхохотался. Заметив среди тех, кого привлекли его вопли, каравановожатого Евматия, англичанин ринулся к нему, схватил за горло и принялся яростно трясти.
— Проклятый схизматик! — бешено рычал он. — Ты взял с нас плату, заверив, что в пути нам ничего не грозит!.. Наглый пройдоха! Я вытрясу из тебя все эти деньги до последнего пенни!..
Не так-то просто оказалось оттащить сэра Обри от полузадушенного грека — англичанин был силен, как бык. Евматий, плотный коренастый человек, после того, как удалось оторвать руки сэра Обри от его гортани, рухнул на колени, кашляя и жадно хватая воздух широко разинутым ртом.
— Я сам швырну вам в лицо эти монеты, господин, — прохрипел он, с трудом поднимаясь и оправляя одежду. — Лишь бы никогда больше не видеть вас и не слышать вашего голоса!
— Не только вернешь, — ухмыльнулся Обри, — а вдобавок заплатишь за то, что подверг жизнь благородного рыцаря смертельной опасности!
— Сэр, но ведь вовсе не наш каравановожатый поселил в этих пустынных краях тарантулов, — язвительно заметил Мартин.
В ответ на его слова в толпе зевак послышались смешки. Леди Джоанна, убеждавшая мужа успокоиться и прекратить бессмысленную ссору, одарила госпитальера сердитым взглядом.
Однако сэр Обри не унимался, и тогда его супруга отступила на шаг и холодно произнесла:
— Прекратите, милорд! Ведите себя как высокородный лорд, а не скаредный меняла!
Это было жестокое оскорбление. Причем нанесенное в присутствии простолюдинов.
Леди Джоанна мгновенно поняла свою ошибку. Закрыв лицо покрывалом, она поспешила скрыться за дверью.
В толпе кто-то подлил масла в огонь:
— Только неразумные франки позволяют своим женам вести себя столь дерзко!
Сэр Обри остался стоять, глядя в землю. Его длинные соломенные волосы упали на лицо. Когда же к нему приблизился капитан Дрого, рыцарь вздрогнул и внезапно наотмашь ударил воина в лицо тыльной стороной ладони. Из разбитых губ и носа Дрого хлынула кровь.
Камеристка Годит, бросив полный негодования взгляд на своего господина, протянула капитану платок.
Мартин обратился к свидетелям этой сцены, все еще толпившимся под галереей.
— Не пора ли нам отдохнуть, друзья мои? Завтра предстоит нелегкий день!..
Несколько позже, когда постояльцы караван-сарая уже отходили ко сну, в дверь комнатушки, отведенной Мартину, постучали.
В помещении была всего одна лежанка, поэтому Эйрик устроился у порога, расстелив на глинобитном полу свой плащ. Стук в дверь заставил его моментально вскочить, но Мартин сам отодвинул засов.
Перед ним стоял Обри де Ринель.
— Сэр рыцарь, прошу позволить мне переночевать с вами.
Брови госпитальера изумленно поднялись. Он молчал, не предлагая незваному гостю войти.
Тот внезапно подался вперед, протянул руку и коснулся щеки Мартина. Госпитальер отпрянул. В этом жесте сквозило нечто женственное.
— Между нами, как мне показалось, сложились доверительные отношения, сэр Мартин. И сейчас, после того… после того, как супруга оскорбила меня… я не могу оставаться с нею. Сейчас глубокая ночь, и мне не к кому больше обратиться…
Мартин какое-то время смотрел на Обри, а затем, не произнеся ни слова, захлопнул дверь перед его носом.
ГЛАВА 5
Караван приближался к богатой Дорилее. Теперь перед путниками расстилалась, радуя взор, плодородная равнина. Многие уже предвкушали отдых после изнурительного перехода по унылым каменистым плоскогорьям. Там и сям зеленели оливковые рощи, сверкала в лучах заходящего солнца река, в зарослях кустарников щебетали птицы. Стены укрепленного города, сложенные из циклопических каменных блоков, казались надежной защитой, но не менее отрадным было известие о том, что в окрестностях Дорилеи немало горячих источников, многие из которых слывут целебными и возвращают силы.
По прибытии люди и животные разместились на постой. Мартин немедленно отправился на конюшню. Эйрик уже расседлал его скакуна, насухо вытер потные бока саврасого и накинул на него легкую попону. Завидев мнимого госпитальера, он объявил:
— Надеюсь, в следующий раз не я, а ты будешь оруженосцем, слугой, конюхом и поваром в одном лице. Вот тогда-то ты наконец поймешь, каково приходится бедному варангу!
— Не будем загадывать, — улыбнулся Мартин, думая о Руфи, которая нетерпеливо ждет его возвращения. — Всякое может случиться.
Образ девушки возник перед его глазами, и рыцарю пришлось сделать усилие, чтобы вернуться к действительности. Сейчас следовало кое-что обсудить с рыжим.
Они знали, что в Дорилее каравану предстоит разделиться: одна его часть под водительством того же Евматия двинется через ромейские владения на запад, к побережью Средиземного моря, другая повернет на юго-восток и углубится во владения Конийского султаната. В Дорилее к обеим частям каравана присоединятся новые люди, поэтому следует быть начеку.
Мартин умолк, заметив, что Эйрик слушает его вполуха, время от времени таинственно улыбаясь в рыжие усы. В ответ на вопрос о том, чему, собственно, он радуется, приятель ухмыльнулся:
— Вчера, вскоре после того, как сэр Обри, впав в ярость, разогнал своих людей, мне удалось-таки окончательно поладить с хорошенькой козочкой, горничной твоей надменной недотроги. Им пришлось ночевать где попало: кому под повозками, кому в конюшне. А я, как ты знаешь, парень не промах, потому и сумел пробраться на сеновал к душечке Санниве и приголубить красотку… Мало того: она оказалась девицей, и теперь мне, как и полагается в таких случаях, придется на ней жениться. Это я ей твердо обещал.
Мартин едва не расхохотался. Его любвеобильный приятель уже имел с пяток жен, разбросанных по всему свету, при случае навещая каждую и одаривая очередным младенцем. Такое положение вещей нисколько не обременяло совесть рыжего язычника, и при случае он любил похвастать, сколько тратит на воспитание своих отпрысков.
Неожиданно Эйрик, словно позабыв о недавних любовных приключениях, произнес:
— Мне бросилось в глаза, что во время сегодняшнего перехода нашего высокородного друга Обри окружали какие-то подозрительного вида сельджуки. Особых причин для этого не было — он как будто примирился со своей леди. Она, разумеется, малость погорячилась, зато на следующий день была с ним так мила, что и монах-пустынник бы растаял. Сверх того, леди Джоанна умудрилась поладить с каравановожатым Евматием, хотя тот уже был готов вернуть сэру Обри деньги и распрощаться со столь неуживчивым и сварливым попутчиком. Тем не менее англичанин на протяжении всего дня избегал общества супруги и ее тамплиеров, а вместо этого свел знакомство с тюрками. Двое из них знают язык франков, но, на мой взгляд, все они — грязное отребье. Нет, не так: оружие у них недурное, в седле они держатся как воины, но физиономии их таковы, что лучше бы не встречаться с ними в безлюдных местах. Ну, разве что для того, чтобы зарубить двух-трех…
— Тебе следовало сразу сообщить об этом, — заметил Мартин. — Семейство де Ринель и все, что в нем происходит, нельзя терять из виду ни на миг. Ты едешь в их свите, а я пока держусь в стороне, и когда голова каравана уже спускается в долину, его хвост еще тащится на подъем. К тому же мне трудно следить за сэром Обри. Уж слишком он любезен со мной, разрази его гром!
— Не только с тобой, как выясняется, — хмыкнул Эйрик. — Рыцари-единоверцы с ним холодны, а он, словно в отместку, окружил себя неверными. Что касается моей заминки с докладом о сельджуках, то тебе, по-моему, сегодня было не до них. Я видел, какими взглядами вы обменивались с красоткой Джоанной: ну чисто подростки во время службы в церкви!
— Пока и этого довольно. Леди Джоанна не из тех, с кем легко поладить на сеновале. Ашер бен Соломон ошибся, считая ее пустоголовой ветреницей. Она неплохо образованна и здраво судит о многих вещах. Да, ей нравится мужское внимание, но, в первую очередь, ее интересуют разные люди — она беседует с греческими священнослужителями и пилигримами, с ромейскими патрикиями, монахинями-бенедиктинками, следующими в Памфилию, с купцами и проводниками. У нее живой, общительный нрав. Вместе с тем приходится признать, что Ашер поставил меня в затруднительное положение, решив, что сестра Уильяма де Шампера с большей благосклонностью отнесется ко мне, если я стану носить вот это.
Его ладонь легла на черную ткань котты, надетой поверх кольчуги. На ней резко выделялся белый крест ордена Святого Иоанна.
— Наш господин, наделив меня обличьем иоаннита из Намюра, не учел того, что сестра маршала тамплиеров наверняка знакома с уставами рыцарских орденов, будь то тамплиеры или госпитальеры. Леди Джоанна проводит немало времени в кругу храмовников, но я внимательно наблюдал за ней и не заметил в ее манерах ни легкомыслия, ни игривости. Она ведет себя с рыцарями как дама, вверенная их попечению, но не нарушает приличий.
— Ба, да ты, оказывается, знаешь о ней не меньше, чем я! — Физиономия Эйрика вынырнула чуть ли не из-под брюха коня — он как раз менял солому в стойле. — А ведь я немало повертелся среди ее свиты, даже угрюмого Дрого сумел расшевелить, несмотря на то, что он только и делает, что следит за своей госпожой — как бы кто не причинил ей беспокойства. Она и в самом деле госпожа для своих людей, а крикун Обри для них — пустое место… Но все-таки скажи мне, Мартин… — Эйрик засыпал в кормушку порцию ячменя и тылом ладони отбросил упавшую на лоб рыжую височную косицу. — Скажи: по душе ли тебе то, за что ты взялся? Ведь ты и Руфь… Да погоди гневаться! Ведь глаза у меня на месте, и как бы ни была мне мила малышка Саннива, я не могу не видеть, что ее госпожа — красавица, каких поискать.
Мартин не успел ответить — у входа в конюшню послышались шаги, голоса, перестук копыт. Посторонившись, чтобы пропустить слугу, который вел коня вновь прибывшего путника, он вышел во двор караван-сарая. Затем отыскал якобы дремавшего в тени Сабира и сообщил ему о том, что Обри де Ринель свел знакомство с подозрительными сельджуками.
Сабир и без того успел обратить внимание на эту странность и попытался прощупать единоверцев, к которым вдруг стал благоволить английский лорд. Не тут-то было — сельджуки и близко не подпустили его к себе, прогнав со словами, что он позорит веру Пророка, прислуживая врагу ислама. Сами же они продолжали, словно осы вокруг меда, виться вокруг англичанина, то заводя с ним доверительные беседы, то внезапно умолкая, если вблизи оказывались чужие уши.
Поразмыслив об услышанном, Мартин поведал другу, что сэр Обри еще в первые дни путешествия изловчился раздобыть у кого-то из тех, кто следовал с караваном, гашиш. Они с Сабиром сошлись во мнении, что подозрительные тюрки вполне могут оказаться торговцами этим дурманящим зельем. Такие люди в землях мусульман стоят вне закона. Этим и объясняется то, что они держатся отчужденно со всеми, за исключением англичанина, отведавшего гашиша.
Да и с Мартином сэр Обри был холоден и немногословен с тех пор, как Мартин захлопнул свою дверь перед его носом. Однако эта перемена его не волновала: главное, что во время последнего перехода он сумел на короткое время оказаться с глазу на глаз с леди Джоанной и немного побеседовать с дамой. Всего несколько учтивых фраз и короткий обмен мнениями о лошадях местных пород, которых было немало в составе каравана.
К сожалению, их беседу прервал Иосиф, окликнувший Мартина. Едва молодой еврейский купец приблизился, как Джоанна де Ринель дала шпоры своей лошади и вернулась в головную часть каравана, а Мартину пришлось задержаться с сыном Ашера в придорожной кузнице, поскольку пегий мерин Иосифа потерял подкову. Когда оба нагнали ушедший далеко вперед караван, Джоанна уже ехала рядом с мужем, а хмурый взгляд сэра Обри ясно давал понять, что ничье общество для него сейчас нежелательно.
Столь же неприветлив он был и наутро после ночевки в Дорилее. Мало того: едва Мартин приблизился, как сэр Обри надменно обронил:
— Вы становитесь навязчивы, сэр!
Мартин мысленно послал его в преисподнюю, а заметив камеристку Годит, попытался разузнать, где ее госпожа. Оказалось, леди занята самым что ни на есть важным делом: пересматривает свои наряды, готовясь к дальнейшему пути. Рыцарь передал поклон госпоже, а сам, пользуясь временем, оставшимся до того, как караван покинет Дорилею, отправился прогуляться с Иосифом.
Друзья рассеянно бродили по городу, осматривали здешние храмы, на куполах которых в прошлом ромейский крест не раз сменялся золоченым полумесяцем. Звонили колокола, прихожане спешили к службе, не обращая внимания на призывы торговцев в чалмах, предлагавших свой товар под полосатыми навесами уличных лавчонок.
После великолепного Константинополя, шумной Никеи и оживленной Прусы Дорилея казалась провинциальным захолустьем, хотя и считалась в империи важным городом-крепостью. Побывали они и у горячих источников, не преминув погрузиться в их целебные воды, а затем, немного передохнув, решили продолжить прогулку за городскими стенами.
День выдался солнечный и ясный. Неподалеку, скрытая зарослями ив, журчала небольшая речушка. Друзья расположились у родника, бившего среди камней, и стали закусывать лепешками, вином и сыром, купленными в Дорилее. Вокруг колыхались изумрудные перья папоротников, в траве виднелись золотистые головки цветов.
Сидевший на покрытом лишайниками камне, Иосиф снял свою высокую желтую шапку — традиционный головной убор людей его народа, ветер играл завитками его густых и черных как смоль волос. Мартин, полулежа на траве, разглядывал друга, думая о том, что такие же непокорные и темные волосы у его Руфи. Однако, в отличие от сестры, Иосиф не был красавцем: невысокий и полный, с удлиненным лицом, на котором выделялся крупный нос, с чересчур близко посаженными глазами и выступающими вперед зубами. Но все эти недостатки окупались живым умом, добродушием и непринужденной обходительностью. Родители подыскали Иосифу соответствующую его возрасту и положению невесту, и Иосиф, все еще тосковавший по покойной супруге, без сопротивления принял волю отца. Возможно, и его невеста точно так же смирится с выбором родителей и примет того мужа, которого они избрали для нее. Равенство в положении, общие вера и традиции, уважение друг к другу — нет никаких сомнений, что молодые заживут душа в душу, связанные общим хозяйством, детьми и родственниками. Может, евреи и впрямь избранный Богом народ и знают о жизни нечто такое, что не известно другим?
— Иосиф, ответь мне: твой отец не изменит свое решение — в том, что касается меня и Руфи?
Сын Ашера бен Соломона опустил свою узкую и смуглую, никогда не знавшую рукояти меча или плуга руку на широкое плечо рыцаря.
— Я говорил с ним о вас, и он подтвердил свои слова. Теперь все зависит от тебя. Поверь, если бы это было не так, я бы не смог сейчас говорить с тобой и смотреть тебе прямо в глаза.
Внезапно молодой человек смутился.
— Мне известно о поручении, которое дал тебе отец… Я имею в виду эту английскую даму… Поверь, друг мой, он бы никогда не вынуждал тебя сойтись с ней, если бы заранее знал о твоих намерениях в отношении Руфи. Но все уже было в ходу, план осуществлялся, и никто ничего не мог изменить или отменить. Отец не скрыл этого от меня, ведь теперь я его единственный сын и наследник…
Он на миг задумался, отщипывая крошки от свернутой в трубку тонкой лепешки и бросая их в чашу родника, где вились мелкие рыбешки.
— Я не так хорошо разбираюсь в людях, как отец, меня готовили к другому — вести торговые дела, заключать сделки, руководить лавками и мастерскими. Однако я знаю, кто такой Уильям де Шампер. Это непримиримый фанатик, одержимый безумной гордыней. Поэтому мне кажется, что искать поддержки такого человека, тем более принуждать его к этому — слишком большой риск.
Мартин не ответил. Приподняв маленький мех, он откупорил пробку и сделал пару глотков. Здешнее вино было темно-красным, как кровь, немного терпким и припахивало смолой.
Рыцарь протянул мех Иосифу, но тот, словно не заметив, продолжал:
— Я не знаю, как пойдут у тебя дела в Акре. В Киликии, в городе Сис, меня ждет невеста — благонравная Наоми, дочь Биньямина. Но сразу же после свадьбы я намерен отправиться в Антиохию. Я люблю тетушку Сарру и своих кузенов, тревожусь о них, но знаю, что вывезти их из крепости будет непросто. И я хочу быть если не рядом, то, по крайней мере, неподалеку, на тот случай, если тебе и ей понадобится помощь. Кто же поможет тебе, если не я?
Мартин отвернулся, чтобы Иосиф не заметил, что на глазах у него — непрошеные слезы. Но молодой человек и без того все понял.
— Ты не должен стыдиться меня, друг мой. Эта твоя скрытность… Я знаю, когда ты стал таким, как сейчас: в ту пору, когда вернулся от ассасинов. А ведь до этого мы вместе гоняли голубей, кормили бездомных собак и лазили в соседский сад за незрелыми фигами.
— Помнится, ты тогда свалился с ограды, вывихнул лодыжку, и мне пришлось тащить тебя домой на плечах, — улыбнулся Мартин. — Но позже ты ни словом не обмолвился о том, что это я уговорил тебя, послушного еврейского мальчика, нарушить восьмую заповедь и забраться в чужой сад. Чтобы меня не наказали.
— Разве тебя когда-нибудь наказывали? — удивился Иосиф.
Мартин снова отхлебнул вина, глядя, как в чаше родника шевелятся серебристые струи холодной как лед воды.
— В доме Ашера бен Соломона? Никогда. Скорее баловали. И зря. Живя в мире, любви и покое, я лишь с огромным трудом смог привыкнуть к тому, что ожидало меня в Масиафе — твердыне ассасинов.
— Тебя избивали? — негромко спросил Иосиф.
Рыцарь откинулся на траве и заложил сильные руки за голову. Бездонное апрельское небо сияло, в вышине играли орлы, с пастбищ доносилось блеяние ягнят.
Он молчал, ибо ответ на этот вопрос мог напугать Иосифа. В Масиафе ему и впрямь пришлось туго, и тогда он искренне не понимал, почему Ашер поступил с ним так безжалостно. Лишь позже тот все объяснил: еврейской общине нужен хорошо обученный воин-защитник, лучший из лучших, тот, кто умеет действовать в одиночку, как целая армия. А такую выучку можно было получить лишь в закрытых от мира школах ассасинов.
— Это было непросто, Иосиф, но у меня была цель, — все же ответил он другу, не желая длить молчание. — Меня научили многому: быстро соображать и принимать решения, владеть любым оружием и держаться в седле так, словно ты и лошадь — одно. Я освоил географию и науку счета, языки многих народов — сельджуков и персов, арабов и франков, итальянцев и германцев. Я узнал тонкости обычаев и нравов людей разного вероисповедания, детали их ритуалов, и позже все это мне весьма пригодилось.
Он приподнялся и снова протянул мех Иосифу, но тот хотел не вина, а новых рассказов о жизни в таинственном Масиафе. И рыцарю пришлось поведать своему любознательному другу о том, как наставники обучали его тонкой науке смешивания ядов, умению предсказывать погоду, метать без промаха кинжал на пятьдесят шагов, сражаться копьем и фехтовать любым клинком.
— Должно быть, тебе следует благодарить своих учителей, — заметил было Иосиф, но осекся: лицо Мартина омрачилось. — Прости меня… Я всего лишь хотел сказать, что видел, как ты упражнялся вместе с Сабиром и Эйриком. Ты намного проворнее их.
— Ты льстишь мне, — искренне рассмеялся Мартин. — Сабир и Эйрик — лучшие из воинов, каких мне доводилось видеть. Эйрик, например, умеет то, что мне никогда не давалось: он не только может отражать натиск врага, перебрасывая меч из руки в руку, но может биться двумя клинками одновременно. Это редкое мастерство. Что касается Сабира… У него острый, как у сокола, глаз и тонкий слух. Он все замечает и делает верные выводы. А какой он стрелок из лука, я не буду и говорить — это надо видеть самому. Эти двое стоят всех тех наемников, которых отец отрядил с тобой в Киликию… А я… Да, у ассасинов я научился подниматься по отвесным скалам и стенам, могу с одним бичом в руках обезоружить любого противника. Неплохо владею саблей — как тюркской, так и персидской. Но когда позднее мне довелось поучиться у христиан, многие навыки мне не пригодились. Сабля остра и стремительна, она рубит и одновременно режет, тут очень важна работа кисти руки, но эта манера боя оказалась никуда не годной, когда я облачился в доспехи и взялся за меч. Тут понадобился совсем иной удар — невероятно сильный, точный, колющий или рубящий. Недаром именно франкские рыцари считаются лучшими воинами в поединках один на один — и я готов это подтвердить. Воинским мастерством я обязан все-таки европейцам. А ассасины — они не воины. Они действуют тайно. Их оружие — засада, удар из-за угла, кинжал, яд, шелковая петля.
Иосиф задумчиво потер бородку. Его густые брови хмурились.
— Поступать так — отвратительно! Но я знаю и то, что мой отец немало платит этим людям, поддерживает с ними связь и считает это необходимым и выгодным. И твое обучение обошлось ему недешево.
Мартин прикрыл глаза, собираясь с мыслями. Когда же он заговорил, лицо его выглядело почти безмятежным.
— Я благодарен Ашеру бен Соломону за то, что он, отдав меня в обучение ассасинам, позаботился, чтобы из меня не сделали фанатика-фидаи,[69] безраздельно повинующегося Старцу Горы.[70] Со мной редко говорили о великом имаме, равном могуществом Пророку; когда же прочие ученики сидели над Кораном, слушая толкования сур, меня отправляли либо на выездку лошадей, либо заставляли карабкаться на башню, на вершине которой находилась еда… Превосходная еда, а мы, ученики, постоянно были голодны. Взобраться на высоту ста локтей по отвесной стене, чтобы впиться зубами в грудку жареного фазана… о, это было восхитительно! Я не обижался, когда другие мальчишки-ученики дразнили меня, утверждая, что мне никогда не воссияет свет истины. Намного хуже бывало, когда мне приходилось упражняться в метании кинжала на живых людях… узниках Масиафа. Да-да, Иосиф, я рано научился убивать, но тогда я не задумывался об этом. Меня хвалили за меткость, и я старался стать лучшим из лучших. И все же… Каковы бы ни были ассасины, в открытой схватке им не сравниться с воинами Запада, хоть они держат в страхе всю Азию, перед ними трепещут эмиры и султаны, а многие платят им дань только за то, чтобы их оставили в покое. Вот почему люди Старца Горы так богаты, а золото открывает перед ними самые надежные двери.
— Но почему же ассасины воюют со своими единоверцами?
— И тут все не просто. Тебе известно, что между христианами существует раскол — одни почитают патриарха Константинопольского, другие Папу Римского. Так же и в исламе пять столетий назад произошло разделение на суннитов и шиитов. Спустя сто лет в среде шиитов выделилась группа исмаилитов — взявших имя Исмаила, сына имама Джафара, лишившего его права наследования. Они верили, что Аллах наделил человека неограниченной свободой воли. И самые воинственные из исмаилитов стали ассасинами. Сами себя они называли иначе, но так нарекли их европейцы, полагавшие, что ассасины, или хашишины, одурманиваются гашишем. Но теперь слово «ассасин» во всех языках Европы означает одно — «убийца». Их боятся и преклоняются перед ними, ибо их законы прощают им любые преступления.
— Что же это за законы? — спросил Иосиф.
— Они просты. Нет никаких запретов, если приказывает имам — их верховный глава, глас Аллаха на земле и врата райского блаженства.
Иосиф сорвал травинку и стал задумчиво жевать.
— Мне не нравятся такие законы. Даже христиане исполняют заповеди Господни. И что же — ассасины воюют только с мусульманами? А как же крестоносцы?
— О, крестоносцев они опасаются, но до определенного предела. Когда тридцать лет назад граф Триполи начал преследовать исмаилитов, они явили свое могущество, убив владетельного графа среди бела дня, прямо на городской улице и при большом стечении народа. Больше того…
Мартин потянулся к уху друга:
— Открою тебе одну тайну, малыш: именно они убили императора Фридриха Барбароссу.
— Не может быть! — возмутился Иосиф. — Всем известно, что император Фридрих утонул в реке Салеф, переправляясь через нее верхом. Течение там стремительное, император покинул седло и погрузился в воду, чтобы не отягощать скакуна. Но тут его рука выпустила поводья и…
— Да, говорят. — Мартин отправил в рот ломоть овечьего сыра, сдобренного травами, и запил его изрядным глотком вина. После чего взглянул на друга насмешливо: — Так говорят многие, но мало кто знает, как все было на самом деле. Император был задушен шелковым шнурком, ибо путь его воинства к Иерусалиму лежал через владения ассасинов. Рыцари-германцы умеют сражаться, весь их поход служит тому подтверждением, и Старец Горы не пожелал, чтобы эта рать в один прекрасный день оказалась под стенами крепости Масиаф. Для этого хватило всего двух фидаи, но из числа самых опытных, ибо они обычно гибнут, выполняя приказы, в ожидании, что перед ними отворятся врата рая. Эти же не только справились с делом, оставшись незамеченными, но и вернулись с донесением к своему имаму. Приближенным императора, опасавшимся, что их ждет казнь за то, что не уберегли Барбароссу, ничего не оставалось, как бросить убитого в реку и сделать вид, что конь государя вернулся в лагерь без хозяина. После того как тело императора было выловлено, германские рыцари сочли такую смерть предводителя дурным знаком и повернули назад — все, кроме его второго сына, который привел остатки воинства Барбароссы под стены Акры… Где его ждала скорая смерть от черной чумы.
Всю эту речь Мартин заключил неожиданно:
— В то же время главным своим врагом ассасины считают не христиан, а султана Саладина.
На лице Иосифа было написано полное недоумение.
— Но почему они ненавидят его? Ведь он доблестно сражается с крестоносцами под зеленым знаменем Пророка!
— Ассасины — шииты, причем самого крайнего толка, а Саладин — суннит. С тех пор как он стал султаном Египта, на шиитов обрушились жестокие гонения. И ассасины объявили ему тайную войну. Десятки убийц вышли на охоту за султаном, и лишь по счастливой случайности Саладину удалось избежать смерти. Однажды его спас телохранитель, который успел зарубить смертника-фидаи, второй раз Саладина выручила кольчуга, надетая под плащом. По слухам, после этого он собственноручно убил ассасина, схватившись с ним один на один. А затем повел своих воинов на Масиаф, решив стереть с лица земли это змеиное гнездо. Но закончился этот поход неожиданно — в итоге султан заключил союз со Старцем Горы.
— Как такое могло случиться? — поразился Иосиф.
Мартин неожиданно расхохотался. Он сел, выпрямившись, отбросил со лба непокорные пряди волос, и его синие глаза заблестели.
— Сказать по чести, и я сыграл в этом не последнюю роль.
Иосиф растерянно развел руками.
А бывший выученик ассасинов начал неторопливо рассказывать о том, как много лет назад, когда он был всего лишь двенадцатилетним подростком, обитатели крепости Масиаф были взбудоражены грозным известием: по ущельям и сухим руслам рек к твердыне ассасинов приближается неисчислимое войско свирепого гонителя шиитов Садах ад-Дина. Учеников, находившихся в крепости, не посвящали в суть предстоящих событий, но будущие фидаи уже владели искусством выведывать тайны — бесшумно подкрадываться, оказываться в нужное время в нужном месте, видеть и слышать скрытое. Так выяснилось, что Масиаф спешно готовится к длительной осаде.
Затем Мартина призвал его учитель — рафик Далиль — и объявил подростку, что ему, прозванному Тенью, предстоит выполнить задание, которое не под силу даже лучшим фидаи. Ему придется пробраться в лагерь Саладина, прикинувшись брошенным на произвол судьбы франкским сиротой. Это не вызовет особых подозрений, никто не примет его за лазутчика из Масиафа и, скорее всего, его не убьют сразу — султан не одобряет убийство детей, в том числе и детей кафиров. И тогда Тень должен попытаться проникнуть в шатер Саладина.
Иосиф слушал друга с едва скрываемым страхом. Наконец он спросил:
— Неужели тебе, еще ребенку, приказали убить благородного Салах ад-Дина?
— О нет! Я всего лишь должен был передать послание, в котором Старец Горы предлагал султану тайно встретиться. И я с этим справился! — В ровном голосе Мартина даже сейчас слышались горделивые нотки. — Я сумел пробраться к самому шатру, я ел пищу, которую мне, изможденному, предложили его слуги, а затем, улучив момент, вонзил в изголовье ложа султана кинжал ассасина, пригвоздив к нему послание Старца… Но, уверяю тебя, уже тогда я не был послушным фидаи, бессловесным орудием в руках моих наставников. Я был любопытен, поэтому прочитал то, что было написано в этом пергаменте, и узнал, где находится место будущей тайной встречи имама с султаном. Мне хватило легкомыслия, чтобы не задумываться о том, что меня могут убить на месте, узнав, откуда я прибыл. И действительно — когда поднялся переполох, телохранители Саладина едва меня не зарубили. Но я и в самом деле был хорошим учеником в Масиафе и сумел избежать сабель султанских мамлюков.[71] Я ускользнул и понесся по лагерю, петляя среди шатров и палаток, увертываясь и прячась. Наконец, осыпаемый градом стрел, я вскарабкался на отвесный склон ущелья и стал недосягаем для преследователей… Я справился с заданием, а позднее убедился в том, что Старец Горы и султан действительно встречались, вели переговоры и заключили соглашение о том, что разойдутся миром и впредь не станут вредить друг другу. Меня же по возвращении в крепость потребовал к себе сам Старец Горы, чье слово для ассасинов равно слову Пророка. На самом деле он не выглядел старцем, был крепок телом, весьма мрачен, а звали его Рашид ад-Дин Синан…
Тут Мартин неожиданно оборвал себя на полуслове.
«Я, кажется, выпил лишнего, если заговорил об этих вещах с Иосифом», — мелькнуло у него в голове. И хотя он мог довериться другу во всем, от одного упоминания имени таинственного Старца ему стало не по себе.
Приподнявшись, Мартин пристально оглядел окрестности. Вокруг все было тихо: ни малейших признаков чужого присутствия. Журчал ручеек, вытекавший из чаши родника, птицы в зарослях, в том числе и чуткие клушицы, вели себя спокойно, с соседней лужайки доносилось мирное блеяние овец.
И все же он не мог избавиться от озноба. Страх вошел в его душу вместе с произнесенным им именем. Ассасины вездесущи. И если опасности — его стихия, вовсе незачем подвергать им Иосифа, неспособного противостоять жестокой силе и коварству.
— Пора возвращаться, друг мой, — сказал Мартин, поднимаясь. — Уже вечереет, скоро закроют городские ворота.
Иосиф последовал за ним, больше не задавая вопросов.
Первым, кого увидел Мартин, ступив в пыльный двор караван-сарая, был Эйрик. Рыжий угрюмо восседал на ступенях, ведущих на сводчатую галерею, опоясывавшую двор.
Сабира поблизости не было — «подался в свою мечеть», по словам Эйрика, удрученного тем, что сегодня ему едва ли удастся повидаться с милашкой Саннивой. У господ из Незерби все вверх дном, прислуга приводит в порядок багаж и заново упаковывает поклажу. И зачем, спрашивается, эти знатные дамы возят с собой столько нарядов? Разве в пути не довольно одной крепкой и добротной одежки и нескольких пар белья?
Эйрик был сильно не в духе.
— Зря ты сегодня где-то шатался, вместо того, чтобы обхаживать свою леди, — ворчливо упрекнул он Мартина. — Смотри, малыш, проспишь все на свете. А ведь она сегодня, по сути, осталась без присмотра: и сэр Обри где-то пропадал, и храмовники весь день в отлучке. Никто бы и не покосился: кому какое дело. Тут у нас сегодня как в тымархане:[72] собирались те, кто держит путь через Конью, да и новые путники прибывали один за другим. Евматий сбился с ног — ему надо было всех учесть и собрать плату. Насчет нас говорит одно: выступим завтра после полудня. Да и сколько можно тут киснуть — пора бы уж заняться настоящим делом вместо того, чтобы дожидаться, пока сэр рыцарь наберется духу задрать подол одной английской красотке. Помнится, в Триполи ты был куда расторопнее с графиней Эшивой!
— Эйрик, я ведь уже не единожды просил: не напоминай мне о графине!.. — процедил сквозь зубы Мартин.
Рыжий варанг знал, что приятель не любит вспоминать ту историю. Но от чего бы и не подразнить его, если у самого дела не ладятся? Им приходится плестись с караваном, словно уцепившись за подол этой знатной англичанки, а тем временем под стенами Акры сейчас творятся великие дела. И уж если крестоносцы возьмут город — еврейке Сарре и ее детям наверняка не поздоровится. Плакали тогда их денежки, да и Ашер бен Соломон будет рвать на себе волосы. Малышу Мартину следовало бы не нянчиться с Иосифом, а подстеречь леди где-нибудь в укромном уголке, пока у них с мужем раздоры!
И он вновь вернулся к истории с графиней Эшивой, пропустив мимо ушей предупреждение Мартина.
— Эта престарелая дама с берегов Галилейского озера, о худосочных прелестях которой ты по сей день тоскуешь… — начал было он, не обращая внимания на то, как переменился Мартин в лице и как потемнели от гнева его глаза.
В следующее мгновение Эйрик едва успел перехватить занесенную для удара руку рыцаря.
— Ты глуп или оглох, Эйрик? Я ведь велел…
— Эй, эй, малыш, успокойся! Не то придется напомнить тебе, что я не какой-то там оруженосец, а тот, кто первым научил тебя парировать клинком выпады противника. И даже, бывало, отвешивал оплеухи за нерадение. Полагаю, что и сейчас у меня достанет сил намять тебе бока. То-то повеселятся в караван-сарае: оруженосец колотит гордого рыцаря-иоаннита!
Эйрик ухмылялся, скаля зубы, но глаза его оставались колючими. Благо откуда ни возьмись возник Сабир и вклинился между обоими.
Мартин вырвал зажатую, словно в тиски, руку и поднялся в свою комнату. Там он упал на лежанку и долго лежал без движения. За окном смеркалось, доносился скрип петель запираемых на ночь ворот караван-сарая и грохот тяжелых засовов.
Он погрузился в воспоминания.
Графиня Эшива де Бурэ была владелицей земель, простиравшихся вдоль берегов Тивериадского озера, которое некоторые называют Галилейским морем. В этих краях некогда проповедовал Христос, там же он в последний раз явился своим ученикам. Для христиан это были священные места, однако и евреи почитали Галилею своей, ибо она принадлежала им еще со времен Израильского царства. Вот почему они всячески старались проникнуть туда, селились на берегах Тивериадского озера, возделывали землю, сажали виноград и пшеницу, вели торговлю.
Графиня Эшива поначалу была немилостива к евреям — облагала высокими налогами и не препятствовала христианам их притеснять. Лишь после того, как в Тивериаде появился прекрасный рыцарь Арно де Бетсан, под его влиянием она стала менее сурова к сынам Израиля.
Эшива полюбила рыцаря Арно и, внимая его словам, не могла не признать, что иудеи — хорошие подданные. Они трудились без устали, исправно платили налоги и пошлины за право провозить свои товары, чинили дороги. В итоге казна правительницы Тивериады богатела, а сами евреи не доставляли никому беспокойства, живя замкнутыми общинами. Даже местный епископ не упрекал графиню за то, что в ее владениях процветает еврейская колония. Ибо в ту пору на устах у всех было иное: военные успехи султана Юсуфа ибн Айюба, прозванного Саладином. Он уже стал правителем Египта и Сирии, его власть признал багдадский халиф, ему покорилась Аравия, его воля заставила отступить правителей Конийского султаната.
Казалось, власть и могущество этого выскочки-курда растут не по дням, а по часам, но среди его обширных владений, как щит, осененный знаком креста, лежало Иерусалимское королевство… Поистине, никому не было дела до того, что на берегах Галилейского моря живут какие-то там евреи.
Мартин, — а рыцарем Арно де Бетсаном был именно он, — уже подумывал покинуть графство, считая свою миссию завершенной, да и графиня Эшива его уже порядком утомила. Она, бесспорно, была незаурядной женщиной и правительницей, но, казалось, до появления рыцаря Арно никогда не ведала, что такое любовь и страсть. Первый супруг оставил ее вдовой с детьми, за второго она вышла по расчету: Раймунд Триполийский был нужен ей в качестве сильного союзника, они неплохо ладили и уважали друг друга. Но однажды в минуту близости графиня сообщила «своему Арно», что ее супруг некогда получил жестокую рану в пах, после чего лишился возможности исполнять супружеский долг.
Несмотря на этот недостаток, Раймунд был мужествен и решителен, некоторое время он даже исполнял обязанности регента Иерусалимского королевства. Ему удалось укротить своевольных вассалов, получить поддержку рыцарских орденов и наладить отношения с Саладином, оценившим влияние и мудрость графа Триполийского. Между двумя правителями был заключен своего рода пакт о свободе торговли и ненападении — именно эти договоренности соперники Раймунда поставили ему в вину, утверждая, что граф продался неверным. В результате они добились отстранения его от регентства и удаления от Иерусалимского двора.
Позднее новый король Гвидо де Лузиньян предпринимал попытки примириться с Раймундом, но и он не испытывал доверия к графу, так как соглашение между Раймундом и султаном по-прежнему оставалось в силе. Тогда как многие из влиятельнейших феодалов королевства делали все для того, чтобы разорвать заключенное с султаном перемирие.
Но пока сохранялся хрупкий мир: Саладин наслаждался вновь обретенным могуществом и отдыхал от ратных трудов, а молодому королю Гвидо перемирие было необходимо, чтобы упрочить свое положение в Иерусалимской державе.
Мартину в то время нередко доводилось разъезжать по христианским владениям в Сирии, и он должен был признать, что там царил порядок: прекратились разбои на дорогах, паломники могли беспрепятственно посещать святые места, процветала торговля, возводились замки, прокладывались оросительные каналы, повсюду виднелись сады и виноградники. Даже подвластные королю Иерусалимскому мусульмане не желали смены власти, ибо получили возможность спокойно возделывать свои поля и торговать. Им даже не доводилось платить церковную десятину, которую вынуждено было отдавать церкви христианское население королевства.
Однако процветание государства крестоносцев устраивало далеко не всех. И одним из таких людей был Ашер бен Соломон. Благодаря настойчивым усилиям его ставленника Арно де Бетсана колония евреев в Галилее росла с каждым месяцем, но глава Никейской общины считал, что этого недостаточно. Слишком многие его соплеменники мечтали о возвращении на исконные земли предков.
Ашер бен Соломон вступил в секретную переписку с султаном и добился того, что Саладин обещал предоставить еврейскому народу куда более весомые привилегии, нежели христианские правители. Графиня Эшива, пусть и находившаяся под влиянием своего любовника, не могла дозволить евреям большего, не рискуя быть обвиненной в нечестии. Тогда как у Ашера была одна цель, всегда жившая в сердцах евреев: возвращение на Землю Обетованную.
Вместе с тем Саладин не забывал о данной им некогда клятве — вести священный джихад до полного изгнания неверных из Леванта. Султан искал повод к началу военных действий, и таковой вскоре представился: некий отчаянный рыцарь по имени Рено де Шатильон напал на торговый караван, вместе с которым следовала родная сестра Саладина. Несмотря на то что женщине не причинили вреда, одно то, что к ней мог прикоснуться презренный кафир де Шатильон, опорочило ее.
Султан потребовал от короля Гвидо наказать наглеца. Но король был слаб, а Рено пользовался среди сирийских христиан славой отважного борца с неверными. Тогда-то Саладин и решил возобновить войну. И первый же его удар был нацелен на земли Галилеи. Ашер бен Соломон вызвался всячески содействовать ему в этом, при условии, что султан разрешит его соплеменникам селиться там без всяких ограничений.
Мартин-Арно все еще пребывал при дворе графини Эшивы, когда на Тивериаду обрушились летучие отряды всадников Саладина и взяли в кольцо черную базальтовую твердыню замка. Дело было в разгар лета, и графиня здраво рассудила, что в такую жару войско мусульман едва ли способно на длительную осаду. Могучий Тивериадский замок устоит, жара и отсутствие корма для лошадей доведет эмиров Саладина до исступления, и они поспешат увести отсюда своих людей. Эмиры подчиняются Саладину, но, в первую очередь, им необходимо заботиться о собственных владениях.
Так было решено отправить к Иерусалимскому двору гонца с просьбой: пусть король Гвидо начнет собирать войска, и пусть эта весть как можно скорее достигнет ушей султана и его эмиров. Но королю не придется вступать в бой — слухи о готовящемся походе крестоносцев погасят воинственный пыл увязших под Тивериадой сарацин. Остальное сделают жара, пыль, недостаток провианта и фуража.
Графиня Эшива действовала как опытный полководец. Но не учла одного: первым же смельчаком, вызвавшимся прорваться сквозь кольцо осады и доставить послание королю, оказался Арно де Бетсан, отрада и услада ее сердца. Графиня была ошеломлена, но не решилась проявить слабость на глазах у подданных, и дала согласие.
Она горячо молилась о своем рыцаре, не предполагая, что ее посланец исполнял не ее, а чужую волю: Ашер бен Соломон велел Мартину заманить крестоносцев в ловушку. План этот был составлен загодя при участии султана Саладина; посланца уже ждали за пределами стен осажденного замка, чтобы вручить ему письмо иного содержания, на котором стояла поддельная печать Эшивы Тивериадской. В нем содержалось нечто совершенно противоположное: графиня якобы умоляет рыцарей Иерусалима не медлить ни часа и выступить в Галилею на помощь держащейся из последних сил Тивериаде.
Мартин хорошо помнил этот путь: нестерпимая жара, полное безветрие, воздух, наполненный мельчайшей ржавой пылью и неисчислимое войско сарацин, которое он миновал без всяких помех. Затем, уже в Иерусалиме, он — пропыленный, со спутанными волосами, окрашенными хной, с неряшливой щетиной на щеках, вовсе не похожий на того щеголя, с которым прогуливалась в своих садах графиня Эшива, — предстал в башне Давида перед Гвидо де Лузиньяном и поведал, какого труда ему стоило пробраться через заставы неверных, чтобы доставить королю отчаянную мольбу своей госпожи.
Ему поверили. Единственным, кто усомнился, был супруг Эшивы — Раймунд Триполийский. Он знал ее несгибаемую волю и прочность стен Тивериады и не мог понять, отчего она так слезно молит о помощи. Даже печать на пергаменте не рассеяла сомнений графа. С презрением взглянув на мнимого Арно де Бетсана, он заявил, что здесь дело нечисто, и поскольку графиня — его жена и он отвечает за нее перед Богом, то ему и решать, действительно ли она нуждается в помощи.
Но там, в башне Давида, не все зависело от сурового Раймунда. При свете факела в полутемном зале находились и другие: сам король Гвидо де Лузиньян, магистр ордена тамплиеров Жерар де Ридфор и престарелый глава госпитальеров Эрментар д'Асп. Был здесь и непримиримый Рено де Шатильон, по чьей вине было прервано перемирие с Саладином. Вот они-то были готовы верить посланцу графини, а не ее мужу, о котором было известно, что он в дружбе с Саладином и порой пропускает через свои земли его отряды. В этом они и обвинили графа Раймунда, назвав его изменником, готовым пожертвовать супругой ради преступного сговора с врагом Христа и Иерусалимского королевства.
Да и сам Гвидо де Лузиньян, мечтательный златокудрый рыцарь с лицом архангела и плечами атлета, тоже был не прочь показать, что Господь не лишил его полководческого дара. Он получил корону только потому, что его выделила среди придворных наследница Иерусалимского королевства Сибилла,[73] успел прослыть образцом рыцарских добродетелей, и теперь во всеуслышание воззвал к собравшимся, заявив, что все они лишатся чести, если не ответят на призыв дамы о помощи.
Граф Раймунд скрепя сердце был вынужден уступить. Он понимал: чем убедительнее будут звучать его доводы против похода в разгар адской жары, тем глубже станут подозрения в его измене. В довершение всего ему было приказано выступить в авангарде иерусалимской армии, чтобы Саладин, буде он окажется под Тивериадой, убедился, что его былой союзник верен не ему, а своему христианскому королю. Только так граф Раймунд сможет смыть подозрения, павшие на него из-за связей с неверным.
Вот тогда-то Мартину и следовало бы исчезнуть. Но явился рыжий Эйрик с посланием от Ашера бен Соломона, которому, в свою очередь, дал поручение сам султан: любой ценой добиться, чтобы граф Триполийский не принимал участия в битве. Саладин не предавал тех, с кем хотел мира, и желал позаботиться о союзнике. И Мартину пришлось присоединиться к отряду Раймунда — единственного человека, который ни на грош не доверял ему и был настроен крайне враждебно.
Это военное предприятие не заладилось сразу. Воинство Иерусалимского королевства, хоть и было снаряжено в очень короткий срок, значительно уступало по численности отрядам Саладина. К тому же ему предстояло совершить длительный переход по пустынной, безводной и гористой местности, где не было ни одного оазиса. Рыцарей, облаченных в доспехи, жара одного за другим валила с коней.
Граф Раймунд, здраво оценив положение, предложил добраться до местечка Ла Сафури, где имелись обильные источники. Там рыцарское воинство могло передохнуть, ни в чем не испытывая нужды, а его предводители — обсудить планы дальнейших действий. Однако его предложение было расценено как подозрительная попытка задержать крестоносцев в пути, тогда как на самом деле Раймунд стремился только к одному — уберечь лучшие силы Иерусалимского королевства от неминуемого разгрома.
В пути Мартину пришлось нелегко: граф по-прежнему донимал его расспросами о том, как гонцу удалось вырваться из кольца сарацин, почему послание графини написано почерком, не похожим на почерк капеллана замка, которому всегда доверяли перебелять самые важные документы, и по какой причине графиня Эшива ничего не передала супругу на словах, как делала это всегда.
Ответы у мнимого Арно де Бетсана были наготове, но и эти вполне правдоподобные объяснения не рассеяли сомнений Раймунда Триполийского.
Впрочем, вскоре графу стало не до того: советники убедили короля Гвидо вывести войско из хорошо укрепленного и обеспеченного пресной водой лагеря в Ла Сафури и двинуться через мертвую пустыню к Тивериадскому озеру. Раймунд в отчаянии заявил, что теперь все пропало, но не смог не подчиниться приказу Гвидо де Лузиньяна, всецело подпавшего под влияние магистра тамплиеров Жерара де Ридфора и рвавшегося в бой Рено де Шатильона.
Предстояло преодолеть всего двенадцать миль, но многотысячное воинство под палящим солнцем продвигалось крайне медленно и в конце концов растянулось в длиннейший караван. К закату так и не удалось добраться до воды, и король приказал разбить лагерь в долине Хаттин.
Здесь их уже ждали.
Не успели крестоносцы раскинуть походные шатры, как лазутчики Саладина подожгли траву и сухой кустарник, в изобилии росший вокруг лагеря. К мукам воинов, изнуренных жаждой, добавились жар пламени и густой дым, не позволявший дышать. Тем временем легкая кавалерия сарацин обрушила на лагерь тучи стрел из луков и арбалетов. На спешном военном совете было принято решение немедленно атаковать неверных.
Битва была жестокой, отчаянной — и заведомо обреченной. Рыцари и их кони изнемогали в этом аду без капли влаги, а иерусалимская пехота, потерявшая командование, слепо рвалась через холмы Хаттина к видневшемуся вдали Галилейскому морю. И все это в густом дыму и пыли, под беспрерывным обстрелом сарацинских лучников. Воины гибли тысячами, во время очередной атаки сарацин была захвачена главная реликвия христиан — Животворящий Крест. В бою был окружен и выбит из седла Рено де Шатильон, угодил в плен магистр тамплиеров де Ридфор, погиб в схватке Великий магистр госпитальеров Эрментар д'Асп.
И все же Мартин сумел спасти Раймунда Триполийского. Он вовремя заметил условный сигнал, поданный ему племянником Саладина — Таки ад-Дином, и, схватив лошадь графа под уздцы, увлек ее вместе со всадником в проход, возникший во внезапно расступившемся строе мусульман.
Все это заняло считаные мгновения, которые показались Мартину вечностью. Граф Раймунд — усталый, израненный, в окровавленном белом плаще — поначалу был ошеломлен, но вскоре начал оказывать сопротивление своему спасителю. Мнимому Арно де Бетсану пришлось оглушить его, продолжая тащить храпящую и упирающуюся лошадь и прикрывать щитом впавшего в беспамятство Раймунда.
Сарацины все еще не трогали их: повинуясь приказу Таки ад-Дина, они сдерживали коней и не пускали в ход оружие даже тогда, когда за Раймундом устремились люди из его отряда, а следом поскакали воины барона Балиана Ибелинского. Мартин же бешено гнал коня — в эту минуту он уже не думал о задаче, поставленной перед ним, а использовал единственный шанс вырваться из кровавого ада, каким стала битва в долине меж двух возвышенностей, именуемых Рога Хаттина.
Раймунд Триполийский пришел в сознание, когда они уже были далеко. Балиан Ибелинский сообщил ему, что спасением оба они обязаны необычайной ловкости и предусмотрительности рыцаря Арно де Бетсана, но старый граф тут же приказал взять спасителя под стражу. Мартина разоружили и под конвоем доставили на побережье, в Триполи — резиденцию графа Раймунда. Позже туда дошла весть о страшном разгроме воинства крестоносцев при Хаттине: семнадцать тысяч лучших воинов остались на поле боя, у Иерусалимского королевства не было больше сил, чтобы противостоять Саладину, и возглавить оборону также было некому — все предводители крестоносцев либо пали, либо были захвачены в плен. Среди них оказался и сам король Гвидо де Лузиньян, а Рено де Шатильону, виновнику нарушения перемирия, султан Саладин своей рукой отрубил голову.
Это горестное известие вызвало всеобщую растерянность. Даже прибытие в Триполи графини Эшивы, выпущенной Саладином из осажденной Тивериады, не умерило всеобщей скорби и чувства глубокой безысходности. Перед лицом умиравшего от ран супруга графиня поклялась, что ее гонец вез совсем иное послание, а в том, что крестоносное воинство заманили в ловушку, ее вины нет. Узнав, что ее посланец пленен и томится в подземелье, она без колебаний отдала предателя-возлюбленного в руки Уильяма де Шампера, который, в свою очередь, поклялся, что его заплечных дел мастера добьются от красавчика Арно, кому он прислуживает и кто подменил послание графини.
Де Шампер наверняка исполнил бы свою клятву, если бы не вмешались Сабир и Эйрик. Золото помогло им вызволить истерзанного друга из подземелий Триполи, тайно доставить на корабль и переправить в безопасное место.
Для Мартина все окончилось не так уж скверно. Но его друзья не могли взять в толк, отчего он так подавлен и постоянно возвращается к расспросам о том, что творится в Святой земле после поражения при Хаттине. И почему известия о дальнейших победах Саладина — надежного союзника Ашера бен Соломона, — так печалят их приятеля.
Даже теперь, по истечении трех с половиной лет, Мартин испытывал горечь оттого, что оказался замешан в этой истории. Казалось бы, о чем тут беспокоиться? Он проскользнул буквально между молотом и наковальней, спас Раймунда, ускользнул из камеры пыток, сохранил жизнь. Он исполнил порученное, получил достойную награду, и Ашер бен Соломон с нескрываемой радостью сообщил ему, что отныне земли Галилеи готовы принять своих гонимых сыновей — евреев из Европы. Султан Саладин сдержал слово…
Все это уже позади… В том числе и времена могущества Иерусалимского королевства, и христианский мир на Востоке. Поражение под Хаттином обескровило христиан в Леванте, подорвало могущество рыцарских орденов. Отныне не существовало силы, способной воспрепятствовать победоносному шествию Саладина… Вместе с тем Мартину было невыносимо сознавать, что именно из-за него нарушилось соотношение сил в мире и пала целая держава.
Впрочем, попытки повернуть время вспять и снова воздвигнуть крест в краях, где проповедовал Спаситель, продолжаются. Конрад Монферратский остановил мусульман под Тиром, король Гвидо, наконец-то отпущенный Саладином, с немногочисленной кучкой приверженцев осаждает Акру, а короли Франции и Англии ведут сюда новые крестоносные рати.
Но после пережитого Мартин не верил в их победу. Он слишком хорошо знал, на что способен Саладин. Найдется ли соперник, равный ему? Едва ли.
Его сердце отчаянно противилось возвращению туда, где после него остались выжженная земля и разрушенные крепости. Не воспоминания о графине Эшиве, искренне полюбившей его, не страх снова встретиться лицом к лицу с Уильямом де Шампером заставляли корчиться в муках его душу. Он чувствовал себя низким негодяем. И с этим приходилось жить.
Что ж, время лечит все. Совесть умолкнет, прошлое останется в прошлом. Но пусть ему больше не напоминают о том, что по его вине погибла целая страна. Которой не суждено возродиться.
ГЛАВА 6
Тяжелые мысли гонят сон прочь. Только на рассвете Мартину удалось забыться глубоким сном. До полудня, когда придет пора собираться в путь, времени еще достаточно, к тому же его разбудят…
Так оно и вышло.
Эйрик с такой яростью тряс рыцаря, что тот едва не скатился с лежанки.
— Просыпайся, малыш! Живо! У нас тут такие дела… Твоя леди пропала!
Мартин рывком поднялся, с трудом вынырнув из сонного забытья. Одного взгляда в узкую щель окна оказалось достаточно, чтобы убедиться: до полудня далеко, значит, караван еще не покинул Дорилею. Но куда могла деваться Джоанна де Ринель? Затянувшаяся прогулка? Может, решила на эту ночь найти иное пристанище вместо переполненного и душного караван-сарая?
Но Эйрик только отрицательно мотал головой — да так, что его височные косицы хлестали по обветренным щекам варанга.
— Пойми — их нет, никого нет! Ни чернокудрой леди, ни ее супруга, ни моей новой невесты… Комнаты пусты, коней и мулов нет в стойлах, исчезла прислуга. Сабир мечется, пытаясь разнюхать, куда они могли податься.
Мартин, поспешно одевшись, спустился с галереи, отыскал в толпе погонщиков и купцов, собирающихся в дорогу, каравановожатого Евматия и задал вопрос об англичанах.
— Все спрашивают, — отмахнулся грек, одновременно отдавая распоряжение начинать вьючить верблюдов. — Храмовники, монахини, знатные ромейские господа… Но вот что я вам скажу, господин рыцарь: я готов вознести благодарственную молитву, оттого что этот высокомерный желтоволосый англичанин пренебрег моими услугами и покинул караван. Пусть его ядовитая желчь достанется другим!
Тем не менее Мартину удалось выяснить, что супруги де Ринель покинули караван-сарай еще затемно. На исходе ночи сэр Обри разбудил Евматия, сообщив, что не намерен больше следовать в составе каравана, ибо нашел в Дорилее не столь алчных и более толковых проводников. Отныне их больше ничего не связывает.
Итак — где же теперь искать Джоанну из Незерби? А может, и не стоит этого делать, а поспешить в Акру и попытаться спасти сестру Ашера собственными силами, не прибегая к помощи Уильяма де Шампера?
Но было и еще кое-что. Некое смутное желание, связанное с прекрасной англичанкой. Леди Джоанна игнорировала его, держалась учтиво, но совершенно равнодушно, и гордость Мартина была отчасти уязвлена. Это походило на азарт охотника, идущего по следу редкой дичи.
Надо учитывать и то, что Ашер бен Соломон ошибается в своих умозаключениях редко. И скорее всего, он прав, рассчитывая, что де Шампер не устоит при прямой угрозе чести родной сестры. Не ошибался Ашер и в том, что Мартин полон желания отомстить надменному храмовнику, унизив его близкую родственницу.
В конце концов он решил положиться на судьбу: будь что будет. И судьба вскоре предстала перед ним в обличье Сабира.
— Аллах — хвала ему, милостивому и милосердному, надоумил меня расспросить о беглецах стражников у всех ворот Дорилеи, — возвестил Сабир, спешиваясь и беря коня под уздцы. — И молодцы, что стерегут южные ворота, опознали англичан с моих слов. Те выехали рано утром, рассчитывая догнать караван, покинувший город еще вчера. Этот караван, хоть и направляется в южные края, часть пути будет следовать по Дороге крестоносцев. Удалось выяснить и еще кое-что: похоже, сэра Обри с супругой сопровождают те самые подозрительные сельджуки, которых мы приняли за торговцев гашишем. Евматий также утверждает, что и они с утра отбыли, прихватив свои пожитки.
Мартина охватило волнение.
— Все это более чем странно! Я не исключаю, что сэр Обри мог довериться людям, с которыми сошелся в пути. Но ехать старой Дорогой крестоносцев крайне опасно для христиан. Она проходит через владения Конийского султаната, и иноверцев — пусть даже и паломников, — в любое мгновение могут схватить и заточить с целью получения выкупа. Похоже, нам следует поспешить и убедить англичан отказаться от этого безумного намерения, пока с ними не случилось худое.
— Тут и раздумывать нечего, — вставил подоспевший Эйрик. — Разрази меня гром: чем скорее мы будем там, тем в большей безопасности окажется моя козочка Саннива!
Сабир поднял взгляд на Мартина.
— Друг мой, надеюсь, ты сознаешь, что рыцаря-госпитальера на Старой дороге люди султана схватят в мгновение ока?
— Сознаю. Но теперь больше нет нужды в моем рыцарском облачении. Поступим так: ты, Сабир, примешь облик одного из султанских гулямов,[74] а мы с Эйриком станем твоими сопровождающими.
Это было разумно: в армии конийского султана было немало христиан, а также игдишей — потомков смешанных браков между тюрками и христианками этой земли, которой еще недавно владели ромеи. Видеть здесь белокурых и светлоглазых воинов не было редкостью — главное, чтобы они не вызывали подозрений.
Преображение рыцаря ордена Святого Иоанна в спутника гуляма-сельджука совершилось довольно быстро. Распростившись с Евматием и его помощниками и купив в Дорилее необходимую одежду, все трое переоделись. Кольчугу Мартину менять не пришлось, а одеяние госпитальера он спрятал в чересседельную сумку. Укладывая плащ и котту, он невольно бросил взгляд на еще один заранее приготовленный наряд: серое облачение рыцаря-лазарита, члена ордена прокаженных, отмеченное зеленым крестом.
Невольно вздрогнув, Мартин спрятал его поглубже, натянул стеганый кафтан, подпоясался широким кушаком, обул мягкие сапоги с заостренными носами, а затем водрузил на голову поверх бармицы[75] из шагреневой кожи шатровидный восточный шлем.
Приблизительно так же выглядел и Эйрик. Зато Сабир перевоплотился в знатного мусульманского воина: его казаганд[76] был обтянут плотным ржаво-красным бархатом, на котором блестели стальные заклепки, у пояса, отделанного чеканным серебром, висела сабля дамасской стали с рукоятью слоновой кости. Сверкающий шлем с острым шишаком обвивал белый тюрбан, спускавшаяся вниз полоса кисеи закрывала нижнюю часть лица воина, защищая его от пыли. Не удержавшись, в дополнение к своему вооружению Сабир приобрел в одной из оружейных лавок великолепную булаву с навершием в виде головы оскалившейся пантеры, мастерски сработанную и покрытую позолотой.
— Ты вырядился, как телохранитель самого султана, — ворчал Эйрик, считавший, что за этими сборами они теряют время. Он уже был готов очертя голову кинуться в погоню, и то, как обстоятельно Сабир и Мартин расспрашивали местных купцов о дороге на юг и обстановке в Конийском султанате, выводило его из себя. Он окончательно приуныл, узнав, что к ним намерен присоединиться Иосиф со своими людьми.
— Зачем нам понадобился щенок Ашера? С его мулами, тюками да еще и с медлительным верблюдом в придачу мы будем плестись, как пешая саранча. И какой из Иосифа ездок? Если доведется пришпорить лошадей, ему за нами ни за что не угнаться!
Мартину было нечего возразить другу, но и Иосифу он не мог отказать. Тем более что сын Ашера привел убедительные доводы: еврея-торговца скорее ограбят в христианской стране, чем в султанате, ибо сельджуки имеют большие выгоды от еврейской торговли, да и путь в Киликию по Дороге крестоносцев много короче, чем кружной маршрут через ромейские владения. Упомянул Иосиф и о том, что при нем немало денег, которые могут понадобиться, чтобы подкупить алчного, но неимущего английского рыцаря.
Наконец покинув Дорилею, путники несколько часов подряд двигались по проторенной караванами дороге. Вскоре плодородная равнина осталась позади и дорога начала подниматься на сухое скалистое плоскогорье. Ближе к вечеру они увидели многолюдную стоянку у придорожного колодца: это был тот самый караван, что вышел из Дорилеи накануне, остановившийся на ночевку.
Охранники каравана к вновь прибывшим отнеслись подозрительно, и эта подозрительность только возросла, когда чужаки принялись расспрашивать про каких-то иноземцев-христиан, будто бы намеревавшихся примкнуть к этому каравану. Однако каравановожатый заявил, что с тех пор, как он покинул Дорилею, никто к ним не присоединялся, не настигал и не обгонял.
Это же подтвердил и Ваиз, купец из Магриба, к которому обратился с расспросами Иосиф. Он был единственным, кто мог поговорить с магрибинцем, не вызывая дополнительных подозрений, ибо в одном из его спутников почтенный Ваиз мог опознать переодетого рыцаря-госпитальера.
Отсутствие англичан оказалось для всех троих неожиданным.
— У меня плохое предчувствие, — пробормотал Сабир, задумчиво уставившись на холку своего коня.
— А у меня еще худшее! — Эйрик рванул поводья так, что его бурый жеребец вздыбился, пятясь. — Куда эти проклятые англичане могли свернуть с караванного пути, если вокруг нет даже троп? И где их разум, если они решились довериться неизвестным людям, тем более — тюркам?
Мартин молча развернул коня. Отъехав от стоянки каравана, он принялся рассуждать вслух:
— Вот все, что нам доподлинно известно: сэр Обри и его спутники внезапно решили покинуть караван грека Евматия ради полной опасностей старой Дороги крестоносцев. Какие у него могли быть на то причины? В пути он умудрился поссориться со многими людьми, даже с каравановожатым. После чего некие чужаки, с которыми он вел беседы в течение последних двух дней, смогли убедить рыцаря, что готовы служить ему проводниками за более умеренную плату. Зная сэра Обри и его жадность к деньгам, можно предположить, что он соблазнился этим предложением, и как лорд и глава семьи сумел настоять, чтобы жена подчинилась его решению. Но вот что меня тревожит больше всего: эти новоявленные проводники. Мы сочли их поначалу торговцами гашишем, но что, если у них совсем иная задача и они не торговцы, а самые обычные «уводящие»?
От этих слов лица обоих его приятелей помрачнели.
«Уводящими» в этих краях называли разбойников, которые под видом обычных путников присоединялись к караванам. Смешавшись с толпой, они входили в доверие к намеченным жертвам и под любым предлогом пытались увести их в сторону от проторенных дорог. Причин находилось немало: якобы им известен более короткий путь, у них лучшие проводники, и обойдутся они намного дешевле. Наконец, сумев убедить доверчивых, их заманивали в безлюдные места, где уже поджидала засада. Обезоружив и связав несчастных, негодяи завладевали их имуществом, а его хозяев либо убивали, либо продавали на невольничьих рынках султаната.
— Необходимо обследовать дорогу от самой Дорилеи до места стоянки каравана, — отрывисто проговорил Мартин, пришпоривая коня. — Любой поворот, развилка, спуск или пологий подъем на холм могут оказаться тем местом, где «уводящие» отклонились от караванного пути. Особое внимание надо уделить пустынным местам: разбойники не станут сворачивать в виду сторожевых застав или многолюдных селений. Все, что нам остается, — искать следы. И времени у нас совсем немного, — добавил он, взглянув на клонящееся к холмистому горизонту солнце.
Кони шли крупной рысью. Мартин только оглянулся — Иосиф и его люди начинали отставать. Последним трусил рослый белый верблюд с поклажей, чей повод был в руках едущего впереди всадника. Верблюды могут развивать солидную скорость, но тягаться с лошадьми они не могут. В эту минуту Мартин уже жалел, что поддался на уговоры друга.
В селениях, попадавшихся по пути, друзья расспрашивали местных жителей, описывая путников-кафиров, которых могли сопровождать одетые в потрепанные халаты сельджуки. Однако эти вопросы вызывали только недоумение: никто не видел ничего похожего.
В пустынных местах они спешивались, торопливо осматривали окрестности, но, убедившись, что на обочинах и в стороне от дороги нет никаких подозрительных следов, снова продолжали путь. Всякий путник, встреченный на дороге, был допрошен с пристрастием — от старухи, собиравшей верблюжий помет, до пастуха, гнавшего к селению десяток тощих коз.
И все же удача им улыбнулась: старик, ехавший на осле, сообщил Сабиру, что еще в середине дня мимо него проследовали люди, похожие на тех, которых разыскивает благородный гулям. Словам старика можно было доверять: жители нищих селений охочи поглазеть на проезжающих, в особенности если среди них есть знатные господа.
Так удалось определить участок дороги, на котором в последний раз видели англичан вместе с «уводящими». Круг поисков значительно сузился.
Мартин торопливо спешился и зашагал вдоль дороги, ведя коня в поводу и внимательно вглядываясь в розоватую в свете закатного солнца пыль.
— Есть! — наконец указал он подоспевшим Сабиру и Эйрику на следы подков в пыли. — Видите эти крупные отпечатки? У англичан рослые кони, не чета тем мулам, на которых ехали «уводящие». Да и подкованы они иначе: шляпки гвоздей утоплены в прямоугольных выемках. Думаю, это то, что мы ищем!
Они свернули с дороги к холмам, однако идти по следу можно было только до тех пор, пока не угас дневной свет. Те, кто ехал тут до них, двигались рысью — самой быстрой, на какую были способны уставшие за день мулы. Но и лошади преследователей успели проделать немалый путь, а углубляться в темноте в столь глухие места было крайне опасно.
Сабир унесся далеко вперед: на дальнем гребне холма отчетливо вырисовывался его силуэт. Он не спеша ехал по гребню холма, время от времени останавливаясь и склоняясь к земле. Затем и вовсе скрылся за холмом.
Оглянувшись на Иосифа и его людей, Мартин поскакал следом за Сабиром и вскоре увидел друга: тот спешился неподалеку от рощицы невысоких олив с искривленными стволами, произраставших в низине. Сабир сидел на корточках, что-то разглядывая на земле, затем резко поднялся и застыл, устремив взгляд на Мартина.
— Вон там, — он указал на небольшую площадку на опушке рощи.
Мартин мгновенно понял все: земля у края зарослей была утоптана, повсюду виднелись следы копыт, там и сям на песчаной почве виднелись бурые пятна — запекшаяся кровь. Было еще нечто, крайне обеспокоившее Мартина: в роще они обнаружили сломанную лютню леди Джоанны. Судя по следам на песке, здесь волокли чье-то тело.
Они с осторожностью миновали рощу и среди груды камней, высившейся за последними деревьями, обнаружили несколько трупов. Семеро из них оказались воинами, сопровождавшими сэра Обри. Еще один был почти мальчишкой.
— Это паж дамы, юный Жос, — негромко произнес Эйрик, бесшумно догнавший Мартина. — Все, кроме него, погибли от стрел.
Они переглянулись. Нетрудно догадаться, что здесь произошло. Засада, попытка воинов-англичан оказать сопротивление, короткая схватка. Все, кто не сражался, захвачены в плен. Пажа просто зарезали в назидание остальным — видимо, он проявил неповиновение.
— Что ожидает женщин? — с тревогой спросил Эйрик.
— Сам должен понимать.
Эйрик помрачнел. Знатную леди, скорее всего, не тронут, иначе ее цена на невольничьем рынке упадет. Не тронут и камеристку Годит — она уже в летах. Но что касается юной служанки…
— Я бы не слишком огорчился, если бы среди этих камней валялся труп бахвала Обри, — рыжий сплюнул сквозь зубы. — Давай поспешим!
Сабир обернулся к Эйрику, сделав быстрый жест: ладонь развернута вверх, пальцы сложены щепотью, их кончики направлены к собеседнику. Этот мусульманский жест означал настойчивое требование немного подождать или замолчать. Эти двое выглядели рядом странно: невозмутимый, несмотря на южную кровь, и немногословный араб Сабир и нетерпеливый северянин, все еще не теряющий надежды спасти свою случайную возлюбленную.
В это время из зарослей показался Иосиф. При виде груды мертвых тел он сорвал с головы свою желтую шапку и судорожно зажал ею рот. Тело его конвульсивно вздрогнуло, горло исторгло сдавленный звук. Он кинулся прочь, и его дважды вывернуло у корявого ствола маслины.
— Еще и этот щенок Ашера с нами! — в отчаянии развел руками Эйрик. — Что с ним теперь делать?
Сабир безмолвно повторил свой жест едва не у самого носа рыжего, вынуждая варанга угомониться.
Мартин сказал:
— Бросаться в погоню сейчас — бессмысленно. Не мне тебя учить, дружище.
Эйрик сник. Сумерки сгущались, в темноте они могут и сами угодить в ловушку. «Уводящих» обычно немного, но за ними всегда стоят крупные шайки. Разумнее всего сделать привал, дать коням отдохнуть, а завтра с рассветом продолжить поиски. К тому же долг велит предать земле тела убитых, и пусть этим займутся люди Иосифа.
Ночь прошла беспокойно, несмотря на то, что охранники, сменяясь, по двое несли караульную службу. Эйрик несколько раз вставал, бродил по округе и шумно вздыхал.
Мартин долго лежал без сна, глядя, как в вышине загораются звезды, а из-за холмов медлительно выплывает серп луны. Мир вокруг казался прекрасным и безмятежным, даже не верилось, что рядом, в двух шагах, в земле покоятся тела тех, кто еще днем было полон жизни и надежд. В воздухе ни дуновения, и только обычные звуки ночной жизни безлюдной равнины нарушали тишину: в зарослях пискнула разбуженная птица, зашуршали мелкие камни под лапами мелкой зверушки…
В конце концов он задремал, но спал чутко, поэтому моментально приподнялся, уловив совсем иные звуки, наполнившие его тревогой.
Рядом уже сидел на корточках Сабир, а Эйрик бесшумно поднимался в темноте на пригорок, чтобы осмотреться.
Небо у горизонта серело, в этот предрассветный час царит полная тишина и всякий шум слышен на огромном расстоянии. Сабир, не шевелясь, указал в ту сторону, откуда доносились смутный гул голосов, ржание лошади, затем — пронзительный женский крик.
Мартин затянул пояс с мечом.
— Подними человек пять из охраны Иосифа. Остальные пусть останутся здесь и оберегают господина.
Молодой еврей крепко спал на попоне, голова его покоилась на чересседельной суме. Ничто не потревожило Иосифа, утомленного вчерашними тягостными впечатлениями.
Вскоре всадники уже были на вершине пологого холма, из-за гребня которого доносились тревожившие звуки. И в смутном свете приближающегося утра им открылась весьма странная картина.
Оказывается, разбойники, которых они намеревались настичь, разбили свой лагерь меньше чем в миле от их стоянки. С холма были видны пара палаток, покрытых козьими шкурами, рядом с ними на земле лежали связанные пленники, поодаль бродили пасущиеся лошади, которых в эту минуту пытались сбить в табун несколько молодчиков в тюрбанах. Но остальные разбойники — их было больше дюжины — по необъяснимой причине толпились на противоположном склоне ложбины между двумя холмами, жестикулируя, выкрикивая что-то и время от времени разражаясь хохотом. Сквозь этот шум прорывался иной звук — отрывистые щелчки и свист, напоминающий змеиное шипение.
Как только «уводящие» расступились, Мартин увидел на склоне молодую женщину в изорванном желтом платье и растрепанными темными косами. В руках у нее был длинный бич, которым женщина орудовала с необычайной ловкостью, не позволяя разбойникам приблизиться. То и дело взвивалось тяжелое кнутовище, полоса бычьей кожи с вплетенными в нее свинцовыми шариками описывала дугу и устремлялась вперед, настигая очередного негодяя. Следовал оглушительный щелчок, и если удар достигал цели — вопль боли. Разбойники шарахались и отступали на пару шагов, в это время женщина успевала немного подняться вверх по склону. Пленница отбивалась отчаянно, но она была в кольце, силы ее таяли, и исход этого противостояния был заведомо предрешен.
Все это позволило людям Мартина до сих пор оставаться незамеченными. Но едва ли это продлится долго: рано или поздно один из разбойников поднимет тревогу.
Окинув взглядом лагерь «уводящих», Мартин наскоро пересчитал негодяев. Десятка два с оружием, еще несколько заняты разбредшимися лошадьми. Не так уж много. Вот почему они предпочли уложить на месте часть воинов-англичан — чтобы затем легко расправиться с остальными.
Рыцарь обернулся, одновременно извлекая лук из чехла.
— Сперва снимем издали кого удастся, пока не спохватились. Потом атакуем.
Восемь против двадцати пяти — силы неравны, но Мартин знал, что Ашер бен Соломон не стал бы посылать с сыном неопытных воинов. На своих друзей он мог положиться всецело. Да и среди «уводящих» далеко не все хороши в схватке: эти люди привыкли рассчитывать на неожиданность и значительный численный перевес.
Когда запели стрелы, разбойники не сразу поняли, откуда исходит опасность. Они заметались в панике, многие из них, вместо того чтобы обороняться, бросились к лошадям. Это позволило атакующим выпустить еще дюжину-другую стрел, уже на ходу. Лощина огласилась хриплыми воплями, лошади заметались.
Мартин едва не налетел на мчавшуюся ему наперерез чью-то кобылу, но его обученный конь успел вздыбиться и ударить обезумевшую лошадь передними копытами. Откуда-то возник разбойник в чалме — не успев схватиться за оружие, он попытался закрыть голову руками, но меч Мартина уже стремительно опускался. Брызнула кровь, тело негодяя рухнуло в пыльную траву. Всадник освободил оружие и пришпорил коня, снова вскидывая меч. Успел заметить направленное на него острие короткого копья, увернулся, и снова его разящий клинок обрушился вниз.
Несколько разбойников все же попытались сопротивляться, но это им не помогло. Спаслись только те, кто успел вскочить на неоседланных лошадей и с гиканьем погнать их прочь. Таких набралось с десяток — их не преследовали, добивая тех, кто оказался не столь расторопным.
Все было кончено.
Эйрик первым спрыгнул с коня и бросился к пленникам. Разрезая на них путы, он торопливо расспрашивал то одного, то другого: где горничная Саннива? Его окликнул все еще лежавший связанным сэр Обри, требуя, чтобы его немедленно освободили. Но лорду помог Сабир, а Эйрик метнулся в одну из палаток и вскоре вернулся, неся на руках сжавшуюся в комок светловолосую девушку. Уложив ее на сухую траву, он опустился на колени и стал успокаивать горько рыдавшую девушку.
Мартин велел двум воинам Иосифа отравиться к их господину и доставить его сюда. Разбойники рассеялись, но не исключено, что они вернутся, начнут кружить в окрестностях и наткнутся на сына Ашера, оставшегося с небольшой охраной.
Едва спешившись, рыцарь оказался в объятиях Обри де Ринеля.
— Сэр, я обязан вам жизнью! Я родственник английского короля, и он щедро вознаградит вас за мое освобождение!
Мартин машинально кивнул, освободился из объятий лорда и направился туда, где на склоне холма стояла, словно оцепенев, его супруга, сжимавшая в руке рукоять бича.
Уже издали он понял, что женщина все еще не в себе. Не узнавая Мартина, она попятилась и вскинула бич. Ее глаза были широко распахнуты, зрачки расширены, отчего радужки казались почти черными. Бледность заливала лицо леди Джоанны, темные волосы облепили ее лоб и щеки.
Мартин поднял руку в примиряющем жесте.
— Леди, перед вами рыцарь Мартин д'Анэ. Прошу вас — успокойтесь!
Казалось, эти слова не коснулись ее слуха. Женщина продолжала отступать, готовясь нанести удар. Мартин шагнул вперед, и при первом же его движении полоса бычьей кожи со свистом взвилась в воздух. Рыцарь успел отскочить, но кончик бича, утяжеленный свинцом, зацепил носок его мягкого сапога для верховой езды.
Мартин глухо охнул — боль оказалась жестокой.
— Разрази вас гром, миледи! — воскликнул он. — Стоило ли вас спасать, чтобы лишиться способности передвигаться!.. Сэр Обри, может, вы сами приведете в чувство свою супругу?
Лорд приблизился с некоторой опаской и ласково обратился к жене, уверяя, что все уже позади и они спасены. Похоже, леди Джоанна узнала голос мужа: ее рука с занесенным бичом опустилась, она несколько раз судорожно вздохнула, затем дыхание ее выровнялось, а голова поникла. Но уже в следующее мгновение она распрямилась, как стальная пружина, и влепила сэру Обри жестокую пощечину.
Вокруг все замерли, ожидая, чем ошарашенный лорд ответит на неслыханную дерзость.
Сэр Обри некоторое время стоял неподвижно, прикрыв лицо, словно опасаясь, что разъяренная супруга не ограничится одной пощечиной, а затем медленно и осторожно забрал у нее бич.
Леди Джоанна круто повернулась и пошла прочь. Желтый обтрепанный край ее одеяния скользил по колючей траве и камням, косы свисали, голова снова была опущена. Удалившись на некоторое расстояние, она опустилась на землю, обхватила себя руками, словно в жестоком ознобе, а затем ее плечи содрогнулись от рыданий. Наступила реакция на все, что случилось с ней и могло случиться.
Ее не стали тревожить. Сэр Обри также держался особняком, поигрывая кнутовищем и время от времени бросая взгляды туда, где его слуги пытались поймать все еще не успокоившихся коней. Удирая, разбойники сумели угнать пару из них, и вдобавок несколько мулов с поклажей. Только камеристка Годит бросилась было к госпоже, но, увидев, в каком та состоянии, застыла на месте, не решаясь ничего предпринять.
Тем временем горничная Саннива, несмотря на истерзанный вид, постепенно приходила в себя в уютных объятиях рыжеволосого великана-северянина. Он негромко говорил ей что-то, ласково поглаживая по волосам, и девушка все теснее прижималась к нему.
В этот миг из-за гребня холма показался Иосиф со своими людьми — те вели в поводу вьючных животных. На этот раз он не дал воли чувствам, наоборот — мгновенно оценил обстановку и стал отдавать быстрые распоряжения. По его приказу часть уцелевшего имущества пленников была навьючена на мулов и верблюда, а пока слуги занимались этим, сын Ашера бен Соломона внимательно выслушал то, что взволнованно поведал ему повар супругов де Ринель — коротышка Бритрик. Речь шла о том, что уже было известно Иосифу: как мерзавцы обманули лорда, как заманили их в эту глушь, а затем подло напали и умертвили семерых воинов. Когда же юный паж Жос попытался вступиться за свою госпожу, мальчишку зарезали на месте без всякого снисхождения к его возрасту…
Мартин краем уха прислушивался к пространным речам Бритрика, когда к нему приблизилась Годит.
— Храни вас Господь и Пречистая Дева, господин рыцарь! — воскликнула женщина. — Вы избавили нас от горькой участи, на которую обрекло всех нас неразумие сэра Обри!
Из слов камеристки следовало, что лорд повел себя, мягко говоря, легкомысленно, ибо поступил он именно так, как предполагали Мартин, Сабир и Эйрик. Сэр Обри убедил супругу покинуть караван Евматия и продолжить путь с другими проводниками — более знающими и не столь жадными до денег. Леди поначалу противилась его намерению, но в конце концов уступила. А потом… Потом ей пришлось разбить свою лютню о голову презренного сельджука, лишившего жизни ее любимого пажа. Леди Джоанну тотчас связали, но у нее под одеждой был припрятан маленький нож. Ближе к утру, пока разбойники отдыхали, Годит помогла достать его и разрезала ее путы, а потом леди изловчилась перерезать веревки у коновязи в расчете на то, что лошади разбегутся, это отвлечет разбойников, а она тем временем освободит остальных пленников. Внезапно сэр Обри поднял шум, требуя, чтобы жена освободила первым не капитана Дрого, а его самого. Но от Дрого, хоть он и был ранен, толку было куда больше, чем от сэра Обри, а своими возгласами милорд добился только того, что разбойники обнаружили освободившуюся леди Джоанну и бросились к ней… Благо госпоже попался под руку бич, а уж как она умеет им управляться, сэр рыцарь небось и сам убедился…
— И все же ваша госпожа не должна была на глазах у слуг и стражи унижать супруга, — прервал ее Мартин.
Камеристка уставилась на него с упреком. Ее удлиненное, как у овцы, лицо вытянулось еще больше, светлые брови поднялись вверх так высоко, что скрылись под головной повязкой.
— Разве господин рыцарь не расслышал того, что я только что рассказывала?
— Слуги не должны судить своего господина, — сухо обронил Мартин. — Как и жене не следует вести себя так с мужем.
Он отлично понимал причину, которая вынудила Джоанну де Ринель отвесить сэру Обри вполне заслуженную оплеуху, но ее гордыня и дерзость вызывали в нем оторопь. Он хорошо помнил семью Ашера бен Соломона — единственную, в которой ему довелось жить. Там все уважали друг друга и стремились доставлять радость близким. И пусть мужчины-евреи не чтили кодекса рыцарской чести, не склонялись перед дамами, но и не стремились повелевать ими как рабынями. В свою очередь и женщины почитали своих мужей, им и в голову не пришло бы унизить их на глазах у чужих.
Все это, однако, имело второстепенное значение, так как Мартин понимал: ссора супругов ему только на руку. Едва ли они скоро примирятся, а значит, ему не придется убивать сэра Обри. Одной смертью на совести меньше. В глазах леди Джоанны он сейчас герой, спаситель, и этим следует воспользоваться без промедления.
Выждав еще несколько минут, рыцарь направился к Джоанне, все еще сидевшей в одиночестве в стороне от разбойничьих палаток. Заслышав его шаги, она подняла лицо, и Мартин увидел на ее запыленных щеках грязные дорожки, оставленные слезами.
— Мадам, — он слегка поклонился. — Не стоит предаваться печали, все обошлось. Шакалы напуганы и разбежались, но не поручусь, что им не придет в голову сбиться в стаю и попытаться снова напасть. Вот почему мы должны покинуть эту дикую местность как можно скорее.
Он протянул руку, но женщина не приняла ее и осталась сидеть, оценивающе разглядывая его.
— Сэр Мартин д'Анэ, — проговорила Джоанна. — Сейчас вы ничуть не похожи на рыцаря ордена Святого Иоанна.
Эти слова сказали ему, что англичанка вполне овладела собой.
— Не кажется ли вам, мадам, — возразил Мартин, — что было бы не слишком благоразумно разъезжать с крестом на груди по стране, которой владеют мусульмане? В должное время я вновь с гордостью облачусь в плащ госпитальера, но пока предпочитаю выглядеть одним из них. Мы во враждебном краю, и вам стоило бы внимательнее прислушиваться к моим словам. Иначе я предпочту продолжить свой путь без единоверцев, которые могут стать помехой.
Мартин понимал, что говорит излишне резко. Вовсе не так, как следовало бы обращаться истинному рыцарю к даме, только что вырванной им из лап разбойников. Но, как ни странно, именно этот тон возымел действие. Леди Джоанна протянула ему руку, и когда он помог ей встать, проговорила:
— Простите, если я была недостаточно учтива. Но я не забуду, что обязана вам своим спасением. И это так же верно, как то, что я почитаю Иисуса Христа и Пресвятую Деву.
— Аминь, — отозвался Мартин и крепко сжал маленькую горячую ладонь в своей руке, не отрывая взгляда от лица женщины. — Я рад, что мне посчастливилось оказать вам эту услугу. Ибо вы того стоите.
Леди Джоанна опустила глаза.
ГЛАВА 7
Средиземное море, апрель 1191 г.
Небо было лазурным, в воздухе не чувствовалось ни ветерка. Море лежало, словно расплавленное стекло, до самого горизонта.
— Полный штиль! — пробормотал шкипер Питер из Бристоля. И добавил с нескрываемой злостью: — Провались это безветрие в преисподнюю ко всем чертям и чертовкам!
Не найдя другого средства выразить разочарование, шкипер сплюнул в сторону борта, но промахнулся — и тут же застыл, обнаружив внизу, на палубе, примерно в том же направлении, куда он только что отправил плевок, пару знатных дам в легких головных покрывалах.
Скверно: плевать на палубу — для моряка хуже нет приметы, да еще и в присутствии царственных особ!
Обе дамы словно по команде оглянулись, и Питер, сорвав с головы вязаный колпак, в замешательстве залопотал:
— Миледи… Ваши величества… Ради самого всемогущего неба…
— Вы отвратительно грубы, шкипер! — сердито произнесла одна из женщин, брезгливо отодвигаясь от фальшборта, на который только что шлепнулся комочек слизи.
Это было произнесено на родном для Питера английском, отчего шкипера охватило еще более глубокое раскаяние. Надо же: сама сестра короля, Иоанна Плантагенет, которая всегда так приветлива с ним!
— Миледи, — капитан, комкая колпак в кулаке, с силой ударил себя в грудь. — Ваша милость, ради всего святого, я…
Но женщины уже скрылись за кормовой надстройкой.
— Эти англы все такие невежи? — повернулась к вдовствующей королеве Иоанне невеста Ричарда Беренгария Наваррская.
Полные губы Иоанны сложились в улыбку.
— Все, как повсюду, — кто рыцарствен, кто груб… Мой брат Ричард родился в Англии, в Оксфорде. Что же до невежи Питера, то он хоть и неряха и не получил никакого воспитания, но все же остается одним из лучших шкиперов во флоте моего брата. Иначе Ричард не доверил бы ему свою прекрасную невесту.
И она слегка приобняла плечи принцессы Наваррской.
С тех пор как Беренгария и Ричард обменялись на Сицилии кольцами и принцесса была наречена невестой короля, Иоанна почти не расставалась с ней: они вместе готовились к дальнему морскому путешествию, вместе взошли на корабль, делили один полуют — нарядное, украшенное шитыми занавесями и точеными дубовыми полуколоннами помещение в кормовой надстройке. Молодые женщины сблизились, и впервые покинувшая родину принцесса Наваррская была несказанно рада, что сестра ее жениха относится к ней с такой теплотой. Но иначе и быть не могло — ведь они были единственными знатными дамами, сопровождавшими крестоносное воинство в пути к Святой земле.
— Вам не страшно здесь, Иоанна? — негромко спросила Беренгария будущую золовку.
Она все еще робела перед этой величественной дамой, которая взяла на себя все дорожные хлопоты и чьей предусмотрительности они были обязаны удобствами, окружавшими их на корабле, полном вооруженных мужчин. К ним относились здесь так, как и требовало их положение, — учтиво и предупредительно. Грубый шкипер из Бристоля не в счет, если он так уж хорошо знает свое дело.
Беренгарии порой казалось, что Иоанна знает все, что для наваррской принцессы, много лет прожившей в тиши монастыря, было тайной за семью печатями. Молодая, но уже успевшая овдоветь королева Сицилии казалась ей особенным существом. Но Иоанна и была особенной — как все, в ком текла кровь Плантагенетов. Ее глубокое чувство собственного достоинства, ее знание тайных сторон жизни, ее умение обращаться с людьми — приветливо, но в то же время и снисходительно, как и полагается милостивой госпоже, — все в ней восхищало Беренгарию. Ей хотелось походить на нее, перевоплотиться в такую же великолепную даму.
Иоанна, рослая и стройная, имела горделивую осанку, голова ее сидела на тонком стебле шеи с неописуемой грацией, а черные волосы, разделенные прямым пробором по нормандской моде, спускались на грудь двумя длинными косами. И одевалась она с редким изяществом, предпочитая яркие теплые тона — насыщенные розовые и красные. Своим гербом Иоанна выбрала пион, отдав этому цветку предпочтение перед вызывавшей всеобщие восторги розой, и пионами были расшиты подол и нависающие рукава ее малинового блио. В дворцовом саду в Палермо Иоанна высадила множество пионовых кустов, сама готовила из их корневищ успокаивающие настойки, а из лепестков — ароматические притирания.
Порой брат Ричард, посмеиваясь, величал сестру Пионой, и вдовствующей королеве Сицилии это прозвище, похоже, нравилось. Правда, король всегда оговаривался, что ее любовь к пионам тут ни при чем, — просто ее губы напоминают ему этот цветок. Но сама Беренгария в глубине души считала, что, несмотря на все очарование Иоанны, эти слишком полные и яркие губы придают тонкому лицу королевы излишнюю, почти вульгарную чувственность. Во всем остальном черты ее лица были приятны и соразмерны, если не считать несколько тяжеловатого подбородка. Да и в глазах Иоанны — серых, как у всех потомков Плантагенетов, — было больше стали и кремня, чем света нежности и женственной кротости.
Сейчас Иоанна глядела на море и на корабли, словно вмерзшие в его неподвижную гладь, не как паломница, мечтающая ступить на Святую землю с именем Божьим на устах, а как полководец, сознающий свою силу. И заговорила она не о чем ином — о кораблях:
— Чего нам опасаться? Мы под защитой самого могучего флота, который когда-либо бороздил воды Средиземного моря. Вы только взгляните, Беренгария! Эти суда, — Иоанна взмахнула рукой, как бы очерчивая горизонт, — двухмачтовые, прочные и легкие, могут вмещать до сорока рыцарей со свитой и лошадьми каждое. Их называют юиссье, и на одном из них плывем и мы. Здесь есть все, что необходимо не только для воинов, но и для дам. — Она указала в сторону кормовой надстройки.
— А вон те корабли, — продолжала она, — это нефы, приводимые в движение веслами и парусами. Благодаря их высоким бортам и просторным трюмам, они могут взять на борт до ста рыцарей со свитой, несколько сотен пехотинцев и годичный запас продовольствия. И под палубой остается еще немало места для конюшен и грузов. Тем не менее нефы, несмотря на их внушительные размеры и устойчивость, медлительны и неповоротливы. Иное дело галеры. Взгляните, принцесса, на те стройные суда с двумя рядами весел, косыми парусами и носом, оснащенным тараном для борьбы с вражескими судами. Они способны держать ход даже при полном безветрии. Однако галеры не столь вместительны, как юиссье или нефы, поэтому им приходится ждать, подняв весла на борт, ибо их задача — охранять самые крупные суда от пиратов… Я вижу, вы побледнели, Беренгария? Не стоит волноваться, могущество нашего флота таково, что даже самые дерзкие морские разбойники не решатся напасть на него.
О флотилии брата Иоанна могла говорить часами. И неудивительно — Ричард потратил огромные средства на подготовку к крестовому походу. Суда для доставки воинства крестоносцев строились во всех портах его владений, где имелись верфи, — в Англии, Нормандии, Бретани и Аквитании. Королевский заказ дал работу и хлеб множеству людей, и хотя мастерам были выплачены лишь две трети стоимости судов, остальное поступит в виде пожертвований его подданных на освобождение Гроба Господня. И вот — результат этих невероятных усилий у нее перед глазами… Нет, едва ли Беренгария способна разделить ее восторг. Как это прекрасно, когда море до самого горизонта усеяно легкокрылыми кораблями!
Беренгария вздохнула. О да — это поистине восхитительное зрелище. Она хорошо помнила: всего несколько дней назад огромная флотилия, наполнив паруса ветром, покидала Сицилию, и даже недовольные Ричардом местные жители толпами сбегались проводить английского Льва. Облепив прибрежные утесы, сицилийцы с восторгом глазели на медленно удаляющуюся армаду, размахивали руками и выкрикивали благие пожелания тем, кто отправлялся сразиться с язычниками.
Покинув порт, суда выстроились клином; во главе следовал флагманский корабль Ричарда, на мачте которого было поднято его знамя — алое полотнище с тремя золотыми львами Плантагенетов. По ночам на судах зажигали огни, чтобы они не потеряли друг друга во мраке, а королевский флагман по-прежнему держался впереди, и на его мачте, словно путеводная звезда, горел самый яркий огонь. В центре этого клина находился и тот большой юиссье, на котором разместились сестра и невеста короля.
Еще в ту пору, когда Ричард только подумывал принять крест паладина, ему явилась мысль о том, чтобы доставить свое воинство в Левант по морю. По рассказам матери и тех рыцарей, которые вернулись из Святой земли, английский король знал, сколько сил, средств и жизней отнимает переход по суше длиною в несколько тысяч миль. Привести же под стены Священного города без потерь полную сил армию можно только при помощи многочисленного и хорошо оснащенного флота…
— Вы, кажется, совсем не слушаете меня, Беренгария! — воскликнула Иоанна, заметив отсутствующее выражение на лице спутницы.
Принцесса вздрогнула. О, у Иоанны всегда одно на уме: войско и воины, корабли и состояние моря, оружие и боевые лошади, фураж и запасы продовольствия. Недаром Ричарду всегда есть о чем побеседовать с сестрой. Но сама Беренгария быстро утомлялась от таких разговоров.
— Я подумала, любезная Жанна…
— Не зовите меня Жанной, — неожиданно рассердилась королева Сицилийская. — На худой конец — Джованна, так называли меня подданные на милой моему сердцу Сицилии. Даже Иоанна лучше, если вам так будет угодно! Но я бы, конечно, предпочла, чтобы меня называли так, как окрестил меня брат, — Пионой. Жаль, что не мы выбираем себе имя и судьбу!
— Хорошо, дорогая Пиона. Но вот что заставило меня отвлечься: не опасно ли королю ради столь длительного похода покидать собственные владения?
— А кто из христианских государей посмеет посягнуть на земли монарха, сражающегося за освобождение Гроба Господня? Папа немедленно наложит интердикт[77] на любого, кто решится на подобное. Но этого не произойдет, ибо глаза всего христианского мира ныне устремлены на Ричарда — ибо ему одному под силу изгнать неверных из Иерусалима и вернуть всем истинно верующим надежду на милость небес.
— О, вы правы! — с готовностью откликнулась Беренгария. — И нет более высокой чести, чем стать его супругой. Быть женой короля-паладина — редкое счастье, и я, видит Бог, посвящу всю свою жизнь служению ему!
Она говорила пылко, ее глаза, обычно скромно опущенные, сияли. Охваченная порывом, Беренгария опустилась на колени и стала горячо молиться. Королева Иоанна последовала ее примеру. Взгляды рыцарей, находившихся на палубе, обратились к ним. Вид этих женщин, обращающихся к Богу на фоне ясного неба и неподвижного моря, был так выразителен, что и они присоединились к молитве. Когда же и молиться, если не на пути в Святую землю, готовясь отдать жизнь за правое дело!
Из всей команды лишь шкипер Питер не покинул свой пост. Его острый взгляд продолжал следить за многочисленными судами с бессильно обвисшими парусами. Море было по-прежнему неподвижным — на его зеркальной глади лежали отражения кораблей. И так который день подряд. Кто знает, когда снова задует ветер и будет ли он попутным? И чем обернется этот небывалый штиль?
Старому моряку из Бристоля эти духота и неподвижность воздуха были не по нутру. Может, и ему помолиться, испросив у Всевышнего хотя бы легкого ветерка? И пусть он действительно окажется легким по милости Божией…
Закончив молитву, обе женщины поднялись с колен и вернулись в свои покои в кормовой надстройке. Но для этого им пришлось пройти мимо рыцарей, склонявшихся в учтивых поклонах. Принцесса ускорила шаг, а вдовствующая королева Сицилии, наоборот, сочла своим долгом задержаться и побеседовать с обступившими ее паладинами.
Беренгарии пришлось ждать свою спутницу в окружении женщин, прислуживавших им в пути, — те были заняты ее свадебными нарядами. Просторный покой каюты выглядел как пышный цветник: разложенные там и сям свертки атласа и бархата горели, как рубины и смарагды, струились затканные золотом оборки и галуны, но сама принцесса, словно не замечая всего этого великолепия, тотчас погрузилась в свою работу — вышивание алтарного покрова. Лишь время от времени она замирала, прислушиваясь к доносившимся извне мужским голосам, звучным и дерзким, с которыми сплетался звонкий голос Иоанны, прерываемый смехом. И как ей не боязно находиться одной среди мужчин?
Когда наконец появилась Иоанна, Беренгария простерла к ней руки.
— Я беспокоилась за вас, любезная Пиона, — произнесла она, когда та, небрежно отбросив длинный шлейф, расположилась на кушетке. — Эти люди, с которыми вы беседовали… мне еще не приходилось видеть таких! Они огромные и выглядят дикарями.
Иоанна насмешливо покосилась: до чего же эта принцесса нежна и пуглива. Пора бы ей понять, что, став женой такого человека, как Ричард Львиное Сердце, придется вести себя в соответствии со своим новым положением. Она прекрасно воспитана, знает на память отцов Церкви и к тому же прехорошенькая: нежное личико, гладкая кожа — оливково-смуглая, как у всех в наваррской династии Хименес. Беренгария небольшого роста и во время обручения рядом с рослым и величественным Ричардом выглядела совсем крохотной, и это повергло в умиление многих: король — воплощение мужественности, и его хрупкая миниатюрная невеста. Несмотря на свою миниатюрность, принцесса прекрасно сложена — тонкая в талии, с округлыми бедрами и высокой грудью, которую не скрывают даже ее просторные одеяния.
Иоанна знала, что двор короля Санчо Наваррского слывет законодателем мод и куртуазных манер. И странно было видеть его дочь одетой словно послушница — ни подчеркивающих достоинства фигуры блио, ни драгоценных украшений, приличествующих даме столь высокого положения. Разумеется, Наварра небольшое и не слишком богатое королевство, но невеста короля Ричарда должна выглядеть достойно. Недаром сама Элеонора Аквитанская, после того как доставила невесту сына на Сицилию, обратилась к дочери с просьбой позаботиться о гардеробе для будущей английской королевы.
Иоанна сбилась с ног, подбирая у купцов лучшие ткани и шитье, вуали и драгоценности. Из-за нехватки времени наряды для принцессы пришлось шить уже в пути, ради этого дам сопровождали лучшие швеи, каких только удалось сыскать на Сицилии. Но Беренгария оказалась столь скромна, что ее едва удалось упросить позволить снять с нее мерки — до того принцессу смущали прикосновения чужих рук, пусть даже и женских. Неужели ее так воспитывали в монастыре? И эти ее огромные, карие глаза, всегда кажущиеся испуганными!
Нет, Беренгария далеко не наивна и не дика: у нее прекрасные манеры, она образованна и умеет тонко судить о людях и событиях. Что с того, что она то и дело пытается уединиться и предаться любимым занятиям — молитвам, чтению, шитью. Ничего удивительного — вырванная из тихой обители, где она вела безмятежную жизнь, девочка внезапно оказалась в самой гуще большой войны.
Иоанна ощутила прилив нежности к принцессе. Обняв Беренгарию, она ласково погладила ее гладко причесанные каштановые волосы.
— Бедное мое дитя! Незачем вам бояться мужчин, которые поклялись служить нам верой и правдой. В одном вы правы — они выглядят дикими и необузданными, ибо это шотландцы, обитатели далеких гор Каледонии.
— Шотландцы? Пречистая Дева! Но как король может им доверять? Ведь они заклятые враги англичан!
С этим Иоанне пришлось согласиться. Да, Шотландия и Англия нередко между собой воюют, но сопровождающие их шотландские рыцари преданы королю Ричарду до мозга костей. И на то есть веские причины.
Она поведала Беренгарии, как семнадцать лет назад король шотландцев Вильгельм Лев дерзко напал на английские приграничные замки в Нортумбрии, однако был схвачен рыцарями короля Генриха Плантагенета. Вильгельма заточили в подземелье, вынудив признать вассальную зависимость Шотландии от английской короны, и шотландским лордам пришлось с этим смириться. С той поры власть Генриха распространилась на всю Британию, хотя в Шотландии по-прежнему продолжали ненавидеть англичан, в первую очередь — королевских чиновников. Ричард же, придя к власти, освободил Вильгельма Льва и снял с Шотландии бремя навязанных его отцом обязательств, получив в обмен десять тысяч золотых, которые были немедленно вложены в подготовку похода в Палестину. Но не только золото стало ему наградой за мудрое решение: благодарные шотландцы прекратили набеги на северные земли Англии, все чаще стали заключаться браки между сыновьями и дочерями обоих народов, оживилась торговля, и многие рыцари-шотландцы, восхищенные благородством Ричарда, присягнули королю-крестоносцу и присоединились к его походу.
— Итак, принцесса, — заключила Иоанна, — теперь вы сами видите, что сопровождающие нас воины — люди преданные и доблестные. И я смело вверяю себя и вас их опеке.
Беренгария в задумчивости теребила нагрудный крест.
— Но разве золото способно заменить утрату земель? Разумно ли поступил король Ричард, отказавшись от того, чем его отец владел по праву?
«Вот тебе и на! Уж не осуждает ли наша скромница деяния своего жениха?» — невольно усмехнулась Иоанна.
Ей пришлось пояснить, что исполнение обета освободить Святую землю из-под власти язычников является делом всей жизни короля Ричарда. А война, в особенности в столь отдаленных краях, обходится дорого. Ее брат немало раздумывал, прежде чем выступить в поход, ибо не одни лишь доблесть и мужество ведут к победе. Необходимо быть во всем сильнее врага, а для этого нужны доспехи, оружие, лошади, провиант — и все наилучшего качества. Ради достижения великой цели Ричард добывал средства, где только возможно, и десять тысяч золотых, полученных им за освобождение шотландского короля, — всего лишь малая частица того, что вложено в подготовку войны с неверными. Приходилось ли принцессе Беренгарии слышать о «Саладиновой десятине»? Это налог, который выплачивают те подданные Ричарда, кто не решился выступить с королем на освобождение Гроба Господня. Помимо того, канцлер Лошан изыскал еще одну возможность получить деньги: после смерти короля Генриха II была пересмотрена деятельность чиновников прежнего правительства, и все, кто оказался нечист на руку, дабы избежать кары, могли внести за себя выкуп — и немалый. Эти деньги также пополнили казну крестового похода. Брались отступные и с тех рыцарей, которые, воодушевившись, приняли было на себя крест, а затем проявили малодушие. И, разумеется, — пожертвования монастырей, добровольные вклады купцов и землевладельцев, продажа целого ряда королевских имений.
Поистине, король Англии готов был на все, лишь бы его поход увенчался успехом. Однажды Ричард даже пошутил, что продал бы и Лондон, если б на него нашелся покупатель. Эту шутку тут же подхватили недоброжелатели короля, в том числе и Филипп Французский. И хотя Филипп ныне является союзником Ричарда и тоже выступил в Палестину, он предпочитает не тратить деньги, а получать их от короля Англии. Именно так он и поступил, выпросив у Ричарда часть кораблей на Сицилии.
— Я видела Филиппа Французского лишь мельком, — задумчиво заметила Беренгария. — Король Франции покидал Мессину в тот час, когда мой корабль входил в порт. Наши суда прошли почти вплотную, но он не удостоил меня даже милостивым кивком и сразу отвернулся.
— Милая принцесса, — Иоанна легко коснулась плеча девушки, — вы должны понять, что Филиппу потребуется немало времени, чтобы смириться с вашим браком. Ибо ради вас Ричард отказался от руки его сестры Алисы.
«Лучше бы наша нежная пташка даже не пыталась выяснить подробности этой нечистоплотной истории», — мельком подумала Иоанна.
Но Беренгария неожиданно спросила о другом. Смущаясь и не прекращая делать стежок за стежком, принцесса Наваррская поинтересовалась: насколько правдивы те слухи, которые дошли до нее уже в Мессине, — будто бы сама Иоанна отвергла ухаживания короля Франции? Говорили, что он оказывал ей особые знаки внимания, но в конце концов вдовствующая королева Сицилии попросила брата избавить ее от общества французского монарха. А ведь Филипп Капетинг вдовец, как и Иоанна вдова. Их союз мог бы оказаться полезным для обеих держав.
— Приятно слышать, что представления об интересах государств вам, Беренгария, не чужды, — Иоанна усмехнулась и взглянула на девушку поверх края бокала с водой, слегка подкрашенной вином. — Но все дело в том, что однажды я уже выходила замуж из политических соображений. Мне было двенадцать лет, когда меня отправили на Сицилию, и король Вильгельм казался мне глубоким стариком. А ведь ему было всего двадцать семь, он был лишь на год старше, чем мы с вами сегодня. Ведь вам, принцесса, как и мне, двадцать шесть, не так ли? Но Вильгельм был таким грузным и громогласным, он носил такую пышную окладистую бороду, что я — крохотный птенчик из Пуату — боялась его, а порой и ненавидела. И все же Вильгельм был снисходителен ко мне, он терпеливо ждал, пока я подрасту и смогу выполнять свой супружеский долг. Он позаботился о том, чтобы я подружилась с его наложницами, и те научили меня многому из того, что пригодилось нам с Вильгельмом, когда я стала его женой не только на троне, но и на ложе.
— Довольно! — отшатнулась Беренгария. — Я не желаю слушать ни о чем подобном.
«Так я и думала. — Иоанна оперлась на обитое сафьяном изголовье кушетки. — Монастырские постницы внушили-таки этой девочке, что все, касающееся радостей плоти, — греховно. Бедняга Ричард! Он воин, а ему придется нянчиться с этим полуребенком, воспитанным монахинями».
Однако она, как бы не услышав возгласа принцессы, продолжила говорить о покойном муже, несмотря на смущенные взгляды и заалевшие щеки Беренгарии.
— Мне хорошо жилось с Вильгельмом, меня нежили и баловали. И я глубоко уважала своего супруга. А то, что он содержал наложниц, подобно восточным владыкам… Скажите, милая, где в нашем мире мужчины считаются со своими женами и не глядят на сторону?
— Но ведь Ричард… он совсем другой, — прошелестела Беренгария, еще ниже склоняясь к пяльцам. — Королева Элеонора утверждала, что ее сын чужд разнузданной мужской природе, он истинный рыцарь и христианин.
— Так оно и есть. Вам повезло, Беренгария…
— Я знаю, — счастливо улыбнулась принцесса. — Мне достался лучший из мужчин, тот, кому можно без опаски вверить себя и свою честь. Не будь это так, я ни за что не отказалась бы стать невестой Христовой!
Все так же пылая румянцем, Беренгария поведала о том, как были ужасны нравы при дворе ее отца, где под видом куртуазных манер скрывался обыкновенный грязный разврат. Ее отец и брат поощряли это, а мать, кастильская принцесса Санча, вынуждена была терпеть и молча повиноваться мужу.
Иоанна выпрямилась.
— В таком случае вы понимаете, милая, почему я отказалась принимать ухаживания короля Филиппа. Слухи о нем и о моем брате Джеффри… Вы догадываетесь, на что я намекаю? Нет? Но это и неважно. Гораздо существеннее то, что Филипп хитер, беспринципен и безжалостен. Его кое-кто зовет Ангелом, но упаси нас Пречистая Дева от подобных ангелов! Когда он решил, что брак с юной Изабеллой де Эно ему не выгоден, он попытался развестись с ней под предлогом того, что она не может подарить ему наследника. А ведь Изабелле было всего четырнадцать лет! Несчастная девочка была вынуждена облачиться в рубище и, босая, пошла от церкви к церкви, от города к городу, умоляя Бога и простой народ вступиться за нее перед мужем. Это произвело такое впечатление, что короля вынудили вернуть супругу. Спустя три года она родила ему наследника — Людовика, а еще двумя годами позже скончалась во время родов, произведя на свет мертвых близнецов.
И что же Филипп? Он и минуты не горевал о несчастной Изабелле, хотя и пытался оттянуть свое выступление в поход — якобы из-за траура. Но даже его подданные усмотрели в смерти юной королевы знак Божий — Господь гневается на Филиппа из-за того, что тот не спешит в Святую землю. В результате все попытки Капетинга затянуть дело обернулись против него самого. Ну а мера его скорби стала очевидной для всех, когда он, еще не сняв траура по супруге, увлекся в Везле прелестной Джоанной де Шампер. О, никому я не желала бы обратить на себя его внимание, будь он хоть трижды король Франции!
— Что же случилось с Джоанной де Шампер?
Иоанна молчала. Стоило ли говорить о таких вещах с щепетильной Беренгарией? Но отчего бы и не развлечься, пока стоит штиль и обе они изнывают от скуки?
Начала она издалека. С кузиной Джоанной из рода де Шампер они вместе воспитывались при дворе Элеоноры Аквитанской в Пуату и даже были близки, несмотря на то, что Джоанна на четыре года младше. Она была забавным и одаренным ребенком, Иоанна всегда с удовольствием играла с ней, они вместе музицировали и затевали маленькие проказы. Джоанну воспитывали в духе этого куртуазного двора, где дамы чуть ли не с молоком матери впитывали умение привлекать к себе внимание. Много позднее, когда Джоанна, уже будучи замужем, отправилась с супругом в паломничество, по пути они остановились в городе Везле. Везле был назначен, в соответствии с планом похода, местом, где должны были соединиться армии королей-крестоносцев. Там было слишком много рыцарей и слишком мало дам, и Джоанна стала украшением походного двора Ричарда. В особенности восхищался кузиной английского короля Филипп Французский, а Джоанна отвечала ему с куртуазной игривостью. Куртуазные игры — это, конечно, возвышенно и очаровательно, однако когда Филипп во всеуслышание заявил, что Джоанна уступила его страстной настойчивости, на их отношения стали смотреть совсем иначе. Возникла угроза скандала, и Ричард поспешил замять дело, отправив Джоанну и ее супруга с особой миссией в Венгрию. А заодно намекнул Филиппу, что вызовет его на поединок, если тот не прекратит порочить честь его родственницы. Кончилось тем, что Филипп больше никогда и нигде не упоминал леди Джоанну, но едва встретившись с нею, с Иоанной Сицилийской, принялся вести себя в точности так же, как некогда с ее кузиной. Разве после этого Пиона могла поощрять его ухаживания?
— Я полагаю, король Филипп не осмелился бы нанести вам оскорбление, подобное тому, какое он нанес даме де Шампер, — заметила Беренгария, вдевая тонкую золотую нить в ушко иглы. — У него явно были иные намерения. Ведь вы не просто родня Плантагенетов — вы член могущественнейшего рода! И у вас огромное приданое, не говоря уже о том, что вы дочь, сестра и вдова королей.
Иоанна стремительно поднялась, сделав рукой жест, полный презрения. При этом край ее широкого рукава едва не задел низко опущенное лицо будущей невестки.
— Боже правый, Беренгария, но почему вы не принимаете в расчет хотя бы то, что жадный и подлый Капетинг мог просто не прийтись мне по душе? Я ведь говорила вам, что однажды уже выходила замуж в интересах дома Плантагенетов. И с меня довольно. Что касается моего якобы огромного приданого и «вдовьей доли», то я отдала их на нужды крестового похода.
— Как это благородно! — восхитилась Беренгария. — Одним таким поступком можно заслужить царствие небесное!
Она молитвенно сложила руки на груди, но Иоанна, разгоряченная воспоминаниями, не позволила принцессе углубиться в молитву.
— А знаете ли вы, что я потребовала от Ричарда за эту помощь? — с вызовом спросила она, и ее серые глаза потемнели, как штормовое море. — Я отдала ему все, но с одним условием: никогда более меня не принудят вступить в брак ради блага державы. Я выйду замуж только тогда, когда сама того пожелаю, и за того, кого выберу сама. И Ричард поклялся мне! Я купила у него свою свободу!
Беренгария смотрела с неподдельным изумлением, дивясь ее смелости. Пиона поставила условие царственному брату и вырвала у него клятву? Решилась на то, на что не имеют права даже принцессы? Впрочем, разве и сама Беренгария не отказывалась от предлагаемых ей союзов, ссылаясь на свое желание служить Христу? Но одно дело — вверить себя небесному жениху, и совсем другое… Нет, самой выбирать мужа — это просто неслыханно!
— Помолимся, милая сестра, — только и смогла вымолвить принцесса Наваррская, опуская край покрывала на лицо.
На другой день ничего не изменилось — штиль держался по-прежнему. Жара, казалось, еще усилилась, и укрыться от нее можно было только в тени обвисших парусов. Многие воины воспользовались затишьем, чтобы поплескаться в море. Это до такой степени смутило Беренгарию, что она почти не выходила из своих покоев.
Иоанна же, наоборот, со смехом наблюдала за барахтающимися в воде мужчинами. На Сицилии она и сама порой купалась в лазурных водах уединенных бухт, а теперь компанию ей составлял только шкипер Питер, окончательно впавший в уныние и без конца твердивший, что столь продолжительное безветрие — не к добру. Оживилась королева, только заметив, что к их юиссье от флагманского корабля движется большая лодка. Еще издали она различила среди гребцов статную фигуру в алой тунике с золотыми львами.
— Мои прекрасные дамы! — воскликнул Ричард, поднимаясь на борт и целуя руки сестре и поспешно покинувшей свое убежище Беренгарии. Руку невесты король задержал в своей, внимательно вглядываясь в лицо принцессы, отчего та мгновенно залилась румянцем.
— Вы видите, что происходит, милые дамы? — Ричард одним широким жестом обвел небосвод и неподвижное море. — Ни дуновения, и никаких перемен пока не предвидится. А ведь стоит Страстная неделя, и через пару дней наступит светлый праздник Пасхи. Вот почему мой друг Хьюберт Уолтер, епископ Солсбери, говорит, что раз уж нам суждено встретить Светлое Воскресение Христово вдали от берегов, то и наше венчание с Беренгарией произойдет тут же.
— Свадьба посреди моря? — пролепетала принцесса, и ее карие глаза расширились не то от удивления, не то от испуга.
— Необычно, дорогая моя? Но так или иначе, а я намерен прибыть на Святую землю с женой, а не с невестой. Ваш отец не будет доволен, если я стану медлить с венчанием, когда же мы окажемся под Акрой, там у меня появятся, увы, совсем иные заботы, весьма далекие от брачных наслаждений.
— Но ведь вы, государь, если не ошибаюсь, говорили, что мы сделаем остановку на острове Крит? — Беренгария выглядела так, будто вот-вот упадет без чувств.
Ричард снова внимательно взглянул на нее, потом взял невесту под локоть и склонился так низко, что слышать его могла она одна.
— Милая моя голубка! Мы станем мужем и женой рано или поздно. И чем скорее это произойдет, тем меньше станут болтать о том, что я везу в край язычников невинную деву. Вы будете моей королевой и никогда, клянусь всеми святыми Англии, я не обижу вас и не причиню вам вреда. А ваша любовь и ваши молитвы будут хранить меня в битвах. Отныне я вверяю вам свою жизнь.
На глазах Беренгарии стояли светлые слезы.
— Ричард, — она впервые осмелилась обратиться к жениху по имени, — мой дорогой паладин! Я буду так любить вас и так молить за вас небеса, что сама Пречистая Дева оденет вас своим покровом, если вам будет грозить опасность!
Всего мгновение они смотрели друг на друга — высокий, облаченный в ослепительно-алые одежды король, и его невеста — робкая, трогательная, но полная очарования благодаря дивному свету, вспыхнувшему в ее огромных глазах. Даже полумонашеское одеяние не портило ее в эту минуту.
И все же, когда Ричард отошел в сторону с сестрой, разговор зашел именно о наряде принцессы Наваррской.
— Пиона, я всецело надеюсь на тебя. И прошу проследить, чтобы будущая королева выглядела как подобает супруге властителя четвертой части Европы.
Он вскинул руку, не желая слышать, что Беренгария наотрез отказалась в дни, предшествующие крестной муке Спасителя, надевать что-либо, кроме грубошерстного подобия власяницы.
— С королями не спорят, сестра, и ты в этом убедилась на собственном опыте, я знаю. Сделай что-нибудь, иначе я не смогу отделаться от ощущения, что совращаю монахиню. Ты заметила, как эта отвратительная власяница натирает шею моей нежной невесты? Она явно причиняет ей боль, а я…
— Ты тоже причинишь ей боль в вашу первую ночь, этого не избежать, — с лукавой улыбкой возразила Иоанна.
Ричард неожиданно вспыхнул, но сдержался и слегка ущипнул сестру за щеку.
— Не тебе рассуждать о таких вещах, бесстыдница! Скажи лучше, как вы на своем юиссье уживаетесь с шотландцами? Довольны ли вы ими?
Иоанна принялась горячо нахваливать шотландских паладинов, особо выделив их капитана, рослого светлокудрого красавца Осберта Олифарда, и Ричард даже пошутил: дескать, похоже, что этот каледонский рубака приглянулся ей куда больше, чем король Франции, которому пришлось убраться ни с чем.
Шутка не понравилась Пионе, и она отвернулась, опустив на лицо вуаль, чтобы Ричард не заметил ее смущения.
Но король уже вглядывался в горизонт — тусклый, покрытый мутной свинцовой дымкой.
О, как ему не терпелось начать дело, которому он посвятил жизнь! Сколько сил было потрачено, сколько бешеной энергии и воли понадобилось, чтобы сдвинуть с мертвой точки эту гигантскую массу вооруженных людей, говорящих на разных языках и думающих по-разному. И вот — приходится болтаться, как поплавок в какой-нибудь сельской луже, тогда как отплывший ранее Филипп наверняка уже рубится с неверными. А ведь это его, Ричарда Плантагенета, война. И что бы там ни болтал Филипп, как бы ни намекал на то, что, по всем законам войны, именно ему надлежит быть главнокомандующим силами крестоносцев, ибо Ричард его вассал,[78] — король Англии знал — только ему под силу одолеть сарацин и вступить в смертельную схватку с самим султаном Саладином.
Замеченная королем дымка тревожила и шкипера Питера. И пока Ричард возвращался на флагманское судно, Питер ломал голову над тем, что сулит этот свинцовый горизонт. Штиль может продержаться еще несколько дней, а может преподнести пренеприятный сюрприз, и весьма скоро. Тут уж все зависит от высших сил, в чьей воле то, что сейчас таится за горизонтом.
Ночь, однако, прошла спокойно. Лишь под утро задул легкий ветер, и бодрствовавший почти всю ночь капитан тотчас велел команде готовить такелаж. Заскрипели блоки, завизжали вороты, оживившиеся матросы приветствовали перемену погоды возгласами:
— Ветер! Ветер вернулся!
Вскоре наполнились и загудели паруса — впервые за долгое время. Шкипер поспешно прошел на корму.
Впору было радоваться — но день был вовсе не подходящим для этого.
Наступила Страстная Пятница, когда мрак спускается на землю, и всякий христианин должен мысленно сопутствовать Христу в его страданиях. Ветер крепчал, суда кренились, набирая ход, но уже повсюду на палубах показались священники и служки. К ним из трюмов поднимались воины и матросы, чтобы совершить Виа Круцис — обряд Крестного пути, состоящий из четырнадцати молитвенных стояний и воспроизводящий мученический путь Спасителя от суда у Понтия Пилата вплоть до его погребения, а затем склониться перед Святым крестом, закрытым в этот день в знак скорби покрывалом.
По завершении обряда Беренгария, все еще полная возвышенных переживаний, заметила, обращаясь к будущей золовке:
— Похоже, что наша свадьба в море все же не состоится!
Иоанне показалось, что в ее голосе звучит облегчение.
Шкипер Питер, едва священнослужители разоблачились, поспешно прошел на нос корабля и надолго застыл у резной фигуры птицы на форштевне, вглядываясь в туманную даль. От былого спокойствия на море не осталось ни следа. Судно то взмывало над водой, то стремительно опускалось, форштевень рассекал волны, взметая пену и брызги.
Ветер, между тем, набирал силу: сначала он был ровным, дул с запада, а к четырем часам пополудни повернул к северу и превратился в порывистый. Время от времени налетали шквалы. Небо на закате запылало мрачным огнем, но даже не эта картина, подобная окну в преисподнюю, тревожила шкипера. С севера надвигались, гася небо, тучи, в той стороне уже клубился сплошной мрак. Волнение росло, качка усиливалась, и многие на кораблях уже страдали от морской болезни.
Питер невольно выругался, помянув нечистую силу. Грешно, конечно, в такой день, но и сдержать себя он не смог: судя по перемещению сигнальных огней, зажженных на мачтах из-за рано наступившей темноты, корабли флотилии начали расходиться все дальше, нарушая первоначальный строй.
На флагманском нефе вместе с Ричардом находился предводитель тамплиеров Робер де Сабле — превосходный мореплаватель и знаток морских маневров, и уж если он допустил, чтобы корабли начали рассредоточиваться, значит, ему стало ясно, что этого все равно не избежать. Вскоре всякая связь между судами прервется, и шкиперам придется действовать по собственному разумению, на свой страх и риск. А ведь он, Питер из Бристоля, несет ответственность не только за судно, груз и команду, но и за невесту и сестру короля!
Все, что ему оставалось теперь, — следить за огнями флагмана, спустить паруса, закрепить гафели и гики и держать свой юиссье носом к волне.
Теперь шкипер твердо знал — грядет буря, и после долгого штиля и жары мощь ее будет огромной. Поэтому он больше не сквернословил, а хрипло напевал себе под нос покаянные псалмы, вторя голосам, доносившимся до него с палубы.
В своем покое в кормовой надстройке королева Иоанна и принцесса Беренгария горячо молились, время от времени вскрикивая и хватаясь за руки, когда судно взлетало ввысь, а затем стремительно проваливалось в долину между двумя волнами, словно норовило уйти прямиком на дно.
На короткое время ход юиссье выровнялся, и Иоанна, чтобы отвлечь Беренгарию, поведала ей о том, что на деле скрывалось за ее браком с Ричардом Английским. Ведь и здесь не удалось избежать расчета и тайной политической игры. Дело в том, что матерью матери Элеоноры Аквитанской была Филиппа Тулузская, а коль скоро это так, Плантагенеты имеют весомые права на графство Тулуза. Но для того, чтобы предъявить эти права, напав на Тулузу, необходимо обезопасить южные рубежи Анжуйских владений. И эта цель будет достигнута, когда Ричард и Беренгария обвенчаются, а Наварра станет естественным союзником державы Плантагенетов…
Она не закончила свой рассказ, с ужасом ощутив, как к горлу подступает тошнота. Пречистая Дева, когда же закончатся эти мучения!
На самом деле это было только начало. Снова и снова юиссье взлетал и падал в пропасти, буря швыряла его, как щепку, настил под ногами ходил ходуном. Но хуже всего было неведение. Что происходит на палубе? Велика ли опасность?
В конце концов Иоанна решилась покинуть покой и расспросить шкипера, но у самого выхода из надстройки ее остановил шотландец Осберт.
— Не вздумайте выходить, мадам! — закричал он, весьма непочтительно обхватывая талию королевы. И вовремя — иначе уже нависшая над бортом гигантская волна смыла бы сестру Ричарда за борт. В следующую секунду бушующая стихия лавиной пронеслась по палубе, сметая все на своем пути.
Иоанна с отчаянным возгласом вцепилась в рыцаря, оба потеряли равновесие и покатились вниз по сходням на нижнюю палубу. Сверху на них обрушились потоки соленой воды, но Осберт крепко держал королеву. В это время налетел новый шквал, и сильнейший град застучал по мокрым доскам палубы и кровлям надстроек.
Иоанна, сделав усилие, попробовала приподняться.
— Возвращайтесь немедленно, ваше величество! — закричал шотландский рыцарь, перекрывая могучим голосом рев бури. И он, и Иоанна вымокли до нитки. — Возвращайтесь! Корабль надежен, он выдержит и не такое, а вы из-за своего легкомыслия едва не отправились кормить рыб!
Королеве пришлось подчиниться. Она вернулась на полуют, напоминавший поле битвы. Среди разбросанных принадлежностей для шитья и раскроенных тканей лежали пластом, оглашая покои стонами, служанки, швеи и невеста Ричарда. Морская стихия, как известно, не знает разницы между знатными господами и прислугой. Гребни волн порой взлетали так высоко, что клочья пены достигали окон их покоя.
Никто не заметил, как наступил день. Но вокруг по-прежнему царил такой же мрак, а корабль, превратившийся в игрушку волн, несся в неизвестном направлении, содрогаясь до килевого бруса.
На мгновение сознание Иоанны помутилось — это был не то обморок, не то краткий сон, вызванный страшной усталостью. Но корабль снова накренился, ее тело покатилось по палубному настилу, и она пришла в себя.
Прямо перед ней, вцепившись в резной столбик ложа, на коленях стояла Беренгария. Иоанна поразилась: даже в этом клокочущем аду принцесса Наваррская умудрялась молиться. Глаза ее были устремлены ввысь, губы беззвучно шевелились.
Наконец их взгляды встретились, и Беренгария помогла Иоанне подняться.
— Это я всему виной! — скорбно вымолвила принцесса. — Я так боялась первой брачной ночи, что упросила небо отсрочить миг нашей свадьбы с Ричардом… А теперь мы все непременно погибнем, и мой возлюбленный не сможет исполнить свой обет! Я чувствую, что за это мне суждено гореть в геенне огненной!
— Замолчите, Беренгария! — с негодованием воскликнула Иоанна. — Неужели небесам больше нечем заняться, кроме молитв какой-то насмерть перепуганной девственницы?
— Не кощунствуйте, Пиона! — отпрянула принцесса, выпустив руку Иоанны.
Та покачнулась и с силой ударилась головой о стойку ложа.
Боль оказалась настолько резкой, что Иоанна, всегда казавшаяся себе сильной и мужественной, внезапно расплакалась, словно дитя. Беренгария бросилась к ней, пытаясь утешить, и королева Сицилии вдруг уткнулась в ее колени, исходя слезами и бормоча, что не хочет умирать, и как это страшно — стать мертвой…
Принцесса же стала уверять ее, что смерть — это всего лишь переход к иной жизни, подлинной, той, ради которой и приходит в полный греха мир человек, чтобы презреть все его искушения, а затем уйти туда, где все по-другому и где ждут его те, кого они любили в этом мире. Но не эти затверженные слова — ибо кому ведомо, что ждет его за гробом, а сам голос Беренгарии и звучавшая в нем пронзительно чистая вера успокоили Иоанну. Страх отступил, и она вновь стала самой собой…
Всему рано или поздно приходит конец, и много часов спустя на пороге их покоя возник Осберт Олифард. Одежда его была мокра и растерзана в клочья, белокурые волосы слиплись от соли, на скуле кровоточила ссадина. Но и таким он показался вдовствующей королеве Сицилии столь прекрасным, надежным и полным внутреннего покоя, что она протянула к нему руки, словно хотела заключить в объятия.
— Что скажете, Осберт? — проговорила она.
— Буря, похоже, стихает, мадам.
Он без всяких церемоний опустился на палубный настил рядом с сидевшей на ковре королевой и поведал о том, как ветер и волны двое суток несли их корабль, все время меняя направление, и как бесследно исчезли за горизонтом другие суда флотилии Ричарда. Буря сломала одну из мачт, трюм на треть заполнился водой, и юиссье основательно осел, но даже это не беда по сравнению с тем, что за борт смыта половина судовой команды, и шотландским рыцарям пришлось все это время выполнять работу простых матросов. Шкипер Питер, однако, доказал, что знает, как провести судно сквозь бурю, и вот — они спасены!
— Какой сегодня день? — спросила слушавшая рассказ шотландца Пиона.
— Один только Бог знает, — пожал плечами Осберт и внезапно, протянув руку, отвел с лица Иоанны прядь неприбранных волос. В этом прикосновении было больше чувства, чем в дюжине самых сладостных кансон.
— В любом случае мы должны возблагодарить Господа за наше спасение! — произнесла рядом Беренгария, складывая ладони перед грудью. По ее лицу текли счастливые слезы.
Но, похоже, возносить благодарственные молитвы было еще рано.
Корабль неспешно продвигался вперед в густом белесом мареве тумана. Лишь высоко вверху мерцало призрачное пятно солнца. Шкипер, будучи не в силах определить, где они находятся, приказал трубить в рога и бить в судовой колокол в надежде, что их хоть кто-нибудь услышит. Не могла же буря разметать огромную армаду настолько, чтобы хоть одно судно не оказалось поблизости!
Увы, так оно и было. Туман постепенно рассеивался. Целый день они шли по ветру, не видя на горизонте ни одного паруса. Ночь прошла спокойно, лишь поверхность моря все еще колебала мертвая зыбь. А на рассвете матрос, посланный на мачту, возвестил, что на горизонте — земля. Все поспешили на палубу, даже женщины, на ходу кутаясь в покрывала.
Первой узнала очертания берегов Иоанна.
— Силы небесные — это Кипр! — воскликнула она, осеняя себя знаком креста.
Беренгария молча следила за тем, как королева совещается со шкипером и рыцарями. Когда Иоанна вернулась к принцессе, лицо ее было сумрачным.
— Что вас тревожит, милая? — спросила Беренгария.
— Шкипер Питер говорит, что из-за повреждений мы не можем продолжать плавание, и нам придется пристать к берегам Кипра.
— Но ведь это удача, что рядом оказалась земля? — улыбнулась Беренгария, вглядываясь в голубоватые очертания гор и темные курчавые пятна зарослей на побережье. Все еще не успокоившаяся морская стихия пугала принцессу гораздо больше, чем незнакомая суша.
Лицо Иоанны осталось напряженным. Ее скулы заострились, голос зазвучал прерывисто.
— По словам нашего шкипера, Всевышний послал нам землю как раз вовремя, ибо корпус судна расшатан, скрепы разошлись и вода в трюме продолжает прибывать. Наш юиссье теряет устойчивость, и даже при небольшом волнении может перевернуться. Если бы море было спокойным… но это, увы, не так. Поэтому нам придется встать на якорь в одной из бухт на Кипре, ну а там…
Иоанна сглотнула, словно у нее внезапно пересохло в горле. Но Беренгария продолжала смотреть на нее вопросительно, и королеве пришлось кое-что пояснить. Они вынуждены пристать на Кипре, и одному Богу известно, сколько времени займет починка судна. Однако местом сбора кораблей армады Ричарда назначен остров Крит. Никому и в голову не придет, что судно с невестой короля и его сестрой буря могла унести так далеко на запад.
— Мы можем и здесь попросить о пристанище!
Беренгария продолжала вглядываться в приближающийся берег. Уже были видны желтые скалы, небольшая гавань с десятком судов, стоявших у причала и на рейде. Выше лепились строения небольшого городка, над которым господствовала небольшая крепостца, над сторожевой башней развевался флаг.
— Скоро мы будем в безопасности, Пиона, — улыбнулась принцесса. — Что вас так беспокоит, милая? Разве Кипр не христианская земля? Никто не посмеет причинить вред кораблю, который находится под покровительством короля-крестоносца.
Иоанна ответила коротким невеселым смешком.
— Несомненно, христианская. Но правит ею ныне Исаак Комнин, а этот человек… Он не государь, а отъявленный негодяй!
И она поведала принцессе, что нынешний правитель Кипра, Исаак из знатного ромейского рода Комнинов, хоть и приходится родней императорам в Константинополе, семь лет назад захватил власть над Кипром и отказался подчиняться столице империи. Завоеванный остров он объявил своей собственностью, назначил самозваного патриарха, а тот, по воле Исаака, короновал его как императора. Константинополю это, разумеется, не понравилось, и ромеи выслали на остров флот. Тогда хитрый и дальновидный Исаак обратился к королю Сицилии, ибо эта держава соперничала на море с ромеями. И Вильгельм, ныне покойный супруг Иоанны, помог Исааку Комнину отбиться. С тех пор ромеи больше не пытались свергнуть самопровозглашенного императора.
Беренгарию меньше всего тревожило то, что впавшие в ересь ромейские схизматики утратили одно из своих владений.
— Я полагаю, с Божьей помощью все уладится, — она вновь возвела очи к небесам. — Да и стоит ли волноваться, если этот Исаак Комнин — ваш союзник? Он охотно окажет нам помощь.
Иоанна ответила не сразу.
— О нет, — наконец проговорила она. — С тех пор многое изменилось, и мой несчастный супруг не раз пожалел о том, что помог утвердиться на Кипре этому негодяю. Ибо тот столковался с Саладином, во всем поддерживает неверных, ведет с ними торговлю, а его суда грабят и топят корабли паломников-христиан. Ибо Исаак Комнин — грязный разбойник. И да поможет нам Пресвятая Дева, если он проведает о том, что в его руках оказались сестра и невеста короля-крестоносца!
Беренгария молча осенила себя знаком креста.
Уже были видны зубцы на парапете крепости, ее стены повторяли изгибы береговой линии. Корабль приближался к гавани, а на его палубе царило напряженное молчание. Рыцари, измученные борьбой со стихией, следили за группой всадников, появившейся у причала. Те размахивали руками и что-то выкрикивали — очевидно, требуя, чтобы юиссье подошел к причалу.
Уже в бухте Иоанна велела шкиперу ни в коем случае не приближаться к ним и встать на якорь на изрядном расстоянии от берега. Затем она спросила Питера, есть ли надежда залатать пробоины и укрепить обшивку, не высаживаясь на сушу, но, получив отрицательный ответ и посоветовавшись с рыцарями, решила отправить к правителю острова депутацию из нескольких человек с просьбой о помощи.
Вскоре посланцы отбыли, но на берегу их тотчас окружили и повели в сторону крепости. Затем к кораблю приблизились лодки местных жителей, которые принялись предлагать свои товары — свежую рыбу, апельсины, сладкое кипрское вино. Завязалась торговля, рыцари и матросы переговаривались с киприотами, и напряжение на борту корабля постепенно спало. Из слов местных жителей выяснилось, что залив этот зовется Акротири, а город на берегу — Лимасол, хотя ромеи именуют его Неаполисом. Император сейчас в отъезде, но к нему уже посланы гонцы с сообщением о прибытии большого чужеземного корабля.
Оставалось дождаться, когда вернутся посланные на берег. Однако наступила ночь, а от них не было никаких вестей. Вода в трюмах, хоть и медленно, но продолжала прибывать, и шкипер с остатками команды делали все, что в человеческих силах, чтобы устранить течь. Все прочие вооружились и поочередно несли дозорную службу на верхней палубе кормовой надстройки, вглядываясь в побережье и гадая, когда же поступит ответ самозваного императора.
Ответ был получен утром. Едва лучи солнца коснулись окрестных возвышенностей, на башнях крепости появилось страшное украшение — насаженные на копья головы рыцарей-посланцев.
— Этого я и опасалась, — скорбно обронила Иоанна. И, повернувшись к своим людям, велела готовиться к обороне.
— Если, конечно, мы не окажемся на дне еще до того, как увидим противника! — мрачно заметил, глядя на осевшую корму, шкипер Питер.
И снова сплюнул от бессильной ярости. На сей раз — в воду.
Принцесса Беренгария беззвучно опустилась на колени. Кто знает, о чем она молилась в ту минуту…
ГЛАВА 8
Малая Азия, апрель.
Как пусто, когда умирает любовь!..
В душе лишь одиночество и холод. Нет свежих и глубоких чувств, радости и боли, нет неуемного волнения в сердце. Все вокруг становится серым, неприглядным, полным тоски и равнодушия…
С этими мыслями Джоанна де Ринель, леди Незерби, ехала по пустынным дорогам враждебного Конийского султаната. Внешне она выглядела спокойной, но для тех, кто хоть немного знал ее, было ясно — леди совсем плоха. Куда-то исчезли ее обычная живость и беспечность, жажда новых впечатлений, способность радоваться любому пустяку, новым местам и людям, во всем отыскивать нечто интересное и бесконечно занимательное.
Правда, и местность к этому располагала. Небольшой отряд продвигался по бездорожью. Пыль, тонкая и всепроникающая, как мука, песок цвета охры, высохшие русла рек, кое-где чахлые колючие кустарники, на горизонте синие тени далеких гор. И постоянная угроза столкнуться с отрядом газизов,[79] которые не лучше иных разбойников, а то и хуже.
Возглавлявший отряд Мартин настоял на том, чтобы они передвигались только по ночам. Этому никто не противился — спутники единодушно признали рыцаря своим предводителем. Даже сэр Обри, несмотря на его упрямство. Почтенный лорд вообще стушевался — то ли после того, как его на глазах у всех унизила супруга, то ли оттого, что по его вине все они оказались в беде. Он держался замкнуто, а порой, когда дорога становилась совсем никудышной, даже безропотно помогал вести под уздцы вьючных мулов.
Из соображений безопасности Мартин высылал на разведку Сабира: тот уносился вперед на своей легконогой кобылке, и пока путники видели его силуэт, замерший на одной из возвышенностей, они могли беспрепятственно следовать дальше. Сабир поджидал отряд, оглядывая окрестности, а затем снова пришпоривал лошадь.
Порой вместо него отправлялся Эйрик. Во время его отлучек белокурая худенькая Саннива так волновалась, что, если ее рыжий гигант вскоре не объявлялся, начинала плакать. Трусивший рядом с ней на муле капитан Дрого отчитывал служанку: зачем лить слезы попусту, если ничего не случилось? Так и беду недолго накликать.
Саннива пугалась и в испуге зажимала ладошкой рот, ее слезы мигом высыхали.
Дрого был ранен в бедро, но держался мужественно, не жаловался ни на что, уверяя, что тряска в седле ему нипочем. Помогал и бальзам, которым его снабдил добросердечный Иосиф. И все же, спешившись, капитан сильно припадал на раненую ногу и порой не в силах был удержать болезненный стон.
— Долго ли еще нам ехать по этим адским землям, мессир д'Анэ? — спрашивал он.
Мартин пояснял: отряд должен двигаться на запад до тех пор, пока не окажется в ромейских владениях. Но по мере приближения к ним возрастает и опасность столкнуться с газизами, которые шныряют на дальних окраинах Конийского султаната. Если это случится, то история с «уводящими» покажется им забавной детской шалостью. Ибо газизы нападают на путников не по приказу и не из корысти, а из ненависти к иноверцам. Вот почему им приходится тащиться в темноте по бездорожью.
Ближе к рассвету отряд останавливался в одной из укромных низин, где можно было устроить дневную стоянку. Охотились они также на рассвете. Дичи хватало с избытком — здешние газели и антилопы были не пугливы, подпускали человека на расстояние полета стрелы. При свете дня можно было без опаски развести огонь и приготовить пищу. С наступлением темноты — снова в путь.
Дрого принялся было ворчать, что лучше бы им было вернуться по караванному пути в Дорилею, но ничего не добился, остыл и больше не задавал вопросов. Мартин же совершенно осознанно избрал наиболее трудный и опасный путь, и теперь на свой страх и риск удалялся от торговых путей в безлюдную глушь. В случае успеха он вновь станет в глазах сестры Уильяма де Шампера спасителем, и это позволит ему вести себя как галантному рыцарю, очарованному ее прелестями.
Леди Джоанну мало занимали превратности пути — она была всецело погружена в свои мысли, а душа ее переполнена тоской и горечью разочарования. Прежде ей и в голову не приходило, какое это огромное потрясение: осознать, что вся ее любовь, все надежды на счастье развеялись, исчезли за пустынным горизонтом. Так горячий ветер гонит по бесплодной земле и уносит за холмы сухие шары колючего перекати-поля… о, она никогда не забудет, как это начиналось: посреди ристалища рыцарь в сверкающих доспехах вздымал на дыбы могучего белого коня, торжествующе, жестом победителя, вскидывал вверх копье, а затем возлагал к ее ногам диадему королевы турнира, прекраснейшей из дам. Это видели тысячи людей, и ее отец счастливо улыбался, радуясь радостью дочери.
Ее отец! Артур де Шампер, гронвудский барон, лорд Малмсбери, родич короля Генриха II! Для Джоанны он был самым близким человеком, идеалом мужчины и рыцаря. Даже с годами лорд Артур не утратил своей привлекательности и чарующего обаяния. Поговаривали, что Джоанна похожа на него, но это было преувеличением. На самом деле на отца походил один из ее братьев — Гай, но кое-что от лорда Артура досталось и ей: прекрасные черные волосы, грациозная легкость походки, худощавость, любовь к музыке и поэзии. Артур де Шампер очень любил дочь, и на рождественский турнир в Винчестере из всех детей взял с собой одну ее.
А в Малмсбери она вернулась женой рыцаря Обри де Ринеля.
— Но как же я мог отказать влюбленным? — заявил лорд Артур супруге. — Ведь было время, когда и я пытался добиться твоей руки на турнире. И вот теперь, так же как и мы, наша Джоанна нашла свое счастье с Обри!
Леди Милдрэд де Шампер была женщиной практичной и тотчас начала ставить вопросы: почтенного ли рода ее зять Обри? Что у него за состояние? Достоин ли он чести войти в семью, близкую к королевскому дому?
Джоанна оскорбилась. К чему такое недоверие? Разве не достаточно того, что ее Обри рыцарь, а значит имеет право взять ее в жены? Да, де Ринели из Нортумберленда не богаты, но у ее мужа есть имя, и он любит ее! А для благополучия в браке вполне достаточно ее приданого — замка Незерби с окрестными землями…
Нет, она не могла понять свою мать, которая настолько возмутилась скоропалительным решением лорда Артура, что на несколько месяцев покинула супруга, удалившись в обитель Святой Хильды, настоятельницей которой была ее дочь Элеонора, старшая сестра Джоанны.
Но время шло, и Джоанна сама начала понимать, что в ее браке далеко не все гладко. Дело не в том, что оруженосцы ее супруга походили на разбойников, и люди из Незерби попросту выгнали их из поместья, несмотря на ярость Обри. И не в том, что Обри порой грубо одергивал юную жену на супружеском ложе:
— Джоанна, ведите себя скромнее! Подобное бесстыдство более пристало девке из таверны, нежели благородной госпоже!
Обри был старше на несколько лет, и Джоанна терялась, считая, что с ней что-то не так, если муж упрекает ее за жадность к ласкам, за страстность и несдержанность, когда она теряла голову во время любовных игр. Это действовало на Обри как ушат холодной воды, его желание угасало, и он отодвигался от Джоанны. Она же, смущенная и подавленная, стыдилась того, что жило в ней и требовало выхода, — того, что ее супруг презрительно называл «бесстыдством».
В результате она стала сдерживать себя. Принесла покаяние, признавшись духовнику, что в ней живет некий бес, который временами доводит ее до полного исступления. Но любовь к Обри никуда не делась — она была накрепко привязана к своему рыцарственному и красивому супругу. Они выглядели вполне благополучной парой. До тех пор, пока не только она сама, но и другие не начали замечать, что Обри де Ринель — скуповат.
Первой это почувствовала челядь в Незерби. Простой люд всегда все видит и знает, и обсуждать поступки господ ему не закажешь. Можно только вообразить, что говорилось в конюшнях и кухне, в харчевнях за кружкой эля и по вечерам во внутренних дворах замка после того, как сэр Обри урезал слугам содержание, перестал жаловать им новую одежду, когда изнашивалась старая, и прекратил делать своим людям подарки к праздникам Рождества и Пасхи. А ведь в роду де Шамперов всегда заботились о слугах, это было доброй традицией, и те платили господам преданностью!
О новом лорде заговорили с неприязнью, и Джоанне пришлось вмешаться, чтобы укротить особенно злоречивых. Сама же она наивно полагала, что причина такой скупости проста: ее супруг происходит из родовитой, но многодетной и обедневшей семьи, где на счету каждый пенни. И если он экономит, то лишь для того, чтобы немного помочь своей родне на севере.
Лорд Артур де Шампер время от времени наезжал в Незерби — проведать дочь. С зятем он держался вполне дружелюбно. Когда же отец и мать Джоанны наконец-то примирились, к нему присоединилась леди Милдрэд, которая также больше не выказывала недовольства зятем. Впрочем, ее острый глаз также не преминул отметить, что, несмотря на солидную выручку на Гронвудской ярмарке, челядь в замке продолжала ходить обтрепанной и полуголодной, а наряды Джоанны ни в чем не обновились. Отчего бы супругу не порадовать юную жену после удачных конских торгов? Ведь сам-то он обзавелся шейной цепью кованого золота с самоцветами и богатым поясом с набором из серебряных позолоченных пластин!
Джоанна оправдывалась: лорд обязан выглядеть величественно, ей же пока хватает нарядов из приданого. Остаток выручки Обри отправил в Нортумберленд, чтобы возместить родне траты, каковые понадобились, чтобы он мог принимать участие в турнирах. Она находила такой поступок благородным и полностью его поддерживала.
— Господь с вами, — вздыхала леди Милдрэд. — Ты замужняя женщина, маленькая Джоан, и мне довольно одного: знать, что ты счастлива. Но все же я прихватила с собой штуку тонкого фламандского сукна, чтобы ты могла явиться к нам на Рождество в новом наряде…
От воспоминаний леди Джоанну отвлек голос рыцаря-госпитальера. Привал!
Почти рассвело, отряду необходимо передохнуть и восстановить силы, прежде чем снова пускаться в путь под темным ночным небом, усеянным незнакомыми звездами.
Однако молодой леди показалось, что на сей раз рыцарь выбрал не лучшее место для отдыха — голый склон, усеянный обломками скал. Нигде поблизости ни источника, ни водоема, а тот запас влаги, который они везли с собой в бурдюках, уже почти израсходован.
Джоанна не стала роптать, хотя ее косы были полны песка, а все тело зудело от пота и пыли. Приходилось терпеть, раз уж они всецело вверились этим людям. Могла ли она представить, благородная дама, отправившаяся в путь как принцесса — со свитой, прислугой, воинами охраны, поваром и пажом, — что ей придется спать на голых камнях и мечтать о лишней плошке воды, чтобы вымыть лицо и руки?
Ниже ее достоинства высказывать недовольство тому, кому она обязана свободой, честью и самой жизнью. Даже Обри не жалуется, хотя и меньшие неудобства, будь это в обычное время, могли бы вывести его из себя. Он молчалив, сух, и по-прежнему с его лица не сходит оскорбленное выражение — явно не может простить ей пощечину. Пусть его — так даже легче. Но Пречистая Дева, как они смогут жить вместе дальше?!
От этих мыслей в ее душе снова образовалась сосущая пустота. Джоанна попыталась улечься поудобнее на своей жесткой постели, состоявшей из двух попон и ее собственного плаща, когда позади послышалось ворчание камеристки Годит. Та, сетуя, что приходится трястись в седле ночь напролет, а затем пытаться заснуть под палящим солнцем, укладывалась рядом с госпожой.
Неожиданно Годит проговорила:
— А заметили ли вы, миледи, что рыцарь Мартин д'Анэ, наш спаситель, не сводит с вас глаз?
— Ты и прежде говорила, что его взгляд не таков, как у рыцаря-монаха, принесшего святые обеты. Должно быть, его очаровывает вид измученной дамы в покрытом пылью платье и с много дней немытым лицом.
Годит пропустила насмешку мимо ушей.
— А ведь он, скажу я вам, миледи, дивно хорош собой. Госпитальер! А как по мне — просто привлекательный мужчина. Сколько ни живу, а такого еще не видывала — да простит мне Господь эти греховные речи! Ваш братец Генри тоже хоть куда, но он и вполовину не так хорош, как сэр Мартин. Что скажете, миледи?
— К чему этот вопрос, Годит?
Приподнявшись, служанка по-матерински провела ладонью по волосам своей госпожи.
— Да к тому, что сколько бы ни вилось вокруг вас пригожих молодых рыцарей, сколько бы слухов ни распространяла молва, вы всегда оставались верны вашему капризному супругу. Вы добродетельны, миледи, да только сэр Обри давно заслуживает того, чтобы ему наставили рога.
— Прекрати, Годит! Что бы сказала моя матушка, услышав такие речи?
— Ваша матушка приставила меня к вам, когда вы были еще совсем дитя. Несмотря на то, что мой дед Хорса всегда враждовал с лордами из Гронвуда. И уж если леди Милдрэд поручила мне сопровождать вас в дальние края — значит, она верит мне и знает, что, каковы бы ни были мои советы, они не к худу.
Джоанна промолчала. Ей приходилось слышать немало подобных речей, когда стало ясно, и не ей одной, что с их браком с Обри не все ладно. Минуло семь лет, а она так и не смогла зачать и родить ребенка…
Леди Незерби никогда и никому не говорила о том, как редко и неохотно исполняет свой супружеский долг Обри. У него всегда находились причины избегнуть этой обязанности: усталость, дни поста, церковные праздники, да мало ли что еще… Он всегда был строг и сдержан, и она считала, что должна уважать его целомудрие.
Она же… Ей приходилось гасить в себе греховные плотские порывы, а в минуты их редких и кратких соитий Джоанна всячески обуздывала себя, чтобы не поддаться той неистовой силе, которая кипела в ее крови. Со временем она привыкла просто засыпать бок о бок с супругом, без ласк и поцелуев, которых так жаждала поначалу. Это тоже было приятно, а в зимние ночи тепло его большого тела согревало ее.
Лишь в одном Джоанна чувствовала себя обойденной: она, единственная из рода де Шамперов, оставалась бесплодной. Больший позор и вообразить трудно!
Однажды мать попыталась заговорить с ней об этом, но Джоанна вспыхнула, рассердилась, и леди Милдрэд больше не касалась отношений дочери с мужем. Баронесса хотела одного — чтобы ее дитя было счастливо, и ради этого была готова на все. Даже тогда, когда и сам лорд Артур начал разочаровываться в зяте, а их отношения стали натянутыми.
Но Джоанна не теряла надежды, что рано или поздно Господь пошлет им дитя и она тоже познает семейное счастье. Она смирилась со скупостью мужа, с его вздорным и мелочным нравом, с его буйной вспыльчивостью. Ведь она сама сделала свой выбор, что же теперь роптать и гневить небеса? Бывали у них с Обри и хорошие дни: оба любили лошадей, их конюшня считалась одной из лучших в Восточной Англии, они вместе занимались выездкой своих питомцев, сводили жеребцов с матками, следили за приплодом, выставляли двухлеток и трехлеток на торги.
Но и здесь завелась червоточина: Джоанну глубоко огорчил отказ мужа последовать примеру лорда Артура и ежегодно предоставлять часть незербийских скакунов для нужд ордена Храма.
— Эти храмовники и без того присосались, как пиявки, повсюду! Их богатства растут год от года, и я им в этом не помощник, — заявил сэр Обри жене.
— Но ведь они оберегают Святую землю от неверных! — возразила Джоанна. — И мой брат сражается в их рядах. Помогая ордену и Иерусалимскому королевству, мы служим святому делу!
— Иерусалимское королевство слишком далеко, — отмахивался Обри. — А мои родичи сражаются на границе с шотландцами. Уж лучше я еще раз пошлю им долю с выручки от будущих торгов!
Как покорная супруга, Джоанна не возражала. Но в глубине ее души росло возмущение. Она стала все чаще раздражаться, они ссорились, и ей снова и снова приходилось просить прощения. Благо Обри был незлопамятен и отходчив. Да и не осмелился бы он наказать жену в замке, где вся челядь и стража были на ее стороне. Она была урожденной де Шампер, членом одной из самых могущественных семей Восточной Англии, с ней считались, и Джоанне все чаще приходилось вступаться за супруга, когда того попрекали скупостью. Щедрость была одной из главных рыцарских добродетелей, а скупость и стяжательство — свойством торгашеского сословия. Обри не желал жертвовать церкви, не раздавал милостыню неимущим, не жаловал гостей, и стол его был постоянно скуден, словно у монаха-постника.
В конце концов соседи начали объезжать Незерби стороной, да и Джоанну с Обри больше не звали на пиры и празднества. Они жили замкнуто и скромно, выбираясь из своего поместья только на Рождество и Пасху к старшим де Шамперам. Но и там Обри не был желанным гостем, и, осознав это, он отказался даже от этих редких визитов. Запретить поездки жене он не мог, не рискуя окончательно разорвать отношения со знатной родней.
В один из дней, когда Джоанна гостила в замке у родителей, отец спросил ее, счастлива ли она в браке.
— О да! — с гордостью ответила она. — Я люблю своего мужа.
— Но один из куртуазных законов гласит: «В саду скупости цветок любви вянет».
— Ох уж эти мне куртуазные законы! — беспечно рассмеялась дочь лорда Артура. — Я так давно не бывала при дворах, где они в ходу, что даже не помышляю о подобных пустяках.
— Да, ты живешь, словно в заточении, дитя мое, — вздохнул отец. — Но, полагаю, вы с Обри не откажетесь присутствовать на коронации нашего нового государя Ричарда в Лондоне?
Пропустить такое событие было невозможно — к этому сэра Обри обязывал долг вассала. Больше того — супруг Джоанны был счастлив перспективой быть представленным новому королю и даже раскошелился на обновки ради такого случая. Но именно в Лондоне произошла первая серьезная размолвка Джоанны с мужем.
Во время их пребывания в столице в дом, который они наняли на время коронационных торжеств, явился какой-то бедолага-оборванец, представившийся родным братом Обри. Однако лорд его не признал и велел слугам гнать прочь. Джоанна же, вопреки его воле, велела вернуть незнакомца и, втайне от мужа, накормила и подробно расспросила.
Зачем она это сделала, нарушив волю Обри? Невозможно было не заметить, как незнакомец похож на ее супруга: те же черты лица, те же светлые прямые волосы, тот же нортумберлендский говор, от которого и сам Обри не сумел избавиться за годы, проведенные в Восточной Англии.
Ее последние сомнения рассеяла беседа с чужаком. Нортумберлендец знал множество подробностей о жизни ее мужа, а под конец поведал, как тот покинул их старое родовое поместье, после чего семья не имела о нем никаких вестей.
Джоанну это поразило до глубины души. Выходит, семья Обри не получала от него помощи? Как же так, ведь муж постоянно отправлял им и деньги, и товары, перегонял на север лучших лошадей. На это брат Обри только развел руками. Мало ли что могло статься? Может, виной всему разбойники — на дорогах по-прежнему неспокойно, а может, леди неверно истолковала слова супруга. Хотя, надо признать, Обри всегда был прижимист…
Это было низко! Джоанну впервые охватило отвращение к мужу. Но когда она потребовала от него ответа, Обри пришел в неописуемую ярость и заявил, что не желает давать ей отчета ни в чем, если она верит какому-то проходимцу, а не ему. Им решительно не о чем говорить, коль скоро она без всяких оснований подозревает его во лжи!
Джоанне пришлось сделать вид, что слова мужа вполне ее убедили. К тому же она еще не была готова признать, что ошиблась в человеке, которого выбрала себе в мужья.
Между тем во время торжеств по случаю коронации Ричарда Обри вновь отличился на турнире в конно-копейных сшибках. Король поздравил его с победой и осведомился, намерен ли столь выдающийся боец принять участие в войне за Святую землю. Обри, рассыпавшись в почтительных извинениях, заявил, что у них с супругой иные планы: за шесть лет брака небо не послало им наследника, и теперь они намерены совершить паломничество по святым местам. Они уже побывали в Уолсингеме, посетили гробницу Святого Томаса в Кентербери и уже готовы отправиться в Сантьяго-де-Компостела в Испании.
— Но что может быть более угодным Всевышнему, чем война с неверными? — искренне удивился Ричард.
Обри, однако, стоял на своем. Правда, узнав, что в таком случае ему, как и всем прочим, кто отказался от участия в походе, придется выплачивать в казну «Саладинову десятину», лорд призадумался. Но нашел-таки способ избежать поборов, объявив во всеуслышание, что они с супругой отправятся молиться о рождении наследника в те монастыри, что лежат на пути крестоносного воинства. И если их молитвы не возымеют действия, он также возьмет крест и примкнет к воинству короля Ричарда.
Это была всего лишь уловка. Так Обри мог уклониться от обременительного налога, не беря на себя никаких обязательств. Но избежать паломничества теперь было невозможно, благо родня Джоанны решила поддержать намерение супругов: лорд Артур предоставил им средства на дорожные расходы в виде векселей ордена Храма, которые можно было обратить в звонкую монету в любом из Орденских домов, а также надежную охрану в пути.
Все это привело Обри в восторг. Его необдуманные слова каким-то чудом воплощались в реальность. Ведь самому ему ни за что не удалось бы осуществить столь продолжительное и дорогостоящее путешествие, — уверял он де Шамперов.
Джоанна же помышляла лишь о том, что наконец-то увидит иные края, другие страны. В ней, как и во всех де Шамперах, жила страсть к перемене мест. Ее родители немало разъезжали, но эти поездки были связаны с делами в их замках и имениях на восточном побережье и в Уилтшире, в Уэльсе и Нормандии. В раннем возрасте Джоанне не раз приходилось сопровождать владетельную чету, и всякая поездка радовала ее и наполняла новыми впечатлениями. А теперь перед ней открывался огромный неизведанный мир!
Джоанна знала, что и ее родители вскоре после свадьбы совершили паломничество в Святую землю. Леди Милдрэд, прибывшая в Незерби, чтобы проститься с младшей дочерью, сказала с улыбкой:
— Знаешь, девочка, когда мы с твоим отцом уезжали, наши отношения были далеко не простыми. Мы очень любили друг друга, это так, но было нечто, не позволявшее мне испытывать полное счастье. Потом это прошло. Мы были вместе, вдали от всего света, наши беды остались в прошлом, нас никто не знал. Почти два года мы прожили в Иерусалиме, нас принимали при дворе короля Бодуэна III, а твой отец сражался в рядах его войска при взятии Аскалона. Я ждала его и молилась, и только там поняла, как глубоко мое чувство к нему. И он вернулся с победой! О, как же мы стали близки и необходимы друг другу…
Оборвав себя на полуслове, леди Милдрэд притянула к себе дочь и нежно коснулась губами ее лба.
— Надеюсь, и вы с Обри на чужбине по-новому оцените ваш союз, а все недоразумения уйдут в прошлое.
Джоанна тоже надеялась на перемены. Покидая Англию, она улыбалась, как дитя, предвкушающее рождественские подарки, и Обри отвечал на эту ее улыбку теплом и нежностью.
Поначалу было решено, что супруги де Ринель большую часть пути проделают на судне, принадлежащем ордену тамплиеров. Но в первую же ночь разразился шторм, и когда они высадились в одной из бухт на побережье Нормандии, Обри объявил, что отказывается следовать дальше морем. Иначе его ждет неминуемая кончина от морской болезни. Нет, только сухим путем, останавливаясь в Орденских домах, где им обязаны предоставлять кров и пропитание! Как же иначе, ведь его супруга — родная сестра маршала ордена Храма Уильяма де Шампера!..
Утомленная воспоминаниями, Джоанна все же уснула.
А проснувшись, обнаружила, что на вертеле над костром аппетитно шипит и брызжет мясным соком тушка молодой газели, а рыжий Эйрик раздает сухие лепешки, успевая при этом ласково улыбаться ее горничной. Великан был по-прежнему нежен с Саннивой, несмотря на то что разбойники подвергли девушку насилию, и во всеуслышание клялся жениться на ней.
Саннива, несмотря на пережитое, казалась счастливой.
— Ах, госпожа, если бы не Эйрик, не его забота и доброта, просто не ведаю, как бы я жила дальше, — приговаривала служанка, пытаясь привести в порядок спутанные волосы леди Джоанны.
Бесплодные усилия! Джоанна чувствовала себя грязной и неприглядной, а взгляды, которые время от времени бросал на нее рыцарь-госпитальер, ее только раздражали. При этом сам Мартин д'Анэ даже здесь умудрялся выглядеть подтянутым и ухоженным: кожаная одежда сидела на нем как влитая, волосы были гладко расчесаны, а лоб обхватывала темная полоса ткани на манер чалмы, и это ему очень шло. Манеры его были безупречны, и он спас им жизнь…
Отчего же она, никогда прежде не робевшая в присутствии мужчин, так дичится? Возможно, все дело в том, что в иных обстоятельствах она была уверена в своей привлекательности, а теперь…
— Оставь! — она отвела руку служанки с гребнем. — Все равно ничего не выйдет. Это не волосы, а какой-то войлок, и кончится тем, что мне придется отрезать косы, как какой-то монашке…
— И что на это скажет ваш братец Уильям, когда вы явитесь к нему? — сурово заметила Годит. — Терпите, миледи. Не уподобляйтесь вашему супругу. Хотя, надо сказать, ныне он ведет себя вполне достойно и даже прекратил обижать этого славного молодого еврея…
Годит переменила свое отношение к Иосифу после того, как тот взялся врачевать рану капитана Дрого. Вот и сейчас он внимательно осматривает его повязку, обещая сменить ее при первой же возможности. Но когда появится эта возможность? Когда окончатся их опасные странствия по чужим землям и они снова окажутся во владениях христиан?
Но пока им приходилось ждать, когда Сабир окончит вечерний намаз. Сарацин молился в стороне от всех, опустившись на колени лицом к Мекке. Время от времени он отвешивал глубокие поклоны, сопровождая их странными жестами.
О том, что означают эти жесты неверного, Джоанна спросила Мартина д'Анэ, когда отряд уже выступил в путь и рыцарь оказался неподалеку от нее. Уже смеркалось, и в полумраке госпитальер не мог видеть — по крайней мере так думала Джоанна, — насколько непригляден ее облик.
— Сабир правоверный мусульманин, мадам, — отозвался рыцарь, — и совершает обязательную молитву — намаз — пять раз в день. Перед намазом полагается омовение, но ислам позволяет отступления от этого правила в затруднительных обстоятельствах — например, когда под рукой нет воды. Поэтому движения его рук — не что иное, как символическое омовение. Аллаху довольно и этого.
— Вы хорошо знаете обычаи язычников, сэр, однако я ни разу не видела, чтобы вы сами молились. Ехавшие с нами в составе каравана тамплиеры преклоняли колени перед крестообразными рукоятями своих мечей всякий раз, когда им представлялась такая возможность. Разве в ордене Святого Иоанна иной устав?
Мартин, усмехнувшись про себя, ответил — дескать, благородная дама слишком крепко спала, чтобы видеть его за молитвой. Да и не время сейчас то и дело преклонять колени — довольно молчаливой молитвы в душе. Его задача — вывести отряд из опасных мест. Если небеса будут к ним милостивы, уже к исходу этой ночи враждебные земли останутся позади. Вот тогда наступит время возблагодарить Господа. И, возможно, — при этих словах он слегка склонился в седле к своей спутнице, — прекрасная Джоанна де Ринель не будет столь сурова к нему, как прежде.
Они продолжали путь, делая лишь краткие остановки у редких источников. К ним лепились крохотные селения с саманными лачугами и загонами, в которых жители укрывали на ночь своих коз и овец. По ночам никто не рисковал выходить из хижин, пока топот конских копыт не затихал вдали и силуэты вооруженных всадников не растворялись во мраке.
Луна стояла почти в зените, и каменистая дорога была хорошо видна. И в какое-то мгновение леди Джоанна поймала себя на том, что любуется Мартином д'Анэ, скакавшим во главе отряда. Горделивая посадка, могучие плечи, стройный стан. Лица госпитальера она не могла видеть, но знала, насколько соразмерны и приятны его черты…
Внезапно рыцарь, словно почувствовав ее взгляд, обернулся и посмотрел прямо на нее. Луч луны озарил его лицо своим таинственным светом, и Джоанне почудилось, что Мартин улыбается ей — насмешливо и в то же время нежно.
Ей захотелось улыбнуться в ответ, но вместо этого Джоанна отвернулась.
Нет! Больше никогда она не поддастся на подобные уловки! Однажды она уже позволила себе подобную слабость — и что из этого вышло?
Джоанна не хотела думать об этом, но память упрямо возвращала ее в прошлое, к событиям, которые она стремилась забыть навсегда.
Перед ее мысленным взором возникло множество воинов. Это была Бургундия, город Везле, место сбора обеих крестоносных ратей — английской и французской. Все эти паладины — конные рыцари, пехотинцы, священнослужители и вельможи — с восторгом смотрели на нее, когда она, стоя на возвышении, пела по просьбе короля Ричарда воинственную песнь крестоносцев. Он и сам обладал великолепным голосом, но все-таки обратился к Джоанне, полагая, что боевой гимн в устах женщины, прекрасной, как Пресвятая Дева, наполнит сердца воинов большим воодушевлением.
Она пела:
Когда трубач трубит поход, Не время для утех. Иерусалим нас всех зовет! Наденем же доспех! Возьмем мы верные мечи, Крестом прикроем грудь. Святой Отец благословит, Господь укажет путь! Идем с мольбой мы за тобой. Наш крест и меч едины! Веди с собой нас в бой, герой, В пределы Палестины!Восхищенные крестоносцы дружно подхватывали припев. А Джоанна, заметив, как глядит на нее в этот миг король Филипп Французский, едва не сбилась. Он не был красавцем, в его лице было нечто капризное и жестокое, да и ранние залысины отнюдь не красили Капетинга, но ведь это был могущественный повелитель!
Джоанне польстило его внимание. Поэтому она и не отвела взгляда, когда Филипп послал ей воздушный поцелуй.
Так это началось. Затем последовала возвышенная куртуазная игра в рыцаря и прекрасную даму, которой оба чрезмерно увлеклись. Цветы от Филиппа, подарки от Филиппа, полные изысканных комплиментов речи. Пока Ричард и другие военные вожди обсуждали планы дальнейших действий, король Франции был занят одной Джоанной. Казалось, еще немного — и он попросит у английской дамы перчатку или шарф, как рыцарь на турнире, хоть сам он еще носил траур по недавно скончавшейся супруге.
Со стороны могло показаться, что Филипп окончательно потерял голову от кузины Ричарда Плантагенета. Да и сама она упивалась знаками его внимания. Даже Обри помалкивал, впрочем, намекнув, что Джоанне не составило бы труда попросить короля Филиппа предоставить им лучший шатер в лагере при Везле или же оплатить их расходы по постою в гостинице. Как всегда, Обри искал выгоду, да и пребывание в небольшом городе, битком набитом воинами, было связано с массой неудобств. На это Джоанна резко ответила, что она не шлюха, торгующая своей благосклонностью, а благородная дама, которой приличествует с достоинством принимать поклонение венценосного рыцаря. И Обри проглотил это молча.
Ричард также не преминул отметить, что Филипп с большей охотой проводит время в обществе его кузины, чем в кругу военачальников. Однажды он сказал ей:
— Чем любезнее ты будешь с Филиппом Капетингом, тем меньше он будет ныть и жаловаться, ссылаясь на то, что важнейшие дела требуют его присутствия во Франции. Он не посмеет проявить малодушие перед дамой, ратующей за наше святое дело. Вместе с тем… Кузина, я надеюсь, что ты достаточно разумна, чтобы не довести дело до скандала. Ведь речь идет и о моей чести!
О, это она понимала! И все было весьма благопристойно возвышенно до тех пор, пока Филипп не назначил ей свидание в безлюдной галерее аббатства бенедиктинцев. Она не посмела отказать — то были древние, славящиеся своей святостью стены; здесь всего несколько десятилетий назад призывал ко Второму крестовому походу сам святой Бернард из Клерво. Свидание в аббатстве — не больше, чем галантная встреча.
Однако Филипп, едва появившись из-за колонны в галерее, набросился на нее, как хищник. Джоанна поначалу решила, что это не более чем продолжение их куртуазной игры… Когда же Филипп страстно впился в ее шею, а его горячие ладони заскользили по ее обтянутой шелком груди, она испугалась. Он задыхался и молил ее о любви… В какое-то мгновение она ослабела и едва не сдалась. В ее сердце вновь родилось то горячее и пьянящее чувство, которое ее муж называл бесстыдством. И король Франции мгновенно уловил это.
— Моя, — шептал он, прижимая Джоанну к стене за колонной, — моя, вся моя…
Сейчас она стыдилась вспоминать, как чуть было не уступила ему. Ее лишило воли сознание того, что ее возжелал не кто-нибудь, а король великой державы. И если бы ласки Филиппа не были столь грубыми и беспорядочными, если бы он в пылу не причинил ей острую боль, словно тисками сдавив грудь, все могло бы пойти иначе. Джоанна охнула, отпрянула и стала вырываться из королевских объятий, однако Филипп крепко держал ее. Тогда она стала упрашивать его отпустить ее. Но король уже не владел собой: треск рвущегося шелка только раззадорил его. Он рывком вздернул край ее платья, и его колено оказалось между ее отчаянно стиснутых ног…
Даже когда в полумраке галереи на них упал сноп света, Филипп все еще не прекращал своих попыток овладеть ею. Лишь гневный голос аббата, приказывавший благородному господину и даме прекратить бесстыдство, заставил короля ослабить хватку. Джоанна тут же вырвалась и убежала.
Но в Везле, как уже сказано, было слишком много мужчин, и вид стремительно пересекавшей двор аббатства женщины в изорванном светлом платье породил немало слухов. Филипп же повел себя далеко не рыцарственно: при встрече с Ричардом, когда у них вышла размолвка по какому-то незначительному вопросу, француз заявил, что ему жилось бы куда легче, если бы все Плантагенеты были столь же уступчивы, как их дамы. И хотя Джоанна не принадлежала по прямой линии к Плантагенетам, несложно было догадаться, кого он имеет в виду.
Вот тогда-то Ричард и призвал ее к себе и долго, с угрюмым видом, слушал, как она, рыдая и заламывая руки, клянется в том, что между нею и Филиппом не было близости и что Капетинг вел себя с нею не как рыцарь, а как последний поселянин с площадной девкой.
— Тебе надо уехать отсюда, — наконец произнес король. — Дама, которую мои воины почитали чуть ли не как небесную покровительницу, не может служить поводом для грязных сплетен.
И Ричард отправил их с Обри с миссией в Венгрию. Все обошлось и внешне выглядело почти благопристойно, но Джоанна стыдилась себя и порой задавалась вопросом: а что, если бы в ту минуту не появился аббат, привлеченный шумом борьбы, и Филипп не отпустил ее? Уступила бы она?
Она ненавидела себя за слабость, за томительный телесный голод, временами охватывавший все ее существо, и в такие минуты была особенно нежна и покладиста с мужем. Ричард позаботился о том, чтобы ее супруг ничего не заподозрил. Обри же тотчас воспользовался переменой в ее настроении, чтобы завладеть деньгами, которые они получали по векселям храмовников. Но и это не умерило его скупости: порой они даже ночевали на открытом воздухе в холода, когда рядом находились заезжие дворы, которые Обри находил излишне дорогими.
Джоанна не перечила ему ни в чем и предоставляла супругу свой кошелек по первому требованию. Лишь в одном Обри де Ринель не скупился и вел себя почти расточительно: когда дело касалось его самого. Так, он внезапно ни с того ни с сего приобрел у проезжего торговца плащ, подбитый драгоценными соболями, истратив на него кучу денег. Джоанна и тогда смолчала, но в дело вмешался Дрого и потребовал, чтобы средства, отпущенные на их поездку королем Ричардом, были вверены ему, ибо именно он ведет все расчеты за продовольствие, корма для лошадей и прочее, без чего не обойтись в пути.
Сэр Обри впал в ярость, схватился за меч, и они едва не сцепились. Но сторону Дрого приняли все их люди, и лорду в конце концов пришлось смириться. Вскоре они прибыли ко двору короля Белы Венгерского, где им отвели превосходные покои и назначили достойное содержание, что привело ее супруга в полный восторг.
В Венгрии они провели большую часть зимы. Джоанна не ожидала, что эта страна так богата и что венгерская знать окружает себя чуть ли не ромейской роскошью. Тон в придворных нравах задавала супруга короля Белы — Маргарита Французская, и после утомительных странствий Джоанна вновь оказалась в своей стихии. Она пела и наслаждалась музыкой и танцами, посещала турниры, кружила головы венгерским рыцарям, и те сражались в ее честь, а она награждала победителей.
Обри, казалось, был польщен тем впечатлением, какое она произвела при дворе. Лишь позднее она узнала, что ее супруг за право прогуляться с нею верхом, повести в танце или занять место рядом на пиру требовал от ее поклонников подарков. В конце концов среди придворных пополз слух, что за изрядный куш лорд готов даже уступить свое место на ложе. Именно тогда королева Маргарита деликатно намекнула, что им обоим следовало бы покинуть королевскую резиденцию в Эстергоме.
Обри возложил всю вину на Джоанну: она-де так вольно вела себя при дворе, что им не удалось исполнить поручение Ричарда: склонить короля Белу к участию в крестовом походе. Венгерский государь, формально дав согласие, так и не предпринял ничего, чтобы присоединиться к воинству паладинов.
По прибытии в Константинополь вдовствующая императрица Агнесса пригласила сэра Обри и леди Джоанну — кузину короля Ричарда — воспользоваться ее гостеприимством. Но продлилось это недолго, хоть Обри явно не спешил в Святую землю. Однако ее супруг так докучал императрице, выклянчивая подношения, что Джоанна вздохнула с облегчением, когда по приказу императора им пришлось покинуть столицу.
Именно тогда Обри неожиданно принес обет целомудрия и воздержания. Из-за этого отношения супругов стали еще более напряженными. Все усилия Джоанны быть хорошей женой таяли, как лед под лучами солнца. Только тогда она с горечью осознала, что совместное путешествие не сблизило их, а породило еще более глубокое отчуждение. Вокруг было столько молодых мужчин, восхищавшихся ее красотой, и порой даже Годит ворчала, что не стоило бы ее госпоже тратить лучшие годы на человека, подобного Обри.
Джоанна одергивала камеристку — не ей судить поступки госпожи. В конце концов, она из рода де Шамперов, а это обязывает во всем хранить достоинство. Тем временем пустота и одиночество захлестывали ее душу, как бурные волны терпящий бедствие корабль…
Отряд внезапно остановился, и Джоанна, отвлекшись от своих мыслей, заметила, что их проводники чем-то обеспокоены.
Уже светало, за ночь они проделали немалый путь. Но внезапно Сабир, по-прежнему ехавший далеко впереди, во весь опор прискакал обратно и принялся о чем-то советоваться с рыцарем-госпитальером и рыжим верзилой Эйриком.
Джоанна бросила взгляд на безучастно ожидавшего Обри. Если отряду что-то угрожает, ему бы первым делом следовало принять участие в обсуждении плана дальнейших действий. Муж, словно прочитав упрек в ее взгляде, приблизился к рыцарю. Там уже находились Иосиф со своими охранниками и капитан Дрого с четверкой уцелевших воинов-саксов.
Затем рыцарь д'Анэ повернул коня и направился к ней.
— Очень ли утомлена ваша лошадь, мадам?
Джоанна огладила холку своей гнедой.
— Вспотела, но дышит ровно. Думаю, сможет проделать еще немалый путь.
— А в карьер?
— Есть необходимость так торопиться?
Рыцарь указал вдаль.
— Как только рассвело, Сабир заметил облако пыли за той возвышенностью с плоской вершиной. Столько пыли могло поднять только внушительное количество всадников, однако в этих местах нет никаких дорог. А без дорог в этих краях передвигаются только отряды газизов. Затаиться, положившись на милость небес, здесь негде — вокруг ни зарослей кустарника, ни глубоких ложбин. С другой стороны, отряды газизов обычно довольно многочисленны, и все они отменные воины, владеющие конем и оружием чуть ли не с детских лет.
— А что предлагает мой супруг? — спросила Джоанна.
Внешне она оставалась спокойной, но при мысли о том, что ей довелось пережить, оказавшись в руках у разбойников, сердце женщины сжалось.
— Ваш муж храбрый воин. Он предлагает принять бой.
Губы Джоанны невольно сложились в презрительную усмешку. О, она хорошо помнила, как прославленный победитель турниров растерялся, словно мальчишка, когда вооруженные до зубов люди в чалмах принялись осыпать стрелами сопровождавших их воинов, укрываясь за корявыми стволами маслин.
— Сэр Мартин, вы опытны и знаете местность и обычаи здешних людей. Поэтому я готова выслушать вас.
— А я бы, в свою очередь, положился на моего Сабира. Он уверяет, что достаточно часа хорошей скачки, и мы окажемся в безопасности.
— Если вы доверяете этому сарацину — я последую его совету. И не тревожьтесь за меня и других женщин: выбирая спутниц, я отдавала предпочтение тем, кто хорошо держится в седле.
Мартин молча отвесил полупоклон. Могучий саврасый конь рыцаря легко вынес его во главу отряда. Он скакал за Сабиром, время от времени оборачиваясь, чтобы убедиться, что со спутниками все в порядке.
Действительно: англичанка и обе ее служанки держались неплохо. Их лошади шли машисто, не сбиваясь с ровного галопа, и было видно, что всадницы правят ими умело, несмотря на бездорожье. Хуже обстояло с вьючными животными, которых пришлось тащить в поводу. Особенно отставал навьюченный поклажей верблюд. Иосиф ехал не слишком уверенно, но рядом с ним был Эйрик, которому Мартин велел приглядывать за сыном Ашера.
Солнце поднималось все выше, несущийся галопом небольшой отряд вздымал тучи пыли, которую могли заметить и те, кого они опасались. Сабир считал, что им надо двигаться прямо на юго-запад. Тогда вскоре появятся зелень, заросли кустарника и небольшие рощицы. Где-то там находится небольшая пограничная крепость, в которой расположен довольно многочисленный ромейский гарнизон.
После получаса такой скачки лошади, еще в течение ночи проделавшие изрядный путь, начали сбиваться с шага. Но впереди уже маячили курчавые заросли, местность стала ровнее, и путь пошел под уклон. Внезапно раздался предупреждающий крик одного из воинов, ехавших в арьергарде.
Мартин оглянулся. Так и есть: слева от них в воздухе висела пыльная пелена, и в ней уже можно было различить темные точки мчащихся всадников.
Рыцарь придержал коня, давая спутникам вырваться вперед, а сам принялся следить, насколько быстро сокращается расстояние между отрядом и погоней. Мимо пронеслись леди Джоанна, затем ее супруг, еще кто-то… Мартин кружил на месте, сдерживая коня и оценивая расстояние до преследователей. Те были явно быстрее. Проклятье, если бы не эти вьючные животные — мулы и верблюд! Должно быть, надо оставить их на произвол судьбы и спасаться самим…
Он бросился вдогонку за отрядом, когда до него долетел ликующий женский возглас. Леди Джоанна, обернувшись на полном скаку, махала ему, указывая жестами на нечто, пока еще остававшееся для него невидимым.
Лишь поднявшись на небольшой пригорок, Мартин и сам едва не вскрикнул от облегчения. Ибо впереди, за серебристой зеленью масличной рощи, виднелась массивная приземистая башня с прямоугольными зубцами. Но до нее еще предстояло добраться!
Мартин убедился, что леди Джоанна удаляется в сторону крепости, и ринулся на помощь Эйрику, который тащил за поводья выдохшуюся кобылу Иосифа. Сил у молодого еврея тоже оставалось совсем немного, и он не мог заставить измученное животное продолжать скачку. Люди, приставленные Ашером бен Соломоном к сыну, не покинули его и держались рядом, окружая юношу плотным полукольцом.
Преследователи приближались, уже были слышны их гортанные крики. Вскоре засвистели стрелы. Одновременно Мартин различил еще какой-то отдаленный звук. Боевая труба! В крепости их заметили и подали сигнал тревоги. До нее уже было рукой подать, даже на скаку он различал развевающийся на башне стяг с монограммой «ХР». Леди Джоанна была уже у самых ворот — она продолжала кричать, стараясь привлечь к себе внимание воинов гарнизона.
«Пусть они успеют открыть ворота и выслать подмогу!» — безмолвно взмолился Мартин.
К какому богу он обращался в эту минуту? Он и сам не знал, но в таких обстоятельствах человек всегда взывает к высшим силам.
В то же время его не оставляли сомнения. Что, если ромеи решат, что помощь неизвестным беглецам может обернуться для них неприятностями? Однако вид знатной дамы, взывавшей о помощи у самых стен крепости, возымел действие. Ворота начали неспешно приоткрываться.
Теперь Мартин мог уже не спешить и спокойно оценить положение. К нему подъехал Сабир и придержал свою кобылу, следя за отставшими. Мартин с теплотой подумал: «Вот кто всегда рядом, с ним, как за каменной стеной!»
Отсюда он мог отчетливо видеть приближавшихся газизов. Это был многочисленный отряд, но все же не настолько крупный, чтобы попытаться взять крепость штурмом. Их больше интересует добыча — недаром, когда лопнул повод, на котором тащили верблюда, и замученное животное, замедляя бег, свернуло в сторону, часть преследователей тут же кинулась следом. К ним присоединилась еще дюжина воинов. Верблюд, навьюченный кожаными вьюками, — огромный соблазн для нищих всадников-тюрков!
Мартин неторопливо направился к крепости, время от времени оглядываясь назад. Верблюд приостановил погоню, но ведь были еще и мулы с поклажей! В одного из них только что угодила выпущенная преследователями стрела. Мул упал и забился в пыли. Но тут, к неописуемому изумлению Мартина, Обри вздернул своего коня на дыбы, развернул его и помчался назад. Остановившись возле раненого мула, он торопливо спешился и принялся снимать со спины животного вьюки.
— Этот человек лишился рассудка! — воскликнул пораженный рыцарь.
Первым его движением было броситься на помощь англичанину, но вместо этого он натянул поводья.
К дьяволу! Сэр Обри путается у него под ногами и мешает сближению с леди Джоанной. Лучшего случая отделаться от него не представится. Сейчас газизы избавят его от лишних хлопот. Видно, такова судьба этого свихнувшегося сквалыги.
Со стен крепости по-прежнему следили за происходящим, но не спешили вмешиваться. Сэра Обри можно было уже считать мертвецом. Мартин видел, как Эйрик, на миг оставив Иосифа, начал было поворачивать коня, чтобы вмешаться, но, видимо, в голову ему пришла та же мысль, что и рыцарю, и он оставил эту затею.
Иначе повел себя Иосиф. Оглянувшись и заметив, что англичанина вот-вот настигнут газизы, молодой еврей что-то приказал своим людям, те развернулись, на ходу натягивая луки, и дюжина стрел поубавила прыти преследователям.
Всадники, направлявшиеся к Обри, придержали коней, а тут как раз появился еще один мул с поклажей, привлекший к себе их внимание. Сэр Обри, вскинув на плечо снятую с раненого мула переметную суму и дико озираясь по сторонам, бросился ловить свою лошадь, успевшую отойти на солидное расстояние от хозяина.
Трое или четверо газизов были уже совсем рядом с лордом. Сэр Обри попятился, выхватил меч из ножен, но новый залп лучников Иосифа отогнал наседавших на него всадников. Однако в следующую секунду один из них оказался рядом с англичанином и вихрем налетел на него, размахивая саблей.
Сэр Обри отскочил, увернулся и заметался между окружившими его газизами, переметная сума полетела в пыль, но теперь ему уже было не до нее.
«Сейчас кто-нибудь из газизов захлестнет его глотку арканом и потащит за собой», — решил Мартин. Именно так и действуют тюркские конники, если не могут подступиться к врагу на расстояние Длины клинка. Он не понимал причины безумной отваги англичанина, но знал, что еще несколько мгновений — и тот окончательно осознает, что для него все кончено.
Но тут из ворот крепости показался отряд закованных в броню ромейских воинов. Их было не так уж много, но катафрактарии[80] слыли грозными воинами. Поэтому легко вооруженные и уже заполучившие значительную часть добычи газизы предпочли не связываться без нужды с тяжелой имперской кавалерией.
Один из них, склонившись с седла на скаку, подхватил оброненные Обри сумы. И, вновь удивив Мартина, англичанин ринулся следом, яростно размахивая мечом и вопя, словно надеялся отбить свое добро. Когда грабитель уже удалялся, сэр Обри в бессильном отчаянии метнул ему вдогонку меч.
Мартина это позабавило. Что за сокровища хранились в этих сумах, если Обри рисковал ради них жизнью?
Об этом он узнал позже, когда все они уже находились в крепости и местные женщины обносили спасенных чужеземцев холодной водой. Обри напоили первым; едва опомнившись, он принялся звать жену.
Леди Джоанна приблизилась и несколько мгновений вглядывалась в его искаженное отчаянием лицо. Затем, заметив слезы на глазах мужа, взяла в свои ладони его всклокоченную, осыпанную пылью голову.
— Ах, Джоанна, что же теперь делать? — всхлипнул Обри. — Ведь там остались все наши украшения, и мой пояс с янтарем, и твои серьги ромейской работы, и тот великолепный плащ, подбитый соболями, за который заплачено целое состояние!
— Зачем тебе меховой плащ в Святой земле, Обри? — не повышая голоса, спросила его супруга. — Говорят, там всегда жарко.
Лорд резко освободился из ее объятий.
— Ты ничего не понимаешь! Тебе, с детства привыкшей к непомерной роскоши, все это кажется неважным. А я… мне пришлось уплатить такие деньги! И как ты явишься к своему могущественному брату без серег с опалами и золотых брошей? Ты просто не представляешь, какой жалкой нищенкой ты будешь выглядеть!
Леди Джоанна отвернулась и молча пошла прочь.
Обри остался неподвижно сидеть у стены, уронив голову на руки.
Покинув лорда, Мартин направился к Иосифу, беседовавшему со своими воинами. Молодой еврей был явно ими доволен, нахваливал их меткость и самообладание, благодарил за спасение жизни спутника.
— Ты добрый человек, Иосиф, — заметил Мартин. — Но чересчур простодушный. Какое тебе дело до этого жадного, вздорного чужеземца? Поверь, ему и в голову не приходило жалеть твоих соплеменников, когда он резал их в Бери-Сент-Эдмундс в Англии.
— Ты полагаешь, что я должен во всем уподобляться ему? — сдержанно отозвался Иосиф. — Разве Всевышний не учит нас терпению и снисходительности к таким, как этот Обри де Ринель?
Мартин не ответил — лишь взглянул на сына Ашера с легкой грустью. Да, Иосиф не походит на своего отца. Тот деловит, во всем находит свою выгоду и всегда действует в соответствии с заранее составленным планом, не задумываясь о возможных жертвах. Для него важны только люди его крови. Почему же он не научил сына следовать этим правилам? Почему Иосиф вырос таким чистым и великодушным?
— И все же ты допустил ошибку, друг мой! — наконец произнес рыцарь.
Он знал, что Сабир и Эйрик согласны с ним. Но Иосиф продолжал улыбаться, уверенный в своей правоте.
ГЛАВА 9
Вода! Сколько угодно чистой горячей воды — какое блаженство!
Погрузившись в исходящую паром лохань, леди Джоанна рассмеялась. Какой же унылой и подавленной она была еще совсем недавно, а сейчас ее переполняет чистая радость. Опасности позади, она свободна и жива, она под надежным покровительством!
Невольно перед ее внутренним взором возник образ рыцаря Мартина д'Анэ. Это ее смутило, и она нахмурилась, сдувая с ладони мыльную пену.
В то время, пока рыцарь д'Анэ втолковывал коменданту гарнизона, какую знатную особу спасли его воины, пока для именитых гостей готовили покои и грели воду для омовения, Джоанна, несмотря на возбуждение от пережитого, неожиданно уснула, прикорнув на узкой кушетке в углу. Сколько она проспала? Трех часов вполне хватило, чтобы снова почувствовать себя бодрой и отдохнувшей.
За это время Годит и Саннива тоже успели прийти в себя. Теперь обе хлопотали вокруг госпожи, сами полуодетые. Горничная энергично терла намыленной тканью тело госпожи, смывая пот, пыль и грязь — следы нелегкого путешествия, а Годит, все еще позевывая, разбирала гардероб Джоанны — вернее, то, что уцелело после стычки с газизами. В конце концов камеристка убедилась, что положение хуже некуда: большая часть нарядов и украшений исчезли бесследно.
— Сэр Обри был отчасти прав, — наконец заметила Годит, — когда ринулся спасать наше добро! Увы, его постигла неудача, и теперь мы все равно что нищие. У вас, госпожа, осталось всего одно платье. К счастью, ваше белье уцелело — оно было во вьюках моего мула… — камеристка встряхнула, расправляя, белоснежную рубашку из тонкой кисеи.
Джоанна откинулась на край лохани и глубоко вздохнула. Сейчас не время думать о потерях. После всего, что им довелось пережить, это казалось сущей мелочью.
— Все это суета, Годит моя. Прежде всего мы должны возблагодарить Пресвятую Деву за то, что сами остались живы и находимся в безопасности.
Однако позже, когда Джоанна, завернувшись в кусок полотна, окинула взглядом разложенные на скамье остатки ее гардероба, ее охватило уныние. Действительно, она осталась почти нагой. Да и денег — звонкой монеты — было совсем немного. Орденские векселя, которые она хранила в футляре, прикрепленном к поясу, правда, уцелели, однако обратить их в наличность в ромейских владениях почти невозможно. Здесь другой мир, и вера, пусть и христианская, но иная, чем у франков.
Вместе с Годит они перебрали то, что осталось от некогда обширного гардероба Джоанны. Камеристка только сокрушенно покачивала головой.
— Ваше желтое платье изорвано в клочья, и виной тому проклятые язычники, в руках у которых мы побывали! Ни одной вуали, ни одного шелкового покрывала — а как без них знатной замужней даме? Придется вам, госпожа, разгуливать среди здешних схизматиков подобно юной деве — с непокрытой головой. А надеть вам придется — уж что тут поделаешь! — вот это темно-серое платье со шнуровкой на груди… Нет, не думала я, что доживу до часа, когда моей высокородной госпоже придется облачаться в то, что носят простые служанки!
Годит недаром сокрушалась: знатные дамы в те времена носили блио со шнуровкой на спине: это сразу же давало понять, что перед вами знатная дама, одевающаяся с помощью служанки. Шнуровка на груди, пусть и более удобная в тех случаях, когда требовалось спешно одеться, считалась принадлежностью нарядов простолюдинок. Это серое платье Джоанна прихватила с собой на тот случай, если внезапно понадобится надеть что-нибудь простое и не стесняющее движений. Но как в таком наряде убедить коменданта гарнизона, что перед ним — родня блистательных Плантагенетов?
Оставалось надеяться на длинные волосы — только они смогут подтвердить ее принадлежность к избранному кругу. Обычай не дозволял простолюдинкам носить волосы такой длины, да и времени, чтобы ухаживать за ними, у постоянно занятых работой женщин не было. Белокурые косицы Саннивы достигают только ключиц, а Годит прячет свой небольшой узелок под простым головным покрывалом с обтягивающей щеки и шею барбеттой. Когда же горничная расчесала волосы Джоанны, их сверкающая темная масса окутала молодую женщину, словно плащ, ниспадая почти до колен. Когда волосы окончательно просохнут и Саннива заплетет их в косы, они станут немного короче, но все равно будут достаточно длинными, чтобы можно было с первого взгляда уяснить — этой даме не приходится самой ухаживать за собой.
Джоанна сидела в длинной чистой рубашке, над ней все еще хлопотала Саннива, когда в дверь постучали и в покой с поклоном вошел капитан Дрого.
— Удалось ли тебе отдохнуть, Дрого? — участливо спросила леди.
Ее верный слуга выглядел изможденным и осунувшимся. Капитан тотчас опустился на выступ стены и, вытянув перед собой раненую ногу, потер ноющее бедро со словами, что позволит себе отдых лишь после того, как убедится, что его госпожа хорошо устроена и ни в чем не нуждается.
Затем Дрого поведал о том, что большую часть хлопот взял на себя рыцарь д'Анэ: он вел переговоры с комендантом гарнизона о постое путников, обещал оплатить всю необходимую провизию, да и эти покои для женщин освободили по его просьбе. Крепость, по мнению Дрого, содержалась в порядке, но вот прислуга здесь — одно мужичье, даже толкового конюха не найти.
Джоанна оглядела низкие своды покоя, массивные балки над головой, стены без драпировок, сложенные из грубо отесанных каменных глыб. Тесно, полутемно — свет едва пробивается через небольшое оконце, забранное решеткой и на ночь запирающееся ставнем, да и запах казармы еще не выветрился. Но на что сетовать после того, как несколько дней подряд ей приходилось спать на голой земле, подстелив лишь попону и укрывшись плащом?
— Где сейчас сэр Обри? — наконец спросила она.
Капитан скупо усмехнулся.
— Лорд, госпожа моя, прекрасно устроен. Он успел сойтись с молодым евреем Иосифом, добился его расположения и умудрился взять у него взаймы изрядную сумму. С этими деньгами сэр Обри отправился к коменданту и потребовал предоставить ему лучшее помещение в жилой части крепости.
— Что ж, я рада за него, — с явным облегчением вздохнула Джоанна.
Ее слуги обменялись взглядами: давно ли их госпожа неотступно следовала за мужем, исполняя все, что только тому придет в голову?
Отведенные ей покои леди Джоанна покинула только к вечеру, решив, что наконец-то выглядит вполне достойно — косы заплетены едва ли не от висков и перевиты лиловыми лентами, сыскался и скромный головной обруч из чеканного серебра. На плечах — легкая бледно-сиреневая накидка, скрывающая шнуровку.
К ней тотчас направился Обри и объявил, что комендант гарнизона приглашает обоих супругов разделить с ним вечернюю трапезу.
К лорду вернулось обычное высокомерие, а его наряд просто поразил Джоанну. Сэр Обри был облачен в долгополый кафтан ромейского покроя, сверху донизу расшитый причудливыми узорами, в которых чередовались очертания ангелов и вьющихся виноградных лоз. Заметив ее изумление, супруг пояснил, что кафтан — дар коменданта, который просто счастлив, что ему довелось предоставить свой кров и защиту столь высокородным особам.
«Выпросил, как обычно», — догадалась Джоанна, но вслух ничего не произнесла, ограничившись кивком.
В покое парафилакса, как называют греки начальника гарнизона, гостей ожидал обильный стол: многочисленные закуски — «оректика», жареная баранина, мясные колбаски, тушенная в белом вине птица, всевозможные овощи, зелень, нарезанные ломтиками свежие и засахаренные фрукты. Вперемешку с блюдами на столе высились узкогорлые кувшины с напитками.
По здешнему обычаю женщины во время трапезы располагаются отдельно от мужчин, но парафилакс, видимо, решил оказать особую честь знатной иноземке: встретив леди Джоанну на пороге, он сопроводил ее к дальнему концу стола и усадил между сэром Обри и молодым евреем Иосифом. В Англии такое и представить было бы невозможно: оказаться за одним столом с иноверцем-евреем. Однако выяснилось, что Иосиф призван служить переводчиком между англичанами и хозяином — он-то и сообщил леди Джоанне, что в те дни, пока путники блуждали по пустынным плоскогорьям, здешние христиане отпраздновали свою Пасху, приходящуюся на иное время, чем у западных христиан, и парафилакс имеет намерение угостить гостей пасхальным пирогом.
Пирог оказался высоким, как крепостная башня, а его тесто имело желтоватый оттенок. В Англии к Пасхе обычно пекут печенье в виде кроликов и запекают в тесте окорок, а вот традиция крашеных яиц оказалась общей, и парафилакс преподнес их знатной гостье с чрезвычайной любезностью. И уж совсем удивил Джоанну Иосиф, поведав, что традиция дарить крашеные яйца берет начало от тех времен, когда Мария Магдалина преподнесла такое яйцо в дар императору римлян Тиберию.
Джоанна поразилась: откуда иудею так хорошо известны традиции и обычаи христиан?
Но тут вмешался сэр Обри, усомнившийся, что евреи вообще знают, что такое Светлое Христово воскресенье.
— Если бы вы внимательно слушали слова священника в церкви, высокочтимый господин, — скромно заметил Иосиф, — то помнили бы, что Иисус из Назарета прибыл в Иерусалим как раз в канун празднования Пасхи. Так что и мы, иудеи, имеем к этому празднику самое прямое отношение.
Обри с пренебрежением отвернулся, а Джоанна постаралась скрыть насмешливую улыбку.
В следующее мгновение в покои парафилакса вступил Мартин д'Анэ. Он был облачен в длинное черное одеяние с белым крестом на груди и выглядел истинным рыцарем ордена Святого Иоанна. Держался он с таким достоинством, что начальник гарнизона поднялся ему навстречу и указал на место подле себя. Оба негромко заговорили, и леди Джоанна, немного знавшая греческий после пребывания в Константинополе, догадалась, о чем идет речь. Рыцарь просил военачальника позволить им продлить их пребывание в крепости — до тех пор, пока ромейские воины не обследуют округу и не убедятся, что газизы убрались восвояси.
Оттого, что именно этот человек взялся оберегать их в пути, на душе у леди Джоанны стало спокойно и тепло. Что ж, таков устав этого ордена — еще с давних времен братья-госпитальеры обязаны заботиться о паломниках. И все же, ловя на себе взгляд сверкающих голубизной глаз рыцаря, она догадывалась, что делает он это ради нее.
Получив согласие парафилакса, Мартин обратился к супругам:
— Теперь у нас есть несколько дней, чтобы как следует передохнуть. Надеюсь, к тому времени мужественный Дрого окончательно поправится. Затем я поведу вас через горы к морю по Ликийской тропе. Это не самый удобный, но более спокойный и безопасный путь, и, думаю, наш отряд с ним справится. Комендант крепости не сможет выделить нам сопровождение — людей у него немного, но нам хватит и тех, что прибыли вместе с нами.
Сэр Обри хотел было возразить, но Джоанна удержала мужа, опустив ладонь на сгиб его локтя.
— Мы с лордом Незерби, не имея иного проводника, должны быть признательны за ваше бескорыстное желание сопутствовать нам. Не так ли, любезный супруг?
Для себя Джоанна давно решила, что после всех ошибок и безумств Обри она не позволит ему принимать какие-либо решения и тем более навязывать их другим.
Мартин также заметил, что леди Джоанна мягко поставила сэра Обри на место.
«Так, красавица, именно так, — мысленно подбодрил он ее. — Чем холоднее станут ваши отношения, тем скорее я тебя заполучу».
И хотя спустя некоторое время супруги покинули трапезный покой вместе, но разошлись в разные стороны еще до того, как за ними захлопнулась тяжелая дверь.
Мартин вышел проводить Иосифа, и в одной из галерей тот неожиданно проговорил с легкой грустью:
— А ведь она славная девушка, эта англичанка…
— Но до нашей Руфи ей все же далеко. — Мартин тотчас догадался, чем вызвано уныние приятеля. Он был совсем не прочь потолковать с Иосифом о его сестре, но тот, сославшись на усталость, вскоре ушел к себе.
Уже стемнело, на крепостных стенах сменялась стража, свободные от караула воины готовились отойти ко сну. Но Мартину не спалось. Он спустился в залитый лунным светом крепостной двор и остановился у башни, где находились покои, отведенные леди Джоанне.
Молодая женщина тоже не спешила гасить свечу, стоявшую на подставке у кушетки, покрытой лохматыми овчинами. Несмотря на все пережитое, на душе у нее было хорошо. И, если уж быть до конца честной с собой, приходилось признать, что ей необыкновенно приятно внимание мужественного и пригожего рыцаря.
— Годит! — Джоанна окликнула уже похрапывавшую в углу камеристку. — Годит, а ведь ты права: он и впрямь хорош. И даже эта странноватая улыбка его не портит…
Служанка что-то невнятно пробормотала во сне. Саннивы в покое не было: она испросила у госпожи разрешение на свидание со своим женихом — рыжим оруженосцем госпитальера. Джоанна не стала препятствовать, тем более что Эйрик повел себя благородно, не отвергнув девушку после того, как она побывала в лапах у разбойников. Когда же и бегать на свидания, если не в такую дивную лунную ночь!
Джоанна в одной рубашке подошла к окну и распахнула ставень.
Ночь и впрямь была восхитительна. В крепости и ее окрестностях царила тишина, казавшаяся еще более глубокой от трелей бесчисленных сверчков и цикад. По верху крепостной стены неторопливо двигалась тень часового с длинным копьем, а выше раскинулся густо-синий бархат неба с мириадами звезд и сияющим меж ними ликом луны. Ее лучи озаряли далекие гряды холмов, стройные копья тополей, зубцы на крепостной стене и пустынный двор, вымощенный плитами известняка.
Однако двор оказался вовсе не пустым. Джоанна беззвучно ахнула, заметив внизу мужской силуэт в длинном черном одеянии. Рыцарь стоял прямо под ее окном, и его лицо было обращено к ней. Давно ли он здесь? Чего ждет?
Джоанна поспешно натянула на плечо сползшую сорочку и попятилась. И все же не удержалась и еще раз осторожно выглянула из-за ставня. Мартин д'Анэ по-прежнему пристально смотрел на ее окно.
Она мигом улеглась и натянула на голову покрывало, сердце ее колотилось. Чепуха, пусть себе стоит сколько угодно. Разве он имеет право на что-то надеяться? Годит давно говорит, что он не сводит с нее глаз. Может ли мужчина оскорбить женщину взглядом? В особенности ночью, стоя у ее башни?.. О таких вещах обычно поют в любовных кансонах, Джоанна сама не раз пела об этом, а теперь приходится признать, что его внимание волнует ее куда сильнее, чем она могла представить.
Хуже всего, что от этого где-то в самой глубине ее существа просыпается то неистовое возбуждение, которое ее муж именует «бесстыдством» и которое его пугает. Обри дал обет целомудрия, тем самым как бы вынуждая и ее последовать его возвышенному порыву. Возможно, он прав и ей, Джоанне, тоже пора избавиться от греховных помыслов… Но как? Как, если в эту минуту она думает вовсе не о супруге, а ее сердце бьется все сильнее и сильнее, по телу пробегает легкая дрожь, а бедра тяжелеют и наливаются темной медовой сладостью…
Мартин д'Анэ… Безупречно красивый, смелый, учтивый. Но он — орденский брат, и думать о нем как о мужчине, возлюбленном, — все равно что грезить о монахе. Однако на монаха этот голубоглазый рыцарь вовсе не похож. И вот что еще странно: совсем недавно, в пустыне, когда она, измучившись, засыпала среди камней, а госпитальер укрывал ее от ночного холода своим плащом, она не обращала на это никакого внимания. Пережитые опасности, плен, разочарование в Обри, усталость, неизвестность впереди — все это лишало ее сил.
Что же случилось, если сейчас, ворочаясь на узкой кушетке, она не может думать ни о ком другом, кроме стоящего под ее окном рыцаря в темном одеянии, и ее тело откликается этим мыслям, как струна прикосновениям пальцев музыканта?
В углу храпела Годит, за стеной спали слуги, сопровождавшие ее в пути от самого Незерби, Саннива все не возвращалась, и Джоанна могла без помех предаться тому, что иногда позволяла себе, когда греховное напряжение становилось совсем уже невыносимым. Сдерживая горячее дыхание, она нащупала внизу, где сходятся бедра, особенно чувствительное местечко, и принялась его поглаживать. Ее дыхание стало сбиваться, но желанная разрядка все не наступала. Рукоблудие — так называют этот грех священники, считая его особенно пагубным… Джоанна гнала от себя эти мысли, напряжение росло, и наконец ее тело судорожно изогнулось. В какой-то миг она представила, что это делает с ней Мартин, и едва не всхлипнула — настолько обострились все чувства. Всего через несколько мгновений бедра ее сжались, по телу прокатилась волна дрожи, а низ живота словно затопило горячим медом.
Она едва сдержала крик — и откинулась на изголовье, все еще бурно дыша.
«Об этом никто не узнает, — думала она, сворачиваясь калачиком на жесткой кушетке. — Никто. А завтра я сама все забуду…»
Утром Мартин, Эйрик и Сабир собрались неподалеку от крепости в тени старой смоковницы. Сабир сообщил, что за это время он успел объехать окрестности и убедился, что они могут продолжать путь.
— Нет, — резко возразил Мартин. — Дождемся, пока вернутся воины парафилакса. Я понимаю, что нам троим, Сабир, опасаться нечего, но с нами Иосиф, и жизнью сына Ашера бен Соломона мы не должны рисковать. Рана капитана Дрого еще не закрылась, он нуждается в покое, а леди Джоанна ни за что не согласится оставить его здесь — как я убедился, она очень ценит своих людей.
— Пусть так, — едва заметно кивнул Сабир, однако его темные глаза остро блеснули из-под чалмы. — Не стоит только забывать, что пока мы медлим, крестоносные рати продолжают осаждать Акру, и если город падет… Аллах свидетель, мы должны поспешить, иначе твоя игра с сестрой маршала ордена Храма уже не будет стоить выеденного яйца. Если же эта гурия с глазами, как фиалки, так манит тебя, возьми ее прямо сейчас. Ромеи это проглотят, а ее мужа я могу прирезать, если он попытается помешать.
— Мы не должны так действовать, — вмешался Эйрик.
Мартин также возразил: если он силой принудит сестру маршала храмовников к связи, это приведет де Шампера в неописуемую ярость, и ни о каких договоренностях с ним больше не будет и речи. Ашер бен Соломон, разрабатывая свой план, имел в виду совсем иное: не насилие, а добровольную уступку со стороны леди Джоанны, которая должна быть замечена теми, кто сможет подтвердить слухи об этом. В этой глуши таких людей нет. Следовательно, все должно произойти там, где немало рыцарей и знатных франков — тех, чье слово имеет вес.
Но Сабира и это не удовлетворило.
— Если тебе, Мартин, так не терпится выполнить самую приятную часть плана нашего господина, — хмурясь, проговорил он, — то, клянусь тюрбаном Пророка, я сам отправлюсь в Акру и попытаюсь спасти госпожу Сарру!
— Нет! — отрезал Мартин. — Этого не будет. В одиночку ты не справишься и, скорее всего, погибнешь, угодив в лапы крестоносцев. Если бы все обстояло так просто и зависело только от храбрости и воинского мастерства, наш покровитель в самом деле послал бы тебя. Но он вверил это дело мне, и тебе придется подчиниться.
Отстранив Эйрика, насмешливо наблюдавшего за их перепалкой, рыцарь направился к воротам крепости. Он хорошо знал Сабира, который всегда предпочитал действовать самостоятельно. Но ему были известны и сроки, о которых шла речь у них с Ашером бен Соломоном. Тот был совершенно уверен, что Акра не будет взята до тех пор, пока под ее стенами не появится свежее войско из Европы. И, судя по всему, это время еще не пришло.
С такими мыслями Мартин направился к конюшне, чтобы проверить своего коня. И, к своему изумлению, застал у стойла саврасого леди Джоанну.
Рыцарь замер за каменной опорой, поддерживавшей кровлю конюшни, и стал наблюдать. Обычно его конь не подпускал к себе чужих, но сейчас, хоть его ноздри и раздувались, саврасый не отдергивал голову и позволял женщине ласково оглаживать его шею и морду.
До Мартина донесся ее негромкий голос:
— Ты такой славный, такой чудесный мальчик, такой большой, красивый!..
Рыцарь невольно улыбнулся. В этом голосе одновременно звучали сила и мягкость — такое сочетание безотказно действует на животных.
Ему удалось приблизиться к женщине почти вплотную, оставаясь незамеченным. Но саврасый, учуяв хозяина, тут же вскинул голову и навострил уши.
— Он мало к кому так благосклонен, мадам, — вполголоса произнес Мартин, слегка склоняясь, чтобы вдохнуть запах волос леди Джоанны — они тонко пахли фиалковым корнем и розовой водой.
Она не вздрогнула, даже не обернулась.
— Я поняла, что вы рядом, по поведению коня, сэр. Прекрасное животное: стройные ноги, широкая грудь, длинная спина, удобная под седло. Но я впервые вижу коня с такой великолепной статью и при этом столь неблагородной масти!
В этом англичанка была права. Шерсть его скакуна имела сложный окрас: корпус и спина песочно-желтые, живот еще светлее, а вдоль хребта до репицы тянулся почти черный «ремень» — признак, доставшийся коню от диких лошадей, которые еще кое-где встречаются на степных просторах Азии. Ноги жеребца также были темными, почти черными у бабок, но выше светлели, и там, словно тени, проступали так называемые «дикие» отметины — едва заметные поперечные полосы. Грива и хвост издали казались почти черными, но и в них встречались бурые и совсем светлые, почти седые пряди.
Лошади такой масти чаще всего бывают низкорослыми и большеголовыми, подобных часто можно видеть среди рабочих крестьянских лошадок. Но его конь был много крупнее обычной скаковой лошади, хоть и не так велик, как боевые кони. К тому же Мартину еще никогда не доводилось ездить на более умном и преданном жеребце.
Мартин похлопал саврасого по крутой шее.
— У арабов, мадам, есть пословица: никогда не покупай рыжую лошадь, продай вороную, окружи заботой белую, а сам садись на гнедую. И хоть ваши английские кони в основном гнедые или золотистые, а мой саврасый неблагородной масти, я не променяю его ни на какого другого жеребца, даже на одного из тех красавцев, которых выращивают в Незерби.
Это было отчасти дерзко, но леди Джоанна не обиделась, лишь спросила, как зовут его коня, и удивилась, когда Мартин ответил, что никогда не дает своим скакунам имен: они слишком часто гибнут в бою. Если не знаешь, как звали убитого четвероногого друга, утрата кажется не такой тяжелой.
— Но разве кони непременно должны гибнуть? — огорчилась англичанка, продолжая ласково поглаживать саврасого. — Давайте назовем его Персик, и он прослужит вам долго, очень долго! Взгляните, он и в самом деле похож на этот плод, который с одной стороны всегда темнее, чем с другой!
Мартин еле сдержал усмешку: что за нелепая кличка — Персик!
И все же они продолжали мило беседовать, и Мартин, улучив момент, предложил даме прокатиться верхом в окрестностях крепости. Погода превосходная, в такой день нет ничего лучше, чем мчаться навстречу свежему ветру!
Леди Джоанна слегка растерялась, даже осведомилась: разумно ли отправляться на верховую прогулку, когда не далее как вчера в округе бесчинствовали газизы?
Вместо ответа Мартин бросил седло на спину саврасого и взглянул поверх него на молодую женщину с самой обворожительной из своих улыбок.
— Думаю, вам, мадам, не стоит ничего опасаться, пока я рядом!
В реплике звучали вызов и легкая насмешка.
Джоанна тут же парировала выпад, заметив, что и в самом деле не подумала о том, что ее спутник — рыцарь ордена Святого Иоанна, воины которого слывут лучшими в христианском мире. За исключением, разве что, тамплиеров, — лукаво добавила она и тут же принялась седлать свою гнедую кобылку, с легкостью обходясь без помощи конюха или слуги. Пусть леди и была высокородной особой, но обращаться с лошадьми умела, этого не отнимешь.
Они проехали пару миль по дороге по направлению к отдаленным холмам и рощам, за которыми вскоре показались плоские черепичные крыши небольшого селения и скромный купол сельской церкви. Джоанна не отставала от рыцаря ни на шаг, да и он не стремился обогнать спутницу. Уверенная посадка, умение слиться с лошадью в одно целое, ловкость, с которой леди Джоанна правила, — Мартин невольно залюбовался ею. Вскоре они достигли ущелья, по дну которого струилась небольшая речушка, но ехать дальше Мартин не рисковал — с ним была женщина. Сабир в деталях описал ему окрестности, но и он не успел разведать, что лежит за этим ущельем.
В крепость всадники возвращались шагом, неспешно беседуя.
В общении Мартин нашел Джоанну милой и даже забавной: в селении ей непременно понадобилось отведать местного меда, и она ела его со свежеиспеченной лепешкой, испачкав руки и лицо и сама же над этим смеясь. От пасшегося поодаль стада отделился черный козленок и потрусил им навстречу, жалобно блея, и Джоанна стала подзывать его столь же жалобным блеянием, пока тот не увязался за ее конем. Ее, северянку, удивляли зреющие в апреле апельсины и усыпанная опавшими лимонами земля под вечнозелеными деревьями — так в Англии осыпаются в августе яблоки с ветвей яблонь. Леди Джоанна восхищалась богатством и изобилием этого края, добавляя, что нет ничего удивительного в том, что сельджуки так яростно стремятся его завоевать. И, похоже, не остановятся, пока не добьются своей цели.
Мартин не поддержал тему, заявив, что, поскольку земли эти принадлежат Ромейской империи, ромеям и надлежит обуздывать аппетиты тюрок, утвердивших по соседству свой султанат.
Постепенно разговор перешел на него самого.
— Мне говорили, что родом вы из Намюра, — неожиданно спросила англичанка. — Значит, вы фламандец?
Мартин понятия не имел, где в действительности родился подлинный госпитальер Мартин д'Анэ, поэтому ответил, что он не фламандец, а француз и до поступления в орден жил в замке Маэн.
— Но вы вовсе не похожи на француза, — заметила собеседница. — Замок Маэн, говорите? Никогда не приходилось слышать о нем.
— Это недалеко от Ардеша в Пикардии.
— Мне это ни о чем не говорит. Я там не бывала.
— А вам приходилось много путешествовать?
— В последний год — да. Мне нравятся новые места и люди, их нравы и обычаи.
Рыцарю не хотелось углубляться в собственное «прошлое»: чем меньше англичанка будет о нем знать, тем легче будет ему исчезнуть впоследствии, а ей нечего будет поведать о мнимом госпитальере своему могущественному брату. Поэтому он уклонился и от ответа на вопрос, бывал ли он прежде в Святой земле.
Джоанна, заметив, что ее спутник стал скупиться на слова, решила, что, должно быть, это орденский устав требует от него скрытности. Но устав уставом, а на ее стан и ножки в стременах рыцарь тем не менее поглядывает, и не без удовольствия. Ах эти безбрачие, бедность и послушание! Кто в состоянии выдержать эти обеты, как бы ни была крепка вера? Вот и выходит, что все эти гордые паладины — обычные мужчины, истомленные длительным воздержанием…
Мартин про себя отметил, что его сближение с англичанкой развивается именно так, как он и надеялся: теперь Джоанна держится с ним вполне свободно и, уже уверенная в своей красоте, ведет себя так, чтобы привлечь к себе внимание молодого рыцаря.
Однако в следующее мгновение она озадачила его, осведомившись, на каком счету в ордене его оруженосец Эйрик. Ее служанка Саннива так счастлива с ним, а сам Эйрик уверяет, что готов обвенчаться с нею при первом же удобном случае.
«Вот болтун!» — рассердился Мартин, не вдаваясь в обсуждение достоинств Эйрика в качестве оруженосца. Разумеется, ничто не мешало ему выразить свое согласие — пусть рыжий добавит к своей коллекции венчанных жен еще одну супругу. Но внезапно Мартину стало жаль искреннюю и простодушную девушку, которой и без того досталось от разбойников. Откуда ей было знать, что влюбленность Эйрика — пусть и искренняя в эту минуту, — продлится ровно до тех пор, пока их пути не разойдутся. Если же их обвенчают в церкви, девушке придется ждать рыжего годами, не имея права сойтись с кем-либо другим. Да, порой Эйрик навещает своих милых, но после того, что он, Мартин, готовит для ее госпожи, у Саннивы нет ни малейшей надежды когда-либо снова увидеть своего варанга…
Вот почему он ответил решительным отказом, сославшись на то, что не может допустить венчания своего оруженосца в землях схизматиков-ромеев. В ордене такие вещи не прощаются.
Леди Джоанна явно огорчилась его резкости, и как только они оказались во дворе крепости, покинула спутника, бросив ему повод своей лошади, словно какому-нибудь груму. Мартин следил, как она поднимается по наружной лестнице в свою башню, до тех пор, пока она не обернулась и не помахала ему рукой.
А как только стемнело, он вновь занял пост под ее окном, будучи теперь вполне уверен, что Джоанна де Ринель наблюдает за ним.
Через несколько дней, как было условлено, отряд снова двинулся в путь, направляясь к Ликийскому побережью.
Поначалу дорога вилась по открытой холмистой местности, потом, в предгорьях, стала забирать ввысь, холмы мало-помалу превратились в высокие гряды Таврских гор, покрытые густыми лесами. Дорога превратилась в узкую тропу, и отряду пришлось растянуться кавалькадой. Впереди по-прежнему ехал Сабир, за ним Иосиф, к которому присоединился Обри, далее — греки-охранники, увлекавшие за собой навьюченных мулов, за ними — оживленно беседовавшие леди Джоанна и Мартин. Как того и требовали приличия, госпожу сопровождали камеристка, горничная и четверо уцелевших воинов из Незерби.
Замыкал кавалькаду капитан Дрого. Еще до отправления он заверил спутников, что ему намного лучше и чудодейственный бальзам Иосифа возымел свое действие. В пути капитан держался браво и был настолько приветлив с мнимым госпитальером, что Мартин заподозрил: возможно, вояка-сакс в известной мере одобряет его сближение с молодой госпожой.
Вместе с тем Мартин был предельно осторожен с леди Джоанной: ничего сверх меры — похвалы, легкие шутки, смех, время от времени, когда их кони шли бок о бок по тесной тропе, случайные прикосновения. Все это напоминало Мартину приручение молодой полудикой кобылки. Джоанна пока еще дичилась, тотчас уводила свою гнедую в сторону, насколько позволяла ширина тропы, и лицо ее при этом снова становилось надменным и замкнутым.
«Ничего, красавица моя, скоро ты будешь есть с моей руки», — усмехался про себя Мартин и принимался рассказывать о предстоящем им пути. Сельджуки еще никогда не добирались до этого гористого края, и хоть трудностей в дороге предстоит немало, они меньше всего связаны с людьми. Зато красота Тавра способна тронуть любую, даже самую очерствевшую душу!
И он указывал то в сторону низвергающихся со скал водопадов, то на заснеженные вершины гор вдали.
Проложенная через перевалы Таврских гор еще в глубокой древности тропа петляла по склону, постепенно уводя путников все выше и выше. Вдали виднелись заснеженные вершины, из ущелий доносился шум водных потоков. Порой их глазам открывались уютные зеленые долины с небольшими селениями. Хижины из дикого камня окружали сады и виноградники, разбитые на почве, расчищенной от обломков скал и щебня. И нигде не было видно лошадей: единственными животными, на которых возили поклажу и ездили верхом местные жители, были ослы.
Миновав возделанную долину, путники вновь вступили в зеленоватый сумрак леса. Вокруг витал аромат разогретой солнцем смолы, сквозь густые ветви средиземноморских сосен призрачно синели склоны соседней горы. Внизу с уступа на уступ прыгали бурные потоки, огибая обломки рухнувших некогда с высот скал.
В одном из таких мест вышла непредвиденная заминка: тропа, проходившая вдоль отвесной каменной стены, внезапно превратилась в узкий скальный карниз, справа от которого зияла пропасть. Лошади и мулы отказывались идти дальше, упирались и неистово ржали. Выход неожиданно подсказал сэр Обри, заявив, что если лошади не будут видеть пропасть, их страх пройдет. Обернув голову своего коня плащом, он осторожно ступил на карниз и беспрепятственно провел по нему животное. Таким же образом, успокаивая и увлекая за собой других коней и мулов, он помог переправиться остальным спутникам — кроме собственной супруги. Едва леди Джоанна приблизилась к опасному месту, как сэр Обри отвернулся, сделав вид, что вовсе не замечает ее.
Это не остановило англичанку — она решительно пересекла опасное место еще до того, как Мартин успел поспешить к ней на помощь.
Позже рыцарь упрекнул сэра Обри: здесь не время и не место сводить супружеские счеты. При этих словах золотистые брови лорда изумленно взлетели.
— Вы шутите, сэр? — с негодованием молвил он. — Тогда взгляните на меня: не кажется ли вам, что на моем лице до сих пор горит пощечина?
Что касается Джоанны — та выглядела нисколько не огорченной. Склонившись к цветущему кустарнику, сорвала желтый незнакомый цветок, смеялась в ответ на шутки Эйрика, перебрасывалась замечаниями с Саннивой и при этом выглядела беспечной, как певчая пташка. Словно все случившееся было досадной мелочью, помешавшей любоваться роскошной природой, мелочью, на которую просто не стоило обращать внимание.
Но этой «мелочью» был ее собственный муж, сэр Обри де Ринель!
Вот почему Мартин решил, что пришла пора откровенных признаний.
В кратких выражениях, приличествующих воину, он поведал о том, что еще в начале пути заметил, сколь необыкновенной дамой оказалась леди Джоанна, и сразу же выделил ее среди прочих попутчиков, ибо она сияла в их окружении подобно яркой звезде. Это была лесть, но не выходящая за пределы куртуазных приличий.
— Именно тогда, — продолжал Мартин, — глядя на вас, я ощутил, как в моем сердце возрождается некая давно забытая радость. Да, признаюсь: я дерзал любоваться вами, однако надеялся, что мое внимание останется незамеченным. Согласитесь, мне это удалось!
Теперь они ехали рядом под низко нависающими ветвями горных сосен. Джоанна смотрела вперед, но вся ее поза выражала напряженное внимание. И, глядя на нее сбоку, Мартин отметил, какой у нее прелестный профиль: темные загнутые ресницы, небольшой прямой нос, четко очерченный и в то же время нежный подбородок, высокие скулы. Чтобы длинные косы не мешали госпоже на лесных тропах, служанки уложили их на ее затылке в некое подобие раковины улитки, и от этого голова молодой женщины приобрела особую горделивую выразительность.
Поскольку спутница молчала, Мартин добавил, что только благодаря этому вниманию ему удалось своевременно заметить ее исчезновение и броситься на поиски — хоть это было и небезопасно для Иосифа бен Ашера, которого он обязался охранять в пути.
— Этот молодой еврей на редкость храбр, — заметила Джоанна. — И он спас моего мужа. Но, сэр… — она наконец-то повернулась к рыцарю, и Мартин на мгновение погрузился в озерца ее глаз — серо-лиловых, с тем дивным перламутровым отливом, который можно увидеть разве что на крыльях дикой голубки. — Вы, кажется, заговорили о том, что отправились разыскивать меня… то есть нас…
— О, я никогда не простил бы себе, если б с вами случилось худое! — пылко подхватил Мартин. — Однако это оказалось не так-то просто, и лишь следы на обочине дороги указали нам направление. А потом, уже на рассвете, я увидел вас в окружении этих грифов в тюрбанах, сражающейся и не теряющей присутствия духа! Это было великолепно: вы казались такой отважной и такой… одинокой. Людям, принадлежащим к нашему ордену, не пристало открывать душу, но не могу не признаться: после кончины моей возлюбленной Элеоноры — да сияет в ее чистой душе вечный свет! — я не взглянул ни на одну женщину. Но увидев вас… Я не смог совладать с собой… И покорно прошу простить меня, если мое внимание показалось вам назойливым. Больше ничего подобного я себе не позволю.
Рыцарь пришпорил коня, отъехав к голове кавалькады.
Джоанна проследила за ним взглядом, и на ее губах появилась довольная улыбка. Надо же: а ведь Мартин д'Анэ и в самом деле влюбился! Вот славно!
Она привыкла к признаниям, ей нравилось, что мужчины восхищаются ее красотой. И сознание того, что она поселила смятение в душе этого красивого и сурового рыцаря, было приятным. Об Обри в эту минуту она не думала. Так или иначе, но он остается ее супругом. Однако зачем вспоминать об этом именно сейчас? Муж держится отчужденно, избегает ее, а если и заговаривает, то лишь затем, чтобы высказать очередную порцию упреков. И Бог ему судья!
Намного приятнее думать об этом госпитальере. Пожалуй, Джоанна не стала бы возражать, если бы он вел себя еще более дерзко. Чтобы взгляды сменились прикосновениями… Он не выглядит могучим, однако ей довелось ощутить его силу, когда он помогал ей сесть на лошадь, или поддерживал в седле, если предстояло миновать непростой участок пути…
Узкая тропа, по которой продолжал продвигаться отряд, то спускалась по склону, то внезапно начинала карабкаться на кручи. Не всякий наездник выдержит такое, а Иосиф выглядел и вовсе измотанным. Поэтому было решено остановиться на ночлег в ближайшем селении.
По прибытии на место сэр Обри немедленно распорядился, чтобы ему предоставили самый крепкий и удобный дом, даже не поинтересовавшись, где придется ночевать супруге. Это Мартину пришлось позаботиться о постое для женщин и остальных спутников. И хотя в этих местах никто не слыхивал об удобствах, наутро леди Джоанна объявила, что прекрасно выспалась на своем тюфяке. И сопроводила эти слова такой ясной улыбкой, что рыцарь невольно сравнил ее со светом занимающегося ясного дня.
Разумеется, на тропе они снова оказались рядом, а бедняге Иосифу пришлось смиренно выслушивать нескончаемые жалобы лорда на тяготы пути в горах.
Так продолжалось в течение еще двух дней. Сэра Обри, казалось, нисколько не занимало, что его супруга проводит все больше времени с рыцарем-госпитальером. Причем ее попытки привлечь к себе внимание рыцаря порой становились столь явными, что Мартин даже заподозрил: уж не желает ли она таким образом вызвать ревность супруга? Чтобы избежать стычки, а заодно и немного подразнить Джоанну, он решил уделить внимание и лорду. Присоединившись к нему, рыцарь заговорил с ним о превратностях, которые ждут их уже на следующем отрезке пути.
Выслушав его, сэр Обри возмутился:
— Вы шутите, сударь! Нам и без того приходится то и дело спешиваться и тащить лошадей под уздцы по обрывам, а вы говорите, что в дальнейшем дорога станет еще хуже!
— Нам осталось преодолеть только вот этот перевал, — Мартин указал вверх, где громоздились покрытые лесами кручи. — Здесь нет проторенных караванных путей. Да и много ли в них проку, если вы сами отказались следовать с караваном грека Евматия?
Воспоминание об этом смутило сэра Обри; впрочем, сейчас ему жаловаться не приходилось — он полностью зависел от доброй воли рыцаря-госпитальера и щедрости Иосифа.
— А найдется ли какое-нибудь пристанище в этих диких горах? — спросил англичанин, помедлив.
Мартин взглянул на лорда с дружелюбной улыбкой:
— Мы поступим как первые пилигримы — заночуем под открытым небом. Разве это может остановить такого воина, как вы?
Обри предпочел отмолчаться. В словах рыцаря ему почудилась насмешка.
При всяком удобном случае Мартин продолжал упражняться с оружием. Так было и накануне. Сперва он вызвал Эйрика, и тот, фехтуя двумя мечами, сразу начал теснить рыцаря и вызвал своим мастерством всеобщий восторг. Однако Мартин настолько хорошо изучил манеру боя рыжего, что предвосхищал все его выпады и коварные удары. Куда интереснее было упражняться с Сабиром — изворотливым и совершенно непредсказуемым.
Однако сейчас было не время обнаруживать перед спутниками, каким блестящим бойцом является сарацин, и Мартин предложил сэру Обри выступить против него. Каково же было удивление мнимого госпитальера, когда со второго удара ему удалось обезоружить прославленного турнирного бойца. Неужели перед ним победитель знаменитого турнира в Винчестере, некогда завоевавший воинским искусством благосклонность леди Джоанны и ее отца?
Мартин решил, что происшедшее — нелепая случайность. Подняв меч сэра Обри, он снова протянул его владельцу. Но тот, сделав пару неуклюжих выпадов и нанеся два-три удара, над которыми посмеялся бы любой мальчишка-оруженосец, вложил клинок в ножны и отступил со словами:
— Поглядел бы я на вас, сэр рыцарь, если бы нам довелось встретиться на ристалище в конной сшибке!
Нет спора — тяжеловооруженный конный воин с длинным копьем в те времена считался самой могучей боевой силой. Но Мартин мгновенно почувствовал, что лорд, будучи признанным мастером копейного боя, практически не владел мечом и приемами ближнего боя. Вероятно, поэтому он и пытался уклониться от участия в крестовом походе: война в Святой земле ни в чем не походила на рыцарские забавы.
Но гораздо больше, чем смехотворная неудача сэра Обри, Мартина тревожил Иосиф: его друг, и без того неважный наездник, до того был измучен переходом в горах, что едва держался в седле. Иосиф не жаловался, но в его глазах Мартин видел молчаливое страдание. Это и подтолкнуло его остановить отряд на длительный привал еще засветло, не нарушая старого правила: в горах надо устраиваться на ночлег до наступления темноты. Благо подвернулась просторная поляна, вблизи которой протекал чистый ручей. Между тем Сабир умудрился подстрелить в лесу крупную косулю и теперь вернулся к стоянке, сбросив добычу с седла под одобрительные возгласы спутников.
Повар Бритрик, давно не имевший возможности продемонстрировать свое искусство, тотчас принялся ловко свежевать дичину, с восторгом приговаривая и чуть ли не приплясывая от удовольствия:
— Вы, господа, пальчики оближете, когда я натру это животное пряностями, нашпигую нутряным жиром с диким чесноком и не спеша потомлю над углями, поливая его же собственным соком! А вашему слуге-сарацину, сэр рыцарь, по праву принадлежит лучший кусок, ибо он его заслужил сполна!
В отличие от леди Джоанны, которая по-прежнему сторонилась Иосифа и недоверчиво косилась на Сабира, повар легко сошелся с обоими. Глядя на то, как все трое шутят и пересмеиваются, Мартин невольно подумал о том, что все эти саксы из Незерби — славные и надежные ребята. В отличие от их господина.
И действительно — лорд Обри нелюдимо сидел в стороне, не принимая ни малейшего участия в устройстве лагеря, тогда как все прочие собирали валежник, разводили огонь и расседлывали лошадей, чтобы отправить их пастись на зеленой луговине у ручья. Служанки леди Джоанны, устроив некое подобие шатра из кусков ткани под ветвями старой лиственницы, натаскали воды и нагрели ее у огня, чтобы их госпожа и они сами могли омыться после трудного пути.
Еще не вполне стемнело, когда с делами было покончено и люди расположились у костра в ожидании, пока изжарится дичь. По рукам пошел мех с вином, в небе загорались первые звезды, доносилось негромкое журчание ручья. Кое-кто перекусывал лепешками с твердым, как камень, сушеным сыром.
— Как жаль, что я лишилась своей лютни, — заметила леди Джоанна с легким вздохом.
Она сидела на свернутых овчинах, опираясь на мшистую глыбу скального обломка, пламя костра отражалось в ее глазах, а темные волосы, обрамлявшие лицо, слегка вились — в ночном воздухе уже чувствовалась влага. Мартин заметил, что не в силах отвести глаз от лица этой женщины. Черт побери — ему все больше нравился план, разработанный Ашером бен Соломоном, во всяком случае — его первая часть!
— Что бы вы спели, если бы при вас была лютня, мадам?
— О, я знаю много песен! «Веселый монах» или «Роза в окне», «Где мой рыцарь» или «Когда рога поют зарю». Некоторые из них сочинил мой отец лорд Артур де Шампер. Когда в наши владения приезжала королева Элеонора или мы бывали при ее дворе в Пуатье, она просила отца петь для нее и называла его лучшим трубадуром Англии. И я порой пела вместе с отцом, а он радовался, что хоть один из его отпрысков унаследовал его дар.
— Расскажите о вашей семье, мадам, — попросил Мартин. — Вы нередко упоминаете близких, но для меня это всего лишь имена, пусть и славные.
При этой просьбе лицо леди Джоанны озарилось улыбкой, и она принялась рассказывать, завороженно глядя в огонь.
Первым делом она заявила, что ее отец — самый достойный и благородный барон во всем Английском королевстве. «Было бы удивительно, если бы любящая дочь отзывалась о родителе иначе», — усмехнулся Мартин, но тут же заметил, что люди из Незерби с готовностью кивают, подтверждая слова госпожи. Лишь сэр Обри никак не отозвался, глядя в сторону и продолжая грызть кусок сыру.
Далее леди Джоанна поведала о том, в какой дружбе Артур де Шампер состоял со старым королем Генрихом. Барон Малмсбери, лорд Гронвуда, владелец Орнейля, Тавистока, Круэля, Болье Белокаменного и других сеньорий в Англии, Уэльсе и Нормандии, — он был близким родственником Плантагенетов, хотя в его гербе и имелась «бастардная полоса».[81] А само поле герба де Шамперов — серебристое, с изображением скачущего коня и валлийской лиры, — с гордостью добавила молодая женщина, и глаза ее просияли. Лиру в герб включил ее отец, а конь был унаследован из герба его супруги, леди Милдрэд Гронвудской. Род леди Милдрэд восходит к прежним саксонским королям, и не менее знатен и знаменит, чем Плантагенеты. И все же родителям леди Джоанны было не просто вступить в брак, ибо на леди Гронвуда имели виды многие знатные и влиятельные особы, и сэру Артуру долго пришлось добиваться ее руки.
— Мне как-то говорили, что лорд Артур де Шампер сражался за вашу мать на турнире, — припомнил Мартин.
— Это так, — кивнула Джоанна, отводя со лба непокорные завитки. — Но тогда он всего лишь обручился с ней, а свадьба состоялась намного позже. Причем сразу же после венчания супруги отправились в паломничество на Святую землю.
Мартину показалось, что леди Джоанна о чем-то умалчивает. Его заинтересовала причина столь спешного отъезда новобрачных, но женщина продолжала свой рассказ, и он не решился ее останавливать.
— Они отправились в Палестину вместе с Уильямом, моим старшим братом, которому в ту пору было всего три года…
Мартин взглянул на англичанку озадаченно: когда же поженились ее родители? Из слов леди Джоанны следовало, что они уехали вскоре после венчания, однако, выходит, что к этому времени у них уже был трехлетний сын?
— Возможно, именно потому, что в детстве Уильям провел немало времени в Святой земле, впоследствии он принял решение стать рыцарем ордена Храма и посвятить свою жизнь защите Иерусалимского королевства от неверных.
Поразительно! И прежде всего то, что сэр Артур предоставил такую возможность своему первенцу, наследнику родовых владений, хотя было достаточно одного его слова, чтобы запретить молодому человеку вступить в орден, и закон также был на его стороне…
— А другие ваши братья и сестры? — спросил Мартин, продолжая втайне недоумевать.
Как выяснилось, мать леди Джоанны родила мужу шестерых детей, и все они выжили, что случалось в те времена не часто. Первенцем, как уже сказано, был Уильям, за ним по возвращении супругов из паломничества на свет появились дочери-близнецы — Эдгита и Элеонора. И хоть внешне эти светловолосые красавицы с прозрачными голубыми глазами неотличимо похожи, характеры у них различаются больше, чем кинжал и молитвенник, — добавила она.
Странное сравнение, — подумал Мартин, но люди из Незерби встретили его с одобрением. И вскоре ему стало ясно почему. Оказывается, Эдгита всегда была отчаянно храброй, любила охоту и скачки, а ее сестра Элеонора оставалась тихой и замкнутой в себе, предпочитая молиться и читать, пока Эдгита охотилась на уток и кроликов. Тем не менее руки скромной и благонравной Элеоноры однажды попросил овдовевший Роберт де Бомон, граф Лестерский, глава одного из самых знатных родов Англии. Подобный союз был бы честью для де Шамперов, несмотря на то, что граф Роберт был человеком не первой молодости. Однако всегда покладистая Элеонора наотрез отказалась выходить замуж, наконец-то признавшись, что всегда мечтала посвятить себя служению Богу. Она так упорствовала в этом намерении, что в итоге приняла постриг в обители Святой Хильды, которой издавна покровительствовали лорды Гронвуда и где настоятельницей была поистине святая женщина — мать Отилия. Элеонора провела в обители под ее опекой немало лет, а после кончины доброй матушки Отилии сама стала настоятельницей.
— А что же леди Эдгита? — спросил Мартин, поглядывая, как Бритрик хлопочет над уже зарумянившейся тушей косули, источавшей обворожительный аромат.
— О, судьба Эдгиты сложилась совсем иначе. Потеряв надежду воссоединиться с Элеонорой, граф Лестер сделал предложение и ей. А Эдгита с радостью его приняла. Она всегда была честолюбива, а их брак, несмотря на разницу в возрасте, оказался вполне удачным. У графа были сыновья от первой жены, поэтому он нисколько не огорчился тем, что супруга родила ему только двух дочерей — Амицию и Маргарет.
В то же время Роберт де Бомон поддержал в борьбе против старого короля Генриха его старшего сына — также Генриха, которого в Англии прозвали Молодым. Престарелый Плантагенет короновал Генриха Молодого, однако не подпускал его к власти до тех пор, пока тот однажды не восстал и не потребовал свою долю наследства. А поскольку старый король большую часть времени проводил в бескрайних владениях Плантагенетов на континенте, а следовательно, отсутствовал в Англии, то нашлись лорды, пожелавшие иметь в Англии своего короля — Генриха Молодого. И граф Лестер имел неосторожность к ним примкнуть. Однако старый король быстро обуздал мятежников; многие из них угодили в заточение, в том числе и супруг Эдгиты. Эдгита бросилась ко двору — умолять его величество о помиловании, но король ее отослал, заявив, что только благодаря давней приязни к де Шамперам не лишит ее дочерей — как детей изменника — положенной доли наследства.
Несчастную Эдгиту в ту тяжкую минуту мало кто поддержал. Даже наш отец упрекал ее, ибо де Шамперы всегда были верны своему сюзерену Генриху Плантагенету, недаром наш девиз — «Верный всегда рядом».
— Но ведь и тому, кто сейчас на троне — я имею в виду короля Ричарда, — приходилось воевать против своего отца-короля? — заметил Мартин. — Как он, придя к власти, отнесся к тому, что де Шамперы всегда поддерживали старого короля?
— О, Ричард Львиное Сердце — благороднейший из рыцарей! При встрече с моим отцом он всего лишь с улыбкой повторил наш старый девиз и оказал ему самое радушное гостеприимство, как ближайшему из родичей…
При этих словах жены сэр Обри издал приглушенный смешок. Смешок этот прозвучал странно — ведь до того лорд выглядел сонным и безразличным, даже когда Бритрик при общем оживлении принялся разрезать жаркое и раздавать сочные ломти всем собравшимся у костра, Обри молча принял свою долю и удалился в тень за пределами освещенного круга.
— Итак, король Ричард после смерти Генриха II не лишил нашу семью своей благосклонности, — ловко разделывая дымящееся мясо ножом, продолжала леди Джоанна. Теперь она говорила неторопливо — видимо, воспоминания о прошлом так захватили ее, что даже искусство Бритрика не могло ее отвлечь. — Именно он освободил из темницы графа Лестера, наконец-то воссоединившегося с супругой, и они оба были в числе первых, кто был приглашен на коронацию Ричарда в Лондоне. И хотя туда съехались все де Шамперы, и даже моя сестра аббатиса, но львиная доля внимания молодого короля досталась Бомонам. И Эдгита сполна получила всю ту славу, к которой так стремилась! И по заслугам: ведь Бомоны были ближайшими сподвижниками Ричарда Львиное Сердце. Старый граф всячески содействовал подготовке крестового похода, а его сын от первого брака — также Роберт — отправился с королем в Святую землю, и, скорее всего, мы встретим его там, чему я буду несказанно рада, — добавила она с лукавой улыбкой, почему-то огорчившей Мартина.
Уже без особого любопытства рыцарь узнал о том, что и старший Роберт де Бомон, граф Лестер, отплыл в Святую землю еще год назад, но увы! — недавно было получено известие, что он пал под стенами Акры. Ее сестра ныне вдовеет, ей всего тридцать шесть лет, у нее огромное наследство — замки и земли. И она по-прежнему остается необыкновенной красавицей! — добавила Джоанна, отправляя в рот подрумяненный ломтик дичи.
— Но ведь ваша сестра может снова выйти замуж? — чуть погодя спросил Мартин.
При этом сэр Обри внезапно расхохотался, а по лицу леди Джоанны скользнула тень. Тем временем ее супруг приблизился к костру, выбрал пару овчин из общей груды и, перекинув их через плечо, удалился в темноту, всем своим видом показывая, что его нисколько не интересует женская болтовня.
На какое-то время повисла тишина, прерываемая только потрескиванием поленьев в костре. Сабир подкинул в него охапку смолистых сучьев, огонь ярко вспыхнул, и Мартин успел перехватить взгляд капитана Дрого, которым тот проводил своего господина. В нем читалось нечто очень похожее на ненависть.
Заодно обнаружилось, что бедняга Иосиф клюет носом, и Мартин жестом велел одному из его людей, чтобы тот позаботился о господине. Только после этого он снова обернулся к леди Джоанне:
— Мадам, но ведь вы не упомянули еще двоих отпрысков семьи де Шамперов!
— О, это мои братья — Гай, лорд Гронвуд, и Генри по прозвищу Эльф. Они погодки. Причем Гай до того похож на нашего отца, что когда они оказываются рядом, на них невозможно смотреть без улыбки. Зато несходство этих двух характеров просто поражает. Матушка порой пеняет отцу, что он и с годами остался мальчишкой, зато Гай необыкновенно серьезен и полон чувства собственного достоинства. Говорят, он унаследовал нрав нашего деда Эдгара Армстронга — столь же рассудительного и невозмутимого, больше заботившегося о подданных, чем о себе.
Когда Гаю исполнилось шестнадцать, его женили на леди Синтии де Клар — дочери главы одного из влиятельнейших родов Восточной Англии. Это был брак по расчету. Мне только что исполнилось восемь лет, но более пышной и великолепной свадьбы я не видела ни до, ни после. Казалось, вся знать и высшие духовные лица Англии явились почтить нового лорда Гронвуда — ибо отец вверил Гронвудские владения в управление сыну, а сам поселился в замке Малмсбери. Гай прекрасно справляется с возложенными на него обязанностями, его почитают соседи и челядь, а жена рожает ему крепких и здоровых детей. Леди Синтия оказалась весьма плодовитой, и у меня с этой стороны пятеро племянников, а когда я покидала Англию, она снова была в тягости.
При этих словах Джоанна едва заметно вздохнула, а Мартин вспомнил, как Эйрик однажды сказал: «Она бесплодна, как заброшенное кладбище».
— А что же другой ваш брат, носящий странное прозвание Эльф?
И снова на лице леди Джоанны засияла нежная улыбка.
«Она действительно любит свою родню, — подумал Мартин. — Хотелось бы верить, что у де Шамперов это семейное и маршал Уильям будет готов на все ради того, чтобы защитить честь сестры. Тогда я и в самом деле смогу диктовать ему свои условия».
— Эльфом Генри прозвали валлийцы, — пояснила леди Джоанна. — И все из-за его глаз. Они светло-голубые, миндалевидные, а их уголки как бы слегка оттянуты к вискам. Валлийцы считают, что они в точности такие, как у маленького народца: так называют в Англии эльфов — духов лесов и вод. Кроме того, Генри красив и беспечен, как эти эфирные существа. Валлийцы, пожалуй, правы, ибо большего сумасброда в роду де Шамперов еще не бывало! Только представьте: отец вверил ему управление нашими замками на границе с Уэльсом, а Генри тотчас устроил там рыцарский турнир, пригласив на него не только рыцарей со всей округи, но и полудиких простолюдинов-валлийцев. В результате турнир едва не обернулся кровавым сражением, и брату с трудом удалось остановить беспорядки. Вдобавок Генри сумел очаровать одну из дочерей лорда Мортимера, чьи владения находятся по соседству, а когда дело уже шло к свадьбе, неожиданно расторг помолвку, влюбившись в какую-то тамошнюю дикарку. А та умудрилась сбежать от него, и он отправился в горы Уэльса чуть ли не в одиночку — разыскивать свою возлюбленную.
К слову, среди валлийцев Генри приобрел славу отчаянного храбреца, но его дружба с ними едва не рассорила его с английскими лордами, а в лице Мортимеров он приобрел могущественных врагов. В итоге отец приказал сыну вернуться на восточное побережье, лишил его права управлять нашими землями в Валлийской марке[82] и велел посвятить себя духовной стезе. Поскольку по закону все владения де Шамперов унаследует Гай, Генри предстояло стать служителем церкви, а это при его знатности сулило быстрое продвижение к вершинам церковной иерархии.
Но Генри поступил иначе. Объявив, что нет ничего на свете скучнее литаний и запаха ладана, он отказался от наследства и стал бродячим рыцарем — из тех, что переезжают с турнира на турнир, где бы те ни происходили. В итоге он одержал немало побед и стяжал множество наград, и о нем заговорили как об одном из самых выдающихся турнирных бойцов Англии. Все это время он не поддерживал никаких связей с семьей. Но кровь есть кровь, и когда несколько лет назад в самый канун Рождества он появился в Гронвуде вместе со своей валлийкой и малолетним сыном, наша матушка расплакалась от счастья, а отец простил его, умилившись тем, что своего первенца Генри назвал в его честь.
— История вашего брата-эльфа — готовая баллада! — с улыбкой заметил Мартин. — Видимо, де Шамперы и впрямь очень дружны, если простили непокорного сына и для него все окончилось столь благополучно.
Джоанна мечтательно смотрела в огонь.
— Ах, сэр, если бы вы знали, как великолепны пиры в Гронвуде в Сочельник, когда там собирается вся семья. Ибо де Шамперы, где бы они ни были, в эти дни всегда вместе. И какая музыка звучит тогда под сводами Гронвуда, сколько смеха и веселья, сколько детских голосов!.. — Она тряхнула головой, отгоняя видение, и вновь заулыбалась. — Рано или поздно я снова буду вместе с ними. И это величайшее счастье — знать, что у тебя есть дом и люди, которые тебя всегда ждут и встретят с неизменной радостью!
Сердце Мартина внезапно сжалось. Ничего и никогда он не хотел так, как иметь дом, под кровом которого можно забыть обо всех превратностях жизни. Он вспомнил семью Ашера бен Соломона, его седые кудри и лукавый взгляд, всегда приветливую и ласковую к нему госпожу Хаву, их веселых дочерей и внуков. Иосиф вскоре будет с ними… И там Руфь, которая ждет его и любит…
Что ж, когда-нибудь и у него будет семья, и ему не придется чувствовать себя неприкаянным странником без рода и племени. Но для того, чтобы это случилось…
Подняв голову, он пристально взглянул на леди Джоанну. Вот она — первая ступенька той лестницы, по которой ему придется взойти, чтобы обрести дом и тех, для кого он станет родным и близким!
— Видит Бог, все мы однажды вернемся домой, мадам. Я примкну к моим братьям по ордену, а вы снова встретите Рождество в Гронвуде. И то, что случилось с вами здесь, превратится в мимолетное воспоминание. — Он сопроводил эти слова выразительным взглядом и тотчас заметил, что на лице молодой женщины отразилось волнение.
Маленькая победа: похоже, леди Джоанна огорчена тем, что им вскоре предстоит разлучиться.
Извинившись, Мартин поднялся, поправил ножны меча на поясе и добавил, что время уже позднее, леди необходимо как следует отдохнуть, а его обязанность — охранять лагерь до тех пор, пока его не сменит один из воинов капитана Дрого.
Но едва рыцарь оказался за пределами освещенного костром круга, как на него едва не налетел сэр Обри.
— И вы поверили этой женщине? — свистящим шепотом проговорил он, хватая рыцаря за руку. Мартин невольно отстранился, но лорд продолжал, при этом его глаза сверкали во мраке, как у разъяренного кота: — Благородные де Шамперы! Знали бы вы, сэр, в каком змеином гнезде я оказался, породнившись с ними! Истинно говорят: высокородное отребье вечно прикрывает свой срам титулами, замками, пестрыми гербами и громкими девизами… Таковы и де Шамперы. Одна из сестер-близнецов, напыщенная святоша, обирает всю округу, да так, что сумела удвоить владения своей обители. Другая — выскочка графиня Лестер, не только забралась в постель к старику, чтобы возвыситься, но и, как последняя шлюха, блудила с королем, чтобы вызволить из заточения своего мужа-изменника. Старый Плантагенет был охоч до податливых красоток, однако, попользовавшись ею, и не подумал выпустить Роберта де Бомона. А Генри Эльф! Ведь это просто безмозглый смутьян, умудрившийся рассорить валлийцев с Мортимерами как раз тогда, когда король с таким трудом заключил с ними мир! И лорд Артур был вынужден убрать его с глаз долой, чтобы этот Генри не был схвачен и приговорен к заслуженной каре королевскими шерифами. Зато его наследник, тихоня Гай Гронвудский, — тупая и послушная овца, выполняющая все прихоти родителей и не смеющая подать собственный голос…
Сэр Обри перевел дух и продолжал вполголоса:
— Я уж не говорю о бароне и баронессе… Святые на небесах покатились бы со смеху, услышав о том, что у этой парочки имеется какая-то честь! Ибо бастардная полоса в их гербе оказалась не случайно, и всем известно, что высокородный Артур де Шампер — незаконнорожденный брат Генриха Плантагенета, и этому обстоятельству обязан своим возвышением. А леди Милдрэд Гронвудская — это и вовсе нечто особенное. Это развратная саксонская девка, чей позор известен всей Англии! Сейчас она кичится своей знатностью, однако люди хорошо помнят, что она была наложницей сына короля Стефана Блуаского — безумного принца Юстаса.[83] Но не простой наложницей, а богатой, оттого-то Плантагенет и всучил ее своему незаконнорожденному братцу, чтобы тот завладел ее землями. Да только в придачу ему пришлось признать своим первенцем сына леди Милдрэд и этого самого Юстаса — Уильяма. Впоследствии у Артура де Шампера появились и собственные сыновья, вот почему он и настоял, чтобы ублюдок Блуа вступил в орден Храма, а затем и вовсе покинул Англию. Маршал тамплиеров Уильям де Шампер… Х-ха! Уж кому-кому, но вам-то известно, что храмовники приносят обеты бедности, послушания и безбрачия, а это значит, что незаконный отпрыск леди Милдрэд никогда не сможет предъявить свои права на земли и титулы де Шамперов! Все: владения, деньги и титул барона Малмсбери и Гронвуда унаследует покорный Гай, тогда как на долю Уильяма выпало изо дня в день рисковать своей головой в войне с неверными.
Мартин был поражен.
— Это правда? Значит, прославленный маршал ордена Храма… незаконнорожденный сын?
Обри открыл было рот, чтобы ответить, но вдруг охнул, рванулся вперед и едва не рухнул в объятия рыцаря. А в следующий миг Мартин увидел позади него капитана Дрого, который, похоже, угостил своего лорда отменным пинком. Но на этом Дрого не остановился: схватив Обри за шиворот, капитан встряхнул его, как терьер треплет пойманную крысу, с такой силой, что грузный лорд рухнул на колени. Дрого уперся рукой в его затылок, повалил лицом на землю и, как казалось, вовсе не собирался отпускать.
— Пес, ты сейчас же признаешься рыцарю д'Анэ, что нагло солгал! Как ты посмел порочить своих благодетелей и моих добрых хозяев, от которых все эти годы видел только добро?
Обри тяжко сопел и твердил, что все сказанное им известно любому пастуху в Норфолке. Тогда Дрого с еще большей силой надавил коленом на его загривок, и лорд волей-неволей был вынужден признать, что и впрямь оклеветал родню супруги.
Мартин беззвучно отступил в тень. Пусть сами решат, кто из них прав. Если Обри, освободившись от железной хватки капитана, схватится за оружие, то Дрого вполне способен его убить. С другой стороны, лорд Незерби, как бы ни был он уязвлен, наверняка понимает, что ему не устоять против опытного воина.
Мартин продолжал молча наблюдать за происходящим, оставаясь невидимым во мраке. Обри наконец удалось подняться. Цедя ругательства, он отряхнул испачканную одежду, а затем направился туда, где за грудой камней находилась его постель — разостланные овчины. Дрого же как ни в чем не бывало вернулся к костру, где все еще сидели, беседуя, Сабир и повар Бритрик.
«Я мог бы этой ночью покончить с Обри, — подумал Мартин. — И возложить вину за случившееся на Дрого. Сабир подтвердил бы мои слова, да и Бритрик вынужден был бы признать, что капитан ссорился с его господином».
Это было бы подло, зато Обри больше не был бы помехой их отношениям с Джоанной. Но зачем убивать англичанина, если он, Мартин, и без того знал, как от него избавиться, и не без пользы для себя.
ГЛАВА 10
Обычно, когда Мартин вступал в поединок — неважно, была ли это смертельная схватка или простой тренировочный бой, — его душа ликовала. Вот для чего я рожден, вот где способен проявить всего себя! — пели каждая его мышца, каждый взмах меча, каждый выпад или туше.
Но когда Мартину удалось заставить Обри де Ринеля снова поупражняться с ним в бою на мечах, потребовалось все его искусство, чтобы провести поединок так, чтобы соперник не заподозрил подвоха. Госпитальер широко и медлительно заносил оружие, чтобы лорд успел предугадать направление удара и успешно отразить его. Мартин, даже тесня Обри, чересчур суетился и при этом часто открывал то бок, то голову, вынуждая тем самым противника атаковать. Все эти усилия привели к тому, что англичанин, не успев остановить меч в момент удара, довольно чувствительно задел плечо рыцаря-госпитальера.
Мартин чертыхнулся сквозь зубы, а рука на некоторое время онемела. Неужели Обри не понимает, что это всего лишь игра, а не настоящий бой? Или он не привык к подобным упражнениям? Знал бы Мартин об этом заранее, предпочел бы сойтись с прославленным победителем турниров на обычных палках — вроде тех, с какими обучают совсем неопытных воинов.
И все же Мартин заставил себя улыбнуться:
— Сегодня, сэр, вы бились лучше, чем в прошлый раз.
Лорд изобразил некое подобие улыбки. После того как на глазах у госпитальера Дрого унизил его, он держался настороженно, словно все время ожидал какого-то подвоха.
Мартин же до тех пор, пока они не прибыли в эту ромейскую горную крепость, зорко следил, чтобы эти двое не оказывались рядом.
Крепость, располагавшаяся на перекрестье торговых путей, была довольно велика, вокруг нее раскинулось многолюдное селение, жители которого промышляли тем, что оказывали гостеприимство путникам. Правда, в последнее время караваны появлялись здесь все реже и реже — купцы предпочитали более безопасную и оживленную дорогу вдоль побережья или морской путь. Море лежало отсюда в двух дневных переходах.
Отложив меч, Мартин принялся разминать ноющее плечо, но когда Обри уже собрался покинуть площадку, на которой они сражались, негромко окликнул англичанина:
— Мне надобно переговорить с вами, сэр!
Не дожидаясь ответа, он направился к воротам. Несмотря на то что под кольчугой у него был надет стеганый акетон, удар лорда так глубоко вдавил стальные звенья, что кожу до сих пор нестерпимо жгло. Проклятье! Этот Обри орудует мечом как дубиной, не имея представления о настоящем искусстве фехтования. С другой стороны, вполне возможно, что он просто сорвал зло на Мартине, ставшем свидетелем его позора.
Хотя с чего бы ему злиться? В дороге рыцарь ни словом не обмолвился о том, чему стал свидетелем, держался с Обри ровно и дружественно, а по прибытии в крепость сам позаботился о том, чтобы капризный лорд был размещен в самых просторных и светлых покоях. Теперь же ему предстояло убедить сэра Обри действовать именно так, как это требовалось ему — и никому другому.
Но едва они вышли за стены крепости, Мартин невольно улыбнулся, заметив неподалеку леди Джоанну. Что за характер! Накануне, когда они уже затемно прибыли в крепость, она едва не падала с седла от усталости, а сегодня вместе со своими саксами уже отправилась взглянуть на исполинский платан, росший неподалеку от крепостных ворот!
Дерево это и в самом деле было необыкновенное, и местные жители утверждали, что растет оно здесь еще с тех времен, когда в этих краях поклонялись языческим богам, источникам, старым дубам и платанам. А теперь Джоанна де Ринель развлекалась тем, что пыталась выяснить, сколько человек понадобится, чтобы обхватить громадный ствол. С ней были все ее люди, включая служанок, Эйрик и даже Иосиф. Взявшись за руки, они образовали кольцо вокруг платана. Но ствол оказался так могуч, что рук не хватило, и пришлось позвать еще двоих стражников, охранявших ворота. Те оставили копья и охотно приняли участие в забаве.
— Тринадцать! — со смехом воскликнула леди Джоанна, когда ее пальцы наконец коснулись руки одного из стражников и огромное дерево оказалось в живом кольце. — Чертова дюжина!
В это мгновение она оглянулась и заметила проходивших мимо Мартина и Обри. На лице молодой женщины появилось озадаченное выражение. После стычки капитана Дрого с сэром Обри рыцарь почти не уделял ей внимания, и это, похоже, расстраивало красавицу. Что ж, тем лучше. Опытный охотник сперва поддразнивает дичь запахом приманки, а затем отступает, чтобы добыча сама вышла из чащи.
— Куда мы направляемся, сударь? — поинтересовался Обри, когда крепостные ворота и платан остались позади.
Мартин остановился и присел на низкую каменную ограду, окружавшую ромейскую церквушку с подслеповатыми оконцами в толстых стенах и плоским куполом. Рядом проходила дорога, чумазые ребятишки играли в пыли с неуклюжим щенком. В остальном дорога была пустынна — времена, когда здесь проходили толпы паломников и вереницы вьючных животных, ушли в прошлое. Даже местный караван-сарай пустовал, а жители селения, утратив этот источник дохода от торговли с путешественниками, теперь разводили коз и возделывали свои виноградники.
— Вот этот путь, — Мартин кивнул на торную дорогу, — ведет в Киликию. А это, — он указал на узкую тропу, убегавшую к поросшему соснами горному кряжу, — кратчайший путь к морскому побережью. Там я рассчитываю сесть на первое же подходящее судно и отплыть в Святую землю.
Светлые брови англичанина сошлись на переносице.
— Меня это не устраивает!
«Еще бы! — насмешливо подумал Мартин. — Ты не рискуешь доверить свою драгоценную персону водным хлябям. Да и морской болезнью страдаешь. Из-за этого твоя супруга и ее люди вынуждены тащиться верхом по чужим землям».
Мартин непроизвольно потирал все еще нывшее плечо.
— Сэр Обри, я помогаю вам, как и велит мне долг рыцаря-госпитальера. Однако у меня имеются обязательства перед собратьями. Я должен прибыть в Палестину к назначенному сроку и вручить магистру послание от главы Орденского дома в Намюре. Я и без того потерял немало времени, сделав огромный крюк, и теперь обязан наверстать упущенное. А кратчайший путь туда — через горы и далее — морем.
— Значит, вы намерены покинуть нас? — в голосе Обри прозвучали возмущение и растерянность.
Мартин рассеянно следил за детьми на дороге.
— Кроме того, я взялся доставить в Киликию еврея Иосифа…
— Следовательно, мы направляемся в Киликию? — с явным облегчением спросил Обри. — У коменданта крепости я видел карты, — заявил он, снова обретая важность. — Совершенно очевидно, что эта дорога удобна и безопасна, а ваш долг…
— Погодите, сэр, — остановил его Мартин. — Действительно, дорога в Киликию много удобнее и лучше охраняется, чем горная тропа. Но дело в том, что на границе с Киликийским царством расположена прецептория ордена тамплиеров. Там я смогу передать вверенного мне Иосифа бен Ашера рыцарям Храма. Иосиф достойно оплатит их труды, и они препроводят его туда, куда ему будет угодно.
— Превосходно! Надо полагать, храмовники не откажутся принять у себя родичей маршала ордена?
— Разумеется. Всех, кроме женщин. Ибо тамплиеры, в отличие от нас, иоаннитов, не допускают в свои прецептории дочерей праматери Евы. Вам наверняка известно о такой особенности их устава.
Обри возразил:
— Но ведь при всякой прецептории должен существовать дом милосердия, куда открыт доступ женщинам!
— Здесь такового нет. Этот Орденский дом рыцарей Храма, верных Риму, располагается на землях армян, а те почитают лишь Константинопольского патриарха. И образ жизни тамплиеров здесь много строже, чем в Европе. Это крепость-монастырь, в которой обитают суровые воины. Лишь изредка они принимают к себе молодых местных жителей, готовых признать главенство Папы Римского, воспитывают из них достойных бойцов и отправляют сражаться в Палестину. Посторонние в прецепторию не допускаются, а о женщинах не может быть и речи. Даже узнав, что леди Джоанна из рода де Шамперов, ей откажут в гостеприимстве. Именно поэтому ей не следует ехать этим путем. Видит Бог, — я пребываю в затруднении, ибо для себя я твердо решил, что мой путь лежит к морю. Я готов взять с собой и вас, но у меня к вам иная просьба…
При слове «просьба» недовольное выражение, не сходившее с лица сэра Обри, смягчилось. Он уже готов был возмутиться, но медлил, ожидая, о чем пойдет речь. Мартин буквально слышал те возражения, что вертелись на языке у лорда.
— Я покорно прошу вас отправиться в Киликию и взять на себя заботу о безопасности Иосифа бен Ашера.
— Как вы сказали, сэр? Рыцарь короля Ричарда, владетель Незерби, должен охранять эту иудейскую собаку? — Лицо Обри де Ринеля побагровело.
Мартин задержал дыхание, пережидая гнев лорда.
«Чертов хлыщ! — подумал он. — То ты жмешься к сыну Ашера, вытягивая из него деньги, то вдруг вспоминаешь, что он собака-еврей!»
Но вслух он произнес нечто иное. Простые доводы: за сопровождение богатого еврея с Обри щедро расплатятся, ему не придется ехать морем, кроме того, проводником им будет служить его верный Сабир, который в здешних местах как рыба в воде. Иосифа сопровождают несколько испытанных воинов, и это куда предпочтительнее, чем окружение людей, верных капитану Дрого, который в нынешних обстоятельствах может повести себя непредсказуемо, — закончил рыцарь, сопроводив свои слова выразительным взглядом.
Расчет Мартина был верен: безопасный путь по суше, верная охрана, вдобавок — щедрая плата за сопровождение. Сэр Обри не мог отказаться от такого предложения. Больше того — он немедленно потребовал у госпитальера часть платы за свои предполагаемые услуги. И лишь после этого с недоумением осведомился: как же быть с его супругой?
— Путь в киликийскую прецепторию храмовников, как я уже говорил, для леди Джоанны закрыт, — снова взялся втолковывать Мартин. — И едва ли леди Джоанна, сэр, согласится расстаться с людьми из Незерби, от которых я намереваюсь вас оградить. Я сознаю, как это непросто: разлучиться в пути с супругой, но я готов взять ее с собой на побережье, где намерен зафрахтовать корабль, отправляющийся в Палестину. Море в это время года не самое спокойное, однако, как я слышал, госпожа де Ринель неплохо переносит качку. А по прибытии в Святую землю я при первой же возможности доставлю ее к маршалу Уильяму де Шамперу. Могу поклясться в том славой ордена Святого Иоанна и своим рыцарским достоинством!
После непродолжительных колебаний сэр Обри выразил согласие. Однако, несколько смутившись, обратился к госпитальеру с просьбой объяснить эту непростую ситуацию его супруге. Мартин наотрез отказался:
— Госпожа де Ринель — ваша жена. Если она заупрямится, мне придется вернуться к первоначальному плану. Тогда вам, сэр, придется обуздать себя и вынести все неудобства морского пути. Вы ее лорд и господин: вы принимаете решения, а супруге остается лишь подчиниться.
В итоге он добился того, чего хотел: супруги окончательно рассорились. Сэр Обри, покидая крепость во главе отряда Иосифа бен Ашера, явно испытывал облегчение, а леди Джоанна даже не вышла с ним проститься.
В последнюю минуту перед отъездом Сабир развернул коня и подъехал к Мартину.
— Наблюдать за тобой, — с усмешкой проговорил сарацин, — одно удовольствие. Ты повел себя в точности так, как опытный «уводящий», клянусь бородой Пророка. Втерся в доверие к простодушному путнику и… Одним словом — я должен знать: как поступить с этим заносчивым англичанином?
— Как тебе заблагорассудится. В особенности если он начнет мешать.
— Не будь с нами Иосифа… — Сабир сокрушенно покачал головой. — Мальчишка порой ведет себя как дервиш.[84] Даже если этот кафир оскорбит его, он найдет повод заступиться за него передо мной.
— Поэтому я и говорю: тебе решать, — отмахнулся Мартин.
Муж леди Джоанны, пустой, алчный и неумный, значил для него не много, и он перестал думать о нем, едва тот скрылся за поворотом дороги. Зато без Иосифа он будет скучать. Им не часто доводилось общаться в пути, однако рассудительная сдержанность и дружелюбие сына Ашера внушили ему еще большее уважение к другу. Хорошо, что рядом с Иосифом будет Сабир — на него можно положиться во всех отношениях. Пожалуй, даже больше, чем на Эйрика.
На следующий день, едва второй отряд тронулся в путь, рыжий варанг все время держался у стремени своего рыцаря, как и полагается верному оруженосцу.
— Знаешь, что я тебе скажу, дружище? — улучив момент, когда никого не было поблизости, проговорил он. — Моя Саннива без конца расспрашивает о тебе. Не для себя, разумеется, а для своей госпожи. И уж я не поскупился на похвалы! Похоже, чернокосая красавица уже в твоем силке. Ты справился — разрази меня гром, кто бы мог подумать!
— Об этом стоит говорить только тогда, когда я окончательно приручу ее. И когда об этом узнают те, кто позднее сможет подтвердить мои слова. На побережье находятся несколько генуэзских крепостей. Если те, кто командует их гарнизонами, увидят леди со мной и убедятся, что она моя, — я смогу без колебаний обратиться к ее брату.
— Почему же ты вдруг стал избегать Джоанну? Ты заметил, как озадаченно она на тебя поглядывает? А что, если женщина вдруг рассердится и не захочет с тобой знаться?
Мартин не стал ничего объяснять Эйрику.
По мере продвижения к вершине тропа сужалась. Леди Джоанна ехала за Мартином, он ощущал на себе ее взгляд, но только однажды оглянулся, посоветовав быть внимательнее на каменной осыпи. Сейчас он вел себя как член духовно-рыцарского ордена, которому не следует сближаться с женщиной, подле которой нет супруга. Мартин больше не желал продолжать куртуазные игры, которые так нравились англичанке. Он хотел получить ее всю, целиком.
Джоанна и в самом деле была озадачена отчужденной сдержанностью рыцаря. Неужели она нанесла ему какую-то обиду? Он сердится из-за того, что она приняла сторону капитана Дрого в нелепой стычке с Обри? Несомненно, Дрого был слишком дерзок, но и Обри повел себя низко, клевеща на ее родню. Если быть до конца честной с собой, она испытывала огромное облегчение от того, что муж уехал.
Все эти годы они не расставались, не считая ее кратковременных поездок в Гронвуд, где не жаловали ее супруга. Теперь же от одной мысли, что им предстоит столь длительная разлука, ей легче дышалось. Но эта радость была много полнее, если бы рыцарь-госпитальер, поддавшийся ее очарованию, вновь заговорил о своей любви. Это было, как глоток вина, как порыв свежего ветра, — чувствовать чью-то влюбленность, и когда Обри весьма грубо объявил Джоанне о том, что их дороги на время разойдутся, а ей надлежит следовать прежним путем под защитой рыцаря д'Анэ, единственной ее мыслью было — и прекрасно!
Однако тот, кто еще недавно изливал перед ней свои чувства, теперь, очевидно, повинуясь долгу, всячески избегал ее. Опасаясь соблазна — так его оруженосец-варанг сообщил Санниве. Джоанна попыталась убедить себя, что это и к лучшему, по крайней мере ее чести ничто не грозит. Но настроение было безнадежно испорчено. Ее больше не радовали ни цветущие и благоухающие кустарники, ни забавные горные черепашки, выползающие на тропу, ни дружный щебет птиц в кронах сосен. Путь кажется нескончаемым, а рыцарь за все это время не обронил ни слова, не считая сдержанных советов и предупреждений об опасных местах. Да, сэр Мартин ведет себя благородно, но что заставило его говорить о своей влюбленности, когда с ними был Обри? Почему он проводил большую часть ночи под окнами ее покоев, и чьи цветы она находила рядом с собой по утрам, когда им приходилось ночевать в горах?
Она попыталась завязать разговор, мимоходом назвав его саврасого жеребца Персиком — забавным прозвищем, ранее вызывавшим у рыцаря улыбку. Лицо Мартина д'Анэ осталось замкнутым, он отмолчался, не поддержав шутку. Леди Джоанна, однако, не сдавалась: сообщив, что ее послушную и ласковую лошадку зовут Фея, она заявила, что предпочитает более резвых и норовистых — с ними интереснее; подчиняя таких строптивиц своей воле, начинаешь в полной мере чувствовать свою силу.
Рыцарь тем не менее не поддержал беседу. Слегка пришпорив своего саврасого, он вырвался вперед, бросив на ходу:
— Мадам, впереди на тропе небезопасные скальные выступы. Будьте крайне осторожны, а лучше бы вам и вовсе спешиться…
С этими словами он одними шенкелями послал коня вперед; тот с легкостью птицы перемахнул через сумрачно-серую глыбу и унесся.
Джоанну охватило негодование. Да за кого он ее принимает, в конце концов?
Скальный выступ торчал поперек тропы, словно гребень дракона, и не казался сложным препятствием. Джоанна решительно дала шпоры своей лошади. Легконогая кобылка резво преодолела преграду, но оступилась, шарахнулась в сторону склона и испуганно заржала. Леди Джоанна от неожиданного толчка выпустила поводья, упала всем телом на холку лошади и вцепилась в гриву. Фея попыталась выбраться обратно на тропу, однако склон был слишком крут, а почва на нем влажной от недавних дождей. Кобыла храпела, ее копыта скользили по лиственному опаду и густым папоротникам.
— Это безрассудно! — Мартин д'Анэ мгновенно оказался рядом и, поймав болтающиеся поводья, с силой рванул их вверх, заставив Фею развернуться.
Он успел спешиться и теперь уверенно вел лошадь с молодой женщиной в седле вверх по склону к надежной тропе. Его саврасый спокойно стоял там, где его покинул рыцарь. В следующее мгновение Мартин неожиданно оказался на крупе Феи позади леди Джоанны, не выпустив при этом из рук поводьев.
— Пока придется ехать так. Это будет безопаснее.
Ее возражения он пропустил мимо ушей.
Саврасого взялся вести опередивший их Эйрик; рыцарь следовал за ним на гнедой Фее, крепко придерживая перед собой леди Джоанну. Неожиданно она ощутила, как ей хорошо в его руках, когда он так близко. Она чувствовала тепло его тела, слышала его дыхание, и вдруг поймала себя на том, что опять стала замечать цветы у тропы, и птицы запели так сладостно, и небо в вышине показалось ей таким же лазурно-синим, как глаза Мартина д'Анэ. Ей хотелось оглянуться, чтобы увидеть их совсем близко, но она не осмелилась…
Ее гнедая шла шагом, и в какой-то миг Джоанна заметила, как сильно бьется ее сердце. Ей пришлось прикусить губу и сдержать дыхание, буквально распиравшее грудь. Нельзя, чтобы этот всегда спокойный рыцарь заметил ее волнение. Но так ли спокоен он был, как казался? В какой-то миг ей почудилось, что он слегка наклонился, чтобы вдохнуть запах ее волос, и по ее спине пробежали мурашки.
— Я по-прежнему нравлюсь вам, мессир? — вдруг спросила она, на сей раз без всякой игривости.
— Как может не нравиться женщина, прекрасная, словно весна?
Голос у него был завораживающе мягким, он говорил тихо, чтобы никто не мог расслышать его слов, но едва заметное придыхание выдало его трепет. Она волнует его, она ему нравится!
Джоанна ощутила торжество. И еще кое-что: легкое головокружение, желание уронить голову на его плечо, сделаться слабой и покорной его воле. А еще — чтобы их лица оказались близко, очень близко. Чтобы их дыхание смешалось и рыцарь понял, что она пылает так же, как и он… Ее муж назвал бы это бесстыдством. Но как же оно восхитительно, это бесстыдство!
Мартин неожиданно спрыгнул с лошади. Мелькнуло его напряженное, слегка побледневшее лицо, но уже в следующее мгновение он отвернулся.
— Дальше тропа намного шире, вы вполне справитесь без моей помощи, мадам!
О да, сэр Мартин, несомненно, прав! Он — рыцарь, принесший обет целомудрия, а она — замужняя знатная дама. И все же жаль, что он ее избегает… Джоанна попыталась заставить себя думать об Обри, но не смогла. Вспомнился один из куртуазных «законов любви»: новое чувство заставляет забыть прежнее. Но разве она влюблена в Мартина д'Анэ? Или это всего лишь слепое вожделение?
Когда на их пути встретился бурливый водный поток с каменистым дном, через который было опасно переправляться верхом, рыцарь предложил леди перенести ее на другой берег на руках, однако Джоанна резко отказалась. Заявила, что переберется сама, ступая с камня на камень. И конечно, ничего хорошего из этого не вышло — она оступилась и упала в ледяную воду, с трудом заставив себя рассмеяться, чтобы рыцарь не догадался, как она стыдится своего нелепого упрямства. А на берегу остатки ее веселья окончательно испарились — день был солнечный, одежда вскоре просохнет, но до чего же скверно выглядеть в его глазах мокрой курицей!
— Думаю, сейчас самое время, чтобы разбить лагерь. Едва ли мы встретим лучшее место для ночлега, — заметил Мартин.
Неподалеку от потока нашлась ровная поляна с густой зеленой травой. Их спутники, не дожидаясь распоряжений, тотчас принялись расседлывать и стреноживать лошадей, собирать хворост и готовить все необходимое для ночевки. Камеристка и горничная Джоанны нашли уединенный уголок за обломком скалы, где леди смогла избавиться от мокрой одежды, натянуть сухую полотняную рубаху и закутаться в длинный плащ.
Саннива тотчас развесила ее мокрое платье на ветвях кустарника, а Годит, вооружившись иглой и нитками, принялась мелкими стежками чинить единственное уцелевшее, но сильно пострадавшее желтое блио Джоанны. На эту кропотливую работу камеристка потратила не одну стоянку, и как ни торопила ее хозяйка, предстояло сделать еще немало.
— Сколько же ты еще будешь возиться, Годит? — упрекнула Джоанна женщину, тотчас поймав себя на том, что беспричинно злится.
Но почему же беспричинно? Ее жег стыд и не покидало недоумение. Почему к Мартину вновь вернулась напускная холодность? Нет, сейчас ей вовсе не хотелось видеть его, но даже то, что он находился где-то поблизости, беспокоило и томило ее душу. Словно пред ней вдруг открылась возможность что-то изменить в своей жизни, а она не в силах ею воспользоваться.
— Не беспокойтесь, госпожа, — попыталась утешить ее Саннива. — Ваше серое вот-вот просохнет, да и костер рядом. Уже скоро…
Но еще скорее Саннива улизнула к своему Эйрику. Джоанна заметила краем глаза, как они расцеловались, укрывшись за осыпанным ярко-желтыми цветами кустом, названия которого она не знала. От этих цветов поляна казалась озаренной солнцем, тогда как само дневное светило уже почти коснулось зубчатой линии горных хребтов.
Здесь, на юге, весенние дни по-особому светлые и долгие. Апрель близился к концу, а вокруг все цвело и зеленело, как бывает в Англии в разгар лета. И закаты были такими красочными, что окрестные горы казались облитыми медом и гранатовым соком, а небо походило на опрокинутую чашу с вином. Вокруг царила несказанная красота, но на душе у Джоанны было серо и безрадостно. И как она ни пыталась убедить себя, что рыцарь-госпитальер здесь ни при чем, взгляд ее постоянно возвращался к поляне, ища его стройную фигуру.
Там у костра хлопотал Бритрик, помешивая длинной ложкой в котле, в котором кипела наваристая похлебка. Вокруг, растянувшись на траве и неспешно перебрасываясь словами, отдыхали люди из Незерби. Мартин сидел в стороне, опершись о ствол бука, и полировал какой-то ветошью клинок своего меча.
«Он почти никогда не молится, вот что странно», — снова подумала Джоанна, но эта мысль скользнула мимо ее сознания, и она просто продолжала смотреть на рыцаря. Ей нравилось, как он зачесывает назад свои длинные волосы, перехватывая их темной повязкой, нравилось его красивое сильное лицо с твердым подбородком, высокими скулами и прекрасными глазами. Мартин, будто почувствовав ее взгляд, взглянул в эту сторону, и Джоанна тотчас укрылась за скалой, как нашаливший ребенок.
— Ну что же ты, Годит! — снова напустилась она на камеристку. — Хочешь, чтобы я разгуливала в одной рубахе перед мужчинами?
Однако ее нетерпение только рассмешило служанку.
Позже, когда со скромной трапезой было покончено и Джоанна, трижды прочитав перед сном «Pater noster», улеглась на расстеленных на траве овчинах, Годит укутала ее плащом, набросила сверху попону и устроилась рядом с госпожой.
— Право, до чего же ловко сэр Мартин д'Анэ избавился от вашего Обри, миледи, — шепнула камеристка. — Теперь-то самое время подарить немного радости этому красавцу госпитальеру!
— О чем ты толкуешь? — возмутилась Джоанна, однако служанка мгновенно уловила в ее словах некую неуверенность и негромко рассмеялась.
— О том, что стоит хотя бы однажды почувствовать себя настоящей женщиной!
Придвинувшись ближе, она зашептала госпоже на ухо:
— Послушай, девочка моя! Мне-то давным-давно известно, что твой Обри не бог весть какой мужчина и слаб на супружеском ложе. А ты женщина, полная сил. Обри гневит само небо, отказываясь исполнять свои обязанности…
— По-прежнему подслушиваешь у дверей нашей опочивальни? — нахмурилась Джоанна, знавшая за камеристкой этот грех.
— Да, случается. И не по собственной воле, а по наущению вашей матушки, ибо ее тревожит то, что вам никак не удается затяжелеть. Не много же радости я доставила леди Милдрэд, сообщив, что сэр Обри только и делает, что храпит, ровно боров, вместо того, чтобы приголубить молодую жену. Говорю вам: пришла пора узнать, каково это — принадлежать настоящему мужчине, а не выслушивать унылые речи о том, что любовь — это адская похоть и грязный блуд. Какой блуд, если вы клялись друг другу перед алтарем?
Джоанна, вспыхнув, едва не ударила камеристку. Старая коза! И ведь не только она, но и прочая челядь болтает о том, что происходит в господском алькове!..
— Годит, ступай прочь! — сухо велела она.
— Я-то уйду. А вот местечко подле вас останется пустым. И что: опять станете ласкать себя под покрывалом? Уж можете мне поверить — это куда больший грех, чем позволить обнять себя такому красавцу, как наш сэр Мартин. Может, мне все-таки стоит намекнуть, что моя леди его ждет?
Оплеуха не заставила себя ждать. Годит не издала ни звука, а Джоанна едва не расплакалась — то ли от стыда, то ли оттого, что чуть ли не во всем была согласна со служанкой. Ведь Годит права и желает ей добра! Но слезы душили ее еще и потому, что прекрасный рыцарь, на чьих устах еще несколько дней назад были слова любви, теперь избегает ее. Нет — Мартин д'Анэ верен слову чести и даже не помышляет о распутстве, подобно глупой Годит…
Джоанна еще долго ворочалась под плащом, пока сон наконец-то не смежил ее веки. Но и во сне видения, одно другого греховнее, продолжали мучить ее. Немудрено, что проснулась Джоанна, едва начало светать. Выйдя из-за скалы, за которой расположились женщины, она увидела Дрого. Капитан сторожил покой лагеря и поддерживал огонь, время от времени подбрасывая в костер ветку-другую. Все прочие безмятежно спали, кутаясь в плащи и овчины.
Невдалеке от костра похрапывала Годит, чуть подальше в объятиях великана Эйрика с нежной улыбкой на лице спала Саннива.
— Миледи что-нибудь угодно? — Дрого тотчас поднялся со своего места, но она остановила его жестом и направилась в заросли.
Над потоком клубился легкий туман, скапливаясь между стволами буков и грабов, по их резной листве скатывались капли росы. Горный лес замер в ожидании восхода солнца, лишь неугомонная вода журчала между камнями. Джоанна запахнула плащ и направилась к берегу.
Отыскав небольшую заводь, где течения почти не было, она немного поплескалась, стуча зубами от холода, а вернувшись на берег, почувствовала себя бодрой и оживленной. Невдалеке, выше по течению, слышался слитный шум воды — там, очевидно, находился порог или небольшой водопад.
Немного поколебавшись, молодая женщина свернула туда. И вскоре убедилась, что она не единственная любительница купания на рассвете. Миновав мшистую скалу, она тотчас увидела сквозь переплетение ветвей прибрежных кустарников Мартина д'Анэ.
Джоанна замерла, сердце ее испуганно забилось. Рыцарь, совершенно нагой, неторопливо плавал в небольшом углублении у подножия водопада. Ей было приятно смотреть на него. Он не подозревал о ее присутствии, а она не сводила с него глаз, и в ее душе бродили смутные сладкие мысли, кружившие голову и заглушавшие голос разума, который нашептывал, что лучше бы ей отсюда уйти.
Но пересилить себя она не смогла. Осторожно раздвинув ветви, Джоанна следила за тем, как Мартин подплыл прямо к водопаду, взобрался на каменный выступ, и прозрачный поток разлетелся во все стороны вихрем брызг, разбившись об его сильное, сухое и стройное тело. Струи воды заливали его лицо, сбегали по потемневшим от влаги волосам. Рыцарь заложил руки за голову, явно испытывая удовольствие от ледяного купания, тугие мышцы заиграли под его гладкой кожей, живот напрягся. Длинные мускулистые ноги Мартина были покрыты темной порослью, особенно густой в паху.
Волнение Джоанны достигло предела, а вся ее рассудительность исчезла, словно туман под лучами солнца. Когда рыцарь повернулся к ней боком, она заметила слева на его груди след от старых ран: два длинных грубых шрама. Но даже они не выглядели изъяном — настолько совершенным было его тело. Оно казалось невероятно сильным, как у крупного хищника, и в то же время легким, упругим и грациозным.
Вдоволь наплескавшись, Мартин вышел из-под струй водопада и встряхнул головой, отчего мокрые пряди рассыпались и упали ему на глаза. Настолько синие, что даже в сумраке зарослей Джоанна видела их светящуюся бездонную прозрачность. На мгновение ей показалось, что их взгляды встретились, и она невольно съежилась. Однако разве может он разглядеть ее в сумраке зарослей? Как бы то ни было, ей надо уходить, и как можно быстрее!
Джоанна повернулась, чтобы углубиться в чащу, но внезапно под ногой у нее звучно щелкнула сухая ветка. Она замерла, не дыша и гадая, расслышал ли рыцарь этот звук сквозь неумолчный шум рокочущей воды. Нет, едва ли… Но сердце ее все равно билось, как пойманная в силок птица. Боясь оглянуться, она сделала еще несколько осторожных шагов — и снова наступила на сухую ветку.
Этот звук испугал ее сильнее, чем грохот камнепада. Джоанна едва не вскрикнула от досады — и все-таки обернулась и бросила взгляд туда, где секунду назад находился рыцарь.
Ни в воде, ни у воды его уже не было. Исчезла и одежда, лежавшая, как она заметила, на противоположном берегу потока. Он ушел! Значит, и ей тоже следует незаметно вернуться в лагерь.
Но сделав следующий шаг, Джоанна буквально столкнулась с Мартином.
Ахнув, она попятилась, растерянно глядя на рыцаря снизу вверх. Он стоял чуть выше по склону, держа в руках одежду, но все еще оставался обнаженным. Первым ее чувством было удивление: не мог человек во плоти так быстро и беззвучно оказаться рядом. Потом и удивление прошло: она просто стояла, ни о чем не думая, сознавая его наготу и чувствуя на себе его напряженный и острый, как лезвие, взгляд.
В следующий миг Мартин шагнул вперед и, притянув ее к себе, стал страстно целовать.
Джоанна задохнулась от неожиданности и смущения, затем ее захлестнула волна блаженства. «Ни один рыцарь не имеет права целовать даму без ее разрешения», — пронеслось в ее голове, однако голос разума заглушили бешеные удары сердца, колени ее ослабели. О, это был вовсе не тот поцелуй, какие она знавала раньше: Обри целовал ее сухо, коротко, почти целомудренно, а король Филипп норовил проникнуть в ее рот тугим мокрым языком, что вызывало у нее почти отвращение. Поцелуй Мартина оказался ласковым, в нем крылись глубокая нежность и в то же время напористость, а его губы были неожиданно теплыми по сравнению с холодом, исходившим от его влажной кожи. Он так крепко прижимал ее к себе, что ей оставалось только покоряться этой силе.
«Только бы он не отпустил меня, — подумала Джоанна, — иначе я упаду».
И он, словно прочитав эту мысль, не размыкал объятий даже тогда, когда опускал ее покорное тело на свой плащ, брошенный на землю. Мартин не произнес ни слова — только смотрел на нее; лицо его было совсем близко, и на губах у нее был вкус его губ, а ее ладони лежали на его прохладных плечах…
Значит, она обнимает его? Сама, по своей воле?
Так оно и было. Ее руки бережно гладили его сильные обнаженные плечи, и они согревались под ее ладонями, ее пальцы путались в его волосах, мокрых и все равно шелковистых. Когда же он стал целовать ее шею и коснулся завязок ее рубахи, еще одна нелепая мысль молнией пронеслась у нее в голове: как хорошо, что на ней не это чертово серое платье с бесконечной шнуровкой, потому что нужна целая жизнь, чтобы избавиться от него…
Это было и впрямь хорошо: таяла под его поцелуями, отвечая на каждую его ласку. Его рука легла ей на грудь, и Джоанна восхитилась: как же хорошо было ее груди в этой сильной, загрубевшей от рукояти меча и поводьев ладони! И он чувствовал, что ей хорошо, и улыбался.
О, как нежно он улыбался, как восхищенно вглядывался в ее глаза!
Если Джоанне и было чуть-чуть не по себе из-за своей податливости и слабости, то эта ласковая улыбка и взгляд окончательно освободили ее от сомнений. Уступая Мартину, она испытывала растущее с каждым мгновением возбуждение, от которого по ее телу пробегала дрожь. Она остро отзывалась на каждое прикосновение, ее словно баюкали шелковистые волны, кожа стала невероятно чувствительной, а внизу живота запульсировал тугой напряженный комок.
— О, пожалуйста!.. Уже… — почти молила она.
А когда он вошел в нее — это ощущение было таким огромным, что нестерпимо хотелось кричать. Она кусала губы, чтобы сдержать этот крик, но он замкнул ее уста поцелуем, и она почувствовала, как его язык проник в ее рот одновременно с тем, как ее тело с готовностью впустило его в себя. Она непроизвольно подалась ему навстречу, и длинная волна всколыхнула их обоих. Ей всегда хотелось двигаться именно так в подобные минуты, но муж бранил ее за это. Мартин же был в восхищении, он негромко застонал, и это наполнило Джоанну блаженством.
Между поцелуями он лихорадочно шептал:
— Ты восхитительна, мне так хорошо!.. Ты мой эдем… Это тебя я ждал всю свою жизнь!..
— А я тебя… — всхлипнула она, и все ее мысли исчезли, а то, что было до сих пор мучительно напряжено в ее теле, вдруг взорвалось ослепительным ликованием, заполнив вселенную непередаваемым счастьем…
…Джоанна медленно приходила в себя.
Ветка сосны, покачивающаяся над головой, отблеск утреннего света на верхушках деревьев.
Мир возвращался, но то, что случилось с ней, по-прежнему казалось невероятным. Она никогда не предполагала, что может испытывать нечто подобное. Где была ее душа, когда она витала среди звезд и шелковистых волн? Почему вместо стыда и раскаяния она испытывает сейчас только легкость и глубокий покой?
Мартин лежал рядом, все еще обнимая ее, она слышала биение его сердца, его постепенно выравнивающееся дыхание. Приподнявшись на локте, он взглянул на нее, уловил отрешенное, мечтательное выражение, и его сердце потеплело.
— Я и не догадывался, какая ты, — прошептал он, склоняясь к ее губам. — Я был глуп, что не осмеливался…
— Зачем же мы потратили столько времени зря? — мягко, чуть хрипловато проговорила она в ответ, все еще ослепленная пережитой радостью.
Мартин негромко рассмеялся.
— Мы наверстаем упущенное. Это наше тайное счастье, о котором никто, кроме нас с тобой, не узнает. И мы возьмем от него все, что сможем.
Она смотрела прямо в его глаза, утопая в их кристальной синеве. Она верила ему, больше того — она боготворила его!
И тогда он произнес:
— Я люблю тебя, Джоанна. Ты и представить не можешь, как же я тебя люблю!
ГЛАВА 11
Май, окрестности Акры. Лагерь крестоносцев.
Полотняные стены шатра короля Гвидо колебались от порывов ветра, пламя в светильнике металось, отбрасывая неровные блики на фигуру коленопреклоненного монарха. Поодаль от государя стоял его старший брат — коннетабль Амори де Лузиньян. В длинной кольчуге, со сложенными на рукояти меча руками, он походил на воина-телохранителя.
Наблюдая за Гвидо, Амори невольно стиснул челюсти. На зубах захрустел песок.
«Хамсин[85] — как всегда в эту пору, — подумал он. — Даже вощеная парусина, натянутая поверх шатра, не спасает от этой напасти».
Но думать о горячем ветре и песке было все же предпочтительнее, чем о том, что правитель Иерусалимского королевства возносит свою молитву перед светильником в виде многоголового дракона: каждая из разверстых пастей чудовища представляла собой чашу, в которой трепетало пламя.
«Сущее язычество», — рыжеватые брови Амори нахмурились.
Он осторожно выглянул за полог шатра. Там находилось еще одно крытое помещение, затем переход, в конце которого стояла, скрестив копья, стража.
Шатер был великолепен, и достался он Гвидо Иерусалимскому после удачного набега на лагерь брата султана Саладина — аль-Адиля. На его шелковых стенах и поныне сохранилось витиеватое арабское шитье, ныне, правда, наполовину скрытое многочисленными знаменами, вымпелами и установленными на треножниках большими щитами с гербом Лузиньянов — алой пантерой на лазоревом с серебром поле, и эмблемами Иерусалимского королевства — золотым крестом в обрамлении четырех крестов поменьше.
Амори де Лузиньян перевел взгляд на брата — его силуэт в неверном освещении казался вырезанным из черного дерева. Но он и в самом деле был облачен в черное. Со дня гибели его супруги Сибиллы Иерусалимской прошло совсем немного времени, и Гвидо все еще носил траур: его длинные черные одежды украшали лишь серебряные накладки на поясе да чеканная рукоять кинжала. Меч короля стоял в стороне, и его крестообразная рукоять отсвечивала мрачным огнем рубинов.
«Лучше бы он молился на рукоять своего Защитника, — подумал Амори. — Защитник — превосходный меч, в его эфесе заключена частица Животворящего Креста. А преклонять колени перед этим языческим светильником…»
Он недоуменно пожал плечами. Среди отпрысков многодетного семейства Лузиньянов Амори был вторым. В Святую землю он прибыл давно и сумел достичь должности коннетабля при прокаженном короле Бодуэне. Гвидо же был младшим, о наследстве не могло быть и речи, и он, подобно Амори, отправился на Восток, надеясь при содействии старшего брата добиться высокого положения в Иерусалимском королевстве. Но вышло иначе: именно Амори довелось склониться перед младшим братом, когда тот был коронован и стал правителем этой земли. Себе на беду…
— Амори! — внезапно окликнул коннетабля Гвидо. — Амори, ты помнишь, какой была Сибилла в ту пору, когда ты впервые представил меня ей?
При этом король протянул руку и осторожно коснулся какого-то блестящего предмета, свисающего на цепочке с одной из причудливо изогнутых чешуйчатых шей светильника-дракона: Замерцали зеленоватые искры, и Амори, приглядевшись, вздохнул с облегчением — то был изумрудный крестик, который носила королева Сибилла — да пребудет с нею милость Господня! Так вот перед чем молился король!
— Да, Гвидо. Она стояла на ступенях трона, глядя в зал… Нет, взгляд ее был устремлен только на тебя, брат.
— А мой — на нее. — По губам Гвидо скользнула столь редкая в последнее время улыбка. — Как же она была хороша в серебряной парче и яблочно-зеленых вуалях, так шедших к ее изумрудным очам!
Амори действительно помнил. Сибилле тогда было всего двадцать, как и Гвидо, но к тому времени она уже не первый год вдовела, и знать Иерусалимского королевства требовала от нее как можно скорее избрать супруга. Ее брат-король, пораженный страшным недугом, уже почти ослеп и едва мог ходить, а сын Сибиллы, рожденный от Вильгельма Монферрата, был слишком мал. Следовательно, тот, кто станет мужем старшей сестры Бодуэна Прокаженного, рано или поздно взойдет на иерусалимский трон. Но каких только принцев и владетельных сеньоров ей не сватали — Сибилла выбрала Гвидо.
Амори словно воочию видел эту сцену: бедная девочка, пытавшаяся править истерзанным нескончаемыми войнами государством, внезапно узрела среди суровых рыцарей златокудрого ангела. Ибо Гвидо и в самом деле выглядел как ангел-воитель, стоя в цветном луче солнца, падавшем из витражного окна, — рослый, с горделивой статью и сильным торсом, с золотистыми, как мед, глазами, не отрывавшимися от женщины на ступенях трона.
— Кто это, мессир Амори? — спросила Сибилла, указывая на Гвидо.
И коннетабль ответил:
— Ваше высочество, имею честь представить вам моего младшего брата Гвидо де Лузиньяна!
В христианском Леванте ходила поговорка: «Самый сладкий плод этой земли — ее принцессы. Вкусивший его, возвысится безмерно».
И это случалось снова и снова. Констанция Антиохийская сделала князем бродягу Рено де Шатильона, Мелисанда Иерусалимская дала власть и могущество Фульку Анжуйскому, Стефанья де Милли, леди Трансиордании,[86] осчастливила троих мужей титулами графов Трансиорданских. Амори и сам начал восхождение к вершинам власти с того, что женился на дочери одного из богатейших родов Иерусалимского королевства — Ибелинов. Но никто не возвысился так, как Гвидо, преодолевший одним шагом расстояние от безвестного нищего рыцаря до короны. Ибо упрямая сестра прокаженного короля не желала слышать ни о ком другом.
— Все они считались со мной, пока была жива Сибилла… — хрипло произнес Гвидо, все еще касаясь изумрудного креста почившей супруги.
Его голос сорвался. Амори заметил, что по щекам брата текут слезы.
— Мужайтесь, ваше величество, — он шагнул вперед и сжал плечо короля. — Вы совершили вполне достаточно для того, чтобы вас почитали повсюду. Осада Акры — это ваша осада. Христианский мир не знавал ничего подобного, и никому еще не доводилось сражаться в кольце вражеских сил — и побеждать! Я уверен, что не сегодня завтра Акра падет!
— Ты уже много раз повторял это, Амори. Сколько битв мы выиграли! И сколько поражений изведали! Но если я и достиг чего-то на ратном поприще, то лишь благодаря тебе!
Амори не пытался возразить: Гвидо был никуда не годным стратегом, все беды Иерусалимского королевства — на его совести.
— Я знаю, что ты не воин, Гвидо, но ты всегда был хорошим правителем. Никогда еще эта земля так не благоденствовала, как под твоей рукой. Что касается твоих дарований полководца… Они проявились со временем: после того, как Сибилла выкупила тебя у Саладина.
— Да, это ее заслуга… Она подарила мне жизнь и свободу, отдав неверным Аскалон. Кто только не проклинал ее за это, и меня вместе с Сибиллой! Отдать такую крепость неверным… Твое бегство из плена, Амори, принесло тебе куда больше славы, чем этот позорный торг с сарацинами.
— Зато тебе удалось обмануть хитрого Юсуфа ибн Айюба, — попытался ободрить брата Амори. — Султан взял с тебя клятву, что ты не возьмешься за меч, пока не переплывешь море, рассчитывая на то, что ты, поджав хвост, удалишься в Лузиньян. Ты же взошел на корабль, пересек пролив, отделяющий Тартус от острова Арвад,[87] причем меч твой висел на луке седла, пока ты не ступил на землю. Ты не касался его, как и обещал султану. И только переплыв море, ты снова начал войну!
Казалось, Гвидо не слышит его. Неудивительно — на душе у него тяжесть. Но Амори хорошо знал своего брата: после поражений он рано или поздно восстает. Что ж, Акра долго не продержится, на помощь к ним спешит крестоносное воинство из-за моря, и с Божьей помощью вскоре к Гвидо вернется былое могущество.
— Ты знаешь, как я предан тебе, мой король, — тихо молвил Амори. Сейчас ему хотелось обнять брата, растрепать его золотые кудри, как тогда, когда оба они были мальчишками. Но он не смел этого сделать. Его задача — вернуть Гвидо былую уверенность в себе. — Помнишь ли ты, что когда впервые явился под стены Акры, с тобой было всего двести рыцарей? Никто не верил, что ты сможешь собрать войско. В особенности после того, как…
Амори запнулся, и вместо него закончил сам Гвидо:
— После того, как мы с Сибиллой приехали в Тир, а Конрад, чье восхваляемое и сулившее надежду имя звучало в наших ушах на протяжении всего пути, отказался открыть нам ворота города.
— Чего еще следовало ожидать от того, кто ел с руки у ромеев? Конрад Монферратский так же подл, как и прочие схизматики, покорные Константинополю! Недаром он ответил отказом, когда Саладин предложил ему купить жизнь его собственного отца, сдав неверным Тир!
— Не соглашусь с тобой, брат. В этом Конрад поступил как истинный государь. Тир и его христиане важнее жизни какого-то старика. Монферрат погиб, но сотни и сотни христиан в Тире были спасены и славили мудрость Конрада.
Амори негодующе повел плечом.
— Конрад всегда держал нос по ветру. И тогда, когда отказал тебе и Сибилле в защите, и позже, когда ты начал одерживать победы под Акрой и к тебе начали прибывать паладины из Европы. Тут-то он и появился под стенами Акры… Ты поступил верно, Гвидо, решив начать свою войну с неверными именно отсюда — с крепости Сен-Жан-д'Акр, как называют ее все, кто не расстается с мечтой в один прекрасный день преклонить колени в соборе Святого Иоанна, находящемся внутри этих стен. Кому могло прийти в голову, что король Иерусалимский начнет освобождение своей земли с города, который прежде почти ничего не значил для него?
Гвидо вздохнул, но в этом вздохе уже слышалось удовлетворение.
Все верно: от Акры для Иерусалимского престола толку было немного: эта крепость — твердыня тамплиеров и госпитальеров, которые освобождены папской буллой от налогов в пользу казны. Все их средства шли на содержание членов орденов и снаряжение воинства, которое успешно отражало натиск неверных и считалось в Леванте самой значительной силой. Однако после захвата Акры неверными орденские братья рассеялись, лишь небольшие отряды вели борьбу с Саладином, укрываясь в крепостях, разбросанных по всему королевству, которые султан захватывал одну за другой.
Когда же разнеслась весть о том, что король Гвидо, несмотря на прежние поражения, готовится отвоевать Сен-Жан-д'Акр, к нему начали стекаться воины орденов, и войско короля Иерусалимского стало расти как на дрожжах: его пополняли тамплиеры, госпитальеры, прибывшие из Испании рыцари ордена Калатравы и Сантьяго;[88] за ними последовали пизанцы, генуэзцы, венецианцы — коммуны этих итальянских городов имели свои торговые подворья в Акре и готовы были сражаться, дабы вернуть утерянное. Под знамена Гвидо стекались воины со всей Европы — прибыли отряды из Англии во главе с епископом Кентерберийским, к ним присоединились остатки армии Фридриха Барбароссы, которыми руководил его сын Фридрих Швабский, а также датчане и австрийцы, армяне и французы.
Этих сил хватило для того, чтобы сдержать и отбросить поспешившую на помощь гарнизону Акры армию Саладина, и султан ничего не мог сделать с отчаянными храбрецами, во главе которых стоял король Гвидо де Лузиньян. Амори, как раз в это время совершивший побег из мусульманского плена, был восхищен отвагой младшего брата. И хотя Амори прежде был невысокого мнения о воинских талантах Гвидо, он не мог не отметить, как продуманно расположено войско крестоносцев на акрской равнине: кольцо укрепленного лагеря вокруг многобашенной крепости было обнесено извне земляными валами и рвами — таким образом осада продолжалась, а натиск сарацин, окруживших лагерь, сдерживали укрепления.
Все попытки мусульман взять штурмом лагерь осаждающих пошли прахом, а тем временем к крестоносцам присоединился граф Генрих Шампанский со свежими силами и тотчас поспешил принести клятву верности Иерусалимскому королю. Тогда-то и Конрад Монферратский решил больше не отсиживаться за могучими стенами Тира и вместе со своими людьми явился в укрепленный лагерь. Больше того: он едва не погиб в одной из стычек, если бы не Гвидо, спасший жизнь недругу.
— Это было ошибкой, — заметил Амори, чтобы отвлечь брата от горестных мыслей. — Конрада не следовало спасать. Лучше бы ты предоставил его собственной участи.
— Я поступил как рыцарь и христианин — вырвал единоверца из лап язычников-сарацин.
— А он, между тем, и не подумал бы тебя спасать! — Амори презрительно сплюнул: на сей раз песок и пыль, витавшие в воздухе, были тут ни при чем.
Гвидо вздохнул и накинул на свои кудри капюшон черного оплечья, сразу сделавшись похожим на монаха.
— Амори, когда я был в плену у Саладина, султан был изысканно любезен со мной. Мы часто беседовали, и я отвечал на его вопросы до тех пор, пока не уловил, что, прикрываясь любопытством, он хитро выспрашивает меня о людях моего королевства: о бароне Ибелине, с которым он тогда вел переговоры о сдаче Иерусалима, о патриархе Ираклии, который покинул Священный град, отказавшись выкупить пленных, о пасынках Раймунда Триполийского. Так он собирал сведения о воителях, с которыми ему еще только предстояло столкнуться. О, этот человек хитер, как змий, он ничего не делает в простоте душевной. Поэтому с некоторого времени я прекратил эти беседы и на все расспросы отвечал полным молчанием.
«И зря, — насмешливо подумал коннетабль. — Нет, Гвидо, ты не рожден ни стратегом, ни политиком. На твоем месте я бы такого наплел этому неверному, что у него глаза бы на лоб полезли».
Гвидо был слишком честен и прямодушен, и вместо того, чтобы ввести врага в заблуждение, предпочел молчать. Поразительно: каким образом он умудрялся до сих пор править королевством? В мирное время это получалось у Гвидо совсем неплохо. В душе он был созидателем — и по его повелениям укреплялись стены городов, а на торговых путях возводились сторожевые башни. Он дозволил мусульманам и евреям свободно торговать на своих землях, лишь бы те исправно пополняли пошлинами и налогами его казну. При нем орденские братья окончательно обуздали разбойников на дорогах, и поговаривали, что даже беззащитная дева может проделать путь от Триполи до Газы, ничего не опасаясь. Но при всех своих достоинствах Гвидо был бесконечно наивен: он верил людям. Все кончилось долиной Хаттина.
Именно Хаттин ему и не могли простить. И Конрад Монферратский не упускал случая напомнить королю об этом жесточайшем поражении и о том, что за ним последовало, пока он, Конрад, не остановил конницу Саладина под Тиром, вернув христианам хоть какую-то надежду. Сибилла же ради мужа отдала сарацинам Аскалон — одну из лучших крепостей, гарнизон которой так отчаянно сопротивлялся, что султану приходилось из-за этого снова и снова откладывать штурм Иерусалима. Вот почему Конрад позднее бросил в лицо Сибилле и ее мужу, что не желает признавать их королями этой земли.
И после этого Гвидо спас его в бою! На что он рассчитывал? На то, что рвущийся к власти и могуществу Монферрат поймет, что Гвидо де Лузиньян не враг никому из тех, кто сражается с неверными за Святую землю? Конрад просто не мог оценить такую позицию — не такова была его природа.
— У Монферрата слишком мало людей, — заметил Амори. — По законам божеским и человеческим, король — ты. Тебя помазали на царство в Храме Гроба Господня! Ты получил власть, женившись на Сибилле!
— Но Сибилла мертва. Она и только она делала меня государем.
Подруга, жена, защитница… Которой с ним больше нет.
Амори вздохнул. Эта зима выдалась для крестоносцев особенно тяжелой. Голод, беспрерывные дожди, скученность в лагере, зажатом между стенами осажденного города и воинством Саладина, расположившимся на окрестных холмах. Среди крестоносцев начались болезни, но лекари ничем не могли помочь, и люди гибли сотнями. Знать, орденские рыцари, простые латники, маркитантки и даже королева. Сначала умерли две малолетние дочери Гвидо и Сибиллы — Алиса и Мария. А следом и она сама.
— Я сразу ощутил, как во мне что-то изменилось — задумчиво произнес Гвидо, держа на ладони изумрудный крестик жены. — Она ушла — и в тот же миг я словно утратил право на трон! Когда же прибыл король Филипп Французский… Господь свидетель, как же я его ждал! Я готов был пасть ему в ноги — ведь он подоспел так своевременно, и с ним было столько свежих и прекрасно вооруженных воинов! О, — мыслил я, — теперь-то победа не за горами!.. Однако король Франции не пожелал меня выслушать и не стал ничего предпринимать. Мне донесли, что он не намерен начинать никаких военных действий до тех пор, пока не прибудет его союзник Ричард Английский. Якобы эти государи дали друг другу слово рыцарей сражаться только плечом к плечу.
«Недурная отговорка — сослаться на рыцарскую клятву, чтобы не показать своей трусости!» — хмыкнул Амори. И тут же изумленно воззрился на Гвидо:
— Я не ослышался? Ты сказал, что Филипп…
— Что Филипп Капетинг сошелся с Конрадом Монферратским.
— Проклятье! Я ничего не знал об этом, — озадаченно взъерошил свои коротко остриженные волосы Амори. — Это мое упущение, но ты должен понять: я вечно в хлопотах. На мне лежит бесконечное число обязанностей — начиная с караульной службы и заканчивая вооружением и починкой доспехов. Мне некогда выслушивать сплетни.
— Это не сплетни, брат. Таково решение Филиппа. Да, ты слишком занят и не замечаешь кое-каких вещей. Но с прибытием французского короля я сразу ощутил, как изменилось отношение ко мне. Вот, слышишь? — Он вскинул руку, призывая коннетабля обратить внимание на шум, доносившийся сквозь ткань шатра.
Оттуда долетали гортанные выкрики, завизжала женщина, затем послышались гогот, шум драки, звон стали.
Амори равнодушно повел обтянутым кольчугой плечом.
— Ну и что? В таком скопище сброда то и дело что-то происходит — пьянки, потасовки, насилие. Если прикажешь, я велю разогнать этих тварей.
— Я могу приказать только тебе, — Гвидо невольно повысил голос — в нем звучало отчаяние. Шум у шатра не прекращался. — А ты прикажешь им. Мне они не станут повиноваться, чего бы я от них ни потребовал. Знаешь, что я слышу, проходя по лагерю? «Прошло твое время, красавчик!» О, вся эта солдатня с появлением французов мигом почуяла перемену!
— Филипп устраивает им попойки за свой счет, вот они сдуру и решили, что Капетинг возмечтал об иерусалимской короне. Ведь тут кого только нет — итальянцы, армяне, датчане… Многие из их командиров убиты в стычках, вот они и шатаются без дела. Черт побери, похоже, там кого-то режут!
Он шагнул к выходу из шатра. И впрямь — пора прекратить эти бесчинства у самой резиденции короля!
Шум усилился, кто-то заметался в крытом переходе, и наконец Амори едва не столкнулся с закутанной в плащ женщиной.
— Дьяволово семя! — по-солдатски грубо выругался коннетабль, схватил и встряхнул ее так, что женщина упала на устилавшие пол шкуры. Вслед за ней вбежали охранники. — А вы куда смотрите, разрази вас гром? Это что же выходит — молодцы в полном вооружении не в силах остановить какую-то пьяную шлюху?
— Да там сущее побоище, мессир! — воскликнул один из охранников, поправляя сбившийся на затылок круглый шлем с наносником. — Пришлось разгонять оголтелый сброд, вот она и проскочила. Эту мы мигом…
— Стойте! — внезапно воскликнул Гвидо, бросаясь к женщине. — Мадам, любезная сестрица! Вы ли это?
Женщина сбросила облегавший ее голову полотняный вампл[89] — и по ее плечам каскадами рассыпались светлые, почти серебряные вьющиеся волосы. Глаза ее были серо-зелеными, а брови также светлыми, но над ними на восточный манер были нанесены татуировкой еще две тонкие дугообразные линии. Женщина была молода и хороша собой, даже длинноватый нос с горбинкой не портил ее.
— Пусть эти выйдут! — властно распорядилась она. — И пусть не болтают, что видели меня здесь.
— Не беспокойся, Изабелла. Это мои пулены, они верны своему королю.
Пулены, потомки христиан и сарацинок, оставались преданными Гвидо несмотря ни на что. Но именно они могли признать эту юную женщину — принцессу Изабеллу Анжуйскую, младшую сестру упокоившейся королевы Сибиллы.
Изабелла поднялась, опираясь на руку Гвидо. Несмотря на свой наряд лагерной шлюхи — обтрепанное платье, замызганный вампл и широкую накидку с многочисленными заплатами, — держалась она с достоинством.
— К чему этот маскарад, Изабелла? — осторожно спросил король.
Молодая женщина неожиданно разрыдалась.
— Гвидо! О, Гвидо, спаси меня! — Она рухнула на колени, цепляясь за полу туники короля.
Это была истерика, и братья Лузиньяны поначалу растерялись, но мягкий голос Гвидо постепенно сделал свое дело. Король усадил Изабеллу в кресло и закутал бархатным плащом, коннетабль подал ей чашу с водой.
— Они хотят выдать меня замуж! — наконец вымолвила она, стуча зубами о чеканный серебряный край чаши.
Братья Лузиньяны переглянулись — обоим показалось, что они ослышались. Эта девятнадцатилетняя высокородная особа уже восьмой год являлась супругой сеньора Онфруа Торонского, и брак этот считался счастливым, несмотря на отсутствие детей. Но в том не было никакой беды, ибо двое юных супругов, обожавших куртуазные игры, музыку и прогулки рука об руку по крепостным стенам при луне, сами были еще почти детьми.
— Кто хочет вас выдать замуж, мадам? — осведомился Амори.
— Все: моя мать, Конрад Монферратский и даже король Франции. Они утверждают, что теперь я стала наследницей престола, и вместе с моей рукой корону получит тот, кто станет моим мужем.
Гвидо отшатнулся и взволнованным жестом отбросил назад просторный капюшон. Амори открыл было рот, чтобы возразить, и молча его закрыл. Изабелла же продолжала свой рассказ, и постепенно картина прояснилась.
Сегодня среди дня ее привели к шатру французского монарха. Тот милостиво принял ее, осыпав любезностями, и в конце концов объявил, что отныне не кто иной, как она, — надежда этой земли, а ее муж должен стать королем и защитником Гроба Господня. Но поскольку ее супруг Онфруа де Торон утратил свои владения в Трансиордании и они с Изабеллой теперь живут на иждивении короля, Онфруа не может иметь собственное войско.
— Он и прежде его не имел, — задумчиво произнес Гвидо.
Этот Онфруа считался одним из счастливчиков, которым удалось выгодно жениться, что на самом деле было неправдой. Да и воином он никогда не был: образованный, тонкий, приятный в обхождении юноша, Онфруа считался мужем Изабеллы с тех пор, как их, еще детьми, обвенчали в замке Крак де Шевалье, который в ту пору осаждала армия Саладина. Взять замок сарацины не сумели, но Онфруа с Изабеллой остались вместе, постепенно взрослея, а когда время детских забав ушло, стали жить как супруги.
— Где сейчас ваш муж? — спросил Гвидо.
Изабелла не знала. Ее мать, вдова короля Амальриха I[90] — Мария из византийского рода Комнинов, призвала дочь к себе и объявила, что та уже разведена. И показала Изабелле послание, полученное ею от недавно взошедшего на престол Святого Петра Папы Римского Целестина III. В нем говорилось, что брак Изабеллы, принцессы Иерусалимской, и Онфруа де Торона должно считать расторгнутым ввиду того, что при совершении таинства жених и невеста были еще детьми и не могли отвечать за свои поступки, к тому же брак был заключен против воли королевы-матери.
— Прежний Папа ни за что не совершил бы подобную низость! — побелевшими от гнева губами с трудом выговорил Гвидо.
Он лучше, чем кто-либо, понимал, что задумали его враги: теперь, когда не стало Сибиллы, они решили короновать Изабеллу, единственную наследницу Анжуйской династии на Иерусалимском троне. Но муж Изабеллы, Онфруа де Торон, — поэт и музыкант, изнеженный книгочей, не мог быть предводителем крестоносных воинств.
— Хочешь, я подниму наших людей и прикажу им охранять вас с Изабеллой? — Амори опустил тяжелую кисть на рукоять меча.
— Чтобы воины в христианском лагере подняли мечи друг на друга, а сарацины воспользовались распрей и напали? — резко проговорил Гвидо.
— Но что же делать? Разве ты не понимаешь, что они вознамерились лишить тебя трона?
Гвидо пристально смотрел на изумрудный крестик, лежавший у него на ладони, словно черпая в нем мужество. Наконец он повернулся к Изабелле:
— Дорогая сестра, полагаю, вам следует оставаться в моем шатре. Я должен посоветоваться с верными мне людьми. А кстати — кого они прочат вам в мужья?
— Как? Разве я не сказала? Конрада Монферратского!
Она залилась слезами, а Гвидо, что выглядело в высшей степени странно, расхохотался.
Утром немало людей собралось у шатра короля Гвидо. Все они были вооружены и никого не подпускали к шатру, кроме молодого Онфруа де Торона, которого Амори разыскал в лагере и отправил к жене.
Гвидо, откинув полог шатра, вошел в ту его часть, где нашли убежище Онфруа и Изабелла. «Двое детей, — невольно подумал он, — двое перепуганных, жмущихся друг к другу детей».
Онфруа чувствовал себя потерянным еще с той поры, когда сарацины лишили его трансиорданских земель и ему пришлось жить на подачки рыцарских орденов. Что же до Изабеллы… Можно было лишь догадываться, что испытывает эта щеголиха, ничего на свете так не любившая, как менять наряды, если она все еще остается в позорном рубище лагерной девки…
Шкуры на полу заглушали шаги короля, и он услышал то, что Изабелла говорила Онфруа:
— Я боюсь его… Конрад — чудовище! Я цепенею от одного его взгляда. И он так стар! Как они посмели отдать меня ему!
— Но ведь еще не отдали, — вполголоса произнес ее юный муж.
Конраду Монферратскому было немногим больше сорока, он пребывал в расцвете сил, и женщины легкого поведения днем и ночью вертелись у его шатра, зная, что герой Тира частенько берет то одну, то другую, а то и двух разом к себе на ложе. И хоть платил Конрад не слишком щедро, его популярность была такова, что иная отказалась бы от денег, лишь бы доставить радость тому, кто остановил самого Саладина.
Гвидо негромко кашлянул, чтобы привлечь к себе внимание, а затем сообщил, что известие о том, где скрывается Изабелла, уже разлетелось по лагерю, сюда скоро придут, и принцессе следовало бы привести себя в порядок. При этом он кивнул на одежды, которые успел раздобыть для нее.
— Вам тоже надлежит облачиться в доспехи, мессир Онфруа.
— Но я не воин! — слабо запротестовал юноша.
— Тогда что вы делаете в военном лагере? — с некоторым раздражением произнес Гвидо.
Выйдя из шатра, он огляделся. Они условились с Амори, что тот соберет всех преданных им людей. Однако, как Гвидо и предполагал, это были преимущественно местные пулены — верные своему королю и хорошо помнящие щедрые годы его правления, предшествовавшие поражению при Хаттине. Их вооружение оставляло желать лучшего — ржавые кольчуги, помятые шлемы, кожаные панцири с нашитыми на них бляхами вместо добротных доспехов. У Гвидо не было денег, чтобы расплачиваться с кузнецами, и те предпочитали латать и подновлять доспехи более состоятельных рыцарей и военачальников. Но кроме пуленов, за него встали итальянские стрелки и их предводители, которым Гвидо обещал возобновить их привилегии в Акре. Эти выглядели отменно, ведь итальянцы не бедны, торговля с Востоком озолотила их города.
К радости и удивлению Гвидо, здесь были и англичане — храбрый граф Дерби, а также архиепископ Кентерберийский: именно он короновал Ричарда Плантагенета в Лондоне, но затем, не дожидаясь своего короля, отправился в Святую землю и сражался здесь, как простой воин, надевая митру только во время мессы. Он и сейчас стоял в доспехах, хоть и без шлема, и тщательно выбритая тонзура на его макушке ослепительно сверкала.
Кроме того, король обнаружил здесь несколько рыцарей-тамплиеров с мечами и в белых коттах с алыми крестами поверх кольчуг. Это было более чем странно — обычно орденские братья не вмешиваются в мирские дела, это запрещено их уставом. И тем не менее они были здесь, у шатра Гвидо, и в этом он увидел некий благоприятный знак.
Еще больше удивился Гвидо, заметив в стороне патриарха Ираклия. В последнее время тот прихварывал, редко выходил из своего шатра, да и сейчас велел подать себе кресло и кутался в расшитую черными крестами пелерину, словно в ознобе.
В лагере крестоносцев к Ираклию относились со сдержанным презрением: многие знали, что он отказался платить выкуп за христиан Иерусалима. Но Ираклий уезжал в спешке, ему надо было донести в Рим весть о падении Святого Града и попытаться нанять достаточное количество воинов для ответного удара. На это и ушла вся его казна, однако для большинства крестоносцев он оставался предателем, бросившим в беде своих единоверцев, за которых заплатил не кто иной, как сам Саладин, — и этот шаг возвысил султана в глазах всего мира, а патриарх остался навсегда опороченным.
И все же Ираклий был человек неглупый, хитрый и деятельный. По его совету люди Гвидо и Амори распустили по всему лагерю слух, что Изабелла Иерусалимская ищет защиты в шатре короля, ибо противники Гвидо де Лузиньяна готовы на все, чтобы лишить его короны — даже на то, чтобы пренебречь святым таинством венчания и выдать жену Онфруа де Торона за Конрада Монферратского. Захочет ли Всевышний после этого помогать крестоносцам, если здесь творятся такие позорные бесчинства?
Лагерь гудел, как растревоженный улей. Гвидо стоял у шатра, вслушиваясь в гул голосов, и ждал. Хамсин упорно продолжал дуть, из-за пыльной пелены солнце казалось мутным пятном на небе, и все вокруг покрывал слой тонкой желтоватой пыли. Слышно было, как хлопают на ветру знамена и вымпелы, вокруг переговаривались возбужденные люди.
Гвидо поморщился — ветер дул из-за окружавших лагерь рвов, куда по ночам воины ходили справлять нужду. Днем они не рисковали выбираться в рвы, опасаясь сарацинских лучников, но в темноте нередко покидали лагерь, и его окрестности были основательно загажены. При этом латники, посмеиваясь, ссылались на то, что теперь-то неверные наверняка увязнут, если попытаются прокрасться к лагерю.
К королю приблизился коннетабль и указал на некое движение, возникшее среди столпившихся воинов.
— Идут, — проговорил он, надевая свой закрытый топхельм[91] с узкой прорезью на уровне глаз.
«Господи, не допусти кровопролития! — молился Гвидо. — Только бы не началась свалка между крестоносцами!»
Король пристально взглянул в сторону светло-желтых стен Акры, на которых толпились сарацины, следившие за происходящим в лагере христиан.
— Ты отдал приказ наблюдать, чтобы они не послали голубя с сообщением в стан Саладина? — спросил он у Амори.
Из-под шлема донесся глухой смешок. Как бы ни был бдителен Гвидо, Амори ему не опередить. Его лучники и без того постоянно следили, чтобы защитники Акры не посылали почтовых птиц к холмам, а уж сегодня им велено быть внимательными вдвойне!
Скрестив руки на груди, Гвидо смотрел, как расступаются воины, образуя проход. В дальнем конце наконец-то показались его противники. Все до единого: барон Балиан Ибелинский с супругой Марией Комнин, матерью Изабеллы, кузен французского короля епископ Бове, за ним следовал белокурый гигант, герцог Австрийский Леопольд, состоявший в родстве с Конрадом Монферратским. Явился и сам Конрад, усмехаясь в длинные холеные усы. Его смуглое удлиненное лицо обрамляли иссиня-черные волосы, жесткие и пышные, лежавшие надо лбом волной, пронизанной тонкими нитями седины. Глаза у Конрада были темными и жгучими, как черный агат, брови сходились над ними подобно ястребиным крыльям, но все портил шрам на переносице, постоянно придававший его лицу гневное выражение. Неудивительно, что юная Изабелла боится этого человека!
Конрад приблизился к нему так стремительно, что Гвидо невольно сделал шаг назад и остановился. Теперь они находились прямо друг против друга — темный, как демон, Конрад, маркиз Монферратский, и златокудрый ангел — Гвидо де Лузиньян. Впрочем, ныне ангелом звали уже не его, а Филиппа, короля Франции, провозглашенного верховным главнокомандующим крестоносного воинства.
До этой минуты Филипп держался скромно — молча стоял позади Конрада в простой серой котте поверх кольчуги и темном плаще. Его русые негустые волосы удерживал золотой обруч короны, на котором чередовались лилии и кресты, — единственное украшение, но настолько великолепное, что оно сразу же выделяло из толпы худощавого и не слишком рослого Капетинга.
«Вероятно, мне тоже следовало бы надеть венец», — поймав себя на этой мысли, Гвидо невольно поморщился, вспомнив, что в тайне от своего окружения заложил корону Иерусалима венецианцам, чтобы иметь возможность расплатиться с воинами. Но если об этом станет известно, то его не просто на словах будут называть королем без короны.
— Нечего морщиться, Гвидо! — отрывисто бросил маркиз Монферратский. — Это тебе не поможет. Ты должен вернуть мне невесту.
— Мессир, не забывайтесь! Вспомните, что вы говорите с королем!
— Правда? А где твое королевство, Лузиньян? Может, спросим об этом у Саладина?
Вокруг, как проснувшееся осиное гнездо, загудели возбужденные голоса.
— Ты не смеешь так говорить со мной! — повысил голос Гвидо, зная, что Конрад сейчас заведет речь о поражении под Хаттином. — Я спас тебе жизнь!
— Недостойно рыцарю попрекать спасенного своим подвигом!
— Недостойно было не впустить в Тир своего государя и государыню. Я этого не забыл.
— Должно быть, забыл, если бросился мне на выручку в той сече у стен Акры. А может, хотел отблагодарить за то, что я остановил Саладина. Не будь этого, куда бы ты вернулся, красавчик, после того, как сам же и погубил свое королевство?
Маркиз по-волчьи оскалился, сверкнув крупными сахарно-белыми зубами, и Гвидо внезапно ощутил холод в груди. Это страх. Он тоже боится несгибаемого Конрада.
— Спасти вас в бою с неверными — это был христианский поступок, — негромко произнес он, хотя об этом следовало бы кричать, ибо его слова потонули в стоявшем вокруг гуле. Воины переговаривались, иные возмущались, а кое-кто и веселился — не каждый день увидишь, как владыки ссорятся, словно старухи у деревенского колодца.
Филипп Французский понял это первым. Он велел своим сигнальщикам несколько раз протрубить в рога, и лишь после этого воцарилась тишина. С крепостной стены за ними по-прежнему следили мусульмане, да и люди Саладина могли заметить с возвышенностей толпу вокруг ставки короля Гвидо.
Филипп выступил вперед.
— Нам стало известно, что вы укрываете у себя наследницу Иерусалимского трона принцессу Изабеллу. По какому праву, спрашиваю я вас?
— По праву сюзерена, родственника и защитника, к которому обратилась за помощью благородная дама.
Тонкие губы Филиппа искривила ядовитая усмешка.
— Не слишком ли часто вы без раздумий бросаетесь на помощь дамам? Порой это приводит к прискорбным последствиям.
Гвидо пошатнулся. Снова Хаттин! Даже на смертном одре ему будут напоминать о его роковой ошибке!
Однако, собравшись с духом, он заговорил звучно и отчетливо — так, чтобы его мог слышать каждый из тех, кто сейчас находился здесь. Все они должны стать свидетелями той вопиющей несправедливости, которую задумали совершить сторонники Конрада.
— Госпожа Изабелла и ее супруг Онфруа явились в мой шатер и просили предоставить им убежище, ибо принцессе Иерусалимской стало известно, что ее хотят насильно разлучить с мужем и отдать в жены Конраду Монферратскому…
Как он и рассчитывал, ему удалось овладеть вниманием толпы. Послышался глухой ропот возмущения, но кто-то произнес, и довольно громко:
— А почему бы и нет? Конрад великий воин, а юный муженек Изабеллы годится только манускрипты ворошить. От этих мелких букв глаз портится, и какой тогда из Онфруа стрелок?
Кто-то подхватил:
— Нам на троне нужен не изнеженный мальчишка, а суровый воитель!
«Проклятье, но ведь у вас есть король!» — хотел было воскликнуть Гвидо, но сдержал себя и, до предела повысив голос, прокричал:
— Мессир Конрад не может стать мужем Изабеллы Иерусалимским, ибо это лишит ее чести! Ваш герой, с которым вы так носитесь, женат! И принцесса Феодора из славного рода Комнинов жива и здравствует в Константинополе, нетерпеливо ожидая возвращения своего супруга!
Это подействовало, выкрики умолкли.
И тогда заговорил Филипп. Могущественный государь, явившийся с сильным подкреплением под стены Акры, накормивший голодных и обещавший взять в свое войско любого, кто способен держать оружие, и платить каждому по две монеты за выстрел. Сейчас его авторитет был неоспорим — недаром Филиппа единодушно избрали верховным главнокомандующим крестоносного воинства.
— Конрад свободен от брачных обязательств, — спокойно произнес он, — ибо его венчание совершено в Константинополе патриархом-еретиком, не признающим власти Святого престола. Подобный брак любой истинный христианин признает незаконным и недействительным.
В толпе послышались одобрительные возгласы. Сердце Гвидо снова сжалось. «Но нет, Конрад, не так-то просто от меня отделаться», — подумал он.
— А что вы скажете, государь, если я напомню, что еще до того, как маркиз Монферратский взял в жены племянницу ромейского императора, он был женат на некоей сеньоре Горации? И уж это-то венчание без всякого сомнения было совершено добрым пастырем, почитающим Папу Римского!
Оглушительный шум, мешающий Гвидо расслышать собственные мысли.
«Они не могут короновать Изабеллу, пока я жив… — мелькало у него в голове. — Легитимность государя не исчезает вместе с потерей страны, и военное поражение не влечет за собой утрату права на престол. Конрад дважды женат, и они не посмеют…»
Филипп Французский торопливо совещался с бароном Балианом Ибелинским и вдовствующей королевой Марией.
— Мессир де Лузиньян, — вновь обратился Капетинг к Гвидо, не упомянув его королевского титула, однако титуловав «ее величеством» вдову Амальриха I, которая уже много лет была баронессой Ибелинской. — Ее величество Мария Иерусалимская требует, чтобы вы вернули ей дочь. Она писала Папе, который, обсудив ситуацию с кардиналами, пришел к решению благословить маркиза Монферратского, защитника Тира, на союз с ее дочерью Изабеллой. Ибо было достоверно подтверждено, что сеньоры Горации де Монферрат уже несколько лет нет в живых.
Этого Гвидо не знал. Итак, за плечами у этого демона два брака, а теперь они хотят отдать ему еще и Изабеллу. Поэтому он возразил:
— Госпожа Изабелла — замужняя дама. И несмотря на то, что вас, государь, удалось убедить, что два брака маркиза Конрада — не помеха новому союзу, он не может жениться на супруге иного человека, пребывающего в добром здравии.
Повисла такая тишина, что стало слышно, как на ветру трепещут флаги — словно разгорающийся огонь.
Филипп неспешно приблизился к супруге барона Ибелинского и принял из ее рук свиток с красной печатью папской канцелярии.
— Здесь, — он поднял свиток, чтобы его могли видеть все собравшиеся, — в этом послании, Папа Римский Целестин III сообщает, что согласен удовлетворить просьбу королевы Марии Иерусалимской и расторгнуть брак ее дочери Изабеллы с Онфруа де Тороном ввиду того, что сей союз был заключен без ее родительского благословения, а лишь по воле ныне почившего короля Амориха — да хранят его душу ангелы!
— Могу я взглянуть на послание его святейшества? — спросил Гвидо.
Вдовствующая королева сделала порывистый жест, как бы намереваясь помешать Филиппу передать Гвидо свиток, но Капетинг стоял к ней спиной и не мог видеть этого жеста. Послание перешло к Лузиньяну. Тот быстро пробежал взглядом по строкам — и внезапно улыбнулся. Пусть от чтения глаза и не так отчетливо различают цель, но польза от него есть, и немалая.
Он повернулся к Амори:
— Пусть супруги де Торон предстанут перед нами.
Юная пара вышла из шатра, держась за руки. Гвидо отметил, что Изабелла принарядилась — теперь на ней было просторное светло-коричневое платье, на плечи наброшен широкий бархатный плащ самого Гвидо, а свои серебристо-белокурые волосы Изабелла украсила вышитой лентой, повязав ее вокруг чела. Незатейливый наряд, но осанка и горделивый облик принцессы иерусалимской, ее неотразимая привлекательность скрадывали его недостатки. В отличие от жены, Онфруа не последовал его совету — не облачился в кольчугу. Он предстал перед собравшимися в простой серой котте, надетой поверх камизы[92] с потертыми на локтях рукавами. В этом наряде он казался необыкновенно хрупким и походил не на супруга Изабеллы, а, скорее, на юного пажа.
— Мадам… — Гвидо учтиво поцеловал руку принцессы. — Мессир де Торон… — учтивый кивок в ответ на поклон Онфруа. — В послании его святейшества дословно говорится следующее: он готов расторгнуть ваш брак, но при единственном условии: если вы сами признаете его недействительным. Готовы ли вы отказаться друг от друга?
— Нет! — гордо встряхнула серебряными кудрями Изабелла.
— Нет, — эхом откликнулся Онфруа.
Казалось бы, инцидент исчерпан. Гвидо перевел дух. Но тут вперед выступил Конрад Монферратский.
— Вы согласны и впредь оставаться женой этого нищего сеньора, моя принцесса? Согласны жить на жалкие подачки, не имея ни средств, ни собственных владений, тогда как я готов безмерно возвысить вас, возвести на трон и нарядить в шелка и парчу? Вы согласны оставаться под его защитой, — он бесцеремонно ткнул пальцем в грудь Онфруа, — когда я, я, а никто иной, готов сражаться за вас и защищать от целого мира?!
Изабелла растерянно смотрела на Конрада, затем перевела взгляд на мужа.
— Ответь ему, Онфруа! — ей пришлось дернуть молодого человека за руку.
Юноша облизал побелевшие губы. Его тонкое красивое лицо мучительно исказилось.
— Когда король Гвидо отвоюет наши владения, моя супруга ни в чем не будет нуждаться!
— Отвоюет? Это случится еще до второго пришествия? И почему ты полагаешься на короля Гвидо, а не на меня? У меня гораздо больше возможностей вернуть тебе земли Торонов, мальчик. Но лишь при условии, что ты окажешься этого достоин. А вот достоин ли ты зваться мужем и защитником принцессы Иерусалимского королевства, сейчас выяснится…
Сорвав с руки перчатку, маркиз бросил ее в лицо Онфруа. Тот растерянно попятился, а Конрад зарычал:
— Подними перчатку, сеньор Торона! Прими вызов, если ты мужчина и принадлежишь к благородному сословию!
Изабелла нетерпеливо топнула башмачком:
— Ну же, Онфруа! Ты должен сражаться за меня!
Юноша медленно поднял перчатку. Сшитая из черной замши, она казалась огромной в его бледной руке, привыкшей к перу и пергаменту.
— Я принимаю вызов, — произнес он, и его слова заглушил единодушный вопль, вырвавшийся из всех глоток.
В монотонную жизнь воинского лагеря рыцарский поединок мог внести захватывающее разнообразие. Уже больше двух недель — с момента прибытия короля Филиппа и его воинства — люди жили без развлечений, а теперь им предстояло полюбоваться, как два могущественных сеньора сразятся за право обладать прекрасной принцессой!
— Сейчас полдень, господа! — король Франции поднял руку, и рев толпы утих. — Через три часа мы соберемся близ моего шатра и станем свидетелями поединка между владетелем Торонта рыцарем Онфруа и маркизом Конрадом Монферратским, защитником и повелителем Тира!
Воины, удовлетворенно переговариваясь, начали расходиться.
Гвидо де Лузиньян видел, как удаляется баронесса Мария, уводя с собой дочь. Маркиз последовал за ними, напоследок бросив насмешливый взгляд на хрупкого юношу, застывшего с перчаткой в руке. «Он сломает мальчишку, как тростник, — с горечью подумал Гвидо. — Конрад великолепный боец, ему мало равных. И ему безразлично, каким оружием сражаться — копьем, мечом или секирой».
Когда Гвидо проходил мимо Онфруа, тот с мольбой взглянул на него.
— Увы, я плохой воин, сир!..
— Тогда что ты делаешь в военном лагере? — с печальной усмешкой повторил король.
Онфруа поплелся следом за ним, как глупый щенок. В шатре он уселся на складной стул между Гвидо и Амори. Коннетабль начал снимать шлем, но внезапно занавесь у входа откинулась и в шатер вступил патриарх Иерусалимский Ираклий. Старик выглядел так скверно, что Онфруа поспешил уступить ему место.
— Благословите, ваше святейшество! — юноша опустился на колени перед патриархом. — Благословите на битву и отпустите мне мои прегрешения. Ибо вскоре я предстану перед Творцом.
— Несомненно предстанешь, — язвительно отозвался Ираклий, борясь с одышкой. Его по-прежнему бил озноб, но при этом лицо патриарха блестело от пота. — Предстанешь, если сам выйдешь против маркиза. Тебе, мальчик, надлежит выставить вместо себя надежного бойца-поединщика.
Гвидо обменялся взглядами с Амори. Тот сбросил кольчужный капюшон и отрицательно покачал головой.
— Я не могу выйти против Конрада. Я твой брат, заинтересованное лицо.
— Но и Конрад заинтересованное.
— Ваш брат прав, — утомленно заметил Ираклий. — Амори не может сражаться за Онфруа. Но разве мало в лагере воинов, готовых постоять за правое дело? Те же англичане — они с нетерпением ждут своего короля и весьма недовольны тем, что Филипп Капетинг приобрел тут такую власть. Полагаю, не один, так другой согласится поучаствовать в этом деле хотя бы ради того, чтобы поставить заносчивого француза на место…
Во время осады Акры, длившейся уже почти два года, штурмы крепости и отражения набегов Саладина сменялись периодами затишья. Воины отдыхали от войны, пировали, развлекались с непотребными женщинами. Среди иных забав выше всего ценились петушиные бои, игра в кости и вылазки в стан противника, во время которых заключались пари: кто вернется в лагерь с наибольшим числом отрубленных голов нечестивых. Случались и турниры — на них оттачивалось мастерство лучших воинов. Порой на них приглашали даже сарацинских всадников, и тогда эти состязания приобретали особую зрелищность и остроту.
Но затем война неизменно возвращалась в свою колею.
Рыцарские игрища обычно происходили на пустыре, расположенном между резиденциями предводителей крестоносцев. Пустырь заранее ограждали веревками, украшали вымпелами и стягами участников. Но сегодня здесь виднелись всего два знамени, поднятые на высоких шестах: по одну сторону ристалища — белый с черным орлом стяг маркиза Монферратского, по другую — знамя де Торонов: желтая башня на голубом поле. Толпы зрителей в ожидании начала поединка чесали языки, обменивались новостями, оружием, а подчас и деталями доспехов, кое-кто уже метал кости, несмотря на то, что церковь не раз предавала дьявольскую игру проклятию и налагала на нее строжайший запрет.
Рядом с пустырем установили колесную платформу недостроенной осадной башни — она должна была служить помостом для знатных зрителей. Туда вскоре поднялись Филипп Французский в сопровождении нескольких прелатов, барон Ибелин с супругой и принцесса Иерусалимская — главная награда победителю в предстоящем поединке.
Изабелла выглядела взволнованной, однако на ее лице не было ни следа печали — она с улыбкой помахала рукой собравшимся поглазеть на поединок. Наряд ее поражал великолепием: мать успела обрядить принцессу в шафранно-желтые шелка, на плечах ее развевался алый плащ, головку венчал пестрый парчовый тюрбан — Изабелла всегда предпочитала восточные наряды и не следовала европейской моде.
Гвидо наблюдал за молодой женщиной с седла своего рослого белого жеребца. Его не пригласили на помост, чтобы еще раз унизить, но он и сам не принял бы подобное приглашение. Невелика радость — в такую минуту оказаться рядом с Изабеллой — ликующей, возбужденной происходящим, то и дело озирающейся по сторонам. «Сибилла никогда не повела бы себя так, если бы из-за нее я оказался в опасности», — подумал он и обратил взгляд на другой конец ристалища, где в окружении толпы как раз появился Онфруа — на коне, закованный в доспехи и с турнирным копьем в руках.
Одновременно с противоположной стороны на поле выехал Конрад Монферратский. Его могучий караковый жеребец плясал под седоком, то и дело потряхивая длинной черной гривой. Доспехи маркиза, помимо темно-серой кольчуги, состояли из стальных поножей ромейской работы, стальных наплечников и посеребренного латного воротника с гравировкой. Шлем рыцаря нес его оруженосец, кольчужный капюшон был откинут, и черные, с пробивающейся сединой, волосы Конрада ниспадали на его плечи крупными волнами.
«Нет спора, — невольно отметил про себя Гвидо, — выглядит он внушительно».
Конрад прогарцевал по арене под вопли толпы и вскинул руку в приветственном жесте. Затем он заставил коня чуть ли не боком приблизиться к платформе, обернулся и склонил наконечник копья к ногам Изабеллы.
— Я буду сражаться за вас, прекрасная Изабелла Иерусалимская. И либо погибну, либо завоюю вас своей доблестью!
Изабелла промолчала и потупилась. Однако когда появился Онфруа и медленно совершил свой круг по ристалищу, она поднялась со своего места и невольно сделала шаг ему навстречу.
— Я готов сражаться за вас, моя Изабелла, — произнес безземельный владетель Торона. — Однако люди, более мудрые, чем я, решили, что маркизу Конраду не так уж много чести выбить из седла столь неопытного бойца, как я. Поэтому я выставляю за себя поединщика, который готов защитить мое право владеть вами!
— И сами не станете сражаться за свою жену с оружием? — пораженно воскликнула Изабелла, отступая и хмурясь так, что ее татуированные брови сошлись в одну линию.
Когда Онфруа покидал ристалище, в толпе послышались презрительное улюлюканье и свист. Конрад Монферратский вновь объехал ристалище, возглашая, что готов сразиться за Изабеллу с любым, кого бы ни выставил за себя Онфруа де Торон. Эти слова были встречены бурей одобрения. Все ждали захватывающего поединка. Но кто же выйдет против него?
Изабелла разрыдалась, и мать принялась утешать ее.
— Я хочу быть с Онфруа! — всхлипывала Изабелла. — Я должна достаться ему! А он… он…
Племянник короля Филиппа, молодой граф Генрих Шампанский, склонился к принцессе.
— Не надо плакать, госпожа моего сердца. Скажите лишь слово — и я пойду ради вас, куда прикажете. Клянусь в том истинной верой!
Изабелла взглянула на него сквозь еще не просохшие слезы и вдруг улыбнулась:
— Вы очень милы, мессир!
Она права, — думала в этот миг ее мать. Молод, хорош собой и не скрывает своего восхищения Иерусалимской принцессой. Может быть, все это ошибка и Изабеллу стоило отдать ему? Но договоренность с Конрадом уже невозможно отменить. И здесь есть свои подводные камни, ибо по линии матери Генрих является племянником не только Филиппа Капетинга, но и Ричарда Английского.[93] Молодой граф Шампани никогда не скрывал, что восхищается рыцарственным королем Англии, а ее интересы совсем в другом…
Конраду не пришлась по душе эта задержка перед боем, но еще более не понравилось то, как его невеста любезна с Генрихом. Его копье повернулось к молодому графу, едва не уткнувшись острием в его грудь.
— Ну, давай, сразись же со мной, Генрих! Или ты предпочел бы потягаться за Изабеллу с сопляком Онфруа?
Генрих залился гневным румянцем — его нежная веснушчатая кожа легко краснела, но в особенности досаждало ей беспощадное палестинское солнце. Казалось, он вот-вот кликнет оруженосца и велит подать доспехи, но в дело вмешался епископ Бове, советник Филиппа, и охладил пыл молодого графа.
Король Филипп откровенно забавлялся. Похоже, Конрад никому не уступит такой драгоценный трофей — наследницу Иерусалимского трона. Тем временем Генрих удалился, Изабелла сердилась, мать увещевала ее, король наблюдал за суетой на противоположном конце ристалища. Вот Онфруа подъехал к облаченному в доспехи Амори де Лузиньяну. Да, брат короля Гвидо в полном вооружении, однако он не имеет права сражаться. Но кто это там еще?
Барон Балиан Ибелинский склонился к Филиппу:
— Я вижу графа Дерби в доспехах, но вижу также и епископа Кентерберийского в броне. Этого только нам не хватало! Крест честной! А это что такое?..
Последнее восклицание барона было вызвано тем, что вместо именитых английских бойцов на ристалище неожиданно показался рыцарь в белом с алым крестом одеянии рыцаря-тамплиера. Он двигался неспешно, его гнедой конь со снежно-белой проточиной[94] на морде выступал плавно и величаво, а сам рыцарь лишь едва заметно покачивался в седле в такт его поступи. Голова его была надменно вскинута, широкие плечи свободно расправлены.
— Разве тамплиеры имеют право вмешиваться? — возмутился Филипп.
— Этому сам черт не брат, — угрюмо заметил барон Ибелин. — Это новый маршал ордена Уильям де Шампер, родственник короля Ричарда. Прежде он никогда не нарушал постановлений их капитула, запрещающих принимать участие в рыцарских забавах.
Филипп невольно поддался вперед, вглядываясь в фигуру маршала. Вот, значит, каков он, этот де Шампер! Королю доводилось знавать представителей этого рода. «Верный всегда рядом» — гласил их девиз. И уже на Святой земле ему не раз приходило в голову, что от Уильяма де Шампера ничего хорошего ждать не приходится. Правда, до сих пор он держался в стороне, ни во что не вмешиваясь.
Рыцарь приблизился к помосту. Филипп видел его лицо — твердое, слегка утомленное. Лицо проницательного и умного человека. Каштановые с рыжиной волосы маршала, разделенные прямым пробором, густой массой ложились на его плечи, широко расставленные, серые, как гранит, глаза смотрели непреклонно. В развороте груди и плеч угадывалась недюжинная сила, но он был скорее поджарым, чем массивным, — таковы обычно те, кто посвятил войне всю жизнь без остатка.
— По уставу ордена вы не имеете права сражаться на турнире, мессир де Шампер! — преградил ему дорогу конем Конрад.
Маршал ордена продолжал путь, даже не взглянув на разгоряченного маркиза и вынудив его коня посторониться. Теперь он находился прямо перед помостом.
— Высокородные сеньоры и вы, несокрушимые воины под стенами Акры! — внезапно заговорил он глубоким сильным голосом. — Я явился сюда, чтобы отменить ваш поединок, ибо…
Его слова потонули в возмущенном гуле голосов. Как, этот рыцарь-монах намерен лишить их такого зрелища?
Шампер дождался, пока негодование уляжется, и продолжал:
— …Ибо не пройдет и часа, как с холма Каруба нас атакует конница Саладина, — он указал на возвышенность, видневшуюся на востоке Акрской равнины, где расположился лагерь султана. — Мои лазутчики только что донесли об этом, и если вам не угодно, чтобы вас застали врасплох, советую разойтись и приготовиться отразить неверных.
— Ваши сведения… Они безусловно верны? — поднялся со своего места Филипп. Под венцом с лилиями и крестами его мысли бешено метались. Де Шампер выехал со стороны Гвидо — уж не союзник ли он ему? Филиппу было известно, что маршал тамплиеров едва ли не первым привел отряд храмовников под Акру и присоединился к Лузиньяну. Может, его единственная цель — предотвратить поединок? Но то, что он говорит об атаке… Святые апостолы Петр и Павел! Саладин! Мой первый бой… И где этот Ричард? Пора бы Льву присоединиться к им же затеянной охоте!
Внешне он остался совершенно спокоен:
— Я слышал, султан Салах ад-Дин ведет себя как благородный воитель и никогда не нападает без предупреждения.
— Да что вы, государь? — де Шампер рывком головы отбросил разметавшиеся на ветру волосы. Недвусмысленная ирония, прозвучавшая в его голосе, вызвала смех среди рядовых воинов. — Что ж, тогда можете продолжать ваши игры, пока от рыцарственного язычника не поступит вызов по всей форме. Но примите к сведению — мои лазутчики не стали бы тревожить меня зря. Мой долг — предупредить вас как верховного командующего силами крестоносцев.
Он развернул коня и так же неспешно покинул арену. Неподалеку уже звучали трубы госпитальеров, игравшие общий сбор, а белые плащи храмовников стекались со всех сторон, образуя отряды. Даже простые пехотинцы, только что предвкушавшие поединок, начали расходиться, их лица были серьезны, капитаны там и сям скликали своих подчиненных.
— Ваше величество, — раздался позади голос барона Ибелина. — Маршал де Шампер не бросается словами. Вам следует подготовиться к битве.
— Я главнокомандующий, — произнес Филипп. — И я обязан…
Он умолк, вспомнив Ричарда. Тот в подобных ситуациях всегда успевал мгновенно сориентироваться и принять единственно верное решение. Филипп же был более сообразителен, когда требовалось сплести интригу или предпринять лукавый политический ход.
— Мессир барон, мадам Мария, — король повернулся к супругам. — Подготовьте Изабеллу для переезда в Тир. Полагаю, она вполне убедилась, чего стоит ее прекрасный рыцарь Онфруа, и сложностей с ее обручением с маркизом Конрадом больше не будет. А теперь…
Он огляделся. Лагерь под стенами Акры словно кипел — шла привычная для многих подготовка к сражению. Но немало людей толпилось и вокруг помоста, на котором он стоял. Необходимо отдать указания. Но какие? Как воевать с проклятыми сарацинами? Это совсем не то, что вывести рать на поле близ Жизора,[95] где все обычно завершается мирными переговорами…
Король подозвал к себе воинственного Гуго, герцога Бургундии.
То, что Уильям де Шампер не бросается словами, вскоре стало очевидным. В стороне от лагеря, там, где находились лесистые возвышенности Карубы, поднялось облако пыли. Воинства мусульман еще не было видно, но в сторону крестоносцев уже летели стрелы. Сарацины стреляли не целясь, выпуская стрелы почти вертикально вверх, и те, описав в воздухе крутую дугу, падали на противника, словно с неба.
Опытные воины, в особенности из числа местных христиан, привычные к такой тактике, тут же закрылись щитами или забрались под повозки. Но стрел было очень много, они сыпались градом, и вскоре там и сям послышались крики и стоны боли, лошади бешено ржали и вставали на дыбы, сбрасывая седоков.
Гвидо по настоянию коннетабля укрылся в шатре — Амори не любил, когда младший брат ввязывался в сечу. Король даже подозревал, что его брат суеверно считает: участие в бою того, кто потерпел поражение при Хаттине, сулит неудачу. Теперь ему оставалось только наблюдать из-за полога, как Амори, надсаживая глотку и прикрываясь щитом, отдает команды. Внезапно грянула труба — и несколько десятков воинов кинулись рубить канаты противовесов, удерживающих в поднятом состоянии мосты через ров, которым был обнесен лагерь.
— Что они делают, ад и тысяча демонов! Кто их послал? — ревел Амори, видя, как закованные в тяжелые доспехи всадники под предводительством рыцаря огромного роста с красно-синим щитом лавиной потекли навстречу врагу через распахнувшиеся в частоколе ворота.
Гвидо ужаснулся: ему ли не знать, что сельджуки часто начинают атаку таким обстрелом, но двинуться на них с копьями — значит попросту подставить себя под их стрелы и быть выбитым из седла еще до того, как произойдет столкновение с противником. Мусульмане, зная сокрушительную мощь несущихся вскачь конных рыцарей, первым делом целятся в животных, а спешенный рыцарь становится жертвой стрел и сабель подоспевшей легкой конницы.
К Амори приблизился тамплиер. Гвидо тотчас узнал его, несмотря на скрывавший голову рыцаря горшкообразный шлем. Уильям де Шампер!
Рыцарь указал мечом в сторону Акры.
— Сарацины из гарнизона крепости предпримут вылазку, как только Гуго Бургундский выведет конницу из лагеря на равнину. Мы с магистром госпитальеров Гарнье постараемся загнать их обратно, а если повезет, попытаемся ворваться на их плечах в ворота. Ты же, Амори, оставайся за главного в лагере. Действуй, исходя из опыта, — и да поможет тебе Господь! Ибо именно тебе теперь предстоит оборонять лагерь от натиска сарацин с Карубы и прикрывать отступление этих ретивых новичков, ничего не смыслящих в здешней войне.
Гвидо мгновенно понял, что коннетаблю досталась самая сложная задача: удержать вал и частоколы вокруг лагеря, пока конница Саладина будет теснить отступающих в панике крестоносцев.
В том, что именно это и произойдет, он не сомневался. Пока крестоносцы-новички еще рвутся исполнить обет и сойтись с неверными, однако узкие ворота лагеря могут пропускать их только небольшими партиями. Сельджуки будут методично истреблять их до тех пор, пока не подоспеют мамлюки Саладина. Тогда крестоносцы обратятся в бегство, в воротах отступающие столкнутся с теми, кто еще не успел выйти за пределы лагеря, начнется жестокая давка. Вот тут-то придется вмешаться Амори, чтобы освободить проход, впустить своих обратно в лагерь и одновременно сдержать натиск воинов Саладина, которые сделают все, чтобы ворваться в лагерь вслед за бегущими.
Все это Гвидо видел, как наяву, — два года осады Акры научили его предугадывать действия неверных, но сейчас он не мог отдавать приказы — его авторитет предводителя, в особенности с прибытием подкрепления во главе с Филиппом Капетингом, не ставившим его ни в грош, был окончательно утрачен.
Единственное, что ему оставалось, — молиться.
Несмотря на то что наступила ночь, в лагере никто не спал. Отовсюду слышались стоны, крики нестерпимой боли, лекари склонялись над ранеными, священники отпускали грехи умирающим, и не умолкали слова молитвы над умершими, которых зашивали в саваны и рядами укладывали на берегу мутной речонки Вилы: «Requiem aeternam dona ei Domine. Et lux perpetua luceat ei. Requiescat in pace. Amen».[96]
Погибших оказалось много больше, чем следовало ожидать. И все же победа осталась за христианами — тамплиеры и госпитальеры не позволили сарацинам из Акры ударить на лагерь с тыла, хотя прорваться в город им так и не удалось, как ни надеялся на это Уильям де Шампер. Окончательно убедившись в этом, маршал бросил своих рыцарей на помощь крестоносцам Гуго Бургундского, которых к тому времени прижали ко рвам нахлынувшие лавиной конники Саладина. Но Амори справился и удержал лагерь. Его стрелки разили неверных из луков, насаживали на копья тех, кто пытался вскарабкаться на валы, и одновременно пропускали в ворота раненых или потерявших своих лошадей рыцарей.
Вовремя подоспевшие люди де Шампера и магистра госпитальеров отбросили мусульман от лагеря и вырвались на равнину, что позволило рыцарям, сражавшимся с многократно превосходящей их числом конницей неверных, вернуться к своим. И хотя иоанниты и храмовники нередко ссорились из-за владений в Леванте, а их интересы то и дело пересекались, сейчас, когда перед ними был заклятый враг, они сражались плечом к плечу, и не было воинов более умелых и бесстрашных, чем орденские братья.
Амори заглянул к Гвидо уже глубокой ночью. Коннетабль прихрамывал, но держался бодро и тут же потребовал, чтобы Гвидо вместе с ним немедленно отправился в шатер патриарха Ираклия.
«Что за причина?» — размышлял Гвидо, пока они шли через лагерь, закутавшись в плащи и опустив на лица капюшоны.
Едва переступив порог шатра, Гвидо содрогнулся, тотчас узнав запах: смесь ароматических курений, смрада блевотины и болезненного пота. Так же пахло в его шатре, когда умирали его несравненная Сибилла и их девочки. Арнольдия — так называли эту хворь, она дюжинами косила людей в осажденном лагере. Но Ираклий… Патриарх был фанатически чистоплотен, в его шатре в курильнице всегда дымился можжевельник, который, как известно, отгоняет всяческую заразу.
Гвидо, приблизившись к патриарху, невольно прикрыл лицо рукой. Ираклий полулежал в кресле, обложенный подушками.
Уже ничто не указывало, как некогда был красив и представителен этот человек, лишь крутой изгиб густых черных бровей над слезящимися глазами напоминал о том блистательном священнослужителе, который венчал Сибиллу Иерусалимскую и Гвидо де Лузиньяна в Храме Гроба Господня. Патриарх в последнее время исхудал, кожа на его крупном лице висела складками, влажные от пота основательно поседевшие пряди волос прилипли ко лбу.
— Гвидо, мальчик мой! — Ираклий простер руку к Иерусалимскому королю.
Гвидо остался у входа в шатер, не осмеливаясь приблизиться к больному.
— Не хочу мешать вашей беседе с мессиром Уильямом, — проговорил он, заметив в полумраке рядом с патриархом маршала де Шампера.
Тот коротко взглянул на Гвидо, приподнялся и отвесил короткий полупоклон. А затем продолжал:
— Могу сказать лишь одно: Гуго Бургундский сражался отчаянно, надо отдать должное его отваге. Он прикрывал отход своих воинов, был не раз ранен, но продолжал разить сарацин направо и налево. Вы же знаете, ваше святейшество, как говорят ныне: герой не тот, кто побеждает, а тот, кто совершает подвиги. И уж Гуго в этом сражении несомненно явил себя героем. Он получил не меньше десятка ран, лицо его было залито кровью, но я видел, как он спрыгнул с седла, и полагаю, что герцог вскоре оправится. Есть в нем нечто от великих воинов древности.
— Я буду молиться о нем, — отозвался Ираклий. — И о храбром английском графе Дерби, павшем на поле боя, и о храбром Филиппе Фландрском… Неужели его пронзили одновременно тремя копьями?
— Воистину так. Графу Фландрскому вообще не стоило выезжать на поле боя, ваше святейшество. Но он подхватил эту проклятую хворь, многие считали, что ему уже не подняться, и он счел, что погибнуть в бою за святое дело предпочтительнее, чем захлебнуться собственной желчью на одре болезни.
Пожалуй, было жестоко говорить об этом патриарху в ту минуту, когда у него начался новый приступ мучительных спазмов. Оба — Гвидо и Уильям де Шампер — отвели глаза, а приставленный к Ираклию лекарь-госпитальер подоспел с медным сосудом. Как только приступ закончился, лекарь унес сосуд и подоткнул под подбородок священнослужителя свежую салфетку.
«Нам следовало бы как можно скорее покинуть этот шатер, — с тревогой думал Гвидо. — Арнольдия не щадит ни детей, ни женщин, ни воинов». Однако он не двинулся с места — патриарх Иерусалимский всегда поддерживал его, и он догадывался, что его позвали сюда не зря.
Однако время шло, а патриарх все еще продолжал беседу с де Шампером. Наконец он спросил, что думает маршал о том, как руководил битвой Филипп Французский.
— Не мне судить короля, у него, по крайней мере, были благие намерения, — сдержанно отозвался де Шампер. — Он действовал так, как принято в Европе, когда на поле боя одна против другой стоят две христианские армии. У него нет опыта войны с неверными, и он не желает никого слушать. Подобную ошибку допустил его отец четыре десятилетия назад, едва не погубивший свое воинство и запятнавший свое имя жестокой неудачей.[97] Мне кажется, Святая земля — не самое благоприятное поле деятельности для французских монархов.
— Ты ждешь прославленного полководца Ричарда Английского? — лукавая улыбка на миг осветила измученное лицо патриарха.
— Это так, — де Шампер коротко кивнул.
Он стоял выпрямившись и заложив большие пальцы за пояс, с которого свешивался длинный меч с крестовой гардой. Голова маршала тамплиеров была слегка откинута назад; он казался непоколебимым утесом, от этого человека веяло спокойной силой, и это было особенно очевидно в сравнении с немощным, вконец изнуренным болезнью патриархом.
— Ричард не проиграл ни одного из сражений, в которых участвовал, — продолжал де Шампер. — К тому же он ведет за собой куда большие силы, чем удалось собрать Филиппу Капетингу. Поэтому все свои надежды я возлагаю на английского короля.
— В том числе и на его поддержку во время выборов Великого магистра ордена, верно? Ты ведь родственник Плантагенетов!
В шатре горели длинные свечи белого воска, и четко очерченная тень тамплиера падала на полотняные занавеси. Гвидо не видел его лица, но, следя за тенью, заметил, как рыцарь напрягся и застыл.
— Орден Храма возглавит тот, кого изберет капитул.
— Бесспорно, бесспорно… Но король Филипп всячески мешает тамплиерам собраться и назвать своего нового главу. И он сделает все для того, чтобы родственник Плантагенетов не стал Великим магистром, — утомленно проговорил Ираклий. — Поспеши же к Ричарду, сын мой. И скажи, что ему пора явиться сюда. Добавь также, что я хочу его видеть, ибо мне необходимо кое-что сказать ему, пока я…
Не договорив, он повалился вперед, конвульсивно сотрясаясь.
— Но где мне найти короля Ричарда? — негромко спросил Шампер, когда дыхание патриарха снова выровнялось. — Мы давно не имеем от него никаких известий.
— Зато я имею, — слабая улыбка снова промелькнула на губах патриарха.
Он выпрямился, откинулся на подушки и неторопливо заговорил.
Из его слов Гвидо узнал, что флот короля Ричарда вскоре после выхода из гавани на Сицилии попал в жестокий шторм; суда разметало на огромном пространстве, но все же английский Лев, как и было заранее условлено, добрался до острова Крит и принялся ждать. День сменялся днем, и мало-помалу его корабли стали прибывать — уцелели почти все, за исключением одного того, на котором плыли сестра короля Иоанна Сицилийская и его невеста Беренгария Наваррская. В отчаянии Ричард разослал во все стороны быстроходные галеры в надежде, что судно отыщется на одном из островов, а сам тем временем возносил молитвы, чтобы с ними не случилось наихудшего. И его молитвы были услышаны: большой юиссье, предоставленный дамам, обнаружили на Кипре, где его экипаж и воины, стоя на рейде, отражали атаку за атакой мелких судов самозваного императора Исаака Комнина. Ричард без промедления направился на Кипр и отбил женщин.
— Он и по сей день находится на Кипре, — говорил Ираклий, продолжая поражать слушателей своей осведомленностью. — Больше того: Ричард приостановил движение своего флота к берегам Леванта, ибо вознамерился завоевать Кипр.
Гвидо невольно воскликнул:
— Пресвятая Дева! Зачем ему это именно сейчас, когда он так необходим здесь, под Акрой?
Ему ответил де Шампер:
— Ричард действует разумно. Кипр лежит в полусотне миль от берегов Святой земли, и до тех пор, пока там хозяйничает союзник султана Исаак Комнин, он будет грабить и топить спешащие к нам суда с продовольствием, оружием и подкреплениями. А имея под рукой такую житницу, как богатый и плодородный Кипр, крестоносное воинство навсегда забудет об угрозе голода.
— Ты совершенно прав, Уильям, — с бледной улыбкой кивнул патриарх. — Но времени остается совсем мало. И не только потому, что Саладин уже обратился к своим эмирам и со дня на день ожидает подкреплений. И не потому, что Филипп Французский — не лучший из предводителей крестоносного воинства. Нам нужен Ричард, чтобы предотвратить раскол в стане христиан. Саладин знал, что делал, отпуская тебя на волю, Гвидо, — вздохнул его святейшество. — Ему сообщили, что Конрад Монферратский намерен завладеть короной Иерусалима. А с твоим появлением… Словом, если ты немедленно не добьешься поддержки со стороны Ричарда Английского, Филипп и его сторонники…
Он покосился на лекаря, который подал ему крепко пахнущий мятой настой, сделал небольшой глоток, и жестом отпустил врача. После того как тот скрылся, патриарх продолжал, обращаясь к Гвидо:
— Известно ли тебе, мой мальчик, что во время сегодняшней кровавой сумятицы Конрад и чета Ибелинов вместе с Изабеллой отбыли морским путем в Тир? В самое ближайшее время наследницу Иерусалимского трона обвенчают с маркизом Монферратским.
— Значит, Конрад не участвовал в сражении? — судя по голосу, до сих пор молчавший Амори был в полной растерянности.
— Конрад делает только то, что считает полезным для себя. Все остальное для него не имеет значения, — сухо произнес Шампер.
— Но мои законные права! — гневно воскликнул Гвидо.
Патриарх Ираклий, кряхтя, приподнялся в подушках.
— Что бы ты предпочел, мой король? Чтобы одна часть войска стояла за тебя, законного государя, а вторая — за супруга Изабеллы Конрада? Рано или поздно это произойдет, войско разделится, и начнется бессмысленная резня за престол несуществующего королевства. А Саладин не преминет воспользоваться этой междоусобицей, чтобы разбить разрозненные и враждующие силы христиан.
— Я… — Гвидо судорожно вздохнул. — Если положение именно таково, я готов отречься от власти ради торжества нашего святого дела!
При этих словах де Шампер быстро взглянул на него: в этом взгляде Гвидо прочел уважение. И все же ему пришлось прикусить губу — короля Иерусалимского в эту минуту раздирали настолько противоречивые чувства, что он опасался разрыдаться.
— Я ожидал этого, — снова кивнул Ираклий. — Хочу напомнить, что, согласно воле короля Бодуэна Прокаженного, после его смерти престол Иерусалима должен перейти к одной из его сестер — Сибилле или Изабелле, и, соответственно, к ее мужу. Но выбор, кому достанется трон, надлежит сделать королям Англии, Франции, императору Фридриху I и Папе Римскому. Фридрих погиб — да пребудет с ним милосердие Господне! — а новый глава Святого престола явно благоволит Филиппу. Однако ни Целестин, ни Филипп Французский не смогут противостоять могучей воле Ричарда Львиное Сердце. Поэтому мой вам совет — спешите на Кипр, не теряя ни часа! Разыщите короля Англии, где бы он ни был, и в деталях опишите ему сложившееся положение. Скажите, что Конрад и Филипп попирают закон и используют свое влияние в корыстных целях. А уж какой из Филиппа полководец, вы сегодня имели возможность убедиться… Ему не одолеть султана Саладина. Ни ему, ни маркизу Конраду. На это способен только Ричард Львиное Сердце — да хранит его Всемогущий Господь!
— Мы с королем Иерусалимским отправляемся немедленно, ваше святейшество, — произнес де Шампер и тотчас покинул шатер.
За ним последовал Амори.
Задержался лишь Гвидо. Опустившись на колени у кресла, в котором покоился больной, он поцеловал его влажную холодную руку.
ГЛАВА 12
Любой из спутников рыцаря-госпитальера Мартина д'Анэ сейчас не узнал бы его: развалившийся в кресле, надменно ухмыляющийся, напыщенный, он взирал на коменданта генуэзской крепости в Олимпосе Чезаре да Гузиано так, как мог бы глядеть на него Обри де Ринель — снисходительно и высокомерно, словно оказывая милость одним своим присутствием. Еще у ассасинов Мартина научили простому приему: хочешь не походить на самого себя — вспомни другого и постарайся стать в точности как он. В эту минуту он и представлял себя супругом Джоанны.
— Я не приемлю такого ответа, сеньор Чезаре, — надменно произнес рыцарь по-итальянски. — Вы и сами должны понимать, что столь высокородная дама, как моя спутница, — тут Мартин внушительно воздел перст к небесам, — кузина короля Англии и сестра маршала тамплиеров! — не может отплыть в Святую землю на какой-то ветхой лохани. Поэтому я требую — слышите, требую! — чтобы ей была предоставлена для поездки вверенная вам большая галея.[98]
Комендант смотрел на гостя поверх чаши с вином, и его худощавое, покрытое темной щетиной лицо мало-помалу каменело.
— Сеньор рыцарь, я понимаю, что вы заботитесь о своей… хм… спутнице. Но галея ныне курсирует вдоль побережья, охраняя прибрежные поселения от пиратов. Император дозволил нам, генуэзцам, обосноваться в Олимпосе на Ликийском побережье с условием, что мы будем оберегать эти берега от набегов с моря. И мы это условие исполняем неукоснительно. Помимо того — и да простит меня святой Бернар! — при всем моем уважении к ордену Храма, я не обязан доставлять родственниц маршала де Шампера туда, куда им вздумается, и уж тем более в обществе их верных рыцарей.
«Великолепно! Он хорошо осведомлен о наших отношениях с Джоанной!» — порадовался про себя Мартин.
— Но сеньор Чезаре! Как же иначе я смогу доставить в Святую землю эту благородную даму, совершающую паломничество с благой целью?
Позади Мартина хмыкнул капеллан крепости — отец Паоло.
— Паломничество? — язвительно произнес он. — На землю, где проповедовал сам Спаситель мира, стремятся те, кто желает избавиться от греха. Но дама, которую вы сопровождаете, похоже, не кается, а упивается грехом. И вы, орденский брат, не хуже меня должны сознавать это и не потворствовать прихотям сеньоры. Даже если они вам по нраву.
Мартин представил, как бы вел себя в таких обстоятельствах Обри. Он побагровел, хватил кулаком по столу и в самых энергичных выражениях заверил обоих, что дама Джоанна де Ринель — воплощенные благочестие и скромность, а сам он строго исполняет принесенные им обеты.
— Довольно! — Комендант крепости так резко отставил чашу, что густое красное вино плеснулось через край. — Мы не ваши слуги, сеньор, и ничем вам не обязаны, тем более что вы с госпожой Джоанной смутили покой гарнизона и нашего мирного городка. Мне со всех сторон жалуются, что вы ведете себя… скажем, не так, как подобает вести себя с замужней женщиной рыцарю-госпитальеру, следующему уставу ордена.
— Жалобы? — отмахнулся Мартин. — Какие еще жалобы? — Однако впрямую отрицать свою связь с Джоанной де Ринель не стал, наоборот — позволил себе развязную ухмылку. — О, сеньор! Что эти схизматики понимают в орденских уставах? Пусть лучше поглядят на мою прекрасную спутницу, и тогда им станет раз и навсегда ясно, что их смуглые, как головешки, гречанки не достойны даже башмачки ей развязать!
Заметив, что комендант едва выносит его присутствие, Мартин наконец-то откланялся, напоследок небрежно заметив, что из-за проклятой забывчивости опять не принес деньги за лютню, которую недавно приобрел у одного из помощников коменданта, но уж завтра непременно пришлет своего оруженосца…
Покинув покои коменданта, Мартин начал с топотом спускаться по лестнице, но на полпути остановился и в два бесшумных прыжка вернулся к двери. На его лице заиграла улыбка — на сей раз его собственная: один уголок рта выше другого, что всегда придавало ей оттенок иронии. Он слышал, как возмущается капеллан: этот надменный и развязный госпитальер не только не скрывает любовную связь с сестрой маршала храмовников, но и ведет себя так, словно начальник генуэзского гарнизона находится у него в подчинении. Сеньор Чезаре мрачно хмыкал, слушая священника, а затем добавил, что всегда сомневался в добродетели иоаннитов.
«Ну, сеньоры, — пробормотал себе под нос Мартин, — уж теперь-то вы меня точно не забудете! И если кто-либо спросит вас, в каких отношениях я состоял с сестрой маршала тамплиеров, ответ последует незамедлительно…»
Да, все шло именно так, как задумал Ашер бен Соломон.
Выскользнув из башни, где находились апартаменты коменданта, Мартин оказался на крепостной стене. Стена огибала край отвесного утеса, а сама крепость располагалась на скалистой возвышенности, господствовавшей над побережьем и городком Олимпос. Отсюда были хорошо видны отроги гор, над которыми высилась розоватая снежная шапка Ликийского Олимпа,[99] внизу шумел прибой.
Море было неспокойно уже несколько дней, вспененные валы один за другим накатывались на пологий песчаный берег, на котором там и сям виднелись вытащенные на сушу от греха подальше рыбацкие суденышки. Если галея, принадлежащая генуэзцам, и в самом деле крейсирует вдоль побережья, при такой погоде вернется она не скоро. Из-за этого им с Джоанной придется еще на некоторое время задержаться в этом захудалом городишке в ожидании какого-нибудь судна, плывущего вдоль побережья.
Был ли Мартин огорчен этой задержкой? Едва ли. Провести здесь еще несколько дней с Джоанной, снова и снова предаваясь страсти и не думая о том, что ждет их обоих в дальнейшем… Иного выхода нет. И не только из-за опасностей путешествия по неспокойному морю, но еще и потому, что недавно к побережью вблизи Олимпоса прибило потрепанную бурей парусную лодку с беженцами с острова Кипр. От них Мартину стали известны последние новости. Оказывается, Филипп Французский уже высадился под Акрой, но не спешит штурмовать осажденный город, так как намерен дождаться прибытия Ричарда Английского с основными силами крестоносцев. Но сам Ричард, вместо того чтобы направить свой флот к берегам Леванта, задержался в пути, неожиданно обрушив всю мощь крестоносного воинства на Кипр.
Когда Мартин сообщил об этом Джоанне, она сказала, устремив на него светящийся любовью взгляд своих фиалковых глаз:
— Само провидение удерживает нас здесь. И какая разница, что с нами будет потом?
Она хотела быть с ним.
И в глубине души Мартин желал того же. И впрямь: зачем спешить, если под Акрой все спокойно, Сарре бат Соломон ничто не угрожает, а Ричард надолго увяз на Кипре? Впрочем, Джоанна утверждает, что ее венценосный кузен — отменный воин и ему не впервой одерживать скорые и сокрушительные победы. Но это ничего не меняет: оба они пока в Олимпосе, и абсолютно все — море, ветер, небо и даже война, разразившаяся вовсе не там, где ее ждали, способствует тому, чтобы продолжалось то, что началось однажды на рассвете у горной речушки.
Далеко внизу шумело море, по стене неспешно прохаживался стражник-итальянец в начищенной до блеска каске, плаксиво горланили чайки, ссорясь из-за добычи. Покинув крепость, Мартин начал спускаться по вырубленным в скале ступеням к городку, который пока еще не был виден за выступом гористого мыса.
Генуэзцы превосходно устроились здесь: их массивные каменные палаццо, увенчанные зубцами и окруженные садами, виднелись на всех окрестных возвышенностях. Но сам Олимпос располагался в глубоком ущелье — там, где в море впадала небольшая светлая речка. Еще тысячу лет назад в этой небольшой греческой колонии чеканили собственную монету и возводили храмы в честь бога Гефеста. Но те времена давно минули, и теперь Олимпос стал глухой ромейской провинцией, где о былом великолепии напоминали только увитые плющом развалины храмов, попадавшиеся вперемежку с более новыми постройками, среди которых первенствовали церковь Святого Мефодия и дом местного экдика,[100] в котором Мартин разместил Джоанну и ее людей.
Направляясь сюда, посланец Ашера бен Соломона верно рассчитал, что их прибытие не останется незамеченным. Нравы в городке были патриархальными, и появление в городе рыцаря-госпитальера с красивой, живой и свободной в обращении спутницей, носившей яркие одежды, вызвало в Олимпосе переполох. Местные жители от мала до велика высыпали из домов, чтобы поглазеть на нежданных гостей: молодую женщину с осанкой императрицы, не прятавшую под покрывалом ни лицо, ни длинные черные косы, на ее спутника-рыцаря и их свиту.
Джоанну простодушное любопытство горожан только забавляло: уж слишком велика была разница между шумным, многонациональным и привыкшим ко всему Константинополем, торговой Никеей и этой суровой деревушкой, ибо назвать Олимпос городом не поворачивался язык. Здешний экдик, однако, оказал им гостеприимство и поселил в принадлежавшем ему богатом доме. Приветливость его питалась щедростью госпитальера — а деньги в этих краях редко кому случалось видеть, за исключением генуэзцев. Жители городка, в свою очередь, радовались тому, что повар Бритрик на местном рынке, расположенном среди руин древнего храма, скупает рыбу и устриц у рыбаков, сыр и молоко у крестьян, полотно у ткачих, и платит за все не скупясь.
— Неужели они никогда не видали знатных господ? — недоумевала Джоанна, прогуливаясь вдоль арочной галереи, с которой открывался вид на набережную и залив.
— Никого знатнее коменданта крепости. И хотя суда, идущие в Левант, иногда останавливаются в бухте, чтобы пополнить запасы пресной воды, на берег никто не сходит, и столь прекрасных дам здесь не бывало уже добрую сотню лет.
Сообщив это, Мартин демонстративно обнимал Джоанну, это видели местные жители, и хотя молодая женщина старалась мягко отстраниться, однако то, что знатная красавица проводит ночи в объятиях госпитальера, слуги экдика уже разнесли по всей округе.
Тревожило ли это англичанку? Мартин знал, что сейчас она всецело в его власти. Она словно до сих пор не могла опомниться после того, что произошло между ними в горах, и покорно подчинялась любой его прихоти, глядя на него влюбленными очами. Ему самому не стоило ни малейшего труда изображать пылкого рыцаря — Джоанна оказалась восхитительной любовницей. Оба постоянно пребывали в некоем облаке наслаждения, то и дело тянулись друг к другу, обменивались ласками, взглядами, поцелуями, а иной раз с вечера до следующего вечера не покидали покоев, до изнеможения предаваясь страсти. И всякий раз находили друг в друге нечто новое, неизведанное, волнующее, безумно сладостное…
И тем легче им было всецело предаться любви, что их спутники согласно поддерживали это внезапно вспыхнувшее чувство, довольные тем, что рядом с их леди наконец-то настоящий мужчина. Не последнюю роль в этом сыграло и то, что Мартин вел себя как истинный господин — заботящийся о своих людях, щедрый, начисто лишенный мелочности. С людьми из Незерби он чувствовал себя в кругу друзей, и даже не стал перечить, когда Эйрик, воспользовавшись тем, что капеллан крепости принадлежал к латинскому исповеданию, обвенчался со своей Саннивой.
Что ж, в итоге образовались две влюбленные пары, а пожалуй, что и три: воины Дрого с усмешкой поговаривали, что их капитан-сакс, всегда хмурый и сосредоточенный, в последнее время стал допоздна засиживаться с камеристкой Годит, а порой совершал с нею продолжительные прогулки вдоль берега моря, пока его подчиненные увлеченно ловили вместе с местными мальчишками форель в устье реки или сражались в кости или тафл[101] с прибывшими с Кипра беженцами.
Для Мартина все это было не более чем фоном его отношений с Джоанной. К его искреннему удивлению, она, давно будучи замужней женщиной, как будто ничего не знала о всевозможных причудах плотской любви. Мартину нравилось удивлять ее то одной, то другой любовной фантазией, и если они поначалу смущали молодую женщину, вскоре она находила их восхитительными и отдавалась новым забавам с такой страстью, что Мартин забывал обо всем на свете.
Впрочем, не обо всем. С момента их прибытия в Олимпос он продолжал делать все для того, чтобы его отношения с Джоанной получили огласку. Ради этого он затевал прогулки в город, бродил с Джоанной по набережной, сжимая ее руку в своей, а порой, укрывшись под утесом, на котором высилась крепость генуэзцев, они принимались целоваться, пока однажды молодая женщина не заметила следящего за ними сверху стражника.
— Не хочу, чтобы обо мне судачили эти итальянцы, — вырвавшись из его объятий, заявила она, и Мартину удалось догнать ее только на площади перед церковью Святого Мефодия.
«Поздно ты спохватилась, милая», — думал Мартин, беря под руку свою даму, чтобы увести ее подальше от толпы прихожан, выходивших после службы. Мужчины и женщины, сплошь одетые в черные бесформенные одежды, как было принято у греков, с любопытством глазели на даму, затянутую в ослепительно-желтое облегающее блио — вопиюще нескромное по местным меркам. Кое-кто поклонился иноземцам, но священнослужители смотрели сурово, и, как сегодня узнал Мартин, коменданту крепости была немедленно подана жалоба на неподобающее поведение гостей.
Обо всем этом размышлял Мартин по пути к дому экдика. День близился к концу, сумерки переходили в ночь, в вышине мерцали первые звезды. Он уже был у ограды сада, когда до него донесся негромкий звон струн и пение Джоанны. Голос молодой женщины был глубоким и бархатистым, и Мартина невольно охватило волнение.
…Полна я любви молодой, Радостна и молода я, И счастлив мой друг дорогой, Сердцу его дорога я — Я, никакая другая! Мне тоже не нужен другой, И мне этой страсти живой Хватит, покуда жива я.[102]Мартин замер. Джоанна пела, а он словно наяву видел ее пунцовые яркие губы — такие полные, нежные, сладкие… Видел ее нежную, сливочно-белую шею с ложбинкой между ключицами в тот миг, когда Джоанна откидывает в его объятиях голову, словно увлекаемая потоком черных, как ночное море, волос. И грудь — полную, как спелый плод, с розовыми сосками… И восхитительный изгиб ее талии и бедер…
Она была сложена так, что он совершенно терял голову, ему казалось, что никогда ему не доводилось обнимать ничего столь прекрасного. Но… но как же Руфь?!
Мысль о невесте отрезвила его. Руфь — это чистота, покой, наконец, дом, в котором она его ждет. Мирное пристанище после опасных скитаний. А Джоанна… Мало ли у мужчины может быть женщин, пока он не выберет ту единственную, с которой проведет всю жизнь, от которой захочет иметь детей!
«Джоанна — всего лишь сладостный миг, — решил он. — Ослепительно красивая, пылкая, мне с ней бесконечно хорошо. Но не сегодня завтра море успокоится и наши пути разойдутся навсегда».
Он миновал сад и поднялся на увитую виноградными лозами террасу, где собрался весь их маленький отряд.
Так уж сложилось в Олимпосе, что вечера они проводили вместе, как прежде в пути сходились для беседы у костра. Здесь некому было возразить против того, что рыцарь-госпитальер садился рядом с госпожой и брал ее руку в свою ладонь. Здесь закусывали, болтали, слушали пение леди Джоанны, сопровождаемое тихим перезвоном струн лютни, а порой и сами принимались петь старинные саксонские баллады. Мартину нравились эти длинные напевы. Речь в них шла о славном прошлом, о битвах и победах, о зеленых лугах и быстрых реках Англии, к которым воины ведут коней на водопой, а затем собираются у древних камней, близ которых, говорят, все еще витают духи прежних королей и языческих божеств.
Джоанна не отрываясь смотрела на своего рыцаря, и ее глаза сияли под густыми ресницами, как звезды.
— Ты посетил коменданта Чезаре?
Мартин кивнул. Он все еще был погружен в мысли о Руфи, поэтому голос его прозвучал суховато. Да, он говорил с комендантом, но Чезаре да Гузиано пока не может предоставить им судно. Придется ждать, не появится ли подходящий корабль, ибо та парусная лодка, на которой прибыли киприоты, измочалена бурей и нуждается в основательном ремонте.
— Вы ведь еще не покидаете нас, сэр? — спросил один из воинов, курносый и белобрысый Освальд. — С вами чувствуешь себя увереннее.
«Безусловно, — посмеялся про себя Мартин, — ибо я за вас повсюду плачу».
Хотя нельзя сказать, что эти парни так уж дорого ему обходятся. Он уже хорошо знал их всех. Освальда, неплохого рыбака, всегда приносившего свежую форель, вспыльчивого Томаса, который мгновенно тушевался, если леди негромко одергивала его, близнецов Катберта и Эдвина, очень набожных, что нисколько не мешало им распевать песни о старых богах Англии и поединках героев с чудовищами. Ну и, конечно же, повара Бритрика, который всегда встречал Мартина широкой улыбкой.
— Вы прибыли как раз вовремя, сэр, — заметил он, поливая соком лимона шипевшую на решетке над жаровней камбалу-тюрбо. — Надеюсь, вас не слишком обильно накормили у коменданта Чезаре?
Мартин не стал распространяться о том, что комендант едва сумел сдержаться, чтобы не выплеснуть вино из чаши прямо ему в лицо. Пусть думают, что генуэзец принимает его как дорогого гостя.
На террасе горели масляные светильники, свет их был ровным — море продолжало рокотать при почти полном безветрии. В кронах деревьев попискивали летучие мыши, Саннива накрывала на стол, с улыбкой отмахиваясь от мужа, норовившего погладить ее по бедру. Еще горячий хлеб, густая похлебка из мяса крабов и мидий, свежее масло и мед с соседней пасеки. А местное вино и вовсе выше всяких похвал: темное и густое, чуть терпкое и в меру сладкое.
Белобрысый Освальд объявил, что побывал в порту и видел, что лоханку с Кипра уже почти починили. И это значит… Он не договорил, потому что вспыльчивый Томас чувствительно пнул его в бок: что, парень, не терпится в Святую землю?
— Ты, наверно, забыл, что наш долг — доставить миледи к ее брату. В этом мы поклялись, покидая Незерби, — проворчал Освальд.
— Ты, должно быть, хочешь, чтобы все мы сгинули в морской пучине? — проворчала Годит. И тут же повернулась к рыцарю с приветливой улыбкой: — Не желаете ли, сэр, еще кусочек рыбы?
Рыжий Эйрик попивал вино и рассуждал, что хорошо бы остаться тут навсегда: разводить пчел, торговать медом. Он даже согласен ходить с молодой женой в церковь к этим схизматикам и выстаивать нескончаемо длинные ромейские службы. Рыжему было наплевать — вопросы веры его занимали меньше всего, зато Саннива от этих слов даже всплеснула руками, и Эйрику пришлось заверить ее, что насчет церкви он сболтнул, не подумав.
Поздно ночью, когда Мартин с Джоанной лежали, отдыхая после первой любовной схватки, молодая женщина приподнялась и спросила: как долго они смогут наслаждаться своим счастьем?
Мартин смотрел на нее, озаренную светом фитилька, плававшего в плошке с маслом: темная масса волос окутывала Джоанну почти всю, но его губы знали каждую ее родинку, каждый изгиб, все потаенные уголки. Восхитительное тело, восхитительный аромат — светлая кожа англичанки пахла сладкими сливками…
— Ты сама догадываешься, как поступит Обри, если прибудет в лагерь под Акрой и не найдет там свою жену.
Джоанна опустила голову на его плечо и вздохнула.
— Теперь я даже не представляю, как смогу жить с Обри. С ним я словно спала всю жизнь, а ты меня разбудил. Но если у нас с тобой нет будущего…
Он прижал палец к ее губам.
— Тише, любимая. Это запретная тема.
— Назови меня так еще раз…
Он повторил:
— Любимая…
А потом доказал, насколько она любимая, доведя ее сперва до стонов, потом до всхлипывания и, наконец, до счастливого крика.
Утром Джоанна с затаенным волнением сообщила, что вернувшийся с рынка Бритрик утверждает — за ночь море успокоилось. Во взгляде ее была тревога. Да, им следовало покинуть это благословенное место, и немедленно, но ни ему, ни ей этого не хотелось. Мартина ждало порученное ему дело, но он решил позволить себе немного предаться лени перед тем, как взяться за него по-настоящему. Ведь что такое лень? Всего лишь борьба с самим собой. Но с собой бороться трудно — легче договориться.
И вместо того, чтобы готовиться к отплытию, Мартин предложил Джоанне прогуляться по округе.
Это была далеко не первая их прогулка. Они немало бродили по окрестностям. Побывали в апельсиновых рощах на землях расположенного неподалеку монастыря, поднимались по склону и на гору Химера вблизи Олимпоса, где Мартин показал Джоанне языки неугасимого пламени, вырывавшиеся из расщелин.[103] Согласно преданию, некий древний герой одолел здесь страшное огнедышащее чудище и завалил его тушу камнями, но изрыгаемое побежденным монстром пламя по сей день прорывается на поверхность сквозь трещины в камне. Джоанну пугали эти россказни, а Мартин успокаивал ее, говоря, что раз у подножия горы поселились монахи, никакая языческая Химера не посмеет вырваться на свет Божий.
Порой влюбленные забредали на дальние склоны, алевшие от множества горных маков, которые приводили Джоанну в восторг. Она бегала по лужайкам, сплетала из хрупких цветов венки для себя и для Мартина. И как же она была забавна в своей радостной беспечности, как очаровательна в венке из алых маков на темноволосой головке! Оба они были счастливы и бездумны, как духи этих мест…
На этот раз они отправились вдоль морского побережья.
Море и в самом деле утихло; вблизи оно казалось бирюзовым, но чем дальше от берега, тем гуще и темнее становилась его синева. Мартин подбирал плоские гальки и показывал спутнице, как следует их бросать, чтобы они несколько раз подпрыгивали, касаясь воды. Порой от его броска камешек улетал так далеко, что Джоанна не могла сосчитать, сколько раз он подпрыгнул. Зато у нее самой выходило не слишком ловко — и все потому, что отчаянно мешали длинные рукава блио.
Проезжавший мимо на ослике длиннобородый монах так засмотрелся на них, что едва не свалился с седла.
Молодые люди расхохотались. Все веселило их, все вокруг казалось радостным. Тропа, шедшая вдоль моря, начала подниматься вверх, скалы здесь подступали к самой воде. Джоанне, пробиравшейся вслед за Мартином по осыпям, пришлось подобрать нижний край своего длинного блио.
Впереди, в расщелине скалы, нависая над обрывом, росла искривленная морскими ветрами сосна. Мартин вынул из-за пояса бич, ловким движением захлестнул его конец за ствол дерева и, просунув руку в петлю на кнутовище, под испуганный визг Джоанны пронесся над пропастью и вспрыгнул на каменный выступ, находившийся чуть ли не в двадцати футах от того места, где они стояли. Оттуда открывался пологий спуск к укромной бухте. Вернувшись тем же путем обратно, он предложил спутнице спуститься к морю. Но для этого нужно было вместе пролететь над скальной расщелиной.
— Не боишься? — спросил Мартин, крепко обнимая Джоанну.
— С тобой я ничего не боюсь! С тобой я летаю… Ах! — воскликнула она, когда в следующее мгновение они вместе пронеслись над пропастью и оказались на противоположном уступе.
Бухта, с обеих сторон замкнутая отрогами скал, уходящими в море, была совершенно пустынной, если не считать огромных морских черепах, которые при появлении людей стали сползать в воду. Джоанне они показались такими потешными!
Мартин бросил на гальку свою накидку, и они долго сидели, обнявшись, и беседовали. Джоанна сказала, что, покидая Англию, не могла даже предположить, что будет так счастлива, как сейчас. А ведь когда она поднялась на корабль в порту Хариджа, то едва не разрыдалась. Проводить ее собралась вся семья — родители, братья с женами, сестра-аббатиса. Но слезы застили ей глаза, и она отворачивалась, чтобы скрыть их.
— Ты скучаешь без близких? — спросил Мартин.
— Каждый человек грустит о тех, кого оставил дома, — со вздохом произнесла она. — И ты тоже. Я знаю это, хоть ты и не любишь говорить о своем прошлом. Порой мне кажется, что ты что-то скрываешь, — заметила она после секундного раздумья. — А когда я спрашиваю, ты или отмалчиваешься, или…
Мартин не дал ей закончить, замкнув уста Джоанны поцелуями, а затем нежно, но настойчиво уложил ее на накидку.
Зашелестела торопливо сбрасываемая одежда, шепот смешивался с легкими стонами. Тела любовников сплелись, на берег укромной бухты с легким плеском набегали волны, а сверху падала тень изогнутой сосны…
Потом Мартин увлек ее в море. Джоанна прежде и представить не могла, что можно плескаться вот так — нагишом, словно во дни сотворения мира, когда на земле были только Адам и Ева… Когда же ее рыцарь отплыл слишком далеко, это испугало молодую женщину, и она принялась звать его вернуться.
Однако Мартин, удалившись от берега, внезапно увидел то, что должно было положить конец их райской жизни.
Большая галера, раскинув паруса и мощно работая двумя рядами весел, показалась из-за дальнего мыса и теперь разворачивалась, направляясь к берегу. На буксире за галерой следовал потрепанный бурей большой корабль. Даже издали было видно, что одна из мачт корабля сломана, а корпус сидит слишком низко — значит, в трюмах полно воды.
— Мартин, возвращайся же! — звала с берега Джоанна, натягивая одежду прямо на мокрое тело. — Ты сумасшедший! Плыви к берегу!
Он еще какое-то время помешкал, покачиваясь на волнах и следя за тем, как в четверти мили от гавани Олимпоса команда галеры начала убирать паруса. Набрав полную грудь воздуха, Мартин ушел под воду — холодная и темная пучина приняла его, а затем отпустила. Он вынырнул, перевел дух и вдруг понял: вот и все. Их с Джоанной время закончилось.
Он не обмолвился ни словом о галере, пока она растирала его мокрое тело и подавала тунику.
— Эти твои шрамы, — Джоанна осторожно коснулась страшных рубцов, стягивавших кожу на его груди, — откуда они?
Мартин не ответил, но про себя усмехнулся: «Милости твоего братца», — и вдруг явственно припомнил, как палачи жгли его каленым железом по приказу Уильяма де Шампера. Он молча помог своей леди подняться по склону к тропе. Джоанна все еще не замечала перемены в нем, была по-прежнему беспечна и даже не слишком огорчилась, зацепившись за корневище и уже в который раз порвав нижний край своего блио.
Она со смехом заметила, что Годит ей этого не простит, — и вдруг растерянно умолкла. С вершины скалы открылся вид на гавань и стоящие в ней суда…
Все то время, пока они возвращались в городок, молодая женщина хранила молчание. Мартин заметил, что, судя по знаку креста на парусах, оба корабля принадлежат крестоносцам, и это самая благоприятная возможность для Джоанны попасть прямиком к брату-маршалу, но в ответ она не проронила ни слова. И тогда он поймал себя на том, что больше всего хотел бы услышать в эту минуту: она не хочет покидать Олимпос и своего рыцаря.
Джоанна казалась озабоченной собой и своей внешностью: как ни старалась она привести себя в порядок, ее облик был весьма далек оттого, как следовало бы выглядеть набожной паломнице. Влажные полосы на спине от мокрых кос, кудри на висках растрепаны, порванное по шву платье открывает ногу едва не до колена.
В гавани уже толпилось множество людей. Еще издали было видно, что среди них немало рыцарей в длинных кольчугах и знаками крестоносцев на туниках, их окружали оруженосцы, рядовые пехотинцы, свита. Похоже, этим людям немало довелось испытать в море — иные, едва сойдя с корабля, опускались на землю, кое-кто начинал молиться, не обращая внимания на местных жителей. А те, воспользовавшись редким случаем, тут же развернули торговлю, предлагая чужеземцам рыбу, вино и мед. В сутолоке на причале никто не обратил внимания на подоспевшую пару, а Джоанна, прислушавшись к речи вновь прибывших, неожиданно всплеснула руками:
— Силы небесные! Да ведь это англичане!
Она едва сдержалась, чтобы не броситься к соотечественникам, но вовремя вспомнила о своем высоком положении — и тотчас превратилась в знатную даму: стан ее выпрямился, лицо замкнулось, а речь, когда она заговорила с рыцарями, была полна достоинства и любезности. Англичане тотчас окружили ее, рассказывая, в какой невиданный шторм угодил их корабль, как рухнула мачта, и как ураган помчал беспомощное судно без руля и изодранных в клочья парусов в неизвестном направлении. Но небо смилостивилось, их отыскала посланная королем Ричардом галера, которую вел милорд Роберт де Бомон, граф Лестер.
Услыхав это имя, Джоанна обрадовалась. А вскоре обнаружила в толпе высокого молодого рыцаря в горчично-желтой котте поверх доспеха из эмалевых пластин, беседующего с комендантом Чезаре. На груди котты был вышит гербовый щит, покрытый красными и желтыми квадратами, — герб дома де Бомонов.
— Дорогой племянник! — звонко окликнула Джоанна, пробираясь к нему через толпу. — Мой славный Роберт!
«Что еще за племянник?» — с недоумением подумал Мартин.
Рыцарь же, повернувшийся в ответ на зов, мгновенно просиял.
— Святые архангелы! Тетушка Джоанна! Моя обожаемая красавица тетушка!
Они, смеясь, взялись за руки, а затем рыцарь подхватил ее и закружил на весу.
Вокруг послышались одобрительные смешки, англичане обступили обоих, заслонив от Мартина. Но так или иначе он видел — Джоанна радуется этому… племяннику, или кем он там ей приходится. Граф был на голову выше своей милой тетушки, выглядел года на три старше, а одет как лондонский щеголь, хоть его темно-русые волосы и торчали вихрами во все стороны, а высокие сапоги сплошь покрывали белесые разводы соли.
Когда миновал первый порыв радости, Джоанна взяла себя в руки и опустилась перед родичем в подобающем ее положению почтительном реверансе.
— Милорд граф Лестер!
Мартин между тем припомнил, что Роберт де Бомон — один из ближайших сподвижников короля Ричарда. Если он не ошибается, Джоанна как-то говорила, что ее сестра была второй женой графа Лестерского, и этот молодой человек, следовательно, — сын графа от первого брака. Разумеется, они могут называть друг друга тетушкой и племянником.
— Мадам Джоанна де Ринель, леди Незерби! — отвесил учтивый ответный поклон молодой граф.
Они переглянулись и снова рассмеялись. Стоявший в стороне Мартин ощутил, как что-то кольнуло его в самое сердце.
Затем граф сообщил Джоанне, что король, надеясь разыскать разбросанные бурей суда их флота, поручил ему обследовать обширное водное пространство у южного побережья Малой Азии. Там он и обнаружил этих бедолаг и отбуксировал их сюда. Но задерживаться здесь он не намерен: как только удастся договориться о необходимой помощи с генуэзцами, он тут же отправится обратно на Кипр, где ныне пребывает его сюзерен. И Джоанна де Ринель должна непременно плыть вместе с ним, если не желает пропустить выдающееся событие: венчание короля Ричарда с Беренгарией Наваррской, которое именно там и должно состояться!
Услышав эти новости, молодая женщина даже захлопала в ладоши. Она сейчас же велит своим людям приступить к сборам! О, если бы Роберт знал, что ей довелось пережить в пути!
— Я догадываюсь, тетушка, — улыбнулся Роберт, и Мартина охватило бешенство от того, как ласково и игриво он произнес это слово. Да и во взгляде графа светилась далеко не родственная нежность.
— Сколько людей в вашей свите, миледи? — донесся до Мартина его вопрос. — И где ваш супруг, осмелюсь спросить?
При этом граф огляделся и заметил стоявшего неподалеку Мартина. Тот молча поклонился, но Роберт не спешил отвечать на приветствие.
Джоанна тоже искоса взглянула на мнимого госпитальера, словно ожидая подсказки.
«Ну уж нет, милая, — подумал Мартин. — Теперь тебе самой придется объяснять, как вышло, что ты осталась без защиты супруга».
Он видел, как молодая женщина, едва заговорив, залилась румянцем, и по мере того, как продолжался ее рассказ, она все ниже склоняла голову, словно не в силах видеть крайнее удивление, написанное на лице графа. Обри де Ринель, сообщила она, напрочь не переносит путешествий по морю. Поэтому, воспользовавшись оказией, лорд отправился сушей через Киликию, она же решилась плыть в Святую землю на корабле. Однако буря, разразившаяся на море, помешала ее планам, и ей пришлось задержаться…
— Как же это Обри отпустил вас? — недоумевал граф. — Здоров ли он и все ли с ним благополучно?
Джоанна подтвердила, что ее супруг жив и в добром здравии, больше того — лично настоял на том, чтобы она воспользовалась морским путем. Тем более что ее, помимо воинов-стражников и прислуги, взялся сопровождать рыцарь-госпитальер Мартин д'Анэ. При этом она указала на Мартина, и на сей раз граф Роберт пригляделся к нему гораздо внимательнее. Улыбка окончательно сошла с его лица: похоже, вид неожиданно обретенной в этой глуши родственницы и столь же неподобающий рыцарю ордена Святого Иоанна облик ее спутника вызвали у графа некоторые подозрения.
— Мы поговорим об этом позже, миледи, — холодно произнес он. — Пока же вы можете спокойно заняться сборами. Едва ли мы выйдем в море сегодня, но завтра с отливом я непременно хотел бы видеть вас на своем корабле. Где вы остановились, чтобы я мог прислать за вами?
Когда Джоанна в сопровождении Мартина покидала причал, рыцарь заметил поодаль пристально следившего за ними капеллана крепости. На устах отца Паоло змеилась коварная улыбка. Кто-кто, а уж этот святоша не преминет поведать знатному родственнику прелестной паломницы, какие отношения связывают ее с Мартином д'Анэ. Что ж, ведь это именно тот результат, на который рассчитывал Мартин…
Спутники Джоанны уже знали, чьи суда прибыли в порт, и не сомневались, что племянник госпожи возьмет их на борт. Они спешно паковали вещи, воины приводили в порядок снаряжение, а Годит была просто вне себя при виде опять пострадавшего блио своей госпожи.
Камеристка сердито поглядывала и на Мартина, да и прочие спутники леди Джоанны, как он мгновенно почувствовал, вели себя далеко не так приветливо, как обычно. Только Саннива, покидая покой, где все это время она жила с Эйриком, мягко проговорила, обращаясь к рыцарю:
— Вы не должны сердиться на наших людей, сэр. Все они желали хозяйке немного счастья, но теперь, когда сюда прибыл граф Лестер, очень тревожатся, как бы ваша связь не повредила доброму имени миледи…
Мартин ничего не ответил, но когда Саннива вышла, обратился к понуро сидевшему на смятой постели Эйрику:
— Ну что, похоже, и нам пора собираться, старина?
— Кто спорит? И что теперь? Не подать ли тебе балахон лазарита?
В его голосе звучал сарказм — рыжий был расстроен не меньше, чем Мартин.
Ближе к вечеру Мартин в полном облачении госпитальера, вымытый и расчесанный, спустился на увитую зеленью террасу, где за столом уже расположился молодой де Бомон.
Ради столь знатного гостя Бритрик постарался на славу: было подано блюдо с аппетитными кусками жареного кролика, за ним последовали восхитительный барашек в меду с толченой мятой и мелкими зелеными фигами, палочки сладкого печеного теста и множество всевозможных пирожков, осыпанных измельченными орехами.
Мартин сидел в дальнем конце стола, изредка поглядывая на Джоанну, внимавшую рассказу племянника о событиях на Кипре.
— Вы и вообразить не можете, миледи, как все мы были встревожены, когда корабль принцессы Беренгарии и Иоанны Плантагенет не прибыл в назначенный срок к месту сбора флота на острове Крит. — Граф отодвинул от себя блюдо с медовыми пирожками, ибо уже не мог съесть ни одного. — Не явился их юиссье и на Родос, куда затем перебрался флот Ричарда. Мы подозревали худшее и постоянно молились, чтобы этих высокородных дам миновала горькая участь — быть поглощенными пучиной. Наконец на Родос прибыл благородный тамплиер Робер де Сабле с известием, что встретил в открытом море торговое судно, капитан которого сообщил ему, что корабль с нашими дамами видели у берегов Кипра. И король повелел нам немедленно отправляться туда.
Сущее чудо, что мы подоспели так своевременно: еще несколько часов, и лодки с воинами Исаака Комнина, окружившие юиссье с дамами сплошным кольцом, взяли бы их судно на абордаж. Разумеется, при виде судов под флагом Ричарда Львиное Сердце они немедленно отступили, а Иоанна Сицилийская впоследствии утверждала, что только благодаря молитвам принцессы Беренгарии корабли Ричарда прибыли вовремя. Однако Ричард не из тех, кто готов прощать обиды, нанесенные его невесте и сестре. И едва благородные дамы оказались на палубе флагманского судна, а искалеченный и полузатонувший юиссье опустел, король повелел атаковать негодяев. Теперь это было делом его чести! — горделиво заключил Роберт.
Мартин постарался скрыть усмешку. Трудно представить воинственного государя, который отказался бы заполучить такой лакомый кусочек, как остров Кипр, — полный лесов, плодородных полей и виноградников, рудников и удобных бухт на побережье.
— Итак, — продолжал Роберт де Бомон, — Ричард отдал приказ «К оружию!», и его корабли обрушились на галеры Исаака, которые тот имел неосторожность противопоставить флоту короля Англии. Но капитаны на этих судах были не так глупы, как их предводитель, и начали один за другим сдаваться — за исключением тех, что успели ускользнуть в открытое море. Исаак же поджидал на берегу во главе своего войска, восседая на великолепном белом жеребце местной породы. Самозваного кипрского императора окружали его приближенные. Едва Ричард и его рыцари погрузились в лодки и на веслах пошли к берегу, Исаак велел лучникам стрелять, но сильный ветер относил стрелы от цели, зато сопровождавшие Ричарда арбалетчики били тяжелыми литыми болтами без промаха. Это позволило воинам нашего Льва высадиться на берег без особых потерь.
— Все это время я был рядом с моим королем, — серо-зеленые глаза графа Роберта сияли от воспоминаний об этих событиях. — Я шел след в след за Ричардом, и когда мы наткнулись на баррикады, возведенные этим олухом Исааком, и укрылись за ними — ох и смеялись же мы! Вместо того чтобы защитить этого надутого спесью Комнина, они послужили надежным укрытием для нас! Оставалось только возблагодарить святого Георгия за то, что все складывается столь удачно.
— А почему вы взывали к святому Георгию, а не к архистратигу Михаилу, как встарь, или к саксонскому святому Эдмунду? — поинтересовалась Джоанна.
Роберт Лестерский весело улыбнулся.
— Вы, должно быть, еще не знаете, миледи, но Ричард Львиное Сердце избрал этого воина-святого нашим небесным покровителем, и боевой клич: «Святой Георгий за старую добрую Англию!» подхватили все крестоносцы из наших краев.
— Но почему же не святого Эдмунда? — удивилась Джоанна. — Ведь его могила в Бери-Сент-Эдмундс на востоке Англии…
— По-прежнему почитаема! — подхватил Роберт. — Однако Ричард поклялся вернуть церкви мощи святого Георгия, захваченные неверными в Леванте, и все мы надеемся, что святой не лишит нас своей милости. Как не лишил и тогда, когда мы под прикрытием арбалетчиков выскочили из-за этих заграждений в порту Лимассола и ринулись на конников Исаака. Представляете, миледи? Мы шли пешими, но они пустились наутек, едва мы напоили свои мечи их кровью, рубя всадников и коней и добивая павших.
Джоанна поморщилась, но продолжала слушать, не перебивая.
— Исаак со своей армией расположился в предгорьях неподалеку от Лимассола, готовясь на следующий день продолжить сражение. Но рыцари-крестоносцы всю ночь перевозили на берег своих боевых коней. А поскольку во время морского перехода жеребцы висели в трюмах на специальных лямках, их до рассвета выгуливали по берегу, чтобы они набрались сил. Тем временем были высланы лазутчики, чтобы уточнить местонахождение противника. И едва рассвело, Ричард во главе нескольких десятков тяжеловооруженных конных рыцарей уже был готов ударить на врага. Внезапно к нему обратился один из его клириков — он под покровом темноты разведывал диспозицию Комнина, и стал умолять государя отказаться от этой затеи, ибо силы императора неисчислимы. «Любезный, — возразил на это Ричард, — во имя Господа и Пресвятой Девы, читайте Писание, а рыцарские дела предоставьте нам, грешным».
Далее граф поведал, как Ричард в первых рядах ринулся на самозванца, увлекая за собой своих воинов, и Комнин, обескураженный таким яростным натиском, вынужден был отступить. Рыцари захватили его огромный шатер, груды сокровищ и табун великолепных коней, среди которых оказался и белый скакун самого Исаака.
«На чем же тогда бежал самозваный император?» — подумал Мартин, пока Роберт живописал великолепие этого удивительного коня. Как и все воины после боя, граф не чуждался преувеличений.
Ричард во многом напоминал Мартину тех бесшабашных воинов, которых принято воспевать в балладах, но если судить по числу громких побед, одержанных им, английский Лев был еще и опытным стратегом: удача не всегда поворачивается светлым ликом к самым рьяным — в бою нужен еще и холодный разум.
Ему не терпелось задать графу целый ряд вопросов, но тот поглядывал на госпитальера так холодно, что не оставалось никаких сомнений: Лестеру уже известно, в каких отношениях рыцарь д'Анэ с его милой тетушкой. Поэтому он умерил свое любопытство и продолжал слушать.
Далее Роберт поведал, что после того, как Ричард вступил в Лимассол и к нему стали со всех сторон стекаться кипрские землевладельцы, спеша принести присягу, король повелел ему обследовать море вдоль побережья в поисках разбросанных штормом кораблей крестоносцев.
— Так или иначе, — закончил свой рассказ граф, — Ричард Львиное Сердце намерен воспользоваться передышкой для того, чтобы обвенчаться на Кипре с принцессой Наваррской. И завтра же я поспешу к своему государю, а вы отправитесь со мной, любезная Джоанна, как мы с вами и условились.
— Я готова, — слегка наклонила голову молодая дама, бросив короткий взгляд на Мартина. — Ведь вы не откажетесь сопровождать меня и в дальнейшем, мессир д'Анэ? А ты, Роберт, — готов ли ты взять с собой моего доблестного спутника-госпитальера?
На террасе повисла тишина, нарушаемая только стрекотом сверчков да потрескиванием пламени светильников. Лицо Роберта де Бомона омрачилось.
Мартин поднялся.
— Боюсь, что это вряд ли возможно, мадам. Я выполнил свой долг, охраняя вас в пути, но теперь мой путь лежит к берегам Палестины. К тому же на галере у его светлости графа Лестерского не так уж много места, учитывая то, что ему придется взять на борт крестоносцев с потерпевшего судна.
— Моему кузену королю Англии на Кипре нужны такие воины, как вы, — продолжала настаивать Джоанна. — Роберт, этот человек спас мне жизнь, и ты не должен ему отказывать. В противном случае я — как бы ни хотелось мне присутствовать на свадьбе короля Ричарда и повидать мою дорогую Иоанну, — буду вынуждена отказаться от плавания на Кипр и отправлюсь с сэром Мартином д'Анэ к берегам Леванта!
Мартин слегка побледнел, но сердце в его груди забилось болезненно и сладко. Роберт же, наоборот, — гневно вспыхнул.
— Могу ли я сказать вам несколько слов наедине, миледи? — произнес граф, поднимаясь со своего места.
Он подал руку даме, и оба удалились в сад, ступая по известняковым плитам, которыми была выложена дорожка между кипарисами.
Мартин стремительно переглянулся с Эйриком. Тот почти беззвучно прошептал: «Англичанка не так уж и неправа, желая взять нас с собой», — но что именно он имел в виду, Мартин не понял. Он добился от сестры маршала тамплиеров всего, что ему требовалось, и теперь… Но если он примкнет к отрядам Ричарда, разве не будет ему гораздо проще оказаться под стенами Акры?
Беседа племянника с его молодой тетушкой затягивалась, когда же граф наконец удалился, Джоанна чуть ли не вприпрыжку вернулась на террасу.
— Роберт уступил, как уступает всегда, если я настаиваю! Он истинный рыцарь, но тебе вовсе не стоило бросать на него ревнивые взгляды. — Она негромко рассмеялась. — Вместе с тем он потребовал, чтобы я нынче же перебралась в крепость. Похоже, это он ревнует меня к тебе…
Она улыбнулась, но улыбка вышла несколько смущенной. Беседа с Робертом дала ей ясно понять, в каком гневе тот пребывает, ибо комендант и капеллан уже успели поделиться с графом местными слухами и сплетнями. Поэтому она лишь мимоходом коснулась ладонью щеки Мартина и приказала своим людям немедленно собираться.
Мартин, поразмыслив, решил, что отделался куда легче, чем можно было ожидать. Каким-то образом Джоанна умудрилась убедить племянника не впадать в крайности. Но когда на следующее утро мнимый госпитальер поднялся на борт галеры, де Бомон даже не взглянул в его сторону, сам же ни на шаг не отходил от Джоанны, потчуя ее какими-то россказнями или предлагая полюбоваться живописными видами.
Мартин про себя усмехнулся: сколько бы ни усердствовал граф, добиваясь внимания молодой женщины, такой, какой Джоанна была с ним, Мартином, с Робертом она не будет никогда. И он отвернулся от Лестера с его «милой тетушкой», смотрел вдаль, и ветер трепал его выгоревшие на южном солнце волосы.
Мартину нравилось море и все, что с ним было связано. Он любовался его густой лазурью, пенящимися волнами, рядами весел, широким чистым горизонтом. Он никогда не страдал от качки, и всякий раз, оказавшись между двумя великими стихиями — небом и водой, — испытывал ощущение некой мечтательной свободы. Даже неотесанные матросы и гребцы, распевавшие свои непритязательные песни, казались ему славными малыми. О будущем он подумает позже, а пока… пока можно расслабиться… Настоящее дело еще впереди, а сейчас его сердце было полно тихой нежности.
А вот Эйрик выглядел угрюмым и раздражительным.
— Тебе всегда все легко дается: влюбился, добился своего, а потом отступился, — жаловался он. — А меня Саннива просто утопила в слезах, упрашивая, чтобы я поскорее оставил орден и подался на службу в свиту миледи. И как теперь от этой малышки отделаться?
«О чем ты думал раньше, рыжий, когда вел свою козочку к венцу?» — усмехнулся Мартин, но все-таки промолчал.
У него самого нет никаких обязательств перед Джоанной де Ринель. Вскоре она соединится со своим супругом, а он исполнит то, что ему поручено. После этого все женщины, кроме его драгоценной Руфи, перестанут для него существовать.
Пока галера шла вдоль побережья, Мартин разглядывал скалистые островки и наблюдал за изредка появлявшимися рыбачьими лодками и неповоротливыми купеческими судами. И хотя море здесь, по слухам, кишело пиратами, не было никаких признаков, что им угрожает опасность.
Но спустя несколько часов, когда берег исчез в голубой дымке и вокруг не осталось ничего, кроме безбрежной морской глади, дозорный матрос заметил вдали два судна без флагов на мачтах. Корабли изменили курс и свернули к галере крестоносцев, но им приходилось идти слишком круто к ветру, к тому же гребцы на галере налегли на весла, и преследователи вскоре отстали.
Ближе к вечеру появился еще один неизвестный корабль — он шел наперерез галере. Но граф Роберт поставил на носу судна стрелков с мощными английскими луками и, едва пираты приблизились ярдов на двести, велел стрелять. Одного залпа лучников оказалось достаточно, чтобы морские разбойники поспешно отвернули в сторону и удалились в поисках более легкой добычи.
Когда солнце уже клонилось к закату, пассажирам галеры подали ужин: жареного козленка с луком и специями, румяного, нежного и необыкновенно сочного. А затем спустилась ночь — тихая, какой давно уже не бывало. Море колыхалось, как темный шелк, дул легкий попутный ветер, и гребцы отдыхали на веслах — многие из них даже уснули. На небе перемигивались звезды, вскоре показался тонкий серпик луны, плескалась вода за кормой, а от входа в кормовую надстройку доносились приглушенные голоса. Мартин тоже задремал, завернувшись в плащ, но вскоре его разбудил Эйрик, сердито пожаловавшись, что Саннива прокралась-таки к нему и снова взялась донимать своими мольбами.
— Спи! — велел Мартин, поворачиваясь на другой бок.
В полудреме он размышлял о том, что у Джоанны — совсем иной характер. Она прекрасно владеет собой, и сегодня до него не раз доносился ее звонкий смех: племянник всячески развлекал тетушку. Но граф Роберт уже отправился на покой. Хотелось бы Мартину, чтобы Джоанна оказалась рядом с ним? Пожалуй, но зачем? Слишком рискованно…
Кипр показался на горизонте, когда уже рассвело. Галера долго шла вдоль холмистых, затянутых голубой дымкой берегов прекрасного острова, навстречу время от времени попадались другие суда. Их шкиперы, завидев красный крест на главном парусе галеры, сближались с ними и обменивались новостями с людьми на палубе. Все они утверждали одно и то же: Кипр под властью Ричарда Львиное Сердце, а самозваный император готовится принести английскому королю оммаж.[104]
К Лимассолу галера подходила уже ближе к вечеру. Море сверкало мириадами искр, на берегу в лучах низкого солнца золотились холмы и утесы, покрытые лесами и виноградниками, а в порту Лимассола, подобно еще одному лесу, виднелись бесчисленные мачты со спущенными парусами.
Вечерний прилив плавно нес их в гавань. Шкипер отдавал отрывистые распоряжения, матросы убирали тяжелые паруса. Наконец гребцы разом навалились на весла, палуба слегка накренилась — и галера развернулась правым бортом к причалу.
Именно в это мгновение среди тех, кто встречал судно на берегу, Мартин заметил маршала тамплиеров Уильяма де Шампера — и словно кто-то вонзил ему отточенный нож в подреберье, повернув клинок в ране. Вот он — тот человек, что раскусил его с первого взгляда, кто не верил ни одному его слову, кто приказал подвергнуть его пытке!
Этой встречи Мартин не ожидал. Маршала невозможно было не узнать — он мгновенно выделил его среди прочих тамплиеров по осанке, манере надменно запрокидывать голову и характерному жесту — обе руки сложены на навершии меча, висящего на поясе.
В первое мгновение мнимый госпитальер оцепенел. А затем его мысли понеслись вскачь. Что предпринять? Облачиться в шлем с полностью закрывающей лицо стальной личиной? Но тамплиер может потребовать, чтобы он представился, а для этого придется открыть лицо. И нет никаких сомнений, что де Шампер узнает его в том обличье, какое он носил сейчас. Может, прямо сейчас надеть облачение лазарита? От прокаженных все без исключений стараются держаться подальше. Но как быть с Джоанной и графом Лестером, видевшим его совсем иным?
Остается одно: затаиться на корабле, пока маршал, встретив любезную сестрицу, прибытие которой будет для него большой неожиданностью, покинет причал. А что, если Джоанна пожелает представить де Шамперу своего спасителя? Или граф Роберт заведет разговор о нем?
Корабль медленно продвигался к причалу, и Мартину казалось, что он уже различает замкнутое выражение лица храмовника, его холеную бородку и твердый взгляд холодных серых глаз. Почему он не сводит их с корабля? Кого ждет? Ведь он не может знать, что именно на этой галере находится его сестра!.. Но вот уже граф Лестер, поднявшись на увешанную щитами носовую надстройку, кричит и машет маршалу, сообщая о том, что для мессира Уильяма де Шампера у него на борту есть удивительный сюрприз…
Подле Мартина возник Эйрик. Внешне он казался спокойным, с хрустом жевал яблоко.
— Слушай, малыш, а ведь там, на берегу, — де Шампер, разрази его демон! Ну и повезло же нам!.. Значит, так: ты теперь ступай на корму, и когда галера завершит разворот, спускайся в воду и плыви в сторону пришвартованных по соседству судов. Их тут чертова пропасть, и ты сможешь легко укрыться за ними. В кольчуге, я знаю, ты плаваешь, как рыба, а всем остальным сейчас не до тебя. Если наша красотка поинтересуется, куда ты пропал, я ей что-нибудь наплету, будь уверен. Я и саврасого твоего сведу на берег и пристрою в надежном месте. А попозже, когда стемнеет, буду ждать тебя у этого причала… Эй — давай-ка сюда шлем! Где это видано, чтобы рыцари плавали в шлемах? А так — ну перебрал человек малость, решил освежиться. Со всяким может приключиться, хоть с госпитальером, хоть со священником, — все мы люди… А теперь — вперед!
ГЛАВА 13
Невесомая ладонь принцессы Беренгарии, лежавшая на мускулистой руке Уильяма де Шампера, едва заметно дрожала.
Маршал искоса взглянул на невесту короля Ричарда: тонкий профиль, обрамленный кружевной вуалью, ажурная корона, осыпанная рубинами и крупным млечно-серебристым жемчугом, длинные каштановые косы увиты жемчужными нитями. Принцесса стояла выпрямившись, высоко вскинув голову в венце, и выглядела вовсе не такой крошкой, какой поначалу показалась тамплиеру. Держалась она с достоинством, и все же дрожь ее пальцев выдавала глубокое волнение.
Когда король Ричард объявил, что именно ему, маршалу ордена Храма, предстоит вести его невесту к алтарю, Уильям опешил. Нет, он не стал ссылаться на устав ордена — по воле короля могут быть допущены и некоторые отступления, а только спросил:
— Но почему же я, ваше величество? Кто я для принцессы Наваррской?
— Вы родственник Плантагенетов и человек безупречной чести. Кому же еще быть названным отцом моей невесты? К тому же Беренгария Наваррская наслышана о вас от моей августейшей матушки и также одобрила мой выбор.
От этих слов у маршала даже слегка закружилась голова. Как важно, когда тебя оценивают по заслугам, и не кто-нибудь, а Ричард Английский и сама Элеонора Аквитанская!..
Уильям смутно помнил королеву-мать — в детстве ему с родителями доводилось бывать при дворе, так как он считался наследником титулов и имений де Шамперов. С тех пор прошло немало лет, но ведь не зря говорят, что королева Элеонора обладает дивным даром — первой узнавать обо всем на свете. Да, о нем, Уильяме де Шампере, маршале ордена Храма, и впрямь идет добрая молва, его не зря прозвали «Честь ордена». Тогда как прежний магистр тамплиеров Жерар де Ридфор натворил столько бед и совершил столько ошибок, что слава храмовников заметно пошатнулась. И одно то, что Беренгарию передаст венценосному жениху у алтаря не кто иной, как член орденского братства, недвусмысленно покажет всем, что король Англии намерен поддержать ослабевший после поражений орден. А избранный им для этой цели маршал однажды сможет встать во главе ордена!..
Облачиться в плащ Великого магистра ордена рыцарей Христа и Храма Соломона и одним мановением руки бросить своих тамплиеров в бой, пядь за пядью освобождая от неверных земли растерзанного Иерусалимского королевства, — в этом и заключалась самая потаенная мечта Уильяма де Шампера, посвятившего жизнь служению рыцарскому братству!
«Не мне, Господи, не мне, но имени Твоему ниспошли великую славу!» — повторял он про себя девиз тамплиеров, словно желая убедить самого Всевышнего, что его стремление возвыситься свободно от какой-либо корысти.
Он страстно мечтал об этом, и благосклонность Ричарда питала его надежды. Ведь несмотря на то, что вместе с королем прибыло множество именитых братьев из Орденских домов Европы и де Шампер с прибывшим вместе с ним на Кипр королем Гвидо могли просто затеряться в толпе блестящих вельмож и рыцарей, взгляд английского Льва обратился именно на него.
Оставив эти мысли, он вновь взглянул на принцессу. Беренгария была бледна, ее расширенные немигающие глаза были устремлены на сводчатый проход, ведущий к капелле Святого Георгия, откуда уже доносилась торжественная музыка. Пора!
Де Шампер попытался ободрить принцессу:
— Да пребудет с вами милость Божья, мадам! Сегодня вы станете супругой самого прославленного рыцаря христианского мира!
Беренгария подняла на него кроткие карие глаза.
— Я счастлива, мессир маршал. Отныне — и пока смерть не разлучит нас, я буду верно служить ему!
Какое смирение! Не то что его сестра Джоанна, которая бросилась маршалу на шею прямо в порту Лимассола, на виду у всех собравшихся, и звонко расцеловала его в обе щеки. Уильяму пришлось резко отстранить ее от себя, заметив, что такое обращение с рыцарем Храма недопустимо. В ответ Джоанна надулась и заявила, что он бука и не такой встречи она ожидала от старшего брата.
Уильям возмутился, но не подал виду. Разве мало он сделал для сестры? Орден оплатил ее дорожные расходы, до самой Дорилеи ее сопровождали рыцари-тамплиеры, где Джоанне и ее супругу неожиданно взбрело в голову продолжить путь самостоятельно, без надежной защиты! И в результате Джоанна прибыла на Кипр одна, в нарушение всяческих приличий, что, несомненно, наносит урон ее чести.
Впрочем, эти соображения он оставил при себе. Все обошлось благополучно — и довольно. Молодой граф Лестер взялся похлопотать за Джоанну, и, как уже донесли маршалу, отныне Джоанна де Шампер причислена к свите вдовствующей королевы Сицилийской и окружена подобающими ее происхождению и достоинству вниманием и заботой. Пожалуй, можно было вздохнуть с облегчением.
В следующее мгновение маршал с Беренгарией вступили в капеллу Лимассольского замка. Там пылали сотни свечей, вдоль всего прохода стояли нарядные вельможи, приглашенные на бракосочетание государя, а бесчисленные фигуры святых и праведников, которыми, по ромейскому обычаю, были расписаны стены церкви, словно удваивали их число.
Ричард с улыбкой поджидал невесту у алтаря.
«Беренгария должна быть счастлива, что у нее такой жених», — мельком подумал маршал, с удовольствием взирая на рослого плечистого короля в длинном алом одеянии с вышитым на груди гербом Плантагенетов — тремя важно шествующими золотыми львами.
— Кто отдает эту женщину под покровительство будущего мужа? — задал традиционный вопрос Хьюберт Уолтер, епископ Солсбери.
— Я, маршал ордена Храма в Святой земле Уильям де Шампер!
Все, на этом его роль завершена. Теперь он мог отойти туда, где стояли прочие тамплиеры, прибывшие с Ричардом из Европы. Многих из них Уильям еще не знал, но был поражен количеством достойных и представительных рыцарей, присланных орденом из графств и провинций во владениях королей Англии и Франции. Среди них он тотчас узнал анжуйца Робера де Сабле, командовавшего флотом крестоносцев, треть которого составляли суда, построенные на средства ордена. Де Сабле благодушно улыбнулся в длинную бороду и слегка потеснился, освобождая де Шамперу место рядом с собой. Этот человек нравился Уильяму, он был признателен де Сабле за то, что пламенный призыв, с которым флотоводец обратился к собратьям, помог собрать в войско Ричарда такое множество тамплиеров.
Ангельский напев сопровождал начало брачной церемонии. Уильям пристально следил за обрядом, который вел королевский капеллан Никола.
Это было в духе Ричарда — предоставить право совершить таинство венчания монарших особ не высокопоставленному прелату, а простому слуге церкви, который пользовался его доверием и расположением. И, похоже, такое решение нисколько не уязвило присутствовавших здесь епископа Солсбери, епископа Эвре и патриарха покоренного Кипра Панкратия.
Взглянув на полное благости лицо патриарха, Уильям заметил позади священнослужителя самозваного императора Кипра Исаака. Комнин также был приглашен присутствовать, но лишь после того, как безоговорочно сдался Ричарду и обещал принести ему клятву верности как сюзерену. Вот кто не скрывал своего недовольства происходящим! Его угрюмый взгляд из-под кустистых бровей то и дело вонзался в спину короля, пока тот внимал словам благословения новобрачным, звучавшим на латыни.
Уильям был убежден, что Ричард совершил ошибку, поверив хитрому и жестокому греку. Но английскому Льву присуща непоколебимая уверенность в том, что правители обязаны поддерживать законную власть друг друга. Недаром он с таким участием отнесся к просьбе Гвидо Иерусалимского, прибывшего на Кипр вместе с де Шампером, помочь отстоять его законные права на трон.
Маршал отыскал Гвидо в толпе приглашенных. Тот был нарядно, если не сказать великолепно, одет — Ричард и в этом подчеркивал свое расположение к молодому королю Иерусалимскому. Теперь Гвидо уже не выглядел столь подавленным, как в ту ночь, когда они под покровом тьмы тайно отчаливали от берегов Палестины. А между тем весть о победоносной войне Ричарда на Кипре разнеслась на быстрых крыльях, и сюда поспешили также Боэмунд Антиохийский и Онфруа де Торон, умолявший Ричарда Львиное Сердце помочь вернуть ему супругу Изабеллу.
Но в случае с беднягой Онфруа даже Ричард ничего уже не сможет поделать. Уильям не сомневался, что Изабеллу обвенчали с Конрадом Монферратским намного раньше, чем Ричард повел свою Беренгарию под венец. Теперь, по прибытии в Святую землю, английскому королю предстоит весьма непростая задача: отстаивать, с одной стороны, права короля Гвидо, а с другой — окончательно решить, как отнестись к притязаниям Конрада, женатого на наследнице Иерусалимского престола. Хитросплетение интриг и династических споров… И это, увы, в то время, когда истерзанное Иерусалимское королевство лежит под пятой неверных, а величайшая святыня христианства, Храм Гроба Господня, пребывает в запустении!
Уильям так глубоко погрузился в свои мысли, что невольно вздрогнул, когда грянули трубы, у алтаря прозвучало долгожданное «Аминь!» и супруги обменялись кольцами и поцелуями.
«Я совсем не следил за совершением таинства, — упрекнул себя маршал. — Из-за этих раздумий я позабыл о главном: что бы ни решали смертные, все в руке Божьей. Да свершится воля Его!»
Во время заключительной части мессы, последовавшей за венчанием, он горячо молился, чтобы Всевышний послал счастье новобрачным и даровал мужество милой Беренгарии, ибо вскоре супруг будет вынужден покинуть ее, дабы исполнить свою клятву — освободить от неверных Святой Град.
В капелле клубились облака ладана, хор слаженно выводил «Ave, Mater Dei»,[105] в высокие арочные окна лились потоки ясного кипрского солнца. По завершении службы новобрачные повернулись к гостям, их окружили, посыпались цветистые поздравления.
Уильям не спешил предстать перед венценосной парой, скромно ожидая своей очереди и наблюдая со стороны. Вот с новобрачными раскланялся улыбающийся темноволосый красавец Вильгельм Длинный Меч, сводный брат короля, бастард Генриха II от его любовницы Розамунды Клиффор. Вот отвешивают поклоны королю и королеве английские графы, последовавшие за Ричардом в Святую землю, — молодой, полный обаяния Лестер и тучный краснолицый Девон. Вот приблизился близкий друг короля епископ Солсбери. Затем мужчины расступились, чтобы к Ричарду могла подойти Иоанна Сицилийская, шуршащая тугими шелками, а за ней — его сестра Джоанна: нарядная, улыбающаяся, ничуть не менее величавая, чем Иоанна, в лиловом наряде из переливчатого бархата. В женщинах угадывалось некоторое родственное сходство — обе изящные и грациозные, сероглазые и темноволосые, однако Уильям с затаенной гордостью отметил, что его сестра много прелестнее Иоанны из дома Плантагенетов.
В этот миг Джоанна, словно почувствовав на себе его взгляд, обернулась и сделала маршалу знак приблизиться и вместе с ними поздравить венценосных новобрачных в этот счастливый момент. Да простит его Всевышний, но эта малышка ведет себя со старшим братом, которого прежде никогда не видела и не знала, безо всякого почтения!
Рядом внезапно прозвучал голос Робера де Сабле:
— Думаю, ваша сестра права, мессир, и нам тоже следует присоединиться к поздравляющим.
Уильям де Шампер и Робер де Сабле, плечо к плечу, опустились на колени перед королем и его супругой. Миг был и в самом деле радостный, и маршал, обычно скупившийся на изъявления чувств, улыбался, произнося слова приветствия и пожелания. Будучи одним из высших лиц в ордене, он владел искусством сказать необходимое слово в нужный момент. С той же улыбкой он и отступил, мягко отстранившись от устремившейся к нему сестры, которая, похоже, была не прочь опереться на его руку. Пусть иные рыцари, вьющиеся вокруг Джоанны, осыпают ее знаками внимания. Сестре пора уяснить, что его единственной и истинной семьей являются собратья по ордену.
Несмотря на то что толстые стены капеллы хорошо защищали от зноя, при таком стечении людей духота здесь стояла невообразимая, и гости с явным облегчением выходили на воздух.
Когда король с королевой показались на ступенях Лимассольского замка, отовсюду понеслись радостные крики, в воздух взлетели десятки белых голубей. Почтить новобрачных у стен замка собрались не только воины-крестоносцы, но и жители Лимассола. Молодые девушки бросали охапки цветов под ноги венценосной четы, а облаченные в долгополые ромейские одежды киприоты и их жены приветствовали Ричарда и Беренгарию по-гречески, не обращая внимания на своего бывшего повелителя, державшегося в тени. Шум стоял оглушительный, бродячие собаки заливались лаем, и рыцарям, оказавшимся в этот миг в седле, приходилось прилагать немало усилий, чтобы сдерживать испуганных скакунов.
Лимассол оказался слишком мал, чтобы вместить многотысячную армию, поэтому воины разбили лагерь на окрестных холмах, расцветив их пестрыми стягами, вымпелами и множеством гербов. Между шатрами и палатками уже были расставлены длинные столы, ибо Ричард повелел устроить пиршество для всех крестоносцев, не скупясь на угощение.
Сам же король и знатные гости под звуки труб и рогов прошествовали по увитой цветущими розами галерее и вступили под широкие своды зала, где уже располагались «покоем» столы, ломившиеся от самых изысканных яств. Май на Кипре — благодатная пора; легкие занавеси на широких окнах зала были присобраны, а за ними виднелись роскошно цветущие сады, окружавшие королевскую резиденцию. На легком ветру колыхались перистые листья пальм, и далеко тянулись ряды стройных кипарисов.
Для прибывших с сурового севера крестоносцев все здесь казалось в диковину. Не было никакой нужды устилать для тепла каменные полы замка тростником или соломой — и благодаря этому все покои казались светлыми и необыкновенно чистыми. Пятна солнца лежали на розоватых мраморных плитах и глянцевитых колоннах, и повсюду было так светло, что никому и в голову не пришло потребовать зажечь факелы.
Здешние яства также выглядели непривычно: пироги с мясной начинкой и паштеты соседствовали с горами фруктов и зелени, хлеб был необычайно мягкий и настолько воздушный, что его нельзя было использовать, как на севере, в качестве тарелки. Для каждого гостя был поставлен особый столовый прибор, и даже, как принято у ромеев, имелись маленькие острые вилы, чтобы гости за трапезой не пачкали пальцы в жиру и могли с удобством дотянуться до облюбованного блюда. Все было так искусно приготовлено и так тонко приправлено специями, что на первых порах присутствующие прерывались лишь для того, чтобы провозгласить очередную здравицу новобрачным. Развлекавшие гостей кипрские танцоры и вовсе не походили на разнузданных французских и итальянских фигляров — они вели свои чинные хороводы под медлительное завораживающее пение.
Наступило время второй перемены блюд. Одетые в длинные желтые туники слуги внесли на широких подносах новые яства: гостям был подан суп с яйцами и лимонами, пироги с миногами, тушенные в меду каплуны, жаренная на вертелах баранина и большие пироги из слоеного теста, начиненные рубленым мясом голубей, приправленным перцем, сахаром и корицей. Местная кухня бесстрашно смешивала сладкое с острым, жирное с пряным, и даже превосходное кипрское вино слегка отдавало неведомыми травами.
Уильям де Шампер не привык к подобному изобилию. Вскоре он уже не мог проглотить ни крошки и только дивился аппетиту кое-кого из вновь прибывших крестоносцев. Правда, многие, как и он, уже насытились, а Иоанна и его сестра смаковали охлажденный шербет,[106] оживленно беседуя с Гвидо де Лузиньяном.
Что ж, златокудрый, атлетически сложенный король Иерусалимский всегда пользовался вниманием женщин. Но, прислушавшись к беседе, Уильям с удивлением обнаружил, что дамы ведут совсем даже не светскую куртуазную игру с красивым рыцарем, а серьезно и со знанием дела расспрашивают его о торговле в Леванте. Даже его легкомысленная сестрица выслушивала ответы Гвидо с глубоким вниманием.
— Торговля всегда была основой благоденствия моего королевства…
«Для начала тебе бы следовало вернуть его», — печально подумал Уильям, делая знак кравчему добавить воды в кубок, на дне которого оставалось немного сладкого кипрского вина. Он не мог позволить себе ничего лишнего, чтобы ненароком не бросить тень на палестинский Орденский дом, и уж тем более на глазах у недавно прибывших тамплиеров. И без того кое-где ходила уничижительная поговорка — «пьет, как храмовник», — и давать почву для злословия мирян он не намеревался. Все дело в зависти — многие завидуют богатствам ордена Храма, даже не догадываясь, какую кровавую и жестокую цену приходится платить его рыцарям за право зваться лучшими воинами христианского мира.
Уильям встряхнул головой, отгоняя мрачные мысли, и принялся слушать Гвидо. Тот по-прежнему обращался к дамам:
— Шелка, пряности, пурпур из Сидона, мыло, хлопок, выделанная кожа, стекло, восточные ковры и дивные благовония, — это лишь краткий перечень товаров, которые вывозились из гаваней, расположенных на побережьях Иерусалимского королевства. А из Европы итальянцы везли к нам железо и коней, шерстяные ткани и древесину, которой здесь крайне мало. Купцы из Венеции, Пизы и Генуи, проложившие пути по всему Средиземному морю, весьма способствовали развитию нашей торговли, а это, в свою очередь, наполняло казну Иерусалима. У нас всегда находились средства на постройку замков и поддержание дорог в проезжем состоянии. С тех пор, как доблестные рыцари ордена Храма и ордена Святого Иоанна покончили с разбойниками-бедуинами, паломники и торговые караваны могли ничего не опасаться. И уж поверьте мне, любезные дамы, даже наши мусульманские подданные нисколько не жалели о том, что живут в христианской стране, где царят мир и порядок. Наши сарацины без всякой радости ждали прихода султана Саладина, ибо он объявил их всех изменниками и крайне жестоко обошелся со своими единоверцами. Поэтому многие из них сражались на нашей стороне.
— Неужели же вы, сир, — взволнованно спросила Иоанна, — осуществляя правосудие в Иерусалиме, не делали различий между христианами и неверными, не признающими истину Спасителя?
— Так повелось еще со времен правления Готфрида Бульонского, — ответил Гвидо, и Уильям по звуку голоса догадался, что тот улыбается. — Вам, недавно прибывшим из краев, где повсюду слышится колокольный звон, кажется странным, что мы позволяем муэдзинам во всеуслышание восхвалять Мухаммада. На первых порах и мне это казалось странным. Но затем я понял, что государю в этой земле не так важна вера подданных, как то, чтобы они исправно пополняли его казну и содействовали благоденствию Палестины.
Далее Гвидо поведал дамам, что Иерусалимское королевство прежде состояло из графств и княжеств, поэтому складывалось впечатление, что оно весьма велико. Однако со всех сторон его окружали враждебные правители-иноверцы. Пока они ссорились между собой, королям Иерусалима удавалось использовать эти внутренние противоречия, но затем к власти пришел Саладин. Он начал завоевывать мусульманские страны одну за другой, но долгое время остерегался крестоносцев, и в Иерусалиме родилась надежда, что у султана слишком много врагов среди единоверцев, чтобы рисковать выступить против рыцарей Креста. Тем не менее Гвидо укрепил пограничные крепости своей державы и предоставил новые льготы духовно-рыцарским орденам, чтобы те пребывали в силе и ни в чем не нуждались. Ибо именно тамплиеры и госпитальеры составляли главную мощь Иерусалимского королевства, а не своевольные палестинские бароны.
— Между тем и в орденах, и в отрядах баронов всегда имелись воины-иноверцы, так называемые туркополы, — продолжал Гвидо, — которые были готовы сражаться за нас, лишь бы их семьям дозволяли по-прежнему жить на наших благодатных землях.
— И вы решились на них положиться? — всплеснула руками Иоанна Сицилийская. — Воистину вы заслужили понесенное вами поражение! А могли и окончательно погубить свою душу, потворствуя гнусным язычникам!
К удивлению Уильяма, за Гвидо вступилась Джоанна:
— Не будьте так строги к нашему мужественному королю Гвидо, мадам. Ведь философ Абеляр[107] учил: христианину подобает проявлять терпимость ко всякому разумному верованию.
Иоанна тут же резко возразила, заявив, что учение Абеляра осуждено Церковью. А Уильям лишь усмехнулся, когда Джоанна напомнила сестре Ричарда, что настоятелю аббатства Клюни удалось примирить Абеляра со Святым престолом и тот удалился в монастырь, где спокойно дожил свой век. Иоанна не нашлась что на это возразить и отвернулась, словно утратив интерес к беседе.
Тем временем по знаку короля танцовщики-греки исчезли и на середину зала вышел стройный белокурый юноша с лютней в руках. Сидевший рядом с Уильямом Робер де Сабле шепнул ему, что перед ними — Блондель, любимый трубадур английского Льва.
Голос у Блонделя и впрямь оказался ангельский. Перебирая струны лютни, он запел:
Любовь запылает в душе как пожар, В глазах зажигая божественный свет. Но тот лишь достоин принять этот дар, Кто сердцем готов поделиться в ответ. И если отправлюсь в чужую страну, Где славу, надеюсь, добуду себе, Любовь я, как знамя, возьму на войну, Оставив взамен свое сердце тебе.Гости притихли, внимая пению трубадура. Ричард слушал в задумчивости, подперев ладонью голову, украшенную золотисто-рыжей, поистине львиной шевелюрой. На время пира он снял венец, держался свободно и непринужденно, но в каждом его жесте и взгляде из-под широких каштановых бровей сквозило одно: перед вами — король и повелитель, грозный, могучий, решительный.
Увы, но если Иоанна Сицилийская, столь непримиримая к мусульманским подданным Иерусалимского королевства, имеет влияние на брата, она может настроить его и против Гвидо де Лузиньяна. Остается надеяться, что Ричард сумеет понять, насколько Святая земля отличается от всего, к чему он привык в Европе. А по прибытии в Палестину он и сам убедится в том, что в отрядах князей Антиохии, Бейрута и Триполи немало лучников-мусульман, которые с отчаянной отвагой сражаются за дело крестоносцев, зная, что при случае Саладин никого из них не пощадит.
Пир продолжался уже несколько часов. На закате многие из гостей, утомившись от еды и обильных возлияний, покинули свои места за столом и теперь развлекались танцами или игрой в кегли на галерее, иные же просто беседовали, разбившись на группы и потягивая прохладительные напитки.
К удивлению Уильяма, не нашлось ни одного рыцаря, который напился бы допьяна. И когда он заговорил об этом с Робером де Сабле, тот сообщил, что король Ричард весьма строг к проявлениям неумеренности и буйства на пирах, так как считает, что благородное сословие обязано во всем показывать пример для подражания.
И действительно: распорядители пиршества, едва заслышав спор или заметив, что кто-то из гостей чересчур захмелел, немедленно предлагали ему отправиться в лагерь крестоносцев и там продолжить развлекаться, как будет угодно. Ибо подобные манеры могут оскорбить монарха и его благочестивую супругу. А то, что молодая королева благочестива и набожна, было видно даже из того, что и во время пира она несколько раз удалялась на молитву, чтобы не пропустить положенных часов.
— Поистине наш король избрал своей спутницей даму достойную и глубоко религиозную, — подвел итог де Сабле. — Беренгария придаст двору его величества ту чистоту, которой нам так не хватало при родителе Ричарда, старом Генрихе, — да пребудет с ним милость Всевышнего!
— Кто тут дурно отзывается о славном Гарри Плантагенете? — внезапно раздался рядом веселый голос короля.
Оба тамплиера почтительно поклонились монарху. Ричард переводил взгляд с одного рыцаря на другого, и его светлые глаза блестели задором и весельем.
— Не скучно ли вам на моем пиру, братья храмовники? — спросил Ричард, блеснув в улыбке крепкими белыми зубами. — Хотя о чем это я? Клянусь желтым цветком английского дрока,[108] давшего имя моему дому, по вашему суровому уставу даже столь скромное веселье вам, рыцарям-монахам, не положено. Может, и вы не прочь присоединиться к моей благочестивой супруге всякий раз, как ударит колокол, призывающий к молитве? Впрочем, как по мне, не всегда и не везде молитва бывает уместна.
— Вы, однако, богохульствуете, государь, — заметил де Сабле, а Уильям поразился: как дерзко осмелился этот тамплиер одернуть столь непредсказуемого человека, как Ричард Львиное Сердце! Лев — опасный зверь.
Однако Ричард и не думал сердиться. Дружески хлопнув по плечу адмирала своего флота, король расхохотался и вдруг оборвал смех, заявив, что ему необходимо потолковать с маршалом Уильямом де Шампером.
В саду журчали фонтаны и сладко пахли вьющиеся розы, оплетавшие арки аллеи, по которой они неспешно прохаживались.
— Ни за что бы не подумал, что вы сын Артура де Шампера, — внезапно проговорил Ричард, глядя в упор на Уильяма. И, вероятно, даже не догадываясь, что эти слова причинили рыцарю почти физическую боль. Однако король как ни в чем не бывало продолжал: — Лорд Артур, барон Малмсбери и Гронвуда, всегда слыл человеком открытым и общительным. Люди тянутся к нему, он всегда окружен друзьями или теми, кто норовит добиться его дружбы или хотя бы расположения. А из вас, сэр, слова лишнего не вытащишь, а ваш взгляд постоянно угрюм и сосредоточен!
— Все, что мне надлежало передать вам, государь, я сказал при нашей первой встрече. А то, о чем я думаю ныне, вряд ли понравится вашему величеству. Отчего бы и не промолчать?
— А вы откровенны, — заметил Ричард. — Все-таки дает себя знать отцовская кровь.
Произнеся это, он потянулся к пышному цветку белой розы, но укололся о шип и, как мальчишка, слизнул капельку крови, выступившую на кончике пальца.
— Моя мать, благородная Элеонора, советовала мне прислушиваться к вам. Странный совет, если учесть то, что она никогда не знала вас лично. Разумеется, исключая времена, когда вы были ребенком и сопровождали родителей ко двору. Потом пришло ваше время служить. Не напомните ли, кто первым взял вас в свою свиту?
— Кажется, кто-то из владетельного дома д'Обиньи.
— Странно, что вы не помните точно. Обычно рыцари не забывают того, у кого начинают службу — поначалу в качестве пажа, а потом и оруженосца.
— Сир, большую часть жизни я провел в Святой земле. Слишком далеко от родины, чтобы вспоминать былое. А то, что выпало на мою долю в Палестине, намного значительнее, чем имя одного из ваших вассалов.
— А вы еще и гордец, — заметил, посасывая уколотый палец, Ричард.
«Да, это так. Но знал бы ты, какие усилия мне пришлось приложить, чтобы стать сильным и гордым и напрочь забыть те унижения и позор, которые довелось пережить на службе у графа д'Обиньи».
— Что вам не понравилось на моей свадьбе? — неожиданно повернулся к нему король.
Ричард был высок и могуч. И хоть маршал де Шампер почти не уступал ему ростом, его не покидало ощущение, что он смотрит на короля снизу вверх. Возможно, так и полагается смотреть на монархов? Однако Уильям столь долго служил ордену, признававшему над собой только главенство Папы Римского, что отбросил эту мысль и ответил не как придворный, а как солдат — без обиняков.
— Я недоволен присутствием самозванца Исаака Комнина. С вашей стороны было неразумно довериться этому негодяю и приблизить его к своей особе. Исаак — изощренный предатель.
Ричард проглотил словечко «неразумно», но мнение де Шампера об Исааке Комнине его заинтересовало. Некоторое время он внимательно слушал рассказ тамплиера о том, как самозваный император отказал крестоносцам в помощи минувшей зимой, когда в лагере под стенами Акры разразился жестокий голод. А ведь тучный Кипр, где собирают по три урожая в год, находился совсем рядом — рукой подать. Рыцари нуждались не только в пропитании, но и в лошадях, которые на острове бродят табунами, им был нужен лес для осадных башен и ядра для катапульт. Но Исаак предпочел не ссориться с Саладином и на все призывы о помощи отвечал пренебрежительным безмолвием.
Уильям пытался осторожно подвести Ричарда к мысли о том, как необходим для Палестины Кипр. Остров мог бы стать базой крестоносцев на пути в Святую землю. Однако он не хотел говорить об этом прямо, надеясь, что король вскоре сам все поймет. Едва ли его доводы возымеют действие, пока английский Лев не убедится воочию, как обстоят дела в Палестине.
Ричард, словно читая у него в мыслях, спросил:
— Неужели дела в стане рыцарей Христа так плохи, что они не могли обойтись без помощи императора Исаака?
— В конце концов обошлись. Но с огромными жертвами. Положение оставалось плачевным, пока не прибыл король Франции.
Добавлять еще что-либо он не стал, ибо ранее уже сообщил Ричарду, что Филипп Капетинг объявил себя главнокомандующим крестоносного воинства, однако не спешит со штурмом Акры, так как увяз в интригах вокруг Иерусалимского трона. Боевые действия Филипп откладывает со дня на день, ожидая прибытия Ричарда, с которым он якобы связан рыцарской клятвой.
Втайне Уильям сожалел о том, что Ричард, как казалось, пропустил мимо ушей его намеки относительно выгод Кипра. Но король неожиданно заговорил, окидывая взглядом простиравшийся перед ними пейзаж: луга, виноградники, оливковые рощи, зеленые холмы и голубеющие вдали горы, поросшие кедровыми лесами.
— Камень, лес, зерно и масло, неисчислимые конские табуны… Поистине этот остров у берегов Святой земли — подарок небес. Я также слышал, что здесь в больших количествах добывают медь и серебро.
— Это так, ваше величество. Но сейчас еще большую ценность для нас имеет кипрский строевой лес. Без дерева не возвести осадных башен, а сарацины сожгли все леса и рощи на много десятков миль вокруг Акры. Без леса же у нас не будет ни требюше,[109] ни осадных башен, ни «черепах», ни таранов. Разумеется, ворота крепости можно штурмовать и с боевыми топорами, но какой ценой!..
— Я подумаю об этом, сэр Уильям, — отвечал король, внимательно глядя на маршала.
Неспешно прогуливаясь, собеседники достигли мраморной балюстрады, окружавшей расположенный на возвышенности дворцовый сад. Отсюда открывался вид на Лимассол, за которым раскинулся палаточный лагерь крестоносцев, гораздо более обширный, чем сам город.
Ричард внезапно обернулся.
— Исаак правит здесь не первый год. Его власть, хоть и скрепя сердце, признали в Константинополе, и даже присланный оттуда флот ничего не смог поделать с воинственным самозванцем. Однако я одолел его в первом же бою, и Комнин смирился, признав мою власть над островом на время крестового похода. Сверх того он обещал отдать свою единственную дочь и наследницу за любого из рыцарей, на которого я ему укажу. Мой человек станет править на Кипре, и я буду исправно получать отсюда оружие, продовольствие и строевой лес. Разве этого мало?
Де Шампер постарался спрятать улыбку.
— Если позволит ваше величество, я рискну возразить. Primo,[110] — маршал загнул палец, — дочь императора Синк… Синклитикия, — он запнулся, выговаривая непривычное греческое имя царевны, — весьма своеобразная молодая дама, и ее репутация такова, что далеко не всякий рыцарь, заботящийся о своей чести, пожелает назвать ее супругой. A secundo[111] — кто бы ни стал ее мужем, при таком тесте ему не суждено долго прожить. Он может внезапно погибнуть на охоте в горах или задумает прокатиться на галере вокруг острова, а его судно разобьется о скалы. Да мало ли случайностей могут подстерегать человека!
Ричард задумался, по-прежнему глядя на город. Под крепостной стеной, сложенной из глыб розового песчаника, во множестве ютились лавки, лотки, торговые склады, купола церквей пламенели в лучах закатного солнца.
— Я непременно подумаю о сказанном вами, сэр, — наконец произнес он.
— И примите во внимание, государь, что врагов лучше иметь честных, нежели честолюбивых. А Исаак бешено честолюбив. Недаром он объявил себя ни много ни мало — императором. И ничьей власти над собой он не потерпит.
— Лучше иметь врагов честных… — задумчиво повторил Ричард. — А что вы скажете о султане Саладине, мессир?
— Помилуй Бог! — отшатнулся тот. — Неужели вы, государь, считаете его честным противником?
Лицо короля стало надменным.
— Весь христианский мир говорит о Саладине как о человеке благородном. Пусть он и приверженец учения своего лжепророка, но его поступки свидетельствуют, что в душе он истинный рыцарь. Вспомните, как султан повел себя, завладев Иерусалимом!
Уильям отвел глаза, едва сдержав вздох разочарования.
Вот оно что… Рыцарственный король Ричард, сокрушивший в Европе всех врагов и даже собственного отца, наконец-то обрел достойного соперника. Какое поле для подвигов — битва с равным по силе и благородству противником! Для английского Льва это нечто вроде красивой турнирной схватки, о которой потом будут слагать баллады, а сейчас, затаив дыхание, следит весь мир…
— Ваше величество, — негромко проговорил маршал. — На расстоянии человек всегда кажется больше, чем на самом деле. Слухи, которые распускают о султане неверных, безусловно, вызывают к нему интерес, а победы, одержанные им, принесли Саладину славу полководца. Но я давно живу в Святой земле, посвятив служению ордену всю жизнь, и еще не забыл, каким прекрасным было Иерусалимское королевство до того, как туда вторглись воины султана. Ныне весь этот край обращен в пустыню: здесь снова хозяйничают разбойники-бедуины, которым безразлично, кого грабить — мусульман или христиан, поля опустели и иссохли, так как неверные, полные отвращения ко всему, что создали христиане, разрушили акведуки и засыпали оросительные каналы. Всех бедствий просто не перечесть. Король Гвидо де Лузиньян более красноречив и может подробно поведать о том, что погублено и уничтожено армией Саладина… Но вы упомянули о благородстве султана, проявленном при взятии Иерусалима, и я хочу уточнить, как все обстояло на самом деле. Придя под стены Святого Града, султан, по обыкновению, объявил, что не помилует ни одной живой души, и тогда к нему для переговоров выехал барон Балиан Ибелинский, чтобы решить участь города…
Маршал умолк, завидев на аллее веселую толпу прогуливающихся гостей, а среди них и свою сестру, окруженную молодыми рыцарями. Она весело смеялась, занятая в этот миг явно не философией Пьера Абеляра. Завидев беседующих короля и маршала тамплиеров, молодые люди направились было к ним, но Ричард резко взмахнул рукой, давая понять, что не желает, чтобы их тревожили. После чего вновь повернулся к Уильяму.
— Я слышал, что Балиан де Ибелин повел себя в высшей степени достойно, решившись на переговоры с Саладином.
— Несомненно, государь. В Иерусалиме на тот момент было всего двое опоясанных рыцарей, а сам барон прибыл туда только для того, чтобы увезти в безопасное место свою супругу Марию Комнин. Но жители города собрались у его дома и стали умолять сэра Балиана защитить их от неистовства султана, и барон решился. Я и сейчас убежден, что он надеялся отстоять Святой Град, именно поэтому он начал спешно посвящать тех горожан, что могли держать меч, в рыцари, беря с них клятву биться до последней капли крови, защищая Гроб Господень.
— Но разве возможно было удержать Иерусалим после такого триумфа султана в битве при Хаттине?
В голосе Ричарда слышалось волнение. Уильям де Шампер тяжело вздохнул.
— Видите ли, ваше величество, после поражения при Хаттине подданные Иерусалимского королевства глубоко пали духом. И неудивительно — ведь они в одночасье лишились воинства, способного их защитить. Оттого и замки Святой земли сдавались всадникам Саладина без боя. Я в то время был далеко, обороняя Аскалон, но до сих пор испытываю горечь оттого, что не смог попасть в Святой Град до того, как он пал. Клянусь спасением души, это ложь, что перед султаном не в силах устоять ни одна крепость! Несмотря на всю свою славу полководца и прозвище «Меч ислама», султан далеко не всегда владеет положением и принимает верные решения. В том числе и тогда, у стен Иерусалима…
Не стану хулить тех, кто пролил там кровь, но позволю себе порассуждать о ходе событий. Взгляните: до Хаттина Саладин не сумел взять крепость Крак де Шевалье, потерпел неудачу в Магрибе, не рискнул атаковать замки своих врагов ассасинов и вынужден был заключить с ними соглашение. Но после Хаттина, когда неверные были воодушевлены поражением христиан, все эмиры примкнули к султану и двинулись вместе с ним отвоевывать Святой Град. Никогда еще у Саладина не было столь многочисленного воинства, и он готов был на все, чтобы достичь цели, хотя перед тем не смог взять ни Тир, ни Триполи. Но на что ему была длительная осада этих упорно сопротивляющихся приморских городов, когда перед ним был Иерусалим! Поэтому он направился прямо туда, а прибыв под стены Святого Града, как я уже говорил, велел объявить, что не намерен щадить даже мирных жителей, ибо точно так же поступали первые крестоносцы. Однако Балиан де Ибелин сумел переубедить султана — честь ему и хвала за это!
И вот что сказал барон: если султан не согласится на те условия сдачи города, которые выставили его защитники, все без исключения жители Иерусалима будут биться до последнего. Но еще до того, как город падет, будут казнены все находящиеся там мусульмане — а таковых было свыше пяти тысяч, — и разрушены священная для всех последователей Пророка мечеть Аль-Акса и прочие святыни неверных. Вы видите сами: то, что молва называет благородным милосердием Саладина, не что иное, как вынужденный шаг, сделанный под давлением барона Ибелинского. Саладин пошел на сделку и получил Иерусалим в кратчайший срок, причем без потерь.
Однако население Святого Града все равно пришлось выкупать из плена. И обрести свободу удалось далеко не всем. Султан и его брат аль-Адиль сами демонстративно заплатили за часть жителей и отпустили их на волю, правда, лишив остатков имущества. И тем не менее около пятнадцати тысяч горожан не смогли заплатить выкуп и были проданы в рабство. Христиане в таких количествах наводнили невольничьи рынки, что цена на рабов упала, и крепкого воина-крестоносца можно было обменять на пару туфель без задников.
Как видите, государь, мнимое благородство Саладина оказалось весьма выгодным для его единоверцев, но не для христиан, которые тем не менее продолжают его восхвалять. Что касается полководческих дарований султана, то они весьма преувеличены. Его дядя Ширкух был отменным воином, его старший брат Туран-Шах также был видным стратегом, даже его младший брат аль-Адиль прославился в сражениях. Именно он умело завоевывал те замки, под стены которых его направлял султан. Саладин же преуспел лишь в двух вещах: сумел объединить земли ислама под своей рукой и одолел немногочисленное воинство крестоносцев при посредстве огромной армии. Пророк неверных, сир, именно так и предписывает вести войну — когда налицо полная уверенность в победе. Поэтому Саладин ввязывается в битву лишь тогда, когда его силы наголову превосходят противника. Иное дело мы: вера ведет нас в нашей bellum sacrum,[112] и многие наши победы происходят вопреки всему и подобны чуду!
— И тем не менее мы утратили Святую землю, — печально подвел итог Ричард. — Я вижу, мессир Уильям, что вы не жалуете Саладина, однако не вижу смысла умалять его полководческие дарования. Ведь собрать и вывести на поле боя значительную силу — одно из главных условий грядущей победы.
Маршал склонил голову, соглашаясь с королем. Ричард принял крест защитника веры почти три года назад, но лишь теперь, собрав внушительное войско, дающее возможность сражаться с Саладином на равных, выступил в поход. Поэтому Уильям не удивился, когда король спросил, как случилось, что Юсуф ибн Айюб, курд по происхождению, весьма далекий от престола, сумел стать во главе такой необъятной державы.
— Увы, государь, стремительное возвышение зачастую зиждется не на мудрости правителя, не на его военных успехах, а на ловких интригах. И в этом Саладин не имеет равных. Он родился в Месопотамии в семье мелкого военачальника-курда, отличившегося на службе у правителя Дамаска Нур ад-Дина. Тот же Нур ад-Дин отправил покорять Египет дядю будущего султана — эмира Ширкуха, уже известного полководца. Саладин состоял при дяде, тот предоставил ему крупные отряды, с которыми племянник сумел завладеть портом Александрии Египетской. У курдов развита взаимопомощь родичам, и дядя сразу же возвысил племянника, сделав его вторым лицом в Египте после себя. А вскоре Ширкух скоропостижно скончался на пиру. Случайное стечение обстоятельств? Не исключено. Но Саладин сразу же назначил себя визирем при дворе последнего египетского халифа из династии Фатимидов.[113] Халиф также вскоре умер… от истощения. Нам известно, что Саладин приказал запереть халифа в отдаленном покое дворца, а когда через много дней этот покой открыли, потомок Фатимидов был уже мертв. Теперь ничто не препятствовало Саладину стать правителем Египта.
Однако это не могло понравиться султану Дамаска Нур ад-Дину. Он попытался оказать давление на неожиданно возвысившегося курда, но Саладин дал ему ясно понять, что не нуждается в опеке. И хоть он приказал поминать Нур ад-Дина в молитвах и писал ему письма, заверяя в преданности, на деле же не помогал ему ни деньгами, ни войском, о чем тот просил. Более того, после смерти Нур ад-Дина Саладин вмешался в споры его наследников и отнял у них сирийские владения, сместив законного претендента — сына султана. Став правителем Египта и Дамаска, Саладин занялся созданием империи, править которой предстояло членам его клана Айюбидов — среди них были весьма успешные воины. Они завоевали для своего возвысившегося родича Аравию, Ирак и Йемен. И только после этого, имея значительное превосходство в воинских силах, Саладин провозгласил джихад — священную войну с иноверцами в Святой земле.
Вот с каким человеком вам придется иметь дело, государь. Он весьма умен и изощренно хитер, но его благородство я бы не стал превозносить. У христиан принято совершать благородные поступки, не трубя об этом повсюду. Саладин же каждый свой благородный жест обращает себе на пользу. Это сыграло свою роль, когда после падения Иерусалима многие христианские города сдавались ему без боя, полагаясь только на его великодушие. Но теперь все должно измениться. И я молю вас, государь, — поспешите в Палестину! Ибо вы наша единственная надежда! Как бы ни была многочисленна армия сарацин, я знаю, что наши рыцари более умелые и отважные воины, пусть их и не так много, как в отрядах того, кого прозвали «Мечом ислама».
Маршал умолк, переводя дух. Ричард в задумчивости поглаживал свою короткую золотистую бородку.
— Я знаю, что Саладин и прежде пытался завоевать Иерусалимское королевство, но потерпел сокрушительное поражение от короля Бодуэна Прокаженного.
Впервые на лице Уильяма де Шампера появилось некое подобие улыбки.
— Это правда, сир. Я имел честь сражаться плечом к плечу с королем Бодуэном в знаменитом бою у холма Монжизар. У короля было около трех тысяч рыцарей, а у Саладина — двадцать шесть тысяч воинов. И все же мы разбили их, а Саладин, спасаясь, бежал верхом на верблюде. Позже, оправдывая это поражение, он сказал: «Видимо, сам Аллах не хочет, чтобы царство христиан пало при этом короле». Не требуется особой мудрости, чтобы списывать собственные неудачи на Всевышнего.
— Все мы в Его руках, — задумчиво молвил Ричард, осеняя себя знаком креста. И маршал последовал его примеру. — Но вот что странно: отчего наша святая матерь Церковь не причислила несчастного короля Бодуэна к лику святых? Мало того, что он рьяно боролся с неверными и вел жизнь истинного праведника. Даже жестоко страдая от страшной болезни, он до последнего вздоха отстаивал Святую землю! Что скажете об этом, мессир?
Худощавое лицо тамплиера приобрело замкнутое выражение. Но король ждал ответа, и рыцарь не осмелился солгать.
— Я думаю, государь, что Церковь не приняла в расчет великие подвиги и мучения прокаженного короля, так как он мало жертвовал Риму, не заискивал перед Святым престолом и не выказывал желания удалиться в монастырь. Бодуэн Прокаженный был королем-рыцарем, а не королем-монахом, — мужественным, отважным и гордым. Пока он был жив — он всегда побеждал!
В словах тамплиера слышались восхищение и нескрываемая горечь. Однако едва ли ему стоило так превозносить рано умершего непобедимого короля в присутствии другого монарха, мечтавшего о подобной славе. Ричард сурово заметил:
— На вашем месте, мессир, я бы не стал сомневаться в мудрости и дальновидности Святого престола. Возможно, поэтому в Риме и не благоволят к вам, несмотря на ваши воинские заслуги и славу. Я слышал, что после того, как прежний магистр тамплиеров Жерар де Ридфор опорочил себя, проиграв битву при Хаттине и угодив в плен к Саладину, а затем купил себе свободу в обмен на сдачу орденских крепостей, именно вас стали называть «Честью ордена». Как же случилось, что вас не было при Хаттине?
— Я находился в Аскалоне, о чем уже упоминал. Магистр де Ридфор не жаловал меня, так как я неоднократно осмеливался перечить ему, а когда капитул избирал его главой ордена Храма, подал свой голос за другого кандидата. Но уже тогда я пользовался известным влиянием среди орденских братьев, и магистр решил меня удалить. Вот почему, когда мои братья гибли от жажды, стрел неверных и огня в долине Хаттина, я охранял Аскалон. И мы бы не сдали его, клянусь в том святым именем Девы Марии, покровительницы нашего ордена, если бы от этого не зависело освобождение из плена нашего короля Гвидо… — голос маршала прервался, и король понял, чего стоило это решение гордому тамплиеру.
— Тем не менее вы поспешили к Акре, едва узнав, что король начал осаду, — негромко произнес Ричард. — И одного имени маршала де Шампера хватило, чтобы под ваше знамя стали стекаться разрозненные отряды орденских братьев, все еще остававшиеся в Святой земле. Сколько их ныне под вашей рукой?
— Около сотни рыцарей, но с ними сержанты,[114] туркополы и братья, готовящиеся посвятить себя служению ордену Храма. Однако орден все же обескровлен.
— Думаю, это продлится недолго, — расправил плечи Ричард. — Вы видели здесь немало рыцарей в белом облачении с алыми крестами, а в порту должны были заметить множество кораблей с эмблемой ордена Храма на мачтах — двумя рыцарями верхом на одной лошади. Со мной в поход выступило не меньше тысячи тамплиеров из Анжу, Пуатье, Англии, Нормандии и столько же рыцарей из владений короля Филиппа и итальянских земель. Все они прекрасные воины, обученные сражаться в прецепториях Европы.
— Мне отрадно слышать об этом, ваше величество, — поклонился Уильям де Шампер. Глаза его вспыхнули.
Ричард следил за ним исподлобья.
— Замечу, что большинство из них собрал, экипировал и переправил сюда мой добрый друг Робер де Сабле, с которым вы уже имели удовольствие познакомиться. Мне думается, что именно его вскоре изберут Великим магистром ордена тамплиеров.
При этих словах короля маршал понадеялся, что его лицо не выразило всей глубины горечи, которая наполнила его душу. И хотя он продолжал твердить про себя, словно заклинание, девиз ордена: «Не нам, не нам, а имени Твоему, Господи!» — сердце его болезненно сжалось.
— Выборы Великого магистра со дня основания производит капитул ордена, — сухо заметил де Шампер.
— Аминь, — тряхнул золотисто-рыжей гривой Ричард. — Но повторю: более тысячи прекрасно обученных рыцарей из Анжу и Англии, Аквитании и Пуатье, Мэна и Нормандии, а также французы и итальянцы. Всех их объединил Робер де Сабле, пользующийся глубоким уважением среди братьев ордена Храма. И когда соберется капитул, в который, помимо вновь прибывших тамплиеров, войдет и ваша сотня испытанных воинов Святой земли, — как вы полагаете, за кого будет подано большинство голосов?
— За того, кого сочтут наиболее достойным, — ответил Уильям де Шампер, ощутив, как тускнеет свет мечты в его душе. Стать главой ордена, которому отдана жизнь, заботиться о нем, вложить в него опыт, накопленный за годы служения в Святой земле, — все это уже не для него.
Ричард словно прочитал его мысли.
— Я поддержу Робера де Сабле, если кого-то заинтересует мое мнение, — негромко проговорил он. — И это будет справедливо, ибо мне уже не раз намекали, что коль я поддерживаю избрание своего родственника — то есть вас, кузен, значит пытаюсь установить контроль над орденом.
Король впервые назвал Уильяма «кузеном», подчеркнув их родственную связь. Но тамплиера это нисколько не обрадовало, ибо родство с Ричардом Плантагенетом отныне ни в чем не способствовало его избранию на пост магистра.
— Я приму выбор капитула с покорностью и смирением, — маршал склонил голову.
— Превосходно! — Ричард дружески хлопнул его по плечу. — Я несказанно рад, что мы с вами, мессир де Шампер, не имеем разногласий в этом непростом вопросе!
Король шумно перевел дыхание, выпрямился — и львы на груди его алой туники заблистали золотом в лучах заходящего солнца. Сейчас Ричард смотрел на море, которое в этот час из лазурного становилось винно-багряным. Мачты кораблей, заполнявших бухту Лимассола, казались темным лесом на его фоне.
— Божественная красота! — улыбнулся король, и в уголках его глаз появились легкие лучистые морщинки.
— Знаете ли, кузен, — продолжал он, отбрасывая назад упавшую на высокое чело золотистую прядь, — я и не предполагал, что беседа с вами окажется для меня настолько важной и поучительной, что я даже забуду о красоте — я имею в виду мою очаровательную Беренгарию. Она воистину ангел! Ни словом не упрекнула меня, когда я сообщил, что покину ее ради беседы с маршалом ордена. Но теперь я должен всецело принадлежать супруге. Я уведу ее из-за стола, не теряя ни минуты, пока пир еще в разгаре и рыцари по старой традиции не начали провозглашать скабрезности, касающиеся первой брачной ночи. Беренгария слишком чиста и ранима, чтобы выслушивать подобное.
Маршал, поняв, что в мыслях король уже далеко, молча поклонился.
Брачная ночь, прекрасная и нежная женщина, ожидающая своего мужа — великого короля. Он неожиданно вспомнил, как трепетала ее ладонь в его руке перед венчанием, и пожелал, чтобы Ричард был ласков с супругой. Беренгария так застенчива, а английский Лев…
Он невольно потер плечо, по которому минутой ранее хлопнул Ричард. В его руке чувствовалась недюжинная мощь — настоящая львиная лапа. Вместе с тем он добр и чуток, ибо щадит скромность наваррской принцессы.
Размышлять о короле и его избраннице сейчас было легче, чем о рухнувших надеждах.
Уильям медленно двинулся среди пышных куртин сада, любуясь благоухающими цветами и вдыхая запах свежести, водорослей и соли, который приносил вечерний бриз. Вечерние тени уже ползли по ослепительно-белому утрамбованному песку аллеи.
Честолюбивые стремления… — внезапно подумал он. — Разве в прошлом он не отказался от них, приняв решение покинуть семью и лишив себя права унаследовать земли и баронский титул де Шамперов?
Эти мысли снова вернулись к нему, едва он заметил у фонтана, скрытого живой изгородью, свою сестру. Маршал остановился в тени раскидистой акации, глядя на озаренную последними отсветами заката Джоанну.
Она сидела в полном одиночестве у края мраморного бассейна, рассеянно глядя на струйки воды, сбегавшие в бассейн и колебавшие его зеркальную поверхность. Голова ее казалась поникшей под бременем тяжелых темных кос, заплетенных от самых висков, золотой обруч охватывал лоб, а прикрепленная к нему вуаль лежала благородными складками. Фиолетовый бархат платья в этот полусумеречный час казался почти черным.
Только теперь маршал понял, насколько эта молодая женщина красива. Третьего дня, когда Джоанна только что ступила на землю Кипра, она показалась Уильяму легкомысленной капризной пустышкой, готовой по любому поводу захихикать или надуться. Но сейчас его сестра выглядела блистательной знатной дамой, истинной принцессой, чему способствовали и гербовые львы Плантагенетов, вышитые золотом на ниспадающих рукавах ее платья. Должно быть, королева Иоанна уступила сестре один из своих нарядов — где же еще паломница Джоанна де Ринель, утратившая в пути весь свой гардероб, могла раздобыть столь пышный туалет?
Сходство с Иоанной Уильям отметил сразу, впервые увидев обеих женщин рядом, но на самом деле Джоанна больше походила на их мать — леди Милдрэд де Шампер. А ее улыбка была такой же, как у Артура де Шампера, — светлой и открытой, из тех, на которые непременно хочется ответить улыбкой. И тем не менее Уильям старался ее избегать.
Он и сейчас не хотел приближаться к Джоанне. Следовало бы сразу уйти, но он невольно задержался, и лишь несколько мгновений спустя осознал, что любуется младшей сестрой.
Джоанна все еще не замечала его присутствия. Она казалась задумчивой и печальной, хотя в минувшие два дня, когда Уильям украдкой наблюдал за нею, Джоанна выглядела жизнерадостной и весьма довольной тем, что ее опасное путешествие наконец-то завершилось и она окружена почетом и вниманием, к которым привыкла дома. На пиру она без всякого смущения отвечала на изысканные любезности рыцарей и прелатов, а затем превосходно спела для новобрачных свадебную песню, аккомпанируя себе на лютне. Сам король Ричард подхватывал припев и улыбался своей кузине куда охотнее, чем ее родной брат.
Но Уильям и не чувствовал себя братом этой игривой красавицы. Они никогда прежде не встречались, он знал о ее существовании только из писем матери. Леди Милдрэд де Шампер порой писала сыну, и переписка эта продолжалась все то время, пока он служил Иерусалимскому королевству. Известия из дома он получал, когда де Шамперы преподносили в дар ордену очередную дюжину или две коней из гронвудских конюшен — это случалось раз в год, а то и реже. Поначалу он, бывало, с любопытством узнавал новости с родины, но со временем потерял к ним интерес. Слишком бурную и насыщенную жизнь он вел в Святой земле, и события в Палестине казались ему куда важнее того, что происходило в далекой Англии и уж тем более в семействе Шамперов, от которого он отрекся, вступая в орден. И если он находил заслуживающими внимания деяния и указы короля Генриха Плантагенета, его войны в Уэльсе и ссоры с архиепископом Томасом Кентерберийским, о которых мать обычно писала в начале письма, то о событиях в семье, о которых речь шла в конце, он едва удосуживался прочитать. Все живы, в добром здравии, — и слава Всевышнему.
Лишь уважение к матери вынуждало его следить за тем, как складываются судьбы его братьев и сестер. Так он узнал, что одна из сестер-близнецов, тихоня Элеонора, удалилась в монастырь, а непоседа Эдгита заполучила в мужья стареющего графа Лестерского. Для Эдгиты это была великая честь, но ведь лорд и леди де Шампер всегда заботились о чести рода больше, чем о счастье своих детей. Они поступили в точности так же, обвенчав своего второго сына Гая с девицей из рода де Кларов. Достойный брак, учитывая то, что после кончины отца Гай станет главой всех де Шамперов.
Уильям помнил Гая отроком — когда он покидал Англию, тому исполнилось всего десять лет. В последний раз он видел его, когда де Шамперы прибыли в Лондон, чтобы проститься с ним перед отплытием в Святую землю. Зачем они так поступили? Чтобы расставание показалось ему еще более тяжким? Он не простил им ни этого прощания, ни проявлений нежности и любви. Даже десятилетний Гай потянулся к старшему брату, чтобы его поцеловать.
Уильям же думал только о том, как этот ребенок похож на Артура де Шампера. Сам он нисколько не походил на барона, как и второй брат — Генри. Тот пошел в леди Милдрэд: белокурый, с такими же миндалевидными аквамариново-голубыми глазами. Мать Уильям очень любил, поэтому и к Генри относился куда приветливее, чем к Гаю. Гай же, вежливый, сдержанный, невозмутимый — истинный лорд уже в десять лет, был ему ненавистен, как ненавистны были его заранее заготовленные для прощания речи, его прощальные поцелуи. И этот мальчишка понял, что старший брат его едва терпит. Может, оттого и стушевался сразу же, как только Уильям демонстративно отвернулся от него к сестрам-близнецам, которые к тому времени уже подросли, похорошели и считались невестами. Но замуж вышла только одна… Сейчас Уильям не мог бы сказать, были ли у нее дети от стареющего мужа, зато отчетливо помнил свое смущение, когда мать, прощаясь, сообщила ему, что снова ждет ребенка. Позже леди Милдрэд писала, что родила девочку, названную Иоанной в честь младшей дочери короля — или Джоанной, как произносили это имя в Англии. И вот эта девочка успела вырасти и выйти замуж…
Все это происходило бесконечно далеко, и Уильям ничему не придавал значения до тех пор, пока не прочел в одном из последних писем леди Милдрэд, что Джоанна де Шампер, в супружестве де Ринель, собирается совершить паломничество в Палестину вместе с мужем, Обри де Ринелем. Мать просила оказать им содействие и помочь в пути. Отказать он не мог — де Шамперы много жертвовали на нужды ордена, а кони, которых они поставляли в Палестину безвозмездно, всегда были великолепны — выносливые, быстрые, отменно выезженные. Из этих лошадей Уильям выбрал для себя гнедого жеребца с широкой белой полосой на морде. Конь был необыкновенно хорош, удовольствие владеть такой прекрасной лошадью дорогого стоило.
И вот Джоанна перед ним. Глядя на сестру, он недоумевал: что заставило ее искать уединения, покинув пиршественные забавы? Ведь там рыцари чуть ли не соперничали за право пригласить ее на танец, и она кружилась с ними, ловко выделывая все сложные фигуры, а ее лицо сияло от удовольствия. И странное дело: в разговорах со старшим братом, пусть они и были непродолжительны, она ни разу не упомянула о своем муже.
Мать писала, что семейная жизнь Джоанны с Обри чрезвычайно тревожит ее и лишает покоя. Леди Милдрэд надеялась, что совместное путешествие сблизит супругов, как некогда поездка в Святую землю помогла изгладить все проблемы меж ней и лордом Артуром. Были ли те проблемы, Уильям не помнил: во время паломничества мать и отец казались ему необыкновенно веселыми, щедрыми и ласковыми. Это были приятные воспоминания; возможно, благодаря им впоследствии он так стремился в Палестину, представлявшуюся ему землей обетованной. Но не стоит смешивать суровую действительность с детскими воспоминаниями. Жить надо без оглядки, только тогда чего-то добьешься.
Задумавшись, он не заметил, как Джоанна повернулась к нему, но услышал ее взволнованный возглас. Она так резко поднялась, что лежавший у нее на коленях шелковый платок упал на песок, а сама леди вскинула руку, словно собираясь осенить себя крестным знамением.
— Я так напугал вас, любезная сестра? Вы собирались перекреститься, будто увидели нечистого!
Джоанна перевела дыхание и заставила себя рассмеяться.
— Нет-нет, я не испугалась, мессир маршал, — проговорила она, отвешивая Уильяму легкий, но учтивый поклон. — Наоборот: я приняла вас за нашего отца и не могла сдержать удивления. Вы так похожи на него!
Лицо Уильяма осталось суровым, хотя губы дрогнули и напряглись, скрывая неожиданно нахлынувшие чувства.
— В Англии мне никто никогда не говорил, что я похож на Артура де Шампера.
Она чуть склонила голову набок, рассматривая его столь внимательно, что он почувствовал, что краснеет. Джоанна сказала:
— У вас осанка отца и его рост, его посадка головы, и даже в движениях многое от него. Это не бросается в глаза, но… это так. — Она улыбнулась: — Даже руки вы складываете на навершии меча в точности как он!
Маршал с удивлением взглянул на свои руки, лежавшие на рукояти, и неожиданно вспомнил эту привычку Артура де Шампера. Воспоминание тронуло Уильяма сильнее, чем он хотел бы показать, — оттого он и остался неподвижно стоять перед сестрой, надеясь, что та не заметит, какую бурю чувств вызвали в нем ее слова. Сначала это была глухая застарелая боль, а затем ему внезапно стало легко и захотелось сказать Джоанне что-то ласковое, родственное, сердечное. Вместо этого он сухо спросил, как же все-таки вышло, что муж покинул ее на полпути?
Джоанна пренебрежительно махнула маленькой ручкой — зашелестела шелковая подкладка ее длинного рукава.
— Лорд Обри не выносит качки на море. О, мессир, видели бы вы его, когда мы пересекали Ла-Манш! В Кале ему пришлось четыре дня приходить в себя после морской болезни. Местные лекари отпаивали его всевозможными целебными зельями, пока Обри не начал мало-помалу розоветь. Вот там-то он и поклялся, что никогда более не ступит на палубу корабля.
Уильям неожиданно улыбнулся.
— Как же он рассчитывает вернуться в Англию? Неужели надеется, что к тому времени остров прибьет к материку и он проедет посуху, не страдая от качки?
Джоанна рассмеялась. Оказывается, служба в ордене не отучила ее брата шутить. Затем она пояснила: проделав большую часть пути вместе с мужем, в Ликии они расстались, ибо Обри ни за что не соглашался продолжать путь морем. Ее супруг направился через Киликию, и было решено, что они соединятся под Акрой. Король Ричард также интересовался Обри де Ринелем, так как еще в Англии предлагал ему присоединиться к крестоносному воинству в Святой земле.
— Надеюсь, ваша разлука с супругом не будет долгой. Странствия в одиночку бросают тень на доброе имя дамы.
— Но ведь я уже под крылом своего прославленного брата-тамплиера, не так ли?
Уильям на это заметил, что будет рад, если Джоанна и в дальнейшем останется в свите молодой королевы. А затем задал еще один вопрос: граф Лестер сообщил ему, что вместо мужа его сестру в пути сопровождал некий пригожий рыцарь-госпитальер. Кто этот человек?
Улыбка сестры погасла. Она вздохнула, взглянув на вечернее небо.
— Кому же и сопровождать паломницу, если не брату ордена Святого Иоанна, в чьи обязанности входит защищать христиан в пути? Имя моего достойного спутника — Мартин д'Анэ, но я не имею о нем никаких вестей с той минуты, как ступила на берег Кипра.
В голосе Джоанны прозвучало сожаление, и Уильяму де Шамперу это не понравилось. Не разлукой ли с рыцарем д'Анэ объясняется грусть его сестры?
Но было и еще нечто, куда более существенное.
Поняв, что некий рыцарь-госпитальер находится на острове, маршал встревожился. Еще в ходе беседы с королем Ричардом у него появились соображения относительно того, как в дальнейшем следовало бы распорядиться завоеванным островом. Подобные планы могли возникнуть и у госпитальеров, и те, конечно же, поспешат оказать влияние на короля. А этот Мартин д'Анэ наверняка поставит в известность магистра своего ордена Гарнье де Неблуса, что на Кипре Ричард окружен тамплиерами. И хоть сей рыцарь едва ли успел отбыть с острова, поскольку еще ни одно судно пока не отходило из Лимассола к берегам Палестины, но разве в чем-нибудь можно быть уверенным до конца?
Из этого следовало лишь одно: ему, де Шамперу, необходимо как можно скорее поделиться своими планами с королем и, если на то будет воля Всевышнего, заручиться его поддержкой. Или поддержкой Робера де Сабле, раз уж английский Лев взялся ему покровительствовать. А к таинственному госпитальеру необходимо присмотреться повнимательнее.
И Уильям де Шампер поспешил раскланяться с сестрой.
Однако разыскать Мартина д'Анэ ему не удалось — никто его не видел и не имел представления, где тот мог остановиться. Также маршалу не удалось изложить свои соображения королю, ибо на следующий день стало известно, что под покровом ночи Исаак Комнин бежал в горы в центральной части острова, и за ним последовали некоторые из его приближенных. Это означало войну.
Ричард был вне себя от гнева.
— И этой черной неблагодарностью он ответил на мои милости? Ведь я не покарал его даже за то, как он обращался с моими дамами, царственными особами! Клянусь десницей Господа, теперь Исаак узнает, что такое ярость Льва! Я немедленно…
Тут король запнулся: взгляд его упал на выходившую из часовни Беренгарию и сопровождавших ее дам. О нет, он не имеет права оставить ее тотчас после свадьбы, тем более что сегодня должна состояться коронация его супруги. Ричард огляделся и воскликнул:
— Гвидо де Лузиньян! Желаете ли вы заручиться моей поддержкой? Клянусь честью Плантагенетов, я окажу ее вам в том случае, если вы изловите предателя Исаака Комнина и доставите его ко мне в цепях! Пусть с вами отправляются рыцарь Онфруа де Торон и князь Боэмунд Антиохийский. У каждого из вас есть нужда: Гвидо требуется корона, Онфруа — супруга, Боэмунду — военная поддержка. Вот и послужите мне, а уж я в долгу не останусь — тому порукой слово рыцаря!
Уильям де Шампер видел, как поблек румянец на щеках короля Иерусалимского. Он знал, что сейчас на душе у Лузиньяна. Он в замешательстве, растерян и не представляет, как выполнить желание Ричарда. О, этот ангелоподобный красавчик! Бесспорно, не будь войн с неверными, он бы правил королевством вполне благополучно. Умудренный в науках, умеющий располагать к себе людей, трудолюбивый и не злоупотребляющий удовольствиями… но отнюдь не воин. Как и двое других, которых Ричард отрядил ему в помощь: ни Онфруа де Торон, ни Боэмунд Антиохийский ничего не смыслят в военном деле. А Исаак Комнин весьма не прост, знает остров как свои пять пальцев, у него повсюду замки, в которых еще немало его сторонников.
Он невозмутимо наблюдал со стороны, как эти трое сошлись на совет, но заранее предполагал, что ни к какому разумному решению они не придут.
И тем не менее ошибся. Он понял это, когда Гвидо разыскал его в лагере крестоносцев за стенами Лимассола.
— Мессир Уильям, посоветовавшись с князем Боэмундом и рыцарем Онфруа, мы просим вас возглавить наш поход против Исаака!
Уильям отложил меч и промасленную ветошь, которой полировал клинок, и пристально взглянул на Гвидо.
— Ваше величество, Ричард Английский наверняка отрядит с вами немало своих рыцарей, в Лимассоле вы сможете найти проводников, а в бывшем замке Исаака имеется подробная карта острова. Вы справитесь своими силами, если не наделаете ошибок.
— Значит, вы отказываетесь?
Красиво очерченные губы Гвидо обиженно дрогнули, но он справился с собой и вполне твердо произнес:
— Мессир маршал, вы были первым, кто прибыл ко мне под Акру. Вы не раз помогали мне в битвах, наставляли мудрыми советами и поддерживали военными силами. Наши победы привлекли под мои знамена немало крестоносцев. Я доверяю вам так же, как своему брату Амори. Но Амори здесь нет, а мне необходим опытный воин, который смог бы разобраться в тонкостях столь сложной операции, как поимка Исаака. И я готов внимать вам во всем, как и под Акрой. И знайте: помогая мне, вы поможете и себе. Ибо Ричард не покинет Кипр, пока не наведет здесь порядок. А без него нам вряд ли удастся взять Акру и отбросить Саладина!
Гвидо был прав, и в отношении намерений Ричарда тоже. Поэтому де Шампер, после недолгого размышления, кивнул, выразив тем самым согласие.
Но перед тем, как покинуть лагерь крестоносного воинства и Лимассол, маршал все же успел встретиться с Робером де Сабле и поделиться с ним своими тайными планами. Тот мгновенно понял его замысел и пришел в восторг. Превосходная идея: предложить Ричарду передать Кипр во владение ордену Храма — разумеется, за внушительный выкуп. Отсюда тамплиеры смогут оказывать постоянную помощь Палестине, пустая казна Ричарда значительно пополнится, а ордену это принесет множество выгод в дальнейшем.
Пока длилась война с Исааком, Ричард Львиное Сердце проводил все дни в обществе своей прелестной королевы. Они прогуливались по цветущим садам, совершали поездки верхом в окрестностях города, подолгу беседовали и вместе молились.
При этом он то и дело интересовался, нет ли вестей от Гвидо де Лузиньяна, подолгу изучал карту Кипра, а затем решил разделить свой флот на две флотилии, отдав одну под начало рыцарю Роберту де Торнхему, а другую вверив де Сабле, и повелел им взять под контроль всю береговую линию острова, чтобы ни один корабль не покинул Кипр, пока не завершится война, а Исаак не смог бы получить подкрепление извне.
Это был обдуманный шаг, и вскоре многие кипрские вельможи и землевладельцы, покинув свои замки, поспешили к английскому королю, чтобы заверить его в своей преданности. Ричард милостиво принимал их, выслушивал клятвы, и тут же отправлял сражаться против Исаака. Только так он мог убедиться, кто действительно готов служить ему, а кто затаил измену. А чтобы история с Исааком Комнином не повторилась, король приказал брать заложников — родителей, жен и детей вельмож, и вскоре в Лимассоле яблоку было негде упасть от великого множества знатных греков и гречанок.
Ричарда они утомляли и раздражали, и он почти с облегчением отправлялся к своей королеве, которая всегда встречала его ласковой улыбкой. Король усаживался у ее ног, следил, как она вышивает, а порой приказывал принести лютню и позвать Джоанну де Шампер. Вместе они распевали баллады, Джоанна всячески развлекала короля рассказами и шутками, и Ричард не раз говаривал, что она истинная де Шампер, чей девиз — «Верный всегда рядом». Чего не скажешь о ее суровом брате: когда королю пришло в голову о чем-то расспросить маршала, внезапно выяснилось, что он отсутствует в лагере, так как отправился в поход в горы вместе с Гвидо де Лузиньяном.
Король возмутился, на что Иоанна Сицилийская резонно заметила, что ему не следует считать маршала своим подданным, ибо тот всецело принадлежит ордену, и к тому же долг велит ему поддержать в новой войне короля Иерусалимского, за которого Уильям де Шампер сражался в Святой земле.
Джоанна взглянула на Иоанну с признательностью.
Та во всем ей благоволила — даже предоставила к ее услугам свой кошелек, после того, как подруга ее детских игр призналась, что прибыла на Кипр совершенно без средств. Они вместе проводили немало времени: музицировали, прогуливались, посещали лавки купцов и шили наряды, отдавая особое предпочтение легким тканям, ибо здесь, на Кипре, почти всегда было солнечно и тепло.
Беренгария также не оставалась в стороне. И пусть еще недавно она носила власяницу и одеяния монашеского покроя, но, став королевой, полностью обновила свой гардероб и теперь выглядела столь же великолепно, как сестра и кузина короля. Правда, временами Беренгария пускалась в рассуждения о том, что все эти наряды — суета сует и всем им следовало бы больше думать о спасении души, но подобные речи не находили особого отклика ни у Иоанны Сицилийской, ни у Джоанны.
Тем временем Ричард отправлялся в порт, где шла погрузка на суда каменных валунов, которые должны были послужить снарядами для метательных машин под Акрой. По его приказу также началась заготовка и разделка леса, предназначенного для строительства осадных башен.
Ричард возвращался в замок лишь поздним вечером, запыленный и усталый, а столкнувшись лицом к лицу с Беренгарией, поглядывал на нее с некоторым недоумением. В глазах его без усилий читался вопрос: как это хрупкое существо тут оказалось и что ему, королю, полностью погруженному в ратные заботы, с ним делать? Королева вскоре поняла это и загрустила, а Иоанна даже упрекнула старшего брата, что тот, очевидно, забыл, что у них с супругой — медовый месяц.
— Поверь, Пиона, я не забываю посещать ее величество на ложе и охотно исполняю свой супружеский долг. Но клятва крестоносца сейчас для меня куда важнее. И нечего дуться! Завтра я возьму вас с собой на верховую прогулку, и Беренгария уже не сможет упрекнуть меня в недостатке внимания к ней.
Но когда на следующий день они двинулись верхом вдоль морского побережья, Иоанна сказала, склонившись в седле к Джоанне:
— Похоже, наш Ричард затеял эту поездку не столько ради супруги, сколько для того, чтобы опробовать этого белого жеребца, доставшегося ему от Исаака Комнина в качестве трофея. Великолепное животное, вы не находите, кузина?
Джоанна молча следила за королем.
Жеребец был и в самом деле превосходен: крупный, снежно-белый, с длинной волнистой гривой, пышным хвостом, мускулистой грудью и тонкими, как тростник, пястями. Ричард назвал коня Флейвелом. Сейчас он, пришпорив скакуна, унесся далеко вперед, затем резко натянул поводья, поднял Флейвела на дыбы и развернулся. Алый плащ короля заплескался на ветру, как боевое знамя. Беренгария смотрела на супруга сияющими глазами. Сама она была неважной наездницей, в отличие от своих спутниц.
Для Иоанны же не было большего удовольствия, чем нестись вскачь вдоль края обрыва, или, найдя укромную бухту, поплескаться в мелкой, прогретой солнцем воде. Как правило, она звала с собой и Джоанну. Однажды, когда они остались на берегу одни, а стража поджидала их в отдалении, она заметила:
— Что с вами происходит, милая Джоанна? Вы слишком часто грустите. Это из-за разлуки с супругом?
Джоанна едва сдержалась, чтобы не выразить пренебрежение жестом или словом. При чем тут Обри? Она только рада, что хотя бы на время избавилась от него, а участь мужа ее нисколько не тревожила. Он хитер, корыстен и ловок, такой человек везде найдет свою выгоду и избежит серьезных опасностей. Наверняка он без происшествий прибудет в лагерь под Акрой, но, вполне возможно, и не станет слишком спешить туда, пока дела крестоносцев не пойдут на лад.
Ее беспокоило другое — полное отсутствие вестей от Мартина д'Анэ. Они не виделись с той минуты, когда галера графа Лестера вошла в гавань Лимассола, больше того — она не знала, как и когда Мартин сошел на берег. Позднее капитан Дрого поведал ей, что видел оруженосца Эйрика, который сводил по сходням саврасого жеребца рыцаря-госпитальера. Однако разыскать самого Мартина никак не удавалось, хотя Саннива, тосковавшая без мужа, вместе с Дрого и Бритриком исходили весь город и военный лагерь.
Все было напрасно — рыцарь и его рыжеволосый слуга словно растворились среди многочисленного воинства. На все расспросы им отвечали насмешками. Госпитальер? Откуда тут взяться госпитальеру? Вот тамплиеров хоть отбавляй, а этих — ни единой души.
Годит однажды заметила с упреком:
— Вы, госпожа, еще в Олимпосе так охотно откликнулись на ухаживания вашего племянника-графа, что мессиру Мартину д'Анэ только и оставалось, что безмолвно исчезнуть. И он прав — разве истинный рыцарь мог поступить иначе, не повредив чести дамы? Забудьте о нем! Вокруг вас столько молодых людей, и каждый стремится завладеть вашим вниманием.
Действительно, красавица Джоанна де Ринель, родственница короля Англии, имела большой успех среди окружения Ричарда. Поначалу это ей льстило и забавляло, но с некоторого времени она внезапно заметила, что, даже принимая знаки внимания от других, постоянно ищет глазами в толпе своего госпитальера. О, если бы он мог видеть ее в эти минуты и снова явился бы в ночи под ее окно…
Но Боже, нет, — она хочет большего! Снова обнять его, открыть уста его поцелуям, позволить ласкать себя и самой касаться его нежной кожи, запускать пальцы в его шелковистые волосы, ловить взгляд его глаз, таких же бездонных и синих, как прозрачные воды Средиземного моря… И как бы ни развлекали ее, каким бы постоянным вниманием поклонников ни была она окружена, как бы ни упивалась своим высоким положением, в ее сердце все равно жила тоска.
Где же ты, Мартин? Я жду тебя!..
— Беренгария несколько утомлена, — заметила Иоанна, наблюдая за возвращавшимися вдоль кромки прибоя венценосным братом и его супругой. — И выглядит сникшей. А между тем, кузина, я уверена, что по возвращении наша юная королева, позабыв про усталость, тотчас отправится в часовню и простоит битый час на коленях, не чувствуя ни малейшей усталости. Она очень благочестива, что совсем неплохо, но ее чрезмерный религиозный пыл порой начинает раздражать Ричарда. И это в первые дни после свадьбы!
— Я полагаю, с Божьей помощью у них все наладится, — ответила Джоанна. Сейчас ее куда больше занимали собственные чувства, чем чужие неурядицы. Однако Иоанна ждала иного ответа, и Джоанне пришлось напомнить, что именно благодаря твердой вере и неустанным молитвам Беренгарии суда Ричарда так вовремя подоспели им на выручку.
Светло-серые, как утренний туман, глаза Иоанны округлились. Да, тогда она сочла это чудом; воистину — только молитвы Беренгарии привели к ним Ричарда. Еще несколько часов, и этот гнусный Исаак… О, она искренне надеется, что король Гвидо сумеет справиться с негодяем! Ведь столько воинов выразили желание помочь ему захватить коварного лжеимператора!
Вот как? С Гвидо де Лузиньяном отправилось много рыцарей-добровольцев? Это натолкнуло Джоанну на мысль, что и Мартин со своим оруженосцем могли примкнуть к преследователям Исаака. Ведь ни один корабль не отплыл за это время в Палестину, следовательно, госпитальер не мог уехать с Кипра, а где еще может проявить себя такой превосходный воин, если не в войне с презренным узурпатором?
По возвращении в замок перед Джоанной вновь предстала Саннива с мокрым от слез лицом. Она постаралась утешить горничную, сообщив, что ее супруг, скорее всего, вместе с Мартином д'Анэ отправился в горы — сражаться с Комнином. Но это привело Санниву в еще большее отчаяние — теперь она боялась, что Эйрик может погибнуть.
— Это просто несносно! — вспылила Джоанна. — То ты жаловалась, что супруг покинул тебя, теперь горюешь, что он на войне. Но ведь ты обвенчалась с воином! Выходила бы за Бритрика и держала его при себе. Из дома ни ногой и готовит превосходно…
Саннива только всхлипывала, невнятно бормоча: «Уехал… Даже слова не сказал… Не простился…»
Джоанна вздохнула. Мартин д'Анэ ушел из ее жизни точно так же. Но она не хотела, не могла верить, что после всего, что они испытали вместе, после той высокой радости, которую они приносили друг другу, после всех клятв и заверений в любви все оборвалось бесповоротно и навсегда. Такая любовь просто не может исчезнуть в одночасье!
Она отправилась в капеллу замка и молилась перед образом Девы Марии так долго, что находившаяся здесь же королева Беренгария, приблизившись, ласково погладила ее по плечу.
— Дорогая Джоанна! Я бесконечно рада, что у меня теперь есть такая чудесная кузина! И я всем сердцем верю, что Ричард отвоюет у неверных Иерусалим и мы с вами однажды познаем истинное блаженство, преклонив колени у Гроба Господня!
«Да простит меня Пресвятая Дева, но истинное блаженство я познаю только тогда, когда обнимаю своего Мартина. А потом… Потом мне и ад не страшен!»
И она с жадностью принялась собирать все слухи о войне с Комнином, какие только доходили до Лимассола. А появлялись они чуть ли не ежедневно. Прибывали запыленные гонцы с сообщениями, что Исаак бежал в Никосию, а войска Гвидо завладели почти всей равниной вокруг Лимассола и прилегающими горами. Захвачено множество пленных, а также императорский лагерь со всем имуществом и обозами, большой табун отличных кипрских коней — все это стало добычей победителя, и Гвидо передал все трофеи в дар Ричарду. Еще больше порадовало Ричарда то, что большинство жителей острова не желали сражаться за узурпатора, который измучил их поборами, и были готовы принять власть латинян.
Однако часть Кипра все еще оставалась в руках лжеимператора, и Гвидо продолжал свой поход. Он сумел захватить порт и замок Святого Иллариона, затем перевалил через горы и взял крепость Кирению, где Комнин прятал свою дочь, единственную наследницу. После этого Гвидо сразился с Исааком при Фамагусте. Осада этого города-крепости продлилась три дня, Исааку удалось бежать, а Гвидо дал воинам кратковременный отдых, а сам отправил Ричарду обоз с дарами и трофеями. Сопровождал его Уильям де Шампер.
Джоанна вновь увидела брата в большом зале Лимассольского замка — он представлял Ричарду главный дар короля Гвидо — захваченную в плен царевну, дочь Исаака. Эта девушка была ценной заложницей, и с ней обращались сообразно ее положению и достоинству. Но поскольку ее иноземное имя удавалось выговорить далеко не каждому, ее стали называть Девой Кипра.
Царевна оказалась довольно рослой, статной и, хоть и была еще весьма юной, имела роскошное пышное тело. Ее густые брови сходились у переносицы, а огромные черные глаза придавали девушке сходство с ликами византийских святых на иконах. Иссиня-черные волосы Девы Кипра, унаследованные ею от матери-армянки, так вились, что, будучи уложены в высокую прическу, казались птичьим гнездом, поддерживаемым изукрашенной каменьями диадемой, указывающей на высокое положение пленницы. Об этом же свидетельствовал и пурпурный плащ, накинутый на ее пышные плечи, — царственный пурпур, по ромейским законам, могли носить лишь монархи.
Дева Кипра говорила только по-гречески, и хоть Ричард не понимал ее слов, он повел себя с высокородной пленницей как истинный рыцарь: любезно сообщил, что она может чувствовать себя гостьей при его дворе, и велел Беренгарии взять на себя заботу о царевне.
Беренгария и впрямь была добра к Деве Кипра и даже велела подать ей тар,[115] когда царевна пожелала исполнить для королевы напевы о Давиде Сасунском.[116] Пела она действительно замечательно, но, к сожалению, никто не понимал, о чем идет речь, а протяженность напевов и жаркий послеполуденный час навевали сон. Вскоре королева и Иоанна Сицилийская задремали на подушках низкой софы, а Джоанна подсела к дочери Исаака и, немного зная по-гречески, попыталась выведать у нее, не приметила ли та среди воинов короля Гвидо рыцаря-госпитальера. Ей даже удалось описать темное одеяние рыцарей ордена Святого Иоанна с белым крестом на груди.
— О! — возвела к сводчатому потолку свои бездонные глаза Дева Кипра. — Это самый храбрый и прекрасный из витязей доблестного короля Гвидо! Я сразу заметила его среди тех, кто окружал меня, ибо он не сводил с меня глаз и был так хорош, что я едва удержалась, чтобы не расцеловать его в уста, скрытые густой кудрявой бородой…
Джоанна изумилась. Или ее греческий недостаточно хорош, или эта дама имеет в виду кого-то иного. Вряд ли за столь короткий срок Мартин д'Анэ мог обзавестись кудрявой бородой. Однако желание продолжать расспросы у нее почему-то пропало.
Утром следующего дня в гавань Лимассола вошел корабль из Палестины. На нем прибыли посланцы короля Филиппа: его кузен — епископ Бове и магистр ордена Святого Иоанна Гарнье де Неблус. И если последний держался вполне учтиво, то епископ Филипп де Бове сразу же ринулся в атаку.
— Зачем вы возложили на себя крест, ваше величество? Чтобы, прикрываясь им, вести игрушечные войны повсюду, куда занесет вас случай? Сейчас вы оказались на Кипре, так и не добравшись до Святой земли, и тешитесь здесь, терзая невинных христиан, тогда как истинные воины Святого Креста продолжают жестоко биться под стенами Акры с неверными!
На это даже Ричард не сразу нашелся что ответить. Он молча смотрел на дерзкого прелата, восседая на троне Исаака, его могучие руки крепко сжимали резные подлокотники, а лицо мало-помалу наливалось кровью.
Епископ Бове был хорошо известен королю. Он происходил из рода графов Дре и принял сан не по призванию свыше, а по обязанности, будучи младшим в семье. Епископ редко носил сутану, предпочитая ей доспехи и меч, но для встречи с Ричардом все же надел камилавку, а поверх длинной кольчуги на его плечах лежала мантилетта,[117] расшитая виноградными лозами и пшеничными колосьями. Несмотря на одеяние, его гладко выбритое напряженное лицо изобличало в нем непримиримого воина, а не служителя Церкви.
— Вам нечего ответить, сир? — вскричал Бове, когда молчание Ричарда стало невыносимым. — Тогда скажу я: вы расслабились, вы играете свадьбы, развлекаетесь, словно охотой, преследованием Исаака Комнина, и это означает только одно: вы, ваше величество, не решаетесь приступить к куда более трудной задаче — к отвоеванию Гроба Господня!..
— Проклятый пасынок сатаны! — выругался, резко выступив вперед, другой епископ — Солсбери, советник и друг Ричарда. — И ты, пес, смеешь упрекать моего государя, когда твой ничего не сумел добиться и только без конца клянчит подачки!
— Молчи, семя дьявола! — не остался в долгу Бове. — Пока мой король сражается…
— Вернее, бездействует в лагере под Акрой! Уж это-то нам известно! И прикрывается рыцарской клятвой, чтобы не потерпеть поражение, и лопается от зависти к победам английского Льва на Кипре. Едва Ричард прибудет туда, он возьмет Акру куда быстрее, чем Филипп Французский сплетет очередную интригу!
— Как смеешь ты поносить моего добродетельного государя?
— Заносчивый осел!..
Ругательства и оскорбления еще витали в воздухе, а рыцари Ричарда уже схватились за оружие. Сопровождавшие епископа Бове французы также обнажили сталь. Королю пришлось повысить голос и встать между воинами, готовыми пролить кровь. Только после этого установилась тишина.
Первым делом Ричард обернулся к бледной как полотно Беренгарии и попросил ее и прочих дам покинуть зал совета. Рыцари проводили королеву и ее свиту поклонами, но едва те удалились, как шум возобновился.
Взволнованная Беренгария сразу кинулась в часовню, Иоанна осталась подслушивать под дверями зала, а Джоанне пришлось увести Деву Кипра, которую все происходившее только забавляло.
Однако кровопролития не случилось. Ричарду удалось вполне мирно договориться с епископом Бове, дав обещание в самый короткий срок закончить покорение Кипра, ибо начатое нельзя оставлять. Как только окончательная победа будет достигнута — в чем уже никто не сомневался, — король Англии, не мешкая ни часа, отправится в Палестину. Что касается самого епископа Бове, то ему следует покинуть остров немедленно, так как он оскорбил государя в присутствии его подданных, и здесь найдется немало желающих поквитаться с ним — тем более что он, хоть и духовное лицо, носит на поясе меч, а значит отвечает за свои слова как воин.
Чтобы успокоиться после столь бурных событий, Иоанна предложила Джоанне снова отправиться на прогулку верхом. Вскоре обе женщины уже направлялись к отдаленной бухте, которую облюбовали для купания.
Они неторопливо ехали вдоль берега, огибая скалы и заросли, когда Джоанна внезапно заметила едущего им навстречу рыцаря-госпитальера.
Сердце бешено забилось в ее груди, и она резко натянула поводья, останавливая лошадь. Это был он, Мартин д'Анэ! Молодая женщина узнала фигуру рыцаря, несмотря на то, что его лицо полностью скрывал шлем, узнала и коня необычной масти. Всадник проехал стороной, отвесив с седла почтительный поклон дамам.
Джоанна не двигалась с места и не откликалась на призывы далеко обогнавшей ее Иоанны. Она всей кожей ощутила устремленный на нее взгляд Мартина, когда тот повернул своего саврасого к находившимся неподалеку зарослям кустарника.
— Миледи… Пиона!.. — срывающимся голосом воскликнула Джоанна, догнав королеву Сицилийскую. — Прошу позволить мне ненадолго отлучиться. Право, не стоит посылать со мной стражу — это всего лишь маленькая женская слабость… Вскоре я присоединюсь к вам.
Из укрытия в зарослях Мартин видел, как Джоанна отделилась от свиты и шагом, не торопя лошадь, двинулась в его сторону. Он снял шлем — на его лице блеснула улыбка. Чистое безумие — пытаться увидеться с ней. И все-таки он здесь, несмотря на уговоры и воркотню Эйрика. Рыжий, разумеется, прав, а он, всегда столь рассудительный и осторожный, сейчас поступает вопреки здравому смыслу.
Все это время они с Эйриком укрывались в одном из гротов на скалистом побережье, где нашлось место и для обоих коней. Эйрик время от времени ходил за провиантом в Лимассол и приносил новости. Среди них были и хорошие — заклятый враг Мартина Уильям де Шампер отбыл сражаться с самозванцем Исааком, но плохих тоже хватало. Хуже всего было то, что торговые суда стояли в порту, а флот Ричарда крейсировал вдоль берегов острова, и не было ни малейшей возможности тайно покинуть Кипр.
Эйрик же был удручен тем, что люди Джоанны без устали разыскивали их, и однажды ему едва удалось ускользнуть от Саннивы в Лимассоле.
— Я собственными ушами слышал, как она расспрашивает о рыцаре-госпитальере Мартине д'Анэ и его оруженосце — рослом рыжем варанге. До чего же упрямая девица, клянусь молотом Тора![118]
— Должно быть, ей приказала ее леди, — заметил Мартин.
Рыжий скорчил зверскую гримасу.
— Опомнись, малыш! Твоя райская птичка нынче кружит головы знатным рыцарям и лордам, разъезжает в свите королевы и сама выглядит как венценосная особа. Станет она разыскивать какого-то бродягу-рыцаря, когда у ее ног валяются разряженные в пух и прах хлыщи вроде Роберта Лестера и этого опоясанного мечом прелата, епископа Солсбери!
Мартин и глазом не моргнул, но позже дотошно расспросил обо всем Эйрика и, узнав, что Джоанна довольно часто отправляется на прогулки к бухте, лежащей близ древнего маяка на мысу, вдруг сказал, что хотел бы увидеться с ней.
Эйрик рвал и метал, тем более что именно в тот день ему стало известно: завтра порт Лимассола покидает корабль, на котором возвращается в Палестину магистр ордена Святого Иоанна. И не исключено, что им удастся присоединиться к главе госпитальеров. Однако Мартин настоял на своем, как бы ничтожна ни была надежда на случайную встречу.
И вот она здесь! Мартин видел, как молодая женщина спешилась и углубилась в заросли, ведя лошадь в поводу. А в следующий миг шагнул навстречу.
Они стремительно и сильно обнялись. Оба не произнесли ни слова — просто замерли, вслушиваясь в бешеный стук своих сердец. Потом Джоанна подняла к нему лицо, и он осыпал его быстрыми, яростными, полными страсти поцелуями. Сейчас он мог бы повалить ее на траву и взять так, как брал всегда, когда хотел, и она не станет сопротивляться… Это не в ее власти!
И все же она отстранилась и проговорила, все еще тяжело дыша:
— Невозможно, возлюбленный мой! Если я хоть немного задержусь, за мной тотчас пошлют стражников. Лучше приходи ко мне в Лимассол. Саннива приведет тебя ко мне. Где твой Эйрик?
При чем тут Эйрик? Мартин не сразу понял, о чем говорит Джоанна. Потянулся к ней, снова обнял. Целовал ее глаза, вдыхал только ей присущий аромат сладких сливок, так возбуждавший его. Ее запах…
Неожиданно он уловил и другой аромат — сладкий и обволакивающий запах амбры. Вот оно что: английская девочка научилась душиться на восточный лад. Но амброй пользовалась и Руфь…
Мартин вздрогнул, вспомнив невесту, и мгновенно отрезвел. Молнией мелькнула мысль: зачем я ищу встреч с Джоанной, если уже исполнил все, что от меня требовалось, и она больше не играет никакой роли в наших планах?
Однако он был здесь. Опасная глупость. Хуже — ошибка!
Медленно, словно разрывая тайные узы, он отступил от Джоанны и повернулся к коню, делая вид, что поправляет подпругу. Она рванулась за ним, приникла:
— Я словно и не жила без тебя, милый! Где же ты был все это время?
Ее голос подействовал на Мартина неотразимо. Ему вновь нестерпимо захотелось обнять ее, но вместо этого он ответил нечто вполне правдоподобное: мол, сражался в отрядах короля Гвидо.
— Мой брат также отправился в этот поход, — проговорила Джоанна, лаская его выгоревшие волосы. — Ты видел его? Но сейчас он уже в Лимассоле. Должно быть, ты вернулся вместе с ним?
— Мы прибыли в одном отряде, но я не имел возможности с ним беседовать, — сдержанно отозвался Мартин. — Твой брат, любимая, — маршал тамплиеров, и уже поэтому не жалует рыцарей нашего ордена.
Она не вдумывалась в смысл сказанного им, главным тут было одно слово — любимая. Сердце ее растаяло и тут же тревожно застучало, когда Мартин сообщил, что уже завтра отплывает в Палестину на корабле магистра де Неблуса. Это тоже звучало вполне логично — как рыцарь-иоаннит, Мартин обязан последовать за верховным главой своего ордена.
Впрочем, он тотчас упрекнул себя: в его деле никогда нельзя открывать истину, даже частично.
Однако Джоанна поняла только то, что им предстоит разлука. Может быть, навсегда.
— А как же я? — глухо спросила она.
Он так долго смотрел на нее, что Джоанна невольно поежилась под его прохладным и твердым взглядом.
— Ты должна понимать, что у нас нет будущего, — негромко произнес Мартин.
Пока она осмысливала эти слова, втайне сознавая, что и сама всегда это знала, со стороны берега послышались голоса. Кто-то выкрикнул ее имя. Похоже, Пиона все-таки отрядила за ней стражу.
— Тебе пора возвращаться, — заметил рыцарь, вновь водружая на голову шлем. Теперь он смотрел на нее сквозь прорези массивного топхельма, и глаза его оставались такими же холодными, как синие снега далекого севера.
— Зачем же ты ждал меня здесь? Зачем приехал?
Мартин не нашелся что ответить. Назвать их встречу случайной было просто нелепо.
— Я не мог уехать, не простившись с тобой. Не увидев тебя хотя бы еще раз… — с усилием произнес он, ибо это было чистой правдой.
Лицо Джоанны, бледное и погасшее всего мгновение назад, осветилось улыбкой. Она протянула к нему руку, и их пальцы переплелись…
Но неподалеку уже слышался топот копыт, громкий голос продолжал настойчиво звать леди Джоанну.
— Я всегда буду помнить тебя, — Мартин порывисто обнял молодую женщину. И шепнул: — Если появится хоть один шанс… я приду к тебе!
Он мгновенно исчез в зарослях, а Джоанна выступила из зарослей, но в первый миг не могла сказать ни слова воинам охраны. Наконец, сославшись на духоту и внезапную головную боль, она попросила одного из них проводить ее обратно в замок. Отвечать на расспросы Пионы в эту минуту было выше ее сил!
Но и в своем покое Джоанна до самого вечера не могла успокоиться.
Ночь наступила поразительно тихая и безветренная. По темно-фиолетовому бархату небосклона лениво плыла полная луна, и внезапно Джоанне пришло в голову, что еще в прошлое полнолуние она и знать не знала, как сильно и мучительно полюбит своего спасителя — рыцаря Мартина д'Анэ. Теперь Джоанна ясно понимала, что чувство, которое она испытывала, — это любовь. Даже краткий миг свидания вернул ей ощущение полноты жизни, а до того все, что происходило с ней и вокруг нее, — пиры, наряды, почести, ее высокое положение при дворе, отношения с братом, не спешившим назвать ее сестрой, было всего лишь странным наваждением.
Отныне она знает, что как бы ни сложилась ее судьба, существует человек, которого она любит и который любит ее. «Если появится хоть один шанс — я приду к тебе!» — так сказал Мартин, сознавая, что ее, замужнюю даму, придворную королевы, и его, рыцаря, принесшего монашеские обеты, ничто не может связывать. У них был лишь краткий миг счастья. Но Джоанна страстно хотела верить, что он когда-нибудь продлится.
Она прометалась всю ночь и лишь ненадолго забылась под утро. Но сон покинул ее еще до того, как стражник на башне протрубил зарю, и Джоанна внезапно решила: она во что бы то ни стало должна быть в порту. Корабль, который доставит магистра Гарнье и епископа Бове к берегам Палестины, вот-вот отчалит, и у нее есть надежда еще раз увидеть возлюбленного. Одно это даст ей силы ждать, ждать и надеяться.
Джоанна торопливо разбудила Годит и велела подать одежду. Сонная камеристка, ворча, принялась вынимать платье из сундука, а Джоанну жгло такое нетерпение, что она не могла устоять на месте, пока Годит затягивала шнуровку на спине блио. Времени привести в порядок волосы уже не было, поэтому Джоанна кое-как скрутила их в узел, заколола булавками и, накинув капюшон легкого плаща, спустилась вниз.
О, ей следовало спешить! Уже совсем рассвело, на востоке полыхала алая с золотом полоса зари. Вот-вот начнется отлив, а с отливом корабль покинет гавань.
К ее радости, галера французов все еще покачивалась у причала. Джоанна перевела дух, огляделась и устроилась на парапете стены, окружавшей порт. Облокотившись на каменный зубец и не обращая внимания на время от времени проходивших мимо стражников, она вся обратилась в зрение.
У сходней, перекинутых с причала на галеру, стоял магистр ордена Святого Иоанна Гарнье де Неблус. Его длинное черное одеяние с белым орденским крестом ниспадало до шпор, а вместо шлема голову магистра, прожившего долгие годы в Святой земле, венчал белый сарацинский тюрбан. Сейчас он беседовал с молодым графом Лестером, по приказу которого в кормовой трюм галеры загоняли целое стадо овец. Помимо живности, на судно грузили многое другое, необходимое под Акрой: бочонки с вином, мешки пшеницы, деревянные брусья и балки, тюки тонкого полотна для перевязок. Епископ Бове, словно не замечая всей этой кипучей деятельности, отрешенно стоял на галерее кормовой надстройки, сцепив ладони и опустив голову, и казался всецело погруженным в молитву. Наконец он вышел из оцепенения, обернулся и что-то выкрикнул, поочередно указав сначала на море, а затем на небо.
Из-за криков грузчиков-киприотов, плеска волн и плаксивых воплей чаек Джоанна не могла расслышать слов епископа-воина, но по его жестам поняла, что он торопит магистра госпитальеров, а тот просит немного подождать.
И вскоре стало ясно, кто был причиной заминки: по сходням начал подниматься рослый рыцарь в закрывавшем голову до плеч шлеме и долгополом сером плаще с нашитым на спине зеленым крестом. Он двигался медленно, а приблизившись к магистру, обменялся с ним несколькими словами, после чего тот кивнул и отступил в сторону, открывая проход на судно.
Джоанна взволнованно перекрестилась. Зеленый крест на плаще рыцаря свидетельствовал о том, что он состоит в ордене Святого Лазаря — ордене рыцарей, пораженных проказой. Спаси и сохрани Святая Дева от столь жестокой участи! Но несмотря на страшный недуг, лазариты считались наиболее бесстрашными бойцами, ибо предпочитали гибель в бою с неверными унизительной смерти от проказы.
За рыцарем последовал оруженосец — могучий детина в куртке из бычьей кожи, обшитой железными пластинами. На нем была каска, но из-под каски выбивались длинные пряди рыжих волос, которые шевелил утренний бриз. Джоанна невольно остановила на нем взгляд: не будь этот богатырь-оруженосец слугой прокаженного, она могла бы поклясться, что перед нею — Эйрик, супруг ее Саннивы!
Впрочем, отсюда она не видела его лица, зато могла ясно рассмотреть обоих коней, которых оруженосец вел за собой по сходням. Один из них был темно-бурым, а другой — редкой саврасой масти, крупный, поджарый, с черными чулками на ногах и длинной гривой — темной, но с явной примесью светлых волос. Джоанна слишком хорошо разбиралась в лошадях, чтобы ошибиться: перед нею был конь Мартина д'Анэ, она узнала его мгновенно!
Молодая женщина застыла, словно окаменев. Тело сковал свинцовый холод. Сумбурные мысли замелькали в голове. Мартин д'Анэ ехал один, без отряда орденских братьев, что само по себе случается нечасто, особенно в столь продолжительном путешествии… А по прибытии на Кипр он скрылся — попросту исчез, и никто о нем ничего не знал… И прежде того, в пути, он ни с кем не пытался свести знакомство… Кроме нее!.. Но и ей он не спешил открывать свое прошлое, избегал отвечать на расспросы…
Джоанне почудилось, что сердце ее вот-вот разорвется — но оно дрогнуло и почти остановилось: сейчас она задохнется и умрет!
Прокаженный стоял у поручней, глядя на берег. Корабль разворачивался и медленно отходил от причала, матросы поднимали главный парус, доносился грохот весел, вставляемых в уключины. Рыжий Эйрик — теперь уже ошибки быть не могло, она узнала оруженосца Мартина д'Анэ, — привязал саврасого жеребца и своего коня в стойле за дощатой загородкой и вперевалку приблизился к лазариту. Теперь они стояли рядом, но если лицо Эйрика было открыто, топхельм лазарита, не давал возможности видеть его черты.
У Джоанны мелькнула слабая надежда — а вдруг это все же не Мартин? Но конь, но оруженосец… и этот шлем, через прорези которого он так пристально смотрел на нее вчера…
Лазариты редко открывают лица, избегают общения с людьми, держатся особняком… но и они порой покупают шлюх, чтобы утолить свои желания! Пока их тела еще не начали распадаться и повинуются им.
Корабль удалялся. Джоанна по-прежнему стояла, не шевелясь. Глаза ее были расширены, сердце исчезало где-то в груди, дыхания не хватало. Наконец ее пальцы, намертво вцепившиеся в каменный зубец, разжались, и она начала сползать вдоль кладки парапета. Гул в ушах стал нестерпимым, и молодая женщина провалилась в глухую беспросветную тьму.
ГЛАВА 14
Галера с Кипра медленно приближалась к берегам Палестины.
Мартин стоял на кормовой надстройке, глядя сквозь прорези шлема на вырисовывающиеся вдали очертания Святой земли. Горизонт был затянут мутной сероватой мглой, солнце здесь было не таким ясным, как на Кипре, однако постепенно все отчетливее проступала линия холмов и строения на берегу.
Под стальной личиной топхельма лицо рыцаря было напряжено: однажды он поклялся, что никогда более его нога не ступит на эти земли. Но Ашер бен Соломон вынудил его изменить своей клятве. Хотя в глубине души Мартин и сам был не прочь взглянуть, что же здесь на самом деле происходит. Упорство крестоносцев, их отчаянная борьба и непреклонное стремление возродить утраченное Иерусалимское королевство волновали его и вызывали невольное уважение.
«Ну что ж, вот и представился случай», — подумал он, решительно изгнав из мыслей всякую тень воспоминаний. У него есть задача, и ее необходимо решить. А когда он с этим справится, то наконец-то получит три вещи, которые нужны ему больше всего на свете: дом, семью и смуглую красавицу Руфь.
Думать о прелестной еврейке ему было тем легче, чем дальше за кормой оставались Кипр и Джоанна. Об англичанке вообще следовало забыть — по крайней мере до тех пор, когда ему придется ради достижения своей цели сослаться на свою связь с нею. Возможно, даже и без этого удастся обойтись. В остальном Мартин надеялся, что бурное любовное приключение так и останется одним из эпизодов его довольно-таки беспокойной жизни… впрочем, не лишенным приятности.
С моря укрепления Акры, некогда возведенные первыми крестоносцами, казались сплошной желтоватой громадой. За могучими зубчатыми стенами виднелись купола храмов и звонницы, превращенные в минареты с приходом сарацин. Далеко в море выступал каменный мол, защищавший гавань, но судов в ней сейчас было совсем немного, куда меньше, чем стоявших на внешнем рейде итальянских кораблей. Огромные нефы и галеи пизанцев и генуэзцев блокировали Акру с моря с тех пор, как им удалось отогнать от побережья суда египетского флота Саладина.
Стоявший неподалеку от лазарита магистр Гарнье де Неблус пояснил, что эти корабли не позволяют галерам и фелукам сарацин доставлять в окруженную Акру подкрепления и продовольствие. И все же неверные продолжают удерживать город, так как Саладин поклялся, что Акра — этот «якорь» крестоносцев в Святой земле — больше никогда не будет принадлежать франкам.
— Мы причалим вон там, — магистр указал на побережье севернее города. — Нас будут ждать, ибо еще днем я отправил почтового голубя с сообщением о нашем прибытии.
О том, что содержалось в этом послании, Мартин догадался только тогда, когда заметил у причала группу рыцарей с зелеными крестами на плащах и в шлемах, наглухо закрывавших лица. Они стояли отдельно от всех прочих, явившихся встретить судно.
— Вы сообщили братьям ордена Святого Лазаря обо мне?
— Я не мог поступить иначе, — магистр слегка склонил увенчанную тюрбаном голову. — Иначе вас могли бы удержать на корабле до тех пор, пока за вами не прибудут. В лагере и без того хватает болезней, и к прокаженным тут относятся не слишком приветливо. Хотя, клянусь верой, братья лазариты сражаются под Акрой так, что иным лучше бы возносить им хвалы.
Мартин быстро взглянул на Эйрика. Рыжий хмурился и выглядел неважно.
Еще на Кипре, обсуждая план дальнейших действий, они предполагали сразу после высадки затеряться в шумном и беспорядочном скопище воинов, переодеться в укромном месте и, выдав себя за наемников, примкнуть к какому-нибудь отряду крестоносцев. В лагере под Акрой их было великое множество: итальянцы и немцы, испанцы и шведы, англичане и французы, шотландцы и австрийцы — едва ли не все народы Европы. И новичков здесь всегда принимали охотно — умели бы держать в руках меч или копье.
Но одно дело предполагать… Христиане и мусульмане говорят, что всем располагает только Бог, и сейчас этот Бог — неизвестно чей, — пожелал, чтобы Мартин угодил прямиком к настоящим прокаженным. Хуже не придумаешь, и отделаться от этих лазаритов не так-то просто.
Весла мерно вздымались и опускались, галера подходила к причалу. Магистр Гарнье тем временем направился к стоявшему на носу корабля епископу Бове, который, в отличие от госпитальера, на протяжении всего плавания старался держаться как можно дальше от прокаженного спутника.
— Похоже, мы влипли, малыш, — негромко произнес за спиной Мартина Эйрик.
— Поглядим, — коротко ответил Мартин.
По мере приближения к берегу сильнее стали слышны запахи дегтя и гниющих у берега водорослей. Шкипер галеры подал отрывистую команду, и ряды весел разом поднялись из воды и тотчас опустились, замедляя ход корабля. Прозвучала новая команда — и весла исчезли внутри корпуса судна. С шумом упали паруса. Едва галера коснулась причала, несколько матросов выпрыгнули на берег, завели причальные концы и принялись устанавливать сходни. Первым делом на берег начали выводить присланных Ричардом овец, затем строевой лес для ремонта и постройки осадных орудий. И пока продолжалась вся эта суета, Мартин оставался на борту, наблюдая за лазаритами. Да, они явились за ним, и едва он ступил на сушу, шагнули навстречу.
— Мы ждали вас, брат, — глуховатым голосом произнес один из них. — Следуйте за нами!
Путь их лежал через громадный палаточный лагерь, над которым сплошной серой завесой стоял дым множества костров. Мартину еще никогда не доводилось видеть столь огромного воинского стана. Одни только загоны для лошадей тянулись чуть ли не на лигу, а копья, составленные в козлы, казались зарослями тростника. Со стороны города лагерь ощетинился осадными машинами и устройствами — катапультами, баллистами, требюше, исполинскими таранами, с внешней же стороны виднелась длинная насыпь с частоколом по гребню. И повсюду — простые палатки крестоносцев и шатры побогаче, в которых, судя по пестрым вымпелам и стягам, размещались командиры. Густо пахло немудреной стряпней и конюшней, отовсюду неслись звуки военного лагеря: ржание лошадей, лай собак, грохот колес, хохот, брань, удары молотов из походной кузницы.
Лазариты вели его, петляя между стоявших в беспорядке палаток, под ногами чавкала грязь, растоптанная бесчисленными копытами и сапогами, перемешанная с конским навозом и отбросами. Людей вокруг было превеликое множество — солдаты, рыцари, оружейники, торговцы в чалмах и итальянские купцы; прогуливались лагерные шлюхи, носились дети, громыхали кузницы, лучники оперяли стрелы, бежали пажи с поручениями, возницы вели упряжки волов, проезжали верховые рыцари, конюхи охаживали тяжелых и грозных с виду боевых коней.
Но при всей этой невообразимой скученности один вид рыцарей в плащах с зелеными крестами заставлял толпу расступиться и образовать широкий проход. На них глазели молча, кое-кто осенял себя при виде лазаритов крестным знамением.
Солнце, невидимое за пеленой низких облаков и висящей в воздухе пыли, уже склонялось к горизонту. Ехавший рядом с Мартином прокаженный рыцарь заметил, что эта изнурительная духота держится уже давно, а дождя все нет и нет. Ливень, по крайней мере, принес бы свежесть.
Мартин промолчал. Прокаженные воины невозмутимо беседовали о погоде, словно ничто иное их не волновало, тогда как сам он едва не задыхался под шлемом — и не только от духоты и зловония лагеря. Его ужасало, что отныне ему придется находиться среди больных проказой, которая не только заразна, но и неизлечима. Предполагал ли нечто подобное Ашер бен Соломон, посылая сюда будущего зятя? Едва ли. Но теперь Мартину волей-неволей придется оставаться с лазаритами, пока не подвернется случай бежать. Но куда? Вокруг шумел многотысячный лагерь, но это было не просто скопище разноплеменных людей — здесь все было на виду, учтено и сосчитано: монахи отмечали в особых списках, сколько и у какого костра воинов на довольствии и к какой палатке прикреплен каждый из них.
В ответ на его вопрос лазариты пояснили, что это необходимо, чтобы рассчитывать количество провианта и знать, кто где расквартирован, чтобы в случае тревоги командиры могли быстро собрать своих воинов. За палатками торговцев и землянками, в которых ютятся прачки, слуги и иной люд, прибившийся к лагерю крестоносцев, также ведется надзор, ибо в огромном скопище людей могут оказаться лазутчики Саладина. В точности так за воинами-новичками присматривают специально назначенные сержанты.
Провожатые Мартина поясняли: здесь без числа всякого сброда, поэтому ни один лазарит не удаляется от своего шатра без сопровождения двух-трех охранников, и делается это ради безопасности самих же прокаженных, ибо как знать, что может прийти в голову дюжине каких-нибудь подвыпивших лагерных бездельников. Разумеется, рыцари Святого Лазаря могут передвигаться и в одиночку, но нигде не задерживаясь. В случае исчезновения одного из лазаритов его сотоварищи обязаны тотчас поставить в известность маршалов госпитальеров или тамплиеров — покровительствующих лазаритам могущественных орденов. Тогда пропавшего начинают искать, оповестив об этом весь лагерь.
Мартину оставалось только беззвучно выругаться. В эту минуту он видел единственный выход из создавшегося положения — героически «погибнуть» в первой же серьезной стычке, а затем, отлежавшись до темноты на поле боя, вернуться в лагерь под видом простого наемника.
Миновав добрую половину лагеря, опоясавшего кольцом стены Акры, Мартин и его сопровождающие наконец приблизились к месту, где располагался стан прокаженных. Длинная костровая яма с дымящимися углями отделяла его от прочих воинов, молча следивших за приближающимися лазаритами. За ямой виднелся высокий и просторный шатер, в прошлом довольно богатый, но теперь выцветший и истрепавшийся от дождей и солнца. Рядом находились коновязи, козлы с копьями, повозки с добром и провиантом, прохаживались лекари-госпитальеры в длинных темных одеждах. Мартин задержал взгляд на шесте у входа в шатер: на нем неподвижно висело длинное черное полотнище с изображением черепа.
Один из сопровождавших его лазаритов заметил:
— Наш отряд выбрал себе именно такую эмблему — череп или, иначе говоря, Адамову голову. Эта часть тела наименее подвержена тлению, для нас же она — символ смерти и бесстрашия перед ее лицом.
Мартин ощутил, как по его спине, несмотря на духоту, прокатилась волна холода. Он стал вспоминать, как избежать гибельной заразы: ни в коем случае нельзя касаться язв прокаженных и дышать с ними одним воздухом, следует как можно чаще обмываться, а уж если довелось прикоснуться к больному — обтирать кожу уксусом. Говорят, эта болезнь переходит от человека к человеку лишь после длительного общения, но… кто может это знать достоверно? Король Бодуэн Иерусалимский страдал проказой с семи лет, однако в его окружении не было ни одного больного. Тогда-то и возникло поверье, что проказа — не что иное, как ниспосланное Господом испытание: христианин должен нести свой крест безропотно, вызывая лишь сострадание у окружающих. Что касается мусульман, те именовали лепру «нечистой болезнью».
Рыцари спешились. Один из спутников Мартина снял свой тяжелый шлем, открыв загорелое чистое лицо с мальчишески круглыми серо-голубыми глазами, темно-каштановой аккуратно подстриженной бородой и глубокими залысинами на темени. Никаких следов проказы на этом лице не было. Зато когда обнажил голову другой, Мартин едва не отшатнулся: бледные веки вывернуты, верхняя губа изъедена страшными язвами, нижняя отвисает, обнажая зубы. Недаром еще в пути Мартину почудилось, что этот его спутник говорит гнусаво, словно с трудом выталкивая слова изо рта. Мертвенные губы вновь шевельнулись, и он услышал:
— Мы здесь не зовем друг друга прежними именами, ибо у нас нет прошлого. И только одно будущее — вечность!
Умолкнув, обезображенный рыцарь продолжал пристально смотреть на Мартина, и тот решился спросить, как же обращаются друг к другу лазариты, если не употребляют данных им при крещении имен.
— У нас нет ни званий, ни титулов. А новое имя мы выбираем в честь одного из святых, которого считаем своим небесным покровителем. Так, меня называют братом Иеронимом…
Рыцарь с бородкой представился Джоном, сообщив, что избрал это имя в честь Иоанна Крестителя. По его произношению Мартин догадался, что он англичанин.
— Я — Мартин, — не мудрствуя, представился он.
— У нас уже есть один рыцарь, именующий себя в честь святого Мартина Турского, — заметил Джон. — Но это не имеет значения. Зовите себя так, как вам будет угодно. А теперь — прошу вас в наше братство рыцарей, ожидающих Благословенной смерти!
С этими словами он откинул полог шатра, предлагая Мартину войти, но тот невольно отступил и, словно ища поддержки, оглянулся на Эйрика.
— Не тревожьтесь за своего оруженосца, мессир, — тотчас вынырнул откуда-то монах с белым крестом госпитальера на рясе. — Ему будет предоставлено место в палатке близ вашего шатра вместе с другими оруженосцами и слугами рыцарей-лазаритов.
Мартин знал, что многие из тех, кто служит прокаженным рыцарям, также больны, но далеко не все. На мгновение он позавидовал рыжему. Эйрик отдал поводья обоих коней монаху и невозмутимо проследовал туда, куда ему указали.
Следуя за братьями Иеронимом и Джоном, Мартин наконец вступил под своды шатра. Прокаженные рыцари собрались для молитвы перед установленной на треножнике иконой святого Лазаря Четверодневного, которого орден лазаритов чтил особо как своего небесного заступника. Среди лазаритов бытовало поверье, что тело Лазаря из Вифании, воскрешенного Иисусом через четыре дня после смерти, успело настолько разложиться, что даже после возвращения к жизни он продолжал носить на лице и теле следы тления.
Никто из рыцарей не обернулся к вошедшим — голоса молящихся сливались в глухой гул, прерываемый отдаленными протяжными воплями муэдзинов, призывающих правоверных к вечернему намазу с минаретов Акры. Мартин также опустился на колени, молитвенно сложил руки на груди, но шлем не снял. Топхельм казался ему пусть ненадежной, но все-таки защитой от витавших в воздухе миазмов болезни. Даже сквозь аромат дымившихся в курильнице благовонных смол до него доносился тошнотворно-сладковатый запах разлагающейся плоти.
Наконец прозвучало последнее «амен», молящиеся поднялись с колен, и их лица обратились к Мартину. Многие из лазаритов показались ему вполне обычными людьми, но другие были покрыты рыхлыми мясистыми наростами, на щеке одного рыцаря багровело огромное пятно, сочащееся сукровицей, а искаженный лик другого напоминал свирепую львиную морду. У прочих виднелись лишь пятна лепры. Общее число лазаритов не превышало двух десятков.
— Слава Иисусу Христу, брат! — поклонился один из рыцарей. — Будьте благословенны — отныне вы дома.
Да, так оно и было, ибо здесь находилось их последнее прибежище, ибо другого дома эти несчастные не имели.
— Я брат Барнабе, капитан отряда Благословенной смерти, — представился другой рыцарь с голым, как колено, черепом и непомерно распухшими, свисающими чуть ли не до плеч мочками ушей. — Покажите нам свое лицо, брат!
Мартину пришлось подчиниться. Расстегнув под горлом ремни закрытого шлема, он снял его, а затем стянул с головы кольчужный капюшон и стеганую шапочку. Его светлые, выгоревшие почти до желтизны волосы упали на лоб, скрывая синеву глаз.
Капитан Барнабе, покачав головой, проговорил:
— Что и говорить, горестно будет потерять такое лицо! Но что значит наша телесная оболочка по сравнению с вечной жизнью души? Где у вас отметины лепры?
— Пятна в подмышках и паху. Монахи в Намюре, откуда я родом, определили, что это несомненная проказа.
— У нас уже есть один брат Мартин, — заметил капитан Барнабе, указывая на прокаженного, изуродованного наростами. — Мы будем называть вас Мартин Прекрасный.
Эти слова вызвали улыбки на лицах лазаритов.
— Не тревожьтесь, вы все равно не доживете до той поры, когда хворь вас обезобразит, — произнес брат Джон, кладя руку на плечо Мартина. — Прежде нас было здесь гораздо больше, но лазариты так рвутся в бой, что смерть приходит к ним без промедления, словно возлюбленная в объятия. Никто из нас не успеет превратиться в гниющую падаль, ибо когда сюда явится Ричард, все мы погибнем во славу Господа. Это ли не истинное счастье для христианина?
Безобразные лица больных засветились оживлением.
Мартину пришлось сдержать себя, чтобы не сбросить руку лазарита с плеча. «Пусть смеются, — пробормотал он про себя, — лишь бы не стали проверять наличие пятен на моем теле».
Но никто и не подумал его проверять — ибо какой же здоровый человек по собственной воле решится жить и воевать среди прокаженных?
В соседнем помещении шатра, отделенном пологом от импровизированной часовни, слуги лазаритов уже накрывали длинные столы. Еда была немудреной: поджаренный хлеб, яйца, кровяная колбаса, ячменная каша, в кувшинах подали светлое пиво. Но и такая пища, как говорили лазариты, после минувшей голодной зимы казалась им лакомой и обильной. Что касается Мартина, то ему, что называется, кусок не шел в горло.
— Под Акрой ныне тихо, и это нас не веселит, — поведал вновь прибывшему брату капитан Барнабе. — С каким нетерпением мы ждали короля Филиппа, как молились о его здравии! Но как только он прибыл сюда, все боевые действия приостановились, ибо французский король решил дождаться союзника, а Ричард Английский задержался на Кипре. Вы ведь прибыли с Кипра, брат Мартин, так поведайте, как там обстоят дела и долго ли нам пребывать в этом тягостном ожидании!
Мартин кратко описал положение на острове. Весть о том, что король Англии собирается возглавить кампанию против Исаака Комнина, вызвала общее оживление. Лазариты решили, что такой опытный воин, как Ричард, в считаные дни справится с императором-самозванцем и наконец-то направится в Палестину. Тогда-то они и покажут, на что способны!
— Неужели Филипп сдерживает армию? — прервал эти речи Мартин, поняв, что при таких обстоятельствах ему не скоро удастся «погибнуть» и расстаться с прокаженными.
Лазариты сокрушенно качали головами. Осада Акры — это попытки штурма крепости, стычки, вылазки и периоды продолжительного затишья. И так длится уже почти два года, — заметил лазарит с открытой гноящейся язвой на щеке, имени которого Мартин не запомнил. Вид этой язвы пугал его — вот настоящий источник заразы, от которого следует держаться как можно дальше!
Однако больной, перехватив его взгляд, добродушно рассмеялся и принялся рассказывать о том, как некогда он вполне успешно лечился в грязевых купальнях Мертвого моря, что сдерживало развитие проказы. На эти грязи регулярно приезжал король Бодуэн, и этот рыцарь не единожды имел возможность беседовать с прославленным полководцем.
— Но ведь это было так давно! — поразился Мартин.
— Да, более восьми лет назад. Но ведь и лепра пожирает человека не торопясь. Король Бодуэн, заболев проказой в семь лет, умер в двадцать пять. И сколько же он успел за это время! Правда, в последние год-два…
Лазарит горестно умолк. Молчали и его собратья. Мартин внезапно почувствовал, как шевелятся волосы на затылке. Он знал, что в последние годы молодой король превратился в полутруп: у него сгнили кости, отпали конечности и вытекли глаза. Безобразно изувеченное болезнью лицо Бодуэну приходилось скрывать под серебряной маской.
Капитан Барнабе первым нарушил молчание, подняв чашу за рыцарские добродетели. Прочие лазариты подхватили по кругу:
— Сражаться за справедливость и добро против несправедливости и зла!
— Не отступать перед врагом!
— Верить заветам нашей святой матери Церкви и блюсти заповеди Господни!
— Быть милосердными к слабым, защищать их!
— Вести с неверными беспощадную войну!
Когда черед дошел до Мартина, он также произнес то, что помнил из кодекса рыцарской чести:
— Соблюдать законы короля, отечества и рыцарства!
— Но только какого короля? — не без язвительности поинтересовался один из прокаженных.
И тотчас между лазаритами вспыхнула перепалка: одни утверждали, что королем должен оставаться Гвидо де Лузиньян, так как он принял помазание в храме Гроба Господня, другие стояли на том, что маркиз Конрад Монферратский станет лучшим правителем этой земли, в особенности после того, как Гвидо безмерно уронил себя, проиграв сражение при Хаттине.
— Я был там и видел, как христиане толпами гибли от рук неверных, — невнятно проговорил брат Иероним, брызжа слюной. — От жары и удушья я лишился сознания… а может, кто и угодил мне по шлему, трудно сказать. Зато помню, какой там был ад… Я пришел в себя среди трупов, в пыли и крови. Уже вечерело, но жара никак не спадала. Я поднялся и пошел, переступая через тела людей и коней. Клянусь — вся земля вокруг была пропитана кровью моих братьев по вере. Из отряда нашего ордена не уцелел ни один. Им-то было сейчас легко — они вознеслись прямо к престолу Господа, а я, злосчастный, брел по этой кровавой долине, и встречавшиеся на моем пути сарацины разбегались, едва я обращал к ним лицо.
«Еще бы!» — невольно подумал Мартин.
Глаза рассказчика внезапно вспыхнули.
— У мусульман наша болезнь считается нечистой. Им невдомек, что лишь благодаря проказе рыцарь способен забыть все земное и помышлять только о Боге! Помолимся же, братья!
Когда после молитвы прокаженные разошлись, выяснилось, что Мартину досталось место по соседству с братом Джоном. Лежанки были разделены легкой занавеской, и он слышал, как ночью к брату Джону пришла женщина. То, чем они занимались, не вызывало сомнений, но все же Мартин был поражен: неужели среди женщин легкого поведения в лагере находятся несчастные, готовые отдаваться прокаженным?
Позже, когда шлюха удалилась, а брат Джон умиротворенно захрапел, Мартин тихо вышел из шатра и особым свистом вызвал Эйрика из палатки слуг. Тот появился почти мгновенно.
— Добудь мне уксуса или скисшего вина на худой конец, — едва сдерживая дрожь отвращения, попросил приятеля Мартин.
Было далеко за полночь, когда они, миновав спящий лагерь, спустились под береговой обрыв к морю. По пути их несколько раз останавливали часовые, но заметив знак рыцаря-прокаженного, уступали дорогу. В крохотной бухточке за выступом мыса оба тщательно вымылись и обтерлись уксусом.
— Надо сматываться отсюда, и как можно скорее, — произнес рыжий, закупоривая небольшой мех с остро пахнущей жидкостью. — Может, прямо сейчас?
— И куда мы пойдем?
— Да не все ли равно!
— Ничего не выйдет. На первой же перекличке нас хватятся. И хоть тут несметная туча народа, — Мартин указал на смутно светлеющие под вынырнувшей из разрыва облаков луной палатки лагеря, — нас начнут разыскивать все подряд, в особенности если лазариты заявят, что один из прокаженных скрывается среди здоровых воинов.
— Ох и влипли же мы, малыш, — шумно вздохнул Эйрик, бросая на песок мех с уксусом. — Знал ли Ашер, что делает, когда давал нам это поручение?
«Ему-то что до этого? — натягивая одежду на влажное тело, подумал Мартин. — Он хорошо платит за все, что нам приходится выносить, а работа всегда остается работой. Так или иначе, а я должен завершить это дело и добиться успеха, чтобы получить главный приз — Руфь».
После омовения он почувствовал себя гораздо лучше.
Возвращаясь через притихший в ночи лагерь, они с Эйриком слышали отдаленную перекличку передовых постов, видели догорающие костры, у которых сидели поздние гуляки. Эти люди уже свыклись с такой жизнью, и ничто в ней не казалось им необычным.
Ливень разразился только под утро. Сначала на палатки обрушился мощный шквал; ослепительные молнии, как вспухшие старческие вены, извивались в тучах и секли землю. А затем лагерь исчез в сплошных потоках воды, с ревом обрушившихся с небес.
Вскоре, однако, ветер разорвал облачный покров, выглянуло солнце, почва начала подсыхать. Но от этого стало еще хуже: влажная духота не давала вздохнуть. Однако лазариты, несмотря на это, взялись за воинские упражнения, причем с большим рвением. Мартин понял это тотчас, сойдясь с одним, другим и убедившись, что имеет дело с превосходными воинами. Проказа и в самом деле пожирает человека медленно — сперва затвердевает и становится бесчувственной кожа, затем начинают меняться черты лица, появляются язвы и трещины, но мышцы еще долгое время остаются сильными и упругими, и лишь когда болезнь заходит далеко, выходят из строя конечности, теряет подвижность язык, начинает изменять рассудок. Дальше — разложение заживо и смерть — зачастую почти безболезненная, но унизительная из-за полной беспомощности.
В первых схватках Мартин старался скрыть свои воинские навыки, надеясь, что его оставят в покое, однако капитан Барнабе заявил, что ему надлежит трудиться и трудиться, чтобы стать достойным противником нечестивых. Долг лазарита — не просто погибнуть в бою, но и лишить жизни как можно большее число неверных. Только тогда перед ним отворятся врата рая.
Закончив упражняться, Мартин отправился бродить по лагерю. И хоть его лицо скрывал шлем, зеленый крест явственно свидетельствовал, к какому ордену он принадлежит. И вскоре ему пришлось убедиться, что, несмотря на героические деяния лазаритов, многие крестоносцы испытывают к ним острую неприязнь. Едва Мартин приближался к чьим-либо шатрам, как его тут же гнали прочь — иногда оскорбительными выкриками, иногда — размахивая факелами, а порой и натягивая тетиву.
— Убирайся, проклятый прокаженный! Прочь! Неси свою заразу сарацинам!
Тем не менее в течение дня Мартину удалось обстоятельно изучить лагерь и расположение резиденций предводителей крестоносного воинства. На возвышенности напротив главных ворот Акры, носивших имя святого Николая, располагалась ставка короля Гвидо де Лузиньяна, ныне находившегося на Кипре. Там сейчас распоряжался его старший брат Амори, и, надо сказать, эта часть лагеря содержалась в наибольшем порядке. Шатры, пусть и потрепанные, располагались шеренгами, были проложены сточные канавы для нечистот и дождевой воды, площадки для костров вымощены плитами песчаника, а у ям для тлеющих угольев постоянно дежурили слуги, ибо при таком скоплении народа опасность пожара всегда особенно велика.
Не меньший порядок соблюдался и в стане госпитальеров, близ которого находился шатер лазаритов, а также на лагерной стоянке тамплиеров. Орденские станы везде были единообразны: шатер магистра или главнокомандующего в центре, а палатки рядовых братьев образуют концентрические окружности вокруг него, служа защитой главе ордена. Между палатками оставлены широкие проходы; поодаль располагаются коновязи и составленные впритык крытые повозки, под которыми укрываются от палящих лучей солнца сержанты и находящиеся на содержании орденских братьев мусульмане-туркополы.
Однако так было далеко не везде. В других частях лагеря палатки и шатры были разбросаны как попало, и приходилось подолгу блуждать между ними, чтобы выбраться на открытое место, а кое-где между ними проходов и вовсе не было.
Народ тут обитал разношерстный и разноязычный. Приглядевшись, Мартин вскоре понял, что национальную принадлежность рыцарей можно определить по цвету крестов, нашитых на их туниках. Французы носили красный крест, англичане — белый, фламандцы — голубой, а итальянцы — желтый. Датчане, шведы и венгры не особенно вникали в эти тонкости и нашивали какой придется, зато немцы и австрийцы, носившие черные кресты, относились к этому своему знаку очень ревниво и протестовали, когда кто-либо пытался подражать им.
В то же время в стане немцев и австрийцев царил невероятный беспорядок. Явившиеся под Акру остатки распавшегося воинства Фридриха Барбароссы порой вступали в рукопашные схватки даже за право пользования отхожими местами у рва, протянувшегося вдоль внешней стороны лагеря, были постоянно озлоблены и все до единого считали, что приняли их здесь вовсе не так, как должно.
Лишь в большом шатре, служившем жилищем немецким монахам-врачевателям, все шью размеренно и чинно, как в монастыре. Приблизившись, Мартин заговорил с монахами в белых одеяниях с черным крестом на баварском диалекте, и его даже угостили чашей жидкого бульона, сокрушаясь, что их соотечественник заразился лепрой.
— Мы тевтонские братья, — пояснил мнимому лазариту один из монахов. — И оказываем помощь тем немецким и австрийским рыцарям, для которых не хватает времени у иоаннитов, занятых заботами о французах и итальянцах. Фридрих Швабский, сын погибшего императора Барбароссы, оказал нам содействие в том, чтобы тевтонское братство получило статус ордена. Уже на одре болезни он отписал его святейшеству Папе Римскому, воздавая должное нашим трудам, но ответа пока нет, а молодой Фридрих тем временем скончался. И теперь нам помогает только герцог Леопольд Австрийский — в меру своих сил.
Последнее замечание имело особый смысл. Ибо герцог Леопольд привел под стены Акры совсем немного воинов, однако держался в кругу предводителей крестоносцев с такой надменностью, что даже прославленные полководцы, будь то магистр ордена госпитальеров Гарнье де Неблус или защитник Иерусалима барон Балиан де Ибелин, выглядели рядом с ним подчиненными. Мартин впервые увидел этого румяного белокурого гиганта на огромной, как боевой слон, лошади, когда тот подъезжал к своему шатру. Заприметив Мартина, сидевшего неподалеку от палатки лекарей, герцог пришел в неистовство:
— Что делает у моего шатра прокаженный? Эй, тевтонцы, если я еще раз увижу подобное, велю спалить и его, и весь ваш госпиталь!
Мартин безмолвно удалился, ибо все, что ему было нужно увидеть, он уже увидел: близ стоянки немногочисленных германцев вперемешку располагались шатры рыцарей самых различных национальностей, и мнимый лазарит решил, что при случае и он может попробовать примкнуть к ним. Правда, сделать это можно только после того, как он на виду у многих падет «смертью храбрых» под стенами Акры.
Поздним вечером они с Эйриком снова сошлись в каменистой бухточке севернее лагеря крестоносцев, и в темноте совершили омовение и обтерлись уксусом. Как только с этим было покончено, Мартин посоветовал приятелю незаметно исчезнуть и попытаться влиться в один из многоязычных отрядов.
— Рыцарям ордена Святого Лазаря я скажу, что мой сержант удрал, — произнес он, отжимая влажные волосы. — Такое, знаешь ли, порой случается со слугами. И ты избежишь опасности заразиться от прокаженных-оруженосцев, если, конечно, не подхватишь другую хворь — желудочные колики, кровавый понос или иную напасть из тех, которыми битком набит этот бордель, именуемый лагерем.
— А как же ты, малыш? — спросил Эйрик. — Может, стоит бросить все к демонам и задать стрекача? Видишь, Сабир уехал своей дорогой и носа сюда не кажет, хотя я битых полдня искал его сегодня среди вертящихся в лагере торговцев-мусульман.
Мартин накинул стеганый акетон.
— И в самом деле, где это носит Сабира? Если не ошибаюсь, от Киликии до Акры около двух недель пути самым неспешным аллюром.
— Он выжидает. — Эйрик тряхнул головой, да так энергично, что мокрые височные косицы хлестнули его по щекам. — Он большой хитрец, наш Сабир. Удивительно, что ты этого не замечаешь, малыш.
Простодушному Эйрику молчаливый и замкнутый мусульманин всегда казался слишком себе на уме, но Мартину сейчас очень не хватало дельных советов приятеля-сарацина.
— Надеюсь, мы увидим его еще до того, как покинем лагерь, — сказал он. — А в том, что это произойдет весьма скоро, я не сомневаюсь. Не велика радость вкушать ячменную кашу, разглядывая жуткие лица лазаритов.
Это воспоминание заставило его содрогнуться. Но кто же мог предположить, что посланцы рыцарей-отверженных встретят их прямо у сходней галеры?
«А Руфь?» — хотел было спросить себя Мартин, но вместо Руфи перед ним внезапно возникло лицо Джоанны де Ринель.
Отмахнувшись от этого видения, он поделился с Эйриком одним из своих наблюдений: в расположении воинов короля Филиппа Французского спешно сооружают большую баллисту. А это означает, что очередной попытки штурмовать Акру ждать недолго. Тем более что материала для этого осадного орудия достаточно, ибо на него идет лес, привезенный магистром госпитальеров с Кипра…
Однако спустя пару дней, когда он в очередной раз сидел за трапезой с лазаритами, из беседы рыцарей Мартину стало ясно, что почти никто из них не надеется на успех затеи Капетинга.
— Отчего же? — спросил он, не поднимая глаз от глиняной миски с похлебкой. — Я слышал, как в лагере короля Филиппа стучат молотки и топоры, и уже закончена платформа под новое смертоносное орудие.
— Блажен, кто верует, — покачал голой головой капитан Барнабе. — Но сдается мне, что француз вовсе не рвется в бой, а его баллисту постигнет та же участь, что и многие другие осадные машины, которые сарацины сожгли с помощью «греческого огня».
Мартин задумался. И в самом деле — на подступах к городу там и сям виднелись обугленные остовы осадных башен и требюше, издали похожие на черные скелеты драконов.
— Откуда у неверных «греческий огонь»? — спросил он через некоторое время. — Насколько мне известно, тайна этой горючей смеси ведома только ромеям.
— Это так, брат Мартин, — заметил другой Мартин с раздутым лицом, похожим на львиную маску. — Но у сарацин нашелся один толковый парень, медник из Дамаска, который сумел изобрести нечто подобное. И пусть это не адское зелье греков, но оно куда опаснее смолы и горящих головней, которыми пользуются наши рыцари. Огонь медника из Дамаска, — это нефть, которую добывают из земли. Сарацины заполняют ею глиняные пористые горшки и мечут их со стен в наши стенобитные орудия. Горшки разбиваются, нефть выплескивается, после чего неверные норовят поджечь ее зажигательными стрелами, обмотанными просмоленной паклей. И им это хоть и не всегда, но удается — да обрушатся на них самые черные бедствия, как на том свете, так и на этом!
Лазариты не верили в пользу стенобитных и камнеметных орудий, но Мартин весьма сомневался в том, что прямой штурм крепостных стен может принести успех. Однако именно за штурм ратовали прокаженные рыцари. Поэтому он спросил: разве мало попыток взять крепость «в лоб» предпринималось за эти два года? Неудивительно, что предводители крестоносцев все-таки вернулись к мысли пробить брешь в укреплениях Акры и ворваться через нее в город.
— Они просто трусы, — пренебрежительно ответил ему капитан Барнабе. — Среди них нет отчаянного храбреца, который сам бы повел христианское воинство на штурм ради вечной славы и спасения души.
Мартин оторвал глаза от миски:
— Но ведь всем им есть что терять. В отличие от нас.
После этого за столом в шатре воцарилась напряженная тишина. Ибо Мартин коснулся того, о чем лазариты обычно избегали говорить, — их безусловной обреченности. В глазах некоторых из них читалась открытая неприязнь к новичку. Чтобы развеять неприятное чувство, он, по их обычаю братьев, первым поднял чашу, провозгласив один из рыцарских обетов:
— Служить отечеству, но отвечать только перед Богом!
Его тут же поддержали:
— Стремиться к чести, но не к почестям!
— Побеждать, но не мстить!
— Достоинство в служении!
— В служении, но не в раболепии!
Да, со своей святой верой в рыцарское достоинство эти несчастные прокаженные могли служить образцом для благородного сословия. Они заботились о чести и душе. И тем не менее поздней ночью Мартин опять слышал, как за занавесью Джон возится со своей шлюхой. А затем женщина перебралась в другой угол, где находилась лежанка капитана Барнабе.
Утром во время упражнений с оружием Джон спросил Мартина, зачем тот ежевечерне обтирается уксусом, словно те братья-госпитальеры, что боятся заразиться, ухаживая за прокаженными. В глазах рыцаря горел острый интерес, и сейчас он ничуть не походил на простодушного мальчугана.
Мартин ответил, что этому его научили монахи в Намюре — уксус будто бы препятствует распространению болезни по коже. И пока Джон не задал следующий вопрос, который мог оказаться более опасным для него, в свою очередь полюбопытствовал, что за девка по ночам обслуживает прокаженных?
— Ну, она не столь молода, чтобы зваться девкой, — усмехнулся Джон. — Однако так жадна до денег, что ее и проказа не пугает. Да и кто еще на нее позарится — половины зубов не осталось, родимое пятно в пол-лица, груди болтаются до пупа. Знавал я до болезни девчонок получше этой Доротеи, будь она неладна! И все же щель между ляжек у нее в точности такая же, как у любой другой красотки, а я еще не настолько плох, чтобы разучиться пользоваться своим стержнем. Да и другие братья не прочь получить от жизни хотя бы маленькую радость.
«Но ведь эта шлюха может разнести заразу по всему лагерю!» — с содроганием подумал Мартин. На этом беседа с Джоном прервалась, и он поспешил к Эйрику.
В той части лагеря, где стояли французы, снова слышался стук молотков и визг пил. Исполинское осадное орудие росло на глазах, в особенности после того, как прибыл еще один корабль с Кипра с пилеными досками и каменными ядрами. Толпясь у сходней, рыцари допытывались, скоро ли прибудет король Ричард, и разносили по лагерю весть о том, что английский Лев сразился с отрядами лжеимператора на равнине между Фамагустой и Никосией, и в этом бою сам английский Лев скрестил оружие с Исааком. Тот выпустил в короля одну за другой несколько отравленных стрел, но тот сумел уклониться, и тогда Исаак бежал с поля боя и засел в одной из горных крепостей. А тем временем народ и знать Кипра принесли Ричарду присягу на верность.
— Скорее бы он прибыл! — толковали вечером в шатре лазаритов. — Тогда все изменится и это окаянное сидение под Акрой наконец-то увенчается победой.
На протяжении дня Мартин слышал такие же разговоры по всему лагерю крестоносцев.
— Почему все надеются только на Ричарда? — спросил он у прокаженных. — Я видел в лагере немало прославленных воителей. Здесь и защитник Тира Конрад Монферратский, и доблестный Леопольд Австрийский, и храбрый Гуго Бургундский, и, наконец, прославленный Балиан де Ибелин, противостоявший самому Саладину под Иерусалимом!
К его удивлению, лазариты смутились. Капитан Барнабе рассеянно потрогал нарост, вздувшийся повыше надбровья на его безволосом и безбровом лице, и произнес:
— Все упомянутые вами — умелые и доблестные воины, это так. Но за последнее время никто из них не смог одержать ни единой победы над сарацинами. Да, маркиз Конрад пару лет назад отстоял Тир, но этим его подвиги и ограничились. Барон Ибелинский защищал Иерусалим, но сдал город Саладину. Пусть и с малыми жертвами, но кто осмелится назвать это победой? Герцог Гуго Бургундский и впрямь храбрец, но в последней стычке с сарацинами он потерял столько воинов, что это следовало бы счесть поражением… Что же до Леопольда Австрийского, то этот крикун однажды вознамерился завладеть башней, расположенной на скале в море. Это передовое укрепление называют Мушиной башней, она охраняет подступы к гавани Акры. В случае удачи крестоносцы могли бы помешать Саладину доставлять продовольствие в осажденный город. Леопольд предполагал облить смолой большую фелуку, поджечь ее и направить за каменный мол — прямиком в гавань. А под ее прикрытием ворваться на скалу и взять штурмом Мушиную башню. Замысел был и впрямь неплох. Но что из этого вышло? Австриец не учел направление ветра, а тот развернул полыхающее судно и понес его прямиком на тот корабль, на носу которого размахивал боевым молотом доблестный герцог. И сам он, и его воины попрыгали в море, как лягушки, когда их галера вспыхнула. Многие утонули, но герцогу удалось спастись…
Барнабе горестно махнул рукой и добавил:
— Плачевный подвиг, что тут скажешь, — ибо перед тем Леопольд распорядился, чтобы со стороны лагеря крестоносцы начали атаковать один из участков крепостной стены, чтобы отвлечь внимание осажденных. Но проклятые сарацины успели отправить к Саладину почтового голубя с сообщением о начавшемся штурме, и султан двинул свои войска на лагерь. Если бы не тамплиеры маршала де Шампера и госпитальеры магистра де Неблуса, если бы не наши орденские братья… До того в нашем отряде было не меньше шестидесяти отменных воинов, а всех, кто уцелел, вы видите сейчас за этим столом!
«Но ведь большинство из них получили как раз то, чего добивались, — доблестную смерть в бою с неверными, и отправились в сопровождении ангелов прямиком в рай. Если, конечно, ангелов не смутил их ужасающий облик. Хотя о чем это я? В христианском раю наверняка нет никаких болезней. Славное, должно быть, местечко, — если оно существует на самом деле».
Мартин невольно усмехнулся, но тут к нему обратился брат Джон с вопросом, куда запропастился его рыжий оруженосец. Ему доложили, что вчера вечером он не вернулся в палатку братьев-сержантов.
Мысли Мартина на краткий миг вернулись в каменистую бухту, где они ежевечерне встречались с Эйриком. Накануне рыжий явился к нему в новом сарацинском шлеме со стальным наносником и прочной кожаной рубахе из буйволовой кожи с нашитой на нее металлической чешуей. В лагере крестоносцев, где были десятки кузниц и сновали бессчетные торговцы оружием, приобрести доспех было несложно. Но особой гордостью Эйрика были новые широкие штаны, которые, в отличие от предпочитающих узкие шоссы[119] франков, носят только датчане.
— Теперь я со своими, малыш! — радовался Эйрик. — И тамошние парни не реже, чем я, клянутся молотом Тора и глазом хозяина Вальхаллы,[120] хоть все они и крещеные христиане. Может, и ты со мной к датчанам?
— Раздобудь-ка мне лучше крючья, моток веревки и темную легкую одежду, — рассеянно произнес Мартин, разглядывая крепостную стену. — При первой же возможности я постараюсь пробраться в город. Надеюсь, король Филипп с помощью своей хваленой баллисты хотя бы местами разрушит кладку и немного упростит мне эту задачу.
Это воспоминание молниеносно промелькнуло перед его внутренним взором, а затем он с сокрушенным видом поведал лазаритам, что видел, как его оруженосец сегодня сел на корабль, отправляющийся на Кипр.
— Я не стал его удерживать, — добавил Мартин. — Зачем мне этот предатель?
— Но и его можно понять, — со вздохом заметил капитан, кладя на плечо Мартина руку, которую болезнь уже лишила двух пальцев и сделала похожей на клешню. — Вам подобрать оруженосца? — с участием спросил капитан Барнабе.
Мартин отвечал, что сам подыщет нового слугу. И облегченно перевел дух, когда прокаженный перестал его касаться. Похоже, Барнабе заметил, как он напрягся, и Мартин поспешил отвлечь его вопросом:
— А что вы, мессир, думаете о короле Филиппе как о главнокомандующем? — спросил он, мысленно надеясь, что в эту минуту выглядит так, как его бесстрастный приятель-сарацин Сабир.
— Время покажет, — последовал ответ. — Разумеется, после побед Ричарда на Кипре Филипп рвется отличиться. К тому же о Ричарде идет слава как о воине, не проигравшем ни одной битвы. А французский король… По крайней мере теперь у крестоносного воинства единый предводитель и наконец-то утихли споры о том, кому надлежит им командовать.
По рангу Филипп Капетинг был, безусловно, высшим среди всех, кто претендовал возглавить армию осаждавших Акру. Но что будет, когда явится Ричард Львиное Сердце?
В ту ночь лазарит Джон долго ворочался и вздыхал за своей занавесью. Шлюха с родимым пятном по какой-то причине не явилась на свидание. Из-под опущенных век Мартин видел, как тот поднялся, отодвинул тонкую ткань и уставился на него, полагая, что он спит. Широкие, бугристые от мышц плечи прокаженного были сплошь покрыты бурыми, сочащимися сукровицей наростами. Лицо Джона оставалось чистым, но все тело покрывали страшные отметины лепры.
Натянув до подбородка пропитанное ароматическим уксусом покрывало, Мартин отвернулся к стене и подумал о том, что сегодня Эйрик сделал благое дело — отыскал в лагере и зарезал в темном углу женщину с родимым пятном на лице. Кто-то же должен был остановить распространение страшной хвори. Теперь предстояло решить, как ему самому вырваться от лазаритов.
На другой день в стане короля Франции опять закипела работа. Исполинская баллиста уже почти приобрела законченный вид. По сравнению с остальным лагерем, где преобладали выцветшие и побуревшие от зноя и ливней палатки, окружение резиденции Филиппа выглядело празднично — там и сям виднелись украшенные королевскими лилиями нарядные ярко-голубые шатры. И сам Филипп, выехав осмотреть уже готовую к бою баллисту, выглядел величественно в сверкающей длинной кольчуге и золотом венце, надетом поверх островерхого шлема наподобие короны.
— Feu![121] — взмахнув мечом, словно нанося удар врагу, скомандовал Филипп.
Противовесы отскочили, заскрипело дерево, запел тугой канат — и огромные каменные ядра рванулись в сторону стен Акры.
От страшного удара рухнули и осыпались зубцы огромного каменного сооружения, которое крестоносцы называли Проклятой башней. Стоявший в толпе и наблюдавший за разрушениями Мартин поморщился под шлемом. Какой смысл начинать обстрел крепости с самого прочного укрепления? Но гигантскую баллисту построили прямо напротив Проклятой башни, и она безостановочно работала целый день, меча гранитные глыбы — иногда удачно, иногда нет. Некоторые ядра перелетали через стену, и тогда из города слышался глухой грохот, взвивались столбы пыли и доносились разъяренные вопли сарацин.
К побережью теперь едва ли не ежедневно причаливали корабли с Кипра с лесом и продовольствием. Ходил слух, что на одном из этих кораблей к Ричарду отправился племянник Филиппа — Генрих Шампанский, которому Капетинг отказал в займе, чтобы тот мог расплатиться со своими рыцарями. Генрих, уже около года проведший под стенами Акры, отчаянно нуждался в средствах — его шампанцы и блуассцы[122] считались едва ли не самыми нищими в лагере. Никто уже не помнил, что Генрих, едва прибыв сюда, щедро поделился с прочими крестоносцами провиантом и вооружением и фактически спас множество людей от голодной смерти. Теперь же, получив резкий отказ от Филиппа, молодой граф Шампанский решил просить помощи у Плантагенета — другого короля, приходившегося ему, как и Капетинг, дядей.
Когда Филиппу доложили об отъезде племянника, он только отмахнулся. Сейчас его куда более интересовали осадные орудия. Рядом с могучей баллистой, уже который день разрушавшей толстые стены Проклятой башни, началось строительство не менее внушительной катапульты, которую в лагере тотчас окрестили «Злой соседкой». Чтобы дать отпор франкам, сарацины также установили на стене баллисту и начали метать камни в стан французов. Но она была гораздо менее мощной, и ее снаряды зачастую просто не долетали до лагеря. Поэтому орудие неверных насмешливо нарекли «маленькой злюкой-кузиной».
Хуже было другое: искусные каменщики из числа осажденных еженощно заделывали проломы и осыпи стен, и весьма удачно. За работу они брались с наступлением темноты, когда обстрел со стороны крестоносцев прекращался.
Спустя несколько дней уже не одно, а несколько осадных орудий забрасывали каменными ядрами Проклятую башню, и в конце концов одна из глыб пробила крепостную стену поблизости от нее. Филипп немедленно приказал начать штурм. Он сам стрелял из арбалета по сарацинам на стенах и башнях, когда его воины с вдохновенным боевым кличем устремились к пролому. Но в тот же миг затрубили рога на холмах, и со стороны лагеря Саладина на крестоносцев покатилась лавина всадников. Филиппу пришлось отложить штурм и заняться обороной лагеря от мамлюков.
Вечером в шатре лазаритов за столом сошлись всего пятнадцать рыцарей. Они сдвинули чаши, произнося обеты опоясанных воинов Христа:
— Злу — возмездие, добру — награда!
— Ударом на удар!
— Победа или смерть!
— А теперь помолимся за наших павших, — молитвенно сложил руки капитан Барнабе. И рыцари начали повторять за ним слова заупокойной молитвы: «Requiem aetemam dona eis Domine…»
Затем Барнабе произнес:
— Кто видел, как встретили благую смерть наши собратья?
Выслушивая братьев по одному, он согласно кивал головой.
— А наш новичок? Тот Мартин, которого мы назвали Прекрасным?
— Я был рядом с ним, когда мы сшиблись с конниками Саладина, — поднялся со своего места брат Джон. — И поначалу мне казалось, что он не очень-то рвется в бой. Но я был рядом с ним, и когда меня едва не развалил надвое один из нехристей, Мартин Прекрасный дал ему подсечку и мгновенно нанес разящий удар сверху. И сделал это с превеликим искусством, замечу!
— Надо же! — задумчиво потер нарост на лбу Барнабе. — А ведь в учениях он как будто не отличался особым рвением. Но так или иначе, а смерть в схватке с неверными покрыла его вечной славой!
Брат Джон силился сказать еще что-то, но Барнабе уже перешел к расспросам о других павших. Затем беседа свернула в сторону, и речь зашла о том, что, оказывается, король Филипп отдал приказ начать штурм крепости сразу после того, как получил известие, что король Ричард пленил лжеимператора Исаака.
Оказывается, правитель острова, осажденный в своей крепости, согласился сдаться только на том условии, что король Англии не наденет на него ни железные кандалы, ни веревочные путы. Тем самым он обеспечивал себе некоторую свободу, чтобы при случае бежать из плена. Ричард согласился, но перехитрил Комнина: поскольку он к тому времени уже завладел одной из серебряных копей на острове, король повелел изготовить серебряные цепи, в которые и заковал пленного противника.
Лазаритам эта история показалась чрезвычайно забавной, и за столом еще долго не умолкал смех. Эти люди, несмотря на страшный недуг, всегда старались получить от жизни как можно больше. Увлекательная история, хорошая шутка, доброе винцо, вкусная еда… Правда, кое-кто из них сожалел, что женщина, дарившая прокаженным за деньги свою благосклонность, кем-то убита в лагере, а другие шлюхи не желают даже приближаться к ним, не то что ублажать по ночам.
Но все это было несущественно по сравнению с тем, что Ричард Львиное Сердце, окончательно расправившийся с Исааком Комнином, вот-вот появится под стенами Акры.
ГЛАВА 15
Ричард прибыл через три дня. А заодно умудрился по пути захватить шедшее в Акру сарацинское судно. Лукавые неверные попытались войти в гавань под пизанским флагом и даже, чтобы усыпить бдительность христиан, взяли на борт около двух десятков свиней — всем ведь известно, что мусульмане ни за что не прикоснутся к этим нечистым животным. И все же командиры крестоносной флотилии учуяли некий подвох в том, как при встрече в море им отвечали мнимые пизанцы. Ричард приказал кораблям сблизиться, но галера с визжащими свиньями бросилась наутек, и ее начали преследовать.
В руки крестоносцев попало немало припасов, оружия и доспехов, несколько сотен мешков зерна, а также бочки с той самой пресловутой нефтью, с помощью которой неверные уничтожали их осадные машины. Ну а свининой добрые христиане никогда не гнушались.
Таким образом, прибытие Ричарда превратилось в настоящий триумф — он ступил на берег всеми благословляемый и восхваляемый. Более тридцати его кораблей (не считая тех, что прибыли ранее, и тех, которые еще оставались на Кипре) — произвели на крестоносцев глубочайшее впечатление, окончательно затмившее десяток судов короля Филиппа.
Король Англии съехал на берег верхом на белоснежном кипрском жеребце Фейвеле, в алой мантии с золотыми львами и надетой поверх сверкающего шлема короне. Он выглядел воплощением одержанных и грядущих побед. За ним следовало множество облаченных в броню рыцарей, причем каждого из них сопровождали оруженосцы, латники-пехотинцы и слуги. На кораблях флотилии прибыли также оружейники, повара, конюхи, копейщики, лучники, и их было множество! Мощь воинства крестоносцев возросла неизмеримо. Теперь-то неверным больше не на что надеяться!
Первым делом английский король направился к ожидавшему его Филиппу, и на глазах ликующих крестоносцев оба монарха сердечно обнялись. Затем они, стремя в стремя, двинулись через лагерь, и Филиппу было непросто сохранять на лице улыбку, когда со всех сторон звучало только одно имя: «Ричард! Ричард! Да здравствует неустрашимый Ричард Львиное Сердце!»
Мрачным оставалось и лицо Конрада Монферратского, заметившего, что вплотную за Плантагенетом следует его соперник Гвидо де Лузиньян. Были здесь и обрядившийся в новый плащ, сияющий улыбкой Генрих Шампанский, и маршал тамплиеров Уильям де Шампер, и Балдуин Антиохийский, и множество иных вельмож и прелатов. Их также громогласно приветствовали, а герцог Гуго Бургундский, словно не замечая сдержанности своего сюзерена, выехал навстречу Ричарду, и оба воина обменялись крепким рукопожатием.
Все — французы, бургундцы, германцы, испанцы, датчане и итальянцы — спешили взглянуть на прославленного короля-полководца, вознося ему неумеренные хвалы. Повсюду гремела музыка, слышались приветственные возгласы, сливавшиеся в неумолчный рокот, а со стен осажденной Акры за этим ликованием молча следили приунывшие сарацины.
— Да пребудет с нами милость Аллаха, ибо к кафирам явился их прославленный воин — Мелик Рик! — передавалось там из уст в уста.
Проезжая по лагерю, Филипп в какой-то миг тронул английского Льва за локоть:
— Дорогой кузен, с вами прибыло такое множество людей, что я, право, даже не представляю, где вы сможете разбить свой стан. Мы и без того обитаем здесь в величайшей тесноте и скученности!
— Как это где? — расхохотался Ричард, оглядывая окрестности: — Мы разобьем лагерь вон там! — Он указал рукой в латной перчатке на побережье к северу от Акры.
— Но это невозможно, Ричард! Вы разве не видите на склонах холма шатры нашего врага Саладина!
— Что ж, значит, ему придется потесниться!
На протяжении целого дня люди английского короля разбивали лагерь на скалистых террасах холма, натягивали полотнища шатров и палаток, устраивали коновязи и костровые ямы, где на угольях жарились целые свиные туши и варились котлы похлебки. Ибо Ричард повелел за свой счет угостить всех крестоносцев. Как было не прославлять его за это? А шатры лагеря Саладина и впрямь были поспешно сняты и установлены на гораздо большем расстоянии от Акры. У сарацин здесь было слишком мало людей, чтобы сдерживать напор вновь прибывшего воинства. И выходило, что Ричард, едва появившись здесь, уже заставил неверных отступить! Ура! Ура! Слава непобедимому Ричарду!
Весь день и всю ночь в лагере царило невероятное оживление. Люди веселились, пили и ели до отвала. В просторном шатре Ричарда шел пир для военачальников, взрывы смеха и музыка слышались оттуда далеко за полночь. Казалось, напади Саладин сейчас, ему непременно удалось бы ворваться в лагерь крестоносцев. Но несмотря на праздничное ликование, охрана была удвоена по сравнению с обычной, а рыцари с эмблемами Плантагенетов регулярно обходили внешние укрепления, что-то помечая на пергаменте и переговариваясь с часовыми. Лазутчики, сновавшие вокруг лагеря, донесли об этом султану, и Саладин отказался от вылазки, решив дождаться более удобного случая.
Утром Ричард, очнувшись от сна, не сразу смог вспомнить, как оказался в этом помещении под сводом из сукна, опирающимся на резные деревянные колонны. Беренгария спала рядом сном младенца, и король невольно усмехнулся, взглянув на супругу. Вчера ему удалось уговорить свою строгую королеву выпить лишний бокал, после чего она стала необыкновенно весела и очаровательна. О, если бы она всегда была такой, он не чувствовал бы себя насильником всякий раз, когда собирался исполнить супружеский долг! Едва он ложился на нее, как Беренгария принималась читать молитвы, а молитвы во время соития отнюдь не возбуждали его пыл. Всякое желание пропадало, и король перекатывался на свой край ложа со словами: «Спите спокойно, моя Беренгария!» Когда же королева робко вопрошала: «Угодила ли я вам, супруг мой и господин?», Ричард просто отмалчивался, чтобы лишний раз не солгать.
А ведь Беренгария прелестна, что и говорить. Господь наделил ее всем необходимым, чтобы дарить радость мужу. Возможно, ему стоит быть терпимее к ней и не торопить события. Ведь прежде она мечтала стать невестой Христовой, а ее выдали за воина. Сейчас главное, чтобы она понесла от него, и тогда Ричард перестанет пугать ее по ночам своими желаниями. Должно быть, оба они этого хотят. Но ему, как мужу и государю, нужен наследник!
Что касается супружеского долга, то Ричард, как ни силился, не смог припомнить, исполнил ли его в эту ночь. Последнее, что всплывало в памяти, — они вдвоем с захмелевшим Филиппом пляшут, пытаясь повторять движения невесть откуда взявшейся в шатре арабской танцовщицы. Лицо ее было прикрыто вуалью, зато от груди до пояса все остальное обнажено, и она так ловко вращала бедрами, что оба короля побились об заклад — кто из них лучше сумеет повторить ее танец… Давно он так не дурачился, а Филипп, несмотря ни на что, — славный малый… Ну а присутствовавшие на пиру буквально корчились от хохота, глядя на их пляску, даже на угрюмой физиономии Конрада Монферратского появилась улыбка, и если зрение Ричарду не изменило, он собственными глазами видел, как тот дружески хлопал по плечу хохочущего короля Гвидо.
Да, вино порой творит чудеса, на время примиряя даже заклятых врагов. Но он, Ричард, еще до начала пира потребовал — никаких ссор, никаких старых счетов! В итоге все быстро напились. Обычно сам он не слишком усердствовал с возлияниями, памятуя о том, что он король и образец рыцарственности. А тут… Словно обозный латник, дорвавшийся до хмельного, — да помилует его Господь!
Ричард, однако, надеялся, что к тому моменту, когда он «потерял лицо», как говорят на Востоке, дамы уже успели удалиться. Они всегда покидают пиршество, если оно затягивается, а мужчины впадают в излишества.
Но на этом пиру в военном лагере именно дамы, прибывшие вместе с ним с Кипра, были главным украшением — как и полагается по куртуазным законам. Рыцари истосковались по благородной красоте, и женщины были окружены всеобщим вниманием и восхищением. А уж когда начались танцы, от желающих пройтись с ними круг-другой просто отбоя не было! Даже робкая Беренгария танцевала больше обычного, а уж Пиона, обожаемая сестрица, облаченная в лиловое и розовое, как истинная фея цветов, была бесспорной королевой пира. Она даже согласилась пройтись в торжественной паване с Филиппом, которого с некоторых пор не больно жаловала.
Вот уж поистине дамский каприз! Пиона и Филипп могли бы стать отличной парой, такой брак послужил бы миру и укреплению связей между их державами. Но эта упрямица Пиона — и в этом она пошла в их своевольную матушку Элеонору — выставила условие: никто и никогда больше не будет торговать ее рукой в политических целях! Фактически она купила это право, пожертвовав Ричарду громадную сумму, необходимую для подготовки похода в Святую землю, и теперь он не вправе ее принуждать… С другой стороны, то, что она все-таки согласилась танцевать с Филиппом, само по себе неплохо.
Зато его кузина Джоанна де Ринель наотрез отказалась составить пару с королем Франции. И ее можно понять, памятуя ту скверную историю в Везле… Филипп во всеуслышание утверждал, что Джоанна сама его соблазнила и он получил желаемое, но кузина была готова взять в руки раскаленную добела сталь, чтобы доказать обратное. Впрочем, Ричарду в то время не был нужен шумный скандал, и он поспешил услать кузину под предлогом некой миссии в Венгрию. Миссия оказалась бесплодной, ибо Бела Венгерский так и не явился в Святую землю. Ричард и прежде знал, что венгр горазд воевать на словах и давать пустые обещания, оттого и не стал бранить Джоанну из-за этой неудачи. Всего лишь отечески пожурил за то, что она прибыла на Кипр одна, каким-то образом разлучившись в пути с мужем.
Что-то долго этот Обри де Ринель, прославленный турнирный боец, добирается сюда из Киликии. Здесь бы он мог пригодиться, и самое время ему появиться, чтобы утешить Джоанну, в особенности после того, как та внезапно занедужила в Лимассоле, упав в глубокий обморок прямо в порту. В замок ее принесли какие-то греческие монахи, и до позднего вечера его кузина пребывала в странном забытьи. А затем ее, певунью и любительницу всевозможных увеселений, словно подменили. Вчерашний пир она покинула в числе первых — это он хорошо помнил.
Дольше всех в кругу танцующих оставалась кипрская царевна с непроизносимым именем. Эта Дева Кипра, похоже, совсем не удручена тем, что ее отец томится в плену. Греческая красавица, как ему донесли, уже успела разделить свои бурные ласки между молодым Лестером, князем Антиохийским и разведенным с Изабеллой Иерусалимской Онфруа де Тороном. Неспроста маршал Уильям де Шампер намекал ему, что не всякий достойный рыцарь согласится взять ее в жены. С другой стороны — Дева Кипра его военный трофей, она наследница трона Исаака Комнина, и ее супруг может на законных основаниях править на Кипре…
Однако власть на острове Ричард решил до поры до времени вверить ордену тамплиеров. Уильям де Шампер разработал блестящий план. Кто лучше ордена Храма позаботится о помощи с Кипра Святой земле? Больше того — маршал предложил выкупить остров у завоевателя за весьма внушительную сумму — сто тысяч безантов.[123] У тамплиеров в Орденских домах и замках в Европе накоплены большие богатства, и ромейские купцы, доверяющие им, уже внесли в казну английского короля залог за сделку, ибо деньги Ричарду сейчас очень нужны. За своевременный совет Ричард намекнул Роберу де Сабле, что на конклаве следует учесть опыт и мудрость его кузена, оставив его на одной из высших должностей.
Все это приходило в голову Ричарда в хмельном полусне, думать было непросто, и он злился, что позволил себе так не вовремя расслабиться. Нет, истинно сказано — vinum apostatare facit etiam sapientes.[124]
Король приподнялся, потер гудящую, как пустой котел, голову и, стараясь не потревожить Беренгарию, поднялся с ложа. И тут же пошатнулся, да так, что пришлось уцепиться за резной столбик балдахина. Ложе заходило ходуном, Беренгария что-то пробормотала во сне, но, слава Богу, не проснулась.
Бесшумно ступая по устилавшим пол шатра пестрым коврам, вывезенным с Кипра, он миновал одну за другой две полотняные завесы и только тогда, уже не опасаясь разбудить супругу, сипло воззвал:
— Толуорт, воды! Где тебя дьявол носит, горькая твоя башка!
— Это у вас башка нынче горькая, милорд! — отозвался голос веселого уроженца Кентербери.
Он тотчас возник откуда-то — уже с полной лоханью, полотенцами и своими веснушками, делавшими его лицо похожим на перепелиное яйцо.
— Поговори мне еще, шорник,[125] — буркнул король.
Голова раскалывалась от похмелья, а еще от дыма костров, который проникал даже сквозь плотную ткань его шатра. Ричард любил простор, но здесь приходилось ютиться в такой тесноте, что он только диву давался, как это после вчерашних празднеств не выгорела половина палаток в его лагере.
Окунув голову в лохань, Ричард подержал ее несколько мгновений под водой — ощущение было не из приятных, зато мысли побежали быстрее.
— Ну, где же полотенце? — король протянул руку к застывшему в двух шагах приближенному. На его рубаху с длинных волос стекали струи воды.
— Вы забыли сказать: сэр шорник! — с заносчивым видом отозвался тот, не двигаясь с места.
Ричард расхохотался.
Он крепко привязался к этому сообразительному и шустрому горожанину. Сын шорника, Толуорт столь ретиво откликнулся на призыв короля к крестовому походу, что навербовал в Кентербери целый отряд будущих крестоносцев. А позже, в Мессине, еще раз отличился, заслонив короля собой от взбунтовавшихся сицилийцев, за что Ричард посвятил его в рыцари. После боевых действий на Кипре он окончательно приблизил к себе вчерашнего простолюдина — ему пришелся по душе этот толковый и веселый кентербериец.
Еще вчера решив лично изучить диспозицию вокруг Акры, Ричард приказал Толуорту приготовить ему одеяние, в котором английского короля было бы невозможно узнать. Поэтому вместо посеребренной кольчуги и шлема, увенчанного короной, Ричард облачился в простой акетон, а голову обмотал куском светлого полотна наподобие тюрбана. Примерно так же выглядел поджидавший его племянник, молодой Генрих Шампанский — Ричард решил использовать его в качестве проводника, ибо тот хорошо знал и сам лагерь, и его окрестности.
Именно Генрих посоветовал Ричарду соорудить тюрбан, дабы уберечь темя от адской жары. Теперь молодой граф терпеливо ждал, пока король отдаст последние распоряжения Толуорту по поводу уже с утра явившихся к английскому королю просителей.
— Пусть изложат свои просьбы и жалобы Беренгарии, — велел Ричард. — Пора моей супруге почувствовать себя королевой. Если возникнут затруднения — ей поможет Пиона.
Едва они вышли из-под навеса, их обдало раскаленным воздухом. Солнце слепило глаза, дышать было нечем.
— Бог ты мой! Генрих, как ты умудрился выжить в этом пекле? — дивился Ричард, пока они спускались по каменистой запыленной тропе к главному лагерю.
— С Божьей помощью, — усмехнулся молодой граф, но не стал уточнять, в чем она заключалась.
Но вскоре Ричард и думать забыл о жаре и духоте. Он смотрел, изучал, запоминал, сопоставлял.
Огромный город-крепость Акра золотистой громадой возвышался на морском побережье. Он был красив, несмотря на потеки смолы на стенах из светлого камня и разрушения от ядер осадных машин. Акра располагалась на просторном мысу треугольной формы, далеко выступающем в море. Со стороны суши ее защищали могучие стены и оборонительные башни, самой высокой и мощной из которых была та, которую крестоносцы прозвали Проклятой. Не ней было немало отметин, причиненных обстрелом, и тем не менее она производила впечатление неприступной. Прямо напротив башни располагались главные осадные машины — как действующие, так и строящиеся. Там по-прежнему шла работа: стучали топоры, с помощью блоков мастера поднимали и устанавливали на место толстые брусья новой штурмовой башни.
Ричард, оглядев все это, произнес лишь одно слово: глупость.
— О чем вы, государь? — недоуменно переспросил Генрих Шампанский.
— Обо всем. Смотри, строители осадных башен трудятся полуголыми. А если случится вылазка сарацин? Сколько времени им понадобится, чтобы облачиться в доспехи? Сколько падет от стрел, не имея защиты?
— Но ведь жара, ваше величество!
— Тсс-с! Пока мы тут околачиваемся, зови меня просто Диком.[126]
Генрих по-мальчишески рассмеялся и для убедительности, зная, что в эту минуту славный малый по имени Дик не обидится, попытался подставить ему подножку… но тут же сам едва не полетел в канаву — с такой ловкостью отбросил его ногу король.
Ричард Львиное Сердце обычно прост и приветлив, но злоупотреблять его простотой и добродушием не стоило — всегда следовало помнить, что имеешь дело со Львом. Поэтому граф оставил шутки и принялся подробнейшим образом отвечать на вопросы, которыми его засыпал король. Где расположена резиденция Саладина? — спрашивал Ричард, и Генрих указывал на желтые знамена, развевавшиеся на вершине Кизанского холма, покрытого зарослями мастикового дерева и можжевельников, откуда хорошо просматривалась вся окрестная равнина. Однако главная ставка султана находится в другом месте: на высокой горе, которую сарацины называют Каруба. Есть и еще одна — на горе за заливом, ближе к Хайфе. Ричард мрачнел, задумывался: крестоносцы, собравшие небывалое по численности в истории крестовых походов войско, ютятся на пятачке под стенами города и еще не отвоевали ни пяди земли, на которой так вольготно чувствует себя Саладин.
Затем король обратился к графу с просьбой пояснить, как располагаются войска султанских эмиров.
В течение года, проведенного в Святой земле, Генрих Шампанский прекрасно изучил обстановку вокруг Акры и мог с мельчайшими подробностями указать места лагерей племянника Саладина Таки ад-Дина, эмира Мосульского, военачальника Аз-Захира, брата султана Малика аль-Адиля, Асад ад-Дина и старшего сына Саладина принца аль-Афдала.
— Как это ты умудрился запомнить такое множество басурманских имен? — расхохотался Ричард и тут же перешел к диспозиции христианского лагеря.
Самый крупный и многолюдный стан здесь принадлежал Филиппу Французскому: издали был виден его большой голубой шатер с королевскими лилиями, там же громоздились огромные осадные орудия. Союзник Филиппа Конрад Монферратский располагался неподалеку от ставки самого Ричарда, рядом с лагерем тамплиеров. В ответ на замечание Ричарда, что палатки в стане Конрада весьма немногочисленны, граф Генрих пояснил, что под Акрой вместе с Конрадом лишь незначительная часть его сил — основное воинство маркиза находится в Тире. Однако под началом Конрада находятся остатки армии покойного императора Фридриха Барбароссы. Там же резиденция его родича — герцога Леопольда Австрийского. Но несмотря на то, что флаг, развевающийся над ней — белый с большим черным орлом, — самый большой в лагере осаждающих, людей там совсем мало.
Продолжая осматривать позиции крестоносцев, Ричард и его спутник достигли южной части лагеря, где разбил свои шатры и установил осадные орудия король Гвидо де Лузиньян. Стан де Лузиньяна отличался порядком, во всем была видна твердая рука предводителя, однако король обратил внимание на множество мертвых тел, спеленутых саванами. Специально отряженная команда спешно хоронила их в болотистой низине близ узкой, петлявшей среди тростников речки Вилы.
— Поветрие, — с горечью пояснил королю Генрих. — Эту болезнь называют арнольдией, от нее в лагере гибнет не меньше людей, чем от стрел сарацин.
Ричард миновал свежие могилы и приблизился к берегу реки. Вода в Виле была желтовато-бурой, мутной, однако именно ее использовали для нужд лагеря. По словам Генриха, в окрестностях имелось еще две реки — Кишон и Афлек, на одной из них некогда даже действовала водяная мельница, возведенная крестоносцами, но впоследствии разрушенная сарацинами. В долинах этих рек есть и чистые источники, — сообщил граф, однако когда Ричард выразил желание пройтись туда, чтобы испить свежей воды, воспротивился, сославшись на то, что многие из крестоносцев, отправляющихся за родниковой водой, гибнут от стрел подстерегающих их там лучников-курдов. Местность эта находится довольно далеко от лагеря и скверно охраняется.
— Глупость, — еще более мрачнея, повторил Ричард.
О настроении короля можно было судить только по сошедшимся на переносье бровям — нижнюю часть его лица, как и у самого Генриха, закрывал край тюрбана. Это позволяло Ричарду расхаживать по лагерю, оставаясь неузнанным. Хотя кто мог предположить, что приведший под Акру свое войско владыка Англии вместо того, чтобы вместе с советниками изучать карты, потягивая прохладительные напитки под навесом, отправится в такой зной бродить между шатров, вникая даже в такие детали, как расположение кухонь, коновязей и даже ям для отбросов? Порой Ричард запросто заговаривал с обитателями лагеря — лучниками, монахами, ранеными воинами, поварами и слугами. На площадке, где упражнялись воины, один из молодых рыцарей попросил у него совета, как обращаться с боевым цепом, и король преподнес ему небольшой урок владения этим смертоносным оружием.
Троица загорелых до черноты христиан-пуленов, восседавших под полотняным навесом, пригласили его отведать вместе с ними недавно пойманную кефаль, и Ричард уселся на пыльную циновку, отправив графа Шампанского, словно юного пажа, в палатку маркитанта за вином. А когда Генрих вернулся, один из пуленов — в прошлом житель Акры, с важным видом рассказывал:
— От крепости Газа на юге и до самого Сидона нигде нет такой кефали, как в этом заливе. Когда в лагере затишье, мы не упускаем случая порыбачить. Затем, почистив рыбу, ненадолго погружаем ее в кипящее масло и только потом кладем на решетку над углями…
Позже, когда спутники двинулись дальше, Ричард произнес с удивлением:
— Клянусь эфесом своего меча — они, оказывается, любят этот край, где нет ничего, кроме жары и мух!
— Это не всегда так, мой коро… то есть Дик, — отозвался граф Шампанский, и его зеленоватые глаза мечтательно затуманились. — Я видел здешнюю благодатную осень, видел и весну. Дожди тут идут светлые и теплые, и тогда все окрестности, словно ковром, покрываются цветами. Даже в реке раскрывается удивительная бледно-голубая кувшинка, похожая на призрачную звезду. Морские черепахи выползают на песок погреться на солнцепеке, повсюду слышится щебет птиц. Я люблю бывать на берегу в предутренние часы, когда ветер еще свеж и только первые лучи солнца напоминают о том, что день предстоит знойный. В утренней дымке залив дышит ароматами моря, воздух прозрачен, и видны башни Хайфы на юге и белые скалы Рош ха-Никра на севере…
Ричард хлопнул спутника по плечу.
— Да ты говоришь как истинный трубадур, любезный племянник! Насколько мне известно, поэзия и музыка — спутники влюбленных. Но ты-то, оказывается, влюблен в этот край!
Граф Шампанский рассмеялся и пожал плечами под белой накидкой, защищающей от лучей солнца.
— Это Святая земля, Дик. Ее либо принимаешь всем сердцем, либо нет.
Ричард задумался. Он стремился сюда, полный любви к земле, по которой ступал сам Спаситель, хотя Писание не говорит, посещал ли Христос Птолемаиду, как называли Акру в седой древности. Но эта любовь оказалась выдуманной: пока что он не находил здесь ничего привлекательного для себя. Просто кусок сухой почвы, который предстоит завоевать. Но кое-кто считает эту землю обетованной, и его племянник, молодой Генрих де Шампань, похоже, из таких. И это тоже следует принять к сведению.
Прогнав эти досужие мысли, Ричард вновь принялся изучать укрепления Акры — теперь уже много обстоятельнее. Когда корабли его флотилии еще только приближались к берегу, он обратил внимание, что стены крепости возведены иначе, чем принято в Европе, — ни одно из сооружений не имело острых углов, повсюду каменная кладка плавно закруглялась. Впервые так начали строить оборонительные сооружения ромейские инженеры, убедившиеся, что скругленные углы лучше отражают удары каменных ядер осадных машин. Между башнями тянулась стена, сложенная из массивных каменных блоков и опирающаяся на мощный гласис,[127] окруженная глубокими рвами со стороны суши, а с моря — каменным молом, упирающимся в скалу со знаменитой Мушиной башней. Той самой, о которую столь бесславно разбились надежды громогласного Леопольда Австрийского взять Акру с моря.
Наконец Ричард сокрушенно произнес:
— Подумать только, сколько сил, крови и времени потребовала эта осада! А ведь первые крестоносцы овладели Акрой всего за двадцать дней!
Генрих, однако, поспешил уточнить:
— Дик, все, что вы видите перед собой, возвели не сарацины, а правители Иерусалимского королевства. Прежде Акра была небольшим приморским городком с ромейской цитаделью, обнесенной ветхими стенами, полуразрушенными от времени. Местность вокруг была заболочена, водоотводных каналов не существовало, а караванные дороги обходили городок стороной — вон по тем возвышенностям. Зато теперь, — почти с гордостью воскликнул молодой граф, — стены Акры таковы, что наверху могут легко разъехаться две повозки!
— И как же нам удалось потерять такую цитадель?! — Ричард вскинул глаза к небу, гневно потрясая кулаками.
Генрих Шампанский с силой выдохнул.
— Город и крепость были сданы без боя. Жослен де Куртене, потомок графов Эдесских, которому король Гвидо доверил защищать Акру в его отсутствие, предпочел открыть ворота перед Саладином. После того как султан милостиво отпустил за выкуп жителей Иерусалима, Жослен де Куртене счел сопротивление неразумным. И это при том, что сами горожане были готовы защищаться с оружием. Но слава милостивого завоевателя летела впереди Саладина, и Жослен испугался, что, если он не пойдет на уступки, сарацины вырежут в Акре всех без исключения…
— Проклятье! — яростно выругался Ричард. Оба продолжали путь в подавленном молчании.
Так они пробродили до самого заката. Граф Шампанский чувствовал себя до того измотанным, что по возвращении в стан Плантагенета тотчас отправился спать. Король же бодрствовал в своем шатре до полуночи. Он созвал начальников отрядов и вместе с ними засел за карты местности. Временами вспыхивали ожесточенные споры, Ричард пускался в пояснения, чертил углем на пергаменте схемы укреплений, и в конце концов начали проступать некие контуры общего решения.
За это время короля осмелились потревожить всего дважды.
Первым явился посыльный от короля Филиппа, интересовавшегося, когда Ричард будет готов созвать большой воинский совет. Английский Лев улыбнулся в свою золотистую бородку. Его позабавило, что король Франции, любивший напоминать, что Ричард — его вассал, никак не решится назначить время совета без него.
— Если не ошибаюсь, завтра должен собраться конклав ордена Храма, — заметил Ричард. — Полагаю, следует дождаться, пока рыцари изберут нового магистра ордена, чтобы и он мог принять участие в совете.
Так Ричард выиграл еще один день, чтобы подготовиться и окончательно отшлифовать план, который он намеревался предложить предводителям крестоносного воинства.
Второй раз короля побеспокоила его супруга. Ричард даже удивился, зная ее робость и деликатность.
— Государь, супруг мой! — Беренгария склонилась так низко, что ее каштановые, отягощенные жемчужными нитями косы почти коснулись ковров. — Я не могу отойти ко сну, не передав вам покорнейшую просьбу его святейшества патриарха Иерусалимского Ираклия. Он болен, не может передвигаться, но умоляет вас непременно посетить его.
Ричард знал: только в том случае, когда речь заходит о страждущих, королева готова проявить неожиданные твердость и настойчивость. Еще вчера к нему являлся посыльный от патриарха, но король отклонил приглашение иерарха под предлогом пира.
— Хорошо, госпожа моя, — он ласково опустил руку на склоненную головку жены. — Обещаю завтра же навестить его святейшество.
Однако к утру это обещание забылось, и Ричард вновь отправился с графом Шампанским в лагерь, чтобы проследить, насколько точно исполняются его распоряжения. Мастеровые и механики уже приступили к установке осадных машин вдоль стен: одна большая баллиста должна была располагаться напротив ворот Госпитальеров, другая — напротив башни Святого Антония, а третья — непосредственно в лагере короля Гвидо, напротив ворот Святого Николая. Именно там, по мнению Ричарда, находилась наиболее уязвимая часть стены, да и ров был помельче — засыпать его, чтобы подвести вплотную к стене осадную башню, можно было с меньшими жертвами и гораздо быстрее. Чертежами осадной башни уже занимался многоученый Хьюберт, епископ Солсберийский.
Король остался доволен. Удручало его лишь одно — боевой дух воинов, почти два года проведших в лагере под Акрой.
В свои тридцать три года Ричард успел осуществить немало походов и кампаний, но еще никогда он не видел, чтобы лагерь разбивался столь непродуманно, в таких ужасающих условиях и чудовищной грязи. Смрад прокисшей похлебки, гнилой рыбы, конского навоза и человеческих испражнений, дыма, пота и гниющих отбросов, казалось, возносится до небес. Тучи мух носились над кухнями, лавками маркитантов и выгребными ямами. И если глаз радовали воины, собравшиеся на мессу под навесом с походным алтарем, рядом он видел палатки, набитые шлюхами вперемешку с хмельными рыцарями и простыми латниками.
Эти продажные девки неизбежно появляются во всех воинских лагерях, как крысы в подвалах, и с этим почти ничего нельзя поделать. Но помимо шлюх в лагере было множество женщин с детьми — так называемых «солдатских жен». Они живут со своим избранником, любятся, рожают ему детей, обстирывают, готовят пищу, борются с блохами и вшами в палатке. Но если их так называемый муж погибает, жизнь этих женщин, и без того незавидная, превращается в сущий ад. Они либо переходят к другому воину, которому наплевать на чужих отпрысков, либо пополняют ряды продающих свое тело кому придется.
Кроме этих несчастных созданий Ричард приметил и весьма нарядных девиц, приплывших сюда торговать своими прелестями со всего побережья Средиземного моря. Кое-кто из них прогуливался по лагерю чуть не в обнимку с паладинами, возложившими на себя крест. Король ужаснулся: в Мессине он решился на величайшее унижение — подвергся порке розгами ради того, чтобы ему простились прежние грехи накануне вступления в священную войну. А эти солдаты воинства Христова предаются блуду чуть ли не на глазах у сотоварищей! Как же Господь может даровать им победу, когда они сами олицетворяют всемогущество сатаны?
Нет, разумеется, не все здесь были пьяны и разнузданны. Он видел воинов, упорно оттачивавших мастерство боя, упражнявшихся в стрельбе из лука и верховой езде. Но эти-то, самые преданные и верные, зачастую выглядели самыми что ни на есть оборванцами. А ведь сюда, под Акру, из Европы ехали преимущественно состоятельные рыцари. Памятуя уроки первых крестовых походов, сюда не звали бедняков, дабы они не отягощали воинскую казну и не гибли от изнурения и голода. Если же в отряд и включали неимущего, то лишь тогда, когда предводитель убедился в их боевом опыте и мог заплатить за доспехи и оружие новичка.
И все же вокруг было полным-полно грязных, одетых в лохмотья солдат в помятых шлемах и проржавевших кольчугах. Несмотря на то, что в лагере были десятки кузниц, мастерских и лавок, торгующих вооружением!
Что касается всевозможных лавок, то их здесь оказалось даже больше, чем Ричард мог предположить. Армянские купцы из Киликии, греческие, итальянские, мусульманские торгаши — порой королю казалось, что он не в воинском лагере, а на ярмарке где-нибудь в Руане или Лимассоле: вокруг не умолкали призывные крики лавочников и менял. Но были тут и некие странные шатры, где стояла подозрительная тишина. Поначалу Ричард решил, что это госпитальные палатки, но Генрих, прежде чем ответить на его вопрос о том, кто в них обитает, странно взглянул на своего короля, словно колеблясь — говорить или нет.
— Дик, дело в том, что в лагере немало торговцев опиумом. Лекари покупают его, чтобы облегчать страдания раненых и умирающих. Но среди крестоносцев находятся и такие, кто весьма быстро входит во вкус и уже не может обходиться без этого дурмана. Он вызывает грезы, дарит сладостное забытье. Правда, потом любители сладких видений страдают от ломоты в костях и готовы продать все, вплоть до бессмертной души, лишь бы им снова дали вкусить райского зелья.
Ричард был поражен. Губы его сжались в прямую линию, глаза сузились.
Его недовольство вырвалось наружу, когда король заметил, что начатые с утра работы по сборке стенобитных машин по неизвестной причине приостановились. Да — стояла жара, в воздухе было полно пыли, но ведь он повелел накрыть площадку холщовыми навесами, по его приказу сюда подвозили чистую родниковую воду, а неподалеку стояли чаны с водой, чтобы работники могли в любую минуту освежиться. И все же дело стояло, а люди разбредались или собирались кучками, болтая в тени.
— Разрази вас гром! — взревел король, срывая тюрбан. Волна великолепных золотистых волос упала ему на плечи.
Этот львиный рык был слышен далеко. Многие вскочили с мест, уставившись на него, кое-кто пятился, иные, узнав государя, низко склонялись.
Епископ Хьюберт поспешил к Ричарду с чертежами, но король лишь мельком взглянул на пергамент. Хьюберт стал оправдываться: духота, усталость, нехватка умелых людей. Нанятые королем Филиппом плотники вообще отказались работать, сославшись на запрет своего повелителя участвовать в сооружении осадных башен англичан.
— Выходит, вы собрались торчать под стенами Акры за мой счет до второго пришествия? — громыхал Ричард.
Внезапно ему пришло в голову, как наладить работу.
— Сколько вам платит король Филипп за услуги? — он обернулся к собравшимся. — Два полновесных безанта в неделю? Что ж, клянусь славным именем предков, я буду платить четыре! И это касается каждого, кто захочет вступить в мои отряды. И я стану платить еженедельно, не откладывая ни на день, клянусь верой! Но я заставлю вас работать и воевать! И мы возьмем Акру, отвоюем Иерусалим и разобьем в пух и прах султана Саладина!
Он умел зажигать людей. И не щедрая плата, и не обещанные награды, а его решимость и сила воодушевляли тех, кто был с ним рядом. Работа закипела, и Ричард собственноручно тесал балки и вязал канаты для будущих грозных механизмов.
К вечеру поступили известия. Завершился конклав тамплиеров, на котором Робер де Сабле был избран Великим магистром.
«Что ж, одного сторонника на совете предводителей я уже имею», — улыбнулся Ричард, откинув со лба взмокшую прядь волос.
Кроме того, маршалом ордена, как и ожидалось, единогласно был утвержден его кузен Уильям де Шампер. Был также назначен новый сенешаль[128] ордена, которому вскоре надлежало отправиться на Кипр, дабы вступить в управление островом.
Еще одно известие принесла Ричарду сестра.
— Дражайший братец, — объявила Пиона, — я так и не сумела отговорить нашу добрую Беренгарию от намерения посетить патриарха Иерусалимского. Ей стало известно, что его святейшество Ираклий при смерти, и она намерена просить его благословения перед тем, как этот слуга Божий отойдет в мир иной. Но мне это не по душе. Ираклий опасно болен, и болезнь его заразна…
— Что-о?! — возмутился Ричард и напролом, расталкивая толпу, ринулся туда, где в лагере короля Гвидо виднелся потрепанный шатер патриарха.
«Проклятье! Я полагал, что позже выкрою время, чтобы побеседовать с этим священнослужителем, а тут еще и Беренгария… — размышлял он по пути. — Но ради всего святого — что ему от меня понадобилось? Почему Ираклий так настойчив? Ему бы сейчас полагалось больше заботиться о спасении души, чем о земных делах, тем более что грехов на совести у его святейшества, как поговаривают, накопилось изрядно».
Еще издали Ричард увидел короля Гвидо, пытающегося удержать Беренгарию у входа в шатер, и закричал:
— Остановитесь, мадам! Я настаиваю, чтобы вы немедленно удалились! И не смейте мне перечить!..
Но королева и не пыталась, пораженная обликом своего супруга. Ричард, всегда выглядевший как истинный рыцарь, блистательный, великолепный и властный, в эту минуту был весь в пыли и стружках, его всклокоченные волосы развевались, а на одежде проступали пятна пота. Однако и таким он оставался прирожденным повелителем.
Патриарх Ираклий, едва приоткрыв запавшие глаза, тотчас узнал английского Льва, хоть никогда и не видел его воочию. Лежащий на смертном одре последний епископ Иерусалима едва слышно прошелестел:
— Король Ричард! Ваше величество, как же я страшился умереть, не дав вам последнего напутствия!
«Обошелся бы я и без него!» — сердито подумал Ричард, с отвращением вдыхая миазмы, наполнявшие шатер больного, смешанные с дымом ладана и мирры из курильницы.
Ираклий, сделав нечеловеческое усилие, оторвал голову от подушки и простер руки к королю.
— Я должен сказать вам нечто важное, сир. Вы Плантагенет, и пусть я и был скверным христианином и еще худшим слугой церкви, но я всегда оставался другом вашего дома.
Ричард это знал: в свое время Ираклий просил его отца принять корону Священного Града, если тот возьмет на себя его защиту. Однако старый Генрих, отказавшись от трона в Святой земле, пожертвовал на его укрепление такую сумму, что ее хватило взошедшему на престол Гвидо де Лузиньяну, чтобы обновить вооружение и приобрести коней для своего войска… Которое он так бесславно погубил в той проклятой битве в пустыне… Но сейчас Ираклий заговорил о необходимости поддержать короля Гвидо, ибо тот один останется верен Ричарду в самых затруднительных обстоятельствах.
— Я и без того намеревался это сделать, ваше святейшество, — перебил Ричард, заметив, как трудно дается речь патриарху. — И главное сейчас не это, а то, что королевство христиан в Палестине еще предстоит отвоевать!
Ираклий приподнял безвольную руку, словно указывая на небеса.
— Учтите, сир, все они… Все эти предводители крестоносных ратей… Они не станут воевать с Саладином, если корона будет обещана тому, кто им неугоден. Вы скоро убедитесь, насколько наши силы разобщены и не готовы подчиняться единой воле. А Саладин могуч, его не так-то просто одолеть… Я долго думал, что же предпринять, чтобы прекратить вражду между крестоносцами, и нашел-таки выход. Лучше всего будет…
Он икнул, и Ричард увидел, как только что выпитая Ираклием вода струйками потекла из уголков его рта. И все же, преодолев отвращение, он низко наклонился над ложем умирающего, когда патриарх заговорил о своем плане…
Из шатра Ираклия король вышел задумчивым и присмиревшим. Подал руку поджидавшей его королеве и повел ее прочь, сообщив только, что патриарх Иерусалимский готовится к встрече с Творцом и к нему уже позвали монаха-исповедника.
Весть о кончине Ираклия разнеслась в тот же вечер. Ричард узнал об этом, обсуждая с приближенными план предстоящего штурма крепости. И тотчас велел присутствующим встать и прочитать молитву об упокоении души представшего перед лицом Господа его слуги.
Не вслушиваясь в слова молитвы, король подумал: «Ираклий крепился, словно не позволяя себе умереть, пока не увидится со мной. Но его советы — чистое золото. Да воссияет ему вечный свет в чертогах Всевышнего!»
В эту же ночь в лагерь крестоносцев, миновав двойное кольцо стражи, пробрались лазутчики Саладина и подожгли осадные машины короля Франции. Ричарду с утра доложили, в какой ярости был Филипп. В бешенстве он уверял, что всему виной Ричард Плантагенет, переманивший к себе на службу часть его людей. В результате у баллист и катапульт Капетинга практически не осталось охраны.
«Он просто ревнует», — подумал Ричард.
Филипп всегда завидовал ему: его воинской славе, его огромным владениям, богатству, преданности его вассалов, ибо в Англии бароны никогда не были так своевольны, как вельможи во Франции, только на словах подчинявшиеся королю. Вассалы же Ричарда — как в Англии, так и в его владениях на континенте — полностью зависели от него. Для этого пришлось сжечь не один замок и провести не одну военную кампанию.
И все же мысль о том, что Филипп считает себя главнокомандующим и уже назначил день большого военного совета, постоянно раздражала Ричарда. За английским королем следовала половина войска в лагере крестоносцев, он привел с собой множество кораблей с трюмами, полными провианта и оружия, и тем не менее тщеславный Филипп пытается диктовать условия.
Вот почему на протяжении всего времени, оставшегося до совета, Ричард, помимо обсуждения плана кампании, вел переговоры в лагере и собирал сведения, выясняя, на кого может положиться. Все это было необходимо знать заранее, пока в игру не вступил Саладин.
Под вечер назначенного дня английский Лев облачился в великолепные королевские одежды: длинную тунику светлого атласа, украшенную самоцветами и гербом Плантагенетов на груди. На голове Ричарда сверкала корона с зубьями в виде крестов и трилистников, отделанных сапфирами и рубинами. Обычно Ричард с удовольствием ощущал тяжесть массивного золотого венца, но сегодня у него с утра ныл затылок, и он только поморщился, водружая на голову символ своей власти и могущества. Король чувствовал себя утомленным — сказывались напряженная работа последних дней, непривычный климат, недостаток сна.
Обычно он не придавал значения подобным мелочам. Но беспокоило другое — он все время потел, его мучила жажда, и весь день он пил чашу за чашей, а голода совсем не ощущал. Верный Толуорт едва уговорил короля съесть ломтик куриной грудки с оливками. Да и епископ Солсбери, явившийся, чтобы сопровождать Ричарда на совет, заметил, что король выглядит неважно.
— Вы кажетесь не вполне здоровым, государь, — озабоченно произнес епископ, но Ричард лишь отмахнулся:
— Отосплюсь после совета, и все будет в порядке.
Когда же они вместе с верным Хьюбертом пересекали лагерь в окружении факелоносцев и трубивших в рога герольдов, звучавшие отовсюду приветственные клики вернули Плантагенету бодрость и живость.
— Да здравствует король Ричард! — гремели сотни глоток.
— Веди нас на проклятых мусульман, английский Лев!
— Слава Ричарду Львиное Сердце!
«Уж Филипп-то наверняка это слышит!» — думал Ричард, шествуя по проходу между палаток и стараясь не споткнуться о многочисленные растяжки, чтобы не утратить из-за смешной оплошности королевского величия. Голова все-таки слегка кружилась, и в ногах чувствовалась слабость.
Однако этого никто не заметил, когда в голубом шатре Филиппа Французского собрался совет. Внутренние покои шатра были отделаны королевскими лилиями — они виднелись повсюду: на сводах, знаменах, развешанных на стенах, на великолепном бархатном плаще самого монарха. Король Франции восседал на складном походном кресле, похожем на трон, во главе длинного стола; все прочие расселись на отведенных им местах, каждое из которых было украшено гербами и значками участников совета. Здесь были лилии и пурпур князя Боэмунда Антиохийского, косые лазоревые с золотом полосы герцога Бургундского, черный орел Леопольда Австрийского, черный сокол маркиза Монферратского. Выше прочих и в стороне виднелся герб Иерусалимского королевства, но под ним не было кресла, а вошедшему в шатер Гвидо де Лузиньяну пришлось занять место под своим родовым гербом.
Гвидо, подавленный столь явным намеком на то, что Филипп не признает его королевского достоинства, несмотря на помазание в храме Гроба Господня, устремил взгляд на короля Англии, словно тот был его последней надеждой.
«Спокойствие, друг Гвидо, — произнес про себя Ричард, ответив твердым и спокойным взглядом. — Вся борьба еще впереди!»
Совет открыл король Филипп, напомнив о святой цели их похода. Ричард тем временем попросил подать ему чашу воды. Филипп не был краснобаем и, завершив краткое вступление, перешел к обсуждению трех главных вопросов: хода военных действий под Акрой, вопроса о командовании силами крестоносцев и вопроса о престоле Иерусалимского королевства. Последний особенно живо интересовал собравшихся, и Ричард заметил, какими испепеляющими взглядами обменялись маркиз Монферратский и Гвидо де Лузиньян.
— Кто желает высказаться? — с важностью откинулся в своем кресле Филипп.
Он не уточнил, какой из вопросов надлежит обсудить первым, и слово взял Ричард. Приняв из рук стоявшего позади него Толуорта свиток карт, он расстелил одну из них на столе, придавив края пергамента тяжелыми подсвечниками, и кратко описал ситуацию.
Ныне основные боевые действия сосредоточены в районе Проклятой башни, которая, словно мыс, выдается вперед из линии городских укреплений. Вместо этого Ричард предложил установить тяжелые баллисты и катапульты на всем протяжении городских стен и обстреливать их на нескольких участках. Когда же обнаружатся наиболее слабые места, туда-то и надо будет перебросить основные силы.
— Вы считаете мои действия ошибочными? — вскинул брови Капетинг.
— Судите сами, Филипп, есть ли смысл опять и опять расшибать лоб о самый неприступный участок стен?
— Но маркиз Монферратский утверждает, что обстреливать Проклятую башню удобнее всего.
Ричард хмуро взглянул на маркиза, на скулах которого заходили желваки.
— Значит, это идея Конрада? Не буду спорить — маркиз умеет отважно защищать цитадели. Но много ли их он взял штурмом?
Конрад угрюмо промолчал. В отличие от него, Ричард не единожды брал самые неприступные замки.
Неожиданно к Ричарду присоединился Гуго Бургундский, заявив, что также считает ошибкой обстрел Проклятой башни, и готов выслушать все предложения предводителя англичан.
Ричард без лишних слов изложил свой план. Требюше, баллисты и катапульты надлежит установить не у выдвинутых вперед башен, а напротив тех участков стен, которые связывают между собой оборонительные башни. Да, стены Акры выглядят несокрушимыми, но не следует забывать, что промежутки между кладкой их лицевой и внутренней стороны заполнены, как и везде, бутовым камнем. Если удастся разрушить наружный, наиболее прочный слой кладки, бут, находящийся внутри, начнет осыпаться, образуя своего рода откос у подножия стены, по которому будет легче взобраться штурмующим.
— Вместе с тем, нельзя оставлять в покое и уже поврежденную Проклятую башню! — заявил Ричард, заметив, что Филипп уязвленно прикусил нижнюю губу, тогда как Гуго Бургундский, Балиан де Ибелин и даже Конрад Монферратский согласно закивали.
Король Франции далеко не впервые был свидетелем того, как военачальники, которым поначалу была не по нутру напористость Ричарда, в конце концов начинали соглашаться с его доводами. Когда же английский Лев стал приводить свои расчеты количества осадных башен, необходимых для штурма, Капетинг решил вмешаться:
— Возможно, ваши расчеты, Ричард, и верны, но остается открытым вопрос о том, кто будет распоряжаться всем этим, кто будет руководить ходом осадных действий? Или вы хотите подчинить меня, вашего сюзерена, своей воле?
— Я не давал вам, Филипп, оснований для такого вывода! — огрызнулся Ричард. Голос его прозвучал надтреснуто. Он сухо закашлялся и протянул руку к Толуорту, требуя еще воды.
Пока он жадно пил, вступил магистр госпитальеров Гарнье:
— Государь! Пока мы всего лишь обсуждаем, как нам надлежит действовать. То, что предлагает Ричард Английский, достойно внимания. Если же мы с первых шагов начнем спорить о главенстве, то добьемся не многого. Осмелюсь напомнить вам один из законов рыцарства: биться шумно, говорить тихо и кратко!
Филипп вновь закусил губу. Если бы эти слова прозвучали из уст новоизбранного магистра ордена Храма Робера де Сабле, близкого друга Ричарда, он мог бы с этим смириться. Но Гарнье де Неблус, тот, кого он считал своим твердым сторонником!
— Я хотел всего лишь подчеркнуть, что предложения о ходе осады могут быть не только у Ричарда. Желает ли высказаться кто-нибудь еще?
Он с надеждой взглянул на Гуго Бургундского. Но тот молчал, почесывая свою густую бурую шевелюру, из-за которой его прозвали Медведем. Зато поднялся со своего места Леопольд Австрийский.
Белокурый гигант с эмалево-голубыми глазами и пышной светлой бородой, чисто вымытой и гладко расчесанной, ни с того ни с сего громогласно заговорил о священной миссии крестоносцев, о великой славе, которая ждет героев в случае успеха, о погибели, ждущей неверных, и прочих не слишком уместных на совете вещах.
Вещал он так долго и цветисто, никем не прерываемый, что Ричард откровенно заскучал. Добро бы все это звучало из уст епископа, наставляющего воинов перед боем, но сейчас герцог Австрийский своими пустопорожними речами только зря сотрясал воздух. Плантагенет на дух не переносил таких краснобаев, умеющих говорить воодушевленно и напыщенно, но никогда не дающих дельных советов и беспомощных, когда приходится действовать, а не болтать. В конце концов он прервал австрийца:
— Хочу еще раз напомнить известные слова, которые привел магистр Гарнье: биться шумно, говорить тихо и кратко. Если вам, герцог, нечего сказать по существу, — запишите продолжение вашей замечательной речи на пергаменте, и все мы с удовольствием прочитаем ее перед сном вместо вечерней молитвы.
Лицо Леопольда Австрийского стало пунцовым, но вокруг раздались смешки, и он, запахнувшись в широкую голубую накидку, опустился на место.
Снова взяв слово, Ричард коснулся беспорядка в лагере и предложил целый ряд изменений, которые следовало бы внести, чтобы положение изменилось к лучшему. Первым делом необходимо уменьшить число лавок, лавчонок и торговых палаток, буквально заполонивших лагерь, и на освободившемся месте установить шатры рыцарей и пехотинцев в таком же порядке, как у тамплиеров и госпитальеров. Это позволит освободить проходы к оружейным козлам и коновязям и сократит время сбора отрядов, когда обстановка того требует. Кроме того, Ричард потребовал, чтобы все куртизанки и шлюхи, обосновавшиеся здесь, были погружены на корабли и высланы за пределы Палестины. О какой высокой миссии крестоносцев может идти речь, когда сами они являют образец разнузданности и греха?
— Вы хотите оставить нас вовсе без женщин? — возмутился Конрад Монферратский, на что Ричард резонно возразил, что не к лицу маркизу, недавно обвенчавшемуся с прелестной принцессой, сожалеть об отсутствии шлюх. Что касается женщин как таковых, то в лагере останутся только прачки — кто-то же должен обстирывать воинов, дабы те выглядели достойными рыцарями, а не грязными и завшивевшими оборванцами, над которыми насмехаются мусульмане.
— А чем же рыцарям развлечься в часы досуга, коль скоро, сир, вы лишите их и женщин и вина? — поинтересовался граф Жак д'Авен, ветеран осады, храбрый рыцарь, но горький пьяница, о чем свидетельствовал его багровый, исчерченный лиловыми прожилками нос.
Ричард ответил не сразу. Обратившись к Роберу де Сабле, он спросил: чем занимаются матросы на его кораблях на досуге?
На это флотоводец, а ныне магистр тамплиеров, ответил, что его моряки не имеют досуга, ибо, если выпадает свободный час, их заставляют мыть и драить палубы, плести канаты, чинить паруса и снасти. От безделья в голову мужчин приходят такие мысли, которые при всем желании нельзя назвать благими.
— Слышали ли вы, мессир д'Авен? — повернулся к графу Плантагенет. — Безделье развращает. Поэтому, чтобы от нашего сидения под Акрой был толк, необходимо поставить дело так, чтобы воины не имели ни минуты свободного времени. А ведь дел у нас немало: завершение строительства Метательных машин и осадных башен, выездка молодых лошадей, прибывших в качестве пополнения, поддержание оружия и доспехов в отличном состоянии, воинские упражнения, а еще — молитва, ибо какое же мы воинство Христово, если пьянство и пляски с продажными девками отнимают у нас больше времени, нежели забота о душе и воинской славе? Помимо того, я намерен занять людей расширением лагеря, а также рытьем рвов и установкой частокола в долине вокруг родников, чтобы не приходилось ползком добираться за глотком чистой воды… — при последних словах Ричард снова жадно припал к чаше и отер пот, струившийся по его лбу из-под обруча короны.
И пока он пил, тот же граф д'Авен подтвердил, что сказанное королем Англии давно назрело, ибо большинство крестоносцев берут питьевую воду из реки Вилы, которая течет с возвышенностей, где стоят сарацины, и куда неверные сбрасывают все нечистоты из своего лагеря. Истинное чудо, что лагерь христиан давным-давно не вымер от морового поветрия!
Затем Ричард указал на то обстоятельство, что в их стане скопилось слишком много раненых, их куда больше, чем больных. Поэтому он намерен переправить тех, кто в ближайшее время не сможет сражаться, на Кипр, где они гораздо быстрее вернутся в строй.
При этих словах Филипп Французский оживился:
— Вот вы и коснулись Кипра, мой любезный Плантагенет!
Он чуть ли не сиял, а Ричард, чувствуя, как его охватывает усталое безразличие, молча ждал, что же припас его коварный приятель под конец.
Сюрприз не заставил себя долго ждать: напомнив, что, согласно заключенному между ними еще в Везле договору, все приобретенные во время военной кампании земли должны быть по-братски разделены пополам, Филипп заявил, что надеется получить свою долю благословенного острова.
После этих слов все присутствующие, зная нрав английского Льва, ждали взрыва ярости. И не без оснований: Ричард потратил на завоевание Кипра огромные силы и средства, а теперь ловкач Филипп пытается присвоить половину его успеха. Однако Ричард сидел неподвижно, глядя на Капетинга. Лицо его блестело от пота, глаза казались мутными. Но когда он заговорил, голос его звучал ясно и твердо:
— Насколько я припоминаю, Филипп, в договоре шла речь о землях, которые мы вместе завоюем в Леванте.
Но французский король был готов к этому возражению: ему тотчас подали свиток — копию упомянутого договора. Ричард окинул его рассеянным взглядом. И действительно — договор был составлен так, что речь шла, без всяких оговорок, о землях, которые любой из королей-союзников приобретет во время похода.
Когда Ричард оторвал глаза от свитка, на него было устремлено множество взглядов — как сочувственных, так и откровенно злорадных.
— Вы хитрец, любезный Филипп, — усмехнулся он, чувствуя, как по спине стекают струйки пота, и повел плечами, чтобы шелк туники не так лип к телу: — Но зная вас давно, я тоже кое-чему научился. Вы желаете получить половину Кипра, завоеванного мною во время нашего совместного похода? — он кивнул на свиток. — А я хочу получить половину земель недавно скончавшегося здесь, в лагере под Акрой, графа Фландрского, которые вы унаследовали. Ведь эти земли вы получили именно в то время, когда продолжался наш поход! — Ричард с трудом улыбнулся.
Филипп резко откинулся в кресле:
— Граф Фландрский завещал вам все свои осадные орудия, Ричард, а это тоже немало.
— Но много меньше, чем прекрасное графство Фландрия. И договор, Филипп, остается договором, — он постучал ногтем по пергаменту.
Филипп, словно позабыв о Кипре и о деньгах, которые были обещаны Ричарду тамплиерами за право управлять островом, моментально заговорил о другом: пора определиться, кто станет во главе похода и чья воля станет решающей для всего крестоносного воинства.
Любой из тех предводителей, что собрались в шатре французского короля, готов был взять на себя командование, однако теперь уже было ясно, что выбирать придется только между Филиппом Французским, занимающим наиболее высокое положение, и Ричардом Английским, который привел с собой самые многочисленные отряды, а ныне содержал весь лагерь крестоносцев на свои средства.
Ричард следил за обсуждением, полуприкрыв веки. Гвидо де Лузиньян, Генрих Шампанский, Боэмунд Антиохийский и Жак д'Авен готовы были следовать за Плантагенетом. Однако Леопольд Австрийский, Конрад Монферратский, Гуго Бургундский и Балиан де Ибелин сочли, что для них будет большей честью, если войско возглавит Филипп Капетинг, вассалом которого является король Англии. В результате мнения окончательно разделились. Магистры орденов участия в споре не принимали, заявив, что главная цель похода — отвоевание Гроба Господня и они согласны принять любого главнокомандующего, которого изберет высокое собрание.
Филипп осторожно помалкивал, время от времени поглядывая на Ричарда. Плантагенет его хорошо знал: Капетингу не так важно главенство над войском, как собственная корысть. Он знает, что английский Лев мечтает возглавить крестоносцев, и сейчас его вполне устраивает то, что Ричард содержит всю армию, а заодно и самого Филиппа с его приближенными. Но постоянное стремление французского монарха решать свои проблемы за его счет выводило Ричарда из себя.
— Высокородные сеньоры! — он вскинул руку, останавливая споры. — Для того чтобы противостоять такому полководцу, как Саладин, армия должна быть в полной боевой готовности. Султан не простит нам ни малейших упущений при подготовке к битве. Насколько мне известно, осада Акры затянулась именно потому, что когда мы бросаемся на штурм города, он немедленно атакует лагерь с тыла, и пока мы отбиваемся от его курдов и мамлюков, осажденные успевают залатать пробоины в стене и принимаются обстреливать нас с тылу. Иначе говоря, мы постоянно ведем войну на два фронта. Мое предложение таково: мы должны избрать двух главнокомандующих. Один из них будет отражать набеги эмиров султана, а второй приложит все силы, чтобы наконец-то взять город.
Эта мысль была принята с воодушевлением, и Ричард предложил Филиппу Французскому самому выбрать, куда он предпочтет направить свои силы. Как он и рассчитывал, Капетинг, еще раз взглянув на карту, предпочел продолжать осаждать Проклятую башню и стены города.
Наконец пришел черед последнего и самого важного вопроса, ибо он был тем яблоком раздора, которое могло окончательно лишить крестоносцев единства. Кто станет королем Иерусалимским после того, как земли королевства будут отвоеваны?
Ричард к этому времени до того устал, что лишь безмолвно взирал на спорящих вельмож. Те яростно сыпали доводами и угрозами, готовые вцепиться друг в друга, а Гвидо де Лузиньян и Конрад Монферратский даже схватились врукопашную, осыпая друг друга ударами, и пришлось кликнуть стражу, чтобы разнять воинственных претендентов на престол. Епископ Бове, папский легат Умбальдо и епископ Солсбери заставили драчунов примириться и просить друг у друга прощения, что, в конце концов, и было сделано.
В другое время эта возня позабавила бы Ричарда, но сейчас он полулежал в кресле, тусклым взглядом следя за происходящим. К королю приблизился Робер де Сабле в своей новой белоснежной мантии с алым крестом и такой же алой шапочке с плоским верхом, свидетельствующей о его высоком положении магистра ордена.
— Ричард, что с вами? — негромко спросил он, и в его голосе прозвучала тревога. — Я не узнаю вас. Вы, вопреки обыкновению, спокойны… или без сил? Что происходит?
— Я и сам себя не узнаю, — пересохшими губами вымолвил Ричард.
Язык его распух и едва ворочался во рту, когда он попросил подать ему еще воды. Сабле протянул ему свой кубок с вином. Сладкое и густое, оно не могло погасить жажду, но придало сил английскому королю. Ричард, немного придя в себя, поднялся, чтобы огласить то, что успел сказать ему перед кончиной патриарх Ираклий.
— Высокородные сеньоры! — он снова воздел руку. — У меня есть еще одно предложение, которое я советую вам обдумать.
— Опять вы, ваше величество, намерены навязать нам свою волю! — выкрикнул Леопольд Австрийский, но тотчас умолк, когда Плантагенет повернулся к нему: облитое потом лицо короля пылало, серые глаза грозно сверкали.
— Господа, я призываю вас признать права короля Гвидо, истинного помазанника Божьего, на трон Иерусалима до конца его дней. Но наследником Гвидо де Лузиньяна я предлагаю признать героя осады Тира маркиза Конрада Монферратского, супруга Изабеллы Иерусалимской!
В шатре воцарилась тишина. Это был компромисс, который многих бы устроил. Гвидо сохранял корону, но Иерусалимский трон со временем переходил к Конраду.
Гвидо молчал. Наконец он снял шлем и отвел со лба влажные волосы.
— Я согласен, — проговорил он.
Конрад — хмурый, всклокоченный, с темным от злости лицом — сплюнул на драгоценный персидский ковер кровь с разбитой губы.
— Я обещал Изабелле возродить королевство ее предков, — мрачно заявил он. — Но с какой стати я стану возрождать его для Гвидо? А вдруг я, упаси Господь, умру раньше его? Или умрет моя супруга, которая сейчас носит во чреве моего наследника? Разве это редкость — смерть в родах?
Но тут не сдержался даже Филипп.
— Слишком много «если», любезный маркиз! Вы говорите, как схоласт, гадающий, сколько ангелов может разместиться на острие иглы. Вам предлагают наследство вашей жены, а вы вновь пытаетесь посеять раздор. Если на то будет Божья воля, в некий день ваше чело увенчает корона Иерусалимского королевства!
— Аминь, — угрюмо ответил маркиз, осознав, что иного выхода у него нет.
Филипп поднялся и, улыбаясь, приблизился к Плантагенету.
— Надо же — какое тонкое решение вы измыслили, Ричард! Должно быть, кто-нибудь подсказал вам его?
«Тот, от кого я подхватил проклятую хворь», — хотел ответить Ричард, но сейчас у него не было сил даже на то, чтобы глубоко вздохнуть. Схватившись за украшенный самоцветами ворот туники, он рванул его, и скрепляющие ткань рубиновые застежки посыпались на ковер. Король Англии внезапно покачнулся в кресле — и начал падать лицом вперед.
Филипп успел подхватить могучее тело, пышущее жаром.
— Да помогите же мне, в конце концов! — воскликнул он, обращаясь к присутствующим, многие из которых испуганно пятились. — Что вы смотрите? Мне не удержать его — он огромный, и от него пышет жаром, словно от печи…
— Оставьте его, государь! — выкрикнул кто-то. — Это арнольдия, вы можете заразиться!
ГЛАВА 16
Мартин взглянул на тонкий лунный серпик, к которому приближалась длинное волнистое облако. Света было достаточно, чтобы разглядеть, где из полуразрушенной крестоносцами башни выступает деревянная балка, но недостаточно, чтобы кто-нибудь мог заметить его, когда он начнет взбираться на стену.
— Может, все-таки еще раз попробуешь проникнуть в город вплавь? — шепотом спросил Эйрик, протягивая приятелю мешок, в котором лежало все необходимое для того, чтобы вскарабкаться по стене: веревки с острыми крючьями, пара тонких, но прочных кинжалов, удобные перчатки из мягкой кожи.
— Из этого все равно ничего не выйдет, — ответил Мартин, пристраивая на спине мешок со снаряжением. — Я пробовал уже дважды. Прибрежная часть города обнесена стеной, и прибой там выше, чем где-либо, но даже если бы мне удалось попасть прямиком в гавань, выбраться на берег незамеченным все равно не получится. И не только потому, что там постоянно болтаются стражники. В Акре уже ощущается нехватка продовольствия, и горожане круглые сутки торчат на молу с удочками в надежде на хоть какой-нибудь улов. Любой из них может сообщить охране о появлении подозрительного пловца. Едва ли мне удастся убедить начальника караула, что я двоюродный племянник той самой Сарры, из-за которой мы здесь и оказались…
— Но эта стена… — Эйрик задрал голову, чтобы получше разглядеть темную громаду, возвышавшуюся над ними.
Мартин шепнул:
— Старина, на самом деле нам просто повезло, что крестоносцы повредили именно эту часть укреплений у Легатских ворот. Я бы и шагу не ступил, если бы это произошло у Проклятой башни. Надо быть невидимкой, чтобы миновать тамошнее широкое предполье на глазах у крестоносцев и сарацин одновременно. — Он кивнул в сторону, где на Проклятой башне пылал огромный факел, освещавший окрестности, словно маяк. — А здесь, как видишь, темно и тихо.
Сейчас они находились с внешней стороны юго-восточной стены крепости. Поодаль смутно виднелись шатры лагеря рыцарей Гвидо де Лузиньяна — именно оттуда сегодня велся обстрел. В эту глухую ночную пору там было спокойно — лишь стража, негромко переговариваясь, несла службу у осадных орудий. Зато на стене неподалеку от ворот кипела работа — защитники Акры, пользуясь затишьем, спешно латали проломы и осыпи, образовавшиеся от ударов каменных ядер.
Подобные разрушения имелись уже на многих участках городской стены. Возможно, именно это и подтолкнуло короля Филиппа предпринять очередной штурм. Однако Ричард Львиное Сердце был поражен тяжким недугом и беспомощен, и Саладин использовал привычную тактику: бросил мамелюков на лагерь в точности тогда, когда пехотинцы Филиппа уже карабкались на стену. В итоге штурм, начавшийся вполне удачно, превратился в череду оборонительных схваток с легкой кавалерией сарацин, а прорвавшиеся к стене крестоносцы остались без прикрытия, и атака захлебнулась.
В этой сумятице французы потеряли одного из лучших военачальников — маршала Клемана. Король Филипп был в отчаянии и повелел объявить в своем лагере трехдневный траур.
Именно это время Мартин счел подходящим, чтобы проникнуть в город.
Длинное облако неторопливо поглотило серп луны. Мартин поправил на плечах лямки мешка.
— Все, прощай, рыжий! — Мартин стремительно нырнул в темноту. Легкий шорох — а затем полная тишина. Выученик ассасинов умел двигаться беззвучно, как большая кошка.
— Да помогут тебе асы,[129] малыш! — пробормотал Эйрик. Он стоял не двигаясь и вглядывался в усеянное телами погибших предполье Акры. Но даже его острое зрение не позволило разглядеть хотя бы тень приятеля.
Мартин вихрем пронесся по открытому пространству, с разбега миновал заваленный глиной и глыбами известняка ров и, не теряя скорости, взлетел по склону гласиса туда, где в кладке нижней части стены виднелась глубокая выбоина от удара стенобитной машины. Там он замер, переводя дух. Пока все шло как должно. Эйрик подобрал ему хорошие сапоги из мягкой козловой кожи с тонкой шершавой подошвой, сквозь которую нога чувствовала все щели между каменными блоками. И вообще — рыжему просто цены нет, что бы он делал без него?..
После того как Мартин, еще в одеянии лазарита, отлежался до темноты после сшибки с сарацинами, он вернулся в лагерь и первым делом отыскал рыжего. Но перед тем сбросил с себя и закопал котту и плащ с зеленым крестом, на всякий случай запомнив место. Затем, в одной кольчуге, Мартин миновал посты, сказав часовым, что попросту ходил ко рву за частоколом по нужде. Пароль на эти сутки, которые еще не истекли, был ему известен.
Вновь оказавшись среди палаток и коновязей, он безошибочно вышел к стоянке датчан и у первого же встречного воина спросил, где отыскать рыжего Эйрика. Рыжий, как и было заранее условлено, наплел всякой всячины своим новым соратникам — дескать, вскоре прибудет его друг, и это сработало. В течение нескольких дней Мартин ночевал в его палатке, и единственным, что его тревожило, было присутствие по соседству австрийцев. Их герцог, тупица и бахвал, любитель выпить и пошуметь во хмелю, ежевечерне горланил на весь лагерь о том, как все они обогатятся, взяв Акру, ибо в городе полным-полно зажиточных евреев, а пустить кровь сынам Израилевым не менее почетно, чем зарубить дюжину-другую сарацин!..
Мартин вспоминал об этом, провожая взглядом отблеск факела стражника, как раз в это время проходившего по верху стены. Едва тот исчез, как он начал раскручивать веревку с крюком-кошкой, медленно считая про себя. Накануне он провел весь день и часть ночи, наблюдая за сарацинскими караулами, и теперь доподлинно знал, сколько времени у него имеется в запасе для того, чтобы вскарабкаться по стене до торчащей из нее балки…
Эйрик все еще стоял на месте, до боли напрягая глаза, пока не различил, как его приятель, словно легкая светлая тень, начал подниматься по отвесной стене.
— Ну и шельмец, клянусь верой предков!..
Мартин был одет в светлую тунику с капюшоном, которую Эйрик успел приобрести для него еще до того, как по приказу Ричарда началось изгнание торговцев из лагеря. Там вообще в последнее время многое изменилось, и Мартин был прав, поспешив исчезнуть. Шла поголовная перепись рыцарей, сержантов и слуг, заново комплектовались отряды, назначались новые командиры, регулярно проводились переклички. И хотя на этом пятачке собрались многие тысячи людей, но рано или поздно чужак, не имевший на одежде знаков различия, должен был привлечь к себе внимание. Это было неизбежно, потому что предводители крестоносцев снова убедились: в лагере действует множество лазутчиков султана, и все они поддерживают постоянную связь со своими.
А произошло это так: на следующий день после того, как Ричард Львиное Сердце свалился в жесточайшей горячке, из стана Саладина прибыл гонец с корзиной сочных фруктов для больного и пожеланиями скорейшего исцеления. Жест султана выглядел благородно, но не так-то просто было понять, что за ним стоит. Желал ли он и в самом деле оказать любезность Ричарду, о котором был наслышан, или давал таким образом понять, что ему доподлинно известно обо всем, что творится в лагере крестоносцев?
Так или иначе, но бдительность была удвоена, и патрули стали внимательно приглядываться ко всем, кто без дела шатался по лагерю, и в особенности к наемникам. Мартину было необходимо скрыться, а скрыться он мог только в Акре…
Сейчас он чувствовал себя в гораздо большей безопасности, и беспокоило его только одно: как скоро луна снова выглянет из-за облака. Мартин сидел на выступающем из стены конце балки, над ним нависали машикули,[130] выше виднелись зубцы стены. Он выжидал, когда стражник, патрулирующий стену, достаточно отдалится, чтобы забраться на самый верх.
Тот никуда не спешил, Мартин даже слышал, как воин позевывает на ходу. Вторая половина ночи, самое время соснуть, но на стене все еще шла работа по восстановлению повреждений. До него донесся скрип колес тележки, которую каменщики катили по верху стены. Охранник перебросился с ними несколькими словами, выяснил, что трудиться им придется до самого рассвета, и, продолжая позевывать, направился к башне Святого Николая.
Когда всякий шум наверху стих, Мартин метнул веревку с грузом на конце, и та захлестнулась вокруг обломка зубца. Проверив, надежно ли держится петля, он с обезьяньей ловкостью вскарабкался наверх.
Одежда делала его почти невидимым на фоне светлого камня, из которого была сложена стена. Та была настолько толстой, что по ее верху можно было бы разъезжать хоть на квадриге.[131] Но впереди было еще одно препятствие — вторая линия городских укреплений: не столь мощная, но более высокая стена. Здесь снова пошли в ход крючья.
Когда веревка натянулась между стенами, Мартин беззвучно пополз по ней, время от времени поглядывая вниз — в просвете между стенами располагались казарменные помещения. Там, в полумраке, происходило какое-то движение, мелькали факелы, смутно доносились голоса, но, к счастью, никому из воинов не пришло в голову взглянуть вверх. На фоне темного неба его могли заметить, но факелы пылали слишком ярко и слепили стражников.
Облако ушло, и луна снова засияла. Ее тонкий серп не давал столько света, как в полнолуние, но Мартин смог убедиться в том, что охране второй линии обороны защитники Акры уделяли намного меньше внимания: всего два-три огонька мелькали на всем ее протяжении.
Присев на корточки между зубцов парапета, Мартин оглядел спящий город, прикидывая направление и путь, по которому предстояло двигаться. Ашер бен Соломон заставил его выучить карту Акры на память, но одно дело видеть хитросплетение улиц и переулков на пергаменте, и совсем другое — наяву. Только слабо освещенные башни и купола выступали над сплошным массивом кровель жилых строений, образующих причудливый лабиринт.
Поиски дома Сарры надлежало начинать, используя в качестве ориентира собор Святого Креста, расположенный в самом центре Акры. Но сейчас Мартин, как ни напрягал зрение, так и не мог уяснить, какое из крупных городских строений было этим самым храмом. Его внимание привлек высокий, отчетливо различимый шпиль, который виднелся на фоне серебрящейся под луной поверхности моря. Однако он не мог принадлежать главному собору — подобные шпили христиане научились возводить совсем недавно, а храм Святого Креста был достаточно старым.
Так куда же направиться, чтобы еще до того, как начнет светать и крик муэдзина призовет правоверных к саляту,[132] отыскать нужный дом с приметным знаком — улыбающейся собакой на фронтоне? Но даже если ничего не выйдет, необходимо уйти как можно дальше от крепостных стен и укрыться до утра, чтобы потом смешаться с толпой. В городе, где более двадцати тысяч жителей, это, видимо, не так уж сложно.
Внезапно какой-то звук привлек его внимание. Мартин осторожно выглянул из-за зубца: слева по стене двигалась довольно большая группа воинов-мусульман, направляясь прямо к тому месту, где он находился.
Проклятье! Он замешкался, осматриваясь, и стражники успели приблизиться настолько, что если Мартин начнет двигаться, то будет немедленно замечен. Он взглянул вниз. Если воспользоваться веревкой — сарацины окажутся здесь еще до того, как он коснется земли под стеной. Внизу, в двадцати шагах от стены, виднелась плоская кровля какого-то строения. Это рискованно, но ведь не зря у ассасинов его учили совершать немыслимые прыжки и приземляться так, чтобы не повредить кости и сухожилия. Правда, он давно не упражнялся в этом искусстве, но на колебания времени не оставалось.
Мартин оттолкнулся; тренированные мышцы сработали, словно тугие пружины. Длина прыжка оказалась ровно такой, чтобы приземлиться в двух локтях от края кровли.
Заметили ли его стражники? Об этом он не думал.
Толчок при приземлении швырнул Мартина вперед. Он моментально выбросил руки перед собой и перекатился через голову, гася силу удара. Затем поджал колени под себя и некоторое время сидел в полной неподвижности, восстанавливая дыхание. Только после этого он откинул с лица капюшон и оглянулся на стену.
Стражники толпой прошли мимо, ни один не посмотрел ему вслед.
И тем не менее Мартин выждал еще некоторое время. Кровля располагалась уступами, ниже стояли бочки для сбора дождевой воды — с водой в Акре было весьма туго. Мартин скользнул на нижний уступ, затем кошачьим шагом обошел эту часть кровли по периметру и с облегчением обнаружил деревянную лестницу. Многие городские здания имели три и даже четыре этажа, и совершать еще один прыжок с такой высоты в узкую щель улицы, мощенной булыжником, было бы чистым безумием.
Снизу город выглядел совсем иначе. Стены домов с узкими окнами, закрытыми на ночь ставнями, образовывали тесный темный коридор, изобилующий поворотами, и ориентироваться здесь было очень непросто.
Недолго думая, Мартин двинулся в ту сторону, где, как ему казалось, находилась центральная площадь города. Ноги скользили по грудам отбросов, запах гнили смешивался с запахом известкового раствора — должно быть, неподалеку находились ямы для гашения извести, которую использовали при ремонте крепостных стен. Время от времени впереди слышались звуки колотушек ночной стражи, и тогда ему приходилось сворачивать в первый попавшийся переулок в надежде в следующем квартале вновь взять правильное направление и не сбиться с пути.
Но тщетно. Тесные и темные улочки, кое-где перекрытые арочными пролетами, были похожи, как близнецы. Под ноги ему попалась крыса и с писком бросилась под ближайшее крыльцо, взвыл дурным голосом бродячий кот. На одном из перекрестков вертелась стая бродячих собак, и ему пришлось замедлить шаг: в осажденных городах псы, отведавшие человечины, становятся крайне опасными. Но эти, наоборот, опрометью кинулись наутек, едва заметив одинокого прохожего, и Мартин догадался: в Акре не хватает не только воды, но и провианта, и люди начали охотиться на дворняг, оттого те так пугливы.
Спустя еще полчаса он понял, что окончательно заблудился. Однако, сворачивая в очередной переулок, где едва разминулись бы двое верховых, внезапно заметил вдали шпиль собора и решил двигаться в этом направлении.
Постепенно улицы стали шире и чище, за оградами показалась темная зелень садов, над которой взмывали высокие пальмы. Ремесленный квартал остался позади, впереди лежала более благоустроенная часть города, однако и ночная стража здесь попадалась куда чаще. Пару раз Мартину даже приходилось взбираться на арки, перекинутые над улицей, и затаиваться там в ожидании, пока караул, вооруженный пиками и смоляными факелами, удалится.
Миновав какой-то переулок, где вдоль стен рядами стояли громадные глиняные сосуды, Мартин неожиданно оказался на просторной площади и прямо перед собой увидел собор Святого Креста. Ошибиться было невозможно, настолько внушительным выглядело это здание. Западный портал представлял собой прямоугольную башню с арочными вратами и черепичной кровлей, над которой ранее возносился крест, а ныне был водружен полумесяц. За порталом тянулся обширный неф с высокими оконными проемами, разделенными мощными контрфорсами. К нефу примыкал небольшой и очень древний ромейский храм с яйцеобразным куполом.
Размеры сооружения и обширная площадь вокруг него свидетельствовали: пред ним — главный храм Акры. Перед входом в собор на площади располагался бассейн фонтана, ныне высохшего. Фонтан окружало несколько пальм, за которыми виднелось еще одно сооружение — высокий помост эшафота.
Мартин огляделся, определяя направление — на соборную площадь выходило несколько улиц. Сейчас он чувствовал себя гораздо увереннее и уже не опасался стражи, которая только что покинула площадь. Однако его внимание привлекли какие-то тени, мелькавшие у входа в храм. И сам он не остался незамеченным — послышались голоса, а затем одна из теней отделилась от других и направилась к нему, прихрамывая и опираясь на посох.
«Нищие, — сказал себе Мартин. — Всего лишь нищие, но для одинокого путника в ночи они могут представлять серьезную опасность».
Хромой приближался, его силуэт странно раскачивался, а посох, на который он опирался, звонко стучал по камням. Гнусавый голос затянул:
— Аллах велик, он видит все! И если ты не будешь милостив к неимущему, он сам лишит тебя своих милостей!
Мартин попытался обойти хромца.
— Я не подаю незнакомцам, тем более в темноте.
Краем глаза он заметил, что тени, маячившие у собора, приблизились и пытаются взять его в полукольцо.
— Кто не подает нищим, тот достанется шайтану! — хрипло воскликнул хромой, резко выпрямился и вскинул руку с длинным кривым ножом.
Мартин уклонился и одним движением выхватил из-за широкого пояса пару кинжалов, отточенных, как бритва.
Хромец не успел снова замахнуться: Мартин мгновенным движением клинка отсек ему кисть вместе с зажатым в ней ножом. Окровавленный обрубок шлепнулся на мостовую. Второго нападавшего Мартин поразил прямым ударом в живот, а затем круто развернулся, приняв оборонительную стойку.
Обороняться было уже не от кого: приспешники хромца кинулись наутек, а сам он, потеряв руку, катался по земле, вопя и разбрызгивая по камням кровь. Второй нищий, раненный Мартином, также пытался убраться побыстрее, на ходу зажимая рану ладонью, так как на шум уже спешили стражники — их топот и бряцание оружия слышались все ближе.
Мартин не стал медлить и бросился бежать. Обогнув собор, он оказался у круглого византийского храма. Стены его, сложенные из крупных глыб тесаного камня, подпирали контрфорсы, местами осыпавшиеся от времени. Мартин вскарабкался по одному из них на кровлю храма и укрылся за низким парапетом. Стражники пронеслись мимо, но, никого не обнаружив, вернулись на площадь к фонтану. Теперь там плясали отсветы факелов, не умолкали вопли хромца, и доносилось глухое бормотание голосов.
Потом крики резко оборвались — нищего добили, понял Мартин, но продолжал лежать без движения, чтобы не привлечь к себе внимания. И только дождавшись, когда караул, волоча по земле тело убитого, удалился, поднялся на ноги.
С кровли храма открывалась обширная панорама. Справа, за крышами жилых зданий, возвышалась многобашенная громада замка крестоносцев, еще правее виднелись купола общественных бань. Мартину надо было двигаться в этом направлении, так как в той стороне, за банями, лежала главная улица Акры — Королевская. Именно на нее выходил одним из фасадов дом-дворец самонадеянного супруга Сарры, покойного Леви бен Менахема.
Рассвет короткой летней ночи еще только занимался, а Мартин уже обошел почти всю главную улицу и прилегающие к ней переулки и тупички. Портики и навесы, мраморные ступени и украшенные полуколоннами дверные проемы, решетчатые ставни на окнах и высокие пальмы на перекрестках. Однако улыбающейся собаки не было ни на одном из фронтонов. Не было и других изображений и скульптур, ибо сарацины беспощадно уничтожили их все, как уничтожали любые изваяния, считая их греховным идолопоклонством. Тем более не могла уцелеть собака, почитаемая в исламе нечистым животным. С тех пор, как Акрой завладели мусульмане, только арабские цифры, нанесенные асфальтовой смолой на углы зданий и на дверные арки, позволяли хоть как-то ориентироваться.
Оставалось надеяться на одну-единственную примету: Ашер бен Соломон упоминал, что неподалеку от дома его сестры Сарры растет старая смоковница.
Продолжая скользить, словно тень, мимо притихших домов Королевской улицы, Мартин решил, что Леви бен Менахем, даже при всей своей гордыне, едва ли решился бы поселиться вблизи резиденции королей. Оставалось одно — методически обследовать каждый дом вплоть до запертых и забаррикадированных ворот Проклятой башни, либо двигаться в противоположном направлении — к порту.
Мартин наугад двинулся к порту, заглядывая в каждый боковой проход и тупик. В одном из них он даже обнаружил смоковницу, но та была слишком чахлой и никак не походила на могучее дерево, которое описывал Ашер.
В другом месте он наткнулся на громадный пень, но определить, какому дереву он принадлежит, Мартину не удалось. Однако на фронтоне дома, у ограды которого торчал пень, над прочной дверью, обитой полосами железа, виднелись следы тесака, а значит, в прошлом там имелось какое-то изображение. Приглядевшись, он различил что-то вроде остатков когтистой лапы, которая могла принадлежать как собаке, так и льву. А улыбалось ли это животное или нет, было известно разве что хозяевам.
И тут, к великому облегчению, Мартин заметил нечто, окончательно развеявшее его сомнения: к внешнему косяку двери был прикреплен небольшой свиток в футляре. Ба! Да это же мезуза, обязательная принадлежность любого дома, в котором обитают евреи!
Он решил рискнуть и осторожно постучал.
На стук никто не отозвался. Дом выглядел вымершим. Мартин постучал еще раз, на сей раз громче и настойчивее. И вдруг послышался звук шагов. Выглянув из дверной ниши, он обнаружил, что по Королевской улице, на которую выходил переулок, в котором он находился, движется свет факелов. Вскоре он уже мог различить даже голоса стражников.
Можно было затаиться в нише и переждать, но если его обнаружат… Нет, ни в коем случае нельзя привлекать внимание к дому Сарры! Он начал осторожно отступать вглубь переулка, но, едва свернув за угол, нос к носу столкнулся с двумя квартальными сторожами. Эти были без факела, так как уже светало.
— Стой! Кто таков? — грозно окликнул его один из сторожей.
Мартин ссутулился, пряча лицо под капюшоном, и жалобно заныл:
— Во имя Аллаха, милостивого и милосердного, оставьте меня в покое, добрые люди! Я удалюсь тихо, и никто не узнает, что вы встретили меня здесь в столь ранний час!
Он старался говорить, как пьяный, слегка заплетая языком и покачиваясь, но при этом пятясь от стражников. Ему ничего не стоило бы справиться с обоими, но на их звучный окрик в переулок с Королевской улицы свернули еще двое с факелами, и теперь пристально разглядывали ноющего и покачивающегося незнакомца с опущенным на лицо капюшоном. Одного взгляда Мартину хватило, чтобы понять: эта пара — не просто квартальные сторожа, а хорошо вооруженные городские стражники. Они остановились посреди мостовой, преграждая ему путь к отступлению.
— Говори прямо — откуда идешь? — потребовал один из них.
— Клянусь Каабой, я не могу этого вам сказать! — жалобно затянул Мартин. — Моя прекрасная возлюбленная, из лука бровей которой я ранен в самое сердце, не должна пострадать, если вы задержите меня. О Аллах, отпустите меня, добрые люди, ибо я люблю ее, как светлое небо над головой, а супруг ее, уважаемый и грозный человек, не должен узнать, что я был в его доме в столь поздний… или, скорее, ранний час! О, как быстро летит время у ног возлюбленной!.. Поэтому заклинаю вас покрывалом Хадиджи, супруги Пророка: позвольте мне мирно удалиться!..
Не прекращая молоть языком, Мартин отмечал важные детали: те двое, что наткнулись на него первыми, одеты в простые кожаные куртки, однако оба в касках. В руках у каждого — короткое копье. Городские стражники экипированы как воины-пехотинцы: оба в кольчугах и добротных шлемах, на поясе у каждого сабля и кинжал. А у него самого — пара кинжалов, спрятанных в широком поясе, и легкий панцирь из вареной буйволовой кожи под туникой. Перед тем, как отправиться в город, пришлось оставить все металлическое в лагере, чтобы не производить лишнего шума. И справиться с четверыми…
В этот миг один из стражников, стоявших позади Мартина, сорвал с его головы капюшон и осветил факелом его лицо и светлые выгоревшие волосы.
— Шайтан! Да никак это кафир!
— И к тому же хорошо болтающий по-нашему, — добавил его спутник, обнажая саблю.
Мартин умоляюще сложил руки на груди и залопотал, что никакой он не кафир, а просто служит толмачом при начальнике гарнизона благородном аль-Маштубе, и теперь он…
Продолжения не последовало. Стремительно ринувшись вперед, он с силой ударил одного из сторожей ногой в промежность, и пока тот, издавая булькающие звуки, опускался на мостовую, вырвал копье из рук второго. Моментально обернувшись, Мартин древком копья отразил сабельный удар со спины, после чего тупой конец древка с хрустом врезался в переносье одного из городских стражников, а острие, секундой позже, — в живот обезоруженного квартального стража. Извлекать его оттуда не было времени — Мартин нанес жестокий удар пяткой в подреберье единственного уцелевшего стражника, который из-за стремительности происходящего успел лишь до половины извлечь саблю из ножен. Вместо него это сделал Мартин, а в следующую секунду голубая полоса дамасской стали со свистом прошлась по открытой части лица воина, раскроив его наискось. Не переводя дыхания, Мартин нанес удар сверху по загривку корчившегося на камнях квартального сторожа, перерубив вместе с шеей кожаный наплечник. Голова отделилась от тела, ударила струя черной в утреннем полусвете крови.
Оставалось добить двоих — того, кому досталось древком между ног, и воина с располосованным лицом. Что он и сделал не колеблясь.
Дождавшись, пока дыхание выровняется, Мартин прислушался. Он остался цел и невредим, и тем не менее был очень недоволен собой. Ночь выдалась слишком шумной: сперва стычка с нищими, теперь эти четверо. И в любую минуту могут появиться другие, привлеченные звуками схватки.
Он затоптал догоравший на земле факел, огляделся, и внезапно в полусумраке раннего утра заметил высоко на фронтоне дома, у ограды которого лежали тела стражников, то, что так усердно искал: там, куда не добрались правоверные со своими тесаками, уцелело изображение оскалившейся в усмешке собачьей пасти. Сомнений больше не было. Как не было сомнений и в том, что сестре его благодетеля Ашера бен Соломона весьма не поздоровится, если утром у ее дверей найдут четыре трупа.
Необходимо отделаться от них. Одно тело Мартин переместил в соседний тупик и спрятал в растущих у потрескавшейся стены кустах; второе, обезглавленное, вместе с головой, оттащил подальше и бросил у старой давильни для винограда близ одного из домов. Когда он возвращался за следующим мертвецом, его светлая одежда была вся в крови, и он ломал голову над тем, куда бы ему забиться, чтобы, не привлекая внимания, дождаться следующей ночи. Но едва ступив в переулок, замер: двух тел, еще остававшихся здесь, больше не было. В смутном сером свете какой-то рослый и грузный человек в полосатом халате и чалме тщательно стирал ветошью кровь с камней.
Мартин бросил взгляд на дверь дома с мезузой: она была приоткрыта. В темном проеме виднелось покрывало женщины, ожидавшей с кувшином воды в руках.
Именно она первой заметила Мартина в окровавленной одежде и слабо вскрикнула. Грузный мусульманин обернулся и выхватил нож. Но не бросился на убийцу — просто смотрел на него, мало-помалу отступая к двери дома.
Мартин не сводил испытующего взора с женщины: она была уже немолода и довольно плотно сложена, над ее высоким лбом вились жесткие курчавые волосы, глаза были темными, с глубокими тенями под ними, нос тонкий, с горбинкой.
— Шалом, почтенная Сарра бат Соломон! — произнес Мартин, сбрасывая с головы капюшон. Волосы упали ему на глаза, и он встряхнул головой, отбрасывая их назад. — Вы должны помнить меня, госпожа. Я Мартин, человек вашего брата Ашера бен Соломона. Однажды мне довелось сопровождать вас и вашего супруга Леви в Кастилию. А теперь ваш брат прислал меня за вами в Акру.
Женщина слабо ахнула, уронила кувшин и заломила руки. Но тут же отстранила слугу с ножом, загораживавшего ее от посланца.
— Это друг, Муса, это друг! Входи же скорее в дом, Мартин, мальчик мой! Благословен Господь Бог наш, царь вселенной, который привел тебя сюда невредимым!
Она успела впустить его вовремя, ибо в следующий миг в воздухе повис протяжный крик муэдзина с колокольни, которая теперь служила для призывания правоверных к молитве:
— А-ал-ла-а-аху-у акбар!..
Мартин проспал весь следующий день — но только после того, как омылся, переоделся в чистую одежду и невестка Сарры, молоденькая беременная Леа, напоила его горячим молоком с медом.
Едва взглянув на Леа, Мартин огорчился: непросто будет вывести из осажденного города пожилую женщину, да еще и с невесткой на сносях. Вслух он ничего не сказал, но подумал, что, должно быть, придется взять в помощь этого огромного молчаливого Мусу, охранника Сарры, который служил дому Леви бен Менахема еще тогда, когда все это семейство жило в Испании.
Но эти мысли можно было отложить на потом, и он просто провалился в глубокий беспробудный сон — впервые с тех пор, как оказался в Палестине. До этого дня он всего однажды спал так же сладко и безмятежно: в Олимпосе, держа в своих объятиях Джоанну.
Именно она и приснилась ему. Сладостное видение из прошлого, которое никогда не вернется. Вместе они прогуливались по ликийскому побережью, целовались под пушистыми средиземноморскими соснами, а Джоанна сплела венок из алых маков, пылавших в ее волосах, как рубины, гранаты и кровь. И вся она, озаренная лучами ласкового солнца, веселая, смеющаяся, манила его, и Мартин сгорал от желания обнять ее…
Едва проснувшись, он постарался выкинуть сон из головы. За вечерней трапезой Сарра поведала, как охранник Муса ночью услышал негромкий стук в дверь, но не решился будить госпожу, пока внизу не началась жестокая схватка.
— Ты был быстр, как посланец ада, мальчик мой, — то ли с восхищением, то ли с упреком заметила женщина. — Один против четверых — и ни единой царапины! Мы с Мусой не знали, что и подумать, в особенности когда увидели, как ты пытаешься спрятать тела. Тогда я послала Мусу, чтобы он прибрал оставшихся и скрыл следы крови. Иначе нельзя: сейчас смертельно опасно привлекать к себе внимание властей. В Акре и без того очень тревожно…
Мартин заверил ее, что сделает все возможное, чтобы помочь ее семейству. Но когда завел речь о необходимости как можно скорее покинуть город, Сарра с сомнением покачала головой:
— Мыслимо ли это, Мартин? Мы не могли уехать и прежде, когда положение было далеко не таким плачевным. Потом мой несчастный муж умер, старшего сына Иону тоже унесла хворь, а после его кончины Леа была совсем плоха… Она и теперь слаба, а ведь вскоре ей предстоит родить! Не говоря о других моих детях, которые еще совсем малы…
Дети сидели здесь же, с любопытством разглядывая нежданного гостя. Кудрявой пухленькой Нехабе вот-вот должно было исполниться двенадцать, а малышу Эзре еще не было и пяти.
— Попробуем что-нибудь придумать, — неспешно произнес Мартин. — В любом случае я теперь с вами и сделаю все возможное и невозможное, чтобы вас не коснулась беда.
Сарра ласково дотронулась до его плеча.
— Ты всегда был добрым другом для нашего народа! Многие, кого ты спас, благословляют твое имя, поминая его в молитвах. Ашер был прав, когда решил воспитать тебя нашим защитником. Надеюсь, он достойно вознаграждает твои усилия, ибо ныне я не столь богата, чтобы рассчитаться с тобой. Видишь — даже слуг у нас теперь нет, остались только верный Муса и старушка Цила.
Мартин легко улыбнулся:
— Не понадобится никаких денег, госпожа. Ашер знает, как меня отблагодарить, когда я выполню его поручение и переправлю вас всех в Антиохию, где уже ожидает зафрахтованное Иосифом судно.
И он поведал, что Ашер бен Соломон обещал после его возвращения отдать ему в жены свою младшую дочь — Руфь.
— Вот как? — Рука Сарры, разливавшей в хрустальные чаши сок апельсинов, слегка дрогнула, и на стол выплеснулось немного оранжевой жидкости.
Мартин внимательно взглянул на нее.
— Вас это удивляет или огорчает, госпожа? Ради Руфи я готов пройти гиюр и стать евреем.
Сарра поставила на низкий столик кувшин с соком и ласково улыбнулась.
— Как я могу быть против, мой мальчик? Ты крещен по западному христианскому обряду, но ради милой Руфи хочешь стать одним из нас. Ты и прежде не раз доказывал, что глубоко чтишь народ Израиля, ты сделал много добра для сынов Сиона. И если Ашер считает, что ты достоин его дочери, а она — тебя, я буду счастлива назвать тебя дорогим родственником.
Но в глазах Мартина все еще таилось сомнение, и Сарра, заметив это, пояснила:
— Меня удивило не решение Ашера, а то, что его младшая дочь — уже невеста. В моей памяти она все еще остается той славной кудрявой малюткой, какой мне однажды довелось ее видеть.
Далее речь зашла о делах семьи Ашера бен Соломона. Мартин рассказал о том, как счастлива со своим мужем в доме даяна его средняя дочь Ракель, что старшая его дочь Тирца шлет письма из Марселя — ее брак вполне благополучен, и недавно она родила вторую двойню. Еще одна дочь — Иегудит — так располнела после родов, что ей приходится ставить на ноги пиявки, чтобы выпустить худую кровь, но и она счастлива в браке со своим мужем Натаниэлем — таким же толстым, как и она, что вовсе не мешает ему быть правой рукой своего мудрого тестя. Затем Мартин поведал, что единственный сын Ашера Иосиф проделал вместе с ним часть пути, направляясь к своей невесте Наоми в город Сис в Киликийской Армении.
— О, Ашер всегда умел позаботиться о детях и их будущем, — с улыбкой заметила Сарра. — Ах, Мартин, мой добрый друг, ты рассказываешь мне о них, и я так счастлива, словно только что повидалась с родней. Однако надеюсь, что эта встреча и в самом деле не за горами и ты также будешь с нами, ибо уже назовешь Руфь своей женой. Насколько я помню, она была самой милой из детей Ашера и красавицы Хавы.
— Она прелестна, как роза, как бесценная жемчужина! — воскликнул Мартин, и Сарра невольно удивилась, заметив глубокое волнение на лице этого обычно спокойного до невозмутимости молодого мужчины.
Беременная невестка Сарры сидела безмолвно, сосредоточенно занимаясь шитьем. Она выглядела изможденной, и хозяйка дома шепнула Мартину, что очень тревожится из-за здоровья невестки. Детям же — лукаво поглядывающей на красивого рыцаря Нехабе и шустрому крепышу Эзре, явно нравилось, что у них теперь новый защитник. Их едва удалось отправить спать в сопровождении ворчливой старой служанки.
Сарра, словно извиняясь перед гостем, пояснила, что появление Мартина — большое событие для детей. Ведь у них так давно никто не бывал! С самого начала осады они живут уединенно и замкнуто, и это еще большая удача, что арабы не выгнали их семью из родного дома, как случилось со многими евреями Акры. Все это благодаря надежному покровителю — Иегуде бен Авриэлю, знаменитому лекарю-иудею, который ныне врачует коменданта крепости аль-Машуба, раненного в ногу арбалетной стрелой.
— Мы многим обязаны почтенному Иегуде, как и вся еврейская община, — добавила Сарра. — Пока он в чести у аль-Машуба, пока сарацины в нем нуждаются, здесь, в Акре, нам ничего не грозит. Иное дело крестоносцы. Если город падет, о чем уже поговаривают…
— Не стоит тревожиться об этом, почтенная госпожа. Я здесь именно для того, чтобы ничего худого не случилось. Но позвольте спросить: если у вас есть такой влиятельный покровитель, то отчего он не помог вам с семейством покинуть город еще до того, как крестоносцы взяли его в кольцо осады?
Госпожа Сарра с грустью взглянула на худенькую Леа и ее огромный живот.
— Поначалу никто не предполагал, что осада так затянется, — со спокойным смирением проговорила она. — Затем захворал и умер мой супруг, а вскоре болезнь настигла и моего первенца Иону. Великая удача, что мне удалось отправить известие о своем бедственном положении брату в Никею. Но и это ничего не меняет — нынче из Акры просто невозможно выбраться. Почему — это тебе гораздо лучше объяснит сам мудрый Иегуда бен Авриэль, который завтра пожалует нас навестить.
Несколько позже госпожа Сарра поведала Мартину, что в их доме есть потайное помещение, где они могут спрятаться, если орды франков ворвутся в Акру. Мартин тут же выразил желание осмотреть его, но остался недоволен. Помещение оказалось узкой шахтой в стене, в которой могли бы ненадолго укрыться двое взрослых мужчин, но только не женщины с детьми.
На другой день с утра он отправился в порт, чтобы как следует осмотреться и начать разрабатывать план побега из города. И уже к полудню убедился, что для Сарры с ее семейством шансов практически нет. За то время, которое Мартин провел, сидя на молу с удочкой в одежде невольника-христианина, он успел тщательно изучить систему укреплений, защищавших порт и бухту с моря, и понять, что они не позволяют покинуть гавань незамеченными. Узкий выход из порта контролировал гарнизон Мушиной башни, расположенной на скале у оконечности мола. Но и дальше не легче: за внешним рейдом крейсировало множество кораблей крестоносцев — английских, итальянских, французских, и ни одна скорлупка не смогла бы проскользнуть мимо этой грозной армады.
В итоге мысль о том, чтобы покинуть город морским путем, Мартину пришлось оставить. Но и пробраться с еврейским семейством через лагерь крестоносцев также было невозможно.
Мартин ломал голову над этим, возвращаясь из порта. На шнурке у его пояса болталась дюжина мелких рыбешек, которых ему удалось выудить только после многочасового сидения на раскаленной набережной в окружении десятков других бедняков. Голод среди знати в Акре еще не ощущался, но неимущим приходилось весьма туго. Он видел очереди за жидкой похлебкой, которую раздавали городские власти, видел дервишей, проповедовавших горожанам, в которых они пытались вселить надежду на скорое избавление от лишений по милости Аллаха, чья десница ведет великолепного султана Саладина.
Мечети были полны молящихся, но настроение в городе становилось все тревожнее. На глаза то и дело попадались отряды воинов коменданта крепости аль-Машуба и его военачальника Сафаддина. Они моментально рассеивали любые скопления народа, за исключением посетителей базаров, и особенно приглядывались к рабам-христианам, которые считались неблагонадежными. Христианских невольников в городе было несколько сот, да еще сотня-две христиан, которым позволили остаться в Акре после того, как четыре года назад ее захватил Саладин. Все это были бедняки, которым некуда было податься, и сегодня их положение было ничем не лучше, чем у невольников. Стоило только им собраться небольшой группкой хоть у того же собора Святого Креста или перед фонтаном, куда днем подавали воду из городских резервуаров, как тут же появлялись стражники и принимались разгонять их, пуская в ход дубинки и плети.
Мартин по пути домой тоже получил свое. Это произошло, когда в бывшем квартале госпитальеров его остановил крепкий светловолосый парень и стал допытываться, откуда он тут взялся. Он знает всех невольников-христиан в Акре, но лицо Мартина ему незнакомо. Мартин помалкивал и шел своей дорогой, но светловолосый ухватил его за рукав и попытался задержать, а в итоге досталось обоим, причем Мартина плеть только зацепила, а его назойливого собеседника охранники сбили с ног и принялись жестоко избивать. Тот катался по мостовой, пытаясь ускользнуть от безжалостных ударов, но плети настигали его снова и снова.
— Опять плетешь свои козни, Мартин, собака аскалонская!.. — злобно выкрикнул кто-то из охранников.
Мартин в первое мгновение оторопел, но тут же сообразил, что обращаются не к нему, а к белобрысому невольнику. Значит, в Акре у него есть соименник — как был он у Мартина и среди лазаритов. Но сейчас следовало не размышлять, а как можно быстрее исчезнуть из квартала госпитальеров. В его планы не входило привлекать к себе чье-либо внимание.
Вернувшись в дом госпожи Сарры, Мартин застал там почтенного гостя — лекаря Иегуду бен Авриэля. Гость беседовал с хозяйкой, восседая на софе за низким резным столиком, инкрустированным перламутром и сандаловым деревом. В покое витал аромат кофе, и поскольку этот напиток из зерен, привозимых из Йемена, в осажденном городе был доступен только сарацинской знати, Мартин догадался, что лекарь явился с подарком.
Сарра подала чашку и Мартину, наполнив ее из высокого кувшина с тонким носиком, и пока он рассказывал о том, что ему удалось узнать и увидеть в течение дня, почтенный Иегуда внимательно приглядывался к незнакомцу, присланному для защиты Сарры и ее детей никейским даяном. Мартин также с любопытством поглядывал на лекаря. Тот выглядел библейским патриархом: спокойное, полное достоинства лицо с ястребиным носом и небольшими пронзительно-темными глазами, седая волнистая борода, столь же убеленные волосы и длиннейшие завитые пейсы. Макушка лекаря была покрыта черной ермолкой.
— Наша дорогая Сарра хвалила вас, мой молодой друг, — промолвил Иегуда бен Авриэль, когда Мартин закончил. — И, видимо, не напрасно. Но даже ваше похвальное рвение не сможет ничего изменить, — подытожил он. — Город в стальном кольце, и, боюсь, всем евреям Акры грозят жестокие бедствия.
— Я слышал, многие надеются на помощь Саладина.
Иегуда усмехнулся в белоснежную бороду.
— Друг мой, вы только что из стана наших врагов, вы видели, как он укрепился после прибытия англичан, анжуйцев и аквитанцев короля Ричарда. И хотя ныне, как нам стало известно, король болен, однако он успел отдать необходимые распоряжения, и крестоносцы с усердием взялись за постройку осадных машин и башен. Назареяне намерены взять Акру во что бы то ни стало, и их уже ничто не остановит. Что касается Саладина, то на него, увы, не приходится рассчитывать. После прибытия крестоносцев из Европы он уже неоднократно просил о помощи халифа Багдада, а также властителей Персии и Аравии, но, кроме льстивых восхвалений, ничего не получил. Положиться он может только на тех эмиров, чьи земли находятся под властью самого султана, но те готовы поднять и вооружить своих людей только к зиме. Продержится ли Акра так долго? В городе уже и сейчас туго с водой и зерном. Пока в крепости оставался сын султана аль-Афдал, Саладин действовал более решительно. Но с последним караваном судов, прорвавшимся в город с грузом пшеницы и оружия, султан сумел вывезти отсюда юного принца, и теперь, боюсь, город уже не имеет для него прежнего значения. Да, имамы и муллы во всех мечетях призывают народ к джихаду, однако толку от этого немного.
— Да защитит нас Бог Израиля! — судорожно всхлипнула Сарра. — Ибо как бы ни поступил король Ричард с прочими жителями Акры, я знаю — милосердия к детям избранного народа ждать от крестоносцев не приходится.
— Не могу согласиться, — неожиданно возразил Мартин. — Да, Ричард любит войну, но как правитель он рассудителен и успешен. Ему не придется объяснять, что евреи способствуют развитию ремесел и торговли, а главное — исправно платят налоги. Мне известно, что в Англии он строжайше воспретил еврейские погромы, а зачинщиков прежних бесчинств жестоко покарал.
Он тотчас пожалел об этих словах, заметив, какими взглядами обменялись лекарь Иегуда и госпожа Сарра.
Позже, когда врач распрощался и уже стоял на пороге, Мартин попросил его задержаться и шепнул на ухо несколько слов. Тот быстро взглянул на него и отступил.
— Как же вы решились укрываться у лазаритов? Вы в своем уме?
— Избежать этого не удалось. И таков был наказ Ашера бен Соломона.
— Ну что ж… — Иегуда бен Авриэль покачал головой. — Идемте в пустой покой. Придется вам раздеться донага.
Лекарь осматривал его так долго и обстоятельно, что Мартин даже несколько смутился. При этом он подробно расспрашивал молодого человека, как часто и как близко ему приходилось общаться с пораженными проказой и какие меры он применял, чтобы не заразиться.
— Вы поступали разумно, тщательно омываясь каждый день, — наконец произнес он с явным облегчением. — Я не вижу ни одного знака проказы. Должно быть, небо к вам милостиво. Но я все же пришлю вам кое-какие снадобья. И мой вам совет: возьмите у женщин швейную иглу и время от времени покалывайте кончики пальцев на руках и ногах. Если обнаружите хотя бы малейшие признаки потери чувствительности — немедленно покиньте этот дом ради блага всех, кто в нем живет!
Тем не менее слова лекаря принесли Мартину огромное облегчение. Разумеется, госпоже Сарре и ее домочадцам он не сказал ни слова, но усердно принимал присланные лекарем снадобья. Теперь его жизнь стала почти спокойной — если не считать того, что уже на следующее утро он проснулся от страшного грохота: крестоносцы возобновили обстрел башен и стен города.
Это продолжалось непрерывно — глухие удары, грохот осыпающихся камней, торопливое перемещение отрядов защитников крепости вдоль стен, ответные залпы по лагерю крестоносцев. Пыль носилась по улицам Акры, оседая на мостовой и проникая в дома, но жители, мало-помалу привыкнув к обстрелу, по-прежнему занимались своими делами: спешили на рынок и в лавки, рыбачили в порту, в мастерских стучали молотки чеканщиков и кузнецов, вертелись гончарные круги, муэдзины звали правоверных к молитве.
Даже дети Сарры перестали обращать внимание на грохот каменных ядер. Они беспечно играли в саду, а порой следили за тем, как упражняется Мартин. Он не давал своему телу передышки — подолгу висел на толстой ветке платана, работал с тяжелым брусом и шестом. Дубовый брус подыскал для Мартина Муса, тоже любивший поглядеть, как новый защитник его госпожи демонстрирует замысловатые выпады и прыжки. Пару раз он и сам попробовал сойтись с Мартином, чем привел детей сначала в неописуемый восторг, а потом разочаровал. Грузный Муса мог продержаться против Мартина всего несколько минут, и все кончалось тем, что молодой воин, словно играючи, выбивал оружие у него из рук.
Еще больше нравилось детям, когда Мартин неподвижно застывал в самых невероятных позах, подолгу сохраняя равновесие.
— Мартин превратился в дерево! — радостно вопил Эзра и начинал карабкаться на него, как на пальму.
Воин смеялся, подхватывал малыша и поднимал его как можно выше. Тот был в восторге, а сидевшая с рукоделием в тени госпожа Сарра смеялась, глядя на обоих. Но когда к забаве присоединялась и Нехаба, сурово одергивала ее:
— Ты уже почти взрослая, дочь моя! Веди себя скромно, как и подобает благонравной еврейской девушке.
Слыша это, Мартин невольно вспоминал, как страстно льнула к нему другая еврейка — его невеста, желанная Руфь. Однако по ночам его снова и снова тревожил образ Джоанны, и Мартин злился на себя, понимая, что тоскует без нее, тревожится о ее судьбе… Хотя о чем тревожиться, если Джоанна ныне под опекой самого короля Ричарда и его сестры? Да и Обри де Ринель наверняка уже появился в лагере…
Иегуда бен Авриэль был частым гостем в доме со смеющейся собакой. Еще дважды он столь же обстоятельно осмотрел Мартина и больше не возвращался к вопросу о проказе — тем более что молодой воин и сам с помощью иглы убедился в отсутствии каких-либо признаков болезни. Больше всего лекаря сейчас занимало то, что происходило вокруг Акры.
— Крестоносцы закончили постройку громадной баллисты, которую нарекли «Праща Господня», и каждая посланная ею в сторону Акры глыба дробит стены укреплений, словно они не из прочного камня, а из хрупкого дерева, — сокрушался Иегуда. — Не менее ужасны и осадные башни, которые ныне возводят в центре лагеря. Их три, и король Ричард повелел обтянуть каждую сырыми буйволовыми кожами, а снаружи обмазать толстым слоем мокрой глины, чтобы уберечь от снарядов с горящей нефтью. К счастью, сей безумец не ведает, что зажигательной смеси у защитников Акры больше нет и мы не можем сообщить об этом султану, так как в Голубиной башне не осталось почтовых голубей. А Саладин все шлет своих крылатых гонцов и приказывает во что бы то ни стало держаться!
— Значит, король Англии уже восстал с одра болезни? — полюбопытствовал Мартин.
— Не вполне. Он по-прежнему болен, но горит желанием сражаться и велит выносить себя на носилках к осадным орудиям, а время от времени ему подносят заряженный арбалет, чтобы он мог выпустить стрелу-другую в защитников Акры. И это поистине жестокое оружие — оно пробивает любые доспехи и наносит такие страшные раны, каких мне прежде не приходилось видывать.
— Бог Моисея, помилуй сотворенных тобою! — ахнула госпожа Сарра.
— Но есть и добрая новость, — усмехнулся в бороду лекарь. — Захворал король Филипп Французский. И болезнь его протекает крайне тяжело.
— А вы, господин Иегуда, оказывается, неплохо осведомлены о том, что творится в стане крестоносцев! — заметил Мартин.
На закате он отправился проводить лекаря к цитадели тамплиеров — Темплу. Эта крепость в крепости находилась вблизи берега моря. Именно там располагалась резиденция коменданта гарнизона аль-Машуба — охромевшего из-за раны, но продолжавшего отважно защищать Акру.
На обратном пути Мартину пришлось обогнуть огромный храм с остроконечным шпилем — тот, что привлек его внимание, когда он под покровом ночи пробирался в город из лагеря крестоносцев. Теперь он знал, что это за сооружение: до сарацинского завоевания оно носило имя святого Андре, а ныне собор был превращен в мечеть. Призыв муэдзина уже отзвучал, народу перед мечетью было немного, возможно, поэтому его внимание привлекла фигура застывшего перед порталом собора светловолосого невольника в отрепьях. Он тотчас узнал его: это был тот самый Мартин-аскалонец, которого стражники жестоко избили плетью у него на глазах.
Закат догорал, улицы Акры наполнялись сумраком, грохот и гул валунов, крушащих укрепления, наконец-то затих. Соименник Мартина стоял неподвижно, обратив лицо к храму, сложив руки перед грудью и беззвучно шевеля губами. Похоже, он взывал в тишине к своему Богу.
Мартин остановился поодаль, дождался, пока тот закончит молиться, а затем неторопливо последовал за светловолосым невольником. Аскалонец не узнал его, ибо после памятной стычки со стражей, когда Мартин также получил удар плетью, он разгуливал по городу в обличье мусульманина: тюрбан, полосатый халат, широкие шаровары, заправленные в мягкие сапоги. Бороду он давно не брил, она была гораздо темнее его выгоревших волос, а лицо приобрело от солнца цвет бронзы. Его истинное происхождение выдавали только глаза — прозрачно-синие, поэтому приходилось большей частью смотреть в землю, а не по сторонам.
Мартин-аскалонец направился в припортовый квартал, где вскоре нырнул в какую-то дверь, занавешенную тканью. Из глубины помещения слышались перезвон струн и гул голосов. Мартин тотчас последовал за ним, догадавшись, что это просто духан.[133] Невольник-христианин бросил хозяину мелкую монету и получил пиалу с отваром каких-то трав. Затем он расположился в углу за низким столиком, прислонившись к стене.
В духане было еще несколько посетителей, они пили травяной чай, сидя на циновках или прямо на глинобитном полу. Все это были ремесленники, грузчики, рыбаки, — небогатый люд, добывавший свой кусок хлеба в порту и в море, но из-за осады давным-давно забывший о самом скромном достатке. Разговоры шли невеселые, один из посетителей заунывно напевал, перебирая струны, и на устроившегося в дальнем углу светловолосого невольника никто не обращал внимания. Похоже, он был тут из числа завсегдатаев.
Мартин приблизился и опустился на приземистую скамью напротив аскалонца. Тот поднял глаза, на его лице появилось растерянное выражение, а затем его брови полезли вверх — чуть ли не до самых волос, немытых и свалявшихся, словно старый войлок.
— А ведь я тебя видел раньше, — наконец проговорил он, продолжая разглядывать одетого в сарацинское платье Мартина при свете масляной плошки. — Но тогда ты выглядел как пленный воин, и я сразу выделил тебя из толпы. А теперь… — он поморщился: — Теперь, похоже, ты дал себя обрезать и продался неверным! — закончив эту тираду, аскалонец пренебрежительно сплюнул и отвернулся.
— Не суди по одежде, Мартин из Аскалона, — невозмутимо отозвался Мартин. — После того как один городской страж едва не обезобразил мне лицо, моя госпожа дала мне это одеяние, ибо не желает, чтобы ей подпортили товар для перепродажи. Но я действительно христианин и рыцарь — и такой же невольник, как ты.
Аскалонец, однако, продолжал глядеть подозрительно, и Мартину пришлось поведать, что его зовут Лоран де Фрувиль, что он родом из Нормандии и прибыл под Акру на корабле вместе с войском короля Ричарда. Однако ему не повезло, и во время первой же попытки штурма, когда он взбирался на стену по приставной лестнице, сарацины зацепили его крюком и втащили наверх, после чего выставили на продажу в галерее бывшего венецианского подворья, где теперь обычно торгуют невольниками из числа пленных. Там его купил слуга еврейки по имени Сарра, и теперь он служит в ее доме.
— Ты, опоясанный рыцарь, — и служишь тем, кто предал и продал Спасителя? Ведь иудеи не признают Христа ни Богом, ни Мессией! — возмутился белобрысый.
— Погоди, — остудил его пыл Мартин, заметив, что в их сторону начинают поглядывать. — Если не станешь шуметь, я скажу тебе, что только глупец спешит принять мученический венец, когда еще может послужить своим. А у меня есть кое-какие новости, которые следовало бы передать в наш лагерь, и поскорее. Видишь ли, приятель, в дом Сарры порой захаживает некий лекарь-еврей, пользующий коменданта гарнизона…
— Иегуда, я знаю, — перебил аскалонец. — Он врачует ногу этого злобного пса аль-Машуба.
Мартин кивнул и добавил, что время от времени подслушивает, о чем тот толкует с его госпожой, поэтому…
Он умолк, заметив, как лихорадочно засверкали серые глаза его соименника. Тот, однако, сообразил, что новый знакомец не спешит выкладывать известные ему секреты, и вздохнул:
— Ты служишь еврейке, вдове самого богатого торговца драгоценностями в Акре. У нее наверняка есть деньги, и тебе может кое-что перепасть. Ты видный парень, она может наградить тебя за… допустим, за труды на ложе… — добавил он с пренебрежительной усмешкой.
Это презрение укололо Мартина — невысокого же мнения о нем был этот невольник. Как, впрочем, и о вдове Леви бен Менахема.
— Тем не менее ты знаешь обо мне все, а я пока не ведаю, кто ты и почему свободно разгуливаешь по городу вместо того, чтобы попытаться бежать к своим.
Аскалонец неожиданно подбоченился.
— Да будет тебе известно, что я тоже рыцарь… Вернее, сын рыцаря, бастард. А звать меня Мартин Фиц-Годфри. Я родился от служанки уже здесь, в Иерусалимском королевстве, здесь прошла и вся моя жизнь. А в плен я попал давно — еще в ту пору, когда первые отряды начали прибывать к королю Гвидо под Акру. С самых первых дней осады я был со своим королем, но мне не посчастливилось, как и тебе, и я стал пленником. А почему я до сих пор не бежал…
Он шмыгнул носом, огляделся, а потом быстро проговорил вполголоса:
— Во-первых, бежать из Акры невозможно, а во-вторых, — я и без того могу оказывать услуги своему государю Гвидо.
— Каким же это образом? — поинтересовался мнимый рыцарь Лоран.
Аскалонец не удостоил его ответом, однако напустил на себя таинственный вид.
Мартин немного поразмыслил. Он заподозрил, чем занимается его соименник, но, не задавая вопросов, решил сменить тему разговора.
— Должно быть, несладко тебе, отпрыску благородного рыцаря, приходится среди нечестивых. Ты выглядишь изможденным и оборванным, а плети мусульманских собак оставили глубокие рубцы на твоем лице и плечах. И тем не менее ты беспрепятственно разгуливаешь по городу, словно твои хозяева не находят для тебя подходящего дела. Я в затруднении — как связать одно с другим?
Аскалонец снова шмыгнул носом, а потом вдруг спросил — имеются ли у рыцаря Лорана деньги? Мартин, решив, что этот бастард из Аскалона может со временем ему пригодиться, кивнул, сказав, что его служба у еврейки не остается без награды. Тогда аскалонец, ткнув грязным пальцем в сторону духанщика, сообщил, что у мерзавца Али всегда есть в запасе вино — как для христиан, так и для тех, кто нетверд в соблюдении заветов Пророка, а ему давным-давно не доводилось пробовать этого восхитительного напитка. При этом аскалонец с отвращением покосился на травяной отвар в пиале, стоявший перед ним.
Мартин сделал знак хозяину, и через минуту-другую перед ними уже стоял пузатый глиняный кувшинчик. Вино оказалось редкой кислятиной. Мартин едва смог пригубить, зато его соименник осушил свою чашу залпом и тотчас потянулся налить другую.
Только после этого беседа оживилась. Аскалонец поведал, что он из числа тех невольников-христиан, что таскают камни и месят известковый раствор для ремонта разрушенных стен, но держат их впроголодь, поэтому, когда работы нет, отпускают в город, чтобы они сами искали себе пропитание. Поскольку Мартин из Аскалона здесь уже не первый год, его многие знают: довелось и стойла в конюшнях чистить, и сточные канавы, и выгребные ямы, — словом, делать любую грязную работу за кусок лепешки и миску похлебки. Однако с наступлением темноты он обязан возвращаться в полуразрушенное здание старой патриархии, где теперь казарма для невольников, работающих на стенах крепости. Если он не явится — его выпорют, если только задержится — отделается парой палочных ударов. Но ему все нипочем, он живуч, как кошка, потому что родился на этой земле, тогда как пленные рыцари, прибывшие с Запада, мрут, как мухи, от здешней жары и каторжной работы.
В ответ и Мартин наплел о себе каких-то небылиц, заодно всячески расхваливая короля Англии, и захмелевший невольник тоже принялся превозносить Ричарда — в первую очередь за то, что тот поддержал короля Гвидо, которому аскалонец был безоговорочно предан.
— Счастлив король, имеющий столь верных подданных! — уважительно заметил Мартин, жестом велев хозяину снова наполнить кувшин.
Аскалонец сделал добрый глоток, но, похоже, и он уже почувствовал, какой дрянью их потчуют. Лицо его скривилось, словно он хлебнул желчи. А может, то была горечь от того, что, как признался белобрысый, он не имел счастья быть представленным королю Гвидо, когда тот с супругой Сибиллой жил в благодатном Аскалоне у моря. Собеседник же Мартина, по его словам, в то время обитал в имении своего отца вблизи Аскалона. «Знал бы ты, какая там земля! — пьяная слеза скатилась по его щеке. — Какие урожаи оливок и пшеницы, какие сады и виноградники!..» Он был хорошим помощником отцу, и тот обещал назначить его своим наследником, ибо других детей Господь ему не дал. Однако воля старого рыцаря не исполнилась — он погиб при Хаттине. А его бастарду пришлось покинуть имение и укрыться в Аскалоне, когда под его стены подступил Саладин, бравший один замок за другим.
Мартин сочувственно поцокал языком, а его новый приятель продолжал свой рассказ. В Аскалоне он стал воином, и после гибели родителя ему никто не препятствовал носить его герб — оливковую ветвь на белом фоне. Когда крепость была сдана Саладину в обмен на жизнь и свободу Гвидо де Лузиньяна, он был одним из тех немногих, кто не отправился под конвоем сарацин в Египет, а вместе с маршалом тамплиеров Уильямом де Шампером ухитрился бежать. Когда же де Шампер отправился в Триполи, Фиц-Годфри не стал его сопровождать, а явился под Акру, где надеялся удостоиться посвящения в рыцари за заслуги перед своим королем. Но из этого тоже ничего не вышло, так как в первой же стычке с сарацинами он угодил в плен.
Услышав имя маршала храмовников, Мартин вздрогнул, а затем спросил, глядя поверх чаши на захмелевшего аскалонца:
— Значит, ты отправился сражаться за человека, ради которого твой город отдали неверным?
Фиц-Годфри пьяно погрозил ему перстом.
— Вам, рыцарям из-за моря, все видится по-иному. Но я жил здесь и помню, как расцвела Святая земля в то недолгое время, пока ею правили Гвидо и Сибилла Иерусалимская. Толпы паломников, караваны с товарами с Востока и Запада, сады, расцветавшие в выжженной пустыне — там, куда по приказу короля прокладывали оросительные каналы… Однако… — аскалонец пьяно икнул, — Гвидо был не таков, как Бодуэн Прокаженный. И если Бодуэну всегда удавалось отразить натиск Саладина, Гвидо…
— Я знаю. Он проиграл первое же свое крупное сражение при Хаттине.
Аскалонец заплакал пьяными слезами. А потом объявил, что и ныне верно служит своему королю.
Мартин затаил дыхание: кажется, он все же услышит от этого опьяневшего после голодовки бастарда то, что ему нужно. Недаром же он умел хорошо слушать, и обычно люди, сами того не замечая, выкладывали ему многое из того, что обычно скрывали.
Белобрысый Фиц-Годфри, навалившись на стол, придвинулся к рыцарю и поведал, что как только ему становится известно что-либо важное, он немедленно посылает весточку своему королю. Работая на стене или шатаясь по городу, он слышит многое из того, что не предназначено для чужих ушей. Лук и стрелы он раздобыл у погибшего сарацина, а пока таскал известь и камень на стену, сумел высмотреть, в какой стороне развевается вымпел Лузиньянов. С наступлением темноты он достает из тайника лук и посылает стрелу с прикрепленным к ней донесением — да так, чтобы она упала в точности перед шатром короля Гвидо. И не было случая, чтобы он промахнулся, ибо в Аскалоне его, Мартина Фиц-Годфри, все знают как лучшего стрелка!
Бастард горделиво выпрямился, едва не потеряв равновесие.
Мартину пришлось усадить его на место и утихомирить.
На сегодня он узнал достаточно. Чутье его не подвело, и этот парень и впрямь может ему пригодиться. Но сейчас им пора разойтись. Желудок Фиц-Годфри, судя по его позеленевшему лицу, уже с трудом удерживал скверное пойло, и едва Мартин вытащил его из духана на улицу, тотчас избавился от своего содержимого. Направив нетвердо стоявшего на ногах невольника в сторону полуразрушенной патриархии, Мартин посоветовал ему поторопиться, если он не хочет отведать кнута. Тот, расчувствовавшись, попытался обнять рыцаря и на прощание объявил, что каждый вечер его можно найти у собора Святого Андре, где он молится Христу и Пресвятой Деве вопреки злокозненным псам-сарацинам!
«Однако порки ему сегодня не миновать», — подумал Мартин, провожая взглядом нового приятеля, выписывавшего зигзаги по мостовой, пока тот не исчез в темноте.
Ночью Мартин долго лежал без сна, раздумывая, как использовать полученные от аскалонца сведения.
Утром он снова обошел вокруг дома Сарры, запоминая мельчайшие детали. Снаружи он выглядел неказисто и мрачновато: глухие стены, прочная ограда, заложенные кедровыми брусьями ворота, выходящие в переулок близ Королевской улицы. Туда же смотрело единственное окно — узкое и длинное, с арочным перекрытием. Чтобы войти, обитатели пользовались решетчатой калиткой в ограде возле ворот.
Но при том что дом снаружи выглядел неброско, внутри это был настоящий дворец: жилые помещения обрамляли прямоугольный внутренний дворик с садом, мавританскими галереями с легкими колоннами из сахарно-белого африканского мрамора и водоемом, окруженным цветущими розовыми кустами. Внутреннее убранство покоев отличалось роскошью: арки переходов скрывали парчовые и муслиновые занавеси, мозаичные полы повсюду были устланы коврами, мебель из редких пород дерева была изящна, и повсюду глаз натыкался на драгоценные вазы для цветов и позолоченные курильницы для благовоний. Здесь было приятно укрыться от зноя: окна, выходившие на галереи, затеняли резные решетки из ливанского кедра, а удобные диваны с множеством бархатных расшитых подушек словно приглашали к отдыху и неспешной беседе. Имелась в доме и баня с глубоким бассейном, куда по трубам подавалась теплая и холодная вода, а сад во внутреннем дворике, помимо цветущих роз, украшали раскидистые финиковые пальмы, дававшие тень даже тогда, когда солнце стояло в самом зените.
Некогда муж Сарры, купивший и заново отделавший этот особняк вблизи королевского замка, имел большие амбиции. Супруги жили здесь, окруженные комфортом и роскошью, в их доме нередко бывали весьма влиятельные люди — начиная с барона Ибелинского и графа Триполи и заканчивая эмирами султана Саладина. От такого жилища в самом сердце богатой Акры не отказалась бы и венценосная особа, но госпожа Сарра только и ждала часа, когда она наконец-то сможет покинуть его вместе с детьми и внуком, который со дня на день должен появиться на свет. Ибо оставаться здесь становится все опаснее.
Ближе к вечеру Мартин отправился на поиски вчерашнего знакомца. Тот оказался на месте — у собора Святого Андре. Фиц-Годфри молился усердно, но лицо его было в синяках и распухло от побоев. Мартин, приблизившись, не стал ни о чем расспрашивать, только негромко произнес:
— Я больше не стану поить тебя вином, раз ты разучился его пить. Но если то, что ты мне вчера наговорил, правда и ты действительно можешь пустить стрелу с донесением к шатру короля Гвидо, сделай это еще раз, ибо мне стало доподлинно известно, что у коменданта аль-Машуба больше не осталось ни одного снаряда с зажигательной смесью.
Не дожидаясь ответа, Мартин удалился.
Он был невысокого мнения об уме этого парня, но Фиц-Годфри должен сообразить, как важно такое сообщение для крестоносцев. Если, конечно, он не просто хвастался вчера во хмелю…
Похоже, не хвастался, подумал Мартин через пару дней, когда осадные башни из лагеря крестоносцев бесстрашно двинулись к стенам Акры.
Зрелище было грандиозное: циклопические сооружения медленно, шаг за шагом, приближались к городским стенам, для чего требовались отчаянные усилия сотен людей, приводивших их в движение. Колеса платформ, на которых были установлены башни, увязали в рыхлой песчаной почве; сами башни угрожающе скрипели и подрагивали, а сарацины осыпали их множеством зажигательных стрел, которые, впиваясь в обмазанные глиной сырые шкуры, не причиняли башням никакого вреда. Зато укрытые за огромными мантелетами[134] на ярусах башни христианские лучники и арбалетчики отвечали таким плотным огнем, что защитникам крепости приходилось укрываться за зубцами стены. Одновременно несколько мощных катапульт начали метать в город горящие бочки со смолой, и в расположенных у восточной стены кварталах начались пожары.
В небо над Акрой поднялись столбы едкого черного дыма, ветер нес его на стены, и сквозь эту удушливую завесу сарацины видели, как неотвратимо приближаются чудовищные громады осадных башен, а у них не было ни капли нефти, которая не раз выручала их раньше!
Единственным, что оттягивало развязку, было то, что колеса тяжеловесных башен постоянно застревали в песке, и к вечеру им удалось преодолеть только половину расстояния до стен крепости. Этого оказалось достаточно, чтобы воины оборонявшегося гарнизона смогли обрушить на головы латников-пехотинцев, толкавших башни, пропитанные маслом вязанки хвороста с привязанными к ним пучками горящей пакли. Многие крестоносцы из-за этого получили страшные ожоги и начали разбегаться, а сама башня загорелась изнутри и вспыхнула, словно гигантский факел, под ликующие вопли плясавших на стенах сарацин.
В лагере христиан затрубили рога, и две другие башни были остановлены на безопасном расстоянии от стен. Та же, что воспламенилась, продолжала гореть до глубокой ночи, озаряя мрачным багровым светом поле битвы.
В самой Акре радость тоже вскоре сменилась унынием. Лекарь Иегуда, явившийся вечером навестить госпожу Сарру, сообщил, что комендант города и его эмиры, видя, что от Саладина теперь не приходится ждать помощи, решили начать переговоры о почетной сдаче.
— Уже завтра они отправятся в лагерь крестоносцев, — добавил Иегуда, и на его лице отразились горечь и надежда. Он рассчитывал, что если переговоры завершатся успешно, горожан оставят в покое.
Но этим надеждам было суждено развеяться, как дым. Весть о случившемся передавалась в Акре из уст в уста, а явившийся вечером Иегуда сообщил подробности.
— Благородные аль-Машуб и эмир Каракуш отправились в ставку короля Филиппа Французского и предложили ему сдать Акру на тех же условиях, на которых христиане сами сдали ее два года назад: крестоносцы не должны препятствовать никому из жителей и защитников крепости покинуть город и увезти свое имущество. Недавно вставший с одра болезни Филипп милостиво принял их слова, но как только в шатре появился свирепый английский Лев, так все пошло прахом.
— Но ведь вы говорили, что Ричард тяжко хворает? — напомнил Мартин.
— К несчастью для нас, он уже на ногах. И что досаднее всего — лекарства для него присылал сам султан Саладин.
— Но зачем?
Иегуда развел руками.
— Кто может понять этих правителей? Должно быть, щеголяют друг перед другом благородством. Между тем эмир Каракуш считает, что здесь проявилась особая мудрость султана, который подметил, что когда оба предводителя крестоносцев в добром здравии, они постоянно соперничают между собой, и от этих споров мусульманам немалая польза.
— Тогда Саладину следовало бы прислать лекарства и Филиппу, — поджав губы, сурово молвила Сарра.
— Уж поверьте, он так и поступает: шлет ему плоды, подарки, чистейшую воду и лекарственные снадобья.
— А мы тем временем делим последнюю лепешку! — возмущенно проговорила женщина.
Мартин промолчал. Это было явным преувеличением — семейство сестры Ашера бен Соломона пока не ощущало голода, а только стремительный рост цен на городских базарах.
— Какие же условия выдвинул король Ричард? — возвращаясь к переговорам, спросил Мартин.
— Ричард Львиное Сердце заявил: его единоверцы перенесли такие жестокие страдания и лишения, столько их пало под Акрой, что принять условия противника, который практически побежден, просто невозможно. И потребовал, чтобы Саладин вернул все земли Иерусалимского королевства, принадлежавшие христианам до битвы при Хаттине, и сам Иерусалим, а также утраченный Крест, на котором был распят лжемессия Иисус, которому они поклоняются.
Тут даже невозмутимый Мартин присвистнул:
— У этого парня действительно львиный аппетит.
— Увы! — воздел руки к небесам Иегуда бен Авриэль.
— Погодите, мой добрый друг, — госпожа Сарра положила руку на локоть лекаря. — Объясните мне, почему король Ричард вмешивается в дела короля Филиппа? Разве не француз назначен главнокомандующим силами крестоносцев?
— Это уже никому не дано понять, — вздохнул Иегуда. — Но то, что он выслушал Ричарда и согласился с ним, свидетельствует либо о том, что он находится под его влиянием, либо полностью согласен с ним. В любом случае аль-Машуб вернулся в гневе, поклявшись Кораном, что скорее даст себя заживо похоронить под развалинами Акры, чем примет подобные условия.
После провала переговоров Акру охватило не только уныние, но и страх. Толпы горожан собирались у многобашенного Темпла, резиденции исполнявшего обязанности коменданта Акры Каракуша, требуя, чтобы тот прекратил осаду и вынудил короля Ричарда принять выгодные условия. Когда же Каракуш появился перед толпой и объявил, что переговоры сорваны из-за упрямства франков, в него полетели камни.
Обстановка в городе становилась все более напряженной. Участились грабежи и разбои, закрывались лавки, люди опасались выходить на улицы. В кварталах, где жили христиане, было убито немало людей, досталось и евреям. Хорошо укрепленный дом Сарры также подвергся нападению — однажды под утро толпа каких-то оборванцев попыталась снести главные ворота. Мартин послал Мусу с луком на крышу, а сам, прихватив саблю и круглый щит, отворил калитку и встал в ней, рассчитав, что в таком узком проходе налетчики могут атаковать его только поодиночке. Вскоре перед ним выросла груда тел, а грабители, убедившись, что в этот дом проникнуть невозможно, разбежались, оставив несколько стонущих раненых, которых Мартин безо всякого сожаления добил.
Спустившийся с крыши Муса только растерянно вертел головой, не зная, как выразить свое восхищение, а госпожа Сарра заливалась слезами и порывалась целовать руки спасителя. Мартин же на это заметил со смешком, что вот — снова придется мыть мостовую перед входом.
Пока они растаскивали трупы и смывали кровь с камней, у Леа начались схватки. Промучившись весь день, молодая женщина к вечеру родила здоровую девочку.
Сарра радостно сообщила об этом Иегуде бен Авриэлю, когда тот в очередной раз явился с визитом, даже позабыв упомянуть о ночном набеге. О попытке грабителей ворваться в дом ему поведал Мартин, и лицо старого лекаря омрачилось.
— Клянусь богом Авраама, настали лихие времена. В городе все меньше вооруженной стражи — люди аль-Машуба, даже те, кто ранен, сражаются на стенах… У меня есть для вас особая новость, почтенная Сарра, но вы должны обещать, что, кроме вас, ни одна живая душа об этом не проведает…
Иегуда утомленно потер лицо ладонями и объявил, что в эту ночь в замке аль-Машуба все вооружаются и не расседлывают коней. Прибыл почтовый голубь с посланием от султана, в котором говорится, что перед рассветом он намерен атаковать лагерь назареян. И как только это произойдет, ворота Дервишей, прежде называвшиеся вратами Святого Николая, откроются, и небольшой отряд во главе с эмирами попытается прорваться через стан крестоносцев, воспользовавшись замешательством, когда все силы неверных будут направлены на отражение удара султана. И тогда…
Он замолчал и пристально взглянул на Сарру.
— Скажите, любезная госпожа, при вас ли еще те великолепные рубины, которыми некогда так восхищался аль-Машуб?
Этот вопрос озадачил Сарру. Немного подумав, она кивнула.
— Тогда вы можете вместе с еще несколькими нашими собратьями попытаться покинуть город вместе с воинами. Я уверен, что в обмен на эти рубины комендант предоставит вам охрану… И посланец вашего брата, безусловно, будет всячески вас оберегать…
— Эта затея смертельно опасна! — Мартин резко поднялся со своего места и теперь возвышался над лекарем, сурово глядя на него. — При прорыве через лагерь погибнет множество людей. А госпожа Сарра уже в летах и едва ли сможет удержаться в седле на полном скаку. Ее невестка только разродилась, а малолетние дети госпожи…
— Мартин прав. Я никуда не поеду!
Иегуда бен Авриэль развел руками.
— Тогда пусть хранит вас Бог Израиля, а я больше ничем не смогу быть вам полезен, госпожа. Я полагаю, в этой попытке заключается пусть и неверная, но все-таки надежда. Подумайте, что станет с городом, когда его покинет гарнизон и сюда ворвутся толпы разъяренных крестоносцев?
— А что намерены предпринять вы сами, почтенный Иегуда?
Лицо лекаря выразило решимость отчаяния.
— Я все обдумал и готов последовать за моим господином аль-Машубом. Попытку прорыва возглавит отважный эмир Сафаддин, а он выдающийся воин. Может быть, все-таки… — добавил он как бы в смущении. — Подобный случай может больше и не представиться!..
Госпожа Сарра, коротко поразмыслив, вышла, а вернувшись, протянула лекарю бархатный футляр, на атласной подкладке которого покоилось ожерелье из темных, как кровь, оправленных в золото рубинов поразительной красоты.
— Вы всегда были нам добрым другом, почтенный Иегуда бен Авриэль. И если эти камни помогут вам и тем из наших сородичей, кто готов рискнуть, пусть с вами будет благословение праотцев! Мы же останемся. Рядом со мной надежный друг, и я доверяю ему больше, чем себе.
От этих слов у Мартина стало теплее на душе. Он опустился перед женщиной на колено и благодарно поцеловал ее руку.
Теперь ему предстояло сопровождать лекаря с его бесценным сокровищем в пути через неспокойный город. Держа в руке саблю, Мартин неторопливо шел впереди Иегуды, а тот семенил следом, пряча под полой своей черной накидки то, что могло вывести из обреченной Акры его самого и еще нескольких иудеев.
Когда они миновали несколько кварталов, лекарь неожиданно спросил:
— Продолжаешь ли ты покалывать свои пальцы?
Мартин ответил, что пока все обстоит благополучно, на что Иегуда дружески похлопал его по плечу и добавил:
— Может, нам никогда больше не доведется встретиться, но я хочу сказать, что ты славный юноша!..
Когда сутулая, покачивающаяся фигура лекаря растворилась в сумраке под арками Темпла, Мартин опрометью бросился к собору Святого Андре. Однако аскалонца не было там и в помине.
Выждав некоторое время, Мартин зашагал вдоль крепостной стены, на которой, несмотря ни на что, продолжались восстановительные работы. Вскоре он обнаружил группу невольников, работавших при свете факелов, а присмотревшись, заметил среди них своего соименника — он катил тачку, наполненную обломками камня.
Мартин дождался, когда тот будет возвращаться без груза, и окликнул бастарда. Фиц-Годфри сделал вид, что ничего не замечает, продолжая толкать тачку вперед, и Мартину пришлось догнать его и пойти рядом.
— Ты совсем обезумел! — буркнул аскалонец, не переставая двигаться. — Здесь чертова прорва надсмотрщиков!
Не обращая внимания на его слова, Мартин склонился к уху аскалонца и быстро прошептал все, что ему стало известно о намечающемся набеге Саладина на лагерь крестоносцев и попытке командиров гарнизона прорваться через ворота Святого Николая.
Пораженный Фиц-Годфри бросил тачку за первым же поворотом.
— Я сейчас же отправлю стрелу с донесением. Вот только черкну пару строк и сбегаю за луком — он у меня припрятан неподалеку среди камней.
— Будь осторожен, — сказал Мартин, но когда аскалонец уже повернулся, чтобы идти, остановил его: — Погоди! Ты сам пишешь донесения? И подписываешься собственным именем?
— Зачем? Король Гвидо не знает меня. Зато я начинаю каждое письмо словами «Во имя Отца и Сына и Святого Духа!». Ни один нечестивый на такое не отважится, скорее пальцы себе откусит.
Негромко посмеиваясь, аскалонец удалился.
Оставалось только ждать.
Ночью в дом Сарры доносился смутный шум, а утром вести не заставили себя ждать. Вернувшийся с рынка Муса поведал, что все, кто пытался вырваться из крепости, вынуждены были повернуть обратно и снова укрыться за ее стенами. При этом многие погибли или угодили в плен. Но есть и хорошая новость: людям эмира Сафаддина во время схватки в темноте удалось захватить и увезти с собой маркиза Конрада Монферратского. И теперь, имея столь ценного заложника, комендант и эмиры намерены снова начать переговоры об условиях сдачи Акры.
— А что слышно о наших евреях? — тревожилась госпожа Сарра. — Где добрый Иегуда бен Авриэль?
Муса покачал головой в чалме:
— Увы, по пути я слышал плач во многих еврейских домах. Что же до лекаря, то он находится в Темпле. Мне сказали, что он ранен и поэтому едва ли сможет добраться сюда.
— Тогда я сама навещу его, — госпожа Сарра решительно накинула на голову покрывало.
Мартин сопровождал ее через город. У мрачных ворот бывшего орденского замка Сарра представилась страже, и их впустили. Женщина сразу же направилась к лекарю, а Мартин остался ждать в длинной сводчатой галерее, все окна которой были обращены во внутренние дворы крепости.
Храмовников недаром почитают как замечательных фортификаторов и строителей. Отсюда Мартин хорошо видел внутренние дворы Темпла, а также расположенные на высоте второго и третьего этажей крытые переходы, ведущие из одной башни замка в другую. Переходы располагались один над другим, образуя каменный лабиринт, по ним время от времени проходили и пробегали люди коменданта, а некоторые из лабиринтов до сих пор были украшены изваяниями гаргулий — драконоподобных существ, сгорбленных, крылатых, оскаленных. Они находились на такой высоте, что даже сарацины не решились забраться туда, чтобы уничтожить франкских «идолов».
Каменные гаргульи были по-своему красивы, да и во всем облике Темпла чувствовалась некая величественность: его циклопические башни казались неприступными утесами на фоне искрящегося в солнечных лучах моря. Каждую из башен окружал ров, со дна которого торчали острия кованых пик. Такую крепость можно долго и успешно оборонять, но Мартин уже не сомневался, что вскоре рыцари в белых плащах с алыми крестами вернутся в свою резиденцию. И среди них наверняка окажется маршал Уильям де Шампер.
Вот тогда перед Мартином встанет выбор: или вовсе не попадаться маршалу на глаза, или наоборот — искать с ним встречи и принудить к повиновению, шантажируя своими отношениями с Джоанной де Ринель… Интересно, где сейчас сама Джоанна?
Тем временем вернулась госпожа Сарра с известием, что Иегуда бен Ариэль не так плох, как она опасалась, но крайне удручен тем, что попытка вырваться из ловушки провалилась и погибло столько безвинных евреев. Хуже того: крестоносцы каким-то образом пронюхали о том, что во время атаки кавалерии Саладина будет предпринята попытка прорыва окружения. Назареяне были готовы встретить воинов султана во всеоружии, а едва отворились ворота Святого Николая, словно вихрь налетели на беглецов из Акры. Единственная удача — пленение Конрада Монферратского, которое сулит надежду на приемлемые условия капитуляции.
Все это Сарра поведала ему на обратном пути, еще до того, как они оказались на площади у главной городской мечети — бывшего собора Святого Креста. Там внимание Мартина привлекла толпа, собравшаяся у эшафота. Госпожа закрыла лицо покрывалом и поспешила пройти мимо, но ее спутник замешкался. Там, на железном крюке, свисавшем на цепях с перекладины, болталось ободранное, истекающее кровью тело. Узнать его было невозможно, но Мартин, не обращая внимания на окликавшую его госпожу Сарру, замешался в толпу и вскоре выяснил, что на крюке — казненный предатель: тот, кто исхитрился донести неверным о готовящейся вылазке из Акры. Этот невольник-христианин по имени Мартин пустил в лагерь крестоносцев стрелу с посланием, но один из охранников застал его за этим, и предателя тотчас схватили и подвергли пытке. Однако даже самым опытным палачам не удалось ничего добиться — невольник только бормотал молитвы, претерпевая самую адскую боль. Тогда его предали страшной казни: заживо содрали кожу и бросили кровоточащее тело в крепкий рассол, а затем вывесили труп на поживу стервятникам и в назидание иным предателям.
Мартин покидал площадь, чувствуя тугой ком в горле. Как бы ни был глуп и самонадеян этот парень, не восхищаться его мужеством было невозможно…
А вскоре разнеслась весть о том, что султан Саладин предложил Ричарду и Филиппу новые условия: он готов вернуть христианам Иерусалимское королевство, включая земли за рекой Иордан, в том случае, если отряды, прибывшие в Святую землю с христианскими королями, отправятся вместе с ним за Евфрат и помогут султану завоевать Западную Персию. Говорили, что послание от султана доставил в лагерь крестоносцев младший брат Саладина — аль-Малик аль-Адиль ибн Айюб, который неплохо говорил на языке франков и сумел произвести на Ричарда Львиное Сердце столь благоприятное впечатление, что тот почти дал согласие. Однако на сей раз воспротивился Филипп, и английский король не стал спорить со своим союзником.
Переговоры оказались бесплодными, и страшные осадные башни снова двинулись к стенам изнемогающей Акры. Одновременно заработали осадные машины. Защитники города во множестве гибли на стенах, пылала уже вся восточная часть города, а спустя два дня, на закате, чудовищный грохот сотряс воздух. Дрогнула земля — и Проклятая башня, казавшаяся неприступной, рухнула в тучах пыли и разлетающихся во все стороны обломков. В образовавшийся пролом тотчас устремились крестоносцы, и бой продолжался до глубокой темноты, пока руины башни не покрылись грудами мертвых тел христиан и сарацин.
Только непомерная усталость вынудила крестоносцев прекратить штурм, и взошедшая полная луна озарила своими бледными лучами картину страшной гибели и разрушений. Не было никаких сомнений — с рассветом штурм начнется снова и город падет. После чего предводители крестоносцев отдадут Акру на разграбление своим воинам, пролившим кровь под ее стенами.
С вечера Мартин занялся собственной внешностью. Если прежде он стремился казаться обычным жителем Акры, то теперь направил бритвы, нагрел воды и, присев у зеркала из полированной бронзы, первым делом избавился от бороды. Затем снял тюрбан и коротко подрезал волосы.
Следившая за ним толстушка Нехаба с застенчивой улыбкой заметила, что теперь он стал другим… более молодым и красивым.
Мартин не ответил, но, заметив отражение девочки в зеркале, призадумался. Нехаба, с ее смуглым личиком, карими миндалевидными глазами и носом с легкой горбинкой, была типичной еврейкой, однако ее можно с таким же успехом выдать и за магометанку. Как бы ожесточенно крестоносцы ни боролись с мусульманами, их ненависть к народу Торы, не признавшему своего соплеменника Сыном Божьим и пославшему его на казнь вместо преступника Варравы, была еще более глубокой.
— Муса! — окликнул Мартин слугу. — Раздобудь для женщин и малыша Эзры сарацинские одеяния. Пусть лучше их сочтут мусульманами, чем признают в них евреев.
Ему не стали перечить, только Сарра расплакалась, меняя свою расшитую узорами симарру на длинную черную абайю и хиджаб.[135]
— О, Моисей! — восклицала она. — О, Аарон!
— Довольно, госпожа! — прервал ее причитания Мартин. — Не упоминайте никого, кроме Аллаха, милостивого и милосердного, если хотите, чтобы вы и ваши дети остались в живых!
Мартин был резок — видимо, все возрастающее напряжение сказывалось и на нем. Отправив женщин и детей в секретное помещение, сам он провел ночь на крыше дома, гадая, что сулит следующий день. Под утро он позволил себе немного подремать, но вскоре его разбудил стук подков по камням мостовой.
Уже начинало светать, и Мартин увидел, что по Королевской улице к пролому в крепостной стене едут шагом несколько всадников. Один из них, несомненно, был рыцарем-христианином. Приглядевшись, Мартин узнал в нем Конрада Монферратского, которого ему доводилось видеть прежде в лагере крестоносцев. Сопровождающие всадников слуги имели при себе свернутые знамена.
Что это были за флаги, он понял лишь тогда, когда прокрался вдоль улицы ближе к крепостной стене. Они внезапно взвились над уцелевшими оборонительными башнями: стяг с черным соколом, принадлежавший самому Конраду, стяг с королевскими лилиями Франции и алое знамя с шествующими львами Ричарда Английского. Знамени ислама не было, и это означало, что город сдается на условиях, предложенных маркизом Монферратским.
Это случилось в священный для мусульман день — пятницу. Но даже муллы не звали правоверных к молитве, в Акре слышались стоны и плач, а в лагере крестоносцев царило радостное возбуждение. Позднее стало известно, что коннетабль Амори де Лузиньян даже пытался вызвать Конрада на поединок, так как среди поднятых на башнях знамен не было флага Иерусалимского королевства.
Однако прочие условия были сочтены королями-крестоносцами вполне приемлемыми: Акра переходила в их руки со всем, что находилось в городе — золотом, серебром, оружием и доспехами, судами в порту, запасами продовольствия и христианскими невольниками. При соблюдении этого условия населению, независимо от вероисповедания, гарантировалась безопасность. Что касается гарнизона крепости, то Конрад обещал освободить воинов и командиров, если Саладин уплатит выкуп — двести тысяч золотых динаров, вернет захваченный при Хаттине чудотворный Животворящий Крест (на этом особо настаивал король Ричард), а также даст слово освободить и прислать в Акру находящихся у него в плену христианских рыцарей — общим числом около полутора тысяч.
Когда смятение в городе немного улеглось, жители начали с осторожностью выбираться из домов, чтобы взглянуть, как отряды крестоносцев вступают в крепость.
Первым, как и полагалось тому, кто добился сдачи твердыни, под звуки фанфар в Акру въехал маркиз Монферратский со своими воинами — рыцарями из Тира, германцами умершего во время осады герцога Швабского и австрийцами герцога Леопольда. За ним следовал на великолепном коне король Франции, окруженный лесом голубых знамен, расшитых золотыми лилиями. Филипп, проехав по Королевской улице, тотчас свернул к замку тамплиеров, где должна была разместиться его резиденция.
Горожане следили за королем франков, но с их уст не сходил один и тот же вопрос: где же Ричард Львиное Сердце? Где тот неукротимый и страшный Мелик Рик, который поклялся взять Акру за месяц, и если нарушил свою клятву, то на каких-нибудь четыре дня?
Слышал ли король Франции эти возгласы в толпе, медленно проезжая по улице с каменно-надменным лицом и в короне, водруженной на заметно облысевшую за время болезни голову?
Со своего поста на крыше Мартин отчетливо видел, что Филипп осунулся и выглядит крайне изможденным. Заметил он и множество госпитальеров и тамплиеров, сопровождавших короля, — им предстояло поддерживать порядок в городе, ибо Ричард потребовал сделать все, чтобы в Акре не случилось резни и повальных грабежей.
Однако на это не приходилось особенно надеяться: крестоносцы натерпелись лишений за два года осады, а здесь, сразу же за выгоревшим дотла восточным предместьем тянулись целые кварталы богатых домов, а на мостовой стояло немало зажиточных горожан и горожанок. И так заманчиво было сорвать с первого подвернувшегося неверного шелковый тюрбан или ущипнуть за щечку молоденькую сарацинку, прячущую личико под желтым хиджабом!
Орденские рыцари были начеку: едва возникало замешательство или потасовка, они немедленно вмешивались и пресекали безобразия солдатни.
А потом Мартин услышал, как в ворота дома Сарры стучат, раздались громкие требования на германском впустить их.
Мартин тотчас спустился во двор, где застал растерянного Мусу с кривой саблей у пояса. Рыцарь велел ему скрыться с глаз, пока он попытается унять желающих проникнуть в дом.
Этими желающими оказались люди герцога Леопольда Австрийского. Хуже и быть не могло. Мартин отпер калитку, выходящую в переулок.
— Благородные рыцари, — обратился он к крестоносцам на их языке, и те удивленно отступили, заслышав родную речь из уст молодого невольника-европейца. — Высокое счастье — приветствовать вас в Акре! Я молился об этом изо дня в день, и готов опуститься перед вами на колени, чтобы выразить восхищение вашими мужеством и стойкостью. Да благословят вас небеса!
— Ладно-ладно, парень, — буркнул один из длиннобородых австрийцев. — А теперь дай нам пройти.
Однако Мартин по-прежнему стоял на коленях, загораживая узкий проход калитки.
— Прошу простить, добрые господа, но я не имею права впустить вас. Ибо по предварительному уговору этот дом уже занят иной особой.
Австрийцы переглянулись и расхохотались. Но когда он вновь преградил им путь, лица воинов стали суровыми.
— Убирайся, раб! Прежде следовало проявлять отвагу: глядишь, неверные и не пленили бы тебя!
— И кто же предъявил права на этот дом? — прогремел голос рыцаря, восседавшего на коне. Рыцарь неторопливо снял шлем, и Мартин увидел светлую бороду и багровое лицо герцога Леопольда, обожженное солнцем.
Проклятье! Из всех предводителей крестоносцев Мартин больше всего опасался именно этого бахвала и пьяницу из княжеского рода Бабенбергов, помешанного на ненависти к евреям. А теперь его свите вздумалось облюбовать неприметный с улицы дом Сарры.
— Сиятельный господин, этот дом занят его королевским величеством Гвидо де Лузиньяном, — твердо вымолвил Мартин. Он не сводил с герцога взгляда, а его рука лежала на эфесе сабли. Это был всего лишь жест — австрийцев слишком много, и стычка с ними может быть смертельно опасной.
Леопольд расхохотался, воины подхватили его смех.
— Эй, выкиньте-ка отсюда этого пса! — распорядился герцог.
Австрийские и германские рыцари — это не уличные грабители. Ринувшись на Мартина сплошной массой, они просто отшвырнули его в сторону и в два счета обезоружили, а затем с гиканьем и ревом ворвались во внутренний дворик. Кто-то из воинов, заметив Мусу, с размаху опустил на него свой меч, другие, забавляясь, лупили обухами секир по мраморным колоннам, здоровяк в пластинчатом панцире с хохотом принялся мочиться в голубую чашу водоема.
«Только бы они не обнаружили Сарру с детьми!» — в отчаянии подумал Мартин и, опрометью выскочив в переулок, бросился на Королевскую улицу, по которой продолжали шествовать конные отряды победителей.
И все же этот день был не совсем удачным для него. Мартин понял это, заметив на площади перед Королевским замком самого Гвидо де Лузиньяна, гарцующего на золотистом скакуне. Мартин тотчас узнал это красивое лицо, обрамленное кольчужным капюшоном, — он помнил его с того времени, когда доставил в Иерусалим подложное послание графини Эшивы. Голову короля венчал шлем с зубчатой короной, он держался с большим достоинством, и в то же время в его движениях чувствовалась некоторая растерянность, словно он все еще не знал, куда направиться.
Мартин пробился к нему сквозь толпу.
— Мой король! Ваше величество! Взываю к вам как к государю этой страны!
Он так стремительно бросился к Лузиньяну, что конь под ним отпрянул и король от неожиданности едва удержался в седле.
Но Мартина уже теснил своим жеребцом Амори де Лузиньян. Однако Гвидо, справившись с конем, крикнул брату, чтобы не гнал прочь того, кто взывает к нему как к монарху.
— Я где-то видел тебя? — спросил он, оглаживая храпящего коня.
Мартин напрягся. Мог ли король узнать в нем того запыленного рыжебородого рыцаря, который четыре года назад привез ему письмо от Эшивы Тивериадской, которое погубило столько людей? Едва ли. Но отступить он уже не мог.
— Государь, вы могли видеть меня в Аскалоне. Я Мартин Фиц-Годфри, сын вашего верного рыцаря Фиц-Годфри. Мой герб — оливковая ветвь на светлом фоне.
Гвидо кивнул, но без особой уверенности, зато коннетабль подтвердил: да, такой рыцарь действительно состоял в гарнизоне Аскалонской крепости.
Теперь следовало избежать дальнейших расспросов, и Мартин поспешил сообщить, что, даже оказавшись в плену, он продолжал служить своему королю, и едва узнавал новости, которые могли быть полезны крестоносцам, без промедления посылал стрелу с посланием к шатру короля Гвидо.
— Надеюсь, вы получали их, мой король! Я не подписывал свои послания, но всегда начинал словами: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа»!
— Так это ты! — широко улыбнулся Гвидо. Он спешился и заключил Мартина в объятия. — Мы многим обязаны тебе, Мартин из Аскалона. Клянусь оком Господним, когда мы отвоюем наше королевство, я верну и приумножу твои земли и щедро тебя награжу.
— Счастлив служить моему королю, — Мартин опустился на колено и поцеловал край плаща Гвидо. — Мне удалось сохранить для вас в Акре целый дворец, где могла бы разместиться резиденция, подобающая государю, однако… Герцог Леопольд Австрийский не пожелал слушать моих разъяснений и вломился туда вместе со своими латниками!
Зная Гвидо де Лузиньяна, он действовал точно и расчетливо: лишенный королевства монарх будет рад вернуть под свою власть хоть клочок собственной земли и не зависеть от подачек европейских государей. При первом же упоминании о Леопольде, приверженце Конрада Монферратского, Лузиньян нахмурился и велел проводить его к упомянутой резиденции, тем более что она, как пояснил верный Мартин Фиц-Годфри, буквально в двух шагах и совсем рядом с Королевским замком, где намерен расположиться Ричард Английский.
Так оно и было, однако на крыше дома Сарры уже развевалось белое знамя герцога Леопольда с изображением черного орла.
— Какого дьявола, Бабенберг! — закричал Гвидо, врываясь на коне во внутренний двор, где уже толпились со своими лошадьми люди герцога. — Вам разве не сообщили, что это здание предназначается мне?
— Угомонись, Лузиньян! — хрипло огрызнулся Леопольд. — Вечно ты оказываешься не там, где следовало бы. То под Хаттином, а теперь в доме, над которым уже установлено мое знамя. Неудачники всегда опаздывают!
— И тем не менее ты немедленно уберешься отсюда! — воскликнул Гвидо, выхватывая меч.
Мартин наблюдал со стороны. Люди Леопольда схватились за оружие, обнажили сталь и сопровождавшие короля Гвидо иерусалимские рыцари-пулены. Еще мгновение — и пролилась бы кровь победителей Акры.
Но в дело вмешались тамплиеры. Белые плащи с красными крестами вмиг заполнили двор, прозвучала команда убрать, во имя Господа, оружие.
Мартин укрылся за колонной, вглядываясь в лица храмовников. Уильяма де Шампера среди них не было, а приказы отдавал рослый воин с длинной каштановой бородой. На него-то и наступал Леопольд, размахивая мечом:
— Вы, де Сабле, хоть и магистр ордена, но это не дает вам права повелевать герцогом Австрии!
— Но именно на тамплиеров возложена миссия следить за порядком в Акре! — внезапно прозвучал твердый голос, и Мартин из своего укрытия увидел, как во двор, осматриваясь, неторопливо въезжает сам король Ричард.
Его алое облачение и снежно-белый скакун ослепительно сияли в лучах солнца, и все, кто находился здесь, невольно повернулись к королю, спорящие голоса вмиг умолкли, и даже герцог Австрийский, еще минуту назад полный спеси, смешался. К Ричарду обратился Гвидо, сдержанно пояснив, что его человек, посланный заранее, занял этот особняк, а Леопольд не пожелал его слушать и водрузил здесь собственное знамя.
Золотистые брови Ричарда сошлись на переносице, глаза сверкнули.
«Не хотел бы я оказаться мишенью его гнева», — невольно подумал Мартин, следя за тем, как король Англии направляет коня прямо на герцога, вынуждая его отступить за водоем.
— Какого дьявола, Бабенберг! — зарычал Ричард. — Вы туги на ухо или совсем потеряли разум от пьянства? Разве вы не слышали, как поделен город? И тем не менее осмеливаетесь водружать свои штандарты на доме, который находится в моей части Акры, а значит, принадлежит и королю Гвидо!
«Ого! Я этого не знал, но вышло совсем недурно», — усмехнулся про себя Мартин.
Затем Ричард повелел убрать знамя с кровли, и чуть ли не половина тех, кто находился во дворе, с готовностью бросились выполнять его приказание.
Но тут очнулся Леопольд. Взревев, как разъяренный вепрь, он рванулся было к королю, но на полпути его удержали рыцари из его же свиты. Английский Лев с мрачной насмешкой смотрел на него с седла, тамплиеры в белых плащах строем окружили австрийцев. Знамя австрийских герцогов было сброшено на улицу, и люди Гвидо водрузили вместо него бело-голубой флаг Лузиньянов, а заодно и алый стяг короля Англии, чтобы больше никому не пришло в голову посягнуть на здание в той части города, что, согласно договору между предводителями крестоносцев, принадлежала Ричарду.
Австрийцы покидали двор, бросая мрачные взгляды на Гвидо и короля Ричарда.
— Я это еще припомню тебе, Плантагенет! — уже сидя в седле, угрюмо процедил сквозь зубы Леопольд.
— А у меня достанет милости, чтобы забыть твою дерзость, — отозвался король.
Герцог дал коню шпоры и ринулся прочь; собравшаяся на улице толпа едва успела расступиться.
— Не понимаю, — в недоумении проговорил Робер де Сабле. — Весь город в нашем распоряжении. Стоило ли ссориться из-за какого-то там дома?
— Действительно, не стоило, — согласился Ричард, задумчиво оглядывая загаженный конским навозом и обломками разбитых колонн дворик. — Чем тебе так приглянулся именно этот особняк? — спросил он, обращаясь к Гвидо.
— Но разве это не наша часть города? — широко улыбнулся тот, указывая на крышу, где все еще хохотали и выкрикивали непристойности в адрес убравшихся австрийцев его воины.
Позже, когда люди Лузиньяна принялись наводить порядок, Гвидо прошелся по галерее, оглядел мозаики и резные решетки из кедрового дерева, вдохнул еще не выветрившийся аромат благовоний.
— Как же я тосковал без этого, — негромко повторял король-изгнанник, легко касаясь изысканных курильниц, проводя рукой по инкрустированным перламутром столешницам, отодвигая занавеси в арках.
Так он добрался до бани, где у бассейна обнаружил верного Мартина Фиц-Годфри. Размотав тюрбан Мусы, спасший жизнь слуги-сарацина, он обмывал его окровавленную голову. Муса слабо стонал, не приходя в себя.
— Вы так заботитесь об этом неверном, — заметил Гвидо. — Кто он для вас?
— Он здешний слуга. Эти люди были добры ко мне и помогали во всем, даже зная, что я отправляю донесения в лагерь крестоносцев.
Гвидо удивленно поднял бровь.
— Вот как? Эти мусульмане готовы признать во мне своего правителя?
— Они ваши подданные, государь. И хорошо помнят те недолгие, но благодатные годы вашего правления, когда они не опасались путешествовать по дорогам Иерусалимского королевства и снимали обильные урожаи с полей и садов, орошаемых водой из каналов, проложенных по вашим повелениям. С приходом Саладина эта земля превратилась в край смерти и запустения.
— Ты сказал — «они». Но я вижу только одного раненого сарацина.
Мартин сдержанно ответил:
— Здесь есть еще женщины и дети, государь. Сейчас они прячутся в страхе и ждут вашего соизволения, чтобы и в дальнейшем служить в этом доме. Если же вы прогоните их… — он опустился на колено. — Я хочу просить за этих людей. Они были добры ко мне, когда я был невольником. Позвольте им остаться! Кто-то же должен поддерживать порядок, прибираться, готовить пищу и прислуживать вам…
«Я помню эти небесно-голубые глаза, — тем временем думал Гвидо. — Определенно, я знавал этого человека прежде. Должно быть, в Аскалоне».
— Я буду рад исполнить вашу просьбу, мессир Мартин. Мне, так или иначе, понадобится прислуга.
С этими словами король удалился, а Мартин с облегчением перевел дух.
С этой частью своей задачи он справился — Сарра и ее родные в безопасности. Остается только вывезти их из Акры…
ГЛАВА 17
Конец июля 1191 г. Акра.
Задумав возвести Королевский замок в Акре, крестоносцы прошлого пригласили лучших ромейских мастеров, и те придали зданию мощь крепостного сооружения, одновременно снабдив его всеми удобствами, какие только были мыслимы в те времена. Мощные стены замка были известны не только своей неприступностью, но и тем, что хранили прохладу даже в самые знойные дни. В их толще были проложены глиняные трубы, питавшие фонтаны на открытых террасах и в саду, по ним также подавалась горячая и холодная вода в бани. Мусульмане, около четырех лет владевшие Акрой, также оставили здесь свой след — фрески, прежде покрывавшие стены, были теперь скрыты под причудливой мозаикой с растительным орнаментом и изречениями из Корана, начертанными изысканной арабской вязью.
Для Иоанны Сицилийской, после того как они устроились в замке, именно бани стали особым удовольствием. Полированный мрамор и мозаичные стены, солнечные лучи, проникающие сквозь небольшие отверстия в сводах и отражающиеся от поверхности бассейна, покрытой радужными разводами от добавленных в нее благовонных масел, — какое наслаждение! Вода всегда была теплой, даже чересчур, но сестра Ричарда любила тепло, возвращавшее ей ощущение чистоты, по которому она так истосковалась за те несколько недель, которые дамам из свиты Ричарда Английского пришлось провести на корабле, укрытом в небольшой бухте близ горы Мусард.
На судно их отправили, едва стало известно о болезни Ричарда. Но даже после того, как состояние короля улучшилось, их по-прежнему не допускали в лагерь — женщинам не место там, где изо дня в день льется кровь и сражаются воины.
О, это было чудовищно: жара, опасность, замкнутое пространство кормовой надстройки, а для прогулок — пятьдесят футов дощатой палубы. Зато теперь…
Иоанна, блаженствуя, откинулась на округлый край бассейна, выложенного золотистым камнем. От воды поднимался ароматный пар, из-за выступа стены доносилось журчание струйки воды, вливавшейся в прохладный бассейн, в который надлежало погрузиться после того, как распаришься в горячем. Там содержали маленьких рыбешек, которые тотчас принимались легонько пощипывать подошвы и пальцы ног. Это было щекотно, зато кожа становилась, как у младенца — мягкой, чистой и нежной. Сейчас в прохладном бассейне пребывала королева Беренгария, тихонько посмеиваясь от прикосновений рыбок.
Иоанна улыбнулась.
Королева снова довольна, хотя всего несколько минут назад едва ли не крик подняла и почти выпрыгнула из бассейна с горячей водой, когда туда погрузилась дочь Исаака Кипрского. Бассейн был достаточно просторным, чтобы в нем могли нежиться несколько женщин, но если сестра и супруга короля Ричарда пользовались льняными рубашками для купания, то Дева Кипра (ее трудно произносимое имя они так и не научились выговаривать) невозмутимо сбросила всю одежду и предстала перед ними в неприкрытой наготе. Беренгария не могла стерпеть подобного бесстыдства и принялась выговаривать киприотке, но та только недоуменно смотрела на королеву своими иконописными очами и повторяла единственную фразу, которую знала по-французски: «Не понимаю! Не понимаю!»
Дева Кипра, скорее всего, лгала. Она уже вполне сносно владела речью франков, а ее «не понимаю» служило всего лишь отговоркой, чтобы вести себя как заблагорассудится. И едва ли она была девой, ибо выглядела вполне зрелой женщиной — крупная, широкобедрая, с полной тяжелой грудью. И то, как она обращалась с молодыми рыцарями и оруженосцами, как под видом игривых шалостей прикасалась к ним или одаряла многозначительными взглядами, свидетельствовало, что близость с мужчинами для нее дело привычное и желанное. Эти вольности она позволяла себе даже с самим Ричардом: порой садилась у его ног, напевая своим низким грудным голосом, или, как расшалившееся дитя, клала голову ему на колени, бросая такие пылкие взгляды, что Ричард отводил глаза и краснел, а Беренгария злилась и ревновала.
Но пусть уж лучше ревнует, чем ведет себя как монахиня, едва супруг приближается к ней.
Указать жгучей киприотке на ее место могла только Джоанна де Шампер. И не только потому, что владела греческим. Заметив, как страдает Беренгария, она поначалу ограничилась выговором, а когда это не подействовало, попросту оттаскала Деву Кипра за ее жесткие кудри, пригрозив напоследок, что если та не будет держаться скромнее, то отведает кнута.
Иоанна и сама была бы не прочь отстегать эту лукавую девицу, но королевский статус не позволял ей рукоприкладства. Поэтому в глубине души она даже завидовала Джоанне, которая не только напугала до полусмерти почетную заложницу, содержавшуюся до поры до времени при дворе, но и сумела укротить саму Изабеллу Иерусалимскую.
Случилось это после того, как супруга Конрада Монферратского бесцеремонно заявила родственницам короля Ричарда, что они, темноволосые и стройные, больше похожи на бедуинок, чем на знатных христианских дам. Изабелла необычайно гордилась своими серебристыми волосами, хотя в остальном следовала местным традициям: носила пестрые тюрбаны, расшитые узорами просторные туники и шаровары, красила ладони хной и унизывала себя бесчисленным количеством подвесок и браслетов. К этому следовало добавить татуировку над бровями и колечко с жемчужиной, вдетое в складку кожи над переносицей. Немудрено, что, услышав сравнение с бедуинскими женщинами, Джоанна резко осадила ее:
— Не думаю, что ваше замечание уместно, любезная маркиза Монферратская. Должно быть, вам давно не случалось видеть себя в зеркале!
Именуя принцессу, Джоанна намеренно воспользовалась титулом ее мужа. Изабелла оторопела, а Беренгария и Иоанна едва не рассмеялись. Однако позже Беренгария все же заметила, что Джоанна была излишне резка с наследницей Иерусалимского престола. Впрочем, в ее словах не было гнева, ибо все они — и Беренгария в том числе — с трудом выносили общество принцессы с ее легковесным и вздорным нравом.
Изабелла, против воли выданная за Конрада и отчаянно противившаяся этому браку, в конечном счете отлично ужилась с маркизом. Супруг ее холил и всячески ублажал, а принцесса сразу же понесла от него, чем теперь несказанно гордилась. Доходило до ядовитых намеков на то, что ни Иоанна за годы брака с Вильгельмом Сицилийским, ни Джоанна за семь лет супружества так и не забеременели.
Подобные намеки звучали оскорбительно, и Джоанна не удержалась, чтобы не напомнить принцессе, что и сама она за годы супружества с Онфруа не обзавелась ребенком. Может, высокородная Изабелла поделится с ними своим секретом, как быстрее и надежнее забеременеть?
Обсуждать подобные вещи дамам не полагалось, но Джоанна так напористо приступала к Изабелле с расспросами, что вогнала ее в краску. В конце концов принцесса стала побаиваться кузину короля Ричарда не меньше, чем Дева Кипра.
Впрочем, заставить киприотку покраснеть было задачей не из простых: сейчас сама Иоанна зарделась, приметив, как разомлевшая в горячей воде Дева Кипра самозабвенно ласкает себя под водой, постанывая от наслаждения.
Иоанна отвернулась и вышла из бассейна, кликнув служанок. За ширмой уже облачалась скромная Беренгария, и королева Сицилийская заняла ее место в прохладном бассейне. В Акре уже который день стояла невыносимая жара, но Иоанна не могла позволить себе долго нежиться. Сегодня ей предстояло быть хозяйкой небольшого приема, на который Ричард пригласил короля Филиппа. Придворным дамам предстояло развлекать Капетинга, который еще не вполне оправился от хвори, был раздражителен и неуступчив, что приводило к многочисленным ссорам между королями.
Ричарду приходилось уступать, чтобы задобрить Филиппа, ибо после взятия Акры тот внезапно объявил, что сделал для крестового похода достаточно и все сильнее тоскует по милой Франции. Дескать, только воздух родины способен исцелить его недуг. Для Ричарда же такой поворот событий мог оказаться плачевным. До сих пор крестоносцы имели численный перевес над армией Саладина, а взятие Акры подняло дух воинов. Но если Филипп решит вернуться и уведет из Палестины своих людей, все надежды короля Англии развеются как прах.
Однако он все еще верил, что клятва бороться с Саладином до полной победы и восстановления Иерусалимского королевства, которую принесли оба короля, не позволит Капетингу отказаться от задуманного похода на Иерусалим. Дамы, причем самые блистательные, нужны были на этом приеме для того, чтобы Филипп, окруженный их вниманием, не решился проявить малодушие и слабость. Ричард даже намекнул сестре, чтобы она на время оставила свою неприязнь к Филиппу и была с ним мила и приветлива. Ему нужен Филипп и его армия! Неужели его милая Пиона не сумеет обворожить Капетинга настолько, чтобы он и думать забыл о возвращении в Европу?
От этих мыслей Иоанну Сицилийскую бросило в дрожь. Вода в бассейне внезапно показалась слишком холодной, а суета рыбешек начала раздражать. Она поднялась по ступеням на край бассейна. Служанки тут же накинули на нее просторный шелковый халат цвета спелого персика и принялись сушить ее волосы. Внезапно Иоанна услышала испуганный возглас Девы Кипра:
— Джованна! О, Джованна!
Ее имя киприотка произносила именно так, как нравилось сицилийской королеве, — на итальянский манер. Однако сейчас она обращалась не к ней, а к ее кузине. Джоанна де Ринель, стоя у края бассейна с теплой водой, обращалась к Деве Кипра по-гречески, и ее голос звучал жестко и требовательно. В конце концов киприотка вскочила, да так стремительно, что едва не поскользнулась на мокром мраморе, и убежала за ширму так быстро, что ее мощные ягодицы заколыхались.
— Не будь с ней так сурова, кузина, — заметила Пиона. — Вспомни, когда-то и мы с тобой плескались нагишом в море у берегов Кипра.
О, то были славные деньки! Они с Джоанной устраивали вечера с танцами, носились верхом, слушали пение менестрелей и играли в куртуазную любовь. Но все это было до болезни Джоанны. С тех пор милую кузину словно подменили: она стала скрытной и необщительной, порой становилась резкой, а молилась едва ли не чаще, чем благочестивая королева Беренгария. И все больше стремилась к одиночеству. Даже эти восхитительные бани она отказывалась посещать, ссылаясь на то, что предпочитает обливание из кувшина в своих покоях. А ведь прежде она с такой жадностью стремилась изведать все новое! В чем же причина такой перемены?
Однако на кузину, как и ранее, можно было положиться. И пока Иоанна находилась в бане, именно Джоанна занималась подготовкой предстоящего приема. А теперь явилась, чтобы отчитаться перед сестрой короля, пока ту растирали и расчесывали ее волосы. В их окружении считалось, что вдовствующая королева Сицилии и ее кузина по-родственному похожи — обе довольно рослые, худощавые, темноволосые и сероглазые, у обеих яркие крупные губы, однако Иоанна была вынуждена признать, что таких замечательных кос, как у Джоанны, ей не доводилось видеть ни у кого. И пусть сейчас та была одета в простое бледно-серое блио без всяких украшений и вышивок, сами эти косы служили лучшим украшением ее наряда.
Джоанна стояла перед королевой выпрямившись, ее руки были опущены, а длинные рукава, словно острые крылья, ниспадали почти до пола, скрывая кисти рук. Но вот она сделала непроизвольное движение, чтобы поправить выбившуюся прядь волос, и Иоанна, удивленная, спросила:
— Ты и сейчас в перчатках?
В самом деле, странно: в последнее время кузина почти не появлялась на людях с открытыми руками. В такую-то адскую жару! Что это? Причуда? Или попытка ввести новую моду?
Джоанна поспешно спрятала кисти рук в рукава и стесненно улыбнулась.
— А, вы об этом… Лиловые перчатки хорошо сочетаются с серым шелком. Вы не находите?
И тут же заговорила о другом: Изабелла Иерусалимская уже явилась и ожидает прибытия гостей.
— Она снова накрасила ладони хной и надела эту свою ужасную серьгу с жемчужиной? — со смешком поинтересовалась Иоанна.
Джоанна отвечала без тени улыбки: насколько она заметила, маркиза Монферратская велела проколоть себе нижнюю губу и вдела в нее колечко, украшенное крохотным алмазом.
— Это, должно быть, выглядит чудовищно! — охнула сестра Ричарда. — Ну а ты что наденешь, кузина?..
Оказывается, та и не думала наряжаться. Когда дамы, облаченные в шелка и вуали всех мыслимых цветов, в диадемах и драгоценностях, явились в покой для приемов, Джоанна скромно отступила, предоставив им оценить ее усилия по подготовке к торжеству.
Принимать гостей было решено в небольшом зале, выходившем на высокую террасу с изящным портиком, затененную деревянными решетками. Вдоль стен, сверкающих голубой с золотом смальтой, стояли низкие, покрытые коврами диваны с шелковыми валиками и подушками. На мраморном полу возлежала громадная львиная шкура с оскаленной пастью и глазами из хризолитов, а прочая мебель — легкие инкрустированные столики и кресла — согласно восточной традиции также были приземистыми. Впрочем, для тех, кому Восток был не по душе, имелось несколько самых обычных кресел с резными подлокотниками. Очарование покою придавали легкие шуршащие занавеси, расставленные вдоль стен высокие чеканные вазы, полные свежих цветов, и кадки с лимонными деревцами и раскидистыми пальмами, превратившие зал в изысканный сад. В воздухе витал аромат благовоний, которыми были наполнены ажурные курильницы, в просторных клетках, подвешенных в углах помещения, щебетали птицы. Словом — сущий рай в восточном вкусе, в котором роль гурий предстояло играть прекрасным королевам-христианкам.
Одна из них уже с удобством расположилась на груде подушек и поедала засахаренные фрукты. Изабелла Иерусалимская чувствовала себя здесь как дома и даже не сочла необходимым приветствовать появившихся в зале дам. На ее нижней губе и в самом деле остро поблескивал алмаз, а перо, украшавшее великолепный тюрбан, было настолько длинным, что маленькая мартышка, которую привела с собой на поводке королева Беренгария, то и дело пыталась дотянуться до его свисающего кончика.
Эту обезьянку подарил супруге Ричард, чтобы зверек забавлял Беренгарию в часы досуга. Однако мартышка чаще приводила королеву в отчаяние, чем тешила. Вот и теперь она каким-то образом исхитрилась освободиться от ошейника и, схватив первое, что попалось в лапы, — позолоченный карманный молитвенник Беренгарии, — вскарабкалась на капитель одной из колонн террасы и принялась грызть отделанный перламутром угол переплета.
— Ну до чего же нечестивое животное… да простит меня Господь!.. — едва не плакала королева, пока ее дамы безуспешно пытались согнать обезьянку с капители и отнять у нее драгоценный молитвенник.
Принцесса Иерусалимская искренне веселилась, наблюдая за их усилиями, но когда Беренгария велела послать за лучником, пока мартышка не погубила молитвенник окончательно, решила вмешаться. Прихватив со стола спелый персик, она стала дразнить им зверька, а потом внезапно спрятала руку за спину. Этого оказалось достаточно — обезьянка тут же забыла про молитвенник королевы и бросилась отнимать сочный плод.
Присутствующих это развеселило, лишь Беренгария, поджав губы, удалилась за колонны, чтобы привести в порядок книгу. Там она обнаружила сидевшую в одиночестве Джоанну де Ринель. Будучи добросердечной от природы, королева принялась было утешать ее, ибо при дворе считалось, что перемена в поведении Джоанны вызвана ее беспокойством о супруге, отсутствие которого становилось все более странным. Но от ласковых слов королевы Джоанна еще больше замкнулась, а когда Беренгария сердечно обняла и привлекла к себе молодую женщину, так внезапно отстранилась, что это могло быть сочтено грубостью.
Следившая за обеими Иоанна поспешила вмешаться.
— Подойди сюда, милая! — окликнула она Джоанну и увлекла ее на ту сторону террасы, откуда открывался вид на внутренний двор замка. Там в это время конюхи вываживали на корде двух великолепных скакунов. Могла ли такая ценительница лошадей, как хозяйка поместья Незерби, остаться равнодушной к подобной красоте!
— Этих скакунов преподнес Ричарду султан Саладин, — с улыбкой пояснила Иоанна. — Ты знаешь, что наши короли и султан обмениваются дорогими дарами, как и подобает благородным владыкам во время перемирия. Ричард уже отправил Саладину отменных охотничьих собак и соколов, а тот в ответ прислал ему невиданно красивые чаши из яшмы и нефрита, а в придачу — этих дивных коней. Ты только погляди на них, кузина! Вон тот, высокий и пятнистый, как барс, привезен из Берберии. Эти лошади не так сильны, чтобы нести рыцаря в боевом доспехе, но на диво хороши для верховых прогулок и охоты. А вон та кобылка из Сирии… Просто чудо! Серебристо-бежевая масть, с белоснежной гривой и голубыми глазами… Видывала ли ты когда-нибудь голубоглазых лошадей, милая? Что скажешь?
Иоанна ждала восклицаний восторга, но серые, как туман, глаза кузины остались пустыми и равнодушными. Впрочем, Джоанна обронила несколько слов — как бы из необходимости поддерживать беседу: у кобылы явные признаки арабской породы — изящная голова с широким лбом, сильно сужающаяся к широким и подвижным ноздрям, маленькие уши, красивый изгиб шеи, приподнятый круп и высоко посаженный хвост. Эту лошадь холили и берегли, поэтому ее атласная кожа сохранила чудесный серебристый отлив…
Иоанна почувствовала разочарование. Кузина говорила, как барышник на конской ярмарке где-нибудь в Норфолке.
— Эта бежевая лошадка — моя, — прервала она Джоанну. — Правда, поначалу считалось, что она достанется Беренгарии, но посол, передавший лошадей, пояснил, что Саладину известно — королева не слишком опытна в верховой езде, поэтому лошадь предназначена в дар сестре Мелика Рика, то есть мне. Любопытно, каким образом султан узнал, что Беренгария робкая наездница, а я, наоборот, страстно люблю быструю езду?
— Это всем известно, Пиона, — вполголоса отозвалась Джоанна. — Вся Акра видит, как часто ты выезжаешь верхом, а Беренгарию до сих пор никто не замечал в седле.
— И тебя, кстати, также, — заметила Иоанна. — Ты совершенно отказалась от прогулок верхом, кузина. Что случилось с самой отважной наездницей Англии? Что вообще с тобой происходит? Это… Это из-за Обри?
Джоанна молчала, наблюдая, как легко гарцует бежевая арабка, потряхивая гривой. До чего же благородное создание! Сколько всего прекрасного вокруг! И ясное южное солнце, и высокие стены с ажурными архивольтами, обрамляющими арки окон, и финиковые пальмы, широко раскинувшие перистые листья, и эти крикливые чайки, носящиеся над городом… Но ничто уже не в силах вернуть ей радость. Ее ждет смерть — медленная, мучительная, позорная. Такова расплата за краткий миг любви. Небо покарало ее запретную страсть…
Джоанна проглотила сухой комок, застрявший в горле.
— Со мной все хорошо, ваше величество. Просто жарко. И я немного утомилась, готовя прием. Может быть, вы позволите мне удалиться?
Но уходить было поздно — позади уже слышались громкие мужские голоса, и дамы поспешили приветствовать возвращавшихся с совета королей и вельмож.
Мужчин было около дюжины — короли Ричард, Филипп и Гвидо, епископы Бове, Солсбери и Пизы, маркиз Монферратский и другие. Конрад тут же расположился на подушках подле супруги и склонился, ласково целуя ее руки. А молодой и пригожий Генрих Шампанский, проходя мимо, лукаво подмигнул Изабелле, и та не удержалась, чтобы не вернуть графу игривый взгляд.
Прелаты и вельможи рассаживались кто в европейских креслах с высокими спинками, кто на низкой софе или среди диванных подушек. Гвидо и его брат Амори чувствовали себя совершенно непринужденно в восточной обстановке, зато герцог бургундский Гуго лишь с сожалением крякнул, когда епископ Бове успел занять единственное остававшееся свободным кресло под пальмой. Герцог мрачно отказался от предложенного пажом прохладительного и, побродив среди столиков с яствами, опустился на софу, прикидывая, как распорядиться собственными ногами, чтобы это не выглядело нелепо. Неподалеку он заметил укрывшуюся за пальмой красавицу Джоанну де Ринель. Та бросила на него всего один взгляд и отвернулась, но герцогу почудилось, что он с его ростом и богатырской комплекцией выглядит в глазах прелестной дамы смешным на своем кургузом седалище. Он даже позавидовал Леопольду Австрийскому, который без всяких церемоний развалился на львиной шкуре, придвинул поближе блюдо с холодной бараниной и принялся поглощать ее, вытирая жирные руки о гриву распростертого под ним царя зверей.
Присутствовавшие здесь же магистры орденов умудрялись сохранять достоинство, даже восседая среди шелковых подушек, и лишь маршал храмовников Уильям де Шампер остался стоять на террасе, облокотившись на балюстраду. Любимец Ричарда менестрель Блондель уже сидел у ног своего господина, наигрывая на лютне легкую плавную мелодию.
Ричард Львиное Сердце старался казаться веселым и приветливым. Он нежно поцеловал руку королевы, раскланялся с дамами и пригласил гостей отведать угощение. При этом он благодушно посмеивался и шутил. Тем не менее было очевидно, что хворь еще не вполне покинула его: король осунулся, под его глазами лежали свинцовые тени, движениям не хватало легкости. Вдохновение, всегда окрылявшее его в минуты опасности, ушло, а сейчас, пока длились изнурительные переговоры с султаном, с каждым днем у короля становилось все больше забот.
Несмотря на то что в Акре находилось несколько вельмож, считавших себя предводителями крестоносцев, именно Ричарду довелось решать самые насущные задачи — как разместить в городе и за его стенами столь многочисленное войско, как содержать и охранять две с половиной тысячи пленных сарацин, выкуп за которых должен был основательно пополнить казну королей. Сверх того ему приходилось договариваться о поставках продовольствия с Кипра и за все платить из собственного кармана, ибо король Филипп заявил, что его походная казна совершенно пуста.
Не менее важно было занять людей делом. Ибо при такой массе вооруженных людей, не знающих, куда приложить свои силы, неминуемо должны были начаться бесчинства — ссоры между самими крестоносцами и стычки с местным населением. По приказу Ричарда рядовых воинов направили на восстановление разрушенных укреплений Акры — и эту работу опять же оплачивал он. Желающих получать жалованье нашлось немало, в городе мало-помалу оживали разрушенные кварталы, а стены и башни крепости росли заново, как на дрожжах. В гавань начали заходить купеческие корабли, зашумели городские рынки.
Но вся эта видимость порядка и благополучия держалась одним — железной волей короля Ричарда. И если в походе воинов кормит война, то теперь армия была вынуждена бездействовать до тех пор, пока не наступит срок передачи выкупа за пленных — начало августа. Достаточно времени, чтобы отдохнуть от битв, привести в порядок оружие и доспехи, подлечить раненых и больных.
А между тем внутренних проблем у крестоносного воинства было не меньше, чем внешних. Ричарду приходилось отстаивать права короля Гвидо на трон, подтверждать права подозрительного Конрада на наследование короны Иерусалима, препятствовать едва не состоявшемуся поединку Конрада с коннетаблем Амори де Лузиньяном, который подозревал маркиза в сговоре с сарацинами, ибо тот подозрительно быстро столковался с эмирами о сдаче города. Ему даже пришлось принести извинения Леопольду Австрийскому, пригрозившему, что после публичного унижения, которому его подверг Ричард, он покинет Акру вместе со всеми своими людьми. Не так уж их много было у Леопольда, но этот поступок мог послужить примером для других.
И вот теперь, когда король Англии, поправ свою гордость, сумел заставить австрийского герцога остаться в Палестине, Филипп Французский внезапно объявляет, что состояние здоровья больше не позволяет ему находиться в Святой земле!
Ричард надеялся, что это всего лишь уловка. Просто Филиппу нужна очередная денежная подачка. Поэтому он сдержался, не вспылил и не стал напоминать союзнику об их клятве отвоевать Иерусалим. Клятве, свидетелями которой был весь христианский мир. Но король Франции не из тех, на кого можно давить, следовательно, придется быть любезным и предупредительным.
— Будьте добры к нашим дорогим гостям, любезные дамы! — с улыбкой заговорил Ричард. — И пусть ваша красота развеет грусть славного короля Филиппа — правителя и полководца, который знает, что для истинного рыцаря нет чести выше, чем проявить доблесть, когда на него взирают столь прекрасные очи.
Королева Беренгария, Иоанна Плантагенет, Изабелла Иерусалимская и Дева Кипра окружили Капетинга, осыпая его любезностями. Перед монархом словно сам собой возник столик, уставленный яствами — долмадес с бараниной в виноградных листьях, слоеные пирожки с рубленой курятиной, приправленной перцем, сахаром и корицей, на блюде под хрустальным колпаком покоился круг белого сыра с душистыми травами. Филипп — истинный француз, не мысливший трапезы без сыра, — собственноручно отрезал изрядный ломоть и принялся жевать, запивая его легким светлым вином из высокого бокала. Он улыбался, слушая дамский щебет, а его собеседницы изо всех сил делали вид, что их нисколько не удивляют перемены, которые произвела болезнь в облике французского монарха.
Король Филипп исхудал, кожа его лица бугрилась от недавно сошедших гнойников и болячек, он начисто лишился бровей, а волосы, некогда столь легкие и кудрявые, так поредели, что макушка оголилась почти полностью. Даже роскошный филигранный венец, усыпанный изумрудами и розовым жемчугом, не мог этого скрыть. Тем не менее король держался с дамами игриво и даже выпросил у Иоанны Сицилийской поцелуй.
Это было вполне в куртуазном духе, однако Пиона все же вопросительно взглянула на брата. Ричард едва заметно кивнул, продолжая улыбаться, и она позволила Филиппу обнять и поцеловать себя.
— Ах, милая Пиона! — вздохнул Капетинг, снова усаживаясь. — Когда-то я мечтал, что в один прекрасный день объявлю на весь свет о нашей любви. Но теперь мне остается лишь сокрушаться и сожалеть. Должно быть, только воздух милой родины исцелит меня от злой тоски.
— Жар доброй схватки тоже неплохое лекарство от этого недуга, не так ли, Филипп? — весело откликнулся английский король. — И когда наши знамена снова взовьются над башнями Священного Града… Кстати, милые дамы! Не поможете ли вы мне убедить этого упрямца присоединиться к обету, который я надеюсь получить от всех предводителей крестоносных воинств: они должны поклясться провести в Святой земле три года — именно столько необходимо для окончательной победы над врагами Христовой веры. И уж, по крайней мере, не возвращаться домой до тех пор, пока Иерусалим не будет отвоеван у Саладина!
Он произнес это так, чтобы его слышали даже в отдаленных уголках зала. Первым поддержал Ричарда герцог Бургундский. Вскочив со своей дьявольски неудобной софы, он воскликнул, что хоть сию минуту готов принести подобный обет. При этом он обратил выразительный взор к своему королю, но тот молчал и казался занятым исключительно смакованием долек абрикосов в сахарной пудре.
— Филипп, а что на это скажете вы? — не выдержав молчания союзника, обратился к королю Франции Ричард. В его голосе, наряду с вкрадчивыми интонациями, на сей раз послышался приглушенный львиный рык.
— Ах, любезный друг, — отправляя в рот очередную порцию лакомства, отозвался тот. — Болезнь обошлась со мной куда более жестоко, чем с вами. Поэтому я пока промолчу, чтобы не давать обетов, исполнению которых могут воспрепятствовать мои телесные и душевные недуги.
— Но ведь вы не оставите нас беззащитными среди сарацинских полчищ, ваше величество? — лукаво взглянула на него Иоанна.
— Можно ли считать себя беззащитной, когда вас оберегает ваш великий брат? — улыбнулся Филипп. При этом стало очевидным, что болезнь лишила его не только изрядной части волос, но и нескольких зубов.
Возникла неловкая пауза. Никто не решался впрямую обвинить короля Франции в измене святому делу, но никто не смел и настаивать, не зная, что в действительности у него на уме и как это может отразиться на дальнейшем развитии событий.
Ричард откинулся на спинку кресла, лицо его побагровело, могучие руки сжали подлокотники, однако ему удалось сдержаться.
— Спой нам, Блондель! — велел он менестрелю.
Тот ударил по струнам и затянул песню, которую распевали крестоносцы, прославляя отважного Ричарда Львиное Сердце, приведшего их к победе в Акре:
И славил Ричарда воинский стан! Все говорили: «Сей средь христиан Вождь наилучший! Он в час мирный и в бою Творит Господню волю — не свою!..»Филипп внимательно слушал, и лицо его постепенно менялось — словно он ел не сладкий абрикос, а подгнивший лимон.
Как же все они теперь восхищаются Ричардом! А ведь еще совсем недавно лагерь крестоносцев готов был взбунтоваться, когда Ричард велел вышвырнуть оттуда всех торговцев и шлюх и заставил строить осадные орудия и копать землю не только простых латников, но и опоясанных рыцарей. К Филиппу тогда потянулись возмущенные жалобщики, проклинающие наглое самоуправство Плантагенета. Впрочем, от его денег они не отказывались и брали их с охотой, а Ричард бдительно следил, чтобы нанятые им люди отрабатывали свое жалованье как с оружием в руках, так и с киркой. А потом дело пошло — в лагере установился порядок, возродился утраченный боевой дух, а с ним и вера в святость их дела. Воины Христа теперь чаще молились, чем жаловались на отсутствие шлюх и торговцев вином и опиумом. Когда же Акра пала, эту победу приписали упорству и решимости Ричарда. Словно не Филипп вел своих воинов на штурм, и не его Праща Господня разрушила Проклятую башню!
Бесспорно, крестовый поход был их общим делом. Но хоть Ричард и считался вассалом короля Франции, именно его, Плантагенета, молва признала главой крестоносного воинства. Оттого и слагались хвалебные песни, подобные той, которую сейчас распевает Блондель…
Ричард сверкал улыбкой, когда задорный мотив заставлял всех присутствующих в зале подпевать менестрелю. Когда же Блондель закончил и отложил лютню, герцог Бургундский, без оглядки на своего сюзерена, разразился бурными рукоплесканиями.
Король Англии склонился к Филиппу:
— Ну что, кузен, готовы ли вы выступить со мной против Саладина, чтобы трубадуры воспевали и ваше имя? Я буду счастлив разделить с вами воинскую славу!
— Видит Бог, меня утомляют эти воинственные солдатские напевы. Я бы предпочел услышать что-нибудь более нежное, мелодичное и возвышенное. Кажется, я вижу там прелестную певунью мадам Джоанну де Ринель? — Он прищурился, разглядывая молчаливую темноволосую даму, полускрытую перистыми листьями пальмы.
Ричард подал знак Джоанне приблизиться.
— Подойдите к нам, милая кузина, — проговорил он. — Филипп прав: мы слишком долго были лишены счастья слышать ваш дивный голос. Порадуйте же нас!
Джоанна сделала несколько шагов и остановилась перед королями, храня молчание. Блондель протянул было ей лютню, но, убедившись, что дама не намерена принять из его рук инструмент, смешался.
Однако короля Филиппа появление Джоанны привело в отличное расположение духа.
— Редкое счастье: видеть вместе стольких красавиц, среди которых просто невозможно выбрать прекраснейшую. И все же сегодня я хотел бы быть рыцарем Джоанны де Ринель. Говорят, ваш муж покинул вас, мадам? Но стоит ли о нем сожалеть, ведь поступить так мог только безумец! Зато у вас теперь есть я!
Неожиданно притянув Джоанну к себе, Филипп усадил ее к себе на колени. Пиона занервничала и попыталась поймать взгляд Ричарда. Но тот хмурился и молчал. И таким же взглядом следил за Филиппом и Джоанной маршал тамплиеров Уильям де Шампер.
— Согласны ли вы подарить мне всего один поцелуй, прекрасная дама? — король Франции улыбался, все крепче сжимая молодую женщину в объятиях.
— Не стоило бы вам меня целовать, ваше величество. Вряд ли это будет полезно для вашего здоровья и вашей красоты.
Упоминание об изменениях, которые претерпела его внешность, задело Филиппа.
— Несговорчива, как и все Плантагенеты… — процедил он сквозь зубы. — Помнится, когда-то вы были куда более благосклонны ко мне!
— Ошибаетесь, государь. А теперь вам и подавно следовало бы держаться подальше от меня. Некоторые болезни бывают заразными.
Филипп побледнел, его улыбка застыла. Он больше не удерживал молодую женщину, и та поднялась с его колен и поспешно покинула зал. Ричард удрученно молчал, да и все прочие испытывали смущение.
Лишь Блондель попытался разрядить тягостное безмолвие шуткой:
— Знаете ли, какую забавную историю рассказывают в Акре? Бредет по пустыне паломник, а навстречу ему огромный лев. Паломник взмолился: «Господи, внуши этому льву истинно христианские мысли!» И Всевышний услышал его, ибо лев тут же пал на колени и прорычал: «Господи, благослови пищу мою!»
Послышались осторожные смешки, но от прежней непринужденности не осталось и следа. Наконец Филипп поднялся, объявив, что утомился и неважно себя чувствует, и все присутствовавшие начали раскланиваться.
Несколько погодя Ричард Львиное Сердце отвел в сторону Уильяма де Шампера и попросил побеседовать с сестрой. Она поразительно изменилась, и временами ее дерзость превосходит всякие границы, на нее многие жалуются.
— Если речь идет о резком ответе леди Джоанны королю Франции, то я хотел бы знать, сир: не желаете ли вы, чтобы моя сестра поощряла его ухаживания? — мрачно обронил Уильям.
Ричард исподлобья взглянул на тамплиера.
— Думаю, только служба в ордене мешает вам понять, что следование куртуазным обычаям — признак хорошего воспитания дамы. Что касается Джоанны, то она и в самом деле была любовницей короля Филиппа. Тогда, во Франции, мне удалось замять это дело, и ее честь осталась незапятнанной. Не позволил бы я оскорбить свою родственницу и сейчас. Но ее дерзость и грубые речи способны вконец разозлить Капетинга, и если он покинет Палестину и уведет за собой французское воинство… Право, капризы одной дамы не стоят того, чтобы поставить на грань провала весь план кампании по отвоеванию Гроба Господня!
Прямодушному и суровому в вопросах чести маршалу нелегко было согласиться с этими словами короля.
Однако с сестрой и впрямь давно следовало поговорить начистоту, ибо ему уже не единожды сообщали о ее странном поведении. Неужели она каким-то образом узнала о том, что доносили ему из Антиохии о ее супруге Обри де Ринеле? Со своей стороны Уильям сделал все, чтобы эта история, порочащая мужа его сестры, не получила огласки, но что же в действительности происходит с Джоанной?
Первым делом маршал приказал своим людям проследить за ней. То, что ему доложили, озадачивало: слуги леди Джоанны жаловались, что после болезни на Кипре хозяйка стала замкнутой и сторонится их, предпочитая обходиться без всякой помощи. Когда же камеристка Годит попыталась вызвать свою госпожу на доверительную беседу, та вспылила и едва не прогнала верную наперсницу. Слуги слугами, но то, что сестра ни разу за все это время не исповедовалась, весьма озадачивало. Ибо, по донесениям людей маршала, дама Джоанна много времени проводит за молитвой. Она посещает все храмы, заново освященные после того, как оттуда изгнаны неверные, но отдает предпочтение монастырю Святого Лазаря, жертвуя внушительные суммы на нужды братьев-лазаритов.
Это показалось маршалу вдвойне странным. Выяснив, что сестра и ныне находится там, он решил, что настало время для откровенного разговора.
Джоанну он обнаружил в одной из боковых часовен церкви Святого Лазаря. Некоторое время Уильям наблюдал за сестрой из-за колонны, не решаясь прервать ее молитвенный экстаз, и его поразила та неистовая сила, с которой она взывала к Богу. Быстрых негромких слов ее молитвы он не мог расслышать, да и не стремился — грешно вмешиваться в молитву. Но когда Джоанна уронила голову на ступень алтаря и несколько раз с силой ударилась о холодные камни, он понял, что молодая женщина на грани умоисступления, и бросился вперед, чтобы остановить ее.
— Не прикасайтесь ко мне! — яростно выкрикнула она, вырываясь, и лишь через какое-то время узнала брата. — Что тебе нужно, Уильям? Оставь меня!..
Ее лицо было искажено, волосы растрепались, губы искусаны до крови. Но де Шампер не отпускал ее до тех пор, пока сопротивление сестры не ослабело, и она беззвучно разрыдалась, повиснув у него в руках.
Уильям внезапно ощутил нежность, доходящую до боли, но голос его прозвучал сурово:
— Сейчас ты пойдешь со мной, Джоанна. Так надо! Повинуйся мне…
При выходе из-под сводов церкви на них обрушилась слепящая жара. Даже полотняные навесы над первыми этажами домов не давали прохлады, а плиты мостовой были так горячи, что обжигали ноги сквозь подошвы сапог. Однако Джоанна, следуя за братом, куталась в длинное покрывало, словно в ознобе.
Жара немного отступила, когда они оказались в квартале госпитальеров. Каменные крестовые своды, высоко вознесенные на толстых колоннах, не пропускали сюда раскаленных лучей дневного светила. Где-то журчала вода, повсюду гуляли сквозняки, а за арками, занавешенными тканью, располагались раненые и выздоравливающие крестоносцы.
Братья-госпитальеры — люди исцеления и войны. То тут, то там в полумраке под тяжелыми сводами виднелись группы рыцарей и сержантов — тех, кому за пределами этих стен и галерей предстояло не только помогать и лечить, но и проливать кровь — свою и чужую. Сновали орденские братья-монахи, все в черном, с белыми крестами на груди, разнося целебные снадобья, попадались и женщины-госпитальерки — молчаливые, прячущие лица под покрывалами, подобными монашеским. Из одной галереи доносились страдальческие стоны, в других слышалось ржание коней и лязг железа, бродили торговцы-разносчики со своими лотками.
За пределами квартала госпитальеров обоих вновь окутала жара — но ненадолго. Новые своды — и темные накидки сменились белыми плащами с алыми как кровь крестами.
Джоанна, до сих пор казавшаяся ко всему безучастной, замедлила шаг.
— Мне дальше нельзя, — глухо проговорила она, окидывая взглядом рыцарей-тамплиеров, всем своим видом выражавших неодобрение при виде проникшей в их владения женщины.
— Со мной можно, — сухо уронил маршал, не оборачиваясь, и она последовала за ним, покорная и подавленная.
Де Шампер произнес несколько слов, и суровые длиннобородые воины в белых плащах расступились. Лес колонн, несущих на себе серые каменные своды, уводил их все дальше, пока они не миновали перекинутый через ров мост к Темплу. Рыцари, охранявшие вход, также не стали задерживать маршала и его спутницу. Тем более что в орденском замке сейчас обитали не только тамплиеры: там и сям попадались воины с австрийским орлом на туниках, пробегали латники с гербом маркиза Монферратского, оживленно сновали бургундцы, но больше всего здесь было рыцарей в голубых накидках с французскими королевскими лилиями.
Джоанна снова замедлила шаг. В Темпле находится резиденция короля Франции и его свиты. Неужели брат ведет ее к Филиппу, чтобы она принесла извинения? Или… нет, она не могла думать об Уильяме скверно — его недаром прозвали «честью ордена», он не способен на низость. Но ведь и он заинтересован в том, чтобы убедить Филиппа остаться в Святой земле. Слишком высоки ставки. Да и кто она для него? Недаром Уильям при всяком удобном случае подчеркивает, что он орденский брат, а не брат какой-то там Джоанны де Ринель.
Однако она не стала задавать вопросов. Зачем? Слишком мало осталось в этой жизни вещей, которые могли бы волновать ее по-настоящему. После того, что она поняла в порту Лимассола, ее мир изменился. Прежний, приветливый и понятный, исчез, и все вокруг стало иным. Теперь Джоанне требовалось только одно — найти в себе силу и смирение, чтобы принять уготованную ей страшную участь: заживо разлагаться от проказы.
Уильям де Шампер миновал ряд внушительных переходов, а затем поднялся по винтовой лестнице, проходившей в толще стены. Они оказались в небольшом укромном помещении. Единственное окно было забрано ставнем, свет проникал только в небольшое ромбовидное отверстие.
Этого было достаточно, чтобы Джоанна могла осмотреться. Здесь стоял запах сухой пыли, ладана, дубленой кожи и металла. В стойке, находившейся у камина, виднелось несколько мечей, на стене висел щит тамплиера — белый с алым крестом, в небольшом алькове располагалось простое ложе под серым покрывалом. Широкий стол у окна был завален свитками и рукописями, центральное место на нем занимал внушительный фолиант, страницы которого перемежались множеством закладок. Должно быть, это личный покой маршала ордена, догадалась Джоанна, удивляясь, что брат решился остаться с нею наедине прямо в орденской резиденции.
Уильям придвинул сестре кресло, а сам опустился на табурет с сиденьем из широких ремней.
— Полагаю, пришла пора поговорить по-родственному. Открой мне ту скорбь, что гнетет твою душу.
Джоанна молчала, отчужденно глядя на маршала.
У нее были серые глаза, как у всех Плантагенетов. Но к этому серому цвету примешивался иной — туманный, бледно-лиловый, словно скрывающий тайну. Красивые губы были крепко стиснуты, молодая женщина казалась спокойной и решительной. Лишь рука, стискивавшая переброшенные на грудь косы, выдавала тайное волнение. Рука была в перчатке, и это показалось ему странным. Перчатки в такой зной?
Поскольку сестра продолжала молчать, Уильям заговорил первым:
— Я отдал приказ выяснить все о твоем муже.
— Что с Обри?
Голос прозвучал спокойно, без тревоги и особого интереса. Значит, она ничего не знает или ловко скрывает все, что ей известно о супруге. Это смутило и одновременно разгневало Уильяма.
— Обри де Ринель находится в Антиохии. Ему ничто не угрожает. Я намерен доставить его сюда. Ты рада?
Она пожала плечами. Нет, сколько бы ни болтали, что Джоанна тоскует в разлуке с супругом, причина в другом. Уильям мало знал женщин, но вряд ли любящая жена осталась бы столь равнодушной.
Маршал собрался с духом и спросил, стараясь, чтобы его голос звучал как можно мягче:
— Что же с тобой происходит, сестрица?
— Это касается только меня… любезный братец.
Слово «братец» она произнесла с нажимом, подчеркнув его голосом, и в этом слышалась некая насмешка или упрек. Пожалуй, не стоит рассчитывать на то, что родство вынудит Джоанну довериться ему. Но ведь он и в самом деле испытывал боль и тревогу за нее, даже более глубокую, чем ожидал. Но так и должно быть: они одной плоти и крови.
Но когда он сказал об этом вслух, она вновь стала безразличной. Ее затуманенный взгляд был устремлен в сторону — Джоанна не отрываясь смотрела на распятие, висевшее на стене. Когда же Уильям попытался заговорить о том, что она оскорбила французского короля, сестра вдруг сухо рассмеялась.
— Поверь, я сделала это во благо ему! Когда-нибудь Филипп даже поблагодарит меня за то, что я была столь осторожна.
Уильям изумленно вскинул брови.
— Ты хочешь сказать, что… что ты могла его заразить? — догадался он. — Что же это за хворь?
— Это касается только меня! — снова резко парировала Джоанна.
Никакого доверительного разговора не получалось, хотя Уильям понимал: если он не добьется от нее откровенности, Джоанна останется в одиночестве со своей бедой. В том, что она в беде, он уже не сомневался.
Его участливость только раздражила Джоанну. Они родня, но при этом совершенно чужие люди. Открыться? Доверить брату свою тайну, свое горе и позор? Нет, она предпочитала замкнуться в броне отчуждения, как поступала все это время. То, что она испытала, поняв, кого любила и чем теперь ей это грозит, Джоанна скрыла глубоко в тайниках души. И от того, что ее не оставляли в покое, не разрешали уехать, расспрашивали и выпытывали, становилось только хуже.
Так поступали все — и ее верные слуги, и Пиона, и даже король Ричард. А теперь и братца, вечно холодного и невозмутимого, одолело любопытство. Свое несчастье Джоанна прятала под маской спокойствия, однако страх не покидал ее и рос с каждым часом. Ее дни проходили в мучительной тревоге, ночь не приносила покоя, молитва не давала облегчения. Она была обречена и уже начинала свыкаться с этим. Просыпаясь утром, она не чувствовала внутри ничего, кроме пустоты и леденящего холода. Эта пустота образовалась там, где прежде жило и трепетало ее сердце. И с этим она смирилась. Главное, чтобы ее оставили в покое до тех пор, пока не придется открыться — и шагнуть в бездну…
Молчание затягивалось. Внезапно Уильям проговорил:
— Я хочу рассказать тебе, почему принял решение уйти из семьи и стать тамплиером.
Лицо Джоанны осталось спокойным, как тихая вода, но в глазах мелькнуло легкое недоумение. В семействе де Шампер случались разговоры о странном поступке Уильяма. Почетно быть членом прославленного ордена, с этим никто не стал бы спорить, но ведь не для старшего же сына в роду! Уильяму с момента его появления на свет было суждено возглавить род, унаследовать титул барона Гронвуда и Малмсбери, стать лордом бескрайних поместий! Однако он выбрал участь рыцаря-монаха. И хотя на этой стезе он добился многого и в семье о нем говорили с гордостью, однако его имя всегда окружал ореол тайны. Порой Джоанна замечала, как при имени старшего брата некая горестная тень ложилась на лица ее родителей.
Уильям поднялся, подошел к столу и начал перебирать свитки. Делал он это машинально, явно пытаясь скрыть свои чувства.
— Помнишь ли, Джоанна, однажды на Кипре ты сказала, что я похож на отца? В ту минуту я пережил такую боль и такое бездонное отчаяние, каких не испытывал ни разу в жизни. Ибо мне стало ясно, что я совершил роковую ошибку. Я понял, что я и в самом деле — сын Артура де Шампера!
Уильям почти прокричал эти слова и внезапно отбросил свиток, который сжимал в руке. Когда он снова повернулся к сестре, все еще тяжело дыша, то обнаружил, что отрешенность покинула ее. Джоанна выглядела ошеломленной.
— Но мы всегда знали, что ты наш брат! — растерянно проговорила она.
— Что ж, похоже, что я правильно поступил, покинув Англию. Пересуды улеглись, честь рода де Шамперов осталась незапятнанной. Слава Всевышнему! Ибо что мы такое в этом мире без чести? Жалкий прах…
Его лицо разгладилось, и слова полились потоком. Уильям поведал сестре, каким безмятежным и счастливым было его детство. Он рос веселым и беспечным, как многие дети, уверенные в том, что они любимы. Но уже тогда ему случалось ловить на себе странные взгляды и краем уха слышать перешептывания челяди. Дети ведь очень чутки, они все видят и слышат, в том числе и то, что не предназначено для их ушей и глаз.
— Когда родились близнецы Элеонора и Эдгита, я был рад, что у меня появились сестры. Но наследником и продолжателем рода по-прежнему считался я. Затем на свет появился Гай… — маршал слегка понизил голос. — О, я помню, какое было веселье по случаю его рождения, как все вокруг поздравляли отца, подчеркивая со значением, что младенец — вылитый он. Сэр Артур также не скрывал своей радости, а мне не единожды довелось услышать, как люди говорили, что у барона наконец-то появился законный наследник. Но как же я? Обо мне все словно забыли, и я не понимал, что это значит. Я спросил матушку, она сперва растерялась, а потом страшно разгневалась. Никогда прежде мне не приходилось видеть ее такой суровой к челяди. Мне же она мягко пояснила, что люди болтают невесть какую чепуху, так как Гай действительно похож на своего отца, а я пошел в дядю, короля Генриха, и, таким образом, унаследовал черты Плантагенетов, а не де Шамперов…
Уильям умолк, и Джоанна вдруг припомнила, что и сама не раз слышала, что старший брат пошел в царственную родню их отца. Но в этом не было ничего предосудительного, она даже гордилась этим.
Внимательно взглянув на брата, она убедилась, что это и в самом деле так. Многое в его лице напоминало о короле Генрихе — та же рыжина в каштановых волосах, тот же серый, как шотландский гранит, оттенок глаз, упрямая сила в линиях подбородка и скул. Да, в нем явно текла кровь Плантагенетов, и то, как отличал маршала де Шампера Ричард Львиное Сердце, свидетельствовало, что он признает эту родственную связь. Но что, если…
— Святые угодники! — невольно всплеснула руками Джоанна. — Уильям, не хочешь ли ты сказать, что старый король Гарри имел связь с нашей матерью? Но ведь отец и король были так дружны!..
И вдруг по-солдатски выругалась:
— Ко всем чертям! Ты похож на нашего отца! Ты истинный де Шампер! И больше я ничего не желаю знать!
— Придется, — усмехнулся Уильям. Горячность сестры, так неожиданно прорвавшаяся сквозь скорлупу отчужденности, порадовала его. И теперь он не просто пытался вызвать ее своей откровенностью на откровенность — он хотел поделиться своей тайной с близким человеком.
Он продолжал негромко, порой с трудом подбирая слова, а Джоанна слушала в смятении: гордец, чья душа была замкнута для всех, открывал перед ней ее скрытые глубины. Наделенная богатым воображением, она словно видела, как ее старший брат, маленький всеобщий любимец, неожиданно начинает сознавать, что ему предпочитают другого. О нет, лорд Артур и леди Милдрэд были по-прежнему нежны и внимательны к своему Уильяму, но их чрезмерная радость по поводу появления «истинного наследника» сказала ему много, слишком много.
То, что его считают бастардом, Уильям окончательно понял, когда его, как и полагалось отпрыскам благородных семейств, еще подростком отправили в услужение к графу Уильяму д'Обиньи. Там никто с ним не церемонился: от него не скрыли, что лишь великодушие лорда Артура, стремящегося оградить честь жены, вынуждает его признавать права Уильяма, столь не похожего на него самого, в обход своего сына Гая.
Там же, в замке д'Обиньи, ему поведали следующую историю. В годы смуты, когда за престол боролись Стефан Блуаский и Матильда Анжуйская, Артур де Шампер и Милдрэд Гронвудская были помолвлены, но их брак не состоялся, ибо леди Милдрэд похитил сын короля Стефана принц Юстас. Впоследствии сэр Артур освободил невесту и обвенчался с ней. Но у нее уже был ребенок от Юстаса, которого Артур признал своим сыном, сославшись на то, что мальчик был зачат еще до похищения леди Милдрэд.
Уильям по возвращении домой сообщил родителям об услышанном, но те в один голос просили его не обращать внимания на злые наветы, а верить им, его родителям. И как же он хотел им верить! Но вместе с тем не мог не видеть, что общим любимцем теперь стал так похожий на отца Гай. Затем родился младший из братьев — Генри. И опять в семье де Шамперов была великая радость. Уильям терялся в догадках, он начал избегать родителей, считал, что они лгут ему из жалости, тогда как на самом деле он незаконнорожденный ублюдок, позор своей матери.
Это было тем более горько, что и другие вскоре подметили его сомнения и неуверенность, а пажи, с которыми Уильям служил у д'Обиньи, звали его бастардом прямо в глаза. Он жестоко дрался с этими мальчишками за свое доброе имя, но ему все равно не верили и насмехались еще злее. В итоге он стал дичиться, огрубел и стал резок даже с отцом, которого считал лжецом, пусть даже из милосердия. Их отношения окончательно испортились, Артур де Шампер начал избегать Уильяма, а его нежная привязанность к малышам Гаю и Генри была заметна всем и каждому. Мать, несмотря на все усилия, так и не смогла примирить разгневанного мужа и дерзкого сына, а он с ужасом осознал, что даже его родители — обладающие огромной властью, обласканные королем, боятся позора, который он навлек на весь их род своим появлением на свет.
Вот тогда-то он и объявил, что намерен стать тамплиером. Это был выход, который всех устраивал. Заполучить одного из де Шамперов в свои ряды для ордена было почетно и желательно, семье это также делало честь, ибо в те времена немало отпрысков знатных семейств желали облачиться в белый плащ с алым крестом и сражаться за святое дело. Но эти отпрыски не были старшими сыновьями!
Лорд Артур, спохватившись, попытался наладить отношения с сыном. Из этого ничего не вышло — они разругались в пух и прах, отец уехал, и больше они не виделись до того часа, когда Артур де Шампер явился на пристань, чтобы проститься с сыном перед его отплытием в Палестину. Впрочем, прощание вышло весьма сдержанным. Единственный человек, о котором Уильям сожалел и на первых порах тосковал, была его мать. С сэром Артуром было проще — он больше не считал его отцом. Два гордеца холодно взглянули друг на друга, обменялись поклонами, и на этом все кончилось. Впоследствии только леди Милдрэд время от времени писала сыну.
— Я не жалею о том, что избрал этот путь, — вскинул голову маршал. — Я многого добился в ордене и немало сражался во славу Господа. Но с твоим приездом, Джоанна… Я упорно размышлял об этом и внезапно понял, как глубоко оскорбил отца. Должно быть, с годами во мне заговорила его кровь, ибо сначала ты, а затем и король Ричард не раз замечали, как я похож на него. Не на мерзавца Юстаса, не на короля Гарри, на которого я походил в детстве. Я стал истинным де Шампером! Но увы, теперь мне и до конца моих дней не вымолить прощения у нашего отца. Слышишь, девочка? Я сказал: у нашего отца!
Джоанна поднялась и порывисто шагнула к нему. Ей хотелось коснуться брата, обнять его, но она тут же спохватилась и снова опустилась в кресло. Нет, она не смеет! И все же она проговорила:
— Я ни на миг не сомневалась, что ты мой брат. Именно так о тебе говорили дома, но когда я увидела тебя воочию…
— Я повел себя холодно и отчужденно, — губы Уильяма тронула едва заметная усмешка. — И тем самым отпугнул свою сестру. Прости меня, Джоанна. Надеюсь, когда ты вернешься и увидишься с отцом, ты передашь ему мою исповедь. И скажешь, что все эти годы я любил его. А все, что мне удалось сделать на своем веку, — ради доброго имени нашего рода, ради чести де Шамперов… Я надеюсь на тебя, сестра моя!
При этих словах Джоанна сникла и снова укуталась в покрывало, словно откуда-то дохнул ледяной ветер зимы.
— Я больше не вернусь домой, Уильям. Это невозможно.
— Но почему, во имя Пресвятой Девы?
Джоанна молчала, но он и не торопил ее. Ему была нужна правда. И Джоанна это понимала. Она снова поднялась, подошла к столу и взглянула на фолиант с множеством закладок.
— Абеляр? — удивленно спросила она. Перевернула несколько страниц и прочитала вполголоса: — «То были дни, когда я познал, что значит: страдать; что значит: стыдиться; что значит: отчаяться».
Ее плечи вдруг затряслись в плаче, но она тут же выпрямилась и резко повернулась к брату.
— Ты не обрадуешься тому, что я скажу!
Уильям снова подумал о том, что знал о ее муже. Если дело в нем, то Джоанна это легко переживет. Все не так уж сложно.
Но она заговорила об ином:
— Ты много говорил о чести, Уильям. Так вот: я растоптала свою честь, отдавшись в пути незнакомцу.
К своему удивлению, тамплиер принял это известие спокойно. Что ж… С таким-то мужем, как у Джоанны…
— От меня об этом никто не узнает, — заверил он сестру. — А ты постарайся все забыть.
— Не могу. Ибо мой возлюбленный… Тот, кому я доверилась и отдалась, оказался прокаженным. Когда мы были… с ним… я этого не знала. Но позже, на Кипре, я увидела его в облачении лазарита. И теперь я с ужасом жду, когда на мне появятся знаки лепры…
Уильям молчал. Глаза его расширились. Словно чужая ледяная рука до боли сжала сердце. Он смотрел на сестру — такую красивую и такую печальную… О, ему ли не знать, как выглядят обезображенные проказой, в какой нужде и одиночестве они доживают свой век! И вот — Джоанна.
Глухо вскрикнув, он рванулся к ней и крепко прижал к себе. Как самое дорогое, то, что необходимо спасти и уберечь.
Джоанна потрясенно замерла в его объятиях. В первое мгновение она испытала нечто вроде облегчения, но потом вырвалась и отступила.
— Оставь меня! Это смертельно опасно. Как ты думаешь, почему я отказалась от своей прислуги, избегаю общества Иоанны и Беренгарии, ношу плотную одежду и не снимаю перчаток? Поэтому я отказала и Филиппу Французскому, опасаясь заразить его.
Она застыла, глядя на луч солнца, проникавший в отверстие ставня. В покое слышалось только бурное дыхание ее старшего брата. Затем оно стало ровнее, и он попросил ее, чтобы она поведала ему обо всем. Как вышло, что она избрала возлюбленным прокаженного? Почему сразу не догадалась, чем он болен? Знал ли о своей болезни он сам? И если знал, то как осмелился?
Уильям не договорил — его лицо исказилось от боли и ярости.
— Гореть ему в геенне, если он совершил это осознанно!..
Это была последняя вспышка чувств, которую он себе позволил. Теперь он задавал только вопросы, внимательно выслушивая ответы, запоминая каждую мелочь. И стараясь быть предельно тактичным, чтобы не коснуться того, что могло смутить сестру.
Итак, это был тот пригожий рыцарь, который спас ее в пути от разбойников и сопровождал в дальнейшем. Госпитальер? Да, об этом свидетельствовало его облачение, и так он назвался. Его имя — Мартин д'Анэ, родом из Намюра. Он вдовец, хорошего рода, и уже не раз сопровождал паломников в Святую землю. Ехал он один, с оруженосцем и слугой-сарацином.
Уильяму это показалось странным. Обычно орденские рыцари передвигаются небольшими отрядами, изредка парами, но в одиночку — лишь в исключительных случаях. Имя госпитальера Уильям слышал впервые, однако о нем мог кое-что знать магистр Гарнье де Неблус. Не упоминал ли Мартин д'Анэ о том, кто посвятил его в рыцари? Нет? И это не менее странно, ведь репутация рыцарей зависит от того, кто вручил ему шпоры, и обычно они с гордостью называют тех, кто возвел их в рыцарское достоинство. Но Мартин д'Анэ вообще очень мало рассказывал о себе — теперь и самой Джоанне это казалось удивительным. В ответ на многие вопросы брата она могла только развести руками, и ее лицо от этого все больше мрачнело.
Уильяма озадачило и то, что таинственный госпитальер обстоятельно расспрашивал сестру о нем самом — маршале ордена. А потом повел себя и вовсе необъяснимо: сопроводив Джоанну до самого Кипра, внезапно исчез с корабля. Она ничего не могла узнать о нем, несмотря на все расспросы. Рыцарь был приметной фигурой — красивый, светловолосый, синеглазый, статный. Кто мог подумать, что он… И тем не менее в Лимассоле о нем никто не знал. Ее слуги утверждают, что не видели, как он сходил с корабля, на котором вместе с Джоанной прибыл на Кипр, но заметили его оруженосца — тот сводил лошадь рыцаря с галеры на причал… Именно эта лошадь необычной масти впоследствии открыла Джоанне, кто таков в действительности ее прекрасный рыцарь, но случилось это позже, когда он, уже в обличье лазарита, в одеянии с зеленым крестом, покидал остров вместе с госпитальерами.
Последнее обстоятельство заставило Уильяма задуматься.
Джоанна тоже умолкла. Наконец молодая женщина снова заговорила:
— Теперь ты понимаешь, Уильям, что я не могу вернуться домой, в Англию. Это невозможно. Мне нельзя встречаться и с мужем. Поэтому помоги мне освободиться от придворной должности при королеве Беренгарии и уехать. В Святой земле, я слышала, есть лепрозории — дома, куда принимают таких, как я. А может быть, на Кипре, который ныне подвластен вам, тамплиерам. Я должна бесследно исчезнуть, и пусть хотя бы мое доброе имя останется незапятнанным!
— Погоди, — протестующее вскинул руку Уильям. — Сначала я хочу убедиться, что ты… что ты и в самом деле больна. — Он замолчал, словно эти слова разрывали его сердце. Его младшая сестра! Одна из де Шамперов — и обречена!
Собственные обиды на мир и близких показались Уильяму жалкими и мизерными по сравнению с тем, что должна была испытывать Джоанна.
— Но после близости, которая была у меня с рыцарем-лазаритом… — начала было Джоанна, но тотчас умолкла, покраснев.
Маршал не заметил ее смущения. Он преодолел боль, и теперь его голова была полна совсем иных мыслей — острых, настороженных, подозрительных. Однако в присутствии подавленной горем сестры он не стал высказывать свои сомнения.
— Я думаю, нам следует поступить так, Джоанна. Сейчас я отведу тебя к орденским лекарям. Эти люди служат Храму, и ни один из них не осмелится предать огласке то, что их маршал приказал осмотреть свою сестру по подозрению в проказе. Орден умеет хранить тайны. За это нас многие недолюбливают, но такая политика оправдывает себя. Что касается твоей службы при королеве — будет достаточно сообщить, что ты нездорова, и не вдаваться в подробности.
Джоанна не успела толком понять, что ее ждет, а Уильям уже вел ее за собой, и она безропотно подчинялась его воле. Больше того: впервые за то время, что она несла в себе непомерный груз горя, у нее появилось ощущение некоторого облегчения. Хорошо, когда кто-то понимает твою беду и пытается помочь! И хотя она по-прежнему считала себя обреченной, но сейчас впервые позволила себе не думать о том, как болезнь начнет разрушать ее прекрасное тело, которым Джоанна де Шампер так гордилась.
Лекари тамплиеров считались одними из лучших. И хотя искусство врачевания обычно приписывали госпитальерам, поле их деятельности во время войн было слишком широким, они обходились практическими навыками и опытом, не слишком углубляясь в тайны человеческого организма. Иное дело лекари-храмовники — те зачастую посвящали себя науке, а их длительное пребывание в Святой земле и общение с арабскими и еврейскими врачами открывало перед ними такие горизонты знаний, какие и не снились госпитальерам.
Оставив сестру в орденской лечебнице, Уильям прямо оттуда направился к лазаритам. Как маршал ордена, покровительствующего прокаженным рыцарям, он поддерживал с ними постоянную связь и знал, что многие из них пали в боях под Акрой. Уцелели только пятеро — и все они оказались на месте, когда Уильям вступил в их жилище, отделенное от мест постоя прочих воинов.
Маршал имел с ними продолжительную беседу, стараясь ничем не выдать, как ужасает его их облик. Эти чудовищно уродливые, опухшие, покрытые болячками, наростами и язвами лица вызывали у него содрогание, едва его мысли возвращались к недавнему признанию красавицы сестры. Обычно лазариты скрывали свое безобразие под капюшоном, личиной шлема или повязками, но перед Уильямом де Шампером они не таились. Он же смотрел на них спокойно и прямо и так же спокойно и прямо ставил вопрос за вопросом.
Лазариты подтвердили все, что сообщила ему Джоанна. На одной галере с магистром ордена госпитальеров с Кипра под Акру прибыл лазарит, назвавшийся Мартином. Как принято в их ордене, прокаженные рыцари не стали выяснять его родовое имя, но запомнили, что он был родом из Намюра. Описание также совпадало: белокурый красавец с удивительно яркими синими глазами, похожий на архангела-воителя. Такое лицо повсюду привлекает внимание, и лазариты даже прозвали новичка Мартином Прекрасным.
Странное дело: упоминание об этих глазах вызвало в душе маршала де Шампера смутное волнение. Но он не стал рыться в памяти, а продолжил расспросы. Лазариты в один голос уверяли, что Мартин Прекрасный погиб в бою с сарацинами — это они видели собственными глазами. Но позднее, когда они отправились на поиски тела, чтобы предать его земле по христианскому обряду, обнаружить его не удалось. Лазариты не видели в этом ничего необычного: стаи одичавших собак и шакалов наводняли по ночам поле боя, пожирая трупы.
А один из прокаженных, назвавшийся Джоном, поведал ему еще кое-что о Мартине из Намюра.
— Мне с самого начала почудилось, что с этим малым не все в порядке. Он вел себя так, словно он не один из нас, — начал лазарит, потирая затвердевшую припухлость между бровей — явный знак, что болезнь уже взялась за его лицо. — Обычно лазариты держатся вместе, сторонясь прочих рыцарей, но этот красавчик словно чуждался братьев Святого Лазаря. По вечерам он тщательно мылся и обтирался уксусом. А вам известно, мессир, кто так поступает? Тот, кто стремится избежать заразы, пока она еще не пустила корни в теле.
Слушая прокаженного, Уильям старался не выдать, какое огромное облегчение неожиданно испытал. Да, этот Мартин вел себя более чем странно, и трудно представить причину, которая толкнула его затесаться между лазаритами. И все же это давало надежду: возможно, он вовсе и не был носителем жуткой болезни.
Дальнейшим речам лазарита Джона маршал внимал рассеянно. Прокаженный упомянул о том, что брат Мартин ни в чем не отличался во время учений, зато тот, кто видел его в бою, знает, какой это был быстрый, сообразительный и невероятно ловкий в единоборстве воин. Однако ему не повезло — пал в первой же стычке с сарацинами. Брат Джон сражался в том бою бок о бок с Мартином, однако так и не видел, как и когда его сразил смертельный удар.
Маршал уже собрался уходить, но лазариты остановили его просьбой. Им стало известно, что на Кипре сделало остановку судно, следующее из Европы, на борту которого находятся полтора десятка прокаженных братьев. Не возьмет ли маршал на себя труд известить их о его прибытии в Акру?
Уильям сослался на то, что за прием новых братьев-лазаритов отвечают госпитальеры, но обещал передать просьбу прокаженных магистру Гарнье, которого он как раз собирается посетить.
После беседы с главой ордена Святого Иоанна Уильям де Шампер почувствовал себя еще более озадаченным. Гарнье на его вопрос о Мартине д'Анэ из Намюра не мог сказать ничего определенного. Но один из его нотариев, порывшись в архиве, заявил, что такой рыцарь действительно значится в списках ордена. Сей Мартин д'Анэ был вынужден покинуть прецепторию в Намюре, так как у него обнаружились признаки проказы, после чего он отправился в Палестину, чтобы присоединиться к лазаритам. В настоящее время его местонахождение не известно. Еще одно обстоятельство смутило маршала: рыцарь, о котором говорил нотарий, был гораздо старше того, о ком поведала его сестра и подробно описали лазариты. Кто же он, этот синеглазый соблазнитель, ведущий себя столь странно и пользующийся чужим именем?
Но гораздо больше, чем все эти подозрения, Уильяма де Шампера волновал вердикт орденских лекарей. Какой приговор они вынесут Джоанне?
— Мы не нашли никаких признаков болезни, мессир, — спустя два дня доложил ему главный лекарь. — У леди чистая кожа, высокая чувствительность, чистое дыхание. Она не испытывает никаких телесных недомоганий. Однако это вовсе не означает, что она не больна. Мы не ведаем, сколько времени должно пройти, чтобы лепра проявила себя…
Он сокрушенно развел руками, но, заметив, как вспыхнувшие было надеждой глаза маршала потускнели, а лицо омрачилось, поспешил добавить:
— Есть и еще нечто такое, что должно вас успокоить: я вовсе не уверен, что дама Джоанна имела близость с прокаженным. Я подробно расспросил ее о том человеке, который, как она предполагает, является лазаритом. Она утверждает, что тело его было здоровым и чистым, без каких-либо отметин, присущих лепре, если не считать двух шрамов на левой стороне груди. Однако они, судя по описанию, более походят на следы ожога, чем на очаги болезни.
— И опять-таки — ярко-синие глаза! — де Шампер неожиданно поднялся и начал размашисто расхаживать по затемненному покою, в котором проходила их беседа. Лекарь озадаченно взглянул на маршала, затем продолжил свою речь, но вскоре убедился, что его не слушают.
Наконец Уильям обернулся к нему и переспросил:
— О каком лекаре вы только что упомянули?
— Я говорил об Иегуде бен Авриэле, лучшем лекаре в Акре, который врачевал самого коменданта гарнизона. Мне удалось отыскать его, и он также осмотрел вашу сестру, мессир.
— Ты позволил презренному еврею прикоснуться к моей сестре?
— Лекарю, мессир, и едва ли не самому знающему из тех, что живут в наше время. Он также не нашел у леди никаких признаков лепры. Но дело даже не в том. Иегуда сообщил, что незадолго до падения Акры ему также довелось осматривать молодого статного мужчину, который подозревал, что мог заразиться. И у него он не нашел следов болезни, хоть и прописал ему снадобье, очищающее кровь. Иегуда также упомянул два его шрама на левой стороне груди.
— Где этот еврей? — отрывисто бросил маршал. — Я хочу с ним поговорить.
— Я предполагал, что вы захотите с ним увидеться. Однако, осмотрев даму Джоанну, он покинул замок, и теперь его нигде не могут разыскать. Время неспокойное, мало ли какому воину могло прийти в голову надругаться над старым евреем, а то и прикончить его? Но не тревожьтесь, ради всего святого. Это великое счастье, что молодая женщина, скорее всего, ошиблась. Ее любовник вполне здоров — или, по крайней мере, выглядит таким! Так или иначе, но спустя некоторое время я хотел бы снова осмотреть вашу сестру.
Уильям де Шампер был настолько поражен своей догадкой о том, кем мог оказаться таинственный любовник Джоанны, что не выразил никаких чувств. Да и облегчение, которое ему полагалось бы испытывать, было не полным. Болезнь — если она все-таки проникла в ее тело — может проявить себя и позже. Но Джоанне лучше не знать об этом.
У него потеплело на сердце, когда он увидел, что улыбка снова осветила ее лицо. Джоанна смотрела на него, словно боясь поверить, но Уильям подтвердил: врачи единодушно решили, что она совершенно здорова. В эту минуту он чувствовал себя необыкновенно сильным — не суровым орденским воином, а старшим братом этой прелестной женщины, покровителем.
— Ты можешь оставаться при королеве, девочка. А этот человек… Мартин д'Анэ… я позабочусь о том, чтобы он больше никогда не появился в твоей жизни. Независимо от того, прокаженный он или нет.
Джоанна еще не могла постичь того, что чувствовала. Словно все это время она провела в непроглядной тьме и вот — неожиданно вышла на свет и увидела, как красиво парят чайки над башнями Акры, услышала шум моря за окном, шелест пальм и запах вьющихся роз. Ее тело стало таким легким, что, казалось, еще мгновение — и она взлетит… Нет-нет, все это еще не окончательно, проказа коварна, но ей безумно хотелось верить, что все позади. Лишь одно больно укололо ее: Уильям сказал, что она больше никогда не увидит Мартина.
О, как же она проклинала его все это время, как ненавидела! Но в глубине ее сердца, оказывается, таилась совсем иная боль. Словно она навсегда утратила некий бесценный дар, преподнесенный судьбой.
Спохватившись, Джоанна одернула себя. Забыть о нем! Стереть все воспоминания, не думать, не произносить имени!
Люди маршала проводили Джоанну в ее покои, где Годит, измученная тревогой за госпожу, встретила ее озабоченным и испуганным взглядом. Чего ожидать от леди? Снова слезы, отчаяние, исступление или еще хуже — молчание и нежелание никого видеть?
Но все оказалось иначе: у пожилой камеристки даже слезы выступили на глазах, когда Джоанна вдруг объявила, что намерена посетить баню. И хотя Годит втайне считала, что купание в бассейне — занятие неподобающее благонравной христианке, она не стала ворчать даже тогда, когда ее госпожа вверила свое нагое, умащенное душистыми маслами тело заботам грузной арабки-массажистки.
Затем она погрузилась в прохладный бассейн с маленькими рыбешками, а их покусывание сперва испугало ее, а потом рассмешило. Оказывается, смеяться так приятно! Она вновь чувствовала себя чуть ли не маленькой девочкой…
Остаток этого дня прошел как во сне. Несмотря на пережитое ею жестокое потрясение, Джоанна была еще слишком молода, и радость жизни стремительно возвращалась к ней. Еще до захода солнца она, наряженная в яркие шелка, словно невиданная птица, в элегантном тюрбане на восточный манер, явилась выразить свое почтение королеве Беренгарии.
Ее величество была не одна — в ее покое находилась сестра Ричарда. Пиона выглядела совершенно несчастной — она лежала, свернувшись калачиком, среди подушек, а Беренгария, сидя рядом, обмахивала ее веером из страусовых перьев. При таких обстоятельствах никто не стал особенно допытываться у Джоанны о причинах ее продолжительного отсутствия, и ей оставалось только выразить сочувствие и полюбопытствовать, чем же так удручена ее августейшая кузина.
— Ты же знаешь, что у меня такое бывает… — едва слышно пролепетала Иоанна, жалобно постанывая и с отвращением отворачиваясь от предложенных Девой Кипра сладостей. — Мужчинам об этом не скажешь, а Ричард… Он настаивает…
Она отвернулась и негромко заплакала.
Беренгария, смущаясь, пояснила, что у Иоанны те дни, когда она не чиста,[136] а Ричард неожиданно и в самом непреклонном тоне велел, чтобы его сестра завтра же отправлялась на верховую прогулку: Саладину донесли, что его подарком — великолепной арабской лошадкой — пренебрегают.
Джоанна и впрямь знала, что регулы у королевы Сицилийской и впрямь бывают необыкновенно мучительными. Но как объяснить это королю? Странно и то, что, когда Иоанна попробовала сослаться на нездоровье, Ричард только отмахнулся и продолжал настаивать. Пиона во что бы то ни стало должна проехаться верхом на своей арабке по одной из возвышенностей к северу от Акры, твердил он, не желая слышать никаких отговорок. Такое случалось и прежде: Ричард обычно был вежлив и снисходителен к дамам из окружения королевы, но мог и пренебречь их «причудами». Но почему такая строгость и спешка?
— А может, мне прокатиться вместо вас, Пиона? — неожиданно предложила Джоанна. — Говорят, мы с вами похожи, одного роста, у обеих черные косы. Если я оденусь в ваши любимые розовые и малиновые цвета и накину вуаль, закрыв лицо от пыли на манер восточных женщин, — никто не осмелится выяснять, кто скрывается под вуалью: сестра короля или его кузина?
Пиона повернулась к ней и попыталась изобразить улыбку, что далось ей с трудом. Пухлые губы королевы Сицилии были искусаны.
— Джоанна, если бы ты знала, как я рада, что ты снова стала самой собой! Ты всегда была такой проказницей и выдумщицей!
Она поморщилась, переворачиваясь на спину.
— Если до завтра я не почувствую себя лучше, на арабке поедешь ты. Я думаю, это замечательная мысль.
ГЛАВА 18
Джоанна де Ринель покинула Королевский замок в Акре, едва начало светать, — надо было успеть показаться на холмах до того, как наступит жара. Малиновое платье Иоанны сидело на ней как влитое, скрывая ноги почти до шпор и ложась изящными складками на круп лошади. Оно было немного тесновато в груди, но всадница в нем и впрямь выглядела, как сестра Ричарда. Лицо ее скрывала бледно-розовая вуаль, которую удерживала на голове легкая диадема с рубинами и зубцами в форме цветочных бутонов. Кроме того, Джоанну сопровождали рыцари из свиты вдовствующей королевы Сицилийской — те самые верные шотландцы, которые защищали ее у берегов Кипра. К одному из них — светловолосому гиганту Осберту Олифарду — Пиона питала особое расположение, о чем при дворе уже ползли слухи. Присутствие шотландцев должно было окончательно убедить любого сомневающегося, что на серебристо-бежевой голубоглазой лошадке — не кто иной, как сама сестра короля Англии.
— Ричард наблюдает за нами с башни, миледи! — с явственным шотландским акцентом произнес позади Осберт Олифард.
Джоанна оглянулась и увидела наверху, за зубцами парапета, фигуру короля. Он поднял руку в приветственном жесте, и лже-Пиона ответила ему с седла легким поклоном, придерживая складки вуали у лица. Едва ли Ричард мог заподозрить подвох — расстояние было слишком велико, а в воздухе еще висела предрассветная дымка.
Она не беспокоилась о том, чем может обернуться для нее такая подмена. После кошмара, в котором она провела последние недели, все это казалось забавной чепухой. Подумаешь! Просто дамы решили чуть-чуть пошутить. Да и кто может донести? Во всяком случае, не шотландцы. Пиона же, со своей стороны, поклялась, что проведет все время до возвращения кузины в своих покоях, никого не принимая.
Тем не менее настойчивость Ричарда в связи с этой на первый взгляд ничем не примечательной увеселительной поездкой казалась обеим дамам необычной и подозрительной.
Миновав недавно восстановленный мост у ворот Святого Николая, Джоанна и думать забыла об этом. Впереди лежал лагерь крестоносцев — вернее, та его часть, которую пришлось сохранить после того, как выяснилось, что в Акре не хватает помещений для всего войска. Поначалу те, кому не нашлось места в городе, возмущались, но Ричард распорядился предоставить им самые удобные и просторные шатры, растянуть повсюду полотняные навесы для защиты от солнца и установить объемистые чаны с водой, чтобы воины могли ежедневно мыться. Еды в лагере было с избытком, и ропот мало-помалу утих.
Полупустой лагерь по-прежнему был окружен частоколом, за которым расхаживали караулы, состоявшие из копейщиков и лучников. Миновав их, Джоанна, как и было условлено, свернула к покрытым кустарниками холмам на севере, ибо к югу от крепости, на горном кряже Каруба, еще можно было наткнуться на сарацин. В целом же местность после отступления войск султана стала безопасной, и крестоносцы время от времени отправлялись на холмы, чтобы поохотиться. Пока шли переговоры и Саладин все еще надеялся убедить королей Запада заключить союз против мятежных сыновей Нур ад-Дина, а Ричард и Филипп, в свою очередь, ждали выкупа за пленных, боевые действия были прекращены. Разведчики доносили, что Саладин отошел к Сефории и на окрестных дорогах можно встретить только его гонцов, курсировавших между Акрой и ставкой султана. Гонцы доставляли подарки и послания султана, а обратно увозили ответные дары и сведения, которые им удавалось собрать по пути и в самой Акре.
Джоанна, возглавлявшая небольшой отряд, старалась ехать неспешно, хотя арабская лошадка так рвалась вперед, что всаднице жаль было постоянно сдерживать ее, приноравливаясь под размеренную поступь коней шотландцев. Когда же впереди открылся широкий пологий склон холма, молодая женщина слегка отпустила поводья, и ее лошадь сразу перешла на крупную плавную рысь.
— Миледи! — окликнул ее Осберт Олифард. — Не спешите так, мы не поспеваем за вами!
Еще бы! Их мохноногие коренастые северные кони, несмотря на их силу и выносливость, просто не могли угнаться за благородной кобылкой арабской породы. Та легко шла стремительной иноходью, равномерно покачиваясь из стороны в сторону, и пучок фазаньих перьев, украшавший суголовный ремень арабки, слегка подрагивал при каждом движении.
Джоанна натянула поводья, и лошадь нетерпеливо взвилась, забила передними ногами, а затем закружилась на месте, словно не в силах справиться с переполняющей ее резвостью. Всадница рассмеялась. В какой же тьме она жила, как могла забыть о такой превосходной вещи, как верховая прогулка!
Шотландцы догнали ее, гремя доспехами, их лошади сердито пофыркивали и мотали головами.
— Вы не должны отрываться от нас, миледи, — сурово заметил Осберт.
— Здесь опасно?
— Нет. Но ваш сан не дозволяет передвигаться без свиты.
Шотландцев было около дюжины. Все они были в полном вооружении, и тяжелые кожаные панцири с нашитыми стальными пластинами уже тяготили их — солнце поднималось все выше.
Столь медлительное шествие, однако, уже начало утомлять Джоанну. Впереди, на гребне холма, уже виднелись темная хвоя низкорослых кедров, заросли можжевельника и тамариска, стройные копья кипарисов. Топот копыт по пыльной земле смешивался с переливчатыми птичьими трелями. Со стороны побережья налетел порыв ветра. Казалось: стоит только пришпорить лошадь — и полетишь с ветром наперегонки. Как же она любила быструю езду, когда за спиной словно вырастают крылья! И почему бы не доставить это удовольствие себе и лошади?
— Видите скалу на холме за кустарником? — указала хлыстом Джоанна. — Я буду ждать вас там.
Она слегка тронула лошадь шенкелями, и та рванулась вперед, грациозная и легкая, как плясунья. Перед ней лежало открытое пространство, и внезапно Джоанна ощутила, что мчится куда быстрее, чем ожидала. Но испуга не было — она испытывала чистую, ничем не замутненную радость.
Только когда тропа стала круче, Джоанна перевела лошадь на рысь, а потом и на шаг. Арабка повиновалась без малейших усилий со стороны всадницы. Желтоватая земля под ее копытами слегка пылила, стрекотали цикады, над головой нависали ветви, сильно пахло можжевельником.
Только наверху выяснилось, что приблизиться к скале, на которую указала спутникам Джоанна, невозможно — ее окружали густые заросли колючего кустарника. Однако неподалеку находилась довольно широкая покатая площадка. Джоанна натянула поводья и остановила лошадь, чтобы дождаться своих шотландцев. Поверхность площадки была покрыта щебнем и обломками светлого камня, между которыми кое-где торчали пучки высохших злаков. Ветви сосен бросали на нее прозрачную тень.
Джоанна огляделась — и у нее внезапно возникло странное ощущение, что она когда-то уже бывала здесь.
Она выбросила эту мысль из головы, спешилась и принялась оглаживать лошадь, негромко и ласково приговаривая. От подъема арабка даже не запыхалась, ее бока оставались сухими. Удивительное создание! Преподнося такой великолепный подарок сестре Ричарда, Саладин явно пытался расположить Иоанну к себе. Зачем? Надеялся ли он приобрести в лице Пионы союзницу? Или дело только во всячески восхваляемых великодушии и щедрости султана?
Оставив лошадь, Джоанна подошла к краю площадки и взглянула на убегающую вниз тропу. Только теперь на ней появились шотландцы — их голоса и стук осыпающихся из-под копыт камней казались едва различимыми из-за неумолчного стрекота цикад. Солнце поднималось все выше, становилось жарко, и Джоанна отбросила за спину длинные концы розовой вуали.
Оглянувшись, она вновь обвела взглядом каменистую площадку, и ощущение, что это место ей знакомо, снова вернулось к молодой женщине. Неожиданно она припомнила, что почти так же выглядела покатая поляна на горе Химера близ Олимпоса, куда они поднимались с Мартином. Но на склонах Химеры там и сям из-под земли вырывались языки пламени, и это выглядело необъяснимо и пугающе. Взволнованная, Джоанна жалась к Мартину. Рядом с ним она ничего не боялась, но это было жестокой ошибкой! Именно его — своего защитника и спасителя, своего негаданного возлюбленного, — ей следовало опасаться больше всего.
Там, среди языков подземного огня, они упоенно целовались, а затем Мартин подхватил ее на руки, как перышко, и унес под сень деревьев. И опять случилось то, что происходило между ними всегда — нежность, жгучая тяга, слияние, ошеломляющий экстаз…
«Ты подарил мне меня», — шептала в тот миг Джоанна, чувствуя себя бесконечно счастливой и любимой. О, как же она ему доверяла! А потом едва не умерла от горя, увидев возлюбленного в скорбном одеянии лазарита.
Уильям пытался убедить ее, что в то роковое утро в порту Лимассола она просто обозналась. Он старался успокоить ее, и Джоанна была благодарна ему за это. Однако его расспросы о Мартине все больше смущали ее. Она старалась отвечать честно и прямо… но не всегда договаривала. По крайней мере умолчала о том, что с Мартином был рыжий оруженосец по имени Эйрик, могучий воин с очень приметной внешностью. Чем это могло помочь или помешать Уильяму? Несомненно, ее брат о чем-то догадывался или знал о Мартине нечто такое, что не было ей известно; но делиться своими соображениями с Джоанной он не спешил.
После всего пережитого у нее не было ни сил, ни смелости допытываться, чем вызваны его бесчисленные вопросы. Уильям сделал для нее главное: вернул ей надежду, что странное любовное приключение не грозит ей смертельной бедой. И тем не менее велел время от времени проверять чувствительность пальцев на руках и ногах.
При мысли об этом ей вдруг стало холодно даже на солнцепеке. Она порывисто шагнула к колючим зарослям можжевельника и, сорвав с руки перчатку для верховой езды, стиснула в ладони колючую ветку. Боль была такой, что Джоанна тихонько ахнула. Ну вот, все в порядке… Прошлое уже в прошлом — и да пребудет с ней всегда милость Пресвятой Девы! А Мартин… Ей следовало бы презирать и ненавидеть его. Но не было силы, которая могла бы изгнать воспоминания о кратком и ослепительном миге счастья из ее сердца…
— Непростительная глупость!
Она произнесла это так громко и с такой нескрываемой яростью, что лошадь метнулась в сторону, и Джоанне пришлось успокаивать чуткую арабку.
Шотландцы были уже близко. Лошадь Джоанны призывно заржала, почуяв приближение их коней. И вдруг ей ответило заливистое ржание с другой стороны. Затем послышался топот множества копыт, за стволами деревьев замелькали силуэты всадников.
Большой отряд сарацин появился на тропе почти одновременно с запыхавшимися шотландцами. Возглавлял его представительный вельможа в великолепном персидском кафтане, шитом золотом, сабля на его поясе сверкала алмазной насечкой, а голубой шелковый тюрбан был скреплен переливающимся аграфом. Вельможа поднял руку, вынуждая своих спутников придержать коней, и, прищурив темные внимательные глаза, стал наблюдать, как шотландцы выхватывают оружие и обступают вверенную их попечению знатную особу. Затем он перевел взгляд на даму, отметив ее богатую одежду, сверкающую рубинами диадему и лошадь поразительной красоты, нервно приплясывающую на месте. На устах сарацина зазмеилась довольная улыбка.
Осберт Олифард с обнаженным мечом в руке заслонил собой Джоанну.
— Уезжайте, миледи! Мы задержим неверных. Скачите немедленно, сказано вам!
— Но как, во имя Господа? — с отчаянием отозвалась Джоанна. Их уже окружали со всех сторон многочисленные сарацинские воины.
И тут наблюдавший за этой сценой предводитель заговорил на лингва франка:[137]
— Благородная госпожа, успокойте ваших храбрых рыцарей! Иначе может случиться, что ангел смерти Азраил явится за их душами до назначенного часа!
То, что сарацин говорит на понятном языке, пусть и неверно произнося многие слова, удивило всех — и Джоанну, и ее свиту. Они переглянулись между собой, но не двинулись с места. Сарацин продолжал:
— Мы никому из вас не причиним вреда. Я рад этой встрече и прошу вас следовать за мной.
— Куда? — спросила Джоанна. — В плен?
Вельможа рассмеялся.
— Нет, я приглашаю вас быть моими гостями. Клянусь в том милосердием Аллаха, — да пребудет он вовеки славен! — сарацин воздел открытые ладони к небу, а затем неожиданно улыбнулся, показав великолепные белые зубы, особенно яркие по контрасту со смуглой кожей его лица. — Неужели вам, назареянам, так трудно поверить, что я всего лишь следую закону гостеприимства, который свято чтут мои единоверцы. Вам ведь известно, что сейчас между нашими народами перемирие, — не так ли, благородная госпожа Джоанна? — Он слегка склонил голову, обернувшись к молодой женщине, которая не могла вымолвить ни слова, пораженная происходящим.
Ее замешательство развеселило сарацина еще больше. Его заразительный смех, словно в зеркале, отразился на лицах его спутников — те тоже заулыбались и опустили сабли.
Эмир проговорил, прижав руку к груди:
— Я повторяю свое приглашение. И пусть покроют пятна проказы того, кто первым осмелится начать ссору, когда между нашими правителями — мир.
Упоминание о проказе заставило Джоанну вздрогнуть. Она вполголоса велела шотландцам убрать оружие и не выказывать враждебности, сама же шагнула к своей лошади. К ее удивлению, знатный сарацин мгновенно оказался рядом и, сложив руки в замок, помог ей подняться в седло. Это произвело впечатление даже на хмурых шотландцев. И все же Осберт спросил:
— Вы клянетесь, что это не ловушка? Откуда нам знать, можем ли мы довериться сарацинам…
— Я сказал, что вы мои гости, — обернулся к рыцарю мусульманин. — К тому же, — добавил он, уже направляясь к своей лошади, — иного выхода у вас и нет.
Осберт едва сдержал себя, чтобы снова не выхватить меч, но удар в спину врага был бы и ударом по его чести.
Кавалькада далеко растянулась по тропе. Джоанна ехала рядом с вельможей, не сводившим с нее глаз, а шотландцы следовали за ней на некотором расстоянии, окруженные сарацинскими воинами.
— Могу ли я узнать, кому обязана знакомством с восточным гостеприимством? — наконец спросила Джоанна, взглянув на незнакомца. Его пристальное внимание начинало ее утомлять.
— О нежная пери, я всего лишь эмир великого султана Саладина. А зовут меня… Наши имена слишком трудны для франков, поэтому вы можете звать меня просто Малик.
— Однако вы неплохо владеете лингва франка, — заметила Джоанна, не желая выказывать смущение. Знатной даме не подобает смущаться — с кем бы она ни говорила.
— Я хочу знать все о народе, с которым воюю, — заметил спутник, по-прежнему улыбаясь. — А языку белоголовых франков меня обучила одна женщина из гарема моего отца. Но это было давно, и многое уже позабылось.
И тем не менее говорил этот человек неплохо. Но кто он?
С виду эмир уже не юноша, хоть и не стар. Однако его холеная борода кое-где пронизана светлыми нитями седины. Под великолепным бледно-голубым тюрбаном его лицо кажется особенно смуглым, а в темных глазах то и дело вспыхивают искорки веселья, да и легкие морщинки в уголках глаз свидетельствуют скорее не о возрасте, а о привычке смеяться. Овал лица благородно удлинен, нос тонок и изогнут, как у ястреба. По европейским меркам он не красавец, но по-своему привлекателен — худощавый, отлично держащийся в седле, с выправкой опытного воина. И в его манерах явственно чувствуется привычка повелевать. Вот и сейчас: одним движением руки эмир остановил отряд на просторной поляне, и ближайший воин придержал его коня, пока он спешивался.
Джоанна тотчас поняла, что вельможа и его люди находятся здесь давно — в тени платана виднелись разостланные циновки, над ямой с углями жарилась на вертеле туша лани.
— Пусть ваши спутники подождут здесь, — проговорил эмир Малик, предлагая Джоанне опереться на его руку. — Им не причинят никаких обид и угостят на славу. Вас же, госпожа Джоанна, я прошу проследовать со мной.
Они миновали заросли можжевельника, из-за которых доносились вкрадчивые звуки струн.
Сделав еще несколько шагов, Джоанна едва не ахнула: перед ней открылась еще одна поляна, больше похожая на великолепный шатер. Огромный круглый навес из зеленых и голубых полотнищ с кистями защищал поляну от солнца, траву покрывал драгоценный ковер, на котором были разбросаны яркие подушки и стояли приземистые столики с кальянами и легкими изысканными яствами.
Эмир проговорил:
— Аллах, милостивый и милосердный, послал нам кое-какую пищу. Разве вы не голодны? Разделите же со мной трапезу, прекрасная пери. — С этими словами он увлек ее в прохладную тень навеса. — Не каждый день я могу позволить себе общество женщины, которая не стремится спрятать свое лицо, а наоборот — удивляет солнце и небеса своей дивной красотой.
Джоанна все еще осматривалась, а эмир уже непринужденно устроился среди подушек и взялся за мундштук кальяна. Заметив, что она все еще пребывает в неподвижности, он пояснил:
— Это мое походное убежище, прекрасная пери. Здесь я отдыхаю от треволнений жизни. Аллах не возбраняет иметь немного радости даже в самые тоскливые дни. Оттого я и считаю день прожитым не зря, если убил врага, насладился женщиной и отведал доброй еды.
Продолжая говорить, он ополоснул кончики пальцев в чаше с водой, в которой плавали розовые лепестки, взял с блюда ножку жареного фазана и, словно подавая пример гостье, энергично впился в нее своими ослепительными зубами.
Джоанна невольно улыбнулась. Ей начинал нравиться этот веселый жизнелюбец. Однако она тут же приняла надменный вид и осведомилась:
— Надеюсь, упоминая о наслаждениях с женщинами, вы не имели в виду меня?
Эмир промолчал, но взглянул на нее так, что ее охватило тревожное волнение. Однако последовавший за этим ответ ее успокоил: созерцание лика прекрасной дамы, так неожиданно встреченной в лесу, право, стоит всех тех любовных утех, что воспевают бродячие певцы.
— О, вы, господин Малик, говорите так, словно учились куртуазному обращению при дворах короля Ричарда и его матушки, — с облегчением заметила молодая женщина.
— Увы, мне не доводилось там бывать! Может быть, вы немного расскажете мне о нравах рыцарей-франков? Но прежде разделим трапезу. Ведь по нашим обычаям того, с кем однажды преломил хлеб, принято считать добрым другом.
Здесь, однако, нашелся не только хлеб. Под ненавязчивые звуки барбета,[138] на котором наигрывала сидевшая поодаль темнокожая рабыня, эмир и его гостья вкушали отменно приготовленное мясо птицы и хрустящие лепешки, начиненные рыбой со специями, маринованные оливки и ядра фисташек, вымоченные в розовой воде. На серебряных блюдах высились горы самых восхитительных фруктов, которые когда-либо доводилось видеть Джоанне, и рядом с каждым блюдом лежал тонкий позолоченный ножичек для разрезания плодов. Вместо вина, запретного для последователей Мухаммада, имелись прохладный шербет и сок фруктов, разбавленный ключевой водой.
В конце трапезы эмир предложил гостье отведать кофе с имбирем, однако Джоанна лишь пригубила этот редкий напиток, необыкновенно ароматный, но пить эту черную горечь у нее не возникло ни малейшего желания. Заметив это, Малик предложил ей зеленый чай из трав, а затем протянул мундштук, предлагая затянуться дымом кальяна. И если чай англичанка нашла восхитительным и прекрасно утоляющим жажду, то кальян не оценила. И хотя она уловила аромат меда и сандала, исходящий от влажных трав, тлеющих в чаше кальяна, но посасывание янтарной трубочки и выдыхание дыма показалось ей более чем странным занятием, и она с улыбкой отрицательно покачала головой.
Заметив ее равнодушие к восточным изыскам, эмир с улыбкой пожал плечами, продолжая следить за тем, как его гостья, изящно разделывая персик, отправляет ломтики сочного плода в рот. При этом в его взгляде сквозило нескрываемое мужское восхищение.
Джоанна молчала, понимая, что едва ли ей стоит распространяться о себе, сестре маршала тамплиеров, злейших врагов сарацин. Впрочем, если эмир знает ее имя, то ему наверняка известно и все остальное.
Молодая женщина терялась в догадках, но в конце концов предпочла не задавать вопросов, предоставив эмиру Малику вести и направлять беседу. Подобно большинству мужчин, он явно любил главенствовать в разговоре.
Среди множества тем, которых коснулся эмир, одна особенно удивила Джоанну. Оказывается, мусульмане, в полном согласии с Кораном, весьма почитают Ису, то есть Иисуса, сына праведной Мариам, считая его пророком и посланником Аллаха, а женщины-мусульманки часто обращаются с просьбами к матери Исы.
Для Джоанны это оказалось полной неожиданностью, однако когда она спросила, отчего же мусульмане отказываются величать Иисуса сыном Божьим, если они признают, что он появился на свет без участия отца? Эмир на это рассмеялся: только назареяне, заблуждаясь, именуют Ису Спасителем мира, тогда как он всего лишь пророк. С таким же успехом Богом можно было бы считать Адама, который также не имел земного отца. И правоверные до сих пор не понимают: зачем крестоносцы прибыли сюда, если гробница Исы давным-давно пуста?
Дымчато-фиалковые глаза Джоанны вспыхнули. Она многое могла бы сказать этому вельможе о Гробе Господнем, который мусульмане считают пустым. Но что толку проповедовать иноверцу догматы христианства? Поэтому она просто отвернулась, приняв оскорбленный вид.
Малик с усмешкой поглядывал на нее, пока не обнаружил, что взгляд его прелестной гостьи устремлен на столик, инкрустированный квадратами слоновой кости и черного дерева. На столике были расставлены шахматные фигуры, и Джоанна отметила по их положению, что ее гостеприимный хозяин, должно быть, провел за доской немало времени, разыгрывая сложную партию. Но с кем? Неужели в одиночестве? Это породило в ней новые подозрения: эмир поджидал ее здесь и был уверен, что она приедет. Едва ли он стал бы искать место для отдыха вблизи от переполненной крестоносцами Акры.
Эмир тотчас принялся объяснять гостье, что перед ней — дивная игра, в которой сосредоточена вся мудрость мира. Джоанна невольно рассмеялась.
— Вы, очевидно, и впрямь считаете нас варварами, если не ведаете, что шатрандж, или шахматы, как мы их называем, известны в Европе не хуже, чем на Востоке!
Лицо ее собеседника выразило недоумение — ведь тамплиеры, например, никогда не играют в эту игру. Джоанна подтвердила: действительно, шахматы и охота — если только это не охота на львов, опасных для паломников, — под запретом в ордене Храма, так как считаются слишком азартными забавами. Но сама она любит шахматы.
Эмир удивился:
— Впервые вижу женщину, обученную шахматной игре!
Джоанна почувствовала себя польщенной и, чтобы окончательно поразить эмира, быстро взглянула на расстановку фигур на шахматной доске и, оценив позицию, заявила, что для победы белых достаточно трех ходов — и тут же продемонстрировала это, передвинув фигуры и поставив мат черному королю.
Эмир усмехнулся в бороду, а потом неожиданно предложил ей сыграть.
Джоанна охотно согласилась. Дома она нередко садилась за доску с отцом или одним из братьев и считалась хорошим игроком. Играла она и с мужем, но Обри постоянно проигрывал и смертельно обижался. Отец однажды объяснил Джоанне, как по манере игры в шахматы можно разгадать характер противника, и ей вдруг захотелось узнать — каков он на самом деле, ее неожиданный знакомец.
Партия началась довольно быстро, но потом оба призадумались. Уже и солнце поднялось высоко, а они все еще склонялись над доской. Услужливые темнокожие рабы овевали их опахалами из страусовых перьев, отгоняя зной. Джоанна заметила, что эмир Малик играет смело и рискованно — не боится жертвовать тяжелые фигуры ради достижения цели и всегда имеет варианты на случай неудачи. Однако он не был готов к тому, что женщина окажется способной разгадать его тактику, и подолгу обдумывал позиции после того, как неожиданные ходы противницы разрушали его замыслы. И при этом он отнюдь не выражал неудовольствия. Наоборот!
— Я польщен, что сегодня у меня такой противник, как вы, прелестная леди Джованна, — заметил эмир после одного из ее самых удачных ходов.
Он склонился над доской, обдумывая положение, в котором оказался его ферзь после хода Джоанны, а в ее голове молнией мелькнула догадка, от которой ей пришлось зажать рот ладонью. Боже правый! Малик говорит с сильным акцентом, и она только теперь расслышала, что он называет ее не Джоанной, а так, как на итальянский манер зовут сестру Ричарда, — Джованной!
Собравшись с духом, она решилась спросить, откуда ему известно ее имя.
Эмир оторвался от доски. Его темные глаза снова блеснули весельем.
— О, я многое знаю о вас! Мне известно даже, что вам нравится, когда вас называют именем дивного цветка, который выращивают в садах Сицилии.
У молодой женщины перехватило горло. Так и есть!
Она склонилась над доской, словно в раздумье, а на деле, чтобы скрыть волнение. Итак: эмир Малик определенно знал, что встретит в лесу на холме Иоанну Плантагенет. Которой нравится, когда ее называют Пионой. И король Ричард хотел, чтобы они встретились. Зачем? Кто в действительности этот эмир? Что стоит за этой странной интригой? Зачем Ричарду понадобилось знакомить иноверца с сестрой?
Джоанне едва удалось справиться с желанием немедленно объявить Малику, что она вовсе не та, за кого он ее принимает. Однако что-то — осторожность, страх или чутье — подсказало ей, что этого делать не следует. Но после своего открытия она так растерялась, что сделала пару скоропалительных ходов, и в итоге партия, которую она безусловно выигрывала, окончилась вничью.
— Пат, — вздохнул Малик и откинулся на подушки. — Не желаете ли еще сыграть?
Тут Джоанна осмелилась напомнить, что и без того слишком долго пользуется его гостеприимством. Становится все жарче, да и в Акре о ней уже беспокоятся.
Эмир отвечал, что не смеет ее задерживать. Однако просит — нет, умоляет! — завтра снова прибыть на это же место, чтобы… чтобы сыграть еще одну партию и окончательно выяснить, кто из них более сильный игрок.
На его лице заиграла лукавая улыбка.
Джоанна не знала, как быть, и отчаянно волновалась. Смеет ли она обещать что-либо подобное от лица сестры короля?
По дороге в город она попросила шотландцев хранить в тайне то, что случилось на прогулке. Но скрыть это от Иоанны она не могла и не хотела.
Когда же Джоанна поведала сестре Ричарда обо всем, та была безмерно удивлена, хотя в ее вопросах слышалось больше любопытства, чем тревоги. В неожиданной, как сочла Иоанна, встрече ее кузины с сарацинским эмиром было немало забавного и курьезного, — но и только.
Джоанна так и не осмелилась высказать свои подозрения, однако по-прежнему была абсолютно убеждена, что эмир ждал на холме именно сестру Ричарда Львиное Сердце — Иоанну Плантагенет. И тем большая растерянность охватила ее, когда король, в тот же вечер навестивший Пиону, вновь принялся настаивать, чтобы она и завтра совершила верховую прогулку.
— Праведный Боже, как же мне объяснить ему, что, несмотря на все достоинства арабской лошади, я все еще не в состоянии сесть в седло! — сокрушалась Пиона.
Кончилось тем, что она снова обратилась к Джоанне, попросив заменить ее, и та с неожиданной готовностью дала согласие. Странный азарт побуждал Джоанну продлить это необычное приключение, которое отвлекло от горестных мыслей.
Шотландцы ворчали, недовольные тем, что им снова придется вводить в заблуждение короля, однако чуть свет уже ждали в одном из двориков замка появления мнимой королевы Сицилийской.
Акру маленький отряд покинул перед самым восходом солнца. Эмир поджидал Джоанну на прежнем месте, но на этот раз он предложил своей прекрасной спутнице просто прокатиться верхом. Во время прогулки по холмам речь зашла о достоинствах восточных и западных лошадей, и в этом Малик нашел в Джоанне достойную собеседницу. Разговор чрезвычайно оживился, они даже заспорили, хотя эмиру не всегда хватало запаса франкских слов, чтобы сформулировать свои доводы. В таких случаях он горячился, начинал размашисто жестикулировать, отчего его вороной конь взбрыкивал и храпел, хотя это только веселило всадника. Малик оказался превосходным наездником, с легкостью правил конем и не раз повторял, что лошадей никогда не следует бить хлыстом — это все равно, что хлестать танцора, требуя от него грации и достоинства в движениях. Конь под наездником должен быть гордым.
Скачка по холмам пробудила аппетит, и оба с удовольствием вернулись к навесу на поляне, где их ждали еще более изысканные блюда и шербет, столь холодный, словно его держали на льду, доставленном с горных вершин Ливана.
После трапезы Джоанна, утомившись монотонными наигрышами темнокожей музыкантши, неожиданно даже для себя самой предложила спеть для гостеприимного хозяина.
И в самом деле — впервые за столь долгое время ей вдруг по-настоящему захотелось петь! Ее уже не мучили приступы тоски и ночные кошмары, и хоть в сердце Джоанны еще гнездилась печаль, рискованное приключение с сарацинским вельможей и его откровенное восхищение ее красотой возвращали желание жить и глубоко волновали ее.
Эмир был поражен, но с удовольствием слушал, как она, перебирая струны, поет и ее голос переливается бархатистыми низкими и звенящими высокими тонами. Джоанна пела одну из кансон герцога Гильома Аквитанского,[139] великого провансальского трубадура, полную любовного томления. Прикрыв глаза и чуть покачиваясь, она вся отдалась музыке; ее вела за собой и вдохновляла мечта, в которой ей виделось лицо ее загадочного попутчика, таинственного и опасного рыцаря по имени Мартин, его яркие синие глаза, твердые скулы, улыбка одним уголком рта. О нет, она не должна думать о нем, надо забыть этот облик!.. Но песня лилась, и мечта не покидала ее, хотела она того или нет.
Когда Джоанна умолкла, Малик смотрел на нее изумленно и восхищенно, мундштук кальяна застыл в его руке, словно он позабыл о нем.
— Аллах всемогущий! Вы поражаете меня все больше и больше! Я в самом деле многое знаю о вас, но никто не говорил мне, что вы поете слаще гурий в райских садах!
Эмир знает многое, но не о ней, не о Джоанне де Шампер!
Молодая женщина вздрогнула, словно от озноба. В этой игре с сарацинским вельможей крылась неведомая опасность, но она все еще не могла понять — какая. Чтобы отвлечь собеседника, она принялась рассказывать о том, что эту кансону сочинил дед королевы Элеоноры Аквитанской, властитель огромных земель, которые затем перешли к королю Людовику, отцу Филиппа Французского, а после развода королевы Элеоноры и ее нового союза с королем Генрихом Плантагенетом стали частью Анжуйской державы короля Ричарда Львиное Сердце.
Эмир слушал с улыбкой и, наконец, проговорил:
— Не будет ли дерзостью с моей стороны, если я попрошу вас подробнее рассказать мне о могущественном роде Плантагенетов?
Джоанна была готова на все, лишь бы увести беседу в сторону от Иоанны Сицилийской. Тем более что о Плантагенетах знала достаточно. Она поведала о старом короле Генрихе, первом из английских монархов, носивших прозвище Плантагенет в честь веточки дрока, о его ссоре с сыновьями в последние годы жизни, о том, как старший сын короля, тоже Генрих, потребовал, чтобы отец поделился с ним властью, но это только усугубило размолвку между ними. Упомянула она и супругу Генриха Молодого, о которой поговаривали, что она изменила мужу с Уильямом Маршалом, считавшимся в то время лучшим воином христианского мира, родив от него сына. Правда, этот ребенок умер вскоре после рождения, но молва не утихла. Когда же Генрих Молодой скончался, его супруга вышла замуж за короля Белу Венгерского, а наследником короля Генриха был признан следующий по старшинству сын — Ричард. Правда, Ричард находился под сильным влиянием своей матери, и при дворе одно время считали, что Генрих передаст трон не ему, а младшему из Плантагенетов — Джону, своему любимцу. Средний из сыновей короля Генриха, Джеффри, обвенчался с наследницей герцогства Бретонского Констанцией, получив ее титул и владения в приданое. Он был большим любителем турниров, и на одном из них погиб в результате несчастного случая. Остались двое — Ричард и Джон, и, как известно благородному эмиру, королем все же стал Ричард.
— А что же с Джоном? — Малик затянулся и выпустил сероватое облачко дыма. — Ведь пока у Ричарда нет сыновей, именно он является наследником трона старшего брата?
Эмир был крайне удивлен, узнав, что, отправляясь в поход, Ричард назначил своим преемником не брата, а сына погибшего Джеффри — малолетнего Артура Бретонского. Разумно ли это — оставлять огромную Анжуйскую империю на юного принца?
Джоанне пришлось пояснить, что Джон пользуется известным влиянием в Англии, но в континентальных владениях Ричарда с ним никто не считается. Таким образом, французские земли Анжуйской империи поддерживают Артура, а не Джона. В Англии же принц Джон находится под бдительным оком канцлера короля Ричарда — Лошана, и тот не позволит ему проявить своеволие.
— Вы говорите так, словно принц Джон уже сейчас стремится к короне. — В глазах эмира Малика вспыхнул острый огонек любопытства.
Джоанна неторопливо отпила глоток шербета, раздумывая над тем, не слишком ли много сказала этому восточному вельможе. А затем исподволь перевела разговор на дочерей Генриха и Элеоноры Аквитанской. Старшая, Матильда, вышла за герцога Саксонского Генриха Льва, родив ему множество детей, но она уже покинула эту юдоль — мир ее праху. Другая принцесса, получившая имя в честь матери — Элеонора, стала супругой короля Альфонсо Кастильского. Джоанна знала ее в детстве и хорошо помнила. Поведав о судьбе принцессы, она прибавила, что Элеонора Кастильская настаивала на том, чтобы и ее супруг примкнул к крестовому походу, однако из-за войн на Пиренейском полуострове Альфонсо не смог понести крест, его супруга сама снарядила в поход рыцарей ордена Сантьяго и Калатравы.
— А, — эмир небрежно махнул сверкающей перстнями рукой. — Эти испанские гордецы и у себя в королевстве не в силах справиться с правоверными. Что проку от них в Палестине? Однако, о звезда очей моих, отчего вы умалчиваете об Иоанне Плантагенет, вдове короля Сицилии?
Под его надушенными усами мелькнула столь многозначительная усмешка, что Джоанна испугалась: сейчас эмир опустится рядом с нею на подушки и заключит ее в объятия. Недаром учтивое обращение «госпожа» сменилось цветистыми восточными оборотами вроде «звезда моих очей», «свет моей души» и тому подобным. Может, так и принято у мусульман?
С самым холодным выражением лица она сообщила, что королева Джованна, движимая стремлением вернуть христианам Гроб Господень, приняла решение пожертвовать всю свою «вдовью долю» на нужды брата, короля-паладина, но выдвинув условие — Ричард никогда не станет принуждать ее к замужеству, если на то не будет ее воли.
Усмешка мгновенно исчезла с уст сарацина. Он стремительно поднялся и начал расхаживать под навесом, а затем, едва сдерживая гнев, заявил, что назареяне, должно быть, окончательно утратили разум, если дозволяют своим женщинам диктовать подобные условия. О, у правоверных все иначе. Женщины услаждают их взор днем, а плоть по ночам. А их повелители платят возлюбленным уважением и любовью за доставленные наслаждения.
— Но ведь ваши жены не имеют права даже слово проронить без воли мужа, — заметила Джоанна. — Их никто не слушает!
— Напрасно вы так думаете, благородная госпожа. — Малик, справившись с собой, снова опустился на подушки. — Например, наш благородный султан Салах ад-Дин после того, как взял Дамаск, женился на вдове правителя Нур ад-Дина — Исмет ад-Дин Хатун, чье имя на языке франков означает «госпожа чистоты в вере». Несмотря на то, что эта женщина была значительно старше Саладина, он любил и почитал ее, ежедневно писал ей письма и советовался в делах правления. Но несколько лет назад Исмет ад-Дин Хатун умерла. Свита султана поначалу даже не решалась сообщить Мечу Ислама об этой жестокой утрате. Когда же эта весть достигла его ушей, султан в отчаянии разорвал на себе одежды, а его горестные вопли были подобны рыку раненого льва.
— Но ведь у султана есть еще жены! — осторожно заметила Джоанна.
— Да, но другой такой, как мудрая Исмет ад-Дин Хатун, нет и не будет. Ныне султан женат на знатной египтянке, родившей ему шестнадцать детей, а другой его супругой стала прекрасная дочь одного из ближайших советников — Дженаха. По завету Пророка — да будет стократ благословенно имя его! — правоверный может взять в жены четырех женщин, но может содержать и нескольких наложниц — столько, сколько требуется в зависимости от его положения и достатка. Ведь женщины слабы и постоянно нуждаются в защите и опеке.
Когда Малик умолк, у Джоанны внезапно мелькнула догадка: этот вельможа послан самим Саладином, чтобы выведать все о той, которую он желал бы заполучить в качестве одной из жен. Но ведь Иоанна — христианская принцесса! Она никогда не согласится на союз с неверным! Разве Ричард… О небо! Ведь именно Ричард был так настойчив, требуя от сестры совершить эти верховые прогулки, зная при этом, с кем ей придется встретиться!
Заметив ее замешательство, эмир снова предложил партию в шахматы, ибо эта игра, когда бы ты к ней ни приступил, успокаивает страсти и изощряет ум, словно оселок, оттачивающий лезвие клинка. Однако на сей раз Джоанна отказалась, сославшись на то, что ее пребывание в гостях у благородного эмира оказалось куда более продолжительным, чем она рассчитывала, и ей пора возвращаться в Акру.
Малик, как и накануне, не стал ее удерживать, но и не скрыл огорчения, узнав, что молодая женщина едва ли сможет посетить его завтра. Джоанна не могла больше рисковать, выдавая себя за сестру короля. И тем не менее эмир настаивал и в конце концов заявил, что еще два дня будет ожидать ее в условленном месте под скалой, моля Всевышнего, чтобы она приехала. Если же этого не случится… К величайшему сожалению, дела и обязанности вынудят его отправиться в Назарет.
Джоанна уже готова была удалиться, но последние слова эмира заставили ее застыть. Сердце молодой женщины учащенно забилось. Назарет! Город, где жила Дева Мария со своим святым обручником Иосифом, где ей была ниспослана благая весть о рождении Иисуса, где прошли детство и юность Спасителя! Именно там он открылся людям и оттуда же был изгнан иудеями, не поверившими, что перед ними — мессия.
Место это было священным для каждого христианина, и Джоанне вдруг пришло в голову, что сама она, прибыв в Палестину, так и не преклонила колени ни в одном из мест, освященных присутствием Сына Божьего! Всякий в стане крестоносцев мечтал о том времени, когда ступит на землю Иерусалима и Вифлеема, но когда это произойдет? Упорство сарацин препятствует доступу к святым местам, но вот перед ней стоит неверный, который тремя днями позже окажется там, где мечтает побывать всякий истинно верующий христианин.
Когда Джоанна обернулась к эмиру, глаза ее горели. В этот миг она не сознавала, как хороша и как волнение оживляет ее лицо. А следующей ее мыслью было: коль скоро любовная связь с Мартином и возымеет для нее пагубные последствия, молитва у стен Назарета и источника Марии могла бы отвести от нее беду. Верующему дано будет по вере его! А Джоанна веровала страстно и убежденно.
Слова вырвались из ее уст еще до того, как она сумела привести в порядок мысли:
— Назарет! О, как бы я хотела там побывать!
В темных глазах Малика снова блеснул веселый огонек.
— Одно ваше слово — и я буду готов сопроводить вас к дому, где жила Мариам и рос юный Иса.
Сердце Джоанны учащенно забилось. Она прижала ладони к вискам. Пальцы были ледяными, лоб пылал. Понимала ли она, на что идет? Это крайне опасно… Но ведь сейчас перемирие: султан дал слово вернуть христианам Животворящий Крест, обещал своим эмирам выкупить заложников из Акры и вернуть пленных христиан. Если эти условия будут выполнены, тогда… Тогда Ричард, возможно, и подумает над предложением Саладина выступить вместе с ним против враждебных султану потомков Нур ад-Дина. И едва ли знавший все это эмир Малик посмеет пленить ее, если она отправится с ним в Назарет. Он ведь мог уже сделать это, но не сделал.
Видя, что она колеблется, эмир заметил:
— Вам нечего опасаться, о звезда моего сердца! Я с радостью возьму вас с собой в Назарет, а к вечеру вы, целой и невредимой, вернетесь в Акру. Клянусь в том Магометом, пророком Бога, и Аллахом, Богом пророка!
Приблизившись, он вкрадчиво продолжал: путь от Акры до Назарета не так и долог, его можно преодолеть всего за несколько часов, тем более на таких лошадях, как у них. Если выехать на рассвете, в городе пророка Исы они окажутся к тому времени, когда солнце достигнет зенита. Там прекрасная госпожа сможет увидеть и посетить то, о чем просит ее сердце, а он, обремененный делами, на время покинет ее, предоставив ей надежную охрану. И пусть нежная пери не тревожится: никто не узнает, кто она, эта важная дама. Затем они так же стремительно поскачут назад и прибудут в Акру еще до того, как грозный Мелик Рик ее хватится.
Но чтобы владыка назареян ничего не заподозрил, пусть госпожа Джованна скажет всем, что через пару дней намерена навестить живущего неподалеку отсюда монаха-отшельника. Этот старец обитает среди руин замка Саффад, поэтому его так и прозвали — Саффадский отшельник. Он ведет скромную жизнь, молится своему Богу, пасет коз, питается лепешками, сыром и молоком. Но слава о нем разносится далеко. Говорят, этот старец исцеляет недужных, а его молитвы помогают женщинам, страдающим бесплодием. Известно, что Саффадского отшельника посещала сама Изабелла Иерусалимская, и этот визит не прошел впустую — вскоре она понесла дитя.
Лучше всего, если прекрасная Джованна поведает о Саффадском отшельнике королеве Беренгарии и убедит ее в назначенный день отправиться к руинам замка. А там она под любым удобным предлогом покинет супругу Мелик Рика, а сама прискачет сюда, и они тотчас отправятся в Назарет. По возвращении она вновь встретится с Беренгарией, которая, как известно, молится подолгу, и они вместе вернутся в Акру.
Малик был убедителен, напорист, красноречив. И его план выглядел не так уж плохо. Но Джоанна не знала, исполнит ли его просьбу. Прощаясь с эмиром, она ничего не обещала, а тот без конца повторял, что будет ждать и надеяться…
Мысль о возможности посетить Назарет не оставляла молодую женщину и в последующие два дня.
Когда же она поведала о чудесном отшельнике королеве, благочестивая Беренгария приняла это известие близко к сердцу и испросила у Ричарда дозволения побывать у него. Король не стал возражать, да и Пиона, наконец-то почувствовавшая себя лучше, вызвалась сопровождать королеву в поездке. Она велела оседлать свою чудесную серебристо-бежевую кобылу — и когда Джоанна выехала в составе кортежа за стены Акры, не кто иной, как Иоанна Плантагенет, гарцевала рядом с королевой на голубоглазой арабке в диадеме поверх розовой вуали, а Джоанна де Ринель следовала за ними на своей незербийской гнедой — в синем платье и голубой вуали, прихваченной серебряным обручем на лбу.
Было еще сумрачно, лишь на востоке розовела полоска зари. Дамы негромко переговаривались, а Джоанна напряженно размышляла. Она еще не решила окончательно — принять ли ей любезное предложение эмира Малика. В минувшие два дня она искала встречи со старшим братом, чтобы поведать ему обо всем и просить совета. Однако Уильяма не было в Акре, и в конце концов Джоанна, помолившись, решила, что это знак свыше — некому воспрепятствовать ей совершить рискованное паломничество в Назарет.
Когда крепостные стены скрылись за холмами, она объявила своим высокородным спутницам, что не намерена следовать вместе с ними к жилищу отшельника. Вместо этого она просто прогуляется по окрестностям.
Сейчас ее волновало только одно: она больше не могла прикидываться Иоанной Плантагенет. И сопровождали ее лишь трое верных саксов — Дрого и братья-близнецы Катберт и Эдвин. Не слишком внушительная свита для сестры короля Ричарда. Но когда Джоанна в сопровождении своих спутников поднялась на холм со скалой, Малик выразил самую искреннюю радость.
— Весьма предусмотрительно с вашей стороны, моя нежная пери, что вы решили ограничиться столь незначительной свитой. Люди болтливы, а я не меньше, чем вы, заинтересован в том, чтобы не просочились слухи о нашей поездке. В этом я, кроме того, усматриваю ваше особое доверие ко мне, которое ни при каких обстоятельствах не нарушу — клянусь в том краеугольным камнем Каабы!
В предвкушении совместной поездки Малик выглядел настолько оживленным и счастливым, что Джоанна почувствовала себя смущенной. Вдобавок он похвалил ее за то, что она догадалась отправить к отшельнику другую даму в своем наряде и на своей лошади.
Что ж, пусть думает, что так оно и было. Незачем ему знать о совершившейся подмене. Тем более что в этом нет ее вины, как и в том, что она неотразимо привлекает этого человека. Пусть он несколько раз назвал ее Джованной — но ведь и она тоже Иоанна, Джоанна, мало ли как произносят ее имя? При этом эмир ни разу не дал впрямую понять, что считает ее сестрой Ричарда. Да и сам не особенно распространялся о том, кто он на самом деле.
О том, что эмир Малик очень важная особа, Джоанна догадалась, едва увидев свиту, которая должна была их сопровождать. Это был многочисленный отряд отборных воинов, а самого эмира с грозным видом окружили телохранители — чернокожие великаны-нубийцы в великолепных доспехах и шлемах, обвитыми кисейными чалмами. Такая же белоснежная чалма обвивала и шлем эмира — сверкающий чечак с позолоченным острием. Его кольчуга блестела, словно полированное серебро, широкий алый кушак был перевит золотыми нитями, а седло украшено цветной шелковой бахромой.
Джоанна в замешательстве смотрела на блистательного эмира и не сразу расслышала слова, обращенные к ней.
— Советую вам воспользоваться одной из арабских лошадей моих спутников, — решительно проговорил Малик, сделав знак одному из охранников спешиться и подвести к ней легконогую серую кобылу. — Под вами прекрасная лошадь, госпожа, однако она не выдержит той скачки, которая нам предстоит. Эта же серая не уступит в скорости никому, кроме Борака, коня Пророка, — да будет он прославлен вовеки! А вашим спутникам придется остаться здесь и ждать вас к вечеру…
— Погодите! Остановитесь! — возмущенно вскричал капитан Дрого, сообразив, что его леди останется без всякой защиты среди чужаков-иноверцев. Но эмир уже подал гортанную команду, после чего весь его отряд стремительно развернул коней и поскакал вслед за своим предводителем и его спутницей.
Даже если бы саксы попытались их догнать, у них не было ни одного шанса настичь стремительную кавалькаду сарацин.
Спустившись с лесистого холма, всадники понеслись по открытой сухой равнине. Дорога уходила к горизонту, и двигались они так стремительно, что Джоанне подчас казалось, что кони не касаются копытами земли. Ей стало не по себе, но мало-помалу страх сменился восхитительным ощущением полета. Эти дивные арабские лошади просто созданы для того, чтобы состязаться с ветром!
В пути эмир украдкой наблюдал за спутницей. Она держалась на лошади уверенно и грациозно, движения ее были точными и непринужденными. О таких говорят — родилась в седле. От быстрой скачки лицо всадницы разрумянилось, глаза горели, голубая вуаль трепетала на ветру.
Об этой вуали и зашла речь спустя довольно длительное время, когда эмир Малик велел сбавить ход, чтобы лошади могли передохнуть.
— Мы уже находимся в землях, где женщины одеваются иначе.
Он щелкнул пальцами, и слуга тут же подал Джоанне шафранового цвета накидку с капюшоном — в таких путешествуют знатные арабские женщины, и легкое покрывало, чтобы спрятать нижнюю часть лица. Одеяние оказалось удобным: оно скрывало ее от любопытных взоров и предохраняло от жгучего солнца и дорожной пыли. Вместе с тем Джоанна отметила про себя, что эмир тщательно готовился к этой поездке, предусмотрев даже такую мелочь, как одежда для спутницы.
Когда отряд ненадолго остановился в тени у небольшого ручья, ей подали свежую лепешку с кунжутом и кувшин прохладного айрана, который после долгой скачки показался Джоанне просто восхитительным на вкус. Зной тем временем набирал силу, казалось, воздух постепенно загустевает, как горячая нуга. В бледно-голубом небе выписывали крути коршуны и грифы, по дороге неторопливо вышагивал караван навьюченных верблюдов — оттуда доносился перезвон колокольцев и окрики погонщиков. Минуя спешившийся отряд, погонщики низко кланялись, сопровождая поклоны почтительными словами на арабском, однако эмир даже не взглянул на этих людей.
Далее Малик ехал во главе отряда, изредка переговариваясь со спутниками, а Джоанна следовала за ним в кольце чернокожих телохранителей. На протяжении всего пути ни один из них даже не взглянул в ее сторону, словно это было им строго-настрого запрещено.
Теперь приходилось беречь силы лошадей, скорость движения упала, и Джоанна смогла осмотреться. Сожженная солнцем трава, заросли тамариска и рощи пыльных олив на склонах холмов, редкие башни кипарисов. Перед ней лежали земли Иерусалимского королевства, которым больше не владели христиане. Здесь словно недавно пронеслась буря — вихрь смерти и разрушений. Повсюду на развилках дорог Джоанна замечала поваленные и разбитые последователями Пророка кресты и изваяния Богоматери, прежде указывавшие путь паломникам, на обочинах попадались то франкский шлем, пробитый и полный пыли, то сломанное копье, то конский остов. Среди камней пестрели обрывки тканей и воловьей кожи. Кое-где над телами воинов, павших в борьбе за Иерусалимское королевство, кто-то возвел невысокие насыпи, но кресты на них также были повалены, а сами могильные холмики постепенно заносил песок. На одном из поворотов прямо из рыжей глины на Джоанну взглянуло чье-то полуразложившееся лицо, обтянутое иссохшей кожей, и она осенила себя знаком креста под накидкой.
Изредка на их пути попадались сторожевые башни крестоносцев. Некогда в них кипела жизнь: здесь принимали на постой паломников, отсюда выезжали отряды тамплиеров, чтобы следить за порядком на дорогах и преследовать разбойников. Теперь все было заброшено, забито пылью, а сами башни наполовину разрушены, словно какая-то сила сокрушила их мощные основания, вырвала громадные камни из стен, оставив зияющие проломы там, где многие сотни людей находили кров и приют. При виде заброшенной часовни с разбитым изваянием ангела у входа у Джоанны на глаза навернулись слезы.
Тем не менее некоторые из башен оказались в целости и сохранности. В одной из них эмира ждали: оттуда тотчас выскочил на дорогу тучный, бурно жестикулирующий араб и торопливо заговорил, указывая на длинное строение в стороне. Там находилась конюшня, где людей Малика и его самого поджидали сменные лошади.
Пока седлали свежих коней, а всадники разминали ноги, Джоанна укрылась в тени старой шелковицы. Судя по всему, прежде здесь был прекрасный сад, однако теперь оросительный канал занесло песком, а в полумиле отсюда виднелись руины акведука.
Тем временем эмир приблизился к ней.
— Вы что-то невеселы, моя пери! Утомились?
Джоанна ответила, с трудом подбирая слова:
— Скажите, господин, отчего ваши единоверцы стремятся разрушить все, что им досталось от крестоносцев? В том числе столь необходимые здесь колодцы, прекрасные укрепления и даже акведук, доставлявший воду с гор.
На потемневшем от пыли лице эмира глаза казались черными провалами. В его голосе зазвучал металл:
— Потому что люди ислама не станут пользоваться тем, что оставили после себя презренные кафиры!
Джоанна внутренне сжалась. Словно затем, чтобы еще больше удручить ее, Малик принялся рассказывать, как местные жители уничтожают постройки неверных, кажущиеся возведенными на века. Под надзором каменщиков они расшатывают кирками нижний ряд гранитных глыб, а затем извлекают их оттуда, заменяя деревянными подпорками. Когда вся стена оказывается на подпорках, их обкладывают хворостом и поджигают, и стена рушится. Но далеко не всякая: крестоносцы строили так надежно, что порой здание целиком оседает вниз, накренившись или частично осыпавшись. После этого в нем уже невозможно жить.
Трудно понять, зачем это делается, причем с таким рвением. Или сарацины до сих пор опасаются, что однажды сюда вернутся прежние хозяева?
После короткого привала отряд продолжил путь. Окрестные холмы покрывала скудная растительность, а в ложбинах между ними кое-где виднелись палатки бедуинов из черного войлока. В бедуинских становищах блеяли козы, невозмутимо возлежали, пережевывая жвачку, верблюды, а мужчины в черных одеяниях и женщины с смуглой и сухой, как старый пергамент, кожей занимались привычными делами. Лишь дети бедуинов выбегали к обочине в надежде выпросить у всадников мелкую монетку, но те проносились мимо в облаках желтоватой пыли.
Только теперь Джоанна почувствовала, что начинает уставать. До сих пор ей помогал опыт наездницы, но мало-помалу она начала отставать. Пыль забивала легкие, глаза разъедал пот. Солнце стояло прямо над головой, словно занесенный для удара огненный молот. Еще миля — и конь под Джоанной начал спотыкаться.
Заметил ли Малик ее состояние, или его воины, казавшиеся железными, тоже утомились, но вскоре он велел отряду остановиться у бежавшего по камням мелкого ручья. Пока сарацины поили коней и пили сами, Джоанна отошла в сторону и намочила свое покрывало. Так же поступили и сарацины, весело обливая друг друга. Судя по их оживлению, они знали, что этот переход — последний.
Эмир подвел Джоанне ее лошадь.
— Вы великолепно держались, Джованна. Но скоро уже Назарет, где вас напоят шербетом и дадут отдохнуть. Если, конечно, вы захотите — ведь христиане так нетерпеливы, когда у них появляется возможность преклонить колени у своих святынь.
— Я полагаю, что окажусь столь же нетерпеливой.
— О, я и не сомневался, — засмеялся эмир. Внезапно лицо его стало серьезным: — Должен предупредить, что, несмотря на всю вашу горячность, вы не должны обнаруживать, что вы — христианка. Если, конечно, не хотите привлечь к себе внимание. Ибо даже я не смогу оградить вас, если по городу разнесется весть о знатной женщине из кафиров, пробравшейся в самое сердце земли, где почитают Пророка!
Джоанна пообещала соблюдать осторожность. Мысль, что вскоре она окажется в святых местах, воодушевила молодую женщину, вернула ей силы. И когда отряд начал спускаться в небольшую долину, раскинувшуюся среди холмов Галилеи, и вдали показались светлые домики под зеленой сенью смоковниц, по ее лицу потекли слезы радости.
Назарет!
Едва они въехали в город, эмир Малик покинул Джоанну, приставив к ней трех вооруженных воинов, а сам помчался дальше. Молодая женщина спешилась на узкой улочке и едва смогла устоять. Пришлось ухватиться за стремя, ибо ноги совершенно одеревенели после столь долгого переезда. И все же Джоанна была счастлива. Она на Святой земле!
Охранники отвели ее в небольшой дом, где она утолила жажду и перекусила куриным супом, заправленным мукой, луком, яичными желтками и пряной зеленью. Издали доносилось пение муэдзина, и внезапно оно показалось Джоанне кощунственным в этом городе, где ангелы спустились на землю, дабы принести Марии и всему человечеству благую весть. Но с этим ничего нельзя было поделать, и она, закутавшись до самых глаз, вышла на улицу и едва не наткнулась на оборванного старика в грязной чалме. Он что-то бормотал, повернувшись лицом к Мекке и низко кланяясь, а затем опустился на колени на расстеленную циновку и уткнулся лбом в землю. Он то выпрямлялся, то снова падал ниц, время от времени повторяя: «Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Субхана раббияль-а'ля!»[140]
Джоанна рвалась к святыням, а оказалась среди совершенно безразличных к святости этого места людей. Возможно, неверные и почитали Ису и его мать, но они поспешно превратили в мечети построенные крестоносцами белокаменные храмы с высокими стрельчатыми окнами. И она не могла даже войти в них, чтобы помолиться!
Молодая женщина молча ходила по улицам, разглядывая домики в тени олив и смоковниц, окружавшие храмы, монастыри и дома для пилигримов. Прежде сюда стекалось множество христиан, колокола звали к мессе, а в церквях возносили хвалы Господу и его Пречистой Матери. Город расцвел при крестоносцах, а его население удвоилось. До того он лежал в руинах, придя в запустение с тех пор, как мать римского императора Константина I святая Елена совершила паломничество сюда и велела возвести на том месте, где стоял дом Иосифа и Марии, великолепную византийскую базилику. Впоследствии и эта базилика была разрушена все теми же мусульманами, и лишь с приходом крестоносцев здесь появилась большая церковь Благовещения, вокруг которой и начал разрастаться город.
Джоанна прошла к мечети, в которую ныне был превращен главный христианский храм Назарета. Прохожие лишь мельком поглядывали на закутанную до самых глаз стройную женщину, разглядывавшую остатки изображений на капителях собора: крестоносцев, скачущих на лошадях, сцены из жизни Христа. Они были изваяны так просто и убедительно, что рука неверных лишь кое-где поднялась, чтобы разрушить их. В другой церкви над полукруглым порталом виднелись остатки изображения парящих крыльев, и Джоанна поняла, что это храм Архангела Гавриила, вестника небес. Были здесь и другие церкви, и молодая женщина переходила от одной к другой, полная тихой радости. Она на земле Спасителя, по этим камням Он ступал босыми ногами, здесь стучало тесло святого Иосифа, а Мария с кувшином спускалась к источнику за водой!
Джоанна старалась ни на кого не обращать внимания, чтобы не нарушить торжественной тишины в душе, и одну за другой шептала молитвы. И в конце концов оказалась под древним платаном перед обложенным камнем колодцем. Словно что-то толкнуло ее в грудь. Здесь! Да, именно здесь ангел Господень спустился на землю, чтобы подать Марии весть о том, что у нее родится сын — Спаситель Мира!
Колени молодой женщины подкосились, руки сами собой сложились на груди для молитвы, но неотступно следовавший за ней страж успел подхватить ее под локоть и удержать. При этом он что-то резко проговорил на своем гортанном наречии, и голос его был полон негодования.
Джоанне пришлось вернуться к реальности. Она присела на камень в стороне и стала смотреть на женщин в чадрах, собравшихся у колодца. Пока наполнялись их кувшины, они судачили между собой, время от времени поглядывая на светлоглазую незнакомку в шафрановой накидке. После долгих лет владычества крестоносцев и здесь было немало светловолосых и светлоглазых детей, но в этой женщине они сразу почувствовали нечто чужое.
Женщины уходили и приходили, пробежала, высунув язык, собака, проехали какие-то всадники, протрусил старик на ослике, обвешанном вязанками хвороста, но Джоанна не видела ничего. Склонив голову, она упрямо молилась — ведь только ради этого она и стремилась сюда. Двенадцать раз подряд она прочла «Ave Maria», чередуя ее с «Pater noster», а затем все повторила снова, с еще большей силой и убежденностью. Где же и молиться заблудшей душе, если не там, где жили ее небесные покровители, полные милосердия и любви!
И в ее душе все еще были живы отзвуки той странной и прекрасной любви к человеку, думая о котором Джоанна испытывала страдание и гнев… К человеку, с которым она познала неземную радость и обрела уверенность в себе…
Внезапно она повысила голос, обращаясь к Пречистой Деве с мольбой, чтобы то прекрасное, что довелось ей познать, не обернулось обманом. Это была нелепая, ненужная просьба, но она не могла не высказать ее, и ее не могло остановить ни присутствие охранников, ни взгляды прохожих. Молодая женщина молилась о том, чтобы ее мечта исполнилась…
Наконец она умолкла, устремив взгляд к небу, и ее душа наполнилась тихой музыкой. Неважно, что на нее подозрительно косятся женщины-мусульманки у колодца, неважно, что дюжие воины пытаются заслонить ее от посторонних глаз! Сейчас она не думала о них, потому что чувствовала себя счастливой.
Спустя некоторое время суровые стражи отвели ее в уединенный дом, где Джоанна опустилась на покрытую ковром лежанку и уснула так глубоко и спокойно, словно сбросив с плеч неподъемный груз. Проснулась же, ощутив чье-то легкое прикосновение. Еще во сне она прошептала: «Мартин». И стремительно села.
На нее с улыбкой смотрел эмир Малик.
— Вы что-то сказали, моя нежная пери?
Джоанна убрала с лица рассыпавшиеся волосы и попыталась расправить смявшуюся во сне одежду. То, как смотрел на нее этот вельможа, ей вовсе не понравилось.
Заметив ее смущение, эмир отвернулся и отступил к выходу. Его длинная тень падала на плотно утрамбованный глиняный пол: значит, солнце уже склоняется к западу.
— Нам пора ехать? — спросила Джоанна.
— Не мне. Это вам пора.
Не скрывая огорчения, он поведал, что дела вынуждают его остаться, но для нее было бы лучше отправиться в путь прямо сейчас. Достаточно ли она отдохнула, чтобы снова выдержать трудную дорогу?
Прощаясь, он долго не выпускал ее руку из своей.
— Если на то будет воля Аллаха, нам суждено встретиться снова, — наконец проговорил он.
Его удлиненное смуглое лицо, обрамленное темной бородой, казалось в эту минуту торжественным, а взгляд — нежным и печальным.
Однако Джоанна напрочь забыла об эмире, когда, уже поднявшись на возвышенность, обернулась в седле и в последний раз окинула взглядом Назарет. Она совершила свое паломничество и попросила о том, что казалось ей важнее всего!
На обратном пути она скакала легко, уверенно преодолевая милю за милей. Снова были остановки в пути, смена лошадей, пыль и песок, хрустящий на зубах, несмотря на покрывало, и ломота во всех мышцах от долгих часов, проведенных в седле.
Багровое солнце уже наполовину опустилось за горизонт, когда она вновь оказалась под низкорослыми кедрами у подножия известняковой скалы, и суровый Дрого едва не разрыдался, обнимая в нарушение всяческого этикета свою госпожу, словно она вернулась из преисподней.
Джоанна догнала обеих королев и их эскорт, когда те возвращались в Акру после проведенного в обители отшельника дня. Ее запыленный и усталый вид удивил обеих дам, и хотя нижний край ее синего платья был весь покрыт клочьями лошадиной пены, Пиона отметила, что гнедая Джоанны гарцует так резво, словно и не носилась весь день по окрестностям.
— Вы все больше удивляете меня, кузина, — заметила она. — Хотелось бы надеяться, что ваше странное поведение — всего лишь очередная причуда.
Джоанна только улыбнулась в ответ. Несмотря на усталость, она испытывала необычайную легкость в душе.
Однако эта легкость тут же куда-то пропала, когда слуги доложили, что маршал Уильям де Шампер вернулся из Антиохии вместе с Обри де Ринелем.
В тот же вечер королю Ричарду подали только что прибывшего почтового голубя. К лапке птицы была прикреплена маленькая записка:
«Вы были правы. Я нашел ее восхитительной».
ГЛАВА 19
Мартин проснулся весь в поту, стуча зубами, как от озноба. Но сам понимал — это страх.
Ему снились пытки: металось пламя в жаровне, слышался лязг металла, несло угаром. А потом тот вонючий палач в грубом кожаном переднике подносил к его телу раскаленный добела прут. Мартин втягивал живот, пытался хоть немного отдалиться от адского жара. Над его головой звучал голос де Шампера: «Кто дал тебе письмо к королю Гвидо? Кто хочет, чтобы мы выступили к Тивериаде? Но только не лги, что это послание вручила тебе графиня Эшива!»
Де Шампер говорил спокойно, но взгляд его серых глаз безжалостно пронизывал Мартина, как еще одно орудие пытки. Затем следовало сухое и краткое: «Жги», и узник начинал корчиться, выть, задыхаться от запаха собственной сгорающей плоти…
Мартин резко сел, все еще затрудненно дыша, потом откинулся на смятые, мокрые от пота простыни. Рука непроизвольно коснулась рубцов на ребрах, оставленных раскаленным прутом. Почудилось, что боль никуда не ушла и вот-вот вернется снова… Нет! К дьяволу! Все это уже в прошлом.
Его дыхание постепенно выровнялось.
До чего же душно! Даже закрытые ставни не сохраняют прохладу в этой угловой комнате, где он поселился после того, как получил место при короле Гвидо. В щели ставен пробивался солнечный свет — в это послеполуденное нестерпимо жаркое время Мартин, как и большинство крестоносцев, предпочитал отсыпаться. И ему снились кошмары из прошлого.
Он поднялся, взял в углу кувшин с водой и опорожнил его себе на голову. Вода была теплой, но, тем не менее, помогла. Теперь все в порядке. Маршал де Шампер даже не догадывается, что тот, кто доставил послание от Эшивы Галилейской, находится в одном с ним городе. Или все-таки догадывается?
Мартин оделся и спустился по узкому коридору в потайную комнату. Там лежал связанный по рукам и ногам лекарь Иегуда бен Авриэль, во рту его был кляп. Когда Мартин извлек тряпку, еврей несколько минут надсадно кашлял, потом попросил воды и стал жадно пить.
— Ты не очень-то милосердно обращаешься со мной, юноша… — наконец выговорил старый лекарь.
— А вы разве были милосердны, сообщив тамплиерам, что осматривали меня?
Иегуда взглянул с упреком. Несколько дней назад его вызывали в Темпл, чтобы осмотреть на предмет наличия проказы некую женщину. Подозрения не оправдались, и Иегуда мог бы уйти, но он решил расположить к себе храмовников, поведав им, что недавно осматривал одного молодого человека, который общался с прокаженными, однако не обнаружил у него болезни. Это свидетельство заинтересовало храмовников, лекарь в знак одобрения даже получил подорожную грамоту для себя и пары своих слуг. Но затем Иегуду стали разыскивать, чтобы более подробно допросить о его пациенте. Случайно прослышавший об этом Эйрик не позволил еврею вторично отправиться в Темпл и заманил под надуманным предлогом в дом Сарры. А там Мартин лишил лекаря возможности не только передвигаться, но и давать какие бы то ни было показания.
Излишняя предосторожность? Мартин решил, что она не помешает, особенно после того, как выяснилось, что Иегуду разыскивают по всей Акре люди маршала де Шампера. У этого тамплиера нюх ищейки, и уж если что-нибудь покажется ему подозрительным, он не остановится, пока не распутает все узлы до последнего. В особенности Мартину не понравилось то, что Иегуду расспрашивали, как выглядел тот молодой человек, которого он осматривал, и старый болтун не удержался и упомянул о шрамах от ожогов на груди мнимого прокаженного. Конечно, каких только шрамов и отметин не бывает у людей на войне, но Мартину стало не по себе, потому что во всем этом был замешан его старый враг де Шампер.
Однако он все же объяснил Иегуде, в чем причина его заточения, и тот стал возмущаться, говорил, что понятия не имел, какие последствия может иметь его беседа с тамплиерами. Но теперь у него есть подорожная, и вместо того, чтобы томиться в каменном мешке, он давным-давно мог бы покинуть город.
Это так, но лекаря слишком хорошо знали в Акре и могли перехватить по пути. Нет уж, рассудил Мартин, пусть уж пока побудет здесь, а впоследствии Мартин вывезет его из города вместе с Саррой и ее семьей или просто отпустит на все четыре стороны, если лекарь предпочтет покинуть Акру самостоятельно.
— Но когда же это произойдет? — не столько спрашивал, сколько молил Иегуда, и даже захныкал, когда Мартин снова связал его и заткнул рот. В этом мальчике, на которого некогда не могла нарадоваться Сарра, теперь появилось что-то такое, что до смерти пугало старого лекаря и вынуждало его безропотно повиноваться.
Мартин и сам не знал, когда они смогут уехать. О, если бы он успел увезти Сарру с детьми сразу после того, как крестоносцы вступили в город! Во всеобщем хаосе это было бы легко осуществить — в ту краткую пору никто не проверял отплывающие из гавани суда, не следил за городскими воротами и не допрашивал с пристрастием любого конного или пешего, не имевшего подорожной. Но именно тогда у Леа началась послеродовая горячка, да и младенец ее был слишком слаб, чтобы пуститься с ним в дальнюю дорогу. Сарра наотрез отказалась ехать и подвергать домочадцев риску, к тому же она надеялась, что теперь, под покровительством короля Гвидо, им ничего не грозит.
Это было заблуждением. Мартин места себе не находил, замечая, что еврейские женщины, которых он представил Гвидо в качестве служанок, не справляются со своими обязанностями, больше того — вызывают подозрения у коннетабля Амори. Однажды коннетабль вызвал Мартина к себе и напрямик заявил, что раз он родом из пуленов, то должен и сам видеть, что предоставленные им королю служанки вовсе не из сарацин, а самые что ни на есть еврейки. Амори трудно было провести, да и в таком городе, как Акра, где многие знали госпожу Сарру бат Соломон, он с легкостью мог выяснить, что она — вдова богатого еврейского ювелира.
— Ты хитришь, аскалонец, — грозно молвил коннетабль, с подозрением глядя на нового рыцаря из свиты короля Гвидо.
Мартину пришлось объясняться. Да, Сарра и ее семья — евреи, но это добрые люди, благодаря которым ему удалось выжить в плену. Он обязан им, и оттого хочет их защитить.
Благо Амори не стал вникать в подробности, так как считал, что крестоносцы и впрямь многим обязаны верному Мартину Фиц-Годфри. К тому же у коннетабля хватало иных забот: набор добровольцев в отряды Гвидо, отстаивание его прав перед людьми Конрада Монферратского и вдобавок защита тех пуленов, которые надеялись вернуть свои дома в Акре, занятые крестоносцами, не желающими уступать их хозяевам. Что значила рядом с этим какая-то еврейка с ее малолетними детьми?
Мартину удалось вернуть расположение коннетабля, взявшись обучать воинскому делу воинов-новобранцев, и тут уж Амори убедился, что аскалонец действительно умелый воин и наставник — мечом, копьем и вдобавок бичом тот владел отменно. Должно быть, парня еще в детстве обучил этому искусству какой-то сарацин в поместье его отца.
На время послеполуденной сиесты Мартин оставлял новобранцев в покое. Поэтому сейчас он занял место в воротах, сменив томившегося там воина. Стоя в тени арки ворот, он заметил на галерее, опоясывавшей дворик, Сарру — та выколачивала пыль из переброшенных через балюстраду тюфяков и покрывал. Пожилую госпожу новые хозяева особняка не щадили, заставляя работать в самую жару, а домоправитель, поставленный королем Гвидо, недавно грубо толкнул женщину, решив, что она недостаточно усердна.
Мартин не мог за нее вступиться, чтобы лишний раз не привлекать к себе внимание, но сердце его сжалось. Почтенная Сарра старалась изо всех сил, но ее сноровки и навыков не хватало для прислужницы, а слуги Гвидо без конца болтали, что еврейка хитрит и не желает уходить из своего дома, потому что где-то здесь у нее припрятаны сокровища.
В этом они не ошибались, и Мартину весьма не нравились эти разговоры. Он знал: госпожа Сарра уже неоднократно пожалела, что не согласилась уплыть из Акры на корабле, пока такая возможность еще существовала. Но Леа и беспомощный младенец, но смутная надежда, что Мартин все устроит, и она сможет остаться в своем доме… И вот теперь ей приходилось трудиться не покладая рук, старой служанке Циле уже не хватало сил, и хотя роженицу до поры оставили в покое, зато дети Сарры были на побегушках, то и дело получали пинки и затрещины за нерадивость, а верный Муса был отправлен на конюшню, где чистил лошадей и выгребал навоз из стойл.
Словом, не так уж удачно все складывалось, как представлялось поначалу. Поэтому при встречах с Мартином и Сарра, и ее домочадцы в один голос умоляли его как можно скорее увезти их отсюда. Но именно теперь это было труднее всего сделать. В городе содержалось множество пленных сарацин — бывших воинов акрского гарнизона, и после того, как были пресечены несколько попыток побега, даже мышь не могла покинуть Акру без специального на то разрешения. В кварталах, населенных мусульманами, то и дело проводились обыски и облавы с целью выявления сторонников пленных эмиров, а также лазутчиков, которые могли бы подготовить их побег.
И вдобавок Мартину приходилось прятать в потайном помещении болтливого лекаря. От Иегуды бен Авриэля следовало бы избавиться, пока его кто-нибудь не обнаружил в доме, битком набитом оруженосцами, пажами и приближенными короля Гвидо. Эйрик советовал попросту придушить старого еврея, но Мартин испытывал благодарность к Иегуде, который помог ему освободиться от страхов, связанных с проказой, и не решался на такой шаг.
Тем не менее эта благодарность в любой момент могла погубить самого Мартина. И тогда госпоже Сарре с ее семейством вовсе не на кого будет надеяться.
Когда солнце склонилось к закату, жара спала. Жители Акры начали выходить из домов, а Мартин передал свой пост у ворот другому воину и отправился в порт. В любом случае покинуть город морским путем было бы гораздо безопаснее длительного путешествия через всю страну, разоренную войной.
Он приходил в гавань и раньше, но всякий раз убеждался, что обстановка не благоприятствует бегству еврейского семейства. Здесь повсюду сновали орденские братья — госпитальеры и храмовники вперемежку, шли проверки и дознания, все суда тщательно осматривались таможенной стражей, в особенности те, что покидали порт. А шкиперы, с которыми Мартину удалось потолковать, не желали рисковать и ни за какие деньги не соглашались взять на борт людей, не имеющих подорожной, подписанной одним из предводителей крестоносцев.
Этим вечером Мартин стал свидетелем сцены, как с одной из фелук стражники сводили на берег каких-то бедолаг мусульман; те пытались что-то объяснить, но воины, не желая ничего слушать, колотили их древками копий и гнали в сторону караульного помещения.
Обычная картина для завоеванного города. Но в то же время в порту постепенно налаживалась мирная жизнь. Резня, подобная той, что разразилась в Иерусалиме после завоевания Священного города крестоносцами, в Акре не повторилась. Местных жителей не тронули, так как армия нуждалась в плотниках и пекарях, банщиках и сапожниках. Снова слышались крики зазывал у лавок, сновали закутанные в покрывала женщины с плоскими корзинами на головах, мчались с поручениями пажи в пестрых туниках с гербами своих господ, водоносы на ломаном франкском наречии предлагали утолить жажду, ревели ослы и верблюды, блеяли овцы, которых носильщики-хамбалы волокли на берег по сходням одного из судов. В воздухе витали запахи смолы, водорослей, специй; наряду с арабской и тюркской, повсюду звучала певучая итальянская речь.
Освобождение Акры принесло едва ли не самую большую радость итальянскому купечеству. Уже было решено, где расположатся их торговые кварталы — пизанские, венецианские, генуэзские — каждый с особыми правами и привилегиями, и вовсю заключались сделки. Итальянцы поставляли крестоносному воинству металл и кожи, древесину и вина, а вывозили из Палестины пряности и благовония, чеканные изделия арабских мастеров и восточные ткани.
Мартин устроился в тени штабеля бочек, рассеянно грызя фисташки, купленные у лоточника. Выглядел он как многие из крестоносцев: на поясе меч в ножнах, сзади за пояс заткнут свернутый длинный бич из сыромятной кожи, толстая кожаная куртка с нашитыми на нее стальными пластинами, на голове — полусферический шлем-чечак с наносьем и стеганым капюшоном-подшлемником, частично скрывавшим скулы и подбородок воина.
Узнать его в этом облачении было непросто — точно так же экипировались сотни других воинов Христа, наводнивших город, и лишь герб Лузиньянов на груди Мартина свидетельствовал, что перед вами — человек короля Гвидо. Тем не менее он старался держаться скрытно и ни в коем случае не привлекать к себе внимания.
На то были веские причины. Вот и сейчас ему пришлось низко опустить голову, словно изучая носки собственных сапог, — к одному из причалов направлялась небольшая группа рыцарей-лазаритов. Проклятье! До сих пор ему удавалось не сталкиваться с ними в переполненной воинами Акре, хотя, изыскивая способ выбраться отсюда, он постоянно бродил по улочкам, прилегающим к крепостным стенам, да и в порту бывал неоднократно.
Лазариты прошли совсем близко, но их лица, скрытые горшкообразными топхельмами, были обращены к морю. Мартин проследил за их взглядами: между двумя башнями, венчавшими оконечность портового мола, в гавань входил большой корабль. На его кормовом флагштоке полоскался на ветру ало-синий стяг Антиохийского княжества. Палубные матросы убирали и сворачивали паруса, часть весел уже была поднята на борт. Когда корабль приблизился к причалам, Мартин заметил на верхней палубе несколько рыцарей с зелеными крестами на коттах. Новые братья ордена Святого Лазаря! Это их явились встретить прокаженные рыцари — в отряд Благой Смерти прибыло пополнение.
Мартин оставался в своем укрытии, пока лазариты вместе с вновь прибывшими не удалились. Выждав некоторое время, он тоже собрался идти — сегодня в порту не было ни одной, даже самой утлой лоханки, с капитаном которой можно было бы потолковать о рейсе в один из портов Ромейской империи и пассажирах особого рода.
Мартин поднялся, поправил пояс с мечом, но внезапно вновь устремил пристальный взгляд на судно из Антиохии. С него по сходням пассажир-сарацин в темной чалме осторожно сводил на причал серую в яблоках кобылу, и оба — лошадь и человек — были ему знакомы.
Сабир! Наконец-то! Вот кто ему был нужен здесь. С таким помощником дело у них пойдет на лад. Потому что, как бы расторопен и исполнителен ни был Эйрик, но Сабир гораздо умнее и предприимчивее.
Мартин видел, как к Сабиру подошли стражники и принялись расспрашивать, затем позвали одного из орденских братьев, но в конце концов отвязались и пропустили. Вот и доказательство того, что ныне попасть в Акру куда проще, чем покинуть ее.
Мартин зашагал наперерез Сабиру. Тот его мгновенно заметил, но сделал вид, что не узнает, и продолжал идти, озираясь, как человек, впервые оказавшийся в незнакомом месте. Мартин догнал его и на ходу ощупал оголовье булавы с оскаленной мордой пантеры, торчавшей за поясом сарацина.
— Опасная штука, должно быть?
Он помнил: Сабир купил это оружие еще в Дорилее и был весьма доволен своим приобретением.
Сабир взглянул на рыцаря исподлобья.
— Она просто создана для того, чтобы отбиваться от разбойников на глухих дорогах. Мир, сотворенный Аллахом, несовершенен, и бедному путнику порой приходится защищать себя.
Со стороны могло показаться, что он недоволен вниманием назойливого крестоносца, однако веселый блеск в его узких темных глазах выдавал, что он рад встрече.
Мартин негромко приказал: «Следуй за мной!» и направился к арке у входа в порт. Сабир последовал за ним, ведя лошадь под уздцы. Они были почти у выхода, когда впереди поднялась суматоха, появились какие-то всадники и принялись теснить конями прохожих, освобождая дорогу. Затем послышались мерные щелчки подков по каменным плитам и между пилонами арки появилась еще одна группа всадников. С первого взгляда стало ясно, что это весьма значительные особы. А во главе ехал не кто иной, как Ричард Львиное Сердце.
В лучах низкого солнца, садившегося в море и окрашивавшего все вокруг в розовые и багровые тона, король Англии казался просто ослепительным. Он восседал на снежно-белом коне, в длинном алом одеянии, на груди которого сверкали золотом три льва Плантагенетов. Голова Ричарда была непокрыта, но простой кованый обруч, удерживавший его золотисто-рыжие волосы, казался на нем короной. За королем следовала свита, справа, чуть приотстав, скакал длиннобородый магистр Робер де Сабле, по другую руку — молодой Роберт Лестер. А в следующее мгновение Мартин обнаружил среди вельмож того, кого опасался больше всего, — маршала Уильяма де Шампера.
Резко опустив голову, Мартин нырнул в толпу и попытался смешаться с ней, стать как можно более неприметным. Столкнуться с заклятым врагом так близко — все равно что заглянуть в лицо собственной смерти. Это было ошеломляюще и оглушающе страшно. Мартин старался успокоиться, взять себя в руки и двигаться неторопливо, чтобы ничем не привлечь внимания.
Ко всем бесам! Этот загорелый под южным солнцем надменный тамплиер с его холодными серыми глазами даже не взглянул в сторону Мартина. А он обливался ледяным потом от страха, словно сейчас тот снова, как когда-то, произнесет одно-единственное слово: «Жги!»
Немного успокоившись, Мартин принялся наблюдать за происходящим.
Рыцари столпились вокруг Плантагенета, а тот указывал им на военные суда, заполонившие всю открытую часть гавани и видневшиеся на рейде, — основную часть флота крестоносцев. При этом он что-то живо обсуждал с магистром де Сабле и маршалом де Шампером, все остальные молча слушали. Впрочем, расслышать слова Ричарда становилось все труднее — находившиеся в порту крестоносцы, заметив короля-победителя, приветствовали его громогласными восклицаниями, которые вскоре слились в оглушительный хор: «Ричард! Ричард! Слава Ричарду Львиное Сердце!»
Некоторое время Плантагенет как бы не обращал на это внимания, поглощенный разговором с тамплиерами, но затем с улыбкой обернулся к толпе, оперся на луку седла и вскинул руку в приветственном жесте. Воины разразились ликующими воплями.
Кричали все — и обступившие короля и его свиту крестоносцы, и моряки на кораблях, и торговцы. К ним присоединились жители Акры, вдруг вспомнившие, что по милости этого правителя город не подвергся разграблению. От адского шума кони ржали и метались, а всадники едва справлялись с готовыми обезуметь животными. Разросшаяся толпа все напирала, и ее едва удерживали на расстоянии от короля стражники-копьеносцы.
Ричарду возносили славу и французы в голубых накидках с лилиями, и англичане, и люди маркиза Конрада, и пулены короля Гвидо. Перед ними был тот, кто, поклявшись за месяц завершить мучительную двухлетнюю осаду, сдержал свое слово. Стоило только лишь взглянуть на этого величайшего из рыцарей-паладинов в короне, как вмиг оживали надежды на победу, на возрождение христианского королевства, на право вознести молитву у Гроба Господня, на царство небесное, в конце концов!
Ричард, склонившись с седла, улыбающийся и растроганный, протянул руку — и люди принялись ловить ее, пытаясь покрыть поцелуями или просто прикоснуться, как к великой святыне. Стражникам приходилось туго — как можно оберегать своего господина в такой толчее? — а тут еще и колокола ударили, созывая добрых христиан к вечерней службе, и их торжественный медный гул, плывущий над городом, где еще недавно звучали лишь призывы муэдзинов, еще сильнее воодушевил крестоносцев.
Плантагенет невольно взглянул в сторону Темпла, где, словно филин в дупле, все еще укрывался, без конца жалуясь на неисчислимые хвори, его союзник Филипп Французский. Слышит ли он?
Между тем стало очевидным, что никакого обсуждения планов, ради которого, собственно, Ричард и явился в порт вместе с советниками и орденскими братьями, не получится. Люди слишком возбуждены, и унять их нет никакой возможности. Поэтому он развернул коня и поскакал к Королевскому замку, а толпа потянулась за ним, благословляя и восхваляя.
Мартина толкали со всех сторон, но Сабиру каким-то чудом все еще удавалось держаться рядом. Он даже шутливо шепнул приятелю — вот, мол, самый подходящий момент, чтобы метнуть в предводителя крестоносцев кинжал.
— И быть растерзанным толпой на месте, — негромко отозвался Мартин. — Для всех этих людей король Ричард — надежда и слава. Они боготворят его.
Доказательств не требовалось — достаточно было взглянуть на то, что творилось вокруг. И все же Сабир был ошеломлен воодушевлением, царившим в Акре, и всеобщей верой в успех похода и полководческий гений короля-предводителя. Опустив голову в темной чалме, он на небольшом расстоянии следовал за Мартином, пока тот не остановился у неприметного духана в переулке за собором Святого Андре. Некогда Мартин сиживал тут со своим соименником-аскалонцем, чье имя и дела он ныне присвоил себе.
Хозяин в заведении был все тот же, но теперь вместо травяного чая посетителям подавали пиво и прочие хмельные напитки, причем гораздо лучшего качества, чем прежде, когда торговля вином велась из-под полы. За низкими столиками восседали преимущественно солдаты-христиане, но были здесь и сарацины-горожане, собравшиеся в кружок вокруг кальяна. Пробовали, пусть и неумело, покуривать кальян и крестоносцы, отчего в низком полутемном помещении стоял густой сладковатый запах сгоравших на углях трав и специй.
Хозяин едва ли мог опознать Мартина в его нынешнем облачении, но тотчас распорядился, чтобы лошадь Сабира поставили в конюшню, а сам умчался выполнять заказ: Мартин велел подать себе вяленой рыбы и светлого пива, а своему приятелю — миску куриной лапши с тушеными овощами и чистой прохладной воды.
— Здесь нас никто не потревожит, Сабир, поешь спокойно, ибо выглядишь ты изможденным.
Сабир и впрямь осунулся, его тюрбан и полосатый халат были нечистыми и измятыми, а щеки покрывала многодневная щетина. Наспех пробормотав нечто, долженствующее заменить молитву, он с жадностью накинулся на еду. Как только он управился с лапшой, Мартин велел подать еще и слоеных пирожков с зеленью и сыром. Теперь Сабир ел сдержанно, искоса поглядывая в противоположный угол, где загулявшие солдаты, напоив местного жителя, с хохотом учили его осенять себя знаком креста.
— Неверные псы! — негромко выругался Сабир.
— Тише, приятель! Сейчас они тут хозяева, поэтому не стоит привлекать к себе внимание. Город переполнен стражниками, они хватают любого, кто покажется им подозрительным.
Сабир ел, на его скулах ходили желваки, а темные глубокие глаза то и дело постреливали по сторонам, оценивая обстановку.
— Мне повезло, что я сразу встретил тебя, Мартин. Иосиф сейчас в Антиохии, он ждет тебя.
— Как мы и договаривались, — спокойно заметил тот.
— Но если тебе известно, что сын Ашера находится там, отчего ты не поспешил в Антиохию? Ведь Акра пала больше месяца назад.
О, если бы все было так просто!
Не отвечая на вопрос, Мартин попросил приятеля поведать, где он сам пропадал все это время. Они с Эйриком уже решили, что случилось худое.
— Все из-за Обри де Ринеля — да владеет Иблис[141] его душой при свете дня и во мраке ночи! Поверь, друг мой, этот шелудивый шакал доставил нам с Иосифом столько неприятностей, сколько не снилось и злобному ифриту.
Мартин вопросительно приподнял бровь, и Сабир продолжал рассказ.
Обри де Ринель исправно выполнял порученную ему Мартином роль охранника при Иосифе лишь до тех пор, пока они не пересекли границу Киликии и сделали остановку в расположенной в тех местах прецептории ордена Храма. Там желтоволосый англичанин представился тамошнему прецептору, оговорившись, что является родственником маршала ордена Уильяма де Шампера. Разумеется, храмовники обласкали его, а когда отношения между Обри и прецептором стали почти приятельскими, он сообщил ему, что сопровождает молодого богатого еврея, за которого можно получить выкуп, захватив его в плен. Киликийская прецептория весьма не богата, и рыцари решили, что и впрямь было бы не худо поправить дела за счет Иосифа бен Ашера. А далее они повели себя, как сущие разбойники: схватили юношу, перебили всю его стражу, вынудили сдаться даже Сабира, но затем освободили его и отправили гонцом в город Сис — за выкупом к отцу невесты Иосифа.
Беньямин из Сиса, прослышав о беде, постигшей будущего зятя, сперва решил было собрать требуемую круглую сумму. Но, поразмыслив, пришел к другому решению. В Киликии чтут законы, а к евреям-купцам относятся с уважением, вот он и отправился к царю Левону, зная, что тот весьма недоволен тем, что на его землях расположилась прецептория храмовников. Присутствие рыцарей Храма в своих владениях царь терпел только из уважения к императору Фридриху Барбароссе, но тот уже отправился в лучший мир, а без него рыцари-монахи лишились поддержки в Киликии. Беньямин из Сиса добился аудиенции, изложил свое дело, но дальше начались проволочки: пока чиновники Левона сильным отрядом добрались до прецептории, пока тянулись переговоры об освобождении Иосифа, прошло немало времени.
Затем Сабиру пришлось охранять сына Ашера по пути в Сис и оставаться там в течение всех свадебных торжеств. Он уже подумывал было уехать, но Иосифу в любом случае понадобился бы сопровождающий до Антиохии, куда он намеревался отправиться сразу после бракосочетания. Сабир торопил его, но Иосифу пришлось оставаться в Сисе столько, сколько того требовали приличия. В конце концов они все же покинули Киликию и прибыли в Антиохию, Иосиф зафрахтовал корабль…
— Знаешь, кого я встретил в гавани Святого Симеона в Антиохии? Обри де Ринеля! Разряженный в пух и прах, как константинопольская шлюха, он важно прогуливался едва ли не в обнимку с сенешалем Антиохийского княжества Рено де Бюрзе, братом Сибиллы, супруги князя Боэмунда. Эти двое так нежно держались за руки, так преданно смотрели друг на друга, что у меня не возникло ни малейших сомнений насчет того, в каких отношениях они состоят. А ведь супруга этого олуха Обри прекрасна, как гурия райских садов! Клянусь милостью Аллаха, меня едва не вывернуло прямо на набережной!
Мартин с изумлением смотрел на приятеля. Поистине непостижимы пути провидения… Он вспомнил Джоанну, ее сливочную кожу, земляничные уста, гордую осанку принцессы и фиалковые глаза, казавшиеся холодными и надменными до тех пор, пока он не узнал, какой огонь пылает в этом прекрасном теле. Значит, все это не имело никакого значения для Обри? Неудивительно, что лорд Незерби иной раз льнул даже к нему самому!
При этом воспоминании Мартин брезгливо поморщился. Сабир, заметив его гримасу, негромко засмеялся.
— Клянусь бородой отца, у меня было такое же лицо, когда я все это сообразил. Но хуже было другое: пока я приходил в себя от увиденного, англичанин умудрился меня заметить. Он тут же отстранился от своего любовника и начал что-то нашептывать ему, устремив на меня взгляд. Я поспешил уйти, но не успел миновать и двух кварталов, как меня догнали, обезоружили и бросили в застенок. Без всякой на то причины. Хотя — Аллах свидетель! — причина как раз была. Я слишком много знал о благородном родиче маршала де Шампера, и тот решил избавиться от меня самым простым способом.
Сабир умолк, ожидая, пока мимо их столика прошествуют подгулявшие крестоносцы, волоча с собой захмелевшего сарацина. Тот что-то пытался напевать, кивая в такт головой, концы чалмы висели, как ослиные уши, а один башмак гуляки так и остался валяться между скамьями.
Теперь в духане почти не осталось посетителей, и Сабир продолжил рассказ.
Он беспокоился, что Иосиф не догадается, куда пропал его спутник, но парень оказался не промах, навел справки, и все же выручить его не сумел. Сабир гнил в подземелье, пока за Обри де Ринелем не явился собственной персоной маршал де Шампер и силой увез его в Акру. Очевидно, де Шамперу было крайне желательно замять неприглядную историю. Ну а после того, как эти двое отбыли, Сабир уже никого не интересовал. Иосифу удалось подкупить чиновников и добиться его освобождения.
— Затем Иосиф отправил меня в Акру, велев разыскать тебя и сообщить, что в Антиохии для вас готово судно.
Прикончив последний пирожок, Сабир оперся спиной на стену духана и устремил на Мартина взгляд своих бездонных глаз.
— А что у тебя, друг мой? Далось ли позаботиться о госпоже Сарре и ее детях? Готов ли ты покинуть этот город — адское скопище неверных?
В темном углу духана кто-то монотонно бренчал по струнам, разило куриным пометом, разлитым вином и кальянным дымом, кто-то заливисто храпел на полу у стены. Уже совсем стемнело, а Мартин и Сабир все еще беседовали. Несмотря на все аргументы и разъяснения друга, сарацин не верил, что тот не в силах вывезти из Акры семейство Сарры, и склонялся к мысли, что тот нерадив и мешкает.
— О, Мартин, — укоризненно качал он головой. — Аллах покарает тебя за медлительность! Ради чего ты тянешь время, если наш добрый господин и благодетель Ашер бен Соломон еще в самом начале дал тебе совет, как поступить в случае затруднений? И разве не для того ты так долго обхаживал эту сладкую гурию Джоанну? Или ты просто решил развлечься с нею перед свадьбой с красавицей Руфь?
При звуках имени возлюбленной сердце Мартина вздрогнуло. О, если бы удалось спасти Сарру, он мог бы твердо надеяться, что получит в жены дочь Ашера! Но пока он не позволял себе даже думать о ней, сознавая, насколько Руфь далека и недостижима.
Он молчал, глядя на полированную поверхность своего шлема, лежавшего на столе. В ней отражались отблески огня, который хозяин духана успел развести в очаге. Стащив с головы стеганый подшлемник, Мартин взъерошил влажные волосы. На Сабира он не смотрел, ибо даже близкому другу не решался сказать, как страшит его возможная встреча с Уильямом де Шампером. И чем яснее он понимал, что этой встречи не избежать, что Ашер бен Соломон с самого начала все продумал и учел даже самые крайние ситуации, тем холоднее становилось у него в душе.
Должно быть, поэтому в последнее время его и мучили кошмары. Этот человек был для него смертельно опасен — и прежде всего тем, что почти сразу разгадал его, прочитал, как открытую книгу, то, что Мартин всячески пытался скрыть… Но почему он решил, что маршал узнает его? Ведь он явится в облачении лазарита, его лица храмовник не увидит, да и просьба его более чем скромна: всего лишь позволить небольшой группе женщин и детей покинуть крепость. Неужели маршал откажет, рискуя навеки опозорить сестру, которая будет изобличена в любовной связи с прокаженным? Да, де Шампер известен необыкновенной щепетильностью в вопросах чести, но пойдя на столь незначительную уступку, он выиграет гораздо больше. И все же…
Внезапно Мартин понял, что терзало его не меньше, чем страх перед маршалом. Он отчаянно не хотел, чтобы в эту историю была замешана Джоанна. Однако… пока он медлит и колеблется, Руфь ждет…
Наконец он поднялся:
— Твою лошадь я могу пристроить в конюшнях Гвидо де Лузиньяна, которому служу. Он доверчивый малый, каким был и прежде. Но для тебя вряд ли там найдется место. Так что придется тебе переночевать здесь. — Он кивнул в угол, где храпели уже не один, а трое постояльцев. — Город переполнен, ты вряд ли найдешь более спокойное место. А завтра… Что ж, если и завтра я не найду иного способа вывезти сестру нашего покровителя из Акры, я отправлюсь к де Шамперу!
Уже пробираясь по тесным и темным улочкам Акры, Мартин понял, что готов к такому шагу. Появление Сабира словно подстегнуло его, и он больше не колебался. Несмотря на то, что они с сарацином были давними друзьями, между ними всегда существовало что-то вроде соперничества в отваге и бесстрашии. Когда-то Сабир вытащил Мартина из подземелья, где его пытал де Шампер, и теперь давал ему понять, что готов сам исполнить поручение Ашера бен Соломона, раз Мартин медлит.
Сабир не понимал одного: даже израненный и раздавленный пытками Мартин был для него тогда более подходящим спутником, чем ныне пожилая еврейка, обремененная семейством… И не стоит забывать о старом лекаре Иегуде! Мартину нужна одна подорожная на всех, и только де Шампер может ее дать… Но в глубине души он продолжал надеяться, что завтра ему повезет и он отыщет в порту, например, среди тех же пизанцев, пользующихся доверием тамплиеров, шкипера, который позарится на большие деньги и возьмет их на борт своего судна.
Следующий день наступил, но удача так и не улыбнулась Мартину.
Маршал Уильям де Шампер вернулся от короля Ричарда поздно. Он видел, что по мере того, как приближается назначенный Саладином для выкупа день, король становится все более взвинченным и раздраженным. Его надеждам, что хотя бы это событие задержит Филиппа Капетинга в Святой земле, не было суждено сбыться. Уильям не хотел огорчать английского Льва, но доподлинно знал: у французского короля все готово к отплытию.
Комплеториум[142] давно закончился, но Уильям все-таки вошел в пустующую в этот час часовню Темпла. Он упрекал себя за то, что из-за бесконечных заседаний военного совета и бесчисленных орденских хлопот находит все меньше времени для бесед с Богом. Но тамплиеры были не столько монахами, сколько воинами, и вскоре предстоял большой поход, перед началом которого всегда накапливается масса дел. Как маршал ордена, Уильям отвечал за экипировку рыцарей Храма, их оружие и состояние лошадей, изо дня в день он проводил с ними многочасовые боевые учения. В этом он мог бы положиться и на командиров отрядов, но предпочитал во все входить сам. Между тем человек всего лишь предполагает. Располагает же всем Господь.
Уильям молился усердно, но его молитва выходила сумбурной. Он то читал «Ave», то обращался к Спасителю со своими тревогами и сомнениями, просил вразумить. А порой он просто застывал, склонив голову на сложенные ладони, и размышлял.
План Ричарда послать флот, чтобы он неторопливо продвигался вдоль побережья, оказывая помощь крестоносцам в походе с моря, был просто великолепен. Но вряд ли поддержка самого де Шампера в осуществлении этого замысла пригодится королю — все ляжет на де Сабле, и это сблизит магистра-анжуйца с Плантагенетом… Увы, он, Уильям, все еще ревнует де Сабле к королю, а Господь читает в его душе и знает его честолюбивые помыслы, как бы он их ни таил.
Думал он также о Джоанне и молился о ней.
Но при мысли о сестре он, сам того не желая, вспоминал и о ее супруге Обри де Ринеле. Что за ничтожество! Уильяму пришлось вытаскивать его чуть ли не из постели сенешаля де Бюрзе, чтобы заставить влиться в ряды крестоносного воинства. Ради чести рода маршал скрыл от всех его содомитские забавы, а этот наглец чувствует себя как ни в чем не бывало и вдобавок втерся в доверие к королю, заявив, что долго хворал в пути после мнимого ранения, а теперь полон пыла и готов сражаться во славу Креста. Как же Обри красовался перед Ричардом во время учений, сшибая копьем соломенные чучела и рассекая на скаку плетеные мишени на шестах. Вот, дескать, какого бойца получил Ричард Львиное Сердце! Что ж, остается надеяться, что столь же успешен де Ринель окажется и тогда, когда перед ним окажутся настоящие сарацины…
С Джоанной Обри держался учтиво и сдержанно, опасаясь, что супруге кое-что известно о его антиохийских похождениях. О, в богатой и развращенной Антиохии в самом деле можно было потерять голову и забыть о всякой сдержанности. Этот город, по-ромейски роскошный, по-восточному изнеженный и к тому же привлекающий христиан и еретиков всех мыслимых конфессий и толков, вселяет в человека крайнее легкомыслие и самые низменные побуждения. Похоже, именно это и случилось с беспутным Обри де Ринелем. Однако Уильям не стал унижать сестру и умолчал о том, кому отдал предпочтение ее муж. И если Джоанна сторонится супруга, то лишь потому, что все еще ходит к лекарям за очищающими снадобьями и опасается заразить Обри…
Но чем больше маршал размышлял о ее сближении с мнимым госпитальером или лазаритом, тем больше склонялся к мысли, что сестра была бессовестно обманута. И тем не менее Джоанна избегает мужа и по-прежнему грустит. Недолгое время, когда она вдруг снова стала веселой и шаловливой, ушло, и теперь он жалел об этом так же, как прежде осуждал ее за легкомыслие. Ведь Джоанна, что ни говори, славная девочка, живая, умная и прелестная.
Уильям еще раз от всей души помолился за сестру, за то, чтобы ее миновали все беды и болван Обри оценил ее по достоинству. Ибо она его жена перед Богом и людьми, а значит им придется жить вместе.
Стояла ночь, когда Уильям вышел из часовни. Прибывающая луна поднималась из-за башен Темпла, очерчивая их строгие черные силуэты на фоне южного неба. Город еще не уснул, воздух был теплым, с моря доносился плеск волн об уступы прибрежных укреплений. Галереи, на большой высоте пересекавшие внутренний двор и связывавшие между собой башни замка, казались гигантской черной паутиной, а каменные гаргульи на них — горбатыми демонами.
Уильям взял из стойки меч, оставленный при входе в часовню, и начал неспешно подниматься в верхние покои. В окнах башни, где располагался король Филипп, еще горели светильники, слышались отдаленные звуки музыки. Французские рыцари вели куда более светский образ жизни, чем орденские братья, и это не нравилось Уильяму — своей вольной и зачастую праздной жизнью французы смущают тамплиеров, привыкших к суровой строгости.
Но это были посторонние, суетные мысли. Облегчив душу молитвой, маршал не желал поддаваться раздражению. Поднявшись в донжон,[143] он немного задержался, чтобы напомнить подручному орденского сенешаля, что завтра ему надлежит заняться проверкой надежности внешних решеток.
Неожиданно его собеседник сообщил, что маршала ожидает некий брат-лазарит.
— В такой час?
— Он явился еще до вечерней молитвы, но, видимо, у него важное дело, раз он до сих пор здесь. Никто из нас не осмелился приказать этому несчастному удалиться. Мы… словом, мы избегали даже приближаться к нему.
Уильям знал, что накануне в Акру прибыло несколько прокаженных рыцарей. Что привело к нему одного из них? Неурядицы с жильем? Или кто-то посмел обидеть и без того несчастных братьев ордена Святого Лазаря? Месяц, проведенный в безделье, плохо сказывается на людях — больного могли оскорбить или грубо прогнать.
— Пусть придет в большую галерею, — приказал де Шампер.
Большая галерея была не чем иным, как просторным широким залом, дальний конец которого скрывался в полусумраке. Здесь еще не погасили масляные лампы, установленные на кованых треножниках, и их желтоватый свет сливался с призрачным светом луны, проникавшим сквозь высокие окна. Стену напротив, украшенную сарацинами изречениями Пророка, занимали щиты орденских братьев — бело-черные, миндалевидные, с алыми крестами.
Лазарит вышел из бокового прохода и сразу же направился к маршалу, стоявшему у окна. Его голову до плеч скрывал поблескивающий металлом топхельм, серая котта с зеленым крестом падала крупными складками поверх слабо позвякивающей кольчуги, двигался рыцарь неторопливо и грациозно, как породистый скакун. Ужасающая болезнь, из-за которой он прячет свое лицо, — и такая сила и грация в каждом движении!
Уильям ощутил, как в душу закралось смутное подозрение, но когда он приветствовал рыцаря, его голос звучал спокойно:
— Слава Иисусу Христу, брат!
— Во веки веков! — отозвался тот. Голос рыцаря из-за шлема звучал несколько приглушенно.
Шлем был прекрасной работы, прорезь для глаз довольно широкой и достаточно длинной, чтобы не мешать обозревать поле боя. Глаза лазарита показались маршалу светлыми. Были ли они голубыми?
— Я слушаю вас, брат.
Лазарит глубоко вздохнул и опустился на колено.
— Мессир маршал, прошу позволить мне покинуть Акру.
Это было неожиданно. Уильям молчал, наблюдая, как лазарит поднялся и стал пояснять:
— Я вынужден признать, что мое прибытие в Святую землю было ошибкой. Дома у меня остались неоконченными крайне важные дела, требующие моего присутствия. Мне необходимо вернуться, чтобы исполнить обязанности, которые налагает на меня мой род. Поэтому прошу вас выдать мне и моей свите разрешение отплыть на одном из кораблей, следующих в Европу.
Уильям сухо заметил, что, вступая в орден лазаритов, более того — признавая свою болезнь, рыцарю уже не должно заниматься мирскими делами. Тем более странно слышать подобные речи от брата, только что сошедшего с корабля. Ведь он не ошибается и его поздний гость прибыл не далее как вчера?
Уильям знал всех лазаритов, уцелевших после взятия Акры. Этот человек был не из них. А о тех, кто прибыл вчера, ему пока ничего не было известно.
— Это так, мессир, — произнес рыцарь, — однако уже здесь мне вручили послание, вынуждающее меня вернуться вместе со всей моей свитой. Их пятеро, в том числе трое детей, один из них — грудной младенец. Ранами Иисуса, страдавшего за нас на кресте, заклинаю вас исполнить мою просьбу!
«О своих спутниках он, похоже, заботится особенно, — отметил де Шампер. — Но что за свита у прокаженного? Какие еще дети?»
Сейчас маршал думал о хитроумных попытках мусульманских пленников бежать из Акры. На какие только ухищрения не пускались засланные эмирами в город лазутчики, чтобы вернуть свободу своим друзьям и родственникам, оказавшимся в заточении у крестоносцев. И сейчас он почти не сомневался, что нечто подобное на уме у этого воина, выдающего себя за лазарита.
— На чье же имя я должен выдать разрешение? — негромко спросил он.
До него донесся легчайший вздох. Вздох облегчения. Но маршал всего лишь позволил незнакомцу потешить себя надеждой.
— Мое имя Мартин д'Анэ. Я рыцарь из Намюра.
В груди у маршала неожиданно стало горячо. Мартин д'Анэ! Тот, кто совратил его сестру? Или это и впрямь тот, кто значится под этим именем в орденских списках и действительно болен проказой? Он как будто собирался в Палестину, но магистр госпитальеров Гарнье не был ни в чем уверен… Связан ли он каким-либо образом с Джоанной? Кто он на самом деле?
Но какие бы чувства ни бушевали в груди Уильяма де Шампера, внешне он оставался спокоен. Мартин д'Анэ перечислил своих спутников: оруженосец, слуга-араб, служанка в почтенных летах, молодая женщина с новорожденным ребенком и еще двое детей. Кто для него эти люди?
Голос незнакомца вызвал в памяти смутные образы. Совратитель, описанный сестрой, напомнил ему человека, который некогда обманным путем направил войска Иерусалимского королевства к осажденной Тивериаде, и теперь маршал пытался различить в его речи знакомые интонации. Прошло немало времени, это непросто, в особенности если учесть, что лазутчик по имени Арно де Бетсан тогда большей частью отмалчивался, а затем стонал и вопил под пыткой. И в конце концов умудрился сбежать.
Мог ли он осмелиться после всего, что с ним случилось, вновь предстать перед своим палачом? Полно — он ли это? Но кто же тогда? Лазариты утверждали, что один из членов их братства, также носивший имя Мартин, погиб во время схватки с сарацинами.
— Я бы хотел взглянуть на тех, о ком вы говорите, прежде чем дать дозволение на ваше отплытие, — де Шампер произнес это спокойно и вполне миролюбиво, добавив, что ему необходимо убедиться, что его спутники — не из числа пленников-сарацин.
Лазарит не возражал. Маршал может прибыть лично или прислать одного из своих людей, чтобы удостовериться, что эти люди не имеют отношения к плененному гарнизону Акры.
Неожиданно де Шампер сказал:
— Покажите мне свое лицо.
Лазарит замолчал.
— Не унижайте меня таким приказом, мессир, — наконец произнес он, отступая.
Прокаженные не любят, когда их обезображенные лица видят здоровые люди. Даже те, кого маршал знал в Акре, открывались только перед ним. Этот же выдавал себя за вновь прибывшего и, как и многие его собратья, мог не хотеть предъявить свое уродство, свой стыд и боль.
— И все же я настаиваю.
— Нет!
Де Шампер развел руками.
— Что ж, тогда я вынужден вам отказать.
Он повернулся и сделал вид, что покидает галерею.
— Вы не сможете мне отказать, мессир! — выкрикнул ему вслед лазарит. — Ибо в противном случае…
Маршал остановился. Рыцарь медленно приблизился к нему.
— В противном случае я поведаю вашим собратьям, что сестра их маршала, Джоанна де Шампер, была моей любовницей.
Итак — это он!
Уильям де Шампер молча разглядывал собеседника. Тем временем мнимый лазарит сообщил, что если его схватят, верные ему люди не замедлят распространить весть о позоре Джоанны. Есть немало свидетелей, которые подтвердят их слова. Например, близкий сподвижник короля граф Роберт Лестер, комендант крепости в городке Олимпус Чезаре да Гузиано, его капеллан отец Паоло и многие, многие другие.
— Ваша сестра была очень мила со мною, мессир, — наконец проговорил он. — Для меня она стала последней радостью в этой жизни, ибо болезнь вскоре наложила на меня свое жестокое клеймо.
— В виде двух шрамов от ожогов на ребрах? — перешел в атаку де Шампер.
Лазарит слегка опешил. Потом пожал плечами и заявил, что не понимает, о чем говорит маршал. У него совсем иные знаки болезни, гораздо более явственные и отвратительно безобразные. Он не станет их предъявлять, пока это не понадобится для того, чтобы все убедились — Джоанна де Шампер, кузина короля и придворная дама его супруги, состояла в связи с прокаженным.
Он говорил достаточно красноречиво и убедительно, уверяя, что останется нем, как могила, если маршал не станет препятствовать его отъезду. И все же Уильям уловил в его голосе отчаяние. Но это отчаяние было ничем в сравнении с тем отчаянием, которое испытывал сам маршал. Праведный Господь! Какой чудовищный позор!.. Если проклятый Мартин д'Анэ и впрямь болен лепрой и о его любовной связи с сестрой станет известно при дворе… Какое грязное, ничем не смываемое пятно ляжет на имя де Шамперов! Может быть, и в самом деле уступить? Но полно, не лжет ли этот проходимец? Да и кто он на самом деле, будь он трижды проклят!
— Вам так необходимо покинуть город вместе с этими людьми, что вы осмеливаетесь угрожать мне? — спросил он, скрывая растерянность и страх.
— А вы готовы унизить меня, принуждая обнажить мои язвы?
Незнакомец тяжело дышал.
— Клянусь, я не ведал о своем недуге, когда полюбил вашу сестру. И мне будет бесконечно горько, если она лишится доброго имени. Но этого не произойдет, если вы позволите мне покинуть Святую землю. Это необходимо, таковы обстоятельства. Я даже соглашусь открыться перед вами, если мы придем к согласию, и ваша честь останется незапятнанной.
Честь! Как может человек жить и считать себя равным другим, если он лишился чести? Если над ним насмехаются и избегают его?!
Уильям собрал всю свою волю. Спокойствие. Прежде всего необходимо выяснить, кто перед ним. Прокаженный? Лазутчик султана? Или просто проходимец по имени Мартин, совративший его сестру и собирающийся лишить достоинства всю его семью? Но этого он не допустит, чего бы это ни стоило.
Маршал с легким звоном извлек из ножен меч — длинный, атласно-серый, с узким и глубоким долом,[144] — подходящее оружие, чтобы сразить этого негодяя, кем бы он ни был.
Лазарит отступил, опустив руку в кольчужной перчатке на рукоять своего меча.
— Вы не в боевом доспехе, — с легкой грустью заметил он. — Схватка будет неравной.
Это так. Отправляясь на военный совет, Уильям не стал облачаться в доспех, что было бы обременительно в такой зной. Но сложившаяся за годы жизни в Палестине привычка заставила его и сегодня надеть под тунику стеганую кожаную куртку, его руки от кистей до локтя покрывали стальные наручи, а на плечах лежала кольчужная пелерина, капюшон которой был откинут на спину.
Маршал неторопливо вынул из-за пояса кожаные перчатки, натянул их и шагнул к стене, чтобы снять один из щитов. Оказавшись спиной к врагу, он напрягся, готовый мгновенно развернуться, но тот не попытался нанести удар сзади. Благороден? Презирает? Удивлен? Не успел среагировать? Де Шампер узнает это, когда дело дойдет до поединка. В любом случае человек этот не должен от него ускользнуть.
Прикрывшись щитом, маршал атаковал первым, но его стремительные и резкие, прощупывающие противника удары были с легкостью отражены лазаритом. Он повторил атаку — с тем же результатом. Клинки сшибались с резким лязгом, высекая искры.
Теперь уже ни один из сражающихся не рвался вперед — они кружили, время от времени делая выпады или нанося удары в поисках слабых мест в обороне противника. Однако и тот, и другой понимали, что затягивать поединок не стоит. Первым не выдержал де Шампер: он знал, что лазарит не посмеет убить маршала ордена в стенах Темпла, тогда как у него самого была единственная цель — уничтожить негодяя. Улучив момент, он нанес неожиданный и сокрушительный засечный удар. Меч с пронзительным свистом рассек воздух, но противник успел уклониться, отпрыгнув в сторону, и тамплиер был вынужден повернуться вслед за ним. Тотчас последовал ответный диагональный удар снизу, который Уильям сумел отразить щитом.
Мореный дуб, обтянутый бычьей кожей, выдержал, но лишь теперь маршал в полной мере смог оценить мощь противника. Тот был выше его и казался более стройным, почти хрупким, однако под его кольчугой скрывались стальные мышцы. К тому же он был значительно моложе де Шампера, быстрее и подвижнее. Отступая и расчетливо обороняясь, лазарит вынуждал его атаковать снова и снова в расчете на то, что маршал выдохнется первым и совершит роковую ошибку. Не тут-то было! Тамплиер уже знал, как заставить противника перейти в наступление: шаг за шагом он теснил его в угол галереи, где стены и колонны не позволят врагу маневрировать с такой ловкостью.
Расчет оказался верным: зажатый в углу, лазарит вынужден был ринуться в атаку, чтобы вырваться из ловушки. Он действовал с невероятной, поистине фантастической быстротой — быстрее любого воина, с которым маршалу когда-либо приходилось сражаться. Его меч наносил десятки мгновенных горизонтальных и вертикальных ударов, и большинство из них были нацелены в незащищенную голову тамплиера, ибо тот мастерски пользовался щитом для защиты корпуса.
Де Шампер едва успевал отражать этот смертоносный шквал, пользуясь то сильной частью своего меча, то краем щита, то умбоном,[145] расположенным прямо в центре креста, изображенного на щитах храмовников. Одновременно краем глаза он успел заметить, что в проеме двери показались несколько орденских сержантов, однако, помедлив, бесшумно удалились. В замке воинственного ордена поединки такого рода — вещь обычная, и нет ничего удивительного в том, что маршал решил испытать новичка-лазарита.
Уильям не окликнул их, не приказал схватить чужака. И не из гордыни, даже не из желания своей рукой отомстить за бесчестие сестры. В эти мгновения он искренне наслаждался схваткой с великолепным противником и в то же время был совершенно уверен, что тот от него никуда не ускользнет. Он в его руках. Независимо от исхода поединка, бежать ему просто некуда — ведь они в Темпле!
У лазарита была отменная кольчуга — двойного панцирного плетения, гибкая, но очень прочная. Де Шампер уже дважды задел его, но она выдержала, хотя его противник не обошелся бы без синяков, если б имел шанс выжить. Но этого шанса у него не было.
Маршал уже понял, что тот, кто противостоял ему в поединке, обучался не обычному бою на мечах, как все крестоносцы: он чаще наносил режущие удары, нежели рубящие. Это характерно для тех, кто поначалу овладел саблей, а уж затем взял в руки прямой клинок. Что, если перед ним и в самом деле сарацин? В следующее мгновение, когда их клинки скрестились и лица противников оказались рядом — одно раскрасневшееся, с прилипшими к вискам влажными прядями, другое — скрытое стальной личиной, из-под которой в свете факелов напряженно сверкали голубые глаза, он отбросил эту мысль. Его враг — не араб и не тюрк. Предатель на службе у неверных! Такие не заслуживают ничего, кроме смерти!
Однако под натиском лазарита Уильяму пришлось отступить. Он пятился, пересекая просторный зал по диагонали, а лазарит наносил удар за ударом, целя то в голову маршала, то заходя слева, чтобы добраться до той стороны тела, которую не прикрывал щит. Во время одного из разящих выпадов, когда враг оказался совсем близко, де Шампер сделал неуловимое движение, и окованный сталью край тяжелого щита, проскользнув под нижним краем топхельма, с силой врезался в горло противника.
Голова лазарита запрокинулась, он отпрянул, и этого хватило, чтобы маршал успел нанести колющий удар в плечо. Из-под шлема раздался глухой возглас, но кольчуга и на этот раз устояла. Незнакомец тут же перехватил меч в левую руку, чего де Шампер не ожидал. Он попытался закрыться щитом от свистящего горизонтального удара, но было поздно — сталь сверкнула у самых его глаз. Спасло Уильяма только то, что он рывком отдернул голову, а в следующее мгновение из-под волос на бровь, а затем и в глазницу поползла струйка крови.
Его противник одинаково хорошо владел обеими руками, но теперь, когда меч лазарита находился в левой руке, у де Шампера появилось преимущество в обороне. Поэтому он тотчас бросился в атаку, нанося один за другим множество засечных, подплужных и вертикальных ударов. Сшибаясь, клинки высекали снопы искр. Маршал торопился — кровь, стекая со лба, слепила его, у него не было ни времени, ни возможности протереть глаза, и его меч мелькал все стремительнее.
Де Шампер и сам не уловил мгновение, когда каким-то чудом ему удалось обезоружить лазарита. Клинки скрестились, острие его меча скользнуло за гарду меча противника, он резко сделал короткое вращательное движение — и меч лазарита лязгнул, ударившись о плиты пола не меньше чем в десяти шагах от них. Маршал в упор смотрел на обезоруженного врага, восстанавливая дыхание.
— Вот и все, лазарит!.. Или кто ты там на самом деле…
Однако это был далеко еще не конец. Правая рука Мартина уже обрела чувствительность и подвижность, и в следующую секунду он неуловимым движением выхватил из-за спины бич, заткнутый за пояс. Плетеный сыромятный ремень развернулся кольцами, как сонная змея.
Уильям де Шампер усмехнулся. Напрасная надежда! Что может бич против отточенного, как бритва, клинка?
Но тут же последовало молниеносное движение, плетеный ремень с шуршанием рассек воздух, и адская боль в кисти руки, которой Уильям сжимал меч, заставила тамплиера охнуть. Вшитая на конце бича свинчатка даже сквозь перчатку размозжила плоть, резкая боль обожгла, и меч тамплиера со звоном упал на каменные плиты.
«Он победил», — с изумлением понял де Шампер. Но он не мог позволить этому ловкому лазутчику уйти.
Какая ошибка! Надо было сразу кликнуть стражу!
Маршал уже готовился это сделать, когда незнакомец захлестнул бичом его колени и рванул к себе с такой силой, что храмовник рухнул навзничь. Его затылок с силой ударился о каменный пол, а в лицо сверху врезался окованный край щита. Уильям был оглушен, но это длилось всего мгновение — в следующий миг он неистово закричал:
— Стража, сюда! Ко мне!
Ему потребовалось страшное усилие, чтобы оторвать свое тело от пола и подняться на колени. Лазарит тенью пронесся мимо, его фигура мелькнула на фоне тусклых огней в плошках на треножниках и исчезла. «Неважно, — подумал Уильям. — Все равно ему некуда бежать».
В обоих концах Большой галереи уже замелькал свет факелов, показались темные фигуры спешащих караульных сержантов, среди которых было и несколько рыцарей в белом.
Приблизившись, они застыли в недоумении: маршал ордена, растерзанный, весь в поту и крови, тяжело дышащий, стоял на коленях, глаза его метали молнии.
— Схватить его! — отрывисто выдохнул Уильям, не понимая, почему они мешкают.
Но те просто не могли уяснить, к кому относится приказание маршала. Вокруг никого не было. Де Шампер рванулся, взмахнул рукой — и обернулся: в оконном проеме чернел силуэт, казавшийся в свете уже поднявшейся из-за башен луны нечеловеческим. Огромная стальная голова без шеи — и стройное сухое тело, вокруг которого плескались на ночном ветру полы длинной котты. На миг маршалу почудилось, что этот человек улыбается под шлемом, он буквально кожей чувствовал устремленный на него сквозь прорези насмешливый взгляд.
— Вот он! — прохрипел Уильям. — Эй, ты, сдавайся! Все равно тебе некуда деться!..
Но тот думал иначе. И когда стражники были уже в двух шагах, взмахнул бичом, который по-прежнему сжимал в руке, словно рассекал тьму, — и выбросился из окна.
Немыслимая высота, мощенный камнем двор внизу, острые пики во рвах, опоясывающих башни…
Растолкав столпившихся у оконного проема воинов, Уильям быстро взглянул вниз. Призрачного света луны оказалось достаточно, чтобы разглядеть, что у подножия башни никого нет. Внезапно один из сержантов ахнул:
— Силы небесные!
От увиденного у маршала перехватило дыхание.
Лазарит стоял на крыше одной из каменных галерей, висевших над двором. Как он мог там очутиться? Как преодолел открытое пространство, отделявшее окно зала от галереи? Мыслимо ли это для человека во плоти?
Уильям понял это, увидев, как тот перепрыгнул с верхней галереи на другую, расположенную значительно ниже. Прыжок был невероятно легким и как бы замедленным, словно странный незнакомец парил в воздухе. Почти не задержавшись там, темный силуэт развернулся и… рухнул вниз.
Но нет — вместо того чтобы упасть, он пролетел по дуге над двором, держась за рукоять кнута, и оказался у каменных гаргулий на следующей галерее. Его силуэт на миг слился с их горбатыми темными очертаниями, потом выпрямился и помчался по кровле перехода к одной из дальних башен замка, фасадом выходившей к морю.
— Без промедления… — выдавил де Шампер, судорожно дергая ворот кольчужного оплечья. — Бейте тревогу! Удвоить стражу у ворот, поднять всех, кто находится в Темпле! Мы не должны позволить ему спуститься по внешней стене! Схватить негодяя во что бы то ни стало — живым или мертвым!
Караульные тут же бросились исполнять приказание. Вскоре ударил гонг, затрубили рога, послышались топот множества ног и крики. Отрывисто звучали команды, лязгало и скрежетало железо опускаемых решеток.
Уильям де Шампер по-прежнему стоял у окна Большой галереи — суматоха в замке его не касалась. Рыцари и без него обыщут каждую щель и перекроют подступы к стенам. Сейчас здесь столько орденских братьев, что у незнакомца нет надежды уйти невредимым. Еще несколько мгновений, и Темпл будет оцеплен… Но этих нескольких мгновений ему вполне может хватить, — внезапно подумал Уильям.
Лицо маршала словно окаменело. Свет луны отражался в его широко распахнутых глазах.
— Ассасин, — наконец негромко произнес он. — Но почему… Почему они решили вмешаться?
Только выученики Старца Горы умели совершать такие прыжки, преодолевая в полете немыслимое для обычного человека расстояние, и с такой легкостью передвигались по каменным выступам над бездной.
И маршал вновь повторил:
— Ассасин…
ГЛАВА 20
Старый лекарь Иегуда осмотрел распухшее плечо Мартина.
— Всего лишь ушиб. Кости целы.
Мартин сидел перед ним, обнаженный до пояса, пока Иегуда смазывал бальзамом ссадины в тех местах, где оставил свои следы меч де Шампера. Ощущение не из приятных, но могло быть куда хуже. Маршал, безусловно, отменный воин, и у него был шанс.
Он молча натянул через голову рубаху.
Лекарь искоса поглядывал на рыцаря.
— Может быть, вы меня все же отпустите?
«Убирался бы ты, старик, ко всем чертям!» — с раздражением подумал Мартин.
Втроем — Мартин, Сабир и старый еврей — они теснились в подземном тайнике дома Сарры. Сарацин искоса наблюдал за приятелем, Иегуда же опять затянул ту же песню: он, дескать, исчезнет незаметно, никто его не задержит; о нем уже все забыли…
— Помолчи, старик, ради Аллаха! — резко оборвал его Сабир. — После переполоха, который Мартин устроил в Темпле, стражи в городе станет вчетверо больше. И тебя схватят, едва твои пейсы покажутся на улице. Запомни: даже в преисподней не терзают грешников так, как умеют храмовники. Эти дети Иблиса у любого вырвут признание из глотки.
Старик с горестным стоном отвернулся и, накинув на голову край своего черного кафтана, стал раскачиваться, бормоча молитвы.
Сабир помог Мартину облачиться в кольчугу и тунику с гербом Лузиньянов. Хотел было ободряюще похлопать приятеля по плечу, но вовремя сдержался.
Да, Мартину основательно досталось. И надежды договориться с маршалом де Шампером больше нет — это Сабир понял еще тогда, когда ночью в Темпле сыграли тревогу и поднялась страшная суматоха. Почти до утра в замке горели огни, его окрестности белели от плащей братьев-храмовников, словно в Акре внезапно выпал снег, повсюду слышался лязг оружия, вооруженные стражники наводнили прилегающие кварталы. Сабиру, поджидавшему Мартина в трактире на венецианском подворье, пришлось прикинуться беспробудно пьяным, но и его пару раз пнули в бок и сунули под нос факел, чтобы разглядеть лицо, и только после этого оставили в покое. С водворением крестоносцев некоторые правоверные из числа жителей города позволяли себе нарушать запреты на вино, наложенные Пророком, и таких не трогала даже стража, словно поощряя в них тягу к хмельному.
Сабир ждал, утешая себя мыслью, что суматоха в Темпле наверняка вызвана тем, что Мартину удалось ускользнуть. Но время шло, близился рассвет… Только под утро, когда надежды почти не осталось, Мартин вошел в трактир. Его волосы были мокрыми, котту лазарита и шлем он бросил по пути, кольчуга тускло блестела. А когда несказанно обрадованный Сабир крепко обнял его, Мартин застонал.
Оказалось, что во время переполоха Мартин сумел затаиться на одном из выступов висячей галереи, за гаргульей. Он провел там много часов, не шевелясь и стараясь слиться со своей горбатой каменной соседкой, от неподвижности мышцы его также окаменели, внизу, во рву, грозно торчали острия пик. Он оставался там, выжидая, когда же тамплиеры окончательно убедятся, что незнакомец сумел скрыться и в замке его нет. Только когда в Темпле все стихло, уже в предрассветных сумерках, он покинул свое укрытие, прокрался на крепостную стену, нависающую над морем, и оттуда, предварительно избавившись от шлема и котты, прыгнул вниз и вплавь добрался до гавани. К счастью, его никто не заметил, пока он пробирался к причалу между пришвартованных кораблей, и вот — он здесь.
Сабир не стал расспрашивать о встрече с маршалом де Шампером. Все было ясно без слов. Но теперь, когда его друг в унынии сидел, изредка поглядывая на раскачивающегося в молитве лекаря, он счел своим долгом заметить:
— Неудача — не повод бездействовать. Так или иначе, а нам надо выбираться из города. Старик чуть жив, да и госпожа Сарра молит поскорее увезти ее отсюда. И неверные псы начали приставать к Леа, когда та выходит, чтобы ребенок подышал воздухом.
— Что ты предлагаешь? — Мартин поднял на него глаза, которые словно светились в полумраке.
Оба заговорили на греческом, которого Иегуда не понимал, но старик был настолько погружен в свои горести и измучен заточением, что ничего вокруг не замечал и не слышал.
Мартин сразу же отверг предложение сарацина: попытаться получить подорожную у Гвидо де Лузиньяна. Гвидо и его брат Амори знают Сарру и ее родню. Их скорее всего просто выставят из дома вместо того, чтобы беспокоиться о безопасности каких-то там евреев. Что касается Мартина, то его вряд ли отпустят: у Лузиньянов и без того немного рыцарей, а аскалонец Фиц-Годфри у них на хорошем счету: он приставлен к новобранцам и обучает их ратным наукам. От этакой службы непросто отвертеться.
Спустя некоторое время Сабир снова заговорил:
— Я кое-что слышал в том трактире, пока дожидался тебя. Сейчас все говорят только о том, что французы готовы покинуть армию Мелика Рика вместе со своим предводителем-королем. Со дня на день из Акры отчалит множество судов. Не попытаться ли нам попасть на одно из них?
— И кем мы представимся? Госпожа Сарра ни в чем не похожа на знатную даму из Иль-де-Франс. Полно, Сабир, да ведь она даже за сарацинку не смогла сойти!
— Тогда остается только одно, — упрямо проговорил Сабир. — Придется тебе обратиться за подорожной к красотке Джоанне де Ринель.
Мартин молчал.
Едва ли его прелестная любовница поведала своему суровому брату-монаху о том, что ей довелось пережить по пути сюда. Но как она сама теперь отнесется к тому, кто на краткий миг стал ее возлюбленным? Ведь они не виделись с момента их торопливого прощания на Кипре, и Мартин не стремился к этому. Эйрик где-то прослышал, что леди Джоанна теперь находится в свите королевы Беренгарии и даже сопровождала ее в поездке к здешнему отшельнику, однако в городе молодая женщина появляется крайне редко. Но коль скоро она причислена к королевской свите, разыскать ее не так уж сложно…
Неожиданно его охватило волнение. Думая о предстоящей встрече, Мартин ощутил нечто очень похожее на радость. Разумеется, если Джоанна де Ринель так близка к королеве, подступиться к ней будет непросто. И не воспримет ли она его попытки увидеться вновь как непомерную дерзость?
Нет, он хорошо помнил их расставание на Кипре: как печальны были ее глаза перед разлукой, как льнула к нему Джоанна… Мартин уже тогда знал, что это их последняя встреча, и вскоре заставил себя забыть ее. А Джоанна? Помнит ли она его?
— Джоанна де Шампер занимает ныне слишком высокое положение, Сабир. Я не уверен, что могу о чем-то просить ее. И я не хочу с ней встречаться.
— Хочешь ты или нет, а ее положение при дворе Мелика Рика может сослужить нам добрую службу. Что, если она достанет для нас пропуск на один из французских кораблей?
Это могло бы стать спасительным выходом, но требовало величайшей осторожности. Джоанна — сестра де Шампера, а тот не успокоится, пока не разыщет ее совратителя. А если храмовнику взбредет в голову поведать ей о том, что произошло в Темпле накануне ночью, — как Мартин сможет взглянуть в глаза влюбленной в него дамы?
Разведать, существует ли возможность встретиться с Джоанной, было поручено Эйрику. Рыжий все еще околачивался в лагере датчан за пределами городских стен и мог когда угодно беспрепятственно входить в Акру и покидать ее, разгуливать по улицам, не привлекая к себе внимания. Правда, на рынке, где торговали пряностями, он недавно едва не столкнулся вновь с поваром леди Джоанны Бритриком и едва унес ноги, опасаясь, что тот напомнит ему о супружеском долге перед Саннивой, горничной миледи. Поэтому на разведку рыжий собирался без всякой охоты, ворча: мол, хорошо Сабиру — сначала пропадал два месяца неведомо где, а теперь отсиживается в прохладном подполе и целыми днями дремлет.
Мартин же отправился тренировать новобранцев Иерусалимского короля. Это входило в его ежедневные обязанности — не позволять людям Гвидо потерять воинскую сноровку. Но поскольку минувшая ночь выдалась для него весьма непростой, он не был слишком требователен, а когда коннетабль Амори куда-то отбыл, махнул рукой на своих подопечных и устроился в тени галереи, чтобы немного вздремнуть. В полусне до него доносилась болтовня латников с гербом Лузиньянов на туниках, толпившихся неподалеку.
Главной темой их разговоров был отъезд короля Филиппа.
— Невиданное дело: покинуть крестоносное воинство накануне большого похода! Принести обет освободить Иерусалим — и не исполнить обетования! Это просто бесчестно!
— Так оно или нет, а я слышал, что Филипп до сих пор не оправился от арнольдии и может помереть, если не уедет. Здешнее солнышко его припекает, язвы на теле то и дело открываются, пыль, москиты донимают…
— Нечего тогда было тащиться в Святую землю, если такой неженка! А как же Гроб Господень? Не он ли цель всего похода?
— А мне так даже отрадно, что французский петух уберется из Палестины. Некому станет стравливать нашего Гвидо с надменным Монферратом. Конрад и без того показал, что такое для него Иерусалим: либо, говорит, подайте мне сию же минуту корону, либо никакой Гроб Господень я отвоевывать не стану. Каково? Это при Филиппе он строил из себя ревнителя веры и первого врага Саладина, а теперь, болтают, собрался в свой Тир. И что ему крестовый поход, что обеты?
— И то правда: без Филиппа Монферрат уже не тот. А почитающие маркиза германцы теперь пойдут за славным английским Львом, как утята за уткой. Филипп походу только помеха.
— Истинно, клянусь Пречистой Девой! Многие французские рыцари, огорченные решением своего короля, решили остаться и выполнить обет. Их вроде бы возглавит бургундский Медведь. Славный воитель, не скажешь худого слова! А уж как он сам досадовал, что Филипп уезжает, — говорят, даже разрыдался, передавая волю своего сюзерена Ричарду…
Солдаты толковали о том, что волновало их в первую очередь, ибо почти все они были либо пуленами — уроженцами Иерусалимского королевства, либо прибывшими из Европы простолюдинами, надеявшимися получить здесь за верную службу кусок земли или завести торговлишку со старой родиной. Но за свое будущее благополучие им еще предстояло повоевать.
Пока же они просто чесали языки, перемывая косточки своим предводителям, а их голоса в ушах Мартина постепенно сливались в монотонный гул. Под него он и уснул, глубоко и сладко. Ему приснилась Джоанна — такая, какой он часто видел ее в снах: лукавая, ласковая, манящая… Он целовал ее яркие, как свежая земляника, уста, зарывал пальцы в шелковистые волосы цвета ночи, вдыхал сливочный запах ее кожи… О, как он желал ее в этот миг забытья! Как хотел обладать ею и погрузиться в волны упоительного наслаждения!
— Спишь, Фиц-Годфри? — вернул его к действительности разгневанный возглас воротившегося коннетабля.
Пришлось вставать, собирать разбредшихся новобранцев, отдавать команды, учить их приемам копейного боя, атаковать, самому схватываться с каждым, несмотря на тупую боль в плече.
Проклятый де Шампер! Что он мог поведать сестре? Или она ему?
Ближе к вечеру Эйрик вернулся с известием: Джоанна де Шампер обычно посещает с Беренгарией Наваррской местные храмы. Завтра они с королевой собираются к ранней мессе в собор Святого Андре. Это ли не удача, учитывая, что в такую рань в соборе присутствуют считаные прихожане?
От Эйрика с его живым, неугомонным и простодушным нравом в Акре было немало пользы. В отличие от Сабира, который вконец расстроил в этот день Мартина тем, что прикончил старого Иегуду, засунув ему в глотку рукоять бича, забытого Мартином в тайном помещении.
— А что было делать, если старик внезапно впал в исступление, — оправдывался сарацин в ответ на упреки Мартина. — Начал биться, вопить, выть — мол, не в силах больше выносить заточение. Я и попытался его утихомирить, да малость перегнул палку…
Мартину было жаль старого врачевателя. Да и как объяснить случившееся Сарре, относившейся к старому другу семьи с глубоким почтением? Придется солгать, что Иегуду бен Азриэля попросту отпустили. Но как быть с его телом? При такой жаре оно начнет стремительно разлагаться. Вот и оставить бы Сабира наедине с ним, пусть насладится делом своих рук…
Это, однако, было бы слишком опасно. Поэтому Мартину пришлось вызваться вне очереди в ночной караул. После полуночи он бесшумно отворил боковую калитку, ведущую в переулок, и в нее тотчас выскользнул Сабир, унося на плечах закутанное в холстину тело несчастного еврея. Ему предстояло избавиться от него в укромном месте, а затем отправиться во все тот же духан. И Мартину будет спокойнее, если его чрезмерно прыткий приятель пока будет держаться в стороне от резиденции Лузиньянов. А ведь как он поначалу радовался появлению Сабира!
И тем не менее в ту ночь Мартин размышлял не столько о Сабире и злосчастной судьбе старика Иегуды, сколько о предстоящей встрече с Джоанной. Сменившись под утро, он немного вздремнул, привел себя в порядок и, закутавшись в долгополый плащ, направился к величественному собору Святого Андре.
Мартин не предполагал, что будет так волноваться. Сердце оглушительно стучало, он то спешил, то, наоборот, замедлял шаг, гадая, как произойдет их встреча. И все же что-то подсказывало ему, что женщина, которая так любила, не предаст. Впрочем, все зависит от того, что сказал ей Шампер. Однако то, что творилось с ним сейчас, эта смутная радость, тревога и трепет, напоминали чувства юнца, впервые отправляющегося на свидание. Чем это объяснить?
Колокольня храма вонзалась в едва начавшее светлеть небо подобно стреле. Расположенный на высоком холме, собор был выстроен в новом стиле, который называли французским или готским.[146] Мартину доводилось видеть подобные церкви близ Парижа — в Сен-Дени, они оставляли неизгладимое впечатление. К несчастью, внутреннее убранство собора сильно пострадало, так как мусульмане уничтожили великолепные скульптурные изображения святых и ангелов. Уцелели лишь лилии на капителях стройных колонн, помещенные туда в память о короле Людовика, отце Филиппа Французского. Тот в недалеком прошлом посетил Сен-Жан-д'Акр и впоследствии прислал сюда лучших мастеров — они-то и украсили собор Святого Андре стрельчатыми сводами и рядами изящных окон.
У входа в храм топтались несколько охранников с копьями. На их накидках виднелись гербы Плантагенетов, и это означало, что королева уже здесь. У Мартина потребовали представиться, но герб Лузиньянов на его котте и названное им имя вполне удовлетворили воинов, и они расступились. У входа Мартин задержался у чаши с освященной водой, коснулся ее поверхности и, опустившись на колено, осенил себя знаком креста. И тут же отступил в тень под хорами: стоявший неподалеку прихожанин обернулся, и он узнал в нем капитана Дрого. Саксу ни к чему видеть Мартина, но само его присутствие подтверждало — Джоанна здесь.
День едва занимался, и под сводами храма еще было сумеречно. Ни одно из высоких окон не было застеклено, и свободно влетавшие сюда голуби рядами сидели на карнизах под сводами. Внутреннее пространство собора — широкий центральный неф и боковые приделы, скрытые за рядами колонн, — было совершенно пустынно. Мартин, словно тень, перемещался вдоль правого бокового придела, постепенно приближаясь к алтарю, перед которым застыли две коленопреклоненные женские фигуры. На алтаре горели свечи, с хоров доносилось мелодичное пение, возносился дымок ладана.
Королева Беренгария молилась страстно, то воздевая руки к небесам, то простираясь крестом на каменных плитах пола. Джоанна же казалась застывшим изваянием. Ее голова была смиренно опущена, глаза устремлены на четки, янтарные бусины которых она машинально перебирала.
Мартин осторожно выглянул из-за колонны — и уже не смог отвести взгляд.
У него перехватило дыхание, он почувствовал, как туго забилась жилка на виске. Сила удара, неожиданно нанесенного ему красотой этой молодой женщины, была поистине непреодолимой.
Она показалась ему невероятно прекрасной, но это была не та холодная и далекая красота, которой можно только восхищаться. Джоанна была родной — он это чувствовал всем своим существом. Изящная головка под легкой дымчатой вуалью, поблескивающий обруч поверх нее, молитвенно сложенные руки. Ее профиль казался светящимся в сумраке храма: угадывались длинные ресницы, тонкая линия носа, слегка припухшие губы… О, он помнил, как целовал эти губы, какие они сладкие и доверчивые!..
Он оперся плечом о колонну, продолжая жадно смотреть на Джоанну. Только сейчас он понял, как все это время тосковал по ней. Сердце уже не помещалось в грудной клетке и сладко ныло, губы пересохли, но с них не сходила улыбка, которой он даже не замечал. Потому что даже просто смотреть на нее было огромной радостью.
Но эта радость была отравлена тревогой. И когда Джоанна, словно почувствовав взгляд, устремленный на нее из тени, слегка повернула голову, Мартин поспешил укрыться за колонной. И больше не решался взглянуть на нее, опасаясь, что красота этой молодой женщины лишит его смелости и он не решится даже приблизиться к ней.
Однако это было необходимо. Ради того, чтобы исполнить то, что поручил ему Ашер бен Соломон, и ради его дочери Руфи. Но странное дело: в эту минуту он не мог вызвать в памяти лицо своей прекрасной еврейки — настолько он был переполнен Джоанной.
Бормотание епископа и легкие шаги служек, звон колокольчика, снова запах ладана… Так он простоял всю службу, пока до него не донеслись последние слова: «Идите с миром, месса совершилась!»
Пора! Однако он не мог появиться из-за колонн в присутствии королевы. А если обе женщины сейчас покинут собор? Может, все-таки решиться? Но как поведет себя Джоанна, увидев его?
К счастью, королева направилась к выходу, а Джоанна осталась посреди опустевшего храма. Под сводами воцарилась тишина. Мартин снова выглянул: она стояла невдалеке от часовен, расположенных в поперечном нефе. Затем направилась к одной из них и опустилась на колени.
Спустя некоторое время к своей госпоже приблизился капитан Дрого, но не посмел нарушить ее молитвенного сосредоточения и удалился. Наконец Мартин справился с собой и, беззвучно ступая, шагнул к молодой женщине. До него донеслись слова:
— Deus meus, in Te confide…[147]
Он собрался с духом.
— Здравствуй, Джоанна!
Она оглянулась в полумраке, и ее спокойное лицо вдруг стало меняться, как меняется гладь озера под порывом ветра — сперва легкая рябь недоумения, затем всплеск узнавания, спокойствие сменяется волнением, сквозь которое проступает страх.
— Нет!
Мартин на миг опешил, когда она вскочила и стремительно бросилась прочь. Он догнал Джоанну, когда она уже неслась по главному нефу к выходу, схватил и успел зажать рот женщины, не дав вырваться крику. О, как же она сопротивлялась!
В ризнице все еще слышались голоса священнослужителей, в арке портала маячили чьи-то силуэты, и Мартин поспешно укрылся вместе со своей пленницей за колоннами, торопливо озираясь и гадая, где бы найти укромное место. Джоанна была кузиной короля Англии, за попытку похитить ее — а именно так были бы расценены его действия, — его ждала жестокая кара.
Его внимание привлекла небольшая дверца в стене бокового нефа, и Мартин толкнул ее ногой. За дверцей оказалась винтовая лестница, из окна в толще стены сюда проникал серый свет. Мартин скользнул в проем и прикрыл дверцу, все еще удерживая Джоанну. Она по-прежнему сопротивлялась, когда он опустил ее на ступени.
— Тише, тише, дорогая моя. Это же я, Мартин. Я не сделаю тебе ничего худого и сейчас же отпущу, если ты пообещаешь не кричать. Обещаешь?
Она дрожала всем телом у него в руках. Потом покорно кивнула. Тогда он разжал руки.
Джоанна отпрянула и прижалась к стене, выставив перед собой ладони, словно защищаясь от кошмара. А потом вдруг расплакалась — тихо и горько, как ребенок, который не решается дать волю своему страху.
— Не прикасайся ко мне, — едва смогла она выговорить прерывистым шепотом. — Как ты смел сюда явиться? О, не прикасайся, слышишь!..
Мартин был поражен. Он ждал от этой встречи иного. Обиды, стыда за содеянное в прошлом, ледяного высокомерия, в конце концов… Но разве при расставании она не уверяла, что будет ждать новой встречи?
Тем не менее сейчас она не испытывает ничего, кроме страха. И наверняка это как-то связано с ее братом-храмовником. Сейчас Мартину следовало быть предельно осторожным — ибо он не знал, чего следует ожидать от Джоанны.
— Джоанна… Скажи — что случилось? Отчего ты так переменилась ко мне?
Она судорожно сглотнула. Блестящие слезы безостановочно катились из ее широко открытых глаз.
— Я узнала, кто ты! Ты — прокаженный. Ты, мой возлюбленный, тот, кому я всецело доверилась… Ты лазарит! И ты стремился погубить меня вместе с собой!
Мартин потрясенно молчал. Но все же нашел силы спросить:
— Ты убеждена в том, что говоришь?
Сквозь слезы сверкнул гневный взгляд.
— О да! Я видела тебя в одеянии лазарита, когда ты поднимался на корабль в Лимассоле. И узнала тебя — твою походку, стать, твоего коня и оруженосца. Ты надел облачение с зеленым крестом и скрывал лицо!
Мартин начал было подыскивать слова. Необходимо убедить ее, что это страшное заблуждение. Она должна понять, что он не тот, за кого себя выдавал… Внезапно все посторонние мысли исчезли: на него нахлынула волна понимания — и мучительного сострадания. Вот оно что! Все это время она верила, что отдалась прокаженному!.. Бедная девочка, что же ей довелось испытать!
У него потемнело в глазах. Воздух внезапно стал тяжелым и вязким.
— Джоанна моя, нет, о нет… Как же ты должна была ненавидеть меня все это время!..
Больше он не вымолвил ни слова — горло Мартина сжалось, словно невидимая рука вцепилась в него. Он испытывал нестерпимую душевную боль и был отвратителен самому себе. Но нет, он должен опомниться, взять себя в руки — и первым делом развеять страшные подозрения. Все остальное сейчас не имело значения.
Мартин не стал убеждать ее, пытаться что-либо объяснить. Это только усилило бы недоверие, страх и отвращение Джоанны.
— Ты говоришь, что узнала меня… — начал он. — Да, мне пришлось выдать себя за лазарита, но лишь на время. Это было необходимо. Но хочу успокоить тебя — я не болен лепрой. Я здоров. Клянусь тебе в этом… — он подбирал слова, чтобы она не сомневалась. — Клянусь кровоточащими ранами Христа и слезами, что пролила над ним его Пречистая Мать, — я не болен!
Порывистым движением он избавился от плаща, рванул завязки туники на горле и сбросил ее, обнажив торс.
Джоанна попятилась и отступила, поднявшись на несколько ступеней вверх.
— О, небо! Что ты делаешь?
— Ты должна увидеть… должна своими глазами убедиться, что на мне нет знаков лепры!
Мартин разделся по пояс, когда она вскинула руку, словно пытаясь удержать его. Ее глаза не отрывались от длинных рубцов, протянувшихся вдоль его ребер. Перехватив этот взгляд, он проговорил:
— Это след от огня. Несчастный случай… Если б тебе было ведомо, как проявляет себя лепра, ты бы не сомневалась…
— Я знаю. Я ходила к прокаженным, видела их. И расспрашивала о тебе. Мне сказали, что ты погиб.
— Чепуха! Я жив. Это я! Говорю тебе — я не болен! Если бы я знал, что ношу в себе болезнь, — разве я бы осмелился прикоснуться к тебе? Я люблю тебя! И все это время думал только о тебе!
Он произнес это яростно и страстно, с огромной убежденностью.
У Джоанны закружилась голова — от наплыва противоречивых чувств, от смятения и неожиданности, но главное — от несказанного облегчения. Да, усилия лекарей и брата Уильяма смогли ее успокоить, она поверила, что не больна. Но только теперь все ее сомнения и страхи окончательно рассеялись.
Джоанна осторожно приблизилась, не сводя глаз с его сильной груди с выпуклыми буграми мышц, с чистой атласной кожи, которую так любила осыпать поцелуями… и вдруг с неожиданной силой ударила его по плечам обеими кулачками — раз, затем еще раз, и снова. Мартин поймал ее руки и прижал молодую женщину к себе, она опять попыталась вырваться, но вдруг обмякла, и все ее тело сотрясли беззвучные, захлебывающиеся рыдания.
Он успокаивал ее, поглаживая по волосам, а Джоанна, всхлипывая, бормотала о том ужасе, в который погрузилась ее жизнь, о том, как она ненавидела его, как боялась и не хотела жить…
Мартин стал тихонько баюкать ее в объятиях. Он всегда знал, что с тех пор, как они стали близки, он имеет над ней власть, и сейчас снова убеждался в этом и чувствовал себя счастливым оттого, что ему удалось укротить Джоанну. Она все еще любит его! Что же у нее за сердце, если эта любовь не угасла даже тогда, когда она заподозрила, что он заразил ее ужасной болезнью?
Он нежно поцеловал ее в висок и вдохнул ее запах… Запах ее волос, аромат сливок от ее кожи — такой знакомый, такой родной… И неожиданно на него нахлынуло возбуждение, заставившее его напрячься. Этот аромат, это теплое тело в его объятиях… О, как же его тянуло к ней!
На это нельзя было даже надеяться. На ум пришло расхожее присловье: «Ссора обновляет любовь». А затем он сразу же подумал о том, что Джоанна искала его, наведалась даже к братьям-лазаритам. Это могло быть опасно. Сейчас ему следует взвешивать каждое слово…
Внезапно из храма сквозь дверь проник какой-то посторонний звук. Мартин прислушался. Сквозь отдаленный шум просыпающегося города и щебет птиц мужской голос окликал Джоанну, и она тоже это услышала. Капитан Дрого! Мартин разжал объятия, и она, все еще всхлипывая и вытирая слезы, приоткрыла дверцу и отозвалась:
— Дрого, я здесь. Жди меня на ступенях у собора.
О, это была полная и окончательная победа Мартина! Она не ушла, она решила остаться с ним!
Джоанна сама не понимала, что с ней происходит. Взглянув на Мартина — тот все еще был полураздет, она внезапно покраснела и спрятала глаза. Затем поспешно поднялась на несколько ступеней вверх по лестнице, где ей пришлось схватиться за стальное кольцо, ввинченное в стену. Ноги отказывались служить — так велико было потрясение, и она обессиленно приникла к холодному камню. Голова шла кругом, сердце стучало. Но больше всего ее поразило то, что внизу, там, где сходятся бедра, неожиданно стало горячо и влажно… Всего одно объятие, мгновенное ощущение литого сильного тела рядом… и оно было так прекрасно, без малейших признаков недуга!..
Но как же легко она сдалась! Ей бы следовало вести себя совсем иначе: холодно, высокомерно, может быть, даже отвесить Мартину пощечину, чтобы он осознал, какую боль причинил ей, пусть и невольно. Или… или поцеловать его… Этого ей хотелось больше всего.
Она чувствовала на себе его взгляд. Где он пропадал все это время? Да, идет война, с нею всегда связано множество тайн… Она заставила себя собраться. Мартин не должен думать, что она всего лишь легкомысленная пташка, которую достаточно согреть мимолетной лаской, чтобы она опять радостно защебетала.
Теперь к ней вернулась ясность мыслей. Глядя вниз со ступеней спокойным и трезвым взглядом, она проговорила:
— Я рассказала обо всем маршалу де Шамперу. Мой брат весьма заинтересовался тобой. У меня сложилось впечатление, что он тебя знает.
Чтобы скрыть внезапно охватившее его волнение, Мартин наклонился и начал собирать разбросанную второпях одежду. Это позволило ему выиграть немного времени. Он был прав и недаром избегал встреч с Джоанной де Ринель.
Но когда Мартин заговорил, голос его звучал спокойно.
— Джоанна, знакомство с твоим братом было бы для меня большой честью. Однако могу поклясться, что никогда не был ему представлен и он не может знать меня лично. И при чем тут маршал де Шампер? Для меня важнее всего, чтобы ты знала, что все это время я думал о тебе, хотя и не искал встреч. Ты теперь среди приближенных короля Ричарда, я же… всего лишь рядовой рыцарь, чье место — в своем отряде.
Он намеренно уводил разговор в сторону от маршала тамплиеров, одновременно надеясь, что Джоанна все-таки вернется к этой теме. Что мог ей сказать де Шампер?
Она поддалась на эту уловку и снова заговорила о том, как искала его среди лазаритов и ей сообщили, что такой рыцарь действительно сражался вместе с ними, но погиб.
Мартин отмахнулся:
— Одеяние с зеленым крестом понадобилось мне только для того, чтобы добраться до Палестины. Но вскоре после этого я опять…
Он осекся: то, что следовало за этим «опять», не предназначалось для ее ушей. С другой стороны, если он солжет, Джоанна, ныне занимающая столь высокое положение, с легкостью может проверить его слова и уличить Мартина во лжи. И еще кое-что смутило его — в ее глазах появилось новое выражение: настороженность.
— Кто ты, Мартин?
Он помедлил с ответом. Успех всей его миссии зависит только от этой молодой женщины. И от того, как она отнесется к его словам. Прежде он мог добиться от нее всего, чего пожелает. Но сейчас ему было необходимо вернуть ее расположение, снова стать для нее близким, заручиться ее доверием и поддержкой.
— Я тот, кем впервые явился перед тобой. Рыцарь-госпитальер Мартин д'Анэ. Глава нашей прецептории в Намюре отправил меня в Святую землю со столь непростой и странной миссией, что я не имел права открыться даже самому магистру Гарнье де Неблусу. Вот почему я решил принять обличье лазарита. Это казалось мне самым разумным выходом. А затем… мне пришлось скрываться даже от госпитальеров, собратьев по ордену. Я затерялся среди рядовых крестоносцев, оставаясь неузнанным…
Мартин тщательно подбирал слова, понимая, что столь простое объяснение не удовлетворит Джоанну. Он мог бы сослаться на орденскую тайну, но тогда ему не следовало рассчитывать на ее помощь. Однако ничего более определенного и убедительного в голову пока не приходило. В дымчато-лиловых настороженных глазах молодой женщины по-прежнему читалось недоверие, пауза затягивалась, ее лицо становилось все строже и отчужденнее.
— Ты должен поведать мне все. Я настаиваю!
Мартин вздохнул. Непростая задача: смешать правду и ложь в таких пропорциях, чтобы Джоанна все-таки поверила ему.
Да, он действительно прибыл из Намюра, — снова повторил Мартин. Тамошняя прецептория ордена Святого Иоанна прозябает в нищете, однако он высоко чтит своего прецептора и собратьев-госпитальеров — оттого и согласился взяться за столь непростое поручение. Дело в том, что полтора года назад в церковь Орденского дома в Намюре угодила молния и она полностью сгорела вместе с Орденским домом. Средств на его восстановление у прецептора и братьев не нашлось, и сколько они ни обращались в магистрат иоаннитов, ответа не последовало — все свои силы орден сосредоточил на подготовке к крестовому походу. А отсутствие Орденского дома и достойного храма привело к тому, что братья, которым попросту негде было преклонить голову, начали разъезжаться, горожане же крайне скупо жертвовали на нужды госпитальеров. Средства на строительство согласилась предоставить лишь местная еврейская община. Заем оказался сверх всяких ожиданий щедрым, но вместо его возвращения евреи потребовали иного: спасти из осажденной Акры нескольких евреев, родственников главы намюрской еврейской общины.
Прецептору такой поворот дела показался весьма выгодным, и эта миссия была поручена брату Мартину, который и ранее сопровождал паломников в Святую землю. Миссия была крайне щепетильной, и ее следовало непременно сохранить в тайне. Ведь не всякому объяснишь, с какой это стати орденские братья вдруг воспылали любовью к евреям — верно?
Он взглянул на нее вопросительно.
Джоанна сухо возразила:
— Евреи не приняли Христа! На них каинова печать. Недаром фараон, пленивший иудеев, сказал: если разразится война, евреи примкнут к нашим врагам. Как ты мог решиться помогать им?
— Я получил приказ прецептора. Об этом тайном поручении мне было запрещено говорить даже в том случае, если бы этого потребовал сам магистр Гарнье, и я дал слово. Он бы этого не понял — в точности так же, как сейчас и ты не хочешь понять. Однако братьям в Намюре неоткуда было ждать помощи. И клянусь верой Христовой, в ту пору я не мог даже предположить, насколько позорным окажется мое положение. Мне пришлось скрываться даже от собратьев по ордену, я стал противен самому себе, но я сдержал слово!
Джоанна задумчиво заметила:
— Воистину чудны дела твои, Господи!
Мартин откликнулся:
— И неисповедимы Его пути…
Они умолкли, и лишь спустя некоторое время Мартин проговорил:
— Теперь ты вправе презирать меня.
Молодая женщина пожала плечами и опустилась на ступень лестницы.
— Я еще в пути заметила, что ты был необычайно дружен с тем еврейским юношей — помнится, его звали Иосиф. Он из числа намюрских евреев?
Мартин кивнул. И тогда Джоанна поведала, что обязана этому еврею спасением своего мужа, когда того едва не захватили сарацины. Кроме того, уже здесь, в Акре, Обри похвалялся, что едва не ухитрился получить за Иосифа выкуп, но вмешались власти Киликии.
Мартин прервал ее:
— Мне нет до этого никакого дела, Джоанна. Все, что мне было нужно, — разыскать нужных людей в Акре. Я с этим справился. Но прежде чем покинуть город, я хотел увидеться с тобой. Ибо все это время мне не хватало тебя, как воздуха. Однажды мне удалось увидеть тебя издали — ты сопровождала королеву к здешнему отшельнику, и с тех пор я окончательно лишился покоя. Ведь как бы ни отличались наши судьбы, что бы нас ни разъединяло… Существует нечто, что позволяло нам чувствовать себя счастливыми друг подле друга. Я по-прежнему люблю тебя. И пусть ад разверзнется у меня под ногами, если я смогу тебя забыть!
Джоанна опустила глаза — она была не в силах смотреть ему в лицо. Мартин слишком дерзок. Сейчас, если бы он попытался приблизиться к ней, она могла бы ударить его. Или снова разрыдалась бы… Или упала бы ему на грудь, забыв обо всем и хмелея от счастья…
Ей пришлось сделать огромное усилие над собой, чтобы голос звучал ровно. Когда он отплывает? Не с флотом ли Филиппа Французского, который отчаливает завтра? Что, Мартин рассчитывает везти этих иудеев среди французских рыцарей?
От одной мысли об этом Джоанна невольно улыбнулась.
Теперь они вплотную приблизились к теме, которая остро интересовала Мартина. Однако он отвечал осторожно: еще предстоит получить разрешение властей покинуть город и уладить множество формальностей. Джоанна, вероятно, не представляет, насколько все это сложно и с какими препятствиями ему приходится сталкиваться…
Для нее, родственницы короля, — одновременно думал он, — это проще простого. Но чтобы Джоанна захотела ему помочь, необходимо то, чего и сам он желает со всем пылом души: возродить ее чувство к нему.
Осторожно приблизившись, Мартин опустился у коленей молодой женщины, почти коснувшись их. Он продолжал говорить о подготовке к отплытию, о предстоящих трудностях пути, но его голос звучал все медленнее, все тише… Затем он поднял голову и взглянул на нее.
Утренний свет проникал в узкое оконце в стене лестничного колодца, и этого освещения хватало, чтобы отчетливо видеть нежный овал ее лица под легкой вуалью, обрамленный темными волосами, густые брови над затуманенными серо-лиловыми глазами, гладкую кожу стройной шеи — и улавливать сливочное благоухание, облачком окружавшее Джоанну… благоухание, которое он помнил так же хорошо, как вкус ее по-детски припухших губ, сладостных, словно ранняя земляника, на которую они походили.
Джоанна замерла, чувствуя, что рядом с ним теряет волю. Власть Мартина над ней всегда поражала ее, и сейчас, наряду с возмущением и негодованием, она чувствовала нарастающее возбуждение. Голова внезапно стала легкой, грудь наполнилась жаром и смятением, тело предательски ослабело… Он не должен заметить, как действует на нее его присутствие, как ее неудержимо влечет к нему. Сейчас ей было безразлично, где он пропадал все это время и чем занимался.
Силы небесные! — она все еще хочет его! Когда-то он взял ее легко, без всякого сопротивления с ее стороны — но подарил ей рай и дал познать то неведомое, о чем и не подозревали ее тело и душа. И вот он здесь, совсем близко, и у нее нет сил, чтобы прогнать его, и Мартин знает об этом…
Теперь оба молчали. Джоанна утопала в его голубых, как море, глазах, а он забыл обо всем, погрузившись в туман ее взора, как заблудившийся путник. Их неудержимо влекло друг к другу, и оба едва сдерживались, чтобы не броситься в объятия.
Стоит ему только поманить, просто протянуть руку…
И это после всего, что ей довелось пережить и испытать? О нет! Это невозможно! Ее жег стыд, и в то же время она трепетала от нервного возбуждения. Она должна немедленно уйти и навсегда забыть эту встречу… Вместо этого Джоанна протянула руку и нежно коснулась его волос.
— Какие короткие! Зачем ты срезал свои дивные волосы, Мартин?
Нелепый вопрос. Она и вела себя нелепо, и когда он перехватил ее руку и стал осыпать теплыми, полными нежности поцелуями, а затем притянул к себе, она отпрянула и бросилась вверх по ступеням. Мартин настиг ее на площадке перед выходом на хоры и обнял.
— Без тебя нет жизни! Ты, одна ты… Ты снилась мне каждую ночь…
Последнее было несомненной правдой. Ее образ не покидал его по ночам, что бы ни происходило днем. И вот — она здесь… Джоанна вырывалась, даже ударила его, но он словно не замечал этого, покрывая ее глаза, губы, шею поцелуями.
— Прекрати! — задыхалась Джоанна. — Оставь меня немедленно!.. Мы в храме, а ты тискаешь меня, как прислугу…
— Но я люблю тебя! Я готов вечно служить тебе…
Она все же вырвалась и застыла в обрамленной колоннами арке, ведущей на хоры, из-за ее спины на площадку лился свет.
— Тогда служи и уйди по моему приказанию!
Оба тяжело дышали. Мартин спросил:
— Ты действительно этого хочешь?
Его глаза вспыхнули, как кристаллы аквамарина. О, как ее влекло к нему, к этому сильному, полуобнаженному телу! Джоанна не могла отвести от него глаз. И вдруг сама бросилась к нему и стала целовать с такой жадностью, с какой пьет путник в пустыне, наконец-то добравшийся до источника. Но и это не могло утолить ее мучительную жажду.
Все существо Джоанны пронизывало огненное, неистовое желание. Вихрь ощущений, порожденный поцелуями и страстными ласками, проникал в нее все глубже, пылал в груди, в животе, в глубочайших недрах ее естества. Теперь она сама ласкала его, дерзко и откровенно, пока из уст Мартина не вырвался мучительный и страстный стон…
Он притиснул ее к грубой кладке стены, а она была настолько готова его принять, что только всхлипнула, когда он подхватил ее так, что ее колени оказались у него за спиной, и одним сильным толчком оказался в ней. Джоанна откинула голову, наслаждаясь этой беспредельной близостью: она была счастлива, и оба они пребывали в раю… Потом внутри нее что-то как бы обнажилось, стало уязвимым и невероятно чувствительным, и она тихо застонала. Наслаждение растекалось по телу горячим тягучим медом…
Когда Джоанна пришла в себя, Мартин все еще сжимал ее в объятиях, тяжело дыша, а она крепко держалась за него, понимая, что, если он сделает шаг назад, она просто сползет вниз, на пол. Тело было невесомым и не желало ее слушаться. Но Мартин не отпускал ее, продолжая нежно целовать и шептать что-то бессвязное, словно во сне или в бреду. Джоанна прильнула к нему, тающая и покорная… С ним она всегда становилась такой, и ей это нравилось.
Постепенно в их сознание начали проникать извне посторонние звуки — голоса прихожан в храме, воркование голубей, крики чаек над городом. На башне собора ударили в колокол. Джоанна отстранилась и начала приводить в порядок одежду и волосы, затем подняла упавшую в пылу их любовного объятия вуаль и закутала лицо.
— Мне пора идти, Мартин…
— Да. Мне тоже надо готовиться к отъезду. Но, знаешь, Джоанна…
Она уже успела спуститься на несколько ступеней, однако остановилась, глядя на него снизу.
— Что?
Она хотела услышать какие-то слова, должно быть, очень важные для нее.
— Джоанна, мы оба знаем, что у нас нет будущего, но вот — мы снова вместе. Я хочу, чтобы ты знала: однажды я вернусь… Я вернусь к тебе. Без тебя я не смогу жить.
Она тут же бросилась наверх и крепко обняла его. Сейчас ей казалось, что нет ничего надежнее этих объятий.
— Я буду ждать тебя. Когда бы ты ни пришел.
Мартин выдержал паузу, потом осторожно произнес:
— Но мне придется уехать. И скоро. Поверь, мне безразлична судьба этих евреев, я просто доставлю их в какое-нибудь безопасное место, а потом…
Она ждала, что он скажет дальше, не спуская с него глаз. Мартину отчего-то было особенно трудно лгать Джоанне, когда они так близко. Он отстранился и начал собирать разбросанную одежду.
— Я вернусь, как только появится хотя бы малейшая возможность. Но это будет непросто, ты должна понять. Ведь я вынужден скрываться даже от братьев своего ордена. Немало времени займет и подготовка к отъезду — необходимо раздобыть подорожную, сопроводить это еврейское семейство, вернуться и снова каким-то образом устроиться, чтобы быть рядом с тобой. Но, боюсь, это случится не так скоро, как мне хотелось бы.
— Я могу тебе помочь? Не забывай, я кузина короля, и мне многое под силу.
Она сама сказала это! Мартин готов был снова заключить ее в объятия. Однако сдержал готовую прорваться радость, накинул тунику и стал затягивать пряжку пояса.
— Если бы ты помогла мне, это ускорило бы дело. Но смею ли я просить?
О, как она могла ему отказать!
— Что тебе нужно, милый?
Он объяснил, и Джоанна задумалась.
— Отплыть в первый день, когда Акру покинет головная часть эскадры короля Филиппа, непросто. На этих кораблях будут следовать сам король, его свита и цвет рыцарства. Это опасно и для твоих евреев, и для тебя. Но на следующий день отчаливает кузен короля граф де Невер — он сопровождает королевский багаж, раненых рыцарей и семьи тех, кто состоял в свите Капетинга.
Мартин молчал, ловя каждое слово. Джоанна, конечно, умница и сразу оценила ситуацию, но сможет ли она добыть пропуск на корабль?
— Мне нужно разрешение на шестерых взрослых и троих детей, — проговорил он, застегивая плащ. Именно так: он сам, Сабир и Эйрик, Сарра и ее невестка, Муса и дети. Старая служанка отказалась пускаться в дальнее путешествие, и ее отправили к дальним родственникам из числа акрских евреев.
Джоанна заметила, что число детей не имеет значения — их в подорожных не упоминают. Но она не посмеет сейчас тревожить короля, когда он просто в отчаянии из-за отъезда союзника. Однако может попросить своего брата поставить печать на бумаге.
Мартин замер.
— И гордый маршал согласится выпустить из Акры евреев?
— Но ведь об этом попрошу я! О, знаю — ты считаешь, что Уильям недоверчив и подозрителен. И ты прав. Но я скажу ему, что отправляю из Акры своих людей. У меня достаточно прислуги, а мои саксы тоскуют по Англии. Дескать, со мной останется только Годит, а остальные уедут — их ровным счетом шестеро. Ну а если позже мой брат заметит, что саксы по-прежнему при мне, я отвечу ему, что просто передумала.
Мартин тут же ухватился за это предложение. Если все получится так, как задумала Джоанна, он пришлет за подорожной Эйрика. Помнит ли она рыжего?
Джоанна рассмеялась, заметив, что ее горничная по сей день тоскует по внезапно исчезнувшему супругу. Вот пусть и повидается с бедняжкой Саннивой.
Они еще обсуждали последние детали, когда внизу на лестнице зазвучали шаги. Ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы кузину короля застали здесь в обществе мужчины. Мартин жестом дал понять, что ускользнет по верхней галерее через хоры, а Джоанна тотчас направилась к лестнице. Но Мартин в последний миг быстро обнял ее и поцеловал — и сколько же огня, страсти и почти нескрываемого отчаяния было в этом поцелуе!
Исчез он мгновенно, а Джоанна, все еще хмельная от его прикосновений, стала спускаться.
Затаившись на хорах, Мартин слышал, как она произнесла, обращаясь к кому-то невидимому: «Pax vobiscum, pater! Benedicat!»[148]
Голос Джоанны при этом звучал совершенно буднично. О, поистине она необыкновенная женщина!
Мартин пронесся по верхней галерее и, спустившись вниз, смешался с прихожанами.
Он осуществил то, что задумал, и мог быть доволен собой. И все же на самом дне души остался скверный осадок. Он снова обманул Джоанну, и они больше не увидятся. С ее помощью он покинет Палестину, и их судьбы разойдутся навсегда… Но даже сознавая это, он чувствовал, что там, где всего несколько мгновений назад билось горячее и преданное сердце, теперь образовалась щемящая пустота…
ГЛАВА 21
Король Филипп Французский покидал Святую землю с такой торжественностью, словно за спиной у него оставались только ратные подвиги и славные свершения. Гудели трубы, монахи распевали псалмы, воины строем поднимались на борт кораблей, звучали команды капитанов, указывавших рыцарям, где и кому надлежит расположиться.
Многие из отплывающих казались веселыми и счастливыми, лишь некоторые выглядели потерянными и удрученными, но все они поглядывали на собратьев, которые оставались на берегу, чтобы продолжить жестокую борьбу. Отныне ими командует герцог Гуго Бургундский, но идти в бой с неверными они будут под знаменами с французскими лилиями, исполняя обет вместо своего короля.
Сам Филипп уже стоял на высокой корме большой галеры, беседуя с Конрадом Монферратским и его супругой Изабеллой.
У Конрада не было ни малейшего желания оставаться в Акре, где он окажется в подчинении у короля Ричарда, покровительствующего Гвидо де Лузиньяну. К тому же он решил, что его беременной супруге предпочтительнее обосноваться в хорошо защищенном и гораздо более спокойном Тире. Маркиз намеревался сопровождать Филиппа Французского до Тира, где король должен сделать остановку перед выходом в открытое море, а заодно окончательно урегулировать вопрос о находящихся в его руках пленных эмирах акрского гарнизона. В целом было решено, что когда выкуп за них будет выплачен, эти деньги пойдут на содержание французских рыцарей, оставшихся в Святой земле. В остальном Капетинг считал свою миссию в Палестине завершенной.
Сейчас он был так занят беседой, что даже не поднимал глаз на причал. В этом и не было особой нужды: проводить короля Франции прибыло не так уж много предводителей крестоносцев и вельмож. Даже Гуго Бургундский, его верный соратник, не пожелал воздать своему сюзерену прощальные почести. Зато тамплиеры и госпитальеры были здесь — долг предписывал им салютовать на прощание монарху, участвовавшему во взятии Акры. Главы орденов восседали на конях, следя за тем, как медленно ширится полоска воды между бортом флагманского корабля Филиппа Французского и причалом.
— Я доволен, что он уезжает, — вполголоса заметил магистр Робер де Сабле. — Меньше будет раздоров в воинстве Христовом, а за королем Англии люди пойдут как один. Ричард Львиное Сердце — меч и щит христианства на Востоке. И он не отречется от клятвы отвоевать Иерусалим с такой легкостью, как это сделал Филипп.
Магистр говорил довольно громко, и Уильям де Шампер сделал предостерегающий жест: неподалеку возвышался в седле епископ Бове, верный человек короля Франции. Всем известно, что он остался здесь, чтобы блюсти в Святой земле интересы своего господина.
Бове, однако, кое-что расслышал и сердито оглянулся. Его лиловая камилавка была покрыта пятнами пота, крупные капли стекали по сухому лбу и худощавому лисьему лицу.
— Вы несправедливы к моему королю, магистр! Филипп болен, а здешняя адская жара его окончательно погубит. Монарх же обязан в первую очередь заботиться о королевстве и своем наследнике. Принцу Людовику всего четыре года. Что будет с ним и с Францией, если хворь погубит государя в Палестине? Порой мне кажется, что Господь по-особому испытывает нас, устраивая такое пекло.
Маршал склонился к де Сабле:
— Мессир, будьте осторожнее. Этот человек здесь затем, чтобы продолжать плести интриги, в коих он великий мастер.
— Долго он не выдержит, — заметил, усмехаясь в бороду, магистр. Он тоже был изнурен жарой, из-под алой шапочки магистра выбивались коротко подрезанные, но совершенно мокрые от пота пряди. Щурясь на ослепительно-белое светило, лучи которого, казалось, прожигают насквозь, он проговорил: — Хотел бы я знать, отчего Капетинг отбывает в полдень, в самый зной? Разве нельзя было отчалить поутру, когда духота не так гнетет?
Де Шампер промолчал. Он знал, что августовская жара в Акре бывает просто адской. Даже легкое белое одеяние не спасает от зноя. Солнце раскалило плиты порта, воздух обжигал, дышать становилось все труднее, и даже кони под рыцарями стояли мокрые от пота, уныло свесив морды. Скорее бы покинуть гавань и укрыться под каменными сводами, где сквозняки и журчание фонтанов позволят хоть немного перевести дух.
— Надеюсь, граф Неверский учтет эту ошибку и отдаст приказ назавтра отчаливать пораньше, — заметил маршал, поглядывая туда, где стояли корабли, которым предстояло выйти в море на следующий день.
Он видел, как таможенники и орденские рыцари обходят эти суда, переговариваются со шкиперами и заносят пометки в свои свитки. Все верно: несмотря на столь массовый исход из Акры, необходимо бдительно следить, чтобы на борт не проникли те, кому там быть никак не надлежит. Несмотря на хорошо организованную охрану, вчера троим сарацинам удалось бежать. Тем не менее они скрываются где-то внутри города, ибо за его стены даже мышь не выскользнет незамеченной.
Над головой по-кошачьи прокричала чайка. С моря наплывал запах йода и разлагающихся под молом водорослей. Корабль короля Филиппа был уже у выхода из гавани. Скоро он обогнет скалу с Мушиной башней, и тогда они тоже наконец-то смогут покинуть раскаленную набережную.
Раздавшийся в неподвижном воздухе смех прозвучал неуместно. Из кого это обезумевшее солнце еще не вышибло желание веселиться? Смеялись англичане — граф Лестер и Обри де Ринель, представители короля Англии, явившиеся проводить Капетинга. Сам Ричард отказался прибыть, а вместо себя отправил в порт под английским стягом этих двоих. Сейчас они смеялись из-за того, что Обри окатил молодого графа водой из кадки. И напрасно — не пройдет и двух-трех минут, как влага испарится и Лестеру станет еще жарче…
Обри де Ринель на удивление легко сошелся с окружением английского короля. Когда ему это требовалось, он умел быть любезным и обаятельным, дамы находили его привлекательным, но шептались, что прибытие лорда Незерби в Акру не вызвало особой радости у его жены. Супруги жили раздельно, редко виделись, а в присутствии Джоанны Обри держался скованно, как бы даже смущенно, и старался избегать ее под различными предлогами. Но Джоанну это как будто устраивало, ее не видели огорченной, а со вчерашнего дня она вообще была весела, как птичка. На вечернем приеме у короля Ричарда она без устали пела, звонко смеялась и казалась такой счастливой, что окружающие только диву давались: давно ли дама Джоанна де Ринель была мрачнее тучи и никому не позволяла к себе приблизиться!
Вспоминая лучащуюся счастьем сестру, Уильям размышлял о том, что давным-давно не видел ее такой. Как не слышал и ее дивного пения. Вчера же Джоанна, взяв лютню, принялась петь, чтобы развеять печаль удрученного бегством союзника Ричарда. Это было поистине великолепно! Должно быть, музыкальный дар достался ей от отца — лорд Артур де Шампер также был превосходным исполнителем кансон и баллад. Лорд-трубадур — так прозвала его Элеонора Аквитанская. Вот и Джоанна такая же. Король даже расцеловал ее, когда она умолкла и затихли струны.
— Как сюзерен, я имею право целовать своих прелестных вассалок! — весело заявил он.
Джоанна не отстранилась. Значит, успокоилась и убедилась, что не заразна. Уильям мог бы развеять и последние сомнения сестры, сообщив, что ее любовник — вовсе не лазарит. Но на вопрос о том, кто он в действительности, по-прежнему не было ответа. Ассасин? Лазутчик Саладина или одного из эмиров? Во всяком случае он не был прокаженным, а личина лазарита понадобилась ему, чтобы оставаться неузнанным. Но зачем он скрывал лицо? Не потому ли, что он, Уильям, мог его опознать?.. И какова дерзость: негодяй угрожал покрыть позором доброе имя его сестры!
О встрече с мнимым лазаритом и ночном поединке Уильям не стал рассказывать Джоанне. Однако велел своим людям обшарить окрестности Темпла и весь город. Впрочем, обнаружить незнакомца так и не удалось. И как искать того, чьи приметы неизвестны. Рослый голубоглазый воин? Да их тысячи в Акре! Шрамы от ожогов слева на груди? Да, в этом кое-что было — половина крестоносцев ходят полураздетыми от жары, и такая отметина может броситься кому-нибудь в глаза. Его люди тщательно осматривали многих воинов, в особенности тех, за кого не могли поручиться их командиры. Тамплиеры обходили частные дома и монастыри, где обосновались крестоносцы, проверка коснулась даже братьев-госпитальеров.
Тщетно. И столь же бесплодными оказались поиски недавно сбежавших сарацинских невольников. Горожане охотно отвечали на расспросы, не сообщая ничего дельного, позволяли обыскивать их дома и хозяйственные постройки, угодливо кланялись и улыбались, но кто мог поручиться, что эти улыбки — искренние? За годы жизни в Святой земле Уильям научился не доверять местным жителям. Точно так же он не верил и в благородство Саладина. Король Ричард рассчитывал, что пленники-сарацины будут своевременно выкуплены, а тем временем лазутчики маршала в стане Саладина доносили, что нет никаких признаков, что султан готовится выполнить условие заключенного между воюющими сторонами договора.
И снова смех с той стороны, где расположились англичане.
— Похоже, мы уже можем покинуть эту адову сковороду, — весело воскликнул граф Лестер, разворачивая коня. За ним тронулась свита, качнулось и поплыло древко со львами Плантагенетов на алом полотнище.
— Милорд, пока еще вам надлежит оставаться здесь! — звучно потребовал де Сабле. — Вы не должны выказывать неуважение к королю Франции!
— Тут уж моей вины нет, раз он сам себя поставил в такое положение. Чего только о нем не болтают в Акре и в лагере за стенами.
Продолжая посмеиваться, граф напел песенку, сложенную английскими крестоносцами:
Эх, да что там, пускай! Слава Богу, убрался! И какою же скверною он оказался! Нет других чтоб сдержать! Он и сам наутек, Да еще и толпу за собою увлек!..— Милорд Лестер! — возмущенно воскликнул епископ Бове, укоризненно тряся головой в пропотевшей камилавке. — Мне придется доложить королю Ричарду о вашем неподобающем поведении! Речь идет об августейшей особе!
Лестер с досадой поправил капюшон светлой накидки и, осадив коня, вернулся на место. Заняли прежние позиции и его спутники. На узкой полосе набережной из-за этого вышло некоторое замешательство, утомленный жарой конь под Обри де Ринелем заупрямился, и, успокаивая его, рыцарь оказался прямо перед своим родичем — маршалом де Шампером. Уильям холодно следил за его усилиями, а лицо Обри исказила гримаса неприязни и смущения. И все же, когда де Ринель уже отъезжал, маршал окликнул его:
— Милорд Обри!
За этим восклицанием последовал повелительный жест. Обри покорно приблизился. Он явно побаивался маршала, знавшего его позорную тайну.
— Мне надо переговорить с вами, милорд, — произнес по-английски де Шампер, отъезжая в сторону, где их разговор не могли слышать окружающие.
Не глядя на мужа сестры и машинально поглаживая гриву своей лошади, Уильям следил за кораблем короля Филиппа — тот уже разворачивался близ Мушиной башни.
Обри молча ждал с таким видом, словно вот-вот отдаст Богу душу от жары. Он ссутулился, свесил голову, а его длинные желтые волосы упали на лицо, скрыв его черты.
— Милорд Обри, я ничего не сообщил Джоанне, — начал маршал. — И никому другому. Что было — то прошло. Надеюсь, вы сумеете обуздать свои дурные наклонности и не дадите мне повода думать, что ваше заигрывание с молодым Лестером — нечто иное, нежели проявление дружбы, связывающей двух рыцарей.
Обри резко выпрямился, ударил себя кулаком в грудь и заговорил торопливым полушепотом: он-де уже принес покаяние, исполнил епитимью и теперь готов доблестью смыть свои грехи в бою. О нет, он не станет больше грешить и умоляет мессира Уильяма…
— Будет уместнее умолять святого Петра, когда вы окажетесь у врат рая, — прервал его речь тамплиер. — Я дал слово скрыть вашу постыдную тайну, и мне вполне достаточно, если муж моей сестры станет вести себя как благородный рыцарь, для которого честь так же свята, как и вера. Но я бы хотел просить вас быть внимательнее к вашей супруге. Ибо вы слишком явно избегаете ее…
— Ничего подобного! Это она держится со мной отчужденно. Я даже решил было, что ей стало известно от вас…
— Довольно! Не вынуждайте меня повторяться. Джоанна ничего не знает, и вы должны вести себя с ней как добрый супруг. Она ваша жена перед Богом и людьми, и ваш брак необходимо сохранить во что бы то ни стало. Будьте же с нею добры и приветливы. Ей здесь одиноко, и станет еще более одиноко после того, как ее покинут люди из Незерби. Ей будет не на кого опереться, кроме вас.
— С чего вы взяли, что ее саксы уезжают?
Маршал откинул капюшон, покрывавший его голову, и устремил пристальный взгляд на Обри де Ринеля. Тот отвел глаза.
— Разве супруга не говорила вам, что ее люди тоскуют по Англии и она намерена отправить их домой?
Обри пожал плечами и заметил: несмотря на то что они сейчас мало общаются с супругой, если бы речь действительно шла об отъезде саксов из Незерби, она бы непременно его уведомила. Еще сегодня утром он беседовал с одним из них, но тот не упоминал ни о чем подобном. Эти люди дерзки, вспыльчивы и безраздельно преданы Джоанне, но ни в грош не ставят самого лорда. Ни один из них не пожелает оставить свою госпожу, как бы ни томила их тоска по заливным лугам в окрестностях Незерби!
Далее Уильям уже не слушал. Он машинально провожал взглядом еще одну большую галеру под французским флагом, покидавшую порт вслед за флагманским судном. Ветер уже наполнил ее паруса, слаженно взлетали и опускались весла, а за кормой на синей поверхности моря пенился кильватерный след. За галерой, блестя свежеосмоленными бортами, выстраивались другие суда — поменьше.
Теперь те, кто по долгу явились проводить короля Франции и его флотилию, могли покинуть раскаленную пристань. Маршал развернул коня, продолжая напряженно размышлять, и присоединился к магистру ордена и прочим тамплиерам. Обри де Ринель его больше не интересовал — все, что он мог узнать от него, де Шампер уже знал.
Итак, Обри понятия не имел об отъезде саксов. Следовательно, Джоанна либо не поставила мужа в известность, что маловероятно, либо… солгала ему, Уильяму. И если это так…
Смутное предчувствие шевельнулось в душе маршала, а опыт научил его не пренебрегать предчувствиями.
Не далее как вчера Джоанна явилась к нему и сообщила, что отправляет своих саксов домой, в Англию. При ней была уже составленная подорожная грамота, но, по ее словам, она случайно узнала, что ее печати на пергаменте недостаточно, и поэтому она просит брата поставить под пропуском на корабль его печать — дабы портовая стража видела на документе знак ордена Храма и не чинила препятствий. Просьбу Уильям выполнил. Ему часто приходилось это делать, и он не видел причин отказать сестре. Он, правда, удивился: ему казалось, что Джоанна очень близка со своими саксами, они ей преданы, один из них постоянно находится при ней. Сестра на это ответила, что ее отношения с этими людьми стали несколько натянутыми после того, как она долго их чуждалась, полагая себя заразной больной, и ей будет проще, если они вернутся на родину. Уильям мог это понять и счел такое объяснение вполне достаточным.
Затем они немного побеседовали о всякой всячине, и когда Джоанна уходила, Уильям испытывал нечто вроде умиления — родственные чувства все еще были для него в новинку.
Значит, сестра лгала ему. Но что же изменилось? О, изменилась сама Джоанна. И он снова вспомнил, какой она была на вчерашнем вечернем приеме. Ослепительно красивая, полная радости, с мечтательным сиянием в глазах. И в то же время похожая на сытую, разнежившуюся кошку. Он наконец понял: Джоанна выглядела как женщина после счастливого любовного свидания. И пусть у него мало опыта в любви, но ему хватает наблюдательности и умения оценивать людей.
Даже шутливую кансону она пела томно и сладостно, и при этом светилась счастьем!
Мне любовь дарит отраду, Чтобы звонче пела я. Я заботу и досаду Прочь гоню, мои друзья. И от всех наветов злых Ненавистников моих Становлюсь еще смелее — Вдесятеро веселее![149]От досады Уильям стиснул зубы. Глупая влюбленная гусыня, ее снова обвели вокруг пальца! И сделал это тот человек, который уже однажды обманул ее, воспользовавшись доверчивостью и добротой ее нежного сердца!
Он неожиданно вспомнил, как смело и естественно сестра подставила губы для поцелуя Ричарду. Не отстранилась, не попыталась воспротивиться, как поступила бы, опасаясь заразить короля. А ведь до недавних пор Джоанна ходила к лекарям за укрепляющими снадобьями, хотя те считали это уже излишним. Но сама она продолжала сомневаться — а теперь все сомнения улетучились. Она, полная радости жизни, поет о любви, а потом принимает поцелуй короля! Это можно объяснить только тем, что прежний любовник окончательно убедил ее, что и сам не болен. А заодно и подтвердил свои чувства к ней всеми доступными способами, чтобы получить подорожную и вырваться из Акры вместе со своими людьми.
Но это всего лишь домыслы и подозрения, их надлежало проверить. Поэтому, когда храмовники прибыли в Темпл, де Шампер попросил у магистра дозволения отлучиться в Королевский замок.
Жара разогнала людей с улиц, и до королевской резиденции Уильям добрался быстро и без помех. Раскаленный воздух дрожал между домами, искажая их очертания и превращая город в подобие призрачного наваждения. Тем не менее под сводами замка царила относительная прохлада. Стража у ворот беспрекословно пропустила маршала тамплиеров, откуда-то сверху доносились переборы струн, кто-то отдавал распоряжения. Мимо торопливо просеменили сарацинские служанки с кувшинами, какой-то воин попытался ущипнуть одну из них, но девушки со смехом убежали.
Уильям уже поднимался наверх, когда заметил, что этот незадачливый ухажер, крепкий рыжеватый парень, — один из саксов его сестры. Подозвав сакса, маршал обратился к нему с вопросом об отъезде на родину — и увидел, как изумленно вытянулось его веснушчатое лицо.
Других подтверждений ему не потребовалось. Он стремительно взбежал по лестнице.
Джоанну Уильям застал в ее покоях. Устроившись на груде подушек, она беседовала со служанкой, слышались их смешки и восклицания. Горничная расчесывала длинные распущенные волосы госпожи.
— Уильям! — удивленно воскликнула Джоанна, приподнимаясь навстречу поспешно вошедшему маршалу.
Как же она была хороша в своем легком белом одеянии, окутанная массой рассыпавшихся черных волос! Даже в полусумраке — окна в покое были затенены занавесями — он прочел в ее глазах удивление и растерянность, которые сменились чем-то похожим на страх. Однако она быстро овладела собой и с невозмутимым видом уселась, обхватив колени. Длинные рукава ее одеяния свисали до пола.
— Не стоило бы рыцарю-монаху без предупреждения врываться в покои молодой дамы! — полушутливо заметила Джоанна, но Уильям и на расстоянии чувствовал, в каком напряжении она находится.
Де Шампер молча опустился на диван, стоявший у стены напротив. Неподалеку стоял смуглый мальчишка-эфиоп в чалме, приводивший в движение большое опахало под потолком. Разгоряченного чела тамплиера коснулось легкое дуновение.
— Сестра, я хотел бы взглянуть на подорожную, для которой вчера тебе понадобилась моя печать.
Горничная неожиданно уронила черепаховый гребень, тот со стуком упал на плиты пола, и Уильям догадался, что эта белокурая саксоночка отлично понимает, о чем идет речь. И тоже волнуется.
— Так где же эта подорожная?
Джоанна с независимым видом пожала плечами.
— Мне ничего не оставалось, как сжечь ее. Саксонцы отказались покинуть меня, и она мне не понадобилась.
— И это все?
Его серые глаза посветлели от ярости. Джоанна с трудом выдержала взгляд брата.
— Ты должна мне все рассказать! Пусть твои люди выйдут.
— О чем? Если ты хочешь о чем-то спросить — спрашивай. У меня нет секретов от Саннивы.
Уильям стремительно шагнул к сестре, схватил за плечи и с силой встряхнул.
— Ты расскажешь все! И о своем прокаженном любовнике, и о свидании с ним, и о подорожной, с помощью которой пыталась дать ему возможность скрыться! Да знаешь ли ты, кто он? Он пытался шантажировать меня, угрожая предать огласке тайну своей связи с тобой, он играл твоей честью — а ты, безумная, доверилась ему!
Джоанна уже не выглядела спокойной. Повинуясь брату, она дала знак слугам, и Саннива тут же шмыгнула прочь. Мальчишка-эфиоп, все еще не понимавший, что происходит, также выпустил шнур опахала и поспешил покинуть покой. Тяжелая дверь кедрового дерева захлопнулась за ним с такой силой, что он испуганно подпрыгнул и бросился наутек.
Саннива, полная любопытства и тревоги, все же задержалась. Застыв под дверью, она начала прислушиваться к тому, что происходило в покое.
— Подслушиваешь под дверью госпожи? — внезапно раздался совсем рядом с ней голос Дрого. Капитан как раз проходил по галерее.
— Дрого!.. О, Дрого! У миледи Джоанны — маршал де Шампер. И он в таком… Такой… Боюсь, как бы не было беды!
— Глупости! Разве мессир Уильям причинит вред своей сестре?
Дрого нахмурился и решительно шагнул к двери, однако войти не осмелился. Теперь оба стояли у резной кедровой створки, пытаясь уловить звуки, доносившиеся из покоя.
Там негромко и монотонно звучал голос маршала. Понять, о чем речь, было трудно, лишь время от времени до их ушей доносились обрывки фраз: «…использовал тебя…», «…явился ко мне в обличье лазарита…», «…я опасаюсь, что он выполнит свою угрозу, и тогда ты будешь навеки опозорена…» Затем было произнесено странное слово «ассасин», похожее на шипение змеи.
Голос Джоанны — напряженный, срывающийся на крик, — был гораздо отчетливее:
— Я не верю тебе! Мне ничто не угрожает. И на самом деле все обстоит не так, как ты думаешь.
— Тогда поведай мне — как?
И опять молчание чередовалось с негромким голосом Уильяма и всхлипываниями Джоанны. Она что-то пыталась пояснить. Из-за двери доносилось: «…рыцарь-госпитальер…», «…не раз спасал жизнь…», «…не могли противиться этой любви…»
— Ты просто ослепла от похоти! — яростно возвысил голос де Шампер. — Я стыжусь, что у меня такая сестра!
Джоанна рыдала.
— Может, все-таки стоит вмешаться? — озадаченно проговорил Дрого и тем не менее остался на месте.
Уильям и Джоанна были членами семьи, которой Дрого служил всю жизнь. И чтобы решиться на такую дерзость, нужны были более чем веские основания. К тому же в глубине души капитан побаивался сурового храмовника.
— Он лгал тебе! Без конца лгал! — гремел Уильям. — И пользовался твоей доверчивостью в своих целях. О, как же недалеки и неразумны женщины!..
Странно было слышать этот полный бессильной ярости голос всегда невозмутимого маршала.
По лестнице поднялась Годит со стопкой свежего белья.
— Вы что там делаете? Подслушиваете у покоев леди? Какой стыд!
Однако, едва узнав, как Уильям де Шампер жестоко распекает Джоанну, она ринулась в покой. Мыслимое ли дело — грубый храмовник обижает ее дитя! Но едва Годит попыталась войти, как ее выставили обратно, а дверь захлопнулась перед ее носом с такой силой, словно на нее налетел смерч.
— К дьяволу! Прочь! Убирайтесь все в преисподнюю!
Годит выпучила глаза и судорожно осенила себя крестом.
Теперь они уже втроем толпились у двери. К счастью, ураган страстей в покое как будто унялся, наступило затишье. Голос маршала звучал ровно, Джоанна что-то негромко отвечала брату, потом наступило продолжительное молчание, и снова заговорил Уильям.
Их беседа продолжалась невыносимо долго. Отзвонили колокола девятого часа,[150] затем прозвучал крик муэдзина, созывающего правоверных на молитву. Дверь оставалась закрытой, голоса стали тише. Подслушивавшие могли разобрать лишь смутные обрывки речей Уильяма де Шампера: «…захват Тивериады…», «…мнимый гонец…», «…поражение нашего войска…», «…подал знак сарацинам и беспрепятственно вывел раненого графа Раймунда с поля боя…», «…графиня Тивериадская писала иное…», «…не признался, кто он, даже под пытками…», «…дерзкий побег…», «…шрамы, свидетельствующие, что он — тот самый лазутчик Саладина…», «…виновник гибели целого королевства…»
— О чем они толкуют? — недоумевала Годит.
— Тш-ш-ш!.. — замахал на нее Дрого.
Они стремительно отпрянули от двери, заслышав звон шпор приближающегося тамплиера.
— Теперь-то ты понимаешь, кому пыталась помочь? — произнес голос рядом с дверью. — Его настоящее… или еще одно мнимое имя — Арно де Бетсан, он был любовником графини Эшивы Тивериадской, но та не пощадила его, признав за ним вину. Ты же…
И вновь голос Джоанны, прерываемый рыданиями:
— Все не так, ты ошибаешься! Это совсем другой человек… И он действительно рыцарь-госпитальер из Намюра!..
Саннива слабо вскрикнула:
— Силы небесные! А как же мой Эйрик?
Дрого снова шикнул и приник к двери. И даже затряс головой, словно пес, в чье ухо впился клещ, услышав, что подлинный Мартин д'Анэ ныне проживает в лепрозории близ Константинополя.
— Нам лучше уйти, — тут же обратился он к женщинам. — Это такие тайны, за которые можно поплатиться головой!
Но эти глупые гусыни не желали уходить — одна опасалась за своего рыжего мужа-варанга, другая — за госпожу. В конце концов Дрого тоже остался, решив ворваться в покой лишь в том случае, если храмовник поднимет руку на леди.
Однако на это ничто не указывало. Доносилось только невнятное бормотание Джоанны и успокаивающий голос Уильяма. Затем он произнес, уже более звучно и решительно:
— Ты отправишься со мной, и когда мы его схватим, опознаешь негодяя.
— Нет, нет! — отчаянно вскрикнула она и снова разрыдалась. — Не принуждай меня к этому, Уильям. Мое сердце разорвется! Я и без того все тебе рассказала…
Она плакала, маршал хранил молчание. Потом снова заговорил Уильям — убеждая, увещевая, требуя, но ответом ему были только горестные взрывы плача. Наконец шаги де Шампера приблизились к двери, и троица саксов кинулась прочь.
Уже распахнув дверь, тамплиер произнес на пороге:
— Тебе все же придется прийти, если я удостоверюсь, что это тот человек, о котором я думаю. Вся эта история с евреями… Полная чепуха! За ней скрывается нечто более серьезное и опасное. Когда мы его схватим, тебе придется дать показания. Если, конечно, ты не желаешь, чтобы эта история дошла до короля Ричарда.
Он грохнул дверью, взвился белый плащ с крестом, затем шаги маршала удалились.
Дрого выглянул из ниши в стене и бросил короткий взгляд в сторону покоя, откуда доносился плач Джоанны.
— Ступайте к госпоже, — велел он служанкам. — Попробуйте ее успокоить.
Но где там! Джоанна лежала ничком на груде подушек и рыдала так, словно ее сердце готово было выскочить из груди.
— Оставьте меня! — отмахивалась она от хлопочущих вокруг нее женщин. — Ради Пречистой Девы, оставьте! Уходите прочь!
Она проплакала до глубокой ночи.
ГЛАВА 22
Люди начали прибывать на корабли, стоявшие в порту, еще с вечера — как только спала жара. Заплатить шкиперам и переночевать на судне казалось им куда предпочтительнее, чем толкаться спозаранку в толпе, которая непременно возникнет, когда начнется общая посадка.
Небольшая венецианская галея «Легкая кошка», с капитаном которой заранее сговорился Сабир, была одной из множества, стоявших в гавани Акры. Эйрик поднялся на ее палубу в обличье рыцаря, покидающего Палестину, небрежно кивнув на свою свиту:
— Эти со мной!
С этими словами он протянул помощнику капитана свиток подорожной.
Тот был явно не силен в грамоте, но его фонарь осветил печать ордена Храма, и этого оказалось достаточно. Пересчитав пассажиров, моряк буркнул, что в плавании будет немало хлопот с детьми, но могучий рыжеволосый крестоносец выглядел слишком внушительно, чтобы с ним задираться. К тому же заплатил он щедро, и это решило все дело. Лицо венецианца расплылось в улыбке.
— Сюда, сеньор, прошу, — он указал рыцарю место у основания мачты между рядами скамей для гребцов. — Сейчас принесут пару овчин, чтобы ваша супруга и ее младенец расположились с удобством.
Супругу крестоносца изображала Леа, и венецианца ничуть не удивляло, что она одета как сарацинка: многие франки находили местных девушек привлекательными и порой женились на них, предварительно обратив в свою веру. При супруге рыцаря была пожилая служанка и еще двое детей — пухленькая девочка-подросток и славный мальчуган. Не удержавшись, помощник шкипера даже потрепал малыша по курчавой головке, лишь мельком взглянув на слуг рыцаря — молодого голубоглазого франка и пару сарацин, один из которых был худощав и черен, как головешка, а второй — грузен и неповоротлив.
— Завтра на рассвете явится капитан Себастьяно, я доложу ему о вас, ну а там начнут собираться прочие пассажиры. Никто не потревожит вас до того, как орденская стража и таможенники начнут осмотр судов.
— Что скажете, друзья? — обратился к Сабиру и Мартину рыжий. — Клянусь богами старой родины, кажется, обошлось.
— Это станет ясно лишь тогда, когда стражники проверят нашу подорожную, — негромко отозвался Мартин.
Он помог госпоже Сарре расположиться на овчине и устроил Леа с малюткой. Женщины покинули свой дом, чтобы больше никогда в него не возвращаться, и хотя госпожа Сарра, по ее словам, взяла только самое необходимое, им пришлось нанять повозку, чтобы доставить ее тюки в порт.
— Малыш, а Лузиньян не хватится тебя раньше времени? — поинтересовался Эйрик, принимаясь жевать кусок козьего сыра, извлеченный из кожаной сумы.
Он не уточнил, какому из Лузиньянов может срочно понадобиться Мартин Фиц-Годфри, но это и без того было ясно. Гвидо в последнее время занят по горло водворением акрских пуленов в их собственные дома, освободившиеся после отъезда французских рыцарей, — а у коннетабля Мартин испросил разрешения покинуть резиденцию Иерусалимского короля до утра, якобы для того, чтобы сходить к женщине.
Амори не возражал: верный аскалонец исправно нес службу, отчего бы ему и не потешиться с красоткой? И хотя Ричард по-прежнему следил, чтобы шлюх в город не допускали, в здешних борделях нашлось немало продажных гурий, и сутенеры в чалмах вечно вертелись в местах скопления крестоносцев, расхваливая их прелести.
Сабир выглядел невозмутимо. Устроившись на носу галеи лицом к Мекке, он начал молиться, и Муса тотчас последовал его примеру. Сарра что-то тихонько напевала детям, пока те не уснули. Но сама еврейка не спала, и Мартин слышал, как и она вполголоса молится. Даже Эйрик что-то бурчал под нос — то ли старинные стихи, сложенные скальдами, то ли языческие заговоры.
Мартин считал излишним тратить время на молитвы, ибо душа его не ощущала присутствия Бога в этом мире. Прислонившись спиной к планширу в нескольких шагах от спавших на палубе матросов, он молча наблюдал за вышагивавшими по набережной стражниками.
Ночь стояла тихая и звездная, из-за крепостных стен медленно всплывала луна, море искрилось серебром, и острые силуэты корабельных мачт на его фоне казались густым лесом. Более крупные суда, стоявшие на рейде, маячили в отдалении, словно черные тени. Прибойные волны, приходившие со стороны открытого моря, с рокотом разбивались о камни мола. В самом порту было сравнительно спокойно, галея лишь слегка покачивалась, под ее днищем тихо плескалась вода. Из города изредка доносились стук подков по мостовой, далекая перекличка стражи, где-то в порту горел костер, оттуда слышался перезвон струн.
Все вокруг было полно покоя, но в сердце Мартина не было тишины. Он знал: еще одно испытание, последнее, — и все они окажутся в безопасности. Но это испытание еще предстояло пройти. С рассветом начнется досмотр кораблей, прибудут сюда и те, кто отправляется с графом Неверским в Тир, а среди них — пленники из числа защитников Акры, согласившиеся принять крещение.
Удивительно — но таких оказалось немало. Подземные темницы крепости оказались убедительным доводом в пользу веры Христовой, и священники дюжинами вели новообращенных к купелям. Мартин лишь посмеивался над легковерием франков, считавших, что, окатившись водицей и произнеся формулу отречения, сарацины тотчас станут добрыми христианами. Но в этом был убежден даже сам Ричард Львиное Сердце, дозволивший отпускать на волю тех, кто чистосердечно отрекся от своего лжепророка Мухаммада. Должно быть, никто не объяснил королю, что этим новообращенным, получившим свободу, достаточно всего один раз произнести шахаду:[151] «Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и еще свидетельствую, что Мухаммад — посланник Аллаха», чтобы вернуться в лоно ислама. И, конечно же, снова взяться за сабли.
Время тянулось невыносимо медленно. Мартин гадал, сколько еще пассажиров утром поднимутся на борт «Легкой кошки», и надеялся, что в этой толпе таможенникам будет не до того, чтобы вчитываться в каждую подорожную. Если же сюда доставят еще и раненых французов, начнется сущее столпотворение.
В эти минуты он был готов размышлять о чем угодно, чтобы подспудный страх снова не овладел его душой. Этот страх сидел в нем с той минуты, когда он снова встретился со своим заклятым врагом де Шампером и понял, что того не так-то просто заставить подчиниться. Маршал ордена помешан на личной чести, безоглядно храбр и очень умен. А теперь, зная о том, что Мартин в Акре и пытается ускользнуть, он начнет действовать, и предсказать его поступки и намерения крайне сложно. Догадывается ли храмовник, что в облачении лазарита с ним говорил тот самый Арно де Бетсан, которого он некогда вздернул на дыбу, а палачи оставили страшные рубцы на теле узника?
Как знать… С каким же наслаждением посмеется над ним Мартин, оказавшись за пределами власти могущественного маршала тамплиеров, тем более что совершить побег помогла ему сестра врага!
Джоанна…
Нет, он должен запретить себе думать о ней. Он глубоко признателен ей за помощь, он восхищается ею, он все еще таит в глубине сердца сладость их последнего свидания… Но отныне она больше ничего не значит для него.
Мартин попытался представить Руфь, свою невесту. Сладкая и чувственная, смуглая, с глазами лани и кудрями, пышными, как виноградные лозы. Скоро они увидятся… И тогда он наконец-то обретет покой. Ибо если Руфь станет его женой, Ашер вряд ли решится и далее посылать его в дальние края с опаснейшими миссиями. Мартин наконец-то сможет начать жить для себя и своих близких.
С этими мыслями он и уснул под легкий плеск волн.
Разбудили его шум и оживленное движение вокруг. Возвращались из города матросы, между скамей прохаживался капитан Себастьяно, проверяя, надежно ли упакованы и принайтовлены тюки. Тюки эти пахли пряностями — драгоценным товаром, который в два счета может сделать человека богачом. Неплохим подспорьем в делах этого мореплавателя служила также перевозка пассажиров. Поэтому попутно он пересчитывал их взглядом, справляясь у помощника, все ли внесли положенную плату.
Помимо лжекрестоносца Эйрика и его свиты на борту уже находились какие-то мусульмане, а по сходням несли на носилках раненого франкского рыцаря, должно быть, знатную особу, ибо сопровождавшие его монахи-госпитальеры бесцеремонно потеснили сарацин из свиты Эйрика. Рыжий тотчас повел себя, как и полагалось опоясанному рыцарю: возмутился и вступил в перебранку. И при этом поднял такой шум, что расплакалась малышка его мнимой супруги Леа, а за ней и Эзра с перепугу поднял рев. Сарра тут же принялась его успокаивать, вытирая заплаканное личико парнишки краем своего черного хиджаба.
Мартин, перегнувшись через борт, зачерпнул воды и плеснул в лицо. Еще только начинало светать, а порт уже проснулся. Слышалась перекличка вахтенных на судах, кто-то спорил об оплате, орали и ссорились чайки, выхватывая из воды отбросы. Утренний бриз принес прохладу после душной ночи, а с нею и запахи смолы, печного дыма, соленой рыбы и сыромятных кож, — обычные ароматы припортовой жизни.
К Мартину приблизился Сабир.
— На все, конечно, воля Аллаха, — да будет он прославлен вовеки! — но не кажется ли тебе, что на причалах сегодня слишком много храмовников?
Мартин присмотрелся. Храмовники и госпитальеры обычно сопровождали покидающих Святую землю паломников, проверяли исправность их подорожных, напутствовали перед плаванием. На первый взгляд, их было не больше обычного, и это не вызывало тревоги.
Так он и ответил Сабиру, а затем надвинул на лицо капюшон и отделился от своих спутников, чтобы взглянуть, как таможенники и стражники поднимаются на выстроившиеся у причалов суда.
Эйрик окликнул капитана:
— Скажи, почтенный, скоро ли отчаливаем? Стоит ли ждать, пока падет жара?
Капитан был занят. Взглянув с раздражением на рыжего рыцаря, он пояснил: суда начнут выходить в море лишь после того, как закончится досмотр. Слава Пресвятой Деве, им не придется ждать, когда соизволит отплыть граф Неверский, — иначе не миновать вчерашней толчеи и неразберихи. Однако без досмотра никто не посмеет отдать швартовы, и хуже того: тамплиеры ищут какого-то беглеца, поэтому придется дождаться разрешения самого маршала де Шампера.
Венецианец удалился, не обратив внимания на то, как резко проступили веснушки на лице рыжего рыцаря — так он побледнел.
— Это еще ничего не значит, малыш, — проговорил он, облокачиваясь на фальшборт подле Мартина. — Я понял так, что они ищут тех троих беглецов из числа пленных сарацин, а не тебя. К тому же готов поклясться, что красавица Джоанна не выдаст тебя брату, будь он хоть трижды маршал и весь в крестах с ног до головы.
— На нем всего один крест, — откликнулся Сабир, указывая кивком головы в сторону набережной.
Алый крест на белой котте, надетой поверх доспехов… Маршал ордена Храма неподвижно, как изваяние, восседал на коне. Вокруг него толпились сервиенты,[152] а он с непроницаемым лицом отдавал им какие-то указания. Те, выслушав, тут же расходились — каждая группа направлялась к одному из кораблей. Их черные с алыми крестами туники были видны повсюду — у причалов, на судах, рядом с группами тех, кто еще только собирался подняться на корабль. Действовали сервиенты основательно: будили спящих, заглядывали в лица, просматривали бумаги, задавали вопросы. Кого-то уже вели на берег под стражей.
Лицо Мартина напряглось, под ложечкой похолодело. Он попытался убедить себя, что это обычный досмотр, не более. Но ведь он и прежде бывал в порту при отплытии военных и купеческих судов и никогда не видел ничего подобного. Может, и впрямь дело в сарацинах-беглецах? И тем не менее он все яснее понимал, что оставаться на корабле для него — смертельный риск.
Рядом негромко и злобно помянул нечистого Сабир.
— Ты только взгляни, друг! — он указал на стоявший невдалеке корабль.
Едва Мартин понял, на что он указывает, его замутило: от страха, разочарования, мучительного напряжения.
На палубе соседней галеры сервиенты пытались заставить одного из французских рыцарей раздеться. Тот был высок, светловолос и худощав. Рыцарь возмущался, отталкивал слуг ордена, в конце концов его схватили и, несмотря на гневные протесты спутников, потащили к сходням, а затем прямиком к де Шамперу. Там с него все же сорвали одежду.
— Тебе лучше исчезнуть, Мартин, — с непроницаемым видом произнес Сабир.
— Это еще ничего не значит! — вскипел Эйрик. — Вон, гляди: они отпустили этого парня, а маршал даже поклонился с седла, приносит извинения.
— Мартина они не отпустят, — с тем же спокойствием возразил Сабир.
Теперь он в упор смотрел на друга.
— Послушай, я понимаю, как ты хочешь уехать отсюда и все забыть. Но этот де Шампер… Порождение Иблиса! Не стоит рисковать… — он со злостью сплюнул в воду. — Твоя проклятая англичанка выдала тебя брату-храмовнику. Разве это не очевидно?
Душу Мартина охватила тоска. Он доверился ей…
К ним приблизилась госпожа Сарра, понявшая, что на берегу творится неладное.
— Дорогие мои, нам что-то угрожает?
Мартин взглянул на нее. Лицо женщины было скрыто под темным покрывалом, черные глаза взволнованно блестели. Если его опознают и схватят, и Сарре, и ее детям придется несладко.
— Все уладится, госпожа моя. Но мне… Мне придется скрыться.
Она ахнула и вцепилась в его запястье.
— Что же мы будем делать без тебя, мальчик мой?
Вмешался Сабир:
— Все будет хорошо, госпожа. Мы с Эйриком позаботимся о вас и о детях. Вы будете в безопасности.
— А Мартин? — Она все еще сжимала руку посланца брата.
Сабир оттеснил еврейку.
— Беги, друг, пока еще есть время. Если ты исчезнешь… Юная Нэхама выглядит достаточно взрослой, чтобы выдать ее за одну из тех шестерых, что упомянуты в подорожной. А печать ордена Храма стоит не только на нашем пергаменте, но и на всех других. Эйрик, если спросят, заявит, что оруженосец всего лишь проводил его, сам же намерен остаться в Святой земле. А в остальном положись на меня — я справлюсь, Аллах тому свидетель! Ни один волос не упадет с головы этих женщин и детей, пока я жив.
Мартин взглянул на причал. К трапу уже приближались таможенники. До простых моряков и пассажиров им не было дела, их интересовал только груз, поэтому они сразу же направились к капитану. Но сервиенты с крестами ордена Храма уже заканчивали досмотр на одном из соседних кораблей. В любой миг они могут появиться здесь.
Он перехватил взгляд госпожи Сарры — в ее глазах стояли слезы. Рядом с ней всхлипывала Леа с малюткой на руках. Нэхама и Эзра еще ничего не поняли и, хихикая, перешептывались между собой, усевшись на палубу.
— Вы можете полностью довериться Сабиру и Эйрику, госпожа. Они защитят вас и помогут во всем, пока меня не будет рядом.
Эйрик напутствовал:
— Постарайся отсидеться у Лузиньянов, малыш. Там тебе ничего не грозит. А уж я вернусь, как только все утрясется.
— Да скорее же, Мартин! — обычная выдержка изменила Сабиру, голос его сорвался. — Без тебя мы не пропадем, но с тобой всем нам грозит смерть. Ступай! И да сопутствует тебе милость Аллаха!
Опустив голову, скрыв лицо под капюшоном, Мартин направился к сходням. Один из таможенников поинтересовался — куда это он? Сейчас начнется досмотр.
— Я вон к тем лошадям, — Мартин махнул на готовых к погрузке на судно жеребцов.
Его не задержали. Он спустился на набережную и взял под уздцы одного из коней. Рядом тут же возник чей-то оруженосец.
— Тебе чего, малый?
— Любуюсь. Прекрасное животное, — Мартин похлопал жеребца по крупу, украдкой наблюдая за приближающимися служителями ордена. Вместе с ними шел рыцарь в белом плаще, внимательно вглядываясь в лица пассажиров «Легкой кошки». Успел ли он заметить, что один из них только что спустился на берег? Придал ли этому значение?
Довольный похвалой, оруженосец принялся пояснять, что конь и вправду хорош, да много хворал, должно быть, от этой адской жары. Вот его и решили…
Внезапно послышались шум и крики. Уже достаточно рассвело, чтобы видеть, как с одного из кораблей в воду прыгнул какой-то человек и стремительно поплыл, удаляясь в сторону мола. Поднялась суета, заметались охранники. Тамплиер, стоявший у сходней «Легкой кошки», застыл, словно колеблясь — продолжать ли досмотр или присоединиться к погоне. Однако, преодолев замешательство, все же поднялся на борт судна, ибо несколько легких лодок уже окружали беглеца.
Суматоха помогла Мартину: прячась за крупами лошадей, он отдалился на изрядное расстояние от причала. Оставалось самое опасное: проскользнуть в арку ворот порта, миновав Уильяма де Шампера. Но это оказалось не так уж сложно: маршал следил за тем, как вытаскивают из воды пытавшегося сбежать, и даже не взглянул на горожанина в светлом капюшоне с оплечьем, который прошел совсем рядом с ним.
Миновав арку, Мартин едва справился с желанием немедленно броситься наутек. И в самом деле, неплохо бы сейчас вернуться в резиденцию короля Гвидо, раскланяться с коннетаблем, отведать бараньей похлебки из солдатского котла. Рядом с ними Мартин Фиц-Годфри будет в безопасности, Эйрик прав.
Но просто так уйти он не мог. Если его друзей и госпожу Сарру схватят… Тогда, может статься, ему придется спасать их — даже ценой собственной жизни. Ведь не за пожилой еврейкой и ее детьми, а именно за ним охотится проклятый храмовник. В этом больше нет ни малейших сомнений, ибо Джоанна предала его и заслужила ненависть и презрение.
Из купеческих кварталов ближе всего к порту располагался Венецианский — самый многолюдный и богатый. Здесь жили по иным законам, купцы содержали свою стражу, у итальянцев были свои священники и свои лавочники. Это был маленький островок Венецианской республики в многолюдной Акре, на который не распространялась власть могущественных орденов. Имелась тут и таверна, где подавали превосходное вино.
Мартин уселся за тяжелый дубовый стол под навесом, и ему тотчас нацедили кувшин светлого легкого вина, подали сыр и свежеиспеченный хлеб, а вскоре поспела и яичница. Отсюда он видел часть улицы, ведущей к воротам порта. И только теперь понял, в каком нечеловеческом напряжении пребывал все это время: когда он поднес к губам чашу, зубы его лязгнули о край сосуда, рука задрожала, а вино выплеснулось на землю…
Он просидел под навесом у таверны довольно долго. На квадратной башенке венецианского подворья ударили колокола, заглушив отдаленное пение муэдзина. Повсюду слышалась итальянская речь, катились тележки с товаром, прохожие мешали ему наблюдать за тем, что творилось у входа в порт. И все же он видел, как вели, пиная и осыпая бранью, пойманного беглеца-сарацина. Затем послышался слитный гул от ударов множества конских копыт по камням мостовой — в порт въезжал отряд графа Неверского Пьера де Куртене, покидающего Палестину. Это была внушительная процессия: множество рыцарей и их оруженосцев под колышущимися на древках золотистыми знаменами с тремя алыми солнцами. Всадники ехали попарно, грохотали колеса повозок, на которых громоздилась поклажа отъезжающих.
— Еще вина, сеньор?
Мартин кивнул. Вино позволило ему расслабиться. Теперь все случившееся уже не казалось столь ужасным. Он успел вовремя скрыться, сумел не навлечь беду на своих спутников. Сейчас порт до отказа заполнится людьми, к берегу подойдут большие корабли, до сих пор ожидавшие на рейде. И это означает, что досмотр окончен и «Легкую кошку» наверняка отпустили. Его друзья на свободе! Иначе и их бы уже волокли связанными под злобную ругань стражников.
Что ж, он исполнил то, что было поручено ему Ашером бен Соломоном. А Эйрик с Сабиром доведут дело до конца.
— Помолиться, что ли? — усмехнулся Мартин, заглядывая в кувшин, где на донце оставалось еще немного вина. Да только кому? Он верил не в Бога, а в ловкость, силу, ум и удачу. И они его еще ни разу не подводили.
Покинув Венецианский квартал, Мартин неторопливо направился к резиденции короля Иерусалимского. Сейчас он чувствовал себя почти легко. О, еще бы! Пережитое сегодня — сущая мелочь в сравнении с той ночью, которую он провел на шестидесятифутовой высоте в обнимку с каменной гаргульей, и в любую минуту его могли заметить и всадить в бок арбалетную стрелу.
И все же, все же…
Если бы Джоанна не предала его, сейчас он подставлял бы лицо соленым брызгам, которые ветер срывает с гребней волн; он вскоре встретился бы с Иосифом, вернулся в Никею, в дом Ашера, и обнял бы свою Руфь.
Пряча лицо под капюшоном и устремив взор на пыльные плиты мостовой, Мартин оставлял позади квартал за кварталом, размышляя о том, что Святая земля, которой он причинил столько зла, должно быть, не хочет его отпускать…
Примечания
1
Галата — предместье Константинополя, основанное генуэзскими колонистами. От основной части города отделено проливом Золотой Рог.
(обратно)2
Прецептория — так называемый «Орденский дом», небольшая административная единица в составе духовно-рыцарского ордена.
(обратно)3
В отличие от ордена тамплиеров, в котором состояли только мужчины, у госпитальеров служили и женщины — сестры-госпитальерки.
(обратно)4
Варанги — так называли скандинавских викингов, нанимавшихся на военную службу в Византии (отсюда русское «варяги»).
(обратно)5
Название «Византия» появилось в трудах западных историков уже после падения Восточной Римской империи. Сами византийцы называли себя римлянами — по-гречески «ромеями», а свою державу — Римской («Ромейской») империей.
(обратно)6
В XII в. на Руси происходили частые междоусобные войны, разрушившие систему торговых путей «из варяг в греки».
(обратно)7
Иоанниты — еще одно название ордена госпитальеров, связанное с именем патрона ордена — Святого Иоанна.
(обратно)8
Норны — в германо-скандинавской мифологии волшебницы, наделенные чудесным даром определять судьбы мира, людей и даже богов.
(обратно)9
Христиан.
(обратно)10
Вильгельм II Добрый (1153–1189) — король Сицилии из нормандской династии Отвилей.
(обратно)11
Войска мусульман захватили Иерусалим осенью 1187 г.
(обратно)12
Салах ад-Дин (1138–1193) — Юсуф ибн Айюб Салах ад-Дин, прозванный европейцами Саладином, — султан Египта и Сирии, курд по происхождению, объединивший мусульманские земли и отвоевавший у крестоносцев Иерусалим.
(обратно)13
Калабрия расположена на южной оконечности Апеннинского полуострова, как иногда образно говорят сами итальянцы — «в носке итальянского сапога».
(обратно)14
Анжуйская держава — обширное феодальное владение во Франции и на Британских островах, сложившееся в середине 12 в. Власть в ней принадлежала представителям династии Плантагенетов.
(обратно)15
Барбетта — элемент средневекового женского головного убора в виде небольшой косынки, закрывающей подбородок и часть щек.
(обратно)16
Элеонора Аквитанская принимала участие во Втором крестовом походе (1147–149) вместе со своим первым супругом королем Франции Людовиком VII.
(обратно)17
Джеффри Бретонский (1158–1186) — четвертый сын Генриха II и Элеоноры Аквитанской. Был женат на наследнице Бретонских владений. Погиб во время рыцарского турнира. Его сын Артур одно время считался наследником трона Плантагенетов.
(обратно)18
Фридрих I Гогенштауфен (Барбаросса) (1122–1190) — король Германии и император Священной Римской империи. Первым из монархов Европы выступил в Третий крестовый поход (в 1189 г.), однако погиб в пути, утонув при переправе через реку Селиф в Малой Азии.
(обратно)19
Сарацинами со времен крестовых походов европейцы называли всех мусульман.
(обратно)20
Левант — общее название стран, расположенных у восточного побережья Средиземного моря: Сирии, Палестины и Ливана.
(обратно)21
Болт — кованая арбалетная стрела длиной около 20 см. Легко пробивала доспехи, причиняя страшные раны.
(обратно)22
Кансона и альба — жанры любовной лирики в провансальской поэзии.
(обратно)23
Битва при Хаттине между воинством Иерусалимского королевства и объединенными силами мусульман под предводительством султана Саладина произошла 4 июля 1187 г. и завершилась полным разгромом крестоносцев, обескровившим ордена тамплиеров и госпитальеров.
(обратно)24
Никея — город в Малой Азии, существовавший в IV–XIII вв. на месте современного турецкого города Изник.
(обратно)25
Караван-сарай — общественное здание на Ближнем и Среднем Востоке. Караван-сараи располагались в крупных городах и на скрещениях торговых путей, предоставляли кров и безопасное убежище путешествующим, в первую очередь — купеческим караванам.
(обратно)26
В Средние века франками в Азии называли всех западноевропейцев.
(обратно)27
Сельджуки — ветвь кочевых племен тюрок-огузов, получившая свое название по имени одного из первых предводителей — Сельджука. Отличались воинственностью и враждебностью к христианам.
(обратно)28
Никея в 1077 г. была завоевана турками-сельджуками. Это послужило одной из причин обращения императора Ромейской державы за помощью к Папе, что в итоге стало одной из причин Крестовых походов. Когда же в 1097 г. войско крестоносцев осадило Никею, император Алексей I Комнин вступил в переговоры с сельджуками, и они сдали город при условии, что он не будет принадлежать крестоносцам. Никея осталась под властью Византии, а Алексей I, чтобы умерить недовольство крестоносцев, потративших немало сил и средств в ходе осады, снабдил их верховыми лошадьми и передал часть выкупа, уплаченного сельджуками.
(обратно)29
Киликия — область на юго-востоке Малой Азии. В описываемое время там располагалось Киликийское армянское царство, которое в конце XIV в. стало вассалом османских султанов.
(обратно)30
Конийский султанат располагался в центральной части Малой Азии. Эти земли, некогда входившие в состав Римской империи, были захвачены турками-сельджуками, образовавшими там свое государство.
(обратно)31
Даян — судья, высший авторитет в религиозных вопросах у евреев.
(обратно)32
Мезуза — прикрепляемый к внешнему косяку еврейского дома свиток пергамента в специальном футляре, в тексте которого провозглашается единство Бога и существование завета между Ним и еврейским народом. Существует обычай прикасаться к мезузе пальцами и целовать их при входе и выходе из дома.
(обратно)33
Симарра — длинное облегающее верхнее платье у евреев, застегивавшееся сверху донизу.
(обратно)34
Левон II — царь Киликийской Армении с 1187 по 1219 гг. На период его правления пришелся расцвет Киликии, когда она стала одной из самых влиятельных христианских стран на Ближнем Востоке.
(обратно)35
Миква — резервуар для ритуальных очищающих омовений.
(обратно)36
Кипа — маленькая круглая шапочка (вязаная или сшитая из ткани), прикрывающая макушку. Традиционный еврейский головной убор.
(обратно)37
Зимми (араб.) — «покровительствуемый». Так называли «людей Писания» — евреев и христиан, — живущих в странах ислама. Им предоставлялось право свободно исповедовать свою веру при условии уплаты особого налога, от которого освобождались мусульмане. Кроме того, зимми запрещалось вступать в брак с мусульманками и владеть рабами-мусульманами.
(обратно)38
Алия (ивр.) — «восхождение». Этим понятием обозначалось возвращение евреев на землю Израиля. Начиная с 12 в. преследование евреев христианской церковью привело к росту их притока в Святую землю. Евреи селились преимущественно в четырех святых для правоверных иудеев городах — Иерусалиме, Хевроне, Цфате и Тверии.
(обратно)39
Василевс — титул византийских императоров.
(обратно)40
Тивериада — княжество в Иерусалимском королевстве и древний город на побережье Галилейского озера (ныне — озеро Кинерет в Израиле).
(обратно)41
Лепра (от лат. lepra) — проказа. Лепрозорий — больница для прокаженных, в Средние века так называли дома, в которых совместно проживали больные проказой.
(обратно)42
Имеется в виду султан Саладин, чье собственное имя было Юсуф ибн Айюб. Саладин (Салах ад-Дин) — почетное прозвище, означающее в переводе с арабского «Благочестие веры».
(обратно)43
Жерар де Ридфор (1141–1189) — один из наиболее бесславных магистров ордена тамплиеров. Считается, что именно он виновен в поражении крестоносцев в битве при Хаттине. Угодив в плен, Жерар де Ридфор под давлением Саладина приказал тамплиерам сдать ряд крепостей, после чего был освобожден. Пленен сарацинами под Акрой и обезглавлен. В описываемое в романе время (весна 1191 г.) орден тамплиеров не имел высшего руководителя — Великого магистра.
(обратно)44
Современный Ашкелон в Израиле.
(обратно)45
Капитул — общее собрание членов монашеского или духовно-рыцарского ордена, созываемое для решения особо важных вопросов.
(обратно)46
Бела III Венгерский — король Венгрии с 1179 по 1196 г. Правление Белы III считается эпохой наивысшего расцвета Венгерского королевства.
(обратно)47
Маргарита Французская (1158–1197) — дочь короля Людовика VII, супруга старшего сына Генриха II Плантагенета — Генриха Молодого, умершего в 1183 г. После его кончины стала супругой короля Белы III.
(обратно)48
Агнесса (1171–1204) — дочь короля Людовика VII от его третьей жены Адель Шампанской. Супруга императора Византии Алексея II Комнина, а после его убийства — императора Андроника I Комнина. Вторично овдовев, жила в Константинополе.
(обратно)49
Патрикии — знатные вельможи. Этот титул был введен в Восточной Римской империи еще Константином Великим по аналогии с римскими патрициями.
(обратно)50
Кебаб — стружка или ломтики слоеного мяса, обжаренного на вертикальном вертеле.
(обратно)51
Котта — носимая поверх кольчуги одежда без рукавов, напоминающая тунику, с разрезами, позволяющими с удобством располагаться в седле.
(обратно)52
Кафирами — неверующими в Аллаха — мусульмане называли христиан.
(обратно)53
Гамбезон — стеганая одежда из нескольких слоев ткани, которую обычно носили под металлическим доспехом. Гамбезон и сам служил защитой: не всякое оружие могло с первого удара рассечь плотную многослойную ткань.
(обратно)54
Исаак II Ангел (1156–1204) — византийский император в 1185–1195 и 1202–1204 гг. Неблагосклонно относился к крестоносцам. После того как Саладин в 1187 г. захватил Иерусалим, отправил ему поздравление с победой.
(обратно)55
Гурия — прекрасная райская дева в исламе.
(обратно)56
Блио — верхняя одежда, распространенная в Европе в XII в.: туго шнурованное в талии платье, расходящееся книзу, с широкими рукавами.
(обратно)57
Везле — город в Бургундии, где формировалось перед походом воинство французских крестоносцев. В Везле находилось одно из крупнейших в Европе аббатств ордена бенедиктинцев.
(обратно)58
Капитан — предводитель отряда. Воинских званий в 12 в. не существовало, как не существовало и регулярных армий.
(обратно)59
Английский канал — пролив Ла-Манш.
(обратно)60
Магриб — название, присвоенное арабскими географами землям, лежащим к западу от Египта.
(обратно)61
Тагма — основная боевая единица ромейского войска, отряд в 200–300 воинов.
(обратно)62
Алексей I Комнин — византийский император в 1081–1118 гг. В 1091 г. обратился к Папе Римскому с просьбой о помощи в борьбе с сельджуками, что и стало поводом для целого ряда крестовых походов.
(обратно)63
Во избежание дробления родовых земель в Средние века в Англии, как и во многих странах Европы, существовал майорат — законодательная норма, требовавшая передачи земельного надела старшему наследнику. Младшие были вынуждены идти на государственную службу, заниматься коммерцией, принимать постриг или искать возможность вступить в выгодный брак.
(обратно)64
Речь идет о Вильгельме Нормандском (1028–1087), который разбил войско англичан в битве при Гастингсе в 1066 г. и стал королем Англии. Носил прозвище Завоеватель.
(обратно)65
Дорилея — ныне турецкий город Эскишехир. В 1097 г., во время Первого крестового похода, отряды крестоносцев одержали тут первую победу над войском сельджуков. Поражение сельджуков при Дорилее оказалось выгодным для византийского императора Алексея Комнина — он воспользовался этим обстоятельством, чтобы восстановить свою власть в ранее захваченных тюрками областях.
(обратно)66
Халиф аль-Хаким (996–1021) — исмаилитский халиф из династии Фатимидов. Он обрушился на христиан с преследованиями, сровнял с землей их храмы, в том числе и храм Гроба Господня в Иерусалиме, что вызвало волну возмущения в Европе и стало одной из причин Первого крестового похода.
(обратно)67
Готфрид Бульонский (1060–1100) — один из предводителей Первого крестового похода. После захвата Иерусалима был провозглашен крестоносцами правителем Иерусалимского королевства. Отказавшись короноваться в городе, где Христос был коронован терновым венцом, Готфрид принял звание «Защитника Гроба Господня». После смерти Готфрида Бульонского первым королем Иерусалимского королевства стал его брат Бодуэн I.
(обратно)68
Иса ибн Мариам — так мусульмане называли Иисуса Христа.
(обратно)69
Фидаи — убийцы-смертники из числа ассасинов, в широком смысле — люди, жертвующие собой во имя веры.
(обратно)70
Старец Горы — своеобразный титул имама, главы ассасинов. В 1163–1193 гг. Старцем Горы был Рашид ад-Дин Синан.
(обратно)71
Мамлюки — военная каста в средневековом Египте, в которую отбирали юношей-рабов тюркского и кавказского происхождения. Юношей обращали в ислам, обучали арабскому языку и тренировали в закрытых лагерях для несения военной службы. Став профессиональными воинами, они получали свободу и высокую плату за службу.
(обратно)72
Тымархане — помещение для содержания умалишенных (тюрк.).
(обратно)73
Сибилла Иерусалимская (1160–1190) — королева Иерусалима с 1186 г.
(обратно)74
Гулямы — профессиональные воины в войсках сельджуков, подчинявшиеся непосредственно султану.
(обратно)75
Бармица — деталь защитного вооружения, применявшаяся на Востоке для защиты затылка, плеч и лопаток воина. Изготавливалась из плотной ткани или кольчужного полотна.
(обратно)76
Казаганд — крытый тканью кольчужный доспех на стеганой подкладке, позднее перенятый у мусульман западноевропейскими христианами.
(обратно)77
Интердикт — отлучение от церкви.
(обратно)78
Ричард Плантагенет, несмотря на то что был королем Англии, вступая во владение своими землями во Франции, был обязан приносить присягу французскому королю. Таким образом, Филипп имел формальные основания утверждать, что Ричард — его подданный.
(обратно)79
Газизы — жители областей Конийского султаната, граничивших с владениями Византии. По собственной инициативе создавали воинские формирования, сражавшиеся за расширение мусульманских земель, а порой занимались откровенным разбоем.
(обратно)80
Катафрактарии (от греч. «катафрактос» — «покрытый броней») — тяжелая кавалерия Ромейской империи. Основное вооружение катафрактариев — длинные копья, достигавшие 4,5 м в длину.
(обратно)81
В геральдической традиции изображение диагональной полосы с левой стороны гербового щита свидетельствовало о внебрачном происхождении потомка знатного рода.
(обратно)82
Валлийская марка — традиционное название областей на границе Уэльса и Англии.
(обратно)83
Стефан Блуаский — король Англии с 1135 по 1154 г. Узурпировал трон после смерти своего предшественника и в течение всего периода правления вел войну с законной наследницей трона Матильдой, дочерью покойного короля Генриха I. Сын Стефана Блуаского принц Юстас умер вскоре после того, как Стефан согласился признать права на трон сына Матильды — Генриха Плантагенета.
(обратно)84
Дервиш — мусульманский странствующий проповедник-аскет, обычно живущий подаянием.
(обратно)85
Хамсин — изнурительно жаркий ветер южных направлений, насыщенный песком и пылью. Задувает на Ближнем Востоке после наступления весеннего равноденствия. Обычно хамсин продолжается около 50 дней.
(обратно)86
Трансиордания — обширный регион без фиксированных границ, лежащий к востоку от реки Иордан.
(обратно)87
Тартус — портовый город в Сирии, в 12 в. находившийся под контролем тамплиеров, Арвад — островной город, расположенный примерно в 3,5 км от Тартуса.
(обратно)88
Рыцари ордена Калатравы и Сантьяго — члены первого духовно-рыцарского ордена, основанного цистерцианцами в 12 в. в Кастилии для борьбы с маврами; только небольшая их часть приняла участие в войнах Иерусалимского королевства.
(обратно)89
Вампл — средневековый женский головной убор, нечто вроде апостольника у монахинь: цельный покров с отверстием для лица, ниспадающий на плечи и скрывающий под собой волосы.
(обратно)90
Амальрих (Амори) I Иерусалимский (1136–1174) происходил из Анжуйской династии. Был отцом короля Бодуэна Прокаженного (1161–1185), Сибиллы Иерусалимской (супруги Гвидо де Лузиньяна) и Изабеллы Иерусалимской.
(обратно)91
Топхельм — европейский шлем, появившийся в 12 в. во времена крестовых походов. Имел цилиндрическую форму, полностью скрывал лицо воина.
(обратно)92
Камиза — нижняя туника с цельнокроеными рукавами, поверх нее надевалась безрукавная котта, из-под которой виднелись рукава камизы. Котта опоясывалась, над поясом всегда делался небольшой напуск.
(обратно)93
Матерью Генриха Шампанского была Мария Французская — дочь Элеоноры Аквитанской и короля Людовика VII — отца Филиппа. В результате второго брака Элеоноры с Генрихом II Плантагенетом, в котором она родила Ричарда, Генрих фактически стал кузеном обоих монархов — и Филиппа, и Ричарда.
(обратно)94
Проточина — характерная отметина на морде лошади в виде полосы более светлой шерсти, спускающейся от лба к ноздрям.
(обратно)95
Жизор — замок на границе английских и французских владений в Нормандии, ставший яблоком раздора между Плантагенетами и Капетингами. Послы обеих держав традиционно встречались для переговоров в его окрестностях.
(обратно)96
Покой вечный подай ему, Господи, и свет вечный ему да сияет. Да упокоится с миром. Аминь (лат.).
(обратно)97
Король Людовик VII возглавлял Второй крестовый поход (1147–1149), окончившийся полным провалом.
(обратно)98
Галея — парусно-гребное судно, специально приспособленное для плавания по Средиземному морю.
(обратно)99
Ликийский Олимп — гора Тахталы в современной Турции (2365 м над уровнем моря). С ноября по июнь покрыта снегами, в весеннее время снега на ее вершине нередко окрашиваются в розовый цвет за счет пыли, принесенной ветрами, дующими из Сахары.
(обратно)100
Экдик — в Ромейской империи — представитель наместника провинции в селении или небольшом городе.
(обратно)101
Тафл — настольная игра, предшественница шашек, завезенная в Средиземноморье викингами.
(обратно)102
Стихи графини Беатрис де Диа (12 в.) — первой из 17 известных историкам литературы женщин-трубадуров. Из-за пылкости ее песен графиню часто называли «провансальской Сафо».
(обратно)103
Гора Химера в Турции — единственный в мире горный массив, на склоне которой круглый год горит огонь естественного происхождения. Из трещин на ее склоне выходит газ метан с примесью соединения, которое воспламеняется на воздухе. Таких природных факелов — несколько десятков. Место это известно с глубокой древности, и газ там горит в течение нескольких тысяч лет.
(обратно)104
Оммаж — присяга на верность верховному правителю.
(обратно)105
Радуйся, Матерь Божия (лат.).
(обратно)106
Шербет — традиционный напиток в странах Востока, приготавливаемый из шиповника, кизила, розы, лакрицы и различных специй.
(обратно)107
Абеляр, Пьер (1079–1142) — французский философ-схоласт, теолог и поэт.
(обратно)108
Дед Ричарда Английского — Жоффруа V, граф Анжуйский, любил украшать свой шлем веточкой английского дрока, впоследствии сделав этот цветок своей эмблемой. Английский дрок по-латыни — planta genista, это название впоследствии превратилось в родовое имя.
(обратно)109
Требюше — средневековая метательная машина гравитационного действия для осады городов.
(обратно)110
Primo — во-первых (лат.).
(обратно)111
Secundo — во-вторых (лат.).
(обратно)112
Bellum sacrum — священная война (лат.).
(обратно)113
Фатимиды — династия правителей Египта, существовавшая с 909 по 1171 г. Саладин низложил Фатимидов и основал новую династию Айюбидов.
(обратно)114
Братья-сержанты — одно из трех сословий ордена тамплиеров. К нему относились служители, пажи, оруженосцы, солдаты-пехотинцы и охранники. Все они, так же как и рыцари, принимали монашеские обеты, и на них распространялись все положения орденского устава.
(обратно)115
Тар — струнный щипковый музыкальный инструмент, распространенный в странах Востока. Формой отдаленно напоминает гитару, звук извлекается с помощью рогового плектра.
(обратно)116
Давид Сасунский — герой армянского эпоса, повествующего о борьбе витязей из области Сасун (ныне находится на территории Турции) против арабских завоевателей.
(обратно)117
Мантилетта — короткая накидка с капюшоном, украшенная вышитыми символами Христа. Охватывает плечи и застегивается на груди. Часть облачения высшего духовенства Римско-католической церкви.
(обратно)118
Тор — бог грома и молнии в скандинавской мифологии.
(обратно)119
Шоссы — средневековые мужские штаны-чулки, облегающие ногу.
(обратно)120
Хозяин Вальхаллы — Один, верховное божество в скандинавской мифологии, отец и предводитель прочих богов. Считался одноглазым, так как другим глазом Одину пришлось пожертвовать, чтобы испить из источника мудрости.
(обратно)121
Пли! (фр.).
(обратно)122
Генрих был графом не только Шампани, но и Блуа — области в центре Франции, расположенной на правом берегу р. Луары.
(обратно)123
Безант — денежная единица Византийской империи, около 4,5 г золота. В 4–12 вв. служила образцом для монет Европы и Ближнего Востока, в течение почти целого тысячелетия считалась международной валютой.
(обратно)124
Вино доводит до греха даже мудрецов (лат.).
(обратно)125
Шорник — мастер по изготовлению конской упряжи.
(обратно)126
Дик — уменьшительное от имени Ричард.
(обратно)127
Гласис — утолщенная нижняя часть крепостной стены, образующая крутой скат. Увеличивает прочность оборонительного сооружения и препятствует попыткам осаждающих взобраться на стену.
(обратно)128
Сенешаль — одна из высших должностей в ордене Храма. Сенешаль исполнял судебные и распорядительные функции, пользовался значительной властью.
(обратно)129
Асы — верховные боги германо-скандинавского пантеона.
(обратно)130
Машикули — навесные бойницы в верхней части крепостных стен и башен, предназначенные для вертикального обстрела и сбрасывания камней на штурмующего стену противника.
(обратно)131
Квадрига — античная и византийская колесница, запряженная четверкой лошадей.
(обратно)132
Салят — в исламе обязательная ежедневная пятикратная молитва, то же, что и намаз (араб.).
(обратно)133
Духан — небольшая харчевня на Ближнем Востоке и на Кавказе.
(обратно)134
Мантелет — щит очень больших размеров, используемый при осаде крепостей, за которым могли разместиться несколько лучников.
(обратно)135
Абайя — длинное арабское платье с рукавами, которое носят без пояса; хиджаб — традиционный исламский женский головной платок, плотно закрывающий голову и плечи.
(обратно)136
Эвфемизм, означающий, что в настоящее время у женщины период месячных. В иудаизме, христианстве и исламе менструальная кровь считалась ритуально нечистой.
(обратно)137
Лингва франка — смешанный язык на основе латыни, служивший универсальным средством общения в Средиземноморье в Средние века.
(обратно)138
Барбет — струнный музыкальный инструмент, распространенный в арабском мире, Турции и Иране, род лютни.
(обратно)139
Гильом Аквитанской (1071–1126) — граф Пуатье и герцог Аквитании, прадед Ричарда Львиное Сердце, первый из известных трубадуров. Иногда его называют отцом европейской поэзии.
(обратно)140
Аллах самый великий! Свят мой наивысший Господь! (араб.).
(обратно)141
Иблис — одно из имен сатаны в исламе. Его арабское значение: «тот, кто порождает безысходность».
(обратно)142
Комплеториум — в католическом обряде церковная служба приблизительно в 19.00.
(обратно)143
Донжон — главная башня замка, своего рода цитадель внутри крепости.
(обратно)144
Дол — продольное углубление на клинке, служащее для уменьшения массы и увеличения сопротивления к изломам.
(обратно)145
Умбон — металлическая бляха-накладка полусферической или конической формы, размещенная посередине щита. Защищает кисть руки воина от пробивающих щит ударов.
(обратно)146
Позднее этот архитектурный стиль получил название готического.
(обратно)147
Боже мой, на Тебя уповаю (лат.).
(обратно)148
Мир вам, отче! Благословите! (лат.).
(обратно)149
Стихи женщины-трубадура 12 в. графини Беатрисы де Диа.
(обратно)150
Краткая молитва у католиков, совершаемая около 15 часов дня. Посвящается молитвенному воспоминанию об искупительной смерти Спасителя на кресте.
(обратно)151
Шахада — первый из пяти столпов ислама, свидетельствующий веру в Аллаха и посланническую миссию пророка Мухаммада. Необходимое и достаточное условие для принятия ислама.
(обратно)152
Сервиенты — служащие ордена из числа простолюдинов. Выполняли различные функции: оруженосцев, воинов-пехотинцев, слуг.
(обратно)

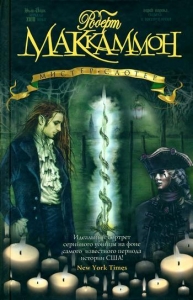

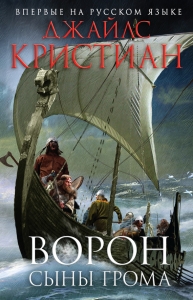

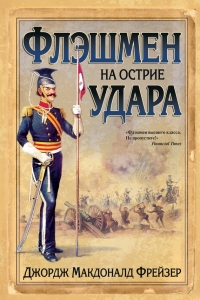

Комментарии к книге «Лазарит», Симона Вилар
Всего 0 комментариев