Теофиль Готье Капитан Фракасс
I ОБИТЕЛЬ ГОРЕСТИ
На склоне одного из безлесных холмов, горбами вздымающих ланды{1} между Даксом и Мон-де-Марсаном, расположена была в Царствование Людовика XIII{2} дворянская усадьба — из тех, что так часто встречаются в Гаскони и среди крестьян высокопарно именуются замками.
Две круглые башни, увенчанные остроконечными крышами, с обоих концов замыкали здание, а два глубоких желоба на его фасаде говорили о том, что первоначально здесь был подъемный мост, ныне ставший бесполезным, ибо время упразднило ров; тем не менее сторожевые вышки на башнях и флюгера в виде ласточкина хвоста придавали строению чуть что не феодальный вид. Ковер из плюща наполовину окутывал одну из башен и темной зеленью своей оттенял камень, успевший к этому времени посереть от старости.
Издалека увидев замок, поднимавший в небо над зарослями дрока и вереска свои островерхие кровли, путник счел бы его вполне пристойным жилищем для дворянина средней руки, но, приблизясь, изменил бы мнение. Мох и сорные травы завладели аллеей, ведущей от большой дороги к дому, оставив лишь узкую серую полоску, подобную потускневшему галуну на потертом плаще. Две колеи, наполненные дождевой водой и населенные лягушками, свидетельствовали о том, что некогда здесь проезжали экипажи. Однако невозмутимость лягушачьего племени показывала, что оно издавна, не зная помех, обосновалось тут. На тропинке, проложенной среди густой травы и размытой недавними ливнями, не виднелось следа человеческих ног, и ничья рука, очевидно, давно уже не раздвигала веток частого кустарника, унизанных блестящими капельками.
Почерневшие, изъеденные широкими желтыми подтеками черепицы расползлись в разные стороны, а стропила местами совсем прогнили; заржавленные флюгера перестали вращаться все показывали разное направление ветра; слуховые окошки были закрыты покоробленными и растрескавшимися ставнями, амбразуры башен засорены щебнем; из двенадцати фасадных окон восемь были заколочены досками, а вспученные стекла остальных дребезжали в своих свинцовых переплетах при малейшем натиске ветра. В промежутках между окнами штукатурка облупилась и сыпалась, как чешуйки с пораженной болезнью кожи, обнажив разошедшиеся кирпичи, которые крошились под вредоносным воздействием луны; входная дверь была обрамлена каменным наличником с правильными выпуклостями — следами былого орнамента, выветрившегося от времени и непогоды, а венчал ее полустертый герб, который не под силу было бы разобрать опытнейшему знатоку геральдики; завитки над шлемом изгибались самым причудливым образом, то и дело обрываясь. Дверные створки еще сохранили поверху красноватый колер, словно краснели за свой неприглядный вид; гвозди с остроконечными шляпками, набитые в строгой симметрии, нарушенной временем, скрепляли их разошедшиеся доски. Открывалась лишь одна створка, что было вполне достаточно для приема явно немногочисленных посетителей, а у дверного косяка догнивало полуразломанное колесо — жалкий остаток кареты, окончившей свой век в прошлое царствование. Верхушки труб и углы карнизов были облеплены ласточкиными гнездами, и если бы над одной из этих труб не завивалась штопором тонкая струйка дыма, точь-в-точь как над домиками, какие школьники рисуют на полях своих тетрадей, всякий счел бы жилище необитаемым; и, верно, очень скудную трапезу изготовляли на этом очаге, — из солдатской трубки дым валил бы куда гуще. Этот дымок был единственным признаком жизни в замке, как одно лишь легкое облачко пара из уст умирающего свидетельствует о том, что он еще жив.
Не без ропота и явного неудовольствия повертываясь на ржавых и визгливых петлях, дверь давала доступ в самую старую часть замка — портал со стрельчатым сводом, разделенным четырьмя нервюрами голубоватого гранита и ключевым камнем в точке их пересечения, где повторялся сохранившийся лучше, чем на входных дверях, герб с тремя золотыми аистами на лазоревом поле или чем-то в этом духе, — полумрак, царивший под сводом, мешал точно разглядеть их. В стену портала были вделаны кованые гасильники, закопченные пламенем факелов, а также железные кольца, к которым некогда привязывались лошади гостей, что, судя по слою пыли на кольцах, случалось теперь крайне редко.
Из портала одна дверь вела в покои нижнего этажа, другая — в помещение, возможно, бывшее когда-то оружейной залой, и далее во двор — унылый, пустой и холодный, обнесенный высокими стенами, на которых зимние дожди оставили длинные черные полосы. По углам двора, среди щебня, упавшего с карнизов, пробивалась крапива, овсюг, цикута, и трава зеленой рамкой окаймляла плиты.
В глубине, за каменной балюстрадой, которую украшали увенчанные шпилями шары, террасой спускался сад. Поломанные ступени шатались под ногами в тех местах, где не были скреплены волокнами мха и вьющихся растений; подпоры террасы обросли трилистником, желтыми левкоями и дикими артишоками.
Самый сад мало-помалу вновь превратился в первобытную чащу. Кроме одной грядки, где виднелись кочны капусты с ярко-зелеными в прожилках листьями и красовались звезды подсолнечников с черными сердцевинками, свидетельствуя о некотором уходе, надо всем остальным заброшенным пространством брала верх природа и, казалось, с особым удовольствием стирала следы человеческого труда.
Давно не подстригавшиеся деревья во все стороны раскидывали буйные ветви. Буксовые бордюры вдоль аллей и газонов, давно не ведая ножниц, превратились в заросли высокого кустарника. Случайно занесенные ветром семена, по обычаю сорных трав, дали мощные всходы, вытеснив садовые цветы и редкие растения. Покрытые колючками ветки терновника переплетались посреди дорожек, вцепляясь в проходящего и не пуская его дальше, чтобы он не мог проникнуть в этот заповедник скорби и запустения. Тишина не любит быть застигнутой врасплох и сеет вокруг себя всяческие преграды.
Но кто не побоялся бы, что его будут царапать колючки кустов и бить по лицу ветви деревьев, и дошел до конца заглохшей старинной аллеи, заросшей не хуже лесной тропы, тот очутился бы перед нишей, выложенной ракушками наподобие естественного грота. К посеянным первоначально между камнями растениям — ирисам, шпажникам, черному плющу — прибавились другие — спорыш, стоног, дикий виноград, — они свисали пасмами, наполовину закрывая мраморную статую, изображавшую мифологическую богиню, не то Флору, не то Помону, которая в свое время была, надо полагать, весьма изящна и делала честь своему создателю, ныне же, став курносой, уподобилась смерти. Незадачливая богиня держала корзинку, но не с цветами, а с плесневелыми, на вид ядовитыми грибами; казалось, и сама она отравлена, — ее тело, некогда столь белое, пестрело пятнами бурого мха. У ее ног в каменной раковине под зеленой ряской загнивала темная лужица — остаток дождей, ибо из львиной пасти, которую можно было разглядеть с грехом пополам, давно уже не извергалась вода, не поступавшая из засоренных или уничтоженных временем труб.
Этот, по тогдашнему наименованию, сельский приют, как ни был он разрушен, свидетельствовал о бывшем благосостоянии и о тяге к искусству прежних владельцев замка. Если бы статую богини отчистить и подправить как следует, в ней обнаружился бы стиль флорентийского Ренессанса в духе тех итальянских скульпторов, которые приехали во Францию вслед за художником Россо или за Приматиччо{3} в эпоху, по-видимому, совпадающую с процветанием захиревшего ныне рода.
Грот примыкал к замшелой и просыревшей стене, за которой переплетались еще обрывка трельяжа, должно быть, когда-то густо увитого ползучими растениями и скрывавшего каменную кладку. Еле заметная теперь за раскидистыми ветвями непомерно разросшихся деревьев, старая стена замыкала сад с этой стороны. Дальше до самого края низкого и сумрачного горизонта тянулись ланды с курчавыми кустиками вереска.
Когда вы поворачивали вспять, перед глазами вставал дворовый фасад замка, еще более жалкий и обветшалый, чем описанный ранее, так как последние владельцы употребляли свои скудные средства на то, чтобы хоть мало-мальски поддержать внешнее благообразие.
На конюшне, достаточно просторной для двадцати лошадей, стояла одна тощая кляча с выпирающими под кожей мослаками; обнажив длинные желтые зубы, она выбирала в пустой кормушке считанные соломинки и время от времени бросала на дверь косые взгляды из глазниц, в которых монфоконские крысы{4} не выискали бы ни крупицы сала. На пороге псарни единственный пес, чье дряблое тело болталось в непомерно широкой шкуре, дремал, уткнувшись носом в лапы, служившие ему отнюдь не пуховой подушкой; казалось, он настолько привык к безлюдью, что не настораживался от шума, как это свойственно собакам даже во сне.
В верхние этажи замка вела огромная лестница с точеными деревянными перилами и двумя площадками — по одной на каждом из этажей. До второго лестница была каменной, а дальше кирпичной и деревянной. По стенам вдоль нее, сквозь пятна плесени, видна была декоративная живопись в серых тонах, изображавшая пышные архитектурные рельефы со светотенью и перспективой. Здесь смутно можно было различить также ряд Атлантов, поддерживавших карниз на консолях, откуда ниспадал орнамент из виноградных листьев и лоз в виде арки, за которой проглядывало выцветшее небо, а на нем — неведомые острова, нанесенные подтеками от дождей. Между Атлантами в нарисованных нишах красовались бюсты римских императоров и других исторических личностей, вовсе это было до того смутно, блекло, истерто, испорчено, что представлялось не настоящей, а призрачной живописью, о которой нужно рассказывать тенями слов взамен обычной человеческой речи, слишком плотской для нее. Казалось, эхо этой пустынной лестницы с удивлением отзывается на шум шагов.
Дверь, обитая линялой зеленой материей, висевшей клочьями на гвоздях с облезлой позолотой, открывалась в залу, которая, по-видимому, служила столовой в те легендарные времена, когда в этом безлюдном доме еще вкушали пищу. Потолок был перерезан пополам толстой балкой, от которой в обе стороны полосами отходили фальшивые брусья, а промежутки когда-то были окрашены в голубой цвет, ныне затянутый слоем пыли и паутины, добраться же щеткой на такую высоту явно никто не пытался. Над старинным камином оленья голова раскинула свои ветвистые рога, а по стенам с закопченных полотен смотрели воины в кирасах, — шлем был рядом, на столе, или в руках у пажа, — со жгуче-черными живыми глазами на мертвых лицах, вельможи в мантиях с круглым крахмальным воротником, на котором голова покоилась, как покоятся отсеченные главы Иоанна Крестителя на серебряных блюдах{5}; почтенные матроны в старомодных нарядах пугали своей мертвенной бледностью; из-за пожухлых красок они превратились в ламий, вампиров и оборотней. Грубая мазня провинциальных живописцев придавала этим портретам особенно жуткий и зловещий вид. Некоторые были без рам, другие окаймлены потускневшим и порыжевшим золотым багетом. В углу каждого портрета имелся фамильный герб и был обозначен возраст оригинала; но, независимо от эпохи, особой разницы между ними не замечалось; на всех полотнах, потемневших от лака и покрытых слоем пыли, свет был желтый, а тени черные, как уголь; два-три портрета от плесени и цвели приобрели окраску разлагающихся трупов, наглядно доказывая полное равнодушие к изображению своих славных предков со стороны последнего отпрыска этого знатного и доблестного рода. Вечером при зыбком свете ламп немые и неподвижные образы, должно быть, превращались в страшные и смешные привидения.
Ничего нет печальнее, чем забытые портреты в пустынных покоях, полустертые воспроизведения тех форм, что давно распались под землей.
Но в таком виде эти рисованные призраки вполне подходили к печальному безлюдию замка. Обитатели из плоти и крови показались бы чересчур живыми для этого мертвого дома.
Середину залы занимал стол почерневшего грушевого дерева, с витыми ножками, наподобие колонн Соломонова храма, в которых древоточцы пробуравили множество отверстий, не встречая помех в своих скрытных трудах. Серый налет, на котором можно было чертить вензеля, покрывал доску стола, из чего явствовало, что обедают за ним не часто.
Два поставца или буфета того же дерева с резьбой, приобретенные, по всей вероятности, вместе со столом во времена процветания, стояли на противоположных концах залы; фарфоровые щербатые вазы, разрозненные бокалы, несколько керамических фигурок работы Бернара Палисси{6}, изображающих змей, рыб, крабов и раковины, покрытые глазурью по зеленому полю, служили убогим украшением пустых полок.
Бархатная обивка пяти-шести стульев, в прошлом, возможно, пунцовая, от времени и употребления стала рыжей, из дыр ее торчал волос, а сами стулья хромали на непарных ногах, как разностопные стихи или покалеченные вояки, бредущие восвояси после сражения. Пожалуй, только бесплотный дух мог без большого риска усесться на такой стул, да и употреблялись они, должно быть, лишь в тех случаях, когда предки, выходя из облупленных рам, рассаживались вокруг пустого стола и за воображаемым ужином в долгие зимние ночи, столь благоприятные для дружеской встречи привидений, вели беседы об упадке своего славного рода.
Из этой залы был ход в другую, несколько меньшую. Здесь стены были украшены фландрскими шпалерами. Но не надо при этом представлять себе несообразное с окружающим роскошество, — шпалеры были протертые, изношенные, выцветшие, и полотнища расползались по всем швам, держась на стенах только считанными нитями и силой привычки. Слинявшие деревья были желтыми с одной стороны и синими с другой. Цапля, стоящая на одной ноге посреди тростника, порядком пострадала от моли. Фламандскую ферму с колодцем, увитым хмелем, почти уже нельзя было различить, а на мучнистой физиономии охотника за чирками только красные губы и черные глаза, очевидно, более стойкой окраски, сохранили первоначальную яркость, точно нарумяненные губы и наведенные брови на восковом лице покойника. Ветер ходил между стеной и отставшими шпалерами, отчего они весьма подозрительно колыхались. Если бы Гамлет, принц Датский, был занят беседой в этой комнате, он выхватил бы шпагу и с криком: «Крыса!» — пронзил бы Полония сквозь ткань шпалер.
Бессчетные шорохи, еле уловимый шепот тишины, делая безлюдие еще ощутимее, смущали слух и душу посетителя, достаточно отважного, чтобы сюда проникнуть. Мыши с голоду выгрызали шерстяную основу ткани. Древоточцы под сурдинку пилили балки потолка, точно часы смерти отстукивая время о доски панелей.
Всякий невольно вздрогнул бы, когда внезапно раздавался треск мебели, как будто тишина, наскучив неподвижностью, расправляла суставы. Один из углов комнаты занимала кровать с колонками и парчовыми занавесками, которые из белых с зелеными разводами стали грязно-желтыми и посеклись на сгибах; их боязно было раздвинуть, чтобы, чего доброго, не увидеть притаившееся в темноте страшилище или застывшую под простыней фигуру с очертаниями заостренного носа, костлявых скул, сложенных рук и вытянутых ног, как у статуй на крышках гробниц, — настолько призрачным становится сразу все, что сделано для человека и где нет самого человека. Можно бы также представить себе, что тут, наподобие спящей красавицы, спит вечным сном заколдованная принцесса, но зловещая таинственность неподвижных складок исключала фривольные мысли.
Стол черного дерева, где отстали медные инкрустации, косое и мутное зеркало, откуда, истосковавшись по отражению человеческого лица, сошло олово, кресло с вышивкой крестом, плод терпения и досуга какой-нибудь прабабки, где теперь среди выцветшей шерсти и шелка блестели лишь отдельные серебряные нити, — вот что составляло убранство этой комнаты, на худой конец пригодной в качестве жилья для человека, который не боится ни духов, ни привидений.
Слабый зеленоватый свет проникал в эти две комнаты через два незаколоченных фасадных окна, тусклые стекла которых, не мытые уже лет сто, казались посеребренными снаружи. Свисавшие с ржавых прутьев и протертые на сгибах драпировки, которые порвались бы в клочья при попытке их задернуть, еще скрадывали этот сумеречный свет и углубляли уныние, царившее тут.
Дверь в глубине второй комнаты открывалась во мрак, в пустоту, в неизвестность. Однако мало-помалу глаз привыкал к этой тьме, прорезанной белесыми бликами из щелей между досками на окнах, и смутно различал целую анфиладу пришедших в запустенье комнат с выкрошившимся паркетом, с осколками стекла на полу, с голыми стенами, кое-где покрытыми лоскутьями обтрепанных шпалер, с обнажившейся дранкой на потолках, пропускающих дождевую воду, — словом, великолепное помещение для синедриона крыс и конгресса летучих мышей. Кое-где даже небезопасно было ступать, так как пол качался и гнулся под ногами, но никто не отваживался проникнуть в эту юдоль тьмы, пыли и паутины. С самого порога в нос бил затхлый запах плесени и запустения, пронизывающая сырость, как в склепе над ледяным мраком могилы, с которой сдвинут надгробный камень. И правда, в этих залах, куда не заглядывало настоящее, медленно обращался в прах остов прошлого, и почившие годы дремали по углам в колыбелях из паутины.
На чердаках в течение дня гнездились совы, филины и сипухи с перьями на ушах, с кошачьими головами и круглыми светящимися зрачками. Крыша, продырявленная в двадцати местах, давала свободный доступ этим приятным птичкам, и они чувствовали себя здесь не менее вольготно, чем в развалинах Монлери{7} и замка Гаяр{8}. Каждый вечер их запыленная стая с пронзительными криками, которые привели бы в содрогание человека суеверного, улетала вдаль на поиски пищи, ибо в этой цитадели голода нельзя было раздобыть ни крошки съестного.
В комнатах нижнего этажа не было ничего, кроме нескольких охапок соломы, маисовой ботвы и кое-какого садового инструмента. В одной из них лежал тюфяк, набитый сухими кукурузными листьями, и серое шерстяное одеяло, — это, очевидно, была постель единственного в замке слуги.
Полагая, что читателю наскучила прогулка среди тишины, убожества и запустения, приведем его в то место безлюдного дома, которое еще подавало признаки жизни, а именно, в кухню, — над ней-то и подымалось из трубы легкое белое облачко, упомянутое при описании наружного вида здания.
Чахлый огонь желтыми языками лизал доску очага, время от времени достигая чугунного котелка, нацепленного на крюк, а слабый отблеск этого огня зажигал красноватые искорки на боках двух-трех кастрюль, висевших на стене.
Дневной свет, проникая с крыши через широкую, без колен, трубу, голубоватыми бликами застывал на тлеющих углях, отчего и самый огонь казался бледнее, словно коченел в этом холодном очаге. Не будь котелок накрыт, дождь капал бы прямо в него, разбавляя мясной навар.
Постепенно нагреваясь, вода наконец забурлила, и котелок стал хрипеть среди глухой тишины, как человек, страдающий одышкой: капустные листья, поднимаясь на поверхность вместе с пеной, явно показывали, что возделанный участок огорода внес свою лепту в эту более чем спартанскую похлебку.
Старый черный кот, тощий, облезлый, как выношенная муфта, с сизыми плешинами, постарался сесть возможно ближе к очагу, лишь бы только не спалить усов, и с видом заинтересованного наблюдателя вперил в котелок круглые зеленые глаза, пересеченные столбиком зрачка; уши и хвост были у него отрезаны до основания, отчего он напоминал то ли японских химер, которых ставят в витрины вместе с другими редкостями, то ли фантастических чудовищ, которым ведьмы, отправляясь на шабаш, поручают снимать накипь с волшебного варева в чугуне.
Этот кот, сидевший в одиночестве на кухне, казалось, варил похлебку сам для себя, и он же, конечно, поставил на дубовый стол тарелку в зеленых и красных цветах, оловянный кубок, весь исцарапанный, конечно, его же когтями, и фаянсовый кувшин с грубо намалеванным сбоку голубым гербом, тем же, что на портале, на выступе свода и на фамильных портретах.
Для кого был поставлен этот скромный прибор в этом замке без обитателей? Бы>ть может, для домашнего духа, для genius loci, для кобольда{9}, верного избранному жилищу, и черный кот с непроницаемо загадочным взглядом ждал его, чтобы прислуживать ему, перекинув через лапу салфетку.
Котелок продолжал кипеть, а кот сидел все так же неподвижно на своем посту, точно часовой, которого забыли сменить. Наконец раздались шаги, тяжелые и грузные шаги пожилого человека; послышалось покашливание, звякнула щеколда, и в кухню вошел старик, с виду не то крестьянин, не то слуга.
При появлении старика черный кот, очевидно давний его приятель, покинул свое место у очага и стал по-дружески тереться о его ноги, выгибая спину, выпуская и пряча когти и издавая то хриплое урчание, которое у кошачьей породы служит знаком наивысшего удовлетворения.
— Ладно, ладно, Вельзевул, — сказал старик и нагнулся, чтобы отдать коту долг вежливости, погладив шершавой рукой его облезлую спину, — я знаю, ты меня любишь, и мы с бедным моим господином слишком здесь одиноки, чтобы не ценить ласки животного, которое хоть и лишено души, но как будто все понимает.
Покончив со взаимными любезностями, кот засеменил впереди старика, направляя его шаги к очагу, как бы для того, чтобы передоверить ему присмотр за котелком, на который он взирал с умильнейшим вожделением, ибо Вельзевул заметно старел, стал туг на ухо и утратил прежнюю зоркость глаз и сноровку в лапах, чем день ото дня сокращались те возможности, которые давала ему охота на птиц и на мышей; потому-то он не сводил взгляда с похлебки, надеясь получить свою долю и заранее облизываясь.
Пьер — так звали старого слугу — подбросил хворосту в еле тлеющий огонь, ветки, извиваясь, затрещали, и вскоре яркое пламя взвилось вверх под веселую перестрелку искр. Казалось, это резвятся саламандры, отплясывая сарабанду в языках пламени. Жалкий чахоточный сверчок, обрадовавшись теплу и свету, попытался было отбивать такт в свои литавры, но издал лишь какой-то сиплый звук.
Пьер сел на деревянную скамейку под колпаком очага, обитым по краю старым зеленым штофным ламбрекеном с фестонами, бурым от дыма; кот Вельзевул пристроился рядом.
Отблеск пламени освещал лицо старика, которое, если можно так выразиться, было выдублено временем, солнцем, ветром и непогодой и стало темней, чем у индейцев-караибов; пряди седых волос, выбившихся из-под синего берета и прилипших к вискам, только подчеркивали смуглый, почти кирпичный цвет кожи, а черные брови являли резкий контраст с белой как лунь головой. У него был характерный для басков удлиненный овал лица и нос, похожий на клюв хищной птицы. Глубокие морщины, точно сабельные рубцы, сверху донизу бороздили его щеки. Обшитое тусклым галуном подобие ливреи такого цвета, который был бы головоломкой для самого опытного живописца, наполовину прикрывало песочную замшевую куртку, местами залоснившуюся и почерневшую в свое время от трения кирасы, что придавало ей сходство с пятнистым брюшком куропатки; Пьер некогда был солдатом, и остатки военного обмундирования составляли часть его штатского платья.
В его полудлинных штанах проглядывали и уток и основа, ткань их до того истончилась, что стала похожа на канву для вышивания, и невозможно было определить, сшиты они из сукна, из саржи или шерсти с начесом. Всякий ворс давно сошел с их плешивой поверхности, ни один евнух не мог бы похвалиться таким гладким подбородком. Весьма приметные заплаты, сделанные рукой, более привычной к шпаге, чем к иголке, укрепляли самые ненадежные места, показывая заботу обладателя штанов об их предельном долголетии. Подобно Нестору{10}, эти престарелые панталоны прожили три человеческих века. Есть веские основания предполагать, что они были малиновыми, но эта важная подробность ничем не обоснована.
Веревочные подошвы, привязанные синими шнурками к шерстяным чулкам без ступни, служили Пьеру обувью по образцу испанских альпаргат. Предпочтение этим грубым котурнам перед башмаками с помпонами или высокими сапогами, несомненно, было отдано только ввиду их дешевизны, ибо во всех мельчайших подробностях одежды старика и даже в позе его, исполненной угрюмой покорности, чувствовалась бедность, стойкая, суровая и опрятная.
Прислонясь к боковой стенке очага и сложив на коленях большие руки того фиолетового оттенка, какой бывает у виноградных листьев в позднюю осеннюю пору, он неподвижно сидел напротив Вельзевула. А кот с жалким голодным видом примостился на остывшей золе, сосредоточив весь свой интерес на хриплом клокотании котелка.
— Что-то запаздывает нынче наш молодой хозяин, — пробормотал Пьер, вглядываясь сквозь закопченные желтоватые стекла единственного кухонного окна в даль, где на краю неба под грядами тяжелых дождевых туч угасала последняя полоска заката. — Что за охота бродить одному по ландам? Впрочем, по правде сказать, вряд ли где может быть тоскливее, чем здесь, в замке.
Радостный сиплый лай послышался со двора; лошадь на конюшне стала бить копытом и лязгать о край кормушки цепью, за которую была привязана; черный кот, совершавший свой туалет, проводя смоченной слюной лапкой по бакенбардам и остаткам ушей, прервал это занятие и направился к двери, как положено приветливому и воспитанному животному, сознающему свой долг.
Дверь распахнулась; Пьер поднялся, почтительно снял берет, и вновь прибывший показался на пороге в сопровождении пса, о котором уже была речь, — пес этот пытался прыгать, но грузно оседал, отяжелев от старости. Вельзевул не проявил к Миро той неприязни, какую коты обычно питают к собачьему племени, даже наоборот, поглядывал на него очень дружелюбно, поводя круглыми зелеными глазами и выгибая спину. Видно было, что они знакомы не первый день и часто коротают вместе время в здешнем уединении.
Вошедший был барон де Сигоньяк, владелец этого полуразрушенного поместья, молодой человек лет двадцати пяти, хотя на первый взгляд он казался старше, настолько строгий и сосредоточенный был у него вид. Сознание бессилия, сопутствующее бедности, согнало улыбку с его лица и стерло со щек бархатистый пушок юности. Вокруг померкших глаз уже залегли тени, и над впалыми щеками явственно выступали скулы; усы не закручивались лихо кверху, а свисали вниз, словно плача над скорбной складкой губ. Небрежно расчесанные волосы спускались вдоль бледного чела прямыми черными прядями, указывая на полное отсутствие кокетства, что так редко в молодом человеке, который легко бы прослыл красивым, если бы совершенно не отказался от желания нравиться. Давнишняя затаенная печаль наложила страдальческий отпечаток на лицо барона, которое могло бы стать очень привлекательным, если бы его скрасило немножко счастья и естественная в такие годы уверенность в себе не поколебалась бы под напором непреодолимых неудач. От природы ловкий и сильный, молодой барон двигался с такой вялой медлительностью, как будто отрешился от жизни. Каждым своим сонным машинальным движением, всей своей равнодушной повадкой он явно показывал, что ему безразлично, куда идти, где быть.
Непомерно большая старая шляпа из помятого, прорванного серого фетра спускалась ему до бровей, вынуждая задирать нос, чтобы видеть окружающее; общипанное перо, смахивающее на рыбий скелет, вздымалось над тульей шляпы с намерением изобразить султан, но, устыдясь своей дерзости, бессильно опадало сзади к полям. Воротник из старинного гипюра, где ажурные просветы были не только делом рук искусной кружевницы, но и приумножились от ветхости, окружал шею поверх широченного камзола, который явно был сшит на человека более рослого и плотного, нежели тонкий и хрупкий барон. Руки его тонули в рукавах камзола, как в рукавах рясы, а ботфорты с железными шпорами доходили ему до живота. Это причудливое одеяние принадлежало покойному отцу барона, умершему несколько лет тому назад, а теперь сын донашивал платье, которое созрело для старьевщика еще при жизни первого владельца. В таком наряде, надо полагать, весьма модном к началу прошлого царствования, барон имел смешной и вместе с тем трогательный вид, — он казался своим собственным предком. Хотя к памяти отца он питал чисто сыновнее благоговение и ему нередко случалось прослезиться, облачаясь в дорогие реликвии, как будто запечатлевшие в своих складках движения и позы усопшего, однако молодому Сигоньяку не так уж нравилось ходить в отцовских обносках. Просто другого платья у него не было, и он обрадовался, найдя на дне сундука наследство такого рода. Его собственная отроческая одежда стала ему мала и узка, а отцовская, по крайней мере, не стесняла движений. Крестьяне, привыкнув чтить эту одежду на старом бароне, не находили ее смешной и на сыне и смотрели на нее с тем же почтением; они одинаково не замечали ни дыр на полах кафтана, ни трещин на стенах замка. При всей своей бедности Сигоньяк в их глазах по-прежнему был владетельным господином, и упадок этого знатного рода не поражал их так, как поразил бы посторонних, а между тем поистине странное, и грустное и забавное, зрелище являл молодой барон в старых отрепьях, на старой кляче, в сопровождении старого пса, точь-в-точь рыцарь смерти с гравюры Альбрехта Дюрера{11}.
Ответив приветливым движением руки на почтительный поклон Пьера, барон молча сел к столу.
Старик снял с крюка котелок, вылил содержимое в глиняную миску на покрошенный заранее хлеб и поставил ее перед бароном — такую деревенскую похлебку до сих пор едят в Гаскони, — потом достал из шкафа кусок студня, дрожавшего на салфетке, посыпанной маисовой мукой, и водрузил на стол дощечку с этим излюбленным здесь кушаньем, которое вместе с похлебкой, куда был брошен кусок сала, — судя по малому своему объему украденный из мышеловки, — составило скудную трапезу барона. Он ел с рассеянным видом, а Миро и Вельзевул расположились по обеим сторонам его стула, в экстазе подняв морды и ожидая, не перепадет ли им что-нибудь с пиршественного стола. Время от времени барон бросал Миро кусок хлеба, от соприкосновения с ломтиками сала приобретшего мясной запах, и пес ловил кусок на лету. Кожица от сала досталась коту, который выразил удовольствие глухим урчанием, подняв при этом лапу с выпущенными когтями, вероятно, чтобы защитить драгоценную добычу.
Кончив этот убогий ужин, барон погрузился в тягостное раздумье или отвлекся далеко не веселыми заботами. Миро положил голову на колено хозяину и устремил на него старческие глаза, подернутые голубоватой дымкой, в которых, однако, мерцала искра почти человеческого разума. Казалось, он понимает мысли барона и пытается выразить ему свое сочувствие. Вельзевул то мурлыкал так громко, что заглушил бы прялку большеногой Берты{12}, то жалобно мяукал, желая привлечь рассеянное внимание хозяина. Пьер стоял поодаль, застыв в неподвижности, напоминая те вытянутые в длину гранитные статуи, что украшают соборные порталы, и почтительно выжидал, когда господин его, очнувшись от дум, соблаговолит дать какое-нибудь распоряжение.
Тем временем ночь уже надвинулась и густые тени скопились в углах кухни, подобно летучим мышам, которые цепляются за карнизы когтями своих перепончатых крыльев. Последние искры огня, которые, врываясь в трубу, раздувал шквалистый ветер, бросали красочные блики на группу вокруг стола, связанную между собой печальным содружеством, еще сильнее подчеркивавшим унылое безлюдие замка. От семьи, некогда могущественной и богатой, остался один-единственный отпрыск, точно тень бродивший по замку, населенному лишь призраками предков; из многочисленной дворни сохранился всего один лакей, который служил своему господину из чистой преданности и никем не мог быть заменен; от своры в тридцать гончих уцелел один только пес, дряхлый и полуслепой, а черный кот как бы воплощал душу пустынного жилища.
Барон знаком показал Пьеру, что желает удалиться. Тот зажег об угли очага просмоленную лучину, — удешевленный образец светильника, которым пользуются неимущие крестьяне, — и отправился вперед, чтобы освещать путь своему господину; Миро и Вельзевул присоединились к шествию; в дымном неверном свете факела колыхались поблекшие фрески на стене вдоль лестницы, а в столовой как будто оживали лица на закопченных портретах, их черные неподвижные глаза, казалось, с жалостью глядели вслед незадачливому потомку.
Когда шествие достигло фантастической спальни, уже описанной нами, старый слуга, подойдя к медному светильнику с одной горелкой, зажег фитиль, изогнувшийся в масле, как глист в спирту, выставленный у аптекаря, после чего удалился в сопровождении Миро. Вельзевул, который пользовался особыми привилегиями, устроился на одном из двух кресел. Барон опустился на второе, удрученный одиночеством, бездельем и скукой.
Если комната и днем представлялась обиталищем привидений, то вечером в зыбком свете медной лампочки дело обстояло куда хуже. Шпалеры принимали мертвенный оттенок, а освещенный охотник точно оживал на фоне темной зелени. Прицелившись из аркебузы, он, как убийца, караулил жертву, и красные губы еще ярче выступали на его бледном лице. Казалось, это рот вампира, обагренный кровью.
От сырости огонек лампы потрескивал, то вспыхивая, то затухая, ветер гудел в коридорах, как орган, и непонятные жуткие шумы раздавались в пустынных комнатах.
Погода испортилась, крупные дождевые капли барабанили в стекла окон, и те дребезжали, сотрясаемые шквалом. Казалось, оконная рама вот-вот поддастся и распахнется, словно ее кто-то толкал снаружи. Это буря наваливалась на утлую преграду. Временами, вступая в общий хор, одна из сов, гнездившихся под крышей, испускала пронзительный крик, похожий на вопль ребенка, которого режут, или сердито стучала крыльями в освещенное окно.
Но владелец печального замка, привычный к этой зловещей музыке, не обращал на нее ни малейшего внимания. Только Вельзевул с беспокойством, присущим животным его породы, при всяком шорохе настораживал остатки ушей и пристально вглядывался в темные углы, словно различал в них нечто незримое для не приспособленного ко мраку человеческого глаза. Этот кот, ясновидец с дьявольским именем и обличием, привел бы в трепет всякого менее храброго, нежели барон; судя по загадочной мине кота, немало удивительного должно было открыться ему во время ночных прогулок по чердакам и нежилым покоям замка, и не раз, надо полагать, где-нибудь в дальнем конце коридора бывали у него встречи, от которых человек поседел бы вмиг.
Сигоньяк взял со стола книжечку с вытисненным на потертом переплете фамильным гербом и стал машинально перелистывать ее. Глаза его прилежно скользили по строчкам, но мысли были далеко и не желали сосредоточиться на одах и любовных сонетах Ронсара{13}, невзирая на их превосходные рифмы и хитроумные повороты, возрождающие искусство греков. Вскоре он отбросил книгу и начал расстегивать камзол медлительными движениями человека, который не хочет спать и ложится от нечего делать, надеясь в дремоте утопить скуку. Темной дождливой ночью в разоренном замке, затерянном в океане вереска, так тоскливо слушать падение песчинок на дно песочных часов, когда на десять миль в окружности нет ни одной живой души.
И в самом деле, у молодого барона, единственного на земле представителя рода Сигоньяков, было достаточно поводов для грусти. Его предки расстраивали свое состояние на разные лады: одних разоряла игра, других — война, третьих — суетное желание пускать пыль в глаза, в итоге каждое поколение передавало последующему все скудевшее достояние. Фьефы, мызы, фермы и земли, принадлежавшие к замку, отпадали одни за другими, и, употребив неимоверные усилия, чтобы восстановить благосостояние семьи, усилия, оказавшиеся тщетными, ибо поздно затыкать пробоины, когда судно идет ко дну, — предпоследний Сигоньяк не оставил в наследство сыну ничего, кроме разрушающегося замка я нескольких десятин бесплодной земли вокруг него; остальное досталось кредиторам и ростовщикам.
Тощие руки нищеты качали колыбель ребенка, и высохшие сосцы питали его. В раннем возрасте, лишившись матери, которая зачахла в этом обветшалом доме от скорбных мыслей о незавидной участи сына, он не видел ласковой и любовной заботы, окружающей детей даже в самых неимущих семьях. Отец, которого он все же искренне оплакивал, выражал свое внимание пинками в зад и приказами высечь мальчика. Теперь же скука так одолевала молодого барона, что он только порадовался бы, если бы отец вновь поучил его на свой лад, потому что отцовские колотушки, которые сын вспоминал, умиляясь до слез, — это тоже вид общения с себе подобными, а четыре года после того, как старый барон упокоился под каменной плитой в фамильном склепе Сигоньяков, молодой человек жил в полном одиночестве. Юношеской гордости барона претило появляться перед местной знатью на празднествах и охотах без приличествующей его званию экипировки.
И в самом деле, что сказали бы люди при виде барона де Сигоньяка, обряженного как бродяга с большой дороги или сборщик яблок в Перше? Эта же причина помешала ему наняться в услужение к какому-нибудь владетельному князю. Потому-то многие полагали, что род Сигоньяков угас, и забвение, вырастающее над мертвецами быстрее, чем трава, стирало память об этой семье, некогда влиятельной и богатой, и мало кто знал, что существует еще отпрыск захиревшего рода.
Уже несколько минут Вельзевул проявлял признаки беспокойства, он поднимал голову, водил носом, словно чуя опасность, он тянулся к окну, упираясь лапками о раму, и пытался взглядом проникнуть в густую темень ночи, исполосованную стремительными потоками ливня; его наморщенный нос ходил ходуном. Протяжное рычание Миро, нарушившее тишину, подкрепило тревожную мимику кота, — положительно в окрестностях замка, всегда столь спокойных, творилось нечто необычное. Миро продолжал лаять со всей доступной при хронической хрипоте силой. Барон, не желая быть захваченным врасплох, поднялся и застегнул только что расстегнутый камзол.
— Что это вздумалось Миро поднять такой шум? Обычно-то он с самого заката храпит у себя в конуре, как пес семи спящих отроков{14}. Может статься, волк пробрался к ограде? — произнес молодой человек, снимая со стены шпагу с массивной железной чашкой и затягивая до последнего отверстия поясной ремень, который был сделан по мерке старого барона и мог дважды обвить стан его сына.
Три сильных удара с правильными промежутками сотрясли входную дверь и стоном отозвались в пустынных покоях.
Кто мог в такой поздний час нарушить одиночество замка и тишину ночи? Какой незадачливый путник задумал постучать в эту дверь, давно уже не открывавшуюся навстречу посетителю, не из-за недостатка гостеприимства, а за отсутствием гостей? Кто искал приюта в этой харчевне голода, в этой цитадели великого поста, в этом убежище скудости и нищеты?
II ПОВОЗКА ФЕСПИДА{15}
Сигоньяк спустился с лестницы, рукой защищая пламя лампы от порывов ветра, грозившего загасить ее. Отблеск огонька пронизывал его исхудалые пальцы, делая их прозрачно-розовыми, и хотя на дворе была ночь и следом за ним не солнце вставало, а плелся черный кот, все же он с полным правом мог присвоить себе тот эпитет, которым старик Гомер наградил богиню Аврору{16}.
Сняв тяжелый болт и приоткрыв подвижную створку двери, он очутился лицом к лицу с каким-то незнакомцем. Когда барон поднял лампу к самому его носу, из темноты выступила довольно странная физиономия: на свету и дожде голый череп отливал желтоватым масленым глянцем. Седая каемка волос прилипла к вискам; нос, украшенный угрями и рдевший пурпуром виноградного сока, произрастал в виде луковицы между двумя разномастными глазками, прикрытыми густейшими и неестественно черными бровями; дряблые щеки были усеяны багровыми пятнами и пронизаны красными прожилками; толстогубый рот пьяницы и сатира и подбородок с бородавкой, из которой во все стороны торчала жесткая щетина, дополняли облик, достойный быть изваянным в виде маски чудовища под карнизом Нового моста{17}. Своего рода добродушное лукавство смягчало эти мало привлекательные на первый взгляд черты. Кроме того, сощуренные щелки глаз и растянутые до ушей углы губ пытались изобразить любезную улыбку. Эта физиономия шута, как на блюде поданная на брыжах сомнительной белизны, венчала тощую фигуру в черном балахоне, которая изогнулась дугой, отвешивая преувеличенно учтивый поклон.
Покончив с приветствиями, забавный посетитель предупредил вопрос, готовый сорваться с уст барона; несколько напыщенным и высокопарным тоном он произнес:
— Благоволите извинить меня, государь мой, за то, что я позволил себе постучаться в двери вашего замка, несмотря на столь поздний час и не послав вперед пажа или карлика, трубящего в рог. Но необходимость не знает законов и вынуждает самых светских людей совершать величайшие проступки против вежливости.
— Что вам надобно? — сухо прервал барон разглагольствования старого чудака.
— Пристанище для меня и для моих собратьев, принцев и принцесс, Леандров{18} и Изабелл, лекарей и капитанов, путешествующих из города в город на колеснице Феспида, колеснице, влекомой волами по античному образцу, ныне же завязшей в грязи близ вашего замка.
— Если я верно вас понял, вы — странствующие комедианты и сейчас сбились с пути?
— Трудно яснее истолковать смысл моих слов, вы попали в самую точку, — ответил актер. — Надеюсь, ваша милость не отклонит моей просьбы?
— Хотя жилище у меня порядком запущено и я мало чем могу вас ублаготворить, все же здесь вам будет несколько лучше, чем под открытым небом в проливной дождь.
Педант — таково, по-видимому, было его амплуа в труппе — поклоном выразил свою благодарность.
Во время этого диалога Пьер, разбуженный лаем Миро, поднялся и тоже поспешил к дверям. Узнав о том, что тут происходит, он зажег фонарь, и все трое направились к увязшей в грязи повозке.
Фат Леандр и забияка Матамор{19} толкали повозку сзади, а Тиран понукал волов своим трагедийным кинжалом. Актрисы, кутаясь в длинные мантильи, ужасались, охали и взвизгивали. Благодаря неожиданному подкреплению, а главное, умелой помощи Пьера, тяжелую колымагу удалось вскорости вызволить и направить на твердую почву, после чего она, проехав под стрельчатым сводом, достигла замка и была поставлена во дворе.
Волов распрягли и водворили на конюшне рядом с белой клячей; актрисы спрыгнули с повозки и, расправив смятые фижмы, последовали за Сигоньяком наверх, в столовую, более других комнат сохранившую жилой вид. Набрав в сарае охапку дров и вязанку хвороста, Пьер бросил их в камин, где они разгорелись веселым пламенем. Хотя стояло всего лишь начало осени, однако не мешало подсушить у огонька отсыревшие одежды приезжих дам; да и ночь была прохладная, и ветер свистел в растрескавшихся панелях почти необитаемой комнаты.
Комедианты, привыкшие в своей кочевой жизни ночевать где попало, все же с удивлением взирали на это странное обиталище, казалось, давно уже отданное человеком во власть духам и невольно представлявшееся местом действия жестоких трагедий. Однако, будучи людьми благовоспитанными, они не обнаружили ни испуга, ни изумления.
— Я могу предложить вам лишь сервировку, — сказал молодой барон, — моих запасов не хватит и на то, чтобы насытить мышонка. Я живу здесь в полном одиночестве, никого не принимаю, и вам должно быть ясно даже без моих слов, что Фортуна давно отлетела отселе.
— Не тревожьтесь этим, — возразил Педант, — на театре нас потчуют картонными пулярками и вином из трухлявых деревяшек, зато для обычной жизни мы обеспечиваем себя более сытными кушаниями. Бутафорское жаркое и воображаемый напиток — слабое подспорье для наших желудков, и у меня, как у провиантмейстера труппы, всегда имеется в запасе то ли окорок байоннской ветчины, то ли паштет из дичи, а то и филейная часть ривьерской телятины и в придачу с дюжину бутылок кагора и бордо.
— Золотые слова, Педант! — воскликнул Леандр. — Ступай принеси провизию, и если любезный хозяин позволит и согласится сам откушать с нами, мы прямо тут и приготовим пиршественный стол. В здешних поставцах найдется вдоволь посуды, а наши дамы расставят приборы.
Еще не вполне придя в себя от неожиданности, барон жестом выразил согласие. Изабелла и донна Серафина, сидевшие подле огня, встали и принялись хлопотать у стола, после того как Пьер смахнул с него пыль и постелил старенькую, но чистую скатерть.
Вскоре появился Педант, неся в каждой руке по корзине, и торжествующе водрузил посреди стола крепость со стенами из подрумяненного теста, в недрах которой скрывался целый гарнизон перепелов и куропаток. Эту гастрономическую твердыню он окружил шестью бутылками, как бастионами, которые надо одолеть, прежде чем добраться до самой крепости. Копченые говяжьи языки и ветчина были поставлены по обе ее стороны.
Вельзевул взобрался на один из буфетов и с любопытством следил сверху за непривычными приготовлениями, стараясь насладиться хотя бы запахом этих дивных изобильных яств. Его нос, похожий на трюфель, впитывал ароматные испарения, зеленые глаза сверкали восторгом, подбородок был посеребрен слюной вожделения. Он не прочь был приблизиться к столу и принять участие в трапезе, достойной Гаргантюа и решительно идущей вразрез обычному здесь подвижническому воздержанию; но его пугали незнакомые лица, и трусость брала верх над жадностью.
Находя, что свет лампы недостаточно ярок, Матамор достал в повозке два бутафорских шандала из дерева, оклеенного золоченой бумагой, с несколькими свечами в каждом, отчего освещение стало, можно сказать, роскошным. Эти шандалы, по форме напоминавшие библейские семисвечники, ставились на алтарь Гименея в финале феерий или на пиршественный стол в «Марианне» Мэре и в «Иродиаде» Тристана{20}.
От них и от пылающих сучьев мертвая комната как будто ожила. Розовые блики окрасили бледные лица на портретах, я пусть добродетельные вдовицы в тугих воротничках до подбородка, в чопорных робронах поджимали губы, глядя, как молодые актрисы резвятся в этом суровом замке, зато воины и мальтийские рыцари, казалось, улыбались им из своих рам и рады были присутствовать при веселой пирушке; исключение составляли двое-трое седовласых старцев с надутой миной под желтым лаком, невзирая ни на что хранивших то злобное выражение, какое придал им живописец.
В огромной зале, обычно пропитанной могильным запахом плесени, повеяло жизнью и теплом. Обветшание мебели и обоев стало менее заметно, бледный призрак нищеты, казалось, на время покинул замок.
Сигоньяк, поначалу неприятно пораженный происшедшим, теперь отдался во власть сладостных ощущений, не изведанных ранее. Изабелла, донна Серафина и даже Субретка приятно волновали его воображение, представляясь ему скорее божествами, сошедшими на землю, нежели простыми смертными. Они в самом деле были прехорошенькими женщинами, способными увлечь даже не такого неискушенного новичка, как наш барон. Ему же все это казалось сном, и он ежеминутно боялся проснуться.
Барон повел к столу донну Серафину и усадил ее по правую свою руку. Изабелла заняла место слева, Субретка напротив. Дуэнья расположилась возле Педанта, а Леандр и Матамор уселись кто куда. Теперь молодому хозяину была дана полная возможность рассмотреть лица гостей, рельефно выступающие на ярком свету. Прежде всего его внимание обратилось на женщин, а потому уместно будет вкратце обрисовать их, пока Педант пробивает брешь на подступах к пирогу.
Серафина была молодая женщина лет двадцати четырех — двадцати пяти; привычка играть героинь наделила ее манерами и жеманством светской кокетки. Слегка удлиненный овал лица, нос с горбинкой, выпуклые серые глаза, вишневый рот с чуть раздвоенной, как у Анны Австрийской{21}, нижней губой придавали ей приятный и благородный вид, чему способствовали и пышные каштановые волосы, двумя волнами ниспадавшие вдоль щек, которые от оживления и тепла рдели сейчас нежным румянцем. Длинная прядка, именуемая усиком и подхваченная тремя черными шелковыми розетками, отделялась с каждой стороны от завитков куафюры, оттеняя ее воздушное изящество и уподобляясь завершающим мазкам, которые художник наносит на картину. Голову Серафины венчала лихо посаженная фетровая шляпа с круглыми полями и с перьями, из коих одно спускалось ей на плечи, а остальные были круто завиты; отложной воротник мужского покроя, обшитый алансонским кружевом, и такой же, как на усиках, черный бант обрамляли ворот зеленого бархатного платья с обшитыми позументом прорезями на рукавах, сквозь которые виднелся второй сборчатый кисейный рукав; белый шелковый шарф, переброшенный через плечо, подчеркивал кричащее щегольство наряда.
В этом франтовском уборе Серафина очень подходила для ролей Пентесилеи или Марфизы{22}, для дерзких похождений и для комедий плаща и шпаги. Конечно, все это было не первой свежести, бархат на платье местами залоснился от долгого употребления, воротник смялся, при дневном свете всякий бы заметил, что кружева порыжели; золотое шитье на шарфе, если приглядеться, стало бурым и отдавало явной мишурой, позумент кое-где протерся до ниток, помятые перья вяло трепыхались на полях шляпы, волосы слегка развились, и соломинки из повозки самым жалостным образом вплелись в их великолепие.
Однако эти досадные мелочи не мешали донне Серафине иметь осанку королевы без королевства. Если одежда ее была потрепанна, то лицо дышало свежестью, — а кроме того, этот туалет казался ослепительным молодому барону де Сигоньяку, непривычному к такой роскоши и видевшему на своем веку лишь крестьянок в юбках из грубой шерсти и в коломянковых чепцах. К тому же он был слишком занят глазами красотки, чтобы обращать внимание на изъяны ее наряда.
Изабелла была моложе донны Серафины, как того и требовало амплуа простушки. Она не позволяла себе рядиться кричаще, довольствуясь изящной простотой, приличествующей дочери Кассандра{23}, девице незнатного рода. У нее было миловидное, почти детское личико, шелковистые русые волосы, затененные длинными ресницами глаза, ротик сердечком и девическая скромность манер, скорее естественная, нежели наигранная. Корсаж из серой тафты, отделанный черным бархатом и стеклярусом, спускался мысом на юбку того же цвета. Гофрированный воротник поднимался сзади над грациозной шеей, где колечками вились пушистые волосы, а вокруг шеи была надета нитка фальшивого жемчуга. Хотя с первого взгляда Изабелла меньше привлекала внимание, чем Серафина, зато дольше удерживала его. Она не ослепляла — она пленяла, что, безусловно, более ценно.
Субретка полностью оправдывала прозвище morenа, которое испанцы дают черноволосым женщинам. Кожа у нее была золотисто-смуглого оттенка, свойственного цыганкам. Жесткие курчавые волосы были чернее преисподней, а карие глаза искрились бесовским лукавством. Между яркими пунцовыми губами ее большого рта то и дело белой молнией вспыхивал оскал зубов, которые сделали бы честь молодому волку. Словно опаленная зноем страсти и огнем ума, она была худа, но той молодой здоровой худобой, которая только радует взор. Без сомнения, она и в жизни и на театре наловчилась получать и передавать любовные записки. Какой же уверенностью в своих чарах должна была обладать дама, пользующаяся услугами подобной субретки! Немало пылких признаний, проходя через ее руки, не попали по назначению, и не один волокита, забыв о возлюбленной, замешкался в передней. Она была из тех женщин, которые некрасивы в глазах подруг, но неотразимы для мужчин и будто сделаны из теста, сдобренного солью, перцем и пряностями, что не мешает им проявлять хладнокровие ростовщика, чуть дело коснется их интересов. На ней был фантастический наряд, синий с желтым, и мантилья из дешевых кружев.
Тетка Леонарда, «благородная мать» труппы, была одета во все черное, как полагается испанским дуэньям. Тюлевая оборка чепца окружала ее обрюзгшее лицо с тройным подбородком, как бы изъеденное сорока годами гримировки. Желтизна старой слоновой кости и лежалого воска свидетельствовала о болезненности ее полноты — скорее признака преклоненных лет, чем здоровья. Глаза, словно два черных пятна на этом мертвенно-бледном лице, хитро поблескивали из-под дряблых век. Углы рта были оттенены темными волосками, которые она тщательно, но тщетно выщипывала; лицо это почти совсем утратило женственные черты, а в морщинах его запечатлелось немало всяческих похождений, только вряд ли кто стал бы до них доискиваться. Леонарда с детства была на подмостках, познала все превратности этого ремесла и последовательно переиграла все роли, кончая ролями дуэний, с которыми так неохотно мирится женское кокетство, не желающее видеть разрушительные следы годов. Обладая недюжинным талантом, Леонарда при всей своей старости умудрялась срывать рукоплескания даже рядом с молоденькими и хорошенькими товарками, которых удивляло, что одобрение публики относится к этой старой ведьме.
Таков был женский персонал труппы. В ней имелись все персонажи комедии, а если исполнителей не хватало, то в пути всегда удавалось подобрать какого-нибудь бродячего актера или любителя, которому лестно было сыграть хотя бы маленькую роль и заодно приблизиться к Анжеликам и Изабеллам. Мужской персонал составляли описанный выше Педант, к которому незачем больше возвращаться, затем Леандр, Скапен{24}, трагик Тиран и хвастун Матамор.
Леандр, по должности призванный превращать в кротких овечек даже гирканских тигриц{25}, брать верх над Эргастами{26}, дурачить Труффальдино{27} и проходить через все пьесы торжествующим победителем, был молодой человек лет тридцати, но на вид казался почти юношей, благодаря неустанным заботам о своей наружности. Нелегкое дело олицетворять в глазах зрительниц любовника — это загадочное и совершенное существо, которое каждый создает по своему произволу, руководствуясь «Амадисом» или «Астреей»{28}. Потому-то наш Леандр усердно мазал физиономию спермацетом, а к вечеру посыпал тальком; брови его, из которых он выщипывал непокорные волоски, казались чертой, наведенной тушью, а к концу сходили на нет, зубы, начищенные донельзя, блестели, как жемчужины, и он поминутно обнажал их до самых десен, пренебрегая греческой пословицей, которая гласит, что нет ничего глупее глупого смеха. Товарищи его утверждали, что для авантажности он слегка румянился даже вне сцены. Черные волосы, тщательно завитые, спускались у него вдоль щек блестящими спиралями, несколько пострадавшими от дождя, что давало ему повод навивать их на палец, показывая холеную белую руку, на которой сверкал бриллиант, слишком большой для настоящего. Отложной воротник открывал округлую белую шею, выбритую так, что под горлом не осталось ни намека на растительность. Каскад относительно чистой белой кисеи ниспадал от камзола до панталон, перевитых ворохом лент, о сохранности которых он, видимо, очень заботился. Он смотрел взором без памяти влюбленного даже на стенку и напиться просил замирающим голосом. Каждую фразу он сопровождал томным вздохом и, говоря о самых обыкновенных предметах, преуморительно жеманничал и закатывал глаза; однако женщины находили его ужимки обольстительными.
У Скапена была заостренная лисья мордочка, хитрая и насмешливая, вздернутые под углом брови, резвые живчики-глаза, желтые зрачки которых мерцали как золотая точка на капле ртути; лукавые морщинки в углах век таили бездну лжи, коварства и плутовства, тонкие подвижные губы неустанно шевелились, открывая в двусмысленной ухмылке острые и кровожадные клыки; когда он снимал белый в красную полоску берет, под остриженными ежиком волосами обнаруживался шишковатый череп, а сами волосы, рыжие и свалявшиеся, как волчья шерсть, дополняли весь его облик, напоминающий злокозненного зверя. Так и тянуло взглянуть, не видно ли на руках этого молодчика мозолей от весел, потому что он явно какой-то срок писал свои мемуары на волнах океана пером длиной в пятнадцать футов{29}. Его голос внезапно со странными модуляциями и взвизгами переходил с высоких нот на низкие, озадачивая слушателей и вызывая у них невольный смех; его жесты, неожиданные, порывистые, как от действия скрытой пружины, пугали своей несуразностью и, по-видимому, преследовали цель удержать внимание собеседника, а не выразить какую-то мысль или чувство. Это были маневры лисы, без конца кружащей под деревом, не давая опомниться тетереву, который сверху не спускает с нее глаз, прежде чем свалится ей в пасть.
Из-под его серого балахона виднелись полосы традиционного костюма, который он не успел сменить после недавнего представления; а может, за скудостью гардероба, он носил в жизни то же платье, что и на сцене.
Что до Тирана, то это был большой добряк, которого природа, надо полагать, в шутку, наделила всеми внешними признаками свирепости. Никогда еще столь кроткая душа не была заключена в столь богопротивную оболочку. Сходящиеся над переносицей черные косматые брови в два пальца шириной, курчавые волосы, густая борода до самых глаз, которую он не брил, чтобы не нуждаться в накладной, играя Иродов и Полифонтов{30}, темная, будто дубленая кожа — все, вместе взятое, делало его наружность такой грозной и страшной, какой художники любят наделять палачей и их подручных в мучениях апостола Варфоломея или усекновениях главы Иоанна Крестителя{31}. Зычный голос, от которого дребезжали оконные стекла и подпрыгивали стаканы на столе, усугублял впечатление ужаса, производимое этим страшилищем, облаченным в допотопный черный бархатный кафтан; недаром публика обмирала, когда он, рыча и завывая, читал стихи Гарнье{32} и Скюдери. Кстати, корпуленция у него была внушительная, способная заполнить любой трон.
Актер на ролях забияки и хвастуна был худ, костляв, черен и сух, как висельник летом; кожа у него казалась пергаментом, наклеенным на костяк; огромный нос, похожий на клюв хищной птицы, с горбинкой, блестевшей, точно рог, перегораживал пополам вытянутую физиономию, которую еще удлиняла остроконечная бородка. Из этих двух профилей, склеенных друг с другом, еле-еле получалось лицо, а глаза, чтобы поместиться на нем, были по-китайски скошены к вискам. Подбритые черные брови загибались запятой над бегающими глазами, а непомерно длинные усы, напомаженные на концах, были закручены кверху и грозили небу своими остриями; оттопыренные уши смахивали на ручки горшка и служили мишенью для щелчков и оплеух. Весь этот нелепый облик, скорее похожий на карикатуру, чем на живого человека, казалось, был вырезан каким-то шутником на грифе трехструнной скрипки или срисован с тех диковинных птиц и зверей, которые, на радость обжорам, светятся по вечерам в фонарях перед лавкой пирожника. Ужимки хвастуна и забияки Матамора стали его второй натурой, и, даже сойдя с подмостков, он выступал, расставляя ноги циркулем, задрав голову, подбоченясь одной рукой, а другую положив на эфес шпаги. Наряд его составлял желтый камзол, выгнутый в форме кирасы, отороченный зеленым, с поперечными прорезями на испанский лад; крахмальный, торчащий при помощи проволоки и картона воротник величиной с круглый стол, за которым могли бы пировать все двенадцать паладинов{33}; панталоны, собранные в буфы, белые козловые ботфорты, в которых его петушиные ноги болтались, как флейты в футлярах, когда их уносит странствующий музыкант, и, наконец, гигантская рапира, с которой Матамор не расставался никогда, хотя ее кованый ажурный эфес весил не меньше пятидесяти фунтов; поверх всего этого облачения он для пущей важности драпировался в плащ, край которого задирался от шпаги. Не желая ничего упустить, добавим, что два петушиных пера, разветвленных, как убор рогоносца, презабавно торчали на его серой фетровой шляпе с тульей, вытянутой в виде реторты.
Ремесло писателя уступает ремеслу живописца в том, что он может показывать предметы лишь последовательно. Достаточно было бы беглого взгляда, чтобы охватить картину, в которой художник сгруппировал бы за столом всех обрисованных нами персонажей; там запечатлелись бы все блики света и тени, разнообразные позы с присущим каждой фигуре колоритом, и мельчайшие подробности костюма, недостающие нашему описанию, и без того длинному, как и старались мы сделать его покороче; но нам ведь нужно было познакомить вас с труппой комедиантов, так неожиданно вторгнувшихся в уединенный замок Сигоньяка.
Начало ужина прошло в молчании; большой аппетит, как и большое чувство, всегда безмолвен. Но когда первый, самый лютый голод был утолен, языки развязались. Молодой барон, должно быть, не наедавшийся досыта с тех пор, как его отняли от груди, хоть и желал казаться перед Серафиной и Изабеллой мечтательным и влюбленным, однако поедал, или, вернее, пожирал, все кушанья с величайшей алчностью, — трудно было поверить, что он уже поужинал. Педанта забавляла такая юношеская ненасытность, и он все подкладывал на тарелку хозяина замка крылышки куропаток и ломти ветчины, и они тотчас же исчезали, как хлопья снега на раскаленном железе. Вельзевул, у которого жадность взяла верх над страхом, решился покинуть свой неприступный пост на карнизе поставца, резонно рассудив, что за уши оттрепать его трудно по причине отсутствия ушей, так же как вряд ли возможно проделать с ним шутку дурного тона, привязав ему к хвосту кастрюлю, ибо без наличия такового немыслимо и столь вульгарное озорство, недостойное людей благовоспитанных, какими казались гости, сидевшие вокруг стола, заставленного сочнейшими и благоуханнейшими яствами. Он прокрался к столу, прячась в тени и распластавшись так, что сгибы его лап торчали, как локти над туловищем, — точь-в-точь пантера, подстерегающая газель. Добравшись до стула, на котором сидел Сигоньяк, он поднялся и, чтобы привлечь внимание хозяина, всеми десятью когтями принялся скрести его колено, будто играл на гитаре. Сигоньяк, снисходительный к смиренному другу, который столько времени терпел голод, служа своему господину верой и правдой, не замедлил разделить с ним удачу, бросая ему под стол кости и объедки, которые кот принимал с бурной признательностью. Пес Миро проник в пиршественную залу вслед за Пьером и тоже получил немало лакомых кусков.
Жизнь словно возвратилась в мертвое жилище, наполнив его светом, теплом и шумом. Актрисы, хлебнув по глотку вина, стрекотали, как сороки на ветках, превознося таланты друг друга. Педант и Тиран спорили о сравнительных достоинствах пьесы комической и пьесы трагической, — один утверждал, что куда труднее вызвать у почтенных зрителей смех, нежели напугать их нянюшкиными сказками, у которых нет иных преимуществ, кроме старины, другой же доказывал, что шутки и прибаутки, сочиняемые комедиографами, принижают самого автора.
Леандр достал из кармана зеркальце и смотрелся в него с таким же самодовольством, как блаженной памяти Нарцисс в воды ручья. Наперекор своим ролям, Леандр не был влюблен в Изабеллу — он метил выше. Авантажной наружностью, великосветскими манерами он надеялся прельстить какую-нибудь пылкую аристократическую вдовушку, чья карета, запряженная четверней, подхватит его у выхода из театра и умчит в замок, где чувствительная красавица будет его дожидаться в соблазнительном неглиже, перед столом с самыми изысканными кушаниями. Осуществилась ли его мечта хоть раз? Леандр утверждал, что да… Скапен отрицал, и это возбуждало между ними нескончаемые споры. Несносный слуга, проказливый, как мартышка, уверял, что сколько бы бедняга ни стрелял глазами, бросая в ложи убийственные взгляды, ни смеялся, скаля все тридцать два зуба, сколько бы ни играл мускулами ног, ни изгибал стан, приглаживал гребешочком волосы парика и менял белье к каждому представлению, лишая себя завтрака, чтобы заплатить прачке, — все же до сих пор он не вызвал вожделения ни у одной знатной дамы, даже сорокапятилетней, с красными пятнами и волосатыми бородавками на лице.
Поймав Леандра на созерцании своей персоны, Скапен ловко возобновил привычный спор, и разъяренный фат предложил пойти отыскать среди багажа баульчик с раздушенными мускусом и росным ладаном любовными записочками, полученными им от целой толпы высокородных особ — графинь, маркиз и баронесс, воспылавших к нему страстью; и это не было пустой похвальбой, ибо порочная склонность к гаерам и комедиантам была довольно распространена в тот век распущенных нравов. Серафина заявила, что на месте этих знатных дам она велела бы отстегать Леандра за дерзость и болтливость, а Изабелла в шутку пригрозила, что не пойдет за него замуж в конце пьесы, если он не будет поскромнее.
Сигоньяк же, хотя ужасное смущение тисками сдавило ему горло и мешало говорить связно, не мог скрыть, как он восхищен Изабеллой, и глаза его были красноречивее уст. Девушка, заметив, какое впечатление она производит на барона, отвечала ему томными взглядами, к великому неудовольствию Матамора, втайне влюбленного в нее, впрочем, без всякой надежды на взаимность, ввиду его комического амплуа. Всякий другой, более ловкий и дерзкий, чем Сигоньяк, повел бы себя решительнее; но наш бедный барон не обучился придворным манерам в своем обветшалом замке и, хотя не страдал недостатком ума и образования, сейчас имел довольно глупый вид.
Все десять бутылок были добросовестно опорожнены, и Педант перевернул последнюю, осушив ее до дна; Матамор верно понял этот жест и отправился за новой партией бутылок, оставшихся внизу в повозке. Барон уже слегка охмелел, однако не мог удержаться, чтобы не поднять за здоровье дам полный бокал, доконавший его.
Педант и Тиран пили, как истые пьяницы, которые никогда не бывают ни совсем трезвы, ни совсем пьяны; Матамор был по-испански воздержан и мог бы существовать, как те идальго, что обедают тремя оливками и ужинают серенадой под мандолину. Такая умеренность имела веские основания: он боялся есть и пить всласть, чтобы не утратить свою феноменальную худобу — лучшее из его комических средств. Полнота нанесла бы урон его дарованию, а потому он, чтобы существовать, постоянно умирал с голоду и в страхе то и дело проверял, сходится ли на нем пояс, не пополнел ли он, чего доброго, со вчерашнего дня. Тантал по своей воле{34}, актер трезвенник, мученик во имя худобы, ходячий анатомический препарат, он жил впроголодь, и, постись он с благочестивой целью, ему был бы уготован рай, как святым отшельникам Антонию и Макарию. Дуэнья поглощала пищу и питье в неимоверных количествах, ее дряблые щеки и тройной подбородок ходили ходуном от работы челюстей, пока еще оснащенных зубами. Что касается Серафины и Изабеллы, то они зевали наперебой и, за неимением веера, прикрывали рот своими прозрачными пальчиками. Сигоньяк, заметив это, несмотря на винные пары, обратился к ним:
— Сударыни, я вижу, вам до смерти хочется спать, хотя вежливость вынуждает вас бороться со сном. Я охотно предоставил бы каждой из вас по обитой штофом комнате с туалетной и альковом, но мое злосчастное жилище пришло в упадок, как и мой род, от которого остался я один. Я уступаю вам свою спальню, чуть ли не единственную комнату, где не течет с потолка; вы разместитесь там втроем с госпожой Леонардой, у меня кровать широкая, и вы кое-как скоротаете ночь. Мужчины останутся здесь и устроятся на скамьях и креслах. Только не бойтесь ни шороха обоев, ни воя ветра в трубе, ни беготни мышей; могу вас заверить, что, при всей мрачности моего дома, привидений в нем не водится.
— Я играю воинственных героинь и ничего не боюсь. Я подбодрю трусишку Изабеллу, — смеясь, ответила Серафина. — А Дуэнья и сама у нас немножко колдунья, и если к вам явится черт, она даст ему достойный отпор.
Сигоньяк взял светильник и проводил дам в спальню, на самом деле вселявшую жуть, — ветер колебал неверное пламя, и по балкам потолка пробегали причудливые тени, а в неосвещенных углах, казалось, ютятся фантастические чудовища.
— Превосходная декорация для пятого акта трагедии, — заметила Серафина, оглядываясь по сторонам, меж тем как Изабелла, очутившись в этой промозглой тьме, невольно вздрогнула не то от холода, не то от страха.
Все три женщины, не раздеваясь, нырнули под одеяло. Изабелла улеглась посередине на тот случай, если из-под кровати высунется мохнатая лапа какого-нибудь призрака или оборотня; так пусть ему попадется сперва Дуэнья или Серафина. Обе ее храбрые товарки вскоре заснули, а пугливая девушка долго лежала, устремив открытые глаза на заколоченную дверь, словно подозревая, что за ней таятся целые сонмы привидений и ночных ужасов. Однако дверь не отворилась, никакой призрак в саване не появился оттуда, потрясая цепями, хотя непонятные звуки и доносились порой из пустынных покоев; но под конец сон посыпал золотым песком веки боязливой Изабеллы, и ее ровное дыхание вторило теперь похрапыванию ее товарок.
Педант спал крепчайшим сном, уткнувшись носом в стол, напротив Тирана, который оглушительно храпел и во сне бубнил обрывки александрийских стихов. Матамор оперся головой о спинку кресла, положил вытянутые ноги на каминную решетку, завернулся в свой серый плащ и стал похож на селедку в бумаге. Боясь помять свою куафюру, Леандр держал голову прямо, однако спал очень сладко. Сигоньяк прикорнул в оставшемся свободным кресле, но события этой ночи взволновали его, и ему не спалось.
Две молодые женщины не могут вторгнуться в жизнь юноши, не возмутив ее, особенно если этот юноша до той поры жил без радостей, лишенный всех утех юных лет по милости злой мачехи, которую зовут нищетой.
Пожалуй, покажется неправдоподобным, что молодой человек дожил до двадцати с лишним годов без единой интрижки; но Сигоньяк был горд, и, не имея возможности появляться в свете так, как приличествовало его имени и положению, он предпочитал сидеть дома. Родители его умерли, а кроме них, ему не у кого было просить помощи, и он с каждым днем все более погружался в уединение и тоску. Правда, не раз во время своих одиноких прогулок он встречал Иоланту де Фуа, скакавшую на белом иноходце в погоне за оленем, в сопровождении отца и молодых вельмож. Это лучезарное видение часто мелькало в его снах; но что общего могло быть между богатой знатной красавицей и им — захудалым, обнищавшим, убогим на вид дворянчиком? Он, отнюдь не желая быть замеченным ею, наоборот, при встречах старался стушеваться, из боязни вызвать смех своей помятой линялой шляпой с изъеденным крысами пером, поношенной мешковатой одеждой и старой смирной клячей, более подходящей для сельского священника, нежели для дворянина, ибо нет ничего обиднее для благородного сердца, чем показаться смешным предмету своей любви; стремясь заглушить зарождающееся чувство, Сигоньяк приводил себе все трезвые и суровые доводы, какие может внушить бедность. Успел ли он в этом? Нам судить трудно. Сам он считал, что ему удалось отогнать от себя эту мысль, как несбыточную мечту, полагая, что ему и без того довольно несчастий и незачем к ним добавлять муки неразделенной любви.
Ночь прошла без особых приключений, если не считать испуга, причиненного Изабелле Вельзевулом, который пристроился на ее груди и не желал уходить с такой мягкой подушки.
Сигоньяк же всю ночь не сомкнул глаз оттого ли, что не привык спать иначе как в постели, оттого ли, что его взбудоражило соседство хорошеньких женщин. Мы скорее склонны думать, что у него в голове зародились смутные планы, тревожа его и гоня сон. Появление комедиантов представлялось ему счастливым случаем, зовом самой судьбы, побуждающей его покинуть родовую лачугу, где его молодые годы увядали бесславно и бесцельно.
Занимался день, и голубоватый свет, проникая сквозь окна в частых свинцовых переплетах, придавал болезненно-желтый оттенок огню угасающих ламп. Освещенные с двух сторон лица спящих оказались двухцветными, наподобие средневековых костюмов. Леандр пожелтел, как лежалая свеча, и стал смахивать на воскового Иоанна Крестителя в парике из шелковой бахромы и с облупившейся, несмотря на стеклянный колпак, краской. Крепко сомкнутые веки, стиснутые челюсти, торчащие скулы и заострившийся нос, словно защемленный костлявыми пальцами смерти, делали Матамора похожим на собственный труп.
Багровые пятна и апоплексические прожилки испещряли пьяную образину Педанта; нос его из рубинового стал аметистовым, а толстые губы были покрыты синеватым винным налетом. Капельки пота, стекая по рытвинам и бороздам его лба, задержались, в зарослях седоватых бровей; дряблые щеки обвисли. В отупении тяжелого сна лицо актера было отвратительным, меж тем как в бодрствующем состоянии оно привлекало выражением остроты и живости ума; он сидел, привалясь к краю стола и напоминая старого гуляку, козлоногого Сатира, после вакханалии упавшего замертво на краю оврага.
Тиран держался вполне прилично, на его мучнистом лице, обросшем черной щетиной, на лице незлобивого и по-отечески добродушного палача, вообще не могло быть заметных перемен. Субретка тоже довольно сносно выдержала нескромное вторжение дневного света; вид у нее был не очень измученный, разве что более густая синева вокруг глаз да фиолетовые жилки, проступившие на щеках, говорили о дурно проведенной ночи. Сладострастный солнечный луч, проскользнув между пустыми бутылками, недопитыми бокалами и остатками кушаний, ласкал подбородок и губы девушки, точно фавн, который заигрывает с сонной нимфой. Целомудренные вдовицы на стенах пытались покраснеть под желтым слоем лака, глядя, как их уединение оскверняется этим табором бездомных бродяг; и в самом деле, вся пиршественная зала представляла собой омерзительную своей несуразностью картину.
Субретка первая проснулась от поцелуя утреннего солнца; она вскочила, выпрямилась на своих стройных ножках, отряхнула юбки, как птица — перья, пригладила волосы ладонью, чтобы вернуть им глянец, и, увидев, что барон Сигоньяк сидит в кресле и смотрит перед собой недремлющим взором, направилась к нему и сделала реверанс по всем правилам театрального искусства.
— Мне очень жаль, — сказал Сигоньяк, отдавая поклон, — что мое разрушенное жилище, более пригодное для призраков, чем для живых людей, не позволило мне оказать вам лучший прием; я предпочел бы, чтобы вы почивали здесь на простынях голландского полотна, под узорчатым атласным балдахином, а не маялись бы в этом обветшалом кресле.
— Полноте, сударь! — возразила Субретка. — Не будь вас, мы провели бы ночь, дрожа от холода под проливным дождем в повозке, завязшей в грязи, и утром чувствовали бы себя прескверно. Вы с пренебрежением говорите об этом обиталище, на самом же деле оно великолепно по сравнению с теми сараями, которые продувает насквозь и где нам, тиранам и жертвам, принцам и принцессам, Леандрам и Субреткам, нам — комедиантам, кочующим из города в город, — частенько приходится ночевать на охапке соломы.
Пока барон и Субретка обменивались учтивыми заверениями. Педант с громким треском рухнул на пол. Кресло не выдержало наконец такой ноши, подломилось под ним, и толстяк, растянувшись во весь рост, барахтался, как перевернутая на спину черепаха, издавая невнятные возгласы. Падая, он машинально ухватился за край скатерти и потащил за собой посуду, которая каскадом посыпалась на него. От грохота разом проснулись все остальные актеры. Тиран потянулся, протер глаза, а затем подал руку помощи старику и поставил его на ноги.
— С Матамором такой неприятности не могло бы случиться, — произнес Ирод, сопровождая слова утробным рычанием, заменявшим ему смех. — Свались он в паутину, он и ее бы не прорвал.
— В самом деле, — подтвердил названный актер, расправляя длинные, членистые, словно паучьи, конечности, — не каждому посчастливилось быть Полифемом, Какусом{35}, горой мяса и костей, вроде тебя, или бурдюком со спиртным, бочкой о двух ногах, вроде Блазиуса.
На шум в дверях появились Изабелла, Серафина и Дуэнья. Обе молодые женщины, несколько утомленные и побледневшие, все же были прелестны и при свете дня. Сигоньяку казалось, что ослепительней их никого быть не может, хотя более придирчивый наблюдатель отметил бы некоторые погрешности в их наряде, примятом и поношенном; но что значат вылинявшие ленты, протертые, залоснившиеся ткани, убожество и безвкусица в деталях уборов, если те, кто носит их, молоды и миловидны? К тому же барон, привыкший созерцать только пыльное, выгоревшее, обветшалое старье, не способен был досмотреться до подобных мелочей. На фоне мрачного разрушающегося замка Серафина и Изабелла, на его взгляд, были разряжены как нельзя пышнее, и сами они представлялись ему сказочными видениями.
Что касается Дуэньи, то возраст давал ей огромную привилегию — ее уродство было недоступно переменам, ничто не могло нанести ущерб этой физиономии, будто вырезанной из самшита, на которой поблескивали совиные глазки. Она была все та же и при солнце и при свечах.
В этот миг появился Пьер, чтобы привести в порядок комнату, подбросить дров в камин, где несколько головешек белело под пушистым покровом золы, и убрать остатки трапезы, на которые так противно смотреть после того, как голод утолен.
Разгоревшееся пламя лизало чугунную доску с гербом Сигоньяков, непривычную к подобным ласкам, и отбрасывало яркие блики на труппу комедиантов, сбившуюся вокруг очага. Весело пылающий огонь всегда приятен после ночи, проведенной если не совсем без сна, то, во всяком случае, вполпьяна, и под его животворным влиянием полностью улетучились следы усталости на хмурых или помятых лицах. Изабелла протягивала к огню ладони порозовевших от его отблесков ручек и сама, зардевшись от этих румян, утратила недавнюю бледность. Более рослая и крепкая донна Серафина стояла позади нее, точно старшая сестра, которая поспешила усадить не столь выносливую младшую сестренку. Матамор грезил в полусне, словно водяная птица на краю болота, вытянув одну свою журавлиную ногу, поджав другую и уткнувшись клювом в брыжи, вместо зоба. Педант-Блазиус, облизываясь, поднимал на свет одну бутылку за другой, в чаянии найти хоть каплю драгоценной влаги.
Молодой хозяин отозвал Пьера в сторону, желая узнать, нельзя ли раздобыть в деревне на завтрак актерам десяток-другой яиц или же несколько кур, годных для того, чтобы посадить их на вертел, и старый слуга поспешил поскорее исполнить поручение, так как труппа выразила намерение рано тронуться в путь, проделать порядочный перегон и засветло добраться до ночлега.
— Боюсь, что завтрак ваш будет весьма скуден и вам придется удовольствоваться самой умеренной пищей, — сказал Сигоньяк своим гостям, — но лучше позавтракать плохо, чем остаться совсем без завтрака, а на шесть миль в окружности нет ни постоялого двора, ни кабачка. По виду моего замка вам ясно, что я не богат, но причиной моей бедности — затраты предков на войну в защиту наших королей, и мне нечего ее стыдиться.
— Конечно, конечно! — пробасил Ирод. — Ведь многие из тех, что кичатся большим богатством, поостереглись бы указать его источник. Откупщик рядится в парчу, а отпрыски знатных родов ходят в дырявых плащах. Но сквозь эти дыры сверкает доблесть.
— Однако меня немало удивляет, — добавил Блазиус, — что столь благородный дворянин, каким, по-видимому, являетесь вы, сударь, губит свою молодость в безлюдной глуши, куда Фортуна не может проникнуть, как бы она того ни желала. Если бы ей случилось пролетать мимо этого замка, который, должно быть, имел весьма внушительный вид лет двести тому назад, она не задержалась бы в своем полете, сочтя замок необитаемым. Вам, господин барон, следует отправиться в Париж — око и пуп мира, приют умников и храбрецов, Эльдорадо и Ханаан{36} для офранцуженных испанцев и окрещенных евреев, благословенный край, озаренный солнцем королевского двора. Там вы, господин барон, всенепременно были бы отмечены по заслугам и выдвинулись бы, либо состоя в услужении у какого-нибудь высокопоставленного лица, либо отличившись блистательным образом, случай к чему не замедлил бы представиться.
Эти слова, несмотря на их шутовскую высокопарность — невольный отголосок ролей Педанта, — не были лишены смысла. Сигоньяк сознавал их справедливость, он и сам не раз, во время долгих одиноких прогулок по ландам, твердил про себя то же, что Блазиус высказал сейчас вслух.
Но у него не было денег для столь долгого путешествия, и он не знал, как их раздобыть. Будучи храбрым, он вместе с тем был горд и больше страшился насмешки, чем удара шпаги. Не сведущий в вопросах моды, он понимал, однако, что кажется смешным в своем поношенном платье, успевшем устареть еще в предыдущее царствование. Как все те, кого нужда делает застенчивым, он не сознавал своих преимуществ и видел одни лишь дурные стороны своего положения. Если бы он подольстился к старым друзьям отца, ему, по всей вероятности, удалось бы добиться их покровительства, но подобный шаг был противен его природе, и он предпочел бы умереть, сидя на своем ларе подле родового герба и грызя зубочистку, по примеру испанского идальго, чем у кого бы то ни было попросить денег вперед или взаймы. Он принадлежал к числу тех изголодавшихся людей, которые отказываются от превосходного обеда, боясь, как бы радушные хозяева не заподозрили, что дома им нечего есть.
— Я не раз думал об этом, но в Париже у меня нет друзей, а потомки тех, кто знал моих прадедов, когда они были богаты и занимали должности при дворе, не очень-то захотят принять участие в каком-то отощавшем Сигоньяке, который коршуном слетел со своей разрушенной башни, чтобы урвать себе долю в общей добыче. А кроме того, — к чему таиться перед вами? — я лишен возможности появиться в подобающем моему имени виде; да и всех сбережений моих и Пьера, вместе взятых, не хватит на то, чтобы добраться до Парижа.
— Но вам вовсе не требуется въехать туда триумфатором, подобно римскому кесарю, на колеснице, влекомой квадригой белых коней. Если наша скромная повозка, запряженная волами, не оскорбляет достоинства вашей милости, поедемте с нами в столицу, — наша труппа направляется именно туда. Кое-кто из тех, что блистают ныне, пришли в Париж пешком, неся узелок с пожитками на конце шпаги, а башмаки — в руках, чтобы не износились.
Лицо Сигоньяка покрылось краской не то стыда, не то радости. С одной стороны, родовая гордость возмущалась при мысли стать должником жалкого комедианта, с другой же — его чувствительную душу тронуло столь чистосердечное предложение, к тому же отвечавшее заветному желанию молодого барона. Он боялся оскорбить отказом самолюбие актера и самому лишиться случая, который не представится больше никогда. Конечно, путешествие отпрыска Сигоньяков в повозке Феспида вместе с бродячими актерами представляло собой нечто неприличное, отчего впору было заржать геральдическим единорогам и взреветь львам на красном поле щита; но, в конце концов, молодой барон достаточно нагостился в стенах своего феодального замка.
Он колебался, ответить ему «да» или «нет», взвешивая эти два решающих словечка на весах разума, когда к собеседникам с милой улыбкой приблизилась Изабелла и положила конец сомнениям молодого человека следующими словами:
— Наш постоянный поэт, получив наследство, покинул нас, и вы, господин барон, могли бы заменить его, ибо, перелистывая томик Ронсара, лежавший на столе возле кровати, я нечаянно наткнулась на испещренный помарками сонет, вероятно, вашего сочинения; значит, вам не составило бы труда приспосабливать для нас роли, делать нужные купюры и добавления и в случае чего написать пьесу на заданную тему. У меня как раз есть на примете итальянский сюжет, где я могла бы получить прелестную роль, если бы кто-нибудь взял на себя обработку.
Произнося эту речь, Изабелла смотрела на Сигоньяка таким нежным и проникновенным взглядом, что тот не мог устоять. Появление Пьера, принесшего огромную яичницу с салом и порядочный ломоть ветчины, прервало эту беседу. Вся труппа расселась за столом и с аппетитом принялась уплетать завтрак. Сигоньяк лишь приличия ради притрагивался к кушаньям, стоявшим перед ним; привыкнув к воздержанию, он был еще сыт вчерашним ужином и, кроме того, поглощен множеством забот. После завтрака, пока погонщик прикручивал веревки от ярма к рогам волов. Изабелла и Серафина пожелали спуститься в сад, который был виден со двора.
— Боюсь, как бы когти шиповника не вцепились в ваши платья, — заметил Сигоньяк, помогая им сойти по шатким, поросшим мохом ступеням, — если справедливо говорится, что нет розы без шипов, то шипы без роз бывают нередко.
Молодой барон произнес это тоном грустной иронии, который усвоил себе, касаясь в разговоре своей бедности; но обиженный сад словно решил постоять за свою честь, и две дикие розочки, приоткрыв все пять лепестков вокруг желтого пестика, вдруг заалели на вытянутой ветке, преграждавшей путь молодым женщинам. Сигоньяк сорвал их и преподнес Изабелле и Серафине со словами:
— Я не предполагал, что цветники мои столь пышны; в них растут лишь сорные травы и для букетов имеются разве что болиголов да крапива. Вы своими чарами вызвали к жизни эти два цветка, как улыбку на лике отчаяния, как искру поэзии посреди руин.
Изабелла бережно воткнула цветок шиповника за корсаж, наградив молодого человека долгим взглядом благодарности, чем показала, какую цену она придает этому скромному подношению. Приблизив цветок к лицу и покусывая его стебель, Серафина как бы хотела подчеркнуть, что бледно-розовые лепестки шиповника не могут соперничать с пурпуром ее губ.
Раздвигая ветви, которые могли хлестнуть посетительниц по лицу, Сигоньяк довел их до статуи мифологической богини, белевшей в конце аллеи. Юная девушка с умиленным вниманием разглядывала запущенный сад, в полной мере созвучный заброшенному замку. Она представляла себе, какие долгие грустные часы отсчитывал Сигоньяк в этом приюте тоски, нищеты и одиночества, прильнув лбом к оконному стеклу, глядя на пустынную дорогу и не зная другого общества, кроме белого пса и черного кота. Более жесткие черты Серафины выражали одно лишь холодное презрение, прикрытое учтивостью; как ни уважала она титулы, этот дворянин был для нее чересчур уж захудалым.
— Здесь кончаются мои владения, — пояснил барон, когда они приблизились к гроту, где плесневела Помона. — Раньше эти холмы и долины, поля и вересковые заросли — во все стороны, куда только достигал взгляд с верхушек обветшавших башенок, — принадлежали моим предкам; ныне же моего достояния хватит лишь на то, чтобы дождаться часа, когда последний из Сигоньяков упокоится рядом со своими пращурами в фамильном склепе, единственном владении, которое нам останется.
— Надо сознаться, ваши мысли не очень-то жизнерадостны с самого раннего утра! — заметила Изабелла; она была тронута этим признанием, совпадавшим с ее собственными мыслями, но постаралась игривым тоном согнать грусть с чела молодого барона. — Фортуна — женщина, и, хотя ее почитают слепой, все же она, стоя на своем колесе, кое-когда отмечает среди толпы кавалера высокого рождения и высоких достоинств; надо только вовремя попасться ей на глаза. Решайтесь же, поедемте с нами, и, быть может, через несколько лет башни замка Сигоньяк, крытые новой черепицей, подновленные и побеленные, станут в такой же мере величавы, в какой сейчас они жалки. И потом, право же, мне было бы грустно оставить вас в этом совином гнезде, — добавила она вполголоса, чтобы Серафина не могла ее услышать.
Ласковый свет, теплившийся в глазах Изабеллы, победил колебания барона. Ореол любовного приключения оправдывал в его собственных глазах унизительную сторону такого рода путешествия. Ничего недостойного не было в том, чтобы из любви к актрисе последовать за ней и в качестве воздыхателя впрячься в колесницу Комедии; самые изысканные кавалеры не остановились бы перед этим. Колчаноносный божок нередко понуждает богов и героев совершать необычайные поступки и принимать странные обличия: Юпитер обратился в быка, чтобы соблазнить Европу; Геркулес прял у ног Омфалы; непогрешимый Аристотель ползал на четвереньках{37}, нося на спине свою возлюбленную, пожелавшую оседлать философского конька, — забавный вид верховой езды! — хотя такого рода дела противны достоинству божескому и человеческому. Но был ли Сигоньяк влюблен? Он не старался вникнуть в это, однако чувствовал, что отныне несносная тоска будет снедать его здесь, в старом замке, на миг оживленном присутствием юного и миловидного создания.
Итак, решившись без долгих колебаний, он попросил комедиантов подождать его, а сам отвел Пьера в сторону и сообщил ему о своем намерении. Верный слуга, как ни был он удручен предстоящей разлукой с хозяином, понимал, однако, сколь тягостно для того дальнейшее пребывание в жилище Сигоньяков. С горестью наблюдал он, как угасает жизнь юноши в унылом бездействии и тупой тоске, и, хотя труппа фигляров представлялась ему неподобающей свитой для владельца замка Сигоньяк, такой способ попытать счастье он все же предпочитал той мрачной апатии, в которую, особенно последние два-три года, погружался молодой барон. Пьеру не стоило большого труда собрать скромные пожитки своего господина и вложить в кожаный кошелек горстку пистолей, рассыпанных по старому ларю, присовокупив к ним, ни слова не говоря, свои убогие сбережения; причем барон, быть может, и не заметил его скромного дара, ибо Пьер совмещая со всеми другими обязанностями в замке также и должность казначея, бывшую поистине синекурой.
Вслед за тем была оседлана белая лошадь, так как Сигоньяк собирался пересесть в повозку комедиантов лишь на расстоянии двух-трех миль от замка, дабы скрыть свой отъезд, сделав вид, будто он только провожает гостей; Пьер должен был следовать за ним пешком и привести лошадь назад, на конюшню.
Волы были уже в упряжке и, несмотря на тяжесть ярма, тщились поднять свои влажные черные морды, с которых серебристыми волокнами свисала слюна; венчавшие их головы, наподобие тиар, красные с желтым плетеные покрышки и защищающие от мух белые холщовые попоны на манер рубах придавали им сакраментально-торжественный вид. Перед ними погонщик, рослый загорелый варвар, словно пастух Римской Кампаньи, стоял, опершись на палку, в позе греческих героев с античных барельефов, о чем, конечно, сам и не подозревал. Изабелла и Серафина уселись спереди, чтобы любоваться красивыми видами, Дуэнья, Педант и Леандр забрались в глубь повозки, предпочитая подремать еще, вместо того чтобы наслаждаться панорамой ланд.
Все были в сборе; погонщик хлестнул волов, они опустили головы, уперлись выгнутыми ногами в землю, потом рванули с места; повозка тронулась, доски затрещали, плохо смазанные колеса заскрипели, и свод портала гулко отозвался на тяжелый стук копыт. Замок опустел.
Во время приготовлений к отъезду Вельзевул и Миро, понимая, что происходит нечто необычное, с растерянным и озабоченным видом бегали взад-вперед и своим смутным звериным разумением старались понять, откуда в этом пустынном месте взялось столько людей. Пес бестолково метался между Пьером и хозяином, вопрошая их своими синеватыми глазами и рыча на незнакомых. Кот — существо более рассудительное — с любопытством поводя носом, обнюхивал колесо за колесом, озадаченный размерами волов, разглядывал их на почтительном расстоянии и отскакивал назад, когда те невзначай шевелили рогами. Затем он уселся на задние лапки напротив старой белой лошади, с которой у них было полное взаимное понимание, и, казалось, старался дознаться от нее правды; дряхлая кляча наклонила голову к коту, который задрал к ней мордочку, и, перетирая серыми, поросшими длинной щетиной губами остатки корма, застрявшие у нее между шатких старых зубов, будто в самом деле отвечала другу из кошачьего племени. Что она говорила ему? Один лишь Демокрит, утверждавший, что разумеет язык животных, мог бы понять ее; как бы ни было, но после этой безмолвной беседы, которую он подмигиваниями и мяуканьем не преминул передать Миро, сам кот, очевидно, уразумел смысл происходящей кутерьмы. Когда барон сел в седло и подобрал поводья. Миро занял место справа, а Вельзевул слева от лошади, и барон де Сигоньяк отбыл из замка своих предков под эскортом пса и кота. Очевидно, осторожный Вельзевул отважился на такой смелый, несвойственный кошачьей породе поступок лишь потому, что угадал, сколь важное решение принято его господином.
В минуту прощания с этой грустной обителью Сигоньяк почувствовал, какой болью сжалось его сердце. Последний раз окинул он взглядом черные от ветхости и зеленые от мха стены, где ему был знаком каждый камень; и башни с ржавыми флюгерами, которые он долгие часы, изнывая от скуки, созерцал тупым и невидящим взглядом; и окна опустошенных комнат, по которым он бродил, точно привидение в заклятом замке, чуть не пугаясь собственных шагов; и запущенный сад, где жабы прыгали по сырой земле и между кустами ежевики шныряли ужи; и часовня с дырявой крышей, где полуразрушенные арки своими обломками засоряют позеленевшие плиты, под которыми бок о бок покоятся его старик отец и мать, чей пленительный образ сохранился в его памяти как смутный сон, мелькнувший на заре младенческих лет. Вспомнились ему и портреты в галерее, которые коротали с ним одиночество и двадцать лет улыбались ему своей застывшей улыбкой; вспомнился охотник за чирками со шпалер спальни, кровать с витыми колонками, где подушка столько раз увлажнялась его слезами, — все эти предметы, ветхие, убогие, унылые, неприветные, пыльные, сонные, внушавшие ему только отвращение и скуку, теперь вдруг обрели обаяние, которого раньше он не ощущал. Он упрекал себя в неблагодарности к жалкому, древнему, полуразвалившемуся дому, который укрывал его, как мог, и при всей своей дряхлости силился устоять, чтобы не задавить его своими руинами, как восьмидесятилетний слуга держится на трясущихся ногах, пока хозяин еще тут; в памяти всплывали мгновения горьких радостей, печальных услад, улыбчивой грусти; привычка, эта неторопливая и бледная спутница жизни, сидя на знакомом пороге, глядела на него глазами скорбной ласки и проникновенно, тихим голосом напевала песенку раннего детства, песенку кормилицы; и, покидая портал, он словно ощутил, как незримая рука схватила его за плащ и потянула назад.
Когда он выехал из ворот впереди повозки, порыв ветра принес свежий запах вереска, омытого дождем, нежный и волнующий аромат родной земли; вдали звонил колокол, и серебряные переливы доносились на крыльях того же ветерка вместе с благоуханием ланд. Это было слишком, и Сигоньяк, охваченный щемящей тоской по родному дому, хотя и находился всего в нескольких шагах от него, дернул повод, и старая кляча тут же послушно повернула вспять, проявив, казалось бы, недоступную для ее возраста живость; Миро и Вельзевул, как по команде, подняли головы, словно угадывая чувства хозяина, остановились и обратили к нему вопрошающий взгляд. Но минута колебания привела к результату, обратному тому, какой можно было ожидать, ибо, оглянувшись, Сигоньяк встретился глазами с Изабеллой, и взор девушки был исполнен такой томной нежности и явственной мольбы, что барон наш покраснел, побледнел и начисто позабыл и ветхие стены замка, и аромат вереска, и переливы колокола, хотя скорбно-призывный звон его ни на секунду не умолкал; натянув поводья и сжав бока лошади, Сигоньяк помчался вперед. Борьба была окончена: Изабелла победила.
Повозка направилась в сторону дороги, о которой была речь на первой странице этой книги, изгоняя перепуганных лягушек из выбоин, полных воды. Когда она выехала на дорогу и волам стало легче тащить по утоптанной почве тяжелую колымагу, в которую они были впряжены, Сигоньяк из авангарда перебрался в арьергард, не желая проявлять чересчур откровенное внимание к Изабелле, а, возможно, также ища уединения, чтобы всецело отдаться думам, тревожившим его душу.
Островерхие башни замка Сигоньяк наполовину скрылись уже за купами деревьев; барон поднялся на стременах, чтобы увидеть их еще раз, и, опустив взгляд, заметил Миро и Вельзевула и прочел на их жалостных физиономиях всю ту боль, какую только способно выразить животное. Воспользовавшись задержкой, вызванной созерцанием башен, Миро напряг свои дряблые старческие мышцы, чтобы подпрыгнуть как можно выше и в последний раз лизнуть лицо хозяина. Сигоньяк понял намерения бедного пса, подхватил его на уровне стремени за обвисшую кожу загривка, поднял на седло и поцеловал в черный шершавый нос, не уклоняясь от влажной ласки животного, в знак благодарности облизавшего ему усы. Тем временем более проворный Вельзевул при помощи своих цепких когтей взобрался с другой стороны по сапогам и ляжкам Сигоньяка, высунул у самой руки свою черную мордочку и, вращая большими желтыми глазами, оглушительным мяуканьем тоже молил о последнем привете. Молодой барон несколько раз провел рукой по безухой голове кота, а тот тянулся и выгибался, чтобы лучше ощутить дружеское почесывание. Мы побоимся вызвать насмешку над нашим героем, сказав, что смиренные проявления преданности этих двух тварей, лишенных души, но не чувства, несказанно умилили его, и две слезы, поднявшиеся с рыданием из глубины сердца, упали на головы Миро и Вельзевула и нарекли их друзьями хозяина в человеческом смысле этого слова.
Оба животных некоторое время смотрели вслед Сигоньяку, который пустил лошадь рысью, чтобы нагнать повозку, а когда он исчез из виду за поворотом дороги, в братском согласии отправились обратно, к замку.
Ночная гроза не оставила на песчаной почве ланд тех следов, какие оставляют проливные дожди на менее сухих землях; природа только освежилась и заблестела своеобразной суровой красотой. Лиловые цветочки вереска, омытые небесной влагой, устилали склоны холмов; заново зазеленевший дрок кивал золотыми цветами; водяные растения раскинулись по вновь напитавшимся влагой болотам; сосны и те менее мрачно покачивали темными ветвями и распространяли запах смолы; голубоватые столбики дыма подымались тут и там из купы каштанов, выдавая крестьянское жилье, а в извивах долины, расстилавшейся без конца и без края, светлыми пятнами мелькали овцы под охраной пастуха, дремавшего на ходулях. На краю горизонта, точно архипелаг белых облаков, оттененных лазурью, выступали далекие вершины Пиренеев, полустертые легким туманом осеннего утра.
Кое-где дорога пролегала между двумя кручами, размытые склоны которых белели измельченным в порошок песчаником, а на гребнях буйными космами вились заросли кустов, и переплетенные побеги хлестали по холщовому верху повозки. Местами почва была такой рыхлой, что ее пришлось укрепить стволами елей, брошенных поперек дороги, отчего повозку порядком потряхивало, и дамы взвизгивали от страха. А иногда случалось проезжать по шатким мостикам через лужи и ручейки, попадавшиеся на пути. Во всех опасных местах Сигоньяк помогал сойти с повозки Изабелле, более робкой или менее ленивой, чем Серафина и Дуэнья. Тиран и Блазиус, видавшие всякие виды, безмятежно спали, как их ни швыряло между баулами. Матамор маршировал рядом с повозкой, чтобы с помощью моциона сохранить свою неправдоподобную худобу, о которой он постоянно радел; и, видя издалека, как он подымает свои длиннющие ноги, его всякий бы принял за паука-сенокосца посреди хлебного поля. Он делал такие огромные шаги, что поминутно вынужден был останавливаться и дожидаться остальных актеров; приучившись по своим ролям лихо выступать боком и расставлять ноги циркулем, он и в жизни изображал на ходу геометрическую фигуру.
Запряженные волами повозки катятся не спеша, особливо в ландах, где песок порой доходит до ступицы, а дороги отличаются от прочей земли лишь колеями в два-три фута глубиной; и хотя терпеливые животные, пригнув жилистые выи, отважно продвигались вперед, подстрекаемые болидом погонщика, солнце стояло уже высоко, а путешественники проехали всего две мили, правда, местных мили, долгих, как день без дела, и подобных тем милям, коими спустя две недели услад отметили свои любовные доблести те четы, что были отряжены Пантагрюэлем ставить придорожные камни{38} в его прекрасном королевстве Мирбале.
Крестьяне, пересекавшие дорогу кто с охапкой травы, кто с вязанкой хвороста, попадались все реже, и ланды раскинулись теперь в своей пустынной наготе, столь же дикой, как испанские деспобладос или американские пампасы.
Сочтя бесцельным утомлять и далее своего жалкого дряхлого скакуна, Сигоньяк спрыгнул на землю и бросил поводья слуге, на бронзовом лице которого сквозь многолетний загар проступила бледность, вызванная душевным волнением. Настала минута прощанья хозяина и слуги, минута тягостная потому, что Пьер знал Сигоньяка со дня его рождения и был ему скорее смиренным другом, нежели прислужником.
— Да хранит господь вашу милость, — произнес Пьер, склоняясь над протянутой рукой барона, — и да поможет он вам возвратить благосостояние Сигоньяков. Как жаль, что мне не дозволено сопровождать вас.
— Куда бы я девался с тобой, мой бедный Пьер, в той неведомой жизни, в какую вступаю отныне? На столь скудные средства вряд ли возможно прокормиться нам двоим. В замке ты уж кое-как проживешь: наши прежние арендаторы не дадут умереть с голоду верному слуге их господина. Кроме того, не следует бросать замок Сигоньяк на произвол судьбы, чтобы им завладели стервятники и гады, как развалинами, где царит смерть и бродят привидения; душа этого старинного обиталища еще жива во мне, и доколе жив я, у порога его должен стоять страж, который не позволит озорникам камнями метить из пращей в его герб.
Пьер склонил голову в знак согласия, ибо, как все старые преданные слуги знатных семей, он благоговел перед жилищем своих господ, и замок Сигоньяк, несмотря на все трещины, изъяны, на убожество, по-прежнему казался ему великолепнейшим дворцом в мире.
— А затем, кто бы стал заботиться о Баярде, о Миро и Вельзевуле? — с улыбкой добавил барон.
— Ваша правда, господин барон, — согласился Пьер, беря поводья Баярда, которого Сигоньяк похлопал по шее в знак прощальной ласки.
Разлучаясь с хозяином, старый конь несколько раз принимался ржать, и долго еще до Сигоньяка доносился приглушенный расстоянием любовный зов признательного животного.
Оставшись один, Сигоньяк испытал чувство людей, которые пускаются в дальнее плаванье и прощаются с друзьями, остающимися на берегу. Это, пожалуй, самые горькие минуты для отъезжающего. Мир, в котором он жил, удаляется от него, и душе его настолько одиноко и тоскливо, а глазам настолько не терпится увидеть человеческое лицо, что он спешит присоединиться к попутчикам, — потому-то молодой барон ускорил шаг, торопясь догнать повозку, которая продвигалась с трудом; песок скрипел под ее колесами, подобно лемехам плуга, врезавшим в землю глубокие борозды.
Увидев Сигоньяка, идущего рядом с повозкой, Изабелла стала жаловаться, что ей неудобно сидеть, и пожелала сойти, по ее словам, размять ноги, на деле же с благим намерением веселой болтовней отвлечь молодого барона от грустных дум.
Словно туча, пронизанная солнечным лучом, рассеялась печаль, омрачавшая лицо Сигоньяка, когда девушка оперлась о его руку, чтобы пройтись с ним по дороге, довольно гладкой в этом месте.
Так они шли друг подле друга. Молодая актриса читала Сигоньяку не очень складные, по ее мнению, стихи из одной своей роли, которые просила его исправить, как вдруг слева в чаще кустов зазвучал рог, захрустел под копытами коней сухостой, ветви раздвинулись, — на дороге появилась юная Иоланта де Фуа во всем великолепии Дианы Охотницы. От быстрого галопа ярче разрумянились ее щеки, розовые ноздри трепетали, а грудь высоко вздымалась над расшитым золотом бархатным корсажем. Разорванная в нескольких местах длинная юбка наездницы и царапины на боках лошади показывали, что неустрашимая амазонка не боится ни чащи, ни зарослей; хотя пыл породистого животного не нуждался в поощрении, а жилы на его шее, белой от пены, налились благородной кровью, Иоланта подстегивала его кончиком хлыста с аметистовым набалдашником, на котором был выгравирован ее герб, вынуждая коня проделывать скачки и курбеты, к вящему восторгу трех-четырех разряженных всадников, рукоплескавших грациозной отваге новой Брадаманты{39}.
Вскоре Иоланта, наскучив мнимой борьбой, опустила поводья и проскакала мимо Сигоньяка, бросив на него взгляд, исполненный презрения и высокомерной дерзости.
— Посмотрите-ка на барона де Сигоньяка, — крикнула она троим щеголям, скакавшим за ней следом, — он сделался рыцарем странствующей комедиантки!
Кавалькада с хохотом умчалась прочь, подняв за собой облако пыли. Сигоньяк в порыве гнева и стыда схватился за рукоять шпаги; но бежать пешему за всадниками было бы безумием, да и не мог же он вызвать на дуэль Иоланту. Томная покорность во взоре актрисы вскоре заставила его забыть надменный взгляд аристократки.
День прошел без каких-либо новых приключений, и к четырем часам повозка добралась к месту обеда и ночлега.
Печален был этот вечер в замке Сигоньяк; лица на портретах глядели сумрачней и сварливей обычного, что, казалось бы, даже невозможно. Шаги на лестнице особенно гулко раздавались в пустоте, комнаты как будто стали больше и оголеннее. Ветер зловеще завывал по коридорам, а пауки в тревоге и недоумении спускались на паутине с потолка. Трещины в стенах раздвинулись шире, словно челюсти, растянутые зевотой; старый обветшалый дом будто понял, что молодой хозяин покинул его, и опечалился.
Сидя под навесом очага, Пьер при дымном свете смоляного факела делил свой скудный ужин с Миро и Вельзевулом, а на конюшне Баярд лязгал цепью и тыкался носом в кормушку.
III ХАРЧЕВНЯ «ГОЛУБОЕ СОЛНЦЕ»
То место, где усталые волы остановились сами по себе, с довольным видом отряхивая влажные морды от волокон пены, представляло собой скопище убогих шалашей, которое в другом, менее безлюдном краю вряд ли заслужило бы название деревни.
Деревушка состояла из пяти-шести лачуг, разбросанных среди деревьев, которые довольно пышно разрослись здесь, на клочке плодородной земли, удобренной навозом и отбросами всякого рода. Построенные из глины пополам со щебнем, укрепленные обтесанными бревнами и обломками досок, увенчанные высокими кровлями из обомшелой соломы, доходившими чуть не до земли, окруженные навесами, где валялись исковерканные и облепленные грязью земледельческие орудия, — домики эти скорее пригодны были для нечистых животных, нежели для созданий, сотворенных по образу и подобию божию; и в самом деле, черные свиньи не гнушались разделять эти жилища со своими хозяевами, что доказывало отсутствие брезгливости у прирученных кабанов.
На крылечках топтались ребятишки с большими животами, хилыми ножками и болезненным цветом лица, одетые в рваные рубашки, чересчур короткие спереди или сзади, или попросту в распашонки, затянутые веревкой; в невинности своей они ничуть не смущались этой наготой, словно обитали в земном раю; глаза их блестели любопытством сквозь космы нечесаных волос, как фосфорические зрачки ночных птиц — сквозь чащу ветвей. Видно было, что страх борется в них с соблазном, — им хотелось убежать и спрятаться за любой изгородью, но повозка и ее содержимое словно волшебными чарами приковали их к месту.
Немного отступя, на пороге своей хибарки тощая бледная женщина с обведенными чернотой глазами качала на руках голодного младенца. Успевший загореть ребенок мял пальцами чахлую материнскую грудь, которая была чуть белее остального тела и свидетельствовала о молодости этого задавленного нищетой создания. Женщина мрачным и тупым взглядом уставилась в комедиантов, должно быть, плохо отдавая себе отчет в том, что видит. Старуха бабушка, сморщенная и сгорбленная больше Гекубы, супруги Приама, царя Илиона, примостилась на корточках возле дочери и задумалась, опершись подбородком о колени и обхватив костлявые ноги руками, в позе древнеегипетского идола. Похожие на игральные кости суставы пальцев, сплетения набрякших вен, сухожилия, натянутые, как струны гитары, уподобляли выдубленные временем старушечьи руки анатомическому препарату, давным-давно забытому в шкафу рассеянным хирургом. От кистей до плеч руки эти превратились в палки, на которых болталась пергаментная кожа, собиравшаяся на сгибах поперечными складками, точно глубокими зарубками. Пучки длинной щетины торчали на подбородке; уши поросли седым мхом; брови, точно ползучие растения над входом в пещеру, нависали над глазными впадинами, где тусклые зрачки выглядывали из-под шелушившихся век. Десны совсем поглотили рот, и место его можно было определить лишь по звездообразной впадине, куда сбегались лучи морщин.
При виде этого столетнего пугала шедший пешком Педант воскликнул:
— Что за чудовищная, зловещая и мерзостная старуха! Сами парки покажутся бутончиками рядом с ней. Такую заплесневелую, ветхую рухлядь не омолодить никакой живой водой. Это воистину мать Вечности. Время успело поседеть с тех пор, как она родилась, если она вообще когда-нибудь появилась на божий свет, ибо он, несомненно, был сотворен после ее рождения. Почему не довелось ее увидеть досточтимому Алькофрибасу Назье до того, как он создал панзуйскую сивиллу{40} или старуху с лисьим хвостом, которую потрепал лев? Тогда бы он узрел, каким количеством морщин, изъянов, борозд, рытвин и ям может обладать человеческая развалина, и превосходнейшим образом живописал бы ее. Эта карга, без сомнения, была хороша собой в пору юности, ибо самые отменные старые уродины получаются из отменнейших молодых красоток. Вот урок для вас, сударыни, — продолжал Блазиус, обращаясь к Изабелле и Серафине, которые подошли его послушать. — Ведь достаточно шестидесяти зимам пронестись над вашими веснами, и вы обратитесь в противных старых ведьм, подобных этой мумии, вылезшей из гроба. Как подумаю об этом, меня прямо тоска берет и мне становится мила моя гнусная рожа, из которой никогда не получится трагической маски, а, наоборот, с годами лишь ярче проявится комическая сторона ее безобразия.
Молодые женщины не любят, когда им представляют даже в туманном будущем картину старости и уродства, что одно и то же. Поэтому обе актрисы, презрительно пожав плечами, отвернулись от Педанта, будто им прискучила эта глупая болтовня, и поспешили к повозке, с которой сгружалась поклажа, сделав вид, что беспокоятся, сохранны ли их баулы; отвечать Педанту было излишне. Не пощадив собственного уродства, Блазиус заранее пресек всякие возражения. Он часто прибегал к такому маневру, чтобы язвить безнаказанно.
Верные безошибочному инстинкту животных, не забывающих того места, где им давали поесть и передохнуть, волы остановились перед самым отменным домом в деревне. Он весьма самоуверенно выдвинулся на край дороги, куда не решались приблизиться другие хибарки, стыдясь своего убожества и прикрывая наготу пучками зелени, точно незадачливые девушки-дурнушки, застигнутые врасплох во время купания. Сознавая свое превосходство над другими местными домами, харчевня явно старалась привлечь к себе взгляды и, точно руки, протягивала вывеску поперек дороги, с намерением остановить «конных и пеших».
Вывеска эта, под прямым углом прикрепленная к фасаду с помощью железного крюка, на котором в случае надобности можно было повесить человека, представляла собой ржавый жестяной лист, скрипевший на своей рейке при каждом порыве ветра.
Проезжий маляр изобразил на ней дневное светило, но не в виде златокудрого золотого лика, а в виде голубого диска с голубыми же лучами, наподобие тех «солнечных теней», которыми по прихоти геральдики бывает усеяно поле герба. Что побудило избрать голубое солнце эмблемой этого постоялого двора? На большой дороге встречается столько «Золотых солнц», что их трудно отличить одно от другого, и некоторая доля своеобразия не бесполезна для вывески, — но не таково было истинное, хоть и вполне резонное, побуждение живописца. У него не осталось никакой другой краски, кроме синей, и, чтобы пополнить свои запасы, ему пришлось бы ехать в ближайший большой город. Поэтому он отстаивал преимущество ультрамарина перед другими колерами и на вывесках разных харчевен малевал небесной лазурью голубых львов, голубых коней и голубых петухов, за что его, несомненно, одобрили бы китайцы, тем больше почитающие художника, чем дальше он от природы.
Харчевня «Голубое солнце» была крыта черепицей, местами потемневшей, а местами еще ярко-красной, что говорило о недавнем ремонте и о том, что в комнатах, по крайней мере, не течет с потолка.
Обращенная к дороге стена была замазана штукатуркой, которая скрывала щели и повреждения и придавала дому вполне опрятный вид. Перекрещенные брусья фахверка, по обычаю басков, были окрашены в красный цвет. Другие стены, лишенные этой роскоши, сохранили естественный землистый оттенок глины. Будучи менее темным или более состоятельным, нежели другие обитатели деревни, хозяин постоялого двора пошел навстречу изысканным вкусам просвещенного мира. Окно в парадной комнате было застеклено, — большая редкость по тем временам и для тех краев; другие оконные рамы были затянуты рединкой или промасленной бумагой или же закрывались ставнями, окрашенными в тот же красный цвет, что и балки фасада.
Примыкавший к дому сарай мог вместить порядочное количество возков и лошадей. Густые пучки сена торчали между перекладинами ясель, как между зубьями гигантского гребня, а длинные корыта, выдолбленные в старых еловых стволах и укрепленные кольями, были наполнены наименее зловонной водой, какую только можно вычерпать из окрестных болот.
Таким образом, у дядюшки Чирригири были все основания утверждать, что на десять миль в окружности и не найдется второй харчевни с такими удобными комнатами, с такими запасами снеди и живности, с таким жарким очагом и мягкими постелями, с таким нарядным убранством и обилием посуды, как в «Голубом солнце»; в этом он не обманывался сам и не обманывал других, потому что ближайший постоялый двор был по меньшей мере на расстоянии двух дней ходьбы.
Барон де Сигоньяк не мог пересилить себя — он стыдился показываться в компании бродячих комедиантов и потому медлил переступить порог харчевни, между тем как Блазиус, Тиран, Матамор и Леандр из почтения пропускали его вперед. Тогда Изабелла, угадав естественное смущение барона, приблизилась к нему с решительной и слегка обиженной миной:
— Фи, господин барон, вы относитесь к женщинам с большей опаской и холодностью, чем Иосиф Прекрасный и Ипполит{41}! Не угодно ли вам подать мне руку и ввести меня в эту гостиницу?
Сигоньяк, поклонившись, поспешил исполнить желание Изабеллы, которая кончиками тонких пальцев оперлась о потертую манжету барона, легким пожатием приободрив его. Эта поддержка вернула ему мужество, и он вступил в харчевню с победоносно-торжествующим видом — пусть хоть весь мир на него смотрит. В нашем благодатном Французском королевстве тот, кто сопровождает красивую женщину, может вызвать лишь зависть, но никак не смех.
Чирригири вышел навстречу путешественникам и с высокопарным красноречием, в котором чувствовалась близость Испании, предоставил свое жилище в их распоряжение. Могучая грудь его выпирала из кожаной матросской куртки, стянутой на бедрах широким поясом с медной пряжкой; однако передник, подоткнутый с одного конца, и кухонный нож, всунутый в деревянный футляр, — атрибуты услужливого повара, — смягчали устрашающий облик контрабандиста, а добродушная улыбка уравновешивала тревожное впечатление от глубокого шрама, который, пересекая лоб, терялся в щетке густых волос. Снимая берет и отвешивая поклон, Чирригири невольно открывал для обозрения этот багровый шрам и сморщенную по его краям кожу, которая не могла полностью затянуться над зияющей раной. Надо было обладать недюжинным здоровьем, чтобы душа не отлетела через такую брешь; Чирригири и был здоровенный малый, а душа его, конечно, не торопилась узнать, что ей уготовано на том свете. Недоверчивые и трусливые путешественники, возможно, сочли бы ремесло трактирщика чересчур миролюбивым для молодца с таким обличием; но, как мы уже сказали, харчевня «Голубое солнце» была единственным сносным пристанищем посреди этой пустыни.
Горница, в которую вошли Сигоньяк и актеры, была не столь великолепна, как расписывал Чирригири: пол в ней был земляной, а возвышение посреди представляло собой сложенный из больших камней очаг. Дыра, проделанная в потолке и загороженная решеткой, с которой свешивался на цепи крюк для котелка, заменяла колпак и дымовую трубу, так что верх комнаты был наполовину скрыт клубами дыма, медленно поднимавшимися к отверстию, если только ветер не гнал их назад. Дым оседал на кровельных балках тонким слоем копоти, какую видишь на старинных картинах, что создавало резкий контраст со свежей штукатуркой наружных стен.
С трех сторон очага, оставляя с четвертой свободный доступ повару к котелку, стояли деревянные скамьи, которые при помощи черенков и кирпича держались в равновесии на кочках пола, бугристого, как шкурка гигантского апельсина. Тут и там были раскиданы стулья, состоявшие из трех колышков, вделанных в дощечку, причем один из них протыкал ее насквозь и поддерживал поперечинку, которая, на худой конец, могла служить спинкой людям неизбалованным, меж тем как сибарит счел бы ее орудием пытки. Некое подобие ларя занимало один из углов, дополняя меблировку, в которой грубость материала соперничала с топорностью работы. Еловые лучины, насажденные на железки, освещали все это красноватым пламенем, и чад от него где-то сверху соединялся с дымными облаками от очага. Кровавые блики вспыхивали в темноте на кастрюлях, висевших по стенам наподобие щитов по бортам триремы{42}, если только сравнение это не слишком возвышенно для предметов подобного рода. Полупустой бурдюк распластался на полке, опавший, мертвый, как обезглавленное тело. С потолка на железном крюке зловеще свисал длинный кусок сала, в клубах печного дыма приобретавший устрашающее сходство с висельником.
Вопреки бахвальству хозяина, у этого вертепа был весьма мрачный вид, и одинокому путнику, даже в меру боязливому, могли бы прийти на ум весьма неприятные мысли, вплоть до опасения, что в обычное меню трактира входит паштет из человечьего мяса, изготовленный за счет беззащитных постояльцев, но труппа комедиантов была слишком многочисленна для того, чтобы подобные страхи могли овладеть славными лицедеями, приученными за свою кочевую жизнь к самым необычным жилищам. Когда актеры вошли, на краю одной из скамей дремала девочка лет восьми или девяти, — по крайней мере, на вид этому чахлому заморышу нельзя было дать больше. Девочка сидела, опершись на спинку скамьи и опустив голову на грудь, так что спутанные пряди длинных волос закрывали ей лицо. Жилы на ее худенькой шейке, похожей на шею общипанной птицы, казалось, напряглись от тяжести косматой головы. Руки бессильно висели по бокам туловища ладонями наружу, а перекрещенные ноги болтались, не доставая до земли. Эти тонкие, как веретенца, ноги под влиянием стужи, солнца и непогоды приняли кирпичную окраску. Бессчетные царапины, иные зажившие, другие свежие, служили наглядным доказательством постоянных путешествий сквозь заросли и чащобы. На этих ногах, изящных и маленьких от природы, были сапожки из пыли и грязи, другой же обуви они, по-видимому, не знали.
Несложный наряд девочки состоял из двух предметов: рубахи такого толстого холста, какой не годится даже для парусов, и желтого безрукавного балахона, скроенного когда-то на арагонский лад из наименее потертого полотнища материнской бумазейной юбки. Вышитая разноцветными шерстями птичка, обычное украшение таких юбок, попала сюда, вероятно, потому, что шерстяные нити лучше скрепляли прохудившуюся ткань, и производила здесь странное впечатление. Птичий клюв приходился у талии девочки, лапы — у самой кромки, а тельце, смятое и исковерканное складками, принимало причудливые формы летающих химер в бестиариях или на старинных византийских мозаиках.
Изабелла, Серафина и Субретка сели рядом с девочкой, и всех их в совокупности еле хватило на то, чтобы уравновесить тяжесть Дуэньи, занявшей противоположный конец скамьи. Мужчины расположились на других скамейках, почтительно оставляя некоторое расстояние между собой и бароном.
Несколько охапок хвороста оживили огонь в очаге, и треск сухих веток, извивавшихся в пламени, поднял дух путников, утомленных от целого дня пути и бессознательно ощущавших влияние болотной лихорадки, которая распространена в этой местности, окруженной застойными водами, потому что непроницаемая почва не способна их впитать.
Чирригири учтиво приблизился к гостям, придав своей отталкивающей физиономии по возможности приветливый вид.
— Чем прикажете попотчевать ваши милости? В моем дому обычно имеется все, чем можно угодить знатным господам. Какая жалость, что вы не приехали хотя бы вчера! У мня была приготовлена кабанья голова с фисташками, так сдобренная пряностями, столь приятная на запах и на вкус, что от нее, увы, не осталось даже чем заткнуть дырку в зубе!
— Это в самом деле весьма прискорбно, — заметил Педант, сладостно облизываясь от одного представления о таком деликатесе, — кабанья голова с фисташками — мое любимейшее яство. Вот чем я охотно испортил бы себе желудок!
— А что бы вы сказали о паштете из дичи, который поели остановившиеся у меня сегодня утром господа, беспощадно истребив все сооружение до последней корочки?
— Я сказал бы, дядюшка Чирригири, что то была превосходная еда, и я воздал бы должное несравненному мастерству повара; но зачем с такой жестокостью разжигать наш аппетит миражем блюд, чем-то запиваемых в данный миг, ибо вы не пожалели ни перца, ни гвоздики, ни мускатного ореха, ни других возбудителей жажды. Взамен этих кушаний, приказавших долго жить кушаний, чей отменный вкус не подлежит сомнению, но не может подкрепить нас, назовите нам лучше дежурные блюда, ибо прошедшее время вызывает одну лишь досаду, когда дело касается кухни, и голодному желудку всего милее за столом изъявительное в настоящем времени. К черту прошедшее, в нем отчаяние и пост! Будущее же, по крайней мере, позволяет желудку предаваться сладостным мечтам. Пожалейте же горемык, усталых и голодных, как охотничьи псы, и не терзайте нас рассказами о былых лакомствах!
— Вы правы, почтеннейший, воспоминанием сыт не будешь, — подтвердил Чирригири, — я только не могу не посетовать, что так неосмотрительно растратил все запасы. Вчера еще кладовая ломилась у меня от снеди, а я не далее как два часа тому назад имел неосторожность отправить в замок шесть горшочков паштета из утиных печенок. И какие то были печенки — великолепные, грандиозные, поистине лакомые кусочки!
— Ох, какой брачный пир у Гамаша или в Кане Галилейской{43} можно было справить с теми блюдами, что уничтожены у вас дотла более удачливыми постояльцами! Но перестаньте нас томить; описав нам все, чего у вас нет, скажите без лишних слов, что же у вас есть.
— И то правда. У меня есть похлебка с гусиными потрохами и капустой, есть ветчина и вяленая треска, — признался трактирщик, изображая смущение, точно застигнутая врасплох хорошая хозяйка, муж которой привел к обеду троих или четверых гостей.
— Отлично! — хором закричали проголодавшиеся актеры. — Давайте нам треску, ветчину и похлебку.
— Зато какова, я вам скажу, похлебка! — взбодрившись, раскатистым басом подхватил трактирщик. — Греночки поджарены на чистейшем гусином жиру, цветная капуста на вкус амброзия, в Милане не сыщешь лучшей, на заправку пошло сало белее снега на вершине Маладетты; не похлебка, а пища богов!
— У меня уже слюнки потекли! Подавайте скорее, не то я сдохну с голоду! — возопил Тиран с видом людоеда, почуявшего свежее мясо.
— Сагаррига, скорей накрывай на стол в большой комнате! — крикнул Чирригири слуге, вероятно, воображаемому, так как тот не подал ни малейших признаков жизни, несмотря на столь настойчивый призыв хозяина.
— Я уверен, что и ветчина придется по вкусу вашим милостям, она может соперничать с лучшими ла-маншскими и байоннскими окороками. Она уварена в каменной соли, и как же аппетитно мясо, прослоенное розовым жиром!
— Мы свято верим вам, — перебил Педант, теряя терпение, — но поживее подавайте эту ветчинную диковину, иначе здесь разыграются сцены людоедства, как на потерпевших крушение галионах и каравеллах. А мы не совершали ни одного преступления в духе небезызвестного Тантала и не за что нас мучить видимостью неуловимых кушаний.
— Вы говорите сущую истину, — невозмутимо ответствовал Чирригири. — Эй, вы там, кухонная братия! Пошевеливайтесь, поворачивайтесь, поспешайте! Наши благородные гости проголодались и не желают ждать!
Кухонная братия не откликнулась так же, как и вышеназванный Сагаррига, по той веской, если и не уважительной причине, что она ни в данное время, ни вообще не существовала. Единственной служанкой в харчевне была высокая, тощая и растрепанная девушка по имени Мионетта, но воображаемая дворня, которую беспрестанно призывал Чирригири, по его мнению, придавала харчевне внушительность, оживляла, населяла ее и оправдывала высокую плату за еду и ночлег. Хозяин «Голубого солнца» так привык выкликать по имени своих химерических слуг, что и сам уверовал в их существование и чуть что не удивлялся, почему они не требуют жалованья, впрочем, он мог быть только признателен им за такую деликатность.
Угадывая по вялому стуку посуды в соседней комнате, что ужин еще не готов, и желая выиграть время, трактирщик занялся восхвалением трески, — тема довольно скудная и требовавшая незаурядного красноречия. К счастью, Чирригири научился приправлять пресные блюда пряностью своих речей.
— Вашим милостям треска, конечно, представляется грубой пищей, и в этом есть доля правды; однако треска треске рознь. Моя треска была выловлена у самых отмелей Новой Земли самым отважным рыбаком Гасконского залива. Эта треска отборная, белая, отменного вкуса и совсем не жесткая; если ее пожарить в прованском масле, она будет куда лучше лососины, тунца и меча-рыбы. Наш святой отец папа римский — да отпустит он нам грехи наши — другой и не употребляет постом; кушает он ее также по пятницам и по субботам и в другие постные дни, когда ему уж очень приедятся чирки да турпаны. Пьер Леторба, мой поставщик, снабжает также и его святейшество. Папской треской, черт побери, пренебрегать негоже, и вы, ваши милости, не побрезгуете ею, на то вы и добрые католики.
— Никто из нас и не ратует за скоромную убоину, и мы почтем за честь наесться папской треской; только какого дьявола эта сказочная рыба медлит спрыгнуть со сковороды в тарелку — ведь мы, того и гляди, превратимся в дым, как призраки и лемуры на утренней заре, едва запоет петух.
— Есть жаркое раньше супа никак не пристало; с гастрономической точки зрения это все равно что впрягать повозку впереди волов, — с величайшим презрением объявил Чирригири, — воспитание удержит ваши милости от такого неприличия. Потерпите! Похлебка должна еще вскипеть разок-другой.
— Клянусь рогами дьявола и папским пупом, согласен на самую спартанскую похлебку, лишь бы ее подали немедленно! — взревел Тиран.
Барон де Сигоньяк ничего не говорил и не выражал ни малейшего нетерпения, — ведь он ужинал накануне! Постоянно недоедая в своей цитадели голода, он понаторел в монашеском воздержании, и столь частое потребление пищи было внове его желудку. Изабелла и Серафина тоже не жаловались, ибо прожорливость не к лицу молодым дамам, которым полагается, точно пчелкам, насыщаться росой и цветочной пыльцой. Пекущийся о своей худобе Матамор, казалось, был в восторге от того, что ему удалось затянуть кушак на следующую дырку, где вдобавок свободно гулял язычок пряжки. Леандр зевал, щеголяя зубами. Дуэнья задремала, и три складки дряблой кожи выпятились валиками из-под ее склоненного подбородка.
Девочка, спавшая на другом конце скамьи, проснулась и вскочила. Она откинула с лица черные как смоль волосы, которые словно слиняли ей на лоб, настолько он был смугл. Но сквозь загар проглядывала восковая бледность, тусклая, закоренелая бледность. Ни кровинки на щеках с выступающими скулами. Кожа растрескалась мелкими чешуйками на синеватых губах, в болезненной улыбке открывавших перламутровую белизну зубов. Вся ее жизнь как будто сосредоточилась в глазах.
Они казались огромными на худеньком личике, а чернота, ореолом окружавшая их, подчеркивала лихорадочно-таинственный блеск этих глаз. Белки же казались почти голубыми, так выделялись на них темные зрачки и так оттеняли их два ряда густых длинных ресниц. В данный миг эти удивительные глаза, прикованные к украшениям Изабеллы и Серафины, выражали детский восторг и кровожадную алчность. Маленькая дикарка, конечно, не подозревала, что эти мишурные драгоценности не имеют никакой цены. Сверкание золотого галуна, переливы поддельного венецианского жемчуга ослепили и зачаровали ее. Очевидно, она в жизни своей не видела такого великолепия. Ноздри ее раздувались, легкий румянец выступил на щеках, злобная усмешка искривила бледные губы, и зубы временами стучали дробно, как в ознобе.
По счастью, никто из труппы не обратил внимания на жалкий комок тряпья, сотрясаемый нервной дрожью, ибо дикое и жестокое выражение мертвенно-бледного личика могло напугать хоть кого.
Не в силах совладать со своим любопытством, девочка протянула тонкую смуглую и холодную ручку, похожую на обезьянью лапку, и со сладострастным трепетом пощупала платье Изабеллы. Этот потертый, залоснившийся на сгибах бархат казался ей новехоньким, самым богатым, самым пушистым в мире.
Как ни легко было прикосновение, Изабелла обернулась, увидела жест девочки и по-матерински ласково улыбнулась ей. Но та, едва лишь почувствовала на себе посторонний взгляд, мигом придала своему лицу прежнее тупое и сонливо-бессмысленное выражение, показав такое врожденное мимическое мастерство, которое сделало бы честь самой искушенной в своем ремесле актрисе, и при этом протянула тоненьким голоском:
— Совсем как покров богородицы на алтаре.
Затем, опустив ресницы, черная бахрома которых доходила до самых щек, она откинулась на спинку скамьи, сложила руки, сплела большие пальцы и притворилась, будто заснула, сморенная усталостью.
Долговязая растрепанная Мионетта объявила, что ужин готов, и вся компания отправилась в соседнюю комнату.
Актеры отдали должное кушаньям дядюшки Чирригири и, хотя не получили обещанных деликатесов, тем не менее утолили голод, а главное, жажду, подолгу прикладываясь к бурдюку, который совсем почти опал, точно полынка, откуда вышел весь воздух.
Все уже собрались встать из-за стола, как около харчевни послышался лай собак и топот копыт. Затем раздался троекратный властный и нетерпеливый стук, показывавший, что новый гость не привык долго ждать. Мионетта бросилась в сени, отодвинула засов, и, с размаху распахнув дверь, в комнату вошел мужчина, окруженный сворой собак, которые чуть не сбили с ног служанку и принялись прыгать, скакать, вылизывать остатки кушаний с тарелок, мгновенно выполнив работу трех судомоек.
От хозяйской плетки, хлеставшей без разбора правых и виноватых, сумятица, как по волшебству, улеглась; собаки забились под скамьи, тяжело дыша, высунув язык, положив голову на лапы или свернувшись клубком, а приезжий, с уверенностью человека, который везде чувствует себя как дома, вошел, громко звеня шпорами, в ту горницу, где ужинали комедианты. Чирригири, держа берет в руке, семенил за ним с заискивающе-робким видом, хотя был не из боязливых.
Приехавший остановился на пороге, небрежно коснулся рукой края шляпы и равнодушным взором оглядел комедиантов, которые, в свою очередь, отдали ему поклон.
Это был мужчина лет тридцати-тридцати пяти; белокурые волосы, завитые в длинные локоны, обрамляли жизнерадостную физиономию, раскрасневшуюся от ветра и быстрого движения. Глаза у него были ярко-голубые, блестящие и выпуклые, нос слегка вздернутый и приметно раздвоенный на конце. Рыжеватые усики, нафабренные и закрученные кверху в форме запятых, служили дополнением к эспаньолке, напоминавшей листик артишока. Между усиками и бородкой улыбался румяный рот, причем тонкая верхняя губа сглаживала впечатление чувственности, производимое полной, красной, прорезанной поперечными бороздками нижней губой. Подбородок круто загибался вниз, отчего эспаньолка стояла торчком. Когда он бросил шляпу на скамью, обнажился белый гладкий лоб, обычно защищенный от жарких солнечных лучей полями шляпы, из чего явствовало, что у его обладателя до того, как он покинул двор для деревни, был очень нежный цвет лица. В целом весь облик оставлял приятное впечатление: веселость беззаботного гуляки весьма кстати смягчала высокомерие, присущее вельможе. Элегантный костюм вновь прибывшего доказывал, что маркиз — ибо таков был его титул — даже из своей глуши поддерживал связь с лучшими портными и модистками.
Просторный кружевной воротник был откинут на короткий камзол ярко-желтого сукна, расшитый серебряным аграмантом, из-под него на панталоны ниспадала волна тончайшего батиста. Рукава этого камзола, или, вернее, курточки, открывали рубашку до локтя; голубые панталоны, украшенные спереди каскадом лент соломенного цвета, спускались чуть пониже колен до сафьяновых сапог с серебряными шпорами. Голубой плащ, окаймленный серебряным галуном, подхваченный на одном плече бантом, довершал весь наряд, быть может, чересчур франтоватый для данного места и времени года, но нам достаточно двух слов, чтобы оправдать его, — маркиз был приглашен на охоту красавицей Иолантой и для этого случая разоделся в пух и прах, желая поддержать свою давнюю репутацию, недаром он слыл щеголем на Кур-ла-Рен{44}, среди самых изысканных модников.
— Еды моим псам, овса моей лошади, ломоть хлеба с ветчиной мне самому и каких-нибудь объедков моему егерю! — весело крикнул маркиз, садясь с краю стола возле Субретки, которая при виде такого блистательного кавалера встретила его зажигательным взглядом и неотразимой улыбкой.
Чирригири поставил перед маркизом оловянную тарелку и кубок, который Субретка с грацией Гебы{45} наполнила до краев, а маркиз осушил одним духом. Первые минуты были посвящены утолению охотничьего голода, самого свирепого из всех видов голода, по жестокости своей равного тому, что у греков зовется булимией; потом маркиз обвел взглядом стол и заметил сидевшего подле Изабеллы барона де Сигоньяка, которого знал в лицо и только что встретил на дороге, когда вместе с другими охотниками проезжал мимо повозки комедиантов.
Барон что-то нашептывал Изабелле, а она улыбалась ему той томной, еле уловимой улыбкой, которую можно назвать лаской души, выражающей скорее симпатию, нежели веселость, и которой не обманешь человека, привычного к общению с женщинами, а в такого рода опыте у маркиза не было недостатка. Теперь его уже не удивляло присутствие Сигоньяка в бродячей труппе, и презрение, которое внушал ему убогий вид бедняги барона, значительно смягчилось. Намерение следовать за возлюбленной в повозке Феспида, подвергаясь всем комическим и трагическим случайностям кочевой жизни, казалось ему теперь проявлением романтического склада и широтой натуры. Он дал понять Сигоньяку, что узнал его и сочувствует его побуждениям; однако как человек поистине светский не стал открывать инкогнито барона и всецело занялся Субреткой, осыпая ее головокружительными комплиментами, частью искренними, частью шутливыми, на которые она отвечала в тон, заразительно смеясь и пользуясь случаем щегольнуть своими великолепными зубами.
Желая дать ход столь заманчивому приключению, маркиз счел за благо показать себя вдруг страстным любителем и великим знатоком театра. Он посетовал на то, что лишен в деревне удовольствия, которое дает пищу уму, оттачивает речь, учит тонким манерам и совершенствует нравы, и, обращаясь к Тирану, очевидно, главе труппы, спросил его, нет ли у того обязательств, которые помешали бы ему представить несколько лучших пьес своего репертуара в замке Брюйер, где легко соорудить сцену в бальной зале или в оранжерее.
Добродушно ухмыляясь в щетину своей окладистой бороды, Тиран ответил, что это проще простого и что его труппа, лучшая из всех странствующих по провинции, охотно предоставит себя в распоряжение его светлости — «вся целиком, начиная от Короля и кончая Субреткой», — добавил он с деланным простосердечием.
— Вот и отлично, — подхватил маркиз. — А с условиями затруднений не будет, цену назначайте сами; нельзя торговаться с Талией, музой, которую весьма чтит Аполлон и одинаково высоко ставит и при дворе и в столице, а также и в захолустье, где живут не такие уж простаки, как принято думать в Париже.
Сказав это и не преминув многозначительно пожать коленку Субретке, не выказавшей ни капли испуга, маркиз встал из-за стола, надвинул шляпу до бровей, жестом попрощался с актерами и ускакал под дружный лай своей своры; он спешил опередить труппу, чтобы отдать распоряжения к ее приему в замке.
Час был уже поздний, а в путь предстояло тронуться ранними утром, так как замок Брюйер находился на порядочном расстоянии от харчевни, и если берберийский конь в короткий срок может проскакать три-четыре мили по проселочным дорогам, то повозка с тяжелым грузом, запряженная порядком уже усталыми волами, будет куда дольше тащиться по песчаной колее.
Дамы удалились за перегородку в чулан, где на пол набросали сена; мужчины же остались в большой комнате и, как могли, разместились на скамьях и табуретах.
IV ПТИЧЬИ ПУГАЛА
Возвратимся теперь к девочке, которую мы оставили спящей на скамейке, спящей сном чересчур глубоким, чтобы не быть притворным. Ее повадки внушают нам справедливые подозрения, и свирепая алчность, с какой ее дикие глазенки уставились на жемчужное ожерелье Изабеллы, вынуждает нас следить за каждым ее шагом.
И в самом деле, не успела затвориться за актерами дверь, как она медленно подняла тяжелые темные веки, испытующим взглядом осмотрела каждый угол комнаты и, убедившись, что все ушли, соскользнула на пол, выпрямилась, привычным движением отбросила со лба волосы, направилась к двери и бесшумно, точно тень, растворила ее. С великой осторожностью, стараясь, чтобы не щелкнул затвор, закрыла дверь и, неслышным шагом дойдя до края изгороди, обогнула ее.
Теперь, не боясь, что ее увидят из дома, она припустилась бегом, прыгая через канавки с застоявшейся водой, перескакивая через стволы срубленных елей, перемахивая заросли вереска, как лань, спасающаяся от погони. Длинные пряди волос хлестали ее по щекам, точно черные змеи, а временами падали на лоб, заслоняя глаза; тогда она на бегу с нетерпеливой досадой откидывала их ладонью за уши; впрочем, ее проворные ножки не нуждались в помощи зрения, — они вполне освоились с дорогой.
Насколько можно было судить при мертвом свете луны, прикрытой тучей, словно бархатной полумаской, местность была необычайно мрачная и зловещая. Одинокие ели, которым зарубки для добывания смолы сообщали сходство с призраками зарезанных деревьев, выставляли свои кровоточащие раны над краем песчаной дороги, белеющей даже в ночной тьме. За ними в обе стороны простирались темно-фиолетовые поля вереска, где грядой клубился сероватый туман, в лучах ночного светила казавшийся хороводом привидений, что само по себе могло вселить ужас в людей суеверных или мало знакомых с природными особенностями этих диких мест.
Девочка, должно быть привыкшая к фантасмагориям пустынного пейзажа, невозмутимо продолжала свой стремительный путь. Наконец она достигла небольшого холма, увенчанного двадцатью-тридцатью елями, образовавшими нечто вроде леска. С необычайным проворством, без тени усталости, взобралась она вверх по крутому склону на вершину пригорка. Отсюда, с возвышенности, она огляделась вокруг своими зоркими глазами, казалось, пронизывавшими все покровы мрака, но, ничего не увидев, кроме безбрежной пустыни, сунула два пальца в рот и трижды свистнула, — от этого свиста путник, пробирающийся ночью лесами, всегда втайне содрогается, хотя и приписывает его пугливым неясытям или другим столь же безобидным тварям. Если бы не пауза между каждым свистом, его можно было бы принять за гуканье орланов, осоедов и сов, столь совершенно было подражание.
Вскоре поблизости зашевелилась груда листьев, поднялась горбом, встряхнулась, как разбуженный зверь, и перед девочкой медленно выросла человеческая фигура.
— Это ты, Чикита? — сказал проснувшийся. — Что нового? Я уже перестал тебя ждать и вздремнул немного.
Тот, кого разбудил призыв Чикиты, был коренастый малый лет двадцати пяти - тридцати, сухощавый, подвижной и, казалось, готовый на любое нечистое дело; он мог быть браконьером, контрабандистом, тайным солеваром, вором и разбойником: этими благородными ремеслами он и занимался либо порознь, либо всеми сразу — смотря по обстоятельствам.
Луч луны, упавший на него сквозь тучи, будто сноп света в отверстие потайного фонаря, выхватил его из темной стены елей, и подвернись тут зритель, он мог бы разглядеть и облик бандита, и его нарочито разбойничий наряд. На лице, медно-красном от загара, как у дикаря-караиба, сверкали глаза хищной птицы и ослепительно-белые зубы с заостренными, точно у молодого волка, клыками. Лоб, как у раненого, был повязан платком, сдерживавшим копну жестких курчавых и непокорных волос, торчком стоявших на макушке; на нем была синяя плисовая куртка, выцветшая от долгого употребления, с монетами на проволочных ушках вместо пуговиц, и широкие холщовые штаны; завязки от веревочных туфель перекрещивались на крепких и сухопарых, как у оленя, икрах. Наряд этот завершался широким красным шерстяным поясом, несколько раз обмотанным вокруг туловища от бедер до подмышек. Пояс оттопыривался посреди живота, указывая местонахождение съестных припасов и капиталов; если бы малый повернулся, за спиной его обнаружилась бы торчавшая сверху и снизу из-за пояса огромная валенсийская наваха, одна из тех рыбовидных навах, клинок которых укрепляется поворотом медного кольца и носит на своей поверхности столько красных отметок, сколько хозяин ее совершил убийств. Нам неизвестно, сколько кровавых зарубок насчитывала наваха Агостена, но судя по его виду можно было, не поступаясь справедливостью, заключить, что их немало.
Таков был знакомец Чикиты, с которым она поддерживала какие-то таинственные отношения.
— Ну, как, Чикита? Видела ты что-нибудь примечательное в харчевне дядюшки Чирригири? — спросил Агостен, ласково проводя шершавой ладонью по волосам девочки.
— Туда приехала повозка, полная людей, — ответила Чикита. — В сарай внесли пять больших сундуков, наверно, очень тяжелых, потому что для каждого понадобилось два человека.
— Гм! — протянул Агостен. — Случается, путешественники для пущей важности набивают сундуки камнями, видали мы такое.
Но тут у трех молодых дам платья обшиты золотым позументом, — возразила Чикита. — А у самой красивой на шее нитка большущих белых зерен — при огне они отливают серебром; ох, и какая же это красота! Какая роскошь!
— Жемчуг! Недурно! — сквозь зубы пробормотал бандит. — Только б он не был фальшивым. Теперь его превосходно подделывают в Мурано, а у нынешних любезников нет никаких нравственных правил!
— Милый Агостен, — вкрадчиво продолжала Чикита, — когда ты перережешь горло той красивой даме, ты отдашь мне ожерелье?
— Только его тебе не хватало! Оно бы чудо как подошло к твоей лохматой голове, к твоей замурзанной рубашке и канареечной юбчонке.
— Я столько раз выслеживала для тебя добычу и, когда от земли подымался туман, бегала босиком по росе, не жалея ног, лишь бы вовремя предупредить тебя. Ведь я ни разу не оставила тебя голодным, таскала еду в твои тайники, хоть сама и щелкала зубами от лихорадки, как цапля клювом на краю болота, из последних сил продиралась сквозь заросли и колючки.
— Да, ты отважный и верный друг, — подтвердил бандит, — однако ожерелье-то еще не у нас в руках. Сколько ты насчитала мужчин?
— Ой, много! Один высокий и толстый, весь оброс бородой, один старый, двое худых, один — похожий на лисицу и еще молодой, с виду — дворянин, хоть и плохо одет.
— Шесть мужчин, — задумчиво произнес Агостен, считая по пальцам. — Увы! Прежде это количество не смутило бы меня! Но я остался один изо всей шайки. Есть у них оружие, Чикита?
— У дворянина есть шпага, а у длинного тощего — рапира.
— Ни пистолетов, ни пищалей?
— Не видала, разве что их оставили в повозке, — ответила Чикита. — Но тогда Чирригири или Мионетта предостерегли бы меня.
— Ну, что ж, попытаемся, устроим засаду, — решился Агостен. — Пять сундуков, золотое шитье, жемчужное ожерелье. Мне случалось работать и ради меньшего.
Разбойник и девочка вошли в лесок. Добравшись до самого глухого места, они принялись раскидывать камни и валежник, пока не докопались до засыпанных землей пяти-шести досок. Агостен поднял доски, отбросил их в сторону и по пояс спустился в яму, которую они прикрывали. Был ли это вход в подземелье или в пещеру — обычное убежище разбойников? Или тайник, где он хранил награбленное добро? Или же склеп, куда сваливал трупы своих жертв?
Последнее предположение показалось бы всякому самым правдоподобным, если бы на месте действия были еще свидетели, кроме громоздившихся на елях галок.
Агостен нагнулся, порылся на дне ямы, выволок наружу человеческую фигуру, застывшую в неподвижности, как мертвое тело, и без церемоний швырнул ее на край ямы. Ничуть не смутившись таким обращением с покойником, Чикита за ноги оттащила тело на некоторое расстояние, обнаружив неожиданную для столь хрупкого создания силу. Продолжая свою жуткую работу, Агостен достал из этой усыпальницы еще пять трупов, которые девочка положила рядом с первым, улыбаясь, как юная ведьма, готовящая себе кладбищенский пир. Зияющая могила, бандит, который тревожит прах своих жертв, и девочка, что помогает ему в этом нечестивом деле, — такая картина на фоне черных елей могла бы привести в трепет любого храбреца.
Разбойник взял один из трупов, отнес на вершину холма и придал ему стоячее положение, воткнув в землю кол, к которому тот был привязан. В такой позе труп мог издалека сойти за живого человека.
— Увы, до чего довели меня тяжелые времена, — горестно вздохнул Агостен. — Вместо шайки бравых молодцов, владеющих ножом и мушкетом под стать отборным солдатам, у меня остались только чучела, одетые в лохмотья, пугала для проезжих — безгласные созерцатели моих одиноких подвигов! Вот это был Матасьерпес, храбрый испанец, мой закадычный друг, милейший малый; своей навахой ой метил физиономии прохвостов не хуже, чем кистью, обмакнутой в красную краску. Кстати, чистокровный дворянин, горделив, будто произошел от бедра Юпитера, подставлял дамам руку, высаживая их из кареты, и с королевским величием обчищал горожан. Вот его плащ, его пояс, его сомбреро с алым пером, — я благоговейно, точно реликвии, выкрал эти вещи у палача и нарядил в них соломенное чучело, которое заменяет юного героя, достойного лучшего удела. Бедный Матасьерпес! Ему очень не хотелось, чтобы его вешали. И не то что он боялся смерти — нет, в качестве дворянина он претендовал на право быть обезглавленным. К несчастью, он не носил при себе своей родословной, и ему пришлось умереть стоймя.
Вернувшись к яме, Агостен взял другое чучело, в синем берете.
— А это Искибайвал — знаменитый храбрец, он был горяч в деле, но порой проявлял слишком много рвения и крушил все вокруг — а какого черта зря истреблять клиентуру? В остальном он не был жаден к добыче, всегда довольствовался своей долей. Золотом он пренебрегал и любил только кровь, — истый молодец! А как он гордо держался под пыткой в тот день, когда его колесовали среди площади в Ортеце! Регул{46} и апостол Варфоломей не терпеливее его сносили мучения. Это был твой отец, Чикита; почти его память и помолись за упокой его души.
Девочка осенила себя крестом, и губы ее зашевелились, очевидно, произнося слова молитвы.
Третье пугало со шлемом на голове в руках Агостена издало лязг железа. На изодранном кожаном колете тускло мерцал железный нагрудный щит, а на бедрах болтались застежки. Бандит для пущего блеска потер доспехи рукавом.
— Блеск металла во мраке внушает иногда благодетельный ужас. Люди думают, что перед ними отпускные солдаты. А это был истый рыцарь большой дороги — он действовал на ней, как на поле брани, — хладнокровно, обдуманно, по всем правилам. Пистолетный выстрел в упор похитил его у меня. Какая невозмутимая утрата! Но я отомщу за его смерть!
Четвертый призрак, закутанный в редкий, как сито, плащ, был, подобно остальным, почтен надгробным словом. Он испустил дух во время пытки, из скромности не пожелав сознаться в своих деяниях, с героической стойкостью отказываясь открыть не в меру любопытному правосудию имена своих сотоварищей.
По поводу пятого, изображавшего Флоризеля из Бордо, Агостен воздержался от дифирамбов, ограничившись сожалением в сочетании с надеждой. Флоризель, первый в провинции ловкач по части карманных краж, был удачливее своих собратьев: он не болтался на крюке виселицы, его не поливали дожди и не клевали вороны. Он путешествовал за счет государства по внешним и внутренним морям па королевских галерах. Этот, хотя и был простым воришкой среди матерых разбойников, лисенок в стае волков, однако подавал большие надежды и, пройдя выучку па каторге, мог стать настоящим мастером; совершенство сразу не дается. Агостен с нетерпением ждал, чтобы этот славный малый сбежал с галер и вернулся к нему.
Шестой манекен, толстый и приземистый, в балахоне, опоясанном широким кожаным ремнем, в широкополой шляпе, был поставлен впереди остальных, как начальник команды.
— Это почетное место по праву принадлежит тебе, — обратился к пугалу Агостен, — тебе, патриарху благородной вольницы, Нестору воровской братии, Улиссу{47} клещей и отмычек, о великий Лавидалот, мой воспитатель и наставник. Ты посвятил меня в рыцари больших дорог, из нерадивого школяра выпестовал опытного головореза. Ты обучил меня пользоваться воровским наречием и принимать в опасную минуту любой облик, как блаженной памяти протей{48}; ты обучил меня с тридцати шагов попадать в сучок на доске, гасить выстрелом свечу, как ветерок проскальзывать в замочную скважину, точно в шапке-невидимке шмыгать по чужим домам, безо всякой волшебной палочки отыскивать самые хитрые тайники. Сколько глубоких истин преподал ты мне, великий мудрец, какими убедительными доводами доказал, что работа удел дураков! О, зачем мачехе-судьбе угодно было уморить тебя голодом в пещере, где все входы и выходы охраняли солдаты, но куда сами они не смели проникнуть, — кому охота, будь то трижды храбрец, лезть в логово льва? Даже умирая, он может когтями или зубами прикончить с полдюжины молодцов. А теперь ты, чьим недостойным преемником мне довелось стать, возьми на себя умелое предводительство этим смехотворным отрядом воображаемых солдат, соломенных вояк, призраками тех, кого мы утратили и кто, даже успокоясь навек, подобно мертвому Сиду, способен выполнить свое отважное дело{49}. Ваших теней, доблестные разбойники, достанет на то, чтобы обобрать этих лодырей.
Покончив со своей задачей, бандит пошел взглянуть, какое впечатление производят с дороги его ряженые. У соломенных бандитов вид был довольно свирепый и устрашающий — с перепугу всякий мог обмануться, узрев их во мраке ночи или в предутренней мгле, в тот смутный час, когда старые придорожные ветлы с обломанными ветвями похожи на людей, грозящих кулаком или заносящих нож.
— Агостен, ты забыл вооружить их! — напомнила Чикита.
— В самом деле, и как я это упустил? — ответил бандит. — Правда, и у величайших гениев бывают минуты рассеянности. Впрочем, это дело поправимое.
И он всунул в неподвижные руки чучел старые стволы мушкетов, ржавые шпаги и даже просто палки, нацелив их, как дула; с таким арсеналом шайка на вершине холма приобрела в достаточной мере грозное обличие.
— От деревни до трактира, где можно пообедать, перегон довольно длинный, значит, выедут они часа в три утра. И когда будут проезжать мимо засады, едва только начнет светать, что всего благоприятнее для наших воинов. Дневной свет выдал бы их, а ночной мрак сделал бы вовсе невидимыми. Пока что вздремнем немного. Колеса в повозке немазаные, их скрип, от которого разбегаются даже волки, будет слышен издалека и разбудит нас. Наш брат спит, как кошки, вполглаза, так что мы мигом будем на ногах!
С этим Агостен улегся на сноп вереска. Чикита прикорнула возле него, чтобы воспользоваться краем валенсийского плаща, служившего ему одеялом, и хоть немного согреть свое бедное тельце, которое трясла лихорадка. Вскоре ей сделалось тепло, зубы перестали стучать, и она перекочевала в царство снов. Мы вынуждены признаться, что в ее детских грезах не витали розовые херувимчики с белыми крылышками вместо шейных платочков, не блеяли чисто вымытые барашки, украшенные ленточками, и не возвышались леденцовые дворцы с цукатными колоннами. Нет, ей снилась отрубленная голова Изабеллы, которая держала в зубах жемчужное ожерелье и прыгала из стороны в сторону, стараясь увернуться от протянутых рук девочки. Чикита так металась во сне, что будила Агостена, и он ворчал, прерывал храп:
— Если ты не угомонишься, я отправлю тебя пинком в овраг барахтаться с лягушками.
Чикита знала, что Агостен слов на ветер не бросает, и теперь боялась шевельнуться. Вскоре только ровное дыхание обоих выдавало присутствие живых тварей в этом мрачном безлюдии.
Посреди ланд бандит и его маленькая сообщница еще пили блаженный напиток из черной чаши сна, когда в харчевне «Голубое солнце» погонщик, постучав палкой оземь, разбудил актеров и сказал, что пора трогаться в путь.
Все кое-как разместились в повозке на торчавших уступами сундуках, и Тиран сравнил себя с небезызвестным Полифемом, возлежавшим на гребне горы, что не помешало ему тут же захрапеть во всю мочь; женщины забрались в самый дальний конец под навес и довольно удобно устроились на валике из свернутых декораций. Несмотря на ужасающий скрип колес, которые стонали, визжали, рычали, хрипели, путники забылись тяжелым сном с нелепыми, несвязными кошмарами, где грохот и лязг повозки превращался в рев диких зверей или в крики умерщвляемых младенцев.
Сигоньяк, возбужденный новизной приключения и суетой кочевой жизни, столь отличной от монастырской тишины в его родном замке, один шагал рядом с фургоном. Он мечтал о нежной прелести Изабеллы, чья красота и скромность скорее были свойственны благородной девице, нежели странствующей актрисе, и старался придумать, как бы заслужить ее любовь, не подозревая, что дело уже сделано, что он затронул самые чувствительные струны ее души и милая девушка отдаст ему сердце в тот же миг, когда он об этом попросит. Робкий барон воображал уйму страшных и необычайных приключений, самоотверженных подвигов в духе рыцарских романов, чтобы иметь повод к дерзкому признанию, от которого у него заранее захватывало дух; а между тем это немыслимое признание уже было ясно выражено огнем его глаз, дрожью в голосе, приглушенными вздохами, неловким вниманием, которым он окружал Изабеллу, и рассеянными ответами на вопросы других комедиантов. Хотя он не произнес ни слова о любви, у молодой женщины на этот счет не оставалось сомнений.
Забрезжило утро. По краю равнины протянулась полоска бледного света, и на ней четко, несмотря на расстояние, обрисовались черные контуры трепещущего вереска и даже кончики трав. Тронутые первым лучом лужицы засверкали, как осколки разбитого зеркала. Послышались легкие шорохи, и в недвижном воздухе вверх потянулись дымки, говоря о том, что в разных точках этой пустыни возобновилась деятельная человеческая жизнь. На порозовевшей ленте зари возник странный силуэт, похожий издали на циркуль, которым невидимый геометр вздумал бы измерять ланды. Это пастух на ходулях, точно гигантский паук-сенокосец, шагал по пескам и болотам.
Зрелище это не было внове для Сигоньяка и не занимало его; но, несмотря на глубокое раздумье, он все же обратил внимание на блестящую точку, сверкавшую в густой еще тени той купы елей, где мы оставили Агостена и Чикиту. Это не мог быть светляк; пора, когда любовь зажигает червяков своим фосфорическим сиянием, миновала за несколько месяцев до того. Может быть, то смотрела из темноты одноглазая ночная птица? Точка ведь была одна. Но такое предположение не удовлетворило Сигоньяка; мерцающий огонек напоминал скорее зажженный фитиль мушкета.
А повозка меж тем продолжала путь. Сигоньяк, приблизившись к ельнику вместе с ней, различил на краю холма странные фигуры, расположенные группой, как бы в засаде, и еще неясно очерченные первыми лучами рассвета, но, ввиду полной их неподвижности, он решил, что это попросту старые пни, посмеялся в душе над своими страхами и не стал будить актеров, как собрался было сперва.
Повозка продвинулась еще на несколько шагов. Блестящая точка, с которой Сигоньяк не сводил глаз, переместилась. Длинная струйка огня прорезала облако беловатого дыма; гулко прогремел выстрел, и пуля, сплющившись, ударилась об ярмо над головами волов, которые шарахнулись в сторону и потянули за собой повозку, но куча песка, по счастью, задержала ее на краю канавы.
Актеры вмиг проснулись от выстрела и толчка; молодые женщины подняли пронзительный крик. Только видавшая виды старуха молча, предосторожности ради, переложила свою наличность — две-три штуки дублонов — из-за пазухи в башмак.
Встав наперерез повозке, из которой пытались выбраться актеры, Агостен обмотал вокруг локтя валенсийский плащ и потрясал навахой, громовым голосом выкрикивая:
— Кошелек или жизнь! Сопротивляться бесполезно. Малейшее неповиновение, и мой отряд изрешетит вас!
Пока разбойник ставил традиционные для большой дороги условия, барон, чья гордая кровь не могла стерпеть наглость подобного проходимца, преспокойно вынул шпагу из ножен и набросился на него. Агостен отражал удары плащом и ждал благоприятной минуты, чтобы швырнуть в противника наваху; уперев рукоятку в локтевой сгиб, он резким взмахом направил лезвие в живот Сигоньяку, который, на свою удачу, не отличался дородностью. Легким движением отстранился он от смертоносного острия: нож пролетел мимо. Агостен побледнел — он был обезоружен и знал, что отряд соломенных пугал не придет ему на помощь. Тем не менее, рассчитывая вызвать замешательство, он закричал:
— Эй, вы там! Пли!
Комедианты испугались обстрела, отступили и спрятались за повозку, где женщины визжали, как гусыни, которых ощипывают заживо. Даже Сигоньяк при всей своей храбрости пригнул голову.
Чикита, раздвинув ветки, наблюдала происходящее из-за куста, а теперь, когда увидела, в какое опасное положение попал ее друг, поползла, точно ящерица, по дорожной пыли, незаметно подобрала нож, вскочила на ноги и протянула наваху бандиту. Ничто не идет в сравнение с той дикой гордостью, которая озаряла бледное личико девочки; черные глаза метали молнии, ноздри трепетали, словно крылья ястреба, между приоткрытыми губами виднелись два ряда зубов, блестевших в свирепом оскале, как у затравленного зверька. Все ее существо дышало неукротимой негодующей злобой.
Агостен вторично замахнулся ножом, и, быть может, приключения барона де Сигоньяка оборвались бы в самом начале, если бы чьи-то железные пальцы в самый критический миг не стиснули руку бандита. Эти пальцы жали, как тиски, когда прикручивают винт, сминая мускулы и круша кости, от них вздувались жилы и кровь выступала из-под ногтей. Агостен делал отчаянные попытки высвободить руку; обернуться он не мог, барон всадил бы острие шпаги ему в спину; он пытался отбиваться левой рукой, а сам чувствовал, что правая, взятая в тиски, будет оторвана от плеча вместе со всеми жилами, если он не перестанет сопротивляться. Боль стала нестерпимой, онемевшие пальцы разжались и выпустили нож.
Избавителем Сигоньяка оказался Тиран, — подойдя сзади, он удержал руку Агостена. Но вдруг он громко вскрикнул:
— Что за черт? Какая гадюка укусила меня? Чьи-то острые клыки вонзились мне в ногу!
Действительно, Чикита, как собачонка, укусила его за икру, рассчитывая, что он обернется. Тиран, не разжимая руки, пинком отшвырнул девочку шагов на десять. Матамор, как кузнечик, согнул под острым углом свои длинные конечности, наклонился, поднял нож, закрыл его и спрятал в карман.
В течение этой сцены солнце мало-помалу выплыло из-за горизонта; часть розовато-золотого диска виднелась уже над полосой ланд, и под его беспощадными лучами чучела все явственнее теряли сходство с людьми.
— Вот так так! — воскликнул Педант. — Мушкеты этих вояк, должно быть, медлили выстрелить по причине ночной сырости. А сами они не очень-то храбры, — видят, что их начальник в опасности, и стоят как вкопанные, подобно межевым столбам у древних!
— У них есть на то веские основания, — объяснил Матамор, взбираясь на пригорок, — это чучела, сделанные из соломы, наряженные в лохмотья, вооруженные ржавым железом и незаменимые для того, чтобы отпугивать птиц от вишневых садов и виноградников.
Шестью пинками он спихнул вниз все шесть карикатурных истуканов, и те растянулись на пыльной дороге в комических позах марионеток, у которых отпустили проволоку. Их распластанные тела казались шутовской и вместе с тем жуткой пародией на трупы, усеивающие поле брани.
— Можете выйти, сударыни, — сказал барон, обращаясь к актрисам, — бояться больше нечего, опасность была мнимая.
Агостен стоял, понурив голову, сраженный провалом своей затеи, которая обычно действовала без отказа, настолько сильна человеческая трусость и у страха велики глаза. Подле него жалась Чикита, испуганная, растерянная, взбешенная, как ночная птица, застигнутая врасплох светом дня. Бандит боялся, что актеры, воспользовавшись своим численным преимуществом, расправятся с ним сами или отдадут его в руки правосудия; но комедия с чучелами рассмешила их, и они хохотали все, как один. Смех же по своей природе чужд жестокости; он отличает человека от животного и, согласно Гомеру, является достоянием бессмертных и блаженных богов, которые всласть смеются по-олимпийски в долгие досуги вечности.
Тиран, человек от природы добродушный, разжав пальцы, но все же придерживая бандита, обратился к нему трагическим театральным басом, которым пользовался иногда и в обыденной жизни:
— Ты, негодяй, напугал наших дам, и за это тебя следовало вздернуть без дальних слов; но если они, как я полагаю, по доброте сердечной, тебе простят, я не потащу тебя к судье. Ремесло доносчика мне не по вкусу, не мое дело снабжать дичью виселицу. К тому же хитрость твоя остроумна и забавна, — ничего не скажешь, ловкий способ выуживать пистоли у трусливых мещан. Как актер, искушенный в уловках и выдумках, я ценю твою изобретательность и потому склонен к снисхождению. Ты отнюдь не просто вульгарный и грубый вор, и было бы жаль помешать тебе в столь блестящей карьере.
— Увы! Я не могу избрать себе иную, — отвечал Агостен, — и достоин сожаления больше, чем вы думаете. Я остался один изо всей моей труппы, а состав ее был не хуже вашего — палач отнял у меня актеров и на первые, и на вторые, и на третьи роли. И теперь весь спектакль на театре большой дороги мне приходится разыгрывать самому, говоря на разные голоса и наряжая чучела разбойниками, чтобы люди думали, будто за моей спиной целая шайка. Да, грустная мне выпала доля! Вдобавок мало кто пользуется моей дорогой, слава у нее дурная, вся она изрыта ухабами, неудобна и для пеших, и для конных, и для экипажей, ниоткуда она не идет и никуда не ведет, а приобрести лучшую у меня нет средств: на каждой более оживленной дороге есть своя братчина. По мнению лодырей, которые трудятся, путь вора усеян розами, — нет, на нем много терний! Я бы не прочь стать честным человеком; но как прикажете мне сунуться к городским воротам с такой зверской рожей и в таких дикарских отрепьях? Сторожевые псы ухватили бы меня за икры, а часовые — за ворот, если бы такой у меня был. Вот теперь провалилось мое предприятие, а было оно так тщательно продумано и подстроено и дало бы мне возможность прожить месяца два и купить мантилью бедняжке Чиките. Мне не везет, я родился под заклятой звездой. Вчера вместо обеда мне пришлось потуже затянуть пояс. Своей неуместной храбростью вы отняли у меня кусок хлеба, и уж раз мне не удалось вас ограбить, так не откажите мне в подаянии.
— Это будет только справедливо, — согласился Тиран, — мы помешали тебе в твоем промысле и, значит, должны возместить убытки. Вот возьми две пистоли — выпей за наше здоровье.
Изабелла достала из повозки большой кусок материи и протянула его Чиките.
— А я лучше хочу ожерелье из белых зерен, — сказала девочка, бросив алчный взгляд на бусы. Актриса отстегнула их и надела на шею маленькой воровки. Не помня себя и онемев от восторга, Чикита смуглыми пальчиками щупала белые зерна и нагибала голову, силясь увидеть ожерелье на своей щуплой груди, потом внезапно подняла голову, откинула назад волосы, обратила на Изабеллу сверкающие глаза и с какой-то удивительной убежденностью произнесла: — Вы добрая — вас я никогда не убью…
Одним прыжком она перемахнула через канаву, взбежала на пригорок, уселась там и стала разглядывать свое сокровище.
Агостен же выразил благодарность поклоном, подобрал свои исковерканные пугала, отнес их в лесок и зарыл там в ожидании лучшего случая. После того как воротился погонщик, доблестно улепетнувший от мушкетного выстрела, предоставив седокам выпутываться как знают, фургон тяжело стронулся с места и покатил дальше.
Дуэнья вытащила дублоны из башмака и вновь украдкой водворила их в кармашек.
— Вы держали себя, как герой романа, — сказала Изабелла Сигоньяку. — Под вашей охраной можно путешествовать без страха. Как храбро напали вы на разбойника, считая, что ему на помощь бросится целая шайка, вооруженная до зубов!
— Это ли настоящая опасность? Попусту небольшая встряска! — скромно возразил барон. — Чтобы оберечь вас, я разрубил бы наотмашь от черепа до пояса любого великана, я обратил бы в бегство орду сарацинов, сразился бы в клубах дыма и пламени с дельфинами, гидрами и драконами, пересек бы заколдованные чащи, полные волшебных чар, спустился бы в ад, как Эней, и притом без золотой ветви{50}. Под лучами ваших прекрасных очей все мне было бы легко, ибо ваше присутствие и даже одна мысль о вас вселяют в меня сверхчеловеческую силу.
Его красноречие, хоть и страдало некоторым преувеличением и, как сказал бы Лонгин{51}, азиатской гиперболичностью, однако было вполне искренним. Изабелла не усомнилась ни на миг, что Сигоньяк способен ради нее свершить все эти легендарные подвиги, достойные Амадиса Галльского, Эспландиона и Флоримара Гирканского{52}. И она была права: неподдельное чувство диктовало эти пышные фразы нашему барону, в ком любовь час от часу разгоралась все сильнее. Для влюбленного даже самые громкие слова всегда слишком бледны. Серафина, слушая речи Сигоньяка, не могла сдержать улыбку, ибо всякая молодая женщина склонна находить смешными любовные излияния, обращенные к другой, — будь они адресованы ей, она сочла бы их как нельзя более естественными. Серафине пришла было в голову мысль испытать силу своих чар па Сигоньяке и попытаться отбить его у подруги; однако искушение длилось недолго. Не будучи по-настоящему корыстной, Серафина полагала, что красота — это бриллиант, которому нужна золотая оправа. Она обладала бриллиантом, но не золотом, барон же был так безнадежно беден, что не мог ей доставить не только оправу, а хотя бы футляр. Решив, что такие романтические прихоти хороши лишь для простушек, а не для героинь, Серафина припрятала кокетливый взгляд, предназначенный сразить Сигоньяка, и вновь приняла равнодушно-безмятежный вид.
В повозке воцарилось молчание, и сон начал смыкать веки путников, когда погонщик объявил:
— А вот и замок Брюйер!
V У ГОСПОДИНА МАРКИЗА
Под лучами утреннего солнца замок Брюйер представал в особо выигрышном свете. Владения маркиза были расположены по кромке ланд среди тучной земли, и последние белые волны бесплодных песков разбивались о стены парка. В резком противоречии с окружающей скудостью, здесь все дышало изобилием и радовало глаз всякого, кто входил сюда, — это был поистине благодатный остров посреди океана уныния.
Облицованный красивым камнем ров снизу окаймлял ограду замка, не закрывая ее. На дне рва зелеными квадратами переливалась свежая, чистая вода, не замутненная ряской, что свидетельствовало о постоянном уходе. Через ров был переброшен построенный из кирпича и камня мост с парапетом на балясинах, настолько широкий, что по нему могли проехать две кареты. Мост этот приводил к великолепной кованой решетке — настоящему образцу кузнечного искусства, казалось, вышедшему из рук самого Вулкана{53}. Створки ворот были укреплены на двух четырехугольных металлических столбах ажурной работы, выкованных в форме капителей и державших архитрав, над которым красовался замысловатый орнамент в виде куста с листьями и цветами, симметрично ниспадавшими на обе стороны. В центре этих сложных орнаментальных переплетений сверкал герб маркиза, имеющий расположенные в шахматном порядке червленые клетки на золотом поле, а по бокам — двух щитодержателей в образе дикарей. По верху решетки плавные волюты, подобные росчеркам каллиграфов на веленевой бумаге, были утыканы железными остролистыми артишоками, предназначенными отпугивать мародеров, которые изловчились бы прыгнуть с моста во внутренний двор через угол решетки. Позолоченные цветы и другие украшения, ненавязчиво вкрапленные в строгую простоту металла, смягчали грозную неприступность кованой ограды и лишь подчеркивали ее пышное изящество. Въезд был, можно сказать, царственный, и, когда лакей в ливрее маркиза распахнул ворота, волы, запряженные в повозку, в нерешительности остановились, словно ослепленные окружающим великолепием и смущенные своим деревенским видом. Только с помощью остроконечной палки удалось их сдвинуть с места. Честные животные по скромности своей не подозревали, что хлебопашество кормит вельмож.
В самом деле, через такие ворота пристало бы въезжать только золоченым каретам с бархатными сиденьями, с венецианскими стеклами в дверцах или с фартуками из кордовской кожи; но театр пользуется особыми преимуществами, и повозка Феспида всюду имеет свободный доступ.
Посыпанная песком аллея, одной ширины с мостом, вела к замку, пересекая сад или цветник, разбитый по последней моде. Ровно подстриженная буксовая изгородь делила сад на прямоугольники, где, как разводы на штофном полотнище, в строжайшей симметрии расстилалась зелень растений, — ножницы садовника ни одному листочку не позволяли подняться выше другого, и, как ни сопротивлялась природа, здесь она была превращена в смиренную служанку искусства. Посреди каждого квадрата возвышалась статуя богини или нимфы в мифологически игривой позе на подделанный под Италию фламандский манер. Разноцветный песок служил фоном для этих растительных узоров, которые и на бумаге не получились бы аккуратнее.
На середине сада вторая аллея той же ширины перекрещивалась с первой, но не под прямым углом, а вливаясь в круглую площадку с фонтаном в центре, который представлял собой груду камней, служивших пьедесталом малютке Тритону, а тот дул в раковину, разбрызгивая струйки жидкого хрусталя.
Цветники замыкались рядами коротко подстриженных грабов, которые осень уже успела позолотить. Узнать эти деревья было мудрено, так мастерски их превратили в портик с аркадами, в проемы которых открывались далекие перспективы и виды окружающей природы, как нельзя лучше подобранные для услады глаз. Вдоль главной аллеи выделялись своей темной, неизменно зеленой листвой тисы, подстриженные поочередно пирамидами, шарами и урнами и выстроенные в ряд, как слуги для встречи гостей.
Вся эта роскошь несказанно восхитила бедных комедиантов, которые редко бывали званы в такие поместья. Серафина исподтишка разглядывала невиданные чудеса, решая про себя подставить ножку Субретке и не допустить, чтобы внимание маркиза направилось по ложному пути; по ее мнению, на этого Алькандра{54} в первую голову могла претендовать героиня. С каких пор служанка имеет преимущественные права перед госпожой? Субретка, уверенная в своих чарах, которые отрицались женщинами, но безоговорочно были признаны мужчинами, не без основания чувствовала себя здесь чуть ли не хозяйкой; она понимала, что маркиз особо отличил ее, и только ее огненный взор, поразивший его прямо в сердце, пробудил у него внезапный интерес к театру. Изабелла, чуждая всяких честолюбивых устремлений, повернулась к Сигоньяку, который из понятной стыдливости забился в угол фургона, и своей милой легкой улыбкой старалась развеять невольную грусть барона. Она почувствовала, что контраст между богатым замком Брюйер и нищенской усадьбой Сигоньяков глубоко уязвил незадачливого дворянина, волею злой судьбы вынужденного участвовать во всех перипетиях жизни бродячих комедиантов, и, повинуясь жалостливому женскому инстинкту, она ласково пестовала раненое сердце благородного юноши, во всех отношениях достойного лучшей участи.
Тиран ворочал в голове, точно бильярдные шары в мешке, цифру пистолей, которую ему следует запросить в уплату труппе, с каждым оборотом колес добавляя по нулю. Педант-Блазиус своим силеновским языком облизывал губы{55}, иссохшие от неутолимой жажды, и сладострастно представлял себе все те бочки, кадки и чаны тончайших вин, которые должны храниться в погребах замка. Леандр, взбивая черепаховым гребешочком слегка помятые букли парика, с сердечным трепетом гадал, есть ли в этом сказочном замке хозяйка. Вопрос первостатейной важности! Однако высокомерная и заносчивая, хоть и жовиальная физиономия маркиза умеряла вольности, которые он уже мысленно себе позволял.
Перестроенный заново в предшествующее царствование, замок Брюйер занимал задний план почти во всю ширину расположенного перед ним сада и по стилю своему был сродни особнякам на Королевской площади в Париже{56}. Главный корпус здания и два флигеля, примыкавших к нему под прямым углом, образуя парадный двор, создавали весьма стройный ансамбль, величавый, без монотонности. Красные кирпичные стены, обрамленные по углам тесаным камнем, выгодно оттеняли наличники окон, выточенные из того же прекрасного белого камня. Такими же белокаменными поясами отделялись друг от друга все три этажа здания. Толстощекие, кокетливо убранные скульптурные женские головки весело и благожелательно улыбались с надоконных клинчатых камней. Балконы держались на пузатых опорах. В прозрачные стекла сквозь отраженный блеск солнечных лучей смутно виднелись богатые ткани драпировок с пышными подборами. Чтобы перебить однообразие фасада, архитектор — достойный ученик Андруэ де Серсо{57}, — поставил в центре выступающий портик, украсив его щедрее всего здания и поместив там входные двери, к которым вело высокое крыльцо. На полотнах господина Петера Пауля Рубенса, излюбленного мастера королевы Марии Медичи, часто видишь рустованные колонны, — такие четыре сдвоенные колонны с чередующимися круглыми и квадратными основаниями поддерживали карниз, как и решетка увенчанный гербом маркиза и служивший полом для обнесенного каменной балюстрадой большого балкона, куда открывалась застекленная дверь гостиной. Лепные рельефы с пазами украшали каменную раму и арку двустворчатой дубовой полированной двери с редкостной резьбой и блестевшим, как сталь или серебро, железным прибором.
Высокие шиферные кровли, искусно разделанные под черепицу, обрисовывались в ясном небе приятными правильными очертаниями, между которыми симметрично возвышались массивные трубы, украшенные с каждого бока скульптурными трофеями и другими атрибутами. Огромные пучки орнаментальных листьев, отлитых из свинца, красовались по углам этих голубовато-сизых кровель, на которых весело играло солнце. Хотя час был ранний, а по времени года не требовалось постоянного отопления, из труб вился легкий дымок — признак счастливой, изобильной и деятельной жизни. В этой Телемской обители{58} кухни уже проснулись; егеря скакали на крепких конях, везя дичь для стола; арендаторы несли провизию и сдавали кухмистерам. Лакеи сновали по двору, передавая или выполняя приказания.
Наружный вид замка радовал глаз окраской обновленных кирпичных и каменных стен, напоминая здоровый румянец на цветущем лице. Все здесь говорило о прочном, постоянно растущем благосостоянии, а не о капризе Фортуны, которая, невозмутимо катясь на золотом колесе, щедро одаривает своих минутных любимцев. Здесь же под новой роскошью чувствовалось давнее богатство.
Немного отступя от замка, позади флигелей, поднимались вековые деревья, верхушки их были уже тронуты желтизной, меж тем как нижние ветки сохраняли сочную листву. Отсюда вдаль тянулся парк, обширный, тенистый, густой, величественный, свидетельствовавший о рачительности и богатстве предков. С помощью золота можно быстро возвести здание, но нельзя ускорить рост деревьев, где ветвь прибавляется к ветви, как на генеалогическом древе тех домов, которые они осеняют и защищают своей тенью.
Конечно, благородное сердце Сигоньяка никогда не испытывало ядовитых укусов зависти — этой зеленой отравы, которая вскоре проникает в кровь, с ее током просачивается в мельчайшие волоконца и растлевает самые стойкие души. Тем не менее он не мог подавить горький вздох при мысли о том, что некогда Сигоньяки превосходили Брюйеров древностью рода, известного со времен первых крестоносцев. Этот замок, обновленный, свежий, нарядный, белый и румяный, как щеки юной девушки, наделенный всеми ухищрениями роскоши, невольно казался жестокой издевкой над убогим, облупленным, обветшалым жилищем, пришедшим в полный упадок посреди безмолвия и забвения, гнездом крыс, насестом сов, пристанищем пауков, которое обрушилось бы на своего злополучного владельца, если бы он вовремя не спасся бегством, чтобы не погибнуть под развалинами. Долгие годы тоски и нищеты, прожитые там, вереницей прошли перед Сигоньяком в одеждах цвета пыли, свесив руки в безысходном отчаянии, посыпав головы пеплом и скривив рты зевотой. Не завидуя маркизу, он все же почитал его счастливцем.
Повозка остановилась у крыльца и тем отвлекла Сигоньяка от его безотрадных дум. Он постарался стряхнуть с себя неуместную печаль, мужественным усилием воли сдержал навернувшуюся слезу и непринужденно спрыгнул на землю, чтобы помочь сойти Изабелле и другим актрисам, — им мешали юбки, которые раздувал утренний ветерок.
Маркиз де Брюйер, издали завидевший колымагу комедиантов, стоял на крыльце замка в камзоле и панталонах песочного бархата, со вкусом отделанных лентами в тон, в серых шелковых чулках и белых тупоносых башмаках. Он спустился на несколько ступенек подковообразной лестницы, как подобает учтивому хозяину, который закрывает глаза на общественное положение гостей; кстати, и присутствие в труппе барона де Сигоньяка до известной степени оправдывало такую предупредительность. На третьей ступеньке маркиз остановился, считая ниже своего достоинства идти дальше, и отсюда сделал комедиантам по-дружески покровительственный знак рукой.
В этот миг сквозь отверстие в парусине выглянула лукавая и задорная мордочка Субретки, вся сверкая на темном фоне жизнью и огнем. Глаза и зубы метали молнии. Высунувшись из повозки, опираясь руками о перекладину и показывая полуприкрытую косынкой грудь, плутовка словно ждала, чтобы кто-нибудь ей помог. Занятый Изабеллой, Сигоньяк не заметил ее мнимого замешательства, и негодница обратила томный и молящий взгляд на маркиза.
Владелец замка внял ее зову. Сбежав с последних ступеней, он приблизился к повозке, чтобы выполнить обязанность услужливого кавалера, протянул руку и по-танцевальному выставил ногу. Кокетливым кошачьим движением Субретка скользнула к самому краю повозки, остановилась на миг, сделала вид, будто теряет равновесие, обхватила шею маркиза и, как перышко, спрыгнула на землю, оставив на песке едва заметный след своих птичьих лапок.
— Простите меня, — пролепетала она, изображая смущение, которого ни в малейшей мере не испытывала, — я чуть не упала и схватилась за раструб вашего воротника; когда тонешь или падаешь — цепляешься за что попало. А падение дело нешуточное и плохое предзнаменование для актрисы.
Разрешите мне считать этот случай особой для себя удачей, — ответил хозяин замка Брюйер, взволнованный прикосновением соблазнительно трепетавшей женской груди. Серафина, скосив глаза и пригнув голову к плечу, наблюдала происходившую у нее за спиной сцену и при этом не упустила ничего с той ревнивой зоркостью, которая стоит всех ста глаз Аргуса{59}. Зербина (так звали Субретку) этим фамильярным манером обеспечила себе внимание маркиза и, можно сказать, завоевала права на замок в ущерб героиням и актрисам на первые роли, — беспардонная наглость, ниспровергающая театральную иерархию. «Вот дрянная цыганка! Ей, видите ли, нужны маркизы, без них она не вылезет из повозки!» — выбранилась про себя Серафина, прибегнув к оборотам, мало соответствующим изысканной и жеманной манере, которой придерживалась обычно; однако в пылу досады женщины, будь то герцогини или примадонны, часто черпают выражения на рынке или среди черни.
— Жан, — обратился маркиз к лакею, который приблизился по его знаку, — распорядитесь, чтобы повозку поставили в каретный сарай, а декорации и прочие театральные принадлежности вынули из нее и сложили где-нибудь под навесом; скажите, чтобы сундуки приезжих господ и дам отнесли в комнаты, которые отвел им дворецкий. Я желаю, чтобы они не в чем не терпели недостатка и чтобы обращение с ними было самое почтительное и учтивое. Ступайте!
Отдав распоряжения, владелец замка важной поступью взошел на крыльцо, не преминув, прежде чем скрыться за дверью, бросить игривый взгляд Зербине, которая улыбалась не в меру завлекающе, по мнению донны Серафины, возмущенной бесстыдством Субретки.
Тиран, Педант и Скапен проводили запряженную волами повозку на задний двор и с помощью слуг извлекли из ее недр три скатанных полотнища старого холста, заключавших в себе городскую площадь, дворец и лес; еще из кузова достали канделябры античного образца для алтаря Гименея, чашу из позолоченного дерева, складной кинжал из жести, моток красных ниток, долженствующий изображать кровоточащую рану, пузырек с ядом, урну для праха и другой реквизит, необходимый при развязках трагедий.
В повозке странствующих актеров заключен целый мир. А что такое, по существу, театр, как не жизнь в миниатюре, не тот микрокосм, который ищут философы, замкнувшись в своих отвлеченных мечтаниях? Разве не объемлет театр всю совокупность явлений и судеб человеческих, живо отображенных в зеркале вымысла? Все эти груды засаленных, пропыленных отрепьев с позументом из поддельного порыжевшего золота, эти рыцарские ордена из мишуры и фальшивых камней, подделанные под античность мечи в медных ножнах, с затупленными железными клинками, шлемы и короны эллинской или римской формы — что это все, как не обноски человечества, в которые облачаются герои былых времен, чтобы ожить на миг при свете рампы? Бескрылому, убогому умишку мещанина ничего не говорят эти нищенские богатства, эти жалкие сокровища, которыми, однако, довольствуется поэт, облекая в них свою фантазию; ему достаточно их, чтобы в сочетании с магией огней и волшебством языка богов чаровать самых требовательных зрителей.
Слуги маркиза де Брюйера, по-господски надменные, как все лакеи из хорошего дома, брезгливо, с презрительной миной прикасаясь к этому театральному хламу, помогли перенести его под навес, где разложили по указаниям Тирана, режиссера труппы; они считали для себя унизительным услужать комедиантам, но, раз маркиз приказал, приходилось повиноваться, — он не терпел ослушания и был по-азиатски щедр на плети.
Явился дворецкий и, держа берет в руке, с таким почтительным видом, будто обращался к настоящим королям и принцессам, вызвался проводить актеров в приготовленные для них покои. В левом флигеле замка были расположены апартаменты и отдельные комнаты, предназначенные для гостей. Туда вели роскошные лестницы со ступенями из белого полированного камня и с удобно устроенными площадками. Далее шли длинные коридоры, вымощенные белыми и черными плитками, освещенные окнами с каждого конца; по обе стороны открывались двери комнат, называвшихся по цвету обивки, которому соответствовал и цвет наружной портьеры, чтобы каждому гостю легко было найти свое помещение. Там имелись желтая, красная, зеленая, голубая, серая, коричневая комнаты, комната с гобеленами, комната, обитая тисненой кожей, комната с панелями, комната с фресками и еще комнаты под другими подобными же названиями, которые вам предоставляется выдумать самим, потому что дальнейшее перечисление показалось бы слишком скучным и приличествовало бы скорее обойщику, нежели писателю.
Все эти покои были обставлены не только добротно и удобно, но даже изысканно. Субретке-Зербине досталась комната с гобеленами, которой придавали пикантность сладострастные любовные сцены из мифологии, вытканные на шпалерах; для Изабеллы была выбрана голубая комната, так как голубой цвет к лицу блондинкам; красную получила Серафина, а Дуэнья — коричневую, потому что этот хмурый тон под стать такой старушенции. Сигоньяка поместили в комнате, обитой тисненой кожей, недалеко от Изабеллы, — тонкое внимание со стороны маркиза. Эта комната, обставленная почти что роскошно, предназначалась для именитых гостей, и маркиз де Брюйер хотел особо выделить из среды комедиантов человека благородного происхождения, отдавая ему должное и вместе с тем уважая тайну его имени. Прочие актеры — Тиран, Педант, Скапен, Матамор и Леандр — тоже получили по комнате.
Войдя в отведенное ему жилище, куда уже был принесен его тощий багаж, и раздумывая о странности своего положения, Сигоньяк изумленным взором оглядывал пышный покой, какого не видал сроду и где ему предстояло прожить все время пребывания в замке. Как и указывало название комнаты, стены были обиты богемской кожей с вытисненными по лакированному золотому полю фантастическими узорами и причудливыми цветами, чьи венчики, стебли и листья были расцвечены отливающими металлом красками и сверкали, как фольга. Эти богатые и блистающие чистотой обои покрывали стены от карниза до панели черного дуба, расчлененной искусной резьбой на прямоугольники, ромбы и шахматные квадратики.
Оконные занавеси были из желтого с красным штофа, в тон обоям и преобладающей окраске разводов. Таким же штофом была убрана кровать, изголовье которой опиралось на стену, остальная же часть выдавалась в комнату, оставляя проходы с обеих сторон. Портьеры и обивка на мебели соответствовали остальному по ткани и расцветке.
Стулья с прямоугольными спинками и витыми ножками, обитые по краю бахромой на золоченых гвоздях, кресла, радушно простирающие выстланные волосом локотники, стояли вдоль панелей в ожидании гостей, а другие, сдвинутые полукругом у камина, манили к задушевной беседе. Сам же камин, высокий, большого объема и глубины, был из серанколенского мрамора, белого с розовыми пятнами. Яркий огонь, приятный в такое свежее утро, очень кстати пылал в нем, освещая своими веселыми отблесками доску с гербом маркиза де Брюйера. Стоявшие на камине небольшие часы изображали беседку с куполом-колокольчиком, с черненым серебряным циферблатом, имевшим отверстие посредине, в которое был виден весь сложный внутренний механизм.
Середину комнаты занимал стол, тоже на витых ножках, покрытый турецкой ковровой скатертью. Поставленный перед окном туалет склонял свое венецианское, ограненное по краям зеркало над гипюровой салфеткой, уставленной изысканным арсеналом кокетства.
Поглядевшись в это прозрачное зеркало, обрамленное затейливой черепаховой с оловом оправой, бедняга Сигоньяк был до крайности уязвлен своим собственным плачевным видом. Великолепные комнаты, блестевшие новизной, предметы обстановки только подчеркивали смехотворное убожество его одежды, вышедшей из моды еще до того, как был убит отец ныне царствующего монарха{60}. Хотя барон был один, легкая краска проступила на его впалых щеках. Прежде он считал свою бедность достойной сожаления, теперь же она показалась ему смешной, и он впервые устыдился ее. Стыдиться бедности позорно для философа, но извинительно для молодого человека.
Желая хоть немного принарядиться, Сигоньяк развязал узел, в который Пьер сложил его жалкое имущество. Рассматривая различные части одежды, он не признал годной ни одну из них. Камзол был слишком длинен, а панталоны слишком коротки, на локтях и коленях ткань пузырилась и была протерта до основы. Разошедшиеся швы скалили свои нитяные зубы. Штопаные и перештопанные места закрывали дыры не менее сложными переплетами, чем в тюремных окошечках или испанских воротах. Все эти отрепья до того вылиняли от солнца, воздуха и дождя, что художнику мудрено было бы определить их цвет. Белье тоже оказалось не лучше. От частой стирки оно истончилось до предела. Рубашки стали походить на тени настоящих рубашек. Казалось, они выкроены из паутины, которой изобиловал замок. В довершение всех бед, не находя пропитания в кладовой, изгрызли самые приличные из них, с помощью зубов сделав их ажурными наподобие гипюрового воротника, — излишнее украшение, без которого вполне мог обойтись гардероб бедного барона.
Удрученный результатами невеселого обследования, Сигоньяк не услышал осторожного стука в дверь, которая приотворилась, и в нее просунулась сперва багровая физиономия, а затем и грузная фигура господина Блазиуса, проникшего в комнату с бесчисленными, не в меру низкими поклонами, то ли подобострастно комическими, то ли комически подобострастными, выражавшими наполовину искреннее, наполовину притворное почтение.
Когда Педант приблизился к Сигоньяку, тот держал за оба рукава и, с унылой безнадежностью качая головой, разглядывал на свет рубаху, не менее ажурную, чем соборная роза{61}.
— Клянусь богом, у этой рубахи гордый и победоносный вид! — возгласил Педант, и барон вздрогнул от неожиданности. — Не иначе как она облекала грудь самого бога Марса во время осады неприступной твердыни, столько в ней дыр, прорех и других славных отметин, оставленных пулями, дротиками, копьями, стрелами и прочими метательными снарядами. Не следует стыдиться их, барон: эти дыры — уста, которыми глаголет доблесть, а под новехоньким, наплоенным по последней придворной моде фризским или голландским полотном зачастую скрывается вся подлость ничтожного выскочки, казнокрада и христопродавца; многие знаменитые герои, деяния которых сохранены историей, не имели больших запасов белья, примером чему служит Улисс, человек себе на уме, степенный и благоразумный, который предстал перед столь прекрасной Навзикаей, прикрытый лишь пучком водорослей, как то явствует из «Одиссеи» господина Гомеруса.
— К сожалению, милый мой Блазиус, сходство между мной и этим славным греком, царем Итаки, ограничивается отсутствием рубах, — возразил Сигоньяк. — В прошлом у меня нет подвигов, которые искупали бы нынешнее мое убожество. Мне еще ни разу не представилось случая проявить отвагу, и я сильно сомневаюсь, чтобы поэты когда-нибудь стали воспевать меня гекзаметром. Хотя и не следует стыдиться честной бедности, признаюсь, однако, что мне весьма неприятно явиться перед здешним обществом в таком наряде. Маркиз де Брюйер, конечно, узнал меня, хотя не подал виду, и может разгласить мой секрет.
Это и вправду крайне досадно, — согласился Педант, — но, как говорит пословица — лекарства нет только от смерти. Мы, бедные актеры, подобие человеческих жизней, тени людей любых сословий, лишены права быть, зато можем казаться: второе относится к первому, как отражение предмета — к самому предмету. Стоит нам пожелать, и при помощи нашего гардероба, где заключены все наши королевства, наследственные и прочие владения, мы принимаем горделивое обличье государей, вельмож и придворных кавалеров. На несколько часов мы блеском наряда уподобляемся самым чванливым из них; щеголи и франты подражают нашему бутафорскому изяществу, из поддельного превращая его в настоящее, заменяя коленкор тонким сукном, мишуру — золотом, стекло — алмазом, ибо театр — это школа нравов и академия моды. Будучи костюмером труппы, я могу обратить слизняка в завоевателя, обездоленного бедняка в богатого вельможу, потаскушку в знатную даму. И если вы не будете возражать, я применю к вам свое искусство. Если уж вы решили разделить нашу кочевую долю, не погнушайтесь воспользоваться и нашими преимуществами. Скиньте печальные одежды нищеты, которые скрывают ваши природные достоинства и внушают вам незаслуженное недоверие к себе. У меня как раз есть в запасе почти новый костюм из черного бархата с оранжевыми лентами, который нисколько не отдает театром и не посрамит даже придворного кавалера, — ведь сейчас у многих писателей и поэтов вошло в обычай выводить под вымышленными именами своих современников, а потому и одевать их надо, как приличествует добропорядочным людям, не фиглярам, переряженным на античный или фантастический лад. К этому у меня найдется и манишка, и шелковые чулки, и башмаки с помпонами, и плащ, — словом, все принадлежности наряда, скроенного прямо по вашей мерке, как будто в предвидении такого случая. Там имеется все, даже шпага.
— Ну, в ней-то нет нужды, — возразил Сигоньяк с высокомерным жестом, обнаружившим всю гордость дворянина, которую не могут сломить никакие невзгоды. — При мне всегда отцовская шпага.
— Берегите ее свято, — ответил Блазиус. — Шпага — верный друг и хранительница жизни и чести своего владельца. Она не покидает его перед лицом бедствий, опасностей и недобрых встреч, не в пример льстецам, этим подлым прихвостням благосостояния. У наших бутафорских мечей клинок и острие не отточены, ибо они должны наносить только мнимые раны, которые заживают сразу же к окончанию пьесы без корпии, безо всяких мазей и целительных снадобий. А ваша шпага защитит вас в нужную минуту, как защитила уже однажды, когда разбойник с большой дороги во главе своих огородных пугал совершил на нас отчаянное и смехотворное нападение. Теперь, если позволите, я пойду за вашим нарядом, скрытым на дне баула; мне не терпится узреть, как куколка превратится в мотылька.
Выговорив эти слова с комической высокопарностью, усвоенной на сцене и перенесенной в обычную жизнь, Педант вышел из комнаты и вскоре вернулся, держа в руках довольно объемистый, завернутый в простынку узел, который бережно положил на стол.
— Если вы соблаговолите от старого комедийного педанта услуги камердинера, я наряжу и завью вас на славу, — предложил Блазиус, с довольным видом потирая руки. — Все дамы не замедлят воспылать к вам страстью, ибо, будь сказано не в обиду повару замка Сигоньяк, от долгого поста в вашей «Башне Голода» вы приобрели вид страдальца, не на шутку умирающего от любви. Женщины же верят только в тощую страсть. Толстобрюхие воздыхатели не могут их убедить, хотя бы то были краснобаи, способные золотой цепью приковать к своих устам вельмож, горожан и простолюдинов, по примеру Огмия{62}, галльского Геркулеса. Только по этой причине и ни по какой другой я не очень-то преуспел у прекрасного пола и с юных лет пристрастился к божественной бутылке, благо она не набивает себе цену, и отдает предпочтение толстякам по причине их большей вместительности.
Такими речами добряк Блазиус старался развеселить барона де Сигоньяка, ибо живость языка не мешала проворству его рук; даже рискуя прослыть докучливым болтуном, он считал, что лучше оглушить молодого человека потоком слов, нежели отдать его во власть тягостным думам.
Туалет барона вскоре был закончен, потому что театр требует быстрых переодеваний и вырабатывает у актеров большую сноровку в такого рода метаморфозах. Довольный результатами своих стараний, Блазиус за кончик пальца, как невесту к алтарю, подвел барона де Сигоньяка к венецианскому зеркалу, стоявшему на столе, и сказал:
— А теперь благоволите взглянуть на вашу милость.
Сигоньяку сперва показалось, что он видит в зеркале чье-то чужое отражение, настолько оно было непохоже на его собственное. Он невольно обернулся и посмотрел через плечо, не встал ли кто-нибудь случайно позади него. Зеркало отразило его движения. Итак, это, несомненно, был он, Сигоньяк, но не прежний — тощий, грустный, жалкий, почти смешной в своем убожестве, а молодой, изящный, горделивый, чья старая одежда, скинутая на пол, напоминала ту серую тусклую оболочку, которую сбрасывает куколка, когда взлетает солнцу златокрылым мотыльком, отливающим киноварью и лазурью. Неведомое существо, заключенное в скорлупу нищеты, внезапно вырвалось из плена и под ясными солнечными лучами, падавшими в окно, засияло наподобие статуи, с которой торжественно открывая ее, сдернули покрывало. Сигоньяк предстал перед собой таким, каким порой воображал себя в мечтах, когда бывал одновременно героем и свидетелем необычайных событий, происходящих в замке, который искусные зодчие его грех успели обновить и разукрасить к приезду возлюбленной принцессы на белом иноходце. Победоносная улыбка алым заревом мелькнула на его бледных губах, и юность, издавна погребенная под бременем невзгод, проглянула в похорошевших чертах его лица.
Стоя возле туалета, Блазиус любовался своим произведением, отступая на шаг, как живописец, положивший последний мазок на полотно, которым он доволен.
— Если, как я надеюсь, вы преуспеете при дворе и вернете себе прежние богатства, не откажите принять меня, к тому времени отставного актера, на должность заведующего вашим гардеробом, — сказал он, подражая смиренному просителю, и поклонился преображенному Сигоньяку.
— Я приму во внимание вашу просьбу, — грустно улыбнулся Сигоньяк. — Вы, господин Блазиус, — первый человек, о чем-то попросивший меня.
— После обеда, который будет нам подан отдельно, мы отправимся к господину маркизу де Брюйеру, чтобы предложить ему список пьес, входящих в наш репертуар, и узнать от него, какое помещение отведено в замке под театр. Вы сойдете за поэта нашей труппы, — ведь в провинции встречается немало просвещенных людей, которые сопровождают колесницу Талии в надежде тронуть сердце какой-нибудь актрисы, что почитается весьма благородным и галантным поступком. Изабелла может служить прекрасным предлогом, тем более что она умна, хороша собой и добродетельна. Простушки зачастую гораздо более искренни в своих ролях, чем полагает развращенная и кичливая публика.
На этом Педант удалился, чтобы заняться собственным туалетом, хотя и не отличался щегольством.
Красавчик Леандр, не переставая мечтать о хозяйке замка, расфрантился как мог в надежде на несбыточное любовное приключение, которого неустанно домогался, но, по словам Скапена, ничего не получал, кроме разочарования и колотушек. Актрисам господин де Брюйер учтиво прислал несколько штук шелковых тканей, чтобы на всякий случай пополнить их театральный гардероб, и они, как легко себе представить, прибегли ко всем ухищрениям, какими пользуется искусство, дабы усовершенствовать природу, стремясь явиться во всеоружии, насколько позволяли им убогие одежды странствующих комедианток. Принарядившись, все отправились в залу, где был подан обед.
Маркиз, нетерпеливый по натуре, явился к актерам до того, как они встали из-за стола; Он не допустил, чтобы они прерывали трапезу, и лишь после того, как им подали воду ополоснуть руки, спросил у Тирана, какие пьесы они играют.
— У нас в репертуаре все пьесы покойного Арди{63}, — замогильным басом ответил Тиран, — «Пирам» Теофиля{64}, «Сильвия», «Кризеида» и «Сильванир», «Безумство Карденио», «Неверная наперсница», «Фелида из Скироса», «Лигдамон», «Наказанный обманщик», «Вдовица», «Перстень забвения», и все лучшее, что создано первейшими поэтами нашего времени.
— Я уже несколько лет живу вдалеке от двора и незнаком с последними новинками, — скромно ответил маркиз, — мне трудно вынести суждение о таком количестве первоклассных пьес, из коих большинство мне неизвестно; на мой взгляд, вернее всего будет вам самим, руководствуясь теорией и практикой, сделать выбор, который не преминет быть разумным.
— Нам часто приходилось играть пьесу, которая, пожалуй, не имела бы успеха в чтении, — ответил Тиран, — однако сценическими эффектами, остротой диалога, потасовками и шутовскими проделками она всегда вызывала смех у самых почтенных людей.
— Лучше и незачем искать, — решил маркиз. — Поистине счастливая находка. А как называется это образцовое произведение?
— «Бахвальство капитана Матамора».
— Клянусь честью, превосходное наименование! А у Субретки там хорошая роль? — спросил маркиз, подмигнув Зербине.
— Самая забавная и самая задорная на свете, и Зербина справляется с ней превосходно. Это ее коронная роль. Она неизменно срывает рукоплескания безо всяких наемных хлопальщиков.
В ответ на директорскую похвалу Зербина сочла уместным покраснеть, но ей не без труда удалось вызвать краску смущения на свои смуглые щеки. Скромность — эти румяны души, отсутствовала у нее совершенно. Среди баночек с притираниями такого крема не водилось на ее туалетном столе. Она потупила глаза, отчего стала заметна длина ее черных ресниц, и, как бы стараясь жестом остановить поток не в меру лестных слов, подняла на свет изящную, хоть и смугловатую руку с отставленным мизинчиком и розовыми ноготками, блестящими, как рубин, — недаром их полировали коралловым порошком и замшей.
В таком виде Зербина была очаровательна. Притворная стыдливость служит пряной приправой к изощренной распущенности; не обманываясь на этот счет, сластолюбец смакует всю пикантность лицемерной игры. Маркиз смотрел на Субретку пылким взглядом знатока, проявляя к остальным женщинам рассеянную учтивость благовоспитанного мужчины, чей выбор уже сделан.
«Он даже не осведомился, что за роль у героини! — думала в сердцах Серафина. — Какое неприличие! Этот вельможа и богач вопиюще обездолен по части ума, воспитания и вкуса. Наклонности у него самые низменные. Пребывание в провинции повредило ему, а привычка волочиться за стряпухами и пастушками окончательно испортила его манеры.»
Эти размышления никак не украсили Серафины. Ее правильные, ну суховатые черты становились привлекательными, когда их смягчало искусное жеманство улыбок и прищуренных глаз, а гримаса раздражения лишь подчеркивала их неприятную резкость. Она была, бесспорно, красивее Зербины, но в красоте ее чувствовалось что-то надменное, заносчивое, злобное. Это, быть может, не остановило бы любовь, которая не побоялась бы пойти на приступ. Зато легкокрылую прихоть спугнула бы мгновенно.
И маркиз удалился, не сделав попытки поухаживать ни за донной Серафиной, ни за Изабеллой, на которую, кстати, как он считал, пал выбор Сигоньяка. Напоследок он сказал Тирану:
— Я отдал распоряжение очистить для театра оранжерею — самую просторную залу в замке; туда уже, верно, принесли доски и козлы для подмостков, драпировки, скамьи, словом, все необходимое для импровизированного представления. Мои слуги неопытны в таких делах; распоряжайтесь ими, как староста на галере — командой каторжников. Они будут повиноваться вам, как мне самому.
Слуга проводил Тирана, Блазиуса и Скапена в оранжерею. На них обычно лежали заботы об устройстве сцены. Зала как нельзя лучше подходила для театрального представления — ее продолговатая форма позволяла устроить сцену на одном конце, а на свободном пространстве рядами поставить кресла, стулья, табуретки и скамьи, соответственно рангу зрителей и уважению, которое следовало им оказать. Стены залы разделаны под зеленый трельяж на голубом фоне, где изображены были постройки в сельском вкусе, с колоннами, аркадами, нишами, куполами, — во всем была соблюдена строгая перспектива, а однообразие ромбов и прямых линий смягчалось разбросанными кое-где гирляндами листьев и цветов. Полуциркульный потолок, в подражание небосводу, был усеян белыми пятнами облаков и пестрыми закорючками, изображавшими птиц; такое убранство как нельзя более соответствовало новому назначению залы.
С одного конца были настланы на козлах чуть наклонные подмостки. По обе стороны сцены выросли деревянные опоры для кулис, а ковровые портьеры, долженствующие играть роль занавеса, были натянуты на веревки и раздвигались собираясь слева и справа в виде драпировки, окаймляющей авансцену. Полоска материи, как на пологе, вырезанная по краю зубцами, заменяла фриз и завершала обрамление сцены.
Пока актеры хлопочут над устройством театра, займемся обитателями замка, о которых не мешает сообщить некоторые сведения. Мы забыли сказать, что маркиз де Брюйер был женат, — он сам настолько редко вспоминал об этом, что нам можно простить такую оплошность. Всякому понятно, что любовь не участвовала в заключении этого союза. Основанием его послужила одинаковая древность рода и соседство земельных угодий. После краткого медового месяца, не чувствуя взаимного влечения, маркиз и маркиза, как и подобает людям благовоспитанным, не стали по-мещански добиваться незадавшегося семейного счастья. По взаимному уговору они поставили на нем крест и жили вместе, но на разных половинах, в добром согласии, оказывая друг другу всяческое уважение и пользуясь всей той свободой, какую допускали приличия. Не подумайте на основании вышесказанного, что маркиза де Брюйер была женщиной некрасивой или малопривлекательной. Что отталкивает мужа, может стать лакомым куском для любовника. Любовь носит в глазах повязку, а брак — нет. Впрочем, мы сейчас представим вас маркизе, чтобы вы сами могли составить о ней суждение.
Маркиза занимала отдельные покои, куда маркиз не являлся без доклада. Мы совершим эту нескромность, в которой повинны писатели всех времен, и, не сказавшись пажу, обязанному предупредить камеристку, проникнем в спальню, зная, что не потревожим никого. Сочинитель романов непременно носит на пальце перстень Гигеса{65}, который делает его невидимкой.
Это была обширная, богато разукрашенная комната с высоким потолком. Стены ее были обиты фландрскими шпалерами теплых, сочных и мягких тонов, изображавшими похождения Аполлона. Пунцовые драпировки индийского узорчатого штофа пышными сборками ниспадали вдоль окон, и когда веселый солнечный луч пронизывал их, они светились пурпуром рубина. Кровать была убрана тем же штофом, полотнища которого были соединены позументом, образуя ровные переливчатые складки. Как полагается на балдахинах, по краю его шел ламбрекен, украшенный на всех четырех углах пышным султаном ярко-розовых перьев. Корпус камина был выдвинут вперед и, не уходя в стену, возвышался до самого потолка. Большое венецианское зеркало в хрустальной раме, грани и ребра которой искрились многоцветными огоньками, выступало из лепки камина с наклоном к комнате, навстречу тому, кто отражался в нем. На прутьях каминной решетки, как бы выдутых чьим-то мощным, но перехваченным дыханием, под огромным колпаком полированного металла, потрескивая, пылали три полена, вполне пригодные для рождественского огня. Исходивший от них жар был весьма кстати в такое время года для комнаты таких размеров.
По обе стороны туалета стояли два секретера редкостной работы, инкрустированные твердыми породами камня, с колоннами из ляпис-лазури, с потайными ящиками, куда маркиз не вздумал бы сунуть нос, даже знай он, как они открываются; а за туалетом сидела госпожа де Брюйер в типичном для эпохи Людовика XIII кресле с мягкой спинкой на уровне плеч, обитой бахромой.
Две горничные, стоя позади маркизы, прислуживали ей: одна протягивала подушечку с булавками, другая — коробочку с мушками.
Хотя, по словам маркизы, ей было всего двадцать восемь лет, она явно перешагнула за тридцать, за тот рубеж, которого так наивно страшатся женщины, считая его не менее грозным, чем опытные мореплаватели — мыс Бурь. Давно ли? Этого не знала даже и сама маркиза, такую путаницу внесла она во все даты. Опытнейшие историки, мастера по части хронологии, только поседели бы, стараясь навести тут порядок.
Маркиза была смуглая брюнетка, но от полноты, явившейся с годами, кожа ее побелела; присущий прежней ее худобе оливковый цвет лица, против которого она пускала в ход жемчужные белила и тальковую пудру, сменился матовой белизной, несколько болезненной при дневном свете, но ослепительной при свечах. Лицо ее расплылось и щеки обвисли, однако овал не утратил благородных очертаний. Пухленький второй подбородок довольно грациозной линией переходил в шею. Несмотря на слишком резкую для женской красоты горбинку, нос имел горделивую форму, а над выпуклыми карими глазами полукругом вздымались брови, придавая глазам удивленное выражение.
Искусные руки куаферши только что кончили укладывать в прическу ее густые черные волосы, — дело нелегкое, судя по количеству папильоток из пропускной бумаги, устилавших ковер вокруг туалетного стола. Челка из буколек в виде запятых окаймляла лоб и курчавилась у корней пышных волос, зачесанных валиком, меж тем как две воздушных пряди, взбитых быстрыми отрывистыми движениями гребня, вились вокруг щек, служа им изящной рамкой. Кокарда из лент, обшитых стеклярусом, венчала тяжелый узел, стянутый на затылке. Волосы были главным украшением маркизы, из них можно было делать любые прически, не прибегая к накладным локонам и парикам, недаром их обладательница охотно допускала дам и кавалеров присутствовать при том, как горничные наряжают ее.
С полной округлой шеи взгляд спускался к белоснежным пышным плечам, которые приоткрывал вырез корсажа и где виднелись две соблазнительные ямочки. Тесный корсет, приподымая грудь, сближал те два полушария, что у льстецов-стихотворцев, сочинителей сонетов и мадригалов упорно именуются враждующими братьями, хотя на самом деле они нередко мирятся друг с другом, не будучи столь свирепыми, как братья из «Фиваиды»{66}.
Шею маркизы окружал черный шелковый шнурок, продернутый в рубиновое сердечко, на котором висел бриллиантовый крестик, как бы заклиная языческую чувственность, пробуждаемую видом выставленных напоказ прелестей, и закрывая нечестивым желаниям доступ к груди, столь слабо защищенной кружевным укрытием.
Поверх белой атласной юбки на госпоже де Брюйер было гранатовое шелковое платье, подхваченное черными бантами и стеклярусными пряжками, с манжетами или откидными раструбами, как на рыцарских перчатках.
Жанна, одна из горничных маркизы, поднесла ей коробочку с мушками, — это был последний штрих, без которого туалет модницы того времени не мог считаться законченным. Госпожа де Брюйер прилепила одну мушку над уголком рта и долго искала места для другой, той, что зовется «злодейкой», потому что она сражает самых отважных кавалеров, безоружных перед ней.
Горничные, понимая всю важность происходящего, замерли на месте, притаив дыхание, лишь бы не вспугнуть кокетливое раздумье своей госпожи. Наконец застывший в нерешительности палец направился к цели, и крохотная точка, черная звездочка на сверкающих белизной небесах, точно родинка, села у начала левой груди. На языке любовных символов это означало, что путь к устам ведет через сердце.
Довольная собой, маркиза бросила последний взгляд в венецианское зеркало, склоненное над туалетным столом, встала и прошлась по комнате, вынула из ларчика круглые часы, нюрнбергское яйцо, как говорили тогда, с тонким рисунком из разноцветной эмали и с алмазной осыпью, висевшее на цепочке с крючком, который она прицепила к поясу рядом с ручным зеркальцем в позолоченной оправе.
— Ваше сиятельство сегодня в авантаже: и прическа и платье вам как нельзя больше к лицу, — вкрадчиво сказала Жанна.
— Ты находишь? — небрежным тоном рассеянно протянула маркиза. — А мне, наоборот, кажется, что я сегодня страшна как смертный грех. Глаза запавшие, а цвет платья толстит меня. Не лучше ли надеть черное? Как по-твоему, Жанна? В черном кажется тоньше.
— Если вашему сиятельству угодно, я надену на вас тафтяное платье пюсового или прюнового цвета. Это дело минутное; только боюсь, как бы ваше сиятельство не испортило этим весь наряд.
— Ты, Жанна, будешь виновата, если я обращу в бегство купидона и не соберу за сегодняшний вечер достаточной жатвы сердец. Много народу пригласил маркиз на представление?
— Верховые отправлены в разные стороны. Соберется, конечно, многочисленное общество: гости съедутся из всех окрестных замков. Случаи развлечься до того уж редки в наших краях!
— Да, в этом ты права, — вздохнула маркиза, — ужас как тут скудно на предмет увеселений! А комедиантов ты видела, Жанна? Есть среди них молодые, приятной наружности и благородной осанки?
— Не знаю, что и ответить вашему сиятельству. От румян, белил и париков лица этих людей похожи на маски. Они очень выигрывают при свечах против того, каковы они на самом деле. Все же мне показалось, что один из них и видом и манерами вполне презентабелен — у него красивые зубы и стройные ноги.
— Это, должно быть, первый любовник, Жанна, — сказала маркиза. — На такие роли выбирают самых красивых мужчин в труппе — не подобает же носатому нашептывать нежности, кривоногому преклонять колена для любовного признания.
— Да это совсем никуда бы не годилось, — смеясь, подтвердила горничная. — Мужья какие есть, такие и есть, а любовники должны быть безупречны.
— Потому-то мне и нравятся театральные любезники, они цветисто говорят, умело выражают нежные чувства, млеют у ног жестокой красавицы, призывают в свидетели небеса, клянут свою судьбу, выхватывают из ножен шпагу, чтобы пронзить себе грудь, извергают огонь и пламень, точно дышащий любовью вулкан, и своими речами способны довести до экстаза самую неприступную добродетель; слова их так приятно волнуют меня, будто обращены прямо ко мне. Порой меня даже раздражает холодность красотки, и я про себя негодую на то, что по ее милости томится и сохнет столь совершенный любовник.
— У вашего сиятельства добрая душа, — ответила Жанна, — вам невмоготу смотреть на чужие страдания. Я куда более жестокосердна, мне прелюбопытно было бы взглянуть, как это на самом деле умирают от любви. Пышными словами меня не убедишь!
— У тебя чересчур прозаический ум, Жанна, он требует материальных доказательств. Ты, не в пример мне, не привыкла читать романы и театральные пьесы. Кажется, ты говорила, что первый любовник труппы недурен собой?
— Можете судить об этом сами, ваше сиятельство, — сказала камеристка, г лядя в окно. — Он как раз идет по двору, должно быть, в оранжерею, где сооружают театр.
Маркиза приблизилась к оконной амбразуре и увидела Леандра, который шел мелкими шажками, как бы погруженный в страстные мечты. Он на всякий случай напускал на себя меланхолический вид, за которым женщины угадывают сердечную рану и рвутся ее врачевать. Подойдя к балкону, он закинул голову рассчитанным движением, придавшим его глазам особый блеск, и устремил на окно долгий, скорбный взгляд, полный безнадежной любви и вместе с тем живейшего и почтительнейшего восхищения. Увидев маркизу, прильнувшую лбом к стеклу, он снял шляпу и взмахнул ею так, что пером коснулся земли, отвесил глубокий поклон, какой отвешивают королевам и богиням, подчеркивая дистанцию между эмпиреями и земной юдолью. Затем изящным жестом надел шляпу и снова принял надменную осанку кавалера, на миг склонившего свою гордыню к подножию красоты. Все это было проделано четко, точно, безупречно. Настоящий вельможа, искушенный в светском и придворном обиходе, не мог бы вернее передать малейший оттенок.
Польщенная его приветствием, сдержанным и вместе с тем благоговейным, так умело отдающим должное ее высокому званию, маркиза не могла удержаться, чтобы не ответить кивком головы и чуть заметной улыбкой.
Эти знаки благосклонности не ускользнули от Леандра, и он с присущим ему фатовством не замедлил преувеличить их значение, тотчас же решив, что маркиза успела в него влюбиться. В его необузданном воображении уже созрел целый неправдоподобный роман. Наконец-то осуществится мечта всей его жизни! Наконец у него, бедного провинциального актера, разумеется, высокоодаренного, но ни разу еще не игравшего при дворе, будет любовная интрига с настоящей знатной дамой, владелицей поистине княжеского замка. От этих бредней у него голова пошла кругом; сердце готово было выпрыгнуть из груди, и, воротясь к себе в комнату после репетиции, он сел писать высокопарное послание, рассчитывая каким-нибудь путем передать его маркизе.
Так как все роли были давно известны, пьеса «Бахвальство капитана Матамора» могла начаться сразу же, как съехались гости маркиза.
Оранжерея, превращенная в театральную залу, являла собой очень красивое зрелище. Свечи, вставленные в стенные жирандоли, распространяли мягкий свет, выгодный для женских уборов, без ущерба для сценических эффектов. Позади зрителей, на ступенчатом дощатом возвышении были расставлены кадки с померанцевыми деревьями; от их листьев и плодов, согретых теплом залы, исходил сладостный аромат, смешиваясь с запахами духов — мускуса, росного ладана, ириса и амбры.
В первом ряду, перед самой сценой массивные кресла занимали Иоланта де Фуа, герцогиня де Монтальбан, баронесса д'Ажемо, маркиза де Брюйер и другие высокородные особы, соперничавшие между собой в щегольстве и великолепии нарядов. Бархат, атлас, серебряная и золотая парча, кружево, гипюр, канитель, бриллиантовые застежки, жемчужные ожерелья, серьги с подвесками, подхваты из драгоценных каменьев искрились на свету, переливаясь всеми цветами радуги. Но куда ярче любых алмазов сверкали глаза их обладательниц. И при дворе вряд ли могло собраться более блистательное общество.
Не будь там Иоланты де Фуа, многие смертные богини поставили бы Париса перед выбором{67}, которой из них вручить золотое яблоко, но ее присутствие делало всякому соревнование бесполезным. Между тем юная аристократка гораздо менее была похожа на снисходительную Венеру, нежели на суровую Диану. Красота ее была безжалостна, осанка непреклонна, совершенство доводило до отчаяния. Лицо удлиненного изящного овала казалось не сотворенным из живой плоти, а выточенным из агата или оникса, такой неземной чистоты и благородства были его черты. Тонкая, гибкая лебединая шея девственной линией переходила в плечи, еще по-детски худощавые, и в юную белую, как снег, грудь, ни разу не трепетавшую от бурного биения сердца. Изогнутый, как лук Дианы Охотницы, рот метал стрелы иронии, даже когда безмолвствовал, а ледяные взгляды голубых глаз пресекали предприимчивость смельчаков. Однако ее очарование было неотразимо. Весь ее дерзостно ослепительный облик бросал вызов несбыточным желаниям. Ни один мужчина, увидев Иоланту, не мог в нее не влюбиться, но лелеять мечту о взаимной любви отваживались очень немногие.
Как она была одета? У нас не достанет самообладания, чтобы описать ее наряд. Одежда облекала ее стан лучезарной дымкой, в которой каждый видел лишь ее самое. Однако сдается нам, что гроздья жемчугов переплетались с ее золотистыми кудрями, как ореол сиявшими вокруг лба.
Позади дам на табуретах и скамейках расположились вельможи и родовитые дворяне — отцы, мужья и братья красавиц. Одни изящно склонялись над спинками кресел, нашептывая любезности в благосклонное ушко, другие обмахивались султанами своих шляп или, выпрямясь во весь рост и подбоченясь, чтобы покрасоваться своей статью, окидывали собрание самодовольным взглядом. Гул голосов, как легкий туман, реял над головами зрителей, которые начали уже терять терпение, когда раздались три торжественных удара, тотчас же водворив тишину.
Занавес медленно раздвинулся, и открылась декорация, изображавшая городскую площадь, место неопределенное, удобное для интриг и столкновений примитивной комедии. Это был перекресток, окруженный домами с островерхими кровлями, с выступающими один над другим этажами, со свинцовыми переплетами на оконцах, с наивными штопорами дымков, поднимавшихся из труб к облакам, которым никакие швабры не могли вернуть первоначальную белизну. На стыке двух улиц, отчаянными усилиями стремившихся углубиться в холст и создать перспективу, стоял дом с настоящей дверью и настоящим окном. Две кулисы, соединенные между наверху полоской кисеи с лужицами жира, обладали теми же усовершенствованиями, а на одной из них имелся даже балкон, на который можно было взобраться по лесенке, невидимой для зрителей, — устройство, удобное для бесед, свидания и похищений на испанский манер. Как видите, театр нашей маленькой труппы был недурно оборудован по тем временам. Конечно, на взгляд знатока, декорации были намалеваны довольно неумело и грубо. Черепицы на крышах резали глаз не в меру ярким красным цветом, листва на деревьях перед домами отличалась ядовитейшей зеленью, а голубые просветы на небе были лазоревы до неправдоподобия; но по общему виду снисходительные зрители довольно легко могли представить себе, что место действия — городская площадь.
От двадцати четырех свеч рампы, с которых был тщательно снят нагар, падал яркий свет на эти бесхитростные декорации, непривычные к такому роскошеству. Красочное зрелище вызвало в публике гул одобрения.
Пьеса начиналась ссорой честного буржуа Пандольфа с дочерью Изабеллой. Она объявила, что влюблена в белокурого красавца, а потому наотрез отказывается выйти замуж за капитана Матамора, от которого отец был без ума, и служанка Зербина, подкупленная Леандром, рьяно поддерживала ее сопротивление. Пандольф ругательски ругал дерзкую субретку, а она, не оставаясь в долгу, находила сотни возражений и советовала хозяину самому обвенчаться с Матамором, раз уж он так ему полюбился. Она же не допустит, чтобы ее барышня стала женой старого филина, носатой образины, которая щелчка просит, пугала, годного только для огорода. Взбешенный Пандольф, желая поговорить с дочерью наедине, гнал субретку в дом; но она плечом оборонялась от его толчков и, не двигаясь с места, так изгибала стан, так задорно поводила бедрами, так кокетливо шуршала юбками, что настоящей балерине в пору было позавидовать ей. На каждую тщетную попытку Пандольфа она отвечала смехом, открывая рот во всю ширь и показывая тридцать два жемчужных зуба, еще ярче сверкавших при свечах, ее смех был способен был разогнать тоску самого Гераклита{68}, подведенные глаза сияли, как бриллианты, губы рдели от кармина, а новые юбки, сшитые из подаренной маркизом тафты, трепыхаясь, вспыхивали на сгибах и как будто сыпали искрами.
Ее игра вызвала дружные рукоплескания, и владелец замка Брюйер лишний раз убедился, что проявил хороший вкус, остановив свой выбор на этой жемчужине всех субреток.
Но тут новый персонаж появился на сцене, оглядываясь, словно боясь, что его заметят. Это был Леандр, бич отцов, мужей и опекунов, любимец жен, дочерей и воспитанниц, — одним словом, любовник, тот, о ком мечтают, кого ждут и кого ищут, кто должен претворить в действительность отвлеченный идеал, осуществить посулы поэтов, драматургов и романистов, стать олицетворением молодости, страсти, счастья, не знать человеческих немощей, не испытывать ни голода, ни жажды, ни зноя, ни стужи, ни страха, ни усталости, ни болезней и ни на миг — ночью и днем — не утратить способности испускать томные вздохи, ворковать о любви, прельщать дуэний, подкупать субреток, взбираться по веревочным лестницам, обнажать шпагу при встрече с соперником или с неожиданной помехой и при этом всегда быть чисто выбритым, красиво завитым, носить безупречное платье и белье, строить глазки и складывать губы сердечком, наподобие восковой куклы! Тяжкое ремесло, которое не окупается даже любовью всех женщин без изъятия.
Рассчитывая встретить Изабеллу, а вместо нее столкнувшись с Пандольфом, Леандр замер на месте в позе, которая была тщательно заучена перед зеркалом, так как она подчеркивала достоинства его наружности: стан склонен влево, правая нога чуть согнута в колене, одна рука сжимает эфес шпаги, другая поднята к лицу, чтобы виден был блеск пресловутого алмаза на перстне, пламенный взор подернут негой, легкая улыбка приоткрывает эмаль зубов. Сейчас он на самом деле был хорош собой. Новые ленты освежили костюм, сорочка ослепительной чистоты белой пеной проступала между камзолом и панталонами, узкие башмаки на высоких каблуках, украшенные огромной кокардой, дополняли облик отменного кавалера. Зато и в глазах дам он преуспел вполне; даже придирчивая Иоланта не нашла в нем повода для насмешки. Воспользовавшись паузой, Леандр через рампу обратил к маркизе самый свой обольстительный взгляд с выражением такой страстной мольбы, что она невольно залилась краской; затем он перевел этот взгляд на Изабеллу, но уже потухшим и рассеянным, как бы подчеркивая разницу между любовью истинной и поддельной.
При виде Леандра Пандольф разъярился еще пуще. Он приказал дочери и субретке немедленно войти в дом, однако Зербина успела все-таки спрятать в карман записочку от Леандра к Изабелле с просьбой о ночном свидании. Оставшись наедине с отцом, молодой человек учтивейшим образом принялся заверять его в чистоте своих намерений, имеющих целью священнейшие из уз, а также в благородстве своего происхождения, благосклонности к нему сильных мира сего и кое-каких связях при дворе, превыше же всего в том, что даже смерть не отторгнет его от Изабеллы, ибо он любит ее больше жизни; юная девица, стоя на балконе, с восторгом внимала его пленительным речам и грациозными кивками выражала одобрение. Не поддаваясь этому слащавому красноречию, Пандольф с чисто старческим упорством долбил свое — либо его зятем будет капитан Матамор, либо он упрячет дочку в монастырь. И тут же отправился за нотариусом, чтобы покончить с этим делом.
Уходя, Пандольф замкнул дверь на двойной запор, и теперь Леандр убеждал появившуюся у окна красотку, чтобы она, во избежание таких крайностей, согласилась бежать с ним к его знакомому монаху — тот не отказывается сочетать браком влюбленных, которым чинит препоны деспотизм родителей. На это Изабелла, признавая, сколь чувствительна она к страсти Леандра, с девичьей скромностью возразила, что надо чтить тех, кто произвел нас на свет, а монах тот, чего доброго, и не может венчать как положено; зато она обещает противиться всеми силами и скорее пострижется в монахини, нежели вложит свою ручку в лапищу Матамора.
Влюбленный отправился кое-что предпринять с помощью слуги — продувного малого, изобретательного на плутни, уловки и военные хитрости, не хуже самого Полиена{69}. К вечеру он намеревался возвратиться под балкон возлюбленной и отдать ей отчет в успехе своих начинаний.
Едва Изабелла закрыла окно, как, по своему обыкновению некстати, на сцене появился Матамор. Его выход, которого все ждали, произвел сильный эффект. Этот излюбленный персонаж обладал даром вызывать смех у самых заядлых меланхоликов.
Хотя столь свирепое поведение ничем не было вызвано, Матамор, делая шаги длиной с те шестифутовые слова, о которых толкует Гораций{70}, приблизился к рампе и остановился там, расставив ноги циркулем, нагло и заносчиво подбоченясь, словно бросал вызов всей зрительной зале. При этом он крутил ус, вращал глазами, раздувал ноздри и громко пыхтел, как бы в гневе за мнимую обиду намереваясь уничтожить весь род человеческий.
Ради столь торжественного случая Матамор извлек из недр сундука почти новый костюм, который надевался лишь при особых обстоятельствах и в своей карикатурно испанской пышности казался еще нелепее на скелетоподобном капитане. Состоял костюм из выгнутого наподобие лат камзола с красными и желтыми поперечными полосами, которые, как на перевернутом гербе, сходились под углом посередке и были скреплены рядом пуговиц. Мыс камзола спускался низко на живот, а края его и проймы были обшиты толстым жгутом тех же цветов; такие же полосы извивались спиралями вдоль рукавов и панталон, отчего руки и ляжки казались затейливыми дудками. Кто вздумал бы натянуть на петуха красные чулки, тот получил бы точное представление об икрах Матамора. Огромные желтые помпоны сидели на башмаках с красными прорезями, точно капустные кочаны на огороде; подвязки с торчащими бантами стягивали над коленом ноги, лишенные намека на мясо, как лапы голенастой цапли. Положенные на картон и заглаженные восьмерками брыжи охватывали шею и вынуждали актера задирать голову, что соответствовало духу его заносчивых персонажей. А голову ему покрывала пародия на шляпу в стиле Генриха IV с загнутым полем и с пучком красных и белых перьев. За плечами развевался изрезанный зубцами плащ тех же цветов, прекомически подхваченный гигантской рапирой, которую оттягивала тяжелая чашка. В конце длиннейшего клинка, на который можно было бы насадить с десяток сарацинов, висела проволочная розетка тонкой работы, изображавшая паутину, — неоспоримое доказательство того, как редко Матамор пользовался своим смертоносным оружием. Зрители, обладавшие острым зрением, могли бы даже разглядеть металлического паучка, который безмятежно болтался на проволочной нити, явно уверенный, что никто не помешает его трудам.
В сопровождении слуги Скапена, которому острие хозяйской рапиры грозило выколоть глаза, Матамор раза два-три обежал сцену, звеня шпорами, нахлобучив шляпу до бровей и строя страшные рожи. Зрители покатывались со смеху; наконец он вновь остановился у самой рампы и начал монолог, уснащенный враньем, преувеличениями и похвальбой; постараемся вкратце изложить его содержание, из которого люди просвещенные могут заключить, что автор пьесы {71}читал Плавтова «Miles gloriosus», прародителя всей плеяды Матаморов.
— На сегодня, Скапен, я дам моей смертоносной рапире отдохнуть в ножных и предоставлю лекарям увеличивать население кладбищ, где я состою главным поставщиком. Кто, подобно мне, свергнул с престола персидского хана, за бороду вытащил Арморабакена из его стана, а свободной рукой сразил десять тысяч неверных турок, пинком сокрушил стены сотен крепостей, не раз бросал вызов судьбе, задавал трепку случаю, предавал зло огню и мечу, как гусака ощипал Юпитерова орла, когда тот отказался принять вызов, боясь меня больше, чем титанов, кто шел против ружей с громовой стрелой, вспарывая небо острием усов, — тому, конечно, не грех побездельничать и поразвлечься. Кстати же, вселенная укрощена и не ставит более преград моей удали, а парка Атропа осведомила меня, что ножницы, которыми она обрезала нить скошенных моим мечом жизней, притупились и ей пришлось отправить их к точильщику. Итак, Скапен, мне надо обеими руками сдерживать мою храбрость, прекратить на время дуэли, войны, побоища, разгромы, опустошения городов, рукопашные схватки с гигантами, истребление чудовищ по образцу Тезея и геркулеса, в чем находит себе выход вся алчность моей неукротимой отваги. Я сам хочу отдохнуть и даю передышку смерти! Ну а в каких развлечениях проводит свои досуги и рекреации сеньор Марс, этот жалкий драчун по сравнению со мной? Он нежится в объятиях белых и мягких рук госпожи Венеры, которая, будучи благоразумнейшей из богинь, отдает предпочтение воинам, жестоко презирая своего хромоногого рогоносца-мужа{72}. Вот почему я решил снизойти до человеческих чувствований, и, видя, что Купидон не осмеливается направить стрелу с золотым наконечником в храбреца моей закалки, я поощрительно подмигнул ему. Этого мало, — чтобы острие могло пронзить доблестное львиное сердце, я скинул кольчугу, сплетенную из колец, которые дарили мне богини, императрицы, королевы, инфанты, принцессы и знатные дамы со всего света, мои знаменитейшие любовницы, дабы их магическая сила оберегала меня в самых моих безрассудных деяниях.
— Насколько моему слабому разумению доступны перлы столь блистательного красноречия, уснащенного столь меткими оборотами и красочными метафорами в азиатском вкусе, — сказал слуга, делавший вид, будто слушает пламенную тираду хозяина с величайшим напряжением ума, — из этого чуда риторики явствует, что вашей доблестнейшей милости вздумалось воспылать страстью к какому-нибудь юному бутончику, иначе говоря, вы влюбились, как самый простой смертный.
Надо сознаться, для лакея у тебя недюжинная смекалка, ты попал прямо в точку, — снисходительно, с высокомерным добродушием подтвердил Матамор. — Да, я имею слабость быть влюбленным; но не бойся, это не нанесет ущерба моей отваге. Я не Самсон, чтобы позволить себя остричь, и не Алкид, чтобы сидеть за прялкой{73}. Пусть попробовала бы Далила дотронуться до моих волос! Омфала, та стаскивала бы с меня сапоги. При малейшем непослушании я бы заставил ее отчищать от грязи шкуру немейского льва{74}, как испанский плащ. В часы досуга у меня явилась такая унизительная для отважного сердца мысль: конечно, я сразил род человеческий, но поверг только лишь его половину. Женщины, создания беззащитные, ускользают из-под моей власти. Неблаговидно рубить им головы, отрезать руки и ноги, рассекать их надвое до пояса, как я поступаю с моими врагами — мужчинами. Учтивость не допускает таких воинственных повадок с женщинами. Мне достаточно капитуляции их сердец, безоговорочной покорности души, расправы с их добродетелью. Правда, число плененных мною дам превышает количество песчинок в море и звезд на небе, я таскаю за собой четыре сундука с любовными записочками, письмами и посланиями и сплю на тюфяке, набитом черными, русыми, рыжими и белокурыми локонами, которыми одаривали меня даже целомудреннейшие скромницы. Со мною заигрывала сама Юнона{75}, но я отверг ее, потому что она порядком перезрела в своем бессмертии, несмотря на то что Канафосский ключ каждый год возвращает ей девственность. Но все эти победы я считаю поражениями, и лавровый венок, в котором недостает хотя бы одного листка, не нужен мне, он обесчестит мне чело. Прелестная Изабелла смеет мне противиться, и хотя любые преграды мне желанны, такую дерзость я стереть не могу и требую, чтобы она сама коленопреклоненно с распущенными волосами, моля о пощаде и помиловании, принесла мне на серебряном блюде золотые ключи от своего сердца. Ступай, принуди эту твердыню к сдаче. Даю ей три минуты на размышления: песочные часы будут в ожидании трепетать на длани устрашенного времени.
С эти Матамор остановился в подчеркнуто угловатой позе, комизм которой усугубляла его сверхъестественная худоба.
Несмотря на лукавые уговоры Скапена, окно не открывалось. Уповая на прочность стен и не боясь подкопа, гарнизон в составе Изабеллы и Зербины не подавал признаков жизни. Матамор, которого ничем нельзя озадачить, на сей раз был озадачен этим молчанием.
— Кровь и пламень! Небо и земля! Громы и молнии! — взревел он, топорща усы, как разъяренный кот. — Эти потаскушки не шелохнутся, точно дохлые коты. Пусть выкинут флаг и бьют отбой, иначе я щелчком опрокину их дом! И поделом недотроге, если она погибнет под развалинами. Скапен, друг мой, чем ты объясняешь такое лютое и дикое сопротивление моим чарам, коим, как известно, нет равных ни у нас на земноводном шаре, ни даже на Олимпе, обиталище богов?!
— Я объясняю это осень просто. Некий Леандр, конечно, не такой красавец, как вы, — но не все обладают хорошим вкусом, — вступил в сговор с местным гарнизоном, и ваша отвага направлена на крепость, покоренную другим. Вы пленили отца, а Леандр пленил дочь. Тол ко и всего.
Что? Ты говоришь — Леандр?! О, не повторяй этого презренного имени, не то от лютой злобы я сорву с небес солнце, выбью глаз у луны и, ухватив землю за концы земной оси, так ее тряхну, что произойдет новый потоп, не хуже чем при Ное или Огиге{76}. Этот поганый сопляк осмеливается у меня под носом ухаживать за Изабеллой, царицей моих помыслов! Только покажись мне, отпетый развратник, хлыщ с большой дороги, я вырву тебе ноздри, разрисую крестами твою рожу, проткну тебя насквозь, разнесу, исколю, раздавлю, распотрошу, растопчу тебя, сожгу на костре и развею твой пепел! Если ты попадешься мне под руку, пока не отбушевал мой гнев, пламя из моих ноздрей отбросит тебя в первозданный огонь за пределы вселенной. Я зашвырну тебя в такую высь, что назад ты уже не вернешься. Стать мне поперек дороги! Я сам содрогаюсь при мысли, сколько бед и несчастий навлечет такая дерзость на злополучное человечество. Достойно покарать такое преступление я могу, лишь раскроив одним ударом всю планету. Леандр — соперник Матамора! Клянусь Махмутом{77} и Терваганом{78}! Слова застревают в испуге, не смея выговорить такую ересь. Они не вяжутся друг с другом; когда берешь их за шиворот, чтобы соединить вместе, они воют, зная, что я не спущу им такой дерзости. Отныне и впредь Леандр, — о язык мой, прости, что я вынуждаю тебя произнести это гнусное имя, — Леандр может почитать себя покойником и пусть поспешит заказать себе у каменотеса надгробный монумент, если я по великодушию своему не откажу ему в погребении…
— Клянусь кровью Дианы! Что кстати, то кстати, — заметил слуга, — господин Леандр собственной персоной не спеша приближается к нам. Вот вам случай начистоту объясниться с ним, и каким же великолепным зрелищем будет поединок двух таких храбрецов! Не стану таить от вас, что среди местных учителей фехтования и их помощников этот дворянин завоевал неплохую славу. Поспешайте обнажить шпагу; я же, когда дело дойдет до схватки, постерегу, чтобы стражники не помешали вам.
— Искры от наших клинков обратят их в бегство. Разве такое дурачье посмеет сунуться в этот кроваво-огненный круг? Не отходи от меня, друг Скапен, если по несчастной случайности мне будет нанесен чувствительный удар, ты примешь меня в свои объятия, — отвечал Матамор, очень любивший, когда прерывали его поединок.
— Идите же отважно навстречу и преградите ему путь, — сказал слуга, подталкивая своего господина.
Видя, что отступление отрезано, Матамор нахлобучил шляпу до бровей, подкрутил усы, положил руку на чашку своей гигантской рапиры и, приблизившись к Леандру, смерил его с головы до пят самым что ни на есть дерзким взглядом; но все это было пустое фанфаронство, потому что зубы его громко стучали, а тощие ноги дрожали и гнулись, словно тростник под ветром. У него оставалась последняя надежда устрашить Леандра громовыми раскатами голоса, угрозами и похвальбами, ибо зайцы часто рядятся в львиные шкуры.
— Известно ли вам, сударь, что я капитан Матамор, отпрыск славной фамилии Куэрно де Корнасан и свойственник не менее знаменитого рода Эскобомбардон де ла Папиронтонда, а по женской линии являюсь потомком Антея?
— Да хоть бы вы явились с луны, — презрительно передернув плечами, ответил Леандр, — мне-то какое дело до этой белиберды!
— Черт подери, сударь, сейчас вам до этого будет дело, а пока не поздно, убирайтесь прочь, и я пощажу вас. Мне жаль вашей молодости. Взгляните на меня. Я гроза вселенной, запанибрата с Курносой, провидение могильщиков; где я прохожу, там вырастают кресты. Тень моя едва решается следовать за мной, в такие опасные места я таскаю ее. Вхожу я только через брешь, выхожу через триумфальную арку; подаюсь вперед, только делая выпад, подаюсь назад, парируя удар; ложусь, — значит, повергаю врага; переправляюсь через реку, — значит, это река крови, а мостовые арки — это ребра моих противников. Я упиваюсь разгулом битвы, убивая, рубя, разя, круша направо и налево, пронзая насквозь. Я швыряю на воздух коней вместе с всадниками и, как соломинки, переламываю кости слонов. Беря крепость приступом, я взбираюсь на стены с помощью двух пробойников и голыми руками извлекаю ядра из пушечных жерл. Ветер от взмаха моего меча опрокидывает батальоны, точно снопы на оку. Когда Марс сталкивается со мной на поле битвы, он бежит, боясь, что я уложу его на месте, хоть и зовется богом войны; словом, отвага моя столь велика и ужас, внушаемый мною, столь силен, что до сей поры мне, аптекарю смерти, доводилось видеть любых храбрецов лишь со спины!
— Ну что же, сейчас вы увидите одного из них в лицо, — заявил Леандр, награждая левый профиль Матамора увесистой пощечиной, смачный отзвук которой прокатился по всей зале.
Бедняга качнулся вбок и едва не упал, но вторая, не менее внушительная пощечина с другой стороны восстановила его равновесие.
Во время этой сцены на балконе появились Изабелла и Зербина. Лукавая субретка покатывалась со смеху, а госпожа ее приветливо кивала Леандру. В глубине сцены показался Пандольф в сопровождении нотариуса и, растопырив все десять пальцев, вытаращив глаза, смотрел, как Леандр колотит Матамора.
— Клянусь шкурой крокодил и рогом носорога, — завопил хвастун, — могила твоя разверста, и я столкну тебя в не, мошенник, проходимец, бандит! Лучше бы тебе было дернуть за ус тигра или змею за хвост в индийских лесах. Задеть Матамора! На это не отважился бы сам Плутон{79} со своим двузубцем. Я бы низверг его с адского престола и завладел Прозерпиной{80}. Ну же, наголо, мой смертоносный клинок! Выглянь на свет, сверкни на солнце и, как в ножны, вонзись в живот безрассудного наглеца. Я алчу его крови, его мозга, всех его потрохов, я вырву душу из его глотки!
Говоря так, Матамор напрягал все жилы, вращал глазами, щелкал языком, будто всячески старался вытянуть непокорный клинок из ножен. Он весь вспотел от усилий, но смертоносная сталь предпочитала остаться нынче дома, как видно, опасаясь потускнеть от сырого воздуха.
Леандру прискучило смотреть на эти смехотворные старания, он дал хвастуну такого пинка, что тот отлетел на другой конец сцены, сам же, отвесив грациозный поклон Изабелле, удалился.
Матамор, лежа на спине, болтал в воздухе своими тонкими, стрекозьими ногами. Поднявшись с помощью Скапена и Пандольфа и убедившись, что Леандр ушел, он сделал вид, будто захлебывается от бешенства.
— Сделай милость, Скапен, стяни меня железными обручами, — я сейчас лопну от ярости, разорвусь, как бомба! А ты, коварный клинок, предаешь своего господина в роковую минуту — вот какова твоя благодарность за то, что я всегда поил тебя кровью славнейших воинов и бесстрашнейших дуэлистов! Мне следовало бы переломить тебя о колено на тысячу кусков за трусость, измену и вероломство; но ты дал мне понять, что истинный воин всегда должен быть готов идти на приступ, а не предаваться любовной неге. Правду сказать, за всю эту неделю я не обратил в бегство ни одной армии, не сразил ни дракона, ни другого чудовища, не снабдил смерить положенным рационом трупов, и ржавчина покрыла мой меч — ржавчина стыда, плесень праздности! На глазах у моей избранницы этот молокосос посмел смеяться, глумится надо мной, задирать меня. Мудрый урок! Философическое поучение! Нравственное назидание! Отныне я ежедневно буду убивать перед завтраком не меньше двух-трех человек, чтобы рапира моя не ржавела в ножнах. А ты напоминай мне об этом.
— Леандр, того и гляди, вернется, — заметил Скапен. — что, если мы все разом попробуем извлечь из ножен ваш грозный клинок?
Матамор уперся в камень, Скапен ухватился за рукоять, Пандольф — за Скапена, а нотариус — за Пандольфа, и после нескольких попыток клинок наконец поддался усилиям троих шутов, которые, задрав конечности, покатились в одну сторону, а сам бахвал в другую, потрясая в воздухе башмаками и все еще держась за ножны.
Когда его подняли, он схватил рапиру и высокопарно изрек:
— Теперь Леандру пришел конец; единственный для него способ избавиться от смерти — это перебраться на какую-нибудь отдаленную планету, ибо даже из недр земли я извлеку его, чтобы пронзить мечом, если он еще раньше не обратится в камень от моего устрашающего медузоподобного взгляда.
Несмотря на такой афронт, упрямый старик Пандольф по-прежнему верил в отвагу Матамор и настаивал на своей нелепой затее выдать дочь за столь блистательного рыцаря. Изабелла ударилась в слезы, уверяя, что предпочтет монастырь подобному браку. Зербина держала сторону Леандра и клялась своим целомудрием, — недурна клятва, нечего сказать, — что расстроит эту свадьбу. Матамор приписал такой холодный прием избытку девичьей стыдливости, — благовоспитанные особы не выставляют своих чувств напоказ. Кроме того, он еще не успел поухаживать по-настоящему, не показал себя во всем своем великолепии, подражая в этом скромности Юпитера{81} по отношению к Семеле, которая обратилась в горсть пепла оттого, что пожелала увидеть своего божественного любовника в блеске его могущества.
Не слушая болтуна, обе женщины скрылись в доме. Матамор, желая быть галантным кавалером, велел слуге принести гитару, поставил ногу на тумбу и начал щекотать брюшко инструмента, чтобы вызвать у него мелодический смех. А сам принялся по-испански мурлыкать куплеты сегедильи с такими взвизгиваниями, с такими гнусавыми мяукающими нотами, словно это кот Раминагробис{82} пел серенаду сидящей на крыше белой кошечке.
— Кувшин воды, выплеснутый на него Зербиной под коварным предлогом поливки цветов, не охладил его музыкального пыла.
— Это прекрасная Изабелла плачет слезами умиления, — объяснил Матамор. — Ведь во мне герой сочетается с виртуозом, и лирой я владею не хуже, чем мечом.
К несчастью, Леандр, бродивший поблизости и обеспокоенный звуками серенады, снова появился на сцене и, не желая, чтобы этот шут музицировал под балконом его возлюбленной, вырвал гитару из рук Матамора, который остолбенел от ужаса. Затем со всей силой хватил его той же гитарой по черепу, так что инструмент раскололся, и голова хвастуна просунулась в дыру, а шея оказалась зажатой, как в китайской колодке. Не выпуская грифа гитары, Леандр принялся таскать злополучного Матамора по всей сцене, встряхивал его, стукал о кулисы, чуть не подпаливая огнями рампы, что производило превосходный комический эффект. Позабавившись вдоволь, Леандр внезапно отпустил соперника, и тот шлепнулся на живот. Вообразите горемычного Матамора в этой позе, будто покрытого сковородой вместо головного убора.
На этом беды его не кончились. Слуга Леандра, известный своей неистощимой изобретательностью, придумал каверзную уловку, чтобы помешать браку Изабеллы и Матамора. Подученная им некая Доралиса, особа весьма кокетливая и легкомысленная, выступила на сцену в сопровождении братца-бретера, которого играл Тиран, принявший самое свое свирепое обличье и прихвативший две длинные рапиры, сложив их под мышкой крест-накрест, что придавало им особо грозный вид. Девица пришла жаловаться на Матамора, который ее соблазнил и покинул ради Изабеллы, дочери Пандольфа, а такое оскорбление можно смыть только кровью.
— Поскорее расправьтесь с этим головорезом, — торопил Пандольф своего будущего зятя. — Вам, доблестнейшему воину, кого не отпугивали орды сарацинов, это покажется пустяком.
После ряда забавных уверток Матамор скрепя сердце стал в позицию, но сам дрожал, как осина, и брат Доралисы первым же ударом выбил у него из рук рапиру и ею же принялся лупить хвастуна, пока тот не запросил пощады.
В довершение комизма появилась старуха Леонарда, одетая испанской дуэньей, и, утирая свои совиные глаза огромным платком, испуская душераздирающие стоны, сунула под нос Пандольфу обязательство жениться на ней, скрепленное поддельной подписью Матамора. Град ударов снова посыпался на злосчастного капитана, изобличенного в столь многообразных клятвопреступлениях, и все в один голос присудили ему в наказание за вранье, хвастовство и трусость жениться на Леонарде. Пандольф, разочарованный в Матаморе, с готовностью отдал руку дочери Леандру, образцовому кавалеру.
Эта буффонада, живо разыгранная актерами, вызвала восторженные рукоплескания. Мужчины признали Субретку неотразимой, женщины отдали должное скромной грации Изабеллы, а Матамор снискал всеобщие похвалы; и наружностью, и смехотворным пафосом, и неожиданной карикатурностью жестов он как нельзя более подходил к роли. Прекрасные дамы восхищались Леандром, а мужчины сочли его несколько фатоватым. Такое впечатление он производил обычно и, по правде сказать, не желал другого, более придавая цены своей наружности, нежели таланту. Красота Серафины завоевала ей много почитателей, и не один кавалер, рискуя навлечь на себя немилость хорошенькой соседки, готов был прозакладывать свои усы, что редко встречал столь красивую девицу.
Сигоньяк стоял за кулисами и от души наслаждался игрой Изабеллы, хотя временами, слыша нежные интонации в ее голосе, когда она обращалась к Леандру, не мог подавить затаенную ревность, — он не привык еще к поддельной театральной любви, под которой нередко скрывается глубокое отвращение и непритворная вражда. Поэтому его похвала после пьесы прозвучала несколько натянуто, и молодая актриса без труда разгадала причину.
— Вы так хорошо играете влюбленных, Изабелла, что можно принять ваши слова за чистую монету.
— Разве не в этом мое ремесло? — с улыбкой ответила Изабелла. — И разве не потому меня ангажировал директор труппы?
— Конечно, — согласился Сигоньяк, — но казалось, что вы искренне влюблены в этого фата, который только и умеет скалить зубы, как пес, которого дразнят, да щеголять стройностью и красотой ног.
Этого требовала роль; неужто я должна была стоять как истукан с кислой и сердитой миной? Но если я чем-нибудь погрешила против скромности, полагающейся благонравной особе, — скажите мне, я постараюсь исправиться.
— Нет, нет! Вы держали себя как девица безупречной нравственности, воспитанная в самых строгих правилах, в вашей игре трудно найти малейший недостаток, так верно, искренне, целомудренно и правдиво передает она истинные чувства.
— Уже гасят свечи, милый мой барон. Все разошлись, и мы скоро очутимся в темноте. Набросьте мне на плечи накидку и не откажите проводить меня до моей комнаты.
Сигоньяк довольно ловко, хотя руки у него дрожали, справился с новой для него ролью поклонника актрисы, и оба покинули залу, где не оставалось уже ни души.
Оранжерея находилась в левой части парка, среди купы высоких деревьев. Фасад замка, открывавшийся отсюда, был так же великолепен, как и противоположный. Поскольку парк спускался ниже цветника, то от этого замкового фасада отходила терраса, обнесенная решеткой с пузатыми балясинами, которые перемежались фаянсовыми бело-голубыми вазами на цоколях, где увядали последние осенние цветы.
В парк вела лестница с двойными перилами, выступавшая из опорной стены, на которой помещалась терраса; стена была облицована кирпичными панелями, обрамленными камнем, и все в целом производило величественное впечатление.
Было около девяти часов. Луна уже взошла. Легкий туман, как серебряный флер, смягчал очертания предметов, но не скрывал их вполне. Отчетливо был виден фасад замка, где некоторые окна светились красноватыми огнями, а другие переливались в лучах луны, точно рыбья чешуя. При этом освещении розоватый кирпич принимал нежный фиолетовый оттенок, а камни фундамента — серо-жемчужные тона. По новому шиферу кровли, как по отполированной стали, вспыхивали яркие блики, а черное кружево конька четко вырисовывалось в белесо-прозрачном небе. Брызги света падали на листья кустарника, отражались на гладкой поверхности ваз и усыпали алмазами газон, простиравшийся перед террасой. А дальше взгляду открывалась не менее пленительная картина — аллеи парка, как на пейзажах Брейгеля Бархатного{83}, убегали вглубь полосками голубоватого тумана, а в конце их порой загорались серебристые отсветы то ли от мрамора статуи, то ли от струйки фонтана.
Изабелла и Сигоньяк поднялись по лестнице и, очарованные красотой ночи, несколько раз обошли террасу, прежде чем отправиться в отведенные им комнаты. Место было открытое, на виду у всего замка, так что добродетели молодой актрисы ничто не угрожало во время этой ночной прогулки. Да и робость барона успокаивала Изабелла; несмотря на амплуа простушки, она была достаточно сведуща в делах любви и знала, что уважение к любимой — основная черта истинной страсти. Хотя Сигоньяк не признался ей прямо, она угадала его чувства и не опасалась с его стороны нескромных посягательств.
Полная того милого замешательства, которое сопутствует зарождающейся любви, молодая чета, гуляя рука об руку вдвоем при лунном свете по пустынному парку, беседовала между собой о самых безразличных предметах. Всякий, кто вздумал бы их подслушать, был бы удивлен, уловив лишь отвлеченные рассуждения, пустяковые замечания, банальные вопросы и ответы. Но если в словах не было ничего сокровенного, то дрожь в голосе, взволнованный тон, паузы, вздохи и тихий доверчивый полушепот выдавали их затаенные чувства.
Иоланте отвели покои рядом с маркизой, выходившие окнами в парк, и когда, отпустив горничных, юная красавица обратила рассеянный взгляд на луну, сиявшую над верхушками деревьев, она заметила Изабеллу и Сигоньяка, которые прогуливались по террасе в сопутствии одних только своих теней.
Разумеется, высокомерная Иоланта, гордая, как и подобает богине, питала только презрение к бедному барону Сигоньяку, мимо которого проносилась порой ослепительным видением в блистательном и шумном вихре и с которым еще недавно обошлась так оскорбительно; тем не менее ей досадно было видеть его под своими окнами с другой женщиной, которой он, без сомнения, нашептывает слова любви. Никто не имел права самовольно стряхнуть ее иго, вместо того чтобы молча сохнуть по ней.
Она легла в прескверном расположении духа и долго не могла заснуть: влюбленная чета не выходила у нее из головы.
Когда Сигоньяк проводил Изабеллу до ее комнаты и направился в свою, он заметил в дальнем конце коридора таинственную фигуру, закутанную в серый плащ, край которого, переброшенный через плечо, закрывал незнакомцу нижнюю часть лица, а тень от надвинутой на лоб шляпы заменяла маску, мешая разглядеть его черты. При виде Изабеллы и барона незнакомец прижался к стене. Актеры уже разошлись по своим комнатам, да это и не мог быть никто из них. Тиран был выше ростом, Педант — толще, Леандр — стройнее, не походил он также ни на Скапена, ни на Матамора, отметного своей неправдоподобной худобой, которую не мог бы скрыть даже самый широкий плащ.
Не желая показаться любопытным и быть кому-то помехой, Сигоньяк поспешил переступить порог своей комнаты, успев, однако, приметить, что дверь гобеленного покоя, где поместилась Зербина, осталась предусмотрительно полуоткрытой, как бы в ожидании посетителя, которому не хотелось подымать шум.
Замкнувшись у себя, барон по легкому скрипу башмаков и бережно защелкнутому замку убедился, что закутанный в плащ таинственный гость попал туда, куда стремился.
Приблизительно час спустя Леандр потихоньку отворил свою дверь и, убедившись, что коридор пуст, осторожно, на носках, как цыганка, пляшущая между сырыми яйцами, достиг лестницы и спустился с нее, производя меньше шума, чем призрак, что бродит по заколдованному замку, прокрался вдоль стены, скрытый ее тенью, и повернул в парк к одному из боскетов, или лужков, обсаженных зеленью, в центре которого стояла статуя Амура Скромника, с пальчиком, приложенным к губам. В этом месте, без сомнения, указанном заранее, Леандр остановился и стал ждать.
Мы уже говорили, что Леандр к своей выгоде улыбку, которой маркиза ответила на его поклон, осмелился написать владелице замка Брюйер письмо, а подкупленная несколькими пистолями Жанна обещала тайком положить его послание на туалетный столик своей госпожи.
Мы дословно воспроизводим это письмо, чтобы дать понятие о стиле, каким пользовался Леандр для обольщения знатных дам, в чем, по его словам, не знал себе равных.
«Сударыня, или, вернее, богиня красоты, пеняйте лишь на свои несравненные прелести за ту досаду, которую они навлекли на Вас. Ослепленный ими, я осмелился выйти из тени, в которой надлежало мне прозябать, и приблизиться к их сиянию подобно тому, как дельфины всплывают из глубин океана на свет рыбацких фонарей и находят себе погибель, без пощады пронзенные остриями гарпунов. Я знаю, что обагрю своей кровью волну, но все равно жизнь мне не в жизнь, и я не боюсь умереть. Дерзость небывалая — домогаться того, что уготовано лишь полубогам, — хотя бы рокового удара от Вашей руки. И я отваживаюсь на это, отчаявшись заранее, и, не видя ничего для себя горшего, предпочитаю гнев Ваш высокомерному презрению. Чтобы нанести смертельный удар, надо взглянуть на свою жертву, и, умирая от Вашей суровости, я испытаю неземную усладу оттого, что был узрен Вами. Да, я люблю Вас, сударыня, и, если это святотатство, я не раскаиваюсь в нем. Господь позволяет боготворить его; звезды терпят восхищение смиреннейшего пастуха; удел высшего совершенства, подобного Вам, — быть любимым теми, кто стоит ниже его, ибо равного ему нет на земле, да нет, верно, и на небесах. Я, увы, всего лишь жалкий провинциальный актер, но будь я даже герцогом или принцем, наделенным всеми дарами Фортуны, головой своей я не достигал бы Ваших колен и между Вашим величием и моим ничтожеством расстояние было бы, как от вершины до бездны. Вам все равно пришлось бы нагнуться, чтобы поднять любящее сердце! Осмелюсь утверждать, сударыня, что в моем сердце не меньше благородства, чем нежности, и кто не отвергнет его, тот найдет в нем самую пылкую страсть, изысканную тонкость чувства, безусловное почтение и безграничную преданность. Кстати, если бы такое счастье было даровано мне, Вашей снисходительности не пришлось бы спуститься столь низко, как Вам представляется. Хотя волею жестокого рока и ревнивым злопамятством я доведен до такой крайности, что вынужден скрываться под актерскими масками, происхождения своего мне стыдиться нечего. Не будь причин государственной важности, возбраняющих мне нарушить тайну, все узнали бы, сколь славная кровь течет в моих жилах. Любовь ко мне не унизила бы никого. Но довольно, я и так сказал слишком много. Для Вас я навсегда останусь смиреннейшим и всенижайшим из Ваших слуг, хотя бы, как водится в развязках трагедий, меня признали и восславили как королевского сына. Пускай едва заметный знак даст мне понять, что дерзость моя не возбудила в Вас чересчур презрительного гнева, и я без сожаления готов испустить дух на костре моей страсти, спаленный пламенем Ваших очей.»
… Как бы отнеслась маркиза к этому пламенному посланию, которое, должно быть, писалось и переписывалось далеко не впервые? Чтобы ответить на такой вопрос, надо в совершенстве изучить женское сердце. К несчастью, письмо не попало по назначению. Помешавшись на знатных дамах, Леандр упускал из виду субреток и не оказывал им ни малейшего внимания. Это было серьезной оплошностью, так как служанки в большой мере руководят волей своих хозяек. Если бы, в добавок к пистолям, Леандр разок-другой чмокнул Жанну и приволокнулся за ней, она была бы удовлетворена в своем самолюбии камеристки, не менее чувствительном, чем самолюбие королевы, и поусерднее постаралась бы выполнить возложенное на нее поручение.
Когда она шла по коридору, небрежно держа в руке письмо Леандра, ей навстречу попался маркиз и для очистки совести, не будучи по природе любопытным мужем, спросил, что за бумажка у нее в руках.
— Да так, ерунда, — отвечала она, — послание от господина Леандра к ее сиятельству.
— От Леандра, первого любовника труппы, который играл обожателя Изабеллы в «Бахвальстве капитана Матамора»? Что он может писать моей жене? Верно, клянчит денег.
— Не думаю, — возразила злопамятная горничная, — вручая мне записку, он испускал вздохи и закатывал глаза, словно обмирал от любви.
— Дай сюда письмо, я сам на него отвечу, — приказал маркиз. — И ни слова не говори маркизе. Мы слишком балуем этих шутов снисходительным обращением, а они наглеют и забывают свое место.
Итак, маркиз, любивший позабавиться за чужой счет, написал Леандру ответ в том же стиле, размашистым аристократическим почерком, на бумаге, продушенной мускусом, скрепил его ароматическим испанским воском и печатью с вымышленным гербом, чтобы утвердить незадачливого любовника в роковом заблуждении.
Когда Леандр вернулся к себе в комнату после представления, он обнаружил на столе положенный неведомой рукой на самом виду конверт с надписью: «Господину Леандру». Дрожа от восторга, вскрыл он конверт и прочитал следующие строки:
«Как гласит ваше письмо, в своем красноречии столь губительное для моего покоя, богиням суждено любить лишь простых смертных. В одиннадцать часов, когда все уснет на земле, Диана, не страшась нескромных людских взглядов, покинет небеса и спустится к пастуху Эндимиону{84}, но только не на вершину горы Латмос, а в парк, к подножию статуи Амура Скромника, где прекрасный пастушок постарается задремать, чтобы пощадить стыдливость бессмертной богини, которая явится к нему, окутанная облаком, без сопровождения нимф и без серебряного ореола.»
Можете себе вообразить, какая безумная радость затопила сердце Леандра при чтении записки, содержание которой превзошло самые тщеславные его мечты. Он вылил себе на голову и на руки целый флакон пахучей эссенции, изгрыз кожуру мускатного ореха, придающего свежесть дыханию, заново начистил зубы, подкрутил букли и отправился в указанное место парка, где и переминался с ноги на ногу, пока мы поясняли вам происшедшее.
Лихорадка ожидания, а также ночная прохлада вызвали у него нервную дрожь. Он шарахался от упавшего с дерева листа и при малейшем шуме напрягал слух, привыкший на лету ловить шепот суфлера. Хруст песка под ногой превращался для него в оглушительный треск, который непременно услышат в замке. Против воли он проникался мистическим ужасом перед тайной лесов, и высокие черные деревья тревожили его воображение. Ничего определенного он не боялся, но мысли его принимали мрачный оборот. Маркиза медлила, и у Эндимиона, по милости Дианы, ноги совсем промокли от росы.
Вдруг ему почудилось, что валежник затрещал под чьими-то тяжелыми шагами. Так ступать не могла его богиня: богиням положено скользить на лунном луче и, коснувшись земли, не примять даже былинки.
«Если маркиза не поспешит прийти, то вместо пламенного любовника она найдет совсем остывшего воздыхателя. После такого томительного ожидания немудрено сплоховать, попав на остров Цитеру{85}…» Не успел он додумать свою мысль, как четыре внушительные тени отделились от деревьев, выступили из-за пьедестала статуи и, как по команде, надвинулись на него. Две из них, воплотившись в дюжих каналий, лакеев маркиза де Брюйера, схватили актера за руки, будто собирались связать его, как пленника, а двое других принялись размеренно колотить его палками. Удары гулко стучали по его спине, точно молотки по наковальне. Не желая криками привлечь свидетелей своей незадачи, бедняга стоически терпел боль от побоев. Муций Сцевола{86} не проявил больше мужества, поджаривая руку на огне жертвенника, нежели Леандр, снося палочные удары.
Отколотив злополучного актера, четверо палачей отпустили его, отвесили ему низкий поклон и безмолвно удалились.
Какое позорное падение! Икар не пал так глубоко, сорвавшись с небес. Избитый, измочаленный, растерзанный, Леандр, прихрамывая, согнувшись и потирая бока, доплелся до замка; но в своем неистребимом тщеславии он ни на миг не заподозрил, что его одурачили. Для его самолюбия выгодней было предать всей истории трагическую окраску. Он убеждал себя, что ревнивый муж, несомненно, выследил и остановил маркизу по дороге к месту встречи и, приставив ей к горлу нож, вынудил у нее признание. Он рисовал себе, как она, вся в слезах, с разметавшимися волосами, на коленях молит разгневанного супруга о пощаде и клянется на будущее лучше держать в узде свое пылкое сердце. Сам весь в синяках, он жалел ее, ради него подвергшую себя такой опасности, не подозревая, что она ни о чем не имеет понятия и мирно почивает на простынях голландского полотна, спрыснутых сандаловым и коричным маслом.
Проходя по коридору, Леандр, к превеликой своей досаде, увидел, что Скапен высунулся в щель своей приотворенной двери и ехидно посмеивается. Он постарался держаться как можно прямее, но хитрец не дал себя провести.
На другой день труппа собралась в путь. Тиран, щедро вознагражденный маркизом, сменил неповоротливую повозку с волами на фургон, запряженный четверкой лошадей, где легко можно было разместить всю труппу с пожитками. Леандр и Зербина встали поздно по причинам, которые нет надобности объяснять подробнее, только у первого был жалкий, пришибленный вид, хотя он и бодрился, как мог; вторая же сияла от удовлетворенного тщеславия. Она даже проявляла милостивое внимание к своим товаркам, и, что показательнее всего, Дуэнья льстиво подлаживалась к ней, чего никогда не водилось раньше. Скапен, от которого ничто не ускользало, заметил, что сундук Зербины, как по волшебству, стал вдвое тяжелее. Серафина кусала губы, бормоча себе под нос: «Тварь!» — но Субретка пропускала это словечко мимо ушей, довольная прежде всего унижением первой актрисы.
Наконец фургон тронулся, увозя актеров из гостеприимного замка Брюйер, который все они, кроме Леандра, покидали с сожалением. Тиран думал о полученных пистолях; Педант — о превосходных винах, которыми всласть утолил жажду; Матамор — о рукоплесканиях, которыми его щедро наградили; Зербина — о шелковых материях, золотых ожерельях и других дарах; Изабелла и Сигоньяк думали лишь о своей любви и, радуясь тому, что они вместе, даже не обернулись и не взглянули напоследок на синие кровли и алые стены замка, скрывавшиеся за горизонтом.
VI МЕТЕЛЬ
Вполне понятно, что актеры остались довольны пребыванием в замке Брюйер. Такая удача не часто выпадала им в их кочевой жизни; Тиран разделил деньги между всеми, и каждый любовно позвякивал пистолями в карманах, где обычно гулял ветер. Зербина излучала сдержанную и таинственную радость, добродушно принимая язвительные намеки товарок на могущество ее чар. Она ликовала, чем приводила в ярость Серафину. Один Леандр, весь разбитый от ночной трепки, явно не разделял общего веселья, хоть и силился улыбаться, но улыбался натужно, вернее, скалился, как побитый пес. Движения его были скованны, и толчки экипажа вызывали у него недвусмысленные гримасы. Он украдкой потирал ладонью спину и плечи; все эти скрытые маневры могли ускользнуть от внимания остальных комедиантов, только не от насмешливой наблюдательности Скапена, отмечавшего каждую незадачу Леандра, чье фатовство было ему несносно.
По недосмотру возницы колесо натолкнулось на большой камень, вызвав особенно сильный толчок, исторгший у злополучного любовника мучительный стон, что дало Скапену повод спросить притворно соболезнующим тоном:
— Отчего ты так охаешь и стонешь, бедный мой Леандр? Весь ты какой-то помятый, подобно рыцарю печального образа, когда он нагишом кувыркался среди уступов Сьерра-Морены, наложив на себя любовную епитимью по образцу Амадиса, уединившегося на голой скале. Можно подумать, что спал ты не на мягких тюфяках, на валиках и подушках под стеганым одеялом, а на перекрещенных палках, каковые скорее увечат, нежели покоят тело. Вид у тебя пришибленный, щеки бледные и под глазами мешки. Из этого явствует, что бог Морфей не посещал тебя нынче ночью.
— Возможно, Морфей и сидел в своей норе, зато малютка Купидон любит бродяжить и безо всякого фонаря отыщет в коридоре нужную дверь, — возразил Леандр, рассчитывая отвлечь подозрения своего недруга Скапена.
— Конечно, я в комедиях играю только слуг и потому малоопытен в делах любовных. Мне не случалось волочиться за знатными красавицами; тем не менее со слов поэтов и романистов мне известно, что бог Купидон разит намеченную жертву стрелами, а не древком своего лука…
— Что вы хотите этим сказать? — поспешно прервал его Леандр, обеспокоенный оборотом, который придали беседе мифологические тонкости и уподобления.
— Ничего, кроме того, что у тебя на шее, чуть повыше ключицы, хоть ты и прикрываешь ее платком, видна черная полоска, которая завтра посинеет, послезавтра позеленеет, затем пожелтеет, пока, наконец, не побледнеет до естественной окраски, и полоска эта дьявольски напоминает росчерк палкой на телячьей коже или, если тебе приятнее, — на пергаменте.
— Несомненно, это какая-нибудь усопшая красавица, плененная мною при жизни, поцеловала меня сонного, — ответил Леандр, вспыхнув до кончиков ушей. — А всем известно, что поцелуи мертвецов оставляют кровоподтеки, которым изумляешься, проснувшись.
— Таинственная мертвая красавица появилась очень кстати, — заметил Скапен, — а то я поклялся бы, что это крепкий поцелуй свежесрубленной лозы.
— Ах вы, негодный насмешник! — воскликнул Леандр. — Никакая скромность не выдержит вашего зубоскальства. Я из целомудрия ссылаюсь на покойниц в том, что с большим правом следует отнести на счет живых. Хоть вы и выставляете себя неучем и невеждой, вам наверняка случалось слышать о тех милых знаках страсти, синяках, царапинах, укусах, памятках игривых забав, которыми имеют обыкновение предаваться пылкие любовники.
— «Memorem dente notam»[1], — вставил Педант, радуясь возможности процитировать Горация. — Объяснение, на мой взгляд, основательное и к тому же подкрепленное авторитетной ссылкой, — признал Скапен. — Однако же полоска столь длинна, что у ночной красотки, живой или мертвой, должен быть во рту тот единственный зуб, который Форкиады ссужали друг другу{87}.
Взбешенный Леандр хотел броситься на Скапена и как следует проучить его, но боль в побитых боках и в исполосованной, как у зебры, спине была так сильна, что он снова сел, отложив мщение до лучших времен. Тиран и Педант, которым такого рода ссоры служили неизменным развлечением, постарались примирить врагов. Скапен обещал воздерживаться наперед от нескромных намеков.
— Отныне я изыму из своих речей всякое упоминание о дереве, будь то дубовая кровать, дубинка, палка, пальмовая ветвь и даже ветвистые рога.
Во время этой потешной перебранки фургон неуклонно продолжал свой путь и вскоре добрался до перекрестка. Посреди травянистого пригорка возвышалось распятие, грубо вытесанное из растрескавшегося на солнце и дожде дерева, причем одна из рук Христа, оторвавшись от тела, зловеще болталась на ржавом гвозде, указуя на скрещение четырех дорог.
Группа из двух человек и трех мулов расположилась у этого скрещения, очевидно, кого-то поджидая. Один из мулов, словно соскучась неподвижностью, потряхивал украшенной разноцветными помпонами и кистями головой и позвякивал серебряными бубенцами. Хотя вышитые кожаные шоры мешали ему смотреть вправо и влево, он почуял приближение повозки; длинные уши его запрядали с тревожным любопытством, а между оттопыренных губ обнажились зубы.
— Коренной шевелит ушами и показывает десны, — заметил один из поджидавших, — значит повозка уже недалеко.
В самом деле, фургон с комедиантами подъезжал к перекрестку. Зербина, сидевшая впереди, бросила быстрый взгляд на группу, чье присутствие здесь, по-видимому, не удивило ее.
— По чести, роскошная упряжка! — воскликнул Тиран. — А эти великолепные испанские мулы, конечно, могут делать по пятнадцать-двадцать миль в день. С такими мы скоро добрались бы до Парижа. Но какого черта они тут дожидаются? Должно быть, это подстава для путешествующего вельможи.
— Нет, — возразила Дуэнья, — седло выстлано попонами и подушками, как будто для женщины.
— Значит, тут готовится похищение, — заключил Тиран, — кстати, у обоих конюхов в серых ливреях весьма таинственный вид.
— Вы, может быть, правы, — подхватила Зербина с загадочной усмешкой.
— Неужто эта дама находится среди нас? — заметил Скапен. — Один из конюхов направляется сюда, как будто желая вступить в переговоры, прежде чем прибегнуть к насилию.
— О! В этом не будет нужды, — возразила Серафина, бросив на Субретку презрительный взгляд, который та выдержала с невозмутимой беззастенчивостью. — Некоторые покладистые особы сами бросаются в объятия похитителей.
— Не всякий, кто хочет, бывает похищен, — отрезала Субретка. — Желать мало, надо привлекать.
Беседу прервал стремянный; сделав кучеру знак остановиться и обнажив голову, он спросил, здесь ли находится мадемуазель Зербина.
Зербина проворно и ловко, как ящерица, высунула темную головку из-под парусины, сама ответила на вопрос и вслед за тем спрыгнула на землю.
— Мадемуазель, я к вашим услугам, — любезным и почтительным заявил стремянный.
Субретка расправила юбки, провела пальчиком вокруг выреза в корсаже, как бы давая простор груди, и, обернувшись к актерам, не чинясь, повела такую речь:
— Дорогие друзья, простите меня за то, что я внезапно покидаю вас. Удача иногда сама идет в руки, да так приманчиво, что было бы чистой глупостью не вцепиться в нее всей пятерней; ибо, если ее раз упустишь, она больше не вернется. Доселе Фортуна показывала мне не иначе как хмурый и угрюмый лик, теперь же она приветливо улыбается мне. Я хочу воспользоваться ее благожелательством, без сомнения, мимолетным. Мне в качестве скромной Субретки полагалось довольствоваться Маскарилями или Скапенами. За мной ухаживали только слуги, меж тем как господа домогались любви Люсинд, Леонор и Изабелл, а вельможи разве что удостаивали мимоходом потрепать меня за подбородок да чмокнуть в щеку, подкрепив этим серебряный полулуидор, сунутый в карманчик моего фартука. Но нашелся смертный с лучшим вкусом, он рассудил, что в не театра служанка стоит госпожи, и, так как амплуа субретки не требует особо строгой добродетели, я не сочла нужным огорчать этого любезного кавалера, сильно опечаленного моим отъездом. А потому позвольте мне достать из фургона мои пожитки и пожелать вам всего хорошего. Рано или поздно я нагоню вас в Париже, ибо я комедиантка в душе и никогда на долгий срок не изменяла театру.
Слуги достали баулы Зербины и погрузили на вьючного мула, равномерно распределив их; опершись ногой на подставленную руку стремянного, Субретка с такой легкостью вскочила на коренного, будто прошла курс вольтижировки в академии верховой езды, затем прижала каблучком бок мула и удалилась, помахав на прощание рукой своим товарищам.
— Счастливого пути, Зербина, — кричали ей вслед все актеры, за исключением Серафины, которая затаила на нее досаду.
— Она покинула нас весьма не ко времени, и я охотно удержал бы эту превосходную субретку, но она не знает других обязательств, кроме своей прихоти, — подытожил Тиран. — Придется приспособить роли субретки для дуэньи или гувернантки, — зрелище менее приятное, нежели плутоватая мордашка, но наша Леонарда обладает комическим даром и отлично знает сцену. Словом, как-нибудь обойдемся.
Фургон покатил снова, несколько быстрее, чем повозка, запряженная волами. Теперь он проезжал по местности, совершенно не похожей на однообразный пейзаж ланд. Белые пески сменились бурой почвой, щедрее питавшей растительность. Тут и там, как свидетельство благосостояния, попадались каменные дома посреди садов, обнесенных живой изгородью, где листва уже облетела, но розовели цветы шиповника и голубел спелый терн. По краям дороги пышно разросшиеся деревья тянулись ввысь мощными стволами, раскинув крепкие ветви, чьи опавшие листья желтыми пятнами усеивали траву, а ветерок гнал их по дороге впереди Изабеллы и Сигоньяка, которые, устав от сидения в напряженной позе на скамейках фургона, время от времени, чтобы размяться, шли пешком. Матамор отправился вперед, и в вечернем зареве на гребне холма темными штрихами вырисовывался его скелетоподобный силуэт, словно насаженный на его же рапиру.
— Как могло случиться, — говорил Сигоньяк, идя рядом с Изабеллой, — что, обладая всеми достоинствами девицы дворянского рода — скромностью поведения и рассудительностью, а также изысканностью речи, вы оказались связаны с этими комедиантами, людьми, без сомнения, порядочными, но разной с вами породы и привычек?
— Из того, что манеры мои отличаются некоторым изяществом, не вздумайте заключить, будто я какая-нибудь обездоленная принцесса или королева, лишенная престола, доведенная до горькой необходимости ради куска хлеба подвизаться на подмостках. История моей жизни очень проста, и, коль скоро она вызывает у вас любопытство, я готова ее рассказать. Не преследования судьбы, не жестокие бедствия, не романтические приключения привели меня в театр. Нет, я в нем родилась, я, как говорится, дитя кулис. Повозка Феспида — моя кочевая родина. Мать моя, игравшая в трагедиях королев, была очень хороша собой. Она сжилась со своими ролями, и даже вне сцены ни о ком не желала слышать, кроме королей, принцев, герцогов и других сильных мира, почитая подлинными свои мишурные короны скипетры из золоченого дерева. Возвращаясь за кулисы, она так величаво драпировалась в поддельный бархат платья, что на ней его можно было принять за пурпур королевской мантии. В гордости своей она упорно отвергала признания, мольбы и клятвы тех любезников, что постоянно вьются вокруг актрис, как мотыльки вокруг свечи. Когда однажды один вертопрах у нее в уборной повел себя чересчур предприимчиво, она выпрямилась во весь рост и, как настоящая Томирида{88}, царица Скифии, вскричала таким властным, надменно-величавым тоном: «Стража, взять его!» — что любезник, опешив, улизнул в страхе, не посмев продолжать свои домогательства. Но вот слух об этой высокомерной неприступности, непривычной для актрисы, которую принято подозревать в легкости нрава, дошел до одного очень знатного и могущественного вельможи; он по достоинству оценил такое поведение, рассудив, что отвергать низменные услады свойственно лишь возвышенной душе. Так как его положение в свете соответствовало рангу театральной королевы, он и принят был не то что сурово, а скорее даже благосклонно. Он был молод, хорош собой, красноречив, настойчив и окружен ореолом знатности. Что вам долго говорить? На сей раз королева не стала звать стражу, и во мне вы видите плод их пылкой любви.
— Вот чем объясняется несравненная прелесть, которой вы так щедро наделены, — галантно подхватил Сигоньяк. — В ваших жилах течет княжеская кровь! Я готов был присягнуть в этом.
Их связь длилась дольше, чем обычные театральные интрижки, — продолжала Изабелла. — Принц встретил у моей матери такое постоянство, которое в равной мере питалось гордостью, как и любовью, однако ни разу не изменило себе. К несчастью, соображения государственного порядка стали наперекор их любви; принцу пришлось уехать то ли в дальние походы, то ли в посольства. Тем временем семья подыскала ему невесту, не менее родовитую, чем он. Как ни медлил он связать себя узами брака, на сей раз он принужден был уступить, не имея права ради любовной прихоти прервать длинную вереницу предков, восходившую к Карлу Великому, и допустить, чтобы с ним угас его славный род. Моей матери была предложена внушительная сумма денег, чтобы облегчить ей разрыв, ставший неизбежным, избавить ее от нужды, а также обеспечить мое содержание и воспитание. Но она слушать ни о чем не пожелала, заявив, что ей не надобно денег без любви и что лучше принцу быть ее должником, нежели ей быть его должницей, ибо она в своем великом самоотвержении отдала ему то, чего он не в силах ей возместить. «Ничего до, ничего после», — таков был ее девиз. Итак, она продолжала ремесло трагической актрисы на роли королев, но, неутешная в душе, томилась и чахла с тех пор до самой своей ранней кончины. Я осталась после нее девочкой лет семи-восьми; в те времена я играла детей, амуров и другие маленькие роли, соответствовавшие моему росту и разумению. Смерть матери я перенесла не по летам тяжело, и, помнится, в тот вечер меня только побоями заставили играть одного из сыновей Медеи{89}. Потом эта жгучая скорбь смягчилась под влиянием ласки и заботы актеров и актрис, которые баловали меня наперебой, норовя сунуть мне в корзинку какое-нибудь лакомство. Педант и тогда уже был в нашей труппе и казался мне таким же старым и сморщенным, как теперь, — он принял во мне участие, объяснил размер и созвучие стиха, показал, как надо говорить и слушать, обучил меня декламации, позам, жестам, мимике, словом, всем тайнам сценического искусства, которым сам владеет в совершенстве; хотя он всего-навсего провинциальный актер, зато человек образованный, ибо был школьным учителем, но его прогнали за беспробудное пьянство. Среди беспорядочной и с виду распущенной кочевой жизни я сохранила невинность и чистоту, потому что товарищи мои, знавшие меня с колыбели, почитали меня сестрой или дочерью, а присяжных волокит я умела держать на должном расстоянии строгим и холодным обхождением и вне сцены без притворства и жеманной стыдливости оставалась верна ролям простушки.
Так, идя рядом с фургоном, Изабелла рассказывала очарованному Сигоньяку о перипетиях своей жизни.
— А вы помните имя того вельможи или успели позабыть его? — спросил Сигоньяк.
— Открыть его имя, пожалуй, было бы небезопасно для меня, — ответила Изабелла. — Однако оно навеки запечатлелось в моей памяти.
— Существует какое-нибудь доказательство его связи с вашей материю?
— У меня есть перстень с его гербом, — сказал Изабелла. — Это единственная драгоценность, подаренная им, которую мать согласилась оставить себе, потому что значение перстня как фамильной реликвии превышало его денежную стоимость. Если хотите, я как-нибудь покажу вам эту печатку.
Было бы слишком томительно следить за каждым этапом пути театрального фургона, тем более что подвигался он короткими перегонами, без сколько-нибудь примечательных происшествий. Итак, пропустим несколько дней и очутимся уже в окрестностях Пуатье. Сборы со спектаклей были скудные, и для труппы настали нелегкие времена. Деньги маркиза де Брюйера в конце концов иссякли, как и пистоли Сигоньяка, который, по щепетильности своей, не мог бы оставить обездоленных товарищей без посильной помощи. Вместо четырех крепких коней, впряженных поначалу в фургон, теперь осталась одна лошадь, и какая лошадь! Жалкая кляча, пищей которой служили как будто не овес и сено, а обручи от бочек, — настолько ее ребра выпирали наружу, а мосла чуть что не протыкали насквозь шкуру, ослабевшие мышцы болтались на ногах широкими складками, и шерсть под коленками топорщилась от наростов. Хомут, под которым совсем не осталось войлока, все заново натирал кровоточащие раны на загривке, а избитые бока несчастного животного были точно зарубками, иссечены ударами бича. Голова лошади была целой поэмой скорби и страданий. Глаза сидели в глубоких впадинах, будто выдолбленных скальпелем. Печальный, задумчивый взгляд этих подернутых синевой глаз выражал покорность загнанной скотины. В нем можно было прочесть горестное равнодушие к ударам, проистекающее от сознания тщеты всяких усилий, ибо щелканье бича не способно было высечь из нее хотя бы искру жизни. Уши мотались бессильно и жалостно, подпрыгивая в такт неровному бегу, причем одно из них было рассечено пополам. Прядь пожелтевшей гривы запуталась в уздечке, своими ремнями натиравшей костлявые выпуклости скул. Тяжкое дыхание увлажняло ноздри, а нижняя челюсть от усталости отвисла с брезгливо-унылым видом.
Белая в рыжую крапину шерсть была вся в подтеках пота, подобных тем, что оставляет дождь на штукатурке стен. Скопляясь под брюхом в комьях шерсти, струи пота склеивались с грязью и отвратительной коростой налипали на задние конечности. Трудно вообразить более плачевное зрелище, — лошадь, верхом на которой в Апокалипсисе является смерть, показалась бы резвым скакуном, годным красоваться на карусели, по сравнению с этим горемычным злосчастным одром, лопатки которого грозили развалиться на каждом шагу, а страдальческий взгляд, казалось, как о милости молил о том, чтобы живодер обухом прикончил его. Он брел теперь в густом облаке пара, идущего от его крупа и ноздрей, потому что в воздухе стало заметно холодать.
В фургоне ехали только женщины, мужчины следовали пешком, чтобы не обременять злополучного конягу, а идти с ним вровень и даже опережать его было нетрудно. Каждый шел сам по себе, покрепче завернувшись в плащ и храня упорное молчание, потому что темы для беседы у всех были не очень-то отрадные.
Сигоньяк совсем было впал в уныние и почти раскаивался в том, что покинул обветшалое жилище предков, где, правда, рисковал умереть с голоду под своим полуистертым гербом среди безмолвия и безлюдия, зато не подвергался бы, шатаясь по большим дорогам, всем случайностям жизни бродячих актеров.
Он вспоминал о преданном слуге Пьере, о Баярде, о Миро и Вельзевуле — верных товарищах своего тоскливого прозябания. Сердце у него невольно сжималось, и от груди к горлу подкатывал комок, который обычно разрешается слезами; однако стоило барону бросить взгляд на Изабеллу, которая сидела спереди, кутаясь в мантилью, и он вновь обретал мужество. Девушка улыбалась ему; казалось, все эти беды не очень печалят ее. Что значат телесные страдания и тяготы, если душа ее исполнена блаженства!
Окружающий пейзаж никак не мог рассеять грустное расположение духа. На переднем плане корчились в конвульсиях скелеты истерзанных ветрами, обезглавленных, искривленных старых вязов, чьи черные сучья и ветви раскинули свой прихотливый узор по изжелта-серому небу с низко нависшими, чреватыми снегом тучами, сквозь которые пробивался скудный и тусклый свет; на втором плане простирались невозделанные поля, окаймленные по краю горизонта голыми холмами или ржавыми полосками леса. Изредка над лачугой, что, словно меловое пятно, виднелась из-за прутьев изгороди, вился столбик дыма. Канавы бороздили землю длинными шрамами. Весной эта долина, одетая зеленью, могла показаться привлекательной. Но под серыми покровами зимы она являла взору однообразный, убогий и грустный вид. Время от времени возникала фигура изможденного крестьянина в лохмотьях или старушки, согнувшейся под вязанкою хвороста, что отнюдь не оживляло ландшафт, а лишь подчеркивало его безлюдие. Казалось, единственными обитателями этого края были сороки. Они прыгали по темной земле, подняв хвост торчком наподобие сложенного веера, оживленно стрекотали при виде фургона, словно обменивались впечатлениями от комедиантах, и откалывали перед ними уморительные коленца. Бессердечные птицы, им дела не было до людских страданий!
Пронзительный северный ветер прибивал к плечам актеров тонкую ткань плащей и ледяными пальцами хлестал их по лицу. Немного погодя с порывами ветра закружили хлопья снега; они взвивались, опадали, пересекались, но не могли коснуться земли или осесть на чем-нибудь, настолько сильна была вьюга. Скоро они посыпались так густо, что перед ослепленными путниками как бы встала завеса из белого мрака. Сквозь сочетание подвижных серебряных блесток даже самые близкие предметы расплывались и теряли свои подлинные очертания.
— Должно быть, небесная хозяйка ощипывает гусей и стряхивает на нас пух со своего передника, — заметил Педант, шедший позади фургона, чтобы укрыться от ветра. — Гусятина мне пришлась бы куда более по вкусу, я способен есть ее и без лимона и без пряностей.
— Даже и без соли, — подхватил Тиран, — мой желудок уже не вспоминает об омлете из яиц, которые пищали, когда их били о край сковородки, я их проглотил под издевательски обманчивым наименованием завтрака, несмотря на торчащие из сковородки клювики.
Сигоньяк тоже укрылся позади повозки, и Педант адресовался к нему:
— Нечего сказать, жестокая погода, господин барон, мне жаль, что вам приходится делить с нами наши беды. Но это временная заминка и, как бы медленно мы ни двигались, все же мы приближаемся к Парижу.
— Я вас воспитан совсем не в холе, и каким-то снежным хлопьям меня не запугать, — отвечал Сигоньяк. — Кто достоин жалости, так это наши бедные спутницы, вынужденные, несмотря на свой нежный пол, выносить тяготы и лишения, не хуже наемников в походе.
— Они давно к этому привыкли, и то, что было бы мучительно для знатных дам и зажиточных горожанок, их не слишком беспокоит.
Ураган крепчал. Подгоняемый ветром снег белыми дымками курился над землей, задерживаясь, лишь когда на его пути вставала преграда — откос холма, груда щебня, живая изгородь, насыпь перед рвом. Там он скоплялся в мгновение ока и осыпался каскадом по другую сторону случайной препоны. А то еще, завертевшись в вихре, взвивался к небу и опадал целой лавиной, которую мигом разметывал ураган. Всего за несколько минут Изабеллу, Серафину и Леонарду запорошило снегом, хоть они и забились под сотрясавшийся навес фургона и загородились тюками.
Ошеломленная натиском снежного бурана, лошадь, задыхаясь, еле-еле продвигалась вперед. Бока ее ходили ходуном, копыта скользили на каждом шагу. Тиран шагал рядом, взяв ее под уздцы, и поддерживал своей сильной рукой. Педант, Сигоньяк и Скапен толкали повозку сзади. Леандр щелкал бичом, подбадривая несчастную клячу, — бить ее было бы бессмысленной жестокостью. Что касается Матамора, то он немного поотстал, — по своей феноменальной худобе он был так легок, что не мог преодолеть силу ветра, хоть и взял для балласта по булыжнику в каждую руку и набил карманы камешками.
А вьюга свирепела все пуще, кружа в ворохах белых хлопьев и вздымая их тут и там, точно пену волн. Она до того разбушевалась, что комедианты, — как ни торопились они добраться до ближайшего селения, — все же вынуждены были в конце концов повернуть фургон против ветра. Впряженная в повозку кляча совсем изнемогла; ноги ее окостенели, по дымящемуся, мокрому от пота телу пробегала дрожь. Малейшее усилие — и она пала бы мертвой; уж и так капля крови проступила у нее из ноздрей, расширенных удушьем, тусклые блики пробегали в остекленевших глазах.
Страх темноты понять легко. Во мраке всегда таится жуть, но белый ужас почти непостижим. Трудно вообразить себе положение отчаяннее того, в каком очутились бедные наши комедианты, побледневшие от голода, посиневшие от стужи, ослепленные снегом и затерянные на проезжей дороге посреди головокружительного вихря ледяной крупы, пронизывавшего их насквозь. Пережидая метель, все они сбились в кучу под навесом фургона и жались друг к другу, чтобы согреться хоть немного. Наконец буря стихла, и хлопья снега, носившиеся в воздухе, стали плавно опадать на землю. Все, куда только достигал взгляд, покрылось серебристым саваном.
— Где же Матамор? — спросил Блазиус. — Что, если ветер невзначай унес его на луну?
— Да, правда, его не видно, — подтвердил Тиран. — Может, он забился за какую-нибудь декорацию внутри фургона. Эй! Матамор! Встряхнись, если не спишь, и ответь на мой зов!
Но Матамор не откликнулся, и ничего не шевельнулось под грудой старого холста.
— Эй, Матамор! — повторно взревел Тиран таким громовым трагедийным басом, который мог бы пробудить семь спящих отроков вместе с их собакой.
— Мы его не видели, — сказали актрисы, — а так как метель слепила нам глаза, мы и не беспокоились, решив, что он идет следом за повозкой.
— Странно, черт побери! — заметил Блазиус. — Лишь бы с ним не случилось несчастья.
— Должно быть, он на время бурана укрылся где-нибудь за деревом, — предположил Сигоньяк, — а теперь не замедлит нагнать нас.
Решено было подождать несколько минут, а по истечении их отправиться на поиски. На дороге ничего не было видно, а на фоне такой белизны человеческую фигуру всякий бы заметил даже в сумерки и с порядочного расстояния. Декабрьская ночь, так быстро спускающаяся на землю после короткого зимнего дня, не принесла с собой полной темноты. Отблеск снега боролся с небесным мраком, и казалось, будто свет странным образом идет теперь не сверху, а от земли. Горизонт был очерчен резкой белой полосой, а не терялся в неясных далях. Запорошенные деревья вырисовывались, точно ледяные узоры на оконных стеклах, и хлопья снега падали время от времени с веток на черную завесу мрака, будто серебряные слезки погребального покрова. Это была картина, полная щемящей грусти; где-то вдали завыла собака, как бы стремясь в звуках выразить всю скорбность пейзажа, излить его безысходную тоску. Порой кажется, что природа, истомясь молчанием, вверяет свои затаенные горести жалобам ветра и стонам животных.
Всякий знает, какую тоску наводит в ночной тишине этот надрывный лай, который переходит в завывание, словно вызванное сонмом призраков, незримых для человеческого глаза. Животное, инстинктом своим тесно связанное с душой природы, предчувствует несчастье и оплакивает его прежде, чем оно станет явным. В этом горестном вое звучит боязнь будущего, страх смерти и ужас перед непознаваемым. Ни один храбрец не может слышать его спокойно, озноб проходит по коже от этого вопля, как от того дуновения, о котором говорит Иов{90}.
Вой постепенно приближался, и скоро посреди равнины можно было различить большого черного пса, который сидел на снегу и, задрав морду, словно прочищал себе горло этим жалостным стенанием.
— Должно быть, с нашим товарищем приключилась беда! — вскричал Тиран. — Этот проклятый пес воет, как над покойником.
У женщин сердце сжалось от мрачного предчувствия, все они истово перекрестились, сердобольная Изабелла начала шептать молитву.
— Идемте искать его, не теряя ни минуты, — решил Блазиус. — И возьмем с собой фонарь, свет от которого послужит ему путеводной звездой, если он сбился с дороги и плутает по полям; в такой снегопад, когда все кругом застлано белой пеленой, заблудиться немудрено.
После того как был высечен огонь и зажжен огарок на дне фонаря, свет за тонкими роговыми пластинами вместо стекол оказался достаточно ярок, чтобы его заметили издалека.
Тиран, Блазиус и Сигоньяк отправились на розыски. Скапен и Леандр остались стеречь повозку и ободрять встревоженных женщин. Усугубляя гнетущее настроение, черный пес продолжал надрывно выть, а ветер носил над равниной свои воздушные возки, и оттуда слышался глухой ропот, словно седоками у него были недобрые духи.
Буря взвихрила снег и замела все следы или сделала их неразличимыми. К тому же и ночная тьма затрудняла поиски; и когда Блазиус опускал фонарь до самой земли, он находил вдавленный в белую пыль отпечаток ножищи Тирана, а отнюдь не след Матамора, который ступал немногим тяжелее птицы.
Так они прошли с четверть мили, размахивая фонарем над головой, чтобы привлечь внимание пропавшего друга, и выкрикивая во всю мочь: «Матамор! Матамор! Матамор!»
на этот зов, подобный тому, с каким древние обращались к усопшим, прежде чем покинуть место погребения, ответом было молчание, или же пугливая птица взлетала с криком и, торопливо прошелестев крыльями, терялась в ночи. А иногда раздавался жалобный плач потревоженной светом совы. Наконец Сигоньяк, обладавший острым зрением, смутно различил под деревом какой-то призрачный силуэт, неестественно прямой и зловеще неподвижный. Он сообщил остальным о своем открытии, и они все вместе поспешили в указанную им сторону.
Это и в самом деле был несчастный Матамор. Он сидел, прислонясь к стволу дерева, а его вытянутые на земле длинные ноги наполовину занесло снегом. Неразлучная гигантская рапира так нелепо торчала под углом к его торсу, что это зрелище при других обстоятельствах показалось бы смешным. Когда товарищи приблизились к нему, он даже не шелохнулся. Обеспокоенный его неподвижностью, Блазиус направил свет прямо на лицо Матамора и чуть не уронил фонарь, настолько поразило его то, что он увидел.
С застывшего лица соли краски жизни — восковая бледность покрывала его. Защемленный узловатыми пальцами смерти нос блестел, как слоновая кость; виски запали. Хлопья снега налипли на бровях и ресницах, а широко раскрытые глаза казались стеклянными. Ледяные сосульки повисли на кончиках усов, оттягивая их книзу. Печать вечного безмолвия сковала уста, от которых отлетели забавные похвальбы, и очертания черепа проступали уже на тощем и бледном лице, где привычка гримасничать запечатлела страшные в своем комизме складки, не разгладившиеся даже у мертвеца, ибо такова горькая участь комедианта — сама смерть теряет у него величавость.
Питая еще долю надежды, Тиран тряхнул руку Матамора, но она успела застыть и упала с сухим стуком, как рука деревянной марионетки, у которой отпустили проволоку. Бедняга сменил сцену жизни на подмостки загробного мира. Но Тиран, не желая допустить, что Матамор умер, спросил Блазиуса, при нем ли его фляжка. Педант никогда не расставался с этим незаменимым предметом. Там еще оставалось несколько капель, и Педант сунул горлышко между фиолетовыми губами Матамора, но стиснутые зубы не разжались, и целебная влага красными каплями потекла с углов губ. Дыхание жизни навсегда покинуло эту тленную оболочку, иначе даже самый легкий вздох на таком холоде сгустился бы в пар.
— Зачем тревожить его бренные останки, — сказал Сигоньяк, — разве вы не видите, что он мертв?
— Увы, это верно, — ответил Блазиус. — Он так же мертв, как Хеопс под своей пирамидой. Должно быть, он испугался метели и, не в силах бороться с ураганом, укрылся под деревом, а так как на теле у него не было и двух унций жиру, он сразу простыл до мозга костей. Чтобы иметь успех в Париже, он каждый день уменьшал свой рацион и отощал с голоду пуще борзой после охоты. Бедный мой Матамор, отныне ты огражден от щелчков, пинков, пощечин и побоев, на которые обрекали тебя твои роли. Никто больше не будет смеяться тебе в лицо.
— Что нам делать с телом? — прервал его Тиран. — Не можем же мы бросить его прямо у обочины на растерзание волкам, собакам и птицам, хотя поживы тут вряд ли хватит даже на завтрак червям.
Конечно, не можем, — подтвердил Блазиус, — это был хороший и верный товарищ, а так как веса в нем немного, ты возьмешь его за плечи, я — за ноги, и мы вдвоем донесем его до фургона. Завтра, как рассветет, мы с честью похороним его в каком-нибудь укромном уголке; ведь нам, комедиантам, мачеха-церковь запрещает доступ на кладбище{91} и лишает нас радости покоиться в освященной земле. Мы, за свой век немало повеселившие наипочтеннейших людей, сами осуждены гнить на свалке заодно с дохлыми собаками и павшими лошадьми. Господин барон, идите вперед и освещайте нам дорогу!
Сигоньяк кивком выразил согласие. Оба актера нагнулись, разгребли снег, который прикрывал Матамора преждевременным саваном, подняли труп, более легкий, чем трупик ребенка, и тронулись в путь, а барон, идя впереди, светил им фонарем.
По счастью, в такой поздний час на дороге не было путников, на которых неминуемо нагнало бы мистический страх это погребальное шествие, освещенное красноватыми отблесками фонаря и отбрасывающее на белизну снега длинные уродливые тени. Каждый, несомненно, заподозрил бы тут преступление или колдовство.
Черный пес перестал выть, как бы окончив роль вестника зла. Гробовая тишина царил по всей равнин, ибо снег имеет свойство приглушать звуки.
Скапен, Леандр и актрисы заметили сперва красноватый огонек, который колыхался в руке Сигоньяка, причудливыми отсветами выхватывая из мрака окружающие предметы и придавая им самое неожиданное, порой грозное обличье, пока они вновь не погружались в темноту. То выплывая, то вновь скрываясь, Тиран и Блазиус, связанные между собой трупом Матамора, как два слова бывают соединены чертой, являли в этом неверном свете жуткую и загадочную картину. Скапен и Леандр, движимые тревожным любопытством, поспешили навстречу печальной процессии.
— Ну как? Что случилось? — спросил комедийный слуга, поравнявшись со своими товарищами. — Разве Матамор болен, что он вытянулся у вас на руках во весь рост, будто проглотил свою рапиру?
— Он не болен, — отвечал Блазиус, — напротив, здоровье его несокрушимо. Подагра, лихорадка, простуда и колики больше не властны над ним. Он навек излечился от той болезни, против которой ни один врач, будь то Гиппократ, Гален или Авиценна, не нашел лекарства, — я говорю о жизни, которая всех неминуемо приводит к смерти.
— Значит, он мертв! — с горестным изумлением воскликнул Скапен, наклоняясь над лицом покойника.
— Вполне мертв, мертв как нельзя более, если только в этом состоянии существуют степени, ибо окоченел он не только от смерти, но и от мороза, — ответил Блазиус с дрожью в голосе, которая обличала волнение, не соответствовавшее словам.
— Он почил, — как выражается наперсник царя в заключительном монологе трагедий, — присовокупил Титан. — Но подмените нас, пожалуйста. Уж сколько времени мы несем дорогого нашего товарища без надежды на поживу или награду. Теперь ваш черед.
Скапен занял место Тирана, Леандр — Блазиуса, хотя погребальные обязанности были не в его вкусе; после чего шествие двинулось дальше и в несколько минут достигло фургона, стоявшего посреди дороги. Невзирая на стужу, Изабелла и Серафина спрыгнули с повозки, где осталась сидеть одна Дуэнья, вглядываясь во тьму своими совиными глазами. При виде Матамора, бледного, оцепенелого, с застывшей маской вместо лица, через которую уже не проглядывала душа, актрисы вскрикнули испуганно и горестно. Из ясных глаз Изабеллы даже скатились две слезы и тут же оледенели на резком ночном ветру. Девушка набожно сложила свои прекрасные руки, покрасневшие от холода, и горячая молитва за того, кто так внезапно был проглочен люком вечности, на крыльях веры вознеслась в темную небесную высь.
Что было делать дальше? Положение стало еще затруднительнее. До селения, в котором актеры предполагали заночевать, оставалось около двух миль, и, когда удастся доехать туда, все дома будут уже на запоре и жители лягут спать; а с другой стороны — нельзя оставаться посреди дороги, в снегу, без дров, чтобы разжечь костер, без съестного, чтобы подкрепиться, и ждать позднего по такой поре рассвета в нагоняющем жуть и тоску обществе покойника.
Решено было ехать. Часовой отдых и торба овса, заданного Скапеном подбодрили несчастную заморенную клячу. Она оживилась настолько, что, по всей видимости, была способна одолеть перегон. Матамора положили в глубь фургона и накрыли полотнищем занавеса. Актрисы уселись впереди не без содрогания, ибо смерить превращает в страшилище того, с кем вы только что беседовали, и друг, который забавлял нас недавно, теперь внушает ужас, как злой дух или лемур.
Мужчины шли рядом, Скапен освещал путь фонарем, куда вставили новую свечку, а Тиран вел лошадь под уздцы, чтобы она не спотыкалась. Подвигался фургон не быстро, дорога была тяжелая; тем не менее часа через два внизу крутого склона показались первые деревенские домишки. Снег одел крыши в белое, и, несмотря на темень, они выделялись на черном фоне неба. Заслышав стук копыт, собаки всполошились, залились лаем и разбудили других псов на фермах, разбросанных по равнине. И начался концерт — одни глухо басили, другие пронзительно тявкали, солировали, подхватывали, вовлекая в общий хор собачье отродье всей округи. Немудрено, что к приезду фургона деревня успела проснуться. Головы в ночных колпаках торчали из окошек и верхних створок приоткрытых дверей, так что Педанту нетрудно было договориться о ночлеге для труппы. Ему указали постоялый двор, или хибару, заменявшую таковой в этой деревушке, мало посещаемой путешественниками, которые обычно здесь не останавливались.
Помещался заезжий дом на другом конце селения, и бедной кляче пришлось сделать еще усилие, но она почуяла конюшню и так усердствовала, что копыта ее даже сквозь снег высекали искры из булыжника. Ошибки быть не могло: над дверью висела веточка остролиста, вроде тех, что мокнут в освященной воде, и Скапен, подняв фонарь, обнаружил этот символ гостеприимства. Тиран могучими кулаками забарабанил в дверь, и вскоре послышалось шарканье шлепанцев по лестнице. Сквозь дверные щели просочился красноватый свет. Створка распахнулась, и, заслоняя пламя сальной свечки высохшей рукой, словно тоже занявшейся огнем, появилась дряхлая старуха во всей гнусности отнюдь не соблазнительного неглиже. Так как руки у нее были заняты, она придерживала зубами, вернее, деснами, края грубой холщовой рубахи с целомудренным намерением укрыть от нескромных взоров прелести, которые ужаснули бы и обратили в бегство даже козлов с шабаша. Старуха впустила комедиантов в кухню, поставила свечку на стол, помешала золу в очаге, чтобы разворошить тлевшие там угли, от которых вспыхнул пучок хвороста; потом поднялась к себе в комнату надеть юбку и кофту. Толстый парень протер глаза грязными руками, отворил ворота, вкатил во двор повозку, выпряг лошадь и поставил ее на конюшню.
— Нельзя же, однако, бросить беднягу Матамора в повозке, как оленя, привезенного с охоты, — сказал Блазиус. Чего доброго, дворовые собаки тронут его. Он как-никак крещеный христианин, и не можем мы отказать ему в ночном бдении.
Тело умершего актера внесли в дом, положили на стол и для благочиния накинули на него плащ. Под складками ткани особенно явственна была его угловатая мертвая неподвижность и резко выделялся острый профиль, который накрытым, пожалуй, казался еще страшнее. Недаром хозяйка, войдя, чуть не упала навзничь при виде покойника, которого сочла жертвой шайки, а комедиантов — убийцами. Умоляюще протянув дрожащие старческие руки, она стала просить Тирана, который, на ее взгляд, был главарем, оставить ей жизнь и обещала даже под пыткой свято сохранить тайну. Изабелла успокоила ее, вкратце рассказав, как было дело. Тогда старуха принесла еще две свечи, поставила их у изголовья покойника, по обе стороны, и предложила бодрствовать над ним вместе с тетушкой Леонардой; у себя в деревне она не раз бывала деятельной участницей похорон и досконально знала все подробности скорбного обряда.
Уладив все, комедианты перешли в соседнюю комнату, где поужинали без особого аппетита, удрученные утратой верного товарища и мрачной картиной смерти. Быть может, впервые в жизни Блазиус забыл допить стакан, хотя вино было совсем недурное. Происшедшее, видно, и в самом деле проняло его до глубины души, ибо он был из той породы пьянчуг, которые мечтают быть похороненными под бочонком, чтобы из крана капало в рот, а он вставал бы из гроба и покрикивал: «Полнее, лей полнее!»
Изабелла и Серафина устроились на тюфяке за перегородкой. Мужчины подостлали себе соломы, принесенной толстым парнем из конюшни. Спали все тревожно, с тяжелыми снами и рано поднялись для погребения Матамора.
За отсутствием простыни, Леонарда и хозяйка обернули его обрывком декорации, изображавшей лес, — саван, подобающий актеру, как походный плащ — воителю. Следы зеленой краски на ветхом холсте, которой когда-то были намалеваны гирлянды и ветки, казались сейчас зеленой травой, рассыпанной в честь умершего вокруг его тела, зашитого и спеленатого наподобие египетской мумии.
Носилки заменила доска, положенная на две палки, за концы которой взялись Тиран и Блазиус, Скапен и Леандр. Широкая черная бархатная мантия, усеянная звездами и полумесяцами из блесток, предназначавшаяся для ролей прелатов и чародеев, имела довольно пристойный вид в качестве погребального покрова.
Составленная таким образом процессия вышла через калитку прямо в поле, дабы избежать непрошеных взглядов и пересудов и задами добраться до пустыря, указанного хозяйкой, на котором можно похоронить Матамора, не вызвав ничьих возражений, ибо туда обычно выбрасывали дохлых животных, — место, конечно, оскверненное, недостойное принять смертные останки человека, созданного по образу и подобию божию; однако предписания церкви непреложны — отлученный от нее гаер не имеет права покоиться в освященной земле, разве что он отрекся от театра и его суетных дел, чего нельзя было отнести к Матамору..
Сероглазое утро пробудилось и, увязая в снегу, по косогорам спустилось вниз. От белевшей под холодным светом долины стали мертвенными бледные краски неба. При виде похоронной процессии без креста и священника во главе и к тому же державшей путь не в сторону церкви, встречные крестьяне, шедшие собирать валежник, в изумлении останавливались и косо смотрели на актеров, принимая их за еретиков, колдунов или гугенотов, однако сказать ничего не решались. Наконец кортеж достиг относительно свободного клочка земли, и трактирный слуга, несший заступ, сказал, что здесь можно рыть могилу. Повсюду кругом кочками, прикрытыми снегом, валялась падаль. Длинные черепа распотрошенных коршунами и воронами лошадей торчали в конце снизанных цепочкой позвонков, глядя пустыми глазницами, а голые ребра топорщились, точно спицы вееров, с которых сорвана бумага. Хлопья снега, ложась причудливыми белыми мазками, подчеркивали выпуклости и суставы скелетов и делали зрелище дохлятины еще ужаснее. Таковыми могли быть химерические звери, на которых ведьмы и вампиры скачут на шабаш.
Актеры опустили тело Матамора, и слуга принялся ретиво работать заступом, отбрасывая черные комки земли на снег; похороны зимой особенно печальны: хотя мертвецы ничего и не чувствуют, живые все равно представляют себе, что бедным покойникам будет очень холодно ночевать в промерзшей земле.
Тиран сменял слугу, и яма быстро углублялась. Уже ее часть была достаточно широка, чтобы разом поглотить тощее тело, как вдруг простолюдины, толпившиеся невдалеке, принялись кричать: «Бей гугенотов!» — явно намереваясь напасть на актеров. Вот полетело несколько камней, по счастью, никого не задев. Взбешенный Сигоньяк обнажил шпагу и бросился избивать грубиянов, угрожая пронзить их острием. На шум схватки Тиран выскочил из ямы, подобрал одну из палок, на которых держались носилки, и принялся дубасить тех, кто свалился от свирепого натиска барона. Толпа рассеялась с воплями и проклятиями, после чего можно было завершить погребение.
Положенное на дно ямы и зашитое в обрывок леса, тело Матамора скорее напоминало мушкет, обернутый зеленой тканью, который прячут в землю, нежели мертвеца, которого хоронят. Когда первые горсти земли упали на жалкие останки актера, растроганный Педант, не в силах удержать слезу, которая скатилась с его красного носа в раскрытую могилу, как жемчужина души, вздохнул и вместо надгробного плача и хвалы усопшему скорбным голосом произнес:
— Увы! Бедный Матамор! Добряк Блазиус и не подозревал, что в точности повторяет собственные слова Гамлета, принца Датского, сказанные им, когда он держал в руках череп Йорика, бывшего придворного шута, как то явствует из трагедии господина Шекспира, поэта весьма известного в Англии и покровительствуемого королевой Елизаветой.
В несколько минут могила была засыпана. Тиран припорошил ее сверху снегом, чтобы ее не могли найти жители деревни и надругаться над трупом. Покончив с этим, он сказал:
— Больше нам тут делать нечего, надо поскорее убираться отсюда. Вернемся в деревню, запряжем лошадь и отправимся в дорогу, иначе эти мужланы, чего доброго, возвратятся с подкреплением и накинутся на нас. Вашей шпаги и моих кулаков тогда будет недостаточно. Полчища пигмеев способны одолеть великана. Да и от победы над ними было бы мало славы и никакого прока. Допустим, вы вспорете животы пяти-шести олухам, — чести вам это не прибавит, а с мертвецами хлопот не оберешься. Тут и причитания вдов, и вопли сирот, словом, вся эта нудная возня, которой пользуются адвокаты, чтобы разжалобить судей.
Совет был разумен, ему не замедлили последовать. Час спустя, уплатив за ночлег и харчи, актеры отправились дальше.
VII РОМАН ОПРАВДЫВАЕТ СВОЕ НАЗВАНИЕ
Вначале путники подвигались вперед с такой быстротой, какую позволяли восстановленные добрым сном на конюшне силы старой клячи и дорога, покрытая выпавшим накануне снегом. Проученные Сигоньяком и Тираном, крестьяне могли напасть на фургон в большем количестве, и потому надо было поскорее отдалиться от деревни, чтобы обезопасить себя от преследования. Добрых две мили все молчали под гнетом скорбных мыслей о печальном конце Матамора и о собственном плачевном положении. Каждому думалось, что однажды и его зароют где-нибудь у дороги вместе с падалью и оставят на поругание фанатикам. Повозка, неуклонно совершавшая свой путь, символически изображала жизнь, которая идет вперед, не заботясь о тех, кто не может следовать за ней и остается умирающим или мертвым в придорожной канаве. Через символ яснее стала суть, и Блазиус, у которого язык чесался пофилософствовать на эту тему, принялся сыпать цитатами, сентенциями, афоризмами, осевшими в его памяти благодаря ролям педанта.
Тиран слушал его с хмурым видом, не отвечая ни слова. Он был озабочен совсем другим, так что Блазиус, заметив его рассеянность, спросил наконец, о чем он думает.
— Я думаю о Милоне Кротонском{92}, — отвечал Тиран, — том самом, что кулаком убил быка и съел его за один день. Этот подвиг пленяет меня, я был бы способен повторить его.
— Как на грех, быка-то и нет, — вмешался в разговор Скапен.
— Да, — подтвердил Тиран, — у меня есть только кулак… и желудок. О, сколь счастливы страусы, способные пробавляться камнями, черепками, пуговицами от гетр, рукоятками ножей, пряжками от поясов и прочей снедью, неудобоваримой для человека! Сейчас я готов сожрать всю театральную бутафорию. Мне кажется, что, роя яму для бедняги Матамора, я и в себе самом вырыл яму такую широкую, длинную и глубокую, что ее не заполнишь ничем. Древние поступали умно, устраивая после погребения трапезы, изобилующие яствами и возлияниями, к вящей славе усопших и во здравие живых. Я не прочь бы воскресить сейчас этот высокомудрый ритуал, способствующий осушению слез.
— Иными словами, тебе хочется есть, — заключил Блазиус. — Ты мерзок мне, Полифем, людоед, Гаргантюа, Голиаф!
— А тебе хочется пить, — возразил Тиран. — Ты жалок мне, бурдюк, сито, губка, бочонок, насос, воронка!
— Как сладостно и пользительно было бы слить за столом оба эти устремления! — примиряющим тоном изрек Скапен. — Вон я вижу у дороги лесок, весьма пригодный для привала. Можно завернуть туда и, если в фургоне осталось хоть немного провизии, позавтракать чем бог послал, укрывшись от ветра этими природными ширмами. Кстати, остановка даст лошади отдых, а нам позволит, догладывая объедки, потолковать о будущем труппы, на мой взгляд, далеко не радужном.
— Ты говоришь дело, друг Скапен, — одобрил Педант, — из недр мешка, увы, более тощего и плоского, чем кошелек мота, мы выгребем последние остатки былого великолепия: корки от пирогов, кости от окорока, кожицу от колбасы и краюшки хлеба. В укладке найдется еще два-три штофа вина, последних из целой шеренги. Этим всем можно если не утолить, так заглушить голод. Какая обида, что почва этого негостеприимного края не похожа на глину, которой американские дикари набивают себе брюхо, когда охота и рыбная ловля не кормят их!
Повозку отвели в сторону от дороги и поставили в чащу кустарника, а распряженная лошадь принялась отыскивать под снегом редкие стебельки трав к выщипывать их своими длинными желтыми зубами. На полянке был разостлан ковер. Актеры уселись по-турецки вокруг этой импровизированной скатерти, и Блазиус аккуратно, как для пышной трапезы, расставил на ней объедки, которые наскреб в фургоне.
— Какая прекрасная сервировка! — воскликнул Тиран, любуясь этим зрелищем. — Княжеский дворецкий не лучше управился бы с нею. Хотя ты, Блазиус, превосходно играешь роли Педанта, истинное твое призвание — служить за столом.
Я и в самом деле имел такое намерение, но злая судьба воспрепятствовала мне, — скромно ответил Педант. — Смотрите только, милые мои обжоры, не накидывайтесь слишком жадно на кушанья. Жуйте истово и медленно. Впрочем, лучше я сам оделю вас, как это делается на плотах после кораблекрушения. Вот тебе, Тиран, ветчинная кость, на которой еще болтается кусок мякоти. Зубы у тебя крепкие, ты раздробишь ее и, как положено философу, извлечешь из нее мозг. Вам, сударыни, донышко пирога, помазанное по углам фаршем и проложенное внутри основательным слоем сала. Это кушанье тонкое, вкусное и как нельзя более питательное. Вам, барон де Сигоньяк, я отдаю кончик колбасы; остерегайтесь только проглотить веревку, которой стянута кишка, точно кошелек — шнурками. Веревку оставьте на ужин — ибо обед мы упраздняем, почтя его излишней, обременительной для пищеварения трапезой. Мы трое — Леандр, Скапен и я — удовольствуемся вот этим почтенным куском сыра, сморщенным и обомшелым, как пустынник в своей пещере. Что до хлеба, тая пусть тот, кто найдет его слишком черствым, потрудится размочить его в воде, а щепки вытащит и обстругает для зубочисток. В отношения вина каждый имеет право на чарку, только я, как виночерпий, прошу вас пить до дна, дабы не было утечки драгоценной влаги.
Сигоньяк с давних пор был приучен к более чем испанской воздержанности в пище: у себя в обители горести он нередко довольствовался таким обедом, после которого мышам нечем было поживиться, ибо он сам, как мышь, подбирал последние крошки. Однако его восхищало бодрое расположение духа и комическое красноречие Педанта, находившего повод для смеха там, где другие бы без удержу скулили и ныли. Беспокоила его лишь Изабелла. Синеватая бледность покрывала ее щеки, а в перерывах между глотками зубы ее, наподобие кастаньет, выбивали лихорадочную дробь, которую она тщетно пыталась подавить. Тонкая одежда слабо защищала девушку от стужи, и сидевший рядом Сигоньяк, несмотря на ее возражения, накинул ей на плечи половину своего плаща, а потом привлек ее ближе к себе, чтобы сообщить ей немного живительного тепла. Изабелла мало-помалу согрелась у этого очага любви, и легкий румянец проступил на ее целомудренном личике.
Пока актеры закусывали, неподалеку послышался непонятный шум, на который они сперва не обратили внимания, приняв его за свист ветра в оголенных кустах. Но вскоре шум стал явственнее. Это было нечто вроде шипения, сиплого и пронзительного, бессмысленного и злобного, а главное, совершенно непонятного. Женщины переполошились.
— А вдруг это змея! — воскликнула Серафина. — Я умру тогда. Всякие гады внушают мне омерзение.
— По такому холоду змеи замирают и, одеревенев, спят в своих норах, — возразил Леандр.
— Леандр прав, — подтвердил Педант, — скорее это лесная зверушка, которую испугало или потревожило наше присутствие. Не из-за чего портить себе аппетит.
Скапен, услышав шипение, насторожил свои лисьи уши, хоть и красные от холода, но сохранившие тонкий слух, и обратил острый взгляд в ту сторону, откуда раздавались странные звуки. Трава зашуршала, словно примятая поступью какого-то животного. Скапен знаком попросил актеров не шевелиться, и вскоре из чащи, вытянув шею и задрав клюв, с тупоумной важностью раскачиваясь на перепончатых лапах, выступил великолепный гусак. За ним доверчиво и простодушно следовали две гусыни, его супруги.
— Вот жаркое, которое само просится на вертел, — прошептал Скапен, — тронутое нашими голодными муками небо весьма кстати посылает его нам.
Сказав это, хитрый пройдоха поднялся и отошел в сторону, с такой ловкостью описав полукруг, что снег ни разу не хрустнул у него под ногами. Внимание гусака было привлечено кучкой комедиантов, которых он созерцал с недоверием и любопытством, не в силах своими темными гусиными мозгами объяснить их присутствие в этом пустынном месте. Скапен, по-видимому, привычный к таким мародерским наскокам, воспользовался его сосредоточенностью, подошел к нему сзади и своим плащом так метко, быстро и ловко накрыл его, что вся сцена заняла меньше времени, чем потребовалось на ее описание.
Затем Скапен бросился на птицу, схватил ее за горло под плащом, который грозили смахнуть судорожные взмахи крыльев злосчастного удавленника. В этой позе Скапен походил на известную античную скульптуру, именуемую «Мальчик с гусем». Вскоре гусь совсем перестал отбиваться. Голова его бессильно упала на сжатый кулак Скапена. Крылья больше не трепыхались. Лапы, обутые в оранжевые сафьяновые сапожки, вытянулись в последнем содрогании. Он испустил дух. Гусыни — его вдовы, опасаясь такой же участи, издали жалобное гоготание на манер надгробного плача и удалились обратно в лес.
— Браво, Скапен, трюк проделан мастерски, лучше всего того, что ты разыгрываешь на театре, — возгласил Тиран. — Гусей куда труднее застичь врасплох, чем Жеронтов{93} и Труффальдино, — они по природе своей весьма бдительны и постоянно настороже; недаром из истории явствует, что капитолийские гуси почуяли ночью приближение галлов и таким образом спасли Рим. Этот отменный гусак тоже спасает нас, правда, на другой, но не менее чудодейственный лад.
Пока старуха Леонарда щипала и потрошила гуся, тщательно обирая пух, Блазиус, Тиран и Леандр разбрелись по леску, набрали валежника, отряхнули его от снега и сложили на сухом месте. Скапен обстругал ножиком палку, которой надлежало служить вертелом. Две раздвоенные ветки, срезанные выше стыка, были воткнуты в землю взамен подпор и тагана. Из фургона взяли охапку соломы и высекли над нею огонь, который быстро разгорелся и весело запылал, освещая надетую на вертел птицу и оживляя благодатным жаром расположившихся вокруг костра актеров.
Скапен скромно, как и полагается герою дня, сидел на своем месте, потупя взор, и с постной миной размеренно поворачивал гуся, который от жара углей покрывался аппетитной золотистой корочкой и распространял сочный аромат, способный повергнуть в экстаз того путешественника, что изо всего столичного города Парижа превыше всего восторгался обжорным рядом на Гусиной улице.
Тиран поднялся и размашисто шагал взад и вперед, чтобы, по собственному его признанию, отвлечь себя от соблазна накинуться на недожаренного гуся и сожрать его вместе с вертелом. Блазиус извлек из сундука в фургоне большое оловянное блюдо, употребляемое на театральных пиршествах. Торжественно водруженный на блюдо, гусь обливался под ножом благоуханным кровавым соком.
Добычу разделили на равные доли, и завтрак начался сызнова. На сей раз он совсем не был похож на обманчивый мираж. Голод усыпляет укоры совести, и потому никого не смущал образ действий Скапена. Педант, человек дотошный в кухонных делах, извинился, что к гусятине не положена обязательная и наилучшая к ней приправа — померанцы, нарезанные ломтиками, но ему охотно простили этот кулинарный недочет.
— Теперь, когда мы насытились, — начал Тиран, рукой утирая бороду, — уместно пораскинуть мозгами насчет того, как нам быть дальше. У меня на дне кошеля осталось не больше трех-четырех пистолей, и моя казначейская должность грозит стать синекурой. Наша труппа лишилась двух ценных партнеров — Зербины и Матамора, да, кстати, не играть же нам спектаклей посреди поля для увеселения ворон, галок и сорок. За места они не уплатят, потому что денег у них нет, исключение, быть может, составят сороки, которые, как слышно, воруют монеты, украшения, ложки и кубки. Но на такие сборы рассчитывать неблагоразумно. Впряженная в нашу повозку, еле живая кляча доставит нас в Пуатье не раньше, чем через два дня, что крайне прискорбно, ибо за это время мы смело можем околеть от голода или холода в придорожной канаве. Жареные гуси не каждый день выходят из кустов.
— Ты очень хорошо живописуешь, сколь плохо наше положение, — заметил Педант, — но не указываешь способа выйти из него.
— На мой взгляд, нам следует остановиться в первой же деревне, какая встретится на пути, — отвечал Тиран. — Полевые работы закончены, настали долгие зимние вечера. Уж как-нибудь нам отведут то ли сарай, то ли хлев. Скапен будет зазывать у входа, суля огорошенным ротозеям невиданное зрелище, за которое вдобавок можно платить натурой: курица, четверть свиного или говяжьего окорока, кувшин вина дадут право на первые места. За вторые можно брать пару голубей, дюжину яиц, пучок овощей, каравай хлеба и тому подобную провизию. Крестьяне скупятся на деньги, но совсем не дорожат съестными припасами, которыми безвозмездно снабжает их щедрая мать-природа. Кармана мы не наполним, зато наполним желудок, что не менее важно, ибо от этого почтенного органа зависит все благополучие и процветание тела, как справедливо отмечал Менений{94}. Затем нам уже нетрудно будет добраться до Пуатье, где знакомый мой трактирщик доверит нам в долг.
— Но какую пьесу будем мы играть, если нам посчастливится набрести на деревню? — спросил Скапен. — Репертуар наш в совершеннейшем расстройстве. Трагедии и трагикомедии были бы сущей тарабарщиной для этих невежд, не сведущих ни в истории, ни в мифологии, толком не разумеющих даже настоящего французского языка. Им бы надо показать веселую буффонаду, не приправленную аттической солью, а попросту соленую, со множеством драк, побоев, пинков, кувырканий, шутовских выходок на итальянский лад. «Бахвальство капитана Матамора» как нельзя больше подошло бы для этой цели. Но Матамор, к несчастью, приказал долго жить и впредь лишь червям будет произносить свои тирады.
Когда Скапен кончил, Сигоньяк знаком показал, что хочет говорить. Легкая краска, — последний прилив дворянской гордости, прихлынувший от сердца к щекам, — зарумянила его лицо, обычно бледное даже на резком ветру. Актеры молчали в ожидании.
— Хотя я не наделен талантом бедняги Матамора, зато не уступаю ему в худобе. Я возьму на себя его роли и постараюсь как можно лучше заменить его. Я стал вашим товарищем и хочу быть им в полной мере. Мне стыдно было бы, разделив с вами удачу, не прийти вам на помощь в беде. Да и кому на свете какое дело до Сигоньяков? Замок мой, того и гляди, обрушится на могилы моих предков. Некогда славное имя мое покрыто пылью забвения, и герб мой зарос плющом над пустынным порталом. Быть может, настанет день, когда три аиста радостно отряхнут свои серебряные крылья, и жизнь вместе со счастьем возвратится в унылую лачугу, где без надежд томилась моя юность. А пока что, раз вы помогли мне выбраться из этого склепа, так примите же меня открыто в свою среду. Мое имя больше не Сигоньяк.
Изабелла дотронулась рукой до плеча барона, как бы желая остановить его, но Сигоньяк, не обратив внимания на умоляющий взгляд девушки, продолжал:
— Я сбрасываю свой баронский титул и прячу его в укладку, как ненужное платье. Перестаньте величать меня бароном. Посмотрим, удастся ли несчастью отыскать меня под новым обличьем. Итак, я наследую Матамору и зовусь отныне капитан Фракасс!
— Да здравствует капитан Фракасс! — в знак согласия вскричала вся труппа. — И да сопутствует ему успех!
Решение, поначалу озадачившее актеров, не было столь внезапным, как могло показаться. Сигоньяк давно его обдумывал. Он стыдился быть нахлебником благородных комедиантов, которые так великодушно делили с ним свои крохи, ни разу не показав ему, что он им в тягость, и он счел более достойным дворянина честно зарабатывать свою долю на подмостках, нежели дармоедом получать ее, как милостыню или подачку. Правда, мысль вернуться в замок Сигоньяк возникала у него, но он отбрасывал ее как малодушную и постыдную: не подобает солдату покидать товарищей в минуты поражения. И даже если бы он мог ретироваться, его удержала бы любовь к Изабелле; кроме того, хотя он не был склонен питать иллюзии, ему в смутной дали мерещились самые необычайные приключения, счастливые перемены и неожиданные повороты судьбы, на которые пришлось бы навсегда махнуть рукой, вновь запершись в своем родовом жилище.
Когда все было улажено таким образом, актеры запрягли лошадь в повозку и тронулись дальше. Вкусная пища подбодрила их, и все, исключая Дуэнью и Серафину, нелюбительниц ходить пешком, следовали за фургоном, дабы посильно облегчить горемычную клячу. Изабелла опиралась на руку Сигоньяка и время от времени украдкой бросала на него умиленный взгляд, не сомневаясь, что он лишь из любви к ней принял решение стать актером, столь противное дворянской гордости. Она понимала, что оно достойно укоризны, но у нее не хватало мужества порицать такое доказательство преданности, которому она непременно воспротивилась бы, если бы могла его предвидеть, ибо она была из тех женщин, что забывают о себе и пекутся лишь о благе любимого. Спустя некоторое время она, утомившись ходьбой, села в фургон и забилась под одеяло рядом с Дуэньей.
По обе стороны дороги расстилалась нескончаемая белая безлюдная равнина: ни намека на городок или деревушку.
— Наше представление грозит сорваться, — заметил Педант, окинув взглядом местность, — не заметно, чтобы зрители спешили к нам гурьбой, и сбор в виде ветчины, кур и пучков лука, которым Тиран разжег наш аппетит, представляется мне крайне сомнительным. Я не вижу ни одной дымящейся трубы, и, насколько хватает глаз, ни единая колокольня не кажет своего флюгерка.
— Наберись терпения, Блазиус, — успокоил Тиран, — частые селения заражают воздух, и потому полезно располагать их на большом расстоянии друг от друга.
— Тогда обитателям здешних краев нечего бояться повальных болезней, чумы, кровавого поноса, холеры, быстротечной злокачественной лихорадки, которые, по словам медиков, случаются от большого скопления людей в одном месте. Если так будет продолжаться, боюсь, что первый дебют нашего капитана Фракасса состоится не скоро.
Тем временем день быстро клонился к вечеру, и сквозь густую пелену свинцовых туч еле виднелся слабый красноватый свет, указывающий то место, где садилось солнце, соскучившись освещать столь мрачный и угрюмый ландшафт, испещренный черными точками — воронами.
От ледяного ветра снег покрылся блестящей коркой. Несчастная старая кляча продвигалась с неимоверным трудом; на каждом спуске копыта ее скользили, и как ни выпрямляла она, точно колья, свои облысевшие колена, как ни оседала на тощий круп, тяжесть повозки подталкивала ее, хотя Скапен и шел впереди, держа лошадь под уздцы. Несмотря на стужу, по ее хлипким конечностям и костлявым бокам струился пот, от трения сбруя превращалась в белую пену. Легкие ее раздувались, как кузнечные мехи. Синеватые глаза расширялись в мистическом ужасе, словно от страшных видений; а иногда она пыталась свернуть в сторону, как будто незримая преграда вставала перед нею. Она шаталась, как пьяная, ударяясь своим остовом то об одну, то о другую оглоблю, а голову то вздергивала, обнажая десна, то опускала к земле, словно стараясь глотнуть снегу. Ясно было, что пробил ее час, но она умирала на ходу, как и подобает честной рабочей лошади. Наконец она свалилась, сделала слабую попытку отбрыкнуться от смерти, повернулась на бок и уж больше не встала.
Испуганные внезапным толчком, от которого едва не опрокинулся фургон, женщины подняли отчаянный крик. Актеры поспешили им на помощь и тотчас вызволили их. Леонарда и Серафина ничуть не пострадали, но Изабелла от испуга и сотрясения лишилась чувств, и Сигоньяк на руках вынес лежавшую в обмороке девушку, меж тем как Скапен, наклонясь, ощупывал уши лошади, которая была распластана на земле, точно картонная.
— Сдохла, окончательно сдохла, — сказал Скапен, поднимаясь с унылым видом, — уши холодные, и шейная жила перестала биться.
— Значит, нам самим придется впрячься в фургон, как вьючным животным или как рыбакам, что бечевой тянут баркас! Что за проклятая мысль взбрела мне в голову стать актером! — возопил Леандр.
— Нашел когда стонать и хныкать! — заревел Тиран, раздраженный этим несвоевременным нытьем. — Надо набраться мужества, показать, что нам не страшны превратности судьбы, и рассудить, как быть дальше. Но прежде всего посмотрим, не очень ли плоха бедняжка Изабелла; нет, она уже открывает глаза и стараньями Сигоньяка и тетушки Леонарды приходит в себя. Итак, труппа должна разбиться на две части. Одна останется с женщинами подле фургона, другая отправится в разные стороны искать помощи. Мы не россияне, привычные к скифским морозам, и не способны зимовать здесь до утра, задом в снегу. Меховых шуб у нас нет, и к рассвету мы застынем от холода и побелеем от инея, как обсахаренные фрукты. Капитан Фракасс, Леандр и ты, Скапен, — вы легки на подъем и быстроноги, как Ахилл Пелид{95}. Бегите во всю прыть, словно тощие коты, и возвращайтесь к нам скорее с подмогой. А мы — Блазиус и я — будем стеречь наше имущество.
Трое перечисленных мужчин уже совсем собрались в путь, не надеясь, однако, на успех своего предприятия, ибо кругом было черно, как в печной трубе, и только отблеск снега позволял нащупывать дорогу; но мрак, стирая очертания предметов, особенно ярко выделяет огни, — и вот довольно далеко от дороги у склона холма блеснула красная точечка.
— Вот он, светоч спасения, — воскликнул Педант, — вот она, земная звезда, столь же отрадная для заплутавших странников, как Полярная звезда для мореходов in periculo maris[2]! Эта благодатная звездочка не что иное, как свеча или лампа, поставленная на окно; за ней подразумевается уютная теплая комната, являющаяся частью дома, где обитают скорее добромыслящие человеческие существа, нежели разнузданные дикари лестригоны{96}. Без сомнения, в очаге ярким пламенем горит огонь, а на нем в котелке кипит наваристая похлебка… О, сладостные грезы, от которых я мысленно облизываюсь, поливая воображаемый ужин двумя-тремя бутылками доброго вина, вынутыми из погреба и по старости окутанными паутиной.
— Ты бредишь, друг Блазиус, — заметил Тиран. — Мороз застудил тебе под лысым черепом мозги, и перед глазами у тебя мелькают миражи. Одно только верно в твоей болтовые — за этим огоньком скрывается жилье, что коренным образом меняет нашу стратегию. Мы все вместе направимся к этому спасительному маяку. Вряд ли нынче ночью сюда, на пустынную дорогу, завернут воры, дабы похитить наш лес, городскую площадь и гостиную. Каждый заберет с собой свои пожитки, благо тяжесть их невелика. Завтра мы воротимся за фургоном. А пока что я продрог насквозь и перестал чувствовать кончик носа.
Итак, шествие тронулось: Изабелла шла, опираясь на руку Сигоньяка, Леандр поддерживал Серафину, Скапен тащил Дуэнью, Блазиус и Тиран шагали впереди. Они направились полем прямо на огонек, местами натыкаясь на кусты или овражки, по колено утопая в снегу. Наконец, провалившись не раз и не два, они достигли обширного строения, обнесенного длинным забором с высокими воротами, похожего на ферму, насколько можно было судить в темноте. Яркий квадрат еще не закрытого ставней окошка выделялся на черной стене.
Почуяв приближение посторонних, сторожевые собаки заволновались и подали голос. В ночной тишине явственно слышно было, как они бегают, скачут и беснуются за оградой. К их возне присоединились людские шаги и голоса. Скоро вся ферма была на ногах.
— Подождите в сторонке, — распорядился Педант. — Эти мирные поселяне испугаются, что нас слишком много и мы, чего доброго, шайка разбойников, которая вознамерилась завладеть их сельскими пенатами. Лучше мне, как старику, безобидному и добродушному с виду, одному постучаться у двери и вступить в переговоры. Я ни на кого не нагоню страха.
Решено было последовать столь мудрому совету. Согнутым указательным пальцем Блазиус стукнул в дверь, которая приотворилась, а затем раскрылась настежь. И тут актеры, стоя поодаль, по щиколотку в снегу, увидели неожиданное и весьма удивительное зрелище. Педант и хозяин фермы, поднесший лампу к лицу докучного пришельца, после нескольких слов, которых актеры не расслышали, принялись жестикулировать самым оживленным образом, перемежая возгласы бурными объятиями и поцелуями, как это принято на театре при встречах друзей.
Ободренные таким приемом, необъяснимым, но, судя по пылкости пантомимы, вполне благоприятным и радушным, актеры робко приблизились, приняв смиренный и жалостный вид, приличествующий путникам в беде, просящим пристанища.
— Эй! Где вы там все? — весело крикнул Педант. — Не бойтесь ничего; мы попали к собрату по ремеслу, любимцу Феспида, баловню Талии, музы комедии, одним словом, к знаменитому Белломбру, имевшему некогда шумный успех при дворе и в столице, не говоря уже о провинции. Всем вам известно его достославное имя. Благословите же случай, который привел нас прямо к той тихой пристани, где светоч сцены философски почил на лаврах.
— Пожалуйте сюда, милостивые государыни и милостивые государи, — пригласил Белломбр, выйдя навстречу к актерам с учтивостью, исполненной изящества и свидетельствовавшей о том, что под крестьянским обличием он сохранил манеры светского человека. — Холодный ночной ветер может повредить вашим бесценным голосам, и, как ни скромно мое жилище, в нем вам будет удобнее, чем под открытым небом.
Само собой разумеется, спутники Блазиуса не заставили себя долго просить и поспешили войти в двери фермы, обрадованные приключением, в котором, впрочем, не было ничего необычайного, кроме того, что оно подоспело кстати. Блазиус когда-то подвязался в той же труппе, что и Белломбр, и так как разные амплуа исключали всякое соперничество между ними, они питали взаимное уважение и даже очень подружились в силу общего пристрастия к возлияниям. Бурно проведенная юность привела Белломбра на подмостки, но, унаследовав после смерти отца ферму с угодьями, он покинул театр. Для ролей, которые он играл, требовалась молодость, и он не прочь был уйти со сцены, прежде чем отставка будет ему подписана морщинами на лбу. Его считали давно умершим, и старые театралы обескураживали молодых актеров сравнениями с ним.
Просторная комната, куда вошли актеры, как в большинстве ферм, служила одновременно спальней и кухней. Одну из стен занимал очаг с высоким колпаком, украшенным по краю выгоревшими зелеными шелковыми фестонами. Полукруглый кирпичный выступ в коричневатой глянцевитой стене указывал место дымохода, прикрытого сейчас железной заслонкой. На гигантской кованой решетке с полукруглыми выемками для кастрюль весело потрескивали пять-шесть поленьев, или, вернее, целых бревен. Этот щедрый огонь такими отблесками озарял комнату, что свет лампы был бесполезен; блики пламени выхватывали из мрака кровать готической формы, мирно дремавшую за пологом, сверкающими струйками скользили по закопченным балкам потолка, а пробегая до полу, протягивали причудливые тени от ножек занимавшего середину комнаты стола, а то еще зажигали искрами круглые бока кувшинов и кастрюль, стоявших на поставце или висевших на крюках по стенам.
Две-три книжки, брошенных на столике резного дерева в углу у окна, показывали, что хозяин не совсем превратился в землепашца и, памятуя о прежней своей профессии, коротал досуг длинных зимних вечеров за чтением.
Согретые теплом и ласковым приемом, актеры пришли в блаженное состояние. Живые краски вернулись на бледные лица и потрескавшиеся от холода губы. Радость засветилась в тусклых глазах, Надежда подняла понурые головы. Хромому коварному и злорадному божку, который зовется Напастью, прискучило наконец преследовать бродячую труппу; умилостивленный смертью Матамора, он соблаговолил помириться на этой тощей добыче.
Белломбр позвал слуг, которые уставили скатерть тарелками и пузатыми кувшинами, к великой радости Блазиуса, от рождения одержимого жаждой, не отпускавшей его даже ночью.
— Теперь ты видишь, — сказал он Тирану, — насколько мои предположения насчет красного огонька были логически обоснованы. Это не были ни миражи, ни фантазии. Смотри — сочный пар столбом валит из похлебки, на которую не пожалели капусты, брюквы и других овощей. Увенчанное розовой пеной, в кубках играет молодое прозрачное красное вино. Чем сильнее трещит мороз за окном, тем жарче пылает огонь. И к тому же хозяин наш — великий, знаменитый, прославленный Белломбр, краса и цвет всех комедиантов, бывших, настоящих и будущих, не в ущерб чьему-либо дарованию будь сказано.
— Нам нечего было бы желать, если бы бедный Матамор не покинул нас, — вздохнула Изабелла.
— А что же стряслось с ним? — осведомился Белломбр, много слыхавший о Матаморе.
Тиран рассказал ему печальную историю замерзшего капитана.
— Если бы не счастливая встреча с добрым старым товарищем, нам сегодня ночью грозило бы то же самое, — сказал Блазиус. — Мы закоченели бы, как моряки в кромешной киммерийской тьме и стуже{97}.
— Что было бы весьма прискорбно, — галантно подхватил Белломбр, выразительно подмигнув Изабелле и Серафине, — впрочем, юные богини, бывшие с вами, огнем своих очей, несомненно, растопили бы снег и освободили природу от ледяных оков.
— Вы приписываете слишком большую власть нашим взглядам, — возразила Серафина. — В этом зловещем студеном мраке они не могли бы даже воспламенить сердце. Слезы холода погасили бы огонь любви.
За ужином Блазиус рассказал Белломбру, в каком положении оказалась труппа. Старый актер не был этим удивлен.
— Фортуна театральная — дама еще более капризная, нежели Фортуна житейская, — заявил он. — Ее колесо вращается так быстро, что удержаться на нем она может всего лишь несколько мгновений, но, упав с него, легко и ловко вновь туда вспрыгивает и восстанавливает равновесие. Завтра я пошлю рабочих лошадей за вашим фургоном, и мы устроим театр в овине. Неподалеку от фермы расположено порядочное селение, где наберется немало зрителей. Если представление даст недостаточный сбор, на дне моего старого кожаного кошелька залежалось несколько пистолей, более полновесных, чем театральные жетоны, и, клянусь Аполлоном, я не оставлю старого приятеля Блазиуса и его друзей в беде!
— Я вижу, ты все тот же великодушный Белломбр! — воскликнул Педант. — Душа твоя не огрубела от земледельческих и буколических занятий.
— Да, возделывая поля, я не оставляю в праздности и ум; сидя у камина и положив ноги на решетку, перечитываю я старых поэтов, перелистываю творения нынешних острословов, какие могу раздобыть в своем захолустье. Для времяпрепровождения я разучиваю роли моего амплуа и вижу, что в те времена, когда мне рукоплескали за звучный голос, горделивую осанку да стройные ноги, я был всего лишь пустоголовым фатом. Ничего я тогда не смыслил в нашем искусстве и бездумно шел напролом, как ворона, что долбит орехи. Глупость публики обеспечивала мне успех.
— Один только великий Белломбр может так говорить о себе, — почтительно заметил Тиран.
— Искусство долговечно, а жизнь коротка, — продолжал отставной актер, — особенно для комедианта, которому материалом для образа служит он сам. Только было развернулся у меня талант, как вместе с ним отросло и брюшко, неприемлемое для роковых красавцев и трагических любовников. Я не стал дожидаться, чтобы двое театральных служителей поднимали меня под руки, когда по ходу действия мне полагалось бросаться на колени перед дамой моего сердца и изъяснять свои пылкие чувства, хрипя от одышки и закатывая слезящиеся глаза. Воспользовавшись подвернувшимся кстати наследством, я удалился во всем блеске своей славы, не желая подражать тем упрямцам, которых приходится гнать с подмостков огрызками яблок, апельсинными корками и тухлыми яйцами.
— Ты поступил разумно, Белломбр, — одобрил Блазиус, — хотя и поспешил с отставкой, лет десять ты мог бы еще пробыть на театре.
В самом деле, несмотря на деревенский загар, Белломбр сохранил величавую наружность; его глаза, привыкшие выражать страсть, оживились и заблестели в пылу беседы. Широкие, красиво очерченные ноздри трепетали. Губы, приоткрываясь, обнажали ряд зубов, которым позавидовала бы любая кокетка; горделиво закруглялся отмеченный ямочкой подбородок; густая шевелюра, где поблескивали отдельные серебряные нити, пышными кольцами ниспадала до самых плеч. Словом, это был по-прежнему красивый мужчина.
Блазиус и Тиран продолжали пить в обществе Белломбра. Актрисы удалились в другую комнату, где слуги растопили камин. Сигоньяк, Леандр и Скапен устроились в хлеву на охапках свежего сена, защищенные от холода дыханием животных и шерстью попон.
Пока одни пьют, а другие спят, возвратимся к покинутому фургону и посмотрим, что там происходит.
Лошадь по-прежнему лежала между оглоблями. Только окоченевшие ноги вытянулись, как палки, а голова совсем распласталась на земле, прикрытая космами гривы, слипшейся от пота и на холодном ночном ветру застывшей сосульками. Впадины над остекленевшими глазами все углублялись, костлявые скулы, казалось, рассечены анатомом.
Начинало светать. Свинцово-белый диск зимнего солнца выступал наполовину между длинными полосами облаков и проливал бледный свет на мрачную равнину, где траурно-черными штрихами вырисовывались остовы деревьев. По снежной пелене прыгали вороны и, руководимые обонянием, осторожно, в страхе перед неизвестной угрозой, ловушкой или подвохом, подбирались к мертвой лошади; их смущала темная громада фургона, и они карканьем высказывали опасение, не притаился ли в этой махине охотник, ведь ворониной не испортить похлебки. Они приближались вприпрыжку, распаленные желанием, и тут же боязливо отскакивали назад, как бы исполняя фигуры своеобразной паваны. Наконец один из них, расхрабрившись, отделился от стаи, раз-другой взмахнул тяжелыми крыльями, взлетел и опустился на лошадиную голову. Он уже нацелился выклевать глаза падали, но вдруг замер, взъерошил перья и насторожился.
Вдалеке на дороге под тяжелыми шагами заскрипел снег, и это поскрипывание, недоступное человеческому уху, явственно улавливал изощренный вороний слух. Опасность все еще была далеко, и черный ворон не покинул своего места, но и не перестал прислушиваться. Шаги приближались, и вскоре в утреннем тумане возникли расплывчатые очертания человека с какой-то ношей. Ворон счел за благо удалиться и взлетел, протяжным карканьем предупреждая собратий об опасности.
Вся стая, громко и хрипло каркая, разлетелась по соседним деревьям. Человек дошел до фургона, увидел посреди дороги повозку без хозяина, запряженную лошадью, у которой, как у Роландовой кобылы{98}, имелся один капитальный изъян — она была мертва, — остановился в недоумении и бросил по сторонам торопливый подозрительный взгляд.
Чтобы лучше осмотреться, он опустил свою ношу наземь. Ноша не упала, а шагнула самостоятельно, ибо она оказалась девочкой лет двенадцати, закутанной с головы до пят в длинный плащ, отчего, согнувшись в комок на руках своего спутника, она могла сойти за рундучок или дорожную котомку. Из-под лоскута, покрывавшего ее голову, лихорадочным мрачным огнем горели черные глаза, точь-в-точь такие, как у Чикиты. Нитка жемчуга светлыми точками выделялась на смуглой шее, и в разрез этой потуге на роскошь голые ноги ей прикрывало скрученное жгутом тряпье.
Это и в самом деле была Чикита собственной персоной, а спутник ее был не кто иной, как Агостен, разбойник с чучелами: устав заниматься своим благородным ремеслом на пустынных дорогах, он направлялся в Париж, где все таланты находят себе применение, — ночью шел, а днем скрывался, по примеру всех хищных тварей, промышляющих насилием и убийством.
Девочка так озябла и устала, что при всем своем мужестве не могла идти дальше, и Агостен, в поисках пристанища, нес ее на руках, как Гомер или Велизарий{99} своих провожатых, с той существенной разницей, что он отнюдь не был слепцом, а, наоборот, обладал зрением рыси, могущей, как утверждает Плиний Старший{100}, видеть предметы сквозь стены.
— Что бы это значило? — обратился Агостен к Чиките. — Обычно мы останавливаем повозки, а тут повозка остановила нас; как бы она не оказалась полна седоков, которые закричат нам «кошелек или жизнь».
— Там нет никого, — ответила Чикита, которая успела просунуть голову под парусину.
— Так, может, есть что-нибудь? — предложил бандит. — Надо произвести осмотр.
Пошарив в складках пояса, он достал кремень и трут, высек огонь и зажег потайной фонарь, который был ему необходим для ночных изысканий, тем более что лучи рассвета еще не проникали в глубь повозки. Чикита, в чаянии наживы забыв об усталости, шмыгнула в фургон и направила свет фонаря на загромождавшие его тюки, но, кроме старых раскрашенных холстов, картонного реквизита да грошовых тряпок, ничего не обнаружила.
— Ищи получше, Чикита, деточка, — поощрял ее стоявший на страже бандит, — ройся во всех карманах и в торбах, что висят по боковым стенкам.
— Ничего тут нет, ровно ничего, что стоило бы взять. Ага! Вот кошель, в котором что-то звякает!
— Давай его скорей, — поторопил Агостен, — и поднеси ближе фонарь, чтобы я мог разглядеть находку. Клянусь рогами и хвостом дьявола, не везет нам, да и только! Я-то думал, тут настоящие деньги, а это просто кружочки из меди и позолоченного свинца. Ну хоть какую-нибудь пользу извлечем из этого фургона — отдохнем немного, укрывшись от холодного ветра под его навесом. Твои бедные окровавленные ножки больше не держат тебя, — уж очень тяжела дорога и долог путь. Ты укроешься холстами и поспишь часок-другой. А я тем временем тебя посторожу, чтобы никакая тревога не застигла нас врасплох.
Чикита забилась в глубь фургона, натянула на себя старые декорации, чтобы мало-мальски согреться, и вскоре уснула. Агостен уселся на передке, положил раскрытую наваху так, чтобы она была у него под рукой, и оглядел окрестности пристальным взглядом разбойника, от которого не укроется никакая опасность.
Глубочайшая тишина царила над безлюдной равниной. На склонах далеких холмов пятнами выступали груды снега, блестя в тусклых лучах рассвета, точно белые призраки или мраморные памятники на кладбище. Но все это было неподвижно и не вызывало беспокойства. Несмотря на силу воли и железное сложение, Агостен почувствовал, что его одолевает сон. Уже несколько раз веки его слипались, и он неимоверным усилием разжимал их; предметы стали расплываться перед ним, мысли путались, как вдруг, сквозь сумбур первых сновидений, он ощутил на лице чье-то теплое и влажное дыхание. Он проснулся, и глаза его, раскрывшись, встретились с двумя светящимися зрачками.
— Волки не пожирают друг друга, голубчик, — проворчал разбойник, — тебе не по зубам загрызть меня.
И движением быстрее молнии он левой рукой сжал зверя за горло, а правой схватил наваху и по рукоятку вонзил ему в сердце.
Однако, несмотря на победу, Агостен счел место ненадежным для ночлега и разбудил Чикиту, которая ничуть не испугалась при виде простертого на дороге мертвого волка.
— Лучше уйти отсюда, — решил бандит, — эта падаль привлекает волков, они ведь сатанеют от голода, когда все занесено снегом и им негде найти пищу. Конечно, я и других убью, как убил этого, но они могут набежать целой стаей, а если я усну, мне неприятно будет проснуться в брюхе этакого хищника. Расправясь со мной, тебя они проглотят вмиг при твоих цыплячьих косточках. Ну-ка, давай поживей убираться отсюда, пока они заняты этой дохлятиной. Ты теперь можешь идти?
— Могу, — ответила Чикита; она не была изнеженным ребенком, выросшим в ватке, — я немного поспала и подкрепилась. Тебе, бедняжка Агостен, не придется тащить меня, как неудобную поклажу. А если ноги опять откажутся мне служить, — добавила она с яростной решимостью, — перережь мне горло твоим большим ножом и брось меня в канаву, я тебе спасибо скажу.
Атаман птичьих пугал и его маленькая спутница быстрым шагом пустились прочь и скоро исчезли в темноте. Ободренные их уходом, вороны спустились с окрестных деревьев, накинулись на дохлую клячу и принялись угощаться стервятиной. Вскоре подоспело несколько волков, торопясь попировать на даровщинку и нимало не смущаясь тем, как негодующе машут крыльями, каркают и работают клювами их черные сотрапезники. За несколько часов, ревностными стараниями четвероногих и пернатых, объеденная до костей лошадь предстала в свете утра в виде скелета, как бы препарированного ветеринарами-анатомами. Уцелели только копыта и хвост.
Тиран вместе со слугой Белломбра явился за фургоном, когда уже совсем рассвело. Он наткнулся на обглоданный труп волка, а между оглоблями под сбруей, которой не тронули ни клыки, ни клювы, увидел костяк несчастного одра. По земле были рассыпаны фальшивые монеты из кошеля, а на снегу явственно запечатлелись следы больших и маленьких ног, ведшие к фургону, а затем удалявшиеся от него.
— По-видимому, колесницу Феспида посетило в эту ночь немало самых разнородных гостей, — заметил Тиран. — Будь благословен тот случай, что принудил нас прервать нашу актерскую одиссею! Я не устану славословить тебя! По твоей милости мы спаслись и от двуногих и от четвероногих хищников, а последние, пожалуй, еще опаснее первых. Они полакомились бы нежным мясом наших молоденьких курочек, Изабеллы и Серафины, а заодно не побрезговали бы и нашей собственной заскорузлой от старости шкурой.
Пока Тиран рассуждал про себя, слуга Белломбра высвободил фургон и впряг в него приведенную с фермы лошадь, хотя она и фыркала от страшного для нее зрелища — объеденного скелета — и от пряного волчьего духа, который испаряли кровавые пятна на снегу.
Повозку поставили под навес во дворе фермы. Все там оказалось в целости и даже прибавилась одна вещица: маленький кинжал, какие фабрикуют в Альбасете, — он выпал из кармана Чикиты во время ее краткого сна; на остром клинке его было выгравировано грозное испанское изречение:
Cuando esta vivora pica, No hay remedio en la botica[3].Эта загадочная находка заинтриговала Тирана и растревожила Изабеллу, которая была немного суеверна и часто видела дурные или хорошие предзнаменования в мелких событиях, незаметных и несущественных для других. Молодая женщина понимала по-испански, как все мало-мальски образованные люди того времени, и устрашающий смысл надписи запал ей в душу.
Скапен отправился в селение, надев свой самый парадный костюм в белую и розовую полоску, с тщательно наплоенными и расправленными пышными брыжами, надвинув шапку до самых глаз и набросив короткий плащ на одно плечо. Лихо выступая, с победоносным видом, он коленом подталкивал барабан в такт четкому, чисто солдатскому шагу; Скапен и в самом деле был солдатом до того, как стать актером. Дойдя до Церковной площади в сопровождении ватаги мальчишек, плененных его невиданным нарядом, он поправил шапку, уперся ногой в камень и палочками отбарабанил по ослиной коже такую отрывистую, грозную, повелительную дробь, которая могла бы разбудить мертвых не хуже, чем трубный глас Страшного суда. Судите же, какое впечатление произвела она на живых. Окна и двери распахнулись, как бы от одного толчка, головы в чепцах высунулись из них, и перепуганные любопытствующие взоры обратились на площадь. После второго раската дроби, резкого, как мушкетная пальба, и гулкого, как громовой удар, все дома обезлюдели, лишь больные, калеки и роженицы остались в них. За несколько минут вокруг Скапена собралось все селение. Чтобы окончательно потрясти публику, хитрец принялся извлекать из барабана такие резвые, мелодичные, виртуозные рулады, притом с такой быстротой, что палочек уже не было видно, а руки словно и не шевелились. Когда же он увидел, что рты Добрых обывателей раскрылись в виде буквы «О», что, согласно пособиям, составленным мастерами живописи, выражает высшую степень удивления, он сразу же оборвал грохот; затем, после краткой паузы, пронзительной фистулой с самыми неожиданными переливами начал следующую высокопарно-шутовскую речь:
— Редчайший случай! Сегодня вечером спектакль-гала! Феерическое зрелище! Прославленные актеры странствующей труппы с господином Иродом во главе, имевшие честь играть перед коронованными особами и принцами крови, проездом в Париж, где их ждут при дворе, один-единственный раз представят на диво забавную комическую пьесу под названием «Бахвальство капитана Фракасса», идущую в новых костюмах, изобилующую небывалыми трюками и презабавнейшими пантомимами и потасовками. По окончании спектакля мадемуазель Серафина исполнит мавританский танец с добавлением фигур из бретонского пассепье, пируэтов и прыжков в новейшем вкусе, сама себе аккомпанируя на бубне, которым она владеет лучше любой испанской гитаны. Есть на что посмотреть. Представление состоится у господина Белломбра в овине, приспособленном для такого случая и в избытке снабженном скамьями и светильниками. Трудясь скорее ради славы, чем ради выгоды, мы принимаем не только деньги, но также съестные припасы и провизию из уважения к тем, у кого не найдется наличных средств. Оповестите об этом, кого можете!
Окончив свою речь, Скапен в заключение забарабанил так неистово, что церковные стекла задребезжали в свинцовых переплетах, а вертевшиеся на площади собаки с воем бросились наутек, испугавшись сильнее, чем если бы им к хвостам привязали медные кастрюли.
На ферме актеры с помощью Белломбра и его слуг готовились к представлению. Доски, уложенные на бочках у задней стены овина, изображали сцену. Несколько скамей, позаимствованных в кабачке, играли роль партера, а ввиду низкой цены за места, на мягкие, крытые бархатом сиденья нельзя было и претендовать. Прилежные пауки позаботились об убранстве потолка, — огромные розетки из паутины тянулись с балки на балку. Какой самый искусный придворный обойщик мог бы сделать более тонкие, более изящные и воздушные драпировки, будь то даже из китайского шелка? Эти сплетенные пауком завесы напоминали геральдические щиты рыцарских орденов и королевских регалий. Весьма благолепное зрелище для тех, кто способен мысленно на такие сопоставления.
Быки и коровы, которым сменили подстилку, дивились необычной возне и часто отворачивали головы от кормушек, бросая долгие взгляды на сцену, где топтались актеры, — они репетировали пьесу, чтобы указать Сигоньяку выходы и вступления.
— Для первых шагов на сцене зрителями у меня — телята и рогатый скот, — смеясь, сказал барон, — право, есть отчего оскорбиться самолюбию, не будь я его лишен.
— И вам не раз придется играть перед такой публикой, — подхватил Белломбр, — в зале всегда найдутся дураки и обманутые мужья.
Для новичка Сигоньяк играл совсем неплохо, чувствовалось, что он скоро освоится со сценой. Голос у него был хороший, память надежная, а ум достаточно образованный для того, чтобы дополнять свою роль репликами, которые рождаются в ходе действия и оживляют его. Пантомима стесняла его больше, ибо она изобиловала палочными ударами, которые возмущали его гордость, хоть и наносились они трубками из раскрашенного холста, набитыми паклей. Памятуя его звание, товарищи щадили барона насколько возможно, он же, не в силах сдержать обиду, делал страшное лицо, грозно хмурил брови и метал разъяренные взгляды. Но, вспомнив вдруг характер роли, снова старался принять трусливый, испуганный и донельзя жалкий вид.
Белломбр, следивший за ним с прозорливым вниманием старого опытного актера, признанного авторитетом, обратился к нему со своего места:
— Не старайтесь сдержать эти естественные порывы; они очень хороши в создают новую разновидность трусливого бахвала. Даже когда вы перестанете испытывать вспышки гнева и яростного возмущения, продолжайте изображать их: вам нужно заново создать образ капитана Фракасса, ибо тот, кто идет по чужому следу, никогда не будет впереди. Так вот, ваш Фракасс искренне хочет быть храбрым, он любит отвагу, восхищается смельчаками и негодует на собственную трусость. Вдалеке от опасности он только и знает, что мечтать о героических подвигах, о грандиозных, титанических деяниях; но при малейшей угрозе не в меру пылкое воображение начинает рисовать перед ним мучительные раны, мерзкий лик смерти, и мужество покидает его; мысль о поражении ему несносна, желчь закипает в нем, но первый же удар отбивает у него охоту драться. Такой рисунок роли куда лучше, чем трясущиеся коленки, выпученные глаза и прочие ужимки, скорее свойственные обезьяне, нежели человеку, а между тем плохие актеры именно так стараются вызвать смех публики и позорят свое искусство.
Сигоньяк последовал советам Белломбра и построил свою игру соответственно этому замыслу, так что в итоге актеры захлопали ему, суля большой успех.
Представление было назначено на четыре часа. За час до начала Сигоньяк надел наряд Матамора, который Леонарда расширила, распоров складки, ушивавшиеся по мере похудания покойного.
Напяливая на себя шутовские лохмотья, барон размышлял о том, что куда доблестнее было бы облечься в колет из буйволовой кожи и железные латы, по образцу предков, нежели рядиться храбрецом на словах, когда сам он был смел на деле и способен на отважные поступки и славные подвиги; но злая судьба довела его до такой крайности и лишила других способов существования.
Народ прибывал в большом количестве, заполняя овин. Несколько фонарей, подвешенных к балкам, на которых держалась крыша, озаряли красноватыми отблесками темные, белокурые и седеющие головы, среди которых белели старушечьи чепцы.
Огни рампы тоже были заменены поставленными по краю сцены фонарями, из опасения поджечь сено и солому.
Спектакль начался, и зрители проявили к нему большой интерес. На неосвещенном заднике вихлялись огромные причудливые тени актеров и передавали их жесты в подчеркнуто ненатуральном виде, казалось, разыгрывая пародию на пьесу; но этот забавный штрих не был замечен простодушными зрителями, всецело занятыми ходом пьесы и поведением действующих лиц, которых они совсем не считали вымышленными.
Волы и коровы не могли спать от шума и смотрели на сцену большими глазами, которые вдохновили Гомера, греческого стихотворца, на хвалебный эпитет при описании красоты Юноны{101}; в самый разгар действия вдруг жалобно замычал теленок, что, однако, не разрушило стойкой иллюзии честных простаков, зато актеры на сцене чуть не прыснули со смеху.
Капитан Фракасс неоднократно срывал рукоплескания, он и в самом деле очень удачно играл свою роль, не испытывая перед такой невежественной публикой того волнения, какое внушало бы ему присутствие более просвещенных и требовательных ценителей. Кстати, он был уверен, что никому здесь не знаком. Другие актеры тоже заслужили похвалы зрителей, которые хлопали что есть мочи, не щадя своих натруженных рук, и, по наблюдениям Белломбра, с большой чуткостью отмечали удачные места.
Серафина проплясала мавританский танец с горделивой и сладострастной грацией и так вызывающе изгибалась всем телом, так резво перебирала ногами, переходя от воздушных пируэтов к другим фигурам, что, глядя на нее, сомлели бы от удовольствия даже знатные господа и придворные кавалеры. Особенно хороша она была, когда встряхивала над головой бубен и бряцала медными пластинками или же, водя большим пальцем по лоснящейся коже инструмента, извлекала из него глухой рокот не хуже, чем заправская panderera[4].
Тем временем портреты предков на стенах обветшалого замка Сигоньяк хмурились сильнее обычного. Воины испускали вздохи, подымавшие железные латы у них на груди, и скорбно покачивали головами, а почтенные вдовицы строили презрительные мины, вытягивая шеи над гофрированными воротниками, и еще прямее держались в тугих корсетах и пышных фижмах. Глухой медлительный призрачный шепот беззвучно слетал с их нарисованных губ: «Увы, последний из Сигоньяков посрамил свой род!»
На кухне Пьер в печальной задумчивости сидел между Миро и Вельзевулом, долгим и вопросительным взглядом смотревшими на него. «Где-то сейчас мой бедный хозяин?..» — думал он, и по обветренной щеке старого слуги катилась слеза, которую слизывал старый пес.
VIII ПОЛОЖЕНИЕ ОСЛОЖНЯЕТСЯ
На другой день после представления Белломбр отозвал в сторону Блазиуса и, развязав длинный кожаный кошелек, как из рога изобилия высыпал на него сто блестящих пистолей, сложил их столбиками, к вящему восхищению Педанта, который застыл, с алчным металлическим блеском в глазах созерцая выставленный перед ним клад.
Белломбр широким жестом сгреб все пистоли сразу в руки старого приятеля.
— Как ты понимаешь, я разложил перед тобой мои богатства вовсе не затем, чтобы превратить тебя в нового Тантала, возбуждая и дразня твои аппетиты, — сказал он. — Бери эти деньги без стеснения. Я дарю их тебе или даю взаймы, если гордости твоей претит принимать помощь от старинного товарища. Деньги — двигатель войны, любви и театра. К тому же недаром они круглые. Им и положено катиться, а не скучать, лежа на дне моего кошелька, где в конце концов они порастут плесенью, ржавчиной и грибами. Я здесь ничего не расходую, живу по-деревенски, питаюсь соками земли — кормилицы всех сущих. Следовательно, подарок этот мне не в ущерб.
Не находя ответа на столь логическую речь, Блазиус спрятал пистоли и горячо облобызал Белломбра. Разномастные глаза Педанта блестели сильнее обычного между прищуренными веками. Блики света играли в скупой слезе, и от усилий сдержать эту жемчужину благодарности косматые брови старика актера дергались прекомичным образом: то лезли на середину лба, собиравшегося в мелкие морщинки, то сползали до самых глаз. Но никакие ухищрения не помешали слезе скатиться вдоль носа, разогретого докрасна вчерашними возлияниями, затем испариться на самом его кончике.
Положительно, ветер бедствий, донимавший комедиантов, повернул в благоприятную сторону. Спектакль дал сбор не только натурой, но также и некоторой толикой монет, что вкупе с пистолями Белломбра составило кругленькую сумму. И обнищавшая было повозка Феспида оказалась солидно обеспеченной. Не желая делать добро наполовину, щедрый Белломбр одолжил актерам двух крепких рабочих лошадей в хорошей сбруе с размалеванными хомутами, на которых болтались бубенцы, приятнейшим звоном сопровождавшие твердый и мерный шаг коней.
Таким образом, въезд приободренных и повеселевших комедиантов в Пуатье был если не столь торжествен, как въезд Александра в Вавилон, то все же вполне внушителен. Почуяв издалека теплый запах конюшни, лошади норовили бежать быстрее, и работник, который должен был вернуться с ними, еле сдерживал их за узду. Колеса громыхали по булыжной мостовой извилистых улочек, и весело цокали копыта, привлекая любопытных к окнам и ко входу в гостиницу. Конюх лихо забарабанил бичом в ворота, а лошади, вскидывая головы, вторили ему звоном бубенцов.
А давно ли наши актеры робко, униженно, украдкой стучались в двери самых неприглядных харчевен? И хозяин гостиницы «Герб Франции» по этому победоносному грохоту сразу смекнул, что у вновь прибывших водятся деньги, и самолично бросился настежь раскрывать ворота.
Гостиница «Герб Франции» была лучшей в Пуатье, в ней обычно останавливались самые знатные и богатые путешественники. Двор, куда въехал фургон, содержался в большом порядке, по внутренним стенам окружавших его опрятных строений шла крытая галерея на железных подпорах — удобное устройство, облегчавшее и постояльцам, и гостиничным слугам доступ в комнаты, которые выходили окнами наружу. Аркада на дальнем конце двора вела к службам, кухням, конюшням и сараям.
Все здесь говорило о благосостоянии. Радовали глаз заново оштукатуренные стены; ни пылинки не виднелось на деревянных поручнях и балясинах вдоль галерей. Весело блестели в лучах зимнего солнца новые ярко-красные черепицы, сохранившие на стыках тоненькие полоски снега. Из труб многообещающими завитками поднимался дым. На последней ступени крыльца стоял с непокрытой головой сам хозяин — дородный детина, делавший рекламу своей кухне тройным подбородком, а погребу — пурпурной окраской лица, словно натертого тутовым соком, наподобие маски Силена, славного пьянчуги, Бахусового наставника. Он улыбался, раздвинув рот до ушей, так что жирные щеки его надулись шаром, плутовские глазки сузились в щелку, а наружный их угол скрылся под сетью лукавых морщинок. Весь он был такой крепкий, жирный, румяный, аппетитный, что впору бы изжарить его на вертеле, поливая вытопленным из него же салом. При виде Тирана, которого он знал издавна как исправного плательщика, хозяин совсем повеселел, потому что комедианты привлекают гостей, и городская молодежь охотно тратится на угощение, на обеды, ужины и прочие пиршества в честь актрис, лишь бы завоевать милость капризных кокеток лакомствами, тонкими винами, конфетами, вареньями и всяческими деликатесами.
— Какой счастливый случай привел вас сюда, господин Ирод? — спросил трактирщик. — Давненько вы не наведывались в «Герб Франции».
— Это верно, — признал Тиран, — но нельзя постоянно ломать комедию в одном месте. Зрители под конец так заучивают наши ухватки, что могут в точности повторить их. Необходимо исчезнуть на некоторое время. Забытое стоит нового. А что, много сейчас в Пуатье знати?
— Много, господин Ирод. Пора охоты миновала, и господа не могут придумать, чем заняться. Нельзя же без перерыва есть и пить. У вас будут полные сборы.
— Тогда велите принести ключи от семи-восьми комнат, снять с вертела трех-четырех каплунов, достать из погреба дюжину бутылок вашего знаменитого винца, а затем распустите по городу слух: «В „Герб Франции“ прибыла прославленная труппа господина Ирода с новым репертуаром и намерена дать ряд представлений».
Пока Тиран и трактирщик вели такую беседу, актеры вышли из фургона. Слуги забрали их пожитки и отнесли в предназначенные им комнаты. Комната Изабеллы оказалась несколько в стороне от других, так как ближайшие были заняты. Такая обособленность отнюдь не огорчила скромную девушку, страдавшую подчас от чрезмерной скученности, следствия беспорядочной кочевой жизни.
Вскоре стараниями трактирщика, дядюшки Било, весь город узнал, что приехали комедианты и будут играть пьесы самых прославленных из современных авторов, притом не хуже, если не лучше, чем в Париже. Местные любезники и щеголи, подкручивая усы, со смехотворно кичливым самодовольством осведомлялись о наружности актрис. Дядюшка Било отвечал им сдержанно и туманно, но с такими выразительными ужимками, которые способны были только вскружить головы и подхлестнуть любопытство проказливых недорослей.
Изабелла разложила свои вещи на полках шкафа, составлявшего обстановку комнаты вместе с кроватью под балдахином, столом на витых ножках, двумя креслами и ларем для дров, и стала приводить себя в порядок со всей тщательностью, в какой нуждается утонченная и щепетильно опрятная молодая женщина после долгого путешествия в мужском обществе. Она распустила свои длинные шелковистые волосы, распутала, расчесала их, надушила бергамотной эссенцией и снова скрепила бантиками небесно-голубого цвета, который очень шел к ее нежному, как бледный розан, лицу. Затем переменила белье. Всякому, кто застиг бы ее в эту минуту, должно было показаться, что это нимфа из свиты Дианы, скинув одежды на берегу, собирается войти в ручей посреди одной из лесистых долин Эллады. Но это длилось лишь миг. Ее белоснежную наготу тут же окутало ревнивое облако ткани, — Изабелла была целомудренна и стыдлива даже наедине с собой. Поверх она надела серое платье, расшитое голубым аграмантом, и, бросив взгляд в зеркало, улыбнулась той улыбкой, какую не может сдержать даже наименее кокетливая из женщин, когда видит, что одета она к лицу.
В воздухе потеплело, и снег растаял почти повсюду, кроме мест, обращенных на север. Проглянуло солнце. Изабелла поддалась искушению посмотреть, какой вид открывается из ее комнаты, и, растворив окно, высунулась наружу, — вольность тем более невинная, что окно выходило в глухой переулок, одну его сторону занимала гостиница, по другую тянулась длинная садовая ограда, над которой выступали обнаженные верхушки деревьев. Из окна гостиницы можно было заглянуть в сад и увидеть очертания цветника, окаймленного самшитовой изгородью; в дальнем конце сада находился барский дом, почерневшие стены которого свидетельствовали о его почтенном возрасте.
По одной из аллей прогуливались два кавалера, оба молодые и приятной наружности, но неравного положения, судя по той почтительности, какую один проявлял к другому, держась немного позади и уступая дорогу всякий раз, как им приходилось поворачивать. В этой дружеской чете первый был Орест{102}, а второй — Пилад. Оресту — оставим за ним это прозвище, пока не узнаем его настоящего имени, — на вид казалось года двадцать два, лицо у него было матово-бледное, глаза и волосы черные. Кафтан коричневого бархата выгодно обрисовывал его стройный и гибкий стан; обшитый тройным рядом золотого галуна короткий плащ того же цвета и достоинства, что и кафтан, был наброшен на одно плечо и подхвачен шнурком с кисточками на концах, ниспадавшими на грудь; мягкие белые сафьяновые сапоги облегали его ноги, изящной форме которых, подчеркнутой высоким каблуком, позавидовали бы многие женщины. По смелой непринужденности движений, по спокойной, горделивой осанке нетрудно было угадать в нем вельможу, убежденного, что его повсюду примут с почтением, и не встречающего на жизненном пути никаких препятствий. Рыжеволосый и рыжебородый Пилад, с головы до пят одетый в черное, хоть и был недурен собой, но отнюдь не обладал победоносной самоуверенностью своего приятеля.
— Говорю же я тебе, мой милый, что Коризанда мне опостылела, — заявил Орест, поворачивая назад в конце аллеи и продолжая разговор, начатый до того, как Изабелла открыла окно. — Я запретил допускать ее ко мне и собираюсь отослать назад ее портрет, который так же стал мне противен, как и она сама, заодно с ее письмами, не менее скучными, чем ее разговор.
— Однако Коризанда вас любит, — осмелился заметить Пилад.
— Что мне в том, раз я не люблю ее, — запальчиво возразил Орест. — Любит — велика важность! Прикажешь, чтобы я из жалости дарил свою любовь всем дурехам и вертихвосткам, которым взбредет на ум влюбиться в меня? Я и так слишком добр. Стоит меня разжалобить заведенными, как у сомлевшей щуки, глазами, хныканьем, сетованиями, вздохами, и я в конце концов сдаюсь, кляня собственное трусливое слабодушие. С настоящей минуты я буду свиреп, как гирканский тигр, холоден, как Ипполит, и неприступен для женщин, как Иосиф. Много сноровки потребуется той Пентефриевой жене{103}, что изловчится ухватить меня за край плаща! Объявляю себя отныне и впредь женоненавистником, непримиримым врагом всех юбок, будь они тафтяные или камлотовые. К черту герцогинь и куртизанок, горожанок и пастушек! Где женщины — там докука, обман или нудная канитель. Я ненавижу их от чепца до кончика туфли и рад уйти в целомудрие, как монашек в капюшон своей рясы. Проклятая Коризанда навеки отвратила меня от женского пола. Я отрекаюсь…
Дойдя до этого места, Орест поднял голову, чтобы призвать в свидетели своего обета небо, и тут вдруг увидел у окна Изабеллу. Он подтолкнул приятеля локтем со словами:
— Посмотри, что за пленительная красавица там в окне. Свежа, как Аврора, выглянувшая на балкон Востока, пепельные волосы, нежное личико, кроткие глаза — не женщина, а скорее богиня! Как грациозно оперлась она о подоконник, немного наклонись, и как же заманчиво выступают под газовой шемизеткой округлости груди, белой, точно слоновая кость! Готов поклясться, что она несравненно лучше и добрее всех прочих женщин. Конечно же, нрав ее скромен, любезен и учтив, а беседа приятна и увлекательна.
— Черт возьми! — смеясь, ответил Пилад. — Надо обладать хорошим зрением, чтобы отсюда разглядеть все это. Я, со своей стороны, вижу лишь женщину у окна, миловидную, спору нет, но вряд ли наделенную теми невиданными совершенствами, которыми вы так щедро одарили ее.
— О, я уже влюблен по уши, я без ума от нее; я хочу и добьюсь ее, хотя бы мне пришлось прибегнуть к самым хитрым уловкам, опустошить мои сундуки и пронзить сотню соперников.
— Ну-ну, не горячитесь так, — заметил Пилад, — при том, как вы обряжены, не мудрено и схватить простуду. Но куда же девалась ненависть к женскому полу, которую вы только что провозглашали столь решительно? Первое же смазливое личико — и ненависти как не бывало.
— Изрекая проклятья, я не знал еще, что существует такой ангел красоты, и все мои слова оказались чудовищным кощунством, чистейшей ересью и поруганием святыни. Я только молю Венеру, богиню любви, простить меня!
— Будьте покойны, она вас простит, ибо она снисходительна к влюбленным безумцам, чьим знаменосцем вы достойны быть.
— Я начинаю наступательные действия и учтивейшим образом объявляю войну моей прекрасной противнице, — сказал Орест.
С этими словами он остановился, вперил взгляд в лицо Изабеллы, галантным и почтительным жестом снял шляпу, взмахнул ею, подметая землю пером, а затем кончиками пальцев послал воздушный поцелуй в направлении окна.
Лицо красавицы сразу же приняло холодное, строгое выражение, и, явно желая показать беззастенчивому незнакомцу, что он ошибся адресом, молодая актриса захлопнула окно и опустила занавеску.
— Лик Авроры скрылся за облаком, — заметил Пилад, — это не предвещает ничего хорошего на весь день.
— Я, напротив, считаю благоприятным признаком, что красотка удалилась. Когда солдат прячется за зубцами башни, это значит, что вражеская стрела попала в цель. Верь мне, мой поцелуй метил верно, теперь прелестница будет думать обо мне всю ночь, пускай даже понося меня и обвиняя в дерзости — недостатке, который женщины охотно прощают. Так или иначе, между нами уже протянулась какая-то нить, правда, очень тонкая. Но я буду ее укреплять, пока она не превратится в веревку, по которой я взберусь на балкон принцессы.
— Вы в совершенстве овладели всей тактикой и стратегией любовной науки, — почтительно заметил Пилад.
— Что ж, не отрекаюсь, — отвечал Орест, — а теперь пойдем домой. Мы вспугнули красотку, и она не скоро появится вновь. Нынче же вечером подошлю к ней лазутчиков.
Приятели медленно поднялись на крыльцо старинного особняка и скрылись за дверью. Возвратимся теперь к нашим актерам.
Неподалеку от гостиницы находилось помещение для игры в мяч, которое можно было превосходно переделать в театр. Актеры сняли его, и лучший столяр города не замедлил приспособить его под новое назначение, следуя указаниям Тирана. Маляр, он же стекольщик, который брался расписывать вывески и украшать гербами дверцы карет, освежил потрепанные и выцветшие декорации и даже небезуспешно намалевал новые. Комнаты, где раздевались и одевались игроки в мяч, были отведены актерам, и с помощью ширм, огораживающих туалетные столы актрис, получилось нечто вроде актерских уборных. Все нумерованные места были раскуплены заранее, и сбор обещал быть хорошим.
— Какая жалость, — говорил Тиран, перечисляя с Блазиусом все пьесы, которые стоило сыграть, — какая жалость, что Зербины нет с нами! По правде говоря, субретка придает соль, mica salis[5], и пикантность комедии. Ее искрометная веселость озаряет сцену; она оживляет затянутое действие и срывает смех у заскучавших зрителей, обнажая в улыбке жемчуг зубов, окаймленных кармином. Бойкой болтовней, сладострастным задором она оттеняет целомудренное жеманство и томное воркование простушки. Яркие цвета ее нескромного наряда радуют глаз, и она не стесняется открывать чуть не до подвязок стройную ногу, обтянутую красными чулками с золотыми стрелками, — зрелище, отрадное для молодых и для старых, для старых в особенности, потому что пробуждает их уснувший пыл.
— Субретка, бесспорно, превосходная приправа, сосуд с пряностями, очень кстати сдабривающими пресные комедии нашего времени, — согласился Блазиус. — Что поделаешь, придется обойтись без нее! Ни Серафина, ни Изабелла не годятся для этой роли. А кроме того, нам нужны и простушка и героиня. Черт бы побрал маркиза де Брюйера за то, что он похитил у нас единственный в своем роде образец, жемчужину всех субреток, нашу несравненную Зербину.
В самый разгар беседы двух актеров у ворот гостиницы послышался серебряный перезвон бубенчиков; вскоре по двору быстро и мерно застучали копыта, и собеседники, облокотясь на балюстраду галереи, по которой прогуливались, увидели трех мулов, оседланных на испанский манер, с султанами из перьев, расшитой упряжью с шерстяными помпонами, связками бубенцов и полосатыми попонками. Все это великолепно блистало новизной, какой не видишь у наемных мулов.
На первом сидел верхом здоровенный лакей в серой ливрее, с охотничьим ножом за поясом, с мушкетом поперек луки; если бы не одежда, его по вызывающему виду легко было бы принять за вельможу. На поводу, который был обмотан у него вокруг запястья, он вел второго мула, навьюченного для равновесия по обе стороны седла двумя огромными тюками под покрышкой из валенсийской ткани.
Третий мул был еще наряднее и выступал величавее первых двух; на нем восседала молодая женщина, укутанная в пелерину, обшитую мехом, в серой шляпе с красным пером и опущенными до глаз полями.
— Эге! Этот кортеж тебе ничего не напоминает? — обратился Блазиус к Тирану. — Помнится, я уже слышал перезвон этих бубенцов.
— Клянусь патроном лицедеев! — воскликнул Тиран. — Это те самые мулы, что увезли Зербину на перекрестке у распятья. Про птичку речи…
— А птичка навстречу, — подхватил Блазиус. — О, трижды, четырежды благословенный день! Он достоин быть отмечен на скрижалях! Это и есть сеньора Зербина собственной персоной! Вот она спрыгнула на землю, с присущим ей одной задором вильнув бедрами, и сбросила плащ на руки лакею. А теперь сняла шляпу и встряхивает волосы, как пташка перышки. Поспешим же ей навстречу, для скорости перепрыгивая через четыре ступеньки.
Блазиус и Тиран спустились во двор и встретили Зербину у крыльца. Она, как живчик, бросилась на шею Педанту и обхватила руками его голову.
— Дай мне на радостях обнять тебя и расцеловать твою старую образину так же горячо, как если бы ты был молодым красавчиком! — воскликнула она, подкрепляя слова делом. — А ты, Ирод, не ревнуй и не хмурь свои густые черные брови так свирепо, будто собираешься отдать приказ об избиении младенцев. Тебя я тоже поцелую. Я начала с Блазиуса, потому что из вас двоих он уродливее.
Зербина добросовестно выполнила обещание: она была девушка на свой лад честная и умела держать слово. Взяв под руку обоих актеров, она поднялась на галерею, где дядюшка Било распорядился приготовить ей комнату. Едва войдя, она бросилась в кресло и шумно перевела дух, будто сбросила тяжелое бремя.
— Вы не представляете, как я рада, что вернулась к вам, — обратилась она немного погодя к обоим актерам. — Только не воображайте, что меня пленяют ваши старые физиономии, изъеденные белилами и румянами. Слава богу, я ни в кого не влюблена! А радуюсь я возвращению в свою стихию, вне которой трудно жить. Вода не годится птицам так же, как воздух рыбам. Птицы тонут в воде, а рыба задыхается на воздухе. Я актриса по натуре, и моя стихия — театр. Только в нем мне дышится свободно; я не променяю свечной чад на цибет, росный ладан, амбру, мускус, бальзам и лаванду. Душный запах кулис — лучшее благовоние для моего носа. Солнце нагоняет на меня скуку, и настоящая жизнь мне пресна. Мне нужно служить воображаемой любви и деятельно вторгаться в мир романтических театральных приключений. С тех пор как поэты перестали говорить моими устами, мне кажется, будто я онемела. Итак, я явилась занять свое место. Надеюсь, вы никого не нашли взамен меня. Впрочем, я незаменима. А если бы такое случилось, я бы выцарапала глаза наглой втируше и выбила бы ей четыре передних зуба о край рампы. Когда посягают на мои права, я становлюсь зла, как бес.
— Тебе не придется прибегать к членовредительству, — успокоил ее Тиран, — субретки у нас нет. Леонарда играла твои роли, подстаренные для дуэньи; замена довольно унылая и досадная, но иного выхода у нас не было. Если бы с помощью тех волшебных притираний, о каких упоминает Апулей{104}, ты превратилась в птицу, то, вспорхнув на крышу, услыхала бы, как мы с Блазиусом только что восхваляли тебя на лирический, одический и дифирамбический лад, — случай редкий в отношении отсутствующих.
— Тем лучше, — ответила Зербина. — Я вижу, что вы остались прежними хорошими товарищами и что вам недоставало вашей Зербинетты.
Трактирные слуги внесли в комнату узлы, сундуки, баулы, которые актриса пересчитала, а потом на глазах у обоих своих товарищей принялась открывать ключиками, надетыми на серебряное кольцо.
Здесь были красивые наряды, тонкое белье, кружева, шитье, драгоценности, штуки бархата и китайского шелка, словом, целое приданое, богатое и вместе с тем изысканное. Тут же оказался и кожаный мешок, длинный, широкий и тяжелый, доверху набитый деньгами. Зербина, развязав шнурки, рассыпала по столу настоящую реку золотых монет. Запустив свои смуглые пальчики в груду золота, как веяльщица в груду зерна, Субретка набирала полные пригоршни, а потом растопыривала пальцы, и луидоры лились с них сверкающим дождем, более частым, чем тот, что пленил Данаю{105}, дочь Акрисия, проникнув к ней в бронзовую темницу. Глаза Зербины блестели при этом не меньше, чем золото, ноздри раздувались, а нервный смешок обнажал белоснежные зубы.
— Серафина лопнула бы со злости, увидев мои богатства, — сказала Субретка Ироду и Блазиусу. — Вам же я показываю их для того, чтобы вы не думали, будто нужда, а не чистая любовь к искусству приводит меня назад. А если вы, милые мои старички, промотались вконец, загребите отсюда лапами, сколько можете удержать. Берите, не стесняйтесь!
Актеры поблагодарили ее за великодушие, но отказались, заверив, что не нуждаются ни в чем.
— Ну что ж, буду бережно хранить вашу долю на всякий случай, — заметила Зербина.
— Итак, ты покинула бедного маркиза, — соболезнующе сказал Блазиус. — Сама ты не из тех, кого бросают. Тебе больше пристала роль Цирцеи, нежели Ариадны{106}. А между тем это блистательный вельможа, манерами истый придворный, хорош собой, умен и по всем статьям достоин более продолжительной любви. — Я и намерена сохранить его, как перстень на пальце, как самое драгоценное из моих украшений, — заявила Зербина. — Я вовсе не бросила его окончательно, а если и рассталась с ним, то лишь для того, чтобы он последовал за мной.
— Fugax sequax, sequax fugax, — подхватил Педант, — эти четыре латинских слова звучат как заклятье и похожи на кваканье в комедии «Лягушки» сеньора Аристофана, афинского сочинителя; они заключают в себе самую суть любовной науки и могут служить правилом поведения как для мужского, так и для женского пола.
— А что означает твоя латынь, старый Педант? — спросила Зербина. — Ты забыл перевести ее на французский язык, упустив из виду, что не всякий, подобно тебе, был школьным учителем и наставлял учеников ферулой. — Эти слова можно было бы перевести двумя строками или стишками в таком роде:
Бегите — и вас ловят, Ловите — вас бегут.— Вот уж поистине стихи, чтобы петь под свистульку или сладкий рожок на мотив детской песенки.
И озорница громко запела стихи Педанта, да таким звонким, серебристым и переливчатым голоском, что приятно было слушать. Свое пение она сопровождала выразительными минами, то веселыми, то гневными, изображая попеременно двух любовников — один преследует, другой убегает, один горит страстью, другой отвергает его. Нарезвившись вволю, она утихомирилась и заговорила серьезным тоном:
— Послушайте мои приключения. Маркиз приказал слугам, которые ждали с мулами на перекрестке, отвезти меня в маленький замок, или охотничий павильон, запрятанный в самой чаще принадлежащих ему лесных угодий. Не зная о существовании павильона, никогда не набредешь на него, тем более что он скрыт от глаз черной стеной елей. Туда этот славный вельможа отправляется пировать с веселыми собутыльниками. Хоть вопи там во все горло, никто не услышит, кроме старого слуги, который приносит все новые бутылки. Там же маркиз устроил приют для своих увлечений и фривольных забав. Есть там комната, обтянутая фландрскими шпалерами с пейзажами, неплохо обставленная: кровать допотопная, но широченная, мягкая, с пологом и пуховиками; туалетный стол, на нем решительно все, что надобно женщине, будь она хоть герцогиня: гребни, губки, флаконы с эссенциями и эликсирами, коробки с мушками, с губной помадой, с миндальными притираниями; рядом кресла, стулья и табуреты с удобнейшими сиденьями, на полу турецкий ковер, такой пушистый, что, упав на него, нельзя ушибиться. Этот потайной уголок занимает весь второй этаж павильона. Я говорю «потайной», потому что снаружи ничто не сулит такого великолепия. Стены от времени почернели и, кажется, того и гляди, обрушились бы, если б их не обвивал и не скреплял плющ. Проходя мимо замка, можно счесть его необитаемым, — по вечерам ставни и драпировки не пропускают ни пламени свечей, ни огня каминов.
— Превосходная декорация для пятого акта трагикомедии, — перебил Тиран. — В таком доме можно без помех перерезать друг другу горло.
— Привычка к трагическим ролям омрачила твое воображение, — сказала Зербина. — Жилище это, напротив, весьма приветливо, и маркиза никак не назовешь злодеем.
— Продолжай же свой рассказ! — с жестом нетерпения поторопил Блазиус.
Когда я очутилась перед этим заброшенным замком, меня охватило невольное беспокойство. Не то чтобы я испугалась за свою невинность, но мне на миг представилось, что маркиз надумал засадить меня в каменный мешок, дабы бремя от времени извлекать оттуда по своей прихоти. Меня совсем не привлекают башни с решетками на слуховых оконцах, и я не потерпела бы неволи, хотя бы ради того, чтобы стать любимой женой его величества султана. Однако я тут же успокоилась, решив, что мне, в качестве субретки, столько раз помогавшей бежать Изабеллам, Леонорам и Доралисам, удастся исхитриться и устроить собственный побег, если, конечно, меня пожелают оставить здесь насильно. Недоставало, чтобы ревнивец держал в плену Зербину! Итак, я храбро вошла и была приятнейшим образом поражена, увидев, что это угрюмое жилище, хмуро взирающее на прохожих, ласково улыбается гостям. Запустение снаружи, роскошь внутри. Веселый огонь пылал в камине. Пламя розовых свеч отражалось в зеркалах настенных жирандолей, а на столе, сверкавшем хрусталем и серебром, среди графинов был сервирован обильный и тонкий ужин. В складках небрежно наброшенных на кровать тканей играли лучи света. Разложенные на туалетном столе драгоценности, браслеты, ожерелья, серьги слепили искрами каменьев и вспышками золота. Я окончательно успокоилась. Молоденькая горничная-крестьянка, выглянув из-за портьеры, предложила мне свои услуги и помогла сменить дорожное платье на более подходящий к случаю наряд, который был приготовлен в гардеробе; вскоре пожаловал маркиз. Он нашел, что я неотразима в этом неглиже из ярко-малиновой с белым тафты, и поклялся, что любит меня до безумия. Мы сели за ужин, и, наперекор своей скромности, должна признаться, что я была действительно обольстительна. Точно бес в меня вселился; игривые шутки и меткие словечки перемежались со взрывами звонкого смеха — это был такой умопомрачительный каскад блистательного остроумия и необузданного веселия, от которого впору заплясать мертвецам и воспылать страстью косточкам старого царя Приама. Опьяненный, околдованный и восхищенный маркиз сравнивал меня то с ангелом, то с демоном; он предлагал убить жену и сделать меня маркизой. Этот чудак, конечно, исполнил бы свое намерение, но я отказалась наотрез, сказав, что такого рода драмы с убийствами — пошлость, мещанство и безвкусица. Не думаю, чтобы Лаиса, прекрасная Империя и синьора Ванноца{107}, папская любовница, находили более пикантную приправу к разговенью. Так продолжалось порядочный срок. Но постепенно маркиз становился все задумчивее, он словно искал что-то, чего ему недоставало, но сам не понимал чего. Он совершил несколько верховых прогулок и даже пригласил к себе двух приятелей, словно желая рассеяться. Зная его тщеславие, я разоделась, чтобы быть как можно авантажнее, и решила превзойти себя в любезности, грации и кокетстве перед этими провинциалами, которым сроду не доводилось видеть ничего подобного: за десертом, сделав кастаньеты из разбитой тарелки китайского фарфора, я станцевала такую бешеную, зажигательную, неистовую сарабанду, что ни один святой не устоял бы. Руки, в истоме вскинутые над головой, ноги, молнией сверкавшие из вихря юбок, бедра, подвижные, как ртуть, стан, изгибающийся так, что плечи чуть не касались пола, рвущаяся на волю грудь, и все это в сочетании с огнем взгляда и улыбок, способных воспламенить целую залу, если бы я могла когда-нибудь повторить подобный танец на театре. Маркиз сиял, гордый, как король, что у него такая возлюбленная. Но назавтра он снова был угрюм, скучен и томился безделием. Я пустила в ход весь запас своих чар, но, увы! они больше не имели власти над ним! Казалось, он и сам этим удивлен. Временами он внимательно всматривался в меня, словно ища в моих чертах сходство с другой. Может быть, он надеялся воплотить во мне воспоминание о какой-то прежней любви, думала я, и тут же возражала себе: нет, меланхолические причуды не в его натуре. Такого рода мечтания подходят желчным ипохондрикам, но не краснощеким, полнокровным жизнелюбцам.
— Не в пресыщении ли тут была причина? — заметил Блазиус. — Даже амброзия может надоесть, и боги нередко спускаются на землю, чтобы полакомиться черным хлебом.
— Запомните, глупец, что я наскучить не могу! — возразила Зербина, легонько хлопнув Педанта по руке. — Ведь вы сами только что подтвердили это.
— Извини меня, Зербина, и скажи нам, что же точило господина маркиза? Я сгораю от любопытства.
После долгих размышлений, — продолжала Зербина, — я наконец поняла, что именно омрачало его счастье. Я обнаружила, о каком розовом лепестке этот сибарит тоскует на ложе наслаждений. Обладая женщиной, он жалел об актрисе. Тот ореол, который придает огни рампы, грим, костюмы, разнообразие и живость игры, исчез так же, как меркнет поддельный блеск сцены, когда гасильщик задувает огни. Уйдя за кулисы, я потеряла для него большую долю очарования. Ему осталась только Зербина. А любил он во мне и Лизетту, и Мартон, и Маринетту, блеск улыбки и взгляда, живость реплик, задорную мину, причудливый наряд, вожделение и восторг зрителей. В моем житейском облике он искал следов облика театрального, ибо у нас, актрис, если мы не дурнушки, два рода красоты — красота фальшивая и красота естественная; одна из них — маска, другая — лицо. И часто, как бы миловидно ни было лицо, предпочтение отдают маске. Маркиза влекла субретка из «Бахвальства капитана Матамора», а я лишь наполовину представляла ее. В пристрастии некоторых господ к актрисам гораздо меньше чувственности, чем принято считать. Это увлечение скорее духовное, нежели плотское. Добившись женщины, они думают, что достигли идеала, но образ, который они преследовали, ускользает от них; актриса подобна картине, которую надо рассматривать издалека и при соответствующем освещении. Стоит только приблизиться, как волшебство исчезает. Я сама начала скучать. Раньше я часто мечтала пленить сердце какого-нибудь знатного кавалера, жить беззаботно, пользоваться всеми благами изощренной роскоши, иметь богатые наряды. Нередко я кляла жестокую долю странствующей комедиантки, которую ремесло вынуждает кочевать с места на место в тряском фургоне, летом обливаясь потом и застывая от холода зимой. Я ждала лишь случая, чтобы покончить с этой жалкой жизнью, не подозревая, что это и есть моя настоящая жизнь, смысл моего существования, мой дар, моя поэзия, мои чары и мой особый ореол. Если бы свет искусства не золотил меня своим лучом, я стала бы обыкновенной потаскушкой, каких много. Талия, девственная богиня, охраняет меня своим покровом, а стихи поэтов, эти пылающие угли, касаясь моих уст, очищают их от поцелуев, расточаемых в угоду похоти и забавы ради. Пребывание в охотничьем домике маркиза многое открыло мне. Я поняла, что этого благородного кавалера пленяют не только мои глаза, мои зубы, мое тело, но и та искорка, которая горит во мне и вызывает рукоплескания публики. В одно прекрасное утро я заявила ему напрямик, что желаю уехать и что мне совсем не улыбается до скончания веков оставаться любовницей вельможи: на это вполне годится первая встречная, а я прошу великодушно отпустить меня, причем заверяю, что люблю его и всегда буду с благодарностью помнить его щедроты. Маркиз сначала удивился, но не разгневался, а, поразмыслив немного, сказал: «Что же вы намерены делать, голубка?» — «Нагнать в пути труппу Ирода, — отвечала я, — или присоединиться к ней в Париже, если она уже добралась туда. Я хочу занять свое амплуа субретки, мне давно уже не случалось провести ни одного Жеронта…» Маркиз рассмеялся и сказал: «Ну что же, поезжайте вперед, я предоставляю в ваше распоряжение тех же трех мулов. А сам вскоре последую за вами. Кстати, кое-какие дела давно уже требуют моего присутствия при дворе. Я порядком засиделся в деревне. Надеюсь, вы позволите мне наслаждаться вашей игрой, а если я постучусь к вам в уборную, вы отворите дверь?» Я изобразила негодующую невинность, которая, впрочем, не давала повода отчаиваться. «Ах, господин маркиз, чего вы от меня требуете!» Итак, после самого нежного прощания я вскочила на мула, и вот я здесь, в «Гербе Франции».
— А вдруг маркиз не приедет? — с сомнением произнес Ирод. — Для тебя это будет ужасный удар.
Это предположение показалось Зербине настолько нелепым, что она откинулась на спинку кресла, заливаясь смехом и держась за бока.
— Чтобы маркиз не приехал! — воскликнула она, отдышавшись. — Можешь заранее оставить ему комнату. Я боюсь другого — как бы в избытке страсти он не опередил меня. А ты, Тиран, не только злодей, но и глупец! Ты смеешь усомниться в моих чарах. Право же, трагедии совсем свихнули тебе мозги. Раньше ты был умнее.
Леандр и Скапен, узнав от слуг о прибытии Зербины, пришли поздороваться с ней. Вскоре заявилась тетка Леонарда, ее совиные глаза вспыхнули при виде золота и драгоценностей, разложенных на столе. Она сразу же принялась угодливо лебезить перед Зербиной. Затем пришла Изабелла, и Субретка любезно подарила ей кусок тафты. Одна Серафина сидела взаперти у себя в комнате. Ее самолюбие не могло примириться с необъяснимым предпочтением маркиза.
Зербине сообщили, что Матамор замерз и что его заменяет барон де Сигоньяк, который избрал себе театральное прозвище, вполне подходящее к роли, — капитан Фракасс.
— Для меня будет великой честью играть с дворянином, чьи предки участвовали в крестовых походах, — сказала Зербина. — Постараюсь, чтобы почтительность не убила во мне воодушевления. По счастью, я привыкла теперь к обществу титулованных особ. В этот миг Сигоньяк вошел в комнату. Зербина вскочила и, расправив юбки так, что они встали колоколом, присела в глубоком и почтительном придворном реверансе.
— Это относится к барону де Сигоньяку, а вот это к товарищу моему капитану Фракассу, — объявила она, звонко чмокнув его в обе щеки, отчего Сигоньяк, не привыкший к вольным театральным нравам, совсем смешался, тем более что при этом присутствовала Изабелла.
Возвращение Зербины позволило внести разнообразие в репертуар, и вся труппа, исключая Серафину, была в полном восторге от ее приезда.
Теперь, когда Зербина благополучно водворена на место и окружена обрадованными товарищами, вернемся к Оресту и Пиладу, которых мы покинули в ту минуту, как они после прогулки вошли в дом.
Орест, то есть молодой герцог де Валломбрез, ибо таков был его титул, едва дотрагивался до кушаний и не раз забывал выпить наполненный лакеем бокал, настолько мысли его были поглощены красавицей, которую он увидел в окне. Тщетно пытался его наперсник, кавалер де Видаленк, развлечь его. Валломбрез односложно отвечал на дружеские поддразнивания своего Пилада.
После десерта кавалер сказал герцогу:
— Безумство чем короче, тем лучше: чтобы вы перестали думать об этой красотке, вам надо добиться победы над ней. Тогда она не замедлит стать второй Коризандой. Вы принадлежите к той породе охотников, которые любят лишь преследование, а убив дичь, даже не трудятся подобрать ее. Пойду начну облаву, чтобы загнать птичку к вам в сети.
— Нет, не надо, — возразил Валломбрез. — Я сам возьмусь за дело. Как ты правильно сказал, лишь преследование увлекает меня, и я готов бежать на край света за самой незавидной добычей, пушной или пернатой, обшаривая куст за кустом, пока не свалюсь замертво от усталости. Не лишай же меня этого удовольствия. Ах, если бы мне посчастливилось встретить неприступную красавицу, кажется, я не на шутку полюбил бы ее, но таких не найдешь на всем земном шаре.
— Если бы не знать ваших побед, можно после этих слов обвинить вас в фатовстве, — сказал Видаленк. — Но шкатулки, полные нежных посланий, портретов, бантиков, засушенных цветов, черных, белокурых и золотистых локонов, и множество других доказательств любви свидетельствуют о том, что вы еще слишком скромны, говоря так. Однако, может быть, на сей раз ваше желание исполнится, ибо дама у окна показалась мне на диво благонравной, целомудренной и холодной.
— Посмотрим. Дядюшка Било охотно рассказывает, но умеет и слушать, а потому все знает о своих постояльцах. Пойдем, разопьем у него бутылку канарского. Он разговорится и все нам расскажет об этой путешествующей принцессе.
Через несколько минут молодые люди уже входили в «Герб Франции» и тут же потребовали хозяина. Почтенный трактирщик, зная, кто они, сам проводил высоких гостей в подвальную комнату, обитую штофом, где в огромном очаге, потрескивая, пылал яркий огонь. Дядюшка Било взял из рук ключника бутылку, посеревшую от пыли и оплетенную паутиной, бережно снял с нее восковой колпачок, без малейшего толчка извлек из горлышка крепко забитую пробку и твердой, будто выкованной из бронзы рукой принялся лить тонкую струйку желтой, как топаз, жидкости в бокалы венецианского стекла на витых ножках, которые протягивали ему герцог и кавалер. Роль виночерпия Било выполнял с благоговейной торжественностью, словно жрец Бахуса, совершавший таинство во славу божественной влаги; ему недоставало только венка из виноградных лоз и плюща. Такими церемониями он набивал цену своему вину, и в самом деле превосходному, которое было бы достойно королевского стола, а не то что кабачка.
Он хотел уже удалиться, но Валломбрез остановил его, таинственно подмигнув:
— Друг Било, возьмите с поставца бокал и выпейте этого вина за мое здоровье.
Тон не допускал возражений, а к тому же Било охотно помогал посетителям уничтожать сокровища своего погреба. Он с поклоном поднял бокал и осушил его до последней драгоценной капли.
— Хорошее винцо, — заметил он, смачно прищелкнув языком, и продолжал стоять, опершись рукой о край стола, устремив глаза на герцога и ожидая, чего от него потребуют.
— Много у тебя в трактире постояльцев? — спросил Валломбрез. — И что за народ? Било собрался ответить, но герцог опередил его:
— Впрочем, к чему хитрить с таким плутом, как ты? Что это за женщина, которая занимает комнату, выходящую в переулок напротив моего дома? Окно ее третье от угла… Отвечай живее! За каждый слог получишь по золотому.
— За такую цену надо быть очень честным, чтобы пользоваться лаконическим стилем, столь ценимым древними. Тем не менее, желая доказать, насколько я предан вашей светлости, произнесу одно лишь слово: Изабелла!
— Изабелла! Прелестное, романтическое имя! — воскликнул Валломбрез. — Но не злоупотребляй спартанской сдержанностью. Не скупись на слова и расскажи подробно все, что ты знаешь об этой особе.
— Повинуюсь приказанию вашей светлости, — с поклоном ответил дядюшка Било. — Мой погреб, моя кухня и мой язык всецело к вашим услугам. Изабелла — актриса из труппы господина Ирода, квартирующей ныне в гостинице «Герб Франции».
— Актриса, — разочарованно протянул молодой герцог. — Судя по ее скромному и чинному виду я скорее принял бы ее за благородную даму или зажиточную горожанку, чем за странствующую комедиантку.
— И не мудрено: у этой девицы самые приличные манеры, — подхватил Било. — Она играет роли простушек не только на театре, но и в жизни. Добродетель ее хоть и подвергается частым нападениям по причине миловидной наружности, однако не потерпела ни малейшего ущерба и вправе носить покрывало девственности. Никто лучше нее не умеет отвадить любезника сухой и холодной учтивостью, не оставляющей никаких надежд.
— Это мне нравится, — заметил Валломбрез. — Ничто не отталкивает меня так, как чрезмерная доступность. Я не терплю крепостей, которые капитулируют, не дождавшись осады.
— Хотя вы отважный, блистательный полководец, не привыкший к сопротивлению, эту крепость с одного раза не возьмешь, — сказал Било, — тем более что ее бдительно охраняет преданная любовь.
— Значит, у этой скромницы Изабеллы есть любовник! — вскричал герцог торжествующим, но одновременно раздосадованным тоном, ибо, с одной стороны, он не верил в женскую добродетель, а с другой, его обозлило, что у него есть соперник.
— Я сказал «любовь», а не «любовник», — настойчиво, хоть и почтительно подчеркнул трактирщик, — это совсем не одно и то же. Вы, ваша светлость, достаточно опытны в сердечных делах, чтобы уловить это различие, как бы тонко оно ни было. У женщины, у которой есть любовник, может быть и второй, как поется в песне, но женщину, у которой есть любовь, невозможно или очень трудно победить. Она уже владеет тем, что вы ей предлагаете.
— Ты рассуждаешь так, словно изучал «Искусство любви»{108} и сонеты Петрарки, — сказал Валломбрез. — А я считал тебя знатоком лишь по части вин и соусов. Кто же предмет этой платонической страсти?
— Один из актеров их труппы, — отвечал Било. — Я даже подозреваю, что он вступил в нее только из-за любовных дел, уж очень он, на мой взгляд, не похож на простого комедианта.
— Ну вот, вы можете быть довольны, — обратился кавалер де Видаленк к приятелю, — на вашем пути встают непредвиденные преграды. Не каждый день встретишь добродетельную актрису. Вот задача, достойная вас. И приятное разнообразие после знатных дам и куртизанок.
— Ты уверен, — настаивал герцог, — что целомудренная Изабелла не дарит своими милостями этого хлыща, которого я уже ненавижу всей душой?
— Сейчас видно, что вы ее не знаете, — возразил дядюшка Било. — Это белая голубка, которая лучше умрет, чем запятнает свое оперение. Когда по ходу пьесы ей надобно поцеловаться, видно, как она краснеет под гримом и даже незаметно вытирает щеку тыльной стороной руки.
— Да здравствуют гордые и строптивые красавицы, непокорные узде! — воскликнул герцог. — Я отстегаю ее хлыстом, и она у меня будет ходить шагом, иноходью, рысью, галопом, будет проделывать все курбеты, какие мне захочется.
— Позвольте вам сказать, ваша светлость, что таким манером вы ничего не добьетесь, — заявил дядюшка Било, отвешивая смиреннейший поклон, как и подобает человеку, стоящему на самых последних ступеньках общественной лестницы, когда он осмеливается противоречить лицу высокопоставленному.
— А что, если я пошлю ей в футляре из шагреневой кожи серьги с крупным жемчугом, ожерелье из золотых цепочек в несколько рядов, скрепленных драгоценными камнями, браслет в виде змеи с рубинами вместо глаз?
— Она отошлет вам назад все эти сокровища и велит передать, что вы ошиблись адресом. В отличие от большинства своих товарок, она не корыстна, и, что весьма редко в женщине, глаза ее не загораются от блеска драгоценностей. Бриллианты в богатой оправе для нее просто мусор.
— Странный, неправдоподобный образчик женской породы! — сказал озадаченный герцог де Валломбрез. — Без сомнения, она хочет своей мнимой скромностью принудить к женитьбе этого бездельника, который, должно быть, очень богат. Таким тварям нередко приходит фантазия стать матерью приличного семейства и явиться в обществе почтенных дам, потупив взор и приняв вид недотроги.
— Ну так женитесь на ней, если иного средства нет, — смеясь, предложил Видаленк. — Титул герцогини способен смягчить самую жестокосердую.
— Постой, постой, не будем торопиться, — остановил его Валломбрез, — надо сперва вступить в переговоры. Поищем способа приблизиться к этой красотке, чтобы не вспугнуть ее.
— Ну, это легче, чем покорить ее сердце, — заметил Било. — Нынче вечером в зале для игры в мяч состоится репетиция завтрашнего представления; кое-кто из местных театралов будет туда допущен, а вам стоит лишь назвать себя, как двери распахнутся перед вами. Кроме того, я заранее шепну словечко господину Ироду, он мой большой приятель и ни в чем не откажет; однако же, по моему скромному разумению, вам лучше бы направить свои домогательства на мадемуазель Серафину, она не менее хороша, чем Изабелла, и в своем тщеславии мигом растает перед таким искателем.
— Но я-то влюблен в Изабеллу, — оборвал его герцог сухим, не допускающим возражений тоном, которым умел пользоваться при случае, — в Изабеллу и ни в кого более, слышите, господин Било! — И, запустив руку в карман, он небрежно рассыпал по столу целую дорожку золотых монет: — Получите за вино, а сдачу оставьте себе.
Трактирщик аккуратно подобрал золотые и по штучке опустил их на дно кошелька. Молодые люди встали, надвинули шляпы до бровей, набросили плащи на одно плечо и удалились из гостиницы. Валломбрез принялся шагать по переулку взад-вперед, всякий раз задирая голову под заветным окном, но все напрасно. Изабелла была настороже и не показывалась. Занавеска была спущена и комната как будто пуста.
Устав от бесплодного ожидания в безлюдном переулке, где к тому же дул резкий северный ветер, герцог де Валломбрез, непривычный к такому занятию, не пожелал ждать дольше и направился домой, кляня возмутительное жеманство самонадеянной гусыни, заставляющей томиться молодого красивого вельможу. Он чуть не с нежностью подумал о доброте бедной покинутой Коризанды, но самолюбие уже нашептывало молодому герцогу, что стоит ему, как Цезарю, только явиться, и он победит. Если же соперник вздумает мешать, можно избавиться от него с помощью собственных телохранителей или наемных убийц, самому же пачкать руки о какого-то проходимца не позволяет герцогское достоинство.
Правда, Изабелла не подходила к окну, и Валломбрезу не удалось ее увидеть, но за его дежурством в переулке ревнивым взглядом следил из другого окошка Сигоньяк, которому очень не по душе были замашки и маневры незнакомца. Много раз барон порывался спуститься вниз и со шпагой в руке напасть на любезника, но силой воли сдерживал себя. В самой по себе прогулке под окнами не было ничего предосудительного, и такой с виду неоправданно грубый выпад показался бы смешным сумасбродством. Огласка только бросила бы тень на репутацию Изабеллы, не повинной в том, что кто-то в определенном месте задирает голову вверх. Однако про себя он решил пристально следить за фертом и постарался запомнить его наружность, чтобы не ошибиться, когда того потребуют обстоятельства.
Для первого представления, объявленного с барабанным боем по всему городу, Ирод выбрал трагикомедию «Лигдамон и Лидий, или Сходство», сочинение некоего Жоржа де Скюдери, дворянина, который ранее состоял во французской гвардии, а затем сменил шпагу на перо и последним оружием владел не хуже, чем первым; второй же пьесой было «Бахвальство капитана Фракасса», где Сигоньяку предстояло дебютировать перед настоящей публикой, — до сих пор он играл только для телят, волов и поселян в сарае у Белломбра. Все актеры были поглощены заучиванием ролей: пьеса господина де Скюдери шла впервые, и они еще не знали ее. В задумчивости прохаживались они по галерее, то по-обезьяньи жуя губами и лопоча себе под нос, то возвышая голос. Со стороны их можно было принять за буйно помешанных. Они останавливались как вкопанные, снова принимались шагать, размахивая руками, как сломанные мельницы — крыльями. Особенно изощрялся Леандр, игравший Лигдамона, он заучивал позы, придумывал всевозможные эффекты, словом, вертелся, как бес перед заутреней. Он надеялся на новую роль, чтобы осуществить свою мечту, внушив любовь знатной даме, и тем вознаградить себя за палочные удары, полученные в замке Брюйер и дольше не заживавшие в сердце, чем на спине. Роль томного и страстного любовника, в складных стихах повергающего красивые чувства к стопам жестокосердной прелестницы, давала повод к многозначительным взглядам, вздохам, к внезапной бледности и всякого рода душещипательным ужимкам, на которые был великим мастером Леандр, один из лучших любовников провинциальной сцены, при всем своем смехотворном тщеславии.
Замкнувшись у себя в комнате, Сигоньяк под руководством Блазиуса, который вызвался быть его учителем, приобщался к трудному актерскому искусству. Тот тип, который он должен был воплотить, в силу своей карикатурности имел мало общего с жизненной правдой, и тем не менее надо было показать эту правду сквозь преувеличение, дать почувствовать человека под оболочкой паяца. Блазиус наставлял его в этом духе, советуя начать со спокойного, правдивого тона, а затем перейти на нелепые выкрики или же после воплей заживо ощипываемого павлина вернуться к обычной речи, потому что самый напыщенный персонаж не может постоянно быть на ходулях. Кстати, такого рода неуравновешенность свойственна лунатикам и людям, тронутым в рассудке; она сказывается у них в беспорядочных жестах, не соответствующих словам, — из такого разнобоя умелый актер может извлечь превосходный комический эффект. Блазиус рекомендовал Сигоньяку надеть полумаску, скрывающую лоб и нос, и таким путем сохранить традиционный образ, соединив в своем лице черты фантастические и реальные, что очень хорошо для ролей, где сочетается неправдоподобное с действительным, в этих обобщенных карикатурах на человечество, с которыми оно мирится скорее, чем с точными копиями. В руках комедианта пошлого пошиба такая роль превращается в плоскую буффонаду на потеху черни и к досадливому недоумению людей просвещенных, но этот же карикатурный образ с помощью вкрапленных даровитым актером правдивых штрихов становится куда ближе к жизни, нежели образ, представляющий собой сгусток одних лишь правдивых черт.
Идея полумаски улыбалась Сигоньяку. Маска обеспечивала ему инкогнито и потому придавала мужество предстать перед толпой зрителей. Этот тонкий слой бумаги был для него все равно что шлем с опущенным забралом, сквозь которое он будет говорить голосом своего рода фантома. Ибо человек — это лицо, у тела нет имени, и скрытый лик никому не ведом. Таким образом, маска примиряла уважение к предкам с требованиями нового ремесла. Ему не придется предстать перед огнями рампы непосредственно, как существу реальному. Он станет безымянным духом, оживляющим тело марионетки, nervis alienis mobile lignum[6], с той разницей, что находиться он будет внутри марионетки, вместо того чтобы снаружи дергать ее за нитку. И достоинство его при этом не пострадает.
Блазиус, искренне полюбивший Сигоньяка, сам придумал для него маску, совершенно отличную от его настоящего облика. Вздернутый нос, усеянный угрями, а на конце красный, как вишня, взъерошенные остроугольные брови и закрученные рожками полумесяца усы до неузнаваемости искажали правильные черты барона; это сооружение закрывало лишь лоб и нос, но от него менялось и все лицо. Наконец вся труппа отправилась на репетицию, которую решено было провести в костюмах, чтобы определилось общее впечатление. Не желая идти по городу ряжеными, актеры отправили театральные костюмы в залу для игры в мяч, и актрисы стали переодеваться в помещении, описанном нами выше. Знатные горожане, щеголи, острословы из кожи лезли вон, чтобы попасть в храм Талии или, вернее, в ризницу, где жрицы Музы облачались для совершения таинств. Все увивались вокруг актрис: кто держал зеркало, кто придвигал свечи, чтобы было виднее. Один подавал советы, куда прикрепить бант, другой протягивал пудреницу, а самый робкий сидел на ларе, болтал ногами и молчал, с независимым видом подкручивая усики.
У каждой актрисы был свой круг поклонников, алчным взглядом искавших поживы в случайных и намеренных не-скромностях туалета. То кстати соскользнет с плеча пеньюар и откроет гладкую, как мрамор, спину; то розовато-белое полушарие выскользнет на волю из тесного корсета, и приходится поудобней укладывать его в кружевное гнездышко, а то еще прекрасная обнаженная рука поднимется, чтобы поправить прическу, — нетрудно вообразить, сколько витиеватых любезностей и пошлых мифологических сравнений исторгало у галантных провинциалов лицезрение подобных сокровищ; Зербина заливалась хохотом, слушая эти глупости: тщеславная и неумная Серафина наслаждалась ими; Изабелла не слушала их и под жадными мужскими взглядами скромно занималась своим убором, учтиво, но решительно отказываясь от предлагаемых ей услуг.
Валломбрез в сопровождении своего приятеля Видаленка, разумеется, воспользовался случаем увидеть Изабеллу. Вблизи он нашел ее привлекательнее, чем издалека, и воспылал к ней еще большей страстью. Молодой герцог постарался предстать перед актрисой в самом выигрышном свете, и, правду сказать, он был ослепительно красив, одетый в роскошный белый атласный костюм, весь в буфах, схваченных аграмантом, вишневыми лентами и бриллиантовыми пряжками. Каскады тончайшего батиста и кружев ниспадали из рукавов камзола, пышная перевязь из серебряной парчи придерживала шпагу; рука в перчатке с раструбом помахивала белой фетровой шляпой, украшенной пунцовым пером. Длинные черные локоны вились вдоль тонко очерченного овала, оттеняя матовую бледность лица. Пурпурные губы под изящными усиками пылали, а глаза сверкали сквозь густую бахрому ресниц. Голова гордо сидела на круглой, белой, как мраморная колонна, шее, выступавшей из отложного воротника, обшитого драгоценным венецианским гипюром.
Однако в этом совершенстве было что-то отталкивающее. Тонкие, чистые, благородные черты портило выражение какой-то, можно сказать, бесчеловечности; чувствовалось, что людские страдания и радости мало трогают обладателя этого неумолимо прекрасного лица. Он должен был считать и действительно считал себя существом особой породы.
Валломбрез подошел к туалетному столу Изабеллы, молча оперся о зеркало, в расчете на то, что взгляд актрисы, по необходимости ежеминутно обращаясь к зеркалу, будет встречаться с его взглядом. Этот искусный маневр любовной тактики, конечно, оказался бы безошибочным со всякой, кроме нашей простушки. Прежде чем заговорить, молодой герцог хотел поразить ее воображение своей горделивой красотой и великолепием своего костюма.
Изабелла узнала дерзкого незнакомца из соседнего сада и, смутясь от его властного, пламенного взора, вела себя с величайшей сдержанностью, стараясь не отрывать глаз от зеркала. Странная особа, — казалось, она не замечает, что перед ней один из красивейших вельмож Франции!
Соскучившись стоять, как истукан, Валломбрез решил переменить тактику и обратился к актрисе:
— Кажется, вы, сударыня, играете роль Сильвии в пьесе господина де Скюдери «Лигдамон и Лидий»?
— Да, сударь, — ответила Изабелла, не имея возможности пропустить мимо ушей этот нарочито банальный вопрос.
Никогда еще ни одна роль не находила себе лучшей исполнительницы, — продолжал Валломбрез. — Если она плоха, вы сделаете ее хорошей, если хороша — вы сделаете ее превосходной. Как счастливы поэты, вверяющие свои стихи столь прекрасным устам!
Эти отвлеченные любезности не выходили за пределы обычных похвал, расточаемых актрисам воспитанными Людьми; Изабелла вынуждена была принять их и выразить благодарность легким наклоном головы.
Окончив с помощью Блазиуса свой туалет в каморке, отведенной актерам, Сигоньяк вошел в уборную актрис, где думал дожидаться начала репетиции. Он уже надел маску и пристегнул к поясу гигантскую рапиру с тяжелой чашкой и с проволочной паутиной — наследство бедняги Матамора; на плечах у него нелепа болтался ярко-красный плащ, зубчатый край которого задирался от рапиры. Чтобы войти в роль, барон шагал бедром вперед, расставляя ноги циркулем и напустив на себя наглый вид задиры, присущий капитану Фракассу.
— Вы держитесь отлично, — заметила Изабелла, когда он подошел к ней, — ни у одного испанского капитана не бывало такой надменной и грозной осанки.
Герцог с презрительным высокомерием оглядел вновь пришедшего, с которым молодая актриса говорила так приветливо. «Это, очевидно, и есть тот наглец, в которого она будто бы влюблена», — злобно подумал он, уязвленный тем, что женщина хоть на миг может предпочесть ничтожного шута молодому и блистательному герцогу Валломбрезу.
При этом он сделал вид, что не замечает Сигоньяка, пренебрегая им, словно неодушевленным предметом. Для герцога это был не человек, а вещь, и вел он себя в присутствии барона так же развязно, как и наедине с Изабеллой, лаская ее пламенными взглядами, которые останавливались преимущественно на груди, приоткрытой вырезом шемизетки.
Смущенная Изабелла чувствовала, что невольно краснеет под его непристойно упорным взглядом, обжигающим, словно расплавленный свинец, и, стремясь избавиться от этого взгляда, спешила окончить свой туалет, тем более что видела, как рука взбешенного Сигоньяка судорожно сжимает рукоятку рапиры.
Она приклеила себе мушку в уголке рта и собралась идти за кулисы, потому что Тиран уже несколько раз проревел: «Вы готовы, сударыня?»
— Позвольте, сударыня, вы забыли приклеить «злодейку», — сказал герцог. И, опустив палец в стоявшую на туалете коробку с мушками, Валломбрез извлек оттуда черную тафтяную звездочку. — Разрешите мне прилепить ее вот тут, у самой груди, она подчеркнет ее белизну и будет казаться родимым пятнышком.
Действие так стремительно последовало за словами, что Изабелла, растерявшись от этой наглости, едва успела отклониться на спинку кресла и тем избежать дерзкого прикосновения; но герцог был не из тех, кого легко смутить, и палец с мушкой уже приблизился к груди молодой актрисы, когда властная рука обхватила запястье герцога в сжала его, как в железных тисках.
Валломбрез в ярости обернулся и увидел капитана Фракасса, который сейчас ничем не напоминал комедийного труса.
Господин герцог, — начал Фракасс, по-прежнему сжимая руку Валломбреза, — мадемуазель Изабелла сама приклеивает себе мушки и в посторонних услугах не нуждается.
С этими словами он выпустил руку молодого вельможи, который сразу же схватился за эфес шпаги. В этот миг лицо Валломбреза, при всей своей красоте, было страшнее и отвратительнее, чем лик Медузы. Щеки его побелели, черные брови сошлись над глазами, налившимися кровью, пена выступила на посиневших губах, ноздри кровожадно раздувались. Он бросился на Сигоньяка, который стоял, не отступая ни на шаг, и ждал нападения; но вдруг герцог остановился. Какое-то соображение, как ушат холодной воды, мгновенно остудило его яростный пыл. Он совершенно овладел собой, черты его разгладились, лицо вновь обрело естественные краски, и на нем выразилась наивысшая степень пренебрежения, леденящего презрения, какое только одно человеческое существо может выказать другому. Он вспомнил, что противник его не благородной крови, и он едва не замарал себя стычкой с каким-то фигляром. Вся его родовая гордость восстала при этой мысли. Оскорбление, исходящее от столь низкой твари, не могло затронуть его: разве сражаются с грязью, обрызгавшей вас? Однако не в его характере было оставлять безнаказанной обиду, кто бы ни нанес ее, и, приблизившись к Сигоньяку, он заявил:
— Я велю моим слугам переломать тебе кости, мразь!
— Остерегитесь, монсеньор, — ответил Сигоньяк с невозмутимым спокойствием, — остерегитесь, кости у меня крепкие, я от ваших палок останутся одни щепы. Я сношу побои только в комедиях.
— Как бы ты ни был дерзок, каналья, я не снизойду до того, чтобы проучить тебя своими руками. Такой чести ты не заслужил, — сказал Валломбрез.
— Посмотрим, господин герцог, — возразил Сигоньяк, — я не такой гордец и, может статься, сам проучу вас.
— Я не могу говорить с маской, — заявил герцог, беря под руку подошедшего Видаленка.
— Свое лицо, герцог, я открою вам в надлежащее время и в надлежащем месте, — ответил Сигоньяк, — и полагаю, оно покажется вам еще неприятнее, чем мой приставной нес. А теперь прекратим разговор. Я слышу звонок, мне надо спешить, не то я опоздаю к своему выходу.
Актеры восторгались его отвагой, но, зная, кто он по рождению, были меньше удивлены, чем другие свидетели этой сцены, ошеломленные такой дерзостью. Изабелла до того разволновалась, что вся побелела под гримом, и Зербине пришлось подкрасить ей щеки румянами. Бедняжка еле держалась на ногах, и если бы Субретка не подхватила ее, она, несомненно, упала бы ничком, выходя на сцену. Сознание, что она явилась причиной ссоры, было глубоко противно кроткой, доброй и скромной Изабелле, пуще всего опасавшейся шума и огласки, которые неизбежно наносят ущерб женской репутации. Притом она нежно любила Сигоньяка, хотя и твердо решила не уступать его желаниям; и мысль, что ему угрожает западня или по меньшей мере дуэль, несказанно беспокоила ее.
Неприятное происшествие не помешало ходу репетиции, ибо треволнения подлинной жизни не могут отвлечь актеров от их театральных страстей. Даже Изабелла играла отлично, хотя на душе у нее лежал тяжкий гнет. Фракасс же, не остыв от ссоры, играл с большим подъемом и воодушевлением.
Зербина превзошла самое себя. Каждое ее словечко вызывало смех и долгие рукоплескания. Особенно усердствовал кто-то в углу у самой сцены, первым начинал хлопать и затихал последним, так что своей восторженной настойчивостью привлек наконец внимание Зербины.
Якобы по ходу действия, Субретка приблизилась к рампе, вытянула шейку, как любопытная птичка выглядывает из листвы, вперила взор в полумрак и обнаружила маркиза де Брюйера; лицо его раскраснелось от удовольствия, а глаза пылали огнем вожделения и восторга. Он вновь обрел Лизетту, Мартон и Смеральдину своей мечты! Блаженству его не было границ.
— Приехал господин маркиз, — между двумя репликами, не раскрывая рта, шепнула Зербина игравшему Пандольфа Блазиусу, как актеры говорят между собой на сцене, когда не хотят, чтобы их слышала публика. — Посмотрите, он весь сияет, ликует, горит страстью! От счастья он не помнит себя, и если бы не стыд, он перепрыгнул бы через рампу, чтобы у всех на глазах расцеловать меня. Ага, господин де Брюйер, вам нравятся субретки! Ну что ж, я преподнесу вам это блюдо с перцем, солью и пряностями. С этого места пьесы Зербина пустила в ход все свое искусство, играя с необузданным жаром. Казалось, она вся светится весельем, остроумием и огнем. Маркиз понял, что впредь не в силах будет обойтись без этих пряных ощущений. Все женщины, чьими милостями он когда-либо пользовался, в сравнении с Зербиной, представлялись ему скучными, бесцветными и вялыми.
Пьеса господина де Скюдери, которую репетировали во вторую очередь, хотя и менее забавная, все же понравилась публике, и Леандр был обольстителен в роли Лигдамона.
Теперь, убедившись в даровании наших актеров, оставим их заниматься своим делом и последуем за герцогом Валломбрезом и его приятелем Видаленком.
После происшествия, в котором преимущество оказалось не на его стороне, молодой герцог со своим наперсником воротился в особняк Валломбрезов, не помня себя от злобы и строя бесчисленные планы мести: самым умеренным из них было избиение наглого комедианта до полусмерти.
Видаленк тщетно пытался его успокоить; герцог ломал руки от бешенства и как одержимый метался по комнате, отталкивал кресла, которые падали, комически задрав вверх все четыре ножки, опрокидывал столы и, чтобы сорвать досаду, крушил что попало; в конце концов он схватил японскую вазу и грохнул ее об пол, так что она разлетелась на мелкие куски.
— Ах! Как бы я хотел вместо вазы сокрушить этого мерзавца, растоптать его, а остатки вымести в мусорную яму! Безвестный бродяга осмелился встать между мной и предметом моих вожделений! Будь он, по крайней мере, дворянин, я бился бы с ним на шпагах, на кинжалах, на пистолетах, пешим, конным — пока не попрал бы ногой его грудь и не плюнул в лицо его трупу!
Может быть, он и в самом деле дворянин, — заметил Видаленк. — Его самоуверенность говорит за это. Дядюшка Било упоминал об актере, который вступил в труппу из-за любви к Изабелле, и она будто бы к нему благосклонна. Верно, это он и есть, судя по его ревнивой вспышке и по волнению самой девицы.
— Что ты говоришь? — возмутился Валломбрез. — Стал бы человек благородной крови якшаться с актерами, заодно с ними играть комедию, мазать лицо румянами, терпеть щелчки и пинки в зад? Нет, это невозможно!
— Мог же Юпитер принимать облик быка и даже чужого супруга, чтобы вкушать любовь смертных женщин{109}, — ответил Видаленк, — унижение куда большее для величия олимпийца, чем игра в театре для достоинства дворянина.
— Пусть так, но сперва я прикажу проучить фигляра, а затем уже покараю человека, если таковой имеется под этой презренной маской, — заявил герцог, беря в руки колокольчик.
— Можете не сомневаться, что имеется, — подхватил приятель Валломбреза. — Под наклейными бровями глаза у него горели, как факелы, и, несмотря на раскрашенный киноварью картонный нос, вид у него был величественный и грозный, что не так-то просто в шутовском наряде.
— Тем лучше, если шпага моя, творя мщение, попадет не в пустоту, а в человеческую грудь.
Вошел слуга и, почтительно склонившись, застыл в ожидании приказов своего повелителя.
— Разбуди Баска, Азолана, Мерендоля и Лабриша, если они уже спят. Пускай вооружатся крепкими дубинками, пойдут к выходу из помещения, где играет труппа Ирода, и подкараулят некоего капитана Фракасса. Пусть накинутся на него и отколотят как следует, только не до смерти, иначе могут подумать, что я боюсь его! Ответственность я беру на себя. Во время побоев пусть приговаривают, чтобы помнил: «Это тебе от герцога Валломбреза».
Это дикое и крайне щекотливое поручение не очень удивило слугу, который удалился, заверив, что приказания его светлости будут незамедлительно выполнены.
— Мне неприятно, что вы так поступаете с этим комедиантом, — сказал Видаленк после ухода лакея, — по правде говоря, он проявил больше отваги, чей можно было ожидать при его ремесле. Хотите, я под тем или иным предлогом вызову его и убью? Всякая кровь красна, когда ее проливают, хотя и говорят, что дворянская кровь голубая. Я принадлежу к старому и благородному роду, но не столь знатному, как ваш, и не боюсь нанести урон своей гордости. Скажите только слово, и я начну действовать. На мой взгляд, этот капитан скорее достоин шпаги, нежели палки.
— Благодарю тебя за дружеское предложение, — отвечал герцог, — оно показывает, как ты предан моим интересам, но принять его я не могу. Этот наглец посмел притронуться ко мне. Он должен позором искупить такое преступление. Если он окажется дворянином, он найдет с кем говорить. Я всегда готов ответить, когда ко мне обращаются на языке шпаги.
— Как вам будет угодно, ваша светлость, — произнес Видаленк, кладя ноги на табурет с видом человека, который принужден покориться ходу событий. — Кстати, вы знаете, Серафина просто прелестна. Я сказал ей несколько любезностей и уже добился свидания. Дядюшка Било был прав.
Разговор иссяк, и герцог с приятелем стали молча ждать возвращения бретеров.
IX УДАРЫ ШПАГОЙ, УДАРЫ ПАЛКОЙ И ДРУГИЕ СОБЫТИЯ
Репетиция окончилась. Удалившись в свои уборные, актеры сменили театральные костюмы на обыкновенное платье. Сигоньяк тоже переоделся, но на случай нападения оставил при себе шпагу Матамора. Это был почтенный испанский клинок с кованой железной чашкой по руке, длинный, как день без дела, и вполне пригодный, чтобы отражать и наносить увесистые, хотя и не смертельные удары, ибо, по театральным правилам, конец клинка не полагалось заострять, но человеку отважному и этого было достаточно, чтобы управиться с отряженной для мщения герцогской челядью.
Ирод, здоровенный, широкоплечий детина, захватил с собой палку, которой обычно стучал, подавая знак к поднятию занавеса; этой дубиной, в его руках казавшейся соломинкой, он намеревался как следует отделать каналий, что вздумают напасть на Сигоньяка, ибо не в его правилах было оставлять друзей в опасности.
— Капитан, — обратился он к барону, когда они вышли на улицу, — чтобы женщины не оглушили нас своим визгом, отправим-ка их вперед под охраной Леандра и Блазиуса: первый просто трусливый фат; второй же слишком стар, мужество есть, а вот сил-то мало: Скапен останется с нами, он, как никто, умеет подставить ножку и вмиг, точно поросят, опрокинет на спину одного-двух прохвостов, в случае если они атакуют нас; так или иначе, моя дубинка к услугам вашей рапиры.
— Благодарствую, друг Ирод, и принимаю ваше предложение, — ответил Сигоньяк, — но прежде всего нам нужно позаботиться, чтобы нас не захватили врасплох. Лучше всего идти гуськом, отступя друг от друга, и по самой середине улицы; этим мошенникам, которые, конечно, будут жаться к стенам, придется тогда покинуть спасительную тень, чтобы достигнуть нас, и мы успеем их обнаружить. Итак, обнажим шпагу, вы потрясайте вашей палицей, а Скапен пусть поприседает, чтобы размять колени.
Сигоньяк отправился вперед маленького отряда, осторожно продвигаясь по улице, ведущей от залы для игры в мяч к гостинице «Герб Франции». Улочка была темная, кривая, плохо замощенная, как нарочно приспособленная для ловушек. Выступавшие навесы, удваивая мрак, предлагали укрытие нападающим. Ни единого луча не просачивалось из уснувших домов, а ночь была безлунная.
Баск, Азолан, Лабриш и Мерендоль, бретеры на службе у молодого герцога, уже полчаса ждали капитана Фракасса, который не мог пройти в гостиницу другим путем. Азолан и Баск спрятались в дверной нише по одну сторону улицы; Мерендоль и Лабриш прижались к стене напротив них, чтобы всем сразу, как молоты на наковальню, опустить свои палки на спину Сигоньяка. Когда женщины в сопровождении Блазиуса и Леандра прошли мимо них, они поняли, что теперь не замедлит появиться и Фракасс, и притаились, стиснув пальцами дубинки, готовясь приступить к делу, не ожидая, что встретят сопротивление, так как обычно поэты, актеры и горожане безропотно сгибают спины, когда сильные мира сего удостаивают их побоев.
Отличавшийся острым зрением Сигоньяк уже издали, несмотря на ночную тьму, разглядел четверых мерзавцев в засаде. Он остановился и сделал вид, что собирается повернуть назад. При виде этого маневра головорезы испугались, что добыча улизнет от них, и, выйдя из укрытия, бросились на капитана. Первым подскочил Азолан, за ним остальные, с криками: «Бей, бей! Это тебе от его светлости господина герцога!» Сигоньяк несколько раз обернул плащ вокруг левой руки, сделав из него непроницаемый нарукавник; этим нарукавником он отразил дубинку Азолана и так сильно ткнул бандита рапирой в грудь, что тот самым жалким образом свалился в канаву, скорчившись, дрыгая ногами и уронив шляпу в грязь; если бы острие не было притуплено, шпага пронзила бы его насквозь и вышла между плеч. Невзирая на неудачу собрата, Баск храбро выступил вперед, но яростный удар шпагой плашмя раздавил в лепешку его колпак, а из глаз в черной, как смола, тьме посыпался фонтан искр. Дубина Ирода в щепы разнесла палку Мерендоля, который, оказавшись безоружным, пустился наутек, успев, однако же, изведать на спине всю мощь грозной дубины. А Скапен, в свой черед, обхватил Лабриша поперек туловища таким резким и быстрым движением, что тот не в силах был дохнуть, не то что пустить в ход палку; затем он прижал его правой рукой к своему левому плечу, едва не переломив ему позвонка, и отпустил, поддав сухим, стремительным, неудержимым, как спуск пружины в арбалете, толчком под коленки, отчего Лабриш откатился шагов на десять. Голова его со всего маха стукнулась о камень, и исполнитель мстительной воли Валломбреза остался лежать без чувств на поле сужения, недвижимый, как труп.
Итак, актеры одержали победу и расчистили себе дорогу. Азолан я Баск пытались ползком дотащиться до какого-нибудь крова и собраться с мыслями. Лабриш, точно пьяница, валялся поперек канавы. Менее пострадавший Мерендоль успел улизнуть, должно быть, для того, чтобы в качестве единственной уцелевшей жертвы побоища свидетельствовать о нем. Тем не менее, приближаясь к особняку Валломбреза, он замедлил шаг, ибо ему предстояло выдержать гнев молодого герцога, не менее страшный, чем дубина Ирода. При одной только мысли об этом пот катился у него со лба, и он перестал даже чувствовать боль в вывихнутом плече, с которого свисала рука, неподвижная и безжизненная, как пустой рукав.
Не успел он вернуться, как герцог, горя нетерпением услышать об успехе предприятия, призвал его к себе. Мерендоль держался смущенно и неловко, вдобавок ко всему жестоко страдая от боли в плече. Под загаром на лице его проступала зеленоватая бледность, и капельки пота усеивали лоб. Молча, не шевелясь, стоял он на вороге комнаты, ожидая ободрения или вопроса со стороны герцога, который не произносил ни слова.
— Так что ж? — начал кавалер де Видаленк, заметив свирепый взгляд герцога, устремленный на Мерендоля. — Какие у вас новости? Должно бить, неважные. Вид у вас совсем не победоносный.
— У вашей светлости нет оснований сомневаться в усердии, с каким мы всегда стараемся выполнить ваши приказы, — отвечал Мерендоль. — Однако на сей раз удача не сопутствовала нашей отваге.
— То есть как это так? — гневно переспросил герцог. — Вы вчетвером не могли отколотить одного жалкого тута?
— Этот шут силой и смелостью превосходит легендарных гигантов, — ответил Мерендоль. — Он дал нам яростный отпор, от обороны сразу же перешел к нападению и вмиг уложил на месте Азолана и Баска. Под его ударами они свалились, точно карточные валеты, а между тем это бравые ребята. Другой актер ловким гимнастическим приемом одолел Лабриша, который на собственном затылке почувствовал, какие в Пуатье каменистые мостовые. А мне самому их Ирод разбил дубиной палку и так поранил плечо, что я недели две не буду владеть рукой.
— Ах вы, олухи, дармоеды, проходимцы! У всех у вас ни на грош ни ловкости, ни преданности, ни отваги! — вне себя от бешенства выкрикнул Валломбрез. — Любая старуха распугает вас своей клюкой. Стоило спасать вас от виселицы и каторги! Уж лучше держать в услужении честных людей! Таких нерадивых трусов, как вы, и среди них не сыщешь. Не помогли палки, значит, надо было веяться за шпаги!
— Ваша светлость, вы изволили заказать вам побои, а не убийство, — возразил Мерендоль. — Мы не осмелились ослушаться вас.
— Вот поистине пунктуальный, исполнительный и дотошный мошенник, — смеясь, сказал Видаленк. — Мне нравится такая совестливость посреди разбоя. Как по-вашему? Не правда ли, это приключение принимает довольно романтический оборот, что должно быть вам по душе, Валломбрез. Все, что идет в руки, вас отталкивает, вам милы препятствия. А Изабелла достаточно неприступна для актрисы, она живет в башне, куда нет подъемных мостов, и охраняют ее, как в рыцарских романах, огнедышащие драконы. Но вот и наша побежденная армия.
В самом деле, Азолан, Баск и очнувшийся от обморока Лабриш остановились в дверях залы, с мольбой протягивая руки к герцогу. Они были мертвенно бледны, перепуганы, вымазаны в грязи и крови; хотя у них не замечалось особых повреждений, кроме ссадин и синяков, но сила ударов вызвала кровотечения из носа, отчего их желтые кожаные куртки пестрели отвратительными бурыми пятнами.
— Ступайте к себе в конуры, мерзавцы! — крикнул при виде изувеченной команды не отличавшийся мягкосердечием герцог. — Сам не пойму, как это до сих пор я не приказал отлупить вас за вашу глупость и трусливость; мой врач осмотрит вас и скажет, так ли уж страшны болячки, на которые вы жалуетесь. Если нет, я велю заживо содрать с вас шкуру! Пошли прочь!
Смущенная шайка мигом взбодрилась и улетучилась с непостижимым проворством — так велик был страх, внушаемый герцогом этим бретерам и отпетым разбойникам, далеко не робким от природы.
Когда незадачливые бандиты ретировались, Валломбрез, не говоря ни слова, бросился на софу, и Видаленк не стал нарушать его молчание. Бурные мысли, как тучи, гонимые свирепым ветром по грозовому небу, проносились в голове герцога. Ему хотелось поджечь гостиницу, похитить Изабеллу, убить капитана Фракасса и пошвырять в реку всю труппу комедиантов. Впервые в жизни он встретил сопротивление! Отданный им приказ не выполнен! Какой-то актеришка бросает ему вызов! Его слуги избиты, обращены в бегство театральным комиком! Вся его гордость восставала при одной мысли об этом: он был растерян, ошеломлен. Значит, возможно, чтобы кто-то дал ему отпор? Потом он вспомнил, что ничтожная девчонка, странствующая актриса, кукла, которую каждый вечер может освистать первый встречный, не удостоила благосклонным взглядом его, представшего перед ней в роскошной одежде, в бриллиантах, во всеоружии своих чар, во всем блеске своего сана и своей красоты, его, кто находил приветливый прием у принцесс крови, перед кем герцогини млели от любви и кому не могла противиться ни одна женщина! От бешенства он скрежетал зубами и судорожно комкал великолепный белый атласный кафтан, который не успел скинуть и теперь словно наказывал за плохую помощь в деле обольщения Изабеллы.
Наконец он вскочил, кивнул на прощание Видаленку и, не притронувшись к поданному ужину, удалился к себе в спальню, куда Сон так и не явился задвинуть узорчатый полог его ложа.
Предавшись игривым мыслям о Серафине, Видаленк не заметил, что ужинает один, и ел с отменным аппетитом. А затем, убаюканный сладострастными грезами, где главную роль играла та же молодая актриса, проспал как убитый до самого утра.
Когда Сигоньяк, Ирод и Скапен вернулись в гостиницу, они застали остальных актеров в большой тревоге.
Крики: «Бей, бей!» — и шум драки донеслись в ночной тишине до слуха Изабеллы и ее спутников. Молодая девушка едва не лишилась чувств и устояла на ногах только потому, что Блазиус поддержал ее. Белая, как воск, вся дрожа, дожидалась она вестей на пороге своей комнаты. При виде Сигоньяка, целого и невредимого, она чуть слышно вскрикнула, подняла руки к небу, потом обвила ими шею барона и движением, исполненным пленительной стыдливости, спрятала лицо на его груди; но, быстро овладев собой, она отстранилась от него, отошла на несколько шагов и приняла свой обычный сдержанный вид.
— Надеюсь, вы не ранены? — нежно спросила она. — Как бы я была огорчена, если бы вы хоть чуточку пострадали из-за меня. Но какая неосторожность! Бросить вызов герцогу, злобному красавцу со взглядом и гордыней Люцифера! И ради кого, — ради меня, бедной, скромной актрисы. Вы неблагоразумны, Сигоньяк. Раз вы сделались таким же комедиантом, как мы, надо научиться сносить порой даже дерзости.
— Хотя на лице у меня комическая маска, я никогда и никому не позволю в моем присутствии оскорблять прелестную Изабеллу, — возразил Сигоньяк.
— Хорошо сказано, капитан! — одобрил Ирод. — Хорошо сказано, а еще лучше сделано! Клянусь богом! Крепкие удары. Этим мерзавцам повезло, что шпага покойного Матамора не заострена, иначе вы рассекли бы их от головы до пят, как поступали странствующие рыцари с сарацинами и чародеями…
— Ваша дубина работала не хуже моей шпаги, — ответил Сигоньяк, платя любезностью за любезность. — И совесть ваша может быть спокойна, на сей раз вы избивали далеко не невинных младенцев.
— Отнюдь нет, — подтвердил Тиран, ухмыляясь в свою окладистую черную бороду. — Это был самый цвет каторги, веревка давно плачет по ним!
Надо сказать, такое ремесло и не пристало людям порядочным, — заметил Сигоньяк. — Однако не забудем отдать должное и героической отваге доблестного Скапена, который победил, сражаясь лишь орудием, данным ему от природы.
Скапен по-шутовски выпятил грудь, как бы раздувшись от похвал, прижал руку к сердцу, потупил глаза и отвесил поклон, преисполненный комического смирения.
— Я бы охотно пошел с вами, — вставил Блазиус, — но у меня по причине старости трясется голова, и я способен лишь, вооружась стаканом, одолевать бутылки и вступать в бой с графинами.
Было уже поздно, и, покончив с разговорами, комедианты отправились восвояси, за исключением Сигоньяка, который принялся бродить по галерее, что-то обдумывая: отомщен был актер, но не дворянин. Следует ли ему сбросить спасительную личину, открыть свое имя, вызвать огласку и, чего доброго, навлечь на своих сотоварищей гнев молодого герцога? Пошлое благоразумие говорило «нет», а гордость говорила «да». Вняв этому властному голосу, барон направился в комнату Зербины.
Он тихонько постучал в дверь, которая приоткрылась, а когда он назвался, растворилась настежь. Комната была ярко освещена; богатые шандалы с пучками розовых свеч стояли на столе, покрытом камчатной скатертью, ниспадавшей до полу ровными складками. В серебряной посуде дымился тонкий ужин. Две куропатки, обернутые корочкой золотистого сала, раскинулись на ломтиках апельсина, уложенных в кружок, бланманже и пирог с рыбной начинкой, — чудо поварского искусства, которым блеснул Било, — дополняли место. В хрустальном с золотыми звездочками графине искрилось вино цвета рубина, а напротив стоял такой же графин с вином цвета топаза. Стоп был накрыт на два прибора, и, когда вошел Сигоньяк, Субретка как раз подносила полный до краев бокал маркизу де Брюйеру, у которого глаза искрились от двойного опьянения, ибо никогда еще плутовка Зербина не была столь соблазнительна; маркиз же придерживался того взгляда, что Венера замерзает без Цереры и Вакха{110}.
Зербина встретила Сигоньяка приветливым кивком, в котором умело сочетались фамильярность актрисы по отношению к собрату и почтение женщины к дворянину.
— Как мило с вашей стороны навестить иве в этом укромном приюте, — сказал маркиз де Брюйер. — Надеюсь, вы не побоитесь нарушить наше уединение и отужинаете с нами? Жак, поставьте прибор для гостя.
— Я принимаю ваше любезное приглашение, — ответил Сигоньяк, — и не потому, что испытываю сильный голод, но мне не хочется мешать вашей трапезе, а гость за столом, который ничего не ест, только портит аппетит. Барон сел в придвинутое ему Жаком кресло рядом с Зербиной и напротив маркиза, который отрезал ему крылышко куропатки и наполнил его бокал, как человек благовоспитанный не задавая ни единого вопроса, хотя и предполагал, что только важное дело могло привести сюда барона, обычно очень сдержанного и застенчивого.
— Это вино вам по вкусу или вы предпочитаете белое? — спросил маркиз. — Я-то пью и то и другое, чтобы ни одно не обидеть.
— Я воздержан по натуре и по привычке и, как говорили древние, умеряю Вакха нимфами, — ответил Сигоньяк. — Мне достаточно только красного. Однако проникнуть в приют вашей любви в столь неурочный час я позволил себе не из желания попировать. Маркиз! Я пришел просить вас об услуге, в которой дворянин не может отказать равному себе. Мадемуазель Зербина, без сомнения, рассказала вам, что в уборной актрис герцог де Валломбрез пытался приклеить мушку к груди Изабеллы — поступок низкий, грубый и непристойный, не оправданный ни кокетством, ни поощрением со стороны молодое особы, в высокой степени нравственной и скромной, к которой я питаю глубочайшее почтение.
— Она заслуживает его, — подхватила Зербина. — Как бы я, будучи женщиной и ее товаркой, ни старалась, мне нечего о ней сказать дурного.
Я удержал руку герцога, гнев которого излился в угрозах и оскорблениях, я же, укрывшись под маской Матамора, принял их с насмешливым хладнокровием, — продолжал Сигоньяк. — Герцог пригрозил, что велит своим лакеям избить меня. И в самом деле, только что, когда я проходил темным переулком, возвращаясь в «Герб Франции», четыре негодяя накинулись на меня. Шпагой плашмя я отделал двоих, с двумя другими на славу расправились Ирод и Скапен. Герцог воображает, что его противник — жалкий комедиант, в действительности же под личиной комедианта скрывается дворянин, и такое поношение не может остаться безнаказанным. Вы знаете меня, маркиз; хотя по сей час вы уважали мою тайну, но вам известно, кто были мои предки, и вы можете засвидетельствовать, что кровь Сигоньяков уже тысячу лет славна своим благородством и чистотой, не оскверненной неравными браками, и ни один из тех, кто носил это имя, не потерпел бы пятна на своем гербе!
— Барон де Сигоньяк, — начал маркиз, впервые называя гостя настоящим его именем, — я, перед кем вам будет угодно, поручусь своей честью за древность и благородство вашего рода. Паламед де Сигоньяк творил чудеса храбрости в первом крестовом походе, на свои средства снарядив судно с сотней копейщиков. Многие дворяне, что кичатся теперь своей знатностью, и оруженосцами-то не были в ту пору. Ваш прадед был другом моего предка Гуга де Брюйера, они даже спали в одной палатке, как братья по оружию.
При этих воспоминаниях Сигоньяк гордо поднял голову, в груди у него встрепенулась душа доблестных предков; и Зербина, смотревшая на него, была поражена удивительной внутренней красотой, которая точно пламенем озарила обычно грустное лицо барона.
«У них, у дворян, такой вид, будто они вышли не иначе как из бедра Юпитера, — подумала Субретка. — От малейшего словечка гордость их встает на дыбы, им невмочь, как простолюдинам, сносить обиды. Все равно, если бы барон взглянул на меня такими глазами, я бы ради него, не задумываясь, изменила маркизу. Этот юнец весь пылает огнем героизма».
— Если таково ваше мнение о моем роде, значит, вы не откажетесь вызвать от моего имени герцога де Валломбреза? — спросил барон у маркиза.
— Я исполню вашу просьбу, — отвечал маркиз торжественным тоном, непохожим на его обычную игривость, — и, кроме того, предоставляю себя в ваше распоряжение в качестве секунданта. Завтра же отправлюсь в особняк Валломбреза. Молодой герцог хоть и заносчив, но не труслив и не станет отгораживаться своим саном, как только узнает ваше настоящее звание. Однако довольно об этом. Не будем докучать Зербине нашими мужскими распрями. Я вижу, как при всей учтивости кривятся ее пурпурные губки, но пусть они приоткрывают жемчуг зубов не в зевоте, а в улыбке. Ну, Зербина, развеселитесь же и налейте барону еще.
Субретка с грацией и ловкостью выполнила приказ — Геба, разливая нектар, не превзошла бы ее. Что бы она ни делала, она все делала хорошо.
До конца ужина ни о чем больше упоминаний не было. Разговор шел об игре Зербины, для которой маркиз не жалел похвал, а Сигоньяк вторил ему не из снисходительности или вежливости, а потому, что Субретка и в самом деле была неподражаема по живости, по остроте ума и таланта. Речь шла также о стихах господина де Скюдери, одного из даровитейших сочинителей того времени. Маркиз находил их превосходными, только скучноватыми, оказывая предпочтение перед «Лигдамоном и Лидием» «Бахвальству капитана Фракасса». Отменным вкусом отличался этот маркиз!
При первой же возможности Сигоньяк откланялся и, удалившись в свою комнату, запер дверь на щеколду. Затем достал из матерчатого чехла, предохраняющего от ржавчины, старую отцовскую шпагу, которую взял с собой, как верную подругу. Бережно вытянув ее из ножен, он с благоговением поцеловал ее рукоять. Это было хорошее оружие, дорогое, без лишних украшений, оружие для боя, а не для парада. На клинке голубоватой стали с тонкой золотой насечкой было вырезано клеймо одного из лучших толедских оружейников. Сигоньяк протер клинок суконкой, чтобы придать ему первоначальный блеск, затем пощупал пальцем острие и, уперев его в дверь, согнул шпагу почти пополам, желая проверить ее гибкость. Благородный клинок доблестно выдержал все испытания, показав, что не предаст хозяина на поле чести. Воодушевившись блеском полированной стали и чувствуя, что оружие ему по руке, Сигоньяк испробовал несколько приемов у стены и убедился, что не забыл тех уроков, которыми Пьер, в прошлом помощник учителя фехтования, заполнял его долгие досуги в обители горести.
Упражнения, которые он проделывал не в школе фехтования, как то приличествовало бы молодому дворянину, а под руководством своего старого слуги, развили в нем силу, укрепили мускулы и удвоили его природную ловкость. За неимением другого дела, он пристрастился к фехтованию и досконально изучил эту благородную науку; все еще считая себя школяром, он уже давно вышел в мастера и нередко во время учебных схваток оставлял след острия на кожаном нагруднике, которым прикрывался Пьер. Правда, по скромности своей, он объяснял это добротой Пьера, который поддавался нарочно, чтобы не обескуражить его, постоянно парируя удары. Но он ошибался: старый фехтовальщик не утаил от любимого ученика ни одного из секретов своего искусства. Долгие годы Пьер муштровал барона, хотя порой тому надоедали бесконечные упражнения; он сравнялся с учителем в сноровке, а благодаря молодости, даже превзошел его ловкостью и быстротой; зрением тоже он был крепче, так что Пьер, хоть и умел уклоняться от любого выпада, уже не всегда успевал отвести шпагу барона. Эти неудачи раздосадовали бы обычного учителя фехтования, ибо присяжные мастера шпаги не согласны терпеть поражение даже от своих любимцев, а верный слуга только радовался и гордился, но скрывал свою радость, боясь, как бы барон, решив, что достиг совершенства, не забросил занятий и не почил на лаврах.
Таким образом, в этот век повес, драчунов, задир, дуалистов и бретеров, перенимавших у испанских и неаполитанских учителей фехтования секретные приемы их мастерства и предательские удары, застающие врасплох, наш молодой барон, покидавший свою башню только затем, чтобы по следу Миро поохотиться в вереске на тощего зайца, сам того не подозревая, стал одним из искуснейших фехтовальщиков и мог бы помериться силами с самыми прославленными мастерами шлаги. Может быть, он не обладал наглым щегольством и развязностью жестов, вызывающим фанфаронством того или иного знатного повесы, известного своими подвигами в поединках, но вряд ли нашелся бы такой ловкач, чья шпага проникла бы за тот тесный круг, в котором он замыкался, обороняясь.
Довольный собой и своей шпагой, Сигоньяк положил ее у изголовья и не замедлил уснуть таким безмятежным сном, будто и не поручал маркизу де Брюйеру передать его вызов могущественному герцогу де Валломбрезу.
А Изабелла всю ночь не сомкнула глаз: она понимала, что Сигоньяк не помирится на происшедшем, и страшилась для своего друга последствий ссоры, однако и не помышляла вмешаться в нее. Дела чести были в то время священны, и женщины не посмели бы своим нытьем прервать или затруднить их разрешение.
Около девяти часов маркиз, уже вполне готовый, явился к Сигоньяку, чтобы обсудить с ним условия дуэли, и барон попросил его, на случай недоверия или отказа со стороны герцога, захватить с собой старые хартии, древние пергаменты, с которых на шелковых шнурах свисали большие восковые печати, дворянские грамоты, потертые на сгибах, скрепленные королевскими подписями, где чернила успели пожелтеть, широко разветвленное генеалогическое древо с множеством картелей, словом, целый ряд бумаг, удостоверяющих знатность рода Сигоньяков. Эти бесценные документы с готически неразборчивыми начертаниями букв, невразумительными без очков и учености монаха-бенедиктинца, были бережно обернуты куском малинового шелка, побуревшего от времени. То мог быть кусок знамени, под которым сотня копий барона Паламеда де Сигоньяка шла некогда на войско сарацинов.
— Не думаю, чтобы по такому случаю была надобность выкладывать свидетельства вашего происхождения, точно перед герольдмейстером: достаточно будет моего слова, в котором еще никто не усомнился. Однако герцог де Валломбрез, не зная предела высокомерию и сумасбродному чванству, может статься, пожелает считать вас только капитаном Фракассом, комедиантом на службе у господина Ирода, — поэтому пусть лучше мой лакей несет их за мной, чтобы, если потребуется, я мог их предъявить.
— Вы поступите так, как сочтете нужным; я всецело полагаюсь на вашу рассудительность и вверяю вам свою честь, — отвечал Сигоньяк.
— Не сомневайтесь, она будет сохранна в моих руках, — подтвердил маркиз, — и мы возьмем верх над заносчивым герцогом, чьи дерзкие повадки и мне невмоготу терпеть. Жемчужная осыпь на баронской короне вместе с листьями сельдерея и жемчужинами на короне маркиза, при древности рода и чистоте крови, стоят зубцов герцогской короны. Но довольно слов, пора приступать к делу. Речь — женского рода, подвиг — мужского, а пятна с чести, по словам испанцев, смываются только кровью.
Сказав так, маркиз позвал лакея, вручил ему связку документов и отправился из гостиницы в особняк Валломбреза выполнять возложенное на него поручение.
У герцога день еще и не начинался. Рассерженный и возбужденный событиями прошедшего дня, он уснул очень поздно. Поэтому, когда маркиз де Брюйер приказал камердинеру Валломбреза доложить о себе, у того от ужаса глаза полезли на лоб. Разбудить герцога! Войти к нему прежде, чем он изволит позвонить! Это все равно что проникнуть в клетку барканского льва{111} или индийского тигра. Даже если герцог ложился спать в добром расположения духа, просыпался он обычно гневливым.
— Лучше вам, сударь, обождать или прийти попозже, — посоветовал лакей, содрогаясь при мысли о такой дерзости. — Его светлость еще не изволили позвонить, и я не смею…
Доложи о маркизе де Брюйере, иначе я вышибу дверь и войду сам! — крикнул поклонник Зербины с дрожью гнева в голосе. — Мне нужно, не мешкая ни минуты, увидеть твоего хозяина по весьма важному вопросу, по делу чести.
— Ах, вот что! Речь идет о дуэли? — сразу же смягчился слуга. — Почему вы так прямо не сказали? Я сейчас же доложу о вас его светлости. Господин герцог лег вчера таким разъяренным, что будет доволен, если его разбудят ради ссоры, дающей повод подраться.
И камердинер с решительным видом направился в опочивальню, попросив маркиза подождать несколько минут.
При звуке открывшейся и вновь прикрывшейся двери Валломбрез окончательно стряхнул с себя дремоту и привскочил так резко, что затрещала кровать. Он искал глазами, чем бы запустить в голову камердинера.
— Чтобы черт пропорол брюхо тому болвану, который посмел прервать мой сон! — сердито закричал он. — Я же тебе приказывал не входить без зова! За ослушание велю дворецкому дать тебе сто плетей! Теперь уж мне не уснуть! Я было испугался, что это любвеобильная Коризанда нарушает мой покой!
— Ваша светлость, если пожелаете, можете запороть меня до смерти, — смиренно ответил камердинер, — но я позволил себе нарушить запрет по весьма уважительной причине. Господин маркиз де Брюйер желает видеть вашу светлость, и, насколько я понял, речь идет о дуэли. А не в обычае вашей светлости уклоняться от такого рода посещений.
— Маркиз де Брюйер! — протянул герцог. — Не припомню, чтобы у нас с ним была какая-то стычка: да и не беседовали мы между собой уже давно. Может быть, он думает, что я хочу отбить у него Зербину? Влюбленные всегда воображают, будто другие зарятся на предмет их страсти. Итак, Пикар, подай мне шлафрок и задерни полог, чтобы не видно было неубранной постели. Нехорошо, чтобы этот славный маркиз дожидался слишком долго.
Пикар достал из гардероба и подал герцогу роскошный халат, подобие венецианской мантии, где по золотому полю был раскинут узор из черных бархатных цветов; Валломбрез стянул его шнуром у бедер, подчеркнув тонкость своего стана, с беззаботным видом расположился в кресле и приказал слуге:
— Проси.
— Господин маркиз де Брюйер, — объявил Пикар, распахивая дверь на обе створки.
— Добрый день, маркиз! — начал молодой герцог де Валломбрез, поднявшись с кресла. — Рад вас приветствовать, какова бы ни была причина вашего прихода. Пикар, подвинь кресло господину маркизу. Извините меня за то, что я принимаю вас посреди такого беспорядка и в утреннем наряде; истолкуйте это не как недостаток учтивости, а как желание поскорее принять вас.
— Простите и вы непозволительную настойчивость, с какой я потревожил ваш сон, быть может, исполненный пленительных грез, — ответил маркиз, — но на меня возложено поручение, которое между людьми благородной крови не терпит отлагательств.
— Вы крайне заинтересовали меня, — заметил Валломбрез, — ума не приложу, что это за неотложное дело.
— Без сомнения, вы, герцог, запамятовали некоторые обстоятельства вчерашнего вечера, — пояснил маркиз де Брюйер. — Такие ничтожные подробности не достойны запечатлеться у вас в памяти. Поэтому, если позволите, я вам напомню их. В уборной для актрис вы почтили лестным вниманием молодую особу, играющую простушек: Изабеллу, так, кажется, ее зовут. Из шалости, которую я, со своей стороны, не считаю предосудительной, вы пожелали приклеить ей на грудь «злодейку». Это намерение, которое я не собираюсь судить, сильно задело одного из актеров, капитана Фракасса, и он имел смелость удержать вашу руку.
— Вы самый точный и добросовестный из историографов, маркиз, — перебил Валломбрез. — Все так от слова до слова, но позвольте закончить рассказ: я посулил этому негодяю, по наглости равному дворянину, задать ему хорошую порку, самое подходящее наказание для проходимцев его звания.
— Нет большой беды в том, чтобы проучить на такой манер провинившегося фигляра или писаку, — невозмутимо подтвердил маркиз, — эти канальи не стоят палок, которые ломают об их спины, но тут дело иное. Под именем капитана Фракасса, который, кстати, порядком потрепал ваших молодцов, скрывается барон де Сигоньяк — дворянин старинного рода и одной из лучших гасконских фамилий. Никто не скажет ничего дурного на его счет.
Какого же черта он затесался в труппу комедиантов? — спросил молодой герцог де Валломбрез, теребя кисти своего халата. — Мог ли я заподозрить, что потомок Сигоньяков укрылся под шутовской одеждой и под накладным носом, выкрашенным в красный цвет?
— На первый ваш вопрос я отвечу без промедления, — сказал маркиз. — Между нами говоря, мне кажется, барон сильно увлекся Изабеллой; не имея возможности оставить ее у себя в замке, он, чтобы не разлучаться с предметом своей страсти, сам вступил в труппу актером. Кому, как не вам, одобрить эту романтическую затею, раз дама его сердца завяла ваше воображение?
— Да, конечно, все это я допускаю, но, согласитесь, мне трудно было догадаться об этой любовной интриге, а поступок капитана Фракасса был дерзок…
— Дерзок со стороны комедианта, — подхватил господин де Брюйер, — но вполне естествен со стороны дворянина, приревновавшего свою возлюбленную. А посему капитан Фракасс сбрасывает маску и в качестве барона де Сигоньяка через мое посредство передает вам вызов, требуя у вас удовлетворения за учиненную ему обиду.
— Но кто докажет мне, — возразил Валломбрез, — что комедийный бахвал из бродячей труппы не низкопробный интриган, присвоивший себе благородное имя Сигоньяков, чтобы я оказал ему честь своею шпагой выбить у него из рук бутафорскую колотушку?
— Знайте, герцог, я не взялся бы служить свидетелем и секундантом человеку худородному, — с достоинством ответствовал маркиз де Брюйер. — Я лично знаю барона де Сигоньяка, — его замок находится всего в нескольких лье от моих поместий. Я за него ручаюсь. Впрочем, если вы все же сомневаетесь в его происхождении, у меня под рукой документы, могущие безоговорочно убедить вас. Разрешите позвать моего лакея, который дожидается в прихожей и вручит вам эти грамоты.
В том нет ни малейшей надобности, — возразил Валломбрез, — мне достаточно вашего слова. Я принимаю вызов. Кавалер де Видаленк, мой друг, будет при мне секундантом. Благоволите сговориться с ним. Я согласен на любое оружие и на любые условия. Я не прочь узнать, так ли хорошо барон де Сигоньяк отражает удары шпаги, как капитан Фракасс — удары палок. Прелестная Изабелла увенчает победителя, как в доброе старое время на рыцарских турнирах. Но дозвольте мне удалиться. Господин де Видаленк, которому отведены покои у меня в доме, не замедлит сойти вниз, и вы с ним договоритесь о месте, часе и оружии. Засим beso a vuestra merced la mano, caballero [7].
С этими словами герцог де Валломбрез отвесил маркизу де Брюйеру изысканно учтивый поклон и, приподняв тяжелую штофную портьеру, исчез за ней. Несколько минут спустя явился кавалер де Видаленк, чтобы вместе с маркизом выработать условия. Они выбрали шпагу, как естественное оружие дворянина, встречу же назначили на завтра, потому что Сигоньяк не желал, в случае ранения или смерти, сорвать спектакль, объявленный по всему городу. А местом действия избрали лужок за городскими стенами, облюбованный дуэлистами Пуатье по причине уединенности, утоптанной почвы и удобного местоположения.
Маркиз де Брюйер вернулся в гостиницу «Герб Франции» и отдал Сигоньяку отчет о выполненном поручении, а барон с жаром поблагодарил за столь успешно улаженное дело, ибо ему бередило душу воспоминание о наглых и непристойных взглядах герцога, обращенных на Изабеллу.
Представление должно было начаться в три часа, и городской глашатай с утра уже обходил улицы, под барабанный бой возвещая о предстоящем спектакле, как только вокруг него скоплялись любопытные. У этого молодца была могучая глотка, а зычный голос, привыкший к обнародованию указов, возглашал название пьес и прозвища актеров с высокопарнейшей торжественностью. От его раскатов дребезжали стекла в окнах и звенели в тон стаканы на столах. При каждом слове он автоматически выдвигал подбородок, что придавало ему сходство с нюрнбергским щелкунчиком{112}, к несказанной радости уличных мальчишек. Глазам обывателей тоже была дана пища, и те, кто не слышал глашатая, могли прочитать вывешенные на людных перекрестках, на стенах залы для игры в мяч и на воротах «Герба Франции» огромные афиши, на которых рукой Скапена — каллиграфа труппы — попеременно черными и красными буквами были обозначены пьесы предстоящего спектакля: «Лигдамон и Лидий» и «Бахвальство капитана Фракасса». Составленные лаконически, в римском духе, афиши не могли бы покоробить самый изысканный вкус. У дверей залы был поставлен гостиничный слуга, наряженный под театрального капельдинера в замызганную зеленую с желтым ливрею. В надвинутой до бровей широкополой шляпе с пером такой длины, что им можно было сметать с потолка паутину, при картонной шпаге на толстой перевязи, он с помощью бутафорской алебарды сдерживал толпу зрителей, не пропуская тех, кто не пожелал раскошелиться и бросить монетку в серебряное блюдо, стоявшее на столе, иначе говоря, уплатить за место или же предъявить пригласительный билет. Тщетно мелкие канцеляристы, школяры, пажи и лакеи пытались пробраться неправым путем, прошмыгнув под грозной алебардой, — бдительный страж пинком отшвыривал их на середину улицы, причем иные из них, дрыгая ногами, падали в канаву к величайшей потехе остальных, которые держались за бока, глядя, как неудачники уныло стряхивают налипшую на них грязь.
Дамы прибывали в портшезах, и верзилы-лакеи бежали рысью с этой легкой ношей. Некоторые из мужчин явились верхом и, спрыгивая с лошадей или мулов, бросали поводья слугам, нанятым для этой цели. Две-три колымаги с порыжевшей позолотой и слинявшей живописью, извлеченные из каретного сарая ради такого редкого случая и влекомые неповоротливыми конягами, останавливались у дверей, и оттуда, как из Ноева ковчега, выползали ископаемые провинциально-допотопного вида, обряженные в платья, бывшие в моде при покойном короле. Однако эти кареты при всей своей ветхости вызывали почтение у зрителей, сбежавшихся поглазеть на театральную публику, а, поставленные на площади в ряд, эти рыдваны и правда имели весьма достойный вид.
Вскоре зала наполнилась так, что зубочистку не воткнешь. По обе стороны сцены были поставлены кресла для высокопоставленных особ, что, конечно, вредило впечатлению и мешало актерам, но так вошло в привычку, что не казалось нелепым. Молодой герцог де Валломбрез в унизанном блестками черном бархате и в волнах кружев красовался там рядом со своим другом, кавалером де Видаленком, одетым в изящный костюм фиолетового шелка, обшитый золотым аграмантом. Что касается маркиза де Брюйера, он занял место в оркестре позади скрипок, чтобы без стеснения хлопать Зербине.
По бокам залы из еловых досок, задрапированных шелком и старыми фландрскими шпалерами, были сколочены подобия лож, а середину занимал партер со стоячими местами для небогатых горожан, лавочников, судейских писцов, подмастерьев, школяров, лакеев и прочего сброда.
В ложах, расправляя юбки и обводя пальцем вырез корсажа, чтобы выставить напоказ красоты белоснежной груди, располагались дамы, разряженные со всем великолепием, какое позволял их гардероб, несколько отставший от придворной моды. Но смею уверить, у многих изящество успешно подменялось роскошью, по крайней мере, в глазах малосведущей провинциальной публики. Были там и фамильные булыжники-бриллианты, не утратившие своего блеска, несмотря на почерневшую оправу; и старинные кружева, правда, пожелтевшие, но весьма ценные; и длинные золотые цепочки, по двадцать четыре карата звено, увесистые и дорогие, хоть и старомодной работы; и оставшиеся от прабабок шелковые и парчовые ткани, каких уже не изготовляют ни в Венеции, ни в Лионе. Были даже и прелестные юные личики, розовые и свежие, которые имели бы большой успех в Сен-Жермене и в Париже{113}, при всем своем не в меру простоватом и наивном выражении.
Некоторые из дам, не желая, по-видимому, быть узнанными, не сняли полумасок, что не мешало весельчакам из партера называть их и рассказывать об их пикантных похождениях. И все же одна дама, по-видимому, в сопровождении горничной, замаскированная тщательнее других и державшаяся в глубине ложи, чтобы на нее не падал свет, сбивала с толку любопытство сплетников. Наброшенная на голову и завязанная у подбородка косынка из черных кружев скрывала цвет ее волос, а платье из дорогой, но темной ткани сливалось с мраком ложи, где дама старалась стушеваться, в отличие от других зрительниц, которые только и думали, как бы покрасоваться в огне свечей. Временами, словно желая защитить глаза от яркого света, дама поднимала к лицу веер из черных перьев, где посередке было вставлено зеркальце, в которое она забывала смотреться.
Скрипки, заигравшие ритурнель, привлекли всеобщее внимание к сцене, и никто больше не занимался таинственной красавицей, похожей на dama tapada{114} Кальдерона.
Представление началось с «Лигдамона и Лидия». Декорации, изображавшие сельский ландшафт с зеленью деревьев, с ковром из мха, с прозрачными струйками родников и далекой перспективой лазурных гор, расположили публику приятностью вида. Леандр в роли Лигдамона был одет в фиолетовый костюм, расшитый по пастушеской моде зеленым шнуром. Завитые в букли волосы на затылке были изящно подхвачены бантом. Слегка подкрахмаленный воротник открывал его белую, точно женскую, шею. Чисто выбритые щеки и подбородок сохранили чуть заметный синеватый колорит и как бы персиковый пушок, а нежно-розовый слой румян, наложенный на скулы, только подтверждал сравнение со свежим персиком. Подкрашенные кармином губы оттеняли жемчужный блеск усердно начищенных зубов. Кончики бровей были подправлены китайской тушью, а белки плаз, обведенных тоненькой чертой той же туши, так и сверкали.
Гул одобрения прокатился по зале: дамы шушукались между собой, и юная девица, недавно вышедшая из монастыря, не могла сдержать возглас: «Какой милашка!» — заслужив за такую непосредственность строгий выговор от своей мамаши.
Эта девочка в простоте сердечной выразила затаенную мысль более зрелых женщин, и даже, возможно, собственной матери. Она вспыхнула от материнского порицания и молча уставилась на мыс своего корсажа не без того, чтобы украдкой поднять глаза, когда за ней не следят.
Но без сомнения, более остальных была взволнована дама в маске. По бурному трепету груди, вздымавшей кружево лифа, и дрожанию веера в руке, по тому, как она подалась к самому краю ложи, боясь упустить малейшую подробность действия, всякий угадал бы ее сугубый интерес к Леандру, если бы удосужился понаблюдать за ней. По счастью, все взгляды были устремлены на сцену, что позволило таинственной особе овладеть собой.
Как известно каждому, ибо нет человека незнакомого с творениями знаменитого Жоржа де Скюдери, пьеса открывается прочувственным и весьма трогательным монологом Лигдамона, в котором отвергнутый Сильвией любовник измышляет способы покончить с жизнью, ставшей для него несносной от жестокосердия неприступной красавицы. Пресечет ли он свой печальных век с помощью петли или шпаги? Ринется ли с высокого утеса? Нырнет ли с головой в реку, дабы холодной водой остудить любовный жар? Он колеблется, не зная, на какой способ самоубийства решаться. Туманная надежда, не покидающая влюбленных до последней секунды, привязывает его к жизни. А вдруг неумолимая смягчится, тронутая столь упорным обожанием? Надо признать, что Леандр с подлинным актерским мастерством, самым душещипательным образом перемежал томление и отчаяние. Голос его дрожал, словно горе душило его, а к горлу подступали рыдания. Каждый вздох, казалось, шел из глубины души, и в жалобах на бессердечие возлюбленной было столько покорности а проникновенной нежности, что всех зрительниц брала злость на гадкую, бесчеловечную Сильвию, на месте которой у них не хватило бы варварской жестокости довести до отчаяния, а то и до гибели столь любезного пастушка.
По окончании монолога, пока публика оглушительно рукоплескала, Леандр окидывал взглядом зрительниц, особенно пристально всматриваясь в тех, что казались ему титулованными: невзирая на многократные разочарования, он не оставлял мечты красотой и талантом внушить любовь настоящей знатной даме.
Он видел, что у многих красавиц глаза блестят слезами, а белоснежная грудь вздымается от волнения, и был этим польщен, но никак не удивлен. Успех всегда принимается актером как должное; однако любопытство его было живо затронуто той dama tapada, которая скрывалась в глубине ложи. Эта таинственность отдавала любовным приключением. Сразу же угадав под маской пылкую страсть, сдерживаемую благопристойности ради, Леандр метнул незнакомке пламенный взгляд, показывая, что ее чувство нашло отклик.
Стрела попала в цель, и дама еле заметно кивнула Леандру, словно желая поблагодарить его за проницательность. Отношения были завязаны, и с этой минуты, как только позволял ход игры, нежные взгляды летели со сцены в ложу и обратно. Леандр в совершенстве владел такого рода приемами: он умел так направить свой голос и произнести любовную тираду, что определенное лицо в зале смело могло принять ее на свой счет.
При появлении Сильвии, которую играла Серафина, кавалер де Видаленк не поскупился на аплодисменты, и даже герцог де Валломбрез, желая поощрить интрижку друга, соблаговолял раза три-четыре сблизить ладони своих белоснежных рук, сверкающих драгоценными перстнями, которыми были унизаны его пальцы. Серафина ответила кавалеру и герцогу легким реверансом и начала грациозный диалог с Лигдамоном, по мнению знатоков — один из удачнейших в пьесе.
Как требует роль Сильвии, она сделала несколько шагов по сцене с видом сосредоточенной задумчивости, оправдывающей вопрос Лигдамона: «Я, видно, вас застиг в глубоком размышленье?»
Она была очень мила, стоя в непринужденной позе, чуть склонив голову, свесив одну руку, а другую прижав к талии. На ней было платье цвета морской волны, отливающее серебром и подхваченное черными бархатными бантами. В волосах несколько полевых цветков, словно сорванных и засунутых туда небрежной рукой. Кстати, эта прическа шла к ней лучше всяких бриллиантов, хотя сама она думала иначе, но, будучи бедна драгоценностями, поневоле проявила хороший вкус, не разубрав пастушку, как принцессу.
Мелодичным голосом произнесла она весь набор поэтических и цветистых фраз о розах и зефирах, о высоте дерев и пении птиц, фраз, которыми Сильвия кокетливо перебивает страстные излияния Лигдамона, а влюбленный в каждом образе, нарисованном красоткой, видит символ любви, повод для перехода к тому, чем неотступно занята его мысль.
Во время этой сцены Леандр, пока говорила Сильвия, ухитрялся посылать томные вздохи в сторону таинственной ложи; тот же маневр проделывал он до конца пьесы, которая закончилась под гром рукоплесканий. Ни к чему подробно говорить о произведении, которое теперь знакомо уже всем. Успех Леандра был полный, и зрители только дивились, что столь даровитый актер ни разу еще не выступал при дворе. Серафина тоже снискала похвалы, и в своем оскорбленном самолюбии утешилась победой над кавалером де Видаленком, который хоть и не обладал состоянием маркиза де Брюйера, зато был молод, на виду у высшего света и имел все возможности преуспеть.
После «Лигдамона и Лидия» было представлено «Бахвальство капитана Фракасса», которое понравилось, как всегда, и вызвало взрывы дружного смеха. Пользуясь советами Блазиуса и собственным разумением, Сигоньяк внес в роль капитана много остроумной выдумки. Зербина вся искрилась веселостью, и маркиз, обезумев от восторга, неистово рукоплескал ей. Столь шумные аплодисменты привлекли даже внимание замаскированной дамы. Она слегка пожала плечами, и уголки ее губ приподнялись в иронической усмешке под бархатом полумаски. Что касается Изабеллы, то присутствие герцога Валломбреза, сидевшего справа от сцены, внушало ей беспокойство, которое не прошло бы незамеченным для зрителей, будь она менее опытной актрисой. Она боялась какой-нибудь дерзкой выходки или оскорбительной хулы. Но опасения ее не оправдались. Герцог не пытался смутить ее слишком пристальным или откровенным взглядом, но только пристойно и неназойливо рукоплескал ей в особо удачных местах. Зато, когда по ходу действия на капитана Фракасса сыпались щелчки, пинки и побои, гримаса сдержанного презрения кривила черты молодого герцога. Губы высокомерно вздергивались, словно шепча: «Какой позор!» Однако он ничем не обнаружил тех чувств, что могли у него возникнуть, и до самого конца спектакля хранил горделиво-небрежную позу. Хотя герцог де Валломбрез и был вспыльчив от природы, но, когда гнев его остыл, он овладел собою и, как подобало истому аристократу, не позволил себе ни в чем преступить правила учтивости по отношению к противнику, с которым ему предстояло драться на другой день; до тех пор враждебные действия были приостановлены и как бы заключен господень мир.
Замаскированная дама удалилась до окончания второй пьесы, дабы не смешаться с толпой и никем не замеченной добраться до портшеза, ожидавшего ее в нескольких шагах от залы для игры в мяч. Ее исчезновение озадачило Леандра, который из-за кулисы смотрел в залу и следил за каждым движением таинственной особы.
Поспешно накинув плащ поверх наряда пастушка с Линьона, Леандр бросился через артистический выход догонять незнакомку. Связующая их тонкая нить грозила порваться по его нерадивости. На миг вынырнув из мрака, дама могла быть навеки поглощена им, и едва начавшееся приключение окончилось бы ничем. Как ни бежал Леандр, как ни запыхался от спешки, но, очутившись на улице, он увидел лишь темные дома и глухие переулки, где мерцали, отражаясь в лужах, тусклые огни фонарей, которыми лакеи освещали путь своим господам. Дюжие носильщики успели завернуть с портшезом за угол и скрыть его от страстных взоров Леандра.
«Какой я дурак! — подумал Леандр с той откровенностью, какую иной раз, в минуту отчаяния, позволяешь себе по отношению к собственной персоне. — Мне следовало переодеться в городское платье после первой пьесы и пойти караулить мою незнакомку у дверей театра, не дожидаясь, будет она или не будет смотреть „Бахвальство капитана Фракасса“. Ах, осел, ах, лодырь! Знатная дама, ну конечно же, знатная, строит тебе глазки и обмирает под маской от твоей игры, а у тебя не хватает ума, чтобы кинуться за ней следом! И поделом тебе, если всю жизнь в качестве любовниц будешь довольствоваться шлюхами, потаскушками, рыночными балаболками и трактирными служанками с шершавыми от метлы руками.
В пылу самобичевания Леандр не заметил, как перед ним, точно видение, возник мальчуган вроде пажа, в коричневой ливрее без галунов, в надвинутой на брови шляпе, и детским голоском, которому тщился придать басовитость, обратился к нему:
— Вы господин Леандр, тот что сегодня представлял пастушка Лигдамона в пьесе господина де Скюдери?
— Да, я самый, — подтвердил Леандр, — что вам угодно от меня и чем я вам могу служить?
— Благодарствую! Мне-то от вас ничего не надобно, — отвечал паж, — я только имею поручение от некоей замаскированной дамы передать вам несколько слов, если только вы расположены их выслушать.
— От замаскированной дамы? — вскричал Леандр. — О! Говорите же! Я сгораю от нетерпения!
— Вот эти доподлинные слова: «Ежели Лигдамон не менее бесстрашен, чем галантен, пусть придет в полночь к церкви; там его будет ждать карета, путь сядет в нее и едет, куда его повезут».
Прежде чем огорошенный Леандр успел ответить, паж исчез, а он остался в полном смятении, не зная, как ему быть. Сердце радостно прыгало в груди от такой удачи, но плечи содрогались от воспоминания о побоях, полученных в некоем парке, у подножия статуи Амура Скромника. А вдруг это опять ловушка его тщеславию, подстроенная злобным брюзгой, позавидовавшим его чарам? Что, если в назначенном месте на него набросится со шпагой разъяренный муж и причинит ему увечия или просто перережет горло? Эти предположения порядком охладили его пыл, ибо, как уже говорено, Леандр, подобно Панургу{115}, не боялся ничего, кроме побоев и смерти. С другой стороны, столь благоприятный и романтический случай мог больше не повториться, и, упустив его, Леандр навсегда простился бы с мечтой всей своей жизни, мечтой, на которую столько было потрачено помады, румян, кружев и ухищрений. А кроме того, если он не придет, прекрасная незнакомка заподозрит его в трусости — об этом даже подумать страшно, тут уж, как ни дрожи, поневоле станешь храбрецом. И эта несносная мысль побудила Леандра решиться. «А вдруг красотка, — пришло ему в голову, — ради которой я рискую тем, что меня изувечат или сгноят в заточения, вдруг она окажется почтенной вдовицей, насурмленной, набеленной, наштукатуренной вовсю, с накладными волосами и вставными зубами? Разве мало таких пылких старушонок, сладострастных упырей, которые, в отличие от упырей кладбищенских, любят полакомиться свежинкой?.. Но нет! Я уверен, она молода и пленительна! Приоткрытый краешек шеи и груди был белым, округлым, аппетитным, суля и во всем прочем чудеса. Да, я непременно пойду, я сяду в карету! Карета — как это изысканно в благородно!»
Приняв такое решение, Леандр вернулся в «Герб Франции», наскоро поужинал и, запершись у себя в комнате, расфрантился, как мог, не пожалев ни тонкого белья с ажуром, ни розовой пудры, ни мускуса. Он даже захватил с собой кинжал и шпагу, хотя вряд ли был способен в случае надобности пустить их в ход, — но как-никак вооруженный любовник внушает почтение докучливому ревнивцу. Затем он надвинул шляпу до бровей, закутался на испанский лад в темный плащ и, крадучись, вышмыгнул из гостиницы, на свое счастье не замеченный коварным Скапеном, который храпел у себя в каморке, на другом конце галереи.
Улицы давно опустели, ибо в Пуатье рано ложились спать. Леандр не встретил ни живой души, если не считать нескольких тощих котов, которые уныло бродили по мостовой, а заслышав шум шагов, как тени, исчезали в дверной щели или в подвальном окошке.
Наш любезник добрался до церковной площади, когда часы кончили бить полночь, своим зловещим звоном спугнув сов со старой колокольни. Заунывный звук колокола среди ночной тишины внушил встревоженному воображению Леандра мистический потусторонний трепет. Казалось, он слышит погребальный звон по себе самом. Он уже готов был повернуть вспять и от греха улечься в постель, вместо того чтобы пускаться в ночные похождения; но тут он увидел, что карета ждет его в условленном месте, а маленький паж, посланец замаскированной дамы, стоит на подножке, распахнув дверцу. Отступать было поздно, — мало у кого хватает мужества быть трусом при свидетелях. Паж и кучер уже заметили Леандра; так, невзирая на сильное сердцебиение, он приблизился беспечным шагом, сел в карету, по виду неустрашимее самого Галаора{116}.
Не успела дверца захлопнуться за Леандром, как кучер тронул лошадей, и они с места взяли рысью. В карете царил полный мрак; мало того что была ночь, спущенные на окна кожаные шторки ничего не позволяли разглядеть снаружи. Паж остался на подножке, и вступить с ним в разговор, дабы получить какие-то разъяснения, не было возможности. Вдобавок он был явно немногоречив и не расположен рассказывать о том, что знает, если он вообще что-нибудь знал. Наш актер ощупал подушки сиденья, которые оказались бархатными и простеганными; под йогами он ощутил пушистый ковер, а от обивки исходил тонкий аромат амбры — свидетельство изысканного вкуса. Значит, карета столь таинственным образом влекла его к настоящей знатной даме! Он попытался определить, в каком направлении его везут, но для этого он недостаточно знал Пуатье; однако немного погодя ему показалось, что стук колес больше не отдается в стенах зданий и экипаж не пересекает сточные канавы. Они явно выехали за город и едут сельской местностью в какой-то уединенный приют, приспособленный для любовных утех — и для убийств! — с легким содроганием подумал Леандр и схватился за рукоятку кинжала, как будто чей-то кровожадный муж или свирепый брат сидел перед ним во мраке.
Наконец карета остановилась. Маленький паж открыл дверцу; Леандр вышел и очутился перед высокой темной стеной, очевидно, оградой парка или сада. Вскоре он различил калитку, которая своими разошедшимися, почерневшими, замшелыми досками почти сливалась с камнями ограды. Паж надавил на один из ржавых гвоздей, скреплявших доски, и калитка приотворилась.
— Дайте мне руку, я помогу вам, — сказал паж, — без меня вы не проберетесь в такой темноте сквозь эту чащу.
Леандр повиновался, и они вдвоем несколько минут шли по довольно густому парку, хоть и сильно поредевшему от зимних ветров, а сухие листья шуршали у них под ногами. Парк сменился садом, газонами, окаймленными буксовой изгородью и подстриженными пирамидой тисами, которые принимали смутные очертания привидений или же караульных, еще более страшных для пугливого комедианта. Пройдя сад, Леандр и его спутник поднялись по ступеням террасы, где возвышался павильон в сельском вкусе с крышей-куполом, украшенный по углам вазами с декоративными языками пламени. Эти подробности наш любезник разглядел при том неверном свете, что разливается с ночного неба по открытой местности. Павильон мог показаться нежилым, если бы не одно окно. Оно слабо светилось сквозь тяжелый штофный занавес, и проем его нежно алел на фоне темных стен дома.
Конечно, именно за этим занавесом ждала его замаскированная дама, тоже волнуясь, ибо в такого рода любовных похождениях женщина рискует потерять доброе имя, а иногда, как и ее возлюбленный, даже жизнь, — если только обо всем узнает муж и если он наделен необузданным нравом. Но в настоящий миг Леандр больше не испытывал страха; удовлетворенное тщеславие скрывало от него опасность. Карета, паж, сад, павильон — за всем этим чувствовалась высокородная дама, в завязке интриги не было ни намека на мещанство. Леандр ног под собой не чуял от восторга. Ему хотелось, чтобы зубоскал Скапен был свидетелем его славы и торжества.
Паж распахнул двустворчатую застекленную дверь и удалился, оставив Леандра одного в павильоне, убранном очень богато и с большим вкусом. Сводчатый плафон, образованный куполом, изображал густо-голубое воздушное небо, где реяли розовые облачка и в грациозных позах витали амуры. Тканые шпалеры, изображавшие сцены из «Астреи», романа господина Оноре д'Юрфе, мягко окутывали стены. Секретеры, украшенные флорентийской мозаикой, красные бархатные кресла с бахромой, стол, покрытый турецкой ковровой скатертью, китайские вазы, наполненные цветами, несмотря на зимнюю пору, не оставляли сомнений в том, что хозяйка дома богата и знатна. Черные мраморные канделябры изображали руки негров, выступающие из золоченых манжет, и заливали ярким светом все это великолепие. Ослепленный столь блистательным убранством, Леандр сперва не заметил, что в комнате никого нет; он скинул с себя плащ, вместе с шляпой положил его на складной стульчик, поправил перед венецианским зеркалом примятую буклю, принял самую грациозную из поз своего репертуара и, оглянувшись по сторонам, мысленно воскликнул: «Что это? Где же божество здешних мест? Я вижу храм, но не вижу самого кумира. Когда наконец она выйдет из облака и предстанет мне, истая богиня всей осанкой, говоря словами Вергилия?»
Не успел Леандр закончить свой изысканный внутренний монолог, как малиновая портьера узорчатого индийского атласа раздвинулась, и появилась замаскированная дама, поклонница Лигдамона. Она все еще была в черной бархатной маске, что обеспокоило нашего актера.
«Уж не дурна ли она лицом, — подумал он, — пристрастие к маске меня пугает». Тревога его длилась недолго, ибо дама, дойдя до середины комнаты, где почтительно ждал ее Леандр, развязала маску и бросила ее на стол, показав при блеске свечей приятное лицо с довольно правильными чертами, на котором сверкали страстью красивые карие глаза, а зубы блестели в улыбке между вишневых губ, причем нижняя была чуть-чуть раздвоена. Вдоль щек вились пышные грозди черных кудрей, доходя до пухлых и белых плеч и даже отваживаясь касаться поцелуем двух полушарий, чье трепетание выдавали колыхавшиеся над ними кружева.
— Госпожа маркиза де Брюйер! — воскликнул Леандр, до крайности изумленный и несколько встревоженный: ему пришли на ум достопамятные побои. — Возможно ли? Не сон ли это? Смею ли я поверить нежданному счастью?
— Вы не ошиблись, мой друг. Да, я — маркиза де Брюйер и надеюсь, сердце ваше узнало меня так же, как и глаза.
— О, ваш образ запечатлен в нем огненными чертами, — прочувственным тоном произнес Леандр, — мне достаточно заглянуть в себя, чтобы узреть этот образ, наделенный всем очарованием и совершенством, присущим вам.
— Благодарю вас за то, что вы сохранили добрую память обо мне, — отвечала маркиза, — это свидетельствует о незлобивости высокой души… Вы могли счесть меня жестокой, неблагодарной и фальшивой. Увы, сердце мое в слабости своей не осталось нечувствительным к изъявлениям вашей страсти. Письмо, отданное вами вероломной наперснице, попало в руки маркиза. Он написал ответ, который ввел вас в заблуждение. Позднее, смеясь остроумной, на его взгляд, проделке, он показал мне ваше письмо, дышавшее истинной чистой и пылкой любовью, назвав его образцом комизма. Но мое впечатление оказалось обратным, чувство к вам только возросло, и я решила вознаградить вас за те страдания, кои вы претерпели во имя меня. Зная, что муж занят своим новым увлечением, я приехала в Пуатье; укрывшись под маской, я слушала, как превосходно выражаете вы поддельную страсть, и мне захотелось узнать, так ли вы будете красноречивы, говоря от собственного имени.
Сударыня, — начал Леандр, опускаясь на колени у ног маркизы, ибо она упала в кресла, словно изнемогая от внутренней борьбы, которой стоило это признание ее целомудрию. — Сударыня, нет, королева, богиня! Какая цена высокопарным фразам, ходульным страстям, пустой игре ума, рассудочным натужным размышлениям поэтов, притворным вздохам у ног размалеванной актрисы, рассеянно озирающей публику, какая всему этому цена рядом со словами, что льются из души, с пламенем, что горит в крови, с той титанической страстью, для которой во всей вселенной не найдется достаточно ярких красок, чтобы облечь в них образ божества, с теми порывами сердца, что стремится вырваться из своей клетки, дабы служить подушкой для ног обожаемого кумира?! Вы соблаговолили найти, божественная маркиза, что я с должным пылом выражаю любовь на театре, а причина в том, что я никогда и не гляжу на актрису, что мечтою я стремлюсь выше — к некоему совершенству, воплощенному в прекрасной, благородной, просвещенной даме, как вы, сударыня; и ее одну люблю я под именами Изабеллы, Сильвии и Доралисы, которые лишь отображают ее.
Произнося этот монолог, Леандр, как опытный актер, не забывал, что речам должны сопутствовать жесты, и, склонясь над рукой маркизы, осыпал ее пылкими поцелуями. А маркиза своими длинными белыми пальцами, унизанными перстнями, перебирала шелковистые раздушенные кудри актера и, откинувшись в кресле, вперила невидящий взор в крылатых амурчиков на густо-голубом плафоне.
Внезапно маркиза оттолкнула Леандра и встала, шатаясь.
— Ах, перестаньте! — задыхаясь, отрывисто проронила она. — Ваши поцелуи жгут меня, сводят с ума!
Держась за стены, она добралась до той двери, в которую вошла, подняла портьеру, и портьера опустилась за ней и за Леандром, подоспевшим, чтобы подхватить ее.
Зябкая зимняя Аврора дула на свои покрасневшие персты, когда Леандр, плотно закутанный в плащ и дремлющий в уголке кареты, был доставлен к воротам Пуатье. Приподняв край кожаной шторки, чтобы разобраться, куда его привезли, он еще издали увидел маркиза де Брюйера, вместе с Сигоньяком направлявшегося к месту, назначенному для дуэли. Леандр поспешил опустить шторку, чтобы его не заметил маркиз, которого карета чуть не задела колесом. Усмешка удовлетворенной мести промелькнула на губах актера. Он сполна расплатился за побои!
Высокая стена ограждала место дуэли и скрывала дуэлянтов от взглядов прохожих. Площадка была плотно утоптана, очищена от камней, кочек и трав, о которые можно споткнуться, и как нельзя лучше приспособлена к тому, чтобы ревнители чести могли по всем правилам перерезать друг другу горло.
Герцог де Валломбрез и кавалер де Видаленк тоже не замедлили явиться в сопровождении лекаря-цирюльника. Все четверо раскланялись между собой с высокомерной учтивостью и светской холодностью, как и положено людям благовоспитанным, которым предстоит биться насмерть. Совершеннейшая беззаботность была написана на лице молодого герцога, безупречно храброго по природе и уверенного в своем превосходстве. Сигоньяк держался с не меньшим достоинством, хотя драться на дуэли ему приходилось впервые. Маркиз де Брюйер был весьма доволен таким хладнокровием и считал это хорошим признаком.
Валломбрез сбросил плащ и шляпу, расстегнул камзол, и Сигоньяк в точности последовал его примеру. Маркиз и кавалер измерили шпаги дуэлянтов. Они оказались одинаковой длины.
Противники заняли свои места, взяли в руки шпаги и стали в исходную позицию.
— Начинайте, господа, и бейтесь доблестно и честно, — сказал маркиз де Брюйер.
— Советы излишни, — вставил кавалер де Видаленк. — Они будут драться, как львы. А мы увидим великолепный поединок.
Валломбрез в глубине души все еще не мог вполне отрешиться от презрения к Сигоньяку, ожидая встретить слабого фехтовальщика, и был крайне удивлен, когда, небрежно прощупав его умение, вдруг встретил ловкую, твердую руку, с необычайной легкостью парирующего удары противника. Он стал внимательнее, затем несколько раз попытал ложный выпад, тотчас же разгаданный. Стоило ему открыть малейший просвет, как туда проникала шпага Сигоньяка, и нужно было немедля отбить атаку. Он попробовал наступать; его шпага была умело отстранена, оставив его самого без прикрытия, и, не отшатнись он назад, клинок противника попал бы ему прямо в грудь. Для герцога картина боя явно менялась. Он думал направлять его по своему усмотрению и, после нескольких выпадов, ранить Сигоньяка, куда ему заблагорассудится, с помощью приема, до сих пор безотказного. А сейчас он совсем не был господином положения и нуждался во всей своей сноровке, чтобы защищаться. Как ни старался он быть хладнокровным, злоба обуревала его, он терял над собою власть, давал волю нервам, меж тем как Сигоньяк оставался невозмутим и, казалось, дразнил его своей безупречной позитурой.
— Неужто нам пребывать в праздности, пока наши друзья дерутся? — обратился кавалер де Видаленк к маркизу де Брюйеру. — Утро сегодня холодное, пофехтуем немного и хотя бы согреемся.
— Я тоже не прочь размяться, — ответил маркиз. Видаленк был искуснее в фехтовании, нежели маркиз, и после двух-трех выпадов коротким сухим ударом выбил у него из рук шпагу. Так как личной вражды между ними не было, они, по обоюдному согласию, прекратили поединок и сосредоточили свое внимание на Сигоньяке и Валломбрезе.
Герцог, теснимый бароном, уже отступил на несколько шагов. Он начал уставать, дыхание его стало прерывистым. Время от времени быстрая сшибка клинков высекала голубые искры, но отпор все слабел и уступал нападению. Сигоньяк, утомив противника, теперь делал выпад за выпадом, наносил удары и все дальше оттеснял герцога.
Кавалер де Видаленк был очень бледен, он уже не шутя боялся за своего друга. Для всякого сведущего в фехтовании не могло быть сомнений, что перевес всецело на стороне Сигоньяка.
— Черт его знает, почему Валломбрез не пустит в ход тот прием, которому научил его Джироламо из Неаполя и который, конечно, неизвестен этому гасконцу? — пробормотал Видаленк.
Словно читая мысли друга, молодой герцог попробовал было знаменитый прием, но в тот же миг, когда он изготовился осуществить его молниеносным ударом наотмашь, Сигоньяк опередил противника и прямым ударом рассек ему руку у локтя. Боль от раны вынудила герцога разжать пальцы, и шпага его упала на землю.
Сигоньяк с истым рыцарством тотчас остановился, хотя и мог повторить удар, не нарушая условий дуэли, которая не должна была прекратиться после первой крови. Он вонзил острие шпаги в землю и, подбоченясь левой рукой, очевидно, ждал, как решит противник. Но Валломбрез, которому с согласия Сигоньяка Видаленк вложил шпагу в руки, не мог ее удержать и сделал знак, что с него довольно.
После этого Сигоньяк и маркиз де Брюйер, учтивейшим образом поклонившись герцогу де Валломбрезу и кавалеру де Видаленку, направились назад, в город.
X ГОЛОВА В СЛУХОВОМ ОКОШКЕ
Герцога де Валломбреза бережно посадили в портшез, после того как лекарь забинтовал и подвязал ему шарфом поврежденную руку. Рана, хоть и лишила его на несколько недель возможности владеть шпагой, сама по себе была неопасна; лезвие противника, не повредив ни артерий, ни нервов, прорезало только мягкую часть руки. Конечно, рана его горела, но куда сильнее кровоточила его гордость. И когда его черные брови судорожно подергивались от боли, на бледном лице появлялось выражение холодного бешенства, а пальцы здоровой руки скребли бархатную обивку портшеза. Не раз во время пути он поворачивал голову и бранил носильщиков, хотя они старались шагать как можно ровнее, выбирая дорогу поглаже, во избежание малейшего толчка, что не мешало раненому обзывать их «олухами» и грозить им плетьми за то, что они, по его словам, трясут его, как горох в решете.
По прибытии домой, он не пожелал лечь в постель, а прилег на софу, опершись о подушки; ноги ему укрыл стеганым шелковым одеялом Пикар — камердинер, которого немало удивил и озадачил плачевный вид побежденного хозяина, совершенно необычный для такого превосходного фехтовальщика, каким был молодой герцог.
Сидя на складном стуле подле своего друга, кавалер де Видаленк каждые четверть часа подносил ему ложку микстуры, прописанной лекарем. Валломбрез упорно молчал, но несмотря на внешнее спокойствие, видно было, что в нем клокочет глухая злоба. Наконец ярость его прорвалась в гневной тираде:
— Можешь ты вообразить, Видаленк, чтобы этот тощий облезлый аист, которому пришлось улепетнуть из своего полуразрушенного жилья, где он подыхал с голоду, как-то ухитрился проколоть меня своим клювом? Ведь я же не раз мерился силами с искуснейшими мастерами нашего времени и неизменно возвращался после поединка без единой царапинки и, наоборот, частенько оставлял какого-нибудь вертопраха в беспамятстве, замертво на руках у его секундантов.
У самых счастливых и умелых случаются полосы незадач, — философски заметил Видаленк. — Лик капризницы Фортуны переменчив: то она улыбается, то хмурится. До сей поры у вас не было повода на нее сетовать, она пригрела вас на груди, как первейшего своего баловня.
— Стыдно подумать, что какой-то смехотворный шут, горе-дворянчик, который терпит затрещины и тумаки в пошлых фарсах на подмостках театра, взял верх над герцогом де Валломбрезом, доселе не знавшим поражений, — продолжал Валломбрез. — Не иначе как под личиной фигляра скрывается настоящий бретер по ремеслу.
— Его происхождение вам известно и удостоверено маркизом де Брюйером, — возразил Видаленк. — Тем более удивляет меня его невиданное умение владеть шпагой, — она превосходит все доселе известное. Ни Джироламо, ни Парагуанте не обладают таким верным ударом. Я внимательно следил за ним во время поединка и скажу — тут растерялись бы и самые наши знаменитые дуэлисты. Лишь благодаря вашей ловкости и урокам неаполитанца вам удалось избежать тяжелого увечья. При таких обстоятельствах поражение стоит победы. Марсильи и Дюпорталь, хоть и кичатся своим мастерством и входят в число лучших фехтовальщиков города, с таким противником, без сомнения, остались бы на поле боя.
— Поскорее бы зажила моя рана, — помолчав, вновь заговорил герцог, — мне не терпится вызвать его снова и взять реванш.
— Это было бы очень опрометчиво, и я готов всячески отговаривать вас, — возразил кавалер. — Ваша рука, чего доброго, еще не будет достаточно тверда, что уменьшит для вас возможность победы. Сигоньяк — опасный противник, наудачу связываться с ним нельзя. Он знает теперь ваши приемы, а первая победа придаст ему уверенности и удвоит его силы. Честь же ваша удовлетворена, ибо встреча была нешуточная, на том и успокойтесь.
В душе Валломбрез сознавал резонность этих доводов. Сам он достаточно обучался фехтованию, считал себя отличным дуэлистом и ясно видел, что шпаге его, как бы ни была она ловка, никогда не коснуться груди Сигоньяка при той безукоризненной обороне, о которую разбились все его усилия. Как ни возмущался он, но вынужден был признать это необъяснимое превосходство. Так же понимал он про себя, что барон, не желая его убивать, нанес ему именно такую рану, которая не позволяла продолжать поединок. Подобное великодушие тронуло бы человека менее высокомерного, в нем же оно лишь возмущало гордыню и растравляло все обиды. Он побежден! Эта мысль доводила его до неистовства. Он сделал вид, что принимает советы друга, но по мрачному и гневному выражению его лица нетрудно было угадать, что в уме его зреют черные планы, планы мщения, которое бьет наверняка, когда оно подогрето ненавистью.
— Хорош я буду в глазах Изабеллы, когда предстану перед ней с проколотой ее любовником рукой, — сказал он, смеясь деланным смехом. — Изувеченный Купидон не может рассчитывать на успех у граций.
— Забудьте эту неблагодарную особу, — заметил Видаленк. — В конце концов, не могла же она предвидеть, что ею вздумает плениться герцог. Верните свои милости бедной Коризанде, которая любит вас всей душой и по целым часам плачет у ваших дверей, как выгнанная собачонка.
— Не произноси ее имени, Видаленк, если хочешь, чтобы мы остались друзьями! — вскричал герцог. — Рабское обожание, которое ничем не оскорбляется, мне противно и докучно. Мне нужна надменная холодность, своенравная гордыня, неприступная добродетель! О, как восхищает и чарует меня эта строптивая Изабелла! Как я благодарен ей за то, что она презрела мою любовь, которая, конечно, уже прошла бы, будь она принята по-иному. Женщина с низменной и пошлой душой не стала бы в ее положении отвергать ухаживания отличившего ее вельможи, который не так уж дурен собой, если верить свидетельству местных дам. К моей страсти примешивается своего рода уважение, а я не привык питать его к женщинам; но как устранить этого захудалого дворянчика, этого окаянного Сигоньяка, чтоб его черт побрал?
— Дело нелегкое, тем более теперь, когда он будет начеку, — ответил Видаленк. — Но, допустим, удастся его устранить, все равно останется любовь к нему Изабеллы, а вам лучше, чем кому-либо, известно, как упорны женщины в своем чувстве, — вы от этого достаточно натерпелись.
— Лишь бы только мне посчастливилось убить барона! — продолжал герцог, отнюдь не убежденный доводами друга. — С девицей я бы справился мигом, как бы она ни разыгрывала скромницу и недотрогу. Ничто не забывается скорее, чем вздыхатель, приказавший долго жить.
Кавалер де Видаленк был иного мнения, но счел неуместным затевать по этому поводу спор и подливать масла в огонь, переча вспыльчивому нраву Валломбреза.
— Главное, поправляйтесь, а потом мы все обсудим, разговоры только утомляют вас. Попробуйте подремать и поменьше волноваться; лекарь разбранит меня и назовет плохой сиделкой, если я не буду настаивать, чтобы вы дали себе покой, как телесный, так и душевный.
Сдавшись на эти доводы, раненый закрыл глаза и вскоре уснул.
Сигоньяк и маркиз де Брюйер спокойно вернулись в «Герб Франции», где, как люди благовоспитанные, словом не обмолвились о дуэли; однако если у стен, как говорится, есть уши, у них есть и глаза: они видят не хуже, чем слышат. В уединенном, казалось бы, уголке не один пытливый взгляд следил за всеми перипетиями поединка. Праздная провинциальная жизнь во множестве порождает незримых или малозаметных мух, которые вьются вокруг тех мест, где что-то должно произойти, а потом, жужжа, разносят повсюду свежую новость. К завтраку весь Пуатье уже знал, что герцог де Валломбрез ранен на дуэли каким-то неизвестным. Сигоньяк жил в гостинице совершенным затворником, и публика знала только его маску, а не лицо. Эта тайна подзадоривала любопытство, и деятельные умы давали волю воображению, стараясь раскрыть имя победителя. Не стоит перечислять множество самых фантастических гипотез, — каждый усердно трудился над своей, опираясь на самые нелепые и легковесные выводы, но никому и в голову не пришла несуразная мысль, что победителем был тот самый капитан Фракасс, который вызвал накануне столько смеха своей игрой. Слишком уж чудовищным и немыслимым делом была дуэль между важным вельможей и комедиантом, чтобы у кого-нибудь могла зародиться подобная догадка. Кое-кто из местного высшего света посылал в особняк Валломбреза справиться о здоровье герцога, втайне надеясь на обычную словоохотливость лакеев; но лакеи были немы, как прислужники в серале, у которых вырезан язык, — им попросту не о чем было рассказывать.
Богатство, высокомерная красота Валломбреза, его успех у женщин породили немало лютой зависти, которую никто не смел обнаружить открыто, но неудача его подстрекнула глухое злорадство. Впервые в жизни ему не повезло, и все, кого оскорбляла его заносчивость, радовались столь чувствительному удару по его самолюбию. Завистники не переставали прославлять отвагу, ловкость и благородную наружность победителя, которого никогда не видели в лицо.
Почти все дамы имели веские поводы роптать на обращение молодого герцога, ибо он был из породы жрецов, по злобной прихоти оскверняющих тот алтарь, на котором сами курили фимиам. Теперь же эти дамы восторгались тем, кто отомстил за их тайные обиды. Они охотно увенчали бы его миртами и лаврами; исключаем из их числа нежную сердцем Коризанду, которая чуть не лишилась рассудка, открыто плакала, услышав злую весть, и, рискуя быть изгнанной с позором, нарушила запрет и умудрилась повидать если не самого герцога, — его оберегали очень строго, — то хотя бы кавалера де Видаленка, более мягкого и жалостливого по натуре; и ему еле-еле удалось успокоить любовницу, не в меру сострадательную к бедам неблагодарного предмета своей страсти.
Но так как в нашем подлунном земноводном мире ничто не остается тайным, то вскоре, со слов дядюшки Било, получившего сведения из первых рук, от Жака, камердинера маркиза, который слышал разговор Сигоньяка и своего хозяина во время ужина у Зербины, — стало известно, что неведомый герой, победитель молодого герцога де Валломбреза, был капитан Фракасс, или, вернее говоря, некий барон, по причинам любовного характера вступивший в бродячую труппу Ирода. Фамилию его Жак позабыл, окончание у нее было на «ньяк», обычное для Гасконии, но за дворянство он ручался.
Эта история, достоверная при всей своей романтичности, имела в Пуатье большой успех. Всех заинтересовал безымянный дворянин, храбрец и превосходный фехтовальщик. И когда па сцене появился капитан Фракасс, не успел он открыть рот, как долгие рукоплескания дали ему понять, что он пользуется всеобщей симпатией. Даже самые знатные и чванные дамы, не стесняясь, махали ему платками. На долю Изабеллы тоже выпали более громкие, чем обычно, хлопки, смутив молодую скромницу и вогнав ее в краску, проступившую даже сквозь румяна. Не прерывая игры, она в ответ на эти знаки одобрения слегка присела и грациозно кивнула головой.
Ирод от радости потирал руки, и его широкое белесое лицо сияло, как полная луна, ибо сбор был огромный, и касса чуть что не трещала от наплыва звонкой монеты, — ведь каждому хотелось посмотреть на знаменитого капитана Фракасса, актера и дворянина, доблестного поборника красоты, который не испугался ни палок, ни шпаг и не побоялся помериться силами с герцогом — грозой отважнейших дуэлистов. Зато Блазиус не ждал ничего хорошего от этого успеха; его не без основания страшил мстительный нрав Валломбреза, который непременно найдет повод расквитаться за все и чем-нибудь насолить труппе. «Горшку с котлом не биться, — пусть сразу и не разлетится, а глине с чугуном все равно не сравниться», — говорил он. В ответ Ирод, полагаясь на поддержку Сигоньяка и маркиза, обзывал его тряпкой, трусом, трясуном.
Если бы Сигоньяк не был по-настоящему влюблен в Изабеллу, он смело мог бы изменить ей, и не один раз, ибо многие красавицы слали ему нежные улыбки, невзирая на его несуразный наряд, на картонный нос, выкрашенный киноварью, и на комическую роль, мало пригодную для романтических мечтаний. Даже успех Леандра потерпел урон. Тщетно щеголял он своими выигрышными данными, пыжился, как мохноногий голубь, навивал па палец букли парика, показывая знаменитый алмаз, скалил зубы до самых десен; впечатления он больше не производил и, конечно, не помнил бы себя от досады, если бы дама в маске не была на своем посту, лаская его взором и отвечая на его взгляды ударами веера о барьер ложи и другими знаками любовного взаимопонимания. Недавняя победа врачевала легкий укол, нанесенный самолюбию, а радости, какие сулила ему ночь, служили утешением за вечер, в который звезда его потускнела.
Когда актеры вернулись в гостиницу, Сигоньяк проводил Изабеллу до порога ее комнаты, и молодая актриса, против своего обыкновения, позволила ему войти. Служанка зажгла свечу, подбросила дров в камин и деликатно удалилась. После того как за ней опустилась портьера, Изабелла сжала руку Сигоньяка с такой силой, какую трудно было предположить в ее тонких и хрупких пальцах, и приглушенным от волнения голосом произнесла:
— Поклянитесь, что больше не будете драться из-за меня. Поклянитесь в этом, если любите меня так, как говорите.
— Такую клятву я дать не могу, — ответил барон. — Если какой-нибудь наглец осмелится проявить к вам неуважение, конечно, я покараю его должным образом, будь он герцог или принц крови.
— Но ведь я всего лишь бедная комедиантка, которая обречена сносить обиды от первого встречного. По мнению света, увы, с избытком оправданному театральными нравами, — каждая актриса непременно и куртизанка. Стоило женщине вступить на подмостки, как она уже принадлежит толпе: жадные взгляды разбирают ее прелести, проникают в тайны ее красоты, и каждый мысленно обладает ею как любовницей. Первый встречный, зная ее, считает себя ее знакомым и, проникнув за кулисы, оскорбляет ее стыдливость бесцеремонными признаниями, которые она и не думала поощрять. Если она благонравна, ее целомудрие толкуют как притворство или меркантильный расчет. Все это надо терпеть, раз изменить ничего нельзя. Отныне положитесь на меня: сдержанным поведением, резким словом, холодным взглядом я сумею противостоять дерзости вельмож, вертопрахов и хлыщей всякого рода, которые теснятся вокруг моего туалетного стола или скребутся в дверь моей уборной во время антрактов. Удар планшеткой по осмелевшим пальцам, поверьте мне, стоит удара вашей рапиры.
— Но мне-то позвольте считать, прелестная Изабелла, что шпага благородного человека может кстати послужить поддержкой планшетке честной девицы, и не лишайте меня звания вашего рыцаря и защитника.
Изабелла по-прежнему держала руку Сигоньяка и нежным взглядом своих голубых глаз, полных немой мольбы, пыталась вынудить у него желанную клятву; но барон отказывался ей внять, в вопросах чести он был непримирим, как испанский идальго, и скорее согласился бы претерпеть тысячу смертей, нежели допустить малейшее непочтение к его возлюбленной; он хотел, чтобы Изабеллу на подмостках уважали так же, как герцогиню в светской гостиной.
— Послушайте, обещайте мне не подвергать себя впредь опасности по всяким ничтожным поводам, — попросила молодая актриса. — С каким трепетом, с какой тревогой ждала я вашего возвращения! Я знала, что вы отправились драться с этим герцогом, о котором никто не говорит без страха. Зербина все мне рассказала. Как вы беспощадно терзаете мое сердце! Мужчины забывают о нас, бедных женщинах, когда затронута их гордость; они неумолимо идут своим путем, не слыша рыданий, не видя слез, они слепы и глухи в своей жестокости. А вы знаете, что, если бы вас убили, я тоже умерла бы?..
Дрожь в голосе и слезы, выступившие на глазах Изабеллы при одной мысли об опасности, которой подвергался Сигоньяк, доказывали правдивость ее слов.
Несказанно тронутый этой искренней любовью, барон де Сигоньяк свободной рукой обнял Изабеллу за талию, и она не воспротивилась, когда он привлек ее к себе на грудь и коснулся губами ее склоненного лба, чувствуя у своего сердца прерывистое дыхание молодой женщины.
Так пробыли они несколько минут молча в невыразимом упоении, которым не преминул бы воспользоваться менее почтительный любовник, но Сигоньяку претило злоупотребить целомудренной покорностью, порожденной страданием.
— Утешьтесь, дорогая Изабелла, — с ласковой шутливостью сказал он, — мало того что я не умер, я даже ранил своего противника, хотя он и слывет недурным дуэлистом.
— Я знаю, что у вас благородная душа и твердая рука, — отвечала Изабелла. — Недаром я люблю вас и не боюсь в этом сознаться, понимая, что вы не употребите во зло мою откровенность. Когда я увидела вас таким печальным и одиноким в угрюмом замке, где увядала ваша юность, мной овладела нежная и грустная жалость к вам. Счастье не пленяет меня, мне страшен его блеск. Будь вы счастливы, я боялась бы вас. Во время той прогулки по саду, когда вы раздвигали передо мной колючие ветки кустарника, вы сорвали для меня дикую розу, единственный подарок, который могли сделать мне, — прежде чем спрятать ее за корсаж, я уронила на нее слезу и молча, взамен розы, отдала вам свою душу.
Услышав эти нежные слова, Сигоньяк хотел поцеловать прекрасные уста, произнесшие их; Изабелла высвободилась из его объятий без пугливого жеманства, но с той кроткой решимостью, которую порядочный человек не смеет неволить.
— Да, я люблю вас, — продолжала она, — но по-иному, чем обычно любит женщина; главное для меня — забота о вашей чести, а не собственное наслаждение. Я согласна, чтобы меня считали вашей любовницей, — это единственная причина, могущая оправдать ваше пребывание в труппе бродячих актеров. Что мне до злобных сплетен! Лишь бы я сама сохранила уважение к себе и сознание своей чистоты. Если бы моя девичья честь была запятнана, я не перенесла бы позора. Без сомнения, дворянская кровь, текущая в моих жилах, внушает мне эту гордость, смешную — не правда ли? — в комедиантке. Но, что поделаешь, такая я уродилась.
Как ни был робок Сигоньяк, молодость взяла свое. Эти пленительные признания ничуть не удивили бы самоуверенного фата, его же они переполнили сладостным опьянением и затуманили ему голову. Обычно бледные щеки его запылали, в глазах засверкали огненные искры, в ушах звенело, а сердце, казалось, стучит у самого горла. Конечно, он не подвергал сомнению целомудрие Изабеллы, но полагал, что тут малейшее дерзание восторжествует над ее стыдливостью. Он слышал, что час увенчанной любви бьет лишь раз. Девушка стояла перед ним в ореоле своей сияющей красоты, словно сквозь прекрасную оболочку светилась ее душа, словно это был ангел на пороге любовного рая; он сделал к ней шаг и в судорожном порыве прижал ее к себе.
Изабелла не пыталась сопротивляться, но, откинувшись назад, чтобы избежать поцелуев молодого человека, она обратила к нему взор, полный скорби и укоризны. Прозрачные слезинки, воистину жемчужины невинности, покатились из ее прекрасных голубых глаз по внезапно побелевшим щекам и закапали на губы Сигоньяка, грудь напряглась от сдерживаемых рыданий, потом все тело обмякло, казалось, девушка близка к обмороку.
Барон в смятении опустил ее в кресло, упал перед ней на колени и, сжимая ее покорные руки, молил о прощении, объяснял свой поступок порывом молодости, потерей самообладания, каялся в нем и клялся его искупить безусловным послушанием.
— Вы сделали мне очень больно, — со вздохом промолвила наконец Изабелла. — Я так доверилась вашей деликатности! Неужели недостаточно было вам моего признания в любви? Ведь из самой откровенности его вы могли заключить, что я решилась не уступать своему влечению. Мне казалось, что вы позволите любить себя, как мне хочется, не смущая мою нежность низменными посягательствами. Вы отняли у меня эту уверенность; в слове вашем я не сомневаюсь, но слушаться своего сердца больше не могу. А мне так отрадно было вас видеть, вас слушать, читать ваши мысли по глазам! Я хотела делить с вами горести, предоставив радости другим. В толпе грубых, циничных, распутных мужчин нашелся один, думалось мне, который верит в целомудрие и способен уважать предмет своей любви. Я, презренная актерка, вечно преследуемая пошлыми домогательствами, мечтала о чистой привязанности. Я хотела лишь одного — довести вас до порога счастья, а затем снова скрыться в безвестности. Как видите, я не была чересчур требовательна.
— Прелестная Изабелла, от каждого сказанного вами слова я все сильнее чувствую недостойность своего поведения! — вскричал Сигоньяк. — Я не понял, что у вас ангельское сердце и что я должен целовать следы ваших ног. Но отныне вам нечего меня бояться; супруг сумеет сдержать пыл любовника. У меня есть только мое имя — такое же чистое и незапятнанное, как вы сами. Я предлагаю его вам, если вы удостоите принять его.
Сигоньяк все еще стоял на коленях перед Изабеллой; при этих словах девушка наклонилась к нему и, обхватив его голову руками, в приливе самозабвенной страсти, запечатлела на его губах торопливый поцелуй; затем поднялась и сделала несколько шагов по комнате.
— Вы будете моей женой, — повторил Сигоньяк, опьяненный прикосновением ее уст, свежих, как цветок, жгучих, как пламя.
— Никогда, никогда! — с необычайным воодушевлением ответила Изабелла. — Я покажу себя достойной такой чести, отказавшись от нее. Ах, друг мой! В каком блаженном упоении утопает моя душа! Значит, вы меня уважаете! Вы решились бы с гордо поднятой головой ввести меня в залы, где развешаны портреты ваших предков, в часовню, где покоится прах вашей матери? Я безбоязненно выдержала бы взгляд умерших, которым ведомо все, и девственный венец не был бы ложью на моем челе.
— Как! Вы говорите, что я любим вами, и отвергаете меня и как любовника и как мужа? — воскликнул Сигоньяк.
Вы предложили мне свое имя, этого для меня достаточно. Я возвращаю его вам, на несколько мгновений удержав в своем сердце. Миг один я была вашей женой и никогда не буду больше ничьей. Целуя вас, я мысленно говорила «да». Но это величайшее на земле счастье не для меня. Вы, дорогой мой друг, совершили бы большую ошибку, связав свою судьбу с жалкой комедианткой, которой свет всегда ставил бы в укор театральное прошлое, как бы честно и беспорочно оно ни было. Вам были бы мучительны холодные и презрительные мины, которыми встречали бы меня знатные дамы, а вызвать этих злобных гордячек на дуэль вы бы не могли. Как последний отпрыск знатного рода, вы обязаны вернуть ему величие, отнятое немилостивой судьбой. Когда брошенный мною нежный взгляд принудил вас покинуть родной замок, вы помышляли лишь о пустой любовной интрижке, и это вполне естественно; я же, заглядывая в будущее, думала совсем о другом. Я видела, как вы, побывав при дворе, возвращаетесь домой в великолепной одежде, с назначением на почетную должность; замок Сигоньяк приобретает прежний блеск; мысленно я срывала с его стен плющ, обновляла черепицы на кровлях старых башен, водворяла на места выпавшие камни, вставляла стекла в рамы, золотила стертых аистов на вашем гербе и, проводив вас до границы ваших владений, исчезала с подавленным вздохом.
— Ваша мечта осуществится, благородная Изабелла, но иначе, чем вы говорите, развязка не будет столь печальна. Вы первая, об руку со мной, переступите порог дома, который навеки избавится от трений запустения и козней злого рока.
— Нет, нет, то будет какая-нибудь прекрасная знатная и богатая наследница родовитой фамилии, во всем достойная вас, чтобы вы с гордостью представили ее друзьям и никто бы не мог, злобно ухмыляясь, сказать: «Мне случалось освистать эту особу или похлопать ей».
— Какая жестокость, показав себя столь достойной любви, столь совершенной, отнять у влюбленного всякую надежду! — воскликнул Сигоньяк. — Открыть мне небо и тотчас вновь закрыть его передо мной! Ничего не может быть бесчеловечнее! Но я заставлю вас переменить решение!
— Лучше не пытайтесь, оно непоколебимо, — возразила Изабелла ласково, но твердо. — Отступив от него, я бы стала себя презирать. Довольствуйтесь же самой чистой, самой искренней, самой преданной любовью, какою когда-либо билось женское сердце, но не требуйте ничего больше. Неужто так тягостно быть любимым простушкой, которую многие, по причине дурного вкуса, находят привлекательной, — с улыбкой добавила она, — сам Валломбрез гордился бы этим.
— Всецело отдать себя и наотрез отказать в своей близости, бросить в одну чашу нечто столь сладостное и столь горькое, мед и полынь, — вы одна способны на такое противоречие.
Да, во мне много странностей, — согласилась Изабелла, — это я унаследовала от матери. Надо мириться со мной, какая я есть. А если вы будете настаивать и терзать меня, я найду себе укромное пристанище, где вы меня никогда не найдете. Итак, все решено. Время позднее — ступайте к себе в комнату и переделайте для меня стихи в той пьесе, которую нам предстоит скоро играть: они не подходят ни к моей наружности, ни к моему характеру. Я ваш маленький друг, будьте моим большим поэтом. С этими словами Изабелла достала из ящика бумажный свиток, перевязанный розовой ленточкой, и вручила его барону де Сигоньяку.
— А теперь поцелуйте меня и уходите, — сказала она, подставляя ему щеку. — Вы будете работать для меня, а всякий труд требует вознаграждения.
Воротясь к себе, Сигоньяк долго не мог успокоиться, так взволновала его эта сцена. В одно и то же время он испытывал отчаяние и восторг, сиял и хмурился, был вознесен на небеса и низвергнут в ад. Он плакал и смеялся, во власти самых разноречивых и бурных ощущений: он был окрылен радостным сознанием, что его любит девушка, прекрасная лицом и благородная сердцем, и глубоко удручен уверенностью, что никогда ничего не добьется от нее. Мало-помалу душевная буря улеглась, и к нему вернулось спокойствие. Он перебирал в памяти все сказанное Изабеллой, и нарисованная ею картина восставшего из руин замка Сигоньяк явилась его разгоряченному воображению в самых ярких и живых красках. Ему словно бы привиделся сон наяву.
Фасад дома сиял на солнце белизной, а заново вызолоченные флюгера сверкали на фоне голубого неба. Одетый в богатую ливрею Пьер стоял между Миро и Вельзевулом под гербом портала в ожидании своего господина. Над трубами, бездействовавшими столько времени, вился веселый дымок, показывая, что дом полон многочисленной челяди и довольство вновь воцарилось в нем.
А сам он, барон де Сигоньяк, в изящном и пышном костюме, на котором сверкало и переливалось золотое шитье, вел к жилищу своих предков Изабеллу, чей царственный наряд был заткан гербами, судя по цветам и эмалям, принадлежавшими одному из знатнейших домов Франции. На голове ее блистала герцогская корона. Но молодая женщина не стала от этого спесивее, она была по-прежнему мила и скромна, а в руке держала ту маленькую розу — подарок Сигоньяка, несмотря на время не утратившую свежести, и на ходу вдыхала ее аромат.
Когда молодая чета приблизилась к замку, почтенный и величавый на вид старец с орденскими звездами на груди, лицом совершенно незнакомый Сигоньяку, выступил из-под портала, очевидно с намерением приветствовать новобрачных. Но каково было удивление барона, когда подле старца он увидел молодого человека весьма горделивой осанки, чьих черт он сперва не разглядел, но потом как будто узнал в нем герцога де Валломбреза. Молодой человек дружелюбно, безо всякого высокомерия, улыбался ему. Вилланы восторженно восклицали: «Да здравствует Изабелла, да здравствует Сигоньяк!»
Сквозь гул приветственных кликов послышался звук охотничьего рога; вслед за тем из чащи на лужайку, подстегивая строптивого иноходца, выскочила амазонка, чертами очень схожая с Иолантой. Она потрепала рукой шею коня, сдержала его аллюр и медленно проехала мимо замка, — Сигоньяк невольно проводил взглядом блистательную наездницу, чья бархатная юбка раздувалась крылом, но чем дольше он смотрел, тем бледнее и бесцветнее становилось видение. Теперь оно стало прозрачным, как тень, и сквозь его полустертые очертания проступал окрестный ландшафт. Иоланта испарилась, как смутное воспоминание перед живым образом Изабеллы. Настоящая любовь развеяла первые юношеские грезы.
И правда, в своем ветхом замке, где глазу не на чем было отдохнуть от зрелища опустошения и нищеты, барон влачил мрачное, дремотное существование скорее призрака, нежели живого человека, пока не встретил впервые Иоланту де Фуа, которая охотилась среди пустынных ланд. До тех пор он видел лишь крестьянок, обгоревших до черноты, и чумазых пастушек — самок, а не женщин; чудесное видение ослепило его, словно он глядел на солнце. Даже когда он закрывал глаза, перед ним все время витало лучезарное лицо, казалось, принадлежавшее обитательнице другого мира. Иоланта и в самом деле была бесподобно хороша и способна пленить куда более искушенного ценителя, нежели бедный дворянчик, разъезжающий на тощем одре в непомерно широкой отцовской одежде. Но по улыбке, вызванной у Иоланты его смехотворным облачением, Сигоньяк понял, как нелепо питать малейшую надежду в отношении этой дерзкой красавицы. Он избегал встреч с Иолантой или старался смотреть на нее, не будучи замеченным ею, откуда-нибудь из-за дерева или плетня у проселочной дороги, по которой она обычно проезжала с целой свитой поклонников, казавшихся барону в его самоуничижении безжалостно красивыми, великолепно разодетыми и неподражаемо галантными. В такие дни он возвращался к себе в замок с отравленной горечью душой, бледный, измученный, пришибленный, как после тяжкой болезни, и часами просиживал в углу у очага, не произнося ни слова, опершись подбородком на РУКУ.
С появлением в замке Изабеллы обрела цель та смутная жажда любви, которая терзает юность, заполняя долгие досуги погоней за химерами. Обаяние, доброта, скромность молодой актрисы затронули самые нежные струны в душе Сигоньяка и внушили ему подлинную любовь. Изабелла залечила рану, нанесенную презрением Иоланты.
Очнувшись от несбыточных мечтаний, Сигоньяк пожурил себя за леность и не без усилия сосредоточил внимание на пьесе, которую дала ему Изабелла, попросив подправить некоторые места. Он вычеркнул стихи, не соответствующие образу молодой актрисы, и заменил их другими; он заново переделал любовный монолог героя, сочтя его холодным, натянутым, высокопарным, слишком уж книжным. Текст, что он написал взамен, бесспорно, звучал искреннее, пламеннее, нежнее; мысленно барон адресовал его самой Изабелле.
Работа его затянулась далеко за полночь, но оказалась успешной, так что он и сам остался доволен, и наутро был вознагражден ласковой улыбкой Изабеллы, которая тотчас же принялась заучивать стихи, переделанные ее поэтом, как она называла его. Ни Арди, ни Тристан не могли бы ей так угодить.
На вечернем представлении наплыв публики был больше, чем накануне, и зрители чуть было не задавили швейцара, порываясь протиснуться все разом, из страха не найти в зале места, хоть они и заплатили за билеты. Слава капитана Фракасса, победителя Валломбреза, росла час от часа, принимая фантастические, баснословные размеры; ему охотно приписали бы деяния Геркулеса и подвиги всех двенадцати рыцарей Круглого стола. Некоторые молодые дворяне из числа врагов герцога намеревались свести дружбу с отважным дуэлистом и, сложившись по шесть пистолей на брата, устроить в его честь пирушку в кабачке. Многие дамы, сочиняя пылкие любовные послания, адресованные ему, побросали в огонь не один неудачный черновик. Словом, он вошел в моду. Он был у всех на языке. Внезапный успех мало радовал его, он предпочел бы по-прежнему пребывать в безвестности, но уклониться от этой шумихи не мог. Значит, надо было терпеть; на минуту ему пришло в голову попросту спрятаться, больше не показываться на сцене. Однако, представив себе, в какое отчаяние придет Тиран, ошеломленный огромными сборами, он отказался от своего намерения. Разве благородные комедианты, поддержавшие его в нужде, не имели права пожинать теперь плоды его непрошеной популярности? Итак, он смирился, надел свою маску, опоясался мечом, перекинул плащ через плечо и стал ждать, когда помощник режиссера позовет его на выход.
Так как сборы были отличные и публика многочисленная, Ирод показал себя щедрым директором, распорядившись удвоить количество свечей, и зала вспыхнула огнями не хуже, чем на придворном спектакле. Надеясь пленить капитана Фракасса, местные дамы явились во всеоружии, как говорят в Риме — in fiocchi[8]. Ни один алмаз не остался в футляре, все это сверкало и переливалось на персях, более или менее белых, на головках, более или менее красивых, но одинаково одушевленных горячим желанием понравиться.
Пустовала одна только ложа, очень выгодно расположенная на самом виду, и все взоры с любопытством обращались к ней. Дворяне и горожане, занявшие свои места за час до начала, удивлялись, почему замешкались обладатели ложи. Ирод, глядя в щелку занавеса, медлил с тремя традиционными ударами, должно быть, дожидаясь, чтобы пожаловали эти пренебрежительные спесивцы, ибо ничто так не раздражает на театре, как запоздалые зрители, которые, войдя, двигают стулья, шумно усаживаются и отвлекают внимание от сцены.
Когда занавес уже поднимался, место в ложе заняла молодая женщина, а подле нее с трудом опустился в кресло пожилой господин, весьма благообразной и патриархальной наружности. Длинные седые волосы пышными завитками ниспадали с густых еще висков, но на темени уже блестела плешь цвета слоновой кости. Обрамленные серебристыми прядями щеки, то ли от жизни на свежем воздухе, то ли от раблезианского поклонения Бахусу, приобрели багровую окраску. Все еще черные кустистые брови нависали над глазами, которые, несмотря на годы, не утратили живости и временами резво поблескивали в кольцах темных морщинок. Вокруг чувственного толстогубого рта топорщились наподобие запятых усы и бородка-эспаньолка, вполне заслуживающая названия коготка, которое в старинном героическом эпосе неизменно присваивается бороде Карла Великого; двойной подбородок переходил в тучную шею, и общий облик был бы довольно заурядным, если бы его не облагораживал взгляд, не допускавший сомнений в родовитости старца. Воротник венецианского гипюра был откинут на камзол из золотой парчи, ослепительно-белая сорочка, вздутая на объемистом животе, спускалась, покрывая пояс, до коричневых бархатных панталонов; плащ того же цвета, отороченный золотым галуном, был небрежно наброшен на спинку кресла. Не составляло труда узнать в этом старце дядю-опекуна, низведенного на роль дуэньи капризной племянницей, в которой он души не чаял. При виде их обоих — ее, стройной и грациозной, и его, грузного и хмурого, — приходило на ум сравнение с Дианой, которая таскает на поводу старого прирученного льва, когда он предпочел бы спать в своем логове, вместо того чтобы плестись за ней повсюду, но принужден покоряться.
Изысканный наряд молодой девушки свидетельствовал о ее богатстве и высоком положении. Платье цвета морской волны, который могут позволить себе лишь блондинки, уверенные в цвете своего лица, оттеняло снежную белизну целомудренно приоткрытой груди, а алебастрово-прозрачная шея, как пестик из лепестков лилии, выступала из плоеного ажурного воротника. Серебристая парчовая юбка переливалась на свету, а индийские жемчужины вспыхивали блестящими точками по краю платья и по вырезу корсажа. Волосы, завитые в букольки на висках и на лбу, напоминали при огнях живое золото; чтобы достойно описать их, понадобилось бы по меньшей мере двадцать сонетов со всеми итальянскими concetti[9] и с испанскими agudezas[10] в придачу. Вся зала была заворожена красотой девушки, хотя она еще не снимала маски, но то, что было видно, служило порукой за остальное; чистая, нежная линия подбородка, безупречные очертания ярко-малиновых губ, выигрывавшие от соседства с черным бархатом, продолговатый изящный и тонкий овал лица, совершенная форма миниатюрного ушка, как будто выточенного из агата самим Бенвенуто Челлини{117}, — достаточно перечисленных прелестей, чтобы вызвать зависть даже у богини.
Вскоре из-за жары в зале или из желания оказать смертным милость, которой они вовсе недостойны, молодая богиня сняла докучный кусок картона, наполовину скрывавший ее ослепительную красоту. Взорам зрителей предстали прекрасные глаза, светящиеся прозрачным лазоревым блеском между темным золотом длинных ресниц; не то греческий, не то римский нос и щеки, чуть тронутые румянцем, рядом с которым цвет самой свежей розы показался бы землистым. Это была Иоланта де Фуа.
Еще раньше, чем она сняла маску, ревнивые женские сердца почувствовали, что успех их сорван, а сами они обречены обратиться в дурнушек и древних старух.
Обведя спокойным взором потрясенную залу, Иоланта облокотилась о барьер ложи, оперлась щекой на руку и застыла в такой позе, которая прославила бы любого ваятеля, если бы только мастер, будь он грек или римлянин, мог вообразить себе что-либо похожее на этот образец небрежной грации и врожденного изящества.
— Сделайте милость, дядюшка, не вздумайте заснуть, — вполголоса сказала она старому вельможе, который тотчас же выпрямился в кресле и стал таращить глаза, — это было бы нелюбезно в отношении меня и противно законам старинной учтивости, которую вы не устаете восхвалять.
— Будьте покойны, милая племянница, когда мне окончательно прискучит пошлая и глупая болтовня этих фигляров, со всеми их страстями, до которых мне дела нет, я взгляну на вас, и сна как не бывало.
Пока Иоланта обменивалась с дядей этими замечаниями, капитан Фракасс, расставляя ноги циркулем, дошел до рампы и остановился с самым вызывающим и заносчивым видом, свирепо вращая глазами.
Бурные рукоплескания раздались со всех сторон при появлении общего любимца и на миг отвлекли внимание от Иоланты. Без сомнения, Сигоньяк не был тщеславен и в своей дворянской гордости презирал ремесло комедианта, на которое обрекла его нужда. Однако мы не беремся утверждать, что самолюбие его ничуть не было польщено таким шумным и горячим приемом: славе гистрионов, гладиаторов и мимов нередко завидовали люди, поставленные очень высоко, — римские императоры, кесари, владыки мира, не гнушавшиеся оспаривать на арене цирка или на театральных подмостках лавры певцов, актеров, борцов и возниц, хотя и так сами были многократно увенчаны, чему известнейшим примером служит Нерон Энобарб{118}.
Когда рукоплескания утихли, капитан Фракасс окинул залу тем взглядом, каким актер неизменно проверяет, все ли места заняты, и старается угадать, веселое или мрачное расположение духа у зрителей, и на этом строит свою игру, позволяя себе большие или меньшие вольности.
Вдруг барон застыл, как громом пораженный: огни свеч будто превратились в огромные солнца, затем показались ему черными кругами на ослепительном фоне. Головы зрителей, которые он раньше смутно различал у своих ног, расплылись в сплошной туман. Его с ног до головы обдало жаром, а вслед за тем — леденящим холодом. Ноги, как ватные, подогнулись под ним, и он словно погрузился по пояс в настил сцены; во рту пересохло, горло сжали железные тиски, как преступнику испанская гаррота, а из головы, будто птицы из раскрытой клетки, беспорядочной испуганной стаей, сталкиваясь и путаясь между собой, вылетели все слова, какие ему нужно было произнести. Хладнокровие, выдержка, память вмиг покинули барона. Казалось, незримая молния ударила в него, еще немного — и он упал бы замертво прямо на рампу. Он увидел в ложе ослепительную и невозмутимую Иоланту де Фуа, пристально смотревшую на него своими прекрасными синими глазами.
О, позор! О, проклятье! О, злая насмешка судьбы! Незадача, несносная для благородной души! В шутовском наряде, в низменной, недостойной роли увеселителя черни кривляться на глазах у столь надменной, столь заносчивой, столь высокомерной красавицы, когда хочется совершать перед ней возвышенные, героические, сверхчеловеческие деяния, дабы унизить ее и сломить ее гордыню! И не иметь возможности скрыться, исчезнуть, провалиться в самые недра земли! Первым движением Сигоньяка было бежать опрометью, продырявив заднюю декорацию головой, как баллистой; но у него на ногах словно оказались те свинцовые подошвы, в которых, как говорят, упражняются скороходы, чтобы обрести большую легкость… Он прирос к полу и стоял, раскрыв рот, растерянный, смятенный, к великому изумлению Скапена, который подумал, что капитан Фракасс забыл роль, и шепотом подсказывал ему первые слова монолога.
Публика, решив, что актер, прежде чем начать, ждет новых рукоплесканий, принялась опять бить в ладоши, топать ногами, словом, подняла такой шум, какого еще не слыхивали на театре. Это дало Сигоньяку время прийти в себя: сделав над собой героическое усилие, он вполне овладел своими способностями. «Что ж, будем хотя бы на высоте своего позорного положения, — внушил он себе, твердо становясь на ноги, — недостает еще, чтобы меня в ее присутствии освистали, забросали гнилыми яблоками и тухлыми яйцами. Быть может, она даже не узнала меня под этой гнусной личиной, — кто поверит, что один из Сигоньяков ходит обряженный в красное с желтым, как ученая обезьяна! Итак, смелей, не посрамим себя! Если буду хорошо играть, она мне похлопает, а это уже немалая победа, ведь на такую привередницу угодить нелегко».
Все эти соображения промелькнули в голове Сигоньяка быстрее, чем нам удалось их записать, ибо перу не поспеть за мыслью, и вот он уже произносил свой главный монолог с такими причудливыми раскатами голоса, такими неожиданными интонациями, с таким безудержным комическим задором, что публика разразилась восторженными криками, и даже сама Иоланта невольно улыбнулась, хоть и твердила, что не понимает вкуса в подобном шутовстве. Ее дядюшка, толстый командор, и не помышлял о сне, он выражал полное одобрение и хлопал в ладоши, не щадя своих подагрических рук. А несчастный Сигоньяк от отчаяния, казалось, старался преувеличенным кривлянием, шутовством и фанфаронством оплевать самого себя и довести издевательство судьбы до крайних пределов; с безумным, яростным весельем попирал он свое достоинство, дворянскую гордость, уважение к себе и память предков.
«Ты можешь торжествовать, злой рок, нельзя быть униженным сильнее, пасть глубже, чем я, — думал он, получая пощечины, щелчки и пинки, — ты создал меня несчастным! Теперь ты делаешь меня смешным! Ты подло выставляешь меня на позор перед этой гордой аристократкой. Чего же тебе надобно еще?»
Минутами гнев обуревал его, и он выпрямлялся под ударами Леандра с таким грозным и свирепым видом, что тот в страхе отступал, но тут же, опомнившись, снова входил в характер роли, дрожал всем телом, выбивал зубами дробь, трясся на хлипких ногах, заикался и, к вящему удовольствию зрителей, проявлял все признаки подлейшей трусости.
Такие резкие скачки поведения показались бы нелепыми не в столь многогранной роли, но публика приписывала их вдохновению актера, всецело слившегося с образом действующего лица, и очень их одобряла. Одной Изабелле было ясно, в чем причина смятения Сигоньяка, — в присутствии среди публики дерзкой охотницы, чьи черты очень прочно врезались ей в память. Играя свою роль, она украдкой поглядывала на ложу, где с высокомерным спокойствием уверенного в себе совершенства восседала гордая красавица, которую молодая актриса в смирении своем не смела назвать соперницей. Она находила горькую усладу в сознании ее неоспоримого превосходства, мысленно утешая себя тем, что ни одна женщина не могла бы сравниться в прелестях с этой богиней. Глядя на царственную красоту Иоланты, она понимала теперь безрассудную любовь, которую внушают иногда простолюдинам несравненные чары какой-нибудь юной королевы, явившейся народу в апогее славы во время публичной церемонии, — любовь, доводящую до безумия, до тюрьмы и казни.
А сам Сигоньяк дал себе слово не глядеть на Иоланту, чтобы в минутном порыве, потеряв над собой власть, не совершить какого-нибудь дикого поступка и публично не опозорить себя. Напротив, он старался найти успокоение, когда тому не препятствовала роль, подолгу глядя на кроткую и добрую Изабеллу. Буря в его душе стихала при виде ее прелестного личика, затуманенного налетом грусти из-за докучной тирании отца, который, по ходу пьесы, хотел насильно выдать ее замуж; любовь одной искупала презрение другой. Он вновь обретал уважение к себе, что давало ему силы продолжать игру.
Наконец пытка прекратилась. Когда по окончании пьесы Сигоньяк, задыхаясь, сбросил за кулисами маску, остальные актеры были поражены тем, как разительно изменился он в лице. Он был смертельно бледен и, точно безжизненное тело, упал на стоявшую рядом скамейку. Видя, что он близок к обмороку, Блазиус принес ему фляжку спиртного, сказав, что нет лучше средства в таких случаях, чем глоток-другой доброго вина. Сигоньяк жестом показал, что не хочет ничего, кроме воды.
— Вредная привычка, пагубная ошибка в диете, — заметил Педант, — вода пригодна только для лягушек, рыб и уток, но никак не для людей; по аптечному образцу на графинах с водой следовало бы писать: «Для наружного употребления». Я мигом отдал бы богу душу от одного глотка этого пресного пойла.
Доводы Блазиуса не помешали барону выпить целый кувшин. От свежей влаги он совсем пришел в чувство и уже не так растерянно оглядывался по сторонам.
— Вы играли превосходно и вдохновенно, — начал Ирод, приближаясь к Сигоньяку. — Но нельзя так растрачивать себя. Иначе вы быстро сгорите на этом огне. Искусство комедианта в том и состоит, чтобы, сохраняя внутреннее спокойствие, изображать лишь видимость чувств. Надо, чтобы подмостки горели под ним, а сам он был холоден и трезв, поднимая бурю страстей. Ни один актер так живо не передавал еще апломб, наглость и глупость хвастуна Матамора, а сумей вы повторить сегодняшнюю импровизацию, вам по праву надо бы отдать пальму первенства в комическом амплуа.
— Должно быть, я уж слишком хорошо вошел в свою роль! — с горечью ответил барон. — Я и сам чувствовал себя препотешным шутом в той сцене, когда Леандр продырявливает гитару о мою голову.
— Ваша правда, вы умудрились состроить донельзя смешную и свирепую гримасу. Даже столь гордая, знатная и рассудительная особа, как мадемуазель Иоланта де Фуа, соблаговолила улыбнуться. Я видел это собственными глазами.
— Я очень польщен, что мне удалось развлечь эту надменную красавицу! — весь вспыхнув, промолвил Сигоньяк.
— Простите меня, — поспешил сказать Тиран, заметив, как он покраснел. — Успех, опьяняющий нас, бедных комедиантов по ремеслу, должен быть безразличен человеку вашего звания, стоящему выше самого лестного одобрения.
— Вы ничуть не обидели меня, благородный Ирод, — ответил Сигоньяк, протягивая Тирану руку. — Все, что ни делаешь, надо делать хорошо. Я лишь невольно вспомнил, что в юношеских своих мечтах сулил себе успехи иного рода.
Изабелла, переодевшись для следующей роли, прошла мимо Сигоньяка и, прежде чем выйти на сцену, бросила ему взгляд ангела-утешителя, исполненный такой нежности, сострадания и любви, что он выкинул из головы Иоланту и перестал чувствовать себя несчастным, — от этого божественного бальзама рана, нанесенная его гордости, затянулась хотя бы на время, ибо такого рода раны никогда не перестают кровоточить.
Маркиз де Брюйер находился на своем посту и, усердно хлопая Зербине во время представления, не преминул все же пойти поздороваться с Иолантой, которую давно знал и сопровождал иногда на охоту. Не называя барона, он рассказал ей о дуэли капитана Фракасса с герцогом де Валломбрезом, подробности которой в качестве секунданта одного из противников знал досконально.
— Вы напрасно скрытничаете, — заметила Иоланта, — я сразу угадала, что капитан Фракасс не кто иной, как барон де Сигоньяк. Я сама видела, как он уезжал из своей совиной башни за этой вертихвосткой, бродячей фигляркой, которая на сцене изображает из себя елейную скромницу, — добавила она с деланным смешком. — Кстати, он ведь побывал у вас в замке вместе с актерами. Судя по его глуповатому виду, я никак не ожидала, что он окажется отменным комедиантом и отважным дуэлистом.
Беседуя с Иолантой, маркиз оглядывал залу, которая отсюда, из ложи, была видна лучше, чем с его обычного места в оркестре, где ему удобней было наблюдать игру Зербины. Внимание его остановилось на замаскированной даме, которой он до сих пор не замечал, потому что сам все время сидел в первом ряду, спиной к зрителям, избегая оборачиваться и быть узнанным. Хотя дама была, можно сказать, вся окутана черными кружевами, в позе и облике таинственной красавицы что-то смутно напомнило ему маркизу, его супругу. «Ба! Ведь она должна сейчас быть в замке Брюйер, где я ее оставил», — мысленно воскликнул он. Как бы вознаграждая себя за то, что лицо у нее скрыто, незнакомка кокетливо положила на барьер ложи руку, и в этот миг на безымянном пальце сверкнул крупный алмаз, который имела обыкновение носить маркиза; озадаченный столь явной уликой, маркиз покинул Иоланту и ее вельможного дядюшку с намерением убедиться во всем на месте, проявив неожиданное, но, как оказалось, недостаточно стремительное рвение, ибо, когда он достиг цели, птичка уже выпорхнула из гнезда. Он спугнул даму, и она поспешила исчезнуть, что немало смутило и раздосадовало его, хоть он и был снисходительным супругом.
— Неужто она влюблена в этого Леандра, — пробормотал он, — счастье, что я авансом велел отдубасить его и могу считать себя удовлетворенным.
Эта мысль вернула ему обычную безмятежность, и он отправился за кулисы. Субретка уже удивлялась, почему он медлит, и встретила его с притворным гневом, которым подобного рода женщины подстегивают мужской пыл.
После спектакля Леандр, в свою очередь, обеспокоенный тем, что маркиза исчезла посреди представления, поспешил на Церковную площадь, где все эти дни его поджидал паж с каретой. Нашел он одного только пажа, который, вручив ему письмо и довольно увесистую шкатулку, так быстро скрылся в темноте, что актер мог бы счесть его появление плодом собственной фантазии, если бы не держал в руках послание и подарок. Окликнув чьего-то слугу, который с фонарем шел в один из соседних домов, чтобы проводить из гостей своего хозяина, Леандр нетерпеливой дрожащей рукой сломал печать и при свете фонаря, подставленного лакеем ему под нос, прочитал следующие строки:
«Дорогой Леандр, боюсь, что муж узнал меня в театре, невзирая на маску; он так пристально уставился в мою ложу, что я поспешила удалиться, дабы не быть застигнутой им. Осторожность, противница любви, предписывает нам не встречаться нынче ночью в павильоне. Вас могут выследить и, чего доброго, убить, не говоря уже об опасностях, которым я подверглась бы сама. В ожидании более счастливого и благоприятного случая не откажите принять эту золотую цепь в три ряда, которую вручит вам мой паж. Всякий раз, как вы будете ее надевать на шею, пусть она напоминает вам ту, что никогда не забудет и не разлюбит вас.
Та, что для вас зовется просто Марией.»«Увы, значит, кончился мой прекрасный роман, — подумал Леандр, сунув несколько мелких монет лакею, который светил ему фонарем. — А жаль! Ах, прелестная маркиза! Как долго бы я вас любил! — продолжал он про себя, когда лакей удалился. — Но завистливый рок воспротивился моему счастью! Будьте покойны, сударыня, я не наброшу на вас тень своей нескромной страстью. Жестокий муж не задумался бы извести меня и пронзить кинжалом вашу белоснежную грудь. Нет, нет, не надо смертоубийств; зверства хороши для трагедий, но не для обыденной жизни. Пусть сердце мое изойдет кровью, я не сделаю попытки вновь увидеть вас и удовольствуюсь тем, что буду лобызать эту цепь, менее хрупкую и более весомую, чем та, которая на миг связала нас. Сколько она может стоить? Не меньше тысячи дукатов, судя по ее весу! Как я прав, что тяготею к знатным дамам! Единственное неудобство в том, что, угождая им, рискуешь быть побитым палками или проткнутым шпагой. По правде говоря, приключение оборвалось вовремя, и горевать нам грешно». Горя нетерпением посмотреть, как будет блестеть и переливаться при огнях его золотая цепь, Леандр направился в «Герб Франции» довольно резвым шагом для получившего отставку любовника.
Вернувшись к себе в комнату, Изабелла заметила небольшой ларец, поставленный на видном месте, посреди стола, чтобы привлечь к себе самый рассеянный взгляд. Сложенная записка лежала под одной из ножек ларца, содержимое которого, очевидно, было весьма ценным, ибо и сам он представлял собой настоящее сокровище. Записка не была запечатана, и в ней дрожащей, еще неверной рукой было выведено: «Для Изабеллы».
Краска негодования залила лицо актрисы при виде даров, против которых устояла бы не всякая добродетель. Не поддавшись женскому любопытству и не открыв ларца, Изабелла позвала дядюшку Било, который еще не ложился, приготовляя ужин для компании знатных кутил, и приказала ему возвратить шкатулку владельцу, так как она не желает ни минуты держать ее у себя.
Удивленный трактирщик, пустив в ход божбу, такую же заветную для него, как Стикс{119} для олимпийцев, принялся уверять, что понятия не имеет, кто принес ларец, хотя и догадывается о его происхождении. И действительно, герцог обратился к тетке Леонарде, полагая, что старая карга преуспеет там, где сам черт себе ногу сломит; она-то втихомолку и поставила драгоценный ларец на стол, воспользовавшись отсутствием Изабеллы. Но в данном случае мерзкая старуха торговала непродажным товаром, чересчур полагаясь на растлевающую власть драгоценных камней и золота, которой подпадают лишь низкие души.
— Унесите эту гнусную шкатулку отсюда, — потребовала Изабелла у Било, — и отдайте тому, кто ее прислал, а главное, не говорите ни слова капитану; хотя я не чувствую за собой никакой вины, он может выйти из себя и поднять шум, от которого пострадает мое доброе имя.
Дядюшка Било был потрясен бескорыстием молодой актрисы, которая даже не взглянула на украшения, способные вскружить голову любой герцогине, и с презрением отсылала их назад, словно щебень или пустой орех; уходя, он отвесил ей почтительный поклон, будто королеве, — так поразила его стойкая добродетель девушки.
После его ухода лихорадочно возбужденная Изабелла распахнула окно, чтобы ночной прохладой остудить пылающий лоб и щеки. Сквозь купы деревьев на темном фасаде особняка Валломбрезов мерцал огонек, должно быть, в покоях раненого герцога. Улочка с виду была пуста. Тем не менее Изабелла изощренным слухом актрисы, привыкшей улавливать шепот суфлера, услышала сказанные вполголоса слова:
— Она еще не ложилась.
Недоумевая, что означают эти слова, она слегка высунулась из окна, и ей показалось, будто у стены притаились во мраке две человеческие фигуры, закутанные в плащи и неподвижные, точно каменные статуи на портале собора; расширенными от страха глазами она, несмотря на темноту, разглядела в другом конце улицы третью фигуру, очевидно, стоявшую на страже.
Заметив, что за ними следят, загадочные личности исчезли или спрятались ненадежнее, потому что Изабелла больше не видела и не слышала ничего. Устав караулить и решив, что она поддалась ночным кошмарам, молодая актриса бесшумно закрыла окно, заперла дверь на задвижку, поставила свечу возле своей кровати и легла, продолжая испытывать смутный страх, как ни старалась она убедить себя доводами разума. В самом деле, чего ей бояться в многолюдной гостинице, рядом с друзьями, когда дверь ее комнаты закрыта на задвижку и замкнута на тройной замок?.. Какое отношение имели к ней призраки, мелькнувшие у стены? Это были, конечно, воришки, поджидавшие добычу и потревоженные светом из ее окна.
Несмотря на столь здравые рассуждения, она никак не могла успокоиться. Если бы не опасения, что ее высмеют, она бы встала и пошла ночевать к кому-либо из товарок, но Зербина была не одна, Серафина ее недолюбливала, а Дуэнья внушала ей инстинктивную гадливость. Итак, она осталась у себя, во власти неизъяснимых страхов.
От малейшего скрипа мебели, еле слышного потрескивания оплывшей свечи, с которой не сняли нагара, она вздрагивала и глубже зарывалась под одеяло из боязни увидеть в темном углу какое-нибудь жуткое чудовище; потом, осмотрев комнату и не увидев ничего подозрительного или сверхъестественного, она понемногу овладела собой.
В одной из стен под самым потолком было пробито слуховое окошко, по всей вероятности, назначенное освещать темный чулан. При тусклом огоньке свечи это окошко на серой стене казалось исполинским зрачком, будто следившим за каждым движением молодой женщины. Изабелла не могла оторвать взгляда от этой темной глубокой дыры, загороженной, впрочем, решеткой из двух брусьев крест-накрест. Значит, с этой стороны бояться было нечего. Вдруг Изабелле почудилось, что там, в темноте, блестят два человеческих глаза. Вскоре через узкое отверстие у пересечения брусьев просунулась всклокоченная черная голова и выглянуло смуглое лицо; затем последовала худенькая рука, с трудом протиснулись плечи, обдираясь об острое железо, и девочка лет восьми — десяти ухватилась руками за край окна, вытянулась всем своим щуплым тельцем вдоль стены и бесшумно, как падает на землю перышко или снежинка, спрыгнула на пол.
Застывшая, окаменевшая от ужаса Изабелла не шевелилась, из чего девочка заключила, что она спит, но, подойдя к постели, чтобы убедиться, крепок ли ее сон, остановилась с выражением величайшего изумления на смуглом личике.
— Дама с ожерельем! — пролепетала она, дотрагиваясь до бус на своей худенькой, коричневой от загара шее. — Дама с ожерельем!
Изабелла, полумертвая от страха, в свою очередь, узнала девочку из харчевни «Голубое солнце» и с большой дороги по пути в замок Брюйер, где та подвизалась вместе с Агостеном. Она попыталась позвать на помощь, но девочка закрыла ей рот рукой.
— Не кричи и не бойся: Чикита сказала, что никогда не перережет тебе горло, — ты ведь подарила ей ожерелье, которое она хотела украсть.
— Но что тебе здесь понадобилось, на мое горе? — спросила Изабелла, немного успокоившись при виде этого слабого и немощного существа, которое не могло быть очень уж опасно; вдобавок маленькая дикарка питала к ней какую-то своеобразную благодарность.
— Мне надо отодвинуть засов, который ты задвигаешь каждый вечер, — заявила Чикита невозмутимейшим тоном, явно не сомневаясь в законности такого поступка. — Я тонкая и увертливая, как ящерица. Нет такой щели, в которую я бы не прошмыгнула.
— А зачем тебе велели отпереть дверь? Чтобы обворовать меня?
— Ну, нет! — с презрением возразила Чикита. — Это нужно, чтобы мужчины вошли в комнату и унесли тебя.
— Боже мой, я погибла! — простонала Изабелла, в отчаянии всплеснув руками.
— Нет, этого не будет, — поспешила уверить ее Чикита, — засова я не отодвину, а взломать дверь они не посмеют: на шум сбегутся люди и схватят их, — не такие они дураки!
— Но я бы стала кричать, цеплялась бы за стены, и меня бы услышали.
— Если в рот засунуть кляп, криков не слышно, а если человека завернуть в плащ, он не может пошевельнуться, — объяснила Чикита с гордостью художника, который посвящает профана в тайны своего искусства. — Это проще простого. А еще подкупили конюха, чтобы он открыл ворота…
— Кто задумал этот гнусный план? — спросила несчастная актриса, содрогаясь от одной мысли, какая опасность ей грозила.
— Тот знатный господин, что дал деньги, много-много денег! Вот сколько — полные пригоршни! — ответила Чикита, и глаза ее загорелись свирепым и алчным блеском. — Все равно, ты подарила мне жемчуг, и я им всем скажу, что ты не спала, что у тебя в комнате был мужчина и дело не выгорело. Тогда они уйдут. Дай поглядеть на тебя. Ты красивая, я тебя люблю, крепко люблю, почти как Агостена. Вон он где! — воскликнула она, заметив на столе найденный в фургоне кинжал. — Это нож, который я потеряла, нож моего отца. Оставь его себе, это добрый клинок:
Змеи гремучей страшно жало, Но нет лекарства от кинжала.Посмотри, надо повернуть кольцо вот так, а удар наносить снизу вверх, — так лезвие лучше входит в тело. Носи его всегда за пазухой, а когда злой человек вздумает тебя обидеть, — раз! — и ты вспорешь ему живот. — Свои слова девочка подкрепляла соответствующими жестами.
Урок обращения с кинжалом, данный посреди ночи полубезумной дикаркой из разбойничьей шайки, вся эта неправдоподобная ситуация произвели на Изабеллу впечатление кошмара, который тщетно пытаешься с себя стряхнуть.
— Крепко зажми нож в кулаке и держи его вот так. Никто тебе ничего не сделает. А теперь я ухожу! Прощай, помни Чикиту!
Маленькая сообщница Агостена пододвинула стул к стене, взобралась на него, встала на цыпочки, схватилась за перекладину, изогнулась, упершись ступнями в стену, и вспрыгнула на край окошка, через которое скрылась, напевая себе под нос нечто вроде песенки в прозе:
— Чикита сквозь щель прошмыгнет, пропляшет на зубьях решетки, а то и на битой бутылке, и даже ноги не поранит. Попробуй, поймай-ка ее!
Изабелла едва дождалась утра, ни на миг не сомкнув глаз, настолько взволновало ее странное происшествие; но остаток ночи прошел спокойно.
Однако же, когда девушка спустилась к завтраку в залу, все актеры были поражены ее бледностью и синевой вокруг глаз. Уступая настойчивым расспросам, она рассказала о ночном приключении. Взбешенный Сигоньяк собрался по меньшей мере предать огню и мечу дом герцога Валломбреза, которому, не задумавшись, приписал это подлое покушение.
— Мое мнение таково, — начал Блазиус, — надо срочно свернуть декорации и постараться сгинуть или спастись в океане, который зовется Парижем, ибо дело принимает плохой оборот.
Остальные согласились с Педантом, и отъезд был назначен на следующий день.
XI НОВЫЙ МОСТ
Слишком утомительно и скучно было бы этап за этапом описывать весь путь до великого города Парижа, который проделала повозка комедиантов, тем более что в дороге и не произошло ничего примечательного. Актеры сколотили кругленькую сумму и путешествовать могли без задержек, меняя лошадей и проделывая большие перегоны. В Type и в Орлеане труппа останавливалась и давала по нескольку представлений, и сбор с них удовлетворил Ирода, в качестве директора и казначея более всего чувствительного к денежному успеху. Блазиус перестал тревожиться и сам уже посмеивался над страхами, которые внушал ему мстительный нрав Валломбреза. Но Изабелла все еще дрожала, вспоминая неудавшееся похищение, и хотя комнату на постоялых дворах она теперь делила с Зербиной, ей не раз виделось во сне, что дикарка Чикита высовывает встрепанную голову из темной дыры слухового окошка и скалится всеми своими белыми зубами. В испуге она с криком просыпалась, и подруга едва могла ее успокоить. Ничем внешне не выказывая своего беспокойства, Сигоньяк непременно старался ночевать в соседней комнате и спал одетым, положив шпагу под подушку, на случай ночного нападения. Днем он в качестве дозорного по большей части шагал пешком впереди фургона, особенно если по краям дороги попадались кусты, изгороди, обломки стен или заброшенные жилища, удобные для засады. Завидев кучку путников, подозрительных на вид, он отступал к фургону, где Тиран, Скапен, Блазиус и Леандр составляли внушительный гарнизон, при том что из двух последних один был стар, а другой — труслив, как заяц. Случалось, что в качестве опытного полководца, умеющего предвосхитить обходные маневры врага, он держался в арьергарде, ибо опасность могла явиться и оттуда. Но все предосторожности были излишни и чрезмерны, — никто ни разу не захватил актеров врасплох, то ли потому, что герцог не успел составить план нападения, то ли отказался от своей прихоти, а возможно, что и незажившая рана сковывала его отвагу.
Зима выдалась не очень суровая. Актеры были сыты и, запасшись у старьевщика теплой одеждой, более надежной, чем театральные саржевые плащи, не ощущали холода, а северный ветер разве что не в меру румянил щеки молодых актрис, не щадя даже изящных носиков. Хотя без этих зимних прикрас и можно было обойтись, они не портили молодых лиц, потому что хорошеньким все на пользу. А у маститой дуэньи Леонарды кожа была вконец испорчена сорока годами гримировки, и ей уж ничто не могло повредить. Самый свирепый аквилон был бессилен перед ней.
Наконец под вечер, часов около четырех, фургон приблизился к столице со стороны Бьевры, переехал речку по однопролетному мосту и покатил вдоль Сены — славнейшей из рек, которой выпала честь своими водами омывать дворец наших королей и множество других строений, знаменитых на весь мир. Клубы дыма из печных труб собирались у горизонта в гряду рыжеватого, полупрозрачного тумана, за которым красным шаром, лишенным венчика лучей, закатывалось солнце. Из этого марева выплыли, развертываясь широкой перспективой, серо-лиловые очертания домов, дворцов, церквей. На другом берегу реки, за островом Лувье{120} виднелся бастион Арсенала, монастырь селестинцев и почти напротив — стрелка острова Нотр-Дам. За Сен-Бернарскими воротами зрелище стало еще великолепнее. Прямо перед путниками выросла громада собора Парижской богоматери с контрфорсами заалтарного фасада, похожими на ребра гигантских рыб, с двумя четырехугольными башнями и тонким шпилем на пересечении двух нефов. Колоколенки поскромнее поднимались над крышами, указывая на другие церкви и часовни, втиснутые в скопище домов, и врезали свои черные зубцы в светлый край неба. Но грандиозное здание собора всецело приковывало к себе взгляды Сигоньяка, никогда еще не бывавшего в Париже.
Повозки с различными съестными припасами, всадники и пешеходы, во множестве с шумом и гамом сновавшие во все стороны по набережным и ближним улицам, куда, чтобы сократить путь, временами сворачивал фургон, — все это оглушало и ошеломляло барона, привыкшего к пустынному простору ланд и к мертвой тишине своего ветхого замка. Ему казалось, будто мельничные жернова ходят у него в голове, и он пошатывался, как пьяный. Вот над дворцовыми фронтонами вознесся шпиль Сент-Шапель и засиял своим филигранным совершенством в последних лучах заката. Зажигались огни и красными точками усеивали темные фасады домов, а река отражала их на своей черной глади, растягивая в огненных змей.
Вскоре на набережной из полумрака выступили контуры церкви и монастыря Великих Августинцев, а на площадке Нового моста Сигоньяк разглядел в темноте по правую руку от себя смутные очертания конной статуи, изображающей славного короля Генриха IV; но фургон свернул на улицу Дофина, недавно проложенную по монастырской земле, и всадник с конем скоро скрылись из глаз.
На улице Дофина, в дальнем ее конце, близ ворот того же названия находилась большая гостиница, где случалось останавливаться посольствам из неведомых экзотических стран. Обширный трактир мог сразу вместить многочисленных постояльцев. Для лошадей всегда находилась охапка сена, а для седоков — свободная постель. Эту гостиницу Ирод и наметил как самую подходящую для размещения своей театральной орды. Благополучное состояние кассы позволяло такую роскошь, — роскошь отнюдь не бесполезную, ибо она поднимала престиж труппы, показывая, что тут собрались не проходимцы, жулики и дебоширы, которых нужда вынудила взяться за неблагодарное ремесло провинциальных фигляров, а настоящие актеры, честно зарабатывающие себе на жизнь своим талантом. Что это возможно, явствует из «Комической иллюзии, пьесы господина Пьера де Корнеля, прославленного поэта.
Кухня, куда вошли актеры в ожидании, пока им отведут комнаты, по размерам своим была, очевидно, рассчитана на аппетиты Гаргантюа или Пантагрюэля. Целые деревья пылали в огромном очаге, зиявшем, подобно огнедышащей пасти, какою изображался ад в знаменитых действах на соборной площади города Дуэ{121}. На вертелах, расположенных в несколько этажей, которые вращала собака, точно бешеная крутясь в колесе, золотились целые низки гусей, пулярок, молодых петушков, жарились четверти бычьих туш, телячьи окорока, не говоря уж о куропатках, бекасах, перепелах и прочей мелкой дичи. Поваренок, сам наполовину изжаренный, весь в поту, хотя одет он был в холщовый балахон, поливал всю эту живность черпаком, а опорожнив его, вновь погружал в противень, — поистине труд Данаид{122}, ибо сок тут же стекал снова.
Вокруг длинного дубового стола, где изготовлялись кушания, суетился целый отряд поваров, рубщиков и поварят, из чьих рук помощники повара принимали нашпигованную, связанную и сдобренную специями птицу и относили к накаленным добела, сыплющим искры печам, скорее подходившим для кузницы Вулкана, нежели для кулинарной лаборатории, тем более что и повара в огненном чаду смахивали на циклопов. Вдоль стен сверкала грозная кухонная батарея из красной меди и латуни; котелки и кастрюли всех размеров, посудины для рыбы, где смело можно было уварить Левиафана{123}, формы для сладких пирогов в виде башен, куполов, пагод, шлемов и сарацинских тюрбанов, словом, все наступательные и оборонительные орудия, какие должен содержать арсенал бога Гастера{124}.
Поминутно из буфета появлялась дюжая служанка, румяная и толстощекая, как на картинках фламандских мастеров, с корзинами, полными провизии, на голове или на упертой в бок руке.
«Дай мне мускатного ореха!» — требовал один. «Щепотку корицы!» — кричал другой. «Подбавь сюда всех четырех пряностей! Подсыпь соли в солонку! Гвоздики! Лаврового листа! Ломтик свиного сала, да потоньше! Раздуй эту печь — плохо греет! А эту погаси — так и пылает, все обуглится, как каштаны на горячей жаровне… Подлей навара в бульон! Разбавь соус, смотри, как загустел. Белки не поднимаются, бей их, бей, не жалей! Обваляй окорочек в сухарях! Сними гуся с вертела, он совсем готов! А эту пулярку поверни еще разок-другой! Живее, живее, давай сюда говядину! Она должна быть с кровью! Телятину и цыплят не трогай!
Ведь от телятины сырой И неготовой пищи Одно и знай — могилы рой На городском кладбище.Так и запомни, постреленок! Поварское дело — не шутка. Это дар божий. Отнеси суп-жюльен в шестой номер. Кто наказывал перепелку в тесте? Скорее поверни шпигованного зайца!»
Так посреди веселого гула существенные замечания перемежались остротами, более соответствующими своему назначению, нежели те замороженные соленые словца, которых наслушался Панург{125} во время таяния полярных льдов, ибо тут они прямо относились к какому-нибудь кушанию, приправе или пряному лакомству.
Ирод, Блазиус и Скапен, любители поесть, прожорливые, как кошки богомольной ханжи, только облизывались, слушая эти смачные, аппетитные речи, и уверяли, что ставят их во сто крат выше, чем краснобайство Исократа, Демосфена, Эсхина, Гортензия, Цицерона{126} и прочих болтунов, чей пафос подобен вываренным костям без капельки мозговой субстанции.
— Меня так и тянет расцеловать в обе щеки толстяка повара, жирного и пузатого не хуже монаха, — сказал Блазиус. — С каким победоносным видом распоряжается он горшками и кастрюлями! Ни один полководец в огне битвы не сравнится с ним!
В ту минуту, как слуга объявил актерам, что комнаты их готовы, новый гость вошел в кухню и приблизился к очагу; это был мужчина лет тридцати, высокого роста, поджарый, мускулистый, с неприятным выражением довольно красивого лица. Отблеск пламени обрисовывал его профиль яркой каемкой, меж тем как вся физиономия скрывалась в тени. Световой блик обнаруживал злые и зоркие глаза, полуприкрытые выпуклыми надбровными дугами, орлиный нос, изогнутый на конце в виде клюва над густыми усами, тонкую нижнюю губу, почти непосредственно переходившую в тяжелый обрубленный подбородок, как будто природе недостало материала, чтобы толком вылепить его. Гладкий воротник из крахмального холста открывал тощую шею, где от худобы выпирал кадык, который, по утверждению старух, является четвертушкой рокового яблока, застрявшего в глотке Адама и по сей день не проглоченного кое-кем из его потомков. Наряд незнакомца состоял из темно-серого суконного полукафтана, надетого поверх куртки буйволовой кожи, из коричневых штанов и войлочных сапог, собиравшихся спиралью выше колен. Комки грязи, частью сухие, частью свежие, служили отметинами долгого пути, а почерневшие от крови колесики шпор доказывали, что всадник понукал усталого скакуна, не щадя его боков. Длинная рапира с кованой чашкой весом не меньше фута висела на широком кожаном поясе, туго стянутом при помощи медной пряжки вокруг тощего стана приезжего. Одежду его дополнял темный плащ, который он вместе со шляпой сбросил на скамью. Трудно было определить, к какому сословию принадлежит незнакомец: он не походил ни на торговца, ни на буржуа, ни на солдата. Скорее всего его можно было отнести к разряду тех малоимущих и захудалых дворян, которые поступают на службу к вельможам и всецело входят в их интересы.
Сигоньяк, не увлеченный, подобно Ироду или Блазиусу, тайнами кулинарного искусства и не занятый созерцанием съестных чудес, не без любопытства поглядывал на долговязого путешественника, показавшегося ему знакомым, хотя барон и не мог бы сказать, где и когда им довелось встретиться. Тщетно рылся он в памяти, — усилия его были бесплодны. И тем не менее смутное чутье подсказывало ему, что не впервые он сталкивается с этим загадочным незнакомцем, который, очевидно, заметив совсем нежелательное для него внимание барона, повернулся спиной к зале и сделал вид, будто греет руки, склонившись над очагом.
Так и не вспомнив ничего определенного и поняв, что более пристальное наблюдение может повести к бессмысленной ссоре, барон последовал за комедиантами, которые разошлись по своим комнатам, а затем, наспех приведя себя в порядок, сошлись снова в сводчатой столовой, где подан был ужин, которому они, истомившись голодом и жаждой, в полной мере отдали должное. Блазиус, прищелкивая языком, похваливал вино и подливал себе рюмку за рюмкой, не забывая и товарищей, ибо не был из числа тех эгоистических выпивох, которые совершают возлияния Бахусу в одиночестве: ему не менее нравилось поить других, чем пить самому; Тиран и Скапен не отставали от него. Леандр боялся чрезмерным потреблением спиртного повредить белизне своего лица и расцветить себе нос чирьями и прыщами — украшениями, мало подходящими для первого любовника труппы. Барона же долгое вынужденное воздержание в замке Сигоньяк приучило к чисто кастильской трезвости, и отступал он от нее с неохотой. А кроме того, его тревожил появившийся на кухне приезжий, который казался ему подозрительным по непонятной причине, ибо что может быть естественнее, чем появление нового постояльца в зарекомендовавшем себя трактире.
Обед прошел весело; разгоряченные вином и вкусной едой, довольные тем, что очутились наконец в Париже — обетованной земле для всех искателей счастья, обогретые комнатным теплом после долгих часов в промозглом фургоне, актеры предавались самым несбыточным мечтам. Мысленно они соперничали с труппой «Бургундского отеля» и театра «Марэ»{127}. Им рукоплескали, их носили на руках, приглашали ко двору, они заказывали пьесы искуснейшим драматургам, третировали поэтов, пировали в гостях у вельмож и стремительно богатели. Леандру грезились блистательные победы; он соглашался пощадить разве что королеву. Хоть и не беря в рот спиртного, он был пьян от тщеславия. После интриги с маркизой де Брюйер он считал себя совершенно неотразимым, и самомнение его не знало границ. Серафина предполагала хранить верность кавалеру де Видаленку лишь до тех пор, пока ей не попадется птица поважнее и попышнее. Зербина не строила никаких планов, довольствуясь своим маркизом, который намеревался прибыть в Париж вслед за ней. Тетка Леонарда по возрасту была вне игры, на худой конец могла служить лишь посланницей Иридой{128}, а посему, отмахнувшись от суетных мечтаний, не упускала ни одного лакомого куска. Блазиус спешил подкладывать кушанья ей на тарелку и подливать вина в ее чарку, а старуха только радовалась его комическому усердию.
Изабелла раньше всех кончила есть и рассеянно лепила из хлебного мякиша голубку, обратив через стол исполненный чистой любви и ангельской нежности взгляд на своего обожаемого Сигоньяка. Ее щеки, побледневшие от утомительного пути, слегка порозовели в теплой атмосфере комнаты. Это придало ей неизъяснимую прелесть, и доводись молодому Валломбрезу увидеть ее сейчас, он обезумел бы от страсти.
А Сигоньяк с почтительным восхищением созерцал Изабеллу; душевные качества прекрасной девушки трогали его не меньше, чем внешние достоинства, которыми она была так щедро одарена; он не переставал жалеть, что избыток деликатности не позволил ей принять его руку и сердце. После ужина женщины удалились к себе, так же как Леандр и барон, оставив троих матерых пьяниц приканчивать початые бутылки, в чем они, по мнению подававшего им лакея, усердствовали не в меру, но серебряная монетка, сунутая щедрой рукой, вполне утешила его.
— Запритесь как можно лучше, — сказал Сигоньяк, провожая Изабеллу до дверей ее комнаты, — в гостиницах, где столько люда, надо принимать все меры предосторожности.
— Не бойтесь ничего, милый барон, — ответила молодая актриса, — моя дверь замыкается на тройной запор, все равно что дверь темницы. Кроме того, там есть еще засов длиной с мою руку; окно загорожено решеткой и не видно слухового окошка, которое темным оком смотрело бы со стены. У путешественников часто бывают ценные вещи, соблазнительные для жуликов, поэтому комнаты в гостиницах запираются наглухо. Сказочная принцесса в своей башне под охраной драконов не лучше защищена от грозящих ей опасностей.
— Порой все чары оказываются тщетными, и враг проникает в башню, невзирая на любые талисманы, кабалистические знаки и заклинания, — возразил Сигоньяк.
— Это случается оттого, что принцесса от любви или любопытства поощряет неприятеля, соскучившись сидеть в заточении даже себе во благо, — с улыбкой заметила Изабелла, — а я не принадлежу к таким принцессам. Итак, если не боюсь я — более пугливая, чем лань, что дрожит, заслышав звук рога и лай своры, — вам, в доблести равному Александру и Цезарю, и подавно надо быть спокойным: можете спать крепчайшим сном.
На прощание она поднесла к его губам хрупкую и нежную ручку, которая оставалась белой, как у герцогини, с помощью тальковой пудры, огуречной помады и особых перчаток. Когда она вошла к себе, Сигоньяк услышал, что ключ повернулся в замке, язычок защелкнулся и задвижка заскрежетала самым успокоительным образом; однако, когда он ступил на порог своей комнаты, по стене коридора, освещенного фонарем, мелькнула тень мужчины, который прошел совсем неслышно, хотя почти что задел его. Сигоньяк стремительно обернулся. Это был тот самый путешественник, что привлек его внимание на кухне, а теперь, верно, направлялся в указанную хозяином комнату. Ничего подозрительного тут не было. И тем не менее барон, делая вид, будто не может сразу попасть в замочную скважину, следил взглядом за таинственным незнакомцем, пока тот не скрылся за поворотом коридора.
Когда же вслед за тем особенно гулко захлопнулась дверь в затихавшей на ночь гостинице, барон удостоверился, что незнакомец, чьи повадки непонятным образом тревожили его, вошел в свою комнату, расположенную, очевидно, на другом конце гостиницы.
Не чувствуя ни малейшего желания спать, Сигоньяк сел за письмо своему верному Пьеру, которому обещал написать тотчас по прибытии в Париж. Он как можно яснее выводил буквы, ибо преданный слуга не отличался ученостью и читал только по-печатному. Письмо гласило:
«Добрый мой Пьер, вот я и в Париже, где, как говорят, я должен преуспеть и восстановить блеск моего рода, пришедшего в упадок, хотя, по правде сказать, я не вижу к тому способов. Но если счастливый случай приведет меня ко двору и если мне удастся получить аудиенцию у короля, подателя всяческих милостей, то, конечно, услуги, оказанные моими предками его предшественникам, будут мне зачтены. Его величество не потерпит, чтобы родовитая фамилия, разоренная войнами, угасла столь бесславно. А пока, не имея иных средств, я играю на театре и успел заработать этим ремеслом несколько пистолей, из коих часть пошлю тебе, как только случится верная оказия. Может, лучше было бы мне поступить солдатом в какой-нибудь полк; но стеснять свою свободу я не хотел, и тому, чьи предки привыкли главенствовать и кто ни от кого не получал приказов, претит повиноваться, как бы ни был он беден. Да и одиночество сделало меня нелюдимым и строптивым. Единственным примечательным происшествием за все время долгого пути была дуэль с неким герцогом, человеком злобным и весьма искусным фехтовальщиком, но я со славой вышел из этой схватки, благодаря твоим отличным урокам. Я насквозь проколол ему руку, и мне ничего не стоило бы уложить его на месте, ибо он слабее в обороне, нежели в нападении, будучи более горячим, чем осмотрительным, и менее стойким, чем быстрым. Несколько раз он оказывался незащищенным, и я смело мог бы отправить его на тот свет с помощью одного из неотразимых ударов, которым ты так терпеливо обучал меня во время наших схваток в сводчатой зале Сигоньяка, единственной, где пол достаточно крепок, чтобы выдержать упор ног, — тех схваток, которые мы затягивали без конца, чтобы скоротать время, размять пальцы и усталостью заработать себе крепкий сон. Словом, твой ученик не посрамил тебя и после этой, право же, нетрудной победы значительно поднялся в мнении общества. Если верить ему, я первостатейный фехтовальщик, настоящий мастер этого дела. Но довольно о дуэлях. Невзирая на впечатления новой жизни, я часто думаю о приюте моей печальной юности, жалком старом замке, который скоро совсем обрушится на могилы моих предков. Издали он уже не кажется мне невзрачным и угрюмым: бывают минуты, когда я мысленно брожу по его пустынным залам, смотрю на пожелтевшие портреты, которые долгое время были единственным моим обществом, слушаю, как хрустят у меня под ногами осколки оконных стекол; и грезы эти доставляют мне щемящую радость. С великим удовольствием повидал бы я также твое издавна знакомое загорелое лицо, освещенное в мою честь доброй улыбкой. И еще, — скажу не стыдясь, — мне бы очень хотелось послушать мурлыканье Вельзевула, лай Миро и ржание бедняги Баярда, который таскал меня на себе из последних сил, хоть я и не отличаюсь большим весом. Несчастливец, покинутый людьми, отдает часть своей души животным, чью преданность не отпугивают невзгоды. Живы ли они, славные любящие звери, видно ли, чтобы они вспоминали и жалели обо мне? Удается ли тебе уберечь их от голодной смерти в этом обиталище нищеты и урвать им какие-то крохи от твоего скудного стола? Постарайтесь все четверо дожить до того дня, как я вернусь к вам, — бедный или богатый, счастливый или отчаявшийся, — чтобы разделить со мною нищету или богатство и, по соизволению судьбы, вместе кончить наш век в том краю, где мы вместе страдали. Если мне суждено быть последним из Сигоньяков, да будет на то воля господня! В усыпальнице моих предков найдется для меня свободное место.
Барон де Сигоньяк»Барон скрепил письмо перстнем с печатью — единственной драгоценностью, которую сохранил от отца и где были вырезаны три аиста на лазоревом поле; подписав адрес, он спрятал послание в бумажник, чтобы отправить его, когда случится нарочный в Гасконию. Из замка Сигоньяк, куда перенесли его воспоминания о Пьере, он воротился мыслями к Парижу и настоящему положению вещей. Хотя час был уже поздний, за окном глухо рокотал большой город, который, подобно океану, не умолкает и тогда, когда представляется спящим. То раздавался топот копыт, то грохот кареты, постепенно затихая вдали; то загорланит песню запоздалый гуляка, то послышится звон скрестившихся клинков или вопль прохожего, на которого напали воры с Нового моста, или вой бездомной собаки, или еще какой-нибудь невнятный шум. Среди всех этих звуков Сигоньяк уловил шаги человека в сапогах, украдкой пробирающегося по коридору. Барон потушил плошку, чтобы его не выдал свет, и, приоткрыв дверь, различил в дальнем конце коридора мужскую фигуру, тщательно закутанную в темный плащ и направляющуюся в комнату того постояльца, что с первого взгляда показался ему подозрительным. Через несколько мгновений еще один субъект, у которого скрипели сапоги, хотя он старался ступать как можно легче, исчез в том же направлении. Не прошло и получаса, как третий молодец с довольно зверской рожей появился в неверном свете затухающего фонаря и свернул за угол коридора. Он был вооружен, как и двое первых, и длинная шпага поднимала сзади край его плаща. Тень от широкополой шляпы с черным пером скрывала его черты.
Странная процессия дюжих молодчиков порядком озадачила Сигоньяка, а то, что их было четверо, напомнило ему нападение на него в Пуатье по пути из театра после ссоры с герцогом де Валломбрезом. Его словно что-то осенило, и в человеке, привлекшем его внимание на кухне, он узнал того мерзавца, наскок которого мог оказаться роковым, если бы он, Сигоньяк, не был готов к отпору. Именно этот бездельник покатился, задрав копыта, после того как капитан Фракасс нахлобучил ему шляпу до плеч, угостив его ударами шпаги наотмашь. Остальные, по всей вероятности, были его соучастниками, обращенными в бегство мужественным вмешательством Ирода и Скапена. Какой случай или, вернее говоря, какой умысел свел их в том же трактире, где остановилась труппа, да еще в один вечер с ней? Надо думать, они следовали за актерами по пятам. Правда, Сигоньяк неусыпно был начеку, но легко ли распознать врага в конном путнике, который проскакал мимо, не останавливаясь и только бросив на вас рассеянный взгляд, каким обычно обмениваются в дороге? Ясно было одно — ненависть и любовь молодого герцога отнюдь не угасли и в равной мере требовали удовлетворения. А мстительность его стремилась уловить в те же сети Изабеллу и Сигоньяка. Бесстрашный от природы, барон не боялся для себя козней этих наемных бандитов, не сомневаясь, что их обратит в бегство один вид его клинка и шпага не придаст им больше храбрости, чем палка; опасался он какой-нибудь подлой и хитрой ловушки для молодой актрисы. Поэтому он принял соответствующие предосторожности и решил вовсе не ложиться спать. Зажегши все свечи, какие были в его комнате, он растворил дверь, чтобы сноп света из нее падал на противоположную стену коридора, куда как раз выходила дверь Изабеллы; потом спокойно сел, положив возле себя шпагу и кинжал, дабы в любую минуту иметь их под рукой. Долго прождал он, ничего особого не замечая. Два часа отзвонили уже куранты на «Самаритянке»{129} и пробили соседние башенные часы у Великих Августинцев, когда в коридоре послышался легкий шорох, и вскоре по освещенному квадрату стены нерешительно и довольно смущенно прошмыгнул первый незнакомец, оказавшийся не кем иным, как Мерендолем, одним из бретеров герцога де Валломбреза. Сигоньяк стоял теперь на пороге своей комнаты, зажав в руке шпагу, явно готовый к нападению и к обороне, и вид у него был такой отважный, такой горделиво-победоносный, что Мерендоль прошел мимо, потупив голову и не проронив ни слова. Трое его спутников, гуськом следовавших за ним, испугались яркого света, посреди которого грозно пламенела фигура Сигоньяка, и бросились наутек, да так стремительно, что последний из них уронил клещи, которыми, очевидно, предполагалось взломать дверь капитана Фракасса, когда он будет спать. Барон насмешливо помахал им рукой, и вскоре во дворе застучали копыта выведенных из конюшни лошадей. Четверо мошенников, потерпев неудачу, улепетывали во всю мочь.
За завтраком Ирод обратился к Сигоньяку:
— Капитан, неужто вас не разбирает любопытство хоть немного осмотреться в этом знаменитейшем из городов мира, о котором идет такая громкая молва? Если вы не возражаете, я могу служить вам проводником и кормчим по рифам, подводным скалам, мелям, Еврипам, Сциллам и Харибдам{130} этой пучины, опаснейшей для иноземцев и провинциалов; я же еще в отрочестве свел близкое знакомство с ней. А посему, взявшись быть вашим Палинуром{131}, я не шлепнусь в воду, как тот, о ком повествует Вергилий Марон. Мы тут точно зрители на спектакле, ибо Новый мост для Парижа то же, что для Рима была Священная дорога, — место прогулок, встреч и диспутов для нувеллистов, зевак, поэтов, жуликов, воришек, фокусников, куртизанок, дворян, горожан, солдат и всякого прочего люда.
— Ваше предложение как нельзя более улыбается мне, милейший Ирод, — ответил Сигоньяк, — только предупредите Скапена, чтобы он оставался в гостинице и своим зорким лисьим взглядом следил за подозрительными прохожими и проезжими. Пусть не спускает глаз с Изабеллы. Мщение Валломбреза рыщет вокруг нас, придумывая способы расправиться с нами. Нынче ночью я столкнулся с теми четырьмя негодяями, которых мы неплохо отделали тогда в Пуатье. По-видимому, у них было намерение взломать мою дверь, напасть на меня сонного и расправиться со мной. Но так как я не спал, опасаясь ловушки для нашей юной приятельницы, план их был сорван; и, видя, что они разоблачены, мерзавцы сломя голову ускакали, вскочив на лошадей, которых оставили на конюшне оседланными под тем предлогом, что им надо уезжать чуть свет.
— Не думаю, чтобы они отважились на какую-нибудь вылазку днем. Помощь подоспела бы по первому зову, к тому же у них свежа в памяти первая трепка. Скапен, Блазиус и Леандр сумеют уберечь Изабеллу до нашего возвращения. А на случай какой-нибудь стычки или западни на улице я захвачу вам в помощь свою шпагу.
С этими словами Тиран опоясал свое мощное брюхо портупеей и пристегнул к ней длинную крепкую рапиру. На плечо он накинул короткий плащ, не стеснявший движений, а шляпу с красным пером надвинул до самых бровей; ибо, проходя по мостам, следует остерегаться северного или северо-западного ветра, который вмиг сдует шляпу в воду, к великому удовольствию пажей, лакеев и уличных мальчишек. Так объяснил Ирод, почему он нахлобучивает на лоб свой головной убор, а про себя благородный актер думал еще, что со временем дворянину Сигоньяку поставят в укор прогулку в обществе комедианта, а потому по мере возможностей старался скрыть свою физиономию, знакомую обывателям.
На углу улицы Дофина Ирод обратил внимание Сигоньяка на людей, которые толпились у паперти Великих Августинцев, покупая мясо, изымаемое у мясников по средам и пятницам{132}, стараясь ухватить кусок подешевле. Показал он барону и нувеллистов, решавших между собой судьбы королевств, передвигавших по своему произволу границы, разделявших империи и слово в слово пересказывавших речи министров, произнесенные ими в тиши кабинетов. Тут же из-под полы продавались газетки, пасквили, памфлеты и другие писания. У всех представителей этого химерического мирка были испитые лица, безумные глаза и обтрепанная одежда.
— Не стоит зря задерживаться и слушать их бредни, если только вам не приспичило узнать последний указ персидского шаха или церемониал, установленный при дворе патера Жана. Пройдем несколько шагов, и мы увидим одно из прекраснейших зрелищ в мире, какого не изобразишь на театре ни в одной фантасмагории.
В самом деле панорама, развернувшаяся перед глазами Сигоньяка и его спутника, когда они пересекли узкий рукав реки, не имела и по сию пору не имеет равной себе в мире. На первом плане находился самый мост с изящными полукруглыми выступами над быками. Новый мост не был, подобно мосту Менял и мосту Сен-Мишель, загроможден двумя рядами высоких домов. Великий монарх, при ком он был построен, не пожелал, чтобы убогие и угрюмые строения заслоняли вид на пышный дворец, где обитают наши короли, ибо отсюда он открывается во всю свою ширь.
На площадке, образующей оконечность острова, добрый король со спокойствием Марка Аврелия гарцевал на бронзовом коне{133}, водруженном на постамент, по углам которого извивались в оковах пленники из металла. Богато орнаментированная решетка кованого железа окружила памятник, предохраняя его цоколь от непочтительно-фамильярного обращения черни; ибо случалось, что уличные пострелы перелезали через решетку и даже пристраивались в седле позади благодушного монарха, особливо в дни королевских выездов или интересных казней. Строгий тон бронзы выпукло выступал в прозрачном воздухе на фоне далеких холмов, позади Красного моста.
На левом берегу, над крышами домов, поднимался шпиль Сен-Жермен-де-Прэ, старинной романской церкви, и виднелись высокие кровли большого, все еще не достроенного особняка Невера. Чуть дальше древняя Нельская башня, последний остаток дворца, подножием своим уходила в реку среди груды развалин и, невзирая на ветхость, гордыми очертаниями вырисовывалась на горизонте. А дальше расстилалась лягушатня и в голубоватой дымке, на самом краю неба, смутно виднелись три креста на вершине Мон-Валерьена{134}.
На правом берегу великолепно раскинулся Лувр, освещенный и позлащенный веселыми лучами солнца, скорее яркого, чем горячего, как и подобает зимнему солнцу, зато придающего особую рельефность малейшим деталям пышной и вместе с тем благородной архитектуры дворца. Длинная галерея, соединяющая Лувр с Тюильри, была поистине превосходным устройством, позволяя королю пребывать попеременно где ему заблагорассудится — то в любезном ему городе, то на лоне природы, — а своей несравненной красотой, изящными скульптурами, фигурными карнизами, резными выступами, колоннами и пилястрами галерея эта могла соперничать с самыми совершенными творениями греческих и римских зодчих.
Начиная от угла, где находился балкон Карла IX{135}, здание отступало от берега, давая место садам и мелким постройкам, словно грибы-паразиты лепившимся у подножия старого дворца. На набережной полукружьями вставали арки мостов, а немного ниже Нельской башни виднелась еще одна башня, сохранившаяся от Лувра времен Карла V и по-прежнему стоявшая у ворот между рекой и дворцом. Эти две старинные башни, сдвоенные по готической моде и расположенные наискось друг от друга, немало способствовали красоте картины. Они напоминали о временах феодализма и с достоинством занимали свое место между грациозными созданиями новой архитектуры, подобно антикварным креслам или старинному дубовому поставцу тонкой резной работы посреди новомодной мебели, украшенной накладным золотом и серебром. Эти реликвии ушедших веков придают городам почтенный вид, и уничтожать их никак не следует.
В конце Тюильрийского сада, там, где кончается Париж, можно было различить ворота Конференции{136}, а дальше вдоль реки тянулись деревья Кур-ла-Рен — места, облюбованного для прогулок придворными и прочими знатными особами, которые щеголяют здесь своими выездами.
Оба берега, вкратце описанные нами, точно кулисы обрамляли оживленное зрелище реки, по которой туда и сюда сновали лодки, а с краев на якоре громоздились баржи, груженные сеном, дровами и прочими товарами. У набережной близ Лувра королевские галиоты привлекали взор резьбой, позолотой и яркими красками французских национальных флагов.
Ближе к мосту, над остроконечными, точно у картонных домиков, коньками кровель, поднималась колоколенка церкви Сен-Жермен-л'Оксерруа. Когда Сигоньяк достаточно налюбовался этим видом, Ирод повел его к «Самаритянке». Хотя это место известно тем, что сюда сбегаются праздные зеваки и подолгу ждут, пока железный звонарь начнет отбивать время, все же и нам стоит последовать их примеру. Вновь прибывшему путешественнику не грех поротозейничать. Презрительно фыркать и смотреть волком на то, что привлекает народ, — значит показать себя не столько мудрецом, сколько дикарем.
Так оправдывался Тиран перед своим спутником, пока оба переминались с ноги на ногу у гидравлического сооружения и, в свой черед ожидая, чтобы стрелка привела в действие веселый перезвон, разглядывали позолоченного свинцового Христа, говорящего с Самаритянкой у закраины колодца, астрономический круг, изображающий пояс небесной сферы с шаром черного дерева, указующим течение солнца и луны, лепную маску, извергающую воду, взятую из реки Геркулеса с палицей, поддерживающего всю совокупность украшений, и полую статую, что служит флюгером, подобно Фортуне на Венецианской таможне или Вере на Хиральде в Севилье.
Наконец стрелка достигла цифры «X»: колокольчики зазвонили на самый веселый лад, тоненькими серебристыми и густыми медными голосами выпевая мотив сарабанды; звонарь поднял бронзовую руку, и молоток столько раз ударил по диску, сколько времени показывал циферблат. Этот хитроумный механизм, изобретенный фламандцем Линтлаэром, немало позабавил Сигоньяка, неглупого от природы, но совершенно не осведомленного о многих новинках, ибо он ни разу в жизни не выезжал из своей усадьбы, затерянной в глуши ланд.
— Теперь посмотрим в другую сторону, — сказал Ирод. — Там вид далеко не столь великолепен. Дома на мосту Менял очень ограничивают кругозор, и здания, которыми застроена набережная Межиссери, не стоит доброго слова; зато по башне Сен-Жак, по колокольне Сен-Медерик и по шпилям дальних церквей сразу виден столичный город. А на дворцовом острове и по берегу главного рукава, взгляните, как величавы выстроенные один в один кирпичные дома, связанные между собой поясом из белого камня. И как же удачно замыкает их старинная Часовая башня с островерхой кровлей, нередко весьма кстати прорезающая небесную мглу. А площадь Дофина, что размыкает треугольник своих строений как раз напротив бронзового короля, открывая взору дворцовые ворота, — разве не по праву прослыла она самой стройной и образцовой из площадей? А Сент-Шапель, церковь о двух ярусах, столь славная своими сокровищами и священными реликвиями, как грациозно возносит она свой шпиль над высокими черепичными кровлями со множеством слуховых окон в затейливых наличниках! Все это сверкает свежим блеском, ведь дома-то построены не так давно, — я ребенком играл в классы на занимаемой ими земле. Щедротами наших королей Париж день от дня становится красивее, к великому изумлению чужеземных гостей, которые, воротясь домой, рассказывают о нем чудеса, в каждый свой приезд находя его похорошевшим, выросшим, можно сказать, обновленным.
— Меня не столько удивляет величина, богатство и пышность как частных, так и общественных зданий, сколько необозримое количество людей, которые толпятся и снуют по здешним улицам, площадям и мостам, точно муравьи из развороченного муравейника, и по их беспорядочным движениям никак не поймешь, какую цель они преследуют. Даже не верится, что у каждого человека в этом несметном множестве есть комната, постель, все равно, худая или хорошая, и обед, хотя бы не на всякий день, без чего он умер бы лихой смертью. Какая уйма съестных припасов, сколько гуртов скота, сколько кулей муки и бочек вина надобно, чтобы накормить всех этих людей, скопившихся в одном месте, меж тем как у нас в ландах изредка встретишь человека-другого!
Количество народа на Новом мосту в самом деле могло поразить провинциала. Посередине в обе стороны тянулись вереницы запряженных парой или четверкой карет, одни из них, наново выкрашенные и позолоченные, обитые бархатом, с зеркальными стеклами на дверцах и лакеями на запятках, мерно покачивались на мягких рессорах, а краснорожие кучера в богатых ливреях еле сдерживали в этой толчее нетерпение своей упряжки; у других вид был менее блестящий — потускневший лак, кожаные занавески, расхлябанные рессоры и неповоротливые лошади, чью прыть приходилось поощрять кнутом, красноречиво говорили о скромном достатке хозяев. В одних сквозь зеркальные стекла видны были великолепно одетые царедворцы и кокетливо разубранные дамы; в других ехали стряпчие, медики и прочие ученые мужи. Между каретами попадались повозки, груженные камнем, досками или бочонками, и при каждом заторе грубияны возчики с дьявольским пылом поносили имя божие. Сквозь этот подвижной лабиринт пытались протиснуться всадники, но, как искусно они ни лавировали, ступицы колес нередко замазывали грязью их сапоги. Портшезы, собственные и наемные, старались держаться с краю, ближе к парапету, чтобы их не унесло общим потоком. Когда же через мост гнали стадо быков, сумятица доходила до предела. Рогатый скот, не двуногие, не мужья, проходившие в тот же час по Новому мосту, а настоящие быки в ужасе метались во все стороны, пригнув головы, спасаясь от преследования собак и палок погонщиков. Лошади при виде их пугались, шарахались, шумно выпуская ветры. Пешеходы разбегались, боясь, что бык поднимет их на рога, а собаки бросались под ноги самым нерасторопным, и те, теряя равновесие, падали носом в грязь. Одна дама, насурмленная и нарумяненная, в мушках, в стеклярусных блестках и в огненных бантах, по всему видимому жрица Венеры, вышедшая на промысел, споткнулась на своих высоких котурнах и опрокинулась навзничь, — ничем себе не повредив по привычке к такого рода падениям, как не преминули заметить зубоскалы, помогавшие ей подняться.
А то еще отряд солдат, направляясь на свой пост с развернутым знаменем и с барабанщиком впереди, вынуждал толпу потесниться и дать дорогу сынам Марса, не терпевшим препон.
— Все это дело обычное, — пояснил Ирод Сигоньяку, поглощенному невиданным зрелищем. — Попытаемся выбраться из давки и дойти до места, где ютятся самые интересные завсегдатаи Нового моста, странные фантастические персонажи, к которым стоит приглядеться. Ни один город, кроме Парижа, не производит таких чудаков. Они вырастают между камнями его мостовой, точно цветы или, скорее, бесформенные чудовищные грибы, для которых нет лучшей почвы, чем эта черная грязь. Ага! Вот как раз перигорец дю Майе, по прозванию «Поэт с помойки», он явился на поклон к бронзовому королю. Одни утверждают, будто это обезьяна, сбежавшая из зверинца, другие говорят, будто это верблюд, из тех, что привез господин де Невер. Окончательно вопрос не решен: я лично, судя по его неразумию, наглости и нечистоплотности, считаю его человеком. Обезьяны ищут на себе насекомых и творят над ними суд и расправу; он же этим себя не утруждает; верблюды вылизывают свою шерсть и посыпаются пылью, как ирисовой пудрой; кроме того, у них несколько желудков, и они пережевывают жвачку, на что никак не способен этот субъект, — у него зоб всегда так же пуст, как и голова. Бросьте ему подачку, он подберет ее, ворча и проклиная вас. Значит, он человек, ибо он неразумен, грязен и неблагодарен.
Сигоньяк достал из кошелька и протянул поэту белую монетку; тот, будучи погружен в глубокое раздумье, по обычаю людей с причудливым нравом и больной головой, сперва не заметил стоявшего перед ним барона, затем увидел его, стряхнул с себя праздные мечтания, судорожным жестом схватил монету и опустил в кармашек, пробурчав невнятное проклятие; потом, вновь подпав под власть демона стихотворства, стал перебирать губами, вращать глазами и корчить гримасы, не менее забавные, чем те, что Жермен Пилон изобразил на масках под карнизом Нового моста; при этом он потрясал пальцами, отмеряя стопы стихов, которые бормотал сквозь зубы, будто играл в считалку, к немалой потехе обступивших его ребятишек.
Обряжен этот поэт был еще несуразнее, чем чучело Карнавала, когда его тащат сжигать в первый день поста, и чем пугала в огородах и виноградниках, которыми отваживают прожорливых птиц. Глядя на него, можно было подумать, что это звонарь с «Самаритянки», или маленький Мавр на курантах Нового Рынка, или же бронзовый человечек, отбивающий молотком время на колокольне Сен-Поль, напялил на себя лохмотья из лавки старьевщика. Порыжевшая от солнца, слинявшая от дождя старая шляпа с жирной полоской вокруг тульи, с траченным молью петушиным пером вместо султана, более похожая на аптечную воронку, нежели на головной убор, доходила ему до бровей, вынуждая задирать нос, дабы видеть, потому что ее сальные поля отвисли ниже глаз. Камзол неописуемого достоинства и цвета отличался от своего обладателя более веселым нравом, скаля зубы на всех швах. Этот шутовской наряд просто умирал от смеха, а также и от старости, ибо был старше Мафусаила{137}. Кромка грубого сукна играла роль пояса и перевязи, на которой держалась, взамен шпаги, рапира без пуговки, точно лемехом, скребя острием мостовую позади поэта. Желтые атласные штаны, некогда служившие каким-нибудь танцевальным маскам в интермедии, уходили в сапоги — один черный кожаный, какие носят ловцы устриц, другой белый сафьяновый с наколенником, один плоский, другой искривленный и со шпорой — слоистая подошва давно бы покинула его, если бы не тонкая веревка, несколько раз обмотанная вокруг ноги, подобно завязкам античных котурнов. Баракановая накидка, неизменная в любое время года, довершала наряд, какого постыдились бы последние побирушки и которым немало гордился наш поэт. Из-под складок накидки, рядом с рукоятью рапиры, предназначенной, должно быть, защищать своего владельца, высовывалась краюха хлеба.
Подальше, на одном из полукруглых выступов над быками, слепец, сопутствуемый толстой бабищей, служившей ему глазами, выкликал разудалые куплеты или, переходя на комически скорбный лад, тянул заунывную песню по жизнь, злодеяния и смерть знаменитого разбойника. Через несколько шагов наряженный во все красное рыночный шарлатан, зажав в кулаке козью ножку, мельтешил по эстраде, которая была украшена гирляндами клыков, резцов и коренных зубов, нанизанных на медную проволоку. Он разглагольствовал перед кучкой любопытных, утверждая, что берется без боли (во всяком случае — для себя) удалить самые крепкие и неподатливые корешки любым способом, на выбор, — ударом сабли или выстрелом из пистолета, если только пациент не предпочтет самую обычную операцию. «Я их не деру, — вопил он, — я срываю их, как цветы! Ну-ка, у кого гнилые зубы? Не бойтесь, входите в круг, я мигом вылечу вас».
Какой-то простолюдин с раздутой флюсом щекой отважился сесть на стул, и зубодер сунул ему в рот зловещие щипцы из полированной стали. Вместо того чтобы держаться за поручни, бедняга сам тянулся за своим зубом, которому не хотелось с ним расставаться, и фута на два поднялся над землей, чем очень позабавил зрителей. Резкий рывок окончил его пытку, и зубодер потряс над головами своим окровавленным трофеем.
Во время этой дурацкой сцены обезьянка, привязанная к эстраде цепочкой, идущей от кожаного пояса вокруг ее туловища, очень смешно передразнивала движения, крики и корчи пациента.
Это нелепое зрелище ненадолго заняло Ирода и Сигоньяка, которые предпочли задержаться возле продавцов газет и букинистов, расположившихся вдоль парапета. Тиран обратил внимание своего спутника на нищего в рубище, который уселся снаружи моста, на толще карниза, положил костыль и чашку возле себя и, тыкая свою засаленную шляпу под нос тем прохожим, что нагибались перелистать книжку или посмотреть на течение реки, терпеливо ожидал, чтобы они бросили ему медный или серебряный грошик, а если расщедрятся, более крупную монету, ибо он не гнушался никакой и без зазрения совести готов был спустить даже фальшивую.
— У нас только ласточки лепятся по карнизам, — заметил Сигоньяк. — А у вас их место занимают люди!
— Уподоблять эту мразь людям можно лишь из чистой учтивости, хотя по-христиански никого не следует презирать, — отвечал Ирод. — Впрочем, на этом мосту встретишь кого угодно, вплоть до порядочных людей, раз и мы с вами находимся тут. Согласно поговорке, его не пройдешь, не увидев монаха, белой лошади и шлюхи. Вот как раз поспешает долгополый, шлепая сандалиями, верно, и до лошади недалеко: да вот, ей-богу, — как нарочно, взгляните прямо — белая кляча делает курбеты, будто на манеже. Недостает только куртизанки. Долго ждать не придется. Вместо одной шествуют целых три: грудь оголена, румяна наложены, как колесная мазь, и смеются ненатурально, чтобы показать зубы. Поговорка не солгала.
Внезапно на другом конце моста поднялся шум, и толпа бросилась туда. Оказалось, там бретеры дрались на рапирах у подножия статуи, единственном просторном и свободном месте. Они кричали: «Бей, бей!» — и делали вид, будто с остервенением нападают друг на друга. Но их мнимые наскоки и учтиво сдержанные выпады напоминали театральные дуэли, где, сколько ни ранят и не убивают, мертвых не бывает. Они сражались двое против двоих и, казалось, пылали друг к другу неукротимой ненавистью, отстраняя шпаги секундантов, пытавшихся их разъединить. На самом деле эта притворная ссора имела целью вызвать скопление народа, чтобы мазурикам и карманникам легче было орудовать в толпе. И действительно, не один любопытный вмешался в сутолоку с богатым, подбитым плюшем плащом на плече и с туго набитым кошельком, а выбрался из давки в одном камзоле, растратив, сам того не ведая, все свои денежки. А бретеры, которые никогда и не думали ссориться, а, наоборот, спелись между собой, как истые воры на ярмарке, поспешили примириться, подчеркнуто благородным жестом потрясли друг другу руки и объявили, что честь их удовлетворена. Это, впрочем, не требовало больших усилий — честь у таких проходимцев не отличается чувствительностью.
По совету Ирода Сигоньяк не подходил близко к дуэлянтам и видел их только в промежутки между головами и плечами зевак. Тем не менее он как будто узнал в четырех бездельниках тех самых людей, чьи загадочные повадки наблюдал прошедшей ночью в трактире на улице Дофина, и тотчас же поделился своими подозрениями с Иродом. Но бретеры успели скрыться в толпе, и найти их было бы не легче, чем иголку в стоге сена.
— И дуэль-то, может статься, была затеяна, чтобы привлечь сюда вас, — предположил Ирод, — шпионы герцога де Валломбреза, надо полагать, неотступно следуют за нами. Один из бретеров сделал бы вид, что его стесняет или оскорбляет ваше присутствие, и, не дав вам обнажить шпагу, словно невзначай нанес бы смертельный удар, а его сообщники, в случае надобности, прикончили бы вас. Все это было бы приписано пустяковой ссоре и стычке. Ведь нельзя доказать, что это была предумышленная ловушка, никак нельзя.
— Мне несносно думать, что дворянин способен на такую низость, как устранение соперника руками наемных убийц, — сказал благородный Сигоньяк. — Если он не удовлетворен первым поединком, я готов снова скрестить с ним шпаги и драться до тех пор, пока один из нас не падет мертвым. Так принято поступать между людьми чести.
— Совершенно верно, — подтвердил Ирод. — Но герцог, несмотря на свою безумную гордыню, отлично знает, что исход поединка неизбежно будет для него роковым. Он отведал вашей шпаги и узнал, каково наткнуться на ее острие. Верьте мне, поражение вселило в него дьявольскую злобу, и в способах мести он не будет щепетилен.
— Если он не согласен на шпагу, можно драться верхом и на пистолетах, — сказал Сигоньяк, — тогда ему нечего ссылаться на мое превосходство как фехтовальщика.
Рассуждая таким образом, барон и его спутник дошли до Университетской набережной, и тут какая-то карета едва не задавила Сигоньяка, хотя он и поспешил отстраниться. Лишь благодаря своей худобе он не был расплющен об стену, до того прижала его карета, хотя по другую ее сторону на мостовой было просторно, и кучер, чуть-чуть натянув вожжи, мог миновать прохожего, которого, казалось, преследовал умышленно. Стекла в дверцах кареты были подняты, а занавески опущены изнутри; но если бы кто отодвинул занавески, то увидел бы великолепно одетого вельможу, у которого рука была подвязана черным шелковым шарфом. Несмотря на красноватый отсвет от задернутых занавесей, он был очень бледен, и узкие дуги черных бровей четко вырисовывались на матовой белизне его лица. Ровными жемчужными зубами он до крови закусил нижнюю губу, а его тонкие нафабренные усы топорщились, судорожно подергиваясь, как у тигра, выслеживающего добычу. Он был безукоризненно красив, но лицо его жестокостью своего выражения могло скорее внушить ужас, нежели любовь, особенно в данный миг, когда оно было искажено игрой злобных и дурных страстей. По этому портрету, схваченному в щелку между занавесками кареты, проносящейся во весь опор, всякий, разумеется, признал бы молодого герцога де Валломбреза.
«Опять неудача! — твердил он про себя, пока карета уносила его вдоль Тюильрийского сада к воротам Конференции. — А я ведь обещал кучеру двадцать пять луидоров, если он зацепит этого окаянного Сигоньяка и как бы нечаянно разобьет его о столб. Положительно, звезда моя закатывается; ничтожный деревенский дворянчик берет верх надо мной. Изабелла обожает его и ненавидит меня. Он побил моих наемников, он ранил меня самого. Пусть он неуязвим, пусть его хранит какой-нибудь амулет, — все равно он умрет, или я лишусь своего имени и герцогского титула».
— Гм! — протянул Ирод, глубоко вздохнув всей своей могучей грудью. — У лошадей, впряженных в эту карету, как видно, те же склонности, что и у коней Диомеда, кои топтали людей, разрывали их на части и питались их мясом. Вы не ранены, чего доброго? Этот чертов кучер отлично видел вас, и я готов прозакладывать наш лучший сбор, что он умышленно направил на вас свою упряжку, желая раздавить вас из какого-то умысла или ради тайной мести. В этом я твердо уверен. Вы не заметили, на карете был герб? Как дворянин, вы должны быть сведущи в благородной геральдической науке, и гербы виднейших фамилий вам, конечно, знакомы.
— Мне трудно что-либо сказать по этому поводу, — ответил Сигоньяк, — даже герольд в таком положении вряд ли разглядел бы, каковы цвета и эмали герба, а тем паче его разделы и эмблемы. Моя главная забота была увернуться от этой махины на колесах, а не то что разбирать, украшена ли она шествующими через щит или вздыбленными львами, леопардами, орлами или утками без клюва и без ног, золотыми гривнами, вырезанными крестами и прочими символами.
Досадное обстоятельство! — заметил Ирод. — Таким путем мы могли бы нащупать след и распутать нити тех черных козней, которые плетутся вокруг вашей персоны ибо нет сомнений, что от вас намерены избавиться quibuscumque viis[11], как сказал бы по-латыни педант Блазиус. Хотя доказательств тому нет, я не был бы удивлен, узнав, что карета принадлежит герцогу де Валломбрезу, который желал доставить себе удовольствие, проехав по телу своего врага.
— Как могла у вас родиться подобная мысль, сеньор Ирод! — воскликнул Сигоньяк. — Столь подлый, гнусный, злодейский поступок слишком уж низок для дворянина высокого рода, каковым, несмотря ни на что, является Валломбрез. К тому же, когда мы покидали Пуатье, он оставался там, у себя дома, далеко еще не оправившись от раны. Как бы он успел очутиться в Париже, если мы лишь вчера приехали сюда?
— Вы забыли, что мы довольно долго задержались в Орлеане и в Type, где давали представления, а ему, при его конюшне, нетрудно было догнать и даже опередить нас. Что до его раны, то стараниями искусных лекарей она, конечно, быстро затянулась и зарубцевалась. Да и рана была не столь опасная, чтобы человек молодой и полный сил не мог преспокойно путешествовать в карете или в носилках. Итак, милый мой капитан, вам надо быть настороже, вас заведомо хотят заманить в ловушку или убить из-за угла под видом несчастного случая. Ведь, умри вы, Изабелла останется беззащитной перед посягательствами герцога. Как можем мы, бедные актеры, бороться против столь могущественного вельможи? Если самого Валломбреза еще нет в Париже, приспешники его уже орудуют здесь; не были бы вы нынче ночью встревожены справедливым подозрением и не бодрствовали бы с оружием в руках, вас бы премило прирезали в вашей каморке…
Доводы Ирода были слишком основательны, чтобы оспаривать их, а потому барон лишь кивнул в ответ и наполовину вытянул свою шпагу, желая проверить, легко ли она ходит в ножнах.
Оживленно беседуя, прошли они вдоль Лувра и Тюильри вплоть до ворот Конференции, ведущих на Кур-ла-Рен, как вдруг увидели перед собой густое облако пыли, сквозь которое блестело оружие и сверкали кирасы. Они посторонились, чтобы пропустить конный отряд, скакавший впереди кареты, в которой король возвращался из Сен-Жермена в Лувр. Стекла на дверцах были спущены, занавески раздвинуты, надо полагать, для того, чтобы народ вдоволь мог наглядеться на монарха, властителя его судеб, и Сигоньяк со своим спутником увидели бледный призрак, весь в черном, с голубой лентой через плечо, неподвижный, как восковая кукла. Длинные темные волосы обрамляли мертвый лик, отмеченный печатью неисцелимой скуки, скуки испанской, какой томился Филипп II{138} и какую может породить лишь безмолвие и безлюдие Эскуриала. Глаза короля, казалось, не отражали окружающих предметов; ни желания, ни мысли, ни проблеска воли не зажигалось в них. Брезгливо и капризно оттопыренная нижняя губа выражала глубокое отвращение к жизни. Белые костлявые руки лежали на коленях, как у некоторых египетских богов. И все же королевское величие чувствовалось в мрачной фигуре человека, который олицетворял Францию и в чьих жилах остывала щедрая кровь Генриха IV.
Карета промчалась как вихрь, за ней следом проскакал второй конный отряд, замыкая эскорт. Мимолетное видение повергло Сигоньяка в задумчивость. Он простодушно представлял себе короля существом сверхъестественным, в могуществе своем сверкающим посреди ореола золотых лучей и драгоценных каменьев, ослепительным, гордым, торжествующим, самым красивым, самым величавым, самым сильным из смертных; а в действительности он увидел чахлого, печального, скучающего, болезненного, чуть ли не жалкого на вид человека, одетого в цвета скорби и настолько погруженного в свои мрачные думы, что внешний мир будто и не существовал для него.
«Как! — мысленно восклицал он. — И это король, тот, кем живы миллионы людей, кто восседает на вершине пирамиды, к кому снизу тянется столько умоляющих рук, по чьей воле грохочут или смолкают пушки, кто возвышает или низвергает, карает или дарит благоволением, если захочет, говорит „помилован“, когда правосудие сказало „повинен смерти“, и одним словом своим может изменить человеческую судьбу! Если бы взор его упал на меня, из бедняка я стал бы богачом, из ничтожного — могущественным; безвестный пришелец превратился бы в человека, пожинающего лесть и поклонение. Разрушенные башни замка Сигоньяк горделиво воздвигались бы вновь, мои урезанные владения умножились бы новыми землями. Я стал бы хозяином над холмами и лугами. Но как надеяться, что он когда-нибудь отметит меня в этом человеческом муравейнике, который копошится у его ног, не удостаиваясь ни единого его взгляда. А хоть бы он и увидел меня, нити какой симпатии могут протянуться между нами?»
Эти мысли наряду со многими другими — всех не перескажешь — так поглотили Сигоньяка, что он шел рядом со своим спутником, не говоря ни слова. Не смея нарушить его раздумье, Ирод развлекался созерцанием проезжавших в обе стороны экипажей. Наконец он решился напомнить барону, что время близится к полудню и пора направить стрелку компаса на полюс суповой миски, ибо нет ничего хуже холодного обеда, если не считать обеда разогретого.
Сигоньяк признал справедливость этого мнения, и оба они направились в сторону своего трактира. За два часа их отсутствия ничего особенного не произошло. Перед миской бульона, гуще усеянного глазками, чем тело Аргуса, мирно сидела Изабелла, с обычной приветливой улыбкой протянувшая Сигоньяку свою белую ручку. Остальные актеры полюбопытствовали, каковы его впечатления от прогулки по городу, и шутливо осведомились, уцелел ли у него плащ, платок и кошелек. Сигоньяк им в тон отвечал утвердительно. Эта веселая болтовня рассеяла его тревожные мысли, и в конце концов он уже готов был объяснить свои страхи ипохондрической наклонностью повсюду видеть подвохи.
Однако он был прав, и враги его, несмотря на ряд неудачных попыток, не собирались отречься от своих черных замыслов. Так как герцог пригрозил Мерендолю, если он не расправится с Сигоньяком, вернуть его на галеры, откуда сам же его извлек, то Мерендоль с горя решил прибегнуть к помощи своего приятеля, бретера, не гнушавшегося никакими грязными делами, лишь бы они были хорошо оплачены. Сам Мерендоль отчаялся справиться с бароном, который к тому же знал его теперь в лицо и был настороже, что затрудняло возможность подступиться к нему.
Итак, Мерендоль отправился на поиски этого головореза, который жил на площади Нового Рынка близ Малого моста, местности, населенной преимущественно наемными убийцами, мошенниками, ворами и другими темными личностями.
Отыскав среди высоких черных домов, подпиравших друг друга, как пьяницы, которые боятся упасть, самый что ни на есть черный, обшарпанный, грязный, где из окон выпирали омерзительные рваные тюфяки, словно внутренности из распоротых животов, Мерендоль повернул в неосвещенный проход, ведущий в недра этой трущобы. Вскоре свет перестал проникать с улицы, и Мерендоль, ощупывая запотевшие, осклизлые стены, будто вымазанные слюной улиток, нашел в темноте веревку, заменявшую перила, веревку, словно снятую с виселицы и натертую человеческим жиром. Кое-как стал он подниматься по этой шаткой лестнице, то и дело спотыкаясь о кучи грязи, наслоившейся на каждой ступеньке с тех времен, когда Париж звался Лютецией{139}.
Мрак редел по мере того, как Мерендоль совершал свое опасное восхождение. Тусклый, мутный свет просачивался в желтые стекла окошек, пробитых, чтобы освещать лестницу, и выходивших на глубокий темный колодезь двора. Задыхаясь от миазмов, источаемых помойными ведрами, Мерендоль добрался до верхнего этажа. Две или три двери выходили на площадку, грязный штукатуренный потолок которой был изукрашен непристойными рисунками, завитушками и сальными словцами, начертанными свечной копотью, — роспись вполне достойная такого вертепа.
Одна из дверей была приоткрыта. Не желая дотрагиваться до нее руками, Мерендоль толкнул ее ногой и без дальнейших церемоний вступил в резиденцию бретера Жакмена Лампурда, состоявшую из одной комнаты.
Едкий дым проник ему в глаза и в горло, так что он начал кашлять, словно кот, который наглотался перьев, пожирая птичку, и минуты две не мог вымолвить ни слова. Воспользовавшись открытой дверью, дым улетучился на лестницу, туман немного поредел, и посетителю удалось оглядеться по сторонам.
Это логово стоит описать поподробнее, ибо сомнительно, чтобы приличный читатель хоть раз побывал в подобной норе или мог бы вообразить себе всю степень ее убожества.
Основную меблировку ее составляли четыре стены, по которым подтеками с крыши были нанесены неведомые острова и реки, каких не сыщешь ни на одной географической карте. Предшествующие владельцы конуры баловались тем, что па местах, куда можно было дотянуться рукой, вырезали свои несуразные, нелепые и омерзительные прозвища, подчиняясь стремлению самых безвестных людишек оставить по себе след в здешнем мире. К мужским именам часто бывало прибавлено имя женщины, уличной Цирцеи, над которым красовалось сердце, пронзенное стрелой, похожей на рыбью кость. Другие, проявляя больше тяги к искусству, пытались добытыми из-под золы угольями набросать карикатурный профиль с трубкой в зубах или висельника с высунутым языком, болтающегося на веревке.
На камине, в котором, дымясь, шипел ворованный хворост, пылились самые разнообразные предметы: бутылка со вставленным в горлышко огарком, который широкими потоками оплывал по стеклу, — светильник, достойный бродяги и пропойцы; стаканчик для триктрака, три игральных кости, налитых свинцом, связка старых чубуков, глиняный горшок для курева, чулок, а в нем гребень с обломанными зубьями; потайной фонарь с круглым, как совиный глаз, стеклышком, куча ключей, без сомнения, для чужих замков, ибо в самой комнате не было ни одного предмета с запором; щипцы для завивки усов, словно исцарапанный когтями дьявола осколок зеркала, — смотрясь в него, можно было увидеть только один глаз сразу, да и то если он не походил на глаз Юноны, которую Гомер именует ((((((, и еще множество такого хлама, что его даже описывать тошно.
Напротив камина, на стене, менее просыревшей, чем все остальные, да еще затянутой тряпицей зеленой саржи, сверкал набор шпаг надежной закалки, до блеска начищенных и носивших на лезвиях клейма самых прославленных испанских и итальянских мастеров. Были там клинки обоюдоострые, трехгранные, клинки с рейкой посередине для стока крови; были мечи с тяжелой чашкой, тесаки, кинжалы, стилеты и другое ценное оружие, которое так не вязалось с нищенским убожеством жилья. Ни единого пятнышка ржавчины, ни единой пылинки не виднелось на них, это были рабочие орудия убийцы, и даже в королевском арсенале их не содержали бы лучше, натирая маслом, полируя суконкой и сохраняя в нетронутом виде. Казалось, они только что свежеотточенными сошли с прилавка. Лампурд, неряшливый в остальном, вкладывал сюда всю свою гордость, весь свой интерес. Такая рачительная забота при его ремесле носила зловещий характер, и на тщательно отполированной стали, казалось, пламенели кровавые отсветы.
Стульев в комнате не водилось, и посетителям предоставлялось право пребывать стоя, чтобы вырасти, или же, щадя подошвы своих башмаков, расположиться на старой продавленной корзине, на сундуке, а то и на футляре от лютни, валявшемся в углу. Стол был сделан из ставня, положенного на козлы. Он же служил кроватью. После попойки хозяин дома укладывался здесь и, натянув на себя край скатерти, бывшей не чем иным, как полой его плаща, с которого он продал верх, иначе не на что было бы согреть себе нутро, поворачивался к стенке, не желая смотреть на пустые бутылки, — зрелище, способное ввергнуть пьяницу в черную меланхолию.
Именно в такой позе Мерендоль и застал Жакмена Лампурда — тот оглушительно храпел, хотя все часы в окружности пробили четыре часа пополудни.
Огромный паштет из дичины, в кровавых недрах которого зеленели крапинки фисташек, лежал на полу, распотрошенный и наполовину съеденный, словно жертва волков в лесной чащобе, а кругом стояло несметное множество бутылок, из коих высосали душу, оставив пустые оболочки, годные лишь на то, чтобы стать битым стеклом.
Другой гуляка, которого Мерендоль сперва не заметил, крепчайшим сном спал под столом, зажав в зубах огрызок чубука, меж тем как сама трубка, набитая табаком, но не зажженная, свалилась на пол.
— Эй, Лампурд! — позвал приспешник Валломбреза. — Будет тебе спать! Что ты вытаращился на меня? Я не полицейский комиссар, не сержант и не собираюсь вести тебя в Шатле{140}. У меня есть важное дело. Постарайся выветрить из головы винные пары и выслушай меня.
Окликнутый таким образом персонаж лениво поднялся со сна, сел на своем ложе, расправил, потягиваясь, длинные руки, почти коснулся кулаками двух стен комнаты и, точно потревоженный лев, зевнул во всю свою огромную пасть с острыми клыками, издавая при этом невнятное гнусавое клохтанье.
Жакмен Лампурд совсем не был Адонисом{141}, хотя, по его утверждениям, пользовался огромным успехом у дам, даже, если верить ему, у самых высокопоставленных. Большой рост, которым он гордился, тощие журавлиные ноги, впалая, костлявая, багровая от возлияний грудь, видневшаяся в расстегнутый ворот рубахи, обезьяньи руки, настолько длинные, что он мог завязать себе подвязки, почти не нагибаясь, — все в целом составляло не слишком-то привлекательный облик; что до лица, то больше всего места занимал на нем нос, не менее грандиозный, чем нос Сирано де Бержерака{142}, служивший поводом для бесчисленных дуэлей. Но Лампурд утешал себя ходячей истиной: «Тому виднее, у кого нос длиннее». В холодном блеске глаз, хоть и отуманенных сном и опьянением, чувствовалась отвага и решительность. Впалые щеки были прорезаны двумя-тремя поперечными морщинами, точно рубцами от сабельных ударов, столь резкими, что их трудно было уподобить пикантным ямочкам. Всклокоченные черные космы окружали эту образину, которую стоило бы вырезать на грифе скрипки, но открыто осмеивать ее не решался никто, настолько опасным, коварным и жестоким было ее выражение.
— Чтоб нечистый содрал шкуру с осла, который ворвался в мои блаженные сладострастные грезы! Я был счастлив сейчас: прекраснейшая из земных богинь снизошла ко мне. А вы вспугнули мой сон.
— Полно молоть вздор! — нетерпеливо оборвал его Мерендоль. — Удели мне две минуты внимания и выслушай меня.
— Когда я пьян, я никого не слушаю, — надменно ответствовал Жакмен Лампурд, опираясь на локоть. — Тем паче что я нынче при деньгах, при больших деньгах. Прошлой ночью мы обчистили английского лорда, начиненного пистолями, и я сейчас проедаю и пропиваю свою долю. Потом перекинусь в ландскнехт и все спущу. А важные дела оставим до вечера. Будьте в полночь на площадке Нового моста у цоколя бронзового коня. Я туда явлюсь бодрый, свежий, с ясной головой, во всеоружии всех своих способностей. Мы живо споемся и столкуемся о вознаграждении, которое должно быть немалым, ибо, смею надеяться, такого храбреца, как я, не станут тревожить ради мелкого мошенничества, грошовой кражи и тому подобной ерунды. Воровство положительно прискучило мне, — впредь я буду заниматься только убийствами — это куда благороднее. Я хищник львиной породы, а не жалкий стервятник. Если речь идет об убийстве, я к вашим услугам, только мне надо, чтобы тот, на кого нападешь, защищался. Жертвы бывают трусливы до омерзения. Капелька сопротивления придает работе интерес.
— Ну на этот предмет будь покоен, — злорадно усмехнувшись, утешил его Мерендоль, — ты встретишь достойного партнера.
— Тем лучше, — одобрил Жакмен Лампурд, — давно я не сталкивался с противником своего калибра. Однако довольно болтать. С тем до свидания. Дайте мне отоспаться.
Когда Мерендоль ушел, Жакмен Лампурд тщетно пытался уснуть; прерванный сон не возвращался. Бретер встал, растолкал собутыльника, храпевшего под столом, и оба отправились в притон, где шла игра в ландскнехт и басету. Общество здесь состояло из шулеров, наемных убийц, жуликов, лакеев, писцов и нескольких простофиль-обывателей, приведенных сюда девками, — жалких гусаков, которым предстояло быть заживо ощипанными. Слышен был только стук костей в стаканчике и шорох битых карт, ибо игроки обычно молчат, только сквернословят в случае проигрыша. Сперва игра шла с переменным успехом, пока пустота, столь противная природе и человеку, не утвердилась безраздельно в карманах Лампурда. Он попытался было играть на слово, но эта монета не имела хождения в здешних местах, где игроки, получая выигрыш, пробовали деньги на зуб, чтобы проверить, не сделаны ли золотые монеты из золоченого свинца, а серебряные — из расплавленных оловянных ложек. И, оказавшись гол, как осиновый кол, Лампурд поневоле поплелся прочь после того, что вошел сюда богачом, с полными пригоршнями пистолей.
— Уф! — вздохнул он, когда свежий зимний ветер пахнул ему в лицо, вернув обычное хладнокровие, — наконец-то избавился! Удивительное дело, до чего я хмелею и тупею от денег. Не удивительно, что откупщики так глупы. Теперь, когда у меня не осталось ни гроша, я сразу поумнел, мысли жужжат в моем мозгу, как пчелы в улье. Из Ларидона я вновь превратился в Цезаря!{143} Но я слышу — звонарь на «Самаритянке» бьет двенадцать раз; Мерендоль, верно, ждет меня возле бронзового короля.
Он направился к Новому мосту. Мерендоль уже стоял там, созерцая при лунном свете свою тень. Оба бретера огляделись по сторонам и, хотя убедились, что никто не может их услышать, долго толковали между собой шепотом. Нам неизвестно, о чем они говорили, однако, расставшись с подручным герцога де Валломбреза, Лампурд так вызывающе-нагло позвякивал в кармане золотыми, что ясно было, насколько его боятся на Новом мосту.
XII «КОРОНОВАННАЯ РЕДИСКА»
Когда Жакмен Лампурд покинул Мерендоля, он не знал, что предпринять, и, дойдя до конца Нового моста, остановился в нерешительности, как Буриданов осел между двумя охапками сена или, если это сравнение вам не по вкусу, как железный гвоздь между двумя магнитами одинаковой силы. С одной стороны, ландскнехт властно притягивал его отдаленным звоном золота; с другой — кабак вставал перед ним, наделенный не меньшими соблазнами под звяканье кувшинов и горшков. Выбор поистине затруднительный. Хотя богословы почитают свободу воли величайшим из преимуществ человека, Лампурд, обуреваемый двумя непреодолимыми страстями, — ибо он был игрок не менее, чем пьяница, и пьяница не менее, чем игрок, — никак не знал, на что решиться. Он сделал было три шага в сторону притона; но пузатые, запыленные, оплетенные паутиной бутылки с красными сургучными колпачками предстали его мысленному взору в таком ярком свете, что он повернул назад и сделал три шага в сторону кабака. Но тут азарт яростно затряс у его уха стаканчиком с игральными костями, налитыми свинцом, и веером развернул перед его взором крапленые карты, пестрые, как павлиний хвост, — волшебное видение, приковавшее его к земле.
— Что за черт! Долго я буду стоять здесь истуканом, — одернул себя бретер, раздраженный собственными колебаниями, — у меня, должно быть, вид сущего болвана, по-дурацки вылупившегося невесть на какое диво. Эх! Не пойду-ка я ни в кабак, ни в притон, а лучше отправлюсь к моей богине, к моей Цирцее, к несравненной красотке, которая держит меня в своих путах. А вдруг она занята сейчас вне дома, на бале или ночном пиршестве? И, кроме того, сластолюбие ослабляет отвагу, и славнейшим героям приходилось каяться в излишнем пристрастии к женщинам. Примером тому Геракл со своей Даянирой, Самсон с Далилой, Марк Антоний с Клеопатрой{144}, не считая многих других, кого я уже не упомню, ибо немало воды утекло с тех пор, как я ходил в школу. Итак, отбросим эту распутную, достойную порицания фантазию; но какому же из двух столь пленительных занятий отдать предпочтение? Выбрав одно, неминуемо пожалеешь о другом.
Произнося этот монолог, Жакмен Лампурд засунул руки в карманы, уткнулся подбородком в брыжи, отчего задралась его бороденка, казалось, пустил корни между плитами мостовой и окаменел, превратившись в статую, подобно многим добрым малым из «Метаморфоз»{145} Овидия. Но тут он так внезапно сорвался с места, что проходивший мимо запоздалый обыватель задрожал и ускорил шаг, испугавшись, что его укокошат или, в лучшем случае, обчистят. У Лампурда не было ни малейшего намерения грабить этого олуха, которого он даже не заметил, поглощенный своими мыслями; нет, его внезапно осенила блистательная мысль. Колебаниям пришел конец.
Он поспешно достал из кармана дублон и подбросил его вверх, сказав: «Орел — значит, кабак, решка — значит, игорный дом».
Монета перевернулась несколько раз, но в силу земного притяжения упала на мостовую, сверкнув золотой искоркой в серебряных лучах луны, полностью вышедшей в этот миг из-за облаков. Бретер опустился на колени, чтобы прочесть приговор, вынесенный случаем. На заданный вопрос монета ответила: «Орел», Бахус взял верх над Фортуной.
— Хорошо! Значит, напьюсь, — решил Лампурд, стер грязь с дублона и опустил его в кошель, глубокий, как бездна, предназначенный поглощать множество разных предметов.
Быстрыми шагами направился он в кабак под названием «Коронованная редиска», давно облюбованный им как святилище для возлияний богу вина. «Коронованная редиска» была для Лампурда удобна тем, что находилась на углу Нового Рынка, в двух шагах от его жилища, куда он легко мог добраться, даже накачавшись вином от подошв до кадыка и выводя ногами кренделя.
Это был, бесспорно, самый гнусный кабак, какой только можно себе вообразить. Приземистые подпоры, вымазанные в багрово-винный цвет, поддерживали огромную балку, заменявшую фриз, неровности которой старались выдать себя за следы былого орнамента, полустертого временем. Внимательно приглядевшись, здесь и в самом деле можно было разглядеть завитки виноградных листьев и лоз, между которыми резвились обезьяны, хватавшие за хвосты лисиц. Над входом была намалевана огромная редиска, изображенная очень натурально, с ярко-зелеными листьями, увенчанная золотой короной; это художество, давшее название кабаку и служившее приманкой многим поколениям пьяниц, успело изрядно потускнеть.
Окна, занимавшие промежутки между подпорами, были в этот час закрыты ставнями с тяжелыми железными болтами, способными выдержать осаду, однако пригнанными недостаточно плотно и пропускавшими в щели красноватый свет, а также глухие звуки песен и перебранки. Красные лучи, змеясь по лужам мостовой, производили своеобразный эффект, но Лампурд, оставшись равнодушным к живописной стороне, отметил, что в «Коронованной редиске» еще полно народу. Бретер несколько раз определенным образом ударил в дверь эфесом шпаги; на условный стук завсегдатая дверь приотворилась, и его впустили внутрь.
Помещение, где пребывали посетители, сильно смахивало на вертел. Потолок тут был низкий, а главная балка, пересекавшая его, прогнулась под тяжестью верхних этажей и, казалось, вот-вот переломится; на самом деле она могла бы удержать хоть каланчу, походя этим на Пизанскую башню{146} или на болонскую Азинелли, которые наклоняются, но не падают. От трубочного и свечного дыма потолок почернел не хуже, чем внутренность очагов, где коптятся сельди, сорожья икра и окорока. Когда-то стараниями итальянского декоратора, приехавшего во Францию вслед за Екатериной Медичи{147}, стены залы были окрашены в красный цвет с бордюром из виноградных веток и побегов. Живопись сохранилась по верху, хоть и потемнела порядком и больше смахивала на пятна застывшей крови, нежели на пурпур, каким, должно быть, радовала глаз в блеске новизны. От сырости, от трения плеч и сальных затылков по низу окраска совсем пропала, оставив грязную и растрескавшуюся штукатурку. Прежде посетители кабачка были люди приличные; но мало-помалу вкусы становились изысканнее, придворные и военные уступили место картежникам, жуликам, грабителям, ворам, теплой компании бродяг и проходимцев, наложившей свой мерзкий отпечаток на все заведение, превратив веселый кабачок в опасное логово.
Отдельные кабинеты походили на чуланы, проникнуть в них можно было, лишь уподобясь улитке, втягивающей в раковину рожки и голову; открывались они на галерею, куда вела деревянная лестница, занимавшая всю стену напротив входа. Под лестницей стояли полные и порожние бочки, расположенные в строгом порядке и радовавшие взгляд пьяницы лучше всякого украшения. В камине с высоким колпаком пылали охапки хвороста, и горящие веточки спускались до самого пола, который был сложен из щербатого кирпича, а потому не грозил воспламениться. Огонь очага бросал отблески на оловянную крышку стойки, помещавшейся напротив, где за баррикадой из горшков, пинт, бутылок и кувшинов восседал кабатчик. От яркого пламени тускнело желтоватое сияние потрескивающих чадных свечек, и вдоль стен плясали карикатурные тени посетителей с несуразными носами, с торчащими подбородками, с чубами, как у Рике Хохолка{148}, и прочими уродствами в духе «Комических фантазий» знаменитого Алькофрибаса Назье. Этот бесовский пляс черных силуэтов, кривлявшихся позади живых людей, казалось, смешно и метко передразнивает их. Завсегдатаи кабака сидели на скамьях, облокотясь на доски стола, испещренные насечками, изукрашенные вензелями, кое-где прожженные, все в пятнах от жирных подливок и от вин; но рукавам, которые терлись о них, некуда было становиться еще грязнее; многие вдобавок прохудились на локтях и никак не могли защитить руки от грязи. Разбуженные сутолокой кабачка две-три курицы, пернатые попрошайки, проникли в залу через дверь со двора и, вместо того чтобы в столь поздний час дремать на своем насесте, клевали под ногами посетителей крошки с пиршественного стола.
Когда Жакмен Лампурд вошел в «Коронованную редиску», его оглушил невообразимый гам. Зверского вида молодцы потрясали пустыми кружками, барабанили кулаками по столу с такой сокрушительной силой, что сальные огарки дрожали в железных подсвечниках. Другие гуляки выкрикивали: «Лей пополней!» — и подставляли кружки. Третьи стучали ножами о края стаканов и бряцали тарелкой о тарелку, вторя застольной песне, которую хором горланили остальные, завывая вразнобой, точно собаки на луну.
Иные оскорбляли стыдливость дебелых служанок, которые проносили блюда с дымящимся жарким над головами гостей и не могли обороняться от любовных посягательств, более дорожа сохранностью кушаний, нежели своей добродетели. Кое-кто курил длинные голландские трубки, норовя выпускать дым через ноздри.
Не одни только мужчины участвовали в этой сумятице — прекрасный пол был тут представлен довольно уродливыми образцами, ибо порок позволяет себе иной раз быть не менее неприглядным, чем добродетель. Филиды,{149} чьим Тирсисом или Титиром{150} мог с помощью подходящей монеты стать первый встречный, прогуливались попарно, останавливались у столиков и, как ручные горлинки, пили из чаши каждого. От обильных возлияний вкупе с жарой щеки их багровели под кирпично-красными румянами, так что они казались идолами, раскрашенными в два слоя. Накладные или настоящие волосы, закрученные кудельками, липли к набеленному до блеска лбу или же в виде длинных буклей, завитых щипцами, спускались на глубокий вырез густо наштукатуренной груди, по фальшивой белизне которой были наведены голубые жилки. Наряд этих особ отличался кричащим и жеманным щегольством. Всюду ленты, перья, кружева, позументы, аксельбанты, блестки, яркие краски. Но нетрудно было разглядеть, что роскошь эта показная — сплошь подделка, мишура: жемчуг — дутое стекло, золотые украшения сработаны из меди, шелковые платья вывернуты и перекроены из выкрашенных юбок; но это великолепие дурного тона казалось ослепительным в пьяных глазах завсегдатаев кабачка. Что касается духов, то от этих прелестниц не веяло ароматом роз, а, как из хорьковой норы, разило мускусом, единственным запахом, способным перебить зловоние кабака и от сравнения представлявшимся слаще бальзама, амброзии и росного ладана. Время от времени какой-нибудь молодчик, разгоряченный похотью и вином, сажал к себе на колени покладистую красотку и, смачно целуя ее, шепотом делал ей предложения в анакреонтическом духе, на которые ответом было жеманное хихиканье и отказ, означавший согласие; потом по лестнице поднимались парочки, мужчина обнимал женщину за талию, а женщина, хватаясь за перила, ребячливо противилась, потому что даже самое последнее распутство требует подобия стыдливости. А другие уже спускались со смущенным видом, меж тем как их случайная Амариллис{151} непринужденнейшим образом расправляла юбки.
Издавна привыкнув к подобным нравам и, кстати, не видя в них ничего предосудительного, Лампурд не обращал ни малейшего внимания на картину, которую мы только что набросали беглым пером. Сидя за столом и прислонясь к стене, он полным нежности и вожделения взглядом взирал на бутылку канарского вина, принесенную служанкой, вина выдержанного, зарекомендованного, которое хранилось в подвале для самых заслуженных обжор и питухов. Хотя бретер пришел один, на стол поставили два бокала, зная, сколь ему противно поглощать спиртное в одиночку, и предвидя появление собутыльника. В ожидании случайного компаньона, Лампурд бережно взял за тонкую ножку и поднял до уровня глаз бокал в форме вьюнка, в котором искрилась благородная светлая влага. Усладив свое зрение теплым тоном золотистого топаза, он обратился к обонянию и, всколыхнув вино осторожным толчком, втянул его аромат раздутыми, как у геральдического дельфина, ноздрями. Оставалось ублажить вкус. Должным образом возбужденные небные сосочки впитали глоток чудесного нектара, язык омыл им десна и, наконец, с одобрительным прищелкиванием препроводил его в глотку. На такой манер великий знаток Жакмен Лампурд посредством одного-единственного бокала ублаготворил три из пяти данных человеку чувств, показав себя истым эпикурейцем, до последней капли извлекающим из всего сущего полную меру радости, какая в нем содержится. Мало того, он утверждал, что осязание и слух тоже получают свою долю наслаждения: осязание от гладкой поверхности и стройной формы хрусталя; слух — от гармоничного, вибрирующего звучания, которое он издает, когда его ударишь тупой стороной ножа или проведешь влажными пальцами вокруг кромки бокала. Но все парадоксы, нелепости и причуды чрезмерной утонченности, стремясь доказать слишком много, не доказывают ровно ничего, кроме того, сколь порочна утонченность такого сорта проходимца.
Наш бретер не пробыл в кабаке и нескольких минут, как входная дверь приотворилась, и на пороге появился новый персонаж, одетый с головы до пят в черное, за исключением белого воротника сборчатой сорочки, пузырившейся на животе между камзолом и штанами. Остатки вышивки стеклярусом, наполовину осыпавшимся, безуспешно пытались приукрасить его изношенный костюм, судя по покрою в прошлом не лишенный изящества.
Человек этот отличался мертвенной бледностью лица, словно обвалянного в муке, и красным, как раскаленный уголь, носом. Испещрявшие его фиолетовые прожилки свидетельствовали о ревностном поклонении богу Бахусу. Самая пылкая фантазия отказывалась вообразить, сколько потребовалось бочонков вина и фляжек настойки, чтобы довести этот нос до такой степени красноты. Странная физиономия незнакомца напоминала головку сыра, в которую воткнули шпанскую вишню. Чтобы довершить портрет, надо на место глаз приладить два яблочных семечка, а взамен рта представить себе шрам от сабельного удара с узким отверстием.
Таков был Малартик, закадычный друг, Пилад, Евриал{152}, fidus Achates[12] Жакмена Лампурда; конечно, он не отличался красотой, но душевными качествами полностью искупались его мелкие телесные изъяны. После Жакмена, к которому он питал глубочайшее почтение, сам Малартик считался лучшим фехтовальщиком в Париже. Играя в карты, он открывал короля с постоянством, которое никто не смел назвать наглым; пил оц беспрерывно, но никогда не пьянел; хотя никто не знал его портного, плащей у него было больше, чем у самого щеголеватого из придворных. Притом он был человек честный на свой лад, свято соблюдал кодекс разбойничьей морали, не задумался бы пойти на смерть, чтобы спасти товарища, и, стиснув зубы, претерпеть любую пытку — дыбу, испанские сапожки, деревянные козлы, даже пытку водой, самую мучительную для такого закоренелого пьяницы, — лишь бы не выдать свою шайку неосторожным словом. Короче говоря, в своем духе он был превосходный малый и недаром пользовался всеобщим уважением в том кругу, где протекала его деятельность.
Малартик направился прямо к столику Лампурда, придвинул себе табурет, сел напротив своего друга, молча взял со стола полный до краев стакан, словно дожидавшийся его, и осушил одним махом. Его метода резко отличалась от методы Лампурда, но достигала того же эффекта, о чем свидетельствовал кардинальский пурпур его носа. К концу пирушки у обоих приятелей насчитывалось одинаковое количество пометок мелом на грифельной доске кабачка, и добрый отец Бахус, сидя верхом на бочке, улыбался тому и другому, не делая различия, как двум несхожим между собой, но равно усердным ревнителям его культа. Один спешил отслужить мессу, другой старался ее растянуть, но, так или иначе, оба истово отправляли ее.
Лампурд, знакомый с обычаями приятеля, несколько раз кряду наполнял его стакан. За первой бутылкой последовала вторая, которая вскоре тоже была опустошена; ее сменила третья, которая продержалась дольше и сдалась не так легко, после чего оба бретера, чтобы перевести дух, потребовали трубки и сквозь смрад, сгустившийся у них над головами, принялись пускать в потолок длинные завитки дыма, какие дети рисуют над трубами домиков на полях школьных тетрадок. Выдохнув несколько затяжек, они, наподобие богов Гомера и Вергилия, исчезли в сплошном облаке, сквозь которое только нос Малартика пылал, как огненный метеор.
Укрытые этой завесой от остальных завсегдатаев, приятели вступили в беседу, которой никак не следовало достичь слуха доносчиков: по счастью, «Коронованная редиска» была местом надежным, ни один наушник не посмел бы сунуться в это логово, а если бы нашелся такой смельчак, под ним тут же открылся бы люк, и он попал бы в погреб, откуда целым не выходил никто.
— Как дела? — спрашивал у Малартика Лампурд тоном купца, осведомлявшегося о ценах на товары. — Теперь ведь мертвый сезон. Король живет в Сен-Жермене, и все придворные переселились туда же. Это пагубно отражается на работе, в Париже встретишь одних, буржуа и всякий мелкий люд.
— И не говори! — подхватил Малартик. — Просто срам! Останавливаю я как-то вечером на Новом мосту с виду довольно приличного молодчика, спрашиваю у него кошелек или жизнь; он швыряет мне кошелек, а там всего три-четыре серебряных монеты, и плащ, который он мне оставил, был из подкладочной ткани с мишурным галуном. Выходит, обворованным оказался я. В игорном доме встречаешь только лакеев, судейских писцов да молокососов, которые стащили из отцовской конторки несколько пистолей и пришли попытать счастья. Сдашь два раза карты, бросишь три раза кости — и они обчищены дотла. Даже обидно упражнять свой талант ради такой мизерной выгоды! Люсинды, Доримены и Сидализы, обычно столь жалостливые к удальцам, как их ни лупи, отказываются платить по счетам и распискам, ссылаясь на то, что, ввиду отсутствия двора, сами не получают ни содержания, ни подарков и ради куска хлеба вынуждены отдавать в заклад свое тряпье. Не подвернись мне ревнивый старик рогоносец, который нанимает меня избивать любовников своей жены, я в этом месяце не заработал бы себе на воду, потреблять которую меня, впрочем, не принудила бы самая лютая нужда, — даже смерть стоймя представляется мне куда слаще. У меня не было ни одного заказа ни на ловушку, ни хотя бы на пустяковое похищение, ни на самое плевое убийство. Боже правый, в какие времена мы живем! Ненависть слабеет, злоба глохнет, чувство мести пропадает; обиды забываются не хуже, чем благодеяния; наш омещаненный век мельчает, и нравы становятся пресными до омерзения.
— Да, хорошие времена миновали, — согласился Жакмен Лампурд. — Раньше какой-нибудь вельможа, оценив пашу отвагу, нашел бы ей применение. Мы содействовали бы его похождениям и секретным делам вместо того, чтобы возиться невесть с кем. Однако еще выпадают счастливые случаи.
При этих словах он забренчал в кармане золотыми монетами. От их мелодичного звона у Малартика глаза так и загорелись; но вскоре взор его вновь потух, ибо деньги товарища неприкосновенны; только из груди его вырвался вздох, который можно было бы перевести словами: «Тебе-то повезло!»
— Я рассчитываю вскорости раздобыть для тебя работу, — продолжал Лампурд, — ты от дела не отлыниваешь и мигом готов засучить рукава, когда надо кого-то заколоть шпагой или застрелить из пистолета. Как человек расторопный, ты в назначенный срок исполняешь поручения и умеешь увильнуть от полиции. Удивляюсь, почему Фортуна ни разу не сошла со стеклянного шара у твоих дверей. Правда, эта потаскуха по причине обычного для женщин дурного вкуса осыпает милостями множество разных прощелыг и недорослей в ущерб людям заслуженным. А в ожидании, когда ты приглянешься этой негоднице, давай не спеша пить, пока пробка не набухнет у нас на подошвах.
Это философское заключение в своей неоспоримой мудрости не встретило возражений у приятеля Жакмена. Оба бретера, набив трубки, наполнили стаканы, облокотились на стол с намерением провести время в свое удовольствие и явно не желая, чтобы их покой был нарушен.
Однако он все же был нарушен. На другом конце залы послышались громкие голоса — кучка людей окружила двух мужчин, бившихся об заклад. Один не верил в сбыточность того, что утверждал другой, а тот брался доказать свою правоту на деле. Толпа раздалась. Оглянувшись на шум, Малартик и Лампурд увидели человека среднего роста, но на диво крепко скроенного и подвижного, с лицом испанского мавра, с платком на голове, одетого в бурый балахон, который, распахиваясь, открывал камзол буйволовой кожи и коричневые штаны с медными пуговицами в виде бубенчиков, нашитыми по шву. Из-за широкого красного шерстяного пояса, стянутого вокруг бедер, человек этот достал валенсийскую наваху, в раскрытом виде не уступавшую по длине сабле, закрепил кольцо, ощупал острие пальцем и, должно быть, удовлетворившись осмотром, сказал своему противнику:
— Я готов. — Затем гортанным голосом выговорил имя, непривычное для посетителей «Коронованной редиски», но уже не раз упоминавшееся на страницах нашей книги: — Чикита! Чикита!
На повторный призыв худенькая изможденная девочка, спавшая в темном углу залы, сбросила плащ, которым так была укутана, что казалась кучкой тряпья, подошла к Агостену, ибо это был он, и, устремив на бандита огромные глаза, обрамленные синевой, а потому сверкавшие особенно ярко, спросила его глубоким грудным голосом, неожиданным для ее щуплой фигурки:
— Хозяин, чего ты хочешь от меня? Я готова повиноваться тебе здесь, как и в ландах, потому что ты храбрец и наваха твоя насчитывает много красных полос.
Чикита произнесла эти слова на баскском наречии, столь же невразумительном для французов, как верхнегерманский, древнееврейский или китайский язык.
Агостен взял Чикиту за руку и поставил ее у двери, приказав ей не шевелиться. Девочка, привычная к подобным фокусам, не выразила ни страха, ни удивления; она стояла, свесив руки и безмятежно глядя в пространство, меж тем как Агостен отошел в другой конец залы, выдвинул вперед одну ногу, вторую отставил, а в руке раскачивал длинный нож, прижав его рукоятку к запястью.
Двойной ряд любопытных образовал нечто вроде коридора между Агостеном и Чикитой, — толстобрюхие зрители задерживали дыхание, втянув живот, чтобы он не выступал из ряда. Длинноносые предусмотрительно откидывались назад, чтобы лезвие на лету не отсекло им кончик клюва.
Наконец рука Агостена выпрямилась, точно пружина, и грозное оружие, сверкнув молнией, вонзилось в дверь над самой головой Чикиты, будто снимая с нее мерку, но не задело у девочки ни единого волоска. Когда наваха со свистом пролетала мимо, зрители невольно зажмурились, только у Чикиты даже не дрогнула густая бахрома ресниц. Ловкость бандита вызвала одобрительный гул в толпе этих требовательных ценителей. Сам противник Агостена, сомневавшийся в возможности такого фокуса, восторженно захлопал в ладоши.
Агостен вытащил еще сотрясавшийся нож, вернулся на прежнее место и на сей раз всадил клинок между рукой и телом невозмутимой Чикиты. Отклонись острие на три-четыре линии, оно попало бы в самое сердце девочки. Хотя публика кричала «довольно», Агостен повторил опыт и всадил нож по другую сторону груди, желая доказать, что это сноровка, а не случайность.
Чикита, гордая шумными рукоплесканиями, которые относились к ее мужеству не менее, чем к ловкости Агостена, обводила публику победоносным взглядом; ноздри ее раздувались, с силой втягивая воздух, а полуоткрытый рот обнажил крепкие, как у хищника, зубы, сверкавшие жестокой белизной. Блеск оскала и фосфорические искорки зрачков были тремя светлыми точками, что озаряли ее смуглое от загара личико. Всклокоченные волосы, словно длинные черные змейки, вились вокруг лба и щек, выбиваясь из-под пунцовой ленты непокорными кольцами. На ее шее, более темной, чем кордовская кожа, будто капли молока, блестели бусины ожерелья, подаренного Изабеллой. Наряд ее несколько изменился к лучшему — на ней больше не было канареечно-желтой юбки с вышитым попугаем, которая в Париже слишком уж бросалась бы в глаза. Теперь Чикита была в коротком темно-синем платье, собранном на бедрах, и в душегрейке или кофточке из черного камлота, застегнутой на груди двумя-тремя роговыми пуговицами. Башмаки на ее ножках, привыкших ступать по душистому цветущему вереску, были ей слишком велики, но у сапожника во всей лавке не нашлось обуви ей по размеру. Все это роскошество явно стесняло ее; однако поневоле пришлось сделать уступку зимней парижской слякоти. Чикита осталась той же дикаркой, что и в харчевне «Голубое солнце», но в ее первобытном мозгу теперь роилось больше мыслей, и сквозь облик девочки-подростка уже проглядывала девушка. За время путешествия из ланд она перевидала немало такого, что поразило ее неискушенное воображение.
Воротясь в свой угол и прикрывшись плащом, Чикита не замедлила снова уснуть. Человек, проигравший пари, выплатил условленные пять пистолей ее приятелю. Тот сунул их за пояс и сел допивать начатую кружку; пил он медленно, ибо не имел постоянного жилья и предпочитал коротать время в кабаке, вместо того чтобы трястись от холода где-нибудь под мостом или на церковной паперти, ожидая столь позднего в эту пору рассвета. Таково же было положение и многих других горемык, которые спали крепчайшим сном кто на скамьях, кто под ними, завернувшись вместо одеял в собственные плащи. Забавное зрелище представляли собой все эти сапоги, вытянутые на полу, как ноги мертвецов после битвы. И в самом деле, битвы, где жертвы Бахуса, шатаясь, добирались до какого-нибудь укромного уголка, прислонялись лбом к стене и под смешки собутыльников с более выносливыми желудками выворачивались наизнанку, истекая вместо крови вином.
— Клянусь дьяволом, парень не промах! — сказал Лампурд Малартику. — Надо иметь его в виду для трудных предприятий. С теми, к кому опасно подступиться, удар ножом издалека — отличное средство, куда лучше, чем пальба из пистолета, которая огнем, дымом и грохотом словно нарочно созывает на подмогу полицейских.
— Да, чисто сработано, — согласился Малартик, — но стоит промахнуться, как останешься безоружным и не оберешься сраму. Лично меня в этом рискованном показе ловкости больше пленила отвага девочки. Этакая пигалица! А в ее тощенькой, щупленькой груди заключено сердце львицы и античной героини. И вообще мне нравятся ее горящие, как уголья, глаза, ее невозмутимый, неприступный вид. Рядом с утицами, индюшками, гусынями и прочими обитательницами заднего двора она похожа на молодого сокола, залетевшего в курятник. Я знаю толк в женщинах и по бутону могу судить о цветке. Через год-другой Чикита, как ее называет этот черномазый разбойник, станет королевским лакомством…
— Скорее, воровским, — философски заключил Лампурд. — Разве что судьба примирит обе крайности, сделав из этой morena[13], как говорят испанцы, любовницу жулика и принца. Такое уже бывало, причем не всегда принца любят сильнее, настолько у потаскушек испорчен и развращен вкус. Однако оставим пустую болтовню и обратимся к серьезным делам. Возможно, скоро я буду нуждаться в помощи нескольких испытанных храбрецов для предложенной мне экспедиции, не столь дальней, как та, которую предприняли аргонавты в поисках золотого руна.
— Золотого! Совсем не плохо! — пробормотал Малартик, уткнувшись носом в стакан, где вино как будто заискрилось и зашипело от соприкосновения с этим раскаленным углем.
— Предприятие нелегкое и небезопасное, — продолжал бретер. — Мне поручено убрать некоего капитана Фракасса, актера по ремеслу, будто бы мешающего амурным делам очень знатного вельможи. С этим-то делом я, конечно, управлюсь и сам; но, кроме того, надо устроить похищение красотки — ее любят и вельможа и актер, а вступится за нее вся труппа. Итак, надо составить список надежных и не очень-то щепетильных дружков. Каков, по-твоему, Носомклюй? Что ты о нем скажешь?
— Он выше всяких похвал! — ответил Малартик. — Но рассчитывать на него не приходится. Он болтается на железной цепи в Монфоконе, дожидаясь, пока его останки, расклеванные птицами, упадут с виселицы в яму, на кости опередивших его приятелей.
— Вот почему его с некоторых пор не было видно, — равнодушнейшим тоном заметил Лампурд. — Чего стоит жизнь! Попируешь спокойно вечерок с приятелем в почтенном заведении, расстанешься с ним — и отправитесь каждый по своим делам. А через неделю спросишь: «Как поживает такой-то?» — и тебе ответят: «Его повесили».
— Увы! Ничего не поделаешь, — вздохнул приятель Лампурда, принимая патетически-печальную или печально-патетическую позу. — Верно говорит господин де Малерб в своем «Утешении Дюперье»:
Но он принадлежал к тем душам непорочным,
Чей жребий так жесток…
— Нам не пристало хныкать по-бабьи, — сказал бретер. — Покажем себя мужественными стоиками и будем продолжать свой жизненный путь, надвинув шляпу до бровей, лихо подбоченясь и бросая вызов виселице; ведь от нее только почета меньше, чем от пушек, мортир, кулеврин и бомбард, несущих смерть солдатам и командирам, не считая угрозы мушкетного огня и холодного оружия. За отсутствием Носомклюя, который, верно, пребывает во славе рядом с добрым разбойником, возьмем Меднолоба. Малый он крепко сбитый, выносливый и в трудном деле не подведет.
— Меднолоб ныне плавает вдоль берберийских берегов под началом полицейского комиссара. Король, питая к нашему другу особое расположение, повелел украсить ему плечо королевской лилией, чтобы сыскать его повсюду, если он потеряется. Зато, к примеру, Свернишей, Винодуй, Ершо и Верзилон еще свободны и могут быть предоставлены в распоряжение вашей милости.
Этих мне будет достаточно, все они молодцы как на подбор, и, когда придет время, ты меня с ними сведешь. А теперь допьем последнюю кварту и уберемся отсюда, пока ноги носят. Воздух в зале становится зловоннее Авернского озера, над которым птица не пролетит, не упав мертвой от вредоносных испарений. Тут разит и потом, и салом, и кое-чем похуже, так что свежий ночной ветерок пойдет нам на пользу. Кстати, ты где ночуешь сегодня?
— Я не высылал квартирьера приготовить мне ночлег, — ответил Малартик, — и нигде еще не раскинул шатра. Я мог бы толкнуться в трактир «Улитка», но там у меня счет длиной с клинок моей шпаги, а не очень-то приятно увидеть при пробуждении кислую рожу старого знакомца-трактирщика, который ворчливо отказывает в малейшей новой затрате и требует отдать долг, потрясая над головой пачкой счетов, как сам господин Юпитер молниями. Внезапное появление полицейского меньше удручило бы меня.
— Это все от нервов, у любого великого мужа есть свои слабые места, — назидательно заметил Лампурд, — но раз тебе претит являться в «Улитку», а в гостинице «Под открытом небом» холодновато, принимая во внимание зимнюю пору, то по старинной дружбе предлагаю тебе гостеприимство в моем поднебесном жилище и готов уступить полставня в качестве ложа.
— С сердечной признательностью принимаю твое приглашение, — ответил Малартик. — О, стократ блажен тот смертный, у кого есть свои лары и пенаты и кто может усадить задушевного друга к собственному очагу.
Жакмен Лампурд исполнил обещание, данное самому себе после того, как оракул сделал выбор в пользу кабака. Бретер был в лоск пьян, но никто так не владел собой во хмелю, как Лампурд. Не вино управляло им, нет — он управлял вином. Тем не менее, когда он встал, ему показалось, будто ноги у него налиты свинцом и вдавлены в пол. С большими усилиями поднял он эти тяжеленные колоды и зашагал к двери, откинув голову и держась очень прямо. Малартик пошел за ним довольно твердой поступью, ибо он всегда был настолько пьян, что дальше пьянеть некуда. Погрузите в море насыщенную водой губку, и она не вберет более ни капли. Таков был и Малартик, с той разницей, что его насквозь пропитывала не вода, а чистый сок виноградной лозы. Итак, оба приятеля отбыли безо всяких осложнений и даже умудрились, не будучи ангелами, подняться по лестнице Иакова, ведущей с улицы на чердак Лампурда.
В этот час кабак представлял собой смешное и плачевное зрелище. Огонь еле тлел в очаге. Свечи, с которых никто уже не снимал нагара, оплыли огромными наростами, а фитили их покрылись черными шляпками. Потоки сала стекали вдоль подсвечника и твердели, застывая. Дым от трубок и пар от дыхания и кушаний сгустился под потолком в непроницаемый туман; чтобы очистить пол от грязи и отбросов, надо было отвести туда, как в Авгиевы конюшни, целую реку. Столы были усеяны объедками, птичьими остовами и костями от окороков, обглоданных дотла, будто над ними орудовали псы, охотники до падали. Тут и там из опрокинутого в пылу драки кувшина стекали остатки вина, и капли его, собираясь в красную лужу, казались каплями крови из отрубленной головы; размеренный отрывистый шум их нападения, как тиканье часов, вторил храпу пьяниц.
Маленький Мавр на Новом Рынке прозвонил четыре часа. Кабатчик, уснувший, положив голову на скрещенные руки, встрепенулся, пытливым взглядом окинул залу и, видя, что потребители ничего больше не спрашивают, кликнул слуг и сказал им:
— Время позднее, выметайте-ка этих бродяг и шлюх вместе с мусором — все равно пить они перестали!
Слуги взмахнули метлами, выплеснули несколько ведер воды и за пять минут, не жалея тумаков, опростали кабак, выкинув всех прямо на улицу.
XIII ДВОЙНАЯ АТАКА
Герцог де Валломбрез был из тех, кто упорен и в любви и в мести. Если он смертельно ненавидел Сигоньяка, то к Изабелле он питал ту неистовую страсть, какую разжигает недоступность в душах высокомерных и необузданных, не привыкших к препятствиям. Победа над актрисой сделалась главной целью его жизни; избалованный легкими успехами в своих амурных похождениях, он никак не мог объяснить себе эту неудачу и часто во время беседы, прогулки, катания, в театре или в церкви, у себя дома или при дворе он вдруг задумывался и задавал себе недоуменный вопрос: «Как это может быть, чтобы она меня не любила?»
И правда, это было непостижимо для человека, не верившего в добродетель женщин, а тем паче актрис. Ему приходило в голову, что холодность Изабеллы — обдуманная игра с целью добиться от него большего, ибо ничто так не разжигает вожделение, как притворное целомудрие и ужимки недотроги. Но пренебрежение, с которым она отвергла драгоценности, поставленные к ней в комнату Леонардой, никак не позволяло причислить ее к женщинам, набивающим себе цену. Любые, самые богатые уборы, конечно, оказали бы не больше действия. Раз Изабелла даже не раскрыла футляров, что толку посылать ей жемчуга и бриллианты, способные соблазнить самое королеву? Письменные излияния тронули бы ее не более, с каким бы изяществом и пылом секретари герцога ни живописали страсть своего господина. Писем она не распечатывала. И проза ли, стихи ли, тирады или сонеты — все осталось бы втуне. Кстати, поэтические стенания, годные для робких вздыхателей, совсем не соответствовали напористой натуре Валломбреза. Он велел позвать тетку Леонарду, с которой не переставал поддерживать секретные сношения, полагая, что полезно иметь шпиона даже в неприступной крепости. Стоит гарнизону ослабить бдительность, как враг проникнет через услужливо открытый лаз.
Леонарда потайной лестницей была проведена в личный кабинет герцога, где он принимал только близких друзей и преданных слуг. Это был продолговатый покой, обшитый панелями с капелированными ионическими колонками, а в промежутках помещались овальные медальоны с богатой рельефной резьбой по цельному дереву, как будто прикрепленные к лепному карнизу замысловатыми переплетениями лент и бантов. В этих медальонах, под видом мифологических Флор, Венер, Харит, Диан, нимф и дриад, изображены были любовницы герцога, одетые на греческий манер, причем одна выставляла напоказ алебастровую грудь, другая — точеную ножку, третья — плечи с ямочками, четвертая — иные потаенные прелести; и нарисованы они были так искусно, что их можно было принять за плод воображения художника, но не портреты с натуры. А на самом деле записные скромницы позировали для этих картин Симону Вуэ, знаменитейшему живописцу своего времени, воображая, будто оказывают великое снисхождение, и не подозревая, что вместе со многими другими составят целую галерею.
На плафоне, вогнутом в виде раковины, был изображен туалет Венеры. Пока нимфы наряжали ее, богиня искоса поглядывала в зеркало, которое держал перед ней великовозрастный Купидон, — художник придал ему черты герцога, — и видно было, что внимание небожительницы привлечено богом любви, а не зеркалом. Секретеры, инкрустированные флорентийской мозаикой и битком набитые нежными посланиями, локонами, браслетами, кольцами и другими залогами забытых увлечений; стол, тоже с мозаикой, где на фоне черного мрамора выступали красочные букеты цветов, осаждаемых мотыльками с крылышками из драгоценных камней; кресла с витыми ножками черного дерева, обитые розовато-желтой брокателью с серебряными разводами; привезенный французским послом из Константинополя смирнский ковер, на котором, быть может, сиживали султанши, — вот обстановка укромного приюта, которому Валломбрез отдавал предпочтение перед парадными апартаментами и где он обычно проводил время. Герцог сделал Леонарде благосклонный знак рукой, указывая на табурет и приглашая сесть. Леонарда была образцом дуэньи, и отпечаток молодости и свежести на окружающем великолепии особенно оттенял отвратительное уродство ее изжелта-бледного лица. В черном платье, расшитом стеклярусом, в низко надвинутом на лоб чепце, она на первый взгляд казалась почтенной особой строгих правил; но двусмысленная улыбка в уголках губ, густо поросших черными волосками, ханжески плотоядный взгляд окруженных темными морщинами глаз, подлое, алчное, угодливое выражение лица вскоре показывали вам, что вы ошиблись и перед вами отнюдь не почтенная, а весьма сомнительная особа, из тех, что моют молодых девиц перед шабашем и по субботам путешествуют верхом на помеле.
— Тетушка Леонарда, — начал герцог, прерывая молчание, — я позвал вас, зная, сколь опытны вы в делах любви, которой предавались сами в молодые годы, а затем споспешествовали — в зрелом возрасте; я хочу с вами посоветоваться, как мне покорить эту неприступную Изабеллу. Дуэнье, бывшей в прошлом первой любовницей, несомненно, известны все ухищрения.
— Ваша светлость оказывает большую честь моим скромным познаниям, — с постной миной отвечала старая комедиантка, — но в моем рвении угодить вам сомневаться не приходится.
— Я и не сомневаюсь, — небрежно бросил Валломбрез, — однако дела мои от этого не подвинулись ни на йоту. Как поживает наша строптивая красавица? Неужто она по-прежнему без ума от своего Сигоньяка?
Да, по-прежнему, — со вздохом подтвердила тетка Леонарда. — У молодежи бывают такие необъяснимые и упорные пристрастия. К тому же Изабелла сделана, как видно, из особого теста. Никакие искушения не властны над ней, она из тех женщин, которые в земном раю не стали бы слушать змия.
— Как же этому Сигоньяку удалось пленить ее, когда она глуха к молениям других? — гневно вскричал герцог. — Уж не обладает ли он каким-нибудь зельем, амулетом или талисманом?
— Нет, монсеньор, просто он был несчастлив, а для нежных, романтических и гордых душ нет большего блаженства, чем расточать утешения; они предпочитают давать, а не получать, и слезы жалости открывают дорогу любви. Так случилось и с Изабеллой.
— Вы говорите что-то несусветное; по-вашему, быть тощим, бледным, оборванным, обездоленным, смешным достаточно для того, чтобы внушить любовь! Придворные дамы немало посмеялись бы над такими взглядами!
— В самом деле, они, по счастью, необычны, немногие женщины впадают в подобное заблуждение. Вы, ваша светлость, натолкнулись на исключительный случай.
— С ума сойдешь от бешенства, когда подумаешь, что захудалый дворянчик успевает там, где я потерпел поражение, и в объятиях любовницы смеется над моим афронтом!
— Подобные мысли не должны мучить вашу светлость. Сигоньяк не наслаждается ее любовью в том смысле, в каком подразумеваете вы. Добродетель Изабеллы не потерпела ущерба. Нежное чувство этих идеальных любовников, при всей своей пылкости, остается платоническим и не идет дальше прикосновения губ ко лбу или к руке. Потому-то оно и длится так долго: удовлетворенная страсть гаснет сама собой.
— Вы уверены в этом, тетушка Леонарда? Возможно ли, чтобы они хранили целомудрие при распущенности закулисной и кочевой жизни? Ночуя под одной кровлей, ужиная за одним столом, постоянно сталкиваясь во время репетиций и представлений? Для этого надо быть ангелами!
— Изабелла, без сомнения, ангел, и вдобавок у нее отсутствует та гордыня, из-за которой Люцифер был низвергнут с небес. Сигоньяк же слепо подчиняется любимой женщине и готовив все жертвы, каких бы она ни потребовала.
Если так, чем же вы можете мне помочь? — спросил Валломбрез. — Ну-ка, поройтесь хорошенько в вашем ларчике с уловками, отыщите такое испытанное и безотказное средство, такой неотразимый маневр, такую хитроумную махинацию, которая обеспечит мне победу. Вы знаете меня, денег я не жалею… И он опустил свою тонкую белую, как у женщины, руку в чашу работы Бенвенуто Челлини, стоявшую на столике возле него и наполненную золотыми монетами. При виде денег, звеневших так соблазнительно, совиные глаза Дуэньи загорелись, прорезав светящимися бликами темную оболочку ее мертвого лица. Несколько мгновений она молчала, что-то обдумывая. Валломбрез с нетерпением дожидался итога ее раздумий.
— Если не душу Изабеллы, то тело ее я могла бы вам предоставить, — сказала она наконец. — Восковой слепок с замка, поддельный ключ, сильное снотворное — и готово дело.
— Только не это! — прервал ее герцог с невольным жестом отвращения. — Какая гадость! Обладать спящей женщиной, бесчувственным неживым телом, статуей без сознания, без воли, без памяти, иметь любовницу, которая после пробуждения посмотрит на вас удивленным взглядом, словно еще не очнувшись от сна, и тотчас же вновь возгорится ненавистью к вам и любовью к другому! Быть кошмарным образом сладострастного сновидения! Нет, так низко я не паду никогда!
— Вы правы, ваша светлость, — согласилась Леонарда. — Обладание ничто без согласия. Я предложила этот выход за неимением лучшего. Я сама не люблю этих темных дел и зелий, от которых отдает стряпней отравительницы. Но, обладая красотой Адониса, любимца Венеры, блистая роскошью и богатством, положением при дворе, сочетая в себе все, что пленяет женщин, почему вы просто-напросто не попытаетесь поухаживать за Изабеллой?
Черт возьми! Старуха права, — воскликнул Валломбрез, бросив самодовольный взгляд в прекрасное венецианское зеркало, которое держали два резных амура, покачиваясь на золотой стреле, так, что зеркало можно было наклонять или выпрямлять, чтобы лучше разглядеть себя. — Пускай Изабелла холодна и добродетельна, но ведь не слепа же она, а природа не была для меня мачехой, и наружность моя не приводит людей в содрогание. Быть может, для начала я покажусь ей картиной или статуей, которая восхищает поневоле и, не внушая симпатии, привлекает взор гармонией линий и красок. А потом я найду для нее неотразимые слова, подкрепляя их взглядами, способными растопить даже ледяное сердце, и огнем своим, скажу без ложной скромности, воспламенявшими самых холодных и бесстрастных придворных красавиц; кстати, эта актриса не лишена гордости, и ухаживание настоящего герцога должно польстить ее самолюбию. Я устрою ее во Французскую комедию и найму для нее хлопальщиков. Трудно поверить, чтобы она после этого вспомнила какого-то ничтожного Сигоньяка, от которого я уж найду средство избавиться.
— Вашей светлости больше ничего не угодно мне сказать? — спросила Леонарда, поднявшись и сложив руки на животе в позе почтительного ожидания.
— Нет, можете идти, — ответил Валломбрез, — но сперва возьмите вот это, — и он протянул ей пригоршню золотых монет. — Вы не виноваты, что в труппе Ирода оказалось такое чудо чистоты.
Старуха поблагодарила и направилась к двери, пятясь, но ни разу не наступив себе на юбки в силу сценических навыков. На пороге она круто повернулась и скоро исчезла в недрах лестницы. После ее ухода Валломбрез позвал камердинера, чтобы тот одел его.
— Слушай, Пикар, — начал он, — ты должен превзойти себя, придав мне самый что ни на есть блистательный вид: я хочу быть красивее, чем Букенгем, когда он хотел пленить королеву Анну Австрийскую. Если я вернусь ни с чем после охоты за неприступной красавицей, тебе не миновать плетей, ибо у меня самого нет недостатка или изъяна, который следовало бы маскировать.
— Наружность вашей светлости столь совершенна, что искусство должно лишь показать ее природные достоинства во всем их блеске. Если вы соизволите несколько минут спокойно посидеть перед зеркалом, я завью и причешу вашу светлость так, что ни одно женское сердце не устоит перед вами.
С этими словами Пикар сунул щипцы для завивки в серебряную чашу, где под слоем пепла тихо тлели масличные косточки, как огонь в испанских жаровнях; когда щипцы нагрелись в должной мере, в чем камердинер убедился, поднеся их к своей щеке, он защемил ими кончики прекрасных, черных как смоль волос, которые податливо завились кокетливыми спиралями.
Когда герцог де Валломбрез был причесан, а его тонкие усы с помощью ароматичной помады изогнулись в виде купидонова лука, камердинер откинулся назад, чтобы полюбоваться плодами своих трудов, подобно тому как художник, прищурясь, судит о последних мазках, положенных им на картину.
— Какой костюм благоугодно надеть вашей светлости? Если мне будет дозволено высказать свое суждение, хотя в нем и нет надобности, я присоветовал бы черный бархатный с прорезями и лентами черного же атласа, а к нему шелковые чулки и простой воротник из рагузского гипюра. Атлас, узорчатый шелк, золотая и серебряная парча и драгоценные каменья своим назойливым сверканьем отвлекли бы взгляд, который должен быть всецело сосредоточен на вашем лице, пленительном, как никогда; и черный цвет будет выгодно оттенять томную, интересную бледность, оставшуюся у вас от потери крови.
«Плут обладает неплохим вкусом и польстить умеет не хуже царедворца, — пробормотал про себя Валломбрез. — Да, черный цвет пойдет ко мне! Кстати, Изабелла не из тех женщин, которых можно ослепить златоткаными шелками и бриллиантовыми пряжками».
— Пикар, — сказал он вслух, — подайте мне камзол с панталонами из черного бархата и шпагу вороненой стали. Так, а теперь скажите Лараме, чтобы карету запрягли четверкой гнедых, да поживее. Я намерен выехать через четверть часа.
Пикар мигом бросился выполнять распоряжения хозяина, а Валломбрез в ожидании кареты шагал по комнате из конца в конец и всякий раз, проходя мимо, бросал вопросительный взгляд в зеркало, которое, против обыкновения всех зеркал, на каждый вопрос давало ему благожелательный ответ.
«Эта вертихвостка должна быть заносчива, переборчива и пресыщена до черта, чтобы сразу же не влюбиться в меня без памяти, как бы она ни прикидывалась неприступной и ни разводила бы платоническую любовь с Сигоньяком. Да, моя милочка, скоро и вы будете помещены в один из этих медальонов изображенной безо всяких покровов, в виде Селены, которая, несмотря на свою холодность, приходит лобызать Эндимиона. Вы займете место среди этих богинь, бывших вначале не менее строгими, жестокосердными, неумолимыми, чем вы, а главное, светскими дамами, какой вам не бывать никогда! Ваше поражение не замедлит усугубить мое торжество. Ибо знайте, любезная актрисочка, — воле герцога Валломбреза нет преград. Frango пес frangor[14], — таков мой девиз!
Явился лакей доложить, что карета подана. Расстояние между улицей де Турнель, где жил герцог де Валломбрез, и улицей Дофина было быстро преодолено четверкой крепких мекленбургских коней с настоящим барским кучером на козлах, который не уступил бы дорогу даже принцу крови и дерзко правил наперерез любым экипажам.
Но как ни был смел и самонадеян молодой герцог, однако по пути в гостиницу он испытывал непривычное волнение. От неуверенности в том, как примет его неприступная Изабелла, сердце его билось быстрее, чем всегда. Разнородные чувства владели им. Он переходил от ненависти к любви, в зависимости от того, представлялась ли ему молодая актриса непокорной или послушной его желаниям.
Когда роскошная позолоченная карета, запряженная четверкой кровных лошадей, сопровождаемая оравой ливрейных лакеев, подъехала к гостинице на улице Дофина, ворота распахнулись перед ней, и сам хозяин, сорвав с головы колпак, не сошел, а ринулся с крыльца навстречу столь высокопоставленному посетителю, спеша узнать, что ему угодно. Как ни торопился трактирщик, Валломбрез уже выпрыгнул из кареты без помощи подножки и быстрым шагом направился к лестнице. И хозяин, отвешивая почти что земной поклон, едва не ткнулся лбом в его колени. Резким отрывистым тоном, свойственным ему в минуты волнения, молодой герцог обратился к трактирщику:
— Здесь у вас проживает мадемуазель Изабелла. Я желаю ее видеть. Она сейчас дома? О моем посещении предупреждать не надо. Пусть ваш слуга проводит меня до ее комнаты.
Хозяин на все вопросы почтительно склонял голову и только добавил просительным тоном:
— Монсеньор, окажите мне великую честь и дозвольте самому проводить вас. Такой почет не подобает простому слуге, да и хозяин едва достоин его.
— Как хотите, — пренебрежительно бросил Валломбрез, — только поскорее; я вижу, из окон уже высовываются любопытные и глазеют на меня, как будто я турецкий султан или Великий Могол.
— Я пойду вперед и буду указывать вам дорогу, — сказал хозяин, обеими руками прижимая к груди свой колпак.
Поднявшись на крыльцо, герцог и его провожатый пошли по длинному коридору, вдоль которого, точно кельи в монастыре, были расположены комнаты. Дойдя до дверей Изабеллы, хозяин остановился и спросил:
— Как прикажете доложить о вас?
— Вы можете уходить, — ответил Валломбрез, берясь за ручку двери. — Я сам доложу о себе.
Изабелла в утреннем капоте сидела у окна на стуле с высокой спинкой, положив вытянутые ноги на ковровую скамеечку, и учила роль, которую ей предстояло играть в новой пьесе. Закрыв глаза, чтобы не видеть написанных в тетрадке слов, она вполголоса, как школьник, твердит урок, повторяла те восемь или десять стихотворных строчек, которые только что прочла несколько раз кряду. Свет из окна выделял нежные очертания ее профиля, в солнечных лучах искрились золотом пушистые завитки у нее на шее, и меж полуоткрытых губ зубы отливали перламутром. Легкий серебристый отблеск смягчал темный колорит неосвещенной фигуры и одежды, создавая то чарующее колдовство тонов, которое на языке живописцев зовется «светотенью». Сидящая в такой позе молодая женщина радовала глаз, как прекрасная картина, которую достаточно просто скопировать искусному мастеру, чтобы она стала жемчужиной и гордостью любой галереи.
Думая, что в комнату по какому-то делу вошла служанка, Изабелла не подняла своих длинных ресниц, казавшихся на свету золотыми нитями, и продолжала в мечтательной полудремоте повторять стихи, почти бессознательно, как перебирают четки. Чего ей было опасаться среди бела дня в многолюдной гостинице, когда товарищи ее находились рядом, а о приезде в Париж Валломбреза она не знала? Покушения на Сигоньяка не возобновлялись, и при всей своей пугливости молодая актриса почти что успокоилась. Ее холодность, без сомнения, остудила пыл молодого герцога, и она сейчас вспоминала о нем не больше, чем о татарском хане или о китайском императоре.
Валломбрез дошел до середины комнаты, затаив дыхание и стараясь ступать бесшумно, чтобы не спугнуть чарующую живую картину, которую он созерцал с понятным восхищением; в ожидании, чтобы Изабелла подняла глаза и увидела его, он преклонил одно колено и, держа в правой руке шляпу, перо которой распласталось по полу, а левую прижав к сердцу, замер в этой позе, почтительностью своей угодившей бы даже королеве.
Как ни хороша была молодая актриса, Валломбрез, надо сознаться, был не менее хорош; свет падал прямо на его лицо, такое классически прекрасное, как будто молодой греческий бог, покинув развенчанный Олимп, превратился во французского герцога. Любовь и восторженное созерцание стерли на время печать властной жестокости, которая, к сожалению, нередко портила его черты. В глазах горел пламень, губы пылали, бледные щеки зарделись огнем, идущим от сердца. Синеватые молнии пробегали по завитым, блестящим от помады волосам, как солнечные блики по отполированному агату. Изящная и вместе с тем мощная шея сверкала белизной мрамора. Озаренный страстью, он весь светился и сиял, и, право же, не мудрено, что герцог, наделенный такой наружностью, не допускал мысли о сопротивлении со стороны женщины, будь она богиня, королева или актриса.
Наконец Изабелла повернула голову и увидела в нескольких шагах от себя коленопреклоненного Валломбреза. Если бы Персей поднес к ее лицу голову Медузы, вделанную в его щит, с искаженным смертной судорогой ликом, в венце перевитых змей, она не так оцепенела бы от ужаса. Девушка застыла, окаменев, глаза расширились, рот приоткрылся, в горле пересохло — ни пошевелиться, ни крикнуть она не могла. Мертвенная бледность покрыла ее черты, по спине заструился холодный пот: она подумала, что теряет сознание; но неимоверным усилием воли взяла себя в руки, чтобы не оказаться беззащитной перед посягательствами дерзкого пришельца.
— Значит, я внушаю вам непреодолимое отвращение, коль скоро мой вид так действует на вас? — не меняя позы, кротким голосом спросил Валломбрез. — Если бы африканское чудовище с огнедышащей пастью, острыми клыками и выпущенными когтями выползло из своей пещеры, вы, конечно, испугались бы куда меньше. Сознаюсь, появление мое было непредвиденным, неожиданным, но истинной страсти можно простить погрешность против приличий. Чтобы видеть вас, я решил подвергнуться вашему гневу, и любовь моя, трепеща перед вашей немилостью, осмеливается припасть к вашим стопам со смиренной мольбой.
— Бога ради, встаньте, герцог, — сказала молодая актриса, — такая поза не подобает вам. Я всего лишь бедная провинциальная комедиантка, и мои скромные достоинства не заслуживают вашего внимания. Забудьте же мимолетную прихоть и обратите свои домогательства на других женщин, которые будут счастливы удовлетворить их. Не заставляйте королев, герцогинь и маркиз испытывать из-за меня муки ревности.
Какое мне дело до всех этих женщин, — пылко ответил Валломбрез, поднимаясь с колен, — когда я преклоняюсь перед вашей гордыней, когда ваша суровость пленяет меня больше, нежели уступчивость других, когда ваше целомудрие кружит мне голову, а скромность доводит мою страсть до безумия, когда без вашей любви я не могу жить! Не бойтесь ничего, — добавил он, увидев, что Изабелла открывает окно, как бы намереваясь броситься вниз при малейшем поползновении герцога к насилию. — Я прошу лишь, чтобы вы согласились терпеть мое присутствие и позволили мне выражать мои чувства как почтительнейшему вздыхателю в надежде смягчить ваше сердце.
— Избавьте меня от этого бесполезного преследования, и я буду питать к вам если не любовь, то безграничную признательность, — отвечала Изабелла.
— У вас нет ни отца, ни мужа, ни любовника, который мог бы воспротивиться попыткам порядочного человека заслужить ваше расположение, — продолжал Валломбрез. — В моих чувствах нет ничего оскорбительного. Почему же вы отталкиваете меня? О, вы не знаете, какую прекрасную жизнь я создам для вас, если вы примете мои искания. Сказочные чары померкнут перед измышлениями моей любви, жаждущей угодить вам. Вы, точно богиня, будете ступать по облакам, попирая светозарную лазурь. Все рога изобилия рассыплют свои сокровища у ваших ног. Я буду угадывать по вашим глазам и предупреждать любые желания, прежде чем они успеют у вас зародиться. Далекий мир исчезнет, как сон, и в лучах солнца мы воспарим на Олимп, более прекрасные, более счастливые и упоенные любовью, нежели Амур и Психея. Прошу вас. Изабелла, не отворачивайтесь от меня в гробовом молчании, не доводите до предела мою страсть, которая способна на все, только бы не отречься от себя самой и от вас.
— Я не могу разделить вашу страсть, хотя ею гордилась бы всякая другая женщина, — скромно ответила Изабелла. — Если бы даже добродетель, которую я почитаю выше жизни, не удерживала меня, все равно я отклонила бы столь опасную честь.
Только посмотрите на меня благосклонным взором, и самые знатные, самые высокопоставленные дамы будут завидовать вам, — настаивал Валломбрез. — Другой бы я сказал: возьмите из моих замков, из моих поместий, из моих дворцов все, что вам приглянется, опустошите мои сокровищницы, полные жемчугов и алмазов, погрузите руки до плеч в мои лари, нарядите ваших лакеев богаче, чем одеты принцы, велите подковать серебром ваших лошадей, сорите деньгами, как королева, на удивление Парижу, который ничему не склонен удивляться. Но все эти грубые приманки недостойны вашей возвышенной души. Тогда, быть может, вам покажется соблазнительным торжествовать победу над усмиренным Валломбрезом: как пленника, приковать его к своей триумфальной колеснице, сделать своим слугой, своим рабом того, кто никому еще не покорялся и не терпел никаких оков.
— Такой пленник слишком блистателен для моих уз, — возразила молодая актриса, — и мне не пристало стеснять его драгоценную свободу.
До этой минуты Валломбрез сдерживался, пряча свою природную вспыльчивость под притворным смирением, но твердый, хоть и почтительный отпор Изабеллы начал выводить его из себя. Он чувствовал, что за ее неприступностью скрывается любовь, в гнев усугублялся в нем ревностью. Он сделал несколько шагов по направлению к девушке, которая схватилась за оконную задвижку. Черты герцога вновь исказились злобой, он лихорадочно кусал губы.
— Скажите лучше, что вы без ума от Сигоньяка, — сдавленным голосом произнес он. — Вот откуда несокрушимая добродетель, которой вы похваляетесь. Чем же пленил вас этот счастливый смертный? Разве я не красивей, не богаче, не знатнее его и разве я не так же молод, не так же красноречив, не так же влюблен, как он?
— Зато у него есть одно качество, которого недостает вам: он умеет уважать ту, которую любит, — ответила Изабелла.
— Значит, он недостаточно любит, — промолвил Валломбрез и обхватил руками Изабеллу, которая уже перегнулась через подоконник и слабо вскрикнула, почувствовав объятия дерзкого красавца.
В этот миг отворилась дверь. В комнату с расшаркиваниями и преувеличенными поклонами проник Тиран и приблизился к Изабелле, которую тотчас же выпустил Валломбрез, взбешенный такой помехой его любовным посягательствам.
— Простите, сударыня, — начал Тиран, покосившись на герцога, — я не знал, что вы находитесь в столь приятном обществе, и пришел вам напомнить, что час репетиции давно наступил; задержка только за вами. И правда, в полуоткрытую дверь виднелись фигуры Педанта, Скапена, Леандра и Зербины, составляя надежный оплот против поползновений на целомудрие Изабеллы. У герцога мелькнула мысль наброситься со шпагой на дерзкий сброд и разогнать его, но это произвело бы только лишний шум; убив двоих или троих, он ничего бы не добился; да и марать свои благородные руки презренной актерской кровью ему совсем не пристало; а потому он сдержался и, поклонившись с ледяной учтивостью Изабелле, которая, вся дрожа, поспешила навстречу друзьям, удалился из комнаты, но на пороге обернулся, махнул рукой и сказал:
— До свидания, сударыня!
Слова эти, малозначащие сами по себе, прозвучали в его устах как угроза. И на лицо молодого герцога, столь пленительное за минуту до того, вновь легла печать дьявольской злобы и порочности; Изабелла невольно содрогнулась, хотя присутствие актеров и ограждало ее от всяких посягательств. Ею овладело чувство смертельного страха, какое испытывает голубка, когда коршун все ближе и ближе чертит над ней круги.
Валломбрез направился к своей карете в сопровождении трактирщика, который, семеня за ним, не переставал рассыпаться в докучных и бесполезных учтивостях; наконец грохот колес оповестил об отъезде опасного гостя.
Помощь, так своевременно подоспевшая к Изабелле, объясняется вот чем. Прибытие герцога де Валломбреза в позолоченной карете вызвало удивление и восторженные толки по всей гостинице, вскоре долетевшие до Тирана, занятого, подобно Изабелле, разучиванием роли у себя в комнате. В виду отсутствия Сигоньяка, который задержался в театре для примерки нового костюма, добряк Ирод, зная о дурных намерениях Валломбреза, решил быть начеку; он приложил ухо к замочной скважине и, совершая похвальную нескромность, слушал опасную беседу, с тем чтобы выступить на сцену, когда дело зайдет слишком далеко. Таким образом его предупредительность спасла Изабеллу от наглых покушений злого и распутного герцога на ее добродетель.
Этому дню суждено было пройти неспокойно. Читатель не забыл, что Лампурд получил от Мерендоля поручение отправить на тот свет капитана Фракасса; и вот бретер, в ожидании удобного случая, топтался на площадке, где возвышался бронзовый король, ибо Сигоньяк по дороге в гостиницу не мог миновать Новый мост. Лампурд сторожил уже около часа, дул себе на пальцы, чтобы они не закоченели совсем, когда придет время действовать, и переминался с ноги на ногу, пытаясь согреться. Погода была холодная, и солнце садилось за Красным мостом, по ту сторону Тюильри, в ореоле багровых облаков. Сумерки быстро сгущались, прохожих становилось все меньше.
Наконец появился Сигоньяк; он шел быстрым шагом, мучимый смутной тревогой за Изабеллу и торопясь скорей добраться до гостиницы. В поспешности своей он не заметил Лампурда, и тот сдернул с него плащ таким внезапным и резким движением, что порвались завязки. Не успел Сигоньяк опомниться, как остался в одном камзоле. Не пытаясь отнять плащ у бретера, которого принял сначала за простого жулика, барон с быстротой молнии обнажил шпагу и встал в позицию. Лампурд, не мешкая, последовал его примеру; ему понравилась позиция противника. «Позабавимся немножко», — подумал он. Клинки скрестились. После нескольких попыток с обеих сторон Лампурд нанес удар, который тотчас же был отбит. «Хорошо парирует. У этого молодого человека недурная выучка», — определил он.
Сигоньяк отвел своей шпагой клинок бретера и попробовал фланконаду, которую Лампурд отбил, откинувшись назад, в душе восхищаясь совершенством и академической четкостью удара.
— Теперь держитесь! — крикнул он, и шпага его описала сверкающий полукруг, но натолкнулась на клинок Сигоньяка, успевшего вновь стать в позицию. Стараясь нащупать просвет, скрещенные острия вращались друг вокруг друга то медленно, то быстро, с увертками и уловками — свидетельством искусства обоих дуэлистов.
— Знаете ли, сударь, — заявил Лампурд, не в силах сдержать восхищение перед уверенными, стремительными и безошибочными приемами противника, — знаете ли вы, что у вас превосходная метода?!
— К вашим услугам, — ответил Сигоньяк, делая резкий выпад.
Бретер парировал его эфесом шпаги, повернув запястье рывком, подобным спуску пружины.
— Великолепный выпад! — воскликнул бретер, все более и более восторгаясь. — Удивительный удар! По здравому смыслу, мне не миновать было смерти. А я действовал неподобающе: парировал наудачу, незаконно, против правил. Подобная защита допустима на худой конец, чтобы не быть проколотым насквозь. Я стыжусь, что применил ее с таким искусным фехтовальщиком, как вы.
Все эти речи перемежались звоном клинков, квартами, терциями, полукругами, выпадами и парадами, все усиливавшими уважение Лампурда к Сигоньяку. Рьяный дуэлист, он признавал одно лишь искусство в мире — искусство фехтования и людей расценивал соответственно их умению владеть оружием. Сигоньяк непрерывно рос в его глазах.
— Будет ли нескромностью с моей стороны спросить у вас, сударь, имя вашего учителя? Джироламо, Парагуанте и Стальной Бок гордились бы таким учеником.
— Моим наставником был всего лишь старый солдат по имени Пьер, — ответил Сигоньяк, которого забавлял этот странный болтун, — вот, кстати, отбейте-ка его любимый удар.
И барон сделал выпад.
— Что за черт! — вскричал Лампурд, отступая. — Вы чуть не задели меня. Острие скользнуло по локтю. Днем вы непременно прокололи бы меня насквозь, но драться в сумерках или в темноте у вас еще нет привычки. Тут нужны кошачьи глаза. Так или иначе, это было выполнено отлично. А сейчас берегитесь, я не хочу, чтобы вы были застигнуты врасплох. Я испробую на вас свой секретный прием, плод долгого изучения, пес plus ultra[15] моего мастерства, усладу моей жизни. До сих пор этот удар действовал без промаха и убивал на месте. Если вы его отразите, я вас обучу ему. Как мое единственное достояние, я завещаю его вам; иначе я унесу этот замечательный прием с собой в могилу, ибо мне еще не встречался никто, кому он был бы доступен, кроме вас, удивительный молодой человек! Но не хотите ли передохнуть немножко?
С этими словами Жакмен Лампурд опустил шпагу острием вниз. Сигоньяк сделал то же, а немного погодя дуэль возобновилась.
После нескольких выпадов Сигоньяк, знакомый со всеми хитростями фехтовального искусства, почувствовал по поведению Лампурда, шпага которого перемещалась с непостижимой быстротой, что сейчас на его грудь обрушится знаменитый удар. И в самом деле, бретер внезапно пригнулся, словно падая ничком, и барон вместо противника увидел перед собой ослепительную молнию, так стремительно со свистом налетевшую на него, что он едва успел отвести ее, сделав шпагой полукруг и переломив пополам клинок Лампурда.
— Если конец моей шпаги не торчит у вас в животе, значит, вы великий человек, вы герой, вы бог! — воскликнул Лампурд, выпрямляясь и потрясая обломком, оставшимся у него в руке.
— Я невредим, и, если бы пожелал, я мог бы пригвоздить вас к стенке, как филина, — отвечал Сигоньяк, — но это противно моему природному великодушию, и кроме того, вы позабавили меня своим чудачеством.
— Барон, разрешите мне отныне быть вашим почитателем, вашим рабом, вашим верным псом. Мне заплатили, чтобы я убил вас. Я даже взял деньги вперед и успел их проесть. Но все равно! Я ограблю кого-нибудь, чтобы возвратить аванс.
С этими словами он поднял плащ Сигоньяка, бережно, как усердный слуга, набросил его на плечи барона и с низким поклоном удалился. Обе атаки герцога де Валломбреза были отбиты.
XIV ЩЕПЕТИЛЬНОСТЬ ЛАМПУРДА
Нетрудно представить себе ярость Валломбреза после отпора, который дала ему Изабелла при участии актеров, столь кстати подоспевших на помощь ее добродетели. Когда он возвратился домой, слуг взяла дрожь и прошиб ледяной пот при виде его лица, мертвенно-бледного от холодного бешенства, — будучи жесток по природе, он в минуту ярости часто с нероновской необузданностью срывал свой гнев на первом горемыке, попавшемся ему под руку. Герцог де Валломбрез и в хорошем расположении духа не отличался благодушием; но когда он злился, куда приятнее было бы столкнуться над пропастью носом к носу с голодным тигром, нежели попасться ему на глаза. Все двери, которые распахивались перед ним, он захлопывал с такой силой, что они едва не соскакивали с петель и позолота сыпалась с лепных украшений.
Дойдя до своей опочивальни, он с размаху швырнул шляпу на пол так, что она вся сплющилась, а взъерошенное перо сломалось пополам. Чтобы дать волю душившему его бешенству, он рванул камзол на груди, не обращая внимания на алмазные пуговицы, которые запрыгали по паркету, как горошины по барабану. Судорожными движениями пальцев он раздергал в лохмотья кружево рубашки, подвернувшееся ему по пути кресло полетело кувырком от свирепого пинка, ибо герцогская злоба распространялась и на предметы неодушевленные.
— Этакая наглая тварь! — восклицал он, шагая взад-вперед в диком возбуждении. — Вот устрою, чтобы полицейские забрали ее и бросили в каменный мешок, а оттуда, обрив и выпоров, препроводили в госпиталь или в приют для кающихся грешниц. Мне ничего не стоит добиться такого указа. Но нет, преследования только укрепят ее постоянство, а ненависть ко мне разожжет любовь к Сигоньяку. Этим ничего не достигнешь; но что же тогда делать?
И он продолжал метаться из угла в угол, как дикий зверь в клетке, тщетно стараясь утишить бессильную злобу.
Пока он бесновался, не обращая внимания на бег часов, которые текут своей чередой, — безразлично, радуемся мы или сердимся, — ночь успела наступить, и Пикар отважился войти в комнату без зова и зажечь свечи, не желая оставить своего хозяина во власти темноты, матери мрачных настроений.
И правда, свет канделябров как будто прояснил разум Валломбреза, и ненависть к Сигоньяку, отодвинутая на задний план любовью к Изабелле, снова вспыхнула в нем.
— Как могло случиться, что этот проклятый выскочка еще не отправлен на тот свет? — внезапно остановившись, произнес он. — Ведь я отдал Мерендолю строжайший приказ прикончить его, а если сам не справится, то с помощью более ловкого и смелого бретера! Что бы ни толковал Видаленк, но «не станет гада, не станет и яда». Без Сигоньяка Изабелла очутится в моей власти, трепеща от страха и не находя опоры в своей верности, оказавшейся беспредметной. Она, несомненно, придерживает этого голодранца, чтобы женить его на себе, а потому отгораживается несокрушимым целомудрием и ярой добродетелью от влюбленного герцога, как бы он ни был хорош собой, словно от последнего оборвыша. Ее одну я одолею очень быстро и, уж во всяком случае, отомщу зазнавшемуся наглецу, который ранил меня в руку и на каждом шагу встает препятствием между мной и моим желанием. Итак, призовем Мерендоля и допросим его, как обстоят дела.
Когда Мерендоль, приведенный Пикаром, предстал перед герцогом, он был бледнее вора, которого ведут на виселицу, на висках у него проступил пот, в горле пересохло, язык от страха прилип к гортани; ему в эту минуту не мешало бы, по примеру Демосфена, афинского оратора, заглушавшего голосом шум моря, держать во рту камень, чтобы вызвать слюну и обрести дар речи, тем более что лицо молодого вельможи выражало бурю погрознее, чем та, что бывает на море или в народном собрании на Агоре. Бедняга едва держался на ногах, колени у него дрожали, как у пьяного, хотя он с утра не имел во рту маковой росинки; с тупой растерянностью прижимал он к груди шляпу, не решаясь поднять глаза, но чувствуя на себе грозный хозяйский взгляд, от которого его бросало то в жар, то в холод.
— Эй ты, скотина! — раздался крик Валломбреза. — Долго ты будешь торчать передо мной с таким видом, будто тебе на шею уже надет пеньковый галстук, который ты заслужил куда больше за трусость и нерасторопность, чем за все твои злодеяния?
— Монсеньор, я ждал ваших приказаний, — ответил Мерендоль, силясь улыбнуться. — Вашей светлости известно, что я предан вам до веревки включительно. Я позволяю себе эту шутку ввиду любезного намека, сделанного вашей…
— Слышал, слышал! — перебил его герцог. — Помнится, я поручал тебе устранить с моего пути этого окаянного Сигоньяка, который мешает и докучает мне. Ты ничего не сделал: по безмятежному и довольному лицу Изабеллы я понял, что этот подлец еще жив и воля моя не исполнена. Стоит держать у себя на жаловании бретеров, которые так относятся к своим обязанностям! Разве не должны вы угадывать мои желания прежде, чем я их выскажу, по одному только взгляду, по взмаху ресниц, и без дальних слов убивать всякого, кто придется мне не по вкусу? Но вы способны лишь есть до отвала, и храбрости у вас хватает лишь на то, чтобы резать кур. Если так будет продолжаться, я всех до одного сдам палачу, который ждет не дождется вас, мерзкие твари, трусливые бандиты, горе-убийцы, позор и отребье каторги!
Я с прискорбием замечаю, что вы, ваша светлость, недооцениваете рвение и, осмелюсь сказать, дарование ваших верных слуг, — возразил Мерендоль смиренным и прочувствованным тоном. — Но Сигоньяк не принадлежит к той обычной дичи, которую загонишь и убьешь, поохотившись несколько минут. В первую нашу встречу он едва не рассек мне башку от макушки до подбородка. И то счастье мое, что у него была театральная шпага, зазубренная и притупленная на конце. При второй ловушке он был начеку и настолько готов к отпору, что мне с приятелями ничего не оставалось как ретироваться, не поднимая лишнего шума и не затевая бесполезной драки, в которой было кому прийти ему на помощь. Теперь он знает меня в лицо, и стоит мне приблизиться, чтобы он незамедлительно взялся за рукоять шпаги. Поэтому мне пришлось прибегнуть к содействию моего друга, лучшего фехтовальщика в Париже, который выслеживает его и прикончит под видом ограбления при ближайшей оказии, вечером или ночью, причем имя вашей светлости не будет произнесено, что случилось бы неизбежно, если бы убийство совершил кто-нибудь из нас, состоящих в услужении у вашей светлости.
— План недурен, — несколько смягчившись, небрежно бросил Валломбрез, — пожалуй, так оно будет лучше. Но ты уверен в ловкости и отваге своего приятеля? Нужно быть большим смельчаком, чтобы одолеть Сигоньяка; при всей моей ненависти должен признать, что он не трус, раз он решился помериться силами со мной.
— Ну, Жакмен Лампурд был бы настоящий герой, если бы не сбился с прямого пути! — безапелляционно заявил Мерендоль. — Доблестью он превосходит исторического Александра и легендарного Ахилла. Он рыцарь не без упрека, но зато безо всякого страха.
Пикар уже несколько минут топтался по комнате и теперь, увидев, что Валломбрез несколько смягчился, осмелился доложить, что человек весьма странного вида настоятельно желает поговорить с ним по делу первостатейной важности.
— Впусти этого проходимца, — сказал герцог, — но горе ему, если он беспокоит меня по пустякам. Я шкуру прикажу с него содрать.
Лакей отправился за новым посетителем, а Мерендоль собрался уже потихоньку удалиться, когда появление диковинного персонажа приковало его к месту. И правда, тут было от чего прийти в смятение, ибо человек, введенный в кабинет Пикаром, оказался не кем иным, как Жакменом Лампурдом собственной персоной. Его неожиданное появление в таком месте могло быть вызвано лишь самым необычайным и непредвиденным обстоятельством. Вполне естественно, что Мерендоль крайне обеспокоился, увидев, что перед его господином, прямо, без посредников, предстал этот наемник, получающий поручения из вторых рук, этот исполнитель, действующий во мраке.
А сам Лампурд, казалось, ничуть не был смущен; он даже по-приятельски подмигнул с порога Мерендолю и теперь стоял в нескольких шагах от герцога, под снопом свечей, выявлявших все штрихи его характерной физиономии. Лоб его от длительного ношения шляпы был прорезан по всей ширине красной полосой, точно рубцом от раны, и усеян еще не просохшими каплями пота, — из-за того ли, что бретер очень спешил, или из-за того, что занимался делом, потребовавшим напряжения всех сил. Его серо-голубые глаза отливали металлом и смотрели в глаза герцогу с такой невозмутимой наглостью, что Мерендоля пробрала дрожь. Тень от носа полностью закрывала одну его щеку, как тень Этны покрывает большую часть Сицилии, и карикатурные чудовищные контуры этого кряжа из плоти и крови блестели на гребне, позлащенные ярким светом. Нафабренные дешевой помадой усы казались шпилькой, проткнувшей насквозь его верхнюю губу, а эспаньолка загибалась, как перевернутая запятая. Все в целом составляло самую причудливую физиономию на свете, сродни тем, которые Жак Калло любил схватывать своим смелым и метким резцом.
Наряд его состоял из куртки буйволовой кожи, серых панталон и ярко-красного плаща, с которого, очевидно, недавно был спорот золотой галун, ибо более яркие полоски выделялись на слинявшей ткани. Шпага с массивной чашкой висела на широкой, окованной медью портупее, которой был опоясан сухощавый, но крепкий торс проходимца. Одна непонятная подробность особенно встревожила Мерендоля, а именно: рука Лампурда, торчавшая из-под плаща наподобие подсвечника, выступающего из стенной панели, сжимала в кулаке кошелек, судя по его округлости набитый довольно туго. Отдавать деньги вместо того, чтобы их брать, было настолько несвойственно и непривычно Жакмену, что он проделывал этот жест со смехотворно-чопорной неловкостью и торжественностью. К тому же самая мысль, что Жакмен Лампурд намерен вознаградить герцога де Валломбреза за какую-то услугу, была столь чудовищно неправдоподобна, что Мерендоль вытаращил глаза и разинул рот, а это, по словам художников и физиономистов, служит признаком высшей степени изумления.
— Что ты, плут, выставил свою руку, как крюк для вывески, и тычешь мне в нос кошелек? — спросил герцог, оглядев странного посетителя. — Уж не вздумал ли ты подать мне милостыню?
Прежде всего да будет известно вашей светлости, никакой я не плут, — заявил бретер с нервическим подергиванием в складках морщин и в углах губ. — Зовусь я Жакмен Лампурд, фехтовальщик, и принадлежу к почтенному сословию; никогда не унижал я себя ни ручным трудом, ни торговлей, ни промыслом. Даже в самые трудные времена я не занимался выдуванием стекла, делом, которое не пятнает и дворянина, ибо оно небезопасно, а чернь неохотно глядит в глаза смерти. Я убиваю для того, чтобы жить, рискуя своей шкурой и своей шеей, и действую я всегда в одиночку, а нападаю в открытую, ибо мне претит предательство и подлость. Что может быть благороднее этого? Возьмите же назад кличку плута, которую я могу принять не иначе как в качестве дружеской шутки; слишком больно она задевает чувствительные струны моего самолюбия.
— Раз вы настаиваете, пусть будет по-вашему, мэтр Жакмен Лампурд, — отвечал герцог де Валломбрез, которого невольно забавляли чудаческие претензии заносчивого проходимца. — А теперь объясните, зачем вы явились ко мне, потрясая кошельком с монетами, точно шут погремушкой или прокаженный трещоткой?
Удовлетворенный такой уступкой его гордости, Лампурд наклонил голову, не сгибая туловища, и проделал несколько замысловатых движений шляпой, воспроизведя приветствие, по его понятиям, сочетающее воинственную независимость с придворной грацией.
— Вот в чем дело, ваша светлость: я получил от Мерендоля деньги вперед, с тем чтобы убить некоего Сигоньяка, прозываемого капитаном Фракассом. По обстоятельствам, не зависящим от моей воли, я не выполнил этого заказа, а так как в моем ремесле есть свои правила чести, я принес деньги, которых не заработал, их законному владельцу.
Сказав это, он жестом, не лишенным достоинства, положил кошелек на край роскошного стола, инкрустированного флорентийской мозаикой.
— Вот они, эти балаганные смельчаки, эти взломщики открытых дверей, эти воины Ирода, чьей доблести хватает лишь для избиения грудных младенцев, а едва жертва покажет им зубы, они удирают во всю прыть. Вот они, ослы в львиной шкуре, которые не рыкают, а ревут. Ну-ка, сознайся честно, Сигоньяк нагнал на тебя страха?
Жакмен Лампурд никогда не знал страха, — отвечал бретер, и при всей его комической наружности слова эти прозвучали горделиво, — и это вовсе не бахвальство и фанфаронство на испанский или гасконский манер; ни в одном бою противник не видел моих плеч, никто не знает меня со спины, и я мог бы неведомо для всех быть горбатым, как Эзоп. Тем, кто наблюдал меня в деле, известно, что я чураюсь легких побед. Опасность мне мила, я плаваю в ней, как рыба в воде. Я напал на Сигоньяка secundum artem[16], пустив в ход один из моих лучших толедских клинков работы Алонсо де Сахагуна-старшего.
— Что же произошло в этом необычайном поединке, где тебе, очевидно, не удалось взять верх, раз ты пришел вернуть деньги? — спросил молодой герцог.
— На дуэлях, в схватках и нападениях против одного или нескольких я уложил на месте тридцать семь человек, не считая изувеченных и раненных более или менее тяжело. Но Сигоньяк замкнут в своей обороне, как в бронзовой башне. Я пустил в ход все существующие фехтовальные приемы: ложные выпады, внезапные атаки, отстранения, отступления, необычные удары, — он парировал и отражал любое нападение, при этом — какая уверенность в сочетании с какой быстротой! Какая отвага, умеряемая осторожностью! Какое великолепное хладнокровие! Какое непоколебимое самообладание! Это не человек, а бог со шпагой в руке! Рискуя быть проколотым, я наслаждался его тонким, безупречным, несравненным искусством! Передо мной был противник, достойный меня; однако, продлив борьбу сколько возможно, чтобы вдоволь налюбоваться его блистательным мастерством, я понял, что пора кончать, и решил испробовать секретный прием неаполитанца, известный на свете мне одному, потому что Джироламо тем временем умер, завещав мне знаменитый прием. Да и никто, кроме меня, не способен выполнить его с тем совершенством, от которого зависит успех. Я нанес удар с такой точностью и силой, что едва ли не превзошел самого Джироламо. И что же? Этот дьявол, именуемый капитаном Фракассом, молниеносно парировал его таким твердым ударом наотмашь, что у меня в руке остался обломок шпаги, которым я мог биться, как старая бабка, которая грозит внуку черпаком. Вот взгляните, что он сделал с моим Сахагуном.
При этом Жакмен Лампурд печально извлек из ножен кусок рапиры с клеймом в виде буквы «С», увенчанной короной, и обратил внимание герцога на ровный и блестящий излом стали.
— Такой поразительный удар смело можно приписать Дюрандалю Роланда, Тизоне Сида или Отеклеру Амадиса Галльского, — продолжал бретер. — Признаюсь смиренно, что убить капитана Фракасса не в моих силах. Удар, который я ему нанес, до сих пор парировали наихудшим способом, иначе говоря, собственным телом. И те, что испытали его, приобрели лишнее отверстие на камзоле, через которое выпорхнула душа. Вдобавок капитан Фракасс, как все герои, наделен великодушным сердцем. Я был безоружен перед ним и порядком растерян и обескуражен своей неудачей, ему стоило только руку протянуть, чтобы насадить меня на вертел, как перепелку, а он этого не сделал, что весьма деликатно со стороны дворянина, подвергшегося ночному нападению посреди Нового моста. Я обязан ему жизнью, и, хотя это не бог весть какая услуга, принимая во внимание, что я недорого ценю свою жизнь, все же он связал меня благодарностью, и я никогда ничего не буду предпринимать против этого человека, — он теперь для меня священен. Да и будь у меня на то силы, я посовестился бы покалечить или погубить столь славного фехтовальщика, тем более что они становятся редки в наш век бездарных рубак, которые и шпагу-то держат, как швабру. Посему я пришел предупредить вашу светлость, чтобы вы больше не рассчитывали на меня. Быть может, я имел бы право оставить себе деньги, как возмещение за опасности, на которые шел; но совесть моя восстает против таких сделок.
— Во имя всех чертей, забирай сейчас же свои деньги, — произнес Валломбрез тоном, не терпящим возражений, — иначе я прикажу выкинуть тебя и твою казну в окна, не раскрывая их. Сроду не видывал столь совестливых жуликов. Ты, Мерендоль, никак не способен на столь красивый поступок, который так и просится в назидательные прописи для юношества. — Увидев, что бретер заколебался, он добавил: — Дарю тебе эти пистоли, чтобы ты выпил за мое здоровье.
— Это, монсеньор, будет выполнено свято, — ответил Лампурд, — однако ваша светлость, надеюсь, не обидится, если часть из них я употреблю на игру.
И, сделав шаг по направлению к столику, он протянул свою костлявую руку, с проворством фокусника схватил кошелек, и тот, как по волшебству, исчез на дне его кармана, где, издав металлический звон, столкнулся со стаканчиком для костей и колодой карт. По непринужденности движений нетрудно было заметить, что Жакмену Лампурду куда привычнее брать, нежели отдавать.
— Я лично уклоняюсь от участия во всем, что касается Сигоньяка, — заявил он, — но, если вам угодно, монсеньор, я порекомендую взамен себя моего alter ego[17], кавалера Малартика, человека настолько сметливого, что ему можно поручать самые рискованные дела. У него изобретательный ум и ловкие руки. К тому же он вполне свободен от предрассудков и предубеждений. Я в общих чертах набросал план похищения актрисы, которой вы оказываете честь своим вниманием, а Малартик с присущей его методе точностью разработает этот план во всех подробностях. Что говорить, многим сочинителям комедий, которым хлопают на театре за умело построенный сюжет, не мешало бы советоваться с Малартиком насчет хитросплетений интриги, изобретательности и ловкости махинаций. Мерендоль знает Малартика и может поручиться за его редкостные качества. Ничего лучшего вам, монсеньор, не удалось бы найти, и я, смею сказать, делаю вам настоящий подарок. Однако не стану злоупотреблять терпением вашей светлости. Когда вы соизволите принять решение, вам достаточно будет приказать, чтобы кто-нибудь из ваших слуг начертил мелом крест слева от входа в «Коронованную редиску». Малартик поймет и, должным образом переодетый, явится в особняк Валломбрезов, чтобы получить точные указания и приступить к делу.
Завершив свою блистательную речь, мэтр Жакмен Лампурд проделал те же сложные манипуляции со своей шляпой, что и в начале беседы, затем нахлобучил ее на голову и вышел из кабинета размеренным, величавым шагом, весьма довольный своим красноречием и умением себя держать перед знатным вельможей.
Это оригинальное явление, менее удивительное, однако, в тот век светских дуэлистов и наемных убийц, чем во всякую другую эпоху, немало позабавило и заинтересовало молодого герцога де Валломбреза. Жакмен Лампурд понравился ему своей незаурядностью и своеобразной честностью; он даже простил этому бретеру неудачную попытку убить Сигоньяка. Раз барон устоял против подлинного мастера фехтования, значит, он действительно непобедим и получить рану от его руки не так уж позорно и мучительно для самолюбия. Да и при всем своем буйном нраве Валломбрез не переставал считать убийство Сигоньяка довольно неблаговидным поступком, но не из чувствительности или совестливости, а потому, что противник его был дворянин; он не задумался бы отправить на тот свет с полдюжины неугодных ему буржуа, потому что кровь подобного сброда имела в его глазах не больше цены, чем ключевая вода. Конечно, он предпочел бы сам сразить своего соперника, но превосходство Сигоньяка как фехтовальщика, превосходство, о котором напоминала боль в едва затянувшейся ране на руке, оставляло мало шансов на благоприятный исход новой дуэли, или нападения с оружием в руках. Таким образом, ему больше улыбалась мысль похитить Изабеллу, открывавшая перед ним заманчивые любовные перспективы. Он не сомневался, что в разлуке с Сигоньяком и со своими товарищами молодая актриса не замедлит растаять, подпав под обаяние молодого герцога, наделенного столь обольстительной наружностью, кумира самых высокопоставленных придворных дам. Неисправимая самонадеянность Валломбреза опиралась на обширный опыт, оправдывающий его притязания, и в самом своем наглом хвастовстве он ни на йоту не грешил против истины. Хотя Изабелла только что отвергла его, молодой герцог считал несуразной, абсурдной, немыслимой и оскорбительной самую возможность не быть любимым.
«Стоит мне продержать ее несколько дней в уединенном уголке, где она будет всецело в моей власти, и я, уж конечно, сумею ее покорить, — мысленно рассуждал он. — Я покажу себя таким внимательным, таким пылким, таким красноречивым, что вскоре ей и самой станет непонятно, как могла она так долго мне противиться. Я увижу, как она смущена, как при моем появлении меняется в лице и опускает свои длинные ресницы, а когда я обниму ее, она, стыдясь и робея, склонит головку мне на плечо. Отвечая на мой поцелуй, она признается, что давно меня любит, а упорством своим хотела лишь разжечь мой пыл, или же сошлется на страх и трепет смертной, преследуемой богом, или начнет лепетать еще какой-нибудь милый вздор, который всегда найдется в такие минуты у женщины, даже у самой целомудренной. Но когда она будет моя и душой и телом, тогда-то я отплачу ей за прежние обиды».
XV МАЛАРТИК ЗА ДЕЛОМ
Как ни силен был гнев вернувшегося ни с чем Валломбреза, не меньше распалился гневом Сигоньяк, узнав о новом покушении герцога на честь Изабеллы. Тирану и Блазиусу еле удалось отговорить барона от намерения тотчас же бежать к Валломбрезу, чтобы вызвать его на дуэль, от которой герцог непременно бы отказался, ибо Сигоньяк, не будучи ни братом, ни мужем, ни признанным любовником актрисы, не имел ни малейшего права требовать объяснений поступка, в котором, кстати, не было ничего предосудительного. Во Франции никому и никогда не возбранялось ухаживать за хорошенькой женщиной. Нападение наемного убийцы на Новом мосту было, разумеется, менее законно, и хотя, по всей вероятности, почин и тут исходил от молодого герцога, как проследить темные ходы, связавшие заведомого бандита с блистательным вельможей? Но, допустим, их удалось бы вскрыть; как это доказать, у кого просить защиты от подлых ловушек? В глазах власть имущих, пока Сигоньяк скрывал свое имя, он был лишь презренным скоморохом, шутом низкого пошиба, которого дворянин вроде Валломбреза мог по своей прихоти проучить палками, засадить в темницу или попросту убить, если тот чем-то не угодил или помешал ему, и никто не стал бы за это порицать высокородного аристократа. Изабеллу за отказ поступиться своей честью обозвали бы ломакой и недотрогой, ибо добродетель актрис встречала не одного Фому Неверного и скептика Пиррона. Значит, открыто обвинить герцога не представлялось возможным, отчего Сигоньяк приходил в бешенство, но поневоле признавал правоту Ирода и Педанта, советовавших молчать, смотреть в оба и быть настороже, потому что этот проклятущий герцог, красивый, как бог, и злобный, как дьявол, конечно, не отступится от своих намерений, хоть они и потерпели крах по всем статьям. Ласковый взгляд Изабеллы, которая сжала своими белыми ручками трепещущие руки Сигоньяка, заклиная его из любви к ней обуздать свое рвение, окончательно успокоил барона, и жизнь вошла в обычную колею.
Первые спектакли труппы стяжали большой успех. Стыдливая грация Изабеллы, искрящийся задор Субретки, кокетливое изящество Серафины, смехотворная напыщенность капитана Фракасса, величественный пафос Тирана, белые зубы и розовые десны Леандра, комическое простодушие Педанта, лукавство Скапена, превосходная игра Дуэньи произвели в Париже такое же впечатление, что и в провинции; после того как наши актеры понравились городу, им оставалось лишь получить одобрение двора, где собраны люди с особо изысканным вкусом и особо тонкие ценители театрального искусства; уже поговаривали о том, чтобы пригласить труппу в Сен-Жермен, так как король, услышав о ней, пожелал ее увидеть, к немалому восторгу Ирода, главы и казначея труппы. Многих знатные лица просили актеров дать спектакль у них на дому по случаю какого-нибудь празднества или бала, потому что дамы любопытствовали посмотреть труппу, соперничавшую с актерами «Бургундского отеля» и театра «Марэ».
Не мудрено, что Ирод, привыкнув к таким просьбам, ничуть не удивился, когда в одно прекрасное утро в гостиницу на улице Дофина явился то ли управитель, то ли дворецкий из богатого дома, весьма почтенный на вид, какими бывают простолюдины, состарившиеся в услужении у родовитых фамилий, и пожелал поговорить с ним о делах театра от имени хозяина своего, графа де Поммерейля.
Этот дворецкий был одет с головы до ног во все черное, с цепью из золотых дукатов на шее, в шелковых чулках, в башмаках с большими помпонами, тупоносых и просторных, как положено старику, у которого случаются приступы подагры. Отложной воротник белел на черном камзоле и оттенял загоревшее на деревенском солнце лицо, где, точно хлопья снега на античных изваяниях, выделялись брови, усы и бородка. Длинные, совершенно седые волосы ниспадали до самых плеч, придавая всей наружности дворецкого весьма патриархальный и положительный вид. Должно быть, он принадлежал к той вымирающей породе старых слуг, которые пекутся о благополучии господ больше, нежели о своем собственном, корят их за неразумные траты и в трудную годину приносят свои скудные сбережения, чтобы поддержать семью, кормившую их во времена процветания.
Ирод не мог налюбоваться приятным обличием и благолепием дворецкого, который, поклонившись, повел такую учтивую речь:
— Следовательно, вы и есть тот самый Ирод, который твердой рукой, подобно Аполлону, управляет сонмом муз, иначе говоря, превосходной труппой, чья слава распространилась по всему городу и даже за пределами его, достигнув владений моего хозяина.
— Да, мне выпала эта честь, — отвечал Ирод, отвесив самый любезный поклон, который только мог сочетаться со свирепой физиономией трагика.
— Граф де Поммерейль очень желал бы развлечь своих именитых гостей представлением театральной пьесы у себя в замке, — продолжал старик. — Решив, что ни одна труппа не пригодна для этого в такой мере, как ваша, он прислал меня спросить, не согласитесь ли вы дать спектакль у него в поместье, расположенном всего в нескольких лье от Парижа. Граф, хозяин мой, весьма щедрый вельможа, не постоит за расходами и ничего не пожалеет, чтобы видеть у себя вашу прославленную труппу.
— Я сделаю все возможное, дабы удовлетворить желание столь благородного кавалера, — ответил Ирод, — хотя нам и трудно отлучиться из Парижа даже на несколько дней в самый разгар наших успехов.
— Это займет не более трех дней: один на дорогу, другой на представление и третий на обратный путь, — ответил дворецкий. — В замке имеется готовый театр, где вам придется только установить декорации; граф приказал вручить вам сто пистолей на мелкие дорожные расходы, столько же вы получите после спектакля, актрисам же, без сомнения, будут сделаны подарки: кольца, брошки, браслеты, словом, вещицы, к которым всегда чувствительно женское кокетство.
Подкрепляя слова действием, управитель графа де Поммерейля вытащил из кармана длинный и увесистый кошелек, как водянкой, раздутый деньгами, наклонил его и высыпал на стол сто новеньких золотых монет, блестевших весьма соблазнительно.
Тиран смотрел на груду денег и с удовлетворением поглаживал свою черную бороду. Вдоволь наглядевшись, он сложил монеты столбиком, а затем пересыпал в свой кармашек и знаком выразил согласие.
— Значит, вы принимаете приглашение, — сказал дворецкий, — я так и доложу своему хозяину.
— Я предоставляю себя и своих товарищей в распоряжение его сиятельства, — подтвердил Ирод. — А теперь укажите мне день, когда должен состояться спектакль, и пьесу, которую угодно видеть графу, чтобы мы захватили нужные костюмы и реквизит.
— Хорошо бы назначить спектакль не позже чем на четверг, — сказал дворецкий, — мой хозяин сгорает от нетерпения, а в выборе пьесы он всецело полагается на вас.
— Последняя модная новинка — это «Комическая иллюзия» молодого нормандского сочинителя, подающего большие надежды, — ответил Ирод.
— Пусть будет «Комическая иллюзия», стихи там недурны, а главное — превосходна роль Хвастуна.
— Теперь остается лишь точно указать местоположение замка, чтобы нам не пришлось плутать, и путь, которым следует туда добираться.
Управитель графа де Поммерейля дал такие тщательные, исчерпывающие объяснения, что их достало бы слепцу, нащупывающему дорогу клюкой; но, должно, быть, опасаясь, что актер перепутает в пути указания, докуда ехать прямо, где свернуть вправо, а потом взять влево, он добавил:
— Дабы не обременять такими обыденными, прозаическими подробностями вашу память, занятую прекраснейшими стихами наших лучших поэтов, я пришлю за вами лакея, который будет служить вам проводником.
Уладив таким образом дело, старик удалился после бесчисленных прощальных приветствий с обеих сторон, причем в ответ на каждый поклон Ирода гость старался перещеголять его, сгибаясь еще ниже. Они напоминали две скобки, которые тряслись друг против друга, одержимые пляской святого Витта. Не желая выйти побежденным из этого состязания в учтивости, Тиран спустился с лестницы, прошел по всему двору и уже в воротах отвесил старику последний самый низкий поклон, выгнув спину, вогнув грудь, насколько позволял ему живот, прижав локти к туловищу, а головой почти коснувшись земли.
Если бы Ирод проследил глазами за управителем графа де Поммерейля до конца улицы, он, быть может, заметил бы, что, вопреки законам перспективы, фигура гостя вырастала по мере удаления. Согбенная спина расправилась, старческая дрожь в руках прекратилась, а живость походки отнюдь не указывала на подагру; но Ирод воротился домой, не успев ничего этого увидеть.
В среду поутру, когда трактирные слуги грузили декорации и узлы в запряженный парой крепких лошадей фургон, нанятый Тираном для перевозки труппы, высокий детина в богатой лакейской ливрее, верхом на крепком першеронском коньке, появился у ворот гостиницы и щелканьем бича оповестил актеров, что прибыл провожатый и чтобы они поторапливались. Дамы, любящие понежиться в постели и повозиться с одеванием, даже если они актрисы, привыкшие на театре мгновенно менять костюм, наконец сошли и расположились возможно удобнее на досках, устланных соломой и прикрепленных к боковым стенкам фургона. Человечек на «Самаритянке» отбил восемь ударов, когда тяжеловесная колымага стронулась с места. За полчаса она проехала Сент-Антуанские ворота и Бастилию, чьи массивные башни отражались в темных водах рва. Затем, миновав предместье, где среди хилых огородов мелькали редкие домики, фургон покатил вдоль полей по дороге на Венсенн; сторожевая башня замка уже виднелась вдали сквозь дымку голубоватого утреннего тумана, тающего под лучами солнца, как рассеивается ветром дым от орудий.
Лошади были бодры, шли резвым шагом и вскоре достигли старинной крепости, готические украшения которой сохранились неплохо, но уже не были способны противостоять пушкам и бомбардам. Позолоченные полумесяцы над минаретами капеллы, построенной Пьером де Монтеро, весело сверкали поверх крепостных стен, словно гордились, что соседствуют с крестом, символом искупления. Полюбовавшись несколько минут памятником былой славы наших королей, путники въехали в лес, где среди кустарника и молодой поросли величаво вздымались дряхлые дубы, должно быть, современники того, под сенью которого Людовик Святой творил суд — занятие, как нельзя более подобающее монарху.
Дорога была мало езженная, и часто повозка, бесшумно катясь по мягкой, а иногда и поросшей травой земле, заставала врасплох кроликов, которые резвились, отряхивая себе лапками мордочки; они бросались наутек, как будто за ними гналась свора собак, чем весьма потешали актеров. Немного подальше испуганная белка перебегала дорогу, и еще долго было видно, как она мелькает среди оголенных деревьев. Все это особенно занимало Сигоньяка, воспитанного и выросшего на природе. Ему приятно было созерцать поля, кусты, леса, животных на воле — зрелище, которого он лишился с тех пор, как жил в городе, где только и видишь что дома, грязные улицы, дымящиеся трубы — творения рук человеческих, а не божьих. Он бы очень тосковал в городе, если бы лазоревые глаза милой девушки не заменили ему всю небесную лазурь.
За лесом начинался небольшой подъем в гору, и Сигоньяк сказал Изабелле:
— Душенька моя, пока фургон будет взбираться по холму, не хотите ли об руку со мной пройтись пешком, чтобы хоть немного согреть и размять ноги? Дорога тут ровная, день сегодня ясный, с морозцем, но не слишком холодный.
Молодая актриса согласилась на предложение Сигоньяка и, положив пальчики на подставленную им руку, легко спрыгнула с повозки. Скромность ее воспротивилась бы свиданию с глазу на глаз в четырех стенах, но допускала такую невинную прогулку вдвоем с возлюбленным среди природы. Они то шли вперед, как птицы паря над землей на крыльях любви, то останавливались на каждом шагу, смотрели в глаза друг другу и наслаждались тем, что они вместе, идут рядом, рука об руку. Сигоньяк говорил Изабелле, как он ее любит, и, хотя он повторял эти речи в который раз, они казались ей такими же новыми, как первое слово, сказанное Адамом после его сотворения, когда впервые глаголили его уста. Будучи самым деликатным и самым бескорыстным созданием на свете в том, что касалось чувства, Изабелла пыталась ласковым отпором и мнимым неудовольствием удержать в границах дружбы любовь, которую она не хотела увенчать, считая ее пагубной для будущности барона. Но эти милые распри и возражения лишь усиливали любовь Сигоньяка, не вспоминавшего в этот миг о надменной Иоланте де Фуа, как будто ее и вовсе не существовало.
— Как бы вы ни старались, дорогая, — говорил он любимой, — вам не удастся поколебать мое постоянство. Чтобы ваши сомнения рассеялись сами собой, я, если надо, буду ждать хотя бы до тех пор, когда золото ваших прекрасных волос превратится в серебро.
— О, тогда я сама стану лучшим средством от любви и своим уродством способна буду отпугнуть неустрашимейшего смельчака, — возразила Изабелла. — Боюсь, что награда за верность обратится в наказание.
— Даже в шестьдесят лет вы сохраните все свое обаяние, подобно мэйнаровской старой красавице, — галантно отвечал Сигоньяк, — потому что красота ваша исходит из души, душа же бессмертна.
— Все равно вам несладко бы пришлось, если бы я поймала вас на слове и обещала свою руку не раньше, чем мне сравняется пять десятков. Однако довольно шуток, — продолжала она, переходя на серьезный тон, — вы знаете мое решение, так довольствуйтесь же тем, что вас любят больше, чем любили кого-либо из смертных с тех пор, как сердца бьются на земле.
— Не спорю, столь пленительное признание должно бы меня удовлетворить, но любовь моя беспредельна, и ей несносна малейшая преграда. Бог может повелеть морю: «Ты не разольешься далее», — и оно послушается. Но для страсти, подобной моей, нет берегов, она все нарастает, сколько бы вы ангельским голоском ни твердили ей: «Остановись».
— Сигоньяк, такие разговоры сердят меня, — сказала Изабелла с недовольной гримаской, ласкающей лучше нежной улыбки; ибо душу девушки, помимо воли, заполняла радость от этих уверений в любви, которую не расхолаживал самый суровый отпор.
Молча прошли они несколько шагов. Сигоньяк боялся настаивать, чтобы не прогневить ту, кого любил больше жизни. Внезапно Изабелла отдернула руку и легко, как лань, с возгласом детской радости побежала к обочине дороги.
На склоне косогора, у подножья дуба, среди палой листвы, наметенной зимним ветром, она увидела фиалку, должно быть, первую в году, потому что стоял только еще февраль месяц; опустившись на колени, молодая актриса осторожно раздвинула сухие листья и травинки, ногтем подрезала хрупкий стебелек и возвратилась с цветком, радуясь больше, чем если бы ей попался драгоценный аграф, забытый во мху какой-нибудь принцессой.
— Посмотрите, какая миленькая, — сказала она, показывая фиалку Сигоньяку, — листочки только-только раскрываются под первыми лучами солнца.
— Она распустилась вовсе не от солнца, а от вашего взгляда, — возразил Сигоньяк. — У нее в точности цвет ваших глаз.
Она не пахнет потому, что ей холодно, — сказала Изабелла и спрятала зябкий цветочек под косынку. Немного погодя она вынула его, долго вдыхала легкий запах и, украдкой поцеловав, протянула цветок Сигоньяку. — Как он теперь благоухает! Согревшись у меня на груди, крошечная душа скромного цветочка издает свой тонкий аромат.
— Это вы надушили его, — возразил Сигоньяк, поднося фиалку к губам, чтобы вкусить с нее поцелуй Изабеллы. — В его нежном и сладостном благоухании нет ничего земного.
— Вот гадкий! — воскликнула Изабелла. — Я ему простодушно даю понюхать цветок, а он изощряется, сочиняя невесть какие concetti[18] в духе Марини, как будто действие происходит не на проезжей дороге, а в алькове какой-нибудь прославленной жеманницы. Что с ним поделаешь? На каждое простое словечко он отвечает мадригалом.
Несмотря на мнимое возмущение, молодая актриса на самом деле не очень-то гневалась на Сигоньяка, иначе она не оперлась бы вновь на его руку, и даже крепче, чем того требовала ее обычно столь легкая поступь, да и дорога была в этом месте ровная, как садовая аллея. Из вышесказанного явствует, что самая безупречная добродетель не остается равнодушной к похвалам и даже скромность находит способ отблагодарить за лесть.
Фургон медленно взбирался по крутому склону холма, под которым примостилось несколько лачужек, словно поленившихся взлезть наверх. Обитатели их были на полевых работах, и на краю дороги виднелись лишь фигуры слепца и его поводыря, мальчика-подростка, которые, должно быть, остались здесь, чтобы просить милостыню у проезжих. Слепец, явно обремененный годами, тянул в нос унылую жалобу, сетуя на свою немощь, прося путников о подаянии и обещая вымолить для них райское блаженство в оплату за их щедроты. Его заунывный голос давно уже тревожил слух Изабеллы и Сигоньяка своим назойливым гуденьем, некстати врываясь в их сладкозвучный любовный дуэт, — барон даже начал раздражаться: когда рядом поет соловей, противно слушать, как вдали каркает ворон.
После того как поводырь предупредил нищего об их приближении, тот стал вдвойне усердствовать в стенаниях и мольбах. Чтобы побудить путников быть пощедрее, он потрясал деревянной чашкой, где бренчало несколько лиаров, денье и других мелких монет. Голова старика была повязана изодранной тряпицей, согнутую дугой спину покрывал грубошерстный плащ, очень толстый и тяжелый, более похожий на попону вьючного животного, нежели на человеческую одежду, и, по всей вероятности, полученный в наследство после мула, околевшего от сапа или коросты. Глаза его были заведены вверх, и только белок выделялся на темном морщинистом лице, производя отталкивающее впечатление; весь низ физиономии утопал в длинной седой бороде, достойной капуцина или отшельника, доходившей до самого пупа, очевидно, для симметрии с шевелюрой. Тела его не было видно, только дрожащие руки высовывались из плаща, встряхивая сосуд для сбора подаяний. В знак благочестия и покорности воле Провидения под коленопреклоненным слепцом была соломенная подстилка, истертая, прогнившая более, чем гноище древнего Иова. Сострадание к этому человеческому отребью неминуемо сочеталось с омерзением, и милосердный даятель отводил взгляд, бросая свою лепту.
У подростка, стоявшего подле старца, был вид злобного дичка. Длинные пряди черных волос струились по щекам. Старая продавленная, непомерно большая шляпа, подобранная где-нибудь у придорожного столба, затеняла всю верхнюю часть лица, оставляя на свету только подбородок и рот, в котором жестокой белизной сверкали зубы. Рубище из грубого холста составляло всю его одежду, обрисовывая худое, крепко сбитое тело, не лишенное изящества, невзирая на вопиющую нищету. Босые стройные ножки закраснелись от холода на промерзлой земле.
Тронутая плачевным зрелищем несчастливой старости и обездоленного детства, Изабелла остановилась перед слепцом, который бубнил свои заклинания, все убыстряя скороговорку, меж тем как поводырь пронзительным дискантом вторил ему, и принялась искать у себя в кармашке монету, чтобы подать нищему. Не найдя своего кошелька, она обернулась к Сигоньяку и попросила одолжить ей несколько су, что барон не замедлил исполнить, хотя старик со своими причитаниями очень не понравился ему. Не желая, чтобы Изабелла приближалась к таким оборванцам, барон, как человек учтивый, сам положил монеты в деревянную чашку.
Но тут, вместо того чтобы поблагодарить Сигоньяка за подаяние, согбенный старец, к великому испугу Изабеллы, выпрямился и, раскинув руки, как, взлетая, расправляет крылья ястреб, развернул огромный коричневый плащ, под тяжестью которого, казалось, совсем сгибался, перебросил плащ через плечо и швырнул его движением рыбака, закидывающего невод в речку или в пруд. Плотная ткань, словно туча, простерлась над Сигоньяком, накрыла его с головой и повисла вдоль туловища тяжелыми складками, потому что по краю ее, как на сети, были нашиты грузила, так что он сразу задохнулся, перестал видеть и владеть руками и ногами. Молодая актриса, окаменев от ужаса, пыталась крикнуть, бежать, звать на помощь, но, прежде чем она успела извлечь из горла хоть звук, чьи-то руки стремительно подняли ее с земли. Старый слепец, скорее по воле ада, чем неба, ставший вмиг молодым, подхватил ее под мышки, меж тем как подросток-поводырь поддержал ее за ноги. Оба, не проронив ни слова, поволокли ее в сторону от дороги. Остановились они лишь позади лачужки, где их дожидался человек в маске, верхом на рослом жеребце. Еще два всадника, тоже в масках и вооруженные до зубов, прятались за высокой стеной, чтобы их не видно было с дороги, готовые прийти в случае нужды на помощь своим соучастникам.
Полумертвую от страха Изабеллу посадили на седельную луку, взамен подушки покрытую свернутым в несколько раз плащом. Человек в маске обвил талию девушки ремешком, концами которого опоясался сам. Проделав все это с быстротой и ловкостью, свидетельствовавшими о большом опыте в такого рода дерзких похищениях, он пришпорил коня, который пустился вскачь, из чего явствовало, что двойная ноша ему нипочем: правда, молодая актриса весила не очень много.
Происшедшее отняло гораздо меньше времени, чем его описание. Сигоньяк метался под тяжеленным плащом лжеслепца, подобно гладиатору в сети, наброшенной противником. Он сходил с ума при мысли, что Изабелла снова попала в ловушку Валломбреза, и тщетно пытался высвободиться. По счастью, он надумал вытащить кинжал и прорезать плотную ткань, тяготевшую на нем, словно свинцовое одеяние на Дантовых грешниках.
Сделав кинжалом два-три надреза, он высвободился из своей темницы, точно сокол, с которого сняли колпачок, зорким, пронзительным взглядом огляделся окрест и увидел похитителей Изабеллы, старавшихся напрямик через поля добраться до ближайшего леска. А слепец и подросток — те исчезли совсем, верно, скрылись где-нибудь в овраге или под кустами. Но Сигоньяк охотился не на эту мелкую дичь. Скинув свой плащ, который служил бы ему помехой, со стремительностью отчаяния бросился он в погоню за бандитами. Барон был подвижен, легок, отлично сложен, будто создан для бега, и в детстве часто состязался в быстроте с самыми шустрыми деревенскими ребятишками. Похитители, оглядываясь, видели, как убывает расстояние между ними и Сигоньяком. Один из них даже выстрелил, чтобы остановить его, но промахнулся, потому что Сигоньяк на бегу прыгал то в одну, то в другую сторону, мешая своим врагам как следует прицелиться. Всадник, увозивший Изабеллу, хотел вырваться вперед, предоставив своему арьергарду расправиться с Сигоньяком, но посаженная на луку Изабелла мешала ему как следует понукать коня, она отбивалась и вырывалась, пытаясь соскользнуть на землю.
Дорога была тяжела для лошади, и Сигоньяк все приближался. Не замедляя бега, он выхватил шпагу из ножен и размахивал ею; но он был один, пеший, против трех конных, у него уже перехватывало дыхание; сделав неимоверное усилие, он в несколько прыжков поравнялся с всадниками, прикрывавшими похитителя. Не желая тратить на них время, он концом рапиры раз-другой кольнул крупы их лошадей с тем расчетом, что они испугаются и понесут. И в самом деле, кони шарахнулись, обезумев от боли, встали на дыбы, закусили удила, и как ни старались ездоки обуздать их, но совладать с ними не могли, — они бросились вскачь через рвы и канавы, как будто на них насел сам черт, и вскоре скрылись из виду.
Обливаясь потом, хватая воздух пересохшим ртом, каждый миг боясь, что сердце разорвется у него в груди, Сигоньяк настиг наконец всадника в маске, который держал Изабеллу поперек холки коня. Молодая женщина кричала:
— Ко мне, Сигоньяк, ко мне!
Я здесь! — прохрипел барон прерывающимся голосом и левой рукой ухватился за ремень, которым Изабелла была привязана к похитителю. Он бежал рядом с лошадью, как те всадники, которых римляне называли desultores, и старался стащить всадника с седла. Но тот стискивал бока лошади коленями, и оторвать его от седла было не легче, чем разделить туловище кентавра, при этом он нащупывал каблуками живот лошади, чтобы пустить ее вскачь, и старался стряхнуть Сигоньяка, в которого не мог стрелять, потому что одной рукой держал поводья, а другой Изабеллу. Задерганная лошадь пошла шагом, что позволило Сигоньяку перевести дух; он даже попытался в эту короткую передышку нанести противнику удар шпагой; но страх задеть метавшуюся в седле Изабеллу сделал его неловким, и он промахнулся. А всадник отпустил на миг поводья, выхватил из кармана куртки нож и перерезал ремень, за который в отчаянии цеплялся Сигоньяк; затем всадил в бока лошади зубчатые колесики шпор так, что брызнула кровь, и несчастное животное неудержимо рванулось вперед. Ремешок остался в руке Сигоньяка, а сам он, потеряв опору и не ожидая такого маневра, со всей силы упал навзничь; как ни быстро вскочил он снова на ноги и подобрал свою шпагу, отлетевшую на несколько шагов, всадник успел за этот короткий срок проскакать порядочное расстояние, наверстать которое у барона, измученного неравной борьбой и бешеной гонкой, не было ни малейшей надежды. Тем не менее, слыша все слабеющие крики Изабеллы, он снова бросился в погоню за похитителем — тщетное усилие любящего сердца, у которого отнимают самое дорогое! Однако он заметно отставал, а всадник уже достиг леса, хоть и лишенного листвы, но достаточно густого, чтобы за сеткой стволов и ветвей потерялся след бандита.
Хотя Сигоньяк не помнил себя от ярости и отчаяния, ему пришлось прекратить погоню, оставив свою возлюбленную Изабеллу в когтях злобного демона; помочь ей он ничем не мог даже при поддержке Ирода и Скапена, которые, услышав выстрелы и заподозрив какое-нибудь нападение, стычку или засаду, спрыгнули с повозки, как ни старался их удержать верзила-лакей. Сигоньяк наспех рассказал им о похищении Изабеллы и обо всем происшедшем.
— Тут дело не обошлось без Валломбреза, — определил Ирод, — уж не устроил ли он нам эту западню, проведав о нашей поездке в замок Поммерейль? А может, и представление, за которое я получил вперед немалые деньги, было придумано для того, чтобы выманить нас из города, где подобные штуки проделывать трудно и опасно? В таком случае мошенник, разыгравший роль почтенного управителя, был величайшим актером, какого только мне доводилось видеть. Я бы поклялся, что этот негодяй — на самом деле простодушный управитель из хорошего дома, преисполненный добродетелей и достоинств. Но теперь, когда нас трое, давайте обшарим вдоль и поперек эту рощу, чтобы напасть хотя бы на след нашей милой Изабеллы, которая мне, какой я ни тиран, дороже собственной утробы со всеми потрохами. Увы! Боюсь, что наша невинная пчелка попала в сети гигантского паука. Только бы он не покончил с ней, прежде чем мы успеем ее вызволить из его искусно сплетенной паутины.
— Я раздавлю его! — воскликнул Сигоньяк, топнув ногой, как будто паук и в самом деле очутился у него под каблуком. — Я раздавлю ядовитого гада! Грозное выражение его обычно спокойного и приветливого лица доказывало, что это не пустая похвальба и что он так и поступит, как сказал.
— Ну, не будем тратить время на разговоры, лучше отправимся поскорее в лес и обыщем его, — повторил Ирод, — наша дичь не могла еще залететь далеко.
И правда, когда Сигоньяк и его спутники пересекли лес, застревая ногами в зарослях кустарника и царапая себе лицо о сухие ветки, четверка почтовых лошадей, подхлестываемая гулким, как выстрелы, щелканьем бича, во весь опор уносила карету со спущенными шторками. Двое всадников, обуздав своих лошадей, которых подколол Сигоньяк, скакали по обе стороны кареты, причем один из ни тащил за поводья лошадь человека в маске; тот, очевидно, пересел в карету, чтобы Изабелле не удалось поднять шторки и позвать на помощь или даже, рискуя жизнью, выпрыгнуть на землю.
Без семимильных сапог, которые Мальчик с пальчик ловко утащил у людоеда, бессмысленно было бежать за каретой, катившей так быстро и под такой охраной. Сигоньяку и его товарищам оставалось только проследить за взятым ею направлением, как ни мало это давало надежды отыскать Изабеллу. Барон пробовал идти по следам колес, но погода стояла сухая, и колеса оставляли на твердой почве очень слабый отпечаток, да и тот вскоре перепутался с колеями, проложенными другими каретами и повозками, которые проезжали здесь ранее. Достигнув перекрестка, где от дороги шло несколько ответвлений, барон окончательно потерял след и остановился в большем затруднении, нежели Геркулес, который колебался между сладострастием и целомудрием. Поневоле пришлось повернуть назад, чтобы ошибочным направлением не отдалиться еще больше от цели. Маленький отряд ни с чем возвратился к фургону, где остальные актеры в тревоге и страхе ожидали разгадки таинственного происшествия.
С самого начала событий лакей-проводник подстегнул лошадей, чтобы актеры не могли прийти на помощь Сигоньяку, хотя они и требовали остановить фургон; когда же Тиран и Скапен, услышав пистолетные выстрелы, выскочили из повозки, несмотря на противодействие провожатого, он пришпорил коня, перемахнул через канаву и помчался вслед за своими сообщниками, нимало не заботясь о том, доберется ли труппа до замка Поммерейль, если таковой вообще существует на свете, что было весьма сомнительно после всего случившегося. Ирод спросил у старухи, проходившей мимо с вязанкой хвороста за спиной, далеко ли до Поммерейля; старуха ответила на это, что не знает ни поместья, ни селения, ни замка под таким названием на много миль вокруг, хотя ей стукнуло семьдесят годков, а она с малолетства бродит по окрестностям и поддерживает свою горемычную жизнь, прося милостыню на путях-дорогах.
Теперь уже не оставалось сомнений, что вся история со спектаклем была подстроена ловкими и бессовестными мошенниками по поручению богатого вельможи, ибо для такой сложной махинации требовалось много людей и много денег. Этим вельможей был, конечно, не кто иной, как влюбленный в Изабеллу Валломбрез.
Фургон повернул назад, к Парижу, но Сигоньяк, Ирод и Скапен остались на месте происшествия, намереваясь нанять в ближайшем селении лошадей, что позволит успешнее продолжать поиски похитителей и погоню за ними.
После того как барон упал, всадник добрался с Изабеллой до полянки в лесу, где молодую женщину сняли с лошади и водворили в карету, несмотря на ее отчаянное сопротивление; все это заняло две-три минуты, после чего карета покатила дальше, громыхая колесами, как колесница Капанея на бронзовом мосту. Напротив Изабеллы почтительно пристроился человек в маске, тот самый, что увез ее в седле. Когда она сделала попытку высунуться в окно, таинственный спутник протянул руку и отстранил ее. Противиться этой железной руке не было возможности. Изабелла откинулась на сиденье и принялась кричать в надежде, что ее услышит какой-нибудь прохожий.
— Сделайте милость, сударыня, успокойтесь, — сказал похититель изысканно вежливым тоном. — Не вынуждайте меня применить насилие к столь любезной и пленительной особе. Вам не желают зла, а, напротив, желают всяческого добра. Не упорствуйте же в бесполезной строптивости; если вы поведете себя благоразумно, я буду оказывать вам величайшее почтение, не хуже чем пленной королеве; но если вы вздумаете бесноваться, бунтовать и просить помощи, которая все равно не придет, я найду способ вас утихомирить. Вот что заставит вас молчать и сидеть смирно.
И человек в маске достал из кармана искусно сработанный кляп вместе со смотанной длинной и тонкой шелковой веревкой.
— Было бы просто варварством приладить эту узду или затычку к столь свежим, розовым, сладким, как мед, губкам, — продолжал он. — Согласитесь, что и веревка совсем не подходит к нежным и хрупким ручкам, предназначенным носить золотые запястья, усеянные алмазами.
При всем своем негодовании и отчаянии Изабелла принуждена была признать правоту этих доводов. Физическое сопротивление ни к чему бы не привело, так что молодая актриса забилась в угол кареты, не проронив больше ни слова. Только грудь ее вздымалась от рыданий, и слезы падали на бледные щеки, точно капли дождя на лепестки белой розы. Она думала об опасности, какой подвергалась ее честь, и об отчаянии Сигоньяка.
«За приступом гнева следует приступ слез, — подумал человек в маске. — Все идет как по-писаному. Тем лучше: мне было бы неприятно круто обойтись с такой красоткой».
Вся сжавшись в уголке кареты, Изабелла время от времени бросала пугливый взгляд на своего стража, который заметил это и, стараясь говорить как можно мягче, хотя от природы у него был сиплый голос, сказал ей:
— Вам незачем меня бояться, сударыня. Я человек чести и ничего не сделаю вам неугодного. Если бы судьба не обделила меня своими дарами, я, конечно, не похитил бы для другого такую целомудренную, красивую, так щедро наделенную талантом девицу, как вы; но суровый рок порой вынуждает человека совершать не совсем благовидные поступки.
— Значит, вы не отрицаете, что вас подкупили, поручив похитить меня! — воскликнула Изабелла. — И вы пошли на это подлое, жестокое насилие!
После того, что сделано, отпираться было бы бессмысленно, — преспокойно отвечал человек в маске. — В городе Париже немало нас, бесстрастных философов, которые за деньги принимают участие в чужих страстях и берутся их удовлетворить, одалживая им свой ум и находчивость, свою отвагу и силу. Но давайте переменим разговор: как вы были очаровательны в последней комедии! Сцену признания вы провели с изяществом, не знающим себе равного. Я хлопал вам что было мочи. Вы, верно, слышали, кто-то бил в ладоши, как прачки колотят вальком? Это был я!
— Я скажу вам в свой черед: оставим эти неуместные похвалы и любезности. Куда вы везете меня против моей воли и наперекор всем законам и приличиям?
— Я не могу вам на это ответить, да и ответ мой ничем бы вам не помог; мы, подобно духовникам и лекарям, обязаны соблюдать тайну, строжайшее молчание — необходимое условие в такого рода секретных, опасных, головоломных предприятиях, осуществляемых безымянными и безликими призраками. Зачастую для пущей безопасности мы даже не знаем того, кто поручает нам эти рискованные дела, а он не знает нас.
— И вам неизвестно, чья рука толкнула вас совершить такое гнусное преступление — посреди большой дороги отнять ни в чем не повинную девушку у ее друзей?
— Известно или нет, суть остается та же, раз сознание долга закрывает мне рот. Поищите среди своих обожателей самого пылкого и самого незадачливого. Без сомнения, это будет он.
Поняв, что у человека в маске ничего не добьешься, Изабелла прекратила разговор. К тому же она была убеждена, что похищение — дело рук Валломбреза. Она не забыла, каким угрожающим тоном он произнес, уходя из се комнаты в гостинице на улице Дофина: «До свидания, сударыня». Из уст человека его склада, необузданного в своих желаниях, не признающего преград своей воле, эти простые слова не сулили ничего хорошего. Такая уверенность усугубляла ужас бедной актрисы, бледневшей при мысли, какому натиску подвергнется ее целомудрие со стороны высокомерного вельможи, более уязвленного в своей гордыне, нежели в своей любви. Она надеялась, что ей на помощь придет Сигоньяк, ее отважный и верный друг. Но удастся ли ему вовремя обнаружить то потаенное убежище, куда ее увозят? «Как бы то ни было, — решила она про себя, — если злодей герцог осмелится меня оскорбить, я ношу за корсажем нож Чикиты и не задумаюсь пожертвовать жизнью, чтобы спасти свою честь». Приняв такое решение, она немного успокоилась.
Карета с одинаковой скоростью ехала уже два часа, остановившись лишь на несколько минут, чтобы сменить заранее приготовленных лошадей. Так как шторки были спущены, Изабелла ничего не видела и не могла догадаться, в какую сторону ее везут. Правда, местность была ей незнакома, но если бы ей дали возможность выглянуть наружу, она хотя бы по солнцу определила направление, а так ее держали в полном неведении, увлекая бог весть куда.
Когда колеса загромыхали по железным балкам подъемного моста, Изабелла поняла, что путь окончен. В самом деле, карета остановилась, дверцы распахнулись, и человек в маске протянул молодой актрисе руку, помогая ей сойти.
Она огляделась по сторонам и увидела большой внутренний двор, образованный четырьмя красными кирпичными корпусами, принявшими от времени темный, довольно мрачный колорит. Сквозь зеленоватые стекла было видно, что узкие и высокие окна дворцовых фасадов изнутри закрыты ставнями, из чего вытекало, что комнаты, которым они давали свет, давно уже необитаемы. Двор был вымощен плитами, и каждую из них окаймляла рамка из мха, а у подножия стен пробивалась трава. Перед крыльцом два сфинкса в египетском вкусе вытягивали на цоколе свои притупившиеся когти, а их округлые крупы были испещрены желтыми и серыми пятнами, болезнью старого камня. Неведомый замок, хоть и отмеченный той печатью грусти, какую налагает на жилище отсутствие хозяина, все же сохранил пышность аристократического владения. Он был пуст, но не заброшен, и никаких следов упадка не виднелось на нем: тело было нетронуто, отсутствовала лишь душа.
Человек в маске передал Изабеллу с рук на руки лакею в серой ливрее. Широкой лестницей с коваными перилами, богато изукрашенными узором из завитков и арабесок по моде прошлого царствования, лакей повел Изабеллу в покои, которые когда-то, надо полагать, казались пределом великолепия и в своей поблекшей роскоши могли поспорить с новомодным щегольством. Стены первой комнаты были обшиты панелями мореного дуба в виде пилястров, карнизов и резных листьев, обрамлявших фландрские шпалеры. Во второй комнате, тоже обшитой дубом, но с более тонким орнаментом и вкрапленной в него позолотой, в рамы взамен шпалер были вставлены аллегорические картины, сюжеты которых нелегко было разобрать под слоем копоти и желтого лака; темные краски расплылись, и только светлые куски живописи выделялись более явственно. Лица богов и богинь, нимф и героев выступали из мрака частично, лишь светлыми своими сторонами, что производило странное впечатление, а по вечерам, при неверном свете лампы, могло даже напугать. Кровать помещалась в глубоком алькове и была застлана вышитым покрывалом с бархатными полосами; все это великолепие порядком потускнело. Золотые и серебряные нити поблескивали среди полинявших шелков и шерстей, а красный цвет самой материи местами отливал синевой. Наклонное венецианское зеркало на роскошном резном туалетном столе показало Изабелле ее бледное, до неузнаваемости изменившееся лицо. Очевидно, ради приезда молодой актрисы яркий огонь пылал в камине — монументальном сооружении, державшемся на подпорах в виде статуй Гермеса и перегруженном обилием волют, кронштейнов, гирлянд и прочих украшений, которые обрамляли портрет мужчины, чья наружность до крайности поразила Изабеллу. Черты его не были для нее чужды; они смутно припомнились ей, как те образы сна, которые не исчезают с пробуждением, а долго сопутствуют нам наяву. Это было лицо человека лет сорока, бледное, с черными глазами, с пурпурными губами, каштановыми волосами, — печать благородной гордости лежала на нем. Грудь его охватывала кираса из вороненой стали в золотых с чернью полосах, с белым шарфом через плечо. При всех тревогах и страхах, естественных в ее положении, Изабелла, как зачарованная, то и дело обращала взгляд на портрет. В нем было что-то общее с Валломбрезом, но выражением они настолько разнились между собой, что сходство черт вскоре забывалось.
Она была поглощена этими мыслями, когда лакей в серой ливрее, удалившийся на несколько минут, вернулся с двумя слугами, которые несли столик, накрытый на один прибор.
— Кушать подано, — доложил пленнице первый лакей.
Один из слуг бесшумно пододвинул кресло, а другой поднял крышку с суповой миски старого массивного серебра, откуда столбом поднялся пар, напитанный запахом наваристого бульона.
Хоть и угнетенная своим тягостным положением, Изабелла ощущала голод и пеняла за это на себя, забывая, что природа никогда не поступается своими правами; однако ее остановила мысль, что поданные ей кушанья содержат снотворное, которое лишит ее силы сопротивляться, и она оттолкнула тарелку, в которую уже погрузила ложку.
Лакей в серой ливрее, как видно, понял ее опасения и тут же отпил вина и воды и отведал ото всех кушаний, поставленных на стол. Несколько успокоившись, пленница проглотила ложку бульона, съела кусочек хлеба, обсосала крылышко цыпленка; покончив с этим легким завтраком и чувствуя лихорадочный озноб от всего пережитого, она придвинула кресло к камину и просидела так некоторое время, опершись рукой на локотник кресла, а подбородком на ладонь, вся во власти смутных и тягостных дум.
Затем она встала и подошла к окну посмотреть, куда оно выходит. На нем не было ни загородок, ни тюремных решеток. Но, нагнувшись, она увидела, как внизу, у самого подножья стены, мерцает стоячая, подернутая ряской вода глубокого рва, опоясывающего замок. Мост, по которому проехала карета, был поднят, и сообщаться с внешним миром иначе как вплавь не представлялось возможности. Да и то карабкаться по отвесным, облицованным камнем стенам рва было делом нешуточным. А дальше горизонт заслоняли вековые деревья, посаженные в два ряда вокруг замка. Из окон были видны лишь их переплетенные ветви, хоть и оголенные, но совершенно закрывавшие кругозор. Надежды на бегство или избавление не было никакой. Приходилось с величайшим напряжением ждать событий, что, пожалуй, страшнее уже разразившегося бедствия.
Не мудрено, что бедняжка Изабелла вздрагивала при малейшем шуме. От плеска воды, вздохов ветра, шороха обоев или потрескивания дров у нее по спине сбегали струйки холодного пота. Каждую минуту она ждала, что вот-вот откроется дверь или отодвинется панель, обнаружив потайной ход, откуда появится кто-то, человек или призрак. Может статься, призрака она боялась даже меньше. Сумерки сгущались, и ей становилось все страшнее; когда рослый лакей внес канделябр с зажженными свечами, она едва не лишилась чувств.
Пока Изабелла трепетала от страха в своих пустынных апартаментах, похитители ее пировали в подвальном помещении, бражничали и обжирались напропалую, потому что им приказано было оставаться здесь в роли гарнизона и охранять замок на случай нападения Сигоньяка. Пили они все как губки, но один проявлял исключительные способности в поглощении живительной влаги. Это был человек, который увез Изабеллу, держа ее поперек луки, и так как он скинул маску, каждый мог созерцать его бледное лицо, похожее на круглый сыр, посреди которого пламенел нос, подобный шпанской вишне. По окраске носа читатель, конечно, узнал Малартика, приятеля Лампурда.
XVI ВАЛЛОМБРЕЗ
Оставшись одна в незнакомой комнате, где всякую минуту опасность могла предстать перед ней под неведомой личиной, Изабелла чувствовала, как сердце ее сжимается невыразимой тревогой, хотя кочевая жизнь и сделала ее смелее, чем обычно бывают женщины. Между тем окружающая обстановка совсем не казалась мрачной в своей старинной, но не тронутой временем роскоши. Веселые огоньки плясали на огромных поленьях в камине; пламя свечей озаряло всю комнату до самых укромных уголков, вместе с темнотой изгоняя оттуда призраки страха; благодатное, радушное тепло располагало с беспечному покою. В ярко освещенных панно не было ничего таинственного, а обративший на себя внимание Изабеллы мужской портрет в богатой раме над камином не обладал тем неподвижным взглядом, который в то же время как бы следит за вами, что так пугает в некоторых портретах. Наоборот, он словно улыбался покровительственно и доброжелательно, вроде тех изображений святых, к которым можно воззвать в минуту опасности. Но, несмотря на весь этот умиротворяющий уют, напряженные нервы Изабеллы вибрировали, как струны гитары, когда их перебирают пальцами; глаза ее тревожно и пугливо блуждали по комнате, стараясь и страшась увидеть неведомое, а чувства, возбужденные сверх меры, с ужасом ловили среди глубокого ночного безмолвия еле внятные звуки — голос самой тишины. Одному богу известно, какой зловещий смысл принимали они в воображении девушки! В конце концов беспокойство ее достигло таких размеров, что она решилась покинуть ярко освещенную, обогретую и уютную комнату и, рискуя самыми невероятными встречами, пустилась по темным коридорам замка в поисках забытого выхода или уголка, где можно спрятаться. Убедившись, что двери комнаты не заперты на ключ, она взяла с круглого столика светильник, оставленный лакеем на ночь, и, прикрыв его ладонью, пустилась в путь.
Прежде всего она натолкнулась на лестницу с замысловатыми коваными перилами, по которой поднималась в сопровождении лакея; справедливо рассудив, что выхода, через который удалось бы бежать, на втором этаже быть не может, она спустилась в первый этаж. Увидев внизу за сенями двухстворчатую дверь, она повернула ручку, и обе створки распахнулись с легким треском дерева и скрипом петель, показавшимися ей громовыми раскатами, хотя в трех шагах их не было слышно. Слабый огонек, чуть мерцавший в сыром воздухе давно не проветриваемого помещения, осветил или, вернее, позволил молодой актрисе различить обширную залу, где хоть и не чувствовалось запустения, но было что-то мертвенное, как во всех необитаемых покоях; длинные дубовые скамьи тянулись вдоль стен, обтянутых шпалерами, на которых были вытканы человеческие фигуры; в мимолетных вспышках огонька поблескивали развешанные по стенам военные трофеи, железные перчатки, мечи и щиты. Середину комнаты занимал огромный стол с массивными ножками, на который молодая женщина чуть не наткнулась; но каков был ее ужас, когда обойдя его и приблизясь к двери напротив входа, ведущей в соседнюю залу, она увидела двух закованных в латы рыцарей, неподвижно стоявших на страже по обе стороны двери: железные перчатки были у них скрещены на рукоятке меча, острием обращенного к полу, забрала шлемов изображали головы страшных птиц, отверстия для глаз были сделаны в виде зрачков, а полосы, прикрывающие нос, — в виде клювов; на гребне шлема, как трепещущие от ярости крылья, топорщились железные пластинки, вырезанные наподобие перьев; световой блик странным образом вздувал нагрудные щиты, так что казалось, будто их поднимают глубокие вздохи; от наколенников и налокотников отходили стальные острия, изогнутые в форме орлиного когтя, и удлиненный носок башмака был загнут тоже в форме когтя. При зыбком свете лампы, дрожавшей в руке Изабеллы, призраки принимали поистине устрашающий вид, способный перепугать даже закаленного храбреца. У бедняжки Изабеллы сердце колотилось так, что удары его отдавались в горле. Можно ли удивляться, что она пожалела, зачем покинула освещенную комнату и наугад отправилась бродить в темноте? Однако воины не шевельнулись, хотя и должны были заметить ее присутствие, и, видимо, не собирались преградить ей дорогу, потрясая мечами; когда она приблизилась к одному из них и поднесла светильник к самому его носу, латник ничуть этим не обеспокоился и остался совершенно невозмутим. Расхрабрившись и заподозрив истину, Изабелла подняла на нем забрало, за которым обнаружился темный провал, как под шлемом, венчающим герб. Оба стража оказались лишь немецкими манекенами в полном рыцарском снаряжении.
Но такой обман чувств был вполне простителен для бедной пленницы, блуждающей ночью по пустынному замку, настолько эта металлическая оболочка, отлитая по человеческому телу как эмблема войны, уподобляется ему и, будучи пустой, еще сильнее потрясает воображение окостенелой неподвижностью узловатых сочленений. Несмотря на тягостное состояние духа, Изабелла невольно улыбнулась своей ошибке и, подобно героям рыцарских романов, с помощью талисмана разрушавших чары, которые закрывали доступ в заколдованный замок, храбро шагнула через порог следующей комнаты, пренебрегая обоими отныне беспомощными стражами.
Это была огромная столовая, судя по высоким поставцам резного дуба, в которых смутно мерцала серебряная посуда: графины, солонки, перечницы, кубки, пузатые вазы, большие серебряные или позолоченные блюда, похожие не то на щиты, не то на каретные колеса, а также богемский и венецианский хрусталь изящной и причудливой формы, на свету искрившийся зелеными, красными и синими огоньками. Стулья с высокими прямоугольными спинками, расставленные вокруг стола, казалось, тщетно ожидали гостей, а ночью могли служить сборищу пирующих привидений. Покрывавшая стены над дубовыми панелями старинная кордовская кожа, тисненная золотом с разводами в виде цветов, вспыхивала красноватыми отблесками при беглом свете лампы, насыщая полумрак великолепием теплых и темных тонов. Мимоходом взглянув на эту старинную роскошь, Изабелла поспешила в третью комнату.
Это была, по-видимому, парадная зала, более обширная, чем две первые, тоже отличавшиеся немалыми размерами. Слабенький огонек лампы не достигал ее глубин и растекался в нескольких шагах желтоватыми струйками, словно луч звезды сквозь туман. Как ни бледен был огонек, он пронизывал мрак и придавал теням расплывчатые жуткие формы, неясные очертания, которые дорисовывал страх. Призраки драпировались в складки портьер: привидения покоились в объятиях кресел; мерзкие чудовища ютились по углам, безобразно скрючившись или повиснув на когтях летучих мышей.
Обуздав испуганное воображение, Изабелла пошла вперед и на дальнем конце залы увидала царственный балдахин, увенчанный перьями, затканный геральдическими эмблемами, по которым трудно было расшифровать герб; под балдахином на возвышении, покрытом ковром, стояло кресло, подобное трону, к которому вели три ступени. Все это, смутно выхваченное из мрака тусклым мимолетным отблеском, в таинственности своей приобретало грозное, потрясающее величие. Казалось, будто это седалище для того, кто возглавляет синедрион духов, и не требовалось особого полета фантазии, чтобы представить себе ангела тьмы, восседающего между своих длинных черных крыл.
Изабелла ускорила шаг, и, как ни легка была ее походка, скрип башмаков посреди такой тишины приобретал чудовищную звучность. Четвертая комната была спальня, наполовину занятая огромной кроватью, вокруг которой тяжелыми складками ниспадал полог из темно-малинового индийского штофа. Между стеной и кроватью помещался эбеновый аналой, над которым поблескивало серебряное распятье. Кровать с задернутым пологом даже среди бела дня внушает тревожное чувство. Невольно думается: что скрыто там, за опущенными занавесями? А ночью в необитаемой комнате плотно занавешенная кровать вселяет настоящий ужас. Там может находиться и спящий, и мертвец, и даже живой человек, подстерегающий тебя. Изабелле померещилось, что оттуда слышится равномерное и глубокое сонное дыхание; было ли это правдой или заблуждением? Она не отважилась узнать истину, раздвинув складки красного шелка и осветив кровать своей лампой.
За опочивальней находилась библиотека. Красовавшиеся на книжных шкафах бюсты поэтов, историков и философов провожали Изабеллу своими огромными белыми глазами, заглавия и цифры на корешках многочисленных книг, беспорядочно расставленных по полкам, загорались золотом при беглом свете лампы. Далее здание поворачивало под прямым углом, и вдоль бокового фасада со стороны двора тянулась длинная галерея, где в хронологическом порядке были развешены фамильные портреты в побуревших от старости золоченых рамах. На противоположной стене им соответствовал ряд окон, закрытых ставнями с овальным отверстием наверху, что создавало в такую пору причудливый световой эффект. Взошла луна, и луч ее, проскальзывая в это отверстие, отображался таким же овалом на противоположной стене; случалось, что голубоватый блик, точно мертвенная маска, ложился на чье-то лицо. От этой колдовской игры света портреты оживали, нагоняя мистический страх, тем более что туловища оставались в тени, и только серебристо-белесые лица выступали рельефом из рам, чтобы посмотреть на Изабеллу. Другие же, те, что попадали лишь в свет лампы, хранили под желтым лаком торжественную неподвижность мертвецов, но казалось, будто души предков явились взглянуть на мир через их черные зрачки, словно через отверстия, нарочно для того и сделанные. И от этих изображений дрожь пробирала не меньше, чем от остальных.
Чтобы пройти по галерее мимо призраков, глядевших со стен. Изабелле потребовалось столько же мужества, сколько нужно солдату, чтобы спокойно промаршировать под перекрестным огнем. От холодного пота у нее между лопатками намокла шемизетка, и ей мерещилось, будто страшилища в кирасах и камзолах, увешанных орденами, вдовицы в торчащих гофрированных воротничках и непомерных фижмах спустились из рам и сопровождают ее, словно погребальная процессия. Ей даже чудилось, что их призрачные шаги следом за ней шелестят по паркету. Наконец она достигла конца этого широкого перехода и натолкнулась на застекленную дверь во двор; порядком поцарапав пальцы старым ржавым ключом, она не без труда повернула его в замке и, поставив лампу в надежное место, чтобы взять ее на обратном пути, покинула галерею, обиталище ужасов и ночных миражей.
При виде вольного неба, где серебряным блеском переливались звезды и белый свет луны не мог вполне их затмить, Изабелла ощутила беспредельную ликующую радость, как бы возвратись от смерти к жизни, ей казалось, что бог видит ее теперь с небесных высот, меж тем как раньше мог забыть о ней, пока она блуждала в беспросветном мраке, под непроницаемыми сводами, по лабиринту комнат и переходов. Хоть положение ее ничем не стало лучше, с души свалился тяжелый гнет. Она продолжала свое обследование, но двор был замкнут со всех сторон, точно в крепости, за исключением одного проема под кирпичным сводом, выводившего, должно быть, к самому рву, потому что, осторожно высунувшись из него, Изабелла почувствовала, как в лицо ей, словно порывом ветра, пахнуло влажной свежестью воды, и услышала, как плещется мелкая зыбь о подножие рва. Верно, через этот ход доставлялись припасы для кухонь замка; но чтобы переправиться сюда или отсюда, требовалась лодка, которая, по всей вероятности, была убрана куда-то в укрытие на воде, недосягаемое для Изабеллы. Итак, бегство с этой стороны тоже оказывалось невозможным, чем и объяснялась относительная свобода, предоставленная пленнице. Она напоминала тех заморских птиц, которых перевозят на кораблях в открытых клетках, так как знают, что, полетав немного, они принуждены будут вернуться и сесть на мачту, ибо до суши, даже самой ближней, их не донесут крылья. Ров вокруг замка играл роль океана вокруг корабля.
В одном углу здания сквозь ставни на окнах подвального помещения просачивался красноватый свет, и посреди ночного безмолвия с того конца, укрытого тенью, доносился смутный гул. Молодая актриса направилась на этот свет и шум, движимая вполне понятным любопытством; заглянув в щель ставня, прилаженного менее плотно, чем остальные, она ясно увидела, что происходит там, внутри.
Вокруг стола, под лампой с тремя рожками, свисавшей с потолка на медной цепи, пировала компания молодцов зверского и наглого вида, в которых Изабелла сразу же признала своих похитителей, хоть и видела их прежде только в масках. Это были Винодуй, Ершо, Свернишей и Верзилон, наружность коих вполне соответствовала благозвучным прозвищам. Верхний свет, погружая во мрак глаза и выделяя лоснящиеся лбы и носы, особенно задерживался на огромных усищах, отчего рожи собутыльников казались еще свирепее, хотя они и без того были достаточно страшны.
Агостен, снявший парик и накладную бороду, в которых изображал слепца, сидел с краю, на отшибе, — ему, как захолустному разбойнику, не полагалось быть на равной ноге со столичными бретерами. На почетном месте восседал Малартик, единодушно избранный королем пиршества. Лицо его было бледнее, а нос краснее обычного; этот феномен объяснялся количеством порожних бутылок, лежавших на буфете, подобно трупам, унесенным с поля боя, а также количеством непочатых бутылок, которые дворецкий неутомимо подставлял ему.
Из разговоров пирующей братии Изабелла улавливала лишь отдельные выражения, да и то смысл их по большей части был ей непонятен; и немудрено, поскольку это был жаргон притонов, кабаков и фехтовальных залов, пересыпанный мерзкими воровскими словечками из лексикона Двора Чудес, помеси разных цыганских наречий; ничего касательно своей дальнейшей судьбы она оттуда не почерпнула и, слегка продрогнув, собралась уже уйти, когда Малартик, требуя внимания, с такой силой грохнул кулаком об стол, что бутылки закачались, как пьяные, а хрустальные бокалы ударились друг о друга, вызванивая созвучие до-ми-соль-си. Как ни были пьяны его собутыльники, тут они подскочили на местах не меньше чем на полфута и повернули свои образины к Малартику.
Воспользовавшись минутным затишьем, Малартик встал и, подняв бокал так, что вино засверкало на свету, как драгоценный камень в перстне, сказал:
— Друзья, послушайте песенку моего сочинения, ибо я владею лирой не хуже, чем мечом, и, как истовый пьяница, песенку сочинил вакхическую. Рыбы немы потому, что пьют воду, а если бы рыбы пили вино, они бы запели. Так докажем же певучим пьянством, что мы человеки!
— Песню! Песню! — заорали Ершо и Винодуй, Свернишей и Верзилон, неспособные уследить за столь извилистым ходом рассуждений.
Малартик прочистил горло, энергично прокашлявшись, и со всеми ухватками певца, приглашенного в королевские покои, запел хоть и хрипловато, но без фальши следующие куплеты:
В честь Вакха, знатного пьянчуги, Напьемся, други, допьяна! Ему мы спутники и слуги, Звени, наш гимн, по всей округе Во славу доброго вина! Мы все — жрецы прекрасной влаги, Счастливей нас на свете нет, Сердца у нас полны отваги, И рдеют щеки, точно флаги, И нос горит, как маков цвет. Позор тому, кто с рожей чинной Простую воду в глотку льет! Вовек не быть ему мужчиной, А с беспричинною кручиной Лягушкой квакать средь болот! [19]Песня была встречена восторженными возгласами, и Свернишей, считавший себя знатоком поэзии, не посовестился объявить Малартика соперником Сент-Амана, из чего следует, насколько вино извратило вкус пьянчуги. Решено было выпить в честь певца по стакану красненького, и каждый добросовестно осушил стакан до дна. Эта порция доконала менее выносливых пропойц: Ершо сполз под стол, где послужил подстилкой для Верзилона; более стойкие Свернишей и Винодуй только клюнули носом и заснули, положив голову на скрещенные руки, как на подушку. Что до Малартика, так он по-прежнему сидел на стуле, выпрямившись, зажав в кулаке чарку и тараща глаза, а нос его, раскаленный докрасна, казалось, сыпал искрами, как железный гвоздь прямо из кузни; с тупым упорством не совсем охмелевшего забулдыги он машинально твердил, хотя никто и не подпевал ему:
В честь Вакха, знатного пьянчуги, Напьемся, други, допьяна!..Изабелле опротивело это зрелище, она отстранилась от щели и продолжала свой обход, который вскоре привел ее под своды, где были укреплены цепи с противовесами для подъемного моста, отведенного сейчас к замку. Не было никакой надежды сдвинуть с места эту тяжеловесную махину, а так как выбраться из замка иначе чем опустив мост было невозможно, пленнице пришлось отбросить всякую мысль о бегстве. Взяв свою лампу там, где ее оставила, она на сей раз пошла по галерее предков с меньшим трепетом, потому что знала теперь то, чего сперва испугалась, а страх рождается из неизвестности. Быстро пересекла она библиотеку, парадную залу и прочие комнаты, которые первоначально обследовала с такой боязливой осторожностью. Насмерть испугавшие ее доспехи показались ей смешными, и она непринужденным шагом поднялась по той лестнице, по которой недавно спускалась на цыпочках, затаив дыхание из страха разбудить эхо, дремавшее в гулком пространстве.
Но каков же был ее испуг, когда, переступив порог своей комнаты, она увидела странную фигуру, сидевшую в кресле перед камином! Огни свеч и отблеск очага слишком ярко освещали ее, чтобы она могла сойти за призрак; правда, фигура была очень тоненькой и хрупкой, но полной жизни, о чем свидетельствовали огромные черные глаза, отнюдь не бесстрастные, как у призраков, а сверкающие диким блеском и с гипнотической пристальностью устремленные на Изабеллу, которая застыла в дверях. Длинные пряди темных волос были откинуты назад, что позволяло во всех подробностях разглядеть изжелта-смуглое личико, изящно очерченное в своей юной и выразительной худобе, и полуоткрытый рот с ослепительно-белыми зубами. Обветренные на свежем воздухе, точеные руки с ноготками белее пальцев были скрещены на груди. Голые ножки не достигали пола, они, очевидно, еще не доросли, чтобы дотянуться от кресла до паркета. В разрезе рубашки из грубого холста смутно мерцали бусины жемчужного ожерелья.
По этому ожерелью всякий, конечно, узнал бы Чикиту. Это и в самом деле была Чикита, не успевшая еще сменить на свое обычное платье одежду, в которой изображала мальчика-поводыря при лжеслепце. Этот костюм, состоявший из рубашки и широких штанов, даже шел ей, потому что она была в том переходном возрасте, когда внешне еще нет четкой границы между девочкой и мальчиком.
Как только Изабелла узнала загадочную юную дикарку, испуг от неожиданного явления мгновенно прошел. Сама по себе Чикита не могла быть опасна, вдобавок она как будто питала к молодой актрисе нескладную признательность, которую на свой лад успела доказать в первую их встречу.
Продолжая пристально глядеть на Изабеллу, Чикита вполголоса напевала свою странную песенку в прозе, которую однажды уже бормотала, как полубезумное заклинание, когда протискивалась через слуховое окошко при первой попытке похищения молодой актрисы в «Гербе Франции»: «Чикита сквозь щель прошмыгнет, пропляшет на зубьях решетки…»
— Ты не потеряла ножа? — спросила она у Изабеллы, едва та приблизилась к камину. — Ножа с красными полосами?
— Нет, Чикита, не потеряла, я всегда ношу его вот здесь, между шемизеткой и корсажем, — ответила молодая женщина. — Но почему ты задаешь мне такой вопрос? Разве моя жизнь в опасности?
— Нож — верный друг, — произнесла девочка, и глаза ее сверкнули жестоким блеском. — Он не предаст хозяина, если хозяин умеет его поить, потому что нож томится жаждой.
— Ты пугаешь меня, недоброе дитя! — воскликнула Изабелла, встревоженная такими безумными и зловещими речами, за которыми, однако, могла скрываться попытка предостеречь ее, попытка, полезная в ее положении.
— Заостри кончик о каменную доску, — продолжала Чикита, — наточи лезвие о подошву башмаков.
— Для чего ты говоришь мне все это? — бледнея, спросила актриса.
— Ни для чего. Кто хочет защищаться, тот готовит оружие. Вот и все.
Туманные и зловещие речи Чикиты взволновали Изабеллу, но, с другой стороны, присутствие девочки здесь, в комнате, успокаивало ее, Чикита явно питала к ней добрые чувства, не менее прочные оттого, что вызваны они были пустячным поводом. «Я никогда не перережу тебе горло», — в свое время сказала Чикита, и, по ее дикарскому разумению, это был торжественный обет содружества, который она ни за что не нарушит. Изабелла была единственным человеческим созданием после Агостена, проявившим к ней немного сочувствия. Она подарила ей первое украшение, чтобы ублажить ее ребяческое кокетство, и девочка, по юности своей еще незнакомая с завистью, простодушно восторгалась красотой молодой актрисы. Кроткое личико Изабеллы очаровывало ее, потому что до сих пор ей приходилось видеть одни только свирепые и кровожадные физиономии, сосредоточенные па разбое, бунте и убийстве.
— Как ты попала сюда? — спросила Изабелла после минутного молчания. — Тебе поручили стеречь меня?
— Нет, я сама пришла на свет и огонь очага. Мне скучно стало сидеть одной в углу, пока мужчины пили бутылку за бутылкой. На такую маленькую, тощенькую девочку никто не обращает внимания, я все равно что кошка, которая спит под столом. Вот я и улизнула в самый разгар пира. Мне противен запах вина и мяса, я привыкла вдыхать аромат вереска и смолистый дух сосны.
— И тебе не страшно было блуждать без свечи по длинным темным коридорам, по огромным мрачным комнатам?
— Чикита не знает страха, глаза ее видят во мраке, ноги ступают, не спотыкаясь. Когда она встречает сову, сова закрывает глаза; летучая мышь складывает крылья, стоит ей приблизиться. Призрак сторонится или отступает назад, чтобы пропустить ее. Ночь — ей товарка и не скрывает от нее своих тайн. Чикита знает гнездо филина, приют вора, могилу убитого, место, где водятся привидения: но она никогда не расскажет об этом дню.
Во время этой горячечной речи глаза Чикиты сверкали сверхъестественным огнем. Чувствовалось, что, взвинченная своими одинокими мечтами, она стала приписывать себе некую магическую силу. Сцены разбоя и убийства, к которым она была причастна с малых лет, потрясли ее пылкое невежественное воспаленное воображение. Убежденностью своей она действовала и на Изабеллу, смотревшую на нее с суеверным страхом.
— Мне больше нравится сидеть здесь у огня, рядом с тобой, — продолжала девочка. — Ты красивая, и мне приятно на тебя смотреть; ты похожа на пресвятую деву, которую я видела над алтарем, правда, издалека, — меня прогоняли из церкви вместе с собаками, потому что я растрепана и на мою канареечную юбку верующим смешно глядеть. Какая у тебя белая рука! Рядом с ней моя похожа на обезьянью лапку. Волосы у тебя тонкие, шелковистые, а мои торчат, как щетина. Ох, верно, я очень некрасивая! Да?
— Нет, деточка, — возразила Изабелла, невольно тронутая таким наивным восхищением, — ты по-своему даже мила. Если тебя хорошо одеть, ты поспоришь с любой красавицей.
— Правда? Чтобы принарядиться, я украду богатые платья, и тогда Агостен полюбит меня.
При этой мысли смуглое личико Чикиты озарилось розовым светом, и на несколько минут она замерла, опустив глаза в блаженном раздумье.
— Ты знаешь, где мы находимся? — спросила Изабелла, когда девочка вновь подняла веки, окаймленные длинными черными ресницами.
— В замке того вельможи, у которого столько денег и который уже раз хотел похитить тебя в Пуатье. Отодвинь я тогда засов, все было бы сделано. Но ты подарила мне жемчужное ожерелье, и я не захотела тебе вредить.
— Однако на этот раз ты помогла меня увезти, — сказала Изабелла, — значит, ты меня разлюбила и предала моим врагам?
— Так велел Агостен, мне пришлось повиноваться; к тому же поводырем взяли бы тогда кого-нибудь другого, и я не попала бы в замок вместе с тобой. А здесь я могу тебе помочь. Не смотри, что я маленькая — я храбрая, ловкая, сильная, и я не хочу, чтобы тебя обижали.
— А далеко от Парижа этот замок, где меня держат пленницей? — спросила молодая женщина, привлекая Чикиту к себе. — Не слышала ты, чтобы кто-нибудь из мужчин называл его?
— Да, Свернишей говорил, что замок называется… ну как его? — протянула девочка, растерянно почесывая в затылке.
— Постарайся вспомнить, — настаивала Изабелла, гладя смуглые щечки Чикиты, которая покраснела от радости: никто еще никогда не ласкал ее.
— Как будто он называется Валломбрез, — с расстановкой произнесла Чикита, словно прислушиваясь к внутреннему голосу. — Да, Валломбрез, теперь я в этом уверена; так же зовут и того вельможу, которого твой друг, капитан Фракасс, ранил на дуэли. Лучше бы он убил его. Этот герцог очень злой человек, хоть он и разбрасывает золото пригоршнями, как сеятель — зерно. Ты ведь ненавидишь его, правда? И ты была бы рада от него ускользнуть?
— О да! Но это невозможно: замок окружен глубоким рвом, а мост поднят. Бежать никак нельзя.
— Чиките нипочем решетки, затворы, стены и рвы; Чикита пожелает — и выпорхнет на волю из крепко-накрепко запертой темницы, а тюремщик только глаза вытаращит. Стоит ей захотеть — и капитан еще до рассвета будет знать, где находится та, кого он ищет.
Слушая эти бессвязные слова, Изабелла испугалась было, что слабый рассудок Чикиты совсем помутился; но невозмутимо спокойное лицо девочки, ясный взгляд ее глаз и уверенный тон голоса опровергали такое предположение; странное создание, бесспорно, обладало частицей той магической силы, какую себе приписывало.
Как бы желая убедить Изабеллу, что она не хвастает, девочка сказала:
— Я уж найду способ выбраться отсюда, только дай мне немного поразмыслить. Не говори ни слова, затаи дыхание — малейший шум меня отвлекает: я должна услышать голос духа.
Чикита наклонила голову, прикрыла глаза рукой, чтобы сосредоточиться, и на несколько минут застыла в полной неподвижности, потом встрепенулась, распахнула окно и, взобравшись на подоконник, пристально вгляделась во мрак. Под свежим ночным ветерком темные воды рва плескались о подножье стены.
«Неужто она и в самом деле полетит, как летучая мышь?» — думала молодая актриса, внимательно следя за каждым движением Чикиты.
Напротив окна, по ту сторону рва, росло большое многовековое дерево, нижние ветви которого частью простирались по земле, частью нависали над водой; но все же самые длинные из них футов на восемь — десять не достигали стены. С этим-то деревом Чикита и связывала план побега. Она спрыгнула в комнату, вытащила из кармана тонкую, крепко свитую бечевку длиною в семь-восемь маховых сажен и аккуратно разложила ее на полу; из другого кармана она достала железный рыболовный крючок, который привязала к веревке; потом подошла к окну и забросила крючок в гущу ветвей. В первый раз железный коготок ни за что не зацепился и упал вместе с веревкой, звякнув об стену. При второй попытке острый кончик крючка впился в кору дерева, и Чикита принялась тянуть веревку к себе, а Изабеллу попросила повиснуть на ней всей своей тяжестью. Зацепленная ветвь поддалась, насколько позволяла гибкость ствола, и приблизилась к окну футов на шесть. Тогда Чикита надежным узлом привязала веревку к оконной решетке, перекинула свое щуплое тельце, с необычайной ловкостью ухватилась за веревку, перебирая руками, очень скоро добралась до ветви и уселась на ней верхом, как только ощутила ее прочность.
— А теперь отвяжи веревку, чтобы я могла забрать ее с собой, — приказала она пленнице тихим, но внятным голосом, — если не думаешь последовать за мной. Боюсь только, что страх перехватит тебе горло, от головокружения тебя потянет вниз и ты упадешь в воду. Прощай! Я отправляюсь в Париж и скоро возвращусь. При лунном свете быстро ходится.
Изабелла повиновалась, и отпущенная ветка вернулась в прежнее положение, перенеся Чикиту на ту сторону рва. Работая руками и коленями, она мигом соскользнула по стволу на землю, припустила быстрым шагом и вскоре исчезла в голубоватой ночной мгле.
Все происшедшее показалось Изабелле сном. Долго стояла она в оцепенении, забыв затворить окно, и смотрела на недвижимое дерево; черный остов его вырисовывался перед ней на молочно-сером фоне облака, пронизанного рассеянным светом луны, диск которой наполовину скрывался за этим облаком. Изабелла содрогалась, видя, как непрочна на конце та ветка, которой не побоялась вверить свою жизнь отважная и почти невесомая Чикита. Молодую женщину умиляла преданность бедненькой жалкой дикарки с такими прекрасными, сияющими, полными страсти глазами, глазами женщины на детском личике, умевшей свято хранить благодарность за ничтожный подарок. Но от ночной свежести жемчужные зубки молодой актрисы начали выбивать лихорадочную дробь; тогда она закрыла окно, задернула занавеси и опустилась в кресло у огня, положив ноги на медные шары каминной решетки.
Не успела она усесться, как появился дворецкий, а за ним те же двое слуг внесли столик, накрытый богатой скатертью с ажурной каймой, на котором был сервирован ужин, не менее изысканный и тонкий, чем обед. Войди они несколькими минутами раньше, побег Чикиты был бы сорван. Изабелла, еще не опомнившаяся от пережитого волнения, не притронулась к поданным кушаньям и знаком приказала их унести. Тогда дворецкий распорядился поставить возле постели поднос с бисквитами и марципанами, а также разложить на кресле платье, чепчик и элегантный пеньюар, весь в кружевах. Огромные поленья были положены на догорающие угли и свечи заменены в канделябрах. После этого дворецкий предложил Изабелле прислать ей для услуг горничную. Молодая женщина жестом отклонила предложение, и дворецкий ретировался с почтительнейшим поклоном.
Когда все трое ушли, Изабелла накинула на плечи пеньюар и легла поверх одеяла, не раздеваясь, чтобы быть наготове в случае тревоги. Из-за корсажа она вынула нож Чикиты, открыла его, повернула кольцо и положила так, чтобы он был у нее под рукой. Приняв все эти меры предосторожности, она сомкнула глаза с намерением уснуть, но сон медлил прийти. События дня до крайности взвинтили ее нервы, а страх перед надвигающейся ночью вряд ли способствовал их успокоению. К тому же старинные необитаемые замки становятся с темнотой не очень-то радушными; так и кажется, будто вы кому-то помеха, будто незримый хозяин, заслышав ваши шаги, скрылся за потайной дверью в стене. Поминутно раздаются внезапные непонятные шорохи: то затрещит мебель, то древоточец дробно застучит в обивке стен, то крыса прошмыгнет за обоями, или трухлявое полено поднимет в очаге пальбу не хуже потешной ракеты, и вы, едва задремав, в ужасе просыпаетесь. Так было и с молодой женщиной; она вскакивала, в испуге открывала глаза, озиралась вокруг и, не увидев ничего необычного, снова опускала голову на подушку. Однако сон все же одолел ее, отгородив от реального мира, чьи звуки больше не долетали до нее. Если бы Валломбрез был здесь, он не встретил бы отпора своим дерзким любовным покушениям, — усталость взяла верх над целомудрием.
К счастью для Изабеллы, молодой герцог еще не приехал в замок. Быть может, он потерял интерес к своей добыче с тех пор, как она попала к нему в силки, и страсть угасла от возможности ее удовлетворить? Вовсе нет: красавец герцог обладал стойкой волей, в особенности волей ко злу; кроме сладострастия, он испытывал какую-то противоестественную радость, преступая все законы — божеские и человеческие; но чтобы отвести от себя подозрения, он в этот самый день побывал в Сен-Жермене, являлся на поклон к королю, участвовал в королевской охоте и, как ни в чем не бывало, беседовал со многими придворными. Вечером он играл в карты и постарался оказаться в проигрыше, который был бы чувствительным для всякого менее богатого, чем он. Он пребывал в отличном расположении духа, особливо с той минуты, как примчавшийся во весь опор гонец почтительно вручил ему запечатанный конверт. Необходимость в неоспоримом алиби на случай розысков спасла в эту ночь добродетель Изабеллы.
Изабелла спала тревожно: то ей снилось, что Чикита, размахивая руками, как крыльями, бежит впереди капитана Фракасса, скачущего на лошади, то будто Валломбрез смотрит на нее глазами, пылающими ненавистью и любовью. Проснувшись, она удивилась, что проспала так долго. Свечи догорели до самых розеток, дрова превратились в пепел, и веселый солнечный луч, прокравшись сквозь щель в занавесках, позволил себе дерзость порезвиться на ее постели, не будучи ей представлен. С приходом дня у молодой женщины немного отлегло от сердца. Конечно, положение ее ничуть не стало лучше; но на свету опасность не усугублялась мистическими страхами, которым от мрака и неизвестности подвержены самые трезвые умы. Однако радость ее была непродолжительна: послышался лязг цепей, подъемный мост опустился, раздался грохот промчавшейся по его настилу кареты, как гром, глухо прогремел под сводами и смолк во внутреннем дворе.
Кто мог так вызывающе властно заявить о себе, как не хозяин здешних мест, герцог де Валломбрез собственной персоной? По тому испугу, который предупреждает голубку о приближении ястреба, хоть она пока и не видит его, Изабелла почувствовала, что это именно он, ее враг, и никто другой, — нежные щеки ее стали белее воска, а бедное сердечко уже било тревогу в твердыне корсажа, не имея ни малейшего желания сдаваться. Но вскоре, сделав над собой усилие, отважная девушка взяла себя в руки и приготовилась к обороне. «Только бы Чикита вернулась вовремя и привела с собой помощь! — подумала она, и взгляд ее невольно обратился к портрету над камином. — О ты, такой благородный и добрый по виду, защити меня от наглых посягательств твоего порочного отпрыска! Не допусти, чтобы место, осененное твоим образом, стало свидетелем моего позора!»
Спустя час, который герцог употребил на то, чтобы устранить беспорядок в своей наружности, неизбежный при быстрой езде, дворецкий вошел к Изабелле и церемонно спросил, угодно ли ей принять его светлость, герцога де Валломбреза.
— Я здесь пленница, — с большим достоинством отвечала молодая женщина, — желаниями своими я не вольна распоряжаться, как и самой собой, и вопрос этот, который был бы учтивым при обычных обстоятельствах, при моем положении звучит насмешкой. У меня нет способа запретить герцогу вход в комнату, из которой мне закрыт выход. Я не принимаю его, я его терплю. На его стороне сила. Пусть приходит, если желает прийти, сейчас или в другое время; мне это безразлично. Ступайте и дословно передайте ему мой ответ.
Дворецкий поклонился, пятясь задом, направился к двери, ибо ему ведено было оказывать Изабелле всяческое уважение, и поспешил сообщить своему хозяину, что «барышня» согласна его принять.
Очень скоро дворецкий вернулся и доложил о герцоге де Валломбрезе.
Изабелла привстала с кресла, но, помертвев от волнения, без сил вновь опустилась в него. Валломбрез сделал несколько шагов, обнажив голову и всем видом являя образец глубочайшей почтительности. Заметив, что Изабелла вздрогнула при его приближении, он остановился посреди комнаты, поклонился молодой актрисе и самым своим чарующим голосом произнес:
— Если присутствие мое столь неприятно вам сейчас, прелестная Изабелла, и если вам надобно время, чтобы привыкнуть к необходимости меня видеть, я готов удалиться. Хоть вы и моя пленница, я по-прежнему остаюсь вашим рабом.
— К чему эта запоздалая галантность после того насилия, которое вы совершили надо мной! — сказала Изабелла.
Теперь вы видите, что значит доводить людей до отчаяния неприступной добродетелью, — подхватил герцог. — Потеряв надежду, они идут на любые крайности, ведь им все равно нечего терять. Если бы вы приняли мое ухаживание и проявили хоть какое-нибудь снисхождение к моему чувству, я остался бы в рядах ваших обожателей, стараясь деликатным вниманием, щедрым баловством, рыцарской преданностью, пылкой и сдержанной страстью мало-помалу смягчить ваше непокорное сердце. Я внушил бы вам если не любовь, то нежное сострадание, которое порой предшествует любви. Со временем вы, быть может, поняли бы, сколь несправедлива ваша холодность, о чем я постарался бы, не жалея сил.
— Если бы вы вели себя так благородно, я пожалела бы, что не могу разделить вашу любовь, ибо сердце мое никогда не отдастся этому чувству, — сказала Изабелла. — Зато я не была бы принуждена питать к вам ненависть, столь противную моей душе и столь мучительную для нее.
— Значит, вы меня ненавидите? — спросил Валломбрез с дрожью гнева в голосе. — Однако же я этого не заслуживаю. Если я в чем-нибудь не прав против вас, мои провинности проистекают из моей страсти; а какая женщина, сколь бы она ни была чиста и целомудренна, станет гневаться на порядочного человека за то, что он наперекор ей подпал ее чарам?
— Конечно, это не повод для неприязни при условии, что влюбленный не преступает границ почтительности и довольствуется робким обожанием. Против этого не станет возражать ни одна недотрога; но когда он в своем дерзком нетерпении позволяет себе недопустимые выходки и прибегает к ловушке, увозу, лишению свободы, как осмелились поступить вы, тогда нет места иным чувствам, кроме неодолимого отвращения. Всякая мало-мальски гордая и возвышенная душа восстает против насилия. Любовь — чувство неземное, ей не прикажешь, ее не принудишь. Ее дыхание веет там, где пожелает.
— Итак, кроме неодолимого отвращения, мне нечего ждать от вас, — сказал Валломбрез; он весь побелел и кусал губы, пока Изабелла выговаривала ему с мягкой решительностью, отличающей эту благонравную и добросердечную молодую особу.
У вас есть средство вернуть мое уважение и приобрести мою дружбу. Совершите благородный поступок — отдайте мне отнятую вами свободу. Прикажите отвезти меня к моим товарищам, которые не знают, что сталось со мной, и бросаются повсюду, в убийственной тревоге разыскивая меня. Дайте мне возможность возвратиться к прежней жизни, к жизни скромной актрисы, пока это приключение, могущее запятнать мою репутацию, не получит огласки среди публики, удивленной моим отсутствием.
— Как обидно, что вы просите меня о единственной услуге, которую я не могу оказать вам без урона для себя! — воскликнул герцог. — Пожелай вы царство и трон, я добыл бы их вам. Потребуй вы звезду, я взобрался бы за ней на небо. Но вы хотите, чтобы я отпер вам дверцу клетки, куда вы больше не вернетесь по доброй воле. Это невозможно! Ведь я настолько немил вам, что видеть вас мне дано, только держа вас взаперти. И я пользуюсь этим способом в ущерб своей гордости, потому что не могу обойтись без вашего присутствия, как растение без света. Мысли мои стремятся к вам, как к своему солнцу, и для меня ночь там, где нет вас. Раз уж я отважился на преступление, я должен хотя бы пожать его плоды, — ведь если бы даже вы дали слово простить меня, то не сдержали бы обещания. Здесь вы, по крайней мере, в моей власти, окружены моим вниманием, ваша ненависть окутана моей любовью, жаркое дыхание моей страсти должно растопить лед вашей холодности. Ваши зрачки поневоле отражают мой образ, ваш слух полон звуками моего голоса. Что-то от меня, помимо вашей воли, проникает к вам в душу; я воздействую на вас хотя бы тем ужасом, который вам внушаю; именно мои шаги в прихожей вселяют в вас дрожь. А главное, здесь, в плену у меня, вы разлучены с тем, по ком тоскуете и кого я кляну за то, что он похитил ваше сердце, которое должно было принадлежать мне. Моя ревность довольствуется этой скудной усладой и не хочет лишаться ее, вернув вам свободу, которую вы употребите против меня.
— До каких же пор намерены вы держать меня в заточении, поступая беззаконно, как берберийский корсар, а не как христианский вельможа?
— До тех пор, пока вы меня не полюбите или не скажете, что полюбили, что, в конце концов, сводится к одному, — невозмутимым тоном, без тени колебания ответствовал молодой герцог. После чего отвесил Изабелле учтивейший поклон и удалился с совершенной непринужденностью, как и подобает истому царедворцу, который не теряется ни при каких обстоятельствах.
Спустя полчаса лакей принес Изабелле букет, составленный из самых редких и ароматных цветов; впрочем, в эту пору цветы вообще были редкостью, и потребовалось все усердие садовников, а также искусственное лето теплиц, чтобы принудить пленительных дочерей Флоры распуститься до времени. Стебли букета были связаны великолепным браслетом, достойным королевы. В цветы на виду был засунут сложенный вдвое листок бумаги. Изабелла вынула его, ибо в ее положении всякие знаки внимания теряли тот смысл, который она придала бы им на свободе. Это было письмо от Валломбреза, написанное в тех выражениях и тем размашистым почерком, которые соответствовали его натуре. Пленница узнала руку, что надписала «Для Изабеллы» на шкатулке с драгоценностями, поставленной к ней на стол в Пуатье.
«Дорогая Изабелла, посылаю Вам цветы, хоть и не сомневаюсь, что их ждет дурной прием. Они исходят от меня, значит, их свежесть и заморская красота не смягчат Вашей неумолимой суровости. Но какова бы ни была их участь, пусть Вы притронетесь к ним лишь затем, чтобы в знак пренебрежения выбросить их в окошко, все же Ваша гневная мысль, пускай с проклятием на миг вернется к тому, кто, невзирая ни на что, объявляет себя Вашим неизменным обожателем.
Валломбрез»Это послание в изысканно-жеманном роде обнаруживало вместе с тем чудовищное, не поддающееся никаким резонам упорство его автора и оказало отчасти то действие, на какое он и рассчитывал. Нахмурясь, держала Изабелла записку, и лицо Валломбреза представало перед ней в дьявольском обличий. Положенные лакеем рядом, на столик, цветы, по большей части чужеземные, расправляли лепестки от комнатного тепла, издавая экзотический, пряный, опьяняющий аромат. Изабелла схватила их и вместе с бриллиантовым браслетом выбросила в прихожую, испугавшись, как бы они не были пропитаны особым снотворным или возбуждающим чувственность снадобьем, от которого может помутиться разум. Никогда еще с такими прекрасными цветами не обходились столь круто, а между тем они очень понравились Изабелле, но она боялась, сохранив их, поощрить самонадеянность герцога; да и сами эти причудливые растения с небывалой окраской и незнакомым ароматом лишены были скромной прелести обыкновенных цветов; своей надменной красой они напоминали Валломбреза, они были ему сродни. Не успела она положить подвергнутый остракизму букет на поставец в соседней комнате и снова сесть в кресло, как явилась горничная одеть ее. Это была довольно миловидная девушка без кровинки в лице, грустная, кроткая, но безучастная в своем усердии, как бы сломленная затаенным страхом или гнетом жестокой власти. Почти не глядя на Изабеллу, она предложила ей свои услуги таким беззвучным голосом, словно боялась, что стены услышат ее. После того как молодая женщина кивнула в знак согласия, горничная расчесала ее белокурые волосы, приведенные в полный беспорядок бурными событиями предыдущего дня и треволнениями ночи, связала их шелковистые локоны бархатными бантами, словом, справилась со своей задачей, как опытная куаферша. Затем она достала из вделанного в стену шкафа несколько на редкость богатых и элегантных платьев, будто скроенных по мерке Изабеллы, но молодая актриса отвергла их. Хотя собственное ее платье было запачкано и помято, она не желала носить своего рода герцогскую ливрею и твердо решила ничего не принимать от Валломбреза, сколько бы ни длилось ее заточение.
Горничная, не прекословя, уважила ее желание, как предоставляют осужденным делать что им вздумается в пределах тюрьмы. Казалось также, что она избегает ближе знакомиться с временной своей госпожой, чтобы не проникнуться к ней бесполезным сочувствием. Насколько возможно, она ограничивала себя чисто автоматическими действиями. Поначалу Изабелла надеялась получить от нее какие-то сведения, но скоро поняла, что расспрашивать ее тщетно, и отдала себя в ее руки не без затаенного страха.
После ухода горничной принесли обед, и, несмотря на свое печальное положение, Изабелла отдала ему должное. Природа властно заявляет о своих правах даже у самых субтильных созданий.
А молодая девушка очень нуждалась в подкреплении сил, вконец истощенных мучительной борьбой с непрерывными посягательствами на ее волю. Немного успокоясь, она стала вспоминать, как мужественно вел себя Сигоньяк, конечно, даже будучи один, он вырвал бы ее из рук похитителей, если бы не потерял несколько минут, высвобождаясь из плаща, наброшенного на него коварным слепцом. Теперь он, без сомнения, уже осведомлен обо всем и не замедлит прийти на помощь той, кого любит больше жизни. При мысли об опасностях, которые ждут его в этом отважном предприятии, ибо герцог не из тех, чтобы без сопротивления отдать добычу, — рыдания стеснили ей грудь и слезы увлажнили глаза; она во всем винила себя и чуть не кляла свою красоту, источник всех бед. А ведь она держала себя скромно и не старалась кокетством разжигать вокруг себя страсти, по примеру многих актрис и даже дам из высшего света и буржуазии.
Ее размышления прервал сухой стук в оконное стекло, которое треснуло, словно пробитое градом. Изабелла поспешила к окошку и увидела сидящую на дереве Чикиту, которая таинственными знаками показывала ей, что надо открыть окно, и при этом раскачивала в руке бечевку с крючком на конце. Пленная актриса, поняв намерения девочки, исполнила ее просьбу, и брошенный уверенной рукой крюк зацепился за оконную решетку. Другим концом Чикита привязала веревку к ветке дерева и, как вчера, повисла на ней, но не успела девочка проделать и полпути, как узел развязался, к великому ужасу Изабеллы. Против всяких ожиданий, Чикита не упала в зеленую воду рва, а, ничуть не растерявшись от неожиданности, — если это было для нее неожиданностью, — вместе с веревкой, зацепленной за решетку, отлетела к стене замка под самое окно, до которого добралась, руками и ногами упираясь в стену. Затем она перемахнула через решетку и бесшумно спрыгнула в комнату; увидев, что Изабелла помертвела и едва не лишилась чувств, девочка сказала с улыбкой:
— Ты испугалась, что Чикита отправится в ров к лягушкам? Я ведь нарочно сделала на веревке затяжную петлю, чтобы захватить ее с собой. А я, когда болталась на ней, наверно, была точно паук на паутинке, такая я тощая и черная…
— Милочка моя, ты храбрая и умная девочка, — сказала Изабелла, целуя Чикиту в лоб.
— Я повидала твоих друзей, они все время тебя искали, но без Чикиты им бы никогда не узнать, где ты спрятана. Капитан метался, как разъяренный лев, глаза у него так и пылали. Он посадил меня на луку седла и довез сюда, а сам со своими товарищами спрятался в лесочке неподалеку от замка. Только бы их не нашли! Нынче вечером, как только стемнеет, они попытаются освободить тебя. Конечно, дело не обойдется без выстрелов и ударов шпаги. Будет на что посмотреть. Как это красиво, когда дерутся мужчины! Только не пугайся и не вздумай кричать. Женские крики смущают смельчаков. Хочешь, я буду с тобой, чтобы ты не боялась?
— Не беспокойся, Чикита, я не стану глупыми страхами мешать верным друзьям, которые, спасая меня, подставят под удар собственную жизнь.
— Вот и хорошо, — одобрила девочка, — а до вечера защищайся ножом, который я тебе дала. Помни — удар следует наносить снизу. А я пока что пойду посплю где-нибудь, не надо, чтобы нас застали вместе. Главное, не подходи к окну: это может навести на подозрение, что ты ждешь помощи отсюда. Всю местность вокруг замка обшарят и найдут твоих друзей. Наш план рухнет, и ты останешься во власти ненавистного тебе Валломбреза.
— Я ни разу не подойду к окну, как бы меня ни тянуло взглянуть в него, — пообещала Изабелла.
Обговорив это важное условие, Чикита отправилась в подвальную залу, где упившиеся бретеры дрыхли как скоты и даже не заметили ее отсутствия. Она села, прислонясь к стене, по своему обыкновению, скрестила руки на груди, закрыла глаза и не замедлила уснуть, — ведь в предыдущую ночь ее резвые ножки пробежали больше восьми лье от Валломбреза до Парижа, а возвратное путешествие верхом с непривычки, пожалуй, утомило ее еще больше. Хотя ее тщедушное тельце обладало выносливостью стали, на сей раз она до того обессилела, что заснула глубоким, мертвым сном.
— До чего же крепко спят дети! — сказал проснувшийся наконец Малартик. — Как мы тут ни горланили, она даже не шелохнулась! Эй вы, непотребные твари! Постарайтесь встать на задние лапы, ступайте во двор и вылейте себе на голову ушат холодной воды. Цирцея в образе бутылки обратила вас в свиней; когда через такое крещение вы снова станете людьми, мы отправимся в обход посмотреть, не затеваются ли какие-нибудь козни с целью вызволить красотку, чью охрану и защиту поручил нам владелец Валломбреза.
Бретеры грузно поднялись и, заплетаясь ногами, добрались до двери, чтобы выполнить мудрое предписание своего главаря. Когда они более или менее пришли в чувство, Малартик, захватив с собой Свернишея, Ершо и Винодуя, направился к выходу под сводом, отомкнул замок той цепи, которой лодка была пришвартована к дверце над водой, и управляемый шестом челнок, разрывая зеленоватый покров ряски, вскоре пристал к узенькой лесенке в каменной облицовке рва. Когда команда взобралась на ту сторону откоса, Малартик приказал Ершо:
— Ты останешься здесь сторожить лодку на случай, если враг вздумает завладеть ею и переправиться в замок. Кстати, ты не очень-то прочно держишься на своей подставке. Мы же пройдемся дозором и обшарим лесок, чтобы спугнуть залетных птиц.
И Малартик с двумя своими сподвижниками больше часа ходил вокруг замка, но не усмотрел ничего подозрительного; когда они возвратились к исходной точке, Ершо спал стоя, привалясь к дереву.
— Будь мы регулярным войском, — начал Малартик, двинув его кулаком, — я приказал бы тебя расстрелять за то, что ты заснул на часах, что решительно идет вразрез военной дисциплине. Но раз нельзя изрешетить тебя из пищали, я тебя прощаю, только приговариваю выпить пинту воды.
— Я предпочел бы две пули в голову одной пинте воды в желудке, — ответил пьянчуга.
— Прекрасный ответ, достойный героев Плутарха, — одобрил Малартик, — вина твоя отпускается тебе без наказания, но, смотри, больше не греши.
Патруль возвратился, привязав лодку и заперев ее на замок со всеми предосторожностями, какие полагаются в настоящей крепости.
«Пусть у меня побелеет нос и покраснеет лицо, если прекрасная Изабелла выйдет отсюда или храбрый капитан Фракасс войдет сюда, ибо надо предвидеть обе возможности», — сказал про себя Малартик, довольный результатом разведки.
Оставшись одна, Изабелла раскрыла забытый кем-то на консоли томик «Астреи» господина Оноре д'Юрфе. Она старалась сосредоточиться на чтении. Но глаза ее машинально скользили по строкам, а мысли витали далеко, ни на миг не проникаясь устарелыми пасторальными сантиментами. Соскучившись, она отшвырнула книжку и, скрестив руки, стала ждать, как развернутся события. Она устала от всевозможных предположений и теперь, не гадая, каким способом удастся Сигоньяку спасти ее, всецело положилась на безграничную преданность этого благородного человека.
Наступил вечер. Лакеи зажгли свечи, и вскоре дворецкий доложил о герцоге де Валломбрезе. Он вошел вслед за слугой и приветствовал свою пленницу с изысканной учтивостью. Сам он являл собой поистине образец красоты и элегантности. Прекрасное лицо его должно было воспламенить любовью всякое непредубежденное сердце. Кафтан из серебристого атласа, пунцовые бархатные панталоны, белые сапоги с раструбами, подбитыми кружевом, на перевязи из серебряной парчи шпага с эфесом, усыпанным драгоценными каменьями, — вся эта пышность как нельзя лучше подчеркивала достоинства его наружности, к которым могли остаться нечувствительны лишь добродетель и постоянство Изабеллы.
— Я пришел узнать, прелестная Изабелла, буду ли я принят лучше, чем мой букет, — заявил он, садясь в кресло подле молодой женщины, — я не столь самонадеян, чтобы на это рассчитывать, я просто хочу приручить вас к себе. Завтра вас ждет новый букет и новое посещение.
— Букеты и посещения бесполезны, — ответила Изабелла, — хотя мне и нелегко идти вразрез с правилами вежливости, зато откровенность моя должна отнять у вас всякую надежду.
— Ну что ж, — подхватил герцог жестом высокомерного небрежения, — обойдусь без надежды, удовлетворяясь действительностью. Бедное дитя, вы до сих пор не поняли, что такое Валломбрез, если пытаетесь ему противиться. Раз зародившись у него в душе, ни одно желание не осталось неудовлетворенным; когда он добивается своего, ничто не может его поколебать или отвратить: ни слезы, ни мольбы, ни вопли, — он перешагнет через трупы, через дымящиеся пожарища; крушение мира не остановит его, и на развалинах вселенной он удовлетворит свою прихоть. Не распаляйте его страсти приманкой недоступности, неосторожно давая тигру понюхать ягнятинки и отнимая ее.
Изабелла ужаснулась, увидев, как во время этих слов изменилось лицо Валломбреза. Ласкового выражения как не бывало. Теперь на нем были написаны холодная злоба и неумолимая решимость. Непроизвольным движением девушка отодвинулась и поднесла руку к корсажу, чтобы ощутить нож Чикиты. Валломбрез невозмутимо придвинул свое кресло. Обуздав закипевшую ярость, он уже вновь придал лицу неотразимо пленительное, игривое и нежное выражение.
— Сделайте над собой усилие, не стремитесь назад к той жизни, которая впредь должна стать для вас позабытым сном. Перестаньте упорствовать, храня химерическую верность той нудной любви, которая недостойна вас, и поймите, что в глазах света вы отныне принадлежите мне. А главное, поймите, что я люблю вас с тем пылом, с тем неистовством, с тем самозабвением, каких не испытывал ни к одной женщине. Не пытайтесь же убежать от страсти, которая окутывает вас, от неумолимой воли, которую ничем не сломить. Как холодный металл, брошенный в тигель, чтобы сплавиться с другим, уже раскаленным металлом, так ваше равнодушие, соединясь с моей страстью, растает в ней. Хотите, не хотите, — вы волей или неволей полюбите меня, потому что так хочу я, потому что вы молоды и красивы и я тоже молод и красив. Сколько бы вы ни противились и сколько бы ни отбивались, вам не разомкнуть моих объятий. Значит, ваше упрямство бессмысленно, потому что бесполезно. Смиритесь с улыбкой; разве такое уж несчастье быть без памяти любимой герцогом де Валломбрезом! Это несчастье многие другие посчитали бы блаженством.
Пока он говорил с тем жаром и одушевлением, которое кружит головы женщинам и побеждает их целомудрие, но сейчас не возымело ни малейшего действия. Изабелла прислушивалась к малейшему звуку за окном, откуда к ней должно было прийти спасение, и вдруг уловила шорох, доносившийся с той стороны рва. Это был глухой, равномерный и осторожный шум трения о какую-то преграду. Боясь, как бы его не услышал и Валломбрез, Изабелла постаралась ответить так, чтобы задеть высокомерное тщеславие молодого герцога. Ей легче было видеть его гневным, нежели влюбленным, яростные вспышки она предпочитала нежностям. А кроме того, она надеялась своими упреками отвлечь его внимание.
— Это блаженство было бы для меня позором. Если не окажется иного выхода, я предпочту ему смерть, и вам достанется лишь мой труп. Прежде вы были мне безразличны; теперь я ненавижу вас за ваше оскорбительное, бесчестное поведение, за насилие над моей волей. Да, я люблю Сигоньяка, к которому вы несколько раз подсылали наемных убийц.
Шорох продолжался, и, ни о чем более не думая, Изабелла все повышала голос, чтобы заглушить шум.
При этих дерзких словах Валломбрез побледнел от бешенства, глаза его метнули смертоубийственный взгляд, в уголках губ проступила пена; он судорожно схватился за рукоять шпаги. Мысль убить Изабеллу как молния пронзила его мозг, но неимоверным усилием воли он обуздал себя и разразился резким нервическим хохотом.
— Черт подери! Такой ты мне нравишься еще больше, — воскликнул он, подходя к молодой актрисе. — Когда ты поносишь меня, глаза у тебя вспыхивают сверхъестественным блеском, а щеки так и пылают, — ты становишься вдвое красивее. Я рад, что ты высказалась начистоту. Мне надоело сдерживаться. Ах, ты любишь Сигоньяка! Тем лучше! Тем слаще мне будет обладать тобой. Какое наслаждение целовать губы, которые говорят: «Кляну тебя!» Это куда пикантнее, чем вечно слышать от женщины приторное: «Люблю тебя», — от которого воротит с души.
Испуганная намерением Валломбреза, Изабелла вскочила и выхватила из-за корсажа нож Чикиты.
— Так! На сцене появился кинжал! — заметил герцог, увидев оружие в руках молодой женщины. — Если бы вы, моя красотка, не забыли римской истории, то знали бы, что госпожа Лукреция воспользовалась кинжалом лишь после покушения Секста, сына Тарквиния Гордого. Этому примеру древности не худо последовать.
И, устрашась ножа не более, чем пчелиного жала, он шагнул к Изабелле и схватил ее в объятия, прежде чем она успела занести нож.
В то же мгновение раздался сильный треск, а вслед за ним оглушительный грохот; оконная рама, будто высаженная снаружи коленом гиганта, со звоном разбитого вдребезги стекла упала внутрь комнаты, и в дыру, сыграв роль кудрявой катапульты или подвесного моста, проник ворох зеленых ветвей.
Это была верхушка того дерева, по которому Чикита переправлялась из замка и обратно. Сигоньяк и его товарищи подпилили ствол, направив его так, чтобы при падении он послужил связующим звеном между берегом рва и окном Изабеллы.
Ошеломленный вторжением дерева в самый разгар любовной сцены, Валломбрез выпустил молодую актрису и схватился за шпагу, чтобы дать отпор первому же из нападающих.
Чикита на цыпочках, беззвучно, как тень, проскользнувшая в комнату, дернула Изабеллу за рукав.
— Спрячься здесь, за ширмой, сейчас начнется потеха.
Девочка была права, два-три выстрела гулко прокатились в ночной тишине. Гарнизон поднял тревогу.
XVII АМЕТИСТОВЫЙ ПЕРСТЕНЬ
Впопыхах взбежав по лестнице, Малартик, Винодуй, Верзилон и Свернишей бросились в комнату Изабеллы, чтобы отбить нападение и помочь Валломбрезу, меж тем как Ершо, Мерендоль и бретеры, состоявшие на постоянной службе у герцога, который привез их с собой, переправились в лодке через ров, дабы попытать вылазку и напасть на врага с тыла. Хитроумная стратегия, достойная настоящего полководца!
Верхушка дерева загораживала и без того узкое окно, а ветви ее простирались чуть не до середины комнаты, что сильно ограничивало плацдарм, на котором можно было дать бой. Малартик встал с Винодуем у одной стены комнаты, а Свернишею и Верзилону приказал занять противоположную, чтобы они избегли первого натиска врага и сохранили перевес над ним. Прежде чем проникнуть дальше, нападающим предстояло пройти между двумя рядами головорезов, которые стояли наготове со шпагой в одной руке и пистолетом в другой. Все эти благородные кавалеры надели маски, ибо никому из них не улыбалось быть опознанным, если дело примет плохой оборот, и зрелище четырех людей с черными лицами, неподвижных и безмолвных, как призраки, могло устрашить хоть кого.
— Удалитесь отсюда или наденьте маску, — вполголоса сказал Малартик Валломбрезу, — вас не должны видеть в этой потасовке.
— Почему? Я не боюсь никого на свете, а всякому, кто меня увидит, не суждено будет рассказать об этом, — заявил молодой герцог, с угрожающим видом потрясая шпагой.
— Так уведите, по крайней мере, Изабеллу, новую Елену этой Троянской войны, иначе ее, чего доброго, заденет шальная пуля.
Признав совет благоразумным, герцог подошел к Изабелле, которая вместе с Чикитой укрылась за дубовым шкафом, обхватил ее обеими руками и повлек за собой, хотя она всячески отбивалась, судорожно цепляясь пальцами за резные выступы; отважная девушка, наперекор робости, свойственной ее полу, предпочитала остаться на поле сражения, где пули и клинки грозили ее жизни, только бы не очутиться хоть и в стороне от схватки, но вдвоем с Валломбрезом, чьи дерзкие посягательства грозили ее чести.
— Нет, нет, пустите меня, — кричала она, хватаясь за дверную раму и напрягая последние силы, чтобы вырваться: она чувствовала, что Сигоньяк близко.
Герцог наконец приоткрыл дверь в соседнюю комнату и попытался втащить за собой девушку, как вдруг она выскользнула из его объятий и бросилась к окну, однако Валломбрез поймал ее и на руках понес в глубь комнаты.
— Спасите! Спасите меня, Сигоньяк! — простонала она, совсем обессилев.
Послышался шум примятых веток, громкий голос, словно исходивший с неба, крикнул: «Я здесь!» — и черная тень вихрем промчалась мимо четверых бретеров, а когда одновременно грянули четыре пистолетных выстрела, она была уже посреди комнаты. Густые клубы дыма на несколько мгновений скрыли последствия залпа; как только дымовая завеса рассеялась, бретеры увидели, что Сигоньяк, — или, вернее, капитан Фракасс, ибо они знали его под этим именем, — стоит со шпагой в руках, и только перо на его шляпе поломано, а сам он невредим, потому что колесцовые замки сработали недостаточно быстро и пули не могли настичь столь стремительно и неожиданно промелькнувшего врага.
Но Изабелла и Валломбрез исчезли. Воспользовавшись суматохой, герцог унес в соседнюю комнату свою почти бесчувственную добычу. Тяжелая дверь, закрытая на засов, разлучила бедняжку с ее доблестным защитником, которому и так предстояло еще разделаться с целой шайкой. По счастью, Чикита, гибкая и проворная, как ящерка, надеясь быть полезной Изабелле, проскользнула в дверную щелку вслед за герцогом, который в пылу борьбы, среди грома выстрелов, не обратил на нее внимания, тем более что она поспешила спрятаться в темном углу обширного покоя, слабо освещенного стоявшей на поставце лампой.
— Мерзавцы, где Изабелла? — закричал Сигоньяк, увидев, что молодой актрисы нет в комнате. — Я только что слышал ее голос.
— Вы не поручали нам ее стеречь, — невозмутимым тоном отвечал Малартик, — да и мы не годимся в дуэньи.
Сказав это, он занес шпагу над бароном, ловко отразившим нападение. Малартик был нешуточным противником; после Лампурда он считался самым умелым фехтовальщиком в Париже, но долго выдержать единоборство с Сигоньяком было ему не под силу.
— Сторожите окно, пока я расправлюсь с этим молодчиком! — продолжая орудовать шпагой, крикнул он Винодую, Свернишею и Верзилону, которые второпях заряжали пистолеты.
В тот же миг новый боец вторгся в комнату, совершив опасный прыжок. Это оказался Скапен, который в бытность свою гимнастом и солдатом наловчился брать штурмом неприступные высоты. Быстрым взглядом он увидел, что бретеры насыпают порох и вкладывают пули в пистолеты, а шпаги положили рядом; воспользовавшись минутным замешательством противника, огорошенного его появлением, он с молниеносной быстротой подобрал шпаги и вышвырнул их в окно; затем набросился на Верзилона, обхватил его поперек туловища и, загораживаясь им как щитом, стал толкать его навстречу пистолетным дулам.
— Не стреляйте, во имя всех чертей не стреляйте! — вопил Верзилон, задыхаясь в железных объятиях Скапена. — Вы прострелите мне голову или живот. А каково пострадать от дружеской руки!
Чтобы Свернишей и Винодуй не могли взять его на мушку с тыла, Скапен предусмотрительно прислонился к стене, выставив их приятеля, как заслон, а чтобы не дать им прицелиться, он переваливал Верзилона из стороны в сторону, и хотя тот временами и касался земли, сил у него, как у Антея, от этого не прибывало.
Расчет был правильный, ибо Винодуй, недолюбливавший Верзилона и вообще ни в грош не ставивший человека, будь то его сообщник, прицелился в голову Скапена, который был выше ростом, чем Верзилон. Раздался выстрел, но актер успел пригнуться, для верности приподняв бретера, и пуля пробила деревянную панель, а по дороге отхватила ухо бедняги, который заорал во всю глотку: «Я убит! Я убит!» — чем показал, что он живехонек.
Не имея ни малейшей охоты дожидаться второго выстрела и понимая, что пуля, пройдя сквозь тело Верзилона, принесенного в жертву не слишком чуткими собратьями, может серьезно ранить его самого, Скапен с такой силой швырнул раненого вместо метательного снаряда в Свернишея, который приближался, опустив дуло пистолета, что тот выронил оружие и покатился наземь вместе с сообщником, чья кровь перепачкала ему лицо и залепила глаза. Пока оглушенный падением бретер приходил в себя, Скапен успел ногой отбросить его пистолет под кресло и обнажить кинжал, чтобы достойно встретить Винодуя, который ринулся на него, потрясая ножом, взбешенный своей неудачей.
Скапен пригнулся, левой рукой взял в тиски запястье Винодуя, не позволяя ему пустить в дело нож, меж тем как правой нанес противнику такой удар кинжалом, который уложил бы его на месте, не будь на нем плотной куртки из буйволовой кожи. Лезвие все же прорезало куртку и, скользнув вбок, задело ребро. Хотя рана не была ни смертельной, ни даже опасной, Винодуй от внезапного удара зашатался и упал на колени так, что актеру ничего не стоило, рванув руку бретера, опрокинуть его навзничь. Для пущей надежности Скапен разок-другой стукнул его каблуком по голове, чтобы не хорохорился.
Тем временем Сигоньяк отражал удары Малартика с тем холодным накалом, который присущ человеку, подкрепляющему великое мужество безупречным мастерством. Он парировал все выпады бретера и уже оцарапал ему плечо, о чем свидетельствовало красное пятно, проступившее на рукаве Малартика. Последний понял, что длить поединок нельзя, иначе он погиб, и попытал решительный выпад с целью нанести Сигоньяку прямой удар. Оба лезвия столкнулись так стремительно и резко, что посыпались искры, но шпага барона, будто ввинченная в железный кулак, отвела соскользнувшую шпагу бретера. Острие прошло под мышкой у капитана Фракасса и задело ткань камзола, не разрезав ее. Малартик выпрямился, но, прежде чем он успел встать в оборону, Сигоньяк выбил у него из рук шпагу, наступил на нее ногой и, приставив острие своей шпаги ему к горлу, крикнул:
— Сдавайтесь, или вам конец! В эту критическую минуту чья-то высокая фигура, ломая мелкие ветки, через окно явилась на поле брани, и вновь прибывший, увидев затруднительное положение Малартика, сказал ему внушительным тоном:
— Можешь без стыда подчиниться этому храбрецу: твоя жизнь на острие его шпаги. Ты честно исполнил свой долг и вправе считать себя военнопленным. — И добавил, оборотясь к Сигоньяку: — Положитесь на его слово. Он на свой лад честный человек и впредь ничего не предпримет против вас.
Малартик знаком выразил согласие, и барон отвел острие своей грозной рапиры. Тогда бретер с видом побитого пса подобрал шпагу, вложил ее в ножны, молча сел в кресло и носовым платком стянул себе плечо, где расплывалось красное пятно.
— А этим всем плутам, то ли изувеченным, то ли мертвым, не мешает от греха связать лапы, как домашней птице, которую несут на базар головой вниз, — заявил Жакмен Лампурд (ибо это был он). — Они могут ожить и куснуть, хотя бы в пятку. Такие законченные канальи способны прикидываться непригодными к бою, лишь бы спасти свою шкуру, хотя она недорого стоит.
Вытянув из кармана штанов тонкую бечевку, он нагнулся над простертыми на полу телами и с непостижимым проворством связал руки и ноги Свернишею, который сделал попытку к сопротивлению, затем Верзилону, который визжал, будто заживо ощипанный индюк, а заодно и Винодую, хотя тот лежал недвижимый и бледный, как мертвец.
Если читателя удивит присутствие Лампурда среди нападающих, мы поясним, что бретер проникся фанатическим благоговением перед Сигоньяком, чье мастерство обворожило его во время их стычки на Новом мосту, и предложил капитану свои услуги, которыми не следовало пренебрегать в столь трудных и опасных обстоятельствах. Да, кстати сказать, нередко случалось, что, нанятые противными сторонами для такого рода сомнительных предприятий, закадычные приятели без зазрения совести обнажали шпаги или кинжалы друг против друга.
Читатель, конечно, не забыл, что Ершо, Агостен, Мерендоль, Азолан и Лабриш с самого начала переправились в лодке через ров и вышли за пределы замка, дабы отвлечь врага, напав на него с тыла. Беззвучно обогнули они ров и добрались до того места, где срубленное дерево, повиснув над водой, служило мостом и лестницей избавителям молодой актрисы. Добряк Ирод, разумеется, не преминул предложить свою отвагу в помощь Сигоньяку, ибо высоко ценил его и, не задумываясь, отправился бы за ним в самое пекло, даже если бы дело не касалось Изабеллы, любимицы всей труппы и лично его в особенности. А не вмешался он до сих пор в гущу сражения вовсе не из трусости, — мужеством этот актер мог потягаться с любым воякой. Вслед за остальными он тоже взобрался верхом на дерево и, подтягиваясь на руках, продвигался толчками, не жалея штанов, обдиравшихся о кору. Впереди него потихоньку полз театральный швейцар, решительный малый, привыкший работать кулаками и отражать натиск толпы. Добравшись до того места, где ствол дерева разветвлялся, швейцар схватился за ветку потолще и продолжал карабкаться вверх; когда же до конца ствола дополз Ирод, наделенный сложением Голиафа, весьма подходящим для ролей тиранов, но не для штурма высот, он почувствовал, что ветки подгибаются и зловеще трещат под ним. Взглянув вниз, он увидел на расстоянии футов в тридцать черную воду рва. Это зрелище заставило его призадуматься и перебраться на более крепкий сук, способный выдержать его тяжесть.
«Н-да! — мысленно протянул он. — Для меня скакать по этим веточкам, которые подогнулись бы под воробьем, так же разумно, как слону плясать на паутине. Это занятие для влюбленных, для Скапенов и других юрких человечков, которым по должности полагается быть худыми. А я — комедийный король и тиран, более приверженный к яствам, чем к женщинам, я не обладаю легкостью акробатов и канатных плясунов. И, если я сделаю еще хоть шаг, поспешая на помощь капитану, который, конечно, в ней нуждается, ибо, судя по звуку выстрелов и стуку клинков, бой идет жаркий, я неизбежно свалюсь в эти стиксовы воды, черные и густые, как сажа, заросшие ряской, кишащие лягушками и жабами, и, погрузившись с головой в ил, приму бесславную смерть в зловонной могиле, окончу жизнь безо всякой пользы, не нанеся ни малейшего ущерба врагу. А вернувшись вспять, я не покрою себя позором. Отвага здесь ни при чем. Будь я равен храбростью Ахиллу, Роланду или Сиду, не могу я при весе в двести сорок фунтов и сколько-то унций усидеть на веточке толщиной в мизинец. Дело тут не в геройстве, а в силе тяжести. Итак, повернем назад и поищем другого способа проникнуть тайком в крепость, чтобы помочь нашему храброму барону, который, верно, сейчас сомневается в моей дружбе, если у него есть досуг о ком-то или о чем-то думать».
Окончив этот монолог со всей быстротой внутренней речи, во сто крат опережающей слово, произнесенное вслух, хотя старик Гомер и зовет его крылатым, Ирод круто повернулся на своей деревянной лошадке, иначе говоря на стволе, и начал осторожный спуск. Вдруг он остановился, до слуха его долетел слабый шум, будто кто-то трется коленями о кору дерева и тяжело дышит, карабкаясь наверх; и хотя ночь была темная, а тень от замка еще сгущала мрак, однако актер различил словно бы нарост на стволе в виде человеческой фигуры. Чтобы не быть замеченным, он пригнулся и распластался, насколько позволял ему могучий живот, и, затаив дыхание, стал ждать, чтобы человек подполз к нему. Через две минуты он чуть приподнял голову и, увидев, что враг совсем близко, внезапно выпрямился и очутился лицом к лицу с предателем, который думал застичь его врасплох и нанести ему удар в спину. Руками цепляясь за ветви, Мерендоль, предводитель шайки, держал нож в зубах, отчего в темноте казалось, что у него торчат огромные усы. Ирод крепкой хваткой стиснул ему горло, так что Мерендоль, задыхаясь, будто в петле, разинул рот, чтобы хлебнуть воздуха, и выпустил нож, который упал в воду. Но так как тиски продолжали сдавливать ему горло, колени у него разжались и руки судорожно задергались; вскоре в темноте раздался звук падения, и брызги воды из рва долетели до самых ног Ирода.
«Один готов, — про себя подытожил Тиран, — если он не задохся, он утонет. То и другое мне в равной мере приятно. Однако надо продолжать опасный спуск».
Он продвинулся еще на несколько шагов. Невдалеке блеснула голубоватая искорка — не иначе как затравка пистолета; тут же щелкнул замок, вспышка прорезала тьму, грянул выстрел, и пуля пролетела в двух-трех дюймах от головы Ирода, который пригнулся, едва только увидел светящуюся точку, и вобрал голову в плечи, как черепаха в панцирь, что и спасло его.
— Тьфу, пропасть! — проворчал хриплый голос, принадлежавший не кому иному, как Ершо. — Промахнулся!
— Самую малость, — подтвердил Ирод, — должно быть, ты, голубчик, уж очень неловок, раз не попал в такую тушу. А ну-ка получай!
И Тиран занес дубину, ремешком привязанную к его запястью, — орудие не слишком благородное, но владел он им отлично, ибо во время своих странствий прошел выучку у руанских фехтовальщиков палками. Дубина натолкнулась на шпагу, которую бретер выхватил из ножен, сунув за пояс бесполезный пистолет; от удара шпага разлетелась, как стеклянная, и в руках у Ершо остался только обломок, а конец дубины контузил ему плечо, правда, довольно легко, потому что удар был ослаблен препятствием.
Теперь, очутившись друг против друга, так как один все спускался, а другой делал попытки вскарабкаться, враги схватились врукопашную и каждый норовил столкнуть другого в зияющую под ними черную бездну рва. Ершо был здоровенным и ловким малым, но сдвинуть с места такую громаду, как Тиран, оказалось не менее безнадежно, чем сковырнуть башню. А Ирод обхватил ногами ствол дерева и держался крепко, как на заклепанных скобах. Зажатый в его геркулесовых объятиях, почти раздавленный на его мощной груди, Ершо пыхтел и задыхался и, упершись руками в плечи противника, старался вырваться из жестоких тисков. Когда Тиран с умыслом слегка разжал руки, бретер поспешил выпрямиться и перевести дух, а Ирод снова подхватил его пониже бедер и приподнял на воздух, оторвав от точки опоры. Теперь Тирану достаточно было просто отвести руки, чтобы Ершо отправился в ров, прорвав ряску на поверхности воды. Тиран развел руки во всю ширь, и бретер полетел вниз; но, как мы говорили, это был проворный и крепкий детина, пальцами он успел вцепиться в дерево и, качаясь над бездной, пытался обхватить ствол ногами. Это ему не удалось, и теперь он висел, изображая собою восклицательный знак. Плечо его мучительно напряглось от тяжести тела, пальцы из последних сил, как стальные когти, вонзились в кору, и жилы на руках вздулись так, что казалось, они вот-вот лопнут, точно струны скрипки, у которой чересчур завернули колки. При свете было бы видно, что из-под посиневших ногтей проступила кровь.
Положение было не из веселых. Держась на одной руке, которая надрывалась от тяжести, Ершо, кроме муки физической, испытывал головокружительный страх перед падением и притяжение разверстой под ним бездны. Расширенные глаза не отрывались от черной ямы, в ушах звенело, резкий свист пронизывал виски; если бы не живучий инстинкт самосохранения, он бросился бы вниз; но плавать он не умел, и темный ров стал бы для него могилой.
Несмотря на свой свирепый вид и грозные черные брови, Ирод был, в сущности, человек сердобольный. Ему стало жаль беднягу, которому те мгновения, что он висел в пустоте, терпя смертельную муку, должно быть, казались вечностью. Свесив голову со ствола, Ирод сказал Ершо:
— Если ты, подлец, поклянешься мне загробной жизнью, ибо земная твоя жизнь в моих руках, что не будешь драться против нас, я сниму тебя с виселицы, на которой ты болтаешься, как злой разбойник.
— Клянусь, — теряя силы, прохрипел Ершо. — Только, умоляю, поскорее, я падаю.
Могучей рукой Ирод ухватил его за локоть, подтянул, пустив в ход свою сказочную силищу, и посадил верхом на дерево, орудуя им, точно тряпичной куклой.
Хотя Ершо не был кисейной барышней, подверженной обморокам, добряку актеру пришлось поддержать его, иначе он без чувств свалился бы в ту самую бездну, от которой был спасен.
— У меня нет ни ароматических солей, чтобы дать тебе понюхать, ни перьев, чтобы поджечь их у тебя под носом, — сказал Тиран, роясь у себя в кармане, — зато вот тебе лучшее целебное средство, чистейшая андайская водка, чудодейственный солнечный экстракт.
И он поднес горлышко фляги к губам чуть живого бретера.
— Ну, пососи же этого молочка; еще два-три глотка, и ты будешь живее сокола, с которого сняли колпачок.
Благодетельная влага не замедлила оказать свое действие: бретер жестом поблагодарил Ирода и помахал онемевшей рукой, чтобы вернуть ей подвижность.
— А теперь хватит прохлаждаться, — заявил Ирод, — давай слезем с этого насеста, где мне не очень-то сладко сидится, и вернемся на благодатный коровий лужок, более подходящий для моей комплекции. Ступай вперед, — добавил он, пересадив Ершо в обратную сторону.
Ершо пополз вперед. Тиран — за ним следом. Спустившись первым донизу, бретер увидел на берегу рва сторожевой отряд, состоявший из Агостена, Азолана и Баска.
— Свой! — громко крикнул он им, а обернувшись, шепотом сказал актеру: — Молчите и идите за мной.
Когда они ступили на землю, Ершо подошел к Азолану и на ухо сказал ему пароль, а затем пояснил:
— Мы с приятелем ранены и хотим тут в сторонке обмыть и перевязать раны.
Азолан кивнул, приняв эту басню за правду. Ершо и Тиран пошли дальше. Когда они очутились в рощице, хоть и лишенной листвы, но достаточно густой, чтобы укрыться в ней с помощью ночного мрака, бретер сказал Ироду:
— Вы великодушно даровали мне жизнь, а я сейчас избавил вас от смерти, потому что эти трое молодцов непременно разделались бы с вами. Я заплатил свой долг, но не считаю, что мы квиты, — когда бы я вам ни понадобился, я к вашим услугам. А теперь — скатертью дорога: вы туда, я сюда.
Оставшись один, Ирод пошел между деревьями, поглядывая на проклятый замок, куда, к своей досаде, он никак не мог проникнуть. Кроме тех комнат, где кипел бой, все здание было погружено во тьму и безмолвие. Однако с бокового фасада взошедшая луна посеребрила своими мягкими лучами фиолетовые черепицы кровли. В ее пока еще неярком свете можно было различить фигуру человека, который прогуливал свою тень по маленькой площадке на берегу рва. То был Лабриш, стороживший лодку, в которой Мерендоль, Ершо, Азолан и Агостен переправились через ров.
Это обстоятельство навело Ирода на размышления: «Что он делает один-одинешенек в этом пустынном месте, пока его компаньоны работают клинками там, наверху? Должно быть, охраняет на случай отхода или отступления какой-нибудь потайной лаз, через который, оглушив сторожа дубинкой по башке, я мог бы проникнуть в этот окаянный замок и доказать Сигоньяку, что я не забыл о нем».
Рассуждая таким образом, Ирод бесшумно, словно на войлочных подошвах, приблизился к часовому той мягкой кошачьей поступью, которая бывает присуща толстякам. Подойдя на должное расстояние, он нанес ему удар по черепу, достаточный, чтобы вывести из строя, но не убить человека. Как мы уже убедились, Ирод не отличался особой жестокостью и не желал смерти грешника.
Огорошенный так, словно гром грянул на него с ясного неба, Лабриш покатился наземь и застыл в неподвижности, — от удара он лишился чувств. Ирод приблизился к парапету над рвом и увидел, что от узкой выемки к нему идет лестница, проложенная наискось в облицовке стены и ведущая до самого дна или, во всяком случае, до уровня воды, которая плещется о нижние ступеньки. Тиран стал осторожно спускаться по ним, пока не почувствовал, что ноги его намокли: тут он остановился и, пристально вглядываясь в темноту, различил очертания лодки, укрытой тенью стены. Подтянув ее за цепь, которой она была пришвартована к низу лестницы, он шутя порвал цепь и прыгнул в лодку, чуть не опрокинув ее своей тяжестью. Подождав, когда качка успокоится и восстановится равновесие, дородный трагик стал потихоньку грести единственным веслом, находившимся у кормы и одновременно служившим в качестве руля. Вскоре он вывел лодку из узкой полосы тени в полосу света, где на маслянистой воде, как чешуйки плотвы, вспыхивали лунные блестки. При бледных лучах ночного светила Ирод обнаружил в цоколе здания лестницу, скрытую под кирпичным сводчатым проходом. Туда он и причалил и через аркаду без труда проник во внутренний двор, где не встретил ни души.
«Вот я наконец в самом сердце твердыни, — подумал Ирод, потирая руки, — моей отваге гораздо вольготнее на широких, плотно скрепленных плитах, чем на птичьей жердочке, с которой я только что выбрался. Итак, оглядимся и поспешим на помощь товарищам».
Он заметил крыльцо, охраняемое двумя каменными сфинксами, и направился туда, здраво рассудив, что этот помпезный вход должен вести в парадные покои замка, куда Валломбрез, конечно, поместил молодую актрису и где сейчас кипит бой в честь новой Елены без Менелая, неприступной преимущественно для Париса. Сфинксы даже не подумали выпустить когти и задержать пришельца.
Победа как будто осталась за нападающими. Верзилой, Свернишей и Винодуй валялись на полу, как телята на соломе. Главарь шайки Малартик был обезоружен. Но на деле победители оказались пленниками. Дверь комнаты, запертая снаружи, отделяла их от той, кого они искали, и эта тяжелая дубовая дверь с изящным прибором из полированной стали могла стать непреодолимой преградой, когда под рукой не было ни топоров, ни клещей, чтобы взломать ее. Сигоньяк, Лампурд и Скапен налегли на створки плечами, но их согласных усилий было недостаточно — дверь не поддавалась.
— Что, если поджечь ее, — отчаявшись, предложил Сигоньяк, — в камине есть горящие поленья…
— К чему такая долгая возня? — возразил Лампурд. — Дуб занимается плохо; возьмем-ка лучше шкаф, превратим его в таран и попробуем сокрушить этот мощный заслон.
Сказано — сделано, и брошенный со всей силой редкостный шкаф с тончайшей резьбой полетел в дверь, но крепких створок он не поколебал ни на йоту, только поцарапал их полированную поверхность да сам потерял прелестную головку ангелочка или амура, изящно выточенную на одном из его карнизов. Барон выходил из себя, зная, что Валломбрез покинул комнату вместе с Изабеллой, которую унес насильно, несмотря на ее отчаянное сопротивление.
Внезапно раздался грохот. Ветки, закрывавшие окно; исчезли, дерево рухнуло в ров с треском, к которому примешался человеческий вопль, — это кричал театральный швейцар, остановившийся на полпути, потому что ветка показалась ему недостаточно надежной. А Баску, Азолану и Агостену пришла в голову блестящая мысль столкнуть дерево в воду и тем самым отрезать неприятелю отступление.
— Если нам не удастся взломать дверь, мы очутимся в мышеловке, — заявил Лампурд, — чтоб черт побрал прежних мастеров — уж слишком прочны их изделия! Попытаюсь кинжалом выковырять замок, раз иначе с ним не сладишь. Надо во что бы то ни стало выбраться отсюда, а у нас отняли последнее прибежище — наше дерево, по которому мы лазили, как медведи в швейцарском городе Берне.
Лампурд принялся было за дело, как вдруг в замке послышалось щелканье, сопровождающее поворот ключа, и дверь, на которую напрасно было потрачено столько сил, отворилась без всякого труда.
— Какой ангел-хранитель пришел нам на помощь? — воскликнул Сигоньяк. — И каким чудом дверь, упорно сопротивлявшаяся нашим стараниям, открылась сама собой?
— Тут нет ни ангелов, ни чудес, — ответила Чикита, выходя из-за двери и обратив на барона свой загадочный и невозмутимый взгляд.
— Где Изабелла? — крикнул Сигоньяк, окидывая глазами залу, едва озаренную дрожащим огоньком светильника.
Сперва он не заметил ее. Застигнутый врасплох внезапно распахнувшейся дверью, герцог де Валломбрез отступил в угол комнаты, прикрывая собой молодую актрису, чуть живую от страха и усталости; она опустилась на колени, прислонясь головой к стене; растрепанные волосы ее рассыпались по плечам, одежда пришла в беспорядок, кости корсета сломались, так отчаянно билась она в руках похитителя, который чувствовал, что добыча ускользает от него, и тщетно пытался сорвать напоследок хоть несколько похотливых поцелуев, как фавн, преследуемый погоней, увлекает в чащу леса юную девственницу.
— Она здесь, вот в этом углу, позади сеньора Валломбреза, — сказала Чикита, — но, чтобы добыть женщину, нужно убить мужчину.
— За этим дело не станет, я убью его! — воскликнул Сигоньяк, с поднятой шпагой направляясь к герцогу, который уже стал в позицию.
— Посмотрим, капитан Фракасс, рыцарь бродячих комедианток, — произнес молодой герцог тоном величайшего презрения.
Клинки скрестились и, не отрываясь, вращались один вокруг другого с той осторожной медлительностью, которую вносят в схватку мастера шпаги, предвидя смертельный исход. Валломбрез был неравен по силе Сигоньяку; но, как полагалось человеку его ранга, он усердно посещал школы фехтовального искусства и не одну взмокшую рубашку сменил, состязаясь под руководством лучших мастеров. Он не держал шпагу, точно метлу, как презрительно говорил Лампурд о неумелых дуэлистах, которые, по его словам, только позорят благородное ремесло. Зная, сколь опасен его противник, молодой герцог ограничился обороной, парируя удары, но воздерживаясь наносить их. Он рассчитывал обессилить Сигоньяка, уже достаточно утомленного штурмом замка и поединком с Малартиком, — звон клинков доносился до герцога из-за двери. Вместе с тем, отражая удары барона, он левой рукой искал серебряный свисток, висевший у него на груди. Поднеся свисток к губам, он издал резкий протяжный свист. Это движение могло дорого обойтись ему; шпага барона едва не пригвоздила его руку ко рту; но герцог, хоть и запоздалым ответным парадом, успел отстранить острие, которое лишь оцарапало ему большой палец. Валломбрез вновь встал в исходную позицию. Он кровожадно сверкал глазами, под стать колдунам и василискам, способным убить одним взглядом; дьявольская усмешка кривила углы его губ, он весь светился злорадной жестокостью и наступал на Сигоньяка, не подставляя себя под удары, но делая выпад за выпадом, которые тот неизменно парировал.
Малартик, Лампурд и Скапен с восхищением смотрели на поединок, от которого зависел исход всей борьбы, потому что тут лицом к лицу сошлись предводители обеих враждующих сторон. Скапен принес даже из соседней комнаты канделябры, чтобы соперникам виднее было сражаться. Трогательная забота!
— Вельможный юнец неплохо дерется, — заметил Лампурд, беспристрастный ценитель фехтовального искусства. — Я не думал, что он умеет так обороняться, но стоит ему отважиться на удар — и он погиб. У капитана Фракасса рука куда длиннее. А, черт! Зачем он парирует таким широким полукругом? Что я говорил? Вот шпага противника и проникла в просвет. Сейчас она заденет Валломбреза; нет, он отступил очень кстати.
В ту же минуту послышался беспорядочный топот. Когда он приблизился, потайная дверь в панели с шумом распахнулась, и пять или шесть вооруженных лакеев ворвались в залу.
— Унесите женщину и разделайтесь с этими наглецами! — крикнул им Валломбрез. — С капитаном я справлюсь сам.
И, подняв шпагу, он ринулся на барона. Вторжение челяди ошеломило Сигоньяка. Устремив все свое внимание на двух лакеев, которые под защитой герцога уносили к лестнице лишившуюся чувств Изабеллу, он стал рассеяннее отражать удары, и шпага Валломбреза задела ему запястье. Эта царапина вернула его к действительности, и он нанес решительный удар, поразивший противника в плечо, над ключицей. Герцог пошатнулся.
Между тем Лампурд и Скапен подобающим образом расправлялись с лакеями; Лампурд пырял их своей длинной рапирой, точно крыс, а Скапен дубасил по голове прикладом пистолета, подобранного на полу. Увидев, что господин их ранен, что он, смертельно бледный, стоит прислонясь к стене и опираясь на эфес шпаги, подлые холопы, низкие и трусливые душонки, махнули на все рукой и бросились врассыпную. Правда, Валломбрез не был любим своими слугами, с которыми обращался, как сатрап, а не хозяин, тираня их с чудовищной жестокостью.
— Ко мне, мерзавцы, ко мне! — простонал он угасающим голосом. — Неужто вы оставите своего герцога без помощи и без защиты?
Пока происходили описанные события, Ирод со всей поспешностью, какую позволяла его комплекция, поднимался по парадной лестнице, которая с приезда Валломбреза освещалась большим фонарем тонкой работы, висевшим на шелковом шнуре. Он очутился на площадке второго этажа в тот миг, когда Изабеллу, растрепанную, бледную, недвижимую, как покойницу, выносили лакеи. Решив, что Валломбрез убил или приказал убить девушку за стойкий отпор его посягательствам, Тиран пришел в ярость и со шпагой накинулся на челядинцев, огорошенных неожиданным нападением; руки у них были заняты, защищаться они не могли и потому, бросив свою добычу, пустились наутек, словно за ними гнался сам сатана. Ирод нагнулся над Изабеллой, положил ее голову к себе на колени, прижал ладонь к ее груди и ощутил слабое биение сердца. Увидел он также, что она не ранена и дышит все глубже, мало-помалу приходя в чувство.
В такой позе их застал Сигоньяк, который отделался от Валломбреза яростным ударом шпаги, приведшим в восторг Лампурда. Барон опустился на колени перед любимой, взял ее руки и нежным голосом, который донесся до нее, как сквозь сон, сказал ей:
— Очнитесь, душа моя, и не бойтесь ничего. Ваши друзья с вами, и никто не посмеет больше обидеть вас.
Хотя Изабелла все еще не открывала глаз, по ее бескровным губам скользнула томная улыбка, а похолодевшие и влажные восковые пальцы чуть заметно сжали руку Сигоньяка.
Лампурд с умилением созерцал трогательную сцену, ибо любовные дела всегда интересовали его, и он почитал себя первейшим знатоком по этой части.
Внезапно в тишине, наступившей после шума битвы, раздался властный звук рога. Немного погодя он прозвучал снова, еще резче и продолжительнее. Это был зов хозяина, которому надлежит повиноваться. Послышался лязг цепей и глухой стук спущенного моста; под сводом, как гром, прокатились колеса, и тут же в окнах, выходивших на лестницу, заплясали красные огни факелов, рассыпавшись по всему двору. С шумом захлопнулась входная дверь, и торопливые шаги гулко отозвались на лестнице.
Вскоре появились четыре лакея в парадных ливреях, неся зажженные шандалы; вид их выражал то невозмутимое и безмолвное усердие, которое отличает слуг из аристократического дома. За ними следом поднимался мужчина величественной наружности, с головы до ног в черном бархате, расшитом стеклярусом. Орден, который считают своей привилегией короли и принцы, жалуя им лишь самых заслуженных государственных мужей, красовался на его груди, выделяясь на темном фоне. Дойдя до площадки, лакеи выстроились вдоль стены, словно статуи со светильниками в руках, и ни один мускул не дрогнул на их лицах, ни единый взгляд не выдал удивления, как ни странно было представшее перед ними зрелище. Пока не высказался их господин, у них не могло быть собственного мнения. Одетый в черное вельможа остановился на площадке.
Хотя годы изрезали морщинами его лоб и щеки, покрыли лицо желтизной и посеребрили волосы, в нем все же нетрудно было признать оригинал того портрета, который привлек взгляды Изабеллы, в горести своей воззвавшей к нему как к облику друга. Это был принц, отец Валломбреза. Сын носил имя и титул по герцогскому владению, пока, согласно праву наследования, он в свой черед не сделается главой семьи.
При виде мертвенно-бледной Изабеллы, которую поддерживали Ирод и Сигоньяк, принц воздел руки к небу и с глубоким вздохом произнес:
— Я опоздал, как ни спешил явиться вовремя, — и, склонившись над молодой актрисой, он взял ее неподвижную руку.
На безымянном пальце этой белой, точно выточенной из алебастра руки сверкал перстень с крупным аметистом, вид которого странным образом взволновал престарелого вельможу. Дрожащими пальцами снял он перстень с руки Изабеллы, знаком приказал одному из лакеев поднести шандал и, стараясь при более ярком свете разобрать вырезанный на камне герб, то приближал перстень к самому огню, то отводил подальше, чтобы своим старческим зрением получше разглядеть мельчайшие его подробности.
Сигоньяк, Ирод и Лампурд с тревогой следили, как принц меняется в лице при виде драгоценного перстня, по-видимому, хорошо ему знакомого, какими лихорадочными движениями он вертит его в руках, словно не решаясь додумать до конца какую-то тягостную мысль.
— Где Валломбрез? — громовым голосом крикнул он наконец. — Где это чудовище, недостойное моего рода?
В кольце, снятом с пальца девушки, он без малейших колебаний узнал перстень с вымышленным гербом, которым сам некогда запечатывал письма к Корнелии, матери Изабеллы. Как же очутился он на пальце молодой актрисы, похищенной Валломбрезом? Откуда он у нее? «Неужто она дочь Корнелии и моя? — мысленно вопрошал себя принц. — Принадлежность ее к театру, возраст, лицо, отчасти, в смягченном виде, напоминающее черты Корнелии, — все, вместе взятое, убеждает меня в этом. Так, значит, этот треклятый распутник преследовал собственную сестру кровосмесительной любовью! О, как жестоко я наказан за давний грех!»
Изабелла раскрыла наконец глаза, и первый ее взгляд упал на принца, державшего снятый у нее с пальца перстень. Ей показалось, что она знает это лицо, но только молодым, — без седины в бороде и серебряной шевелюры. Это была состарившаяся копия портрета над камином, и чувство глубокого благоговения охватило Изабеллу. Увидела она подле себя и Сигоньяка, и добряка Ирода, целых и невредимых, и страх за исход борьбы сменился в ее душе блаженным чувством избавления. Ей больше нечего было бояться ни для своих друзей, ни для себя самой. Приподнявшись наполовину, она склонила голову перед принцем, который смотрел на нее с жадным вниманием и как будто искал в чертах девушки сходства с некогда дорогими чертами.
— От кого получили вы этот перстень, мадемуазель? У меня с ним связаны далекие воспоминания. Давно он у вас? — спрашивал старый вельможа взволнованным голосом.
— Он у меня с самого детства, это единственное, что я унаследовала от матери, — отвечала Изабелла.
— А кто была ваша мать, чем она занималась? — с удвоенным интересом продолжал спрашивать принц.
— Она звалась Корнелией и была скромной провинциальной актрисой, игравшей роли трагических королев и принцесс в той труппе, к которой поныне принадлежу я, — просто ответила Изабелла.
— Корнелия! Сомнений больше быть не может, да, это она, — дрожащим голосом произнес принц; но, обуздав свое волнение, он с величавым достоинством, спокойно обратился к Изабелле: — Разрешите мне оставить это кольцо у себя. Я верну его вам в должную минуту.
— Оно всецело в распоряжении вашей светлости, — ответила молодая актриса, и в памяти ее, сквозь туманные детские воспоминания, проступило полузабытое лицо, которое она совсем малюткой видела склоненным над своей колыбелью.
— Господа, — начал принц, обратив твердый и ясный взгляд на Сигоньяка и его товарищей, — при всяких других обстоятельствах я счел бы неуместным ваше вторжение в мой замок; однако мне известна причина, побудившая вас заполонить с оружием в руках это доселе священное жилище. Насилие подстрекает и оправдывает насилие. Я закрываю глаза на происшедшее. Но где же герцог де Валломбрез, где этот выродок — мой сын, позор моей старости?!
Как бы в ответ на зов отца, Валломбрез в это мгновение переступил порог, опираясь на Малартика; страшная бледность покрывала его лицо, а рука судорожно прижимала к груди скомканный платок. Тем не менее он шел, но как ходят призраки, не поднимая ног. Лишь неимоверным напряжением воли, придававшим его лицу неподвижность мраморной маски, способен он был передвигаться. Но он услышал голос отца, которого, несмотря на всю распущенность, продолжал бояться, и решил скрыть от него свою рану. Кусая губы, чтобы не кричать, и глотая кровавую пену, проступавшую в углах рта, он заставил себя снять шляпу, хотя движение руки причиняло ему жесточайшую боль, и остановился перед отцом безмолвно, с непокрытой головой.
— Сударь, — начал принц, — ваше поведение выходит за пределы дозволенного, а ваша разнузданность такова, что я вынужден буду как милости просить для вас у короля строгого заточения или пожизненного изгнания. Я могу извинить кое-какие ошибки беспорядочной молодости, но похищение, лишение свободы и насилие — это уже не любовные шалости, и такое заранее обдуманное преступление в моих глазах непростительно. Знаете ли вы, чудовище, — продолжал он шепотом на ухо Валломбрезу, чтобы никто не слышал его слов, — знаете ли вы, что девушка, которую вы похитили, презрев ее целомудренный отпор, что Изабелла — ваша сестра?
— Пусть она заменит вам сына, которого вы теряете, — ответил Валломбрез, чувствуя, что сознание у него мутится и на лбу проступает предсмертный пот, — но я не так преступен, как вы полагаете. Изабелла невинна! Я свидетельствую об этом перед богом, на суд которого предстану вскоре. Смерть не терпит лжи, и слову умирающего дворянина можно верить!
Эти слова были произнесены достаточно громко, чтобы их услышали все. Изабелла обратила прекрасные, увлажненные слезами глаза к Сигоньяку и прочла на его лице, что этот идеальный любовник не дожидался предсмертного свидетельства Валломбреза, чтобы поверить в целомудрие любимой.
— Но что же с вами? — вскричал принц, протягивая руку к Валломбрезу, который пошатнулся, хотя Малартик и поддерживал его.
— Ничего, отец мой, — вымолвил Валломбрез угасающим голосом, — ничего… я умираю… — И он рухнул на плиты площадки, несмотря на старания Малартика удержать его.
— Раз он свалился не носом в землю, значит, это просто обморок, и он еще может выкарабкаться, — наставительно заметил Жакмен Лампурд. — Мы, мастера шпаги, более осведомлены в таких делах, нежели мастера ланцета и аптекари.
— Врача! Врача! — крикнул принц, забыв при этом зрелище всякий гнев. — Быть может, еще есть надежда! Я озолочу того, кто спасет мне сына, последнего отпрыска славного рода! Ступайте! Что вы медлите? Спешите, бегите!
Двое из бесстрастных лакеев с шандалами, не сморгнув глазом созерцавших всю сцену, отделились от стены и бросились исполнять приказания своего господина. Другие слуги со всеми возможными предосторожностями подняли Валломбреза, по знаку отца перенесли к нему в опочивальню и положили на кровать.
Старый вельможа проводил печальное шествие взглядом, в котором скорбь вытеснила негодование. Его роду предстояло угаснуть вместе с сыном, которого он одновременно любил и ненавидел, но чьи пороки позабыл сейчас, помня лишь о его блестящих качествах. Удрученный горем, он на несколько минут погрузился в молчание, которое никто не посмел нарушить.
Изабелла совершенно оправилась от обморока и стояла подле Сигоньяка и Тирана, потупив глаза и стыдливой рукой поправляя беспорядок в своей одежде. Лампурд и Скапен жались позади них, как персонажи второго плана, а в дверях виднелись любопытствующие физиономии бретеров, которые участвовали в схватке, а теперь не без тревоги помышляли о своей дальнейшей судьбе, опасаясь, что их отправят на галеры или на виселицу за содействие Валломбрезу в его зловредных затеях. Наконец принц прервал неловкое молчание, сказав:
— Все вы, служившие своими шпагами дурным страстям моего сына, извольте немедленно покинуть этот замок. Мое дворянское достоинство не позволяет мне брать на себя обязанности доносчика или палача; исчезните с глаз долой, спрячьтесь в свои логова. Правосудие и без меня отыщет вас.
Обижаться на такие сомнительные любезности было в данную минуту более чем неуместно. Бретеры, которых Лампурд успел развязать, безропотно ретировались во главе со своим предводителем, Малартиком. Когда они скрылись из виду, отец Валломбреза взял Изабеллу за руку и, отделив ее от группы, в которой она находилась, поставил рядом с собой.
— Останьтесь здесь, мадемуазель, — обратился он к ней. — Ваше место отныне возле меня. Ваша прямая обязанность вернуть мне дочь, раз вы отняли у меня сына… — И он смахнул непрошеную слезу. Затем, оборотясь к Сигоньяку, сказал с жестом неподражаемого благородства: — Вы, сударь, можете удалиться вместе с вашими товарищами. Изабелла находится под защитой своего отца в замке, который впредь будет ее жилищем. Теперь, когда стало известно ее происхождение, моей дочери не подобает возвращаться в Париж. Она досталась мне слишком дорогой ценой, чтобы отпустить ее от себя. Хотя вы отняли у меня надежду на то, что род мой не угаснет, я все же признателен вам — вы избавили моего сына от постыдного поступка, нет, что я говорю, — от чудовищного преступления! Я предпочитаю, чтобы герб мой был запятнан кровью, но не грязью. Раз Валломбрез вел себя подло, вы имели все основания убить его; защищая беспомощную невинность и добродетель, вы показали себя истым дворянином, каковым, я слышал, вы и являетесь. Вы были в своем праве. Спасением чести моей дочери искуплена смерть ее брата. Так говорит мой рассудок, но отцовское сердце восстает во мне, мысли о несправедливом мщении могут зародиться у меня, и я не совладаю с ними. Скройтесь же поскорее, я не стану вас преследовать и постараюсь позабыть, что жестокая необходимость направила ваш клинок в грудь моему сыну.
— Монсеньор, — тоном глубочайшего уважения начал Сигоньяк, — отцовская скорбь столь священна для меня, что я безропотно стерпел бы любые самые оскорбительные и горькие поношения, хотя в этой гибельной встрече я ничем не погрешил против чести. Я не скажу ни слова обвинения против несчастного герцога де Валломбреза ради того, чтобы обелить себя в ваших глазах. Поверьте одному — я не искал с ним ссоры, он сам становился на моем пути, а я в многократных стычках всячески его щадил. И на сей раз сам он в слепой злобе бросился на мой клинок. Я оставляю в ваших руках Изабеллу, которая для меня дороже жизни, и удаляюсь навек, сокрушенный своей печальной победой, что оказалась для меня горше поражения, ибо она разбивает мое счастье. О, лучше бы мне быть убитым, быть жертвой, а не убийцей!
Поклонившись принцу и остановив на Изабелле долгий взгляд, исполненный любви и сожаления, Сигоньяк вместе с Лампурдом и Скапеном спустился по лестнице; то и дело оглядываясь, он увидел, что Изабелла из страха упасть оперлась на перила и поднесла платок к глазам, полным слез. Что она оплакивала — смерть ли брата или уход Сигоньяка? Так как ненависть к Валломбрезу не успела еще, после известия об их неожиданном родстве, обратиться в сестринскую любовь, мы склонны полагать, что девушка оплакивала разлуку с Сигоньяком. По крайней мере, при всей своей скромности именно это подумал барон, и, — так уж странно устроено человеческое сердце, — удалился, утешенный слезами той, кого любил.
Сигоньяк и остальные актеры выбрались по подъемному мосту, и, проходя вдоль рва к лесочку, где были привязаны их лошади, они услышали стоны, доносившиеся из рва в том месте, где лежало поваленное дерево. Оказалось, что театральный швейцар никак не мог выпутаться из переплетения ветвей, и, высунув на поверхность голову, он жалостно скулил, рискуя всякий раз, как разевал рот, наглотаться пресной влаги, которая была ему противней знахарских снадобий. Отличавшийся ловкостью и проворством Скапен не побоялся спрыгнуть на дерево и мигом выудил швейцара, мокрого насквозь и облепленного водорослями. Лошади соскучились стоять в укрытии и, как только всадники вскочили на них, бодро затрусили по дороге в Париж.
— Что вы скажете обо всех этих событиях, барон? — спросил Ирод у Сигоньяка, ехавшего бок о бок с ним. — Настоящая развязка трагикомедии. Торжественное прибытие отца, предшествуемого светильниками, нежданно-негаданно явившегося в решительную минуту положить конец не в меру озорным выходкам сиятельного сынка, а затем признавшего Изабеллу благодаря перстню с печаткой! Разве все это не доводилось нам видеть на театре? Но чему тут удивляться? Если театр изображает жизнь, значит, жизнь и должна быть сходна с ним, как оригинал с портретом. В труппе давно шли толки о знатном происхождении Изабеллы. Блазиус и Леонарда даже помнили принца, бывшего тогда еще герцогом, когда он приезжал и ухаживал за Корнелией. Леонарда часто уговаривала Изабеллу разыскать отца; но она по природной кротости и скромности отказывалась наотрез, не желая навязываться семье, которая, быть может, отвергла бы ее, и довольствовалась своей смиренной долей.
Да, я знал об этом, — подтвердил Сигоньяк. — Не придавая особой важности своему знатному происхождению, Изабелла рассказала мне историю своей матери и упомянула о кольце. Впрочем, по тонкости чувств, которая отличает эту достойную девушку, видно, что в жилах ее течет славная кровь. Не скажи она мне ничего, я бы и сам догадался. В ее целомудренной, изящной и чистой красоте чувствуется порода. Недаром любовь моя всегда сочеталась с робким почтением, при том, что, волочась за актрисами, принято позволять себе вольности. Но нужно же было такое роковое совпадение, чтобы проклятый Валломбрез оказался ее братом! Теперь нас с ней разделяет труп, кровь пролегла между нами, а ведь спасти ее честь я мог, только сразив его. Несчастная моя доля! Я сам создал преграду, о которую должна разбиться моя любовь, и той же шпагой убил свои надежды, которой защищал свое сокровище. Стремясь сохранить самое для себя дорогое, я лишился его навсегда. Как могу я прийти к Изабелле, оплакивающей брата, когда руки мои обагрены его кровью? Увы, эту кровь я пролил ради ее же спасения, но то была родная ей кровь! Пусть даже она простит мне и будет смотреть на меня без содрогания, принц, приобретший над ней отцовские права, с проклятием оттолкнет убийцу своего сына. Да, я родился под зловредной звездой!
— Все это весьма прискорбно, — согласился Ирод, — однако в делах Сида и Химены царила еще не такая путаница, что явствует из пьесы господина Пьера де Корнеля, и тем не менее после длительной борьбы между чувством и долгом все уладилось по-хорошему, не без некоторых натяжек и неожиданных поворотов в испанском вкусе, весьма эффектных на сцене. Валломбрез — брат Изабеллы лишь по отцу. Они выношены не в одном чреве и родство свое успели почувствовать всего несколько минут, что должно значительно умалить вражду к вам. А вдобавок наша милая Изабелла яро ненавидела этого бешеного герцога с его скандальными и грубыми домогательствами. Да и принц не очень-то жаловал сына, который отличался жестокостью Нерона, распутством Гелиогабала{153} и сатанинской порочностью и был бы уже двадцать раз повешен, если бы не герцогский титул. Не отчаивайтесь так. Все еще может обернуться лучше, чем вы думаете.
Дай-то бог, добрый мой Ирод, — ответил Сигоньяк. — Только мне вообще нет счастья. Верно, у колыбели моей стояли Незадача и злые феи-горбуньи. Право, лучше бы мне быть убитым, — ведь с появлением принца добродетель Изабеллы была бы спасена и помимо смерти Валломбреза, а потом, скажу вам откровенно, когда этот молодой красавец, полный жизни, страсти и огня, весь белый, застывший, холодный, лежал, вытянувшись, у моих ног, меня до мозга костей леденящим холодом пронизал неизведанный таинственный ужас. Ирод, смерть человека — дело страшное, и, хотя нет у меня раскаяния, потому что я не совершил преступления, я неотступно вижу простертого передо мной Валломбреза с разметавшимися по мрамору лестницы волосами и с кровавым пятном на груди.
— Все это химеры, вы убили его по всем правилам, — возразил Ирод. — Совесть ваша должна быть чиста. Бодрый галоп развеет всякие угрызения — следствие неровной трусцы и ночной прохлады. Лучше давайте подумаем о том, чтобы вам поскорее скрыться из Парижа в какой-нибудь уединенный уголок и не напоминать о себе. Смерть Валломбреза наделает шума при дворе и в городе, как ни старайся утаить ее. И хотя он не очень-то был любим, вам могут мстить за него. Итак, покончим с разговорами, пришпорим наших коней и поскорее оставим позади эту длинную ленту дороги, что тянется перед нами, серая и скучная, между двумя рядами голых палок, под холодным лунным светом.
Подбодренные шпорами лошади взяли резвым галопом; а пока они скачут, мы возвратимся в замок, столь же тихий сейчас, сколь недавно еще был шумен, и войдем в комнату, куда слуги отнесли Валломбреза. Многосвечный канделябр, поставленный на столик, озарял кровать молодого герцога, который лежал неподвижно, как труп, и казался еще бледнее на фоне пурпурных атласных занавесей, бросавших на него красноватые блики. Панели черного дерева, инкрустированные медной проволокой, доходили до половины человеческого роста и служили основанием для шпалер, где была изображена история Медеи и Ясона{154}, вся сплошь состоявшая из убийств и мрачных чар. Тут Медея разрубала на куски Пелия, якобы для того, чтобы вернуть ему молодость, как Эсону. Дальше, та же Медея, ревнивая жена и бесчеловечная мать, убивала своих сыновей; на следующем панно она же, упившись местью, мчалась прочь на колеснице, запряженной огнедышащими драконами. Спору нет, шпалеры были ценные, красивые, в них чувствовалась искусная рука; но изображенные там мифологические зверства носили печать угрюмой жестокости, обличая злобный нрав того, кто их выбирал. За поднятыми в изголовье занавесками виден был Ясон, поражающий чудовищных медных быков, хранителей золотого руна, и Валломбрез, лежавший под ними без движения, казался одной из их жертв.
Повсюду на стульях валялись богатые и элегантные наряды, с небрежением брошенные после примерки, а на столе того же черного дерева, что и вся обстановка, в японскую вазу, расписанную синими и красными узорами, был вставлен великолепный букет редчайших цветов, предназначенный заменить тот, который отвергла Изабелла, но так и не доставленный ей по причине внезапного нападения на замок. Пышно распустившиеся цветы, свежие свидетели фривольных помышлений, являли разительный контраст с безжизненно простертым телом, давая моралисту повод пофилософствовать всласть.
Сидя в кресле у кровати, принц не спускал печального взгляда с лица сына, которое было белее кружевных воланов на подушке, обрамлявших его. Бледность придала чертам особое тонкое благородство. Все то низменное и пошлое, что накладывает жизнь на человеческий облик, исчезло, стертое невозмутимой чистотой мрамора, и никогда еще Валломбрез не был так хорош собой. Казалось, ни единое дыхание не слетает с полуоткрытых губ, где пурпур граната сменился фиолетовым цветом смерти. Созерцая прекрасное тело, которому суждено было вскоре обратиться в прах, принц уже не помнил, что в нем обитала душа демона, а скорбел о своем славном имени, которое во времена минувшие благоговейно передавалось из века в век и которому не суждено достичь веков грядущих. Принц оплакивал нечто большее, чем смерть сына, он оплакивал смерть рода, — горе, непонятное мещанам и простолюдинам. Он держал ледяную руку Валломбреза в своих руках и, ощущая намек на теплоту, не понимал, что она исходит от него самого, и предавался несбыточной надежде.
Изабелла стояла в ногах кровати и, сложив руки, ревностно молила бога о брате, в чьей смерти была повинна против воли и кто жизнью платил за чрезмерную любовь, — преступление, которое охотно прощают женщины, тем паче если сами являются его причиной.
— Что же это не едет врач? — с нетерпением спросил принц. — Быть может, не все еще потеряно.
Не успел он договорить, как дверь растворилась, и вошел лекарь в сопровождении ученика, который нес за ним ящик с инструментами. Молча поклонившись, он направился прямо к постели, на которой без чувств лежал герцог, пощупал у него пульс, приложил руку к его сердцу и безнадежно покачал головой. Однако, желая научно удостоверить свей приговор, он достал да кармана зеркальце полированной стали, поднес его к губам Валломбреза, потом пристально вгляделся в зеркальце; легкое облачко затуманило металлическую поверхность. Удивившись, врач повторил опыт. Снова сталь покрылась дымкой. Изабелла и принц с трепетом следили за движениями лекаря, лицо которого несколько прояснилось.
— Жизнь еще не вполне угасла, — сказал он наконец, обращаясь к принцу и обтирая зеркальце, — раненый дышит, и доколе смерть не коснулась больного своим перстом, отчаиваться не надо. Однако не следует предаваться и преждевременной радости, от которой только горше станет потом ваша скорбь; я скажу лишь, что его светлость герцог де Валломбрез не перестал дышать, — отсюда до выздоровления еще далеко. А теперь я хочу осмотреть его рану. Возможно, она не смертельна, раз не убила его наповал.
— Вам незачем оставаться здесь, Изабелла, — сказал отец Валломбреза, — подобное зрелище слишком тягостно и жестоко для молодой девушки. Вам доложат, к какому заключению пришел доктор после осмотра.
Изабелла удалилась, предшествуемая лакеем, который привел ее в новые апартаменты, ибо в прежних все было еще перевернуто вверх дном после разыгравшейся там борьбы.
С помощью ученика лекарь расстегнул на герцоге камзол, разорвал рубашку и обнажил грудь белее слоновой кости, на которой выделялась треугольная ранка, усеянная капельками крови — наружу крови вышло не много, вся она излилась внутрь; наместник Эскулапа{155} раздвинул края раны и проник в нее зондом. Легкая дрожь пробежала по лицу раненого, но глаза по-прежнему оставались закрытыми, и сам он был неподвижен, точно надгробная статуя в фамильном склепе.
— Отлично, — сказал врач, заметив эту болезненную судорогу, — он страдает, значит, он жив. Чувствительность — благоприятный признак.
— Скажите, ведь он будет жить? — настаивал принц. — Если вы его спасете, я озолочу вас, я исполню все ваши желания, вы получите все, чего ни потребуете.
Ну, не будем заглядывать вперед, — возразил врач, — пока я ни за что не отвечаю. Острие шпаги прошло через верхушку правого легкого. Случай тяжелый, весьма тяжелый. Однако пациент молод, крепок здоровьем, сложен так, что без этой окаянной раны мог бы прожить до ста лет, а потому возможно, что он и поправится, если не будет непредвиденных осложнений. Мы знаем случаи исцеления от такого рода ран. У молодежи в запасе столько природных ресурсов! Жизненные силы еще на подъеме, они быстро восполняют потери и выправляют повреждения. Посредством банок и надрезов я постараюсь извлечь разлившуюся внутри кровь, которая в конце концов задушила бы больного, если бы его светлости не посчастливилось попасть в руки человека ученого, — редкая удача для таких отдаленных от Парижа селений и замков! Ну-ка, олух! — обратился он к своему ученику. — Чем таращиться на меня, как на башенные часы, скатай бинты, приготовь припарки, чтобы я мог приступить к делу.
Покончив с манипуляциями, лекарь заявил принцу:
— Благоволите распорядиться, монсеньор, чтобы нам поставили походную кровать где-нибудь в углу комнаты и подали легкий ужин, — мы будем попеременно дежурить возле его светлости. Мне нужно все время быть поблизости, следить за каждым симптомом, чтобы побороть его, если он неблагоприятен, и споспешествовать малейшему отрадному признаку. Положитесь на меня, монсеньор, уверяю вас, все, чем располагает наука для спасения человеческой жизни, будет пущено в ход без опаски, но и без риска. Пойдите отдохните немного, я отвечаю вам за жизнь вашего сына… до завтра.
Несколько успокоенный заверениями лекаря, отец Валломбреза удалился в свои апартаменты, куда лакей ежечасно приносил сведения о положении молодого герцога.
Изабелла нашла в предназначенных ей новых покоях прежнюю угрюмую и необходимую горничную, которая ждала, чтобы раздеть барышню; но теперь выражение ее лица совершенно переменилось: глаза горели странным огнем и бледные черты озаряло мстительное торжество. Возмездие за неведомую обиду, выстраданную молча в бессильной и подавленной злобе, из немого призрака сделало живую женщину. С нескрываемой радостью убирала она прекрасные волосы Изабеллы, заботливо помогала ей надеть в рукава ночной наряд, став на колени, разувала ее, приветливым усердием как будто искупая недавнее хмурое безучастие; с губ, прежде скованных молчанием, теперь неудержимо рвались вопросы.
Но Изабелла, поглощенная бурными событиями вечера, не обратила внимания на эту перемену и не заметила также, как досадливо девушка насупила брови, когда слуга пришел доложить, что надежда спасти герцога не потеряна. При этом известии радость, ненадолго осветившая ее мрачное лицо, уступила место выражению угрюмой тоски, которое не покидало девушку до той минуты, когда Изабелла ласковым жестом отпустила ее.
Лежа в мягкой постели, созданной для служения Морфею, куда, однако, сон не спешил сойти, Изабелла старалась дать себе отчет в тех чувствах, какие вызвал у нее столь внезапный поворот ее судьбы. Вчера лишь она была бедной актрисой, без своего имени, а только с прозвищем, которое стояло в афишах, расклеенных на перекрестках. Ныне же знатный вельможа признал ее своей дочерью; она, ничтожная былинка, оказалась привитой к одной из ветвей могучего генеалогического древа, корнями уходящего в седую старину, и, что ни побег, — прославленное доблестью имя украшало его. Отец ее — знатнейший аристократ, принц, выше которого стоят только коронованные особы. Страшный герцог де Валломбрез, столь прекрасный при всей своей развращенности, из влюбленного стал братом, и если ему суждено выжить, страсть его, без сомнения, превратится в чистую и спокойную привязанность. Этот замок — недавняя ее тюрьма — сделался для нее родным домом, и слуги повинуются ей с почтительностью, в которой нет ни притворства, ни принуждения. Судьба позаботилась о том, чтобы все мечты, какие только может породить самое необузданное честолюбие, осуществились для нее без ее участия. Из того, что представлялось ей гибелью, родилось лучезарное, неправдоподобное счастье, превосходящее все чаяния.
Несмотря на столь щедрые дары Фортуны, Изабелла испытывала на диво мало радости; то ли ей надо было свыкнуться с новым положением вещей, то ли она безотчетно жалела об актерской жизни; но надо всем, конечно, царила мысль о Сигоньяке. С разительной переменой в ее судьбе станет ли к ней дальше или ближе этот совершенный, бесстрашный, беззаветно преданный друг и возлюбленный? Будучи бедной, она отказалась выйти за него замуж, чтобы не помешать его благополучию; став богатой, она почитала для себя отраднейшим долгом предложить ему свою руку. Признанная дочь сиятельного принца имела право сделаться баронессой де Сигоньяк. Но ведь барон стал убийцей Валломбреза. Не могут их руки соединиться над свежей могилой. Если же молодой герцог и останется жив, быть может, он надолго сохранит к победителю враждебное чувство за свою рану, а главное, за свое поражение, ибо гордость в нем была чувствительнее плоти. И принц, как он ни добр и ни великодушен, вряд ли отнесется с благожелательством к тому, кто едва не лишил его сына, и для дочери он может пожелать другого союза; но Изабелла в душе поклялась себе остаться верной своей первой смиренной любви и скорее постричься в монахини, чем согласиться на брак с каким-нибудь герцогом, маркизом или графом, хотя бы он был красив, как день, и наделен всеми качествами принца из волшебной сказки.
Успокоившись на этом решении, Изабелла стала уже дремать, как вдруг услышала легкий шорох; раскрыв глаза, она увидела, что в ногах ее постели стоит Чикита и молча смотрит на нее задумчивым взглядом.
— Чего ты хочешь, дорогое дитя? — ласково спросила Изабелла. — Почему ты не уехала со всеми? Если ты пожелаешь, я оставлю тебя при себе, ведь я тебе стольким обязана.
— Я очень тебя люблю, но не могу остаться с тобой, пока жив Агостен. На альбасетских лезвиях написано: «Soy de un due(o», что означает: «Я предан одному хозяину». Отличные слова, достойные верного клинка. У меня только одно желание. Если ты находишь, что я отплатила тебе за жемчужное ожерелье, поцелуй меня. Меня никто никогда не целовал. А как это, должно быть, хорошо!
— Ото всего сердца! — воскликнула Изабелла и, притянув к себе голову девочки, поцеловала ее смуглые щеки, которые зарделись от радостного волнения.
— Теперь прощай! — сказала Чикита, вернув себе обычную невозмутимость.
Она собралась уйти той же дорогой, что пришла, но увидела на столе нож, которым учила Изабеллу обороняться от посягательств Валломбреза.
— Отдай мне его, тебе он больше не нужен, — сказала она и с этими словами исчезла.
XVIII В СВОЕЙ СЕМЬЕ
Врач ручался, что Валломбрез проживет до завтра. Предсказание его сбылось. Когда утренний свет проник в комнату, где царил беспорядок и на столах валялись окровавленные повязки, больной еще дышал. Он даже приподнимал веки и смотрел вокруг тусклым, безучастным взглядом, в котором затаился неосознанный ужас небытия. Сквозь обморочный туман ему привиделся лик смерти, и взор его временами останавливался на чем-то страшном, незримом для остальных. Чтобы избавиться от наваждения, он опускал веки, и черная бахрома ресниц подчеркивала восковую бледность щек; упорно не открывая глаз, он ждал, пока исчезнет видение, и лишь тогда лицо его становилось спокойнее и взгляд снова принимался блуждать по сторонам. Душа его медленно возвращалась с порога небытия, и врач, приложив ухо к его груди, слышал, как потихоньку возобновляется биение сердца — слабые удары, скрытые свидетельства жизни, доступные только слуху ученого медика. Зубы его мерцали белизной между полуоткрытыми в томной улыбке губами, улыбке более печальной, нежели гримаса боли, ибо она обычно является на человеческих устах в преддверии вечного покоя. Однако к их фиолетовой окраске уже примешивались розовые тона, показывая, что мало-помалу восстанавливается ток крови.
Стоя у изголовья постели, врач, мэтр Лоран, подмечал столь трудно уловимые симптомы с большим вниманием и проницательностью. Мэтр Лоран был человек ученый, и, чтобы снискать заслуженное признание, ему недоставало подходящего случая. До сей поры он упражнял свой талант лишь in anima vili[20]{156}, излечивая без огласки простонародье, мещан, солдат, писцов, стряпчих и прочий мелкий судейский люд, чья жизнь и смерть мало чего стоят. Нетрудно понять, что для него значило излечение молодого герцога. Самолюбие и честолюбие одинаково участвовали в его единоборстве со смертью. Не желая ни с кем делить торжество победы, он воспротивился намерению принца вызвать из Парижа самых знаменитых врачей, заявив, что справится сам и что перемена в методах лечения может оказаться пагубной при такой серьезной ране.
«Нет, он не умрет, — думал Лоран, изучая наружный вид больного, — гиппократова лица{157} у него нет, руки и ноги не одеревенели, он хорошо перенес тягость утренних часов, удваивающих болезнь и предопределяющих роковой исход. А главное, он должен жить, в его спасении — мое благополучие, я вырву этого красавца, наследника знатного рода, из костлявых рук смерти! Ваятелям не скоро придется высекать ему надгробие. Сперва он должен извлечь меня из этой деревушки, где я прозябаю. Для начала попытаемся восстановить его силы укрепляющим средством, даже рискуя вызвать лихорадку».
Так как помощник его, бодрствовавший полночи, спал на походной кровати, он сам достал из ящика с медикаментами несколько пузырьков, содержащих разноцветные жидкости — одни красные, как рубин, другие зеленые, как изумруд, третьи желтые, как золото, четвертые прозрачные, как алмаз. К склянкам были приклеены этикетки с сокращенными латинскими названиями, для невежды подобными кабалистическим формулам. Как ни был мэтр Лоран уверен в себе, он по нескольку раз перечитал надписи на отобранных им флаконах, посмотрел содержимое на свет, воспользовавшись первыми утренними лучами, которые просочились сквозь занавески, взвесил в серебряной мензурке отлитые из каждой бутылки дозы и составил из них микстуру, рецепт которой хранил в тайне.
Изготовив смесь, он разбудил ученика и приказал приподнять голову Валломбреза, а сам разжал шпателем зубы раненого и втиснул между этим двойным рядом перлов узкое горлышко пузырька. Несколько капель увлажнили небо молодого герцога, и от пряной горечи крепкого напитка по его неподвижным чертам пробежала легкая судорога. Глоток за глотком проникал в грудь больного, и, наконец, к великому удовольствию лекаря, вся порция была принята без особого труда. По мере того как Валломбрез пил, на щеках его проступал слабый румянец, глаза загорелись жизнью и чуть заметно шевельнулась лежавшая на одеяле рука. Больной вздохнул, словно пробуждаясь от сна, и осмотрелся по сторонам почти осмысленным взглядом.
«Я играю в опасную игру, — про себя сказал мэтр Лоран, — зелье это волшебное. Оно может либо убить, либо воскресить. На сей раз оно воскресило больного. Слава Эскулапу, Гигии{158} и Гиппократу!»
В этот миг чья-то рука бесшумно отодвинула тканую портьеру, а затем из-за складок выглянуло благородное лицо принца, истомленное и состарившееся на десять лет от волнений этой страшной ночи.
— Ну как, мэтр Лоран? — встревоженным шепотом спросил он.
Лекарь приложил палец одной руки к губам, а другой указал на Валломбреза, чуть приподнятого на подушках и уже не похожего на покойника, так обжег и оживил его огненный напиток.
Неслышным шагом, привычным для тех, кто ходит за больными, мэтр Лоран приблизился к стоявшему на пороге принцу и, отведя его в сторонку, сказал:
— Как видите, монсеньор, положение вашего сына отнюдь не стало хуже, а наоборот, заметно улучшается. Конечно, нельзя считать, что он вне опасности, но если не случится непредвиденных осложнений, которые я всячески стараюсь предотвратить, полагаю, что он поправится и будет продолжать свой блистательный жизненный путь, забыв об этой злосчастной ране.
Лицо принца просияло живейшей отцовской радостью; он шагнул было в комнату, чтобы поцеловать сына, но мэтр Лоран почтительно удержал его за руку.
— Разрешите мне, принц, воспротивиться столь естественному желанию; врачи нередко чинят досаду, ибо медицина самая суровая из всех наук. Сделайте милость, не входите к герцогу. Он настолько слаб, что ваше драгоценное присутствие, чего доброго, встревожит его и вызовет опасный нервный приступ. А всякое волнение может стать для него роковым и порвать ту хрупкую нить, которой я привязываю его к жизни. Через несколько дней, когда рана начнет заживать и силы мало-помалу возвратятся к нему, вам можно будет вволю, невозбранно насладиться его лицезрением.
Вняв разумным доводам врача, успокоенный принц удалился в свои покои, где занялся чтением благочестивых книг вплоть до самого полудня, когда дворецкий пришел доложить, что «обед вашей светлости подан».
— Пусть попросят мою дочь, графиню Изабеллу де Линейль — таков отныне ее титул — пожаловать к столу, — приказал принц дворецкому, который поспешил выполнить это распоряжение.
Изабелла прошла через аванзалу с доспехами, бывшими причиной ее ночных страхов, и ничего пугающего не усмотрела здесь при дневном свете, который лился из высоких окон, уже не закрытых ставнями. Комнаты были проветрены. Вязанки можжевельника и ароматного дерева ярко пылали в каминах, изгоняя застоявшийся запах плесени. Вместе с хозяином в мертвое обиталище возвратилась жизнь.
Столовая тоже стала неузнаваемой, и стол, который вчера еще, казалось, был приготовлен для пиршества привидений, сегодня, накрытый роскошной скатертью в аккуратных прямоугольниках сгибов, приобрел весьма импозантный вид, благодаря старинной серебряной посуде, украшенной богатой чеканкой, эмблемами и гербами, графинам богемского хрусталя в золотых звездочках и бокалам венецианского стекла на витых ножках, судкам для пряностей и блюдам, от которых шел ароматный пар.
На каминной решетке из металлических шаров, расположенных рядами, пылали огромные поленья, и языки пламени под веселую трескотню искр лизали доску с гербом принца, распространяя приятное тепло по всей огромной комнате. Невзирая на дневной свет, огни камина бросали красноватые отблески на драгоценную утварь в поставцах, на золотое и серебряное тиснение шпалер из кордовской кожи.
Когда Изабелла вошла, принц уже сидел в кресле с высокой спинкой наподобие балдахина. Позади кресла стояли два лакея в парадных ливреях. Молодая девушка приветствовала отца скромным реверансом, который ничуть не отдавал театральными подмостками и снискал бы одобрение любой великосветской дамы. Слуга придвинул ей кресло, и она без особого замешательства заняла место напротив принца, которое он жестом указал ей.
После супа мажордом принялся нарезать на буфетной доске мясные кушанья, которые подносил ему приставленный для того слуга, а лакеи относили их уже разделанными обратно на стол.
Лакей наливал Изабелле вино, которое она, будучи умерена в еде и питье, потребляла лишь сильно разбавленным. Взволнованная событиями предшествующего дня и нынешней ночи, потрясенная внезапной переменой в своей судьбе, тревожась о состоянии тяжко раненного брата и терзаясь неведением об участи любезного ее сердцу Сигоньяка, она еле притрагивалась к поставленным перед ней кушаньям.
— Вы ничего не пьете и не едите, графиня, — заметил принц. — Позвольте положить вам крылышко куропатки.
Услышав титул графини, произнесенный ласковым, но вполне серьезным тоном, Изабелла с робким вопросом обратила к принцу свои прекрасные голубые глаза.
— Да, графиня де Линейль, — это название поместья, которое я дарю вам, ибо моей дочери не подобает носить имя «Изабелла» безо всякого добавления, как бы красиво оно ни было.
Движимая властным душевным порывом, Изабелла встала, обошла стол, опустилась на колени перед принцем и поцеловала ему руку в знак благодарности за столь деликатную заботу.
— Встаньте, дочь моя, и сядьте на ваше место, — растроганным голосом произнес принц. — То, что я делаю, вполне справедливо. Судьба помешала мне сделать это раньше, и в соединившем нас наконец страшном стечении обстоятельств я вижу не иначе как перст божий. Ваша добродетель не позволила свершиться величайшему преступлению, и я люблю вас за ваше целомудрие, хотя бы оно стоило жизни моему сыну. Но господь спасет его, дабы он мог покаяться в том, что оскорбил столь непорочную чистоту. Мэтр Лоран обнадежил меня, да я и сам, глядя с порога на Валломбреза, не мог усмотреть на его челе ту печать смерти, которую мы, люди военные, научились узнавать.
После того как в роскошном позолоченном сосуде была подана вода для омовения рук, принц отбросил салфетку и направился в гостиную, куда, по его знаку, последовала за ним Изабелла. Старый вельможа уселся в кресла у камина, грандиозного скульптурного сооружения, доходившего до потолка, а дочь его устроилась рядом, на складном стуле. Когда лакеи удалились, принц нежно взял ручку Изабеллы в обе свои руки и некоторое время безмолвно созерцал дочь, обретенную столь удивительным случаем. Глаза его выражали радость с примесью печали, ибо, несмотря на заверения лекаря, жизнь Валломбреза висела на волоске. Он был счастлив в одном и несчастлив в другом; но прелестное личико Изабеллы вскоре рассеяло печальные думы, и принц обратился к новоявленной графине с такими словами:
— В связи с тем, что судьба свела нас таким странным, романтическим и сверхъестественным стечением обстоятельств, у вас, дорогая моя дочка, без сомнения, должна была явиться мысль, что все это время, с самого вашего детства до нынешнего дня, я не искал вас и лишь случай вернул потерянное дитя забывчивому отцу. Но ваша чуткая душа, конечно, не замедлила отвергнуть такое предположение, совсем не соответствующее моим истинным чувствам. Для вас не тайна, что ваша мать, Корнелия, отличалась гордым и неуступчивым нравом. Она все воспринимала чрезвычайно болезненно, и когда причины высшего порядка, я сказал бы даже — соображения государственной важности, принудили меня, наперекор собственному сердцу, расстаться с ней, дабы вступить в брак, повинуясь верховной воле, равнозначной приказу, которого никто не вправе ослушаться, ваша мать в приливе гнева и обиды наотрез отказалась от всего, что могло облегчить ее положение и обеспечить ваше будущее. Поместья, ренты, деньги, драгоценности — все она отвергла с оскорбительным презрением. Восхищаясь ее бескорыстием, я тем не менее не отступился и оставил у одного доверенного лица отвергнутые ею деньги и ценные бумаги, чтобы она могла их востребовать, на случай, если умонастроение ее переменится. Но она упорствовала в своем отказе и, переменив имя, перешла в другую труппу, с которой стала кочевать по провинции, избегая Парижа и тех мест, где могла встретиться со мной. Вскоре я потерял ее след, тем более что король, государь мой, назначив меня послом, возложил на меня поручения деликатного свойства, надолго задержавшие меня за границей. Через верных людей, столь же преданных, сколь и тактичных, собиравших сведения среди актеров различных театров, я, воротившись, узнал, что Корнелия умерла за несколько месяцев до того. О ребенке же ничего не было известно. Постоянные переезды провинциальных трупп, прозвища, под которыми выступают актеры, то и дело меняя их по необходимости или по собственной прихоти, крайне затрудняли поиски, особенно когда сам не можешь заняться ими. Малейшая примета, достаточная для лица заинтересованного, ничего не дает наемному посреднику, который руководствуется лишь корыстными соображениями. Правда, мне говорили, что в некоторых труппах есть малолетные девочки, но подробности их рождения не совпадали с тем, что касалось вас. Некоторые мамаши, не боясь расстаться со своим детищем, пытались навязать мне отцовство, так что приходилось быть настороже против подобных уловок. К оставленным мною деньгам никто не притронулся. Злопамятная Корнелия явно решила отомстить мне, скрыв от меня дочь. Пришлось поверить, что вас нет на свете, но внутренний голос твердил мне, что вы живы. Я вспоминал, какой миленькой крошкой вы были в колыбели и как ваши розовые пальчики теребили мои, тогда еще черные, усы, если я наклонялся, чтобы поцеловать вас. Рождение сына лишь оживило эти воспоминания, вместо того чтобы заслонить их. Глядя, как он растет среди сказочной роскоши, весь в лентах и кружевах, точно королевское дитя, как играет драгоценными погремушками, которые могли составить благополучие целой честной семьи, я думал, что, может статься, вы эту минуту страдаете от холода и голода в убогих театральных лохмотьях, сидя в тряской повозке или в сарае, открытом всем ветрам. Если она жива, думал я, ее муштрует и колотит театральный директор. Подвешенная на проволоке, она летает, чуть жива от страха, изображая в феериях амурчиков и эльфов. Она не может сдержать слезы, и они текут, оставляя полосы на гриме, которым размалевали ее бледные щечки, или же, вся дрожа, лепечет в чаду свечей немудреные слова детской роли, стоившей ей не одной пощечины. И я корил себя за то, что с самого рождения не отнял девочку у матери; но в ту пору я считал, что наша любовь будет длиться вечно. Позднее мною овладели новые тревоги. В беспорядочной кочевой жизни бродячих актеров целомудрие такой красотки, какой вы обещали стать, неминуемо подвергается посягательствам волокит, которые вьются вокруг комедианток, как мотыльки вокруг огня, и кровь приливала мне к голове при мысли, что вы, плоть от плоти моей, подвергаетесь несносным оскорблениям. Сколько раз, выставляя себя заядлым театралом, каковым не был никогда, отправлялся я на спектакли, надеясь увидеть среди актрис на роли простушек молодую девицу вашего возраста и привлекательной наружности, которой мысленно наделял вас. Но встречались мне лишь нарумяненные вертушки, прикрывающие невинной миной наглость куртизанки. Ни одна из этих жеманных дур не могла быть вами.
Итак, я с прискорбием отказался от надежды отыскать дочь, присутствие которой было бы отрадой моей старости; принцесса, моя жена, умерла после трех лет супружества, подарив мне лишь сына, Валломбреза, своим необузданным нравом причинявшего мне немало огорчений. Несколько дней тому назад, явившись по долгу службы к королю в Сен-Жермен, я услышал такие одобрительные отзывы придворных о труппе Ирода, что подумал сам пойти на спектакль этих актеров, по общему мнению, лучших из всех, за долгие годы приезжавших из провинции в Париж. Особенно хвалили некую Изабеллу за превосходную, естественную, благопристойную манеру игры, полную наивной грации. Она, как говорили, не только отлично играет на театре роль невинной простушки, но не изменяет ей и в жизни, и самые злые языки смолкали перед ее добродетелью. Взволнованный тайным предчувствием, я отправился в залу, где подвизались эти актеры, и увидел, как вы своей игрой снискали единодушные рукоплескания. Девическая застенчивая и робкая повадка, юный серебристый звук голоса — все в вас удивительным образом всколыхнуло мне душу. Но даже глаз отца не способен узнать ребенка, которого не видел с колыбели, в красивой двадцатилетней девушке, да еще при свете рампы, сквозь сказочную призму театра; однако мне казалось, что, случись девице знатного рода по прихоти судьбы очутиться на подмостках, у нее была бы именно такая исполненная достоинства скромность, державшая на расстоянии собратьев по ремеслу, такое благородство манер, при виде которых у всякого является вопрос: «Как она попала сюда?» В той же пьесе роль Педанта играл актер с физиономией пропойцы, как будто мне знакомой. Годы ничуть не изменили его смехотворного уродства, и мне припомнилось, что он уже тогда изображал комических стариков и Панталоне{159} в той труппе, где играла Корнелия. Сам не знаю почему, я мысленно связал вас с этим Педантом, в прошлом товарищем вашей матери. Как ни твердил мне разум, что этому актеру не обязательно было поступить в одну труппу с вами, мне все казалось, что у него в руках та таинственная нить, с помощью которой я разберусь в лабиринте запутанных событий. Поэтому я решил расспросить его, что и не замедлил бы сделать; но когда я послал за ним в гостиницу на улице Дофина, там ответили, что труппа Ирода отправилась дать представление в каком-то замке поблизости от Парижа. Я стал бы спокойно ждать возвращения актеров, если бы один верный слуга, боясь неприятных столкновений, не явился меня предупредить, что герцог де Валломбрез без памяти влюблен в актрису по имени Изабелла, которая решительно противится его домогательствам, и потому он решил похитить ее во время нарочито подстроенного путешествия, для чего отрядил целую команду наемных убийц: такое вопиющее насилие может плохо кончиться, так как девушка окружена друзьями, у которых есть при себе оружие. Это известие в сочетании с догадками относительно вашего происхождения несказанно встревожило меня. Я содрогался при мысли, что любовь преступная грозит превратиться в любовь противоестественную, ибо, если предчувствия мои оправдаются, вы окажетесь родной сестрой Валломбреза. Я узнал, что похитители должны привезти вас в этот замок, и со всей возможной поспешностью направился сюда. Но вы были уже освобождены и честь ваша не потерпела ущерба, а перстень с аметистом подтвердил то, что подсказывал мне голос крови.
— Поверьте мне, — монсеньор и отец мой, — ответила Изабелла, — я никогда вас не осуждала. Я с детства привыкла к жизни странствующей актрисы и легко мирилась с ней, не зная и не желая иной участи. Из того, что было мне известно о людских отношениях, я поняла, что не имею права навязывать себя высокопоставленному семейству, которое не иначе как по веским причинам держит меня в безвестности и забвении. Смутное воспоминание о моем происхождении вселяло в меня гордость, и, видя, как пренебрежительно светские дамы смотрят на актрис, я думала порой: «И я, как они, принадлежу к дворянскому роду». Но дурман гордыни быстро рассеивался, и у меня оставалось лишь незыблемое уважение к самой себе. Ни за что на свете не посмела бы я осквернить чистоту крови, текущей в моих жилах. Мне внушали отвращение распущенные закулисные нравы и посягательства, которым подвергаются актрисы, даже когда они нехороши собой. В театре я вела почти что монастырскую жизнь, ибо при желании везде можно остаться целомудренной. Педант заменял мне отца, а Ирод, не задумываясь, переломал бы кости всякому, кто прикоснулся бы ко мне или оскорбил меня вольными речами. Хоть они и комедианты, но люди в высшей степени порядочные, и я прошу вас проявить к ним участие, если они когда-нибудь окажутся в нужде. Им я в большой мере обязана тем, что могу, не краснея, подставить вам лоб для поцелуя и во всеуслышание назвать себя вашей дочерью. Мне только горько, что я явилась невольной причиной несчастья, постигшего вашего сына, я желала бы войти в вашу семью при более благоприятных обстоятельствах.
Вам не в чем себя упрекнуть, дорогая моя дочь, ведь не могли вы предугадать тайну, раскрытую внезапно при стечении обстоятельств, которое всякий счел бы неправдоподобным, прочитав о нем в книге; и сознание, что вы вернулись ко мне столь же достойной меня, как если бы не подвергались случайностям кочевой жизни и не принадлежали к сословию, где строгие правила не в чести, это сознание дает мне великую радость, искупающую скорбь от тяжелой раны, нанесенной моему сыну. Выживет он или погибнет, винить вас за это я не стану. Как бы то ни было, ваша добродетель оградила его от преступления. Так не будем же больше говорить об этом. Но скажите, среди ваших спасителей кто был тот молодой человек, который, кажется, руководил нападающими и ранил Валломбреза? Конечно, тоже актер, хотя он и поразил меня благородством осанки и незаурядной отвагой.
— Да, отец, он актер, — ответила Изабелла, и щеки ее стыдливо зарделись. — Но, я думаю, мне позволено выдать его тайну, благо она уже известна герцогу, и сказать вам, что под маской фанфарона скрывается человек благородный, а под его театральным прозвищем — капитан Фракасс — скрыто прославленное имя.
— В самом деле, я что-то слышал об этом, — подтвердил принц. — Да и странно было бы, чтобы актер осмелился пойти наперекор герцогу де Валломбрезу и вступить с ним в единоборство. Для такого дерзновенного поступка нужна доблестная кровь. Лишь дворянин может победить дворянина, подобно тому как алмаз режется лишь алмазом.
Родовую гордость принца отчасти утешала мысль, что сын его пострадал не от руки простолюдина. Таким образом, все становилось на свои места. Схватка превращалась в дуэль между людьми одного звания, и повод был вполне уважительным; светские правила не потерпели ни малейшего урона.
— А как зовут этого храброго воителя, бесстрашного рыцаря, защитника угнетенной невинности?
— Барон де Сигоньяк, — чуть дрогнувшим голосом отвечала Изабелла, — я без страха доверяю его имя вашему великодушию. Вы слишком справедливы, чтобы карать его за злосчастную победу, о которой он сам скорбит.
— Сигоньяк, — припомнил принц, — а я полагал этот род угасшим. Не из Гасконии ли он?
— Да, отец, замок его расположен в окрестностях Дакса.
— Так и есть! Он из тех самых Сигоньяков, у которых образный герб: три золотых аиста — два и один — на лазоревом поле. Они принадлежат к старинному дворянству. Паламед де Сигоньяк доблестно отличился в первом крестовом походе. Рэмбо де Сигоньяк, должно быть, отец нынешнего, был большим другом и сподвижником Генриха Четвертого в годы его молодости, но не последовал за ним ко двору, потому что дела его, говорят, совсем расстроились, а в свите беарнца{160} ничего, кроме шишек, заработать было нельзя.
Настолько расстроились, что наша труппа, ища пристанища в дождливую осеннюю ночь, нашла сына барона Рэмбо прозябающим в своей полуразрушенной совиной башне, где попусту увядала его юность; мы вырвали его из этой обители бедствий, чтобы он, затаясь в гордости и тоске, не умер там голодной смертью. Мне никогда не случалось видеть такого мужества перед лицом несчастья.
— Бедности стыдиться нечего, — сказал принц, — и каждый благородный род, не погрешивший против чести, может возвыситься вновь. Почему барон де Сигоньяк в такой беде не обратился к кому-нибудь из старых отцовских товарищей по оружию или даже к самому королю, естественному покровителю всех дворян?
— Горе делает робким любого храбреца, а самолюбие ставит препоны отваге, — ответила Изабелла. — Поехав с нами, барон, как оказалось тщетно, рассчитывал на благоприятный случай, который представится ему в Париже; чтобы не быть нам в тягость, он пожелал заменить нашего товарища, умершего дорогой, и, так как роли этого амплуа играют в маске, он считал, что маска оградит его достоинство.
— Под комическим обличием нетрудно, даже не будучи колдуном, угадать любовную интрижку, — улыбаясь с добродушным лукавством, заметил принц. — Но это не мое дело; я вполне уверен в вашем благонравии, и меня не пугают тайные воздыхания в вашу честь. Да и отцом вашим я стал недостаточно давно, чтобы читать вам наставления.
Слушая эти речи, Изабелла смотрела на принца своими большими голубыми глазами, сиявшими безупречной невинностью и чистосердечием. Румянец, вспыхнувший при имени Сигоньяка на ее прелестном личике, успел погаснуть, и ни тени стыда или смущения не было заметно на нем. Не только отцовский, но и господень взор не узрел бы в ее сердце ничего предосудительного.
В эту минуту ученик мэтра Лорана попросил разрешения войти, он принес хорошие вести о здоровье Валломбреза. Состояние больного было как нельзя более удовлетворительным; после приема микстуры наступил благоприятный перелом, и врач отныне ручался за жизнь молодого герцога. Выздоровление его было теперь вопросом времени.
Через несколько дней Валломбрез, полулежа на двух или трех подушках, одетый в рубашку с воротником из венецианского гипюра, аккуратно причесанный на прямой ряд, принимал у себя в опочивальне своего верного друга, кавалера де Видаленка, с которым до тех пор ему не позволяли видеться. Принц расположился в алькове и с глубокой отеческой радостью созерцал лицо сына, правда, исхудалое и бледное, но безо всяких угрожающих симптомов. Губы его порозовели, и глаза зажглись жизнью. Изабелла стояла у изголовья кровати. Молодой герцог сжимал ее руку тонкими пальцами, белыми до синевы, как бывает у больных, долгое время лишенных воздуха и солнца. Ему не разрешалось много говорить, и он таким способом выражал свою привязанность невольной виновнице его страданий, показывая, что от всего сердца прощает ей. Братское чувство вытеснило в его душе влюбленность, и болезнь, смирив его пыл, немало способствовала этому трудному переходу. Из актрисы странствующей труппы Изабелла действительно превратилась для него в графиню де Линейль. По-дружески кивнув Видаленку, он на миг отпустил руку сестры, чтобы поздороваться с приятелем. Это было все, что на первый раз позволил врач.
Спустя две или три недели Валломбрез, окрепнув от легкой и питательной пищи, мог уже проводить по нескольку часов на кушетке перед распахнутым окном, в которое вливались целительные ароматы весны. Изабелла подолгу сидела возле брата, читая ему вслух, что она делала превосходно, привыкнув по своему прежнему актерскому ремеслу владеть голосом и как требуется менять интонации.
Однажды, когда она закончила главу и собиралась приступить к следующей, прочтя уже ее содержание, Валломбрез знаком попросил отложить книжку и сказал:
— Милая сестра, эти приключения как нельзя более занимательны, и автор их по праву слывет одним из тончайших умов при дворе и в городе; в свете только и разговоров что о его книге, но я, признаюсь, предпочитаю этому чтению вашу беседу. Никогда я не думал, что выиграю так много, потеряв всякую надежду. Быть вашим братом куда приятнее, чем обожателем; насколько вы были суровы к одному, настолько ласковы к другому. В этой мирной привязанности я нашел такое очарование, о котором и не подозревал. Вы открыли передо мной доселе мне неизвестные стороны женской души. Подчиняясь порывам бурной страсти, стремясь к наслаждению, которое сулила мне красота, возмущаясь препятствиями, только распалявшими меня, я был подобен неуемному заколдованному охотнику, не знающему узды; в любимой женщине я видел лишь добычу. Мысль о сопротивлении казалась мне неправдоподобной. При слове «добродетель» я пожимал плечами и могу без фатовства сознаться единственной устоявшей передо мной женщине, что имел основания не верить в добродетель. Мать моя умерла, когда мне минуло всего три года, вы еще не были нам возвращены, и для меня оставалось сокрытым все то чистое, нежное и прекрасное, что заключено в женской душе. Я увидел вас, и меня непреодолимо потянуло к вам, в чем, конечно, сказался голос крови, и впервые уважение примешалось в моей душе к любви. Я приходил в отчаяние от вашего характера и восхищался им. Меня подкупала та скромная и учтивая твердость, с которой вы отстраняли мое искательство; чем решительнее вы меня отталкивали, тем казались мне достойнее моей любви. Гнев и восхищение чередовались в моем сердце, а иногда уживались в нем вместе. Даже в самых безумных порывах страсти я не переставал уважать вас. Я угадывал ангела в облике женщины и невольно подпадал под власть небесной чистоты. Теперь я счастлив, ибо получил то, чего бессознательно искал в вас: прочную неизменную привязанность, свободную от земных пут; я наконец-то обрел родную душу.
— Да, дорогой брат, моя душа принадлежит вам, и я с величайшей радостью говорю вам об этом. Вы приобрели во мне преданную сестру, которая будет любить вас вдвойне, возмещая потерянное время, в особенности же, если вы исполните обещание и умерите огорчающую вашего отца необузданность своей натуры, проявляя лишь самые пленительные ее стороны.
— Что за прелесть эта юная проповедница! — с улыбкой воскликнул Валломбрез. — Признаюсь, я настоящее чудовище, но обещаю исправиться, если не из любви к добродетели, так из страха увидеть после очередной шалости суровую мину моей старшей сестрицы. Однако боюсь, что навсегда останусь образцом безумства, как вы всегда будете образцом рассудительности.
— Если вы не перестанете расточать мне любезности, я опять возьмусь за книжку, — шутливо пригрозила Изабелла, — и вам придется прослушать нескончаемую историю, которую начал рассказывать в каюте своей галеры берберийский корсар пленной принцессе Аменаиде, красавице из красавиц, сидящей на подушке золотой парчи.
— Такого жестокого наказания я не заслужил. Рискуя прослыть болтуном, я имею намерение поговорить еще: слишком долго проклятый медик не снимал печати молчания с моих губ, уподобив меня статуе Гарпократа{161}!
— Смотрите не утомляйтесь! Рана ваша едва затянулась. Мэтр Лоран настойчиво советовал мне читать вам вслух, чтобы, слушая, вы поменьше утруждали грудь.
— Мэтр Лоран сам не знает, что говорит; ему хочется как можно дольше играть главную роль. Мои легкие не хуже, чем прежде, вдыхают и выдыхают воздух. Я чувствую себя превосходно и только мечтаю о верховой прогулке по лесу.
— Тогда уж лучше давайте разговаривать, это, во всяком случае, безопаснее!
— Вскорости я совсем поправлюсь и не премину ввести вас в общество, к которому вы, сестричка, принадлежите по праву и где вашей совершенной красотой не замедлите привлечь к своим стопам целый сонм обожателей, из числа коих графиня де Линейль, без сомнения, выберет себе супруга.
— У меня нет никакого желания выходить замуж, и, поверьте мне, это вовсе не обычное жеманство молодой девицы, которая была бы очень недовольна, если бы ее поймали на слове. Мне столько раз приходилось отдавать свою руку в конце пьесы, что в действительной жизни я совсем не спешу с этим. Моя задушевная мечта — остаться подле принца и подле вас.
— Привязанность к отцу и брату не может заполнить даже самое отрешенное от мира сердце.
— И тем не менее ее достанет, чтобы заполнить мое сердце, а если оно когда-нибудь осиротеет, я уйду в монастырь.
— Ну, это уж было бы чрезмерным благочестием. Разве кавалер де Видаленк не обладает, по-вашему, всеми качествами образцового мужа?
— Спору нет. Женщина, которую он изберет в супруги, может почитать себя счастливой, но какими бы достоинствами ни был наделен ваш друг, я, дорогой мой Валломбрез, никогда не буду этой женщиной.
Правда, кавалер де Видаленк немного рыжеват, а вы, может статься, разделяете вкус короля нашего Людовика Тринадцатого, который не любит этого цвета, однако же высоко ценимого живописцами. Но оставим Видаленка. А каков, на ваш взгляд, маркиз де л'Этан, который приходил на днях меня проведать и в течение всего визита не сводил с вас глаз? Он настолько был восхищен вашей грацией и ослеплен вашей несравненной красотой, что не находил слов для комплиментов и лепетал какой-то вздор. Если не считать этой робости, которая должна найти извинение в ваших глазах, ибо вы же явились ее причиной, во всем прочем это отменный кавалер. Он красив, молод, он наследник знатного имени и большого состояния. Словом, подходит вам по всем статьям.
— С тех пор как я имею честь принадлежать к вашему прославленному роду, чрезмерное смирение мне не к лицу, — возразила Изабелла, начав раздражаться этой болтовней. — Поэтому не стану говорить, что считаю себя недостойной такого союза; но если бы маркиз де л'Этан попросил у отца моей руки, я отказала бы ему. Ведь я говорила вам, дорогой брат, что не хочу выходить замуж, и вы сами это знаете и все-таки продолжаете меня мучить.
— Ох! Как же вы суровы в своем целомудрии, сестрица! Сама Диана не была неприступнее в лесах и долинах Гемуса{162}. Кстати, если верить мифологическим сплетням, сеньору Эндимиону удалось смягчить ее нрав. Вы сердитесь потому, что я в разговоре называю несколько вполне приличных партий; если они вам не по душе, мы подыщем для вас других претендентов.
— Я совсем не сержусь, милый брат, но вы положительно слишком много разговариваете для больного, я пожалуюсь на вас мэтру Лорану, и вам к ужину не дадут куриного крылышка.
— Если так, я умолкаю, — покорно сказал Валломбрез, — но будьте уверены, что жениха вы получите не иначе как из моих рук.
Чтобы отомстить брату за упорное поддразнивание, Изабелла принялась читать историю берберийского корсара, звонкими переливами голоса заглушая Валломбреза.
— «Мой отец, герцог де Фоссомброн, с матерью моей, одной из красивейших женщин, если не первой красавицей в герцогстве Генуэзском, прогуливался по берегу Средиземного моря, куда вела лестница от великолепной виллы, где он обитал в летнее время, когда алжирские пираты, прятавшиеся среди скал, накинулись на него, численностью своей осилили его отчаянное сопротивление и, бросив его замертво на месте, унесли герцогиню, в ту пору беременную мною, невзирая на ее крики, в свою лодку, которая под сильными ударами весел стремительно понеслась к капитанской галере, укрытой в бухте. Когда мать мою привели к правителю, она ему понравилась и стала его наложницей…»
Чтобы парализовать хитрость Изабеллы, Валломбрез на этом душещипательном месте закрыл глаза и притворился спящим. Притворный сон вскоре превратился в настоящий, и девушка, увидев, что брат заснул, на цыпочках удалилась.
Но эта беседа, в которую герцог явно вкладывал какой-то лукавый умысел, невольно беспокоила Изабеллу. Может быть, Валломбрез затаил злобу на Сигоньяка, и хотя не упоминал его имени с самого нападения на замок, однако стремился возвести непреодолимую преграду между бароном и своей сестрой, выдав ее замуж за другого? Или просто хотел выведать, изменились ли чувства актрисы, сделавшейся графиней? Изабелла тщетно искала ответа на эти два вопроса, которые попеременно задавала себе. Раз она оказалась сестрой Валломбреза, соперничество между ним и Сигоньяком отпадало само собой; а с другой стороны, трудно было поверить, чтобы столь гордая, надменная и мстительная натура могла забыть позор одного поражения, а второго тем паче. Хотя ситуация стала иной, Валломбрез в душе, несомненно, продолжал ненавидеть Сигоньяка. Если у него достало душевного благородства, чтобы простить оскорбление, то уж такого великодушия, чтобы полюбить обидчика и допустить в свою семью, от него требовать нельзя. Никакой надежды на примирение быть не могло. Да и принца вряд ли обрадует встреча с человеком, который едва не пресек жизнь его сына. Эти мысли повергали Изабеллу в печаль, от которой она безуспешно старалась избавиться. Пока она считала, что ремесло актрисы создает преграду к преуспеянию Сигоньяка, она гнала от себя мысль о браке с ним; теперь же, когда неожиданный поворот судьбы одарил ее всеми мыслимыми благами, ей страстно захотелось отдать свою руку этому благородному человеку в награду за намерение взять в жены бедную и презренную комедиантку. Ей представлялось нечестным не разделить своего благополучия с тем, кто делил с ней нищету. Но единственное, что было ей доступно, это хранить ему неизменную верность, ибо просить за него ни принца, ни Валломбреза она не решалась.
Вскоре молодой герцог настолько окреп, что мог обедать за столом вместе с отцом и сестрой; во время трапез он проявлял почтительнейшее внимание к принцу и чуткую, заботливую нежность к Изабелле, показывая кстати, что при всем своем внешнем легкомыслии обладает гораздо более просвещенным умом, нежели можно было ожидать в молодом человеке, приверженном женщинам, дуэлям и всякого рода излишествам. Изабелла ненавязчиво вмешивалась в такого рода беседы, и те немногие замечания, которые она вставляла, были всегда справедливы, точны и метки, и принц не уставал ими восторгаться, тем более что девушка с безупречным тактом избегала жеманничания и педантства.
Когда Валломбрез окончательно поправился, он предложил сестре проехаться верхом по парку, и молодые люди шагом поехали по длинной аллее, где вековые деревья сходились сводом, образуя непроницаемую защиту от солнечных лучей. К герцогу вернулась прежняя красота, Изабелла была прелестна и трудно вообразить, чтобы более пленительная чета когда-либо бок о бок прогуливалась верхом. Но только у молодого человека лицо было веселое, а у молодой девушки — печальное. Иногда шутки Валломбреза вызывали у нее слабую улыбку, которую тотчас сменяла меланхолическая задумчивость; но брат, казалось, не замечал ее грусти, изощряясь в острословии.
— Ах, как хорошо жить на свете! — восклицал он. — Люди и не подозревают, какое наслаждение — попросту дышать! Никогда еще деревья не казались мне такими зелеными, небо таким голубым, цветы такими душистыми. Право же, я будто вчера народился на свет и впервые созерцаю творение божие. Как подумаю, что я мог бы лежать сейчас под мраморной плитой, а вместо этого катаюсь верхом с дорогой моей сестричкой, я прямо не вспомнюсь от счастья! Рана больше не беспокоит меня, и, по-моему, мы можем позволить себе вернуться домой легким галопом, а то принц уже стосковался, дожидаясь нас.
Не слушая возражений опасливой Изабеллы, Валломбрез стиснул бока своему коню, и оба поскакали довольно резвым галопом. У крыльца, помогая сестре сойти с лошади, молодой герцог сказал:
— Теперь я стал совсем молодцом, и, надеюсь, мне разрешат совершить путешествие без провожатых!
— Как! Не успев выздороветь, вы уже намерены покинуть нас? Какой же вы недобрый!
— Да, мне необходимо отлучиться на несколько дней, — как бы вскользь заметил Валломбрез.
И в самом деле, на следующий день, попрощавшись с принцем, который не возражал против его отъезда, он отправился в путь, сказав Изабелле загадочным тоном:
— До свидания, сестричка! Вы останетесь мною довольны!
XIX ЛОПУХ И ПАУТИНА
Сигоньяк решил последовать мудрому совету Ирода; кстати, с тех пор как Изабелла из актрисы стала знатной дамой, ничто больше не привязывало его к труппе. Ему следовало на некоторое время исчезнуть, постараться, чтобы о нем забыли, пока не изгладится недоброе воспоминание о гибели Валломбреза, в которой почти не приходилось сомневаться. Итак, не без грусти распрощавшись с актерами, которые показали себя по отношению к нему добрыми товарищами, Сигоньяк покинул Париж верхом на крепкой лошадке, увозя порядочное количество пистолей — свою долю от театральных сборов. Он не спеша, короткими перегонами, направлялся в свой обветшалый замок, — известно, что после грозы птенец всегда возвращается в родное гнездо, будь оно хоть из хворостинок или прелой соломы. Это было единственное пристанище, где он мог укрыться, и в своем отчаянии он с горькой радостью думал о возвращении в убогое жилище предков, откуда ему, пожалуй, и не следовало уезжать. В самом деле, благополучия у него не прибавилось, а последнее приключение могло ему только повредить. «Ну что ж, — мысленно твердил он себе дорогой, — мне было суждено умереть от голода и тоски меж этих растрескавшихся стен, под крышей, сквозь которую дождь льет, как сквозь решето. Никому не дано уйти от уготованной ему участи, и я покорюсь своей — я буду последним из Сигоньяков».
Не стоит описывать во всех подробностях его путешествие, которое длилось около трех недель и не было скрашено ни единой занимательной встречей. Вполне достаточно сказать, что однажды вечером Сигоньяк увидел вдалеке башенки своего замка, озаренные закатом и ярким пятном выступавшие на фиолетовом фоне горизонта. В силу светового эффекта они представлялись ближе, чем были на самом деле, и солнце ослепительно сверкало в стеклах одного из немногих целых окон фасада. Казалось, это горит гигантский рубин.
Барона до крайности растрогало знакомое зрелище; конечно, он немало настрадался в своем обветшалом жилище, и все же при виде его испытывал то же волнение, какое вызывает встреча с другом, чьи недостатки забылись в разлуке. Здесь протекла его жизнь, в нужде, в безвестности, в одиночестве, но не без затаенных радостей, ибо юность не может быть вполне несчастлива и даже самая безотрадная утешается грезами и надеждами. Привычная скорбь приобретает в конце концов своеобразное очарование, и бывают такие горести, о которых сожалеешь больше, чем о радостях.
Сигоньяк пришпорил лошадь, чтобы добраться домой до темноты. Солнце садилось, и над бурой полоской ланд, протянувшейся по небосводу, виднелся лишь узкий выгнутый край его диска; красный свет угас в окне, и весь замок стал теперь сероватым пятном, которое почти сливалось с сумраком; но Сигоньяк хорошо знал дорогу и вскоре свернул на тропу, изъезженную прежде, а теперь пустынную и ведущую прямо к дому. Разросшиеся ветки изгороди хлестали его по ботфортам, а пугливые лягушки спасались от лошадиных копыт в росистую траву; в глубокой сельской тишине послышался отдаленный лай, как будто пес, от скуки, сам для себя, выслеживает зверя. Сигоньяк остановил лошадь и прислушался. Ему показалось, что он узнает хриплый голос Миро. Лай приближался и вскоре превратился в радостное тявканье, прерывистое от быстрого бега: Миро учуял хозяина и мчался ему навстречу со всей скоростью, доступной его старческим лапам. Барон свистнул на особый лад, и спустя несколько мгновений старый верный пес выскочил из дыры в изгороди, завывая, всхлипывая и вскрикивая почти по-человечьи. Совсем запыхавшись и задыхаясь, он все же прыгал до самого носа лошади и силился вскочить на седло, чтобы добраться до хозяина, словом, выражал необузданную радость всеми способами, какие только доступны собачьей породе. Даже Аргус, увидев Улисса у Эвмея, не радовался больше, чем Миро{163}.
Сигоньяк наклонился и потрепал рукой голову обезумевшего от восторга пса. Удовлетворенный этой лаской, Миро как стрела помчался назад, чтобы сообщить радостную весть обитателям замка, иначе говоря, Пьеру, Баярду и Вельзевулу, и принялся неистово лаять и скакать перед старым слугой, сидевшим на кухне; тот сразу догадался, что происходит нечто необычайное. «Уж не вернулся ли наш молодой хозяин?» — подумал Пьер и, поднявшись, пошел вслед за Миро, который тянул его за полу полукафтанья. Так как уже совсем стемнело, Пьер зажег об огонь очага, где варился его скудный ужин, просмоленную лучину, дымное пламя которой осветило на повороте дороги Сигоньяка и его лошадь.
— Так это вы, господин барон! — при виде хозяина радостно закричал преданный слуга. — Миро уже оповестил меня на своем честном собачьем языке. Будучи так здесь одиноки, мы, люди и звери, живя вместе и говоря только между собой, начинаем понимать друг друга. Однако, не получив от вас предуведомления, я боялся обмануться. Жданный или нежданный, вы дорогой гость в своих владениях, и мы постараемся как следует отпраздновать ваше прибытие!
— Да, это я, мой добрый Пьер. Миро тебе не солгал; это я, хоть и не ставший ни на йоту богаче, зато целый и невредимый. Ну, посвети мне, и отправимся в дом.
Пьер не без труда раскрыл створки старых ворот, и барон де Сигоньяк проехал под свод портала, озаренного причудливыми отблесками факела. При этом свете три аиста, изваянные на гербе, как будто ожили и затрепетали крыльями, словно приветствуя возвращение последнего отпрыска того рода, символом которого служили в течение стольких веков. Из конюшни послышалось протяжное ржание, похожее на трубный звук. Баярд, почувствовав близость хозяина, извлек из своих астматических легких эту оглушительную фанфару.
— Да, да, я слышу тебя, мой верный Баярд! — соскакивая с лошади и отдавая поводья Пьеру, крикнул Сигоньяк. — Сейчас я приду поздороваться с тобой.
И он направился в конюшню, но по дороге чуть не споткнулся о какой-то черный клубок, который подкатился ему под ноги, мяукая, мурлыча и выгибая спину. Это был Вельзевул, который выражал радость на свой кошачий лад, пользуясь всеми средствами, отпущенными ему на то природой; Сигоньяк взял его на руки и поднес к своему лицу. Кот был на вершине блаженства; в его круглых глазах вспыхивали фосфорические искры, лапки нервно подергивались, то выпуская, то вбирая когти; урчал он так, что захлебывался от усердия, и самозабвенно тыкался черным, шершавым, как трюфель, носом в усы Сигоньяка. Барон не гнушался такими проявлениями привязанности своих смиренных друзей и, приласкав Вельзевула, бережно спустил кота на землю, после чего наступила очередь Баярда, которого он похлопал по шее и по крупу. Славное животное прикладывалось головой к плечу хозяина, било копытом землю и задними ногами пыталось изобразить бойкий курбет. Лошадку, на которой приехал Сигоньяк, Баярд принял очень вежливо, будучи уверен в привязанности хозяина, а может, и радуясь возможности завести знакомство с себе подобным, чего не случалось давным-давно.
— Ответив на приветствия моих четвероногих друзей, я не прочь наведаться на кухню и посмотреть, что у тебя водится в кладовке, — обратился барон к Пьеру. — Я плохо позавтракал нынче утром, а пообедать вовсе не успел, потому что спешил засветло добраться до дому. В Париже я поотвык от воздержания и охотно подкреплюсь любыми объедками.
— У меня для вашей милости найдется немного студня, ломтик сала и козьего сыра. После того как вы отведали барской кухни, вам, может, не понравится эта грубая деревенская еда. Она, правда, невкусна, но хоть не дает умереть с голоду.
— Это все, что можно требовать от пищи, — ответил Сигоньяк, — и напрасно ты полагаешь, что я не ценю тех простых кушаний, которые питали мою юность, придав мне здоровья, живости и крепости. Ставь на стол твой студень, сало и сыр с тем же гордым видом, с каким метрдотель сервирует на золотом блюде павлина, распустившего хвост.
Успокоившись насчет своих припасов, Пьер поспешно накрыл суровой, но опрятной скатертью кухонный стол, за которым обычно поглощал свою скудную еду Сигоньяк; по одну сторону поставил чарку, по другую — симметрично к куску студня — глиняный кувшин с кислым винцом, а сам застыл за спиной хозяина, точно дворецкий, прислуживающий принцу. Согласно с принятым издавна церемониалом, Миро, сидя справа, а Вельзевул, пристроившись слева, как зачарованные, взирали на барона де Сигоньяка и следили за тем, как рука его путешествует от тарелки ко рту и ото рта к тарелке, в чаянии, что на долю каждого из них тоже перепадет кусочек.
Забавную картинку освещала просмоленная лучина, которую Пьер насадил на железный колышек под колпаком очага, дабы дым не расходился по кухне. Это было настолько точное повторение сцены, описанной в начале нашего повествования, что барону, пораженному таким тождеством, начинало казаться, будто он никогда и не покидал замка, а все остальное ему только пригрезилось.
Время, которое так быстро бежало в Париже и так было насыщено событиями, в замке Сигоньяк словно остановилось. Сонным часам лень было перевернуть склянку, где пыль заменяла песок. Ничто не стронулось с места. Пауки по-прежнему дремали по углам в своих серых гамаках, ожидая маловероятного появления случайной мухи. Некоторые из них, отчаявшись, перестали починять паутину, оттого что в утробе у них истощились запасы материала для пряжи; на белесом пепле очага, над головешкой, по всей видимости, успевшей догореть еще до отъезда барона, курился жидкий дымок, словно из гаснущей трубки; только лопух и крапива разрослись на дворе, да трава, обрамлявшая плиты, стала выше; ветка дерева, прежде едва доходившая до кухонного окна, теперь просовывала покрытый листвой побег в просвет разбитых стекол. Это была единственная перемена.
И Сигоньяк, против воли, сразу втянулся в привычный обиход. Былые мысли нахлынули на него; он то и дело погружался в молчаливое раздумье, которое остерегался тревожить Пьер, а Миро с Вельзевулом не смели нарушить непрошеными ласками. Все события недавнего прошлого представлялись ему приключениями, прочитанными в книге и случайно застрявшими в памяти. Капитан Фракасс маячил вдалеке туманной фигурой, бледным призраком, им самим порожденным и навсегда отторгнутым от него. Поединок с Валломбрезом рисовался ему в виде каких-то несуразных телодвижений, к которым воля его была непричастна. Ни один из поступков, совершенных им за это время, казалось, не исходил от него, и возвращение в замок окончательно порвало нити, связывавшие их с его жизнью. Не испарилась только любовь к Изабелле, она жила в его сердце, но скорее как отвлеченная мечта, а не полнокровная страсть: ведь та, что внушила ее, отныне была для него недоступна. Он понял, что колесо его жизни, устремившееся было по новому пути, скатилось в прежнюю роковую колею, и тупая покорность овладела им. Он упрекал себя лишь в том, что на миг поддался светлым упованиям. Почему, черт возьми, несчастливцы во что бы то ни стало хотят добиться счастья? Какая нелепость!
Однако он постарался стряхнуть с себя гнет безнадежности и, видя, что в глазах Пьера то и дело вспыхивает робкий вопрос, вкратце изложил преданному слуге те основные факты, которые могли его заинтересовать в этой истории; слушая, как его питомец дважды дрался с Валломбрезом, старик весь сиял от гордости, что воспитал такого фехтовальщика, и повторял перед стеной те удары, которые описывал ему Сигоньяк, только вместо шпаги орудовал палкой.
— Увы! Ты, добрый мой Пьер, слишком хорошо преподал мне все секреты мастерства, которым ты владеешь, как никто, — со вздохом заключил барон. — Моя победа погубила меня, надолго, если не навсегда, заточив в этом убогом и печальном жилище. Таков уж мой особый удел — успех меня сокрушает и, вместо того чтобы поправить мои дела, окончательно их расстраивает. Лучше бы я был ранен или даже убит в этом злополучном поединке.
— Сигоньяки не могут потерпеть поражение, — наставительно заметил старый слуга. — Что бы там ни было, а я рад, что вы убили этого самого Валломбреза. Вы, конечно, действовали по всем правилам, а больше ничего и не надобно. Что может возразить человек, который, обороняясь, умирает от искусного удара шпагой?
— Разумеется, ничего, — ответил Сигоньяк, невольно улыбаясь дуэлянтской философии старого учителя фехтования. — Однако я порядком устал. Зажги светильник и проводи меня в спальню.
Пьер повиновался. Предшествуемый слугой и сопутствуемый котом и псом, барон медленно поднялся по старой лестнице с выцветшими фресками. Атланты, один бледнее другого, старались удержать ложный карниз, грозивший раздавить их своей тяжестью. Они из последних сил напрягали дряблые мускулы, но, несмотря на их усилия, несколько кусков штукатурки все же отвалилось от стены. У римских императоров был не менее плачевный вид, и, как они ни пыжились в своих нишах, выставляя себя триумфаторами, у кого не хватало венца, у кого скипетра, у кого пурпура. Нарисованный на своде трельяж провалился во многих местах, и зимние дожди, просачиваясь сквозь трещины, нанесли новые Америки рядом со старыми континентами и ранее начерченными островами.
Следы обветшания, не трогавшие Сигоньяка до отъезда из усадьбы, теперь, когда он подымался по лестнице, поразили его и повергли в глубокую тоску. В этом разорении он видел неотвратимый, как судьба, упадок своего рода и мысленно твердил себе: «Если бы этот свод питал хоть каплю жалости к семье, которой он доселе служил кровом, он бы рухнул и похоронил меня под своими обломками!» Подойдя к двери в жилые комнаты, барон взял светильник из рук Пьера и, поблагодарив, отослал старого слугу, не желая, чтобы тот заметил состояние его духа. Медленно прошел Сигоньяк через первую залу, где несколько месяцев тому назад ужинали комедианты. Воспоминание об этом веселом пиршестве делало ее еще мрачнее. Потревоженная на миг тишина вновь — и теперь уже навсегда — воцарилась там, еще более зловещая, властная и неумолимая. Когда крыса, точа зубы, грызла что-нибудь, эхо отзывалось в этом склепе таинственным гулом. Портреты, облокотившиеся на свои тусклые золоченые рамы, как на перила балкона, при тусклом огоньке свечи принимали устрашающий вид. Казалось, они хотят выскочить из темного фона, чтобы приветствовать своего незадачливого отпрыска. Призрачное бытие оживляло эти старинные изображения: нарисованные губы шевелились, шепча слова, внятные не слуху, а душе; глаза скорбно воздевались к потолку, а по лакированным щекам сочилась сырость, собираясь в крупные капли, блестевшие на свету, как слезы. Без сомнения, души предков блуждали вокруг портретов, изображавших телесную оболочку, некогда одушевленную ими, и Сигоньяк ощущал их незримое присутствие в этой полумгле, наводящей жуть. На лицах всех портретов — и тех, что в кирасах, и тех, что в фижмах, — было написано безнадежное уныние. Лишь один из них, самый последний, портрет матери Сигоньяка, как будто улыбался. Свет падал прямо на него, и то ли свежесть красок и кисть искусного мастера создавали такое впечатление, то ли душа умершей в самом деле на миг оживила полотно, — так или иначе, лицо на портрете выражало радость, исполненную любви и надежды, чему Сигоньяк удивился и счел это за хорошее предзнаменование, ибо раньше ему казалось, что на лице матери написана грусть.
Войдя наконец к себе в спальню, Сигоньяк поставил свечу на стол, где остался брошенный томик Ронсара, которого он читал, когда актеры за полночь постучались в двери замка. Листок бумаги, испещренный пометками, — черновик недописанного сонета, — лежал на прежнем месте. Неоправленная постель хранила отпечатки тех, кто ночевал здесь последними. Тут спала Изабелла. Ее очаровательная головка покоилась на этой вот подушке, поверенной стольких грез!
При этой мысли сердце Сигоньяка томительно сжалось от сладостной муки, если позволительно сочетать от природы столь враждебные друг другу слова. Воображению его живо представились прелести милой девушки; как ни твердил ему докучный заунывный голос разума, что Изабелла навсегда для него потеряна, властью любовных чар ее чистое, прекрасное личико будто въявь выглядывало из-за приоткрытого полога, как лицо целомудренной супруги, ожидающей возвращения супруга.
Чтобы не испытывать свое мужество подобными видениями, он разделся и лег, поцеловав то место, где спала Изабелла; но, как ни был он утомлен, сон медлил сойти к нему, и глаза его больше часа блуждали по запущенной комнате, то следя за причудливым отблеском луны на тусклых оконных стеклах, то бессознательно вперясь в охотника на чирков среди леса синих и желтых деревьев на старинных шпалерах.
Если хозяин бодрствовал, то кот спал крепчайшим сном, свернувшись клубком в ногах Сигоньяка; Вельзевул храпел не хуже Магометова кота на рукаве пророка. Безмятежный покой животного передался в конце концов человеку, и молодой барон перенесся в царство грез.
Обветшание замка при утреннем свете поразило Сигоньяка еще сильнее, чем накануне: день не знает сострадания к старости и упадку; он беспощадно обнажает убожество, морщины, трещины, пятна, поблекшие краски, пыль и плесень. Милосердная ночь все смягчает своими благими тенями и краем своего покрова отирает слезы вещей. Комнаты, раньше такие просторные, теперь оказались совсем маленькими, и барон только удивлялся, почему у него в памяти они остались очень большими; но вскоре он свыкся с масштабами своего замка и с прежней жизнью, точно надел старое платье, на время сброшенное ради нового; ему было вольготно в этой обжитой одежде с ее привычными складками. Вот как распределялся его день: утром, после краткой молитвы в полуразрушенной часовне, где покоились его предки, вырвав сорную траву из трещины в чьей-то надгробной плите, наспех проглотив свой скудный завтрак и поупражнявшись с Пьером в фехтовании, он долго рыскал верхом на Баярде или на новой лошадке, а потом, молчаливый и мрачный, как прежде, возвращался домой, ужинал в обществе Вельзевула и Миро, ложился спать, перелистав, чтобы уснуть, сотни раз читанный разрозненный том из библиотеки замка, которую усердно опустошали изголодавшиеся крысы. Отсюда явствует, что блистательный капитан Фракасс, бесстрашный соперник Валломбреза, канул в вечность; наш барон стал прежним Сигоньяком, хозяином обители горести.
Однажды он спустился в сад, куда водил гулять двух молодых актрис. Здесь еще виднее стало запустение и отсутствие ухода, еще гуще разрослись сорные травы; тем не менее шиповник, на котором нашелся тогда цветок для Изабеллы и бутон для Серафины, чтобы дамы не вышли из цветника с пустыми руками, на сей раз тоже не захотел посрамить себя.
На той же ветке красовались два прелестных розана, распустившиеся с зарей и еще хранившие на дне чашечек жемчужинки росы. Их вид до крайности умилил Сигоньяка, всколыхнув в нем милые сердцу воспоминания. Ему припомнились слова Изабеллы: «Во время той прогулки по саду, когда вы раздвигали передо мной ветки кустов, вы сорвали для меня дикую розу — единственный подарок, который могли мне сделать. Я уронила на нее слезу, прежде чем спрятать ее за корсаж, и в этот миг молча отдала вам взамен розы свою душу».
Он сорвал розу, с упоением вдохнул ее аромат и страстно прильнул губами к ее лепесткам, словно это были уста возлюбленной, столь же нежные, алые и душистые. После разлуки с Изабеллой он не переставая думал о ней и понимал, что без нее для него нет жизни. Первые дни он был ошеломлен всем скопищем свалившихся на него событий, огорошен крутыми поворотами своей судьбы, невольно отвлечен дорожными впечатлениями и потому не мог дать себе отчет в истинном состоянии своей души. Но когда он вновь погрузился в одиночество, праздность и безмолвие, каждая мысль, каждая мечта приводили его к Изабелле. Она наполняла его ум и сердце. Даже образ Иоланты испарился, как легкий дым. Он даже не задавался вопросом, любил ли он когда-нибудь эту надменную красавицу: он просто не вспоминал о ней. «И все-таки Изабелла любит меня», — твердил он себе, в сотый раз перебрав все препятствия, стоявшие на пути к его счастью.
Так прошло два-три месяца. Однажды, когда Сигоньяк, сидя у себя в комнате, подыскивал заключительную строку к сонету во славу любимой, явился Пьер доложить своему господину, что какой-то кавалер желает его видеть.
— Какой-то кавалер желает видеть меня! — воскликнул Сигоньяк. — Либо ты грезишь, либо он попал сюда по ошибке! Никому на свете нет до меня дела. Но ради столь редкого случая, так и быть, проси сюда этого чудака. Кстати, как его зовут?
Он не пожелал назваться. Он говорит, что имя его ничего вам не скажет, — отвечал Пьер, распахивая двери. На пороге показался красивый юноша в изящном коричневом костюме для верховой езды с зеленым аграмантом, в серых фетровых ботфортах с серебряными шпорами; широкополую шляпу с длинным зеленым пером он держал в руке, что позволяло ясно разглядеть на свету тонкие, правильные черты его горделивого лица, античной красоте которых позавидовала бы любая женщина.
Появление этого совершеннейшего из кавалеров, по-видимому, не слишком обрадовало Сигоньяка, — он побледнел, бросился за висевшей в ногах кровати шпагой, выхватил ее из ножен и встал в позицию.
— Черт подери! Я думал, что окончательно убил вас, герцог! Кто это передо мной — вы или ваша тень?
— Я сам, Аннибал де Валломбрез, во плоти и притом живей живого, — ответствовал молодой герцог, — но вложите поскорей шпагу в ножны. Мы уже дрались дважды. Этого предостаточно. Пословица гласит, что повторенное дважды нам мило, а на третий раз постыло. Я приехал к вам не как враг. Если я и докучал вам кое в чем, вы с лихвой отплатили мне. Следовательно, мы квиты. В доказательство того, что приехал я с добрыми намерениями, извольте получить подписанный королем указ, по которому вам дается полк. Мой отец и я привели на память его величеству преданность Сигоньяков его августейшим предкам. Я захотел самолично доставить вам эту приятную весть: итак, я ваш гость, а потому прикажите свернуть шею кому угодно, насадите на вертел кого хотите, только, бога ради, дайте мне поесть. Харчевни по дороге к вам из рук вон плохи, а мои повозки со съестными припасами застряли в песках на порядочном расстоянии отсюда.
— Боюсь, как бы вы не сосчитали мой обед за месть, — ответил Сигоньяк с шутливой предупредительностью, — сделайте милость, не приписывайте злопамятству убогую трапезу, которой вам придется удовольствоваться. Ваш открытый и прямодушный образ действий до самого сердца растрогал меня. Отныне у вас не будет друга преданней, чем я. Пусть вам и не требуется моя помощь, знайте, я всецело к вашим услугам. А ну-ка, Пьер! Разыщи где хочешь кур, яиц, мяса и постарайся как можно лучше накормить этого сеньора, который умирает от голода, что ему не в привычку, как нам с тобой.
Пьер сунул в карман несколько пистолей из присланных хозяином, которых он еще не трогал, оседлал новую лошадку и поскакал во весь дух до ближайшей деревни, рассчитывая запастись там провизией. Ему удалось раздобыть несколько цыплят, окорок ветчины и оплетенную соломой бутыль старого вина, а местного кюре он не без труда уговорил уступить паштет из утиных печенок — лакомство, достойное украсить стол епископа или владетельного князя.
Через час он вернулся, доверив вращать вертел худосочной долговязой оборванной девке, которую встретил на дороге и послал в замок, а сам тем временем накрыл на стол в портретной зале, выбрав среди посуды наименее надбитую и треснувшую — о серебре и речи не могло быть, последнее обратили в деньги давным-давно. Покончив с этим, он явился доложить, что «кушанье подано».
Валломбрез и Сигоньяк уселись друг против друга, взяв два не слишком шатких стула из шести, и молодой герцог, которого развлекала столь непривычная обстановка, принялся с забавной прожорливостью поглощать еле-еле добытую Пьером еду. Его великолепные белые зубы разделались с целым цыпленком, правда, погибшим, судя по виду, от истощения, весело вонзились в розовый ломоть байоннской ветчины и, как говорится, поработали на совесть. Утиные печенки он объявил нежнейшей, превосходнейшей пищей богов, а козий сырок, проросший пятнами и прожилками плесени, по его словам, отлично подхлестывал жажду. Похвалил он и вино, в самом деле старое и выдержанное, отливавшее пурпуром в антикварных венецианских бокалах. Он до того развеселился, что один раз чуть не прыснул со смеху при виде испуга, изобразившегося на лице Пьера, когда Сигоньяк назвал своего гостя герцогом де Валломбрезом, следовательно, ожившим покойником. В меру сил поддерживая беседу, Сигоньяк втайне не переставал дивиться, что у него за столом непринужденно сидит этот вылощенный и надменный вельможа, недавний его соперник в любви, дважды побежденный им на дуэли и неоднократно делавший попытки убрать его с помощью наемных убийц.
Валломбрез без слов понял его недоумение, и когда старый слуга удалился, поставив на стол бутылку доброго винца и две рюмки поменьше, чтобы лучше было смаковать драгоценную влагу, молодой герцог, подкрутив свои шелковистые усы, с дружеской откровенностью сказал барону:
— Несмотря на всю вашу учтивость, я вижу, что визит мой кажется вам, дорогой Сигоньяк, несколько странным и неожиданным. Вы недоумеваете: «Каким образом этот высокомерный, заносчивый и дерзкий Валломбрез из тигра превратился в кроткого ягненка, которого любая пастушка может водить на ленточке?» За те полтора месяца, что я лежал прикованный к постели, мне захотелось подвести итоги, которые напрашиваются у самого мужественного человека перед лицом вечности, хотя смерть — ничто для нас, дворян, расточающих свою жизнь с беспечностью, недоступной мещанину. Я понял, сколь суетны многие мои стремления, и дал себе слово вести себя иначе, если мне удастся выкарабкаться. Любовь моя к Изабелле превратилась в чистую и непорочную привязанность, а следственно, у меня не стало причин ненавидеть вас. Вы перестали быть моим соперником. Брат не может ревновать сестру; я оценил ваше благоговейное чувство к ней, которому вы ни разу не изменили, хотя тогдашнее ее положение допускало всяческие вольности. Вы первый угадали благородную душу под оболочкой актрисы. Будучи бедным, вы предложили презренной комедиантке величайшее богатство, каким обладает дворянин, — имя своих предков. Значит, став знатной и богатой, она по праву принадлежит вам. Возлюбленный Изабеллы должен сделаться супругом графини де Линейль.
— Однако же она упорно отвергала меня, когда могла верить в полное мое бескорыстие, — возразил Сигоньяк.
— В своей безграничной деликатности, в ангельском смирении самоотверженной души она боялась стать вам преградой на пути к преуспеянию и благополучию. Но, после того как отец мой признал ее дочерью, создалось обратное положение.
— Да, теперь я не достоин ее высокого сана. А смею ли я быть менее великодушен, чем она?
— По-прежнему ли вы любите мою сестру? — торжественным тоном спросил герцог де Валломбрез. — Как брат ее я имею право задать вам этот вопрос.
— Всем сердцем, всей душой, всей кровью моей люблю, — отвечал Сигоньяк, — люблю так, как ни один мужчина не любил ни одной женщины на земле, где нет ничего совершенного, кроме Изабеллы.
В таком случае, господин капитан мушкетеров и вскорости губернатор провинции, прикажите оседлать себе лошадь, и поедемте со мной в замок Валломбрез, где я по всей форме представлю вас принцу, моему отцу, и сестре моей — графине де Линейль. Ее руки домогались кавалер де Видаленк и маркиз де л'Этан — оба, смею вас уверить, весьма любезные молодые люди. Изабелла им отказала, но, я думаю, она без долгих препирательств отдаст свою руку барону де Сигоньяку.
На следующий день герцог и барон бок о бок скакали по дороге в Париж.
XX ЛЮБОВНОЕ ПРИЗНАНИЕ ЧИКИТЫ
Хотя часы на Ратуше показывали довольно раннее время, Гревская площадь{164} была запружена народом. Высокие кровли над творением Доминико Боккадора{165} фиолетово-серыми очертаниями вырисовывались на молочно-белом фоне. Их холодные тени тянулись до середины площади, окутывая зловещий дощатый помост на два-три фута выше человеческого роста, весь в кроваво-красных пятнах. Из окон окружающих домов то и дело высовывались головы, и сразу скрывались, увидев, что представление еще не начиналось. Из слухового окошка той самой угловой башенки, откуда, по преданию, мадам Маргарита смотрела на казнь Ла Моля и Коконаса{166}, выглянула морщинистая старуха, — патетическое превращение красавицы королевы в уродливую старую ведьму! На каменный крест, стоявший у спуска к реке, с большим трудом взобрался какой-то подросток и повис на нем, перекинув руки через поперечину, а коленями и ступнями обхватив столб, в мучительном положении распятого злого разбойника, которое он не уступил бы ни за медовые коврижки, ни за яблочные пирожки. Отсюда ему были видны главные подробности эшафота, колесо, на котором будут вращать осужденного, веревка, чтобы привязать его, железный брус, чтобы перебить ему кости; словом, все самые примечательные предметы.
Однако же, если бы кто-нибудь из зрителей удосужился пристальнее вглядеться в подростка, взобравшегося на крест, то заметил бы в выражении его лица нечто совсем иное, чем грубое любопытство. Не жажда жестокого наслаждения чужими муками привела сюда этого смуглого юнца с большими, окруженными синевой глазами, с блестящими зубами и длинными черными кудрями, державшегося за перекладину цепкими пальцами, на которых загар заменял перчатки. По тонкости черт можно было предположить, что он принадлежит не к тому полу, на который указывала его одежда; но никто не смотрел на него, все взоры неудержимо тянулись к эшафоту или к набережной, откуда должен был появиться осужденный.
В толпе виднелось немало знакомых лиц: по красному носу посреди белой как мел физиономии не мудрено было узнать Малартика, а орлиный профиль, выступавший из складок плаща, по-испански переброшенного через плечо, неоспоримо изобличал Жакмена Лампурда. Несмотря на шляпу, надвинутую до бровей, с целью скрыть отсутствие уха, оторванного пулей Винодуя, всякий опознал бы Верзилона в дюжем молодце, который, сидя на тумбе, от нечего делать пыхтел длинной голландской трубкой. Сам же Винодуй беседовал со Свернишеем; да и по ступеням, ведущим к Ратуше, прогуливалось немало завсегдатаев «Коронованной редиски», по-философски судя и рядя о том о сем. Гревская площадь, где неотвратимо должно завершиться их земное бытие, обладает для убийц, бандитов и воров какой-то непонятной притягательной силой. Вместо того чтобы отталкивать их, зловещая площадь действует на них, как магнит. Они описывают вокруг нее все сужающиеся круги, пока не упадут на ней мертвыми; им любо смотреть на виселицу, где их вздернут; они упиваются ее страшными очертаниями и, созерцая судороги казнимых, осваиваются со смертью, что в корне противоречит идее правосудия, согласно которой пытки имеют целью устрашить преступников.
Большое скопление отбросов общества в дни казней объясняется еще и другой причиной: герой трагедии обычно связан с ними родством, дружбой, а то и сообщничеством. Они идут смотреть, как вешают их кузена, колесуют закадычного друга, жгут благородного кавалера, которому помогали спускать фальшивые деньги. Не явиться на такое торжество просто неучтиво. Да и осужденному приятно видеть вокруг эшафота знакомые лица. Это придает бодрости и силы. Не хочется показаться малодушным перед истинными ценителями, и гордость приходит на помощь страданию. При такой публике, как древний римлянин, умрет тот, кто хныкал бы по-бабьи, если бы его втихомолку отправили на тот свет где-нибудь в подвале.
Пробило семь часов. А казнь была назначена только на восемь. И Жакмен Лампурд, отсчитав удары, сказал Малартику:
— Теперь ты видишь, что мы успели бы распить еще бутылку. Но тебе не сидится на месте. Что, если нам возвратиться в «Коронованную редиску»? Мне надоело торчать тут. Стоит ли дожидаться столько времени, чтобы увидеть, как колесуют незадачливого беднягу? Это пресный, мещанский и пошлый вид казни. Будь это какое-нибудь шикарное четвертование с судейским стражником на каждой из четырех лошадей, или же прижигание раскаленными щипцами, или вливание вара и расплавленного свинца, — словом, какое-то замысловатое жестокое мучительство, делающее честь изобретательности судьи и ловкости палача, — это дело другое. Тут я бы остался из любви к искусству, но ради такой малости — нет, увольте!
— По-моему, ты несправедливо судишь о колесе, — наставительно поправил его Малартик, потирая нос, багровый, как никогда, — у колеса есть свои достоинства.
— О вкусах не спорят. У каждого своя страсть, как сказал знаменитый латинский поэт; жаль, я забыл его имя, — мне лучше запоминаются имена прославленных полководцев. Ты облюбовал себе колесо; не стану тебе перечить и обещаю побыть с тобою до конца. Признайся, однако, что обезглавление при помощи дамасского клинка с бороздкой по тыльной стороне, наполненной для веса ртутью, представляет собой зрелище, в равной мере увлекательное и благородное, ибо требует глазомера, силы и проворства.
— Не спорю, только длится-то оно всего мгновение, и к тому же головы рубят одним дворянам. Плаха — их привилегия. А из простонародных видов казни колесо, на мой вкус, куда почтенней вульгарной виселицы, годной разве что для второсортных жуликов. Агостен же не простой вор. Он заслуживает большего, нежели веревка, и правосудие должным образом уважило его.
— Ты всегда питал слабость к Агостену, вероятно, из-за Чикиты, твой блудливый глаз тешили ее своеобычные повадки. Я не разделяю твоего восхищения этим разбойником; он больше пригоден для того, чтобы работать на больших дорогах и в горных ущельях, точно salteador[21], нежели производить деликатные операции в лоне просвещенного столичного города. Ему чужды тонкости нашего искусства. Не помня себя, он по-провинциальному прямо крушит с плеча. При малейшем препятствии он, как темный дикарь, пускает в ход нож; нечего ссылаться на Александра Македонского — разрубить гордиев узел совсем не то, что его развязать{167}. Вдобавок Агостену чуждо всякое благородство, он не пользуется шпагой.
— Конец Агостена — оруж ие его родины, наваха; ему не довелось, как нам, годами попирать плиты фехтовальных залов, но его стиль отличается внезапностью, смелостью и своеобразием. Удар его сочетает в себе баллистическую точность с беззвучной меткостью холодного оружия. Не производя шума, он попадает в намеченную мишень на расстоянии двадцати шагов. Мне очень обидно, что поприще Агостена оборвалось так рано! При его львиной отваге он далеко бы пошел.
— Я лично стою за академическую методу, — возразил Жакмен Лампурд. — Без формы все теряет смысл. Прежде чем напасть, я всякий раз трогаю противника за плечо и даю ему время стать в позицию; если хочет, пусть защищается. Это уже не убийство, а дуэль. Я бретер, а не палач. Конечно, я настолько владею искусством фехтования, что мне обеспечен успех, и шпага моя разит почти без промаха, но быть сильным игроком не значит быть шулером. Да, я подбираю плащ, кошелек, часы и драгоценности убитого; всякий на моем месте поступал бы так же. За труды полагается плата. И что бы ты ни говорил, а работать ножом мне претит. Это хорошо в глуши и с людьми низкого звания.
— Ну ты-то, Жакмен Лампурд, уперся в свои принципы, и тебя с них не сдвинешь; а между тем искусству немножко фантазии не вредит.
— Я не прочь от фантазии, но фантазии тонкой, сложной, изысканной, а необузданная и дикая жестокость не по мне. Агостен же легко опьяняется кровью и в кровавом угаре бьет куда попало. Это непростительная слабость: когда пьешь дурманящий кубок убийства, надо иметь крепкую голову. Вот и в последний раз: забрался он в тот дом, который захотел обчистить, и убил не только проснувшегося хозяина, но также и его спящую жену, — убийство бесполезное, не в меру жестокое и неделикатное. Женщин надо убивать, только когда они кричат, да и то лучше заткнуть им глотку: если засыплешься, судьи и зрители расчувствуются от такого кровопролития, и ты зазря прослывешь чудовищем.
— Ты, ни дать ни взять, святой Иоанн Златоуст{168}, — заметил Малартик, — на твои назидания и поучения даже не подберешь ответа. Однако что станется с бедняжкой Чикитой?
Жакмен Лампурд и Малартик продолжали философствовать в том же духе, когда с набережной на площадь выехала карета, вызвав в толпе движение и суматоху. Лошади, фыркая, топтались на месте и били копытами по ногам кого придется, отчего между зеваками и лакеями вспыхивала ожесточенная перебранка.
Потесненные зрители разнесли бы карету, если бы герцогский герб на ее дверцах не устрашил их, хотя этой публике мало что внушало трепет. Вскоре давка стала так велика, что карете пришлось остановиться посреди площади, и, глядя издалека, можно было подумать, будто застывший на козлах кучер сидит на людских головах. Чтобы пробить себе дорогу сквозь толпу, надо было передавить слишком много черни, а эта чернь здесь, на Гревской площади, чувствовала себя как дома и вряд ли стерпела бы такое обхождение.
— Эти проходимцы, верно, дожидаются какой-то казни и не очистят дороги до тех пор, пока приговоренный не будет отправлен на тот свет, — пояснил молодой, великолепно одетый красавец сидевшему в карете с ним рядом тоже весьма привлекательному на вид молодому человеку, но одетому более скромно. — Черт бы побрал болвана, который надумал быть колесованным как раз в то время, когда мы проезжаем по Гревской площади! Не мог он, что ли, подождать до завтра?!
— Поверьте, он ничего бы не имел против, — отвечал его спутник, — тем более что и обстоятельство это для него еще досаднее, чем для нас.
— Нам ничего не остается, дорогой мой Сигоньяк, как повернуть голову в другую сторону, если зрелище покажется нам уж очень тягостным; впрочем, нелегко отвернуться, когда рядом происходит что-то страшное, чему примером святой Августин: как ни твердо он решил держать глаза закрытыми в цирке, а все-таки открыл их, услышав вопль толпы.
— Так или иначе, ждать нам недолго, — сказал Сигоньяк. — Взгляните, Валломбрез, толпа раздалась перед телегой с осужденным.
И правда, телега, запряженная клячей, которой давно было место на Монфоконе, окруженная конной стражей, дребезжа железом, продвигалась к эшафоту между рядами зевак. На доске, положенной поперек телеги, сидел Агостен возле седобородого капуцина, который держал у его губ медное распятие, отполированное поцелуями здоровых людей в предсмертной агонии. Голова бандита была повязана платком, концы которого свисали с затылка. Рубаха грубого холста и выношенные саржевые штаны составляли все его одеяние. Столь скудный наряд полагается для эшафота. Палач воспользовался своим правом и завладел имуществом осужденного, решив, что ему для смерти достаточно и этих отрепьев. С виду казалось, будто Агостена ничто не держит, но на самом деле он был опутан целой системой бечевок, конец которых находился в руках у палача, сидевшего за спиной мученика, дабы тот не видел его. Подручный палача, пристроясь боком на оглобле, держал поводья и нахлестывал клячу.
— Что я вижу! — воскликнул Сигоньяк. — Ведь это тот самый бандит, который напал на меня посреди дороги во главе отряда соломенных пугал. Помните, я рассказывал вам эту историю, когда мы проезжали мимо того места, где она приключилась.
— Как же, помню, — подтвердил Валломбрез. — Я еще посмеялся от души. Но, как видно, молодчик с тех пор занялся более серьезными делами. Его сгубило честолюбие; однако держится он неплохо.
Агостен, немного побледневший под привычным загаром, обводил глазами толпу, очевидно, разыскивая кого-то. Когда телега поравнялась с каменным крестом, он заметил по-прежнему висевшего на перекладине подростка, о котором речь шла в начале главы. При виде его глаза осужденного вспыхнули радостью, а губы приоткрылись в улыбке; одновременно с чуть заметным кивком, означавшим прощание и напутствие, он вполголоса сказал: «Чикита!»
— Что за слово произнесли вы, сын мой, — возмутился капуцин, взмахнув распятием, — оно звучит как женское имя: так, верно, зовут какую-нибудь распутную шалунью. Вам же надлежит думать о спасении души, ибо вы стоите на пороге вечности.
— Знаю, отец мой, и хотя волосы мои еще черны, вы, невзирая на седую бороду, куда моложе меня. С каждым поворотом колеса, приближающего телегу к помосту, я старею на десять лет.
Этот Агостен ведет себя недурно для провинциального разбойника; не скажешь, чтобы его смущала смерть на глазах у столичной публики, — заметил Жакмен Лампурд, расталкивая локтями кумушек и ротозеев, что-бы пробраться к помосту. — Вид у него не растерянный, и, не в пример многим, он не похож раньше времени на покойника. Голова у него не трясется, он держит ее прямо и гордо. А самый верный признак мужества — он не отвел глаз от колеса. Верьте моему опыту, он кончит жизнь как положено — пристойно, не скуля, не отбиваясь, не обещая сознаться во всем, лишь бы выиграть время.
— Ну, на этот счет можно быть спокойным, — заявил Малартик, — на пытке ему вогнали восемь клиньев, а он и губ не разжал и не выдал никого из товарищей.
Тем временем телега приблизилась к помосту, и Агостен медленно взошел по ступеням, предшествуемый подручным, поддерживаемый капуцином и сопутствуемый палачом. Меньше чем в минуту помощники палача распластали его и накрепко привязали к колесу. Сам заплечных дел мастер тем временем скинул красный плащ с белым аксельбантом, для удобства засучил рукав и нагнулся за зловещим брусом.
Настал роковой миг. У зрителей от жадного любопытства стеснило грудь. Лампурд и Малартик перестали зубоскалить. Верзилон вынул изо рта трубку. Винодуй пригорюнился, чувствуя, что ему не миновать того же. Но вдруг дрожь прошла по толпе. Девочка, взобравшаяся на крест, соскочила наземь, точно ящерка, прошмыгнула между рядами зевак, добралась до помоста, в два прыжка одолела ступени, и палач, уже занесший палицу, замер на месте, увидев перед собой бледное личико, ослепительно прекрасное в своей торжественной решимости.
— Убирайся вон, пострел, — опомнившись, заорал он, — а не то я раскрою тебе голову брусом!
Но Чикита не послушалась: не все ли ей равно, убьют ее или нет. Наклонившись над Агостеном, она поцеловала его в лоб, прошептала: «Я тебя люблю!» — и с быстротой молнии вонзила ему в сердце навагу, взятую назад у Изабеллы. Удар был нанесен такой твердой рукой, что смерть наступила почти мгновенно, Агостен успел только произнести: «Спасибо».
Cuando esta vivora pica, No hay remedio en la botica, —пробормотала девочка и, захохотав, как безумная, соскочила с эшафота, где ошеломленный палач опустил ставший бесполезным брус, не зная, надо ли крушить кости трупу.
— Молодец, Чикита! — не удержавшись, крикнул Малартик, который узнал ее под мальчишеским обличием. Лампурд, Вино дуй, Верзилон, Свернишей и другие завсегдатаи «Королевской редиски», восхищенные поступком Чикиты, сбились плотным кольцом, преграждая путь погоне. Пока стража препиралась с ними и работала кулаками, чтобы их оттеснить и прорвать этот искусственный заслон, девочка успела добежать до кареты Валломбреза, остановившейся на углу. Уцепившись за дверцу, она вскочила на подножку, узнала Сигоньяка и прерывающимся голосом выговорила:
— Я спасла Изабеллу, спаси меня!
Валломбреза живо заинтересовала столь неожиданная развязка.
— Гони вовсю и, если надо, дави этот сброд! — крикнул он кучеру.
Но кучеру не пришлось никого давить — толпа поспешно раздалась и тут же сомкнулась за каретой, чтобы задержать не слишком ретивых преследователей. В несколько минут карета достигла Сент-Антуанских ворот, и, так как отголоски недавнего события не могли еще достичь сюда, Валломбрез приказал кучеру ехать потише, тем более что экипаж, который мчится вскачь, должен возбудить вполне основательные подозрения. Когда предместье осталось позади, герцог впустил девочку внутрь кареты. Она молча примостилась на сиденье напротив Сигоньяка. Под наружным спокойствием все в ней дрожало от безмерного возбуждения. Лицо было невозмутимо, только краска заливала обычно бледные щеки, а огромные глаза, смотревшие в одну точку невидящим взглядом, горели сверхъестественным огнем. В душе Чикиты совершался решительный переворот. Тем страшным усилием воли была прорвана оболочка детства, и к жизни проснулась взрослая девушка. Погрузив нож в сердце Агостена, Чикита одновременно вскрыла собственное сердце. Из убийства родилась любовь; странное, почти бесполое существо, не то дитя, не то эльф, превратилось в женщину, и страсти ее, вспыхнувшей мгновенно, суждено было стать вечной. Поцелуй и удар ножом — только такой и могла быть любовь Чикиты.
Карета продолжала свой путь, и за купой деревьев уже виднелись высокие шиферные кровли замка. Валломбрез обратился к Сигоньяку:
— Вы пройдете в мои апартаменты и приведете себя в порядок с дороги, прежде чем я представлю вас своей сестре, — ей ничего не известно о моем путешествии и о вашем приезде. Надеюсь, мой сюрприз произведет должное действие. Опустите шторку с вашей стороны, чтобы вас не увидели раньше времени. Но куда нам девать этого чертенка?
— Прикажите отвести меня к госпоже Изабелле, — попросила Чикита, до которой сквозь глубокое раздумье дошли слова Валломбреза, — пускай она решит мою судьбу.
Карета с опущенными шторками въехала во внутренний двор. Валломбрез взял Сигоньяка под руку и увел его на свою половину, приказав лакею проводить Чикиту к графине де Линейль.
При виде Чикиты Изабелла отложила книгу, которую читала, и устремила на девочку вопросительный взгляд. Чикита стояла молча и не шевелясь, пока не ушел лакей. Тогда она с подчеркнутой торжественностью приблизилась к Изабелле, взяла ее руку и сказала:
— Мой нож пронзил сердце Агостена; у меня больше нет хозяина, а мне надо кому-нибудь служить. После него, умершего, я сильнее всех люблю тебя: ты подарила мне жемчужное ожерелье и поцеловала меня. Хочешь, чтобы я была твоей рабой, собачонкой, твоим домашним духом? Вели дать мне какую-нибудь черную тряпицу, чтобы я могла носить траур по моей любви; я буду спать на твоем пороге и постараюсь не докучать тебе. А когда ты будешь во мне нуждаться, только свистни — вот так, — и я буду тут как тут. Хорошо?
Вместо ответа Изабелла привлекла Чикиту к себе, коснулась губами ее лба и без долгих слов приняла эту душу, принесшую себя ей в дар.
XXI О ГИМЕНЕЙ, ГИМЕНЕЙ!
Изабелла, успевшая уже привыкнуть к странным и загадочным повадкам Чикиты, не стала ни о чем допытываться, решив расспросить ее, когда она хоть немного успокоится. Ей было ясно, что за этим кроется какая-то страшная тайна; но она стольким была обязана бедной девочке, что считала своим долгом без дальнейших дознаний приютить ее, поняв, в каком она отчаянном состоянии.
Поручив Чикиту попечениям горничной, Изабелла принялась за прерванное чтение, хотя книга не очень ее интересовала; после нескольких страниц она совсем перестала вникать в смысл и, всунув между страницами закладку, бросила книжку на стол посреди начатых рукоделий. Склонив голову на руку и глядя в пространство, она отдалась привычному течению мыслей. «Что сталось с Сигоньяком, — думала она, — вспоминает ли он обо мне, любит ли меня по-прежнему? Должно быть, он воротился в свой убогий замок и, полагая, что брат мой умер, не смеет подать о себе весть. Его удерживает это мнимое препятствие. Иначе он постарался бы повидать меня или хотя бы написал мне. Может быть, ему внушает робость мысль о том, что я теперь богата. А что, если он позабыл меня? Нет, нет! Это невозможно, мне следовало бы дать ему знать, что Валломбрез оправился от раны; но девице благородной фамилии не пристало намекать далекому возлюбленному, что ему дозволено вернуться: это противно женской стыдливости. Часто я думаю, не лучше ли было бы мне остаться скромной актрисой. Я бы хоть виделась с ним постоянно, и, будучи уверена в своей добродетели и в его уважении, мирно вкушала бы сладость его любви. Как ни трогает меня привязанность отца, мне грустно и одиноко в этом великолепном замке. Если бы хоть Валломбрез был здесь, его общество развлекло бы меня; а он все не едет, и я тщетно стараюсь понять, какой смысл вложил он в слова, сказанные мне на прощанье с лукавой улыбкой: „До свидания, сестричка, вы останетесь мною довольны!“ Порой мне кажется, я разгадала их, но я боюсь до конца додумать эту мысль — слишком горько было бы разочарование. А вдруг это оказалось бы правдой? О! Я сошла бы с ума от счастья!»
Графиня де Линейль — ибо, с нашей стороны, пожалуй, неучтиво называть попросту Изабеллой узаконенную дочь принца — была прервана на этом месте своего внутреннего монолога рослым лакеем, который явился спросить, может ли ее сиятельство принять герцога де Валломбреза, возвратившегося из путешествия.
— Я жду его с радостью и нетерпением, — отвечала графиня.
Прошло не более пяти-шести минут, как молодой герцог легкой и уверенной поступью вошел в гостиную, — на лице его играл румянец, глаза сверкали жизнью, и вид был такой же победоносный, как до болезни; он бросил шляпу с пером на кресло и, взяв руку сестры, нежно и почтительно поднес ее к губам.
— Дорогая Изабелла, я отсутствовал дольше, чем желал бы, ибо для меня большое лишение не быть с вами, настолько быстро я освоился с милой привычкой видеть вас; но все время путешествия я был занят заботами о вас, и надежда сделать вам приятное утешала меня в разлуке.
— Приятнее всего мне было бы, чтобы вы оставались в замке подле вашего отца и подле меня, — ответила Изабелла, — а не пускались бы в путь неведомо куда и зачем, едва ваша рана успела зажить.
— Разве я был ранен? — смеясь, спросил Валломбрез. — Право же, если я и стараюсь вспомнить о своей ране, она никак не напоминает о себе. Никогда я не был здоровее, и моя маленькая прогулка принесла мне великую пользу. От седла мне куда больше прока, чем от кушетки. А вот вы, милая сестрица, немного похудели и побледнели. Быть может, вам было здесь тоскливо? Замок наш — место невеселое, и одиночество вредно для девиц. Чтение да рукоделие — занятия довольно тоскливые, и бывают минуты, когда самые благонравные особы, наскучив созерцать из окна зеленую воду рва, предпочли бы увидеть лицо какого-нибудь молодого красавца.
— Ваши шутки неуместны, милый брат, и с вашей стороны нехорошо высмеивать мою грусть. Ведь я оставалась в обществе принца, по-отечески ласкового и щедрого на мудрые поучения.
— Конечно, наш достойный батюшка — образец дворянина, он осторожен в советах, отважен в делах, он истовый царедворец при монархе и вельможный хозяин у себя дома; он начитан и сведущ во многих науках, но его беседой можно наслаждаться лишь на серьезный лад, а мне не хочется, чтобы моя дорогая сестра губила свои молодые годы в столь торжественной скуке. Раз вы отвергли кавалера де Видаленка и маркиза де л'Этана, я пустился на поиски и во время своих странствий обрел то, что вам нужно, — такое чудо совершенства, такой идеал мужа, от которого, ручаюсь вам, вы будете без ума.
— Как жестоко вы издеваетесь надо мной, Валломбрез! Вам известно, недобрый брат, что я не собираюсь выходить замуж; я не могу отдать свою руку, не отдав сердца, а сердце мое мне не принадлежит.
— Вы скажете другое, когда я представлю вам супруга, которого выбрал для вас.
— Нет, никогда! — срывающимся от волнения голосом воскликнула Изабелла. — Я останусь верна дорогому мне воспоминанию. Ведь не думаете же вы совершить насилие над моей волей?
— Ни в коем случае! Моя тирания не простирается так далеко, я только прошу не отвергать моего подопечного, прежде чем вы увидите его.
Не ожидая согласия сестры, Валломбрез поднялся, вышел в соседнюю комнату и тотчас вернулся вместе с Сигоньяком, у которого сильно билось сердце. Держась за руки, молодые люди постояли на пороге в надежде, что Изабелла посмотрит в их сторону, но она сидела, скромно потупив взор, глядя на мыс своего корсажа, и думала о возлюбленном, не подозревая, что он стоит перед ней.
Видя, что она погружена в задумчивость и не обращает на них внимания, Валломбрез сделал несколько шагов по направлению к ней, ведя Сигоньяка за кончики пальцев, как водят даму в танце, и отвесил учтивый поклон, в точности повторенный Сигоньяком. Только Валломбрез улыбался, а Сигоньяк трепетал. Он был храбр с мужчинами и робок с женщинами, как все отважные люди.
— Графиня де Линейль, — начал Валломбрез высокопарно, с нарочитой церемонностью, — разрешите вам представить доброго моего друга, которого, я надеюсь, вы примете благосклонно. Рекомендую вам — барон де Сигоньяк.
При этом имени, которое она сочла сперва за шутку, Изабелла все же вздрогнула и бросила быстрый взгляд на вновь пришедшего. Когда она увидела, что Валломбрез не шутит, сильнейшее волнение охватило ее. Сперва вся кровь прихлынула к сердцу, и лицо ее побелело, потом нежная краска, словно розовое облако, покрыла ей лоб, щеки и вырез на груди под косынкой. Не вымолвив ни слова, она вскочила и бросилась на шею Валломбрезу, спрятав лицо на плече молодого герцога. Гибкое тело ее содрогнулось от рыданий, и несколько слезинок увлажнило бархат камзола в том месте, куда она припала лицом. Этим грациозным движением, столь целомудренным и женственным, Изабелла обнаружила всю свою душевную деликатность. Она благодарила Валломбреза за его чуткую доброту и, не имея права обнять возлюбленного, обнимала брата.
Подождав, чтобы Изабелла успокоилась, Валломбрез бережно высвободился из ее объятий и, отводя ее руки, которыми она закрыла залитое слезами лицо, сказал:
— Дорогая сестрица, покажите же нам свое прелестное личико, иначе мой друг решит, что вы питаете к нему непреодолимое отвращение.
Изабелла послушалась и обратила к Сигоньяку свои прекрасные глаза, сиявшие неземной радостью, хотя блестящие росинки еще дрожали на ее длинных ресницах; она протянула ему руку, на которой барон, склонившись, запечатлел нежнейший поцелуй. Этот поцелуй дошел до самого ее сердца, и от блаженства она едва не лишилась чувств. Впрочем, столь сладостные волнения не бывают опасны.
— Ну, так не прав ли я был, утверждая, что вы благожелательно встретите жениха, выбранного мною? — спросил Валломбрез. — Иногда не мешает настоять на своем. Если бы я не пересилил вашу решимость своим упрямством, милейший Сигоньяк воротился бы восвояси, не увидев вас, а это, согласитесь, было бы весьма прискорбно.
— Согласна, дорогой брат. Вы проявили удивительную доброту. При существующих обстоятельствах вы один могли пойти на примирение, — ведь пострадали-то вы один.
— Верно, — подтвердил Сигоньяк, — герцог де Валломбрез показал в отношении меня всю высоту своей благородной души; он откинул, казалось бы, вполне естественное чувство обиды и явился ко мне с дружески протянутой рукой. За то зло, которое я ему причинил, он придумал мне месть, достойную дворянина, обязав меня вечной признательностью. Но это бремя — легкое, и я с радостью буду нести его до самой моей смерти.
— Не говорите об этом, дорогой барон, вы на моем месте поступили бы точно так же, — возразил Валломбрез. — Бесстрашные люди всегда найдут общий язык; клинки, раз сойдясь, сводят и души, и мы рано или поздно стали бы дружеской четой, подобной Тесею с Нирифоем, Нису с Евриалом, Пифию с Дамоном{169}. Но перестаньте заниматься мною. Лучше скажите моей сестре, как вы тосковали без нее, как мечтали о ней в своем замке, где меня накормили до отвала, хоть вы и утверждали, что там обычно умирают с голоду.
— Я тоже с удовольствием вспоминаю тамошний ужин, — улыбаясь, заметила Изабелла.
— Скоро окажется, что все пировали по-княжески в моей башне голода, — сказал Сигоньяк. — Но я не стыжусь своей бедности, я счастлив ею, потому что она стала причиной вашего участливого внимания, дорогая Изабелла, я благословляю ее, я обязан ей всем.
— По-моему, — вставил Валломбрез, — сейчас мне самое время пойти поздороваться с отцом и предупредить его о вашем приезде, который, должен сознаться, не будет для него неожиданным. Ну, так как же, графиня, вы, безусловно, согласны на брак с бароном де Сигоньяком? Я не хочу попасть впросак. Согласны, да? Отлично. Тогда мне лучше удалиться: нареченным есть что сказать друг другу, — пусть самое невинное, но не в присутствии брата. Я оставляю вас вдвоем, наедине, не сомневаясь, что вы мне за это благодарны, да и ремесло дуэньи меня не привлекает. До свиданья. Я скоро вернусь, чтобы проводить Сигоньяка к принцу.
Проговорив все это самым непринужденным тоном, молодой герцог надел шляпу и удалился, предоставив нежных любовников самим себе. Как ни приятно было его общество, его отсутствие оказалось еще приятнее.
Сигоньяк подошел к Изабелле и взял ее руку. Она не отняла руки, и некоторое время молодые люди восхищенными глазами смотрели друг на друга. Молчание бывает красноречивее всяких слов; после долгой разлуки Изабелла и Сигоньяк не могли наглядеться друг на друга; наконец барон сказал любимой:
— Я не смею поверить своему счастью! Под какой же удивительной звездой я родился! Вы полюбили меня потому, что я был беден и несчастен, а то, что сулило окончательно погубить меня, составило мое благополучие. Труппа комедиантов взлелеяла для меня ангела добродетели и красоты; вооруженное нападение одарило меня другом, а когда вас похитили, вы были признаны отцом, который тщетно вас разыскивал; и все началось с того, что темной ночью в ландах заблудился фургон…
— Нам свыше было суждено полюбить друг друга. Родственные души встретятся неминуемо, если умеют ждать. Я сразу почувствовала, что в замок Сигоньяк меня привела судьба; сердце мое, оставшись равнодушным к завзятым любезникам, затрепетало при виде вас. Ваша робость оказалась сильнее всех дерзких посягательств, и я тогда еще поклялась принадлежать только вам или богу.
— А между тем, жестокая, вы отказали мне в своей руке, когда я на коленях домогался ее; я знаю, что вами руководило великодушие, но какое же недоброе великодушие!
— Я, как могу, исправлю свою жестокость. Вот вам моя рука, дорогой барон, я отдаю ее вместе с сердцем, которое уже принадлежит вам. Графине де Линейль не нужна самоотверженная деликатность бедняжки Изабеллы. Я только боялась, что теперь вы из гордости отвернетесь от меня. Но, скажите, презрев меня, вы не женились бы на другой? Вы остались бы мне верны даже без всякой надежды? Были ли ваши мысли заняты мной, когда к вам явился Валломбрез?
— Дорогая Изабелла, целый день я всеми помыслами стремился к вам, а вечером, положив голову на подушку, которой однажды коснулось ваше ясное чело, я молил духов сна показать мне ваш пленительный облик в их магическом зеркале.
— И добрые духи часто внимали вашей мольбе?
— Они ни разу не обманули моих ожиданий, и лишь с утренней зарей двери слоновой кости закрывались за вами. Ах, как долог казался мне день, я предпочел бы спать, не просыпаясь.
— Я тоже ночь за ночью видела вас во сне. Наши любящие души встречались в сновидениях. Но, хвала создателю, мы соединились теперь надолго, надеюсь, навсегда. Валломбрез, конечно, заранее испросил согласие принца, — ведь не стал бы он легкомысленно обнадеживать вас, — и отец, без сомнения, с благосклонностью примет ваше предложение. Он неоднократно говорил о вас в доброжелательном тоне, как-то странно поглядывая на меня при этом. Взгляды его до крайности смущали меня, но я не смела разгадать их смысл. Валломбрез ни разу не дал понять, что больше не питает к вам ненависти.
В эту минуту герцог вернулся и сообщил Сигоньяку, что принц его ждет.
Сигоньяк встал и, поклонившись Изабелле, последовал за Валломбрезом в конец анфилады, где находился кабинет принца. Старый вельможа в черном бархате, при всех орденах, сидел в глубоких креслах возле окна за столом, покрытым ковровой скатертью и заваленным книгами и бумагами. Вид у него был приветливый, но несколько натянутый, какой бывает в ожидании важной беседы. Лоб его лоснился на свету атласистыми бликами, и отдельные волоски, отбившись от буклей, уложенных камердинером на висках, блестели, как серебряные нити. Взор его был ласков, тверд и ясен, и время, отложившее свой след на его благородном лице, взамен красоты добавило ему величавости. И без орденских звезд, свидетельствовавших о его высоком сане, принц внушал чувство глубокого почтения. Даже самый неотесанный тупица и дикарь признал бы в нем настоящего вельможу. Принц привстал с кресла, отвечая на поклон Сигоньяка, и указал ему на стул.
— Глубокочтимый отец, — начал Валломбрез, — дозвольте вам представить барона де Сигоньяка, прежде моего соперника, ныне друга и вскоре родню, если будет на то ваше согласие. Я обязан ему тем, что образумился. А это немалое одолжение. Барон явился с почтительнейшей просьбой, и я буду счастлив, если вы соблаговолите удовлетворить ее.
Принц знаком предложил Сигоньяку говорить. Ободренный таким образом, барон встал и с поклоном произнес:
— Принц, прошу у вас руки вашей дочери, графини де Линейль.
Старый вельможа помолчал немного, как бы обдумывая ответ, а затем сказал:
— Барон де Сигоньяк, я готов вам дать согласие на брак с моей дочерью, ежели моя отцовская воля не будет противоречить ее желанию. Я не намерен принуждать графиню де Линейль, и ей одной принадлежит в этом вопросе решающее слово. Надобно спросить ее. У молодых девиц бывают необъяснимые причуды.
Говоря так, принц улыбался с тонким лукавством светского человека, как будто не знал давным-давно, что Изабелла любит Сигоньяка; отцовское достоинство требовало, чтобы он делал вид, будто пребывает в неведении и в то же время предполагает истину. Помолчав, он добавил:
— Валломбрез, приведите вашу сестру, без нее я, право же, не могу дать ответ барону де Сигоньяку.
Валломбрез исчез и вскоре вернулся с Изабеллой. Девушка была ни жива ни мертва; как ни старался брат успокоить ее, она боялась поверить такому счастью. Грудь ее волновалась, поднимая кружево корсажа, краски сошли с лица, а колени подгибались. Принц привлек ее к себе, а она, вся дрожа, оперлась о ручку кресла, чтобы не упасть на пол.
— Дочь моя, — обратился к ней принц, — вот этот благородный кавалер делает вам честь, прося вашей руки. Я рад приветствовать ваш союз с ним. Он отпрыск древнего рода, человек незапятнанной репутации, сочетающий в себе все качества, какие только можно пожелать. Мне он подходит, но успел ли он понравиться вам? Белокурые головки не всегда судят одинаково с седыми головами. Попытайте свое сердце и ответьте, согласны ли вы стать женой барона де Сигоньяка. Не торопитесь, в столь важном деле спешка ни к чему. Добродушная ласковая улыбка принца наглядно показывала, что он шутит, а потому Изабелла, осмелев, обвила шею отца руками и пленительно вкрадчивым голосом сказала:
— Мне незачем долго размышлять. Раз барон де Сигоньяк подходит вам, отец мой и повелитель, я смело и честно могу признаться, что полюбила его с первого взгляда, никогда не желала себе другого супруга и повиноваться вам будет для меня великим счастьем.
— Ну что же, жених и невеста, подайте друг другу руки и поцелуйтесь, — весело сказал герцог де Валломбрез. — Роман кончается благополучнее, чем можно было ожидать по его бурному началу. Когда же свадьба?
— Портным понадобится не меньше недели, чтобы сшить наряды, — заявил принц, — столько же потратят каретники, чтобы привести в должный вид экипажи. Пока что, Изабелла, получите ваше приданое: графское поместье де Линейль, от которого идет ваш титул и которое приносит пятьдесят тысяч экю дохода с лесов, лугов, прудов и пахотных земель (и он протянул ей связку бумаг). Вы же, Сигоньяк, извольте принять королевский указ, по которому вы назначаетесь губернатором провинции. Никому эта должность не пристала лучше, чем вам.
К концу этой сцены Валломбрез исчез, но вскоре возвратился в сопровождении лакея, который нес шкатулку в красном бархатном чехле.
— Милая сестричка, вот вам мой свадебный подарок, — сказал молодой герцог невесте, протягивая ей шкатулку. На крышке было написано: «Для Изабеллы». Этот самый ларец он в свое время преподнес актрисе, а она благонравно отвергла подарок. — На сей раз, надеюсь, вы примете его, — добавил он с подкупающей улыбкой. — Разве можно допустить, чтобы бриллианты безупречной воды и бесценные индийские жемчуга, чего доброго, плохо кончили. Пусть они остаются так же чисты, как вы!
Изабелла с улыбкой взяла одно из ожерелий и надела себе на шею, как бы желая доказать прекрасным каменьям, что не таит против них злобы. Затем она обмотала вокруг своей отливающей перламутром руки тройной ряд жемчужин и вдела в уши богатые серьги.
Что добавить к этому? Прошла неделя, и капеллан замка обвенчал Изабеллу и Сигоньяка, у которого свидетелем был маркиз де Брюйер. Капелла Валломбреза утопала в цветах и сверкала огнями свечей. Привезенные молодым герцогом музыканты ангельскими голосами возносили к небу мотет{170} Палестрины{171}. Сигоньяк сиял от счастья. Изабелла была пленительно мила под белой вуалью невесты, и никто не сказал бы, не будучи осведомлен заранее, что эта молодая красавица, горделивая и вместе с тем скромная, осанкой напоминающая принцессу крови, недавно еще подвизалась на подмостках, играя комедию. А Сигоньяк, только что назначенный губернатором одной из провинций, великолепно одетый капитан мушкетеров, ничем не напоминал захудалого дворянина, чьи беды были описаны в начале нашего романа.
После пышной трапезы, на которой присутствовали принц, Валломбрез, маркиз де Брюйер, кавалер де Видаленк, граф де л'Этан и несколько почтенных дам из дружественных семейств, молодые супруги удалились; нам надлежит покинуть их у порога брачного покоя, напевая вполголоса на античный лад: «О Гимен, Гименей!» Таинства счастья должны быть сокрыты, да и сама новобрачная в своем целомудрии сгорела бы со стыда, если бы кто-нибудь тайком расстегнул булавку на ее корсаже.
XXII ОБИТЕЛЬ СЧАСТЬЯ
Надо ли говорить, что добросердечная Изабелла, став баронессой де Сигоньяк, в богатстве и почете не забыла своих славных товарищей по труппе Ирода? Не имея возможности пригласить их к себе на свадьбу, ввиду того что их положение отныне сильно рознилось с ее собственным, она одарила каждого, проявив при этом такую чуткую деликатность, которая удваивала цену подарка. А до отъезда актеров она часто посещала их спектакли и со знанием дела хлопала в удачных местах. Молодая баронесса и не думала скрывать, что была прежде актрисой, отнимая у злоязычных сплетников охоту судачить на ее счет, чем они не преминули бы заняться, если бы она делала тайну из своего прошлого. Впрочем, ее высокое происхождение само по себе обязывало к молчанию, а скромность вскоре завоевала ей все сердца, включая и женские. Дамы в один голос твердили, что такое величавое благородство не часто встретишь даже и при дворе.
Король Людовик XIII, узнав о приключениях Изабеллы, с похвалой отозвался о ее добронравии, а к Сигоньяку проявил особую благосклонность за умение обуздывать себя, ибо, будучи монархом целомудренным, осуждал дерзкую распущенность молодежи. Валломбрезу явно пошло на пользу общество зятя, чему принц не уставал радоваться.
Итак, молодые супруги вели весьма приятную жизнь, день ото дня все сильнее влюбляясь друг в друга, без того пресыщения счастьем, которое нередко омрачает самые благополучные судьбы. Однако с некоторых пор Изабелла была занята какими-то загадочными хлопотами: она подолгу тайно совещалась со своим управителем; к ней являлся архитектор, принося ей какие-то планы; скульпторы и живописцы, получив от нее указания, уезжали в неизвестном направлении. Все это делалось потихоньку от Сигоньяка, но в сговоре с Валломбрезом, который явно владел ключом от тайны.
После нескольких месяцев, потраченных, как видно, на осуществление ее замыслов, Изабелла в одно прекрасное утро как бы невзначай спросила Сигоньяка:
— Дорогой мой повелитель, неужели вы никогда не вспоминаете о своем злосчастном замке Сигоньяк и вам не хочется повидать колыбель нашей любви?
— Я не страдаю неблагодарностью и не раз уже помышлял об этом; но я не решался заговорить о таком путешествии, не зная, придется ли оно вам по вкусу. Я не осмелился бы оторвать вас от утех королевского двора, украшением коего вы служите, и увезти в полуразрушенный замок, приют сов и мышей, пусть он мне и милее самого роскошного дворца. Как вековое жилище моих предков, как место, где я впервые увидел вас, он навсегда останется для меня святыней, и я рад бы воздвигнуть там алтарь.
— Что до меня, так я часто думаю, есть ли еще цветы на том кусте шиповника в саду, — заметила Изабелла.
Готов поклясться, что есть, — подхватил Сигоньяк, — дикие кустарники всегда очень живучи, а после вашего прикосновения они тем более не перестанут цвести, пусть даже эти цветы и некому дарить.
— В отличие от всех супругов, вы после брака стали еще любезнее и угощаете жену мадригалами, как любовницу, — смеясь, ответила баронесса де Сигоньяк, — но раз ваше желание совпадает с моей прихотью, почему бы нам не отправиться туда на этой же неделе? Время сейчас хорошее, жаркая пора миновала, и мы совершим отличное путешествие. Валломбрез поедет с нами, я возьму также и Чикиту, — она будет рада повидать родные края.
После коротких сборов вся компания тронулась в путь. Путешествие оказалось недолгим и приятным; Валломбрез заранее позаботился о подставах, и через несколько дней путники достигли того места, где от большой дороги отходит аллея к замку Сигоньяк. Было около двух часов пополудни, и погода стояла лучезарная.
Когда карета свернула в аллею, откуда как на ладони открывался замок, Сигоньяк обомлел, — он не узнавал с детства привычных мест. Дорога была разровнена, колеи сглажены, обстриженные изгороди больше не норовили оцарапать прохожего своими колючками. Искусно подрезанные деревья отбрасывали умеренную тень, а зеленый их свод обрамлял совершенно новую панораму. Вместо плачевной картины жалких развалин, которая, конечно, запомнилась читателю, под веселыми солнечными лучами красовался обновленный замок, похожий на прежний, как сын похож на отца. В архитектуре его ничто не изменилось; только за несколько месяцев он помолодел на столетия. Отвалившиеся камни встали на свои места. Стройные белые башенки, заново крытые шифером, симметрично и горделиво, как феодальные стражи, возвышались по четырем углам здания, врезая в небесную лазурь золоченые флюгера. Крыша, увенчанная изящным металлическим коньком, заменила старые щербатые черепицы, изъеденные плесенью и поросшие мхом. Окна, освобожденные от досок, блистали новыми стеклами в свинцовых переплетах, образующих круги и ромбы; ни единой трещины не заметно было на фасаде, восстановленном полностью. Великолепная дубовая дверь с богатым металлическим прибором закрывала портал, где прежде болтались две изъеденные червями, облупленные створки. На выступе, в центре свода, посреди умело реставрированных завитков сверкал герб Сигоньяков: три аиста на лазоревом поле с благородным девизом, прежде стертым, а нынче четко наведенным золотыми буквами: «Alta petunt»[22].
Сигоньяк несколько минут хранил молчание, созерцая это сказочное зрелище, а затем повернулся к Изабелле и произнес:
— Вам, благодетельная фея, обязан я превращением моего замка. Стоило вам коснуться его своим волшебным жезлом, чтобы вернуть ему былой блеск, молодость и красоту. Я безмерно благодарен вам за этот сюрприз — он чудесен и восхитителен, как все, что исходит от вас. Хоть я не сказал ни слова, вы угадали мое заветное желание.
— Поблагодарите также некоего чародея, который немало помог мне в этом предприятии. — И она указала на Валломбреза, сидевшего в углу кареты.
Барон пожал руку молодому герцогу. Во время этого разговора карета выехала на площадку, разбитую перед замком, из красных кирпичных труб которого валили густые клубы белого дыма, показывая, что здесь ждут важных гостей.
Пьер в роскошной новой ливрее стоял на пороге дверей, которые раскрыл на обе створки, когда карета остановилась у крыльца и барон с баронессой и герцогом вышли из нее. Восемь или десять лакеев, выстроенных в ряд на ступеньках, низкими поклонами приветствовали своих новых господ, которых еще не видели в лицо.
Умелые живописцы вернули настенным фрескам былую свежесть. Атланты, снова став мускулистыми в духе флорентийской школы, с довольным видом поддерживали ложный карниз. Римские императоры щеголяли ярким пурпуром плащей. Дождевые подтеки уже не пятнали свода, и сквозь рисованную решетку виднелось безоблачное небо.
Чудесное превращение коснулось всего. Панели и паркетные полы были исправлены. Старая мебель заменена новой, сходной с прежней. Прошлое не было изгнано, а только омоложено. Фландрские шпалеры с охотником на чирков по-прежнему украшали спальню Сигоньяка, но их тщательно отмыли, освежив краски. И кровать была все та же, только терпеливый мастер закупорил дырки, просверленные древоточцем, восстановил у фигурок на фризе носы и пальцы, доделал листья к обломанным гирляндам, вернул орнаментам стершиеся грани и привел старинное ложе в первоначальный вид. Штофные зеленые с белым занавеси того же рисунка, что и прежние, ниспадали между тщательно навощенными витыми колонками.
Чуткая Изабелла воздержалась от чрезмерной роскоши, которой легко злоупотребить, когда располагаешь большими деньгами; она хотела доставить душевную радость нежно любимому мужу, вернув ему воспоминания детства, освобожденные от убожества и тоски. Все дышало веселостью в этом некогда печальном жилище. Даже портреты предков, очищенные от слоя грязи, реставрированные и покрытые лаком, по-молодому улыбались из золоченых рам. Сварливые вдовицы, чопорные аббатисы уже не морщились при виде Изабеллы, из комедиантки ставшей баронессой, они принимали ее как родню.
Во дворе не осталось ни крапивы, ни лопуха, ни всех тех сорных трав, что способствуют сырости, беспорядку и запустению. Между обмазанными цементом плитами не было теперь зеленого ободка, признака заброшенных усадеб. Сквозь прозрачные стекла окон в заколоченных прежде комнатах виднелись занавеси дорогого шелка, показывая, что здесь все готово к приему гостей.
Молодые хозяева спустились в сад по скрепленным и очищенным от мха ступеням, которые уже не шатались под чересчур доверчивой ногой. У самой террасы зеленел бережно пестуемый куст шиповника, некогда, в день отъезда Сигоньяка, подаривший розочку молодой актрисе. На нем и теперь цвела роза, которую Изабелла сорвала и спрятала за корсаж, увидев в ней знак прочности своего счастья. Садовник потрудился не меньше архитектора; ножницы его навели порядок в этом девственном лесу. Исчезли раскидистые ветки, преграждавшие путь, исчезли когтистые заросли кустарника, по дорожкам можно было пройти, не рискуя ободрать платье о шипы. Прирученные деревья вновь расположились аллеями и боскетами. Заново подстриженные самшитовые изгороди окаймляли цветники со всеми, какие существуют, дарами флоры. На дальнем конце сада исцеленная от проказы Помона белела божественной наготой. Ловко приделанный нос вернул ей греческую линию профиля. А в корзинке у нее вместо ядовитых грибов виднелись мраморные плоды. Из львиной пасти изливалась в раковину струя прозрачной влаги. Ползучие растения, помавая разноцветными колокольчиками и цепляясь усиками за крепко сбитый зеленый трельяж, живописным ковром закрывали стену ограды, придавая сельскую приятность гроту, выложенному ракушками и служившему нишей статуе богини. Никогда еще, даже в лучшие времена, дом и сад не были убраны с таким богатством и вкусом. Замок Сигоньяк, совсем было захиревший, сверкал теперь во всем своем великолепии.
Изумленный и восхищенный Сигоньяк двигался, как во сне, прижимая к своей груди руку Изабеллы и не стыдясь слез умиления, катившихся по его щекам.
— А теперь, обозрев все, следует объехать угодья, которые я скупила, чтобы восстановить по возможности в былом виде исконные владения Сигоньяков, — сказала Изабелла. — Если разрешите, я пойду надену амазонку. Долго я не задержусь, прежнее мое ремесло научило меня быстро менять костюмы. Вы же тем временем выберите себе лошадей и прикажите их оседлать.
Валломбрез повел Сигоньяка в конюшню, где прежде было пусто, а теперь оказалось десять кровных лошадей, разделенных между собой дубовыми стойлами; под ними были плетеные подстилки, их упругие холеные крупы отливали атласом. Услышав шум голосов, благородные животные обратили на посетителей свои умные глаза. Внезапно раздалось ржание: славный Баярд, узнав хозяина, приветствовал его на свой лад; этот старый слуга, которого Изабелла и не подумала удалить, занимал в конце ряда самое теплое и удобное место. Кормушка его была полна дробленого овса, чтобы облегчить работу старческим зубам: между ног Баярда спал его старый приятель Миро, который поднялся и облизал руку барона. Если же Вельзевул не появлялся до сих пор, причиной тому отнюдь не его доброе кошачье сердечко, а присущая его породе осторожность: вся эта суматоха, перевернувшая вверх дном обычно столь спокойное жилище, порядком озадачила кота. Спрятавшись на чердаке, он дожидался темноты, чтобы объявиться и засвидетельствовать почтение своему возлюбленному хозяину.
Потрепав шею Баярда, барон облюбовал себе красавца гнедого, которого тотчас же вывел из конюшни; герцогу приглянулся испанский жеребец с горделиво изогнутой шеей, достойный носить инфанта, а для баронессы выбрали прелестную лошадку, белую с серебристым отливом, на которую надели роскошное зеленое бархатное седло.
Вскоре появилась Изабелла в кокетливой амазонке, подчеркивавшей все изящество ее фигуры. Костюм этот состоял из синего бархатного казакина, отделанного серебряными пуговицами и галунами, расшитого серебряным сутажом и падающего фалдами на длинную светло-серую атласную юбку. На голове у нее была белая фетровая шляпа мужского фасона с завитым синим пером, спускавшимся сзади до шеи. Чтобы белокурые волосы молодой женщины не растрепались от быстрой езды, их покрывала прелестная голубая сетка, унизанная серебряными бусинками.
В таком виде Изабелла была очаровательна, и самым высокомерным красавицам пришлось бы стушеваться перед нею. Задорный наряд выдвигал на первый план горделивые черты ее обычно скромной и мягкой грации и напоминал о том, что в ней течет доблестная кровь. Это была прежняя Изабелла, но вместе с тем и дочь принца, сестра герцога, супруга дворянина, чей род брал свое начало до крестовых походов. Отметив это, Валломбрез не мог удержаться, чтобы не сказать:
— Сегодня у вас, сестрица, особо величавая осанка! У Ипполиты, царицы амазонок, не могло быть такого победительно-торжествующего вида!
Изабелла, которой Сигоньяк держал стремя, легко вспорхнула в седло; герцог и барон сели на своих коней, и кавалькада выехала на площадку перед замком, где встретила маркиза де Брюйера и нескольких соседей из местных дворян, явившихся приветствовать новобрачных. Хозяева собрались возвратиться, как того требовали приличия, а гости твердили, что не хотят быть помехой начатой прогулке, и, повернув лошадей вспять, вызвались сопутствовать молодой чете и герцогу де Валломбрезу.
Увеличившись еще на пять-шесть всадников, одетых как на парад, ибо провинциалы расфрантились вовсю, кавалькада стала весьма импозантной. Этот поистине королевский кортеж двигался по укатанной дороге мимо зеленеющих лугов и полей, ставших плодородными при помощи тщательной обработки, мимо благоустроенных ферм и бережно ухоженных лесов.
Все это принадлежало Сигоньяку. Ланды, поросшие фиолетовым вереском, казалось, отступили от стен замка.
Когда кавалькада проезжала сосновым лесом вдоль границы баронских владений, послышался лай, и вскоре из чащи появилась Иоланта де Фуа в сопровождении дядюшки-командора и двух-трех кавалеров. Тропа была узкая, и всадникам с трудом удалось разминуться, хотя те и другие сторонились, как могли. Лошадь Иоланты била копытами и становилась на дыбы, а сама наездница задела юбкой юбку Изабеллы и, покраснев от досады, старалась придумать оскорбление поязвительнее. Изабелла же душой была выше женского тщеславия; ей даже не пришло на мысль отомстить Иоланте за презрительный взгляд и слова «странствующая комедиантка», оброненные чуть ли не на этом самом месте; подумав, что торжество соперницы могло бы ранить если не сердце, то гордость Иоланты, она со спокойным и приветливым достоинством поклонилась мадемуазель де Фуа, которая, кипя от бешенства, принуждена была ответить легким кивком. А барон де Сигоньяк с невозмутимым равнодушием отвесил ей учтивый поклон, и в глазах своего бывшего обожателя Иоланта не усмотрела ни искры прежнего огня. Яростно стегнув лошадь, она умчалась галопом, увлекая за собой свою малочисленную свиту.
— Клянусь всеми Венерами и Купидонами, девица хороша собой, только на вид чертовски строптива и сердита. Как она посмотрела на мою сестру! Что ни взгляд, то удар кинжалом! — весело сказал Валломбрез ехавшему рядом маркизу де Брюйеру.
— Она долго и полновластно царила здесь, — пояснил маркиз, — а быть свергнутой с трона не так-то приятно, победа же явно осталась за баронессой де Сигоньяк.
Кавалькада воротилась в замок. В зале, где когда-то бедняга барон, не имея у себя никакой провизии, угощал актеров ужином из их собственных припасов, сейчас пышная трапеза ожидала гостей, пришедших в восторг от роскошного убранства. На камчатной скатерти, где среди узоров были вплетены геральдические аисты, сверкало тяжелое серебро с гербом Сигоньяков. Отдельные предметы из старого сервиза, мало-мальски целые, были благоговейно сохранены и приобщены к современной утвари, чтобы ее роскошь не колола глаза своей новизной и чтобы древняя колыбель Сигоньяков внесла свою лепту в великолепие нового замка. Все уселись за стол. Изабелле было предназначено то же место, которое она занимала в знаменательный вечер, изменивший судьбу барона. Оба супруга, вспомнив об этом, обменялись нежной улыбкой, полной умиленных воспоминаний и радужных надежд.
Подле буфета, где мажордом разрезал мясные кушанья, стоял мужчина атлетического сложения с широким и бледным лицом, окаймленным густой темной бородой, весь в черном бархате, с серебряной цепью на шее и важным тоном отдавал распоряжения лакеям. Подле поставца, загроможденного разнообразными бутылками, пузатыми и удлиненными, оплетенными или не оплетенными соломой, смотря по происхождению, без устали суетился, невзирая на старческую дрожь в ногах, чудаковатый человек с носом пьяницы, усеянным угрями, с нарумяненными виноградным суслом щеками, с лукавыми разномастными глазками под остроугольными бровями. Случайно взглянув в их сторону, Сигоньяк узнал в первом из них трагика Ирода, а во втором — комика Блазиуса. Изабелла заметила его взгляд и на ухо пояснила ему, что, желая избавить славных стариков от тяжелой жизни бродячих актеров, она сделала одного из них управителем, а другого дворецким в замке Сигоньяк, — должности спокойные и не требующие большого труда, в чем барон согласился с женой, одобрив ее решение.
В самый разгар пиршества, когда бутылки, стараниями хлопотливого Блазиуса, без задержки сменяли одна другую, Сигоньяк вдруг почувствовал, как чья-то голова легла ему на одно колено, а острые когти царапают другое, словно перебирают струны гитары, наигрывая знакомый мотив. Это Миро и Вельзевул прошмыгнули в приоткрытую дверь и при всем страхе, который внушало им нарядное и многолюдное общество, все же явились требовать у хозяина свою долю с пиршественного стола. Разбогатев, Сигоньяк не изменил смиренным друзьям своей бедности: погладив Миро и почесав безухую голову Вельзевула, он щедро наделил их лакомыми кусками. На сей раз объедки состояли из ломтиков жирного паштета, крылышек куропатки, рыбьих ребрышек и прочих деликатесов. Вельзевул не помнил себя от упоения и, царапаясь когтистой лапкой, требовал все новых и новых подачек, а Сигоньяк с неистощимым терпением не уставал их подкидывать, забавляясь такой прожорливостью. Наконец, раздувшись, как бочонок, раскорячив ноги и почти не имея сил мурлыкать, старый черный кот удалился в спальню, обитую фландрскими шпалерами, и свернулся клубком на привычном месте, чтобы переварить столь обильную трапезу.
Валломбрез не отставал в возлияниях от маркиза де Брюйера, соседние дворяне только и знали, что пили до дна за здоровье молодых супругов, а Сигоньяк, воздержанный от природы и по привычке, в ответ старался лишь пригубить свой бокал, ни разу не осушив его. Наконец захмелевшие соседи, пошатываясь, встали из-за стола и не без помощи лакеев добрались до приготовленных для них комнат.
Изабелла, под предлогом усталости, покинула гостей еще во время десерта. Чикита, возведенная в ранг горничной, переодела ее ко сну с обычным своим молчаливым усердием. Чикита превратилась в красивую девушку. Не подвергаясь более воздействиям непогоды, цвет ее лица стал светлее, однако не утратил той жгучей бледности, которую так ценят живописцы. Волосы, спознавшись с гребнем, лежали гладко, связанные красной лентой, концы которой падали сзади на смуглую шею. А на шее по-прежнему блестело жемчужное ожерелье, подарок Изабеллы, ставшее для странной девушки знаком ее добровольного рабства, своего рода обязательством, которое может разорвать лишь смерть. Она всегда носила черное платье в знак траура по своей единственной любви. Госпожа ее не перечила этой причуде. Так как Чиките больше нечего было делать в спальне, она удалилась, как всегда, поцеловав руку Изабеллы.
Когда Сигоньяк вошел к себе в спальню, где провел столько печальных и одиноких ночей, отсчитывая каплю за каплей минуты, долгие, как часы, слушая жалобный вой ветра за ветхими шпалерами, он увидел при свете китайского фонаря, висевшего под потолком, милое личико Изабеллы, которое выглядывало между зелеными с белым штофными занавесками, улыбаясь ему целомудренной и нежной улыбкой.
Так полностью осуществились мечты, которые он лелеял, когда, потеряв всякую надежду вновь встретиться с Изабеллой, взглядом, полным неизбывной тоски, смотрел на пустую постель. Поистине, судьба знает, что творит!
Под утро Вельзевул, не находя себе покоя, сполз с кресла, где провел ночь, и через силу вскарабкался на кровать. Ткнувшись носом в руку спящего хозяина, он попробовал замурлыкать, но урчание перешло в хрип. Сигоньяк проснулся и увидел, что Вельзевул смотрит на него, как бы моля о человеческой помощи, а его широко раскрытые зеленые глаза уже потускнели и подернулись пленкой. Шерсть утратила шелковистый блеск и слиплась, как от смертного пота. Он весь дрожал и лишь неимоверным усилием держался на трясущихся лапах. Казалось, некое страшное видение возникло перед ним. Наконец он упал на бок, судорожно дернулся несколько раз, испустил стон, похожий на крик ребенка, которого режут, и застыл в неподвижности, словно незримые руки вытянули его во всю длину. Предсмертный вопль его разбудил молодую женщину.
— Бедный Вельзевул! — сказала она, увидев труп кота. — Он столько лет терпел все бедствия замка Сигоньяк, а теперь не может насладиться его процветанием!
Говоря по правде, Вельзевул пал жертвой собственного обжорства. Изголодавшийся желудок, непривычный к таким роскошествам, не справился с переизбытком пищи. Смерть кота сильно поразила Сигоньяка. Он не считал животных простыми автоматами, а полагал, что у них есть душа, хоть и низшего порядка, но способная чувствовать и понимать. Такого мнения, кстати, придерживаются все, кто долго жил одиноким, только лишь с кошкой, собакой или каким-либо другим животным, и, постоянно общаясь с ним, успел его изучить. Не мудрено, что Сигоньяк со слезами на глазах и с болью в сердце бережно завернул беднягу Вельзевула в шелковый лоскут, чтобы похоронить его попозже вечером, опасаясь, как бы эта церемония не показалась смешной или кощунственной грубым и пошлым душам. Когда стемнело, он взял заступ, фонарь и окостеневший труп Вельзевула, завернутый в шелковый саван. Спустившись в сад, барон принялся копать землю около шиповника при свете фонаря, лучами своими разбудившего насекомых и привлекшего ночных бабочек, которые бились пыльными крыльями о роговые пластинки. Кругом стояла темень. Только краешек луны проглядывал сквозь разрывы черных туч, и вся обстановка, пожалуй, была не в меру торжественна для похорон кота. Сигоньяк все рыл и рыл, ему хотелось закопать Вельзевула как можно глубже, чтобы хищные звери не добрались до него. Внезапно железный заступ высек искру, будто ударившись о кремень. Решив, что он наткнулся на камни, барон стал рыть с удвоенной силой; но удары заступа отдавались каким-то странным звоном, и работа не двигалась с места. Тогда барон поднес к яме фонарь, чтобы разглядеть, в чем тут препятствие, и не без удивления увидел крышку дубового сундука, обитого железными полосами, заржавленными, но еще крепкими; он выкопал землю вокруг ящика и, вооружась заступом, как рычагом, изловчился поднять таинственную находку, несмотря на ее вес, до края ямы и поставить на твердую землю. Затем опустил Вельзевула на освободившееся место сундука и засыпал яму землей.
Покончив с этим делом, он попытался отнести свою находку в замок, но это оказалось не под силу одному человеку, даже такому крепкому, как барон, и ему пришлось позвать на помощь верного Пьера. Слуга и хозяин взялись за ручки сундука и понесли его к дому, сгибаясь под тяжестью ноши.
Пьер взломал замок топором, и крышка, отскочив, обнаружила внушительное количество золотых денег: унций, двойных пистолей, цехинов, дукатов, крузад, ангелотов, генуэзских, португальских и других монет разных стран и разного достоинства, но одинаково старых. Среди золота находились старинные уборы, украшенные драгоценными каменьями. На дне укладки Сигоньяк нашел пергаментный свиток, скрепленный гербом Сигоньяков, но сырость смыла письмена. Только подпись была еще чуть-чуть различима, и барон букву за буквой разобрал слова: «Раймон де Сигоньяк». Так звали одного из его предков, уехавшего воевать в дальние края, откуда он не вернулся, унеся с собой тайну своей смерти или исчезновения. Он оставил дома единственного малолетнего сына и, отправляясь в чреватый опасностями поход, зарыл свои богатства, рассказав об этом надежному человеку, который, по всей вероятности, внезапно был застигнут смертью и не успел указать законному наследнику место, где зарыт клад. С этого-то Раймона и начался упадок дотоле богатого и могущественного рода Сигоньяков. Такова была вполне правдоподобная история происхождения клада, которую барон восстановил на основании этих слабых примет; бесспорно было одно — найденное золото по праву принадлежало ему. Он велел позвать Изабеллу, чтобы она увидела его сокровища.
— Положительно, Вельзевул был добрым гением Сигоньяков{173}, — сказал барон. — Через свою смерть он сделал меня богатым, а когда явился ангел, он исчез. Роль его была окончена, потому что вы принесли мне счастье.
Примечания
1
«Зубом памятный знак (в губы вожмет тебе)» (лат.)
(обратно)2
Среди опасностей моря (лат.)
(обратно)3
Змеи гремучей страшно жало, Но нет лекарства от кинжала (исп.) (обратно)4
Танцовщица, играющая на бубне (исп.)
(обратно)5
Крупица соли (лат.)
(обратно)6
Деревянной, движимой нитями (лат.)
(обратно)7
Целую, кавалер, руку вашей милости (исп.)
(обратно)8
Разодетыми (итал.)
(обратно)9
Изысканные фразы, сравнения (итал.)
(обратно)10
Остроты (исп.)
(обратно)11
Любыми путями (лат.)
(обратно)12
Верный Ахат (лат.)
(обратно)13
Смуглянка (исп.)
(обратно)14
Ломаю, но сам не сломаюсь (лат.)
(обратно)15
Высшая степень, предел совершенства (лат.)
(обратно)16
Вторым заходом (лат.)
(обратно)17
Второе «я» (лат.)
(обратно)18
Блестящие поэтические изыски (итал.)
(обратно)19
Перевод Мориса Ваксмахера
(обратно)20
На низком существе (лат.)
(обратно)21
Грабитель (исп.)
(обратно)22
«Стремиться к высокому» (лат.)
(обратно)Комментарии И. Лилеевой
1
Ланды— местность на юго-западе Франции, примыкающая к побережью Атлантического океана.
(обратно)2
…в царствование Людовика XIII… — Французский король Людовик XIII правил с 1610 по 1643 г.
(обратно)3
…приехали во Францию вслед за художником Росса или за Приматиччо… — В XVI в. многие итальянские зодчие и живописцы по приглашению короля Франциска I приезжали во Францию. В их числе были художник Россо Фиорентино и скульптор и архитектор Приматиччо, участвовавший в отделке замков Фонтенбло и Шамбор.
(обратно)4
Монфоконские крысы. — В Моифоконе, небольшом местечке на окраине Парижа, в XVII в. находилась тюрьма и виселица и все кругом кишело крысами.
(обратно)5
…как покоятся отсеченные главы Иоанна Крестителя на серебряных блюдах… — Согласно христианской легенде, правитель Галилеи Ирод Антипа велел отрубить Иоанну Крестителю голову и преподнес ее на серебряном блюде своей племяннице Саломее.
(обратно)6
Палисси Бернар (1510–1589) — французский ученый-гуманист, писатель, создатель французской художественной керамики.
(обратно)7
Монлери — замок XI в. недалеко от Парижа; был разрушен в XII в. королем Людовиком Толстым.
(обратно)8
Замок Гаяр — укрепленный феодальный замок, построенный в XII в. королем Ричардом Львиное Сердце.
(обратно)9
Кобольд — в древнегерманской мифологии — дух, покровитель жилищ.
(обратно)10
Нестор — в поэмах Гомера — мудрый старец, проживший более ста лет.
(обратно)11
…рыцарь смерти с гравюры Альбрехта Дюрера. — Имеется в виду гравюра немецкого художника Альбрехта Дюрера (1471–1528), изображающая рыцаря на коне и стоящих рядом с ним смерть и дьявола.
(обратно)12
…заглушил бы прялку большеногой Берты… — Согласно легенде, Берта, жена короля франков Пипина Короткого, до замужества была искусной пряхой.
(обратно)13
Ронсар Пьер (1524–1585) — поэт французского Возрождения, прославился своими одами и любовными сонетами.
(обратно)14
…пес семи спящих отроков. — Имеется в виду христианская легенда о семи юношах, во время одного из гонений на христиан спрятавшихся в пещере вместе со своей верной собакой; бог усыпил их и спустя двести лет пробудил.
(обратно)15
Повозка Феспида. — Согласно преданию, греческий поэт Феспид (VI в. до н. э.), которого легенда называет создателем древнегреческой трагедии, разъезжал по Греции в повозке, служившей ему театральными подмостками.
(обратно)16
…эпитет, которым старик Гомер наградил богиню Аврору. — Имя богини утренней зари Авроры (у греков — Эос) у Гомера сопровождается постоянным эпитетом «розоперстая».
(обратно)17
…в виде маски чудовища под карнизом Нового моста. — Арки этого древнейшего в Париже каменного моста богато украшены гротескными скульптурными фигурами работы Жермена Пилона (1535–1590).
(обратно)18
Леандр — обычное имя героя-любовника старинной комедии.
(обратно)19
Матамор — персонаж старинной испанской комедии, хвастливый воин.
(обратно)20
Мэре, Тристан — французские драматурги XVII в., авторы трагедий, предшественники классицизма.
(обратно)21
Анна Австрийская — жена короля Людовика XIII.
(обратно)22
Пентесилея, Марфиза — воинственные красавицы. Пентесилея — в античной мифологии — царица амазонок, помогавшая троянцам в войне с греками. Марфиза — одна из героинь поэмы итальянского поэта XVI в. Лодовико Ариосто «Неистовый Роланд», победительница во многих поединках с рыцарями.
(обратно)23
Кассандр — персонаж старинной итальянской комедии, доверчивый старик, которого обманывают окружающие.
(обратно)24
Скапен — традиционное имя слуги в старинных французских комедиях.
(обратно)25
Гирканские тигрицы. — Тигры, водившиеся в Гиркании, северной части Древней Персии, были известны своей особой свирепостью.
(обратно)26
Эргаст — традиционный персонаж старинных комедий; влюбленный молодой человек, соперник героя.
(обратно)27
Труффальдино — в итальянской комедии масок — хитрый слуга, в старинных французских комедиях — обычно всеми обманутый старик, дядя или опекун молодой героини.
(обратно)28
«Амадис», «Астрея» — популярные в XVII в. любовные романы. «Амадис Галльский» — испанский рыцарский роман XV в., в котором рассказывается о подвигах идеального возлюбленного. «Астрея» — пасторальный роман французского писателя XVII в. Опоре д'Юрфе.
(обратно)29
…писал свои мемуары на волнах океана пером длиной в пятнадцать футов. — То есть был каторжником, гребцом на галерах.
(обратно)30
Ирод, Полифонт — традиционные герои старинных трагедий. Ирод — правитель Иудеи в I в до н. э., известный своей жестокостью. Полифонт — легендарный царь Сицилии, жестокий тиран.
(обратно)31
Мучения апостола Варфоломея, усекновение главы Иоанна Крестителя. — Речь идет о картинах на евангельские сюжеты. Апостол Варфоломей — один из учеников Христа, был замучен и распят на кресте головой вниз. Об Иоанне Крестителе см. прим. {5}.
(обратно)32
Гарнъе Робер (XVI в.), Скюдери Жорж (XVII в.) — французские драматурги, авторы трагедии, написанных напыщенным языком.
(обратно)33
…круглый стол, за которым могли бы пировать все двенадцать паладинов… — то есть двенадцать рыцарей, приближенных короля Карла Великого, о которых рассказывается в средневековом французском эпосе. О двенадцати рыцарях круглого стола повествуют также кельтские легенды о короле Артуре.
(обратно)34
Тантал по своей воле… — Согласно античной мифологии, древнегреческий царь Тантал за оскорбление богов понес в загробном мире наказание: стоя в воде под деревьями, отягченными плодами, он не мог ни напиться, ни утолить голод.
(обратно)35
Полифем, Какус — страшные великаны. Полифем — циклоп, то есть одноглазый великан, описанный в IX песне «Одиссеи» Гомера. Какус — у древних римлян жестокий великан. О схватке Какуса с Гераклом рассказывается в восьмой книге эпической поэмы «Энеида» римского поэта I в. до н. э. Вергилия.
(обратно)36
Эльдорадо и Ханаан — то есть заветная цель, обетованная земля. Эльдорадо — страна сказочных богатств, которую вплоть до XVIII в. искали в центре Южной Америки. Ханаан — древнее название Палестины.
(обратно)37
…непогрешимый Аристотель ползал на четвереньках… — Согласно легенде, древнегреческий философ Аристотель, порицавший безумства любви, однажды сам от любви потерял голову и подчинился всем капризам смеявшейся над ним красавицы.
(обратно)38
…были отряжены Пантагрюэлем ставить придорожные камни… — Имеется в виду эпизод из двадцать третьей главы второй книги романа Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль».
(обратно)39
Брадаманта — воинственная дева, одна из героинь поэмы Арносто «Неистовый Роланд».
(обратно)40
…Алькофрибас Назье… создал панзуйскую сивиллу… — Алькофрибас Назье — анограмма имени Франсуа Рабле. Под псевдонимом Алькофрибаса Назье в 1534 г. была напечатана вторая книга «Гаргантюа и Пантагрюэля». В семнадцатой главе третьей книги этого романа описывается уродливая панзуйская сивилла.
(обратно)41
Иосиф Прекрасный, Ипполит — герои древних легенд, пострадавшие- от коварства женщин. Иосиф Прекрасный — библейский персонаж, был продан в рабство в Египет, отверг любовь жены своего господина Пентефрия (Потифара), за что был оклеветан ею и брошен в тюрьму. Ипполит — в древнегреческой мифологии — сын афинского царя Тесея и Антиопы, оклеветанный своею мачехой Федрой, воспылавшей любовью к своему пасынку.
(обратно)42
Трирема — у древних греков — парусная галера с тремя рядами весел.
(обратно)43
…брачный пир у Гамаша или в Кане Галилейской… — свадебные празднества. Свадьба Гамаша, щедрого, богатого крестьянина, — эпизод из романа Сервантеса «Дон-Кихот». Брак в Кане Галилейской — эпизод из Евангелия.
(обратно)44
Кур-ла-Рен — аллея в Париже на правом берегу Сены, проходившая около королевского дворца Лувр; в XVII в. была излюбленным местом прогулок светских щеголей.
(обратно)45
Геба — в древнегреческой мифологии — богиня юности; изображалась в образе девушки в венке и с золотой чашей.
(обратно)46
Регул — римский консул (III в. до н. э.). Отпущенный из карфагенского плена в Рим под честное слово, он вернулся в Карфаген, где стойко вынес самые жестокие пытки.
(обратно)47
Улисс — иная форма имени легендарного древнегреческого героя Одиссея, прославившегося своим умом и хитростью.
(обратно)48
Протей — в древнегреческой мифологии — морское божество, старец, обладавший способностью беспрестанно менять свой облик.
(обратно)49
…подобно мертвому Сиду, способен выполнить свое отважное дело. — Речь идет о герое испанского народного эпоса доне Родриго Диасе де Вивар, прозванном Сидом. В одном из народных романсов XVI в., «Смерть Сида», рассказывается, как мавры, обрадованные известием о смерти Сида, напали на город Валенсию. Защитники города посадили на коня мертвого Сида и бросились на врага. Увидев Сида, мавры обратились в бегство.
(обратно)50
…спустился бы в ад, как Эней, и притом без золотой ветви. — В шестой книге поэмы Вергилия «Энеида» рассказывается, как Эней спускается в загробный мир, где ему предстоит узнать будущее своих потомков. Следуя повелению пророчицы Сивиллы, Эней находит в лесу золотую ветвь, которая должна открыть ему путь в загробный мир.
(обратно)51
Лонгин — древнегреческий ритор и философ III в. Ему приписывается авторство трактата «О возвышенном».
(обратно)52
Амадис Галльский, Эспландион, Флоримар Гирканский— герои средневековых рыцарских романов.
(обратно)53
Вулкан — бог огня и кузнечного ремесла (в древнегреческой мифологии — Гефест).
(обратно)54
Алъкандр — персонаж старинной французской комедии, молодой герой.
(обратно)55
Педант-Блазиус своим силеновским языком облизывал губы… — Одно из лесных божеств античной мифологии — Силен изображался козлоногим веселым пьяным стариком.
(обратно)56
…замок Брюйер… по стилю своему был сродни особнякам на Королевской площади в Париже, — Королевская площадь, ныне площадь Вогезов, — замечательный памятник архитектуры французского Возрождения. Величественные здания с аркадами замыкают квадрат площади; их фасады украшены резьбой по камню, фигурным орнаментом.
(обратно)57
Андруэ дю Серсо — семья известных французских архитекторов XVI и XVII вв.
(обратно)58
Телемская обитель — идеальное человеческое сообщество, описанное в первой книге романа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль».
(обратно)59
Аргус — в античной мифологии — многоглазый великан; в переносном смысле — бдительный страж.
(обратно)60
… еще до того, как был убит отец ныне царствующего монарха, — Отец Людовика XIII Генрих IV был убкт иезуитом Равальяком в 1610 г.
(обратно)61
Соборная роза — большое круглое окно над главным входом в готический собор; сложный орнамент витража напоминал прожилки лепестков розы.
(обратно)62
Огмий — у древних галлов — бог, отождествлявшийся с Гераклом (Геркулесом).
(обратно)63
Арди Александр (1570–1631) — французский драматург, один из предшественников Корнеля.
(обратно)64
Теофиль де Вио — французский поэт и драматург XVII в., автор трагедий, написанных в напыщенной, претенциозной манере.
(обратно)65
Перстень Гигеса, — Согласно античной легенде, юный пастух Гигес обладал волшебным перстнем, делавшим его невидимым.
(обратно)66
…братья из «Фиваиды», — Очевидно, имеется в виду поэма римского поэта I в. н. э. Папиния Стация «Фиваида», в которой рассказывается древнегреческий миф о походе Полиника, сына Эдипа, против своего брата Этеокла, правившего в Фивах. Полиник и Этеокл погибли в братоубийственном поединке.
(обратно)67
…многие смертные богини поставили бы Париса перед выбором… — Согласно древнегреческому мифу, сын троянского царя Парис должен был решить спор трех богинь — Геры, Афины и Афродиты, — отдав самой красивой из них золотое яблоко с надписью «прекраснейшей».
(обратно)68
Гераклит — древнегреческий философ. Ему свойствен был пессимистический взгляд на жизнь и на людей, за что он и получил прозвище «плачущего философа».
(обратно)69
Полиен — греческий военный писатель (II в.), автор известной в средние века книги «Хитрости или воинские уловки».
(обратно)70
…делая шаги длиной с те шестифутовые слова, о которых толкует Гораций… — Квинт Гораций Флакк — римский поэт I в. до н. э., автор стихотворного трактата «Наука поэзии». Шестифутовые (точнее — полуторафутовые) слова — образ, заимствованный из стиха 97-го трактата.
(обратно)71
…читал Плавтова «Milesgloriosus», прародителя всей плеяды Матаморов. — То есть читал комедию римского комедиографа Плавта (конец III в. — начало II в. до н. э.) «Хвастливый воин», одним из главных персонажей которой был воин-фанфарон, чей образ перешел затем в итальянскую, испанскую и французскую комедии.
(обратно)72
…Венеры, которая… отдает предпочтение воинам, жестоко презирая своего хромоногого рогоносца-мужа. — Намек на античный миф о богине любви Венере, которая любила бога войны Марса и была неверной женой своему мужу, хромоногому богу огня и кузнечного ремесла Вулкану.
(обратно)73
Я не Самсон, чтобы позволить себя остричь, и не Алкид, чтобы сидеть за прялкой, — Намек на легендарных героев, попавших под власть женщин. Согласно Библии, сила древнееврейского героя Самсона была заключена в его волосах. Филистимлянка Далила приказала его остричь, когда он спал в ее объятиях. Лишенный силы, Самсон попал в плен к врагам. Алкид — одно из имен древнегреческого героя Геракла. В наказание за невольно совершенное убийство он был отдан на три года в рабство лидийской царице Омфале, которая, желая как можно больше его унизить, заставляла Алкида носить женскую одежду и прясть.
(обратно)74
…отчищать… шкуру немейского льва… — Первым из двенадцати легендарных подвигов Геракла было убийство жившего около города Немей неуязвимого льва, шкуру которого он затем носил на себе.
(обратно)75
Юнона — римское имя царицы богов Геры, супруги Зевса (в римской мифологии — Юпитера). Ежегодным омовением в Канафос- ском ключе в Арголиде богиня возвращала свою девственность.
(обратно)76
…потоп не хуже, чем при Ное или Огиге, — Речь идет о легендарных потопах. Ной — библейский патриарх, спасенный богом во время потопа. Огиг — легендарный царь Фив, в правление которого страшный потоп затопил большую часть Греции.
(обратно)77
Махмут — видоизмененное имя Магомета.
(обратно)78
Терваган — имя божества у сарацин.
(обратно)79
Плутон — в античной мифологии — повелитель загробного мира, обычно изображался с двузубцем в руках.
(обратно)80
Прозерпина (Персефона) — супруга Плутона, похищенная им и увезенная в загробное царство.
(обратно)81
…подражая… скромности Юпитера по отношению к Семеле… — Имеется в виду античный миф о любви Зевса (Юпитера) к дочери фиванского царя Семеле. Зевс-громовержец, чтобы не испугать Семелу, являлся к ней в обличии простого смертного.
(обратно)82
Раминагробис — хитрый, хищный кот, персонаж басни Лафонтена «Кот, ласка и кролик».
(обратно)83
Брейгель Бархатный (1568–1625) — фламандский художник Жан Брейгель, сын Питера Брейгеля Старшего. Прозван Бархатным за особенно мягкий колорит своей живописи.
(обратно)84
…Диана… спустится к пастуху Эндимиону… — Согласно древнегреческому мифу, богиня охоты Артемида (у римлян — Диана), полюбив юношу Эндимиона, усыпила его в пещере горы Латмос, куда приходила по ночам его навещать.
(обратно)85
Остров Цитера — остров в Средиземном море. Согласно античному мифу, здесь в честь богини любви Афродиты был построен храм. В переносном смысле — царство любви.
(обратно)86
Муций Сцевола — молодой римлянин (VI в. до н. э.), проник в лагерь этрусков, осаждавших Рим. Взятый в плен, он, желая показать стойкость римлян, положил руку в огонь.
(обратно)87
…тот единственный зуб, который Форкиады ссужали друг другу. — В греческой мифологии три зловещие старухи, Форкиады, на всех троих имели один зуб и один глаз, которые они могли передавать друг другу.
(обратно)88
Томирида — царица скифов (VI в. до н. э.). После гибели своего сына сама возглавила битву с персами и приказала отрубить голову взятому в плен персидскому царю Киру.
(обратно)89
…играть одного из сыновей Медеи. — В древнегреческой мифологии Медея — дочь колхидского царя, волшебница. Влюбившись в греческою героя Ясона, помогла ему завладеть золотым руном. Медея убила своего брата, убедила дочерей врага Ясона Полня омолодить отца, разрубив его на куски и сварив в котле. Брошенная Ясоном, она убила своих сыновей и бежала из Греции на колеснице, запряженной крылатыми драконами.
(обратно)90
…как от того дуновения, о котором говорит Иов. — Имеются в виду следующие слова из Книги Иова (одна из книг Библии): «От дуновения Божия происходит лед, и поверхность воды сжимается» (гл. 37, стих 10).
(обратно)91
… , мачеха-церковь запрещает доступ на кладбище… — Католическая церковь отказывала актерам в обряде захоронения, если они перед смертью не отрекались от своей профессии и не приносили покаяния.
(обратно)92
Милон Кротонский — греческий атлет (VI в. до н. э.), отличавшийся необыкновенной силой и прожорливостью.
(обратно)93
Жеронт — персонаж старинной французской комедии, старик, которого обычно обманывают хитрый слуга и молодые влюбленные.
(обратно)94
…как справедливо отмечал Менений. — Римский консул Менений (503 г. до н. э.), желая успокоить плебеев, протестовавших против политики патрициев, произнес речь, где сравнил сенат с желудком, на который работают все органы тела, ибо желудок необходим для жизнедеятельности организма. Речь его известна под названием «Части тела и желудок».
(обратно)95
…вы… быстроноги, как Ахилл Пелид. — Древнегреческого героя Ахилла, сына морской богини Фетиды и фессалийского царя Пелея, Гомер наделяет эпитетом «быстроногий».
(обратно)96
Лестригоны — мифический народ людоедов, с которым встретился в своих странствиях Одиссей (Гомер, «Одиссея», песнь X).
(обратно)97
…в кромешной киммерийской тьме и стуже. — Киммерией древние греки называли северо-восточный Крым: «Там киммериян печальная область, покрытая вечно // Влажным туманом и мглой облаков…» (Гомер, «Одиссея», песнь XI).
(обратно)98
…как у Роландовой кобылы… — Речь идет о лошади Роланда, героя поэмы Ариосто «Неистовый Роланд».
(обратно)99
Велизарий — византийский полководец VI в. По преданию, в старости он был ослеплен и жил подаянием. Имеется в виду картина французского художника Ксрара (1770–1837), изобразившего слепого старика, который несет на руках своего молодого поводыря, умирающего от укуса змеи.
(обратно)100
Плиний Старший (I в. н. э.) — римский ученый, автор «Естественной истории».
(обратно)101
Волы и коровы… смотрели на сцену большими глазами, которые вдохновили Гомера… на хвалебный эпитет при описании красоты Юноны… — Описывая Юнону (см. прим. {75}), Гомер называет ее «волоокой».
(обратно)102
Орест, Пилад — герои древнегреческих мифов. Их имена стали нарицательными для обозначения преданных друзей.
(обратно)103
Пентефриева жена — см. прим. {41}.
(обратно)104
…с помощью тех волшебных притираний, о каких упоминает Апулей… — В романе римского писателя II в. Апулея «Метаморфозы, или Золотой осел» рассказывается о необычайном превращении героя романа Луция с помощью волшебных притираний.
(обратно)105
Даная — в античной мифологии — дочь аргосского царя Акрисия. Отец заключил ее в башню, так как ему было предсказано, что он будет убит своим внуком. К Данае проник Зевс в виде золотого дождя, и она родила Персея, впоследствии случайно убившего своего деда.
(обратно)106
…ты не из тех, кого бросают. Тебе больше пристала роль Цирцеи, нежели Ариадны, — В «Одиссее» Гомера Цирцея — волшебница, превращавшая попадавших к ней в дом мужчин в животных. Иносказательно — обольстительная красавица. Ариадна — дочь критского — царя Миноса; спасла греческого героя Тесея, бежала с ним, а затем была им покинута на пустынпом острове. Здесь упоминается иносказательно, как самоотверженная любящая женщина.
(обратно)107
…Лаиса, прекрасная Империя и синьора Ванноца…. — Лаиса— греческая куртизанка (IV в. до н. э.), славившаяся красотой и умом; Империя — римская куртизанка (XV в. — начало XVI в.); Ванноца — итальянская куртизанка (конец XV в.).
(обратно)108
«Искусство любви» — поэма римского поэта Публия Овидия Назона (43 г. до н. э. — 16 г. н. э.).
(обратно)109
Мог же Юпитер принимать облик быка и даже чужого супруга, чтобы вкушать любовь смертных женщин… — Согласно античной мифологии, царь богов Юпитер (Зевс), перевоплощаясь, появлялся перед смертными женщинами, которые привлекали его своей красотой. Он становился то быком, то лебедем, то золотым дождем. К Алкмене он являлся, приняв облик ее мужа Амфитриона.
(обратно)110
…Венера замерзает без Цереры и Вакха, — То есть любовь угасает без яств и вина — ставшая крылатой фраза из комедии «Евнух» римского комедиографа Теренция (II в. до н. э.).
(обратно)111
Барканский лев, — Барка — город в Северной Африке (Киренаика), где в древности водилось множество львов.
(обратно)112
Нюрнбергский щелкунчик. — Немецкий город Нюрнберг славился искусными ремесленниками. Там, в частности, работали мастера — резчики по дереву, делавшие щипцы для орехов в виде забавных игрушек, щелкунчиков.
(обратно)113
…имели бы большой успех в Сен-Жермене… — то есть при дворе. Королевский дворец Сен-Жермен, недалеко от Парижа, до сооружения Версаля служил загородной резиденцией французских королей.
(обратно)114
Damatapada— персонаж комедии «Дама-невидимка» испанского драматурга XVII в. Кальдерона.
(обратно)115
Панург — персонаж романа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», вечный студент, хитрый, пронырливый, но очень трусливый человек.
(обратно)116
Галаор — герой многих испанских рыцарских романов, идеальный рыцарь.
(обратно)117
Бенвенуто Челлини — итальянский скульптор и ювелир XVI в., несколько лет работал во Франции при дворе Франциска I.
(обратно)118
Нерон Энобарб — римский император (I в. н. э.), мнил себя великим артистом и поэтом, заставлял подданных превозносить его таланты.
(обратно)119
Стикс — в античной мифологии — река, окружавшая подземное царство теней, где пребывали умершие олимпийцы, то есть боги, жители Олимпа.
(обратно)120
Остров Лувъе — маленький островок, образованный узким рукавом Сены; в настоящее время не существует.
(обратно)121
…ад в знаменитых действах на соборной площади города Дуэ, — Город Дуэ на севере Франции славился своими народными празднествами, карнавальными шествиями и представлениями.
(обратно)122
…поистине труд Данаид… — то есть бесконечная бесполезная работа. Данаиды — в античной мифологии — дочери царя Даная. Они были насильственно выданы замуж и в брачную ночь убили своих мужей, за что в загробном царстве обречены вечно наполнять водою бездонную бочку.
(обратно)123
Левиафан — в Библии — огромное морское чудовище.
(обратно)124
Гастер (греч.) — желудок.
(обратно)125
…те замороженные соленые словца, которых наслушался Панург… — Имеется в виду эпизод из пятьдесят шестой главы четвертой книги романа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» («О том, как Пантагрюэль среди замерзших слов открыл непристойности»), где рассказывается, как Панург слышит носящиеся в воздухе оттаявшие ругательства на разных языках.
(обратно)126
Исократ, Демосфен, Эсхин, Гортензий, Цицерон— знаменитые ораторы древности.
(обратно)127
…они соперничали с труппой «Бургундского отеля» и театра «Марэ», — То есть с двумя прославленными парижскими театрами XVII в.
(обратно)128
Ирида — в античной мифологии — богиня радуги, посланница богов, вестница.
(обратно)129
…отзвонили уже куранты на «Самаритянке»… — Речь идет о старинном фонтане в Париже, украшенном большими часами со скульптурным изображением Христа, беседующего у колодца с самаритянкой.
(обратно)130
…служить… кормчим по… Еврипам, Сциллам и Харибдам этой пучины… — то есть по опасным местам. Еврип — узенький пролив у берегов Греции, труднопроходимый для кораблей. Сцилла и Харибда — два мифологических чудовища, которые подстерегали мореплавателей в проливе между Италией и Сицилией.
(обратно)131
Палинур — персонаж поэмы Вергилия «Энеида», рулевой на корабле Энея. Палинур заснул у руля, упал в море и погиб.
(обратно)132
…мясо, изымаемое у мясников по средам и пятницам… — Согласно установлениям католической церкви, в среду и пятницу правоверным католикам запрещалось есть мясо.
(обратно)133
…добрый король со спокойствием Марка Аврелия гарцевал на бронзовом коне… — Речь идет о конной статуе французского короля Генриха IV. Марк Аврелий — римский имеператор (II в. н. э.), философ- стоик, чью конную статую римских времен установил на Капитолии Микеланджело.
(обратно)134
…виднелись три креста на вершине Мон-Валерьена. — Холм Мон- Валерьен на северной окраине Парижа был в XVI–XVII вв. местом паломничества. Там был воздвигнут крест с изображением распятого Христа, а также кресты с изображением распятых разбойников (согласно евангельской легенде).
(обратно)135
Балкон Карла IX. — С балкона Лувра Карл IX наблюдал избиение гугенотов во время Варфоломеевской ночи (ночь на 24 августа 1572 г.).
(обратно)136
Ворота Конференции — ворота сада Тюильри, названные так в ознаменование переговоров между Генрихом Бурбонским (впоследствии королем Генрихом IV), предводителем гугенотов, и католической Лигой в 1593 г.
(обратно)137
…был старше Мафусаила, — Согласно библейской легенде, патриарх Мафусаил прожил девятьсот шестьдесят девять лет.
(обратно)138
…неисцелимой скуки… какой томился Филипп II… — Испанский король Филипп II (XVI в.) был фанатичным католиком, отличался мрачным характером и крайней жестокостью.
(обратно)139
…когда Париж звался Лютецией, — Лютеция — название галльского поселения на теперешнем острове Сите, ставшем ядром будущего Парижа.
(обратно)140
Шатле — крепость в Париже, где в XVII в. находилась тюрьма.
(обратно)141
Адонис — в античной мифологии — красавец юноша, любимец богини красоты Афродиты.
(обратно)142
Сирано де Бержерак — французский поэт XVII в., автор памфлетов и романов; был известен как вольнодумец и дуэлянт.
(обратно)143
Из Ларидона я вновь превратился в Цезаря! — Ларидон и Цезарь — имена двух собак из басни Лафонтена «Воспитание». Ларидон — глупый, льстивый пес, Цезарь — пес храбрый и гордый.
(обратно)144
Примером тому Геракл со своей Даянирой, Самсон с Далилой, Марк Антоний с Клеопатрой… — Речь идет о мифологических и исторических героях, совершивших непоправимые ошибки из-за любви. Геракл погиб, надев отравленную одежду, присланную ему Даянирой. О Самсоне и Далиле см. прим. {73}. Марк Антоний — римский военачальник; влюбившись в египетскую царицу Клеопатру, начал военные действия против Рима и был разбит в морском сражении (31 г. до н. э.).
(обратно)145
«Метаморфозы» — поэма Овидия (см. прим. {109}), в которой излагаются мифы о превращениях богов и героев.
(обратно)146
Пизанская башня, болонская Азинелли — знаменитые башни, имеющие сильный наклон; их постройка относится к XII в. Башпя в Болонье названа именем построившего ее архитектора.
(обратно)147
Екатерина Медичи (1519–1589) — дочь правителя Флоренции Лорен-. до Медичи, жена французского короля Генриха II. Привезла с собой во Францию многих итальянских архитекторов, художников, поэтов.
(обратно)148
Рике Хохолок — персонаж одноименной сказки французского писателя Шарля Перро (1628–1703), автора «Сказок моей матушки Гусыни».
(обратно)149
Филида, Тирсис — персонажи итальянской пасторальной драмы Бокарелли «Филида с острова Скирос» (1607), идеальные возлюбленные, хранившие верность друг другу.
(обратно)150
Титир — имя влюбленного пастуха из первой эклоги Вергилия.
(обратно)151
Амариллис — имя пастушки из первой эклоги Вергилия; в переносном смысле — юная красавица.
(обратно)152
Пилад, Евриал, верный Ахат — имена верных друзей возлюбленному за смерть отца, Корнель приводит трагедию к благополучной развязке.
(обратно)153
Гелиогабал — римский император (III в.), прославился крайней жестокостью и распутством; был убит восставшими против него гвардейцами.
(обратно)154
…история Медеи и Ясона… — См. прим. {89}.
(обратно)155
Эскулап — бог врачевания (латинская форма имени Асклепий).
(обратно)156
На низком существе… — Выражение возникло в средние века, когда врачам запрещалось анатомировать человеческое тело и они проводили свои опыты только на животных. Здесь это выражение употреблено в переносном смысле.
(обратно)157
Гиппократово лицо — особое выражение лица, свойственное умирающему. Впервые описано древнегреческим ученым и врачом Гиппократом (V в. до н. з.).
(обратно)158
Гигия — богиня здоровья, дочь Асклепмя (Эскулапа).
(обратно)159
Панталоне — персонаж итальянской комедии масок, богатый старик, которого обычно все обманывают.
(обратно)160
Беарнец — прозвище французского короля Генриха IV, который был родом из древней провинции Беарн, входившей в XVI в. в состав Наваррского королевства.
(обратно)161
Гарпократ — принятое у греков имя древнеегипетского бога Гора; у греков и римлян почитался как бог молчания.
(обратно)162
Гемус — древнее название горного хребта во Фракии, на севере Балканского полуострова.
(обратно)163
Даже Аргус, увидев Улисса у Эвмея, не радовался больше… — Имеется в виду эпизод из поэмы Гомера «Одиссея» (песнь XVII). После двадцатилетнего отсутствия Одиссей (Улисс) под видом нищего странника приходит домой в сопровождении свинопаса Эвмея. Первым узнает Одиссея старый пес Аргус.
(обратно)164
Гревская площадь — старое название площади перед зданием парижской Ратуши. До Июльской революции 1830 г. эта площадь служила местом публичных казней.
(обратно)165
Высокие кровли над творением Доминико Боккадора… — Имеется в виду здание парижской Ратуши, построенное в XVI в. итальянским архитектором Доминико Боккадором п существовавшее до 1870 г.
(обратно)166
…мадам Маргарита смотрела на казнь Лa Моля и Коконаса… — Маргарита Наваррская, дочь Екатерины Медичи, жена Генриха Наваррского, впоследствии короля Генриха IV, была влюблена в кавалера де Лa Моля, казненного вместе со своим другом Коконасом в 1574 г. по обвинению в заговоре против короля Генриха III.
(обратно)167
…разрубить гордиев узел совсем не то, что его развязать. — Согласно древнегреческому мифу, царь Фригии Гордий прикрепил ярмо к дышлу колесницы сложнейшим узлом. По предсказанию оракула, человек, развязавший узел, должен был стать властелином Азии. Легенда рассказывает, что Александр Македонский разрубил гордиев узел мечом, так как не мог его распутать.
(обратно)168
Иоанн Златоуст — епископ константинопольский Иоанн (IV в.), за свое красноречие прозванный Златоустом.
(обратно)169
…стали бы дружеской четой, подобной Тесею с Пирифоем, Нису с Евриалом, Пифию с Дамоном. — Тесей, в древнегреческой мифологии царь Афин, воевал с Пирифоем, царем лапифов, затем стал его преданным другом. Нис и Евриал — персонажи «Энеиды» Вергилия, два юных троянскнх воина, связанных верной дружбой. Пифий и Дамон — философы, жившие в Сицилии в IV в. до н. э.; каждый из них готов был отдать за другого свою жизнь.
(обратно)170
Мотет — многоголосное хоровое сочинение, с эпохи Возрождения — один из ведущих жанров церковной музыки.
(обратно)171
Палестрина — итальянский композитор XVI в., автор известных произведений духовной музыки.
(обратно)172
…Вельзевул был добрым гением Сигоньяков… — Здесь игра понятиями, так как Вельзевул в христианской мифологии — дух зла, повелитель темных сил.
(обратно)






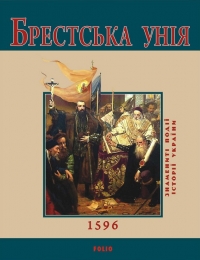
Комментарии к книге «Капитан Фракасс», Автор неизвестен
Всего 0 комментариев